Климов Александр Николаевич родился в городе Южа в 1959 году
Климов Александр Николаевич родился в городе Южа в 1959 году. Автор четырех поэтических сборников. Лауреат премии «Нового мира» за 2008 год. Живет в Москве. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
* o:p/
o:p /o:p
Тень, пробежавшая на потолке, o:p/
Рамы оконной, o:p/
Вспомнить о жаждой томимом цветке o:p/
Ночью бессонной. o:p/
o:p /o:p
Вторник, среда ли, где и когда, o:p/
В полночь какую? o:p/
Как моментально уходит вода o:p/
В землю сухую. o:p/
o:p /o:p
Цвет осыпается, капля дрожит, o:p/
Край перелился: o:p/
Ночью бессонница, утром дождит — o:p/
Вот и забылся. o:p/
o:p /o:p
Льётся из горлышка, лужа растёт, o:p/
Завтра настанет. o:p/
Пусть ничего уже не расцветёт, o:p/
Но не завянет. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Камень o:p/
o:p /o:p
1 o:p/
o:p /o:p
Художник правдиво напишет предмет, o:p/
Каким его видит, совсем нестяжатель, o:p/
В нём к вещему миру насилия нет, o:p/
Но мне неприятны резец и ваятель. o:p/
И мне ненавистно вторжение в плоть o:p/
Прибрежного камня, пускай, неживую: o:p/
Убийство, от целого часть отколоть, o:p/
Он целен, и я неделим существую. o:p/
Нагретого бока привычно тепло, o:p/
Я чувствую мглы под кустами прохладу, o:p/
Не ведая, сколько воды утекло, o:p/
На спину вола или камня присяду. o:p/
o:p /o:p
На взвозе колеблются струи жары, o:p/
Дырявые вётлы трясёт, как мажару, o:p/
Приплюснуты дымкой неверной бугры, o:p/
И некто липучий ползёт по загару. o:p/
Ваяет природа, ваяет вода, o:p/
И ветры, как пемза, поверхность шлифуют, o:p/
И в трещины входят зимой холода, o:p/
И солнце вживляется в ткань неживую. o:p/
Нет, Августа сущность в себя не вместит, o:p/
В лавровом обличье немая несхожесть, o:p/
Хоть лысиной явной блеснёт диорит, o:p/
Но Рим не воскреснет, но всё же и всё же… o:p/
Приветствую август, хотя бы за то, o:p/
Что он небожественный, неизваянный, o:p/
Что дождички капают сквозь решето o:p/
Медовых и яблочных, всё ж Богоданных. o:p/
А много ли их — всё одно умирать, o:p/
По вере воздастся, но всё же поверьте: o:p/
Отрадней прибрежному камню лежать — o:p/
О жизни не знать и не ведать о смерти. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
2 o:p/
o:p /o:p
Темно, в ночное небо посмотри, o:p/
Ты вечности в своём раздумье равен, o:p/
Что снится камню этому внутри o:p/
Себя, чем занят этот камень? o:p/
o:p /o:p
Звезда и атом, мерно электрон o:p/
Вращается вкруг солнца, без наитий, o:p/
Всё так легко, что ты уже внедрён o:p/
В подспудный круг вершащихся событий. o:p/
o:p /o:p
Неизречимый мир — там всё с нуля: o:p/
Незримая энергия движенья, o:p/
Там вихри, напряжения, поля, o:p/
Инерция плюс сила притяженья. o:p/
o:p /o:p
Нет, пустота в нём вовсе не пуста, o:p/
В нём мрак — не мрак, в нём светоч излучений, o:p/
Нежней пыльцы дробимость вещества, o:p/
Подвижный ряд мгновенных изменений. o:p/
o:p /o:p
Его шлифуют ветры и вода, o:p/
Он огрубел и почернел от горя, o:p/
В его морщинах жили холода, o:p/
Он знает зной, он помнит рокот моря. o:p/
o:p /o:p
И вот на перепутье трёх дорог o:p/
В полях глухому путнику не слышен… o:p/
В нём все живёт, всё движется, лишь Бог o:p/
Застыл над ним, как камень, неподвижен. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
*
o:p /o:p
Леониду Колганову o:p/
o:p /o:p
Я думал, что осень — багряный листок, o:p/
А это сиротский подсад, o:p/
А это кренящийся долу мысок, o:p/
А это брести наугад o:p/
На дымный распадок, o:p/
На звук, на просвет, o:p/
На хлипкие топи болот; o:p/
Очутишься дома, но выхода нет — o:p/
Жилище твоё — не оплот. o:p/
Я думал, что осень — безлистный подсад, o:p/
Но я заплутал навсегда, o:p/
И старой тропою не выйти назад, o:p/
И страшно — вперёд в никуда. o:p/
o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
* o:p/
o:p /o:p
Променяв корону и скипетр o:p/
На белый хабит и чёрный скапулярий, o:p/
А священную романо-германскую империю o:p/
На иеронимитский монастырь в Юсте, o:p/
Близь от Эстремадуры, o:p/
Карл пятый, испанский, предался своей последней o:p/
Всепоглощающей страсти — рыбалке: o:p/
Невесомая бамбуковая удочка, o:p/
Изготовленная японским мастером, o:p/
(Над ней он трудился три года); o:p/
Кованые баварские крючки, o:p/
Шёлковый шнурок — o:p/
Такие султан присылал провинившимся визирям. o:p/
Уловлен в сети Господа, o:p/
Сам являясь ловцом, o:p/
Под мессы братьев иеронимов o:p/
Карл забрасывал наживку o:p/
Прямо из окна своей кельи o:p/
В зеркало примыкающего к монастырю пруда. o:p/
Он выжидал поклёвку o:p/
И вспоминал многоводную Фландрию, o:p/
Её он отдал сыну, o:p/
И щедрый Рейн, отошедший к брату. o:p/
Властитель семидесяти королевств и герцогств, o:p/
Он всё оставил ради этого благословенного места — o:p/
Юста, o:p/
Из полубога превратясь в обычного монаха. o:p/
Но эта обыденность o:p/
Перевешивала величие прошлой жизни, o:p/
А битва с карпом o:p/
Виделась важней битвы при Павии,— o:p/
Тогда, в ходе сражения, o:p/
Был пойман и пленён o:p/
Сам Франциск первый — монарх Франции. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Накануне o:p/
o:p /o:p
1 o:p/
o:p /o:p
Мифологичны оса и пчела, o:p/
Овод как ода. o:p/
Липа неделей ещё зацвела,— o:p/
Словом, природа… o:p/
o:p /o:p
С тросточкой легкой, с тяжёлой копной, o:p/
Веришь ли чуду, o:p/
Выйдет Тургенев тенистой тропой o:p/
К барскому пруду. o:p/
o:p /o:p
Рдест на воде разомлел от жары, o:p/
Так же красивы o:p/
Ив прутовидных большие шары, o:p/
Вот они ивы. o:p/
o:p /o:p
Дева-аралия, дуб-неофит, o:p/
Века посылка — o:p/
Горлышком вверх неподвижно торчит o:p/
В ряске бутылка. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
2 o:p/
o:p /o:p
То-то в Царицыно ездить от дач o:p/
Выдалась мода, o:p/
Я же жую свой законный калач — o:p/
То-то погода o:p/
o:p /o:p
В Кунцевских кронах нетленных стоит, o:p/
Словно брейд-вымпел. o:p/
Дева-аралия, дуб-неофит… o:p/
Взял бы да выпил o:p/
o:p /o:p
В балке из вялотекущих ключей; o:p/
Так же невинны, o:p/
Так же отравы, цикуты горчей o:p/
Юрские глины. o:p/
o:p/
o:p /o:p
3 o:p/
o:p /o:p
Как далеко мы с тобой ни ушли, o:p/
Видно повсюду o:p/
Башню усадьбы над парком вдали, o:p/
Внемлешь ли чуду? o:p/
o:p /o:p
Там, где в верхах полыхает закат, o:p/
Тени сгустились. o:p/
Значит, безбашенно, значит, назад — o:p/
В небе Осирис. o:p/
Значит, до встречи. Инсаров крадёт o:p/
Сердце Елены, o:p/
Тьмы накануне, какой это год? o:p/
Чёрные вены, o:p/
o:p /o:p
Всполохи, крови невидимый гон, o:p/
Взгляд на долину, o:p/
И умыкает безногий Плутон o:p/
В ночь Прозерпину. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
* o:p/
o:p/
Максиму Амелину o:p/
o:p/
Что ж, хоть и милостью не обделили, o:p/
Дальше престола Державин глядит. o:p/
Только язык в созидательной силе o:p/
Бога из косности в слове творит. o:p/
o:p /o:p
Из архаичного зычного нёба, o:p/
Из элативов кривых кадыка, o:p/
Чем первозванней и гулче утроба, o:p/
Тем дерзновенней и выше строка. o:p/
o:p /o:p
Ветхозаветен, скрипуч в обороте, o:p/
С кем царедворца без лести сравнить? o:p/
Только неистовый Буанаротти o:p/
Мог это небо на фресках кроить. o:p/
o:p /o:p
Да политесов бегущий и глоссов, o:p/
С Богом не смея ещё говорить, o:p/
В бездну на звёзды взглянул Ломоносов, o:p/
Чтобы в двустишие космос впустить. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
* o:p/
o:p /o:p
Всю ночь лежал с лицом помятым, o:p/
Нерасторжима с прошлым связь, o:p/
Я просыпался в два и в пятом, o:p/
Но ты ещё не родилась. o:p/
o:p /o:p
И вот, тебе уже шестнадцать, o:p/
Выпрыгиваю в явь из сна, — o:p/
Ведь это ни сказать, ни сбацать, o:p/
Уже шестнадцать, мать честна… o:p/
o:p /o:p
Я всё проспал, с лицом опрятным o:p/
Иду на кухню, так и есть: o:p/
Я просыпался в два и в пятом, o:p/
Вы ж без меня уселись есть. o:p/
Завод «Свобода»
Букша Ксения Сергеевна родилась в 1983 году в Санкт-Петербурге
Букша Ксения Сергеевна родилась в 1983 году в Санкт-Петербурге. Окончила экономический факультет СПбГУ. Поэт, прозаик. Автор восьми книг, в том числе «Жизнь господина Хашим Мансурова» («Гаятри», 2007), сборника рассказов «Мы живем неправильно» («АСТ», 2009). Живет в Санкт-Петербурге. В «Новом мире» публикуется впервые. o:p/
Журнальный вариант. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Ксения Букша кажется мне лучшим из поэтов своего поколения, но знают ее больше как прозаика: в семнадцать лет, опубликовав первую повесть «Эрнст и Анна» и удостоившись одобрения Александра Житинского, она написала с тех пор около десятка романов и повестей плюс отличный сборник рассказов «Мы живем неправильно». Самой большой ее прозаической удачей мне представлялась повесть «Тридцать лет и три года» — наверное, если бы Хлебников писал фантастику, у него получилось бы что-то похожее. «Аленка-партизанка» и «Жизнь господина Хашим Мансурова» подтвердили ее способность сочинять настоящую социальную, а пожалуй, даже и политическую прозу — что не мешает ее романам быть свободными, гротескными, а то и просто сюрреалистическими. Но ведь и жизнь такая. Букша удивительно самостоятельна, отважна и умна. Экономическое образование помогает ей видеть мир трезво и внятно, а врожденный поэтический дар преобразует все эти догадки о механизмах постсоветского мироустройства в цветущую и радостную прозу, органичную, как у счастливых русских утопистов двадцатых годов. o:p/
Букша умеет очень много всего — пишет экономические обзоры, воспитывает детей, играет на гитаре и сочиняет песни, говорят, что еще и рисует, но лично я не видел. Сейчас она, точно уловив запрос эпохи, написала производственный роман — опять, конечно, сюрреалистический, но на огромном фактическом материале, который изучала с добросовестностью молодого специалиста. Еще Луцик и Саморядов, сочиняя «Детей чугунных богов», предсказываали, что на советском производственном материале будут сниматься настоящие триллеры. «Завод» — триллер, любовный роман, социальная драма, все вместе, и, что особено важно, — это книга постсоветского человека о советском опыте. Первая, может быть, книга, в которой осмыслена советская промышленная утопия. Ядовито, но без глумления, любовно, но без апологетики. o:p/
Букше в этом году тридцать. Что она будет делать дальше — не представляю, но уверен, что это будет не хуже прежнего. Вертикально развивающийся писатель — большая редкость, и наблюдать за ним — одно удовольствие. o:p/
o:p /o:p
Дмитрий Быков o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАШНЯ o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Учила ведь одна умная мама сына-первоклашку: увидишь буквы белым по красному, не читай, глупость одна, но то, что я тебе сказала сейчас, никому не говори. Белым по красному над заводом «Свобода»: глупость одна. Над проходной прикреплен прожектор, луч света указывает круто вверх. В луч то и дело залетают множественные снежинки, толкутся там жгучим порохом, мелкие, как искры. При таком морозе снег не то что трещит, а прямо-таки визжит под ногами заводчан, которые не дыша спешат домой навстречу Новому году. Дышать же при таком морозе невозможно, это все равно, что дышать черным перцем. Кажется, если бросить спичку, то снег загорится. И чтобы вверх посмотреть — это тоже никак, хотя если все-таки попытаться поднять обожженное морозом лицо, то увидишь кумач над проходной, белые буквы, а над ними луч прожектора, добивающий сквозь мутное и дремучее небо Нарвской заставы небось аж до космоса, но целью имеющий все-таки не космос, а часы на Центральной башне — вот что! Часы эти показывают без пяти десять, а сама Центральная башня и весь недавно восстановленный главный корпус белеют наверху заметенными карнизами и уступами. o:p/
o:p /o:p
— Товарищи! — хлопает в ладоши, призывая к вниманию. — «Пять мину-у-ут, пять мину-у-ут!» Не бойтесь, еще два часа. Я имею в виду, что через пять минут мы собираемся и поздравляем друг друга с Новым годом, а затем организованно покидаем цех и прыгаем в трамвай, чтобы дома услышать по радио бой курантов... Внимание! Внимание! o:p/
D (рыжий, худой) считает, что блок нужно собрать в этом году, а не оставлять на следующий. Его однокашник Q считает, что... Оля! Давай проведем Новый год вместе. Весь год? Ах, прости пожалуйста, я хотел сказать — встретим. Впрочем, если ты не против, я бы и весь его с тобой, Оленька, провел. Я бы лучше провела его с D. Он такой же идиот, как ты, но, по крайней мере, иногда молчит. Да конечно-конечно, мы и D с собой возьмем! И закатимся все ко мне. У меня отец дежурит, его не будет всю ночь. Это самое беру на себя! Ну что ты, D, копаешься, доделывай скорее, а то трамваи ходить перестанут. Трамваи до одиннадцати (сажая колесо на графитовую смазку). Да я щас. Ты пока вон сходи Олю позови. А я уже, я уже! Мда? Когда это... o:p/
Снаружи морозно, аж дух вышибает. Вообще не помню, чтобы когда-нибудь было так холодно. И я. В блокаду, говорят, было, но я не помню. Э, мы когда на Урале жили, там сорок пять зимой — обычное дело. Но там хотя бы воздух сухой. А здесь вон муть какая, марево. У меня бабушка третий день задыхается, она не может такой мороз переносить. Так пусть не выходит. Нет, она и дома тоже. o:p/
Ух ты, в четвертом свет горит. Мальчики, сходим посмотреть четвертый, что там сделали? Я еще не видела. А сколько времени? Вон сколько. Пошли. o:p/
Широкий новый зал четвертого цеха. За огромными подмороженными окнами резкие тени голых ветвей. Шаги звучат гулко. Летает эхо. Вот это да, что за станки вообще? Трофейные, вроде. Мальчики, осторожней. Кто-то идет. o:p/
Дядя, спокойно, мы из пятнадцатого. Девушке показать. А у вас тут шик-блеск, правда? (Валенки, шинель, усы.) С Новым годом! Олина улыбка, за такую улыбку можно все отдать, Оля — контролер ОТК. А-а, с Новым, ребятки. Да-а, посмотреть-то здесь стоит, да-а. А я думаю, кто такие. Вы уж в следующий раз. А то я в следующий-то раз... А вы, оказывается, из пятнадцатого; самый работящий цех, всегда допоздна. Самый сверхурочный. (Легкий запах спирта.) Да вы присядьте. Побалакайте со мной. Трамвай-то не убежит от вас. А я много чего рассказать... Я же здесь был, еще когда здесь ничего не было, а я уже был... Я знаете что? Я этот завод же тушил. А вы не знаете. В войну, да-а. Да вы присядьте. Комсомол. Послушайте, что тут творилось, я вам расскажу, а то вы не знаете. o:p/
«Свободу» мы тушили уже весной, это был... да-а, по-моему, это был май сорок второго года. Фабрика тут тогда текстильная была. Да-а... загорелась от фугаса. А в пять вечера артобстрел. Стали навешивать, да-а... И мы под огнем тушим, сумасшедшее дело. Двадцать пожарных расчетов тушили, приехали, вся Нарвская застава, считай... Приезжаем, все горит, от первого этажа до последнего. Навстречу ребятишек ведут бегом, садик там был, можете себе представить... сирот собрали со всей заставы. Я Димке: соседние корпуса прикрой. А я знал, что там склад хлопковый, ужас что такое. И еще силовая станция, тоже если бы сгорела... Димка со своими туда, а мы — к главному... а он все сильнее, прямо на глазах. В цехах полно хлопка было, так горящий хлопок прямо выбрасывало из окон, внутри месиво, перекрытия-то на фабрике маслом пропитанные, огонь их жрал, как бумагу все равно. Мы пацанов из комсостава бросили тушить второй этаж, ремонтный цех, думали, там безопасней, а сами давай на четвертый... а тут снарядом хлоп в торец здания, и полегли все пацаны, вот так... Но мы тогда даже не знали... Ничего не разобрать! Балки падают, насос снарядом повредило — вода не идет, рукава рваные. Потом гляжу, кровля рушится. Все, говорю, уходим... Добежали до второго — лестниц нет. Егор Гельфин у нас такой был, он позже погиб уже на фронте... он вслепую вниз прыгал, можете себе представить? Так нам помог выбраться. Вот это — подвиг! А я шел последним! Меня зацепило, я ничего не соображаю, как глухой все равно, рванул вперед, а за мной уже перекрытия трещат, я только выскочил — и все рухнуло! Но два этажа мы спасли, а Димка склад хлопковый, если бы он рванул, мы бы оказались в кольце, всех бы накрыло. Когда столько топлива, уже просто воздух сгорает и все как в воронку всасывает, все бы тогда, амба! А так... и склад хлопка, и все пристройки, сами видите, что оно все старое... спасли фабрику... восемь бойцов погибло. Да-а... o:p/
Дядя, вы герой! Я-то? Кхе... Да уж, герой там, уж кхе... Вернее, я герой прошлого. А вы герои будущего. Чтоб больше, значит, никто не сунулся, так я говорю? Товарищи, я все понимаю, но последний трамвай через пять минут уйдет. До свидания! До свидания! С Новым годом! o:p/
Тяжело бежать по морозу. Лицо горит, мельчайшие снежинки жгут щеки, забиваются искристым ворохом под полы пальто. Они вылетают с Волынкиной на Калинина, уже слыша глухой скок впотьмах. Из-за поворота выезжает фонарь. Изо всех сил они мчатся к остановке, Q тащит Олю под руку, они заскакивают в трамвай, двери закрываются, и тут только становится ясно, что D давным-давно отстал. Вон шагает его тощая расхристанная фигурка, бачки в инее, ушанка сбилась набок. Трамвай набирает ход. o:p/
Ты куда смотрел, Q?! А я виноват, что он так плохо бегает? Я думал, вообще-то, что он с нами... Надо было его тоже под руку взять! Слушай, Оленька, а если разобраться, зачем нам вообще нужен этот рыжий чудик, нам что, без него плохо? Кто не успел, тот опоздал. Трамвай останавливается; перегон короткий, двенадцать домов, один перекресток, — Оля выпрыгивает на пустую снежную мостовую, в трескучие искры, снег под фонарем ярко-оранжевый, как лед на катке, и вдали, над верхушками деревьев парка Екатерингоф, черный куб Центральной башни в мутном небе и яркий столб света над ним, и Оля идет быстрым шагом, а трамвай вместе с Q со стуком отваливает в стылую мглу Обводного, а навстречу шагает легкая фигурка D, он начинает постепенно различать Олю, а нам их больше не видно. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
2. ТАСЯ o:p/
o:p /o:p
Тася, крякает Борис Израилевич, и в воздухе короткое время витает неслышное, но явственное проклятие неизвестно кому. Значит, Тася, — и, приблизив к лицу личное дело, кадровик читает: год рождения 1942, место рождения Ленинград, родители неизвестны. Борис Израилевич морщится, против своей воли представляя иней на полу, обрывки обоев и прочее. Я детдомовская. Из ФЗУ, значит? Так. Прислали? Распределили? Нет, я сама хочу. На радиозаводе хочу работать. Борис Израилевич поднимает глаза. Ну так это же отлично! Пойдем, я тебе покажу наш завод. Кем мы тебя можем взять? Можем, например, ученицей-прессовщицей, в двенадцатый цех. Там много девчонок, будут тебе подруги. Хочу, хочу! o:p/
Шагают двором. Один хромает, другая семенит. Ой, кто это был? Да, товарищ C у нас большой человек. Сильный, наверное? Да, лифт может поднять одной рукой. А на войне он, слышь, несколько танков подорвал. Ордена имеет. Ой, а пойдемте сначала к нему, вдруг мне там у них понравится?! o:p/
Механизмы. Веревки. Блоки. Израилевич, это что, и есть — обещанное пополнение? Да так, есть у меня сегодня лишние полчаса... делаю девчушке экскурсию по заводу. Кадров-то не хватает. Диспетчером-то что, там физическая сила не нужна. Костя, земля ему пухом, вообще без руки был же. Ну, так он и... Ладно, молчи уж. Диспетчером хочешь быть, Тася? У тебя будут всякие там лифты, подъемные механизмы, все эти ленты, чтобы подавать вовремя детали, из которых собираются приборы. Тася, а? (Лицо, как блюдечко, поднято вверх, глаза широко раскрыты: там, на высоте, где веревка перекинута через блок... у самого карниза... что-то белеет...) Не смогу я здесь, наверное... я вот лучше, лучше я вот... прессовщицей... Ну, все ясно. Ну правда, нам лучше нормального парня. Скоро еще набор придет, все, я вам обещаю железно. o:p/
Приходят в двенадцатый. Привет, девчата. Вот, веду вам новую ученицу. Знакомьтесь — Тася. Вот, Тасенька, здесь мы игрушки делаем. Прессуем, значит, пластмассу — получается сразу целое игрушечное ружье. Новые станки, самые передовые методы. Конечно, считается вредная работа — пластмассу и полистирол прессовать, тебе пока нельзя здесь по закону, но — можешь начать комплектовщицей или упаковщицей. У нас тут весело. Смотри, это раздевалка, а это душ! А вечером молоко дают. А от профсоюза билеты бывают бесплатные, мы однажды даже на саму Любченко попали, представляешь? Ну, ты решилась, дочка? Я пошел? Погодите... Что такое? Не хочешь здесь работать? Только не обижайтесь, пожалуйста! Просто я еще не поняла. Пожалуйста, можно я еще цеха посмотрю? Ой, да кто на тебя обижается? Посмотри да и приходи к нам! Да, Тася, пойдем, посмотрим, конечно. Только недолго, у меня времени мало. o:p/
Ну что такое, в чем дело?! Я игрушки делать не хочу. Вот те на! Ты что это?! Это что за капризы?! Я на радиозаводе хочу работать, а не игрушки делать. Оп-ля, Тасенька... Ну... раз так... пойдем тогда, где токаря да фрезеровщики. В девятый. Но предупреждаю, там коллектив мужской. Там нянчиться никто не будет. А ты работы не боишься? А резец заточить сумеешь? Меня же учат, радостно шепчет Тася. Я на станке хочу и буду! Ну и ну. На станке она. Ладно, пошли. o:p/
Привет, Израилевич! А это что тут с тобой такое? Тася?! Это что за имя такое?! В детдоме так назвали? Не, Тася — это нам не подходит, будешь у нас сразу целая Анастасия. По букве на каждый сантиметр росту. Ха-ха-ха! Где у нас тут скамеечки были? Z делал скамеечки, помнишь? Да ей таких целых две надо будет. Тася, ну как тебе здесь, ничего? Ну, молодец! Вы, парни, языки-то того этого, она по специальности, между прочим, как и вы, будет токарь. Вот так-то. Ну, смотри, Тася, вот, например, товарищ K. Он тоже начинал, как и ты, еще учился, а теперь вон на доске висит каждый квартал. Показывай, какие ты детали работаешь. Ой, какие малюсенькие! Здорово! Нравится? Хочешь такие делать? Хочу... но... я что-то... подождите. o:p/
Черт подери. Тася. Чего ждать?! Я с тобой ничего сегодня не успею. Все, Тася, я не знаю, что с тобой делать. Туда ты не хочешь, там — не желаешь. Я, знаешь, не люблю таких, как ты. Капризных. Знаешь, как: если уж пришел работать, то не выбираешь, а идешь, куда скажут. Выбирать-то тебе тут, между прочим, не очень-то и дадут. Это я с тобой нянчусь непонятно зачем. Все, пошли обратно в двенадцатый цех, и баста. О-о-ой, ну все, вот этого вот я вообще терпеть не могу, это что за вода... o:p/
Борис Израилевич, привет, это что тут у вас за раскардаш? А это вот, видите, к нам барышня на завод пришла. Тася зовут. Я ее вожу, все показываю. А она — то не хочу, это не умею. Так. Все ясно. Борис Израилевич, вы можете идти к себе. Я потом сообщу вам о результатах трудоустройства товарища... как ваша фамилия? Товарища М. Итак, где бы вы хотели трудиться? На радиозаводе, это я понял. Что бы вы хотели делать? Каждый день? o:p/
Я конструировать люблю... Конструировать? Это значит, механизмы любите, так? Да... я даже у нас в детдоме однажды часы починила. Часы починила? Да... и на конкурсе моделирования первое место, с движущейся моделью экскаватора, я придумала, как его сделать, чтобы он взаправду копал, если чуть-чуть подтолкнуть, он потом две минуты копал. Две минуты копал? По-всамделишнему копал экскаватор? А что он копал, если не секрет? Песок. Я принесу вам и покажу, если надо. Пожалуйста, можно мне в такой цех пойти, где конструируют? Пожалуйста! Хотя бы ученицей, я справлюсь, честное слово! o:p/
М-гм. Ну, что я могу тебе сказать. У нас действительно есть такой цех. Называется — сборочно-механический. Собирают там из деталей блоки, а из блоков — приборы. Вот здесь вот этот цех находится. Да погоди, не радуйся! Чтобы там работать, среднее образование нужно. Понимаешь? А тебе до среднего еще два года. Три даже? Мда. Ну ладно. Пойдем. o:p/
Товарищи, здравствуйте. Знакомьтесь: это товарищ М. Будет работать у вас учеником слесаря-сборщика. Да, она будет первой девушкой в вашем цеху, и я попрошу вас проявлять особую чуткость, товарищескую ответственность и лояльность. Если через месяц, Тася, я услышу от мастера, что ты не справляешься, пойдешь трудиться туда, куда направит Борис Израилевич. Без писка. Идет? Идет! Спасибо вам огромное!! А как вас зовут?.. Модель экскаватора завтра с утра ко мне в кабинет. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
3. ДРУЖИНА o:p/
o:p /o:p
Парк Екатерингоф засыпан ярко-белой черемухой. Лепестки лежат в воздухе слоями, вздуваются рассыпчатыми кучами, плывут кружевом по реке, вихрятся в пыли. В шестом часу вечера солнце еще стоит над пакгаузами, кранами и железными крышами. Весна — острые и яркие запахи, ветерки, напоминания, черемуха и жареная рыба, гниль и свежесть, окрестная нищета, грохот ржавых острых крыш, — предельно насыщенный воздух, в котором перестаешь чувствовать голод, холод, усталость, боль, а остается только лихорадочная и бессонная восприимчивость к счастью, тяга к непрерывной смене действий, цветов, лиц; вибрирующий, жидкий, радужный воздух беспамятства. Женщина лупит мужчину обрезком ржавой трубы по голове, кровь ливнем стекает по его щекам, он блаженно улыбается. На пороге трущобной лестницы сидит девочка лет восьми, дочь Светки-дворничихи, и рассказывает страшные истории, а ее сестренка Вика, в рваных облупленных босоножках, сидит на корточках, сосредоточенно плюет себе под ноги и возюкает пальцем по асфальтовой серой пыли. o:p/
Эх! Где бы драка, ну хоть бы кто-нибудь сегодня подрался, руки чешутся. На тебя бы, Паша, на самого дружину напустить. Надо работать лучше, тогда не будет оставаться столько лишней энергии. Ребята, у меня есть план действий (вынимает из сумки полулитровую мензурку). Ух ты, Таня, где ты такую взяла? У метрологов попросила, сказала, для чего, мне дали. А для чего? А вот для чего (рассказывает). Так: заходим. Я их давно подозреваю в недоливе. Пашка, а ты куда? Нет, мы тебя с собой больше не берем, без обид. Остаешься караулить, тем более — вдруг драка. А можно сока, пожалуйста? (Три стаканчика по 200 мл. Таня S достает мензурку.) Это что у вас? Не волнуйтесь, народный контроль. (Валя-токарь работает на станке, который прозвали в цеху балалайкой, изготавливая самые мелкие детали на заводе.) Да не волнуйтесь вы так. Третий стаканчик с легкостью помещается в мензурку поверх двух первых, и здесь на авансцену выходит Вер-рка. Ее голос угрожающе вибрирует. Итак. В полулитровой мензурке! Поместилось! Три стаканчика по 200 миллилитров! Позовите заведующего, мы будем составлять акт проверки. Правильно! — кричат покупатели. Мы давно замечаем! Никаких «слушайте», гвоздит Верка, мы тут не слушать пришли! А обвес фиксировать! И мы его — фиксируем! Нам ничего не надо (Валя). И вы не волнуйтесь. Все будет нормально. Просто так делать нельзя. Правильно? Поэтому мы и составим акт проверки. Потому что люди хотят пить. А вы не доливаете. Да, да, одобряет народ. Хотим! А вы не доливаете! Мы и сами давно заметили! Но если бы не пришли с мензуркой, вы бы так и продолжали не доливать! Безнаказанность должна быть наказана. Молодцы ребята. Продавщица скисает. (В дверной проем заглядывает Пашка. Это подходящая минута. Была бы. Но Верка бдит, она показывает Пашке кулак, и Пашка живо делает такое лицо, будто и ничего.) o:p/
Вчетвером они идут по серой и свежей, теплой улице. Пашка, а это правда, что ты бывший чемпион города по боксу? Спрашиваешь. Это все знают. А мой приятель — сам A, мы с ним в ремесленном вместе учились и в одной комнате жили. Как это не слышали? Ну, это ты просто боксом не интересуешься, а он — гремит! Он... он вообще гремит сейчас. Даже чемпиона мира этого, свирепого Хью, убрал в первом раунде. И ты с ним в одной комнате спал? А не боялся? Ага, бывало, среди ночи вскочим и пошел махач, я иногда свободно даже его на лопатки клал, врет Пашка. А вот меня положи на лопатки, попробуй! — Верка топорщится поперек дороги. Коренастая, плотная, глаза у нее мрачные, не на шутку бешеные. Да... положу тебя, обязательно, — говорит Пашка таким тоном, что Валя слегка краснеет, Танечка S возмущенно пыхтит что-то под нос и поправляет очки, а Вер-рке хоть бы что. Давай-давай! — кричит и наскакивает. Пашка аккуратно, лениво берет Верку поперек платья и взваливает на плечо, а она брыкается, продолжая свою древнюю, как мир, игру, — но вдруг Пашка прислушивается... принюхивается... ставит Верку с размаху на асфальт, не замечая, что у нее слетела туфля, и устремляется вперед. Подрался кто-то. — Танечка, дай человеку любимым делом заняться. Верка скачет к туфле на одной ножке: меня-то подождите, э!! o:p/
Пашка уже в гуще событий. Валя K присматривается, но, как ни старается, не может понять, кто кого бьет. И как Пашка с ходу разбирается? Да ничего он не разбирается, бьет куда попало, и все. Ты бы, Валя, пошел ему помог. Нашла, что советовать, Валя, не ходи! Девочки, я вас так люблю, говорит Валя K. Фи, я тебе добра желаю, а ты хамишь. Да ты просто боишься драться. Оставил приятеля в беде! Я тогда сама пойду! — Вер-рка подлетает к драке и хватает одного из дерущихся сзади за шею; тот, не ожидав подвоха, теряет равновесие и чуть не падает назад, Верка отцепляется и отпрыгивает. Народная дружина, громко говорит Танечка S, подходя к драке, вот тут-то все и заканчивается; вернее, конечно, не все, шум стоит еще долго, но уже подтягиваются и дворник, и сварливая бабушка с исцарапанными ногами, и поддает жару с подоконника многодетная мама, и солидный товарищ вылезает из подъехавшей «Победы», а что за товарищ, неизвестно, и в итоге конфликт разбавлен. Пашка, возбужденный и всклокоченный, но почти невредимый, машет руками и что-то трещит, а солнце уже скрывается за домами, и огромные листья тополей висят в воздухе почти неподвижно, и пахнет озоном: будет гроза. o:p/
За ними бежит, шаркая, бабуся с исцарапанными ногами. Миленькие, комсомольцы, помогите! У меня нявестка больная. Бабушка, если больная, то надо доктора. А мы — народная дружина. Ась? Доктор, что доктор, ей доктор никакой не поможет. Придите, Христом Богом вас прошу, помогите, молодая, а умирает, умрет ведь. Христом Богом не надо, возражает Валя K, но мы согласны: сходим, разберемся, что там такое. o:p/
Они идут за бабусей. Живем-то мы в углу, пол-комнаты, совсем места нет, а у меня два сына, было-то четверо, в войну младшенький умер, а старший без вести на войне пропал, а двое живут со мной, вот младший, он как вы, школу заканчивает, работает, а старший-то пьет, женился и пьет, и вот заставил жену... я не знаю, как это сказать-то... Места-то у нас нет, а она больно хотела ребеночка, и как он говорит, вот обманула его... а он ее возьми и заставь... это... Аборт сделать (Вер-рка). Да... И бил ее, и угрожал, и... совсем затуркал... она и сделала... а только с тех пор лежит и все... не ест, не спит почти... лежит... ни работать, ничего... уже доктор-то, доктор что... хорошая попалась, Господь ее храни... говорит, ну, заберем в психическую, забрать-то мы ее можем, но вы же сами понимаете... а вам, говорит, нужно как можно быстрее ее из этого состояния вывести... радость ей нужна, а где ж, какая же у нас радость... o:p/
Бабуся суетится. Дверь открыта. Низкий потолок, запах сырости и гари: пожар был, что ли. Полумрак. Угарная кухня, полная тесных цветастых женщин. В узком коридоре галдит стайка оборванных дошкольников, ворвавшихся вслед за дружиной с улицы в дом. Боком — в узенькие «полкомнаты». Пашка остается снаружи, стоит в дверях. Скудные квадратные метры завалены вещами, заставлены мебелью. Здравствуйте. Мы народная дружина. Нас вот позвали... Зачем? Да мы сами не знаем, зачем. Уходите. Отворачивается к стене, накрывается одеялом. o:p/
За некрашеным, рассохшимся, заляпанным окном, в сонном пыльном безветрии, темнеет, и это не ночь: ленинградские ночи в мае белые. Нет, это буря надвигается на Нарвскую заставу с моря. Искоса направленным, желтоватым светом озарены напоследок улицы. Валя K вспоминает вдруг, где и когда он видел такой же странный свет: когда был маленьким и они уплывали из Ленинграда на барже. Смотри, сказал Вале старший брат. Валя обернулся на город и увидел над ним фантастическое, зловещее солнце, заревом гремящее по черному небу. Мама, там конец света? — спросил Валя. В ту ночь горели Бадаевские склады. Баржи бомбили, та, что ушла перед ними, потонула со всеми пассажирами. Верка мрачно смотрит в окно. Пашка отвернулся во тьму коридора, достал из кармана сахар-рафинад из заводской столовой и раздает мелким. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
4. ТАНЬ, СОЕДИНИ o:p/
o:p /o:p
Нет! Никаких липовых справок! Ты с ума сошла? Хочешь, чтобы нас всех посадили? Мы семья репрессированного, ни на секунду нельзя об этом забывать! Ну и что?! Какие другие времена, какие другие?! Проживешь с мое и поймешь, что времена всегда одни и те же! Помолчи, Ляля, дело даже не в этом. Дело в том, Татьяна, что липовая справка — это обман. Законы нужно соблюдать. А закон говорит тебе ясно и четко: поступила на вечерний — иди работай. Все, Татьяна. Ты хорошо меня поняла? И Наденьке своей передай. Я, конечно, никуда заявлять не собираюсь, но мое мнение — это бесчестно. o:p/
Ну и куда я пойду? На завод?! А почему бы и не на завод? Я не хочу на станке работать! Не хочу! Меня вообще не возьмут на завод, я поступила на фи-ло-ло-га, ты понимаешь?! Выйди вон. Выйди вон, я сказал. А это все твое воспитание! Кого я вырастил! Кого я вырастил! o:p/
И вот на следующий день две подружки, Танечка и Наденька, идут по улице Волынкиной и стучатся в отделы кадров всех заводов. А заводов на Волынкиной шесть. И везде Наденьку берут, а Танечку нигде не берут. Кто-то? Где-где? Филолог? Ой, филолог, это, кажется, что-то связанное с «жи-ши»? Вы уж нас извините, но таких вакансий у нас пока нет. Вашу подругу да, а вас нет. Я же тебе говорила. Надь, если тебе здесь нравится, оставайся! Да ты что?! Без тебя?! o:p/
Вот последний завод на Волынкиной улице, и время уже к пяти. Танечка и Наденька робко стучатся в двери отдела кадров. Здравствуйте, девчонки, меня зовут Борис Израилевич. Ну, с чем пожаловали? Мы вот... на вечерний... я инженер политехнический, а моя подруга университет филологический... Так-так, филологический? Фи-ло-ло-гический... Инженер — это хорошо. Значит, вы обе инженеры? К сожалению, нет... Таня вот — филолог... А-а, филолог! Это же прекрасно, Танечка, что вы — филолог. У нас языки на заводе весьма присутствуют... Без заводского образования русский филолог и не филолог вовсе, а так... Ну что же, подруги, наверное, вы хотите вместе работать? Давайте-ка я вас определю — вот — комплектовщицы требуются в производственно-диспетчерский отдел. Эта работа самая ответственная и нужная на заводе, девчонки. От вас будет зависеть... Все будет зависеть от вас. Поэтому мы эту работу поручаем только студентам. У нас все студенты работают или упаковщицами, или комплектовщицами. Особенно филологи. Ну, и инженеры тоже. А потом уже становятся филологами и инженерами. Но — со стажем. Да. Поздравляю вас, девочки, с завтрашнего дня вы работаете на «Свободе». o:p/
В цех заходит R. Это цветущая, знойная дама высокого роста. У нее большое все. Огромные груди. Высокая прическа, как башня, из черных ярких волос. Выпуклые карие глаза. Губы окрашены ярко-алым. Девочка, идите ко мне, гудит R. Это вы — филолог? Будущий... Идите со мной, вы мне нужны. (Кабинет R нельзя даже назвать кабинетом, это поляна посреди огромного цеха, окруженная пальмами, вьющимися растениями на шпалерах, араукариями и календарями.) Повторите за мной, девочка: МПР2413-Р-ЗУ-58. Танечка: МПР2413-Р-ЗУ-58. Так. А теперь: ТИУ-685-00-Р13. Танечка: ТИУ-685-00-Р13. Теперь, будьте добры, скажите что-то еще. Все-равно что. Schlof schein mein vogele <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> . (Тень удивления в выпуклых карих глазах.) Mach zu sein oigele <![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> . Так-так... А теперь повторите, пожалуйста, первый номер, который я вам называла. МПР2413-Р-58. Не совсем. Р-ЗУ-58. Хорошо. Теперь смотрите, Танечка. Вот пульт. Вы знаете, что такое диспетчерский пульт? Это сердце предприятия... По пульту проводятся селекторные совещания. Всегда, если кому-то кто-то нужен, он у себя нажимает кнопку и просит вас соединить. И вы мгновенно соединяете. Например, если директору завода нужен начальник сборочного цеха, вы нажимаете вот здесь. А если к ним должен присоединиться главный технолог, то еще здесь. Если по пульту кто-то не отвечает, вы снимаете трубку и просто звоните ему. Для этого вы должны помнить все заводские телефоны. Кроме того, вы должны знать все децимальные номера всех деталей, которые сейчас находятся в работе. Их порядка тридцати или пятидесяти. Для вас это немного, ведь вы филолог, Танечка, и обладаете быстрой реакцией и прекрасной памятью. Вам остается лишь выработать профессиональное умение мгновенно переключаться. Вот кто-то звонит. Нажимаем вот здесь. H дайте! Кто такой H? Эй, что с пультом? Где R? Не беспокойтесь, я здесь. Это моя ученица. Ученица, …, …! Что у вас там творится? Дайте H! Танечка, нажимаешь вот сюда. H — это заместитель главного инженера. Не волнуйся, у тебя прекрасно получается. o:p/
Тань, соедини с Y! Что со сроками? Вы были у него? Получил, и правильно получил! На девяносто градусов... Ха-ха-ха! Как переделывают?! Тань, где ВРП7831-Р-ПК-8? Все еще? Нет, это не АМ-56-У, это АМ-56-Е, причем старая. Работать надо, ..., потому что!! Соедини с тринадцатым, кто там сегодня! Соня, ты обедать собираешься? Он просто ...!! Я хотел бы понять, что с СТД587-О-19. Димон, ты у меня ничего не забыл? В Москву уезжает завтра. У вас коммунистов неохваченных не осталось? Его вызвали в срочном порядке. Сколько надо английских, а сколько русских? В полпятого начинаем по «Шару». Согласуйте перенос сроков! Как уехал?! Улетаем в Северодвинск всей группой организованно семнадцатого, билеты можно будет забрать завтра. Ничего они не распределяли. Соедините с U! Таня, дайте T. Почему у нас C молчит? Танечка, а где сейчас АКС-547-Л-2117, случайно, не у нас? Значит, надо дозвониться! Какого..., …? У нас план летит, а ты мне тут будешь оправдываться!! Да …, … он … за весь квартал …! Прости, Танечка! Тебе не надо в комитет комсомола сходить минут на пятнадцать? Я сейчас дюже орать буду. Не можешь оставить пульт? Заткни тогда, пожалуйста, ушки... o:p/
o:p /o:p
На столе тортик, вино, цветы. R: Танечка, теперь у тебя диплом, ты филолог, можешь уйти с нашей «Свободы» куда угодно. Я ведь тоже ухожу. Да-да, все правда. Родственники мужа уехали в Израиль. Регламент такой, девочки; якобы что-то может через меня утечь. Танечка, ты теперь свободна от «Свободы» и можешь пойти в школу учить детей. Можешь стать писателем или журналистом. Можешь заниматься археологией или самолетостроением. Родить детей. Я даже не знаю, что ты еще можешь. Но если ты захочешь остаться на «Свободе», то я буду знать, кого я оставляю вместо себя. Подожди. Из тебя выйдет прекрасный главный диспетчер. Подожди! Если ты передумаешь, скажи мне сразу. У тебя есть двадцать четыре часа. Да, кстати, за тобой тут парень заходил один из бухгалтерии, не знаю, как зовут... Таня, ты куда?.. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
5. ДИРЕКТОР G. ИНТЕРМЕДИЯ o:p/
o:p /o:p
Первый директор завода «Свобода»? Никто не знает о нем ничего. И в интернете ничего нет? Ну вот. Я вообще не знаю о нем ничего, кроме того, что его звали G. Но вы это не сможете написать, потому что имена людей, причастных к заводу, должны обозначаться шифром из латинских букв. Желательно из одной латинской буквы. И вот тут он у нас остается просто G. На многих документах пятидесятых годов имеется его подпись. Вот эта подпись. Можно, конечно, по закорючкам попытаться разобрать... Но смысла никакого я в этом не вижу. Знаете, по-моему, если чего-то нет, то этого и нет. И нечего насильно тянуть чего-то там. Пытаться что-то интерпретировать. Вот был такой директор G. По бумагам. А может быть, на самом деле его и не было. Кто лично знал его, все давно уже умерли или с завода ушли. Скорее, умерли. А может быть, его никто лично и не знал. Как он умер? Об этом ходит легенда. Говорят, что он сбрасывал снег с крыши главного корпуса и свалился с Центральной башни. Ну, случайно. А некоторые говорят, что нарочно. Более подробно попробуйте спросить у W. o:p/
G я, конечно, видел, он часто бывал в цехах. Каким он был? Производственник... Может, как директор он был и не такой замечательный, как сменивший его N. Но в целом он всех устраивал, поэтому его и назначили. Пил, правда, много, ну и что, если работать ему это не мешало. Он был очень неудобный для министерства директор, но его назначили, потому что хороший производственник. Постоянно конфликтовал с вышестоящими, и из-за этого у него было много проблем. В том числе психологических. А вообще-то про G вы лучше спросите у YY. Он сейчас, правда, на заводе не работает. Но я вам дам его телефон. Я точно помню, что он часто общался с G. А я что? Я тогда был совсем молодой. Для меня директор был — величина! o:p/
Да нет, это враки. Никогда G по заводу не ходил. Не то что N, тот всегда, бывало, низом пройдет. Он-то всех знал. А G, его сверху назначили, и он был типичный аппаратчик. Ничего не понимал в производстве. Конформист просто. Партийный настоящий конформист. Назначили еще при Сталине, а он разворовал все на свете. Руководил спустя рукава, да еще и пьяница — страшенный. Его не снимали только потому, что он был чей-то там сынок. А потом что — свалился с крыши, ну да, прямо во двор. Какое — снег?! Спьяну просто. Чего его туда понесло, я не знаю. А еще говорят, что это вообще было убийство. Решили от него уже избавиться наконец. Чтобы завод получил нормального директора. Лично? Нет, это тоже враки, лично я его не знал и вообще ни разу не общался. Он в производство вообще не вникал. Вот с его замом — да, с тем я часто общался. У него был очень интересный зам. Лицом похож на G, и где подобрал-то такого. Но — совершенно другой человек. На вид как G, но совершенно другой. Да. Да вы спросите лучше... Вы знаете, есть такая женщина, J ее фамилия. Вам о ней W не говорил? Так-так. Беллочка, простите, пожалуйста, что я вас отрываю, а у вас, случайно, нет телефона J? Записываю! o:p/
Да-да-да, G, мы были с ним немного знакомы! Эрудированный инженер, прекрасный собеседник... Английский хорошо знал. Утонченные манеры. Конечно, скромный немного, скрытный, но такой простой! Одевался элегантно. Разбирался в винах. Вот, помню, один раз... Или нет, это был не G, это был уже... да... мой второй муж... Ну, я, так сказать, с ним приятельствовала, что ли, и сейчас уже за давностью лет не могу ничего сказать, кроме того, что он был милейший, очень приятный человек. Рано умер, да, к сожалению... Его же собственный заместитель, которому он верил как себе самому... вроде бы случайно... они там подрались, что ли... точно не знаю, какая-то ужасная история... Думаю, просто метил на его место. Суд был потом, громкий, знаете, процесс, ну так вот его же и оправдали, сказали, что был в состоянии аффекта или что-то там такое... Ну вот, да за что же спасибо, я вам ничем совсем не помогла, да!.. o:p/
G? Да он жил на заводе. Не уходил даже на ночь. Квартира-то у него была, но он там не жил. А чего ему там жить. Одинокий человек. Нелюдимый. Нелепый немножко. Ну, так сказать, и времена-то были, сами понимаете, — он еще при Сталине завод возглавил. План не сделал — расстрел. Тут поневоле... Нет-нет, с какой крыши, это он имел в виду, что это у самого G, так сказать... Да конечно, лечился, это вот я точно помню такую деталь. Да нормальный в целом, но временами находило, что-то травматическое, после ранения в войну, он там пережил какой-то ужас, никогда не рассказывал. Что-то такое... Ну вот он когда был в состоянии, как говорится, опьянения, он говорил, но я точно не знаю, поэтому не буду врать... Да и не стоит, если человек сам потом не помнил, что он рассказывал. У G был еще такой зам, или, вернее, это был не зам, а он сам, но совершенно другой человек. Это трудно понять со стороны. Но я-то что, я только косвенно... А знаете, кто действительно хорошо знал G? Этого человека только не называйте, он к заводу уже давно не имеет никакого отношения. Так что вы его не называйте, даже буквой... o:p/
G был безукоризненно честен. Вот что я точно могу сказать. И смелым абсолютно. До безрассудства. Он на войне был много раз ранен. Его так там изрешетило... А потом такая история... Диктофон выключите (...) o:p/
А после войны G что делал? Да он ничего не делал. Он не мог ничего делать. Ну и замгорисполкома, который с ним до войны работал, его нашел в каком-то уж совсем состоянии. И сделал его директором завода. В надежде, что он воспрянет, как-то оживет. Но уже было поздно. Ну, в каком смысле поздно? Для завода не поздно. G нормальным был директором. У нас тогда смежники были не очень. Знаете, как вот говорят, N — великий директор, гений, все такое, а G, мол, ничего не смог, не захотел. Да все не так. Несправедливо это. Просто время еще не подошло для «Свободы». Когда был G, еще тогда все на авиацию ставили. Думали американцев на воздухе догнать. А когда поняли, что на воздухе уже никогда не догоним, тогда пустили все ресурсы на подводные лодки. И вот тогда N пришел, и все у нас уже завертелось. История! А G, он попал в эдакий пересменок. Между эпохами. А как человек, он был не меньше, чем N. Я обоих хорошо знал, вы уж мне поверьте. Только N, он был, несмотря ни на что, коммунист. Светлый и простой человек. Сила. А G был человек раздвоенный. Совершенно натурально. Нет, не буду ничего объяснять; нет, не лечился, потому что знал, что если все вспомнит, то больше жить не сможет. Ну и вспомнил однажды. И сами понимаете. Завод он, кстати, отремонтировал. Там между корпусами все было щебнем завалено. Цеха подштопали, станки завезли. Четвертый-то еще при нем, в 1957 году, построили. o:p/
Насчет пил? Басни. Насчет пил я вам так скажу: что G был абсолютный трезвенник. Абсолютный. И кто говорит, что он пил, тому вы не верьте. G ничего и никогда не пил спиртного. Никогда не был пьяным. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
6. «ЛИЛИЯ» o:p/
o:p /o:p
Новоиспеченный директор N, большой человек, прошло два месяца, а уж всех на заводе знает, — тринадцатого декабря входит в цех и говорит: я понимаю, что к Новому году четыре комплекта бомбового прицела «Лилия» для самолетов ЯК-28Л сделать невозможно, и все же: какие ваши условия, при каких сделать сможете? o:p/
На «Свободе» новые времена. Выпускников ПТУ нанимают сотнями. Станки закупают в Японии. Строят общежития. Все мобилизовано. Третья мировая война вероятна. o:p/
Выходит один бригадир и говорит: во-первых, чтобы зарплата — 299 рублей. (Триста нельзя.) Принимается, говорит N. o:p/
Выходит другой бригадир. Лежаки здесь положить, чтобы мы не отвлекались, значит. Уже, считай, положили, говорит N. — И шила графин чтобы всегда вот тут стоял! Полный! — Заметано, говорит N, поставим, это все? Все, говорят. И делают к Новому году четыре комплекта «Лилии». o:p/
Конечно, понятно, какие это получаются «Лилии». Такие, что с ними еще, как выражается A, начальник 20-го регулировочно-сдаточного цеха, «етись и етись». Но на тот момент это никого не волнует. Настроение праздничное. o:p/
Ну, а к лету начинается. Выясняется, что по многим параметрам изделие недотянуто. Выясняется тогда, когда уже приходится ставить «Лилию» на самолеты. И летят регулировщики 20-го цеха в Иркутск доделывать «Лилию» на ходу, чтобы самолеты нормально бомбы бросать могли. Летят, значит, целой большой серьезной группой быстрого реагирования внедрять эту совершенно сырую «Лилию», которая под шило за две недели была освоена родным заводом «Свобода». o:p/
Прилетают — и видят, что ничего не могут сделать. o:p/
Все кипит, и все сырое. «Лилия» сырая, недоработанная. Кое-что вообще собрано с косяками. Да надо сказать, сами самолеты тоже сырее некуда. И оборудование на них все сырое. В том числе и то, которое для «Лилии» нужно и с ней взаимосвязано. Вот, скажем, как прикажете с радиоточками на земле связываться, в тылу, если радиостанция на борту не обладает помехоустойчивостью? Но поздно. Все обрадовались, что крайнего нашли. Видать, все под шило работали и к Новому году успевали. Но отбрехались. А «Свобода» не отбрехалась. И накинулись военные на регулировщиков со «Свободы». Что вы-де, лентяи, здесь вообще делаете? Для чего вас позвали? Вы вообще можете сделать так, чтобы эта штука хоть как-то работала? У нас приемка через десять дней, а вы? Нам прицельное бомбометание как организовать в сложных метеоусловиях? Вы хвалились, что ваша «Лилия» позволяет выйти на цель с круговой вероятной ошибкой всего в 50 метров, а теперь не можете нормально установить связь с наземными станциями?! Секир-башка! o:p/
Регулировщики мямлят справедливые оправдания. Мол, самолет еще полного цикла испытаний не прошел. Еще, мол, время есть. А военно-промышленная комиссия, она что? Она уже едет. Собирается собрание колоссальное в Иркутске. Приезжают министр, председатель совнархоза, директора заводов... Ну там не только «Лилия», там куча других неприятностей! И N прилетает. И все партийные, военно-промышленная комиссия, оборонный отдел обкома партии — все врубаются в ситуацию и дружно наваливаются на одного директора N. И вешают на него всех собак. И влетает нашему директору очень сильно, и за шило, и за зарплату в 299 рублей, и за грехи смежников заодно тоже... Ну, думаем, полетел, похоже, директор наш... но до нас-то дотянуться он успеет, выходим-то мы виноваты, крайние: регулировщики, не сумели прибор довести до ума. Сейчас нас здесь на месте уволят, четвертуют! o:p/
Но N и не думает никого четвертовать. Я, вы знаете, в войну был директором совсем другого завода. Делали мы радиостанции для партизан. Ну, вы знаете. А потом я сидел. Этого вы не знаете. Посадили меня по Ленинградскому делу, я лес валил, на Севере. Потом был реабилитирован. Полностью. Это говорю я вам к тому, что я не боюсь. И еще, чтобы вы знали: у меня к вам претензий никаких нет. Я понимаю, как все это вышло. Нам дали срок все исправить. Но сначала нам всем нужно хорошенько отдохнуть. Иначе работать мы не сможем. Поэтому завтра мы всем коллективом в обязательном порядке едем отдыхать на Байкал. С палатками. Насчет транспорта и кормежки я договорюсь. o:p/
Вот тут все обалдели. Никто не представлял, что какой-нибудь директор в подобной ситуации сможет так поступить! Не знали еще нашего N. o:p/
Действительно, N уговорил директора Иркутского самолетного завода дать нам автобус. Приехали на Байкал, поставили палатки. Человек сорок туда приехало. Три дня выпивали, отдыхали. И только потом: как из положения будем выходить? o:p/
И тут N ни одного слова не сказал, ни одного человека не обидел. Даже, кто виноват был. Сели спокойно, полночи обсуждали и решение мгновенно приняли. Каждый понял, что ему лично надо делать. Приехали утром, каждый взял свое дело, и стали заниматься спокойно, без нервотрепки. И сделали все, и сдали в срок. И это казалось чудом, да чудом и было. o:p/
Всего «Лилией» было оборудовано 111 самолетов ЯК-28Л. Самолет получил в НАТО кодовое обозначение Brewer-A (Пивовар). o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
7. АНТАРКТИДА o:p/
o:p /o:p
Не длинная вроде улица — Волынкина, а предприятий на ней целых шесть. И чешут все с утра: «Меттранс», ЛЭМЗ «Точные приборы», имени Капельского, кондитерская фабрика, опытное производство НИИ № 4 чуть в стороне. И наконец, «Свобода». Это толпы! К семи часам, к шести сорока пяти даже, — будь любезен. Директор N низом идет, все видит. Опоздал — штраф. Прогул — выговор. Народу на «Свободе» много стало, как N пришел. Работы — еще больше. В три смены кое-кто. o:p/
И на обед очереди стоят страшные. Обедают все цеха посменно. Некоторые не успевают. Возьмешь котлету — а тут и гудок. И беги, запихивай ее в горло. o:p/
А вот и не кто иной, как товарищ F, еще совсем молодой. Сегодня F в столовку не пошел. Вместо обеда идет к начальнику цеха и докладывает: увольняюсь. Уезжаю в Антарктиду. o:p/
Куда-куда? В Антарктиду. Место есть. Мне приятель сказал. Техником — вот еду. Буду обслуживать приборы. Вот у меня обходной лист; подпишите, пожалуйста. Да ты погоди, F. Брось ты. Перестань. Да чего годить, Валерий Никифорович? Зовут, поеду... Упускать, что ли?! Вот черт. Тебе что, в Ленинграде приключений мало? Ладно, зайди ко мне завтра. o:p/
Радионяня — это рюмочная наша. Вот если идти по правой стороне Волынкиной, то почти у самого проспекта Стачек. Название, конечно, неофициальное. Потому так названа, что рядом — отдел пластинок и радиодеталей Кировского универмага, ну и еще потому, что выпивают там регулировщики радиоаппаратуры со «Свободы». Внутри столики, кой-какая закуска. Темно. А, F, привет! Чо новенького? (И ждут, когда я их развлекать начну.) В Антарктиду?! Ха-ха-ха! Нет, я — правда. Обходной лист дали уже. Слышите, он — правда! F, да ты чокнулся. А что. Антарктида — это Советский Союз. Кого?! Да мы же первые ее открыли. Наш человек. Как его... Федор Федорович Амундсен. Не дергайся, паря. Вы просто лбами столкнулись, у него характер, у тебя характер... Не, ребят, поеду. Буду среди торосов и льдин запускать метеорологический зонд. Это знаете что? Такой здоровый шар, ага. Один вот так запускал-запускал и сам улетел. Завис на высоте пять километров и висел. И как его снимали? Да никак не снимали. Окочурился бедолага. Да брось! Да точно говорю. Антарктида, брат, шутить не любит. Минус сто под Цельсием. Ну, ты смотри там это! Мимо Америки проплывать будешь — привет передавай. Погоди, F, а как же Люба? Что Люба. Ну, тебя же не будет год! Ну, будет ждать. А не будет, значит... ну, значит, не будет. Не, F, ты точно совсем уже! Такую девушку... на белых медведей променять. Идиот, белые — в Арктике. А там, наоборот... Что — наоборот?! Плюшевые. Ой, не езди никуда, F, с тобой хоть весело! (Весело им со мной. А мне с вами чо-то нет... Не получается ни черта у меня в этой жизни.) Да ладно, ребята, год — это мало. А тебя B отпустит хоть? Да он рад-радешенек будет, что избавился! o:p/
На следующий день снова обед. F стоит с обходным листом. Зайди к директору. Прямо сейчас зайди. Уговаривать будет? Понятия не имею. o:p/
Ну что, товарищ F, уходим? Пасуем перед трудностями? Да какое пасуем, я наоборот. Вот в Антарктиде нужны... Техники по радиолокации... А ты почему такой нестриженый. Вот тебе двадцать копеек, сходи вон там напротив, подстригись. А завтра ко мне. В это же время. Юрий Михайлович, я не могу!.. Мне обходной лист... Что-о?! Не может он!! Живо выметайся! Завтра — здесь! Подстриженный! Мне двадцать копеек не надо, у меня есть. До завтра. o:p/
...Ну а кроме Радионяни, еще и пивной киоск есть. Чуть подальше по Калинкиной, на углу Калинкиной и Рахметова. Называется «Три ручья» — потому что там вечно три ручья течет, пиво, вода и... моча. А в киоске Анатолий, однорукий, ветеран войны. Привет. Что у нас F такой веселый, да еще и стриженый? Директор заставил. N у нас всех стрижет. Да вот, в Антарктиду уезжаю. А-а. В Антарктиду? Серьезно. Не наливай ему больше. o:p/
Еще где можно выпить? Еще можно — на берегу Екатерингофки. Там вообще купаются, но сейчас нет, сейчас апрель. До войны по Екатерингофке сплавляли лес. А после войны здесь утонул у F родной брат. Катались на коньках, провалился под лед. И народ был, и за подмогой побежали. Утонул. А теперь F на берегу Екатерингофки пьет иногда. Вроде как в память о брате. Хотя он и так его отлично помнит. Брат был старше на год и совершенно такой же, как F, только гораздо лучше. Так всегда получается. Которые лучше, те тонут. Которые хуже, те маются. Чем больше пьет, тем сильнее на него накатывает. Снаружи незаметно, вроде бы F и не пьяный, все прилично. Со стадиона «Кировец» свистки, крики: «Свобода» с Кировским играет. F тоже в футбол, да, только во втором составе. Пацаны под трибунами сидят или на дереве, растет там тополь такой громадный... сидят, смотрят. А в первом составе нет, в первом, как говорится, класс не тот, это упорство нужно. А какое у F упорство. И дисциплина, опять-таки. И характер. (F подгребает под себя сухие листья и чиркает спичкой.) Ага. (Дымит.) А Люба? Ну, Люба что. Как говорится, ей ничего не значит. Это ты так думаешь. А она у тебя не беременная? Не знаю. Да плевать мне. Ты сначала узнай. А если не пустят? А если не пустят, все равно поеду. К черту, к черту. o:p/
Та-ак. Подстригся — это хорошо. Теперь к делу. Я тебя не отпускаю. Обязаны отпустить, хоть тресни. Антарктида. Тебе что, деньги нужны? Так это договориться можно. Мы тебе прибавим. Да нет, не в этом дело, Юрий Михайлович. А в чем? А-а, небось с Германом опять поссорился. Слышал я про вас. Оба хороши! Да я знаю, что он прав. Со мной просто по-другому не бывает. Я думал, я у вас буду по-другому, а я и у вас тоже. Все то же самое. Ну, а Антарктида тебя, думаешь, изменит? Да? А я так не думаю. Да я тоже не думаю. Не думаешь? А уходишь тогда зачем? А? o:p/
Ладно, Юрий Михайлович, я понял. Не отпускаете. Нет так нет. До свидания. o:p/
Стоп, F, куда пошел? Я с тобой еще не прощался! А ну-ка сядь! Да-а... Бери-ка ты, друг, лист бумаги. Да. И пиши. Так. Пиши: обязуюсь в течение трех месяцев ежедневно... Так. Меня тебе видеть необязательно, отмечаться будешь у моего секретаря. Впрочем, если со мной захочешь потолковать, я тебя приму. Так. Пиши дальше. В случае неисполнения... Да, прямо так и пиши! Сволочью, F! А в случае смерти в течение трех месяцев — на твоей могиле напишем, что ты сволочь! Через три месяца, пятнадцатого июля, встречаемся здесь, у меня в кабинете! Подписывай! В Антарктиду он собрался! Полярник! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
8. ИНГА И ЖЕНЩИНЫ АДА o:p/
o:p /o:p
Женщины гальванического цеха в могучих парусиновых халатах, просверленных точками кислоты, просмоленных потеками, дымами, тенями, обдать кипятком и снять шкурку. G катает маленький железный ключик между большим и указательным. Что-то вы всем недовольные, вечно вы всем, дамы, недовольные. Я не могу вас понять. Вот лично я — я не могу вас понять. Может быть, потому, что у меня нет жены. Да нет, это бы вам не помогло. Вы так думаете? Вам — конечно. Под бело-ржавым потолком туман. Воздух зацветает зеленоватыми стружками, ливнями, капустным паром, грибком. Предложение поработать на выходных встречено без энтузиазма. Левая туфля порвалась, теперь, как лодка, гребет бортом воду. Если бы я в ней плыла, то затонула бы через пять метров. Хорошо, что я в ней не плыву. Босая картонная туфля, каблуки давно сточены вкось. Вкось — это означает легкомыслие. Да, легкомысленная вы девушка, Манечка. Вы, наверно, шутите, куда мы там выйдем в субботу. (Запирает перед зеркальцем губы еще на два оборота губной помады.) Соседи по вечерам грызут сахарную голову. А думаете, ей не хочется сладенького? Весь день бегает по коридору, а в ясли не берут, на голове какие-то болячки, да я и сама не веду — дети задразнят. Если бы ясли, она бы давно уже заговорила. Да разве это были мужчины, Кать. Это одни только слезы, одни слезы. Вот вы раз уж пришли, Павел Аркадьевич, а я как раз хотела сказать: мы пообедать не успеваем. А у нас производство вредное. Да, знаете ли, заходишь к вам сюда, а у вас тут как в аду. Сами вы какаду, уж могли бы, вместо того, чтобы, а вы вместо этого. (Зеленый туман расступается под маслянистым, желтым теплом лампы на потолке.) За это, конечно, большое спасибо, но, откровенно говоря, сколько можно уже спасибо-то говорить? Я бы сказала спасибо, если бы на этаже в нашем общежитии была горячая вода. Плясали зимой до троллейбуса, а троллейбус битком... Нет, чулки не надо, а лучше бы распределили какие-нибудь билеты, например в Театр оперетты. Но я не смогу в субботу выйти, я же не знала, я бы маме сказала, она бы приехала, а так она уже не успеет. Не волнуйся ты, Кать, я тоже не смогу. Вообще не-е, это уже что-то такое у нас стало делаться... Позавчера-то что было. Бежит Фрида, высунув язык. А, ты тоже была? Да. Восемнадцать деталей псу под хвост. Что? Да это не наше, это не ту поверхность обозначили, мы и протравили, а там не надо было. Во, полюбуйся, красота. Нет, я ни в какую субботу точно не пойду. Я читаю очень интересную одну сейчас книгу, какой-то молодой врач написал, там упражнения Кегеля, как стать женщиной. А я и так женщина. Взял спринцовку... Я от ужаса сбежала и родила. Нет, никогда я на такое не пойду, мне просто страшно. Дают-дают, у моей одноклассницы муж взрывник, им выдают целыми пачками, сотнями, знаешь для чего? В гондоны удобно взрывчатку порциями класть, чтобы не отмокала, когда в траншею. Павел Аркадьевич, а у вас есть дети? Ну вот видите! А в субботу, говорят, хорошая погода будет. o:p/
Если выглянуть в окно, на асфальте сверху виден профиль огромной девушки. Это трещины на асфальте, которым залили бетонные плиты. И в голове у девушки — еще одна бетонная плита. Девушка с плитой. Профиль не очень-то юный и не особенно совершенный. Щека присыпана серо-зеленым. У девушек в бригаде, которая производит анодирование деталей, то есть опускает в кислоту, подержит и вынет, теперь вместо шести ванн стоит двенадцать. Если раньше кислота на кожу попадала только по неосторожности, то теперь приходится деталь из кислоты вынимать и от ванны к ванне с ней бегать, и кислота... в общем, к чему привыкли, к тому привыкли. Галина Семеновна недавно посреди цеха шлепнулась — подумаешь, делов. Ну, упала, ну, полежала, встала и пошла работать. Если честно, это из-за скользкого железного пола. Работать так трудновато. В субботу здесь находиться совершенно не хочется, и, кажется, это можно даже в каком-то смысле понять. Вот вы, Инга Алексеевна, вы нас можете понять? Я вас понимаю. (Инга, юрист, никогда не работала у гальванической ванны. Она выросла в двух комнатах с фортепиано и книгами до потолка, а потолки четыре метра. Она юрист. Она одевается в элегантные углы и тени. Невысокая, изящная, строгая женщина с негромким голосом.) Это не соответствует Трудовому кодексу. Если что, мы подключим профсоюз. Ох, я вас умоляю! Пал Аркадьича вы подключите? Да он... Ой, да она... Я вас прошу, не впутывайте этих всех мужиков. Манечка. Инга Алексеевна, я вас умоляю! Только не надо, пожалуйста! Мы же совсем не... Мы не то имели в виду. Нет, нет, знаете. Это уже как в старой сказке. Один раз мы им разрешим, а на второй... Так и будут вас штрафовать. Нет, нет, надо обязательно поднять вопрос, я не буду вас называть. Ох, Инга Алексеевна, вы молодая еще такая, вы их не знаете, они же вас. Они же. o:p/
Здравствуйте, здравствуйте, Инга... Да, проходите, конечно же... Нет, я ничего не знаю. Да. Товарищи на вас жаловались, конечно. Вот эта вот, кажется, бумажка, это же ваше? Речь о том, чтобы сделать план. Нет, помолчите, Инга. О том, чтобы сделать план. И тут вполне прямолинейно все изложено. Ну, думаю, не все так прямолинейно, как они мне тут... Ну как что говорили? Ну, говорили. А что сверхурочные? Если особая необходимость, то... Да какая там особая необходимость. Какая особая необходимость. Вы их еще послушайте. Там просто план горел. Горел он у них, видите ли! А кто крайний? Кто виноват? Гальваники? А свалили на них. Потому что женщины не пикнут, женщины безропотно... И они ведь говорили, заметьте! Дети, суббота, воскресенье. Детей не с кем оставить! Почему они должны в субботу приходить на свою адскую работу, где они в адских условиях... Нет, подождите! Почему там пол скользкий? Что, нет досок застелить? Почему в девятом делается ремонт, хотя он там уже делался семь лет назад, а в тринадцатом ветеран падает посреди смены? Вы хотите дождаться, когда кто-нибудь растворится?! И что вы будете хоронить?! Кислоту?! Да вы удавитесь!! o:p/
Инга. Инга! Так. (Пауза, которую иначе и не обозначишь, как: длительная пауза.) Вы мне вот что скажите. Это весь цех не вышел или кто-нибудь все-таки вышел? Ага, значит, кто-нибудь вышел... да подождите вы!! Я не про то!! Знаете что, давайте решим как? Мы наоборот решим. Кто не вышел, лишать премии не будем. А кто вышел, тех наградим. Вас это устраивает? Хорошо. Теперь остальное. Я согласен с вами, больной вопрос насчет досок. Просто в следующем квартале мне обещали... я ездил в Москву с B, мы выбили новое оборудование, и им будет полегче. До этого времени доски стелить смысла нет, все равно потом придется все переставлять. Один квартал они могут потерпеть? Инга, вы, конечно, молодец. Нет, я не буду с ним говорить ничего, он просто не всегда до конца все учитывает, человек на своем месте, по-своему ограниченный. Откуда им знать законы, у нас на это есть вы. Идите, Инга, завтра будут доски. Алло! Да, он может входить, если уже пришел! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
9. ИНЖЕНЕР H o:p/
o:p /o:p
Пришел новый директор N и привел с другого завода, которым раньше руководил, нового главного инженера H. Очень странный человек оказался. На вид совершенно не заводской, а — хлипкий интеллигент. Молодой, но уже почти лысый. Только так, редкие остатки волос по краям головы растут. Говорит тихо. И глаза большие и совершенно серые. А руководил-то он там, на том заводе, не на самом заводе, а в ОКБ — вот оно что! И все сразу: а-а, все с ним ясно! Никто не спорит, это сразу видно, что он большой ум. Конструктор и все такое. Но завод, это же совсем другая материя. Заводом руководить и ОКБ руководить — две большие разницы. Инженер на заводе не только за чертежи-вертежи отвечает, а если где-то запил дядя, не стоит велосипед и так далее. А у нас здесь, брат... Да, у нас здесь завод. Здесь у нас такое... А он, H, хлипкий. И все сошлись на том, что H, наверное, на «Свободе» не справится. o:p/
И вот квалифицированные рабочие-регулировщики, многие из которых имели высшее образование, решили между собой так. Мы тут по многу лет с этим изделием, собаку съели. Устроим H небольшой внеплановый экзамен, которого он точно не выдержит. Это нехорошо! — вмешались некоторые, самые щепетильные. — Ему тут все-таки работать, а после этого его никто уважать не будет. — Нет, возразили те, мы не собираемся сразу его этого того, а мы просто посмотрим, как человек себя поведет в трудной ситуации. Как он из нее выходить будет. Куда кинется, кого на помощь позовет или вообще сделает вид, что так и надо. Пошшупаем его, одним словом. o:p/
Вот и устроили экзамен ему небольшой. Сломали кое-что в регулируемом изделии, хитрым образом сломали: две независимые поломки устроили. И сделали вид, будто день и два бьются: что же не так? Приходит H, своими серыми глазами посмотрел на изделие и сходу сказал: здесь не работает то и то. Надо делать так и вот так. Потом помолчал и задумчиво добавил: одного не могу понять — как это могло одновременно получиться? Ведь не могло. Удивительный, любопытный случай. И пошел. А квалифицированные рабочие-регулировщики вслед ему посмотрели, и один из них сказал: ну вот как, как он знает? — а другой добавил: а говорят, что N только тогда и согласился перейти на наш завод, когда ему пообещали, что ему дадут H. Иначе ни в какую не хотел к нам переходить. (Так оно и было на самом деле.) o:p/
И потом, когда уже H признали, когда пообтерпелись и привыкли к нему, то все поняли, что он — как выразилась главный диспетчер завода M — прелесть. Спокойный, часто меланхоличный, H никогда не кричал. Этим он являл собою полную противоположность другому выдвиженцу-ставленнику директора N — громогласному и животастому начальнику регулировочного цеха B, который орал как дышал. Можно сказать и так, что они, B и H, являли собою два полюса человеческой натуры, два конца радуги, два кречмеровских типа. Главный инженер H не пил совершенно (на праздник сто грамм водки, от которой тощие скулы H загорались румянцем, а на тонких губах появлялась изысканная неконтролируемая усмешка), B хлебал водяру неумеренно, подчас захлебывался, неделями не появляясь на производстве (выговоры сыпались градом, что для руководителя подобного уровня уже и перебор). H говорил тихо, мало и четко, а в основном молчал — B не затыкался вообще, вечно гремел и грохал, его несло и в похвальбе, и в ругани. И был B хвастлив, самонадеян, тираничен; барин по натуре, он тыкал и фамильярничал с рабочими, среди которых всегда был своим, а H — сочетал аристократизм и демократизм в неповторимой секретной рецептуре русских или обрусевших специалистов, всем говорил «вы» и чужим быть не переставал (хотя «нашим» стал довольно скоро). Обоих уважали. Обоих любили. Круги преданных B и H пересекались, но не совпадали. o:p/
Однажды случилась такая история: военные принимали изделие, которое должно было обладать существенными характеристиками прочности, и уже почти было приняли, да случайно в последний момент техник уронил изделие на пол, и оно раскололось пополам. Вышел конфуз. Получили от военных штраф. И главный инженер H собрал заседание по поводу качества. Присутствовали на этом заседании многие начальники цехов, в том числе и B, сидела здесь же и юрист Инга Аркадьевна, ибо штрафы за качество находились в ее компетенции, и Пал Палыч P (Пашка — слесарь, чемпион по боксу), человек решительный и горячий, и другие. Каждый высказывался бурно, пытаясь свалить вину на других. Каждого перебивали. То и дело возникали ожесточенные перепалки. В какой-то момент B, не прекращая раздоров, встал и навис над столом, отгавкиваясь направо и налево, потому как именно его регулировочный цех являлся конечным звеном производственной цепочки, и его, конечно, хотели назначить главным виновником. Эта его поза окончательно развязала всем языки. Гвалт поднялся такой, будто и не в кабинете главного инженера оборонного завода, а где-нибудь у проклятых капиталистов на уолл-стритовской бирже или в младшей группе детского сада. Только Инга, в тенях и углах, сидела, отпрянув от B и полная молчаливой неприязни. o:p/
H слушал перебранку начальников цехов очень спокойно и даже как будто дремал. Но вдруг в какой-то момент его глаза постепенно начали становиться из светло-серых стальными. Вы можете возразить, что разница невелика. Но все, кто находился в кабинете, сразу ее ощутили. Как будто сменился свет или стало холоднее. Гвалт сделался тише, и наконец все замолчали, и даже B. o:p/
Откричались? — спросил H неприветливо, поднимая голову. Я вам расскажу анекдот. Морозный день. Летит птичка. Замерзает и падает на дорогу. Проходит лошадь. Какнула на птичку. Птичка отогрелась и начала чирикать. Пришел волк и съел птичку. Так вот: попал в говно — не чирикай. Идите и работайте. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
10. БАЛАНДУ ЖРАТЬ o:p/
o:p /o:p
Мы в отпуске. Это называется — на юге. То есть на море. Здесь море, солнце и юг. Много цветов и очень жгучая крапива. Наташка кормит куклу розовыми лепестками и варит из них понарошку суп. Оркестр играет на площади с перерывом на жару. Утром в девять часов уже плюс двадцать пять градусов! Вчера мы ходили на базар и ели черную рыбу с соленой головой. Сегодня купаться не пошли, потому что мы и так купались все дни, и нужно сделать перерыв, а то мы перекупаемся. В то лето Наташка перекупалась, и у нее поднялась температура градусов до сорока. У меня такой высокой температуры никогда не было. Зато я однажды упал с дерева и сломал руку. Это было несколько лет назад. Кстати, температура воды — плюс двадцать четыре градуса. Некоторые живут наверху, и это очень плохо, потому что до моря идти и идти, и там совсем нет тени. А мы живем немного сбоку, где розовые дома с балконами. Я познакомился с Сережкой и его братом Шуриком, они живут, оказывается, в Ленинграде на нашей улице, там, где угловой гастроном. Но в этом нет ничего удивительного, потому что их родители тоже работают на папином заводе. o:p/
Сегодня произошло интересное событие. Когда мы разбирали велик, к нам во двор заехала черная «Волга», и это был N, директор на папином заводе. Черная «Волга» была очень пыльная, и я сразу понял, что директор ехал не останавливаясь от самого Ленинграда. Сюда в отпуск приезжает весь завод, которым директор управляет, ну, может, не весь, но половина точно. Вот N и приехал проведать, как тут всем отдыхается, и особенно моему отцу, потому что они дружат. Он вылез из машины, и был он весь красный и мятый, а на голове у него была красно-белая панамка, директор стащил ее с лысой головы, обмахнулся и вытер лицо. Папа как раз был занят тем, что разбирал мой велик, и встал прямо с грязными руками, и пришлось им с N руки друг другу пожимать как-то странно, не ладонями, и в результате они просто прислонились друг к другу так и сяк, а потом папа сказал: с приездом! А вот и Пал Палыч второй, сказал директор, привет, Пашка! Здравствуйте, сказал я. Тогда директор повернулся к отцу и сказал: пошли на рынок? О! Пойдем! — сказал отец. Руки только вот помою! Тогда я понял, что велика мне сегодня не видать. Если я, конечно, сам его не соберу. Но тут директор N заметил, что я огорчился, и сказал: Пашка, хочешь помыть мою машину? Еще бы я не хотел! Не каждый день выпадает такое счастье — «Волгу» мыть. Вот, сказал директор N, тебе губка и ведро, а мы на рынок пока сходим. o:p/
И они пошли на рынок, а я побежал с ведром к колонке, а там торчали девчонки и мама тоже сидела с Еленой Владимировной. Мама спросила, с чего это я такой счастливый, и пока вода набиралась, я ей ответил, что приехал N, и я сейчас буду мыть его «Волгу». Так они на рынок, что ли, пошли? — сказала мама и переглянулась с Еленой Владимировной. Ага! — сказал я и потащил ведро обратно. Вода в нем болталась и плескала мне на ноги. Потом я перетаскал еще, наверное, ведер десять, потому что от Ленинграда до юга дорога очень длинная и пыльная. Я помыл и крышу, и капот, и решетку, и фары, и стекла, особенно лобовое, на котором остались кляксы от комаров. Солнце все сильней жарило, и хотя я дрызгался почем зря в холодной воде, но мне уже хотелось на море и мороженого. Зато «Волга» становилась все красивее, постепенно я отмыл ее до черного и сверкающего состояния, а все блестящее аж горело, а вокруг машины земля намокла. Потом я взялся за велик. Я подумал, что если я сто раз видел, как его собирают, то я и сам смогу. Но это оказалось не так просто, несмотря на то, что я перетащил велик в тень и очень долго думал. o:p/
...Только на пятнадцатый день, сказал за кустами голос директора N, а потом показался и он сам, вместе с моим отцом. Они шли по тропинке мимо старой сухой яблони и смеялись. В руке у директора N была авоська с бутылочками, а у папы — с абрикосами. Пашка! — сказал директор N, глядя на меня и на «Волгу». Здорово помыл! Спасибо тебе огромное! Директор N поравнялся со мной, хлопнул меня по плечу и сказал: ну что, проголодался небось? Ну, тогда пошли баланду жрать! А я подумал: вроде бы я такого слова не знаю. o:p/
Мы пошли обедать, позвали маму и Наташу, а на обед у нас было все, что обычно бывает: холодный борщ, картошка, помидоры и огурцы, потом чай, а у взрослых еще вино. Никакой баланды, насколько я мог заметить, не было. Ведь борщ — это не баланда, и абрикосы тоже нет. Мы сидели, как обычно, на улице, за большим столом, директор N курил и всячески шутил, особенно с Наташкой, которая еще шуток не понимает, и поэтому с ней шутить особенно смешно, а я улучил секундочку и спросил у папы незаметно: а где же баланда? Какая баланда, шепотом переспросил отец. Да которую обещал директор N, он же сказал: «Пошли баланду жрать». Цыц, сказал отец, да и все. Пашка, спросил директор у моего отца, чего там малый интересуется? Интересуется, что такое баланда. Директор N немного засмеялся. o:p/
Потом мы все-таки уломали маму и пошли на море. А там уже как раз кончилась самая жара, и народу было много-премного! Маме это всегда не нравится, а мы очень любим. Чем больше народу, тем веселее, как это она не понимает! А мама этого не любит, потому что боится, что мы можем незаметно потеряться или незаметно утонуть. На пляже на юге все раздеваются до трусов, и очень хорошо видно, кто из мужчин был на войне. С виду руки и ноги у многих на месте, а когда идешь к воде и смотришь всем на спины и другие места, то прямо удивительно, как многие остались живы после таких ранений. Одно утешение, что наши фрицам хуже влепили. А пусть не лезут. И я уже немножко пробовал плавать на спине, а в воду заходил двенадцать раз. o:p/
Вечером мы играли в казаки-разбойники и так увлеклись, что не заметили, как наступила полная темнота. Сережка в темноте влетел в крапиву и сильно заорал. А еще за домом растут красные ягоды, которые не знаю, как называются. По вкусу похожи на смесь елки и карандашного грифеля. Потом мама позвала ужинать и спать, а я, когда мыл руки, вспомнил это слово и спросил у мамы: а баланда, это вкусно? Мама мыла посуду. Она ответила: нет. А из чего она вообще-то сделана? Ты ее пробовала? Баланда — это невкусная похлебка, а из чего она сделана, все равно. Из чего придется. Например, из гнилой картошки. Я пошел спать. Мне приснилась красная музыка оркестра, яркая солнечная вода в ведре, и как она стекает с черной сверкающей «Волги», и как блестят в море яркие и золотые солнечные цепи. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
11. «АСТРА» o:p/
o:p /o:p
Океан сегодня розоватый, разноцветный, и солнце над ним зеленоватое, и воздух дрожит от жара, как над огромным гречишным полем. Океан сегодня дышит ровно и глубоко, то приподнимая, то опуская наше торговое судно Черноморского морского пароходства. Мы идем на Кубу, и с нами наша «Астра» — первая советская радиолокационная станция для гражданского флота, сработанная на родном заводе «Свобода», и которую теперь будут поставлять на все без исключения большие суда, — я стою рядом с «Астрой», а вокруг во все стороны открытый океан, нигде ни берега, ни кораблей, только огромная морская ширь, гладь и простор. Мы идем на Кубу, и с нами океан, и с нами наша «Астра», и с нами сорок офицеров, которых я учу на ней работать. Всем офицерам «Астра» очень нравится. Она как будто создана для сложных навигационных условий, когда надо, например, при шести-семи баллах вывести корабль из порта, лавируя между другими судами и держась в узком судоходном канале. o:p/
Океан сегодня розоватый, как цветущее гречишное поле, как в детстве, когда я не знал еще никакого моря, а знал только поле, в котором ходили-шагали и были хозяевами не суда, а трактора. Океан розоватый и светящийся, и до самого горизонта — никого, но круглый экран моей «Астры» показывает, что все-таки кто-то есть. Таких РЛС, как «Астра», раньше не было, и когда я ходил на старших курсах в кругосветку, мне приходилось непросто. o:p/
Мы идем на Кубу, мы приближаемся к Кубе, мы мирное торговое судно, на этот раз действительно так; мы не прикрываем никакой подводной лодки, никто не идет в нашей тени. Но американцы не дремлют, и вот круглый экран моей «Астры» показывает, а затем я и сам вижу: летит. Он летит на низком, бреющем полете, и мне очень хочется сказать ему каким-нибудь способом «привет», но я не могу придумать, как это сделать. И вдруг я понимаю, каким способом я должен это сделать. o:p/
Таких РЛС, как «Астра», раньше не было. Таких, как наша «Астра», пока больше нет. Потому что наша «Астра» — двухдиапазонная. Есть диапазон 3,5 см, традиционный для больших торговых судов. И есть диапазон 10 см, более мощный, дальний. Обычно его используют подводные лодки. Океан розоватый, блестящий, солнце высоко, янки облетает наш корабль, он не находит ничего подозрительного, он летит дальше, и я переключаю «Астру» с трехсантиметрового диапазона на другой. На 10 см. o:p/
А наш главный конструктор W, главный конструктор «Астры», он тоже с нами, здесь, на корабле. И он стоит того, чтобы о нем рассказать! Он настоящий мореман, морской волк — главный конструктор «Астры»! Он в войну был помощником капитана — плавал на корабле «Liberty» — это были, знаете, такие корабли, на которых возили еду и вооружение по ленд-лизу, немцы их топили сотнями, это у них спорт был такой, топить «Liberty», в общем, это был жуткий риск, а когда война кончилась, W уволили из армии за это дело, и тогда он напрочь завязал, но в армию не вернулся, а выучился на инженера, и тогда ему было за тридцать, а сейчас ему пятьдесят, но мы с ним, несмотря на разницу в возрасте, дружим крепко, потому именно меня он и взял за границу, больше никого со «Свободы» за границу не выпускают, мы ведь секретные, и только наша «Астра» не секретная, а гражданская, вот, пожалуйста, янки, смотри, какая она у нас, смотри и слушай на здоровье! Похоже, ты слегка свихнулся, янки, ты в шестой раз облетаешь наше судно, и я (с помощью «Астры») могу прочитать твои мысли: там ведь есть подводная лодка... но ее нет!.. но она есть!.. но ее нет!.. o:p/
И тогда я снова переключаю диапазон на 3,5. o:p/
Наш W, он всегда ходит в капитанской фуражке. Он курит сигары, которые закупает в рейдах. А еще он пишет книжки. Исторические, научные, технические — всякие. Наш W может все. Когда мы стояли в порту, в Германии, а тут буря, и никто не может корабль в море вывести в такую погоду. И тут капитан одного немецкого корабля приходит к нам на корабль и говорит: мы слышали, что на вашем судне находится главный конструктор РЛС «Астра», это так? Это так, говорим мы. И они стали просить и умолять нашего W, чтобы он сам вывел корабль в море. И W сначала не соглашался, а потом действительно вывел, и это был единственный корабль, который в тот день вышел в море... o:p/
Янки успокоился и собрался улетать, и тут я снова переключаюсь. Десять сантиметров! Летит обратно! На этот раз так низко, что мне видно его самого. А ему видно нас. Во всех подробностях. Видно рыбу, которая свободно вялится на нашей палубе под золотым солнцем: мы ее ловим, развешиваем, сушим и в трюме коптим. Видно меня, мою рубашку, сандалии, видно «Астру». И тогда я показываю ему на нашу РЛС, смеюсь и машу рукой. Янки вскипает. На следующем заходе он разъяренно грозит мне кулаком и хохочет! И я смеюсь и тоже поднимаю кулак! Мы хохочем и грозим друг другу! Да, он понял, понял, в чем тут дело, тысяча чертей! И мы хохочем и грозим, и океан сияет под нами, розовый, как цветущее гречишное поле, и небо светится. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
12. ЧЕТЫРЕ «МИМОЗЫ» К 7 НОЯБРЯ o:p/
o:p /o:p
Я в работе бешеный. Со мной и сейчас людям непросто. Что же было тогда, когда я был молодой и у меня глаз горел. o:p/
Идет «Мимоза». Это двенадцать вот таких полных шкафов колеса и провода. Это шестнадцать ракет из подводного положения на семь тысяч километров, каждая поражает четыре цели. По тем временам. o:p/
Был тогда я слесарь-сборщик, начальник участка. Карьеру, как принято выражаться, я не начинал. Просто пришел на завод и работал. Тогда о карьере я ничего не знал. o:p/
Далеко не сразу я начал все делать как надо. Сначала ничего не получалось. Думал, брошу все к чертовой матери... Даже хотел наняться техником в Антарктиду. Но меня директор N отговорил. Не могу сказать, что он ругался, но по лицу было видно. Тогда у меня возникло желание исправиться. o:p/
Так я остался на «Свободе». Меня начали постепенно, аккуратно повышать. Раз в четыре года я получал новое звание. Мастер, потом начальник участка. o:p/
Идет «Мимоза». С начала апреля по конец сентября сделано три комплекта. Работают все цеха в три смены. В отпуск никто не ходит. o:p/
Наступает конец сентября. Тогда вызывает меня начальник цеха B... Легендарный был человек. Как и я. Живой, восприимчивый, взрывной. o:p/
И вот вызывает меня B и говорит: знаешь, F, тут такое дело, нужно собрать к седьмому ноября еще четыре «Мимозы». Я говорю: надо — сделаем. o:p/
Я ничего не знал. Почему, зачем такая потребность. Я свои железки. o:p/
Начали делать. Главное, со всеми договориться, чтобы все работали. Я со всеми договорился. Все согласились. Пошли жарить. Жарим двое суток, трое. На четвертую ночь только разошлись по домам. Утром снова за дело. o:p/
На восьмой день такой работы приходит B, смотрит, что, сколько сделано. Смотрит, видит — мало: а говорил, сделаем. Ну я возражаю: сделаем. А B, он всегда знал, кто на что способен, и не церемонился. И я увидел, что он во мне усомнился. И разволновался я, конечно. o:p/
После работы опять бегу к метро, чтобы на последний поезд не опоздать. Еле успел. А жил тогда я на Просвещения, туда метро не шло, троллейбусом от Финляндского вокзала и там еще пешком. o:p/
Полпути на троллейбусе проехали, я последний пассажир. Рядом с Пискаревским кладбищем троллейбус останавливается. Все, водитель говорит, вылезай, вон здесь развернуться можно, я до кольца дальнего не поеду. Я: а как же? Он: а как хошь. o:p/
Четверть второго утра. А мне назавтра на завод. И до дома еще километров семь. Погода октябрь, холодно, ветер, дождь со снегом. Что делать? Пошел напрямик через кладбище. o:p/
Иду и вдруг чувствую, что дальше не могу. Падаю с ног, и все. Хорошо, лавочка рядом была. Я в брезентовой куртке такой был. Лег, капюшон натянул на глаза, все. Мысли, что замерзну, не было. Лег и отрубился. o:p/
И мне приснился поразительный сон. Таких больше никогда не снилось. o:p/
Приснилось мне, что я плаваю в толще океана. А рядом со мной по углам огромного как бы квадрата плавают четыре подводные лодки. В виде матрешек. Две наши и две американские. Зависли в толще воды и ждут. А в серединке этого квадрата плаваю я. Пить охота страшно. Но я рта открыть не могу. И напиться в океане мне нечем. o:p/
А дышать могу как будто бы. o:p/
А эти четыре матрешки, они разные. Одна большая и толстая, приземистая. Другая высокая и тоненькая. Третья вообще маленькая. Четвертая средняя. У одной еще такой, вроде венца на голове с фонарями, этот венец крутится и посылает световые сигналы. o:p/
И эти матрешки в эфире, в радиоэфире, между собой переговариваются. А я в толще океана нахожусь и их слышу. И вдруг я начинаю понимать, что они говорят обо мне. «Этот, — говорят, — бессмысленный товарищ — он за кого?» Смысл такой, что я должен чью-то сторону занять. Нашу или Америки. Причем быстро. Принять какое-то решение. Не то из-за меня начнется сию же минуту Третья мировая война. И я буду во всем виноват. o:p/
А мне, понимаете, очень трудно принять решение. У меня под руками и ногами вода, как слои, я не знаю, пластмассы. Прогибается вода, и во рту все сохнет дико, мне страшно хочется рот открыть и напиться воды, но я не могу, мне нельзя. o:p/
И тогда я из последних сил по воде ну давай руками, ногами. И вдруг проваливаюсь вниз. Я слышал, что такое бывает в толще океана: тяжелая вода и легкая, разные слои. И я попал в тяжелую воду и ухнул камнем прямо ко дну. Матрешки остаются наверху. Вокруг все темнее. И пить хочется ужас как. И почему-то мне все жарче и жарче, и я чувствую, что горю. И понимаю: все, это Земля наша плавится, потому что я не успел ни на чью сторону встать и началась Третья мировая, полетели ракеты, бомбы. o:p/
Тут я проснулся, вскочил со скамейки, хватаю воздух ртом. Оказалось, пока я спал, снег посильнее пошел и всего меня засыпал. Не проснулся бы — превратился бы в эскимо. А проспал-то всего два часа. Но спать не хочется. o:p/
Пошел обратно на проспект. Троллейбуса дожидался час. И — на завод, в цех. o:p/
И вот странное дело, с тех пор спать не хотелось вообще. Весь месяц. Вообще перестал домой уходить. Жене только звонил, как дела там. Спал каждую третью ночь, и то по два-три часа. А не хотелось. Подремлю час-другой в цеху, и как новая копейка. Такой был трудовой подъем, понимаете. o:p/
Так работал, работал, и к седьмому ноября собрал четыре «Мимозы». Четыре! Это сумасшедшая работа! Я не знаю, как я это сделал! o:p/
Спустя полгода, в мае, наш начальник цеха B справлял пятидесятилетие на Площади Восстания, в гостинице «Москва». Пригласили директора N. Сидит во главе стола B, жена его Шура, N со своей женой. o:p/
Нам всем расписали тосты. Ну и я выхожу где-то тридцатый по списку. Особа, не приближенная к императору. Пока до меня очередь дошла... Как ни старайся пить по чуть-чуть, но тридцатый тост, сами понимаете... o:p/
В общем, я вышел на трибуну, сказал что-то, сам не помню что, и ушел. А мне потом рассказали. Директор N толкнул под бок нашего начальника цеха B и спрашивает: а это кто такой вообще? o:p/
А B ему, оказывается, отвечает: а, этот? Это F, который собрал четыре «Мимозы» за тридцать дней. o:p/
Вот такие вещи добавляют в кровь перцу! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
13. ПОДШИПНИКИ o:p/
o:p /o:p
Знаете, главное в жизни — это уметь ее украсить. Ведь любимой работы не бывает. Пока ты сам ее не полюбишь. Вот я в детстве не любила мыть пол. И я всегда что-нибудь придумывала. А у нас, знаете, был такой пол, в синей краске облупившейся. И когда его только что вымоешь, он мокрый становился яркий-яркий. А облупленные места походили на какие-то облака или что-то такое. И можно было себе представлять какие-то облачные горы, долины. Ты моешь пол и представляешь себе, что протираешь небо. Ну, такую тебе работу дали — протирать небо! И я так увлекалась, что иногда мне потом было удивительно, что на дворе-то пасмурно, как же так, ведь я-то все протерла! o:p/
Или вот еще говорят, что в те времена, во времена нашей молодости, все были одинаковые, и всех старались сделать одинаковыми. Так это говорят люди, которые хотят на других свалить всю ответственность за свою жизнь. Вот возьмем, к примеру, меня. (Я очень люблю ставить в пример себя, так что потерпите.) Вот я, когда училась в школе, мы все в те времена ходили в форме. До самого десятого класса. Черный передник, черные или коричневые банты, белые воротнички и манжеты. Так я всегда старалась, чтобы у меня эти манжеты были другие, не такие, как у всех. Я сама себе сшила кружевной воротничок и манжеты по выкройке, вышила все это белой гладью (называется — ришелье!) и готова была каждый день все это гладить! И потом я научилась хорошо шить и всю жизнь сама себе шила наряды. А свадебное платье я знаете из чего сшила? Из парашютного шелка! Мы с K тогда жили рядом с аэродромом, где тренировались ну всякие там эти, и был парашютный шелк удивительного зеленого оттенка. Я убилась его шить! Это знаете где? Рядом с Можайским, Тайцы там, все такое... Там было управление ПВО всего-всего Северо-Западного региона, от Мурманска до Калининграда. И K туда ставил оборудование с нашего завода, а мне приходилось все равно ездить в город на завод, каждый день полтора часа туда и полтора часа обратно. У нас домичек там, сейчас-то ну просто как дача, а тогда мы жили там, печку свою топили, что такое эти коммуналки, мы и не знали! Представляете — своя фазенда, совершенно самостоятельная, это в советские времена. Я не понимаю все эти садоводства, где видно, кто из соседей сколько раз в туалет сходил... Конечно, приходилось и печку топить, и ребенка каждый день в школу и из школы, и тогда же еще очереди, ничего вообще не было... Конечно, в чем-то было очень тяжело, сейчас как подумаешь и вздрогнешь. Но, знаете, ведь любую жизнь можно представить как несчастную. Если постараться, мою жизнь можно знаете как рассказать?! Я прямо сама разрыдаюсь, и вы разрыдаетесь. Но зачем мне это, спрашивается? Зачем драматизировать и подчеркивать все плохое, если можно радостно подчеркнуть все хорошее, а плохое забыть и жить счастливо. Вот я даже сейчас... Вот мне говорят, сейчас же врачи люди прямые, они честно говорят: шесть процентов, срок дожития — два с половиной года. Они вообще не церемонятся. У нас тут, говорят, таких как вы — целое кладбище. И я это все как бы понимаю, да... Но не могу себя заставить подумать о смерти. Бывает, специально пытаюсь — а не получается. Вижу пятно какое-то желтое, вот и все. Ну и значит, и не надо мне ее видеть. Я вообще-то осознаю и понимаю, что платить надо за все. Жизнь была очень счастливая, работа любимая. o:p/
Работа была очень любимая. Шеф, он же такой, все жилы вытянет! Я имею в виду A. Его все в ОКБ звали Шеф. И потом, нам было интересно, мы весело работали. Придешь домой, суп варишь, а в голове мысль: как лучше сделать. Ложишься спать, а под подушку кладешь блокнот с ручкой. Засыпаешь, а тут приходит идея. Выхватываешь блокнот, записываешь — и спокойно спишь. Утром приходишь, рассказываешь ребятам, и точно в этом что-то есть. Обсуждаем и начинаем работать. o:p/
Вообще очень трудно оценить, какой вклад человека в работу, когда работаешь в коллективе. Иной раз, действительно, вроде и идея тебе пришла... А пришла бы она тебе, если бы тебя не окружали такие-то и такие-то люди? Кто-то бросил словечко... Кто-то его развил, раскрыл... Кто-то не поленился и расписал все по порядку... Еще кто-то — до ума довел окончательно... Кто из них, спрашивается? Ну вот кто? Я — коллективист поэтому. Я не верю в то, что можно, одному сидя... Все в обсуждении рождается или после обсуждения, в общем — в среде. И у нас, наш ОКБ, это была такая питательная среда... Живая, как бульон первичный. Как тесто. Атмосфера на заводе и в ОКБ была очень хорошая. Она там, как бы, понимаете, законсервировалась с тех времен, когда еще не врали. Вот я четко запомнила этот переход, когда началось вранье. Когда я была маленькая, когда я училась в школе, лжи еще не было. Вернее, она, может быть, и была, но не на нашем уровне, не на том, где были мы. Она была где-то отдельно, сверху, но все не пронизывала, простую жизнь она не прослаивала. И я думаю, это знаете почему? Потому что был очень большой потенциал после войны. Страна выиграла войну, и это было такое счастье, такая правда, что ее хватило на пару десятков лет. И это было действительно по-настоящему счастливое время. Когда все искренне работали, искренне учились и учили, верили в какое-то счастье, да это не было связано с коммунизмом ни с каким, это было какое-то... Простор, пространство... И вот еще, когда в космос полетели. Мы же все жили в космосе! Даже если вшестером в общаге, в одной комнате, но мы все жили в космосе! Во Вселенной! Какой там железный занавес?! Космос — это отсутствие хаоса, это ясность и порядок, и одновременно — это бесконечность, и вот мы в этой бесконечности жили... Ну, в семидесятых, конечно, уже началась ложь, и это было четко видно и заметно... Но не у нас на заводе! Не в ОКБ! У нас оставался какой-то островок, что лжи не было совсем. Я не знаю, почему. Может, дело в людях. Наверняка дело в людях. o:p/
У нас же еще такая веселая была ужасно жизнь очень. Все время какие-то праздники, праздники. Это был наш второй дом. Все дни рождения справляли. А я делала домашнее вино, помногу, из знаете чего, из смородины и крыжовника. Алкоголь на заводе под запретом был, через проходную так-то не пронесешь, а нальешь вина в трехлитровую банку — на вид оно как сок, и все довольны. Приходишь в ОКБ: ребята, идите сок пить! Тот самый? — Тот самый. А когда ничего не было, мы однажды... В общем, завод делал подшипники для велосипедов, и одна партия оказалась бракованная. Я сшила себе платье, а на него для красоты нашила эти подшипники. И вот, представляете, я иду по улице... И на меня все мужчины оборачиваются! Мне даже сначала лестно стало, а потом уже я поняла, ведь это дефицитный товар, и у них в голове одна мысль: где эта дура их столько взяла?! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
14. ЗА КАДРОМ o:p/
o:p /o:p
Камера фиксирует исторический момент: подписание акта о передаче завода «Свобода» новому руководителю. За окнами солнечный день. Маленький кабинет набит народом. На импровизированной сцене — журнальный столик и два кресла. В кресле слева директор N. Усаживается поудобнее, берет ручку, склоняется над бумагой и ставит свою последнюю подпись. Все! Бывший директор завода отныне почетный пенсионер. Что ему полагается? Деньги? Да. Путешествия? Отчасти. Машина и санаторий? Сколько угодно. o:p/
Директор N улыбается. В первом ряду сидит, пузом вперед, начальник 19-го цеха B. Он думает: «Как же мне х..во». o:p/
Рядом с начальником 19-го цеха B сидит начальник инструментального цеха и думает: «Рядом со мной сидит B. Вот кого надо было сделать директором. B — крупная личность. А этот V какой-то мелкий. Интересно, сколько в нем килограммов веса. Если посадить на качели с одной стороны N, а с другой пять штук V, то N все равно перетянет». o:p/
Ряды сидят тихо, твердо. А кажется в этой тишине, что прямо на глазах должно что-то произойти. И происходит. Только не на глазах. Даже представить себе трудно, что N перестает быть директором, что заводом будет управлять теперь совсем другой человек. Это просто невозможно себе представить. И хотя N сам выбрал V себе в преемники, и хотя V много лет был директором огромного завода, который сам построил вместе с кварталами для рабочих и очистными сооружениями, — все равно невозможно. И инженер H, который всю жизнь проработал с N, думает: «А как же...» — и думает про все сугубо секретные замыслы, которыми с ним одним делился N: как же они теперь. Неужели ими придется делиться с V? Это невозможно. Я никогда не привыкну, думает H и, думая так, постепенно привыкает. o:p/
Между тем V, проговорив семь трескучих фраз, хватает тоже ручку и быстро ставит подпись — беглую и загнутую вверх. Аплодисменты. Теперь V — директор. Живая живулечка, неприязненно думает директор гальванического цеха. Мы ему покажем. Он, наверное, не знает, куда пришел. Интеллигент. Меня тошнит, думает B. Это означает: меня тошнит. o:p/
Но когда-то это должно было случиться, потому что... Ну, уже просто выше человеческих сил столько работать, ведь это какая жизнь-то была. Война, блокада. В войну N, молодой, еще тридцати не было, уже директором завода работал, который радиостанции выпускал для партизан. При Сталине. Потом отсидка. Потом «Свободу» поднял. Ну, уже в какой-то момент здоровье совсем стало сдавать. o:p/
И тогда они с H, тогдашним главным инженером, пошли потихоньку к V и стали его просить, чтобы V взял бразды правления. А V, он, несмотря на свою легкомысленную внешность, человек тоже весомый: много лет был директором огромного завода, причем построил новое предприятие, с нуля, в Вятке, и не только завод, но и кварталы для рабочих, и очистные сооружения. Вот он напротив N в кресле, и никому еще неизвестно, что он будет делать сначала, а что потом. А он, V, будет делать неожиданные вещи. Вот возьмем для примера... Очень характерная история с объединением цехов. V вновь объединит цеха № 17 и № 19. Когда N их разделил, это был вопрос технологии: работа в регулировочном цеху требовала более высокой квалификации. А V их объединит снова. И для чего? И для того, чтобы прекратились вечные ссоры, распри и междоусобицы: «Мы в монтажном цеху делаем всю работу, а этим регулировщикам достается вся честь, они ёбелые воротнички”, а мы за них тут отдуваемся». И вот V снова эти цеха объединит, потому что выросла роль человеческого фактора, роль удобства управления, менеджмента, понадобилась единая цепочка, в которой уже не само собой все разумеется, а четко фиксировано, кто за что отвечает, и без обид, без перекладывания друг на друга. Могло бы такое прийти в голову N? Может быть. А в голову B? Пфф! Вот именно. o:p/
И все хлопают. Сейчас вот этот худой вышел и с улыбкой что-то говорит, вот как раз T, главный конструктор ряда изделий в ОКБ. Вот снова зал. Выражения на лицах — сложные. Почему не B? Ну почему не B, мы уже выяснили, хотя Бог его знает... Многим не нравится, что времена меняются, но никуда от этого не денешься. При N, тогда гонка вооружений вовсю шла, об этом не думали вообще, даже не ставили так вопрос. А когда спала гонка, вот тут-то и выяснилось, что надо и стиль управления менять теперь, и культуру производства как-то налаживать, потому что работник уже не просто деталь, а он человек, и его теперь надо мотивировать к труду, как-то иначе, по-разному, и вообще надо оторвать глаза от станка и посмотреть вокруг, что вообще происходит... И N понимает, что V, с его открытостью, гибкостью, живостью, даже некоторым авантюризмом, — он лучше подходит на роль такого руководителя... o:p/
N протирает очки. Тяжело откинулся назад. Все-таки какое-то смущение есть, неловкость, или просто так кажется со стороны, мы-зрители вкладываем этот смысл в ситуацию. N еще, похоже, не осознал. Это же тоже надо было решиться. Отдать завод, который фактически сделал. Ну, мы на самом деле не знаем, может быть, все и не так было мирно, как здесь показано. А тут они очень дружелюбно друг с другом лобызаются. Так ведь с V невозможно по-другому. Он на тебя смотрит и тебя отзеркаливает, отражает, обаяет. Кажется, что наедине с собой V просто перестает существовать за ненадобностью. Многие так и не смогут полюбить его из-за этого. Им будет казаться, что сущность V — показуха — несовместима с искренностью и глубиной. N ведь знал по именам многих рабочих, он всегда низом пройдет. V рабочих, безусловно, по именам знать не будет; да и вообще руководить будет главным образом из кабинета... o:p/
Смотрите, смотрите, все хлопают, а вон сидит человек и не хлопает, вот он облокотился и смотрит с большим вниманием: что же это делается, граждане, куда мы катимся, кому мы завод отдаем, что за прыткий товарищ, да он если на стул нашего N взгромоздится, он же ногами до пола не достанет. o:p/
Но он достанет. o:p/
Вот лобызаются. Причем V приходится тянуться, а N с трудом нагибается. И теперь они долго жмут друг другу руки, и V, чувствуется, не может так долго и сильно жать, как N, и поэтому V начинает улыбаться, прямо-таки вспыхивает на его лице улыбка, и когда люди из зала видят его улыбку, то у них на лицах меняются выражения, из сложных они превращаются в еще более сложные, и кое-кто меняет позу, а тот, который не хлопал, он весь подается вперед, облокотившись, а ладонью подпирает подбородок, так что за этой широкой лапой не виден его рот, а видны теперь только темные блестящие глаза. И это последний кадр. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
15. ИСПЫТАНИЯ o:p/
o:p /o:p
На стене висит ковер, вышитый крестом, вернее, крестами, то есть крестиками: внизу километры воды, глубокое дно, наверху серое небо и сопки. Вот желтый крестик, это в своей утепленной куртке, которую сшила ему жена, идет по сопкам товарищ D, одессит, идет, выдыхая огонь, в желтой куртке с фиолетовыми карманами. Он идет по дороге, петляющей между сопок, и на него из-за сопок смотрят неизвестные ему зверьки. Дует сильнейший ветер, он дует уже третью неделю, и потому от всего снега, что был в сопках, осталась только дорога — она утоптанная, и снег на ней держится лучше. Зимой, когда наметало сугробы, дорога эта казалась траншеей среди глубочайших барханов, а теперь барханы растаяли, их сдуло ветром, а дорога стала китайской стеной, мостиком, и вот D балансирует на этом скользком мостике, согнувшись в три погибели в своей желтой куртке, которая парусит. И D выдыхает огонь солнечного чесночного супа, и водки, и аспирина, и кашляет как доходяга, а делать нечего. (Мы удаляемся, и снова видим: серое на сером, косточка подводной лодки внутри.) o:p/
Испытания подводной лодки и всех приборов на ней длится двенадцать дней. Происходит глубоководное погружение на триста метров. Набивается полна коробочка инженеров и вояк. Все сидят по лавкам в душном и тесном помещении: много еды и тусклый свет. Сидят в полной тишине и слушают, как бы где не протекло. Лодка ведь под давлением, и если где-то протечка, все будет слышно. Все сидят, и каждый, в меру живости воображения, представляет себе океанский молот, тиски, кулак, в котором лодка стиснута, как яйцо, скорлупка, огурец. Лишь немногие верят полностью, целиком отдавшись на волю судьбы. Таков наш D. Он безмятежен, даже немного весел, но не тем ненормальным весельем, которое обычно отличает людей лихорадочных и не спавших ночь, а естественно-круглым и спокойным. И он кашляет. Перед испытаниями происходит следующее (мы снова приближаемся): всех заставляют попарно лезть в ледяной бассейн с ржавой и мутной водой. Разумеется, в водолазном костюме. Метра на четыре погружают, походишь на веревке — вытащат. Жив? Жив. Однажды D перепутался с инженером G с «Водтрансприбора». Вода, конечно, мутная, ничего не видать, на ощупь ходили там два крупных инженера. Походили кругами, да и запутались. Мороки было вытаскивать. o:p/
Пять километров среди сопок, в сопках дорога, серое небо, рядом море. D заходится кашлем. Ух, взопрел! Круглый D вынимает из недр пуховика флягу. От дома до причала пять километров. Романтика. Двести человек на одной лодке: каждый прибор обслуживает своя команда инженеров и регулировщиков. Одессит D напарником к Вите P, известному миллионеру северных широт. Всем известно, что на испытаниях заработать можно, но настырный Витька возвел дело в принцип. Он решил показать, что советский рабочий действительно может честным трудом купить три трехкомнатные квартиры в Ленинграде. Конечно, D тоже не дремлет. o:p/
Вот показывается вдалеке причал. Одессит D поднимается духом. Дошел! Не сдуло! Завтра в поход, а по объекту шныряют везде, что-то чинят, перепаивают. Нормальная ситуация (злорадствует D). Некоторые сутками не вылезают. Но у нас-то все готово. Витька P тащит за руку: шухер, D, у нас ничего не работает. То есть? Почему? То есть вообще не включается... D бросает в пот. Он чешет под кудрями и расстегивает желтую куртку. Остатки чесночного супа улетучились. Погоди, сейчас я развинчу. o:p/
И он развинчивает. И заглядывает внутрь. И раздвигает прибору кишки. И светит туда фонариком. И ищет. И не находит. Потому что можно искать иногда хоть всем регулировочным цехом и ни хрена не понять. D сатанеет. Идет восьмой час, и начинает темнеть. В поход уже завтра. Витька ходит кругами. Они ищут вместе. Мать вашу! — кричит D. — Я понял! Кривая крышка! О, олухи!.. Как они покрасили крышку?! Недаром говорят, что в нашем деле мелочей не бывает. Стесать краску?.. Но тогда герметичность будет нарушена. Что же делать? И тогда D находит железную плашку, обматывает ее изолентой в три слоя и кладет под крышку, чтобы контакты сошлись. Включаем... (Барабанная дробь.) Есть контакт! D разражается залпом оглушительного кашля, Витька озирается. Если обнаружат вояки — могут и под суд. Сдавали-то прибор без плашки на изоленте. Но кто, кроме них, туда полезет? Даже если прибор сломается, полезут именно они. Крышка завинчена наглухо. Работает! Работает! Витька P и одессит D приходят в бодрое настроение. Они поглядывают на остальных (победоносно). o:p/
Огромный ковер на стене, шерстяной ковер, вышитый крестиком. Серые волны смыкаются над маленькой косточкой подводной лодки. Двести человек внутри, вояки и инженеры, как воды в рот набрали. Тишина и мерный зловещий гул. D старается не кашлять. Он думает про плашку. Ладно. Черт с ней, с плашкой. Расслабься. Стрелять-то будем? Было тут года два назад: ракеты полетели не туда. Направились, понимаешь, в дружественный Китай. Если бы долетели, было бы совсем не смешно. К счастью, успели сбить. Инженеры сидят, и каждый думает про свою плашку, а кто-то — про медный провод или еще что-нибудь такое. Долго думают. Прошел час стрельб, но ничего не происходит. Входит офицер. На его лице выражение спокойной безнадеги. Все пытаются понять, в чем дело. Стрелять-то будем? А? Не будем. Не будем сегодня стрелять. Отбой, товарищи. В семнадцатом квадрате охотники в тайгу вышли. Охотники?! Мать их за ногу!! Нашли время!! Их что, предупредить не могли?! Идем домой. Следующая попытка через три недели. o:p/
Одессита D пробивает на хохот первым; за ним начинают хохотать и другие. Плашка! — стонет D, забыв о строгой секретности. — Изолента! Охотники!.. Ха-ха-ха!.. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
16. Первомай o:p/
o:p /o:p
Вот наша первомайская демонстрация. (Радостно встречает Первомай Страна Советов. Кумачовые знамена, транспаранты, веселые песни и звуки оркестров, необъятное море участников манифестации.) Сверху белое небо, снизу асфальт, на заднем плане просматривается здание Кировского универмага. Заводчане «Свободы» всегда вставали в хвост колоннам с Путиловского (Кировского) завода. Вот сейчас показан как раз именно этот момент: мы стоим и ждем на ветру большой толпой. Погода солнечная и ветреная, кажется, в тот день было очень холодно. Слева, у самой границы между видимым и невидимым, стоит F, ему тридцать два. И так как камера снимает не его, а стоящих рядом с ним женщин, то, между тем как камера их снимает, случайно попавший в кадр и не ведающий о том F задумчиво смотрит в сторону Нарвских ворот, где ребенком во время блокады он видел повешенных немцев. o:p/
(Советские люди вступили в очень ответственный период пятилетки. Нынешний год по существу определит, с какими результатами страна придет к ее завершению. Сообщение ЦСУ СССР об итогах выполнения плана говорит об уверенных шагах нашей индустрии, о наших новых больших успехах.) o:p/
Вот две женщины непринужденно беседуют. Полы их светлых пальто развеваются на майском ветру. Они в туфлях на шпильках. В руках у них по гвоздике. Та, что слева, красивая, с пухлыми губками на худом личике, смахивает слезу и улыбается. Слеза — тоже из-за ветра. Мельком показывают заводскую семью, крупную девочку в пушистой шапке и с маленьким красным флажком, еще один смеющийся ребенок с шаром сидит на папиной шее. То, что фильм может передать: солнце, ветер, шары, высокое небо, флажки и флаги, транспарант на грузовике («Слава КПСС»), по бокам грузовика ряды серпо-молотов, на борту — рельефные светлые буквы: «Свобода» (название завода выглядит лозунгом). То, чего фильм передать не может: запахи ленинградского завода в холодный солнечный день, запахи свежего морского ветра, асфальта и железной крошки, запахи кирпича, битума, бетона, креозота, свежей травы, земли, машинного масла, дыма. o:p/
(В праздничной колонне идут ветераны, участники Великой Отечественной войны, рядом с ними — молодое поколение рабочего класса, продолжающее дело своих отцов и матерей. Среди них — ударники коммунистического труда и передовики производства. Патриотический долг каждого советского человека — ознаменовать этот праздник новыми достижениями на трудовом фронте.) o:p/
Вот идет верхушка нашего завода. Этот бодро шагающий крупный мужчина в длиннополом пальто и шляпе — сам легендарный второй директор «Свободы», N. Справа от N — громогласный и буйный начальник сборочно-механического производства B, отличный работник, запойный пьяница. О нем постоянно ставился вопрос, но как ставился, так и снимался — как без B быть заводу? B писал покаянные объяснительные о моральном облике. После отставки N все думали, что директором сделают B, но его, конечно, не сделали. Слева от N — плановик-экономист O, тогда еще новый человек на заводе. Все трое оживленно беседуют. Они в хорошем настроении, B смеется, N разговаривает и жестикулирует, O, улыбаясь, машет камере цветком красной гвоздики. А за ними — лучшая лыжница завода, и роковая кокетка, и модные усатые юноши в темных очках, и I, «самые длинные ноги ОКБ», и очарованный пацанчик-пионер в расстегнутой драной куртке, и хохочущий начальник ремонтного цеха, обаятельный, мастер на все руки, в перчатках и с детским флажком на круглой деревянной палочке, и близняшки-зайцы-октябрята с щербатыми передними зубами, и немолодая знойная бухгалтер, и стайка малярш из цеха 13, и юная Z — специалист по гальваническим покрытиям, и U, аскетичный главный конструктор стратегически важного изделия 5T-42Р. Камера подпрыгивает. Все дома (проспект Газа, ныне Старопетергофский) густо залиты солнцем. Окна сверкают ультрафиолетовыми звездами. o:p/
(В руках над головами ликующих колонн — дети, очень много детей. Наша надежда, наше настоящее, наше будущее. Трудящиеся нашего завода продолжают славные традиции героического рабочего класса Нарвской заставы, претворяя в жизнь ленинский завет: «Мы придем к победе коммунистического труда».) o:p/
То, чего фильм передать не может: однажды на «Свободе» оказалась делегация коммунистов одной из мятежных латиноамериканских республик, и они спросили у комсомольцев: «Вот у вас зародилось революционное движение. Расскажите, а — как? Какова методика организации подполья, устройства настоящей революции?». Комсомольцы погрустнели. А вот что фильм может передать: идет военный оркестр, блещут инструменты на ярком солнце, трубач одной рукой играет, а другой держит самодельные партитуры. Крайний слева, тромбонист, косится в ноты. Справа — трубач, колоритный персонаж лет пятидесяти, крепко сбитый, в кепке, с бачками, в распахнутом пальто. А за ними — женщина в пушистой шапке и с шариком в руке, трое рабочих под руки, темные лица, кепки, улыбки, «Партия и народ едины», «Слава передовикам производства», девочка в клетчатом пальто и в платочке, пожилая пара в одинаковых темных пальто, верхушки деревьев над Волынкиной улицей. Ах да, и медные тарелки! o:p/
(В колоннах демонстрантов Кировского района идут трудящиеся нашего завода. Рядом со своими наставниками, ветеранами труда, идут молодые рабочие, которые с честью несут трудовую вахту пятилетки, показывая пример добросовестного отношения к порученному делу, выполняя задания в срок, с высоким качеством.) o:p/
Унылое впечатление навевает все-таки эта сцена, не знаю, почему. Вот я иду в толпе, весело помахивая портретом Суслова. Я сам набивался нести какой-нибудь портрет, за это нам давали десять рублей. Я иду-болтаю с симпатичной толстушкой, она хохочет, ее перманент выбивается из-под платка, цвета которого я не помню, а губы ярко накрашены и в солнечном свете кинофильма засвечены и черны. Ее звали Раиса, она была лучшим диспетчером завода, прямо-таки создана для этой должности. А потом брат ее мужа женился на иностранке и уехал в Израиль, так Раису в двадцать четыре часа перевели из диспетчеров куда-то в бухгалтерию. Несколько лет назад я узнал, что она со всей семьей уже давно живет в Америке. Но почему же такое тоскливое впечатление, ведь тоска возникает не из-за того, что это коммунистическая демонстрация, а не свободный народный праздник, и что люди на ней — в сущности, несвободные люди. Не из этого. Но и не из того получается тоска, что тогда мы были молоды, а теперь мы старики. Нет, это внутренняя тоска самого фильма, эстетическая, именно солнце, кажется, усиливает ее, потому что я ведь знаю, что, несмотря на солнце, там, на праздничных улицах, холодный май, руки мерзнут и сохнут на ветру, по улицам носит весеннюю пыль, листвы еще нет, а красных флагов, гвоздик, разноцветных шаров черно-белый фильм не может передать, он не справляется с красным цветом, особенно когда его так много. А может быть, из-за музыки, то мажорной, то минорной, но неизменно трубной, ритмичной, квадратной, похожей на наши дома, наш город, солнечный и пыльный, город сверкающих, параллельных трамвайных рельс, круглых площадей-арен, цирковых тромбонов. Да, и литавр. o:p/
(Да здравствует миролюбивая ленинская внешняя политика Советского Союза! Да здравствует великий Советский народ!) o:p/
Вот и Дворцовая площадь, ряды трибун, официальные лица под шляпами, огромный круглый герб, увитый золотыми гремучими колосьями, и веселые толпы заводчан, как из рога изобилия, льются с Невского и, замедляя шаг, сливаются с другими толпами, а гигантский Ленин на фасаде Эрмитажа, тоже в толпе своих гигантских рабочих, шагает нам всем навстречу, и улыбающиеся дети едут на папиных шеях, над их шапками, лысинами, прическами, сидя на скрипучих кожаных воротниках, щурясь на ярком солнце, размахивая флажками, и уже устало улыбаются молодцеватым матросам девчонки-комсомолки из цеха 13, а два почетных рационализатора из цеха 31 давно жаждут перейти к неофициальной части, потому, как говорится, трубы горят, да и тромбоны тоже горят, и пересохли рты, и асфальт пересох, и солнце шпарит с официальных небес, совершенно белых, круглых, выцветших и пустынных, на головы, на шапки, на круглые деревянные палочки флажков, на шары и веревочки в маленьких замерзших лапках, и вся маниакальная демонстрация, сбивая шаг, съезжает косо куда-то вбок, в угол экрана, и остается пустая площадь, залитая холодным майским солнцем, как лампой дневного света, и ждешь декабря. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
17. ТЕАТРАЛ o:p/
o:p /o:p
Да-да-да, кино — это правильно! — поддакивает директор V. Именно так. Угощайтесь! А-а! Да. Так. Правильно! Здесь у нас еще не все, так сказать, тип-топ, поэтому мы и решили вас пригласить. Нам хотят дать новый гражданский заказ. Большущий. Медицина. А для этого они хотят проинспектировать завод. Ну я и говорю: чего там инспектировать?! Снимем, понимаешь, фильм, чем им здесь ходить по заводу и мешать, между нами говоря, людям работать! А мы им снимем красиво, так что им еще захочется... Да вы угощайтесь! Нет-нет, ни за каким вы не за рулем, а еще вот это, это наш дорогой уважаемый W привез из Лондона, он у нас... Инга, входите-входите! Я не занят! Я, знаете, люблю одновременно... Я всегда доступен. Знаете, сначала вы должны непременно снять нашу новую столовую! Это было первое, что я реконструировал, когда пришел на пост директора этого замечательного... Инга, здесь слово «эффективность» не подходит, здесь надо бы «результативность», чувствуете, ххех, да?.. И как это все сразу заиграло! Теперь не подкопаться. Мы ведь не количественные показатели сейчас обещаем... Идемте! Вот смотрите! Видите? Как вы думаете, это что? Да, я вас слушаю! Нет, пошлите их в пятнадцатый, все именно там, нетронутое! Да, так вот: это кинескопы... Мы делали трубки для первых советских телевизоров, и на заводе остались лишние... Это я придумал отделать ими стены на лестничных клетках. Правда, потрясающий дизайн?! А вы видите эти лампы?! Их разработали инженеры нашего ОКБ, честь им и хвала! Думаете, это не важно? А-а! Вот рабочий, например, выходит из цеха, и что он видит? О, Пал Палыч, привет! Вот, знакомьтесь, это начальник девятого цеха, у него здесь и сын работает. Между прочим, большой друг моего предшественника, легендарного директора N. Да. Без N, я всегда говорю, что без N... А вы знаете, что «Гауди» на латыни означает «Радость»? Это мой любимый архитектор. Минуточку. Я вам уже сказал, что это я подписывать не буду, пока не ознакомлюсь с детальным планом. Кого вы хотите обмануть? Так. Вот здесь вы можете меня снять крупным планом? Как я рассказываю, а вы снимайте. Здесь нормальный свет? Если не очень, мы можем посодействовать, задействовать из павильона, у нас тут... А это наш участок прошивки печатных плат! Здравствуйте, товарищи! Первое, что я сделал, когда я пришел на завод — я все механизировал. У меня страсть к механизации. Пусть другие обожествляют тяжелый труд, а я вслух говорю, что... Мне попался на глаза участок прошивки печатных плат. Я их, глаза свои, вытаращил! Женщины сидят годами и, теряя зрение... Я пришел в ОКБ: есть среди вас сумасшедшие, кто мог бы механизировать? Один такой вышел, говорит: я могу. У американцев такого нет! Угощайтесь, это наш начальник тридцатого цеха у себя на участке выращивает. Не бойтесь, это все нормально, мы и сами растим у себя под окнами, снимать не надо, нет. Только если очень коротко. Так. Я понял. Это я уже давно понял. Нет, будет по второму варианту. Да, несмотря на ведомость. Не менял и не собираюсь менять. Вы снимайте, снимайте! Сейчас, конечно, все совершенно не так, как при N, у нас уже другие задачи. Прежде всего — это гражданская продукция. Мы не должны зацикливаться... Про меня знаете как шутят?.. «Директор наш не старый хрыч. Собой орел, повадкой Лев, характером Ильич!» Ха-а-ха-ха! Ну, я дурак, конечно... До «Свободы» я возглавлял завод в городе Нейбуш. Это Юрьевская область, уже почти Урал. Там целый город мы построили. Ну, «мы», это я уж так... Завод построили, а к нему — несколько микрорайонов, очистные сооружения, школы, больницы. А что будет, если он встанет, этот завод? Вы думали? Никто не думает! Прежде всего — окружающая среда! Это новое мышление, так у нас еще никто не мыслит! Если завод встанет, что будут делать рабочие?! Вы мне, конечно, можете говорить, что он не встанет... Но ведь когда-то и заводов не будет! Ну или почти не будет. Я читал некоторые исследования... вот вчера мы с женой... Да! Ну вы даете! Что вы рубите сплеча?! Тут лучше впритирочку!.. Нужна осторожность. Попробуйте R выдвинуть, предложите его кандидатуру. И посмотрим, что получится, какая будет у них реакция. Я считаю, это компромисс. Да-да. Ну так вот: вчера вечером мы с женой были в театре... А надо сказать, я заядлый театрал! Я даже в юности собирался стать актером. Так вот: пришли мы в театр, а тут бенефис Гамбревского. Сейчас я вам расскажу. Я учился тогда в училище... И, еще не закончив его, пошел поступать в театральное, на его курс, это было, Боже мой! Двадцать пять лет тому назад. Я пришел к нему. Он мне говорит: все отлично, мы тебя берем! А меня не отпускают в училище. Бумажку не дают. Ну хорошо, говорит Гамбревский, тогда мы тебя берем на второй курс, и они не смогут тебя не отпустить! Я прихожу на прием к декану нашего училища, мне повезло, что он мне попался... вернее, что я ему попался... Он говорит: ты сходи, парень, к ней... Была тогда такая Комаровская... Актриса, пожилая, гениальная абсолютно... Очень много с молодыми возилась... Сходи, говорит, к ней, я тебе дам телефон. И пусть она скажет. Вот если она скажет, что тебе надо быть актером, — то будь. Я пошел. Мы с ней проговорили часа два. И она мне... Не надо делать того, что не надо делать! Чините линию сначала, а не пытайтесь кустарным способом там что-то организовать. Так вот. И Комаровская мне говорит: нет, не надо тебе быть актером, ты человек настроения, актерство тебя сгубит. И вот эту историю я вчера... О, а вот поглядите — это мое любимое новшество, которое я пытаюсь ввести на заводе. Полная автоматизация управления! В соответствии с генеральной линией на пятилетку механизации и оптимизации! Вообразите: весь производственный процесс раскладывается на операции, автоматически назначаются ответственные, и у каждого из принтера вылезает бумажка, на которой — сроки выполнения операции. Все сразу схватывается. Уменьшается время пролеживания между операциями на тридцать процентов! Введу в сентябре. Снимайте, снимайте... Ну так вот: после спектакля я подхожу за кулисы к Гамбревскому... Он меня сразу узнал! Очень странно, говорит, очень, очень странно, что вы не стали актером! А я ему отвечаю: чем плохой актер, лучше хороший генеральный директор, ха, ха, ха! Вы не думаете? Только, ребята, у меня к вам очень большая просьба. Получается, что я выпендриваюсь очень сильно. Я этого обычно избегаю. Но как вам еще об этом рассказать? Я, конечно, дурак, но... Да!.. Вот именно!.. Угощайтесь!.. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
18. «ЗОЛОТОЙ ШАР» o:p/
o:p /o:p
Есть такая тема — рак... o:p/
Погодите вздрагивать. Речь пойдет о том, как завод «Свобода» боролся с раком на всей территории Советского Союза. Это правдивая история, вы можете ее погуглить, если хотите. И это будет рассказ о человеке по фамилии X — об инженере блестящем и проницательном, о человеке редкой гениальности, легкости и глубины. o:p/
С X (назовем его так, по-рентгеновски) мне посчастливилось проработать сорок лет. Пришла после института инженером и сразу попала на «Золотой шар». o:p/
Тогда его только начинали осваивать. Директор V испытывал сильнейшее и тайное желание переделать «Свободу» из оборонного завода в гражданский. Он был верующим и предвидел будущее. Думаю, V был настолько же хорошим директором, как и легендарный N, хотя их и трудно сравнивать. И вот V самостоятельно внес предложение: дайте «Свободе» заказ на аппарат для облучения раковых больных! Ведь самое главное у нас есть: мы умеем делать точные прицелы! И пусть этим займется X, еще такой молодой и столь замечательный изобретатель, с лету находящий нужные решения во всех областях. o:p/
И X занялся. Он отложил все другие разработки и с тех пор занимался только «Золотым шаром». Сам разрабатывал, испытывал, запускал в серию, а первые образцы и сам поставлял. o:p/
Тогда в СССР таких аппаратов не существовало. Были стационарные установки, в которых головка перемещается вверх-вниз. Это означает, что пациента надо привязывать, крутить. У «Золотого шара» головка могла перемещаться во всех направлениях. А значит — можно точно рассчитать дозу. И не переоблучить здоровые ткани. o:p/
Помните у Солженицына «Раковый корпус»? o:p/
Там есть эпизод: семнадцатилетней девочке делают мастэктомию. Читать об этом тяжело. Но Солженицын великий писатель, и дальше мы читаем: «...То, что ее будущий ребенок с этой грудью уже никогда не сделает...». Так автор заставляет нас отчасти поверить, хотя бы предположить, что девочка останется жива, родит, будет кормить другой грудью. o:p/
И X, а с ним и я, — мы спокойно занимались этой темой, осознавая, насколько она важна; может быть, единственно важная тема на заводе «Свобода», как нам втайне казалось. Как руководитель, X был человек легкий. Работать с ним было просто и легко. Он никогда не сюсюкал, мог съязвить, но как-то так выходило, что у него все начинали работать хорошо; может быть, он просто умел каждому дать то, что именно у этого человека выходило лучше всего. o:p/
И еще — X был чрезвычайно отзывчив. Онкологическая медицина — тема тяжелая. Как только мы стали поставлять наши аппараты, начался ажиотаж. Выстроились огромные очереди на лучевую терапию. Бюрократические барьеры, взятки... А X, он ведь знал там всех. Имел связи. И как только он слышал, что заболел кто-то из работников или из их семей, сразу помогал: устраивал на лечение, лично ездил договариваться в Песочную или на Березовую аллею. o:p/
А еще — он был остроумец и оптимист, галантный с женщинами, превосходный рассказчик, любитель анекдотов, заядлый шахматист; при случае мог расписать и пулю. А если кому-то нужен был X в обеденный перерыв — иди в курилку ОКБ, где они устраивали блиц-турниры по шахматам. И играл-то X не лучше всех, были и помощнее него умы; но с ним играть было приятно, он и выигрывал и проигрывал легко, так что собеседник-соперник получал от игры наслаждение. o:p/
И обладал шеф в придачу нестандартным, блестящим талантом инженера. Часто он задавал абсурдные вопросы, предлагал бредовые варианты, чтобы отвлечь от стереотипов, посмотреть с другой стороны. Начинается критика, а потом — раз, и решение приходит. И не было ни одного случая, чтобы мы чего-то не смогли! o:p/
Наш «Золотой шар» стал спасением для пациентов из стран Варшавского договора. Хотя поставлялся он и в капстраны тоже. Просто в СССР, Болгарии, Монголии, на Кубе он был единственным. Сейчас некоторым «Шарам» уже лет тридцать-сорок, а они все работают, людей спасают. Конечно, кобальт надо вовремя переставлять, а это не всегда делается... С кобальтом и тогда проблемы возникали... Бывало: прибор смонтирован, а кобальта нет еще. Приезжает однажды X на монтаж в Грузию, в клинику. Смотрит — в коридоре к бункеру с «Золотым шаром» пациенты сидят в очереди. У них там цыплята в корзиночках, вино... X интересуется у главврача, в чем дело: ведь кобальта еще нет! А тот снисходительно так ему: «Понимаешь, дорогой, — психотерапия!» o:p/
Анекдот анекдотом, а ведь и правда. Некоторые пациенты хотят, чтобы их облучали больше. А больше нельзя. И тогда назначается сеанс облучения без облучения. В демонстрационном режиме. Помогает ли, не знаю. Больной меньше боится — уже хорошо. o:p/
В другом южном городе тоже было. Проверяем условия эксплуатации. Смотрим, на улице за одной из стен уровень радиации зашкаливает. X говорит: мы не можем разрешить, стройте бункер. Главврач отреагировал мгновенно: «Слушай, ну хочешь, я часового поставлю, чтобы людей отгонял?!». o:p/
А традиция эта, заводчанам помогать, если кто-то заболел, она сохранилась. И когда моя мама заболела раком, ее очень быстро устроили на радиотерапию. Правда, ей даже «Золотой шар» не помог. o:p/
Может создаться ощущение, что X прожил жизнь беззаботно, с легкостью; нет, все было не совсем так. Все-таки, годами работая в этой сфере, он — особенно с годами — проникался... Не знаю, как об этом сказать... Расскажу прямо, хотя и сомневаюсь — стоит ли. o:p/
У X было много приятелей. И два близких друга. Один социолог, другой антрополог. Не знаю, где они теперь, живы ли. Они втроем с X вывели одну странную и страшную гипотезу. Причем это был не просто плод, как говорится, праздных размышлений. Научная база, доказательства. Вы об этой гипотезе сейчас нигде не услышите. X потом перестал ею заниматься, нигде не публиковал. o:p/
Я с X по работе соприкасалась очень близко, но об их гипотезе никогда не спрашивала. Лишь однажды под Новый год, это был новый 1988 год, мы его встречали у X на даче, — часов в пять утра мы сидели с ним на веранде, за окнами блестит снег, мы курим, пьем кофе, зябнем — и я набралась смелости и спросила: что у вас там была за гипотеза? И X мне очень буднично все изложил. Вот что они открыли, если сказать по-простому: человечество подобно раковому заболеванию. Человечество есть рак. Развивается по тем же законам. Борется само против себя, и в этой борьбе обречено. X приводил доказательства, я не помню их сейчас. Он мне доказал. o:p/
Я: а как же Бог? Почему-то такой вопрос задала. Я спросила: разве это главное в нас — что мы боремся против самих себя? X мне: нет. Не главное. И так он это сказал, что я поняла: неважно, что это не главное. Не противоречит это их гипотезе. Мы рубим дракону голову, а на ее месте вырастают три. И это не только резистентность рака или бактерий. Это о самом человечестве, о человеческом разуме, о цивилизации. o:p/
У X, я гораздо позже узнала, были неприятности из-за этой гипотезы. Хотя он ее и не пытался публиковать. Неудивительно. Гипотеза страшная, безнадежная. При этом вы смотрите — да? — кем был X, чем он всю жизнь занимался. Зная, в какой это все узор складывается, что над этим всем стоит, он всю жизнь делал и делал свой «Золотой шар», спасший миллионы людей. Может быть, мне не стоило рассказывать. Но без этого непонятно. А с этим все становится на свои места. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
19. РАЦУХА o:p/
o:p /o:p
У нас на заводе все — рационализаторы. Директор поощряет. Пимпочку какую придумаешь или бобышку новую — вперед. Он сам, наш директор V, рационализатор. По духу. Мы, на «Свободе», такие. От уборщицы или стажера до директора — все рацухи вносим. И не только придумываем, но и делимся. Хотите наше изобретение? Пожалуйста! Берите и внедряйте. o:p/
Ну, а я что? Тоже придумал полтора десятка бобышек-пимпочек, а потом, знаете, надоело. Мне в конце концов захотелось кардинально вопрос решить. Что у нас главное на заводе? Машины, думаете, станки? Ничего подобного. У нас самое главное люди. И вот тут-то — рационализаторы, ау! Молчок. Никто не работает по этой части. Все стремятся усовершенствовать машину. Сверла там. Фрезы новые. А человека-то как? А-а! o:p/
Вот я и решил по этой части пойти. Потому что у меня к этому делу есть и природная склонность. Я, например, двоюродного брательника уговорил курить бросить. Ничего особенного не втирал, не агитировал, легкие курильщика не демонстрировал. Ему все равно было бы пофиг. А просто я сказал: бросай! Бросай — или присоединяй к себе Камчатку. Двоюродный брат пораскинул мозгами: Камчатку труднее. И бросил курить. На пироги перешел. Ему жена печет. o:p/
Но на заводе — не так просто. Тут дело другое. Тут люди в промышленном масштабе варятся. Вот, например, начальник семнадцатого цеха F. Крепкий человек. Каждый вечер после работы дерябнуть стакан спиртяшки — это ему так, как воздух. Ничего с этого. Вы от воздуха пьянеете? Только в крайнем случае. То же и курево. Смолит вторую от первой. Так что с этого конца неверно было бы хвататься. А вот со стороны чакр — да. o:p/
Есть у меня дома такая книжка. Ну, то есть, вернее, не сказать, чтоб книжка, а так — распечатка. Вы не подумайте, книжка у того автора тоже выходила. Но лишь один раз. Ее быстро скупили, а переиздание у нас сами знаете как. Не спешат. Там многое было. Про обливание. Про босохождение. Про то, что вода все запоминает. Про китайский гриб и акулий зуб. И еще там было про облучение крови. Правда, гадательно так, автор сам оговаривался, что он не пробовал, ибо — ну где ему было попробовать? Но горячо автор был уверен, что если кровь облучить, то лучи принесут организму огромную пользу, человек станет здоровее и доживет в среднем до ста десяти, учитывая потенцию. Вот за это я и ухватился. o:p/
Я человек скромный. Тихо, не делая излишней рекламы себе и своим достижениям, внедрил я свое рацпредложение между собой и некоторыми моими товарищами по девятому слесарному цеху. Коля сказал жене, подключилась и часть бухгалтерии (три женщины из отдела затрат). И мы в отдельной комнатке стали во время обеденного перерыва облучать кровь. Прежде всего мы купили в Нарвском универсаме вскладчину большое хрустальное блюдо. Это мы сделали, чтобы все было красиво и эстетично, что также немаловажно. И кроме того, чтобы увеличить площадь облучаемой поверхности. В кувшине, например, или ковше это делать труднее. Затем мы добыли капельницы у сестры Антона A, которая работала старшей медсестрой в инфекционном отделении детской больницы на Авангардной. И принялись за дело. Мы сливали нашу кровь в блюдо, облучали ее, а затем заливали к себе обратно. Мы учитывали разницу в группах крови, никогда не смешивая кровь несовместимых групп. Впрочем, таковых у нас и не было. По счастливому стечению обстоятельств, почти все мы имели кровь второй положительной группы. Только жена Николая имела первую группу, которая, как известно, может быть перелита и другим группам тоже. o:p/
Немного о результатах. Конечно же, я вел дневник эксперимента. В первый же месяц после внедрения моей рацухи совокупная эффективность участников проекта увеличилась на 43%, даже если учитывать Гришу, который в конце месяца ушел в запой. Если же Григория элиминировать, то наша совокупная эффективность за первый месяц возросла более чем на 70%! Почти вдвое! Разумеется, мы не могли исключить влияния других факторов, в том числе — сезонности; но ведь параллельный эксперимент не поставишь, а для дальнейших исследований требовалось время. Увы, этого времени нам не дали. На сорок седьмой день после начала внедрения моего рацпредложения в нашу комнату вошел сотрудник службы безопасности предприятия и со словами «совсем ох..ли, ребята? Хотите в морг?» изъял блюдо, капельницы и облучатель. При этом он не стал дожидаться, пока мы вольем кровь обратно в наши организмы, таким образом, конфисковал вместе с оборудованием и нашу кровь, которая могла бы еще послужить. o:p/
Все мы были огорчены. Мои объяснительные не имели результата. Начальник нашего цеха Павел Павлович P при упоминании о моем рацпредложении только грубо ругался и кричал на меня, суть его нарратива сводилась к тому, что я должен испытывать положительные эмоции от пребывания на «Свободе» и вообще на свободе. Наконец я добился аудиенции у директора Льва Ильича V. Выслушав меня, директор весело расхохотался, хлопнул меня по плечу и сказал: молодец! Работай дальше! И я пошел работать. o:p/
Может быть, мое рацпредложение и вправду не было подходящим решением для предприятия, такого как наше. Я решил не зацикливаться и занялся изготовлением самодвижущихся шахмат, в которые можно играть на потолке комнаты. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
20. ФОРЕЛЬ o:p/
o:p /o:p
Танечка S, которая работала когда-то главным диспетчером, а теперь руководит профсоюзом, едет по форель с главным экономистом O. У меня столько дел, страхование лежит со вчерашнего дня, но разве нашему директору возразишь? Да, V странный. Что, это дело главного экономиста — ездить в подсобное хозяйство за рыбой? Вообще, зачем нам эта форель сдалась? Авантюра какая-то, между нами. Лучше бычков бы выращивали или пчел разводили. О, про пчел вы мне не говорите. (Пустое и прямое, как стрела, Кингисеппское шоссе.) Вы знаете, что V действительно собирается устроить пасеки? Ну, думаю, это останется в планах. Не факт. Скажут, так будем и пчел... Танечка, а вы молодец! Как это вы, а? Лечебные деньги выбили всем работникам. Я вами восхищался. Сидят генералы седовласые, и тут выходит такая, понимаете, девчонка и рубит прямо: если вы платите руководителю оклад, заплатите рядовому работнику пол-оклада! И гробовая тишина... Ой, да я сама пожалела, что так резко. Надо было мягче сказать. Нет, Танечка, не надо мягче. В самый раз. В самый раз. Просто никто не знал, как это было и чего это стоило. Я знаю. Бояться не надо. Вы еще в таком возрасте, что можно не бояться. o:p/
Да меня вообще в профсоюз насильно запихали. Вы знаете, что я филфак окончила? Да, да. Был момент, мне очень нужно было уехать из города по семейным обстоятельствам, просто отключиться от всего. И я поехала на испытания в Крым, в командировку. И в первый же день утонула. Представляете, залезли в море с подругой и поплыли. А с непривычки, три года не плавала, у меня начало руки, ноги сводить. Говорю спокойно так: Люсь, тону! Хорошо, что мы еще не успели отплыть далеко... Ничего, что я вам это все? Очень хорошо, что вы мне это все, Танечка. o:p/
Здравствуйте-здравствуйте! О, какое у нас высокое начальство сегодня в гостях! Ну что, пойдем оформлять. Иван Дмитрич, передайте огромное спасибо вашим инженерам и лично товарищу H за устройство для разбрасывания корма! А не могли бы вы придумать еще какое-нибудь отдельное устройство для отлова и погрузки? Попросите, пожалуйста! Вы, я знаю, все можете! Иван Дмитриевич. А, простите, как вас? О-о! Профсоюз! Я польщен. Вот, это вам. Спасибо, я... Как хоть форель — едят? Нет, больше меняют, честно говоря. На более дешевую рыбу. Треска — десять кило к одному, сиг три. Солят — и на зиму. А так... в рестораны продаем. Как обычно. Ну и ладушки! Ну и прекрасно! Теперь нам понадобится часика полтора, чтобы... Вы можете пока прогуляться, например, вот к речке, у нас там очень живописные холмы. А мы пока выловим и взвесим. o:p/
День очень тихий, серый, темноватый, покорный. Берег реки спускается в тихую прозрачную воду. Тут и там покоятся серые валуны. Серо-зеленая трава совсем пожухла. Удивительно здесь тихо и тепло. Не похоже, что скоро зима. А давайте костер разожжем! А чем... что подкладывать? Поле ведь. Идти хворост искать... Ну ладно, правда, не будем. o:p/
Вот вода. Над водой как будто стены вознеслись. Вы какие стихи любите, Иван Дмитриевич? Я? О, я вообще стихов не знаю. У меня отвратительная память на стихи. И очень хорошая — на цифры. Ну, это естественно. А вы, Танечка? Знаете, был такой английский поэт, Уильям Блэйк. Слышал. Вы его в оригинале, конечно, читали? Я его сама переводить пыталась. Очень сложно. Вот такое: So come home my children, the sun is gone down / And the dews of night arise / Your spring and your day are wasted in play / And your winter and night in disguise. Домой же, детки, закат, закат, / Роса выпадает поздняя. / Ваших дней весна вся в игре прошла. / Зимняя ночь надвигается грозная. Почему вы такое грустное выбрали? Встаньте-ка вон на тот камень, а то этот качается. Не бойтесь. Так. o:p/
Танечка, я давно хотел с вами куда-нибудь сходить. Или съездить. Вы удивительный человек. (Черт, черт, черт!! Что я несу?! Удивительный человек!! Еще бы сказал — «человечек»!! «Я одинок, и вы одиноки»!!. Ничего более неуместного представить себе невозможно!!) Я — удивительный? Иван Дмитриевич, я нелепый человек. Я сама не знаю до сих пор, чего от себя ждать. Я дура, Иван Дмитриевич. Ох, и я дурак. Всех критикую. Всех дразню. Ничего не могу с собой поделать. Я тоже. Вижу только отдельные недостатки. Как будто красной ручкой ошибки подчеркиваю. Надо было мне все-таки учительницей. А ведь люди, они совсем другие на самом деле. Люди совершенно другие! Это где-то в центре у каждого ведь есть? Если бы не было, Танечка, мы бы столько зла не делали. Все зло делается из-за того, что у нас в самом центре есть. Мы хотим чувствовать себя добренькими и поэтому делаем зло. Да, это правда. Я столько из-за этого плакала. Мне этот профком стольких слез стоил... Это сейчас я уже... не так чувствую себя сволочью из-за каждого пустяка... Вы плакали?! Вы же такая веселая! Солнечная! Да. Когда Константин Иванович жив был, я к нему бегала. Бывало, прибегу, поплачу... А теперь кому плачете? Теперь... Иван Дмитриевич, кто это там наверху машет руками? А, этот олух. Почему он олух? По всему. А что, уже прошло полтора часа? Вероятно, он справился раньше. Он повысил свою эффективность. Вы злитесь. Я? Нет, Танечка. Наоборот. Я рад. Не люблю ездить в темное время суток. Знаете, Танечка, почему он олух? Потому что плохо кончит. Да вы что. Вы полагаете?.. Я уверен. Он ворюга. И он кончит плохо. Когда вся эта плановая экономика... полетит... к чертям собачьим... (они задыхаются, карабкаясь, рука об руку, по склону) его первым пристрелят... Иван Дмитриевич! А-а, к черту, — он сжимает зубы, дергает Танечку за руку, так что она, испуганно охнув, торопится за ним. Вот ваша рыбочка, уважаемые. Ну, как отдохнули? Как провели время? Как вам наши места? o:p/
Зачем ты ездил, идиот, спрашивает у O директор V на следующий день. Зачем ты ездил? Идиот. Ты думаешь, я вас зачем посылал? Ты думаешь, я вас за рыбой посылал? Эх, ты! O пожимает плечами и косо, боком выходит из кабинета. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
21. «ДИСПЕТЧЕР-СЦУК» o:p/
o:p /o:p
Уважаемые товарищи диспетчера! Меня зовут Иван Арефьич C. Я инженер-координатор ОКБ завода № 85 «Свобода», выпускающего радиоэлектронные устройства. Имею честь вам представить наше совместное изобретение, придуманное и внедренное нами на нашем заводе — гражданскую систему, товарищи, «Диспетчер-СЦУК», то есть «система централизованного управления и контроля», которая позволит нам улучшить эффективность работы жилищно-коммунальных служб. Как известно, товарищи, она оставляет желать лучшего, но не потому, что наличествует чья-то злая воля, а потому, что недостаточно механизирована. Наш генеральный директор товарищ V уделяет первостепенное внимание механизации всего, в том числе и гражданского населения. Уважаемые товарищи диспетчера! Перед вами диспетчерский пульт устройства «Диспетчер-СЦУК». Вы видите слева направо индикаторы сорока домов микрорайона. На каждый дом есть лифты, товарищи. Звуковой сигнал следует, если вам хотят сообщить из застрявшего лифта. Понизу идут другие индикаторы. Вот здесь пожары. Как только в доме возникает пожар, система «Диспетчер-СЦУК» сигнализирует об этом. В вашем, допустим, микрорайоне нет газоснабжения и плиты электрические; но предусмотрен контроль также и утечек газа, они идут вот здесь, индицированные, в отличие от остальных, не красным, а синим цветом. Итак, вы сидите, и у вас замигало. Ваши действия? Да. Вы не бежите, а звоните. Либо с вами связываются по пульту. Вы берете трубку, вам говорят: «Такой-то лифт, такой-то дом». И вы комфортно вызываете бригаду. Предельно простое в эксплуатации, устройство «Диспетчер-СЦУК» позволит вам регулировать и контролировать все жилищные проблемы. Нашим устройством будут оборудованы такие районы города, как Юго-Запад, Купчино, Колпино, Петергоф, Автово, Охта, Дыбенко и прочие. Есть ли у вас вопросы, уважаемые товарищи диспетчера? Нет вопросов. Спасибо! o:p/
Уважаемые товарищи диспетчера! Меня зовут Иван Арефьич С! Я инженер-координатор завода радиоэлектронных устройств «Свобода». Наш директор V считает, что именно я, изобретатель данной системы, смогу как никто хорошо рассказать про ее достоинства и недостатки. Сегодня я уже был у ваших коллег в Купчино, и им очень понравилась наша система, они задавали множество вопросов. Вы видите перед собой диспетчерский пульт данной системы «Диспетчер-СЦУК», то есть «система централизованного управления и контроля», которая позволит нам улучшить эффективность работы жилкомслужб. Эта система доказала свою эффективность в ходе опытных испытаний... Буду краток: перед вами пульт! Этот пульт вы будете использовать в ходе своей повседневной работы, поэтому я советую его вам окончательно изучить! Вот эти огоньки, которые мигают поверху, показывают то, что лифт застрял. А который из них застрял, вы можете подписать сами. Если вы слышите звуковой сигнал, это значит, что до вас хотят дозвониться из застрявшего лифта. Однажды я сам застрял в лифте. Я знаю, как это неприятно. Хорошо еще, что я застрял с целой сумкой еды и приятной гостьей. Знаете, это было незабываемое впечатление. Что уж там... Да. Так вот: дальше идут индикаторы газа, но они смотря где будут еще работать, так что я не уверен, что они вам понадобятся. А вот здесь индикаторы, посвященные пожарам. Ха-ха-ха! Малейший запах дыма, подростки, допустим, жгут марихуану на лестнице... и все, она срабатывает! Ха-ха-ха! Простите. Допустим, вы сидите, и вот тут у вас замигало. Ваши действия? Правильно, можно не бежать! Можно просто позвонить! И вы комфортно вызываете бригаду. Нашим устройством оборудованы такие районы города, как Юго-Запад, Купчино, Колпино, Петергоф, Автово, Охта, Дыбенко и прочие. Есть ли у вас, уважаемые диспетчера, самомалейшие вопросы ко мне? Так я и думал. Спасибо! o:p/
Уважаемые товарищи диспетчера! Меня зовут Иван Арефьич C, но к чертовой бабушке, для вас просто Арефьич. Я изобрел такую штуку... Вернее, я много чего изобрел. Эта штука спасет всех. Если бы только медный кабель народ не воровал. Я очень опасаюсь, что медный кабель будет похищен. Если да, то эта хрень работать вообще не будет, так что вы следите, чтобы не унесли, народ сейчас пошел тот еще... Называется «Диспетчер-СЦУК», я и сам смеялся... Изобрел я, а называл не я. У нас есть специальное дизайнерское бюро. Наш директор — псих. А кто не псих, как говорится! Я сегодня уже к вам третьим приехал, так что звиняйте... Но хватит предисловий: вот пульт! Как видите, здесь есть огонечки, которые ласково мигают разными цветами. Этот пульт вам пока ничего не говорит, но со временем вы распознаете. Вот тут, если лифт застрял. И смотря где. И если кто-то звонит, сразу берите трубку. Вот здесь, если пожар. Это уже совсем не смешно. Тут надо сразу вызывать, даже если у кого-то оладушки сгорели. По пьянке много чего горит! Так, народ оставит окурочек какой-нибудь... У меня, думаете, душа не болит?! Я только боюсь, что эта хреновина, как всегда, работать не будет! А вам что?! Вам небось пофиг! Вы отключите и пойдете! А я вас призываю, не надо отключать! Сидите себе у себя в диспетчерской — кто вам мешает! Но поглядывайте на огоньки, поглядывайте! С вами был я! Я поехал дальше, у меня сегодня еще один район! o:p/
Господа, как выражается наш директор! Он у нас сумасшедший, но за народ радеет! Я Арефьич... Огоньки горят! Это пожары, газ, лифты застрявшие... Медный кабель непременно унесут, все разворуют, но вы не обращайте внимания, вы работайте, я вас всех очень люблю... У меня двести двадцать патентов... Я родился на засеке, это знаете что такое, это в лесу, глубоко... а теперь я делаю диспетчерский пульт для шестнадцатиэтажных домов... Сорок домов, и все вот тут, мигают огоньки, видите?! Наш завод работает на смерть, на оборонку, один только я, да еще наш любимый товарищ X, который делает приборы против рака, только мы работаем на жизнь, а что делать?! Диспетчера! Я призываю вас... Мне обещали за успешное внедрение дать «копейку»!! Я уже получил права!! Лифты застревают, дома горят, газ взрывается!! В наших силах все это предотвратить!! Выпьем, товарищи, выпьем еще и еще!.. Купчино и Охта, Обухово и Невский, Васильевский и Кронштадт, выпьем все вместе за диспетчерский пульт «Сука диспетчер»! Иван Арефьич, тебе не наливать, тебе хватит!!. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
22. ЗЕМЛЯНИКОЙ СЛАДКО-ГОРЬКОЙ o:p/
o:p /o:p
Бегу по скользкому сосновому бревнышку. Подошва у кедов белая, резиновая, рисунок следа — рельефные звездочки-снежинки. Бегу по тропке в выцветших тенях, в крошеве листьев, теней и света. Ноги по колено в росе. Передаю эстафету M, ее закидывают на руках на веревочку, за другую, повыше, она хватается, скользит по этой веревочке, перехватывается дальше и дальше. Инженер-конструктор C задумчиво надкусывает пушистый одуванчик. Солнце светит сквозь сосны, пахнет соснами и ветром, водой и земляникой, песком и смолой. o:p/
Мы в лодке. Опускаю руку в воду, за борт, прохладная вода расходится и бурлит, течет сквозь пальцы, летят брызги. Инженер-регулировщик K (то есть я) лежит на корме в темных очках, с сигаретой во рту. Берег высокий, песчаный, сосновый; и я снимаю темные очки и вижу все выцветшим, ярко-белым, горячим, и чувствую запах нагретой лодки, и девушек вижу, и осколки солнечной воды, и тугоплавкую глубину, и капли на животе — хочу купаться — я ныряю с покачнувшегося тяжелого борта, девушки визжат, я ныряю вглубь, с шумом. Рябая, прозрачная вода, озеро, налитое до неба, до ушей, до верхушек сосен, по макушку, — пресная чистая вода, с пузырьками, маслом разлитое по ней солнце. Мы на берегу, и M стоит в черничнике, в черном черничнике, в рыжих тенях от елок и сосен, рыжая M, юная M, ее апельсиновые плечи в веснушках, а губы в чернике, муравей бежит вверх по моей ноге, M вся в пятнышках теней, и вокруг ее головы светится пушистый нимб светло-рыжих легких волос. На мелком дне песок в маленьких волнах, рябых пятнах тени и света, ослепительная сверкающая вода уходит вдаль, с лодки нам машут, я чувствую, что могу проснуться, и делаю усилие, расталкиваю гулкую воду ногами, руками, остаюсь на поверхности сна. o:p/
Расположились рядом, вшестером, в почти неподвижном танце, R обмахивает ластами, K шортами, сзади (да это же я), а J лежит, в истоме запрокинув голову, подставив солнцу маленькие чашки купальника, а M рядом в ненамеренно эффектной позе надкусывает огурец, L раскинулась звездой, голова в тени, под большим листом лопуха, а посередине горячий F сидит в позе лотоса, с темной улыбкой, с полотенцем на шее и газетой на голове, газета кажется совершенно белой, букв на солнце не видно, расположились на самом солнцепеке, мокрые, вон в тени склянка темного стекла, и все в замедленном бешеном темпе, лениво, как ошпаренные, и вокруг них пространство вибрирует, подрагивает от лени, страсти, томного летнего дня. И F в газетной шапке, с темным надменным лицом, средневековым прищуром, разогретый, и M уже съела почти весь огурец, а J не шевелится, и солнце запекает ее, но оставляет сырым, белым гремучее тесто в черно-белых чашках, а K истово, замедленно машет тенистым своим опахалом, а R — ластами, которые сохнут; и воздух гремит, и солнце засвечивает, а L и J не колышутся, и не колышутся верхушки сосен, и только живая черная вода озера туго плавится, шевелится, перемещается и блестит, только рябая вода, сама похожая на свет, подрагивает, испаряясь в густую синюю высь, будильник хочет, чтобы я проснулся, но я ни за какие коврижки. o:p/
Бег в мешках, K сначала не отстает, прыгая по песчаной волейбольной площадке, а потом задевает головой за сетку, сгибается пополам, падает и катится по песку, в мешке, а Ромка вытягивает вперед руку с маленькой игрушкой, пупсиком, а девочки смеются, а K так хорошо, что больше не надо никуда прыгать, что он даже вставать не торопится, и как это некоторые хотят победить, думает он, вот я — ничего не хочу, никуда, мне так хорошо, меня так разморило, и пусть горячий F ловко упрыгал в мешке в свое никуда, к финишу, могучими толчками иссиня-черных жилистых ног, черный F, а я никуда не хочу, вот она, точка равновесия, где над сеткой в рыжих сосновых ветвях завис воланчик, куда улетел волейбольный мяч, где рыжий костер лижет солнечные камни, а над ними молодая M, и в глазах моих чернеет от света, и я не хочу никуда возвращаться, но уже просыпаюсь в мягких белых долинах, фонарь светит в комнату сквозь полупрозрачные зеленые шторы, за окном железной лопатой скребут снег, вся наша комната темна и пронзительно просвечена, я лежу на спине в белых мягких долинах, сейчас я проснусь и вернусь в свои шестьдесят семь, но пробуждение все длится. o:p/
Молодая M встряхивает пушистой головой и раскладывает зеленую карту на коленях, обтянутых тренировочными брюками. Карта рябая, бледно-зеленая, с бледными голубыми ручейками, пунктирными болотцами. Над картой переменная облачность, полкарты в тени, полкарты на солнце. Вспыхивают блики на ложках. Летний вечер от пригорка малахитом стелет тень. Земляникой сладко-горькой на губах растаял день. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
23. ДОЗИМЕТР o:p/
o:p /o:p
Вот так, говорит председатель комиссии по радиационному контролю. Думай сам. И смотрит на часы. На часах половина пятого утра. Директор завода «Свобода» вскакивает и пробегает по кабинету к окну. И смотрит взволнованно на деревья. Это ж поезда придут, говорит он задумчиво. И самолеты. И грузовики. И пароходы. Они там что, ох..ли все? Советская власть, …, … . Они совсем не думают? Председатель КРК негромко смеется. Думать, говорит он. Ду-мать. Это уже давно не про них. Ты знаешь, что через пять дней после того, как рвануло, Киев вышел на Первомайскую демонстрацию? С детьми, с беременными... В Европе уже все в бункера попрятались... А у нас только Припять эвакуировали... И теперь, конечно, то же самое, они опять не думают. Им плевать, что весь Ленинград будет жрать радиоактивные яблоки и синенькие... Спохватились! Конец августа! Учебный год на носу, приедут детишки из Крыма... Короче, так, Лев Ильич. У нас — неделя. Ты можешь что-нибудь придумать? Да что я придумаю, Вов? Что? У нас — оборонный завод. Да, да, знаем, знаем. Хоть что-нибудь. Чтобы город защитить хоть как-то. Директор V предлагает: можно попробовать дозиметр сделать. Маленький портативный дозиметр. Ходили тут разговоры как-то, после самой аварии, еще в июне. Но — я не вдохновил. Бюджет не выделили. А теперь — неделя осталась. У вас хоть разработки-то есть? Нет. С нуля. Не выйдет, Лев Ильич. Давай попробуем. Чего терять. Попробуем. Сделаем. Революция будет, Вова? Будет, Лев Ильич. И нам с тобою, как жирондистам, первым поотрубают башки. Пошли работать. o:p/
Пошли, соглашается директор V, берет телефонную трубку и звонит домой главному инженеру H. Уважаемый, говорит директор V негромко и блекло. Собирайтесь. Родина зовет. Главный инженер H ни на секунду не предается сомнениям. Что делаем? Дозиметр, отвечает V. Слава Богу, откликается H. Ты напугал меня. А что, бывает хуже? Бывает, говорит H. Ладно. Портативный дозиметр? ОКБ должно быть готово за двое суток, чтобы успеть внедрить и сделать первую партию. Всех поставь на уши. o:p/
А легко сказать — «должно быть готово». Это вам не серию фигачить. Это не то, что F когда-то четыре «Мимозы» к празднику седьмого ноября сляпал. Это придумать надо, как сделать. Новая вещь, которой в природе никогда не существовало. Ну, задумки были. В голове у H. Не более того. Но от мысли до образца — дорога. И эту дорогу нужно в два с половиной дня пройти. И — проходят. Задумка готова к утру (H собрал совещание, главная проблема — компактность и надежность). Алгоритмы намечены. Следующий день посвящен разработке чертежа. К ночи первого дня чертежники берутся за дело. К следующему утру дозиметр готов на бумаге. Сутки. o:p/
И хорошо, что сутки. Потому что опытный образец тоже делается в ОКБ. Делается, испытывается в опытном производстве — и только тогда передается заводу. И никак нельзя здесь ничего пропустить. Хоть какая сумасшедшая спешка — ничего пропустить нельзя. Опытный образец изготавливается в специальных цехах, работающих только на ОКБ. Конец рабочего дня — еще нет. Образец готов к трем часам ночи второго дня, к одиннадцати утра — испытан. Вот он, дозиметр, всем внимание. Он может измерить радиоактивный фон. Может дать вам понять, в порядке ли ваш груз. Что вы везете, жизнь или смерть. Вы поедете на бал? Да и нет не говорите, черный и белый не берите. Двое суток с лишним. Укладываемся. o:p/
Ну а дальше надо понять, как делать серию. Лучше день потерять, потом за пять минут долететь. Если не поймешь, все зря. А понять должен не кто иной, как начальник семнадцатого цеха. Ему помогают технологи. Как сделать вот эту штуку, которая уже сделана, быстро? Так, чтобы из одной за пять дней получилось сто? Нет, за четыре дня, потому что еще один день вы потратили на то, чтобы понять; и никто вас за это не винит — день, это очень мало, и то, что к полуночи вам удалось обо всем договориться, — большая победа. o:p/
И сразу же, в ту же полночь, цеха берутся за дело. Сто дозиметров за четыре дня — это очень много. Сто надежнейших приборов, способных определять уровень радиации в вагоне или в трюме; сто — только на первый случай, потому что потом надо будет больше, ведь впереди еще Москва, Нижний, а там — Новосибирск, куда еще отправят из Белоруссии, с Украины самолеты с радиоактивной пищей. Они не думают — думать наше дело, мы будем думать, и соображать, и просто работать, глаза боятся — руки делают. И руки делают. И сто дозиметров готовы в шесть с половиной дней, и к первому сентября развезены, распространены по всем постам, по всем портам, по станциям, железным дорогам. Везде. o:p/
И тогда директору V, который все это время просидел на заводе, а по преимуществу — у себя в кабинете, потому что он не умеет, как директор N, бегать по цехам, а зато хорошо и плодотворно умеет бегать по своему кабинету, — звонят из Москвы и говорят звенящим голосом: а вы можете... за неделю... еще и нам? Нам нужна партия... побольше... четыреста приборов... можете? o:p/
И тогда директор V набирает побольше воздуха в легкие, но чувствует, что мир слишком велик, что весь воздух ему не вдохнуть, не вместить в себе. И тогда он звонит по пульту: Симочка, соедини меня, пожалуйста, с главным инженером H. Ну, поскорее. Где он там прохлаждается? o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
24. КВН o:p/
o:p /o:p
Здравствуйте, уважаемые земляне, гости нашей планеты! Вы оглядываетесь в удивлении... Вы не понимаете, куда вы попали? Нет, не так: вы еще не поняли, КУДА вы попали? Так знайте: это территория завода «Свобода»... Тсс! О свободе говорить не разрешается. А что такое «свобода»? Это когда тебе говорят: все, можешь завтра на работу не приходить! Ты что, это не свобода. Свобода — это когда ТЫ говоришь: «Можешь завтра на работу не приходить!». o:p/
Ой, а это что у вас такое? Это станок. Он делает детали. Сам делает? Ну, практически сам. Он у нас компьютеризованный. А как он работает? А, не знаю. Он же не знает, как я устроен? Ну вот и я не обязан знать, как устроен он. Но у нас много общего. Ему нужно свежее масло. И мне тоже нужно свежее масло. Поэтому мы, я и мой станок, до сих пор вместе. Директор снял кино про мой рабочий день и крутит его каждый рабочий день на моем рабочем месте, а мы со станком каждый день отдыхаем и едим свежее масло. o:p/
А для чего же нужны эти детали? Тсс! Об этом говорить не разрешается. Раньше мы скрывали, что делаем приборы для подводных лодок, а теперь мы скрываем, что больше их не делаем. Скрывать мы умеем. Мы так хорошо скрываем, что потом сами забываем, где оно лежит и что это было. Вот, например, был такой прибор — назывался... Тсс! В общем, мы его собирали с закрытыми глазами. Собрали, смонтировали, нажали кнопку «Пуск» — и все! Ничего нет! Конец света, короче! Пришлось регулировщикам немножко этот прибор подкорректировать. Получилась отличная электромясорубка. o:p/
Вообще, у нас теперь конверсия. Это значит, что вместо ракет мы будем производить стиральные машины. Думаете, это не страшно? Да наша стиральная машина страшней любой бомбы! Наши бомбы не взрываются, а стиральные машины — постоянно! Хуже ядерной войны может быть только мирный атом. o:p/
Кстати! Что там громыхает так ужасно?! Ах, это! Это наш Пал Палыч P ест бутерброд с колбасой. Но почему такой грохот? Да потому, что колбаса железная. Ее тоже бывшие оборонщики производят. Мы же сказали — конверсия. o:p/
Но почему все-таки такой грохот? Да потому, что Пал Палыч тоже железный. А железным он стал потому, что его закаляет начальник производства F. Вызовет к себе в кабинет и строго дыхнет на него жидким азотом. Пал Палыч выходит — и весь день как живой. o:p/
Трудно, трудно стало работать на «Свободе». Раньше было проще. Не пришел — расстрел. Не успел — расстрел. А теперь что? Теперь конверсия. Не пришел — в мясорубку. Не успел — в мясорубку. o:p/
И только в гальваническом цеху все по-прежнему. Все как в былые времена. Те же ванны с серной кислотой. Тот же зеленый туман. И та же Вера Михайловна B. Уважаемая Вера Михайловна! Мы провели референдум по поводу вас. Вопрос был поставлен так: «Вера Михайловна: ядовитая или полезная?». Результатов референдума мы обнародовать, к сожалению, не можем, так как бумагу сразу после прочтения в секретных целях съела Маргарита Константиновна. Так как она не отравилась, мы сделали вывод, что Вера Михайловна не ядовитая, а полезная. Спасибо вам, Вера Михайловна, за ваш нелегкий труд! o:p/
Что касается нашего директора V... то тут проза бессильна. Поэтому мы сложили про него песню. Жил-был директор один, «Астру» имел и «Тюльпан». Но он планету любил, ту, где живет марсиан. Продал директор «Тюльпан», «Астру» велел прекратить, стал для простых марсиан миксеры производить. Миллион, миллион, миллион СКВ, из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, тот лавэ на раз-два превратит в планы и мечты. Утром ты встанешь со сна, может, сошел ты с ума? Корпус седьмой на дрова, слесарь и токарь — в бега. Здесь не Меркурий, а Марс, как мы теперь будем жить? Как на «Свободе» дышать, милый директор, скажи! o:p/
Но это лирика. На самом деле на «Свободе» дышится легко! А вот работается трудно. Бланки заказа слишком короткие. Если в шестнадцатый раз переносить срок изготовления детали, то места может уже не хватить. В этом случае выход прост: переверните бланк и начните жизнь с чистого листа! Главное при этом — не попасться на глаза F. Он вас этот бланк заставит принять перорально. То есть через рот. А может быть, и... Но не будем о грустном. Вообще-то F у нас добрый, просто он натура такая... полярная. Жаль, что его в свое время директор N в Антарктиду не отпустил. Там бы сейчас уже яблони цвели. А так приходится устраивать Южный полюс прямо на «Свободе». Увидев F, начальники цехов сбиваются в кучу, как императорские пингвины, и держатся за яйца. o:p/
Хорошо хоть, стараниями директора у нас на «Свободе» все оптимизировано! То есть если раньше человек работал просто плохо, то теперь он может работать хуже некуда. А если он работал хорошо, то теперь он видит, что лучше уже некуда, и прекращает работать вообще. o:p/
Но если честно, то все вышеперечисленные отдельные недостатки нам совершенно не мешают! Чем была бы наша планета без «Свободы»?! Она была бы захолустным Плутоном каким-нибудь! Без наших инженеров кто косил бы сено и убирал с полей картошку? Кто выращивал бы форель? Ну, и разное там по мелочи, вроде навигационных приборов и аппаратов для лучевой терапии... Вообще, без «Свободы» сразу становится непонятно, который час, где штаны и кто я такой. Это каждый рабочий может заметить по себе на выходных. «Свобода» как-то дисциплинирует. Хотите, уважаемые инопланетяне, остаться у нас навсегда? У нас тут почти как у вас на Земле. Какие вкусные радиоактивные яблоки растут у четвертого корпуса! А серная кислота в ваннах такая крепкая! Оставайтесь, а то совершенно некому работать! Знаете, на «Свободе» пригодится всякий, от нас даже филологи не могут оторваться. На всех языках матерятся, но не уходят. Да и куда можно уйти со «Свободы»? В несвободу? Глупо же, согласитесь! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
25. ТУРБА-УРБА o:p/
o:p /o:p
Ходжа Z и Данила L, активисты и приятели, идут по родному цеху ТНП в конце рабочего дня. День рабочий длится сегодня двенадцать часов. Аврал. Ходжа Z и Данила L видят красивых девушек и молодых людей. Скоро все накроется, говорит Данила L. Ходжа Z мрачно кивает. Только их цех ТНП может спасти «Свободу». Ведь рыночная экономика не может производить одни пушки (Ходжа Z по вечерам поспешно хватает высшее экономическое образование). Ей нужно также и масло, такое как: радиоприемники, электромясорубки, спецустройства для прочистки канализации (изобретение родного ОКБ), блокнотосшиватели, игрушки «Лук-самострел» для дошкольного возраста, калейдоскопы, фонендоскопы, береговые и судовые РЛС и, конечно же, «Золотой шар», убивающий раковые клетки. Только мы можем что-то сделать, — Данила L замечает наметанным глазом проскочившую в дверном проеме профсоюзную кружевницу тетю Таню S, филолога и распределителя, с чем-то желто-пестрым на руках. Идем-ка посмотрим. o:p/
Кабинет парторга тети Пани Сикоед распахнут, за окном февральская слякоть, безбрежное и доброжелательное ненастье, с каплями на ветвях, уютными фонарями, снегом, доведенным до ртутного кипения, до спиртового возгорания; парторг Сикоед отсутствует (заседает), а на ее столе, как воздушный торт, пенятся гроздья дамского белья. Огромные натитники шестого размера, бюстгалтеры поменьше, карамельные и шафрановые трусики, и бежевые комбинации, и белоснежные, и даже черные. А когда будут мужские ботинки, слышат приятели из соседней комнаты, когда, когда, когда?! В прошлый раз распределяли, мне не досталось, а я одинокая мать, мне должны дать мужские ботинки в первую очередь, должны, должны, должны! Надо девочкам сказать, говорит Z. Да, надо сказать, говорит L. Трудно оторваться от этого абсурдного изобилия, от этой наваливающейся картины: ворох сверхчувственных материй на столе парторга, под красным знаменем. Ну, тетя Паня ей задаст, когда увидит. Ничего, она филолог, отбрехается. o:p/
На следующий день L и Z приступают к кабинету директора V с проектом: давайте продавать! У нас есть портативные приемники «Джаз», «Рондо» и «Поход», один блестящий синий, другой матовый белый, а третий желтый с белыми обводами. Почему бы не организовать секцию радиоприемников в Нарвском универмаге? Отлично! — V вспыхивает и сияет. — Молодцы! Орлы! С вами не пропадешь! Отдаю вам из своего секретариата самую красивую девушку в продавщицы! Нет, нам не надо, у нас есть и свои. — Разрешите отпустить Елену E, это лучшие ноги цеха ТНП, просит Данила. Разрешаю! — повелевает директор. — Быть по сему! И не забывайте: реклама — двигатель торговли! Попросите у J видеокамеру и снимите несколько рекламных роликов для местного телевидения! Директорский размах впечатляет и озадачивает L и Z. Они принимаются за дело. Отдел в Нарвском универмаге поставлен с ног на голову. Все переоборудовано. Z выглядывает из окошка и манит L: за окном фонарь! Тотчас же крепится на фонарь выносная антенна, на стекле малюется земной шар, и в каждой части света ставится по приемнику с приделанными к нему лампочками. Антенна работает. Приемники принимают. Лампочки моргают. Елена E, лучшие ноги цеха ТНП (и всей «Свободы»), улыбается как звезда. Покупатели ломают стойку. За три дня расхватано восемьсот штук: пятьсот «Джаза», двести «Рондо» и сто «Походов». Заказаны во «Внешторге» брошюрки с буквами (синее на серебре). o:p/
Шоколадки! — кричит директор V. — Мы должны торговать шоколадом! Кто из вас умеет варить шоколад?! Столовая переоборудуется под шоколадную фабрику. Во дворе «Свободы» мартовские трескучие лужи, над ними стоит невыносимо-шоколадный запах. Изготовлены на опытном производстве специальные формы, закуплена серебряная бумажка и красная ленточка с надписью «Шоколад Свобода». Через неделю бумажками и ленточками пестрят все окрестные улицы, все талые ручьи, запруды, ими завален парк Екатерингоф, и по Екатерингофке плывут красные ленточки, а серебристые комки, вспыхивая на солнце, погромыхивают в еще голых ветвях. Лев Ильич — голова, говорит L. Перцу, перцу подсыпайте, кричит V, мечась по столовой и натыкаясь на кастрюли. — Еще никто в СССР никогда не производил шоколад с перцем, а я ел в Америке, это очень вкусно! o:p/
Наконец являются на экране и рекламные ролики (текст и сценарий Z, производство L и цеха ТНП завода «Свобода» в целом). Реклама электромясорубки очень проста. На экране появляется бодрый, встрепанный L (по виду — студент, и не скажешь, что в свои двадцать девять многодетный отец). Как вы думаете, уважаемые зрители, срубит или не срубит мясорубка «Свобода» этот теннисный мяч? Давайте проверим! Дрр-т-ззз! Срубила. А как вы думаете, с пятью отработавшими лампочками справится? Д-дрр-тзз-зз! Справилась! А вот этот старенький еженедельник «Слава КПСС», ха-ха? Внимание! Мы рискуем! Может ведь и сломаться наш прибор, ах-ах... ДН-ДНРРРРР-ДРРТТ-ТТ-ТЗЗЗ-ЗЗЗ... В клочья! В мелкие ломтики! В лапшу! В труху! Вот так, пожалуйста! Так будет со всем, что попадет в нашу мясорубку «Свобода». Только не суйте алмазы! — Эта последняя фраза очень быстро была подхвачена народом, как и сама мясорубка «Свобода». Лев Ильич — голова! — сказал Z по этому поводу, но с каким-то странным выражением в глазах. Все кипело, пенилось, товары имели спрос и сбыт. Только что-то было не так. o:p/
Что-то не так, повторял L про себя, шагая по улице Волынкиной. У Нарвского универмага, на углу проспекта Стачек, он заметил в толпе главного экономиста O. Он был в пальто с поднятым воротником. За его спиной болтался полупустой рюкзак. Еще издалека в самой фигуре, в позе O чувствовалось сильное напряжение, даже тревога. O торговал вразнос калейдоскопами. У него покупали. Что-то не так, сказал L вслух, случайно посмотрел себе под ноги, вздрогнул и остановился как вкопанный. Поперек Волынкиной проведена мелом жирная белая черта, по обоим выщербленным тротуарам и по проезжей части. Под чертой, прямо под ногами L, автор черты корявыми буквами написал: «Турба-урба». L сильно выругался и пошел через черту дальше. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
26. ФИНТЕНСИФИКАЦИЯ o:p/
o:p /o:p
Программа интенсификации-91 предусматривает значительное куда уж больше-то повышение фефективности за счет технического перевожеужения и реконструкции действующих предприятий, оптимального использохуния имеющегося производственного и заучно-технического с тех пор смотреть на них не могу потенциала, лямплексной феханизации и фефохатизации, широкого применения покуда внутри и пфыкгрессивных технологических проыссов. o:p/
Зафакала уже эта безмазовая тусовка! В истекшем году в цефых разгрузки фрезерных станфыв, выбрано восемгыдцать позиций и гыименохунных деталей, имеющих максимальное применение, и небрежно изготовление фытжеых переведено гы литье под дурлением, что позволило снизить трудоембль изготовления перевернутых деталей гы семнысяч юксовых, условно высвободить восемь фрезефык и сэкудамить более 12 тонн материала Д16. Принимая во внимание хужность и згычение выдстремнутой государством должно-то быть точно пякотонны, тыжческими силами булектива зуфыда разрабогаты и шизоко внедряется фымплексная пфыкграмма финтенсификации, рассчитангыя гы ближайшую пятилетку. Где-то оно было, а вот где, не помню. o:p/
Все в кайф, пипл! Разстремтие механообрабатыхующего пфыкизводстху ведется в гыпрурлении увеличения фыличестху станфыв с ЧПУ, внедрения высофыпфыкизводительных уртоматов и спецстанфыв, изготовленных силами зуфыда и покупных. Одним из высофыпфыкизводительныфыв с ЧПУ явфыется многооперационный станок — обрабатыхующий центр с магазином гы 24 инструмента Астанислао Карреа куда разойдутся деньги? Смегы инструмента механизикхугы, что естественно позвофыет повысить воровскую честь. Если вам не слабо — чешите к нам, братушки! Действующая в уртоматно-револьверном цехе линия уртоматов плыдольного точения дала возможность расширить зону многостаночного обслужихуния и сократить фыличество рабочих станфыв с ЧПУ, приобретенных зугадом, являются горизонтально-расточительные, улет неслабо технологических операций за одну установку. Предстурленные уртоматы и полууртоматы, абортанные и ифыв зугыду ешно выполнить постурленные задачи по ску тохуфыкв гыфыкдного ебления. o:p/
Говжея изводстху кюк ментальноинструе. Новныосм гыпрурлением в увеличерументального цении мощнодрести инстха явлонотется внение станфыв элефизичестяй оботки, фытжеые порицехозвофыют умат выс установкю гынесения упыкч шизаняющего гы режуслоящие клямки труминсента твердосплурным электфыкдом. Инов устакю дфы упфыкчнения руменинстта и осгысткивобо шизадить фрезедроквщиев и жеганизохуть станомногочное обслужихуние. Вышепоние меня стойпсти режуименением сифам-фыфундиего состура, окугыния. Внедреполь исзуя мед гызхунныщего струтомента и осгыстки — пляо пошении явы. Это явфыется хужной предпосылфый дфы создания гибфый уртоматизифыкхунной технологить с прх методов уплякчнения позводяет увеличить стойсть приемого страбумента от двух до пяти раз. В инструшизаментальном плякизводстве верадутся боты по совершенствохунию меых типов грузазоточных устчакств. Кругабапноридетные тали изголюются гы фымплексе с использохунием двуруфыго кыбота типа 7605. o:p/
Гальхуничесе пыкизвтодов внутвого планикхуния, и пеический учасии ннов дам пыкизводстве. Не обломайтесь ошизасвоение обжеудохуниявыс участкю вободит отепри радвеб в сме вос ны расмонных и малопцеха весята струховые заметы усредет обжеудохуния. Созтрудается либерабный дыбототехналог пфыкогрупости изводитель, немыжем монемянуть кафым хужном стремде блемаферазды, ляопуляапазогы детатостарков сталовоз хыжны мбла кугодарь румплексному использохунию различнодство. o:p/
улет уртоматикхуннот рахучееку ста «АРМ-Р», товоблег тработнифыв сорудкратия времорух пошизавыскух хюпиш изголение фынструктжесфый кудаметноции и жеигигылов пезацирных циипорев рвым пакет агомш в тойэборате ястремлось невненраие счетода планой уртоматизифыкхунный учачитьсток сцепульт упрурления гальхуническими пфыкцессами ишиза уртооператжеом темса обкрумать мымис клютяча яжифичес работнизв вой трудоембости. гыряду с гызхунными гыпрурлениями урфыко угрывинда разстремать тжеую нефцвет решток вдыму гы травобниваг кумар перегыладки обжеудохуни говление всего дии канает в пасть гальхуничеслым пфыкизводстве курвафыд крывав трелис тером развешзх и вне сдержихует фыкст техничесцуго уфыквня но перспектиху адью разстремтия зутжекда предусматши заредрил гибкигальхуничестого цешизах падла зуфыкдашиза обжеудохуние не слабо смайстрачить 1500 — 2200 в жало. Финтенсификация цепляет! Ю а уэлкам! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
27. ДИРЕКТОР NN. ИНТЕРМЕДИЯ o:p/
o:p /o:p
Вона, не видали, не слыхали никогда такого: директора теперь будем — выбирать! Ну и, конечно, если выбирать, то Льва нашего Ильича точно уже не выберут. Нет, уж если выбирать... Из кого угодно! Надо какого-нибудь идеального. Даже мы точно знаем кого. Вон у вас в ОКБ есть директор ОКБ NN. Говорят, он спит по четыре часа в сутки. Чего захотели, посмеиваются инженеры. Мы вам своего NN не отдадим. Ведь он же гений. На его идеях люди диссертации защищают. Пачками. А вы хотите его сточить о ваш грубый завод. Нет! — орут заводчане. Ничего не знаем, хотим NN! Тут ОКБ не на шутку всполошилось. Ребята, да вы ведь его не знаете. Не нужен он вам! Он нежный. Нервный. Тонкий. Он никакой и не производственник вообще. Выберите вон F. Не-ет! — орут заводчане. — Нам нужен NN! NN хотим, и точка! — А ваш-то, — умиляется Верка B, и не орет, и кончик платка теребит, — он ведь никогда не крикнет... Он — интеллигенция... Таких директоров у нас еще никогда не было... o:p/
И вот — день выборов. Кандидатов двое: нынешний директор завода V и — директор ОКБ NN. Директор V уверен в победе. На щеках у него мелкий румянец. Он бодр и оживлен. Накануне он звонил NN в Москву, где тот пребывает в трехдневной командировке, и они дружески поговорили. Меня не выберут, без сожаления констатировал NN. Конечно, тебе на завод не надо! — поддакивал V и со спокойной душой положил трубку. o:p/
Но повернулось все не так. Кто такой V? Он тиран, авантюрист и барин! (Некоторые вздыхают.) Он с застойных времен нами правит, и сколько нелепых затей! Сколько через него ерунды получилось?! Хоть вспомните эту затею с микросинхрофазотроном! А мы, что мы можем?! Неужели только в КВН продергивать?! Президента сами выбрали, какого захотели, не дали стране обратно в коммунизм отойти, — так что же, родное предприятие хаму-консерватору оставить?! Это что же он с ним сделает в условиях частной собственности?! Обратно форели нас скормит?! У него же нет совести! А вот NN — он человек науки! Прогрессивный человек! Вы посмотрите на ОКБ: там же все с высшим образованием. Посмотрите на его лицо: разве может такой человек соврать или устроить показуху?! А директор V, он всю жизнь врал, что коммунист, а сам в церковь шлялся!.. А теперь будет шляться в церковь, а втайне носить партбилет в кармане! Выберем NN, господа! И выбрали. o:p/
А NN приехал из Москвы весь измученный. Он три дня материалы выбивал и комплектующие для опытного производства. Приехал и сразу узнал, что выбран директором завода. Сидит у себя в кабинете, опустив голову, и говорит: нет, не могу я отказаться. Если народ меня хочет, то как же я могу не оправдать доверия? Рядом только двое: Танечка S и главный экономист O. Они уговаривают: не ходите, ваша светлость, сгинете. Не ваша это дорожка. Вы человек не заводской. Нежный. Нервный. А производство — это штука железная. Руководить ОКБ — это одно. Заводом — совсем другое. Посмотрите на себя, плачет Танечка S. Вам же в санаторий надо. NN поднимает голову. Спасибо, Танечка. Но если выбрали — надо идти. Это в вас мужские амбиции говорят! — вскипятился главный экономист O. Да какие там амбиции, — машет рукой NN. — Я сдохну скоро с таким давлением. Вот именно! — горячо поддерживает Танечка и хлопочет с лимоном. — Выпейте! Нет, не пейте! Погодите! — NN отодвигает кружку и выходит из кабинета. Нет, мы его не переубедим, говорит O. Значит, судьба. Что же будет с заводом? — Танечка S. А что будет? — пожимает плечами O. — Развалится завод наш скоро на куски. Будет акционирован, приватизирован и поделен между бандюками. Уходите, Танечка, в социальное страхование работать. Там профсоюзные работники приветствуются. Танечка мотает головой и глотает слезы. Нет, я с завода никуда. Утонем, так вместе. o:p/
Нарвская застава медленно сползает в осенний страшный вечер девяносто первого года. Загораются редкие огни. Ржавый пивной киоск, некогда названный «Три ручья», давно пересох. Торчат из стен девятиэтажки обрывки медного кабеля от системы «Диспетчер-СЦУК». Разбитая телефонная будка лежит поперек Волынкиной. Из подвалов тянет овощной гнилью. Парк еще нетронутый, но уже кое-где появились в листве желтые подпалины. Над Центральной башней восходит, отражаясь в мутной, пенистой Екатерингофке, луна; и по трамвайным рельсам луна восходит; а по берегу Екатерингофки, по квелой, забродившей осенней траве, горькой сентябрьской траве, бредет V, которого проводили честь по чести, и сам он был во время проводов на высоте, целовался и острил. Директор V минует скользкую вывороченную с корнем осину, спотыкается, путаясь, в ее ветвях, хватается за комель. Директор V не падает, он останавливается, как всегда, вовремя, на той черте, где мягко стоит, не шумя, черная вода; садится куда-то наугад, и опять — удачно: сухие, мягкие ветки ивы пружинят, охватывают V, оплетают его. Но V не может спокойно посидеть, он встает и делает шаг вперед, в воду, точнее, в густой и вязкий ил, сразу по колено, и еще один шаг, но тут сзади что-то властно берет его и выводит обратно на сухое место. Вечер длится теплый, и кажется, что это ровное тепло от луны. Лев Ильич, я вам зуб даю, что вы заводу еще ого-го как понадобитесь. Надо было тебя выставлять, горько сожалеет V. Тебя бы выбрали. Ого! Ну какой я директор! Я свои железки. Они просто идиоты. Проживите еще хоть лет с десяток. Нет, нет, возражает V патетически и машет своей небольшой рукой. Для меня это конец! Идите вы, никакой не конец. Трудно будет, это да. Так теперь всем будет трудно. Позвоним вашему водителю. А вы что? А я обратно на завод. Ты сумасшедший, ночь уже. Да надо там кое-что закончить. (Они стоят на асфальтовом перекрестке. Брюки V быстро сохнут в свете сухой, горячей луны. Ботинки еще очень мокры.) Ты там это. NN пожалей. Он человек не заводской. Зачем лезет? Съедят его, ей-Богу, съедят. Еще и такие времена наступают. Да какие времена. На «Свободе» других времен и не было никогда. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
28. РЕЗЬБА В НОСУ o:p/
o:p /o:p
Танечка S, профсоюзный филолог, сидит у себя в кабинете. Дверь распахнута. В день ей приносят почти по сто обходных листов. Это значит, двенадцать в час. Один лист в пять минут. Каждые пять минут с завода «Свобода» увольняется один человек. В месяц уходит две тысячи. Две тысячи человек в месяц увольняются с завода «Свобода». И этот месяц не первый. Завод тает. Скоро от него ничего не останется. o:p/
Танечка S видит себя в двух зеркалах. Искоса поглядывает на свой профиль. Она красива. Профиль разве только чуточку поплыл. Она молода. На ее голове больше нет башни. Танечка S снесла ее и организовала (соорудила) прическу из серых и красноватых перьев. o:p/
Иссякая, течет по утрам ручеек по улице Волынкиной. Следы остывают. Пустынно в парке у пруда. Пустынно на заводском дворе. Танечка S курит у окна. Резкий морозный воздух не пускает дым наружу. Вот и нет больше никакого ОКБ. Ушли все инженеры. Осталось десять человек и один кульман. o:p/
В первые дни исхода Танечка еще пыталась что-то сделать. Вот она стоит в полупустом цеху и уговаривает тощего мрачного Толика погодить до конца месяца. Но жена Толика тоже работает на «Свободе», а денег не платят пятый месяц, а детей в семье двое. Толик слушает ее, жует кусок булки и пьет воду с «пятиминуткой» из черной смородины: летом накрутили банок со своих плантаций и разбалтывают по ложечке на стакан. Получается полезное пресное пойло. Это все, на что Толик сегодня может рассчитывать. А завтра? Танечка S больше не уговаривает. o:p/
Вот и нет больше никакого цеха номер шесть, и номер двенадцать, и номер шестнадцать. В девятнадцатом остался кое-кто. Четвертый уволился весь, под корень, в одну неделю. Там была молодежь; что ей здесь делать? Остались одни старики, те, кому пойти некуда. Остальные разбежались по пустынным просторам, где глыбы просоленных каменных сугробов высятся на обочинах, где мутное солнце висит над нескончаемыми рядами ларьков и автосервисов. Мы никому не нужны, сказал главный экономист O, поцеловал Танечку на прощанье и умер. o:p/
Постепенно Танечка S начинает чувствовать, что ей не хочется больше болтать, работать, что-то делать. Ей приходят в голову странные мысли. На что ушла жизнь? Вот на этот завод. А что завод? Завода больше нет. А кто она? Ни семьи. Ни дела. Что такое теперь профсоюз? Ничто. Но каждый день она ругается с новым финансовым директором, доказывая, что женщины из гальванического цеха, сколько бы их там ни было, должны получать молоко за вредность за счет завода. И каждый день, подписывая обходные листы, пытается все-таки — не уговорить — а что-то сказать, на прощанье, чтобы помнили, чтобы потом, может быть, когда-нибудь, захотели вернуться. o:p/
Однажды к вечеру в дверь ее кабинета стучится Данила L, молодой парень, лет тридцати, раньше работал в цехе ТНП, а нынче — поди-принеси — кажется, заместитель F по производству, да какая теперь разница, кто как называется. И ты тоже. Ну, давай сюда свой обходной лист. И то я удивлялась, что такой перспективный парень, как ты, делает среди... Данила мотает головой: нет-нет, я не ухожу, вы что! Наоборот. Я бы хотел вас попросить, не знаю, может, глупость... проведите киносеанс на заводе. Для тех, кто остался. Вот у нас есть фильмы про завод. Со времен директора N. Да и со времен V. Давайте нарисуем афишу, соберем людей в зале и покрутим эти фильмы. Все-таки это хоть какое-то... нематериальное стимулирование. Гхм. А? Хуже-то не будет... Вот я бы про КВН посмотрел, как мы с Z там зажигали. А вам про совхозы будет интересно, про сено-солому, про «Золотой шар»... Давайте, удивленно соглашается Танечка S. o:p/
В зале темно и холодно. Люди сидят в пальто и куртках. Пришло человек сорок-пятьдесят, остальные после работы спешат домой или мечутся в поисках денег. В основном смотрят старики. Завод «Свобода». Здесь в трудный 1928 год впервые была создана ударная молодежная бригада, прообраз сегодняшних бригад коммунистического труда. Теперь это передовое промышленное предприятие. От старого остался лишь внешний облик прежнего здания. Завод вырос и помолодел на глазах у наших ветеранов труда и войны. Их руками сделано многое, чтобы молодежь могла трудиться во вновь построенных и реконструированных цехах и лабораториях, где созданы все условия для плодотворного труда, проявления собственной трудовой инициативы. Каждый год на завод приходит новое пополнение рабочего класса — выпускники школ, ПТУ и техникумов. (В дверях незаметно появляется F с сигаретой. На экран он не смотрит. Дым выпускает за дверь.) Выпускаемое заводом изделие «Астра» нужно для безопасного плавания крупных океанских судов при плохой видимости. Высокая точность работы станций, их безотказность в условиях дальнего рейда — вот основные требования генерального заказчика, Министерства морского флота СССР. (Официоз. Партийные фразы. Пыльные знамена. В те годы плевать все хотели на эти фильмы. Теперь смотрят, и уйти хочется, и невозможно оторваться.) Затем спортивные баталии перенеслись на водную гладь озера. Берег озера стал своеобразной трибуной для болельщиков, с которой неслись возгласы и призывы, придавая силы участникам соревнований для победы своей команды. В упорной спортивной борьбе победила команда участка Николая Гусева. И наконец, наступил торжественный момент награждения команд и закрытия соревнований, в котором приняли участие более 120 человек, что составляет одну пятую часть всего цехового коллектива. Кто-то тихо сморкается в платок. o:p/
Два могучих слесаря из девятого цеха, K и K, тихо поднимаются со своих мест (сидели сбоку, с краешку) и неслышно выдвигаются за дверь. Там их встречает с распростертыми объятиями F. А-а, это вы, K и K, шепчет F зловеще. Слышал я, что вы уходить надумали. Платят мало, оправдываются слесаря. — Заказов нет. Заказов нет?! — F надвигается на них грозной сизой тучей. — А жетончики для метрополитена кто будет чеканить? А тумбы афишные кто клепать будет? А ограда для крематория, это, по-вашему, не заказ?! Охренели совсем!! Вы должны сидеть на заводе!! Вы у меня резьбу в носу будете резать, но не уйдете! Потому что без вас завода не будет!! Все поняли?! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
29. ИТКП o:p/
o:p /o:p
Господи, ужас-то какой. А мы-то думали, они нормальные арендаторы, шубы шьют из бродячих кошек. А они, оказывается, организовали на территории завода «Свобода» производство паленой водки. Надо бы и всех остальных арендаторов проверить, слышите, Инга? Директор ничего не думает, директор очень болен. Спасибо, что вообще жив. Мы должны его беречь. А тут всего-то людей: ты да я, да мы с тобой. Чего там главный инженер не должен? Главный инженер на заводе должен все. И юрист тоже должен все. Да, и искать пожарное ведро тоже. И вытряхивать из него окурки, именно так. Хотя нет, окурки главный инженер у нас обычно вытряхивает. Так что идите и проверьте всех арендаторов. Вам налево, мне направо... Мы обойдем все наше секретное производство и ревизуем всех, кто у нас снимает. Обучающие курсы для киллеров? Отлично. Производство пирожков с крысятиной? О’кей, тоже бизнес. Кастинг б...дей? Добро пожаловать. Штампование поддельных документов? Оставайтесь с нами. Бухгалтерские услуги? Взимаете дебиторку? Гм... Пожалуй, нам придется расстаться. Вообще, Инга, мне пришло в голову, к нам же могут подсадить шпионов. Представляешь, приходит шпион и снимает в аренду нашу яму для таяния снега. Притворившись нормальным, тихим содержателем собачьего притона. А сам из этой ямы шлет шифровки при помощи лая. o:p/
Инга, такова жизнь! Все мы теперь на заводе занимаем одну и ту же должность: ИТКП. Иди туда, куда пошлют. Вот я. Главный инженер. До меня был легендарный H. Он мог взглянуть на прибор и одним взглядом устранить неполадки. Ну и я, может быть, тоже мог бы! Но беда в том, что нет сейчас никаких приборов, одни неполадки! Взглянуть-то не на что! o:p/
Или вот вы, Инга, юрист. До вас была тоже Инга, легендарная Инга I. Вы на нее очень похожи. На нее в молодости. Такая же красивая, тощая и умная. У Инги была задача потруднее вашей: она блюла несправедливые законы, добиваясь справедливости. А ваша задача — сделать так, чтобы справедливость была нам выгодна. Завод смежников закрылся, директора взорвали, комплектующие сдали в металлолом, а виновата «Свобода». Или Водоканал, о, Водоканал! Водоканал, с его подвалом первой страницы в городской газете «Будни Петербурга», где под заголовком «Они мешают нам жить» печатают крупным кеглем названия предприятий, задолжавших городу за свет и воду! Мы же из этого подвала не вылезаем. Что говорит этот человек? Он говорит: я не дам «Свободе» ни вылить воду в канаву, ни попить чаю. Я заставлю их плакать, заявляет он. Инга, вам не смешно? Он нас с вами хочет заставить плакать. Или F. Он хочет заставить плакать F. Это все равно, что заставить плакать Нарвские ворота. Но откуда у Водоканала такая нечуткость, Инга? Откуда такая уверенность, что с ним, красноглазым, всегда будет все в порядке? Или это, напротив, отчаяние? Как вы полагаете? o:p/
Я вот полагаю, что не имею права задерживать зарплату рабочим еще на месяц. Им кушать хочется. Водоканалу есть что кушать. И он подождет. А если он распорядится перекрыть воду, поступим как в прошлый раз. Инга, вы помните, как было в прошлый раз? Ах, это было до вас. Мы просто взяли, открутили вентиль и выставили возле него охрану с автоматами. Незаконно, говорите. Ну что ж, у нас тогда юриста не было. Я уверен, что вы сможете найти лучший выход. Это не сарказм. Это вера в вас как в специалиста. Идемте, Инга. К закату солнца списки арендаторов должны быть у меня. o:p/
...Итак. Что вы нашли? Да погодите, Михаил Степанович. Я нашла кое-что получше. Они идут к пресловутой яме для таяния снега. Помогите мне спрыгнуть. Инга, вы там убьетесь. Что... зачем это вам? У меня нехорошее предчувствие, что вам туда не надо. Помогите, я говорю! Там спасение от подвала и от Водоканала! Спасибо. А теперь подайте мне желтый совочек. Он под кустом должен быть еле-еле прикопан. Инга, вы меня заинтриговали. Что все это значит с юридической точки зрения? А то и значит. Прыгайте ко мне. Бух! o:p/
Смотрите сюда, Михаил Степанович. Так. Смотрю. Ух ты, а что это такое? Это сруб. Сруб старинного колодца. Если бы ваша эта яма не разрушилась и не нуждалась в ремонте, то его не было бы видно. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что на территории завода есть автономный источник воды. Вход в подземную линзу. Вау, Инга! Вот что значит юридическое образование! Признайтесь, вас там всех учат с лозой ходить? Как, как вам вообще такое пришло в голову? Я посмотрела на старинной карте в заводском архиве. На это просто никто раньше не обращал внимания. Ну, недосуг было. Или просто не нужно. Инга! Давайте вы еще найдете на территории «Свободы» нефть и газ, и тогда мы подадим заявку в Страсбург на формирование независимого государства. А что? Оружие можем, нефть и газ можем. А остальные у нас будут арендовать. Но Водоканал-то, Водоканал! Хо-о! Мы уделаем красноглазого! Пусть отключает! Инга, вы гений! Давайте с вами спляшем! o:p/
Что это вы тут делаете, уважаемые? У нас производственное совещание. В яме? Это не яма. Это гора. Михаил Степанович, я еще хотела рассказать, каких я нашла арендаторов. Посольство Сенегала — раз. Все бы ничего, но у них висит магическое зеркало вождя, и сквозь него можно ходить в Сенегал и еще в какой-то там мир белых костей, я не знаю. Плевать, Инга! Мы уделали Водоканал. Вторая неприятная находка — производители неизвестного белого порошка. Я подозреваю, что это вполне может быть героин. Его там пара мешков килограмм по сорок. Героин — это плохо, возьмите спирт у F и незаметно сожгите. Только пожар не устройте, а то вам же потом от штрафов отмазываться. Мы уделали Водоканал! Инга, браво! Как только у нас будут заказы, я выдам вам премию. Идемте пить чай. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
30. ПЕРЕД РАССВЕТОМ o:p/
o:p /o:p
Директор NN просыпается, засыпает и снова просыпается. Мучительная дрема длится и не может разрешиться ни в сон, ни в пробуждение. Во сне он не чувствует своего тела, но видит его перед собой как лесную карту, как медвежью шкуру, как тушку-чучело страны, в темноте горящей язвами и дырками. Он засыпает, просыпается и засыпает, а может быть, он воскресает, умирает и снова воскресает. Перед глазами директора NN поблескивает лесное озеро, точнее, болото; в щелях чавкает вода, трава упруга, зелена и отвратительна. Пахнет дикой мятой, осинами, багульником, ядовито-желтые звонкие птицы цветут и цокают на ветвях, они говорят с NN: подпиши, подпиши, а то подавим. o:p/
Но NN подписать не может, и мох наваливается ему на лицо и грудь, что-то булькает, клокочет, кусочки мха болезненно вырываются из своих гнезд, обнажая страшную стертую землю, — нет, не землю, а кожу, всю в шрамах, полуразложившуюся, или это труп страны, или его собственная ладонь, а только на ней тут и там сквозят дырочки, и в этих дырочках стоит зловонная горючая жижа. Подпиши, NN, подпиши, а то подавим. o:p/
NN просыпается, выдергивает себя из сна, садится на постели. Сидит некоторое время тяжелым куском густого мрака в жидкой темноте комнаты, подсвеченной с улицы. С огромным трудом встает. Сердце бьется скоро и тошнотворно. Открыть окно и выпить водички. Сил нет. NN буквально падает на стул в кухне. Убьют, и хрен с ними. Всех убивают. Но я этого не сделаю. Тогда после тебя, за тебя, это сделает одессит D, директор по производству F, или этот его оптимистический зам Данила L. Они могут запугать Ингу. Могут просто взять завод силой. Проще простого: взять силой оборонный завод. Такое происходит вокруг сплошь и рядом. Это обыденность. Твоя жизнь тут ничего не изменит. Во рту сохнет снова, а воды больше нельзя. Дует горькой предвесенней свежестью из форточки. NN, еще раз, четко и внятно: я не буду делить «Свободу». Да, но все предприятия девятого главка уже акционированы? Акционированы. И на всех пролилась кровь. Неужели лучше оставить «Свободу» в руках государства? Мы не ослышались: государства? Вот этого, которое ничем не отличается от нас, братков? Они те же братки, кореш. Ты не знал, что всю жизнь работал на братков? Может быть, NN, ты коммунист, как этот ваш начальник цеха Пал Палыч P, который до сих пор носит у сердца партбилет? Ты хочешь и дальше лизать им жопу, а взамен получать то, что получаешь сейчас, — ноль заказов? Сколько месяцев не жрали твои рабочие? Ветераны труда, которые отпахали на это государство по полвека? Их предали. И тебя предали. o:p/
Все так. Они не жрали полгода. Государство врет и предает. Но сделки не будет. И это не государство не отдает «Свободу». Это «Свобода» выдает государству кредит. Не берет, кореш, а выдает. Длительный. Беспроцентный. Мы готовы ждать и работать столько, сколько понадобится. Если надо будет, мы прождем еще полвека. Полтысячелетия прождем. У нас есть механик D. Есть регулировщица Тася. Есть одессит D. И есть директор NN, бывший блестящий ученый, который не по своей воле залез в эту мясорубку; вечно ошибающийся, слабый, слишком мягкий, не дотягивающий, сваливающий ответственные решения на подчиненных. Но разбазарить «Свободу» я не дам. o:p/
NN встает. Голова кружится, затылок наливается свинцом. Он возвращается в комнату, каждым шагом чувствуя боль и тошноту. Все равно, все равно убьют, невнятно думает он, не имея сил по-настоящему вчувствоваться в эту мысль и испугаться. NN ложится снова в темную постель рядом с женой. Да, они все были правы. Я не директор. Но и не не директор... Вот N — тот, без сомнения, был директором что надо... А что бы он стал делать на моем месте?.. Добился бы аудиенции... Так ведь и я добивался... и не раз... а там сейчас такой же NN, такой же больной, слабый, некомпетентный... нет, а все-таки, что бы сделал N, настоящий N? Но не может придумать NN, что сделал бы директор N в его ситуации, и, не додумавшись, снова погружается в тяжкую дрему. Акционирования не будет. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
31. ГОБЛИНЫ o:p/
o:p /o:p
Вот нас называют гоблинами — а за что? А за то, просто-напросто, что мы такие. Мы такие росли, мы такие и выросли. Ничего страшного, не бойтесь вы нас уже наконец. Я на завод пришел в 1984 году, как и сейчас — оператор станков ЧПУ. И сразу в футбол стал играть. Наша заводская футбольная команда называлась «Астра». И меня сразу — в капитаны. Думаю, если бы играл, я бы и настоящим футболистом стал. Ну а так что, фрезеровщик. Люблю свою работу. Это важно, свою работу любить. Да не бойтесь вы меня! Чего вы меня боитесь?! Натаха, меня ведь бояться не надо? Натаха говорит, не надо! o:p/
В футбол я играть люблю больше всего на свете. И работу свою тоже. А больше ничего и не бывает. o:p/
В девяностых немножко это дело заглохло, а в двухтысячных снова поднялось. В 2006 году команду организовали. Меня выбрали капитаном, и мы выиграли сразу кубок концерна! Сначала я думал — народ не пойдет. А народ таки пошел! У нас теперь на заводе молодежь! И все стабильно ходят! Глаза горят, мы это дело продолжим! o:p/
А что гоблинами нас называют... да это понятно, потому что мы когда в автобус сядем... ну так себе в общем, садимся уже в автобус... на турслеты когда ехать... Ну и что?! Зато наша команда единственная, где капитана все слушаются по первому слову! Меня то есть. А я всегда капитан. Кому еще быть?! Меня все слушаются на раз-два. Я точно знаю, кто лучше по канату лазит, а кому на руках ходить. У нас вот был случай. Поехали трое кататься на лодочке. Уплыли, короче, куда-то в залив. А потом время уже. Спасательная береговая охрана едет проверять, где чо. Приезжает — не знаем, не знаем, уплывало трое, а в лодочке сидят двое. Меня пот прошиб. Куда третьего дели?! Оказывается, они его на берег высадили, он потом своим ходом пришел. Ну и нервов я натерпелся! o:p/
А гоблины мы потому, что мы всех уделываем, всегда побеждаем. Обычно я — капитан команды. Соревнования каждый раз новые, не повторяются. У нас уже шутят: пора ехать на «Форт Байярд». Например, в этом году, когда мне сказали, что будут лошади... А что с ними делать? — подумал я. На них же некоторые даже залезть не смогут! Оказалось — десять человек на лошадях сидят и десять этих лошадей под уздцы ведут. Ничего, как-то справились, залезли... o:p/
Однажды были соревнования по городкам. Нашлось аж двадцать восемь желающих. А я был главным судьей. Пришлось в интернет залезть, посмотреть правила. Чурки, бабки. Интересно. А взяли биты, и началось. Один говорит: я через Центральную башню берусь перекинуть. Ставьте мне там на крыше все фигуры. Ну, наши чо. Полезли, поставили. А он со всей дури — херак битой! И в окно к F. А там совещание. Все орут. Он херак, и попадает прямо в лоб начальнику своего цеха. Которого F как раз распек по самое не могу. Народ как-то даже расценил это как чересчур суровое наказание. А F не растерялся, биту хвать, и назад ее зафигачил. Ну и прямо в лоб ему попал. Ничего, шрам остался, нормально. o:p/
А говорите, мы гоблины. Мы, может, и гоблины, но кроме нас, никто не умеет! Мы ведем себя ну так не совсем может быть чинно и по-светски, но зато только на нас можно положиться! Вот у нас на последнем турслете девчонка потерялась. Отошла в кустики пописать и пошла. Ну, куда-то там пошла. Мы весь лес прочесали и ее нашли. Оказалось, там военная часть... поймали ее, разложили... мы вовремя подоспели, короче. Еще бы немного, и турслет бы... Не состоялся, скажем так. А вы говорите, гоблины! Если бы мы не были гоблины, мы бы и не справились! Натах, правда? Вот! o:p/
Вот бы еще по биллиарду чемпионат устроить. Только столы все с дырками. Надо новые столы купить, хотя бы два. Народ хочет. Без дырок хочет. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
32. ЗВОНОК o:p/
o:p /o:p
Наступает ночь, черная и ветреная, как и прошлая ночь. Ветер воет в дымоходах и вентиляции, свистит в скважинах. Черный цвет заливает все. У черного множество оттенков. Блестящий черный и прозрачный, густой и жидкий черный. Директор L ложится в постель и мгновенно засыпает, рядом с ним жена. Звонит телефон, директор L знает, кто это, и мгновенно просыпается и берет трубку. Это звонит генеральный конструктор «Золотого шара». Он перенес инсульт, не может говорить, но звонит директору каждую ночь. Есть у Данилы L и такие обязанности. o:p/
— Алло, — говорит L. — Привет. o:p/
X молчит. Этим он говорит то, что должен услышать L. Обсуждает, весьма вероятно, новую модификацию «Золотого шара». Хотя точно никто не может знать, возможно, X пытается сообщить ему еще что-то. В любом случае, ежедневные звонки — это очень сильное средство. Это говорит о том, что X к директору L хочет пробиться. Сквозь стену молчания и непонимания. o:p/
А L — он простой и добрый малый (был когда-то). Ему на фиг не нужны все эти мистические загогулины. Да и X они не нужны. Просто у X в мозгу немножко все сместилось. Стало все подсвечено, расцвечено. Вот он и звонит каждую ночь. Ему, может быть, кажется, что это все один и тот же звонок. А для нас и для L этот единственный звонок расслаивается на много, на каждую ночь. Кто прав, никто не прав, все правы, наплевать. o:p/
— Да-да, — говорит L. — Я слушаю. o:p/
X молча говорит и говорит, убежденно и красноречиво. Он говорит: не потеряем ли мы этот рынок? Вот взялись за «Золотой шар-М» — модернизированный. Взяться-то взялись. А условий нет. Нужен новый участок для хранения. Сейчас собираем, и на улице лежат! Очень нужно бы нам ангар для хранения построить. А еще — купить бы нам установку гидроабразивной резки материала, которая листовое железо для корпусов «Шара» резало бы смесью песка с водой. Она — экологически чистая, при обработке металла не выделяется вредных веществ. Ее можно рядом с колыбелькой ребенка ставить. Ну, и дальше целая цепочка уже мечтается... Тут нужен и сварочный участок, на котором висят, как караваны верблюдов, караваны «Золотых шаров»... В общем, много чего надо, чтобы не отстать от Канады и Чехии. o:p/
— Надеемся в государственную программу попасть, Иван Борисович, — сообщает L. — Тогда будет и гидроабразивная... o:p/
Текут минуты, течет потоком блестящая речь в гробовой тишине. Темнота на улицах меняет позу. Золотая темнота под фонарями. Немота бесснежной зимы. Серый асфальт. Прижав к уху трубку, L сидит и не дремлет. Это одна из обязанностей директора. Последняя обязанность дня и первая обязанность ночи. o:p/
— Алло, алло, — говорит L. — Я здесь. o:p/
Но у ночи будет еще и другая обязанность — увидеть сон. В белом, подпоясанного, директора N, который будет объяснять, что делать с заводом; или, в солнечных чертогах, Президента России, которому L будет горячо доказывать, что следует выпустить на свободу Ходорковского. Все сны у L горячие, так что просыпаясь, он не сразу собирает себя по постели, он переворачивается, встает и начинает жить через пять минут после пробуждения. o:p/
— Нет, так нельзя, — возражает L яростной немой речи X. — Я бы не стал так безоговорочно. o:p/
Там что-то происходит, у X сменилось настроение, и L точно знает, что сейчас последует отповедь, гневная тирада. Ее он, впрочем, не слышит, но от этого не легче. Ухо, прижатое к трубке, горит. Лепет молчаливых слов разлетается по комнате. Чем бы все это могло быть, думает L, а вот уже вовсе и не думает, роняет трубку, но X на том конце кладет ее на рычаг, а что при этом думает X, уже никто никогда не узнает (заперся X и ключик выбросил), а что думает L — ничего не думает, дремлет в золотой тьме, просвеченной фонарем с улицы, и жена рядом, L понемногу замирает, засыпает, вечность проходит над ними, X больше ничего не говорит — было молчание, а теперь безмолвие. Снег принимается идти, и к утру улицы обваляны, а к полудню засыпаны. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
33. СВОЙ o:p/
o:p /o:p
Многие думают, что я вернулся потому, что у меня отобрали бизнес. Нет, это не так. Вернее, бизнес у меня действительно отобрали, но это случилось гораздо раньше, и это был уже не первый бизнес, который я потерял. Я умею терять, умею подниматься и начинать все сначала, и я действительно начал все сначала, уже по третьему разу. Я снова открыл свое дело, было очень трудно, но мы снова начали подниматься. К моменту, о котором я говорю, мы уже почти вышли на тот уровень, когда не то чтобы можно не беспокоиться, но когда фирма живет, когда это нормальный рабочий режим, вот какое было положение мое на тот момент. Я двадцать лет был предпринимателем, целая жизнь, и на тот момент я не был банкротом, не был в жопе. Просто мне позвонил директор нашего завода, тот парень, с которым я когда-то работал бок о бок, и сказал: возвращайся. o:p/
o:p /o:p
Вам может показаться: в каком смысле «нашего» завода, завод же всегда был государственным, а тот бизнес, который был у меня, он был действительно мой, например. Ну, на это я не знаю, что сказать — тут у меня нет ответа, почему это так, а не иначе. Я спросил: ну и сколько ты мне даешь на обдумывание? Пять минут, говорит. Ну, мне не понадобились. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
34. ЧУЖОЙ o:p/
o:p /o:p
Как хорошо, что ты вернулся. Стал такой темненький. А мне нравится. Чем-чем вы торговали? Метизами. Ну вот, от железяк тебе не уйти. Развалились? Ага. А мы тут нет. А мы тут — вот... Да-да, девяностые, они прокатились... укатали. Устал немного. Сбежал с производства за легкой наживой. Ничего. Ты здесь незаменимый будешь. У нас всего тысяча народу. Так что заменимых нет. А будешь ты у нас... О! Ты будешь пиаром. У нас нет пиара. Мы дадим тебе кабинет, который раньше арендовало посольство Сенегала. Там, правда, немного пыльно и висит типа магическое зеркало вождя. Но ты пыль вытри. А с зеркалом я тебе напишу, как общаться. Военспецам, гы-ы, командует — слушаются. o:p/
Кабинет посольства Сенегала уныл. Магическое зеркало висит и не отсвечивает. За окнами тоскливый заводской двор. Пыль полосатыми слоями висит в неподвижном воздухе. Лампочки дневного света бушуют и трещат над головой. Чего Данилка тут навертел-то? Завод вроде. А не предвиделось никакого завода-то. Открывает шкаф; вываливаются кипы старых чертежей. Берет их в охапку и отправляется во двор, к помойке. Чиркает спичкой. Будешь мне рассказывать. o:p/
Никто небось не вернулся. Один он такой дурак возвращаться. Как быстро проходит жизнь! Жизнь-то, о-о, как быстро она проходит! И какая тоска! Какая тоска! Над заводским двором тоскливое серое небо. А прошло-то всего десять лет! Десять лет-то всего только прошло! (Попирая ногой пепел старых чертежей.) Выгребная яма для снега. Розовая линия на стене. К горлу подкатывает тошнота. o:p/
Вдруг на периферии взгляда возникает странная сцена. Молодцеватый страшнозубый юноша катит тележку, на которой качается огромный штабель коробок, утыканных фиолетовыми печатями. Вокруг тележки вьется старушка Тася-регулировщица в драных уггах своей правнучки. Ее лицо покрашено в могильно-арлекиновые цвета. Брови зачернены. Привет, Z! — кричит Тася. Скажи своему приятелю, чтобы хоть, что ли, щебенки подсыпал! А лучше заасфальтировать! Ты где был-то, Ходжа, в армии? Родину защищал? Нелепость Тасиного предположения заставляет страшнозубого юношу разгоготаться неожиданно смешным смехом. Z замечает, что в ушах у него монеты. Помочь довезти? Не надо! Мы тут уже каждую выбоину знаем! Давай, C, двигай! Давв-вай! — и они исчезают в боковой норе главного корпуса, вдвинувшись туда с лязгом и кряхтеньем. Сапоги у обоих рваные. У меня скоро будут такие же. o:p/
На лестнице Центральной башни все как прежде. Не померкли кинескопы, которыми обклеил стены директор V. В кабинете директора по производству орет директор по производству, несгибаемый F. Потому что четвертый день не могут сделать нужное количество!! Нет, тебя я не виню, ты ни при чем! Ты заказал — тебе должны сделать. Но вы-то какого хера вы не работаете?! Все месяц на ушах стоят! Стараются сроки соблюсти! А потом из-за вас все летит к чертям собачьим!!.. Меня ЭТО не волнует! Это я знал уже в прошлом году!!. К вам перевели I и U, для вас ВСЕ сделали! Чтобы вы стали нормально работать!! Идите!!. Позор!!. Из кабинета на Z вываливается начальник девятого цеха Пал Палыч P (младший, тот, что мыл «Волгу» директора N) с пылающими ушами и выпученными глазами, за ним летит главный диспетчер A, а за нею начальник шестнадцатого G на полусогнутых. Z стучится и заходит. F пьет из носика чайника. Ага, Z, приперся! Блудный сын! То-то же! А я тебе говорил — держись за трубу, сынок! Держись за трубу! Не расстраивайся, ты бы все равно директором не стал! Ххех. Ты приходи завтра веселиться, там молодежь устраивает что-то нерабочее. Все, вали, у меня дел. Скажите, а где теперь Симочка M. Ушла? Нет, работает себе... Их, знаешь, во внутренний двор перевели. Ну ладно! Увидимся! — F резким движением тушит сигарету и хватает трубку: алло! (Впечатлительный F подражает директору N, при котором начинал; демократичное тиранство; умение увидеть человека в работнике, и наоборот; замашки; сигареты; всех по именам и на ты; спиртяга в чайнике.) o:p/
Ну что: к M. Лучше сразу. В первый же день. Увидеть, плюнуть и забыть. Z входит во внутренний двор. Ворота туго забинтованы пожарным шлангом и замазаны известью. Мелом крест. Z поскальзывается и с размаху падает на лед. Ладони ошпаривает. Z вскакивает как пробужденный. Напутал старик, что ли. В какой еще двор?! Значит, с той стороны. Однако 15:30; спешить надо, уйдет. Z скачет обратно к Центральной башне. Вбегает на пустынный второй этаж (а были здесь цеха и цеха, народу было густо). Кажись, где-то тут был сквозной проход. Этот? Нет, этот! Перекрасили, ничего не узнать. Z устремляется по проходу. Поворот, еще один. Новые двери и вывески. Выход на зеленую лестницу. Теперь — странный выверт — надо подняться на третий, потом через коридор, а там вниз во внутренний двор. Наверху темно. Так и должно быть, свет впереди. Z на ощупь пробирается по коридору третьего этажа. Где же свет? Маленькая лесенка вниз, тут когда-то был отдел технической документации, сверхсекретная Маргарита Константиновна ела документы перед прочтением, а теперь, похоже, тут никто не то что не работает, а даже и не бывает. Z становится не по себе. Нет, кажется, отсюда выхода во внутренний двор нет. Может, спуститься по зеленой лестнице? Так же, на ощупь, — назад; вот уже и выход на зеленую лестницу; теперь вниз на второй... но дверь, тяжелая дверь, обитая клеенкой, оказывается запертой. Чья-то рука захлопнула эту дверь, пока Z метался по закоулкам и тупикам отдела технической документации. Или, может, ветер. Но теперь выхода вообще никуда нет, больше отсюда нет выходов. o:p/
Z садится в продавленное старое кресло, на площадке зеленой лестницы, между вторым и третьим. Тускло светит лампочка сквозь сетку неработающего лифта. Z закуривает. Времени без пятнадцати четыре. Она, конечно, уже ушла. Вполне может быть и так, что... Что здесь вообще никто не бывает постоянно. А это значит, что... до Нового года никто тут и не появится. Никакой на свете зверь не откроет эту дверь. Мобильник Z остался в кабинете. Но ему нестрашно. Я почти не спал сегодня. Ворочался, о чем-то думал, думал... Понятное дело, я думал о M. Не об этом же сраном заводе «Свобода». Я вообще пришел сюда только потому, что ведь надо же куда-то прийти. Но я здесь чужой. Я и тогда был здесь чужим. Мне надо уехать жить в теплую страну; я полуузбек, полуеврей. «Какой ты стал темный». Пыльный зеленый свет, как в зрительном зале на генеральной репетиции спектакля. Мысли Z торжественно громоздятся и путаются. Он дремлет. o:p/
Z просыпается оттого, что на него кто-то смотрит. Вздрагивая, он открывает глаза. На площадке третьего две женщины; в пальцах по сигаретке. Смотрят. Господи Боже мой, да это Ходжа! Z моргает. Он ослеплен. Какое там плюнуть. Во рту пересохло. И глаза еще зеленее. M, пытается вымолвить Z. Снимает и протирает очки. Протирает лысину. Встает. Одергивает пиджак. Спокойнее, надо найти точную формулировку. Милая M, они с тобой ничего не сделали. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
35. БОБЫШКИ o:p/
o:p /o:p
Позапрошлый директор завода, V, пожелал ознакомиться: что сделал новый, молодой (всего пятьдесят) директор L с подведомственным ему предприятием. Такую возможность директор L директору V, конечно, устроил. Директор V пришел в цех, скачет по цеху, рассматривает и трогает станки с программным управлением и произносит блестящие речи. За ним приглядывает и ходит нынешний директор L. Ему важно, чтобы директор V оценил, как он работает. Оценил бы, как вырос L и что он стал настоящий хозяин, вошел в самый сок. Из этого страстного желания L очевидно, что на самом деле L еще не вошел в самый сок. o:p/
Вот — прошу любить и жаловать, это наш D. Старейший механик завода. Сколько ты здесь, на этом месте, работаешь? Уже пятьдесят семь лет. В одном цеху. На одном рабочем месте. На самом деле — мы с ним вместе начинали. Только он сделал карьеру, а я — нет. Так на этом самом месте и остался. Ну, потому что он же негодяй... Негодяй. Конечно. Я и не... Приходится часто принимать решения, которые... Зато D у нас — чистый ангел, потому и карьеру не сделал. Но зато меня не будет, и никто не пожалеет, а если D у нас загнется — завод в тот же день встанет. Он преувеличивает. Да и вообще, с чего бы нам загибаться? Правильно! Мы не загнемся. Мы мужчины в самом расцвете сил. Сколько тебе было, когда ты сюда пришел? Пятнадцать, как и тебе. А пришли мы с D сюда, потому что были троечники, и никакие предметы в школе нас особенно не интересовали. Разве что физкультура. Прикрепили нас к Данил Данилычу... И он нас обучал тонкостям и премудростям мастерства. Причем D у него как раз стал учиться хорошо, а я учился плохо. Поэтому я остался слесарем, а D перешел в механики. Ага, и поэтому ты у нас теперь вон куда, а я так механиком и остался. Работа интересная, уходить с нее никуда не хочется. У меня тоже... o:p/
А между прочим, я в свои девятнадцать лет получал знаете сколько? Тыщу семьсот рублей. Народу тогда работало! Грубо говоря, попа к попе. Внизу ребята у станков в очередь стояли. А мы, сборщики... С завода не уходили ни в выходные, ни в праздники! И мы никогда не задавали вопросы, как это сделать или то сделать. Мы смотрели чертеж, и если чертеж был читаемый, мы по нему работали. И мы всегда знали, что за изделие. Для чего оно. Все технические характеристики. Если где-то ракеты запускают — у нас праздник. Оборудование-то все наше. Помню, как сейчас, Пауэрса сбили... А мы для «Волхова», которым сбили, шкафы клепали! И начинку кое-какую тоже. Или вот — Карибский кризис... Вся геополитика, она вот тут, вот этими руками делалась! А через мои руки практически 80% всех изделий прошло! Лоханка стояла, и каждый фильтр бегаешь, туда окунаешь, моешь спиртом. Сердце кровью обливалось! Помню, мы только-только «Золотой шар» начали собирать. Вышла с ним история. Он весь из нержавейки, а нас никто не предупредил. Там колеса во-от такие, огромные. А посадка должна быть и плотной, и чтобы легко снималась. Стали подгонять, постучали — не идет. Тогда мы пошли на первый этаж, а там у нас стоит пресс двадцатипятитонный. И мы его под пресс... Колесо разошлось, превратилось в «розочку»! o:p/
Директор V движется вдоль стенки, опережая самого себя, с неубывающим проворством и живостью. Он хаотично приближается к рабочему месту токаря Q. Рабочее место залеплено кибер-героями славянской национальности. «Будь одиноким волком!» — гласит девиз Q. Семь лет назад Q сблизился с девушкой Яной, продавщицей в магазине бытовой техники. Q нежил Яну, воспитывал ее маленькую дочь, подвесил на даче качели, кормил земляникой с ладошки. Однажды дурак Q полез в почту Яны и обнаружил там зрелую б…скую переписку. С земляникой было покончено. Теперь на даче Q только ржавые цепи от велосипедов валяются там и сям. o:p/
Бывший директор V, который в своем блаженном директорстве редко бывал в цехах, приближается к станку Q. Токарь? Прекрасно! А почему на завод пошел работать? Ах, нравится? Чудесно. А ты хоть понимаешь, что это такое — заточить резец, как это важно — заточить резец? Конечно! Это же мой рабочий инструмент. Я считаю, что жить должно быть ради чего... чего жить ради чего. Ради для чего. Да-да! — взволнованно подхватывает директор V, своей присоединяющейся натурой уже почувствовавший, что имеет дело с родственной душой. Резец заточить! Директор V тоже был токарем, правда, совсем недолго, но без этого нельзя ж, если не быть и токарем, и одновременно чуть-чуть актером, никогда не станешь... ну, то есть. Вот ты мне скажи, вот ты человек молодой, а почему в офис не пошел, там же больше платят? С железками интереснее? Согла-асен! А вот как ты понимаешь, что вообще ждет впереди? Тебе сейчас виднее, чем мне, я уже старик, понимаешь, мне восемьдесят пять, а тебе вот — что видно? Ну, ну, ну, это ты загнул, какой еще там конец света, это ты меня, брат, не расстраивай. Это бред и чушь. Вот, знаешь, мы в свое время... ракеты запускали. Многие опасались. И вот оказалось, как ни странно, что мир прошел сквозь это. И сквозь это тоже! Думаешь, переселимся? Вот это было бы круто, но мне трудно себе представить. o:p/
Так они беседуют, а директор Данила L между тем бродит рядом за станками, и мысль его, под разговоры Q и V, уходит в другую сторону: на завод вскоре приезжает комиссия, которая будет проверять, что там с «Золотым шаром», можно ли доверять «Свободе» выпускать новую его модификацию. Тендер выигран, да завод в таком состоянии, что... А может, вместо того чтобы водить комиссию по цехам, лучше снять фильм? Снять фильм о заводе, о «Золотом шаре», да и показать его комиссии. Так когда-то и поступил директор V. Комиссия посмотрела фильм и осталась довольна. Сделаем так же и мы. А то... ангара под готовые «Золотые шары» у нас нет; и вообще; тряпки и спирт, железная стружка и неприличные картинки на стенах. Токарь Q весело смеется впервые за несколько месяцев, и V тоже смеется. Резец заточить! Директор V вцепился в пуговицу токарю Q, да-да-да! Именно! Ты совершенно прав! o:p/
За окнами подсолило снежком, и профиль женщины, складывающийся из трещин в асфальте напротив Центральной башни, становится белым, прозрачным и ледяным. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
36. РЕМОНТОПЛИВНОЙ ЗАВОДЧАН o:p/
o:p /o:p
Моя мама убирает ремонтопливную завода «Свобода». Это огромное резиновое поле под крышей. Резина твердая, почти как асфальт. Если разбежаться и подпрыгнуть, то можно ощутить, как она пружинит под ногами. Если лечь где-нибудь под станком, там, где резина не утоптанная и не грязная, и понюхать, и лизнуть пол, то земля там имеет запах и вкус резины. В ремонтопливной люди делают более высокие и широкие шаги, чем по обычной земле. Это сделано для того, чтобы люди на заводе быстрее перемещались, ведь ремонтопливная большая. Мне на резиновой земле всегда хочется скакать и бегать. Но мама объяснила мне, что это опасно. Одна женщина скакала по ремонтопливной, ударилась виском о железяку и умерла. o:p/
Дорога в ремонтопливную проходит через множество приятных и неприятных мест. Сначала приходится дышать ртом. В других местах на заводе пахнет хорошо: кирпичом, железом, асфальтом и дымом. Но есть место, рядом с проходной, где пахнет очень плохо. Поэтому, когда мы проходим через проходную, я заранее зажимаю внутри нос и начинаю дышать ртом. Но мой мозг все равно вспоминает этот запах, так что зажимать нос изнутри не очень помогает. Потом мы выходим во двор, и мне приходится зажмуриваться, потому что мы идем мимо большой квадратной ямы, а я там однажды увидел убитую кошку кишками наружу. Во дворе растут деревья. Осенью на них росли маленькие радиоактивные груши. Их нельзя есть, но маленький кусочек можно. Вкус этих жестких груш средний. Под грушами также растет боярышник, шиповник и кое-где барбарис. Все это радиоактивное. Но одну ягодку можно. o:p/
После двора мы оказываемся в большом кирпичном восьмиэтажном доме с башней на крыше. Мы вызываем лифт. На заводе лифты очень хорошие, и я их не боюсь. Они хоть и старые, но крепкие, не разболтанные, и в них не трясет. В них не написано и не нарисовано никаких неприличных картинок и слов. Нет там надписей «Кто из б… худшая б…» и «Вика корова». Не валяются объедки пряника, семечная шелуха и окурки. Единственный недостаток есть у заводского лифта: он может остановиться раньше, чем надо, и открыть двери. Надо просто еще раз нажать на кнопку, и он тогда едет правильно. o:p/
Когда выходишь из лифта на пятом этаже, то попадаешь в самое прекрасное место на свете. В этом месте я хотел бы жить после смерти. Стены здесь обделаны красивыми пузырями с розово-голубым нежным отливом. Каждый из этих пузырей похож на космос. o:p/
Потом приходится затыкать уши, потому что дорога в ремонтопливную ведет через тридцать пятый цех, а в этом цехе все время что-то зловеще гудит. o:p/
И уже после этого цеха мы наконец входим в ремонтопливную. Мама начинает убираться, а я просто хожу, все разглядываю и ищу всякие штучки: гайки, шестеренки, колесики, железные палочки и другие бобышки. В последнее время ничего, правда, не находится. Наверное, все бобышки подобрал Вертер. o:p/
Мне очень нравится фамилия Вертер. Вообще с заводом связано много хороших фамилий. Например, Вертер, Допкис, Задорожный, Фраткин, Ратманов. Эти фамилии слышатся в разговорах мамы и разных людей на заводе. Я бы хотел иметь такую красивую фамилию. Вместо этого у меня фамилия Соломаха, от слова «солома». Правда, на заводе есть и много некрасивых фамилий. Например, Сепитый. Человека с этой фамилией я знаю. Он медленно ходит в негнущихся штанах. Обычно он молчит. Я с ним не здороваюсь. Однажды он мне сказал: шляешься? Лучше б матери помог. Корячится с тобой одна. Мне стало стыдно. Я подошел к маме и сказал: давай-ка я тебе помогу. Но мама, конечно, сказала: ты мне помогаешь тем, что не мешаешь. o:p/
Пока мама работает, мне с ремонтопливной выходить нельзя. Завод «Свобода» с советских времен секретный, и если я на нем потеряюсь, меня никто не будет искать и никогда не найдут. Я часто смотрю в окно и придумываю истории о том, как я жил бы на заводе, если бы заблудился. Думаю, я бы не умер. Ведь я знаю, где столовая, я был несколько раз, и меня там кормят бесплатно. Спать бы я ночью ходил на четвертый этаж того дома, в котором проходная. Там касса, а к кассе ведет мягкая красно-зеленая дорожка. Я завернулся бы в нее, как Волк из «Ну, погоди!», и мне было бы очень уютно внутри этого рулончика. В кассе пахнет очень изысканно, это канцелярский запах, связанный с такими словами, как «рейхсканцлер» и «секретарь бюро цуката поэцесс». o:p/
Однажды мама убиралась там вместо тети Люси, а меня заперла в один маленький кабинет и дала карандаш порисовать. Я стал открывать ящики стола. В одном из них были спички. Я случайно засунул карандаш в отверстие большого железного ящика, незаметно видневшегося в стене, так что ящик открылся. Долго я зажигал спички и бросал их внутрь железного ящика. Я скомкал несколько бумажек, которые оказались внутри ящика, и устроил небольшой костер. Я все делал аккуратно, и мама ничего не заметила. o:p/
Итак, я спал бы в том доме, где ковер. Все остальное время я ходил бы по заводу, научился бы работать на станке и постепенно стал бы токарем. Иногда я навещал бы маму, когда она моет ремонтопливную. o:p/
Но это лишь фантазии, потому что на самом деле я просто боюсь выходить из ремонтопливной один. Ведь чтобы потеряться, надо сначала пройти через цех номер тридцать пять, где всегда стоит зловещий гул. Поэтому не теряюсь, а нахожусь в одном и том же месте — в ремонтопливной, и мне там иногда скучно. o:p/
В самом заброшенном уголке ремонтопливной стоит одна пыльная заброшенная железяка. Раньше около нее валялось много бобышек, но я их все собрал, и теперь там так же скучно, как и везде. Одно хорошо, что пол там еще резиновее, чем в остальной ремонтопливной, и желтее. Так что на полу у заброшенной железяки можно очень высоко прыгать. Еще за железякой поставлены в стопочку заброшенные доски, сделанные из ткани, натянутой на деревянные тонкие дощечки. Они очень пыльные, но если постараться, можно прочитать, что на них написано белыми буквами. Вот что на них написано: o:p/
«Не допускай увеличения времени пролеживания!» o:p/
«Крепкие тылы — изделие без брака!» o:p/
«Соблюдай режим! Враг не» o:p/
И еще там лежит дощечка поменьше, на которой написано o:p/
«заводчан!» o:p/
Но однажды мне стало так скучно, что просто кошмар, и я нашел маму и стал ее просить и умолять: o:p/
пожалуйста, разреши мне пойти прогуляться до лифтов! Я хочу побыть немного на лестнице, где стены обделаны пузырями. Я не заблужусь, умоляю тебя, я же все время хожу этой дорогой! Хорошо, сказала мама. Но только больше никуда. Побудешь там немножко и вернешься обратно. o:p/
Я подошел к двери, которая вела в цех тридцать пять. Сердце у меня забилось очень сильно. Я крепко заткнул уши, всем телом навалился на дверь, дверь открылась, и я побежал. В тридцать пятом цеху пол не резиновый, а бетонный и весь в трещинах, так что я бежал очень быстро, делая большие прыжки, чтобы не наступать на трещины, и одновременно заткнув уши. Я промчался как молния через тридцать пятый цех и выскочил на лестницу, где лифты, и оказался в этом чудесном месте, которое так люблю. o:p/
Там было тихо и холодно и пахло, как обычно на заводе: кирпичом, бетоном, горелой проводкой, а еще свежим ветром и свежим снегом с улицы. Я стоял в этом волшебном месте очень долго, любуясь пузырями на стенах, высоким потолком, на котором росла паутина, и слушая заглобный гул тридцать пятого цеха, который отсюда было нестрашно слышать. o:p/
Потом двери лифта разъехались и оттуда вышли, весело пихаясь, две толстячки в белых халатах. Да ну конечно, сказала одна. А те, кто живет в Поддоне, наверно, называются «поддонки»! Нет, я серьезно! — захохотала вторая. Если все деньги на это угробить, то, может, и не сломают... o:p/
И больше я ничего не услышал, потому что они обе улизнули в тридцать пятый цех. Они так спокойно вошли в это страшное место, и я подумал, что хорошо быть веселым. И я решил быть веселым и собирать шутки и анекдоты. И еще я решил, что сейчас пойду обратно и не буду как трус мчаться, заткнув уши, а спокойно себе пойду по тридцать пятому цеху, как будто я там работаю. o:p/
Но тут двери лифта опять разъехались, и на пятый этаж шагнул обезьяноватый мужчина. Ты чей, сказал он. Я ответил: здесь секретный завод, и это секрет. Мужчина засмеялся. Потом он посмотрел на часы и сказал: курс видел? Не знаю, сказал я. Балда! — сказал мужчина. Короче, на башне был? Быстрее отвечай, мне через двенадцать минут... Не был, быстро сказал я. Пошли тогда посмотрим. Мы поехали наверх. На восьмом этаже вылезли из лифта, прошли по очень чистому и невысокому коридору, а потом еще поднялись по железной лестнице. Мужчина открыл люк и вылез на крышу. Я тоже вылез за ним. o:p/
Мы оказались на крыше, под самым небом, на снегу. Мы оба были без курток. Но я точно знал, что мы не простудимся, потому что это не тот случай, когда простужаются! Мы были на башне! Мужик обвел всю округу рукой и сказал: вот мы на башне! А это — «Курс»! o:p/
Я увидел «Курс». Он состоял из огромной антенны кругло-квадратной формы. «Курс» тихо, молча поворачивался на длинной высокой палке. А зачем? — спросил я. Если хоть одна вражеская лодочка захочет пересечь в плохую погоду залив, отделяющий их от нас, «Курс» немедленно даст знать. А если это будет дружеская лодочка в хорошую погоду? Тем более. Чай поставить, пряников купить. o:p/
Мои ноги увязали в снегу. Серое небо над нами казалось розоватым. Башня с Курсом была очень высоким местом. Я увидел и Нарвские ворота, и площадь, и собор, и даже вокзал. Мы пробыли на крыше совсем недолго. Все, пошли, — сказал мужчина. Он загнал меня в люк и отвел обратно на пятый. На прощанье я сказал: все-таки давайте познакомимся! Меня зовут Саша Соломаха. А вы кто? Я — Фраткин, сказал мужчина. Я сказал: очень приятно, я о вас слышал. Я бы очень хотел быть Фраткин. Или Вертер. Фраткин сказал: ого! Я тоже хотел бы быть Вертер, но я Фраткин, и на том спасибо. Пусть каждый будет собой: я — Фраткин, ты — Соломаха. Я сказал: мне не нравится моя фамилия, она от слова «солома». Нет, она не от слова «солома», а от слов «соло», то есть один, и «махач», то есть драка. Значит, ты — это тот, кто в одиночку может победить многих. Усек? Усек, сказал я. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
37. ИНТЕРМЕДИЯ o:p/
o:p /o:p
несмотря вот будем прямо говорить на это я шел через те же какие-то вот да как бы должности ступеньки этих лестниц, поэтому вот я не знаю набрал некую статистику, можно ли да вот эту самую структурную схему административную как вот это все работает насколько это интересно да наверное это все интересно особенно да но это не очень интересно // простите мне простите что к вам я не спешу последний посетитель под деревом сижу не пьется светом тонкое осеннее вино а льется черной жженкою осеннее вино уходят тропы дальние за границу дня и ночи опоздание не радует меня // на самом деле для меня завод это такая знаешь модель модель вот нашего государства как ни странно модель того вот знаешь как вот я не помню у ларса фон триера был один из его первых фильмов про психиатрическую больницу она называлась королевство это был телесериал я не помню он описывал эту модель общества существующую в реальности модель нашего государства в частности потому что этот завод в государстве и нам свойственны все те пороки и здесь есть социум здесь есть там бюрократия которая вот тоже собственно говоря все ею пронизано и мы видим коррупцию потому что где бюрократия там и коррупция мы видим здесь и любовь наверное ну вот достаточно государство вот эти четыре вот как бы стены которые можно взять покрутить на столе и представить себе это общество в котором мы вот как-то и живем как ни странно я тоже замечаю ну по крайней мере мне так кажется // я человек чужой, отдельный во мне течет чужая кровь как в трубах заводской котельной горячий ржавый кипяток все эти люди и железки мне не родные и ничьи но я иду дорогой этой и на веревочке ключи как будто вовсе не отпетый как будто счастие включил // мы производим изделия да мы производим продукцию мы ее даже поставляем нашим заказчикам которые ее эксплуатируют но можно ли найти в этом смысл думаю что нет потому что эта продукция это не самолеты которые перемещают пассажиров там вот да из труднодоступных мест и не то чтобы мы были там вот да такими альтруистами наша продукция по большому счету это оружие призванное что делать как говорится сам понимаешь поэтому учитывая что мы не в военное время живем где ну вот каждый да вот как бы впустую потраченный нами час был бы вот да подобен предательству или дезертирству мы делаем то что ну вот да никому не нужно как бы сегодня это ну вот знаешь да я и называю это музей как бы да вот военно-морской музей который да вот можно строить как бы до бесконечности но он не приносит сегодня ни доходов ни расходов ничего ну вот как бы да поэтому ну вот о чем можно говорить // мне снилась синь и сильных линий подвесы вдаль за горизонт и каплет каплет мне под ноги и в сливах косточки шумят и я иду пустой и строгий как целлофановый наждак я тру железо прикасаясь и солнца слой лежит на нем мне можно веточки не трогать они меня не прорастут и эти вышки эти русла и я их не перерасту // скажем так люди которые вот попали к нам на завод они увидя все это не то что как бы вот это их цепляет а вот они зависают как бы здесь на какое-то время но этого время его иной раз как бы вот достаточно чтобы забыв ответить на вопрос зачем я здесь остался здесь хотя говорить что это конечно не самые правильные как бы вот методы и не самая правильная вот позиция в жизни это просто неудачники как бы те которые у нас на заводе люди с амбициями какими-то конечно не будут работать здесь как бы да вот потому что встречаются же и нормальные люди как бы вот с амбициями а я могу на эту денежку жить не могу поэтому слава богу что работники отдела кадров они себе подобных вопросов не задают и совестью по этому поводу не мучаются не нравится уходите хотя на самом деле ну вот как бы да я выйдя из такого отдела кадров я бы просто вот ушел оставил // ах если бы я мог уйти оставить то я б уже давно ушел оставил не разбудил бы никого ушел оставил но я и так уже уйду оставлю // я бы здесь устроил Диснейленд по крайней мере приносил бы пользу и доходы на месте завода хотя бы хотя я уже присмотрел получше место у нашего концерна одно из предприятий есть такой же завод там в отличие от нас остался пионерский лагерь и они его сегодня пытаются эксплуатировать если бы туда поставить управленца Диснейленд бы безусловно случился как бы да вот если бы тут была другая страна и другой народ // мне хочется шара и круглого дыма мне хочется мультиков и эскимо и все что нельзя а нельзя ничего ничего так жить невыносимо больше сказал один и взял топор так жить невыносимо больше сказал другой и до сих пор себе живет невыносимо и не выносит ничего и даже город Хиросима но вы не трогайте его // почему я так много тут работаю да работаю много а что делать ну да вот работаю и никогда не ухожу с завода как бы вовремя да и в моем представлении значит это так что я просто не могу делать работу которую как бы да я делаю я не могу там делать ее плохо потому что всегда есть выбор ты проводишь целый день от восьми утра и там вот до девяти десяти вечера и я думаю как бы просто как бы какое-то моральное удовлетворение оттого, что да вот пропадаю на заводе ну я тебе скажу отчасти я тебе говорил да для меня завод и продолжение отца и много чего еще на заводе мы снимали кино мы создавали выставочные экспонаты делали выставку и много чего еще для нашей как бы да корпорации такой как бы да своего рода тимбилдинг много талантливых людей есть и прочее на заводе у нас есть собственно говоря я и те люди которые могут это делать мы это делаем нам это не то чтобы в тягость и люди которые попавшие как бы да вот внутри себя как бы самореализация вот как бы да и я понимаю что это ну как бы да еще вот значит да как бы получаем скажем так вот те эмоции который так скажем да вот ну определено в этом месте получить ну наверно вот знаешь ну вот там а завод обречен будущее его предрешено о чем тут говорить o:p/
o:p /o:p
носит с собой записную книжку в виде потрепанного библиотечного издания «Что делать?» Чернышевского: корешок, обрез, обложка — все имитировано с совершеннейшей точностью, так что когда у него спрашиваешь, он делает с этим «Что делать?», читает, что ли? — он отвечает «нет, пишу» и распахивает тебе ежедневник, километры пустых страниц, которым, однако, рано или поздно придет конец o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
38. ИНЖЕНЕР H o:p/
o:p /o:p
АШ всегда, всю жизнь чувствовал нехватку, скудость жизненных сил, серость, узость потока, который тек через него. Может, это оттого, что детство АШ пришлось на трудные годы, когда ели только яблоки, картошку, хлеб да капусту, а пили (кроме спирта) главным образом «пятиминутку» из черной смородины с водой. АШ всю жизнь был худ и невысок. Белесые волосы стриг коротко, а после двадцати пяти начал слегка лысеть, да иного от себя и не ждал. Не досталось АШ ни отца, ни братьев-сестер; ни приметной внешности, ни чрезвычайных талантов. Но и полной беспросветности не досталось: ни отчаяния и нищеты, ни глупости. Нет, АШ был втайне и отчасти умен, иногда и весьма чувствителен, да и неброского чувства юмора (для собственного использования, ибо АШ был скорее молчалив) ему хватало. o:p/
Впрочем, нельзя сказать, чтобы АШ из-за этой нехватки впадал в уныние. Да он вообще о таких вопросах не думал. АШ ел что дают, делал что должно, записывал решения задачек синей шариковой ручкой, хвостик которой всегда был им изгрызен, таскал на тощей спине замызганный синий рюкзак, вставал рано и завтракал в кухне, полной синих теней, ежась от холода, бежал вниз по старой темной лестнице. В школе АШ не выделялся, ни в обычной дворовой, ни в математической, куда перешел в восьмом. Все же и совсем неприметным не был; в целом славный малый, адекватный, четкий парень, не то чтобы такой уж тихий — обыкновенный; сунет руку — привет; в футбол — завсегда пожалуйста; разговор поддержать — вполне. Он даже входил в число десяти сильных учеников класса, в верхнюю треть: Петров, Иванов и так далее (когда учитель их перечислял, то АШ не упоминался, но всегда имелся в виду). o:p/
А нехватка? Ну, порой АШ думал: и чего я такой тощий? И еще что-то похожее иногда чувствовал: что есть еще что-то, чего могло бы быть побольше; возможность этого в себе, какие-то недоразвившиеся ростки; как если бы дальтоник вдруг увидел розово-зеленый сон, а потом проснулся и недоумевал: что это было, как называется? — но не настолько сильное чувство, а легкое, почти невесомое; но непрерывное, как гул, как пыль. o:p/
Потом АШ поступил в вуз, конечно на инженера, и учился ничего так, писал своим куриным почерком конспекты; кем он будет, у него идей не возникало, он об этом не думал, где-то подрабатывал, помогал маме, а потом, на четвертом курсе, приходит он однажды на кафедру обсуждать тему курсовой, и ему его научрук говорит: хочешь написать курсовик на заводе «Свобода», там начинают делать какой-то новый прибор, потом и диплом сможешь сделать приличный, заодно освоишься и, может, зацепишься — там инженеры нужны? Конечно, спасибо большое, — горячо поблагодарил АШ и отправился на «Свободу». o:p/
«Свобода» поразила АШ. Огромные пустые цеха, тень былого величия; по заводу его водил, конечно, не кто иной, как одессит D, красноречиво простирая руку и взывая к модернизации, к новой промышленной политике, поддержке армии, Форду и Петру Великому. АШ ежился, совал ладони-дощечки в карманы куртки и в целом энтузиазма не высказывал. Величественная и обшарпанная «Свобода» была явно не по размеру щупловатому пареньку-инженеру. И к тому же такая пустыня эта «Свобода». Здесь ведь восемь тысяч работало. А теперь тысяча. В ОКБ было восемьсот, а теперь сорок. Будущее туманно. Но, сказал D темпераментно, у нас сейчас новая разработка. Да-да. Первая за долгие годы. В нашем ОКБ. Мы ее начинаем. Хочешь с нами начинать? Называется «Курс». Радиолокационная установка, будет стоять во всяких там портах, на дамбах, маяках. Очень перспективно. Конечно, спасибо, сказал АШ. И вроде как улыбнулся. Или нет. Неважно. o:p/
В общем, влился он в это ОКБ... И стал разрабатывать этот самый «Курс»... Занимался регулировкой блоков. То есть что-то, допустим, не работает, но не работает каждый раз по-разному. И почему оно не работает, предстоит выяснить АШ. Как говорится, сделать из говна конфетку... И АШ не просто влился, а увлекся. Выяснилось вдруг, что все немыслимые знания, которыми его пичкали в вузе, на самом деле у АШ в руках и в глазах. «Курс» рос. Два года спустя его разработали и отдали на производство. Теперь АШ днями пребывал в цехах, точнее, в цеху № 19, где происходила окончательная сборка первого «Курса». Каждое утро в половине восьмого он поворачивал со Стачек на Волынкину, форсировал пригорок и в без пятнадцати уже был на «Свободе». Платили не слишком много. АШ знал, что мог бы заработать больше. Но тянуло к работе, и тоже не слишком, а слегка, ровно настолько, чтобы не уйти. o:p/
А еще был футбол. Когда парни позвали играть, АШ пошел: мяч погонять любил всегда. В футболе проявлялись обычно скрытые, стертые качества АШ: его лукавство, острое чувство ситуации, любовь к парадоксам, его легкость и прозрачность; а глаза его на футболе из серых становились стальными (хоть, может быть, кому-то и покажется, что серый и стальной одно и то же). Может быть, не хватало ему экспрессии, силы, напора, амбиции, но движения АШ бывали всегда скупы и отточены, он безошибочно чувствовал намерения друзей и врагов, его футбол напоминал шахматный блиц, и, конечно, с АШ победила бы «Свобода» и Путиловский завод, но побеждать его пришлось «Свободе» без АШ. На одной из последних тренировок АШ уронили, или он упал, в общем, парни чересчур увлеклись игрой, и вот уже АШ, хватаясь за ногу, лежал на песке и сосновых иголках и корчил жуткие рожи. o:p/
Лечение длилось месяц, весь остаток сентября и октябрь, так что когда АШ выпустили на свободу и он, совершенно, кстати, не хромая, преодолел перекресток и форсировал Волынкину, он заметил, что парк Екатерингоф уже облетел, и только на живой изгороди кое-где блестели мокрые красно-желтые листья. АШ шел и незаметно для себя наслаждался округой, осенью, любимым знакомым пейзажем, который наблюдал третью осень, а вдали уже высились башни «Свободы», и там, на башне, ждал его «Курс», который за время его болезни поставили туда и еще на дамбу. АШ миновал проходную, поднялся на третий. В ОКБ все были ему рады, и он был всем рад. Он стер пыль с экрана и включил компьютер. Начиналась новая разработка, продолжение «Курса», обещавшая еще несколько лет интересной работы. А ты на башне-то был, спросила Лида M. Ой, да ты ведь не был, вот сходи. Сходи на башню, если, конечно, нога нормально. Да нога нормально, спасибо, точно, пойду посмотрю, что мы тут все несколько лет клепали. o:p/
Башня, на которой установили первый экземпляр «Курса», была старинной башней. Она уцелела еще с тех времен, когда на «Свободе» располагалась ткацкая фабрика. Артобстрел, уничтоживший в 1942 году половину цехов «Свободы», пощадил ее: по ней пристреливались. АШ вылез на крышу и увидел станцию во всей красе. Он посмотрел немножко, а потом повернулся и стал глядеть на город. Ему было хорошо. o:p/
Чувство нехватки, то чувство, которое в нем было основным всю жизнь, вдруг неуловимым поворотом ключа как будто осветило мир; все так же недоставало, но это было прекрасно. Хорошо жить столько, сколько понадобится, и ты почти не переменишься, как не менялся до сих пор, и эта чуткость, и течение времени, теплая свежесть, воздушные токи вокруг, эта серо-белая дымка, в которой есть весь спектр, и «Курс», и новая разработка впереди, и узловатые веники тополей на чисто выметенном проспекте Стачек, и бледно-сиреневое небо над городом, — это и есть [...] o:p/
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Спи, моя птичка (идиш) .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> Закрывай глазки (идиш) .
o:p /o:p
Из книги «Human Chain»
Шеймас Джастин Хини (Seamus Justin Heaney) родился 13 апреля 1939 года в Северной Ирландии
Шеймас Джастин Хини (Seamus Justin Heaney) родился 13 апреля 1939 года в Северной Ирландии. Поэт, эссеист, переводчик, один из ближайших друзей Иосифа Бродского. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1995 года («За лирическую красоту и этическую глубину поэзии, открывающую перед нами удивительные будни и оживающее прошлое»). Книга стихотворений «Human Chain» (2010), в большей части обращенная к дорогим и близким людям, была написана после того, как поэт перенес инсульт, резко изменивший его прежде активный образ жизни. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Живая цепь o:p/
o:p/
Теренсу Брауну o:p/
o:p /o:p
Когда я вижу в теленовостях o:p/
Живую цепь раздатчиков еды, o:p/
Их руки крупным планом и солдат, o:p/
Стреляющих поверх толпы, o:p/
o:p /o:p
Запястья снова сковывает вес o:p/
Мешка с зерном — хватай за два угла, o:p/
Раз-два, глаза в глаза — и поворот o:p/
К грузовику, и вновь наклон, рывок. o:p/
o:p /o:p
Освобождение от ноши — вот o:p/
Честнейшая награда за труды! o:p/
Что больше не вернется никогда o:p/
Или придет однажды и навек.
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
«Не бодрствуй я тогда» o:p/
o:p /o:p
Не бодрствуй я тогда, я пропустил бы o:p/
Тот ветер, что кружась над крышей, o:p/
Устлал ее листвою сикомора o:p/
o:p /o:p
И захватил меня в живом порыве, o:p/
Дрожащего, как провода под током. o:p/
Не бодрствуй я тогда, я б не заметил, o:p/
o:p /o:p
Как он пришел и как исчез внезапно, o:p/
Почти опасный — словно бы большое o:p/
Животное пыталось в дом проникнуть. o:p/
o:p /o:p
Тугой порыв, на краткий миг вспоровший o:p/
Материю обыденности. Вот что o:p/
Случилось. И с тех пор повторялось. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Смерть художницы o:p/
o:p /o:p
Памяти Нэнси Уинни-Джоунс o:p/
o:p /o:p
Не синий склон, но золотой подъем — o:p/
Так из окна фронтонного видна o:p/
Ирландская сияющая нива. o:p/
o:p /o:p
Отличный ракурс — впрочем, не Сезанн, o:p/
Скорее, Томас Харди в старый плед o:p/
Закутался на склоне дней своих. o:p/
o:p /o:p
Теперь она не Харди, но скорей, o:p/
Воспетый им легчайший мотылек, o:p/
Летящий вдоль дорчестерской тропы. o:p/
o:p/
Нет-нет — Иона в пасти у кита, o:p/
Подобный, как сказали в старину, o:p/
Пылинке в глубине соборных врат. o:p/
o:p /o:p
o:p/
o:p /o:p
Чудо o:p/
o:p /o:p
Не тот, кто встал с носилок и пошел, o:p/
Но те, кто с ним бок о бок пребывал, o:p/
Но те, кто внес его — o:p/
o:p /o:p
Их ноющие спины и замок o:p/
Сведенных мышц, и взмокшая ладонь, o:p/
И груз, который выпустить нельзя. o:p/
o:p /o:p
Надежно притороченный, он был o:p/
На крышу поднят и уложен там o:p/
Для исцеленья. Помни же о тех, o:p/
o:p /o:p
Кто ждал, пока еще не веря и o:p/
Натруженные руки опустив. o:p/
Те, кто делил с ним тяжесть дней его.
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Дерри-Дерри-Даун o:p/
o:p /o:p
1 o:p/
o:p /o:p
Блеснул румянец o:p/
Закатный глянец o:p/
На крупном зрелом o:p/
o:p /o:p
Крыжовнике; руку o:p/
Протянешь только — o:p/
Рви невозбранно o:p/
o:p /o:p
В заросшем буйном o:p/
Саду за домом o:p/
У Анны Девлин o:p/
o:p /o:p
2 o:p/
o:p /o:p
На кухне, где всё o:p/
Как в старинной книге — o:p/
Мелкие груши o:p/
o:p /o:p
Горкой в глазурном o:p/
Белом ведерке, o:p/
Так живописно o:p/
o:p /o:p
Запечатленном o:p/
На красных плитках o:p/
Под низким сводом. o:p/
o:p /o:p
Пред спящей красою o:p/
Стою, пробравшись o:p/
Черным ходом. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Комментарии o:p/
o:p /o:p
Живая цепь. Теренс Браун — преподаватель англо-ирландской литературы, профессор Тринити-колледжа (Дублин). Родился в Китае в семье пресвитерианских миссионеров. Воспоминания о тяжелой физической работе отсылают читателя к юности Шеймаса Хини и его работе на ферме. См. также перевод этого стихотворения, выполненный Григорием Кружковым («Иностранная литература», 2012, № 3). o:p/
o:p /o:p
Смерть художницы. Название отсылает к раннему, хрестоматийному стихотворению Шеймаса Хини «Смерть натуралиста», давшему название одному из его стихотворных сборников. В последние годы жизни, переехав в горную область графства Уиклоу и вдохновившись окрестной натурой, Нэнси Уинни Джоунс (умерла в 2006-м в возрасте 83 лет) вернулась от абстрактной к фигуративной живописи. В начале стихотворения поэт описывает вид из окна мастерской художницы. o:p/
В оригинале мотылек летит через Кэстербридж — вымышленный городок в Дорчестере, где происходит действие романа Томаса Харди «Мэр Кэстербриджа» («The Mayor of Casterbrige», 1886), посвященного несколько романтизированной провинциальной Англии. Именно близ Дорчестера, в крохотной деревушке Хайер Бокхемптон и родился Харди. o:p/
o:p /o:p
Чудо. Реминисценция евангельского сюжета об исцеленном паралитике. В этом, ключевом для сборника стихотворении, Шеймас Хини в метафорической форме воздает благодарность тем, кто помог ему вернуться к полноценной жизни после тяжелого недуга. o:p/
o:p /o:p
Дерри-Дерри-Даун. Derry-Derry-Down — рефрен народной песни XVII века о лесничем («The Keeper»), который имел обыкновение стрелять олених и однажды встретил в лесу красавицу-девушку. В наполненном скрытым эротизмом стихотворении — аллюзия на ничем не потревоженную идиллию райского сада. o:p/
В 1965 году Шеймас Хини обвенчался с Мари Девлин (Marie Devlin), юность которой прошла в описываемой здесь сельской местности. Анна Девлин (Annie Devlin) — сестра жены поэта. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Галина Мария Семеновна родилась в Калинине. Закончила Одесский государственный университет, кандидат биологических наук. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат поэтических премий «Anthologia», «Московский счет» и «Киевские лавры». Живет в Москве. o:p/
Переводила прозу англоязычных авторов, в том числе Cтивена Кинга, Джека Вэнса, Клайва Баркера, а также стихи современных английских и украинских поэтов. o:p/
Неуместный
Аросев Григорий Леонидович родился в Москве в 1979 году
Аросев Григорий Леонидович родился в Москве в 1979 году. Поэт, прозаик, критик. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа. Публиковался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Звезда» и др. В 2011 году выпустил сборник рассказов «Записки изолгавшегося». Живет в Москве. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Если бы Л. Ничюс, герой нашей повести, не был настолько погружен в свои мысли, он бы непременно заметил за соседним столиком пышногрудую блондинку в самом соку, поразительно похожую на известную певицу, чьи песни ему весьма нравились и рядом с которой он давным-давно обедал в одном из тель-авивских кафе на набережной. Певица сидела в одиночестве, и Л. Ничюсу очень хотелось с ней познакомиться, но он сробел и даже автографа не попросил, за что себя потом неоднократно ругал. А сейчас он и вовсе не видел никого вокруг. o:p/
Мир начинается и кончается много где. Он начинается в любом огромном городе, будь то Нью-Йорк, Мехико, Стамбул или Гонконг. В тысячекратно воспетых и обхаянных каменных джунглях легко можно чувствовать себя покинутым, одиноким, брошенным, забытым, но там точно нет ощущения географического тупика, края света. Которое вполне появляется на окраине любого небольшого селения, в каком бы полушарии оно ни находилось. А когда ты сидишь в маленькой забегаловке в населенном пункте под названием Мицпе-Рамон (население — менее пяти тысяч человек, это даже городом не назовешь), перед тобой одна сплошная пустыня, за спиной не только пара сотен километров, но и предательство, унижение, обман и всякое прочее, ты смотришь вперед и не видишь ровно ничего — только вечный песок, солнце, которому до тебя вообще нет никакого дела, и, по большому счету, обрыв. И мысли о том, что где-то совсем недалеко Вифлеем, Иерусалим — колыбель христианства, одного из столпов современного мира, — не спасают. Мир определенно закончился, и сейчас Л. Ничюс осваивался в совершенно новом пространстве. Он сумел обогнать расширяющуюся Вселенную и вот теперь ступил за ее пределы. o:p/
Собственно, он ни о чем и не думал. Он давно все решил и все, что мог, сделал. Он находился в уже привычном состоянии — даже не депрессии, а глубочайшей апатии, когда не лень только одно: дышать. А все необязательное отходит на сто первый план. Он почти ничего не ел, спал без удовольствия, давно ни о чем не мечтал и уж конечно ни с кем не общался, если того не требовало еще трепыхающееся желание не сдохнуть. Поначалу Л. Ничюс пытался проанализировать свое состояние и поведение: что же он в очередной раз натворил? Но потом перестал. Одно цеплялось за другое, третье за пятое, и в результате он мыслями оказывался аж в своем детстве, а что там делать? o:p/
С ранних лет он неколебимо знал, что с ним что-то не в порядке. Безусловно, вина лежала на имени и фамилии. Он, москвич по месту рождения, появился на свет в чисто литовской семье, где национальность и в целом происхождение культивировались с огромным рвением, и было бы наивно полагать, что его родители — Арвидас и Юргита — назовут сына Володей или Сашей. В детсад, однако, малыш попал не простой, а литфондовский, на «Аэропорте» (постарался дальний родственник, переводчик), к тому же на пятидневку. Помимо русских, там встречались и татарские, и азербайджанские, и еврейские фамилии, и даже одна итальянская, но все они звучали для московского уха, тем более — детского, привычнее, чем пять букв, выстроенных в такой занятной последовательности: НИЧЮС. С именем дело обстояло ничуть не проще, и это касалось в том числе взрослых — столь экстравагантное имя с грехом пополам запомнили, но было решительно невозможно обходиться без уменьшительно-ласкательной формы, которой формально просто не существовало, а выдумывать родители не позволяли (в школе, впрочем, ситуация изменилась). К малолетнему литовцу все обращались исключительно «послушай», «а ну-ка», «дружочек» (воспитатели) и «эй», «але», «ты че» (воспитанники). И хотя в остальном, конечно, никто не выказывал в адрес необычного ребенка никакой враждебности или агрессии, — все-таки публика собралась не абы какая, — но первичная самоидентификация, столь необходимая на рассвете сознания, была героем нашей повести утеряна, а точнее — так и не приобретена. Пять дней в неделю он ощущал себя «дружочком» и лишь два — тем, кем положено. Он многое забывал и дома далеко не с первого раза реагировал на свое имя, которое его родители произносили с огромным уважением и чуть ли не благоговением. А еще литовский язык... Разумеется, никто и помыслить не мог, чтобы дома говорить на русском. Но к счастью, главный талант Л. Ничюса проявился очень рано: с языка на язык он переходил с легкостью, уже года в три различая, где надо изъясняться так, а где — не так. Двуязычие если и влияло на его умственные способности, то только положительно. Но ум — это одно, а душа, тем более маленького ребенка, столь хрупкая, — совсем иное. За пять дней в садике Л. Ничюс успевал отвыкнуть и от своего имени, и от литовского языка, и от манеры общения родителей, но, конечно, ужасно соскучиться он тоже вполне успевал, поэтому когда за ним в пятницу приходил кто-то из родителей (а чаще всего оба), он кидался навстречу с радостным воплем, автоматически меняя язык: «Мама, папа, наконец-то, я вас так ждал, einam greičiau namo!» <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> . Малыш головой понимал факты (детский сад — один мир, дом — другой), но сердце отказывалось разбираться во всем этом. Он принимал такое разделение, но видел, как странно и чуть неприязненно на него в триумфальные моменты встречи с родителями смотрели все остальные, и немного недоумевал, почему они с мамой и папой не могут вести себя так же — просто говорить на одном языке везде? В прочих местах все выглядело тоже довольно странно. Нередко случалось, что он заходил вместе с мамой в магазин и она общалась с продавцами на русском, а с ним — как обычно: «Будьте добры двести граммов таких-то конфет... Mazyli, nori situ kitu? <![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> Да, именно этих, пожалуйста». Л. Ничюс почему-то смущался и всегда старался отвечать кивком или невнятным бубнежом. o:p/
Оба его родителя появились на свет в небольших деревнях в разных концах Литовской тогда ССР. Отец, Арвидас Ничюс, в крохотном Свенцеле, что на Куршском заливе, а мама, Юргита Томкуте, в Панделисе — почти на границе с Латвией. Они встретились в Вильнюсском университете, на математическом факультете, где их очень сблизило происхождение — обоим нечасто доводилось бывать в больших городах, хотя, конечно, в середине семидесятых невозможно было дожить до студенческого возраста и ни разу не побывать в Паневежисе, Каунасе или Вильнюсе. Поначалу они очень стеснялись широких улиц и больших, по их меркам, скоплений народа, да и по-литовски они говорили лучше, чем по-русски (деревенские традиции сложно выкорчевать), вот и держались рядом. А потом, очень быстро, освоились как с проживанием в столице союзной республики, так и с новыми отношениями. Они окончили университет, сыграли свадьбу и готовились мирно жить всю жизнь в Литве, как вдруг, еще до защиты, Арвидаса пригласили работать в Москву, в загадочный НИИ, о котором он на тот момент вообще ничего не знал. Ничюс, конечно, хотел бы оказаться в Москве, но слегка боялся — там-то вообще все незнакомое. Чесали затылки долго — созвали целый совет. Из деревень приехали родители, стали обсуждать. Арвидас видел, что жена сделает так, как скажет он, а его никто не мог склонить ни в одну сторону. Одни старики уговаривали ехать, другие — остаться. В результате свое веское слово сказала уязвленная гордость. Настал срок явиться в партком университета, чтобы доложить о своем решении. Арвидас честно рассказал, что и хочет, и боится. На него глянули с презрением: «Думаешь, ты у нас один кандидат? За тобой целая очередь». Для убедительности перед его носом потрясли каким-то списком. Арвидас сильно смутился и немедленно дал свое согласие. Вскоре по приезду в Москву Юргита забеременела. Там же родился их единственный сын, герой нашей повести. o:p/
Родись он и проведи всю жизнь в Свенцеле, Панделисе или даже Вильнюсе, возможно, он бы чувствовал себя значительно счастливее, чем прожив четверть века в одной из крупнейших столиц Европы, а затем перебравшись в другой мегаполис, не менее сумасшедший и совсем не похожий на тихие литовские маленькие города, где все было бы иначе. o:p/
o:p /o:p
...Передвигаться по Израилю автостопом, или, по-местному «трэмпом», он никогда не любил. Дороги отличные, машин много почти везде, но останавливаются не очень охотно, если ты не в армейской форме. Во времена студенческой юности он таким способом изрядно поездил — в Петербург, в Волгоград, даже в Уфу один раз. Но в России если уж едешь автостопом, то точно никуда не торопишься, расстояния не те. А весь Израиль — половина дороги от Москвы до Уфы. Вот и получается, что в целях экономии надо рвануть трэмпом из Хайфы в Тель-Авив, времени практически в обрез, а на трассе застреваешь — тебя не подбирают двадцать минут, сорок, а когда подбирают, уже все равно, потому что туда, куда торопился, безнадежно опоздал. Конечно, можно поехать автобусом или поездом, но тогда придется себе отказать в чем-нибудь ином. Л. Ничюс пару раз попробовал израильский трэмп да и бросил — не понравилось пролетать мимо намеченных мероприятий. Говорят — в Москве бешенный ритм, люди всегда куда-то торопятся. Ерунда! По-настоящему динамично люди живут тут. Квартира в одном городе, главная работа в другом, халтурка в третьем, в гости вечером зовут в четвертый и так далее. Какой уж тут трэмп... o:p/
Сейчас же он сознательно пошел на это. Рано утром выскочил из дома, встретился с Гурвичем, забрал у него бумаги, на автобусе добрался до Аялона, спустился, нарушив все правила, по автомобильному съезду вниз и принялся голосовать. Разумеется, по доброй традиции первая машина остановилась сразу же и, как и должно быть, предложила подбросить километров на двадцать всего, до поворота на Ришон ле-Цион. Обычно Л. Ничюс от таких подвозов отказывался — незачем, если уж и ехать, то на солидное расстояние. Но сейчас он с удовольствием и сразу же высказанной благодарностью принял предложение. Надо использовать все возможности, чтобы смотаться отсюда побыстрее. До Ришона так до Ришона, сегодня это всяко лучше, чем стоять на месте. Кстати, в израильском трэмпе есть один безусловный плюс относительно российского автостопа: о деньгах речи не заходит в принципе. В России же как — останавливаешь машину, узнаешь, по пути ли вам с водителем, и если да, чаще всего начинается: «Сколько платишь?» — «Нисколько». — «Как так?» И поясняешь пять минут. А тут все проще: если остановили, то точно повезут бесплатно. В первый раз он проехался автостопом году примерно в 1993-м, еще будучи школьником. На спор. Как-то он упоенно наврал одноклассникам, что уже опытный стопщик. Те не поверили. В доказательство своей правоты он вызвался доехать до любого города не очень далеко от Москвы, привезти оттуда что-нибудь продаваемое только там и вернуться обратно. Сошлись на Сергиевом Посаде. Но чтобы ответчик не сжульничал, два одноклассника решили его «проводить» — доехать с ним на автобусе до трассы и убедиться, что Л. Ничюс сел в машину. А уж обратный путь — на его, стопщика-спорщика, совести. Но на всякий случай у него отобрали почти все деньги, которые сумели найти (хотели взять все, но испытуемый возмутился: а покупку на какие шиши делать? Потом все шиши вернули). Судьба Л. Ничюса хранила. Первая же легковушка отвезла его прямо до Посада, где он успешно купил какую-то местную газету и на электричке, зайцем, вернулся обратно. Эта поездка немного прибавила ему авторитета в глазах сверстников, но не в своих собственных. o:p/
Поступление в школу не изменило ощущение внутреннего изъяна, только теперь герой нашей повести стал чуть больше понимать, в чем дело. Он был, по собственным внутренним убеждениям, человеком совершенно неуместным. Не никчемным, а именно неуместным. В школе продолжились те же сложности, что и в саду, — с именем, с языком. Но добавились новые. Он постоянно выказывал не те знания и не те предпочтения, что от него ожидались. В его способностях никто не сомневался — по всем предметам он всегда успевал не хуже большинства и общался с окружающими людьми нормально. Но... Л. Ничюс умел сказануть что-нибудь этакое, от чего все либо смеялись, либо приходили в ужас и недоумение. Лет в восемь он на перемене подошел к своей классной руководительнице, которая стояла в коридоре, беседуя с учительницей пения, и спросил: «Марина Михайловна, а у нас столица СССР — Москва?». Та кивнула. Ученик продолжил: «А Вильнюс не может быть столицей СССР?». До событий января 1991 года еще предстояло дожить, но все равно учительница, в общем-то добрейшей души женщина, очень занервничала и отчитала ничего не понимающего Л. Ничюса. В другой раз на уроке рисования детям поручили изобразить государственный флаг — красное поле с серпом и молотом. Л. Ничюс справился с заданием раньше остальных учеников и, о чем-то задумавшись, автоматически начал выводить в левом верхнем углу буквы: «Lietuvos TSR» <![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> — именно такой вариант флага он заметил дома в одной из старых книг. Увидев это, учительница сильно удивилась и принялась расспрашивать, что это означает. Выслушав пояснения Л. Ничюса, она решила родителям не звонить, классной не сообщать, то есть делу хода не давать. В конце концов, крамолы в этом не было никакой. Но не было и нормы — в классе учились и армянский мальчик, и грузинская девочка, и кто-то с украинскими корнями, но таким образом отличался всегда только Л. Ничюс. Еще он неоднократно вслух говорил, что его любимый поэт — Донелайтис, а произведение — «Времена года» (нет сомнений, что ни один ребенок не может всерьез ценить столь сложного поэта, но в семье Л. Ничюса царил культ Донелайтиса, и школьник не мог остаться в стороне). А когда мальчики в классе чуть подросли и начали всерьез обсуждать футбол, он имел глупость во всеуслышанье заявить, что болеет не за «Динамо», ЦСКА или другую московскую команду, как делали все, а за вильнюсский «Жальгирис», и что лучший игрок страны не Добровольский и не Татарчук, а вовсе даже и Нарбековас. Утверждение было настолько смешным, что его никто не стал комментировать или оспаривать, — все лишь переглянулись и покрутили указательными пальцами у висков (а один из одноклассников, нагловатый Макс Смирнов, даже громко присвистнул). Л. Ничюс, как всегда непонятый, загрустил и отошел в сторону. o:p/
Январь и август 1991 года он запомнил. В январе родители постоянно звонили родственникам и друзьям, проклиная центральное телевидение, недостаточно и необъективно, на их взгляд, освещавшее трагические события. Все знакомые, к счастью, вышли из передряги живыми-здоровыми, хотя некоторые попали в эпицентр столкновений, кто-то у парламента, кто-то у телецентра. Из разговоров взрослых Л. Ничюсу запомнились не очень понятные слова «Комитет национального спасения», «группа ёАльфа”», фамилии Ермолавичюс и Ландсбергис. Что это и кто это, он узнал несколько лет спустя. А еще он спросил родителей, за что они ругают Горбачева (кто он такой, герой нашей повести знал). Мама ответила: «Он трус и лжец, потому что хочет снять с себя ответственность за кровь». Л. Ничюс состроил понимающую мину. o:p/
Девятнадцатого августа литовская семья поехала с давними друзьями, супружеской парой Ревзиных, на их дачу в Переделкине. Утренние новости никто не смотрел и не слушал. Оказавшись на шоссе, все вытаращили глаза — навстречу, в город, шли танки. В воздухе уже года три как веяло неприятностями, но чтобы вот так, в открытую?! Даже Л. Ничюс, в силу возраста еще ничего не смысливший в политике, интуитивно почувствовал, что в этом внушительном действии — движении танков — нет ничего хорошего. Они посидели на даче пару часов (хотя на самом деле не посидели, а постояли и походили — от нервного напряжения никто сидеть не мог, мужчины постоянно курили на крыльце, женщины взволнованно кружили вокруг домика, а наш школьник вызвался перетаскать кем-то привезенные дрова от ворот к дому), от соседей узнали, что случилось, да и поехали обратно в Москву. Следующие три дня Ничюсы (на литовском их фамилия во множественном числе звучала как «Ничей», с ударением на «и» — какая ирония судьбы, неоднократно думал двадцать лет спустя герой нашей повести), как и все прочие, не отлипали от телевизоров, зорко наблюдая за сыном, который стремился выбежать на улицу. Жили они на Ходынке, в опасном соседстве с Белым домом. Исход путча Арвидас и Юргита восприняли однозначно — безоговорочная победа, поскольку независимость Литвы, объявленную полутора годами ранее, вскоре должна будет признать и Россия, а за ней и другие страны (как и случилось буквально несколько дней спустя). Первого же сентября Л. Ничюс подробно рассказал одноклассникам, почему это хорошо для Литвы. Кто-то, правда, наябедничал классной руководительнице, и она провела с героем нашей повести «беседу», но он привык к таким мерам и почти не обращал на них внимания. Да и сама учительница понимала, что конъюнктура изменилась, и отчитывала юного литовца вяло и формально. o:p/
Но не только пролитовскими эскападами он регулярно подтверждал свою неуместность. Лет в одиннадцать он увлекся самой некрасивой девочкой класса, Наташей Сборщиковой, с которой никто из мальчиков никогда не дружил. Увлекся искренне и совершенно не наперекор каким-либо житейским обстоятельствам — просто она ему понравилась. Она инертно принимала его ухаживания и даже согласилась сесть с ним за одну парту, для чего им обоим пришлось покинуть своих прежних соседей, благо детей в классе училось не очень много и столов хватало. Случившееся обернулось едва ли не скандалом: мальчик и девочка добровольно решают сесть вместе! Что им довелось пережить — не описать. Зубоскалили все, включая некоторых учителей, и самое подлое, что все это делали как бы шутя, не зло. Но постоянно. Л. Ничюс был несгибаем и призывал к этому же Наташу. Сама она мнений не высказывала. Впрочем, их дружба ничем не кончилась. Она послушно сидела рядом с ним, не возражала, когда он провожал ее до дома, улыбалась, когда он ей на уроках писал записки «ты красивая». Но влюбленный Л. Ничюс и сам понимал, что именно он — движущая сила их романа. Разумеется, они не целовались и даже за руки ни разу не держались. Самое страстное (и одновременно странное), что случилось меж ними, — один-единственный раз произошедший исступленный контакт ногами, когда они случайно соприкоснулись коленями под партой и затем еще минуту отчаянно терлись друг о друга, как будто играя ими, коленями, в царя горы, но при этом, оказываясь царем, уступали свою позицию сопернику. o:p/
А потом настал тот ужасный день, когда в течение суток одно за другим случились четыре неприятных события. Все началось с утра. За завтраком Л. Ничюс сказал маме (разумеется, по-литовски), которая все знала об отношениях сына с девочкой: «А если я женюсь на Наташе, она будет первая женщина в нашей семье с русским именем». Юргита, не отрываясь от своих дел, пренебрежительно и безэмоционально заметила: «Ты не женишься на Наташе». Л. Ничюс смолчал (он вообще не перечил родителям), поник головой и духом. Как назло именно на это утро он возлагал особые надежды. В его кармане лежала открытка с какими-то голубыми цветами, на которой он старательно вычертил красивыми буквами: «As tave myliu» <![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> . Предполагалось, что Наташа спросит, на каком это написано, Л. Ничюс переведет, разукрасит свое признание другими выражениями и тут же прочитает краткую лекцию о красоте литовского языка. Но вышло иначе. Он поднес Наташе открытку, она прочитала непонятные слова, засмеялась, спросила: «Что за ерунду ты мне даешь?» — и сунула ему обратно в руки злосчастную картонку. Л. Ничюс почти отчаялся и решился на безумный поступок. Проводив, как обычно, Наташу до подъезда (в ее квартире ему так никогда побывать и не довелось), он вместо обычного прощания сдавленным голосом произнес: «Я люблю тебя». Она, безучастно глядя в мутную лужу, ответила: «Ну, пока». А на следующее утро выяснилось, что родители перевели ее в соседний класс. Как он потом узнал, не было никакого принуждения со стороны взрослых, Наташа сама попросила об этом. Его день рождения, наставший еще через двадцать четыре часа, запомнился подступающими слезами и неспособностью улыбаться против воли. o:p/
o:p /o:p
...Вторую машину пришлось ждать около часа, но зато в ней он проехал километров сто, аж до Беер-Шевы. Если первый водитель ограничился только приветствием и прощанием (за десять минут езды даже при желании особо не поговоришь), то этот, немолодой хасид, просто заболтал все уши. Он ехал из Акко, и дорога ему безумно надоела. Хасид крайне редко одолевал такие расстояния, о чем в мельчайших подробностях рассказал своему пассажиру. «Ну а ты куда направляешься?» — спросил хасид, когда они миновали указатель «Кирьят-Гат», то есть проехали половину пути. Л. Ничюс, ни словом не желая выдать свои намерения, мрачно проскрипел: «В Димону» (хотя ехал он в другую сторону). «А что там?» — оживленно спросил хасид, явно намереваясь рассказать о своих родственниках в Димоне. «Моя любовница», — подмигнул герой нашей повести. Хасид сердито и осуждающе замолчал, а неделикатный Л. Ничюс усугубил: «Ей около пятидесяти, и она очень хороша». Остаток пути проделали в тишине. Перед выходом из машины он пробормотал благодарность и добавил: «Извини, я пошутил. Вышло по-идиотски, да. Просто мне не хотелось говорить о том, куда еду. Никакой любовницы у меня нет». Хасид тяжело посмотрел на него, но все же произнес: «А-Шем Иварех отха» — традиционное иудейское благословение. Простил, значит. На том и расстались. В третьей машине сидела немолодая супружеская пара (женщина за рулем). Как только он наклонился к открывшемуся окну, женщина закричала на иврите: «До Мицпе-Рамона, мы только туда, дальше не поедем, хочешь?». Л. Ничюс кивнул и еще девяносто километров слушал их разговоры — уже на русском! — то об одном, то о другом. Минуты через три он зачем-то встрял с предупреждением, что прекрасно понимает, о чем они говорят (чтобы они не ляпнули при постороннем чего лишнего), но в ответ с передних сидений на него уставились две пары недоумевающих глаз, а через секунду их споры продолжились. Препирались обо всем на свете, от непонятных стуков в машине до банка, в котором надо взять кредит на покупку квартиры для дочери. Разумеется, по каждому вопросу у них было суммарно не менее, а то и более двух мнений. «Ты ничего не понимаешь, ребенок почти студент, а ты жмешься, ссуду не хочешь брать...» o:p/
o:p /o:p
...Когда пришло время получать высшее образование, герой нашей повести почти ничего от этой жизни не хотел — нормальное состояние для болезненно эмоционального молодого человека. Л. Ничюс незадолго до выпускных школьных экзаменов в очередной раз безрезультатно влюбился и к июлю только и желал, чтобы все — и любовь, и абитуриентская страда — поскорее закончилось. Попытки родителей заинтересовать его хоть чем-либо регулярно терпели неудачу. В результате Арвидас поступил просто: в течение пары недель он каждый день скупал все общественно-политические газеты, просматривал их, вырезал нужные статьи и складывал их в отдельную папку. Когда заметок накопилось около десятка, он позвал сына и вручил ему это небольшое досье. «Что это?» — задал Л. Ничюс резонный вопрос. «Увидишь». o:p/
Оказалось, отец собирал материалы об армии. Текущие заметки о том, что сейчас там происходит. В самой армии и в горячих точках. Арвидас никаких фраз не подчеркивал и своих комментариев на полях не оставлял. Все выводы Л. Ничюс, идеально здоровый, должен был сделать сам. И он сделал. Но при этом он совершил такой лихой финт, которому впоследствии завидовали все знакомые. Он мало того, что поступил в МГИМО на факультет международных отношений, так еще и ухитрился войти в число шестерых первопроходцев группы литовского языка, ранее не существовавшей. Разумеется, поступление в любую другую группу обернулось бы для Л. Ничюса провалом. Но ему повезло. o:p/
Никому на свете он не говорил, как ему стыдно там учиться. Будучи по природе человеком чрезвычайно справедливым, он понимал, что, решив проблему высшего образования таким способом, совершил подлость. Не в чей-либо адрес, а просто — общечеловеческую подлость. Он пошел по пути — и это не пустые слова — наименьшего сопротивления. Разве так можно? Впрочем, учиться ему нравилось, да и однокашники относились к нему нормально. Конечно, они понимали, что Л. Ничюс сильно схалтурил, но зато он все пять лет служил ходячим словарем и справочником — основной-то предмет, литовский, он знал едва ли не лучше преподавателя, немолодой дамы литовского происхождения по имени Ольга Павловна (на самом деле преподавательницу звали Оле, а ее отца — Повилас). Она была единственной литовкой на факультете. o:p/
Учеба в МГИМО решила ряд прежних проблем. Все и думать не хотели, как его зовут, на каком языке он говорит с родителями (а учитывая специфику обучения, это даже виделось преимуществом), а также с кем он встречается. И поначалу казалось, что все, он сумел интегрироваться в общество и найти себя. Но новая беда пришла с неожиданной стороны — начали ухудшаться официальные отношения между двумя странами, Литвой и Россией. Сперва все, включая Л. Ничюса, лишь посмеивались, слыша о каких-то там претензиях, намерениях и громких терминах, включая пугающее слово «оккупация», используемых политиками. Потом смеха стало меньше. В российской периодике об этой проблеме писали мало, но студенты литовской группы регулярно читали вильнюсские газеты (их приносила Ольга Павловна), и прочитанное навевало тоску. Все было бы не так страшно, кабы не национальность героя нашей повести. В самом деле, разве можно всерьез усомниться, что Оля Тихонова и Маша Померанская (его одногруппницы) придерживаются пророссийской позиции? А вот что думать про Л. Ничюса, неясно. Кто он — свой или чужой? Наш или ихний? Не пятая ли он колонна? Не казачок ли он? Конечно, эти разговоры особого значения не имели (тем более, что настолько в лоб ему никто ничего не заявлял, да и в целом на эту тему студенты чаще шутили, чем говорили всерьез), но то же самое начиналось и в Литве, когда он приезжал в гости к родственникам. Подозрения в адрес несчастного студента формулировались почти что идентично, только направление у них было другое: не предает ли он интересы предков? Не забывает ли он свою родину — настоящую родину? o:p/
И там и там Л. Ничюс вел себя, казалось бы, преглупым образом: он отмалчивался. Никому ничего не говорил. Либо смущенно улыбался, либо мямлил что-то наподобие «давайте жить дружно», что не прибавляло ему убедительности. А правда заключалась в том, что он по своей инициативе вообще об этом не думал. Плевал он на все это. Л. Ничюс понимал, что политики тут больше, чем нравственности, а демагогии отведена роль едва ли не религиозная. Также он ясно видел, что дело вряд ли кончится чем-то конструктивным, а на отношениях между простыми людьми, жителями двух стран, это если и отразится, то несильно. Характерный пример — его дедушки-бабушки. Конечно, те ворчали и подозрительно косились на него во время околополитических бесед, но все равно любили его очень крепко, кормили и всячески баловали, а когда он уезжал — пускали искреннюю слезу и потом едва ли не еженедельно спрашивали по телефону, когда же он наконец опять приедет. Вот и было ему все равно, кто в итоге возьмет верх. С одних не убудет победить, другие не умрут, если проиграют. Но излагать свою позицию Л. Ничюс не считал возможным — ему бы не поверили. o:p/
То, что из него, как и из прочих студентов факультета международных отношений, будут готовить дипломата, преподаватели заявили сразу, но дошло это до него лишь курсу к четвертому, когда слово «работа» внезапно перестало быть абстрактным понятием и вполне различимо замелькало на горизонте. И когда Л. Ничюс задумался, какая же доля ему выпадет, стало очевидно: дипломатическая. Более конкретно он сам понять не мог. «Отработаем пару лет в МИДе, а потом назначат нас атташе куда-нибудь в посольство России в Белизе», — так ему ответили одногруппницы о перспективах дипработы. «А зачем мы учим литовский?» — удивился герой нашей повести. «Ну, значит, отправят нас переводчиками в посольство Литвы в Белизе». Но поверить в такое даже наивный Л. Ничюс не мог. Не мог он также представить, что первой же осенью после защиты диплома будет действительно зван на работу в литовское посольство, но в Москве. Не мог — но пришлось. Хорошие переводчики, тем более полиглоты, всегда нужны. o:p/
Когда же Л. Ничюс понял, что для получения должности, пусть и мелкой, он вновь ничего особо не сделал, просто научился вовремя переходить с языка на язык, накатила настоящая депрессия. Выходило так, что все, чего он достиг — получил диплом, устроился на службу, — случилось благодаря родителям. Они просто-напросто держались корней, не забывали родной язык и приучили к тому же сына. Они поступили правильно и достойно. А Л. Ничюс? Велико ли достижение — плыть таким образом по течению? Терзался он так сильно, что однажды поделился сомнениями с родителями, что делал отнюдь не всегда. Мама, традиционно чуть более резкая и порывистая, чем отец, сказала без обиняков: «Увольняйся, ищи новую работу». Арвидас же не спешил. Он предложил сыну посидеть на кухне за вечерне-ночным чаем. Л. Ничюса он понимал — но не эмпирически, а просто сумел поставить себя на его место. Разговор получился долгим и полезным — отец и сын многое узнали друг о друге. Арвидас вспоминал себя двадцатидвухлетней давности. Наш полиглот впервые подробно рассказал о неисчислимых неловких ситуациях, в которые он попадал из-за своей национальности. Они смеялись и подшучивали друг над другом. В итоге отец произнес следующее: «У тебя не самая типичная история. Так было и так будет дальше. Тебе надо смириться с тем, что не все твои действия будут нравиться в первую очередь тебе самому. Нельзя всегда быть эталоном, нельзя всегда быть собою довольным. Иногда надо принимать свою неправоту или нетипичность. Но и отступать нельзя. Я не хочу, чтобы ты увольнялся сейчас. Ведь причины-то нет». Это помогло. o:p/
Вначале Л. Ничюс работал, как и предсказывали одногруппницы, на мелкой должности, но не атташе (для дипломатической карьеры в посольстве Литвы он обладал неподходящим гражданством — российским), а простым переводчиком, полезным, но от которого мало что зависело. Однако понемногу его положение на службе укреплялось. Он стал помощником советника, затем — помощником же, но первого секретаря. Л. Ничюсом заинтересовались — кто он, откуда, где учился, с кем живет. И это-то ладно, но все хотели знать, что он думает о всяком-разном. И если экзаменоподобные расспросы о спорте, погоде, книгах и просто о жизни наш испытуемый выдержал более-менее успешно, то когда речь зашла о политике, он потерпел фиаско. Поначалу он отнекивался, говоря, что ему все это не нужно. Что, разумеется, не прокатило. Л. Ничюсу пришлось высказываться о ситуации в России. Его суждения выслушали хоть и с постными физиономиями, но в целом дали понять, что на троечку с плюсом он наотвечал. А потом приступили к Главному — вопросу об «оккупации», компенсациях и прочем. o:p/
«Я не могу ничего сказать вам. У меня нет мнения», — честно признался Л. Ничюс. «Как так?» — изумились его собеседники, по совместительству начальники. «Я литовец, но родился и всю жизнь живу в Москве. Какой позиции я должен, по-вашему мнению, придерживаться?» — «Позиция — это ваше личное дело. Но она должна у вас быть», — отрезали собеседники. «А если ее правда нет?» — «Рекомендуем выработать, — последовал снисходительный ответ. — Вы же читали все нормативные документы?» — «Ну да, начиная с результатов референдума 1992 года...» — «Вот и славно! Не останавливайтесь, думайте, анализируйте!» Л. Ничюс, предельно расстроенный, понял, что увильнуть вряд ли получится. o:p/
После этого он крупно промахнулся: опять пришел со своей печалью к родителям. Он понятия не имел, насколько данный вопрос для них актуален и злободневен: никогда ранее он не слышал дома разговоров на эти темы. Впрочем, особо и не услышал. Потому что когда он вкратце рассказал о вставшей проблеме, отец, обычно такой тихий, крикнул: «Я же говорил, что это неизбежно!», — после чего взял в руку стоящую на столе пепельницу, тут же с грохотом поставил ее обратно и буквально вылетел из кухни. Удивленному Л. Ничюсу Юргита невозмутимо пояснила: «Твой папа не поддерживает нашу родину, на что я не собираюсь закрывать глаза». — «А ты?» — спросил Л. Ничюс. «Что — я? Хотя бы мысленно, но я с Литвой, раз уж не могу ей никак помочь делом. А какие у нас царят настроения, ты в курсе». — «А неизбежно — что папа имел в виду?» — «То, что рано или поздно ты придешь к нам с этим вопросом. Он не хочет объясняться с нами. Ты же на нашей стороне, сынок?» — «Мама... Я не знаю», — тихо сказал сынок. «Что-о?» o:p/
Далее Л. Ничюс сказал примерно то же самое, что на работе. Юргита молча его выслушала, встала, сердито посмотрела на сына — такого гнева в ее взоре он давно не видел — и тоже ушла. Минуту спустя из родительской комнаты донесся ее голос: «Чего ты добился своим молчанием? Я его теперь вообще не понимаю!». Л. Ничюс метнулся в коридор, спешно обулся и выбежал на улицу. Этот инцидент надолго расстроил отношения между членами семьи. o:p/
На работе дела обстояли не сильно лучше. Разумеется, начальство очень хотело, чтобы все сотрудники думали примерно так же, как Юргита. Но и инакомыслящие присутствовали — Л. Ничюс их вычислил по уходам на перекур или обед, когда в очередной раз начинали обсуждаться проклятые вопросы, и обсуждаться не просто, а под определенным углом. С одним из «диссидентов», уже немолодым сотрудником визового отдела по имени Владимир, у него состоялся разговор, после которого литовец окончательно отчаялся. Выяснив точку зрения Владимира, Л. Ничюс тяжело вздохнул и признался, что не то что не может определиться, а не хочет и не собирается этого делать. Его визави округлил глаза: «Как — не собираешься?! Так нельзя». Это искреннее удивление и разрушило последние надежды. o:p/
Л. Ничюс понимал, что из-за отсутствия позиции с работы его не выгонят. Но и своим ему никогда там не стать — разумеется, если он не примет правила игры и не станет придерживаться определенного мнения. Он долго колебался, не соврать ли, но потом понял, что нельзя. В школе много лет назад случилось нечто похожее. Близился прием в пионеры. Их класс разделили на четыре группки, человек по пять-шесть в каждой, в зависимости от успеваемости. Отличников принимали в первой, совсем безнадежных — в последней. Маленького Л. Ничюса, который учился на «четыре» и «пять» с преобладанием четверок, после долгих размышлений все же определили в первую, элитную группу. И тут внезапно на уроке литературы зашел разговор о религии. Нет, Л. Ничюс не стал проповедовать христианство. Он просто встал и произнес: «Никому неизвестно, есть ли Бог». — «Бога нет», — насупилась учительница. «Он или есть, или нет, — заупрямился Л. Ничюс и добавил фразу, которую недавно услышал от одного из гостей, пришедших к родителям. — Это все слишком иррационально». Едва ли он ясно понимал, что такое «иррационально», но интуитивно догадывался и в своих догадках не ошибался. После урока учительница его подозвала и сказала: «Бога нет, и если ты этого не признаешь, тебя примут в пионеры не в первой группе, а в последней, вместе с Горбенко и Селезневой». Л. Ничюс молча повернулся и вышел из класса. Он шел по коридору и смотрел на учеников старших классов: у всех повязаны одинаковые красные галстуки, и нет никаких опознавательных знаков, что, дескать, владельца этого приняли в первой группе, а хозяйку этого — во второй. Да и Горбенко с Селезневой ничем от него не отличались. Он их не любил, но и не презирал вовсе. Поэтому он, ни слова не говоря родителям, ждал, чем дело кончится. А кончилось оно тем, что его из элитной группы все же исключили, но перевели не в последнюю, а в третью. Чем различались две ситуации? Да ничем. Просто сейчас он гораздо острее, чем в школе, ощущал свою неуместность, некстатийность. Это же нужно так ухитриться — ему предлагают два варианта, а он кочевряжится и не хочет ничего выбирать. o:p/
o:p /o:p
...От Мицпе-Рамона надо было уезжать уже прямо до места — впереди пустыня, очень мало населенных пунктов, и если высадят близ одного из них, то дальше уже точно никто не остановится. Он голосовал часа два, пока наконец не сел к какому-то парню примерно своего возраста. В машине звучал русский рок, что без лишних вопросов подсказало язык общения. «Вы зачем в Эйлат?» — спросил Л. Ничюс. «За женой с детьми, они там неделю жили, а я не смог остаться». — «Работа?» — «Да, приехали партнеры из Аргентины, пришлось возиться с ними. А вам туда зачем?» o:p/
Тут у водителя зазвонил телефон. Он остановил музыку и вдел наушник. «Приветик! Да еду я, еду. Что? Мицпе-Рамон проехал. Можешь уже собирать, да. Да, да. На въезде позвоню. Вот, — сказал он уже своему пассажиру, — беспокойная душа какая, я и так раньше на три часа выдвинулся, а она уже звонит. Так а вы что?» — «Ну... Я так...» — «Посмотреть? Вы в Израиле впервые?» Л. Ничюс хотел улыбнуться, но не смог. Зачем-то ответил на иврите: «Я тут уже больше трех лет». — «О, извините», — сказал водитель с улыбкой. «Честно говоря, я и сам не знаю, зачем туда еду», — второй раз за день соврал Л. Ничюс. Все он знал. «Ну, там есть чем заняться. И все-таки — вы бывали там?» — «Был однажды, но как-то бестолково. Собирались там отдохнуть, но автомобилем ехать не хотелось, на автобусе тем более, а на ранние рейсы билеты кончились. Вот и оказались там около шести вечера, а обратный вылет в десять утра, ничего толком и не успели...» — Л. Ничюс и не замечал, что рассказывает во множественном числе, чего всячески избегал. «Это, конечно, не дело...» — «Оригинальный отдых получился, да». o:p/
Водитель хотел нажать на кнопку воспроизведения, но промахнулся и включил радио. Мужской голос немедленно забубнил, рассказывая что-то о напряженной обстановке в Каире. «А ну как рванет там?» — вслух предположил водитель. Л. Ничюс пожал плечами: «Весело будет, если рванет...» o:p/
o:p /o:p
...Собственно, он и выбрал-то Израиль местом проведения очередного отпуска только потому, что ему до умопомрачения не хотелось туда, где отдыхали все. К тому моменту он уже окончательно, хотя и добровольно, перешел на положение неизгнанного изгнанника. Ранее он на каникулы и в отпуск либо не ездил никуда, либо ограничивался Прибалтикой. А сейчас накопилась усталость, ликвидируемая только чем-то совсем необычным. Он понимал, что от навязчивых мыслей ему не избавиться ни, что логично, в Литве, ни в надоевших из-за частых упоминаний египтах и тунисах. Слишком много он слышал историй про то, как неприятные коллеги «оттягивались» (какое омерзительное пошлое слово!) в Хургаде или Суссе. Все эти незнакомые места в сознании были накрепко привязаны к определенным людям, которых Л. Ничюс терпеть не мог. Вот и выбрал Израиль, в который пока мало кто ездил. o:p/
Визы тогда еще не отменили. Он сходил к посольству, увидел очередь, виртуальный хвост которой исчезал в списках на послезавтра, пришел в ужас и поспешил обратиться в турфирму. Ушлые менеджеры за двадцатикратную относительно консульского сбора цену организовали ему заветную бледно-голубую наклейку. Пришла пора расписывать по дням двухнедельную поездку. o:p/
Познания Л. Ничюса об этой стране в основном ограничивались фрагментарными сведениями о бесконечных военных столкновениях — они частично входили в сферу его рабочих интересов (ему изредка приходилось готовить сводки как раз по таким конфликтам). А тут он принялся изучать вопрос и внезапно понял, что там можно с большой пользой провести время. Глаза разбегались от названий городов, куда хотелось попасть, — и всем известных, и тех, что привлекли внимание просто так, фонетически. Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа — это понятно. Кроме того, еще есть загадочные Акко, Ашдод, Ашкелон — все на «А», наверное, там тоже что-то занимательное есть. А ведь помимо прочего, можно заглянуть ночью в какой-нибудь бар на тель-авивском пляже — судя по отзывам, это еще одна достопримечательность. o:p/
...Плещут средиземноморские волны. Играет громкая музыка, но вдалеке. В голове туман и бессвязность. Кто-то рядом. Кто? Ну конечно, женщина, но что за женщина? Ах да, они же только что танцевали. Потом вместе выпили, каждый далеко не первую, но и не последнюю. А что было совсем недавно? Кажется, поцелуи прямо у кромки воды. Может, даже кое-что посерьезнее поцелуев, недаром так трудно стоять — ноги вообще не держат, колени дрожат. Но, может, ничего и не случилось. Однако она что-то шепчет... или говорит в полный голос? «Come with me...» <![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> Что ж нет? Э-э, она что, в таком виде за руль садится?! o:p/
Наш турист попытался отговорить незнакомку, но, во-первых, язык его плохо слушался, а во-вторых, она настолько агрессивно тронулась с места, что Л. Ничюс только и успел, что пристегнуться и открыть окно, чтобы, в случае чего, оборони Создатель, не испачкать чужую машину изнутри. Минут за пятнадцать они доехали до обычного дома в Гиватаиме (тогда, разумеется, он понятия не имел, куда его привезли). Едва зайдя в квартиру, они это сделали, на сей раз точно, и уснули — он провел всю ночь в ее гостиной, а она в итоге перебралась в спальню. o:p/
Наутро Л. Ничюс, только проснувшись, решил, что ему надо срочно валить. Во-первых, он терпеть не мог связей по пьяни, а кроме того, он случайно учуял запах, идущий от собственного плеча, ее запах. Его чуть не стошнило. «Пора удирать», — кстати вспомнилась цитата из любимого фильма. Он встал с дивана и только заторопился одеваться, как вдруг в комнату вошла она. Это была даже не другая женщина — это была новая женщина. Полностью голая, мокрая после душа, без косметики, не надушенная, с некрасивыми, хотя и прямыми ногами, с вовсе не упругой, но большой грудью, с распущенными волосами. Бросалось в глаза, что она лет на десять его старше. Он глазел на нее, не отрываясь, и не потому, что просто видел ее наготу, а потому что красивее этой незнакомки никого никогда не видел. Он сидел и смотрел на нее, а она стояла и смотрела на него. o:p/
Перед вылетом в Тель-Авив он шутки ради выучил десятка три фраз на иврите (к алфавиту не приступая), которыми, не исключено, воспользовался минувшей ночью для знакомства и быстрого сближения с этой женщиной. Но в складывающейся ситуации хотелось общаться как можно более внятно. o:p/
«Ты же говоришь по-английски?» — наконец спросил он, прервав свое восхищенное молчание. «Не очень хорошо, но могу». — «Я мало что помню. Как тебя зовут?» — «Эсти». — «Прости, как?» — «Эстер. Но лучше называй меня Эсти. А тебя?» Л. Ничюс назвался. «А сколько тебе лет?» — «Сорок один. А тебе, наверное, двадцать пять?» — «Чуть больше... Послушай», — сказал он и замолчал. Она подождала и спросила: «Что?». o:p/
В голове шумело — и от выпитого, и от внезапной перемены настроения. Л. Ничюс собрался и выразил свою мысль как можно понятнее для нее и одновременно честнее для себя: «Эсти... Я не хочу уходить». Она удивленно вскинула брови, но улыбнулась и села рядом с ним. «Ну-ка, повтори, как тебя зовут», — сказала она. o:p/
Конечно, он ушел. Ушел, но двое суток спустя — потому что ей надо было на работу. Оставаться же в доме Эсти без нее самой он не хотел. Он медленно брел по незнакомым улицам, совершенно оглушенный и ничего не понимающий. То, что происходило в эти дни, не имело ничего общего с предыдущим опытом, полученным в Москве. И дело не в том, влюбился ли он в Эсти или нет (влюбился в первую же секунду). Л. Ничюс впервые в жизни увидел себя через десять лет — это поразило больше всего. И находился он в своих видениях рядом с Эстер. Пусть разные языки, пусть разные страны, пусть ей столько лет, а ему на тринадцать меньше — все равно. Он лежал, сидел, стоял рядом с ней и не хотел вообще ничего больше искать и менять. o:p/
Тем же утром Л. Ничюс поехал в Иерусалим. В автобусе его сморило, и он продрых все два часа дороги. В старом городе он так увлекся, что просто забыл о недавних событиях. А когда вновь очутился у Яффских ворот, ноги понесли его неведомо куда. Он шел и вспоминал, а хотел-то подумать о будущем. Он злился на себя — пришла пора принимать какое-то решение, а вместо этого он вновь и вновь переживал счастье двух суток с Эсти. Но вот в кармане чирикнуло сообщение. Вытащил телефон — она. «You come?» <![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> — спрашивала Эсти. Он явственно услышал, как она спрашивает: «You come?». Голос с хрипотцой, низкий и чуть грубоватый. «You come?» — интересовались тени ненавидимого прокуратором города. «You come?» — допытывались иерусалимские автомобильные гудки. Он так изумился, что не сразу осознал: ответить-то забыл. o:p/
В отличие от Эсти, пробывшей замужем пятнадцать лет, Л. Ничюс не мог рассказать что-либо внятное о своей личной жизни. С кем-то, довольно редко, он встречался, кого-то якобы любил, с кем-то даже спал, но все это было не фундаментально и почти без чувств — по крайней мере, так ему виделось теперь. Эсти же рассказывала о своей семье ярко, сочно, красиво. Ей очень нравилось рассказывать и вспоминать. Она познакомилась с Арье, будущим мужем, в Технионе, они дважды расставались по ее инициативе, она переезжала с севера на юг и обратно, а он каждый раз следовал за ней. В результате она уступила его страсти и они поженились. Родилась единственная дочь Идит. И все бы хорошо, но Арье умер года три назад — вот просто взял и на ровном месте умер. Рак, за восемь недель человека не стало. Эсти от горя пролежала на кровати три месяца, кое-как сумела встать, но заботиться могла только о себе — дочерью пришлось заниматься бабушке, матери Эсти. Идит переехала к ней да так там и осталась. С одной стороны, плохо — Эсти и дочь сильно скучали друг по другу. Но хотя бы Гиватаим от Явне не так далеко, полчаса без пробок. Да и привыкли все уже — Эсти старалась побольше работать (страховая отказалась выплачивать деньги, потому что Арье в свое время не указал в декларации о состоянии здоровья, что курит, а курил он очень много), Идит училась, и менять школу ей не хотелось — только-только появились первые настоящие подружки. И вот, впервые за несколько лет, Эсти решила сходить на пляж, выпить чего-нибудь и потанцевать... o:p/
«Чего ты от меня ждешь?» — спросила она тем вечером. Л. Ничюс как раз уныло думал, что ровно через сутки он уже будет в самолете. «Я хочу быть с тобой. Навсегда». — «Так что ж, оставайся, живи». — «Сейчас мне надо домой...» — «Ну, значит, уезжай». — «Эсти, а ты выйдешь за меня замуж?» — внезапно решился он. Она ни единым взмахом ресниц не выдала своего удивления. Может, и правда не удивилась. «А ты что, хочешь жениться на мне?» — «Да, я очень хочу». — «И когда?» — «Я могу приехать через месяц». — «Ну, приезжай». — «И мы поженимся?» — «Поженимся, почему нет?» o:p/
И он действительно приехал. o:p/
Исполняя столь опасный кульбит, разворачивая свою жизнь на девяносто градусов (более резкого отклонения от маршрута не существует — поворот на сто восемьдесят градусов означает, что все остается по-старому, но идет в обратном направлении), Л. Ничюс все отлично понимал. Он подготовился к неизбежному: его решения не поймет и не примет никто, буквально никто. Так и вышло. Но он настроился на победу. Конечно, он и сам колебался, хотя и недолго. Только в самолете он слегка потерзался, стоит ли все это затевать. Однако едва он оказался в Москве, позвонил родителям, снова услышал литовский язык, на который перешел без проблем, но который олицетворял для него мировую тоску и хандру, и сообразил, что никакой Эсти сегодня он не увидит, все сомнения полностью исчезли. o:p/
Ближайшим же вечером он сел за иврит. Конечно, курс можно пройти на месте, но он не мог себе такого позволить — он поставил себе задачу за месяц наловчиться разговаривать на нем. Эсти так и сказала — учи, дескать, иврит, я с тобой на английском долго не собираюсь разговаривать, не хочу. Литовский, конечно, не легче, но там хоть буквы латинские, как и во всех прочих языках, которыми он смеха ради, без малейшей практической цели, занимался. Немецкий, латышский, итальянский, польский, венгерский — на всех этих языках он умел читать (то есть знал правила чтения) и вполне мог элементарно объясниться. Что ж, освоим и незнакомую письменность. Дня через два он позвонил Эсти. Она ехала с работы домой, но коротко поговорить удалось — и ни одного слова на английском, она его даже похвалила. Как только он положил трубку, весь в волнении после разговора с любимой женщиной, вдобавок на новом для себя языке, в кухню, где много лет стоял телефон, вошла мать. o:p/
«Ar nesutrukdћiau tau paskambindamas?» <![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> — спросила она. o:p/
Переключатель в голове послушно щелкнул. o:p/
«Ne, tikrai ne» <![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> , — ответил Л. Ничюс. o:p/
o:p /o:p
Второй же разговор с Эстер оказался гораздо тяжелее. После приветствий и обмена вопросами о житье-бытье Л. Ничюс спросил, извинившись, что говорит на английском: «А сколько у вас времени проходит от подачи заявления о свадьбе до свадьбы?». Эсти несколько раз уточнила, что он имел в виду, а потом чуть раздраженно спросила в ответ: «То есть ты правда собрался на мне жениться?» — «Да, правда», — спокойно ответил он. Он предполагал, что такой вопрос возникнет. «Тогда у меня для тебя плохая новость: в Израиле регистрируются только религиозные браки, а для нас с тобой это невозможно». Этого Л. Ничюс никак не ожидал — настолько глубоко в суть вопроса он углубиться не успел. «И что же делают простые израильтяне?» — «Едут на Кипр, в Чехию, Украину или Россию», — ответила она. «В Россию?» — оживился Л. Ничюс. «Да, только я никуда, кроме Праги, не поеду, предупреждаю». — «А почему?» — «Почему... Я тут кое-что узнала. Проблем будет больше у меня, чем у тебя». — «Проблем? Каких проблем?» — «Ну, бумаги, бюрократия... — Эсти явно злилась, ей не хватало английских слов, чтобы все четко описать. Последнее слово Л. Ничюс вообще на слух еле опознал. — Мне нужно будет сделать много, больше, чем тебе, потому что ты живешь не тут». — «Так может, лучше в Москве? Тут проблем меньше...» — «Я не поеду в Россию, это исключено». — «Но почему?» — «Я не хочу». — «Значит...» — «Значит, что либо мы с тобой поедем в Прагу, либо мы не женимся». Л. Ничюс угрюмо замолчал. «Мотек, ты где?» — спросила через полминуты Эсти. «Тут... А что такое мотек?» — «Это не что, это кто! Это ты», — засмеялась она. «Послушай, а ты вообще хочешь выйти за меня замуж?» — прохрипел он наконец. «Я? За тебя? Конечно!» — Ее настроение менялось мгновенно. «Ты говоришь, что будет много проблем...» — «Да, но я постараюсь все сделать. А за это мы поедем в Прагу. Я очень давно хочу там побывать». — «А в первый раз где ты выходила замуж?» — «На Кипре...» o:p/
Ну и что прикажете делать в такой ситуации? o:p/
Чтобы упомнить все дальнейшие события, их нужно было бы записывать. Вначале Л. Ничюс так и делал. По крайней мере, он составил план и старался ему следовать, но, конечно, очень скоро его забросил. Вспоминая потом этот отрезок жизни, герой нашей повести с удивлением отмечал, что вся суматоха, кутерьма и прочий кавардак царили в его голове, и только. На работу он ходил, как и всегда, нигде и ни с кем не гулял — опять же, как обычно, ел, пил, спал ни больше, ни меньше прежнего. Но в голове... o:p/
Он тайком учил язык. Он изучал страну — читал о ней все, что мог найти в интернете, включая отзывы туристов. Он постоянно думал о датах, когда лучше сделать то, а когда — это. Он подсчитывал и переподсчитывал, во сколько это все обойдется. Он изучал документ, где подробно излагалась процедура «воссоединения семьи» в Израиле, и буквально серел от ужаса — как это все заморочено. Он готовил речь для родителей. И много чего еще... Эти дела и заботы заполнили Л. Ничюса, как камни в колодце, а в пустое пространство между камнями затекла вода страсти. Мысли об Эсти помогали ему, и все сложности показались пустяками, потому что он любил ее. o:p/
Перво-наперво он попросил Эсти сходить в специализированное свадебное агентство. «500 долларов», — кратко отчиталась она в текстовом сообщении, а потом переслала ему файл со всеми условиями. Пять сотен гарантировали все нужные бумажки, саму церемонию, наем свидетелей в Праге, которые все организуют на месте, и что-то еще. Также она узнала стоимость билетов из Тель-Авива в Прагу. Умножив ее на три (она ведь не могла выходить замуж без мамы и дочери!) и прибавив те пятьсот долларов, Л. Ничюс недрогнувшей рукой опустошил заначку, пошел в банк и отправил ей требуемое. o:p/
Краем уха он слышал, что визы могут отменить. Это очень многое бы упростило, конечно. Но ждать милостей от правительств он не мог, хотя по иронии судьбы подписание нужных соглашений состоялось всего через неделю после их свадьбы. Впрочем, в действие новые правила вступили еще через три месяца, поэтому спешка была оправдана. Наш романтик панически боялся, что Эстер передумает. Иногда, а точнее, довольно часто ему казалось, что все происходящее не более, чем невнятный сон. Если бы кто-нибудь рассказал Л. Ничюсу, как их брак выглядит со стороны, он бы так и не состоялся, поскольку все, абсолютно все было против. Но этого кого-нибудь не нашлось, а собственные субъективные контраргументы он мгновенно парировал pro-аргументами. Психологически точка невозврата осталась позади, когда Эсти сообщила, что уплатила требуемое агентству и купила билеты на самолет. От раза к разу она делалась все спокойнее и едва ли не покорнее. Она внимательно слушала, что надо сделать на своей стороне, и все быстро исполняла. Нервный Л. Ничюс понемногу убедился, что Эсти тоже весьма заинтересована в успехе всего предприятия. o:p/
Подготовиться к разговору с родителями оказалось гораздо сложнее, чем он изначально думал. Он с удовольствием вообще бы не обсуждал с ними свою свадьбу — их реакции он по-детски страшился. Но несомненно, они обиделись бы стократ сильнее, поведай он им о событии уже потом. А если рассказать заранее, они могут захотеть поехать с ним в Прагу — формальных-то проблем нет, шенгенская виза открыта у всех (через литовское посольство). Купил билет, сел и поехал. А видеть там родителей он не хотел. Мама, до сих пор идеально стройная, высокая блондинка, пусть и перешедшая пятидесятилетний рубеж, выглядела бы рядом с Эсти... ну... выигрышней, так скажем. Как бы она смотрела на жену сына, лучше даже не представлять. А то, чего доброго, и высказалась бы — колко и остро. Английским-то немного владеет. Арвидас, безусловно, придерживался бы одного с Юргитой мнения, но ничего не сказал бы, зато постоянно сидел бы с похоронной физиономией и курил сигарету за сигаретой. Кому это надо? o:p/
Каждый вечер наш мямля хотел с ними поговорить, и каждый же вечер откладывал объяснение на завтра. В какой-то момент твердо постановил, что поговорит с ними накануне покупки билета на самолет. Потом как-то так получилось, что он купил билет вечером, возвращаясь с работы, а к разговору еще не подготовился. Дальше он только и делал, что трусил и переносил беседу на потом. Наконец до отлета осталось менее трех суток. Л. Ничюс вечером сидел у себя в комнате и психовал. Все было готово — отпуск на работе оформил, с пражским свидетелем по имени Алексей переговорил, все документы заранее сложил в папочку. Эстер позвонила сама (редкий случай) и подробно рассказала, что свадебное платье и новый чемодан купила, мама вся на нервах, а Идит равнодушна ко всему, но это у нее возраст такой. Дав отбой, Л. Ничюс буквально-таки ворвался на кухню, где родители пили чай. «Послушайте, я в четверг улетаю», — выпалил он. Ответ последовал, но не сразу, и в виде вопроса. «В Прагу?» — спросила мать. Без трех суток молодожен остолбенел. «Да...» o:p/
Отец бросил на него презрительный взгляд: «Черт подери, Холмс, но как? Ты это хочешь спросить, да?» Л. Ничюс лишь обескураженно кивнул. Его мгновенный кураж испарился без следа. o:p/
«Мы все знаем. И куда, и зачем. И даже с кем. Бумажки свои надо прятать лучше, а не оставлять их на кресле», — едко сказал Арвидас. «Как в школе, ну ничего не изменилось», — добавила Юргита. «Но там же на иврите и чешском...» — безнадежно вякнул Л. Ничюс. «Ты нас совсем за идиотов-то не держи. Твоя фамилия там есть? Есть. И дата рождения. И ее. Спасибо, что хоть фотографий нет». — «Да, а уж догадаться, что к чему, не так сложно — на израильской бумажке указан сайт, я туда и зашла». — «Мама, папа, простите, я не...» o:p/
А что «не», он сказать так и не смог. Налил себе чаю и сел за стол. o:p/
Молчал. o:p/
Родители тоже ничего не говорили. Они имели полное право ждать, а их сын обязан был только говорить и извиняться. Но он молчал. o:p/
Внезапно он сполз со стула и встал на колени. «Простите меня. Я боялся вашего осуждения», — пробормотал он. «Встань, то есть сядь». Л. Ничюс повиновался. «Вы поедете со мной?» — «Разумеется, нет». Посидели в тишине еще пару минут. Заговорила Юргита. «Скажи, зачем тебе это?» — «Я... не могу без нее». Мать с отцом переглянулись. «Серьезно?» — «Да». — «Вот этого, честно, мы не ожидали». — «Да, мы думали, что ты просто хочешь сбежать отсюда». o:p/
Если бы Л. Ничюс, герой нашей повести, не был настолько погружен в свои мысли, он бы непременно заметил лазейку, через которую смог бы вылезти из этого разговора. Сведи он все к любви, глядишь, и простили бы они его. Но он все прозевал и испортил. o:p/
«Да и сбежать хочется, это так», — брякнул он. «А что тебя тут не устраивает?» — «Нет мне тут места. Я не хочу участвовать во всех этих литовско-русских разборках. Достало до крайности». Родители от гнева чуть не задохнулись. «А там — она», — добавил он. «Да кто вообще она такая?» o:p/
И тут Л. Ничюс в очередной раз ошибся. Он процитировал песню, которая ему давно нравилась, но сделал это не на родном языке. Более неподходящего момента для перехода на русский не существовало. Родители и так сердились, когда он с ними говорил не по-литовски, а уж в эту минуту и подавно не стоило их злить. «Та, которую я люблю», — фальшиво пропел он, что и впрямь прозвучало как издевка... o:p/
«...И как уедешь — не звони» — речь шла об окончательном отъезде из России. Так завершилась милая беседа учтивого сына с понимающими родителями. o:p/
o:p /o:p
Как же Л. Ничюс обрадовался, увидев Эсти в пражском аэропорту! Они, на виду у всех пассажиров и встречающих, обнялись и замерли на несколько мгновений. За спиной Эсти вежливо ждали две дамы, одна пожилая, другая совсем юная. «Добрый день», — сказал на иврите Л. Ничюс обеим сразу. «Меня зовут Веред», — сказала ее мать. «Очень приятно. А ты — Идит?» — «Да», — после некоторой паузы недовольно сказала девочка. И как только он отвернулся, добавила: «Это с тобой теперь будет спать моя мама?» (Вместо «спать» она употребила слово покрепче.) Веред возмущенно вскинула брови, у Эсти на лице нарисовалось намерение всерьез отчитать мерзавку, да и сама Идит сразу поняла, что зарвалась. Но тут на авансцену вышел Л. Ничюс. «Я и твоя мама любим друг друга. Скоро мы будем жить вместе. Я — твой друг, ты согласна?» — спросил он, пытаясь звучать максимально убедительно на незнакомом языке. Но эффект превзошел ожидания: старшие восхищенно закачали головами, а Идит сумрачно улыбнулась. Дело ладилось. o:p/
Впрочем, дружба дружбой, а полюбоваться Прагой в первый день им особо не довелось, хотя кусочек красоты урвать все-таки смогли. Доехали до центра, заселились в отель «Ялта», где их встретил Алексей. Веред и Идит он отправил отдыхать, а Эстер и Л. Ничюса увез в какое-то местное учреждение — подписывать не очень понятные бумажки. Потом они уселись на телефон, так как выяснилось, что услуги фотографа не входят в уплаченную агентству сумму, а у чешской стороны готовых предложений нет. С горем пополам нашли юную девушку, согласившуюся поработать на их условиях. Остаток дня как раз и посвятили прогулке — по знаменитому Новому месту, в основном колеся вокруг Вацлавской площади, где и находилась «Ялта». Стоял март, и на улице было еще вполне прохладно (а по мнению израильтянок, так и вообще морозило, как на Северном полюсе), поэтому ограничились парой стандартных достопримечательностей и приятным ужином с глинтвейном в одном из ресторанчиков на той же Вацлавской. o:p/
«Какие у тебя планы на самое ближайшее время?» — спросила его Веред. Л. Ничюс, волнуясь за свое произношение, ответил: «Сразу после Праги Эстер пойдет в израильское... (тут он совсем смутился, потому что забыл, как сказать на иврите ёМинистерство внутренних дел”, хотя неоднократно видел это словосочетание в различных документах; Эсти подсказала) и подаст документы на воссоединение семьи (этот термин он вызубрил). А потом я буду получать специальную визу, уже не туристическую. Как только получу, приеду». — «Я слышала, визы могут отменить», — заметила Веред. «Очень может быть, но я не хочу ждать». Веред посмотрела на дочь и одобрительно кивнула. «Ну а потом? Что ты будешь делать в Израиле?» — «Не знаю. Пойду мыть посуду и учить язык. Я не люблю ничего не делать». При упоминании мытья посуды у всех трех женщин глаза полезли на лоб. Но говорила по-прежнему самая старшая. «Ты же дипломат, верно?» — «Ну, почти». — «Зачем же тебе мыть посуду?» — «Для другой работы я пока плохо говорю на иврите». — «Сколько ты его учишь?» — «Полтора месяца». — «У тебя потрясающие успехи!» — «Спасибо, да, у меня есть способности к языкам». o:p/
Внезапно в беседу вступила Идит. «Послушай, ты работаешь в Москве в посольстве, у тебя куча денег и квартира. Ради чего ты это бросаешь?» o:p/
Л. Ничюс напрягся. Он знал, что этот вопрос возникнет, но не особо представлял, что ответить. Врать не хотелось, а правду... Ну, можно попробовать рассказать им все как есть. Он предупредил, что на иврите полностью изъясниться не сможет и частично будет говорить на английском. Эсти согласилась переводить. «Знаете ли вы, что такое СССР? — начал он издалека. Эсти и Веред кивнули, а для Идит он пояснил: — Это большое государство, которого уже нет. Там жили разные народы, и не все сейчас дружат». Дальше он подробно поведал о перипетиях начала девяностых (Веред, как оказалось, неплохо была осведомлена о вильнюсских событиях и для скорости сама вкратце пересказала их Идит и Эсти), а потом перешел к дню сегодняшнему. Он напирал на межнациональные проблемы, надеясь, что израильтянам это близко, — в принципе он целился верно, но его вдохновенную речь прервала Эсти. «Так что, это все из-за политики? Ты не говорил...» Л. Ничюс почувствовал, что одурачил сам себя. «Нет, нет. Вы просто поймите, что меня окружает дома. Постоянное напряжение, иногда даже вражда. И тут я знакомлюсь с Эсти. Я не привык в открытую говорить о своих чувствах, но я правда ее люблю. И я хочу сделать ее счастливой...» Все неловко замолчали. Вряд ли Бернштейны (эту фамилию носили Веред, Эстер и Идит) привыкли к таким признаниям, но они сами его вынудили. «Я бы очень хотел, чтобы вы мне поверили», — сказал он наконец. «Я верю», — тут же откликнулась Эсти. Ее мать со скептическим видом барабанила пальцами по столу. «Поздно уже, идем спать», — наконец встала с места Веред и, не оборачиваясь, прошла к выходу. Идит чуть помедлила и пошла за ней. Почему? Ах, они же вдвоем в одном номере живут. «Поговорим?» — предложил он Эсти. Она кивнула. Оба понимали, что в гостинице у них найдутся дела поинтереснее разговоров. o:p/
«Я до сих пор не верю, что ты женишься на мне». — «Почему?» — «Не знаю. Ты меня вернул в молодость. Я волнуюсь как дура. И не верю, что ради меня ты готов на такие перемены». — «Я люблю тебя». — «А я тебя не люблю, мотек, прости». — «Ничего, ты и не говорила мне никогда, что любишь. Но ведь ты согласна?» — «Конечно же да. Ты милый. You’re sweet», — повторила она на английском и засмеялась. «Мы будем счастливы». — «Да!» — «А ты была счастлива с мужем?» — Л. Ничюс тут же прикусил язык — он уже задавал этот вопрос раньше, и Эсти впадала в экстатический пафос, рассказывая о том, каким он (первый муж) был замечательным. То же случилось и сейчас — ее чело мгновенно избороздили морщины, лицо обрело скорбное выражение. «Да, мы так замечательно жили...» — Далее Л. Ничюс только слушал, а по совести — почти не слушал. o:p/
Эсти, утомленная перелетом, трудным днем и Л. Ничюсом, провалилась в сон сразу, как появилась возможность. Герою же нашей повести одновременно с ней уснуть не удалось, поэтому он пошел умываться. Чистя зубы, он вдруг вспомнил Юлю — одноклассницу, с которой некоторое время близко дружил году в девяносто втором. Годы спустя, видя Юлю на фотографиях, он сладострастно цокал языком, потому что она превратилась в черноволосую красавицу с внушительным бюстом, вполне достойную вожделения. Но их прошлое, как ему казалось, не позволяло никакого намека на сближение, а потом она вышла замуж и уехала в США (или наоборот — вначале уехала и уже там осчастливила кого-то). В школе же все обстояло очень просто и сердечно: после уроков они иногда захаживали к ней в Большой Тишинский переулок, вместе учились играть на гитаре, беззлобно сплетничали о других одноклассниках и занимались прочими важными делами. А однажды Юля заболела и по телефону попросила его принести какие-то тетради. Он пришел. Открыла ее мама, имя которой начисто забылось. Юля спала. Он отдал тетради и хотел сразу ретироваться, но мама Юли предложила ему пообедать, против чего Л. Ничюс ничего не имел. За супом завязалась беседа, во время которой он, к собственному неудовольствию, почувствовал сильное возбуждение. Такое с ним случалось и раньше, но сейчас-то с чего вдруг? И сидеть стало очень неудобно... Юлина мама тем временем жаловалась на дочь — совсем, дескать, не следит за собой, ходит без шапки, плохо ест, мало спит, вот и заболела. И внезапно строго-престрого обратилась к нему: «Почему ты не следишь за ней?». Воздух задрожал, как в кино, и Л. Ничюсу почудилось, что они уже взрослые, он — муж Юли и в самом деле в ответе за нее. Еще сильнее смутившись, он лопотнул, что, мол, постарается на нее воздействовать. Вскоре проснулась Юля, они немного поболтали у нее в комнате, и он засобирался домой. «Но ты лежи, не вставай. Я попрошу твою маму закрыть дверь», — сказал он, не подозревая, что несколько мгновений спустя он увидит ее, маму Юли, обнаженную по пояс. Она стояла в спальне у зеркала и, кажется, переодевалась. Еще секунд через десять остолбеневший Л. Ничюс с огромным трудом оторвал взгляд от ее груди — небольшой и не очень красивой (потом, в Праге, до него дошло, что формами дочь сильно обскакала мать), но ведь голой. А в юном возрасте главное, чтобы тело было голым, эстетика не играет никакой роли. Он попятился в коридор, мгновенно обулся-оделся и громко попросил замкнуть за ним дверь. Юлина мама тут же материализовалась в каком-то свитере, ласково поблагодарила его за помощь, и он ушел, разодранный своим перевозбуждением. o:p/
В тот день он впервые почувствовал, пусть и эфемерно, что такое ответственность за женщину. Образы больной Юли (к которой он всегда питал только дружеские чувства) и ее нагой мамы (которой он почему-то всегда инстинктивно сторонился) в результате слились в один — волнующий, трогательный и близкий. Потом были другие эпизоды, более конкретные и чувственные, но такого же дрожания воздуха, такого же остолбенения, как в доме в Большом Тишинском, больше ни разу нигде не наблюдалось. И вот накануне своей всамделишней свадьбы, в гостиничном номере, в полной темноте, Л. Ничюс вспомнил все это, и ему почудилось, что Эстер, невзирая на свой возраст и не самое хрупкое телосложение, просто маленький ребенок в корзине, которая плывет по реке (через пару дней он вспомнил, из какой книги ему явилось это сравнение, и позабавился — Чехия снаружи, Чехия внутри), и ему нужно ее выловить и спасти. Он лег и постарался скорее уснуть, пока плоть не затребовала нового цикла. o:p/
Регистрацию назначили на полдень. Все прошло довольно буднично, хотя и мило. Веред утирала слезы (интересно, плакала ли она, когда Эсти выходила за Арье?), Идит стояла с невозмутимым лицом, жених от волнения постоянно заикался. Невеста, свидетель Алексей и бургомистр (никто не знал, как по-настоящему звучит должность представителя муниципалитета, но Л. Ничюс мысленно называл его только так) улыбались. Фотограф Магда суетилась и лезла всем под ноги. Процесс шел на чешском языке, который герой нашей повести, к своему удивлению, неплохо понимал. Алексей переводил на английский. Сразу после объявления Эсти и Л. Ничюса мужем и женой заиграла предварительно заказанная джодассеновская «Если б не было тебя». Все друг друга поздравляли — особенно комично, хотя вовсе не противно, выглядели радостные рукопожатия свидетеля и бургомистра. Свадебный обед на четверых в ресторане, прогулки по городу — Старый город, Градчаны, постоянная болтовня ни о чем... Второй день, как всегда бывает в путешествиях, промелькнул гораздо быстрее первого. И вот уже снова вечер, ночь — первая брачная и всего лишь пятая совместная, а затем новое утро, и все — пора разъезжаться. Л. Ничюс, весь в печали и тоске, учтиво попрощался с Веред и Идит. «Мы скоро будем вместе», — шепнул он Эсти. «Я сделаю все, чтобы ты приехал поскорее», — ответила она. o:p/
o:p/
В Эйлат въехали часов в семь вечера. С иорданской стороны границу намеревалась пересечь огромная туча, однако дождем она не грозила. Попрощавшись с водителем, Л. Ничюс задумался, куда ему идти сейчас. До утра лучше особо не высовываться, так что надо где-то приткнуться. Но в кармане — шиш, ночь в отеле исключалась. Он подошел к аэропорту. Смех один, конечно, а не аэропорт — летное поле отделяет от обычной улицы забор из рабицы, а само здание размерами меньше супермаркета. У первого попавшегося полицейского испросил разрешения посидеть тут несколько часов. «Если надо, проверь меня. Дело в том, что мои друзья уехали и должны около полуночи вернуться, а ключ от отеля у них», — в очередной раз соврал он. Полицейский внимательно просмотрел все документы. «А почему бы тебе не посидеть в кафе?» — «Денег мало», — с легким сердцем ответил наш бродяга. «А на пляже?» — «Уже прохладно». Полицейский с важным видом кивнул: «Возможно, аэропорт закроется часов в одиннадцать, я не помню, когда сегодня последний рейс. Если не закроется раньше, можешь оставаться тут до полуночи», — сказал он и сразу же куда-то исчез. o:p/
Л. Ничюс сел и закрыл глаза. С собой была книга, но читать не хотелось и не моглось. В голове пульсировало одно слово: название местности, цель, пункт назначения. Не сказать, что он всей душой стремился именно туда, но раз уж решил, значит, надо. Он не спал, но глаз не открывал. o:p/
Почти все рейсы летели в Тель-Авив, откуда он только что прибыл. Однажды объявили регистрацию на Москву, аэропорт Домодедово. Как странно: его путь в родной город длится уже три года, и непонятно, сколько препятствий придется преодолеть еще. А тут люди — мужчины с серьезными лицами и женщины в модных джинсах — со своими смешными чемоданами, совершенно не заслуживая этого счастья, р-р-раз — и через пять часов уже будут в Москве. Л. Ничюс на секунду затосковал по Белокаменной, но сразу же прогнал это чувство. o:p/
Потом провалился в темноту и продремал часа два. Опомнился, глянул на часы — 23 : 06. Не дожидаясь, пока его официально выпрут, вышел на улицу. Действительно похолодало, но ничего не поделаешь. Впрочем, так даже лучше. Погуляет, а чуть свет — двинется дальше. Еще одна ночь без сна и действий, но не без смысла. А смысл в рассвете, только бы он действительно случился, не подвел. o:p/
Л. Ничюс бродил туда-сюда, от отеля к отелю, от пляжа к пляжу, ни о чем не думая и не стараясь каким-либо образом приблизить наступление утра. Потом еще немного поспал — зашел в круглосуточное кафе, выпил чаю и, против воли, отключился, прислонив голову к стене. Через час его разбудила миловидная официантка. «Тебе некуда идти?» — спросила она свистящим шепотом. Он, спросонья не разобравшись, что к чему, утвердительно кивнул. «Я заканчиваю через полчаса, поедешь со мной», — подмигнула официантка и отошла. Он ошалело посмотрел ей вслед — полные ягодицы, прямые длинные волосы, уверенная походка. Все, как ему нравится. Ближайшее будущее, оказавшись под угрозой, затрепетало, завибрировало и немного исчезло. Л. Ничюс малость струхнул. Торопливо выгреб из карманов две монеты по пять шекелей, тихонько (чтобы не звякнули) положил их на стол и выбежал из кафе, улучив момент, когда официантка стояла к нему спиной. Трепет и вибрация будущего прекратились. o:p/
Затем пошел на берег. Сел на кем-то забытый лежак. Все вокруг отливало черно-синим цветом, как обычно и бывает на море перед рассветом. Вода спокойно блестела, даже не думая издать какой-либо звук. Л. Ничюс снял с плеч небольшой рюкзак и лег — спина за сутки изрядно устала, хотелось немного вытянуться. От мерной неподвижности окружающей обстановки снова задремал, но совсем ненадолго, а когда опомнился, на небе уже появились просветления. Он встал, с утробным рыком сделал несколько наклонов и посмотрел на часы. Пора. o:p/
...Пора. Он оделся, перетащил чемодан к двери и зашел на кухню. Отец еще не пришел с работы. За столом сидела одна мама. С того самого вечера, когда он неудачно рассказал о грядущей свадьбе, она с Л. Ничюсом не разговаривала. Если Арвидас изредка заходил в комнату сына, спрашивал что-то малозначимое, то Юргита полностью игнорировала его. o:p/
«Мама, я уезжаю», — сказал он ей в спину, сильно надеясь, что она хотя бы обернется. Но нет. «Счастливого пути, привет жене», — отчеканила она. Идеальная осанка, никакой жалости. Он подошел и сел рядом. Она посмотрела ему в глаза. «Мама, я тебя очень люблю». Она промолчала. Он промямлил: «Как жаль, что все так...» — «Ответь, ты сыт? Здоров?» — «Да». — «Тогда не требуй от меня сочувствия к твоим возмутительным поступкам». — «Но ведь мы одна семья...» — «Я тебя не выгоняю. Это твой дом. В любую секунду ты можешь вернуться и здесь жить». — «Но ведь это не единственное...» — «Если вдруг срочно понадобятся деньги — позвони отцу, поможем». — «Да при чем тут деньги?» — «Я, вероятно, плохая мать. Но если ты сыт и здоров, я считаю, что имею полное право не соглашаться с тобой. Все, что ты делаешь, я считаю абсолютно неправильным». o:p/
Через пять минут Л. Ничюс уже катил чемодан к метро. Ничего принципиально нового мать не сказала, но слаще от этого не становилось. Что правда, то правда: она никогда не отказывала ему ни в чем насущном. Даже когда Л. Ничюсу перевалило за двадцать пять, она не говорила, мол, а приготовь-ка сегодня еду сам. Другое дело, что он и без принуждения помогал ей и отцу всегда, когда мог. Но холод и безапелляционность ее суждений постоянно угнетали. Характером он вышел в отца, довольно деликатного и спокойного человека. Если бы они жили только вдвоем, без матери, вероятнее всего, столь напряженных ситуаций удавалось бы избегать. Но всегда получается так, что резкость берет верх над мягкостью. Спокойный человек не может диктовать свою волю неспокойному, потому что спокойный не начинает конфронтацию, предпочитая уступить. Л. Ничюс так и не узнал, что отец сочувствовал ему сильнее, чем выказывал. Вскоре после рождения сына Арвидас сильно возжелал коллегу, разведенную бухгалтершу старше себя лет на пятнадцать. Разумеется, он ни словом не выдал своих вожделений, и в итоге ему удалось избавиться от сжигающего наваждения. Но, полагал Арвидас, будь он холостым, любовное соитие непременно случилось бы. Мог ли он после этого осуждать сына? Но и противиться жене, которой, кстати, за всю жизнь так ни разу и не изменил, тоже не мог. Ее предельная прямота, неоспоримая обоснованность и четкая однозначность в мнениях и суждениях не оставляли ему путей к отступлению. Юргита редко на чем-то настаивала, но если уж настаивала, то все — требовалось либо соглашаться, либо готовиться к длительному противостоянию, в котором Арвидасу до скончания дней была уготована роль проигравшего. o:p/
В вопросе, ставшем роковым для их семьи, Арвидас придерживался скорее пророссийской позиции. Он очень обрадовался, чем разъярил свою жену, когда комиссия по оценке последствий «преступлений» прекратила работу. Как же Арвидас горевал, а Юргита — злорадствовала, когда пять лет спустя этот пресловутый орган возобновил свою деятельность! И насколько символичным, по мнению бедолаги Арвидаса, выглядело то, что деятельность проклятой комиссии приостановили при президенте Адамкусе — мужчине, а возобновили при Грибаускайте — женщине. Он, будучи наполовину человеком науки, а наполовину — промышленности, понимал, сколько советская власть дала Литве. Но и многочисленные перегибы он не собирался отрицать... Юргита же утверждала, что, будь Литва полностью независимой с сороковых годов, сейчас страна по уровню развития находилась бы едва ли не выше Швейцарии. Точку зрения сына Юргита сумела интерпретировать так, что он и муж оказались по одну сторону баррикад, а она — по другую. Прекрасно зная характер Арвидаса, она понимала, что при такой постановке вопроса он не будет поощрять странноватый нейтралитет сына, стараясь в первую очередь сохранить хорошие отношения с женой. Юргита в самом деле не ведала жалости в таких ситуациях. o:p/
o:p /o:p
Месяцев девять-десять назад Л. Ничюс улетал в Вильнюс. Вообще он любил туда ездить на поезде, но в этот раз пришлось добираться самолетом. Одна из двоюродных сестер, длинноногая высоченная Регина, решила выйти замуж, и все бы хорошо, но московскую колонию Ничюсов по общему разгильдяйству предупредили о событии, на котором требовалось присутствовать, менее чем за неделю. На нужный день железнодорожных билетов, включая транзитный калининградский поезд, почти не было — оставались только СВ, вдвое дороже самолета. Пройдя регистрацию в Домодедове, Л. Ничюс решил перед посадкой выпить чаю. Но выбранная кофейня оказалась очень маленькой — за всеми столиками уже сидели. Он вынужденно осмотрелся: к кому бы подсесть? Четыре варианта: двое мужчин (каждый сидел по отдельности), семья из трех человек и тощая девушка в ярко-красном свитере. Выбора не осталось. Держа в руках чашку, он направился именно к ней. Улыбнулся, негласно испрашивая разрешение присесть. Она, также молча, улыбнулась и кивнула. Л. Ничюс сел, увидел в ее руках книгу на немецком языке и мгновенно обрадовался возможности попрактиковать свой немецкий. «Fahren Sie nach Deutschland?» — спросил он. «Ja, nach Dusseldorf», — ответил приятный голос, или, по крайней мере, так он прозвучал для Л. Ничюса. «Und sind Sie aus Dusseldorf?» — продолжил он, очень довольный собой. «Nein, ich bin eine Russin» <![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> , — сказала она, положив конец их диалогу на немецком. «А я-то подумал, вы оттуда», — снова улыбнулся Л. Ничюс. «Извините, разочаровала вас». — Она говорила очень доброжелательно, хотя и с серьезным видом. «Я просто люблю разговаривать на немецком», — пояснил он, мысленно добавив, что и на всех других языках тоже. «Вы летите в Германию?» — «Нет, в Вильнюс». — «Значит, у нас рейсы с разницей в двадцать пять минут!» — «А вы откуда знаете?» — «Да я все табло выучила от скуки. Сижу тут уже часа три». — «Сочувствую, я бы свихнулся». — «Вот и я на грани... А вы по работе летите? Извините, если влезаю не в свое дело». — «Все нормально. Нет, не по работе. У двоюродной сестры свадьба, родители не могут поехать, вот меня и откомандировали... Хотя я и не против». — «Ну, хорошо вам повеселиться». — «Да, надеюсь. А вы в Дюссель зачем едете, если можно узнать?» o:p/
Собеседница остренько посмотрела на него. «Я не буду говорить. Мне кажется, что вы добрый человек. Не хочу вас расстраивать». Л. Ничюс, конечно же, ничего не понял и оставил последнюю реплику без комментария. Пожал плечами и отхлебнул полуостывший чай. «Можно, я вам задам очень грубый, но приличный вопрос?» — продолжила она. Он кивнул. «Вы не ничтожество?» — «Э-э...» — «Представьте, что вы в безвыходной ситуации. Что вы сделаете?» — «Зависит от ситуации...» — «Ну представьте, что вы прыгнули с парашютом, а он у вас раскрылся, но как-то наполовину. Что вы сделаете, пока не грохнетесь?» — «Посмотрю, нет ли возможности упасть в воду», — брякнул Л. Ничюс. — «И если есть, то?..» — «Буду дергать стропы, чтобы дотянуть до воды». Внезапно девушка крепко сжала его левую ладонь двумя своими. «Не знаю почему, но я так рада, что вы не ничтожество. Простите меня, если я вас обидела. Но иначе не скажешь. Вокруг столько ничтожеств... Везде! Я сегодня такого дурака видела... А мне очень надо знать, что есть еще и другие, ну, как вы...» Герой нашей повести растерялся вконец. Хотел что-то сказать, но ничего умного не придумалось. Еще через минуту объявили посадку на Вильнюс. «А оставьте ваш телефон? Оба вернемся — созвонимся?» — предложил он. Она покачала головой. «Я не из Москвы». — «Понятно...» — протянул наш недотепа, не сообразив уточнить, откуда же она, и что номер телефона можно взять в любом случае. «Пожалуйста, не будьте им. Дергайте стропы, покуда они не порвались. До свидания...» — «До свидания... Будьте здоровы!» Пожал ее руку, крепкую, но влажную. Она грустно улыбнулась. Он, не оглядываясь, побрел к своему выходу. Лишь сидя в кресле понял, что не спросил хотя бы, как ее зовут... И весь полет собирал расползшиеся мысли. Он, кажется, понял, что имела в виду странная девушка, но теперь пытался оценить свою жизнь, всегда ли он поступал так, как задекларировал. До самого выхода из здания с теремочной крышей, на котором красовались большущие буквы «Oro uostas airport» <![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> , он думал о своей странной собеседнице. Потом его встретили родственники на машине, и он напрочь забыл об этой встрече. В следующий раз, вылетая из Домодедово, Л. Ничюс о ней и не подумал. А сейчас, наоборот, — вспомнил почти все. И снова, как в самолете до Вильнюса, забарахтался в размышлениях. В этот раз, впрочем, он больше думал о самой девушке, чем о ее словах. Она ему внешне совсем не понравилась — слишком худая, истерзанная какая-то, как показалось, совсем обессилевшая. Наверное, ее замучила дорога до Москвы (откуда?) и долгое ожидание самолета. Но похудеть-то так она не могла за сутки... Впрочем, это несущественно. Он очень сожалел, что им вряд ли суждено снова свидеться. Никогда ранее Л. Ничюс не сокрушался, что у него нет сестры или брата (мысли об этом, несомненно, изредка посещают каждого, кто рос единственным ребенком в семье). Пример литовских кузин и кузенов, вечно раздраженных и любивших друг друга из года в год все меньше, маячил перед глазами всю жизнь. Неудивительно, что, находясь так далеко и обособленно от московской родни, они месяцами не вспоминали героя нашей повести, поэтому он и не считал их настоящими братьями и сестрами. Сейчас же он предположил, что давняя исхудалая незнакомая знакомка стала бы ему идеальной сестрой. Фактически потеряв родителей, Л. Ничюс затосковал по необретенному родному человеку. Уж она-то точно не гнобила бы его... o:p/
Как будто почувствовав его настроение, Эсти прислала сообщение: «Самолет не задерживается?». Мост между неуместным прошлым, несуществующим настоящим и рискованным будущим был перекинут. Осталось лишь по нему пройти. Л. Ничюс, подхваченный осознанием значительности своего поступка, нырнул в «рукав», ведущий прямо в самолет, и таким образом оставил за своей спиной все без остатка. o:p/
На первых порах в Израиле его многое изумляло. Потом начало слегка бесить. А потом он привык и перестал обращать внимание на то, что его раздражало. Поведение людей, обычаи, праздники, движение транспорта, погода... А еще дела бумажные — Л. Ничюсу и Эстер сильно не повезло. В отделении, куда они отнесли свои документы, работали строгие и непреклонные люди, они не только под микроскопом изучали каждую бумажку (чего ж еще ожидать), но и устроили молодоженам собеседование по отдельности. И если Эсти это не сильно напрягло — ей-то что, говори правду — и все, то наш потенциальный израильтянин волновался до чрезвычайности. Он не только боялся не ответить на какой-то вопрос (спросят, кем работала Эсти пятнадцать лет назад, — что он ответит?) или что-то не понять, но и в целом не знал, чего ждать от процедуры. Но все прошло довольно буднично. Его спросили о дате знакомства с Эсти (хорошо хоть не поинтересовались обстоятельствами), о родителях, о работе в Москве и об источнике владения языками. В заключение женщина, проводившая разговор, сняла очки и посмотрела ему в глаза. «Госпожа Бернштейн старше вас на тринадцать лет. Это не самая типичная ситуация. Будь вы оба гражданами Израиля, никому бы до вас дела не было. А так мы вынуждены уточнить, нет ли у вас намерения через фиктивный брак получить гражданство». Л. Ничюс, чаще всего спокойный и даже флегматичный, аж покраснел от злости. «Я не знаю, как вам доказать, что я ее люблю. Вы можете установить в нашем доме...» Он не знал слово «видеокамера» на иврите, поэтому заменил его «наблюдением». Впрочем, на чиновницу эти слова желаемого впечатления не произвели. Она, нисколько не смутившись и не извинившись за бестактность, сказала, когда им нужно будет явиться снова, и отпустила Л. Ничюса восвояси. o:p/
Месяца через три после приезда он сменил визу «Б2», самую обычную, на «Б1» — полугодовую туристическую, которая, однако, давала право на работу. Затем Л. Ничюсу следовало прожить четыре года с визой «А5» — иными словами, с временным видом на жительство. По истечении каждого года ему с Эстер предстояли визиты в министерство с толстенной пачкой документов, подтверждающих, что супружеская пара действительно живет вместе и в Израиле. Постоянное пребывание в другой стране исключалось — допускались только краткие поездки. Далее запрос на ежегодное продление вида на жительство рассматривался (разумеется, в индивидуальном порядке) и удовлетворялся. Лет через пять Л. Ничюсу, при идеальном поведении, вполне светило гражданство. Он твердо решил, что получит новый паспорт. o:p/
Меж тем виза «Б1», разрешающая работу, оказалась палкой о двух концах. Формально трудиться в Израиле Л. Ничюс уже мог. Но даже при неплохом знании языка его мало куда соглашались взять. Он-то по наивности думал, что главное — идеально говорить на иврите, к чему он стремился изо всех сил. Но внезапно выяснилось, что Израиль, молодая страна, в языковом вопросе была предельно либеральной. Его окружали бывшие украинцы, эфиопы, узбеки, поляки, и все говорили на иврите по-своему, со своими ошибками и особенностями. Конечно, в школах и университетах преподавали на блестящем иврите. Но даже в присутственных местах, куда герою нашей повести регулярно приходилось являться, его почти музыкальное ухо постоянно ловило ошибки и недочеты. Для хорошей же работы требовались хорошие документы. А кто возьмет на службу туриста? Он же уедет в любой момент — и все. o:p/
Однако до получения позволяющей работать визы оставалось три месяца, и их хотелось потратить с пользой. Вечером и ночью он занимался Эсти, да и утром тоже — готовил для нее завтрак и провожал до машины. Ее это очень забавляло и умиляло. А далее начиналось свободное время. Первые дни он сидел дома и учил слова, как будто и не уезжал из Москвы. Но довольно быстро понял, что зубрить, находясь в естественной среде, неправильно. Поэтому он выходил на улицу и куда-нибудь шел. Изучал разные дороги, хотя чаще всего оказывался в центре. По дороге обязательно заходил в магазины, публичные учреждения, закусочные типа «Макдоналдса», где можно постоять незамеченным, и слушал, слушал. Пару раз в неделю позволял себе чашку кофе или чая где-нибудь на площади Дизенгофф, и там тоже ловил язык. На его удочку попадались не только слова и фразеологизмы (не всегда понятные), но и жесты, интонации, выражения лиц. Раньше, изучая языки, он никогда не задумывался о таком. В самом деле, зачем ему, в совершенстве знающему, к примеру, литовский, наблюдать за латышами? Достаточно, что он может своими словами выразить все, что надо. Врожденная способность имитировать произношение любого европейского языка избавляла от лишних хлопот. Сейчас же все было иначе. Он желал стать не только гражданином другой страны, но и ее настоящим жителем. o:p/
Иврит — язык, из-за своей гортанности на первый взгляд кажущийся чуть грубоватым, однако на самом деле изящный и мелодичный. Еще в первый приезд Л. Ничюса покорила звукопись иврита. Он, ни слова не понимая, с восторгом слушал, как общаются люди на улицах. А как ему понравились объявления остановок в израильских поездах! Он, впервые путешествуя в «ракевет» («поезд» на иврите, изумительное слово, похожее на «ракету»), нарочно отсел в свободную часть вагона, чтобы тихонько повторять вслед за женским голосом названия станций и прочие объявления. Обосновавшись в Израиле, он продолжал наслаждаться звучанием иврита, и впервые в жизни испытывал не только эмоциональное удовольствие от разговора на иностранном наречии, но и физическое, ему нравилось говорить на нем. Русский, литовский, английский были очень уж обыденными, чтобы замечать их красоту. Все прочие слишком мало для него значили. Ранее Л. Ничюс учил новый язык до уровня «понимать любую газету процентов на шестьдесят», относясь к нему с утилитарной точки зрения, без сантиментов. o:p/
К тому же на иврите говорила Эсти — дополнительный (а точнее, главный) повод относиться к нему по-особому. Недели со второй они совсем перестали общаться на английском, и теперь она даже ворчала, хотя и шутливо, когда он что-то не понимал. Эсти недоумевала, как ему это удалось — за четыре месяца заговорить на языке так, как многие эмигранты не могут за всю жизнь. «Ты у меня гений?» — спрашивала она изредка. Л. Ничюс самодовольно улыбался. o:p/
Эсти выглядела безоговорочно счастливой. Она расцвела и постоянно пребывала в хорошем настроении — то, чего за годы после смерти мужа ей очень не хватало. Некоторые коллеги заметили перемену и спросили, с чем это связано. Эсти, до той поры хранившая свой новый брак в секрете, раскрыла карты. Это был фурор. Ей даже поначалу не поверили, пока она не показала пражские фотографии. Работа на час остановилась — Эсти рассказывала все в подробностях: где, как и что. Мужчины недоуменно качали головами, женщины вслух завидовали. o:p/
Сменив визу, Л. Ничюс принялся искать работу. В серьезных офисах его не ждали, нянчить младенцев и детей постарше он просто не мог. Поразмыслив, он стал целенаправленно устраиваться курьером — можно и город узнать получше, и с людьми пообщаться. Но не удалось. Зато внезапно предложили поработать продавцом в книжно-канцтоварном магазине, что располагался близ улицы Алленби. Изучение местной топографии отменилось, а общения навалило выше крыши. Помимо героя нашей повести, в магазине работали две девушки — Ирит и Лиора, а также Элла, дама предпенсионного возраста, и невнятный полусумасшедший молодой человек, который, впрочем, почти сразу же уволился. Все, за исключением «Крэйзи» (как его мысленно называл Л. Ничюс, поскольку настоящее имя паренька он запомнить не успел), прониклись сочувствием к новоприбывшему и старались его поддерживать. Но если Элла и Лиора ограничивались дружелюбными улыбками и общими вопросами, наподобие «Как дела, помощь не нужна?», то Ирит постоянно таскалась за ним в обед, предлагала свою компанию на выходные и иными способами демонстрировала свою заинтересованность в коллеге. Этим она довольно сильно ему докучала. Во-первых, Ирит категорически не нравилась Л. Ничюсу, а во-вторых, он не собирался изменять своей жене. Хотя кто знает, что бы случилось, будь Ирит попривлекательнее? Однако он не мог прямым текстом отшить ее. Из разговоров коллег он понял, что она кем-то приходится владельцу магазина. Кем — вслух не сказали, хотя вполне могло быть, что он просто не разобрал этого в бурном потоке разговоров, а уточнять постеснялся. Нет сомнений: в случае конфликта владелец встал бы на сторону Ирит. Оставаться же без работы по такой причине наш хитрец не хотел, вот и бегал от воздыхательницы, уворачивался, придумывал какие-то смешные отговорки, а иногда просто имитировал незнание иврита, благо на английском Ирит говорила не очень хорошо. До столкновения так и не дошло: она была не только назойливой, но и чуть трусоватой. Ходила-ходила за ним, но впрямую так ничего и не сказала. o:p/
Жизнь определенно наладилась. Л. Ничюс успешно пережил свою первую израильскую жару, обзавелся друзьями, сменил гардероб и даже несколько раз сходил на баскетбол — при виде оранжевого мячика на афишах его литовская душа, до сих пор неравнодушная к «Жальгирису», правда, теперь — баскетбольному, не выдержала. o:p/
Новая семья, а точнее, три совсем непохожие, но родственные друг другу женщины — Эстер, Идит и Веред — приняли и даже, как ему казалось, почти полюбили его. Особенно радовало доброе отношение Идит. Несколько раз они вдвоем гуляли по Явне. Идит делилась своими подростковыми проблемами и изредка расспрашивала его про Россию — страну, о которой она не знала вообще ничего и которая каждый раз поражала ее воображение. Идит вела себя очень прилично, ни на мать, ни на бабушку не жаловалась, от мороженого или пиццы вежливо отказывалась (правда, Л. Ничюс настаивал, и со второго раза она соглашалась) и ничего не просила сама. Инцидент в пражском аэропорту остался в прошлом. o:p/
Веред нравилось, что муж ее дочери способен не просто вести разговор на иврите, но и обсуждать серьезные темы. Она всю жизнь проработала учителем истории, хотя мечтала заниматься научной деятельностью. Веред с интересом слушала, что Л. Ничюс рассказывал о советских и российских событиях, и с огромным энтузиазмом сама говорила об Израиле. Эсти эти разговоры особо не привлекали, поэтому она обычно сидела и смотрела телевизор, изредка напоминая мужу, что пора бы закругляться, им же еще надо ехать домой. o:p/
Но семья Эстер, при всех ее достоинствах, не могла ему заменить свою, потерянную. Пару раз он звонил домой, оба раза к телефону подходила Юргита. Разговоры длились секунд по тридцать. Она ледяным тоном спрашивала, все ли у него хорошо (ответ — «Да»), говорила, что у них тоже порядок, и бросала трубку. Доставать их по мобильным было бесполезно, так как они, видя израильский номер, просто не отвечали. В результате он перестал им звонить вообще, ибо к чему расстраиваться? Однако спустя полгода все-таки решил связаться с отцом — послать ему электронное сообщение. Ход оказался верным: через два дня Арвидас ответил. «Мама очень скучает по тебе, как и я. Но она никогда не признается в этом, потому что ей принципы дороже. Ей обидно, что ты уехал и у тебя все хорошо. Да и мне не по нраву то, что ты затеял. Может, потом она и смягчится, но сейчас точно нет. Ты мне иногда пиши, а звонить не надо». o:p/
«Обидно, что ты уехал и у тебя все хорошо». Л. Ничюс много раз перечитывал эту фразу. Разве такое может быть? Это же бред, нелепость. Неужели это правда? Он рассказал о ситуации Илье, своему новому другу, бывшему жителю Киева и психологу по образованию. В Израиле Илья оказался уже после окончания института и тут в силу обстоятельств переквалифицировался в специалиста по продажам. «Ясно, что им хочется твоего возвращения. Но возвращения на щите. Блудный сын и так далее», — сказал Илья. В тот вечер они сидели в одном из кафе на бульваре Бен Цион. Илья — высокий, статный, с удовольствием смеющийся по любому поводу, одним своим видом успокаивал Л. Ничюса. Он постоянно рукой закидывал волосы назад и, когда задумывался, по общеизраильской привычке тянул звук «э-э» (который фонетически ближе к «е», только без йота). Илья отлично изучил теорию психологии, в том числе семейной, но практики никогда не держал. В Киеве не успел, в Израиле — не смог: предложение сильно превышало спрос. Но изредка он все же соглашался поговорить с друзьями как профессионал. o:p/
«Я это могу понять. Но почему моей маме обидно, что у меня все хорошо?» — «Дело не в тебе, а в ней. Я ее не знаю, но, вероятно, ее принципиальность — следствие обычной ревности. Ты же один ребенок в семье?» — «Да». — «Вот! Не могу утверждать наверняка, потому что не знаю, но не исключено, что у нее с твоим отцом серьезные проблемы». — «Я не замечал ничего особенного...» — «Это необязательно сопровождается криками и скандалами. Возможно, ей не хватало личной жизни, в самом обычном понимании». — «Не понимаю, в каком?» — «В интимном». Л. Ничюс вытаращил глаза. «Ну, может и нет... Но в любом случае она хотела, чтобы хоть с тобой все вышло так, как хочется именно ей. Как у нее с самооценкой?» — «Сложно сказать... Но она не тот человек, который гордится собой. Это точно». — «Ты упоминал, что у вас происходили конфликты на межнациональной почве?» — «Ну, не совсем так», — сказал Л. Ничюс и вкратце поведал печальную историю их разногласий, не забыв о мамином «ты сыт, и не требуй от меня сочувствия». Илья кивал и угукал. «Ну вот, все же очевидно. У нее, скорее всего, недооценка себя и проблемы с мужем, а ко всему прочему ты оказываешься — как это... Белым вороном!» — «Вороной?» — «Да! Белой вороной». — «А может, дело в том, что она лет с восемнадцати, с моих восемнадцати, воспринимает меня как полностью равного, отсюда и эта требовательность?» — «Не думаю. В идеале в восемнадцать лет должна произойти сепарация — отделение ребенка, уже фактически взрослого человека, от родителей. У молодого человека должна начаться самостоятельная жизнь. Ты всегда жил с ними, да?» — «Да...» — «А почему с ними, а не один?» — «Если честно, я не думал о самостоятельной жизни, даже мысли такой не возникало». — «Чем взрослее дети, тем больнее проходит процесс сепарации. Скажи спасибо, что у вас до патологии не дошло, когда созависимые отношения сильны настолько, что их рвать просто невозможно. Она тебя не звала обратно?» — «Нет, и не позовет». — «Это хорошо. Для нее хорошо, — спохватившись, тут же уточнил Илья. — А еще... Крепко держись за свою жену. С учетом, что мать в ближайшее время ты не увидишь, а общаться с тобой она не хочет, только в ней, в жене, твое спасение». o:p/
Ближайшей ночью Л. Ничюс рассказал Эсти об этом разговоре и в результате впервые лет за двадцать разрыдался — некрасиво и совсем не по-мужски. «Илья прав, но я не хочу забывать свою маму», — думал он, зарываясь лицом в большие груди Эсти. Та впервые почувствовала себя рядом с ним не женой, а кем-то еще (но кем, она не понимала). Она гладила его по голове и бормотала бесполезные слова, пока не додумалась предложить единственный действенный способ утешения. Через полчаса Л. Ничюс уснул, а она пошла на кухню, закурила и о чем-то задумалась. o:p/
Их отношения были похожи на выпущенную шутником-издателем книгу страниц этак в триста. Книгу, в которой разъезжающийся во все стороны текст, переполненный опечатками и ошибками, появляется не ранее сотой страницы и исчезает где-то на стопятидесятой. Так и они — без начала, без конца и с не очень внятной серединой. Но видение, посетившее героя нашей повести в день знакомства с Эсти, не отступало, понемногу воплощаясь в жизнь, — он видел себя рядом с ней каждый день на протяжении долгих десятилетий. o:p/
Пролетел первый год. Они снова явились к своей чиновнице, предъявив внушительную пачку бумажек, подтверждающих их совместное проживание. Вскоре Л. Ничюсу выдали вид на жительство — документ, с которым он вполне мог претендовать на работу почище магазинной. Еще четыре проверки, каждая через год, — и все, гражданство. Вещь, поначалу казавшаяся невероятно далекой, обрела устойчивую форму и рамки... o:p/
o:p /o:p
...Если бы Л. Ничюс, герой нашей повести, не был настолько влюблен в свою жену и через три года после свадьбы, он бы непременно заметил неладное. К этому моменту он уже полностью освоился в стране. Все вокруг перестали удивляться европейского вида блондину, который не просто претендовал на гражданство, но и ревностно делал многое другое — вызубрил язык, гимн при случае подпевал, тщательно изучал историю и литературу, праздники отмечал, про израильтян говорил «мы» и даже купил кипу (которую, правда, надел только однажды — на похоронах дальнего родственника Эстер). Разве что политику не трогал, а еще гиюр — обращение в иудаизм — решил не проходить, хотя участь отступника ему в любом случае не грозила, поскольку ни в к одной из христианских конфессий он, так сложились обстоятельства, не принадлежал. o:p/
После обретения вида на жительство он еще полгода оттрубил в книжном, а потом удалось найти работу почти по специальности (мыть посуду так в итоге и не довелось). Его взяли в одно из многочисленных бюро переводов. Поначалу присылали совсем мелкие задания, затем покрупнее, но нерегулярно. В итоге в штат его так и не зачислили, но какой-то договор он подписал, и с тех пор заказами его обеспечивали постоянно. Работать приходилось во всех направлениях — переводить субтитры к фильмам, коммерческую рекламу, изредка художественные тексты. Пару раз даже синхронил. В первый раз какому-то бизнесмену из США, а еще через два месяца — немецкому кинопродюсеру. Бюро специализировалось только на английском, поэтому все другие языки герой нашей повести временно отставил. Платили не сказать, что очень много, но Эсти больше не требовала. o:p/
Все началось в Суккот. Они собирались съездить в Явне к Веред и Идит, однако Л. Ничюс простудился. Эсти, по его настоянию, поехала одна. Но к следующему вечеру, как договаривались, не вернулась. Он ей позвонил — мобильный был выключен, а по домашнему Веред ответила, что с Эсти все в порядке, но она куда-то вышла. Нет, не на машине, не волнуйся. Вернется завтра. Ну, бывает. Он, с кружащейся от недомогания головой, лег спать. А назавтра его поджидал сюрприз. Эсти снова не приехала, но на сей раз прислала сообщение: «Никуда не звони, со мной все в порядке, приеду потом». Л. Ничюс занервничал всерьез, и не зря. Еще через сутки ему позвонил адвокат Эстер Бернштейн по семейным делам. Он так и представился. «Господин Ничюс, у меня к вам по поручению Эстер серьезный разговор. Вы можете сейчас меня принять?» — произнес он с голливудскими интонациями. Л. Ничюс одеревенелым голосом предложил встретиться в ближайшем кафе, так как дома кавардак и микробы в воздухе. Адвокат согласился и информировал, что немедленно выезжает из Бней-Брака, а значит, будет очень скоро. Через десять минут герой нашей повести в мятой футболке и старых джинсах уже жал руку омерзительного вида мужичонке, который отрекомендовался Дороном Гурвичем. Адвокат откашлялся и приступил. o:p/
«Сразу к делу. Госпожа Бернштейн требует от вас развода». Л. Ничюс больными глазами посмотрел на адвоката. «Почему?» — «Лично я не знаю, она расскажет вам об этом сама. В скором времени она пойдет в министерство и подаст заявление о прекращении процедуры получения вами гражданства, а затем — на развод». — «И что... это для меня... означает?» — «А значит это, что вам вскоре придется покинуть Израиль, так как ваш брак будет официально расторгнут. Конечно, депортировать вас никто не будет. Но определенные сроки вам установят. Если вы их не нарушите, никаких проблем не будет». o:p/
Л. Ничюс не двигался и ничего не говорил. o:p/
Гурвич выждал несколько секунд и продолжил. «Разумеется, Эстер понимает, что вам будет нелегко. Поэтому она предлагает следующий вариант. Вы остаетесь в ее квартире (как резануло это ёее” — раньше она говорила, что они живут в их общем доме) еще один месяц, в течение которого не платите ни за что, кроме своего пропитания. Телефон, электричество, прочее — все за ее счет. Взамен вы обязуетесь ровно через месяц освободить квартиру. В день отъезда я лично с вами встречусь у подъезда, вы мне отдадите ключи, а я вам — все необходимые бумаги. Вы согласны?» — «Насколько я понимаю... у меня выбора нет». — «К вашему сожалению, вы правы». — «Тогда зачем спрашивать?.. Хорошо, пусть будет так». — «Тогда подпишите тут и тут. Это разрешение на ведение мною ваших дел». — «Вы что, ведете и мои дела, и Эстер?» — «Нет, официально в этот раз ее адвокатом будет мой коллега». — «А она мне хотя бы позвонит?» — «Думаю, да. По крайней мере, из ее слов я понял, что она собирается. А еще она просила передать вам вот это. — Гурвич протянул ему какой-то конверт и встал. — До свидания, господин Ничюс». o:p/
В конверте лежали деньги. Жалкая сумма — пять тысяч шекелей. Откуп? Ничтожно... o:p/
Он вернулся домой и повалился на кровать. В висках колотило, сердце заходилось. Он принялся терзать телефон, но бесполезно: ее номер не отвечал. Вечером она позвонила сама. o:p/
«Тебе адвокат все сказал?» — «Да». — «Отлично. Жаль, что так получилось...» — «Но послушай...» — Он тяжело сглотнул. Горло болело. «Да?» — «Что же случилось?» — «Я встретила мужчину и хочу выйти за него замуж». — «А я? Я же твой муж...» o:p/
Эсти затихла, но он знал, что обычно после этого следует взрыв. И не ошибся. «Ты — мой муж? Да, ты. Но я не хочу больше быть твоей женой, понимаешь? Хватит». — «Почему, ты можешь объяснить?» — «Не могу. Он... настоящий. Мы с ним ходили в соседние школы в Холоне. Понимаешь? Он помнит Пинхаса Илона, понимаешь? Ты знаешь, кто такой Пинхас Илон?» — «Нет...» — «Он работал мэром больше тридцати лет! А еще он военный и служил в соседних частях с Арье». — «Кто? Илон?» — «Нет!!! Мой новый... друг. И мы оба уже двадцать лет голосуем за ёЛикуд”. Нам есть о чем поговорить!» — «А со мной?» — «С тобой могу говорить только о настоящем и будущем. У нас нет общего прошлого! А я обожаю думать о прошлом!» — Никогда ранее Эсти не изъяснялась так красиво. «Зачем же ты вышла за меня замуж?» Ее настроение мгновенно переменилось. «А мне просто показалось это забавным и я подумала, а почему бы и нет, вдруг получится? — засмеялась Эсти. — Но ты не думай, я тебе ни разу не изменила... до встречи с Йоси». — «Йоси...» — повторил Л. Ничюс и против желания всхлипнул. Эсти снова смолкла. «Куда я поеду?» — «Не знаю...» — Она, конечно, помнила и понимала, что просто так вернуться в Москву он не сможет. o:p/
«Лаймиус?» — внезапно произнесла она. Ничюс вздрогнул — уже пару лет она его не называла по имени, все мотек да мотек. «Что?» — «Прости... Я иначе не могу». o:p/
Через секунду в трубке была только пустота. Больше они не разговаривали и не виделись. o:p/
Потом, когда Лаймиус вспоминал последние недели, ему стало казаться, и небезосновательно, что Эсти вела себя раздражительнее обычного и чаще, по разным поводам, выражала свое недовольство. Но он полагал, что все дело в частностях, поэтому усердно старался исполнять малейшие пожелания Эсти, и все сложности виделись ему пустяками, потому что он любил ее. А на самом деле она просто-напросто устала от него — исход предсказуемый и естественный, но совершенно неожиданный для самого Ничюса. o:p/
Она поехала в Явне и там, паркуясь у дома матери, легонечко толкнула чей-то «Даятсу». Вроде обошлось без повреждений, но сигнализация заорала, и из соседнего подъезда через тридцать секунд выскочил незнакомый мужчина. Обстоятельства их знакомства герою нашей повести поведала Веред, а дальнейшее, как она сама выразилась, ему лучше не знать. Впрочем, прожив три года с Эсти, догадаться он мог легко, только смысла не видел. «Я тебе очень сочувствую, но ты должен понять, что она — моя дочь, и я на ее стороне», — тошнотворным стереотипом закончила разговор его вскоре-бывшая теща. o:p/
Он перестал включать компьютер, потеряв таким образом связь с друзьями. К домашнему телефону не подходил вообще, а на мобильный ему звонили в основном с работы (он не отвечал), и то дней десять, а дальше, наверное, поняли, что внештатный сотрудник исчез, и перестали его разыскивать — эти фрилансеры постоянно пропадают без предупреждения, стоит им найти работу посерьезнее. Однажды в трубке возник Гурвич. Лаймиус ответил, надеясь непонятно на что, но адвокат лишь бодро осведомился, «все ли в порядке». o:p/
Обычно в таком положении люди спиваются, но Ничюс не очень любил спиртное. Выходил он только в магазин за едой — по светофору через дорогу и тут же обратно. Деньги тратил крайне экономно, понимал, что новых поступлений уже не будет. Дома тупо смотрел телевизор (впрочем, через неделю прекратил) и перелистывал какие-то книжки. Много спал, хотя далеко не всегда ночью. Через неделю вышел погулять к морю. Дошел до пляжа с забавным названием «Мецицим». Эта часть берега показалась ему слегка знакомой. Он пригляделся, покопался в памяти — ну да, конечно, именно тут он и познакомился с Эстер веселой январской ночью три с половиной года назад. С тех пор они тут не появлялись, вот он сразу и не опознал памятное место. А может, подождать вечера, попробовать познакомиться с кем-нибудь еще? Нет, разумеется, нет. Это шутка... o:p/
Он не задавался бессмысленным, но сладким вопросом, за что ему такое испытание. И он не обвинял Эсти. Ничюс лишь пытался понять, где же, когда он так сильно промахнулся. Женитьба, ясно, была лишь следствием другой ошибки. Но в чем она заключалась? В том, что он хотел сбежать от своего народа (Господи, он начал изъясняться словами собственной матери)? Или что он не женился на глупенькой, но симпатичной Лере, с которой вяло, не видя перспективы, встречался до знакомства с Эсти? Или просто следовало активировать здравомыслие и с кем-нибудь посоветоваться? o:p/
Вспоминая последний разговор с Эсти, Лаймиус признавал ее правоту. Ему пришлось бы тяжело, женись он в Москве на иностранке. Это очень, очень правильно для мужа и жены — общая память. Отдых в пионерлагере, обрывочные воспоминания о либерализации цен, пустая, но постепенно застраиваемая площадь перед спорткомплексом «Олимпийский», разбегающиеся глаза при виде десятков сортов колбасы в магазинах, «а у тебя где произошел первый секс? Дома, в Чертанове? А у меня на улице, в Измайловском парке, так по-дурацки все получилось», вторые выборы Ельцина с сомнительным результатом, открытие Люблинской линии метро... Если ты живешь там, где прошло твое детство, как же обойтись без таких разговоров, то есть без диалогов? Чем их заменить? Не монологами же, как у Эстер и Ничюса... Она рассказывала ему о своем детстве, а он ей о своем. И откровенно говоря, без интереса слушали они друг друга, потому что не хватало ощущения сопричастности. Сколь радостно обеим сторонам, когда выясняется, что в таком-то лохматом году оба ходили в один и тот же Дом пионеров или, значительно позже, но все равно много лет назад, колбасились на одном рок-концерте. Даже прочтенные книги сближают. А у них общего прошлого не было, да еще эта тринадцатилетняя расщелина, из-за которой они не могли полноценно обсуждать мировые события, — то, что Эсти помнила сама, Лаймиус знал лишь по книгам и периодике. Физиология — дело десятое, главная опасность разницы в возрасте у мужа и жены, неважно кто старше, а кто младше, именно в этом, в несовпадении памяти. o:p/
Другое дело, почему Эсти не призналась в своих предпочтениях раньше, желательно — совсем раньше. Ничюс бился-бился, но так и не понял, со злым ли умыслом она действовала. Вряд ли. Большим умом она не отличалась, так сложно интриговать — не в ее характере. Да и что с него, с Ничюса, взять? Не богач, не делец. Значит, в самом деле понадеялась на авось. На классический еврейский авось... o:p/
Но все эти выводы никак не могли успокоить его. Боль не уходила, а разрасталась. Постепенно им овладевало смертельное равнодушие ко всему. Он ни на что хорошее не надеялся — конечно, Эсти к нему не вернется. Но и как-то повлиять на себя, на свое настроение, чтобы вернуться к жизни, он тоже не хотел. Лаймиус Ничюс, как пианист в знаменитом кино, сидел взаперти, не раздвигая штор, и боялся вторжения реальной жизни. Изредка мелькала мысль разгромить перед отъездом жилище, подсыпать соль в сахар, подкинуть дохлую кошку в шкаф, на стене губной помадой написать какую-нибудь гадость, в общем, отнестись к ее квартире откровенно по-свински. Но он не сделал ничего подобного — лень. Ни к чему. Он проводил дни в кровати, читая книжки, и в ванной, где просто лежал в горячей-прегорячей воде и ни о чем не думал. Как выяснилось, это у него тоже прекрасно получается... o:p/
Новый звонок Гурвича слегка встряхнул его. Оказывается, осталось три дня. «Бумаги готовы. У вас уже есть билет?» — деловито спросил он. «Не волнуйтесь, — с трудом подбирая слова, сказал Ничюс. — Я уберусь вовремя». — «Это, конечно, вообще не моя забота, за сроками выезда следит министерство. Но Эстер просила меня уточнить». — «Передайте ей, что сложностей не будет». — «Какого числа мы встречаемся?» — «А когда истекает месяц?» — «Десятого». — «Вот десятого утром подъезжайте». — «Во сколько вам будет удобно?» — «В шесть утра». Ему все равно, а адвокатишка пусть проснется пораньше. «Хорошо, до встречи». o:p/
Вопрос «куда?» встал очень остро. o:p/
Сутки он хотел понять, стоит ли возвращаться в Москву. Хотел, да так и не понял, но впервые за два года решился на разговор с родителями. Набрал номер. «Alio» <![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> , — мамин голос звучал как всегда — строго и не особо приветливо. Он попытался что-то сказать, но не смог. «Alio, kas tai? Negirdziu jusu!» <![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> . o:p/
Ничюс исступленно терзал коробку передач своей памяти, пытаясь переключиться на литовский, но не мог... Не мог! Он что, за три с лишним года разучился?! Он хотел, но не мог обратиться к самому близкому, к самому любимому, к самому нужному человеку — к своей маме. Никогда ранее он не чувствовал себя таким безъязыким, ущербным и беспомощным. o:p/
«Мама...» — сказал он наконец... на каком языке? «Laimius, ar cia tu?» <![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> — «Taip» <![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> , — еле выдавил он из себя. Юргита ждала. «I’m in a pickle... Слиха, каше ли ахшав <![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]> ... Черт, прости...» o:p/
Мама еще подождала, потом сказала — нет, не сердито, но недоуменно: «Лаймиус, что ты говоришь? Я тебя не понимаю. Говори по-литовски!». o:p/
Невероятными усилиями он все-таки перешел на него. Спотыкаясь почти на каждой фразе, рассказал, что с ним случилось. «Ты возвращаешься?» — кратко спросила она. «Я не знаю. Вряд ли вы будете счастливы меня видеть». — «Здесь твой дом, ты это знаешь». — «Да, но... Мы же столько не виделись, сможем ли мы помириться?» — «Если тебе негде жить, приезжай и живи. Деньги на билет вышлем». — «Мама, мне не нужны деньги, я просто хочу нормальных отношений с вами». Юргита ничего на это не ответила. «Как же вышло, что мы так с вами... рассорились?» — «Спроси себя, — посоветовала она. — Ka pasejai, ta ir pjausi» <![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]> . o:p/
Появившийся на мгновение воображаемый трап, ведущий в самолет до Москвы, растаял бесследно. o:p/
Собравшись с мыслями, он принялся рассуждать. В Москву дороги нет. Литовская виза давно кончилась. Можно, конечно, попробовать получить новую, но не факт, что за три дня получится, да и что там делать, в Литве-то? В общем, лететь некуда. Плыть тоже. Ехать? На севере ворота. На западе море. На востоке территории. На юге... А на юге... А НА ЮГЕ... Египет! o:p/
Он в возбуждении вскочил с кровати и зачем-то кинулся искать карту, которую и так знал наизусть. Конечно, Египет — не единственная страна, куда можно попасть без визы. Есть Иордания, например, — в такой же доступности, как и Египет. Но сомневаться и убеждать себя, что туда не надо, а сюда надо, не пришлось. Лаймиус понял, что Египет — единственная страна, куда он действительно может сбежать. Ему предписано уехать, он и уедет. Но никому не расскажет, куда именно. О нем и так никто не подумает, а если и подумает, то пусть помучается. Эйфория быстро прошла. Единственное решение нашлось, но хорошим оно все равно не стало. Ничюс лег, немного почитал и заснул. o:p/
Два дня зачеркнулись незаметно. Никакого волнения или особо мощной тоски. Все как всегда. Девятого вечером он вытащил из шкафа маленький рюкзак, бросил туда какую-то одежду, ноутбук с зарядным устройством, зубную щетку, непрочитанную книгу. Все остальное оставил Эсти — в знак их долгой и крепкой любви. Когда она вернулась в квартиру, ей показалось, что Лаймиус просто ушел на работу. Дом не был ни разгромлен, ни вычищен. Ничюс присутствовал везде: его футболки лежали в шкафу, его ботинки стояли в прихожей, его шампунь, его книги, его невымытая чашка, его бумаги — он будто бы нарочно оставил о себе память. И еще долго Эстер избавлялась от этих приветов из прошлого. o:p/
Утром десятого он вышел из квартиры в пять часов пятьдесят семь минут, не ощущая никакого груза за спиной. У подъезда уже стоял гадкий прилизанный Гурвич. «Вот ваши бумаги», — сказал он. «Подписывать ничего не надо?» — «Надо, вот здесь и здесь». Ничюс расписался. «Теперь все?» — «Да». — «Пока», — бросил герой нашей повести. «Постойте! — вскричал адвокат. — Куда вы сейчас поедете?» Лаймиус остановился и в упор посмотрел на него. «Я же не прямо сегодня должен покинуть страну?» — «Нет, еще несколько дней есть, я точно не помню, но в документах все указано». — «Вот и хорошо. Я сейчас пойду к другу, тут недалеко. А что потом, еще не решил. Но вы не волнуйтесь, я точно уеду, не хочу быть преступником». Сказав это, Ничюс повернулся и быстро зашагал к остановке — автобус показался из-за поворота. o:p/
Он на автобусе добрался до Аялона, спустился, нарушив все правила, по автомобильному съезду вниз и принялся голосовать. Разумеется, по доброй традиции первая машина остановилась сразу же и, как и должно быть, предложила подбросить всего километров на двадцать, до поворота на Ришон ле-Цион. Вторая подвезла до Беер-Шевы, третья — до Мицпе-Рамона, и наконец четвертая — до Эйлата. Ночь пришлось провести на улице — пару часов поспал в здании аэропорта, потом на час отключился в кафе и еще совсем чуть-чуть, минут пятнадцать, продремал на пляже, устроившись на кем-то забытом лежаке. Когда проснулся в третий раз, на небе уже появились просветления. Он встал, с утробным рыком сделал несколько наклонов и посмотрел на часы. Пора. o:p/
До границы — километров десять, как раз к рассвету доберется. Сесть, что ли, в такси? Но если уж на отель не потратился, то на машину тем более глупо. o:p/
Сразу взял быстрый темп. Миновал последний отель. Какой, однако, жизнерадостный памятник — музыканты с разными инструментами, стоят кругом, веселятся. Дальше, дальше. Справа горы, слева море. Стоят палатки — он раньше слышал, что люди тут живут круглый год, наконец убедился в этом сам. o:p/
У израильского пропускного пункта на стихийной стоянке толпились брошенные машины, чьи владельцы уехали отдыхать на Синай. Требовалось пройти один КПП, через несколько метров — другой, египетский, и все. o:p/
Проблему «куда?» он решил еще в Тель-Авиве, а вот вопрос «зачем?» всерьез обеспокоил Ничюса только когда он шел пешком из Эйлата до границы. С российским паспортом въезд возможен на три месяца. Денег почти нет, значит, надо зарабатывать. Где? На курортах сейчас полно народу, но удастся ли вписаться, неясно. Скорее всего, нет, там, наверное, своих и так выше крыши, да и работать ему некем — уборщиков хватает, аниматором он не может — ни темперамента, ни пластики, а на экскурсовода еще надо выучиться. Может, ломануть в Каир? Арабский он, конечно, подучит (год назад, забавы ради, он попробовал разобраться в письменности, и это ему удалось), но оказаться одному в таком огромном муравейнике... Сомнительно. Что остается — Александрия? Уже интереснее — говорят, это совсем другой город, относительно небольшой и тихий, средиземноморский, но не курортный. Как бы то ни было, Синай — в любом случае не конечная точка путешествия. Но от границы вряд ли можно сразу добраться до Каира, так что все равно надо будет как-то с пересадками... o:p/
Он успешно миновал израильские кордоны, и только тогда его молнией поразило имя, случайно всплывшее из недр сознания. Он вспомнил Елену, милую блондинку родом из Юрмалы, с которой познакомился в интернете. Она работала в Хургаде представителем какой-то латвийской турфирмы, и они изредка переписывались о всякой чепухе — итальянской музыке, которую оба любили, каких-то книгах, путешествиях. Лаймиус и Елена не считали друг друга близкими знакомцами, поэтому не было ничего удивительного в том, что они не общались несколько месяцев. Но как же он забыл, что она живет в Египте?! o:p/
Он рысью метнулся обратно к израильскому КПП, вытащил телефон и, убедившись, что родная сеть не пропала, позвонил. (Года полтора назад Елена по рабочим делам собиралась в Тель-Авив, и они обменялись номерами; ее поездка в последний момент сорвалась.) За секунду до ответа он понял, что еще очень рано, но отменять вызов не стал. Ждал ответа, даже не подозревая, что в этот момент из последних сил дергает стропы полураскрывшегося парашюта. «Алло», — совсем заспанный женский голос. «Елена?» — «Йес». — Она еще не поняла, кто звонит, поэтому ответила по-английски. Но Ничюс изменил бы себе, если бы обратился к ней не на латышском языке. o:p/
«Sveiki, Jelena!» — «Sveiki!» — «Ka iet?» — «Labi, bet kas jauta?» — «Tas esmu es Laimius Ničius no Tel-Aviv» <![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]> . — «О, привет!!! — неподдельно обрадовалась она, немедленно перейдя на русский. — А ты не говорил никогда, что знаешь латышский, здорово!» o:p/
Лаймиус был ошарашен. Оказывается, он напрочь забыл, что ему кто-то может быть рад. Просто так, без повода. Просто потому, что он — это он. Удивительное ощущение. o:p/
«Как твои дела?» — спросила она. «Не очень... Меня бросила жена, и я вынужден покинуть Израиль». — «Да ты что?!» — «Елена, если честно, мне нужна твоя помощь». — «Я постараюсь, если смогу!» o:p/
И вновь оторопь, и вновь непривычно. Как так — кто-то готов ему помочь? o:p/
Ничюс сбивчиво пояснил свое положение. «Если ты в Хургаде, то... можно к тебе заехать?» — «Да, конечно! Я в Хургаде, только вчера прилетела из Греции». — «Вот это мне повезло! А подскажи, как от границы быстрее до тебя добраться?» — «На такси, потом на пароме...» — Елена подробно рассказала, как ехать. Мозги Ничюса, пребывающие последний месяц без малейшей нагрузки, легко усваивали новую информацию. o:p/
«Встречу тебя на выходе. Сразу как сойдешь с парома, иди за толпой. Ты узнаешь меня?» o:p/
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Пойдем скорее домой! (литов.) o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> Малыш, ты хочешь эти или другие? (литов.) o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> Литовская ССР (литов.). o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> Я тебя люблю (литов.). o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> Поехали со мной ( англ .).
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> «Ты придешь?» (неправ. англ.) o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> Я тебе не помешала разговаривать? (литов.) o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> Нет, конечно нет (литов.). o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> «Вы летите в Германию?» — «Да, в Дюссельдорф». — «Вы из Дюссельдорфа?» — «Нет, я русская» (нем.) .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> «Аэропорт» на двух языках — литовском и английском.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> Алло (литов.) .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> Алло, кто это? Вас не слышно! (литов.) o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> Лаймиус, это ты? (литов.) o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> Да (литов.) .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]> Я в беде (англ.). Извини, мне сейчас тяжело (иврит) .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]> Что посеешь, то пожнешь (литов.). o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]> «Привет, Елена!» — «Привет!» — «Как дела?» — «Хорошо, а кто спрашивает?» — «Это Лаймиус Ничюс из Тель-Авива» (латыш.) .
o:p /o:p
Ход в натуру
Козлов Владимир Иванович родился в 1980 году
Козлов Владимир Иванович родился в 1980 году. Поэт, критик, литературовед. Окончил филологический факультет Ростовского государственного университета, кандидат филологических наук. Автор книг стихов «Городу и лесу» (Ростов-на-Дону, 2005) и «Самостояние» (Москва, 2012). Стихи, эссе и статьи публиковались в журналах «Арион», «Вопросы литературы», «Знамя», «Новая Юность». Наш журнал опубликовал статью В. Козлова «Внутренние пейзажи Олега Чухонцева» (2008, № 3). o:p/
Живет в Ростове-на-Дону. Со стихами в «Новом мире» выступает впервые. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Человек-пейзаж o:p/
o:p /o:p
Сначала что-то ты подозреваешь, o:p/
а однажды открываешь в себе нечто, o:p/
что, похоже, зародилось в пору, o:p/
когда мир внутренний, приняв очередное o:p/
повышение налогов на o:p/
в целом незапятнанную совесть, o:p/
невольно вдруг прикинулся пейзажем, — o:p/
o:p /o:p
закон один в нем — сосуществованье o:p/
как бы несвязанных предметов — o:p/
собачьего дерьма и тротуара, o:p/
и не поспоришь с данностью пейзажа, o:p/
пока не ощутишь ее внутри — o:p/
в пейзаже настоящего, того, o:p/
что — как подушка для набоковских булавок: o:p/
ничто из ничего не вытекает, o:p/
в нем женщины, предметы склонны раздеваться o:p/
при первом взгляде, и предательство тут также o:p/
искренно и обязательно, как и любовь, o:p/
причем к тому же человеку и одновременно; o:p/
o:p /o:p
пейзаж, хватаясь за предметность, оглушает, o:p/
высвобождая органичную способность человека o:p/
смердеть кошачьим трупом, o:p/
радовать людей закатом — через запятую o:p/
можно перебрать многообразье мира, o:p/
которое, что станет скоро ясно, o:p/
внутри нисколько не многообразно, — o:p/
o:p /o:p
теперь представь, что кто-то o:p/
тебя когда-нибудь полюбит, o:p/
какой-нибудь потомок Левитана, — o:p/
он должен будет начинать в тебе сначала — o:p/
камень обтесать, добыть огонь, o:p/
карябать на пещерных сводах сцены жизни, o:p/
не скоро нарисуется Джоконда, o:p/
но он наглядно постепенно убеждает, o:p/
что все-таки вам есть за что бороться — o:p/
за уголовный и гражданский кодекс, o:p/
связывающий «а» твое и «б» o:p/
в целую, но непростую личность, o:p/
способную уже не к продолжению пейзажа, o:p/
а к продолженью рода. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Я в предгорье o:p/
o:p /o:p
Даже в лучшем гостиничном номере запах гнилой картошки. o:p/
А за окном, неподалеку, предъявлены для ленивых, o:p/
чтобы величием их раскатать в лепешку, o:p/
вставшие дыбом леса и нивы. o:p/
o:p /o:p
Но импортный новый станок борется в одиночку o:p/
с жижей, оставшейся от земли, и с либидо, o:p/
которое подло в своих обладателях мочит o:p/
зарождающегося индивида. o:p/
o:p /o:p
И маникюр не спасает тут облика человека. o:p/
С предгорной равнины он видит хребет Кавказа. o:p/
В лузу он будет шары загонять до рассвета, o:p/
пытаясь выморгать цементную пыль из глаза. o:p/
o:p /o:p
А наверху — хрустальный лес Архыза. o:p/
А наверху лежат во льду солдаты Эдельвейса. o:p/
А он ведь никогда, он не терпел быть снизу. o:p/
Он хмуро сплевывает я в родную гниль Черкесска. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Схватка o:p/
o:p /o:p
Внутри летит далекий стук копыт, o:p/
там сердце от себя кочевье гонит, o:p/
и тишина вскипает и кипит, o:p/
и двор, в котором до сих пор витает спирт, o:p/
стоит, как лунная поверхность, незнакомый; o:p/
o:p /o:p
а ежели пейзаж и правда незнаком, o:p/
то сразу хочется вернуться в дом, o:p/
чтоб всадник, не умеющий ни в ком o:p/
узнать себя, трофея не увез из дома, o:p/
из смерти направляясь в смерть, — o:p/
o:p /o:p
но нет, мой друг, уж я тебя заставлю o:p/
услышать, как на стук в земную твердь o:p/
небесные в ответ поскрипывают ставни. o:p/
o:p /o:p
Грех пустоты o:p/
o:p /o:p
…Но земля-то — гола. o:p/
И ты ей за это должен. o:p/
А ты уже слаб. o:p/
Ты, в общем, заложник: o:p/
o:p /o:p
график жизнь твою ест, o:p/
переставляет ноги, o:p/
не выпускает из мест, o:p/
где всего и всегда много. o:p/
o:p /o:p
Но мест тех всего три — o:p/
три основных маршрута, o:p/
а ты — ты живешь внутри, o:p/
потому что снаружи — трудно. o:p/
o:p /o:p
А пустота — зовет. o:p/
Ее грех — не замолен. o:p/
И на тебе он — вот. o:p/
На тебе — довольном. o:p/
o:p /o:p
А там без тебя — никак, o:p/
там, что ни возьми, — не готово. o:p/
И нигде не впитают так o:p/
твое стертое до дыр слово. o:p/
o:p /o:p
Порядок ты сам ваял — o:p/
разметил места, фигуры, o:p/
но он — виновато мал, o:p/
и ты делаешь ход в натуру. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Потерянный язык o:p/
o:p /o:p
Нет, одиночества не было, ведь o:p/
одиночество — это почти поступок, o:p/
притом неприличный, а тут o:p/
нечто врожденное, типа o:p/
отъединенности от других — o:p/
o:p /o:p
так вот, это нечто, o:p/
как говорят, «от противного» сильно o:p/
располагало к общенью, причем o:p/
даже в самых навязчивых и рукодельных формах, o:p/
которые изучают в Европе o:p/
на факультетах общественных коммуникаций — o:p/
o:p /o:p
в итоге, стараясь общаться всегда и везде, o:p/
вгрызаясь даже в причудливые языки, o:p/
работая в поте лица o:p/
на рядовых четырехчасовых обедах, чей o:p/
уровень определяется общим числом o:p/
блюд и персон, o:p/
мы как-то забросили свой o:p/
собственный, может быть, в чем-то личный язык, o:p/
o:p /o:p
забыли, зачем уважать молчунов, o:p/
решили счесть буками этих мыслителей в свитерах, o:p/
слишком подолгу подбирающих слова, o:p/
отвыкли пытаться распутывать o:p/
те очень сложные тонкие связи, o:p/
из необходимого колтуна которых o:p/
нужно выпутывать очень o:p/
простые и сильные чувства, o:p/
чтобы их не потерять. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Эффект объятий o:p/
o:p /o:p
Маленькая женщина o:p/
положила пределы, o:p/
и в них накопился я, o:p/
почувствовал свое тело. o:p/
o:p/
Маленькая женщина o:p/
охраняет мои границы, o:p/
чтобы они не выпустили воздух, o:p/
чтобы их не проклевали птицы. o:p/
o:p /o:p
Нечто из ничего бывает o:p/
только внутри объятий. o:p/
Снаружи летают обломки o:p/
империй и демократий. o:p/
o:p /o:p
И все же там можно было б o:p/
жить, вертоград раскинув, — o:p/
кому-то ж бывает стыдно o:p/
за дали, забитые тиной. o:p/
o:p /o:p
Каждый мой шаг за предел o:p/
пониманья, квартиры, мира o:p/
вынуждает объятья твои o:p/
становиться все шире. o:p/
o:p /o:p
Масляное пятно, o:p/
растекающееся по луже, o:p/
обязательно вознамерится o:p/
захватить и сушу. o:p/
o:p /o:p
Что ты выпустишь, то исчезнет, o:p/
а не выпустишь, так родится — o:p/
муж, становящийся в муках, o:p/
мир — в его новых границах. o:p/
o:p /o:p
Лишь в глубине твоих глаз o:p/
я вижу свой грех первородный, o:p/
грех заболоченной дали, o:p/
брошенных огородов. o:p/
o:p /o:p
Держи меня, грешного, крепче, o:p/
люби мое слабое дело — o:p/
надежда на наше прощенье o:p/
в стремлении за пределы. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Нить o:p/
o:p /o:p
Любая мысль, как говорят, o:p/
через одно рукопожатье o:p/
становится другою мыслью, o:p/
причем — любой другой, o:p/
и связи вещей устанавливал точно не я; o:p/
o:p /o:p
иду по узкому коридору, o:p/
а все двери открыты, o:p/
и за каждым порогом — следы безумия, o:p/
то есть мир, где я еще не бывал, o:p/
но который я предполагал обвить o:p/
вьющимся по лабиринту предложеньем — o:p/
o:p /o:p
где не пройдет оно, там никогда, o:p/
возможно, никогда не ступит человек — o:p/
ведь это вид, который держится все дальше o:p/
от темных мест, которые o:p/
обитаемы почти всегда — o:p/
o:p /o:p
синтаксис вьется за жизнь, o:p/
он обживает неиспользуемую инфраструктуру o:p/
и недевственные лесостепи, o:p/
он протаптывает дорожку на кухню, o:p/
где всегда есть разговор и точность фразы, o:p/
и долгота дыханья, без которой o:p/
мир распадается — o:p/
o:p /o:p
но ты же не всесилен: o:p/
ты набираешь воздуха, o:p/
случайно смотришь в небо — o:p/
и упускаешь нить. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Победа над пейзажем o:p/
o:p /o:p
Стало душно, ступай на Машук, чай возьми с чабрецом, o:p/
примерь корону Бештау, спускайся назад королем: o:p/
жизнь в низине в виду высоты, торчащей алмазным резцом, o:p/
со спиною, прикрытой самим Творцом, o:p/
все равно совершает полет. o:p/
o:p /o:p
Пейзаж убывающих городов в свою запирает тишь. o:p/
Даже здесь, наверху, можно корчиться от духоты, o:p/
ведь неважно, какого размера контейнер, в котором сидишь. o:p/
Только сколько путей — в музыку, речь и сигналы с крыш — o:p/
видеть целое этой простой красоты! o:p/
o:p /o:p
Я, Господи, чувствую, как Ты борешься за меня. o:p/
Сколько раз искушающий случай, перед которым я пас, o:p/
Твой план на меня извращал среди бела дня, o:p/
но на последней двери перед адом Ты лично замки менял — o:p/
Ты уже меня, Господи, спас. o:p/
o:p /o:p
Ну, куда полетим с Машука? — Обратно в газетный киоск, o:p/
где деревья обставшие что-то листают, шурша — o:p/
что-то про лондонский олимпийский кросс, o:p/
на биотопливо, пишут, снова растущий спрос — o:p/
и свободно парит душа.
Рассказы про Ивана Петровича и стихи
Горбунова Алла Глебовна родилась в 1985 г
Горбунова Алла Глебовна родилась в 1985 г. в Ленинграде. Окончила философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Автор книг стихов «Первая любовь, мать ада» (2008), «Колодезное вино» (2010), «Альпийская форточка» (2012). Лауреат премии «Дебют» в номинации «Поэзия» за 2005 г. Шорт-листер премии Андрея Белого (2011). Живет в Санкт-Петербурге. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
* o:p/
он вдохнул и заплакал, o:p/
был воздух колюч, o:p/
была матерью ночь-простыня. o:p/
o:p /o:p
он вдохнул и заплакал: o:p/
в замочную скважину o:p/
луч проникнет и ранит меня. o:p/
o:p /o:p
жаркое-жаркое лето будет печь меня год от года, o:p/
как яблоко в духовке, но стоит меня испечь — o:p/
и стылая зима заморозит меня, как воду. o:p/
o:p /o:p
в уши мои войдут звук битвы и звук молитвы, o:p/
рёв двигателя, лязг тормозов, o:p/
но смогу ли услышать новый, опасный, как бритва, o:p/
неисповедимый зов? — o:p/
o:p /o:p
цвет фиолетовый — цадди — стеклянные колокольчики на ветру — o:p/
сине-фиолетовый — айин — в безветренном воздухе холод внезапный o:p/
и дуновенье тепла, o:p/
o:p /o:p
и облака — ламед — над озером соберутся o:p/
в образ, который напомнит мне то, что я полюблю. o:p/
и если я брошу в пруд камень — возникнет рябь. o:p/
o:p /o:p
я буду видеть, как солнце пробивается сквозь тучи, o:p/
как туман вьётся плющом по склону, o:p/
я буду видеть синий, зелёный, сине-зелёный, o:p/
я узнаю гром, пар, бьющий из-под земли, и смерч, — o:p/
o:p /o:p
он вдохнул и заплакал. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Ночные ласточки o:p/
o:p /o:p
Ласточки — дневные птицы. o:p/
o:p /o:p
Из гнёзд земных день белый не увидит o:p/
вспорхнувших ночных ласточек полёт, o:p/
сквозь черноту иная пронесёт o:p/
надежду зыбкую и зябкую невинность. o:p/
o:p /o:p
В пустыне ночи нет богов и слов, o:p/
белеет птичья кость, болеет боль. o:p/
Летит, хвост расщепив, как «Л» — Любовь, o:p/
стремглав подняв крыло, как «Г» — Глаголь, o:p/
o:p /o:p
чтоб Слово молвить, Словом быть, o:p/
свет виждя, зиждя твердь, o:p/
встречает ласточка в дали o:p/
занявшийся Рассвет. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
МЫТАРСТВА ИВАНА ПЕТРОВИЧА o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Видела я лица, которых никогда не видела, и слышала слова, которых никогда не слыхала. Что я могу сказать тебе? Страшное и ужасное пришлось видеть и слышать за мои дела… o:p/
«Мытарства блаженной Феодоры» o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
1 o:p/
иван петрович и пономарь o:p/
o:p /o:p
иван петрович поехал куда-то на метро, а вышел из электрички на далёком полустанке в бешеной зелени. медленно, с котомкой за плечами, побрёл куда-то вдоль рельсов, пока они не утонули в песке недалеко от маленькой площади. в летней кафешке из светлого дерева он купил чебурек. из-за деревьев проглядывал храмовый комплекс. «ку-ку!» — и пьяный озорной пономарь вылез из-под юбки краснолицей продавщицы платков, пряников и деревянных гребней. продавщица тут же с материнским укором сказала пономарю: а ты, венечка, всё выделываешься. o:p/
o:p /o:p
выпьем по чекушке? — спросил пономарь. сели на солнцепёке, и пономарь исповедался: у меня была жена, и однажды звонит и говорит: приезжай в чехию, в гостиницу «гуси у ягуси», буду тебя ждать. приехали мы со славиком, искали по всей гостинице — не нашли, пошли в подвал, а в подвале у них бар и бильярд. там за столиком сидят девушки и в дурачка играют, одна другой страшнее, кто без зубов, кто без глаз, у кого и вовсе морда лошадиная вместо лица, и одно место за столом пустое. а девушки смеются, разговаривают, и к этому месту пустому обращаются, именем жены называют. и такой страх взял нас со славиком, что мы оттуда пятнадцать километров бежали, не останавливаясь. а на следующий день жена умерла. o:p/
o:p /o:p
а я, — отвечает иван петрович, — работал в мгу. однажды спускаюсь я по лестнице, а на ней стоят мои мать и отец. я разозлился на них, что они меня в покое не оставляют, в москву за мной зачем-то приехали, толкнул мать, а она обратилась в маленькую свечку, полетела через ступеньки и разбилась. и отец тоже стал свечкой и разбился. стало мне страшно, спустился, подбираю одну свечку и другую, кусочки воска друг к другу прилаживаю. глядь, а мать и отец стоят рядом, как бы отдельно от свечек. мама берёт свою свечку в руки и говорит: все там будем. вернулся домой, а мне звонит тётя таня из осиновой рощи и говорит, что дом ночью сгорел и родители угорели. o:p/
o:p /o:p
да, говорит пономарь, ну ясно, ладно, пойду я, а то жена ждёт. кто? — не понял иван петрович. жена, — говорит пономарь, — видишь, сюда уже идёт, меня ищет. иван петрович посмотрел: и правда — к ним приближалась жена пономаря. o:p/
o:p /o:p
2 o:p/
иван петрович, обманщик o:p/
o:p /o:p
иван петрович стоял в длинной очереди, ведущей в административное здание сталинского типа, там должен был он получать какие-то бумаги, а вернее всего, похоронное свидетельство. рядом стояли две уродины: у одной широко, как у лошади, раздувались ноздри, всё тело было покрыто струпьями, а на голове — бигуди, другая была одета как маленькая девочка, в коротенькую плиссированную юбку, обнажавшую слоновьи целлюлитные ноги, и маечку с чёрным зайчиком, из которой вываливалась грудь десятого размера, лицо её в трёх подбородках было омерзительно кокетливо. перед ними на четвереньках стоял мужчина. женщина в бигудях пнула его ногой под зад, и он, получив разгон, устремился занять своё место в очереди позади ивана петровича. тот обернулся и увидел, что это не кто иной, как школьный его приятель славик. радостно они обнялись и, позабыв про очередь, отправились гулять по району их детства — во дворах рядом с заливом. неспешно текла беседа, как вьюжная дорожка мимо сине-зелёного детского садика, сложенного как будто из детских кубиков. вышли они на берег замёрзшей реки, и казалось ивану петровичу, что это смоленка, но река мелела к своему концу и упиралась в узкую улицу. улица входила в реку, а река в улицу, и были они продолжением друг друга, как плечо и предплечье. на реке был сделан каток, и иван петрович со славиком вздумали покататься. свободно и легко катался славик, и стал он словно моложе. у ивана петровича же прокатиться никак не получалось, словно что-то липкое и тяжёлое пристало к его ногам. а славик катается вокруг него и дразнится: а ты за моей спиной цыпиной сказал, что я с киселёвой, подругой её, целовался, хотя никогда у меня ничего с ней не было, и цыпина меня бросила. что ты, — говорит иван петрович, — а сам вспоминает: да, сказал, потому что самому ему цыпина нравилась. что ты, — говорит иван петрович, — никогда не говорил ей такого. — правда? — говорит славик, — цыпина-то и киселёва какие красавицы стали. — не знаю, — говорит, — не видел, давно это всё было, брось ты. — да нет, — говорит славик, — вчера было, а цыпину и киселёву ты сегодня видел, цыпина-то, видишь, сердится до сих пор. o:p/
o:p /o:p
3 o:p/
иван петрович и быдло o:p/
o:p /o:p
иван петрович ехал в поезде, а напротив него сидело быдло. иван петрович сразу это понял: по спортивному костюму, кепке, красному одутловатому лицу спившегося физкультурника. поезд ехал сквозь голую белую паволоку зимы, как бы продирался сквозь заунывную пелену. быдло ело жирную курицу с ненасытным чавканьем и запивало её жигулёвским с задорным рыганием. насытившись, оно захотело поговорить и стало поглядывать на ивана петровича, который ёрзал как на иголках и не хотел встречаться с быдлом взглядом. я человек интеллигентный, — думал иван петрович, — а этого типа не знаю и знать не хочу, но кое-что про него знаю. что он сырьё для биореактора — вот что я про него знаю. чтобы не встречаться с быдлом глазами, он делал вид, что увлечённо рассматривает что-то в окне, а там, в сероватой понурой мгле, сгущались подобия полулиц-полувихрей, похожие на мунковский крик, и приникали к стеклу, зиянием рта своего желая поглотить поезд. но страна призраков за окном, по которой — по небу ли, по воде или по тусклому ледяному огню — ехал поезд, не удивляла ивана петровича. удивляло — быдло. удивляло и приводило в негодование. как так? — думал иван петрович про быдло, — как так? быдло же обнаглело вконец и завело разговор, да в такой тональности, от которой у ивана петровича начался зуд в кишках и чуть не прихватила медвежья болезнь. ты здесь воевал, братан? — спросило быдло и для вящей убедительности похлопало ивана петровича по плечу. нет, не воевал, — сдавленно выдохнул иван петрович. а, так ты небось тогда там воевал… — догадалось быдло, — ты, я посмотрю, уже зрелый мужик, я для тебя небось вообще салага. зрелый — не зрелый, а ты-то уж меня постарше будешь, — хотел сказать иван петрович, посмотрел на свои руки и ахнул: превратился он в старика лет по меньшей мере восьмидесяти. ты хороший человек, я вижу, — продолжало быдло всё душевнее и душевнее, — живи до ста лет. старуха у тебя есть? слушай, что я тебе говорю: найди себе девочку двадцатипятилетнюю втайне от мамки. я вот хоть и не воевал в отличие от тебя, а тоже кое-что в жизни понимаю. я ведь не дурак, да? скажи, ну ведь не дурак? — да, — сглотнул иван петрович, — не дурак, сразу видно. я охранником в элитной школе работаю, считай — внештатный полицейский. вот веришь-нет — сейчас пиво пью, а одна история у меня так перед глазами и стоит… — и быдло начало рассказывать историю за историей, запас которых никак не мог иссякнуть, как почему-то не могло иссякнуть и его пиво: сколько ни пил он, а бутылка оставалась полной. когда же поезд остановится? — думал иван петрович и, наконец, в перерыве между двенадцатой и тринадцатой историями пробежал через пустые вагоны к кабине машиниста. она была не заперта, и, ворвашись туда, иван петрович увидел — машиниста нет, и ничего нет, ни кнопок там каких-то, ни рычажков. только ведро с опилками стоит зачем-то. по спине его похлопали. хороший ты дед, — сказало быдло, — сейчас покурим, и я тебе ещё одну историю расскажу. иван петрович бессильно упал на лобовое стекло и взглянул туда, в нечаемую даль белёсой вязкой пустоты. оттуда тут же на взгляд его, как мотыльки на огонь, налетели мунковские призраки-вихри и, прижимаясь к стеклу, раззявили проёмы ртов. ишь, лопочут, — умилилось быдло и от избытка сердца добавило: вы мои милые, мои белесоватые. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
4 o:p/
иван петрович, иностранец o:p/
o:p /o:p
иван петрович шёл по городу и от скуки ел. в каждом встречном фастфуде или забегаловке покупал еду. съел блин с сыром и ветчиной, съел крошку-картошку, съел шаверму, и бигмак, и твистер, и сэндвич. а скука росла всё больше и больше, как пузо иван петровича. наконец видит он ларёк с булочками. смотрит на них, а тут к нему тётка какая-то подбегает с двойным подбородком и говорит: да вы, батенька, иностранец! так вам не здесь надо кушать. а иван петрович, чтобы шутку не портить, ей специально по-английски отвечает: yes. а тётке слышится, он говорит ей «есть», не говорит даже, а требует повелительно, и ведёт она его в специальное кафе для иностранцев. там за стойкой тётка другая, с тройным подбородком, и подмигивает ему с пониманием. иван петрович заказал себе кофе и картошку, принесли ему щепотку картофельных очистков и говорят: 150 долларов. да вы что, издеваетесь надо мной, — говорит иван петрович, — я же не иностранец никакой на самом деле. а тётки обе ему хором говорят: иностранец, ещё какой, плати, а иначе полицию позовём. иван петрович тогда попытался уйти, а тётки кинулись на него, как пумы. с трудом иван петрович убежал от них, а они ему вслед кричали: убирайся обратно в своё конго. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
5 o:p/
иван петрович и поезд-которого-ждали o:p/
o:p /o:p
иван петрович обнаружил себя на станции N, где всего-то и было что большое здание вокзала и гостинца рядом с ним. туда иван петрович и направился. в гостинице стоял траур. рыдал швейцар, и рыдал портье, рыдали горничные, и рыдали постояльцы. он всё-таки приехал! — сообщил портье ивану петровичу. кто приехал? — поезд. — какой поезд? — поезд-которого-ждали. и портье рассказал ивану петровичу следующее. всё население их издавна разделилось на две неравные части. большая часть жила в гостинице, и в ней проводила всё время, предаваясь ли праздности, размышляя о чём-то, читая книги, устраивая философские диспуты, занимаясь искусствами — что душе угодно. меньшая же часть населения жила на вокзале, потому что боялась пропустить поезд-которого-ждали. те, что жили в гостинице, считали, что никакой поезд никогда на вокзал не придёт, потому что, хотя вокзал существует вечность, ни один поезд никогда на него не приходил. те же, что жили на вокзале, верили, что он придёт обязательно. живущие в гостинице относились к ним как к бомжам, потому что где это видано — жить на вокзале. живущие на вокзале тоже занимались разными вещами: пели песни, похожие на цыганские, сочиняли стихи, рисовали и беседовали друг с другом, но искусство их и беседы кардинальным образом отличались от искусства и бесед тех, что жили в гостинице. можно сказать, что на вокзале и в гостинице сформировались две совершенно разные культуры и два разных языка. и на том и на другом языке про поезд пели песни и сочиняли стихи, и надо сказать, что те, кто жили в гостинице, были уверены, что знают про этот поезд намного больше, чем те, кто жили на вокзале, а главная тайна, которую они постигли, — это тайна его отсутствия. поезд всегда среди нас, он присутствует в своём отсутствии и идти на вокзал совершенно ни к чему, — думали люди из гостиницы, — а эти бомжи-фанатики, живущие на вокзале, просто боятся понять эту ужасную тайну о вечном отсутствии поезда, которое подчёркивается вечным присутствием вокзала. и вот вчера, — и тут портье зашёлся в громких рыданиях, — раздался громкий гудок. он был слышен на всю гостиницу, и все постояльцы побежали к окнам, выходящим на вокзал, и из окон и с балконов смотрели в бинокли на то, как к вокзалу подошёл поезд, и все, что жили на вокзале, сели в него, и поезд тут же тронулся. некоторые из живущих в гостинице стремглав побежали на вокзал, чтобы успеть на поезд, но было бесполезно, ни один из них не успел. некоторые из живущих в гостинице покончили с собой. некоторые уверили себя и других, что поезд был массовой галлюцинацией. некоторые ушли жить на вокзал в надежде, что когда-нибудь поезд приедет ещё. самое странное, — и тут портье осмотрелся по сторонам и сказал ивану петровичу на ухо, — директор гостиницы — выдающийся интеллектуал и тонкий поэт господин крыжовин, написавший три сборника стихов, посвящённых поезду-которого-ждали, в тот момент находился на вокзале: иногда он заходил туда с целью изучения быта живущих там людей, так как хотел написать о них научную работу. он мог сесть в поезд. он стоял прямо на платформе, когда тот прибыл. он наблюдал прибытие и отбытие поезда, а потом вернулся в гостиницу и не сказал об этом ни слова. вот так, — сказал портье, — он всё-таки приехал. ну а вам чего? хотите номер в гостинице или пойдёте на вокзал ждать — вдруг когда-нибудь поезд приедет снова? иван петрович задумался, почесал репу. предоставьте-ка мне номер, если возможно, люкс, — наконец сказал он. o:p/
o:p /o:p
6 o:p/
иван петрович и костлявая рука o:p/
o:p /o:p
иван петрович находился в сумрачном здании. его окружали люди, на чьи лица были надвинуты капюшоны. в центре стоял престол, на котором лежала священная книга. иван петрович подошёл к ней и увидел, что это его докторская диссертация. o:p/
o:p /o:p
вор, вор, — шипели люди в капюшонах на ивана петровича, — у меня ты украл мысль, у меня ты украл выражение, у меня абзац, у меня главу. — да, украл, — пытался оправдываться иван петрович, — так ведь и вы все крали. что вы — сами писали, что ли? сам никто не пишет! o:p/
o:p /o:p
вор, вор, — шипели все эти бесчисленные филологи, литературоведы, доктора наук, авторы статей и монографий, которых иван петрович обокрал. иван петрович, интуитивно чувствуя, что нужно сделать, схватил священную книгу-диссертацию и бросил в кольцо наступавших. тут же забыв о нём, они хищно разодрали её на части, пытаясь отнять друг у друга, и, получив маленькие кусочки, принялись что-то писать на их основе. o:p/
o:p /o:p
через пять минут у кого была готова статья, у кого диссертация, а у кого монография. с робостью и страхом подходили они к тяжёлой железной двери с надписью «публикация» и выстраивались в очередь. дверь периодически приоткрывалась, из-за неё высовывалась костлявая скрюченная рука с длинными птичьими ногтями и выхватывала бумаги из их трясущихся рук. o:p/
o:p /o:p
некоторые из них при этом падали в обморок, и тогда капюшоны с их лиц соскальзывала и становилось видно, что лиц у них нет вовсе, а вместо лиц — страницы с постоянно перемещающимися буквами, складывающимися в какие-то цитаты, а потом распадающимися и собирающимися в новые цитаты. у самых отъявленных умников буквы то и дело выдавали нравоучительные изречения из классиков, у тех, что попроще, и цитаты были поплоще, а у некоторых буквы так и норовили сложиться в слово из трех букв, и, видимо, им стоило немалого труда следить, чтобы этого не произошло. ведь по сути — это то же самое, что следить за своей мимикой. скорее всего, потому они и вынуждены были носить капюшоны. o:p/
o:p /o:p
после того как скрюченная рука забирала у людей в капюшонах тексты, через некоторое время она выбрасывала их назад, и по состоянию бумаги видно было, что там, за дверью, ей подтёрли зад. для людей в капюшонах это была одновременно высшая радость и мучение. каждый из них, раздуваясь от собственной важности, ждал, когда же наконец его текстом подотрут зад. иван петрович тоже встал в очередь со статьёй, только что списанной со статьи одного из сотоварищей. чем ближе была его очередь, тем большую робость он чувствовал. наконец прямо перед ним из-за двери показалась костлявая скрюченная рука с птичьими ногтями. перед тем, как схватить бумаги из рук ивана петровича, она провела кончиками пальцев по его лицу, словно ощупывая, и на миг застыла у его губ. иван петрович поцеловал её и упал в обморок. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
7 o:p/
как у ивана петровича увели жену o:p/
o:p /o:p
иван петрович шёл со своей женой машей по огромному торговому центру, и маша скулила: купи шубу, купи шубу. — маша, — сказал ей иван петрович, — ты или очень глупа или совсем бессовестна, а скорее всего — и то и другое вместе. ты знаешь, что я работаю преподавателем, ты знаешь, сколько я получаю, ты знаешь, что мне нужно ремонтировать дачу, так о чём же ты говоришь, маша? какая шуба? — купи шубу, купи шубу, — скулила маша. в это время из бутика «шубка для вашей шлюшки» вышел мужчина со слоновьим хоботом и свисающей до пупа нижней губой. в руках он нёс шубу цвета тёмного шоколада с сединой и голубой подпушкой. — мария, позвольте вручить вам, — сказал он и встал перед машей на одно колено, протягивая шубу, — это шуба из меха баргузинского соболя, она стоит семьдесят тысяч долларов. о! — воскликнула маша, — именно такую я и хотела! кто вы, благородный рыцарь? — я ваш давний поклонник и не могу без вас жить. выходите за меня замуж! — э-э, полегче, — вступился иван петрович, — вообще-то это моя жена. — а ты не лезь, неудачник, ничтожество, — сказал мужчина с хоботом, — не смог заработать жене на шубу, а что ты вообще можешь? да разве ты мужчина? иван петрович размахнулся, чтобы врезать хаму по наглой слоновьей морде, но тот одним движением хобота отбросил его к стене. тем временем маша уже облачилась в шубу, взяла урода под руку, и они вместе, сладострастно целуясь, направились в сторону выхода. иван петрович сидел у стены униженный и потрясённый. мимо проходил карлик с расстёгнутой ширинкой, подмигнул ему и сказал: не парься, дружище. это была слишком роскошная женщина для такого жалкого неудачника, как ты. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
8 o:p/
иван петрович и студенческий розыгрыш o:p/
o:p /o:p
иван петрович сидел у себя на кафедре истории русской литературы, только кафедра эта находилась в сельскохозяйственном техникуме, а сельскохозяйственный техникум — в здании заброшенного завода на обводном канале. училась там одна неблагополучная молодёжь: наркоманы, алкоголики, больные СПИДом. в техникуме их кормили, выдавали минимальные дозы наркотиков, лечили по возможности и хоронили там же на кладбище на территории завода. o:p/
o:p /o:p
и вот пришёл к ивану петровичу студент лыков пересдавать экзамен. ну отвечайте, — говорит иван петрович, — про достоевского. — дык я физкультуру пересдавать пришёл. — а я тут при чём? — вы у нас как есть физкультурник, — сказал, — и начал прыгать. а прыгает плохо: чуть оторвётся от земли, и шмяк на пол, как мороженая курица. — не могу, — говорит, — ничего, у меня ломка. — тогда осенью приходите, — говорит иван петрович. — так к осени я помру, — отвечает лыков, — вы мне сейчас поставьте. — ну не могу же я вам просто так поставить. — а вы не просто так, вы за тыщу долларов, — подмигивает лыков и достаёт из кармана тысячу долларов. у ивана петровича брови наверх поползли, а лыков ему и говорит: не смущайся, друг ты мой сердешный, в могилу с собой всё равно не заберу. поставил ему иван петрович хорошо, да только лыков за собой дверь затворил — деньги в очистки картофельные превратились. побежал иван петрович искать лыкова, чтобы за уши его отодрать, а лыков на кладбище сидит и руками могилу себе роет, а дно могилы всё в картофельных очистках. — что, отец, ещё денег захотел? подходи, бери, сколько влезет, — усмехнулся лыков. иван петрович только сплюнул, помянул чёртову мать и побрёл обратно к себе на кафедру. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
9 o:p/
иван петрович в приёмной комиссии o:p/
o:p /o:p
иван петрович работал в приёмной комиссии филологического факультета, принимал вступительные экзамены. приёмная комиссия в виде стола, за которым сидел иван петрович, располагалась в подземном вестибюле метро кузьминки. абитуриенты приезжали на поездах метро, подсаживались к нему, отвечали, получали оценки и уходили. перед экзаменом к нему подошли люди в чёрном и передали список, спущенный «сверху». в списке были фамилии тех, кто должен поступить. иван петрович не знал, кто из них попал в этот список благодаря деньгам, а кто благодаря родственным связям, но думать здесь было и не нужно, нужно было — одних протаскивать, а других валить. вот подсел к нему абитуриент животов, вместо носа у него был кукиш, голое пузо обвешено золотыми цепями, и начал отвечать: я книг не читаю, я бабки зарабатываю, и ты, гнида, поставь мне отлично, а то я тебя урою. абитуриент животов был в списке, и иван петрович поставил ему отлично. вытер пот со лба, и тут подсаживается абитуриент зобов и отвечает всё на отлично. и даже лицо нормальное, хорошее такое лицо, только зоб у него птичий, огромный, а так всё в порядке. смотрит иван петрович — а зобова в списке нет. хотел иван петрович нарушить правило и всё равно поставить зобову отлично, но только он об этом подумал, как перед носом его появилась рука в чёрной перчатке и погрозила ему указательным пальцем. — к сожалению, вы не справились с ответом, — сказал тогда иван петрович зобову. зобов надулся и гневно закудахтал. — ну что, довольны? — возопил иван петрович к небу, вернее, к каменному своду станции метрополитена. тогда снова появилась рука в чёрной перчатке и одобрительно ущипнула ивана петровича за щеку. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
10 o:p/
иван петрович на похоронах лёлика o:p/
o:p /o:p
иван петрович ждал автобуса на далёкой автобусной остановке на юго-западе. по обеим сторонам от шоссе простирались пустыри, поросшие чахлой пожелтелой травой. рядом с остановкой парень бомжеватого вида играл на гитаре. подошёл автобус, и иван петрович вошёл в него. куда едем? — спросил он покрытого пылью усатого водителя в клетчатой кепке. из звонькова в харлушину на гостьбище, — ответил водитель. автобус двинулся, и осенние пустыри неожиданно превратились в весенний лес. водитель высадил ивана петровича на зелёной площади, где сидели сонмища людей. они жгли костры, а посреди площади перед стремительным обелиском горел вечный огонь. это были похороны лёлика, доброго друга ивана петровича. его собирались захоронить в центре площади, рядом с обелиском, за его великие достижения перед страной. иван петрович всегда тайно завидовал более быстрому, чем у него самого, продвижению лёлика по службе и подозревал его в том, что он хотел выслужиться и не прочь был и чей-то зад полизать. теперь же его хоронили с такой помпой, что иван петрович от гнева сказал в сердцах: не тебе, канцелярской крысе, здесь лежать, и сам лёг в яму под обелиском. увидав такое, лёлик выскочил из гроба и принялся вытаскивать ивана петровича из ямы. тем временем толпа на площади стала роптать. вылезай из моей ямы! — кричал лёлик. а вот и не вылезу! — кричал в ответ иван петрович. разъярённая толпа ринулась на них, иван петрович и лёлик оба выскочили из ямы, где они лежали, мёртвой хваткой впившись друг в друга, и бросились бежать наутёк в сторону леса, попутно кроя друг друга матом. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
11 o:p/
иван петрович и сорвавшееся свидание o:p/
o:p /o:p
иван петрович шёл на свидание с женщиной, с которой познакомился на сайте знакомств и перед которой там всячески распушал свой павлиний хвост: дескать, и тем он хорош, и другим он хорош, умный-разумный, образованный, обеспеченный, симпатичный, галантный, очень духовный и нестандартный человек. занимался он этим вечерами за своим ноутбуком, когда жена его маша готовила на кухне или стирала, думая со смесью жалости и озлобленности, что он за этим ноутбуком работает. жалости — потому что приходится ему работать вечерами, а озлобленности — оттого что сколько бы он ни работал, денег больше не становится. и вот юля — так звали эту женщину — наконец согласилась на встречу, и иван петрович, сняв с пальца обручальное кольцо, надушенный, с тремя гвоздиками отправился прямиком к ней домой. жила юля за городом, внутри холма на мусорной свалке. иван петрович постучал, и симпатичная шатенка открыла ему дверь. она была в нежном голубом пеньюаре, и иван петрович сбросил его с юли одним движением и прижал её к себе. у юли были три огромные груди, две крайние она закидывала на плечи, чтобы не мешались, но ивану петровичу этот небольшой недостаток даже понравился. они попили чай, немного поговорили о том о сём и вскоре оказались в постели, и тут произошло непредвиденное — иван петрович не смог. впрочем, не такое уж это было и непредвиденное, так оно обычно у него и случалось последние лет пять. — так, — сказала юля, — ты мне писал, что ты весь из себя такой необыкновенный: умный, образованный, обеспеченный, симпатичный, галантный, очень духовный и нестандартный человек. и вот что я тебе скажу: человек ты тупой, денег у тебя нет, раз ты принёс мне три дешёвые гвоздики и надушился дешёвыми духами, которые пахнут хуже, чем эта свалка, никакой духовности и нестандартности в тебе тоже нет, ты полный примитив, судя по всем твоим разговорам, но самое худшее, иван петрович, так это то, что ты — ИМПОТЕНТ!!!!!! — а ты, ты… — задохнулся иван петрович, — ты тупая примитивная похотливая сучка, трёхгрудая уродина, такую, как ты, никто не захочет. — и он со всего размаху врезал ей по лицу. оскорблённый до глубины души, он быстро оделся, вышел на свалку и нервно закурил. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
12 o:p/
как иван петрович разгневался на жену o:p/
o:p /o:p
сидит иван петрович на табуретке в недостроенном доме из кирпича и смотрит в окно. за окном брошенные земли, пустыри с жухлой травой, полуразрушенные сельские дома. обернулся, а напротив него диван с выпирающими пружинами, а на диване сидит жена. иван петрович сидит и смотрит на неё. и жена сидит, положив ногу на ногу, и смотрит на него. и левая нога у неё поверх правой. а иван петрович смотрит на неё и видит: что-то не то, и растёт в нём ярость. почему у тебя левая нога поверх правой? — спрашивает, наконец, — ты же всегда сидишь, положив правую ногу поверх левой. — не знаю, — отвечает жена, — просто села так. тут иван петрович заорал во весь голос: ты надо мной издеваешься, маша? у тебя всегда правая нога наверху! почему ты так села? ты слишком тупа, чтобы делать что-либо просто так. и слишком мелочно- расчетлива. — не знаю, — отвечает жена, — говорю тебе: я просто села так, как мне удобно, — и делает лицо такое невинное. — нет, тебе так неудобно! — ревёт иван петрович. смотрит на неё и видит отчётливо: невинность её напускная, а в глазах у неё цинизм. и вот она сидит, ничего не говорит, только смотрит на него, издеваясь, и ещё ногой слегка покачивает. специально это всё устроила, чтобы его из себя вывести. строит из себя лань загнанную, а у самой в глазах холодная злоба. — сука ты, маша, сука, — сказал ей иван петрович, — самая настоящая сука. а она всё сидит нога на ногу и не шелохнётся, и в огромных торжествующих глазах её — сталь и ненависть. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
13 o:p/
иван петрович на дне рождения лёлика o:p/
o:p /o:p
иван петрович присутствовал на праздничном застолье в честь сорокапятилетия своего друга лёлика. стол был накрыт в глубоком котловане, вокруг не было видно ничего, кроме земляных стен и белёсого, мелко дождящего неба где-то там далеко над головой. рядом с иваном петровичем сидела его супруга и тщательно следила, чтобы он не напился, после каждой рюмки тыркая его тощим локтем в бок. — ваня, — с тебя тост, — сказала ксюша, жена лёлика, женщина, в которую иван петрович в студенческие годы был влюблён. — лёлик, — начал иван петрович, — ты мой лучший друг, можно сказать, единственный друг, и такого доброго, душевного человека, как ты, я больше не знаю. мы с тобой дружим со студенческой скамьи, и я не могу сказать про тебя ни одного плохого слова. ты всегда выручал меня в беде, был рядом, когда мне была нужна твоя поддержка. ты всегда был гордостью — вначале нашего курса, а потом всего университета. нет, ни одного плохого слова не могу сказать… кроме разве что того, да это пустячок совсем, лёлик, пустячок, когда ты мне на госэкзамене не дал списать, а я получил оценку ниже тебя, лёлик, а ведь я тебе всегда давал списывать на экзаменах, ты помнишь, лёлик, а ты мне чем отплатил? чёрная неблагодарность — это и называется чёрная неблагодарность. а — тоже пустячок такой, лёлик, мелочь одна — потом ты такую карьеру сделал — до начальника департамента по науке, — ты думаешь, сам? это папаша твой, академик, тебе помог. ты сам-то разве чего-то можешь добиться? я тебя столько лет знаю, и поверь мне, лёлик, сам ты ничего не можешь добиться! а ведь это я должен был быть на твоём месте, лёлик, и меня сергей ефимович и прочил на эту должность, а ты, я знаю, что сделал. ты ведь приходил тогда к сергею ефимовичу, ты ведь тогда разговаривал с ним, что ты ему про меня сказал? я знаю, что ты ему про меня сказал — что я не справлюсь, что я — человек не того полёта, — вот что ты ему сказал! а ещё сказал ему, что папаша твой с ним о тебе хочет поговорить, он и поговорил, лёлик, поговорил. и в ксюшу я ведь влюбился первый, лёлик, ухаживал за ней два года, три раза цветы дарил, в кино дважды сходили, а тут, понимаешь ли, ты, весь такой крутой, со своим автомобилем, папенькин сыночек… она и клюнула на тебя. разве это по-дружески было, лёлик, с твоей стороны, разве это хорошо было? когда письмо ты ей любовное написал, звонил каждый вечер, в парке культуры вы вместе гуляли, обо мне думал ты тогда? не думал, лёлик, ты никогда ни о ком, кроме себя, не думал. в общем, ты говно, лёлик. за это и выпьем. и иван петрович в одиночку осушил свой бокал. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
14 o:p/
иван петрович и кровавый богослов o:p/
o:p /o:p
иван петрович шёл по древней милосердной земле, по залитым солнцем пашням, и попал в тёмный, дальний уголок её, где тени правили бал, опадая с деревьев, как чёрные крылья дроздов. заброшенные сельские дома вырастали из холмов, опустелые, мерцающие жемчужными бликами пыли, в мыльных мочалках мха-бородача, свисающего с серебристых лиственниц, как бороды повешенных карликов. мутные угольные зеркала в каменных дырах колодцев, пересохшие фонтанчики, разбросанные тут и там трупы — всё говорило о мертвенной и чуждой красоте забвения. o:p/
да-да, трупы, — изумлённо отметил иван петрович, оглядывая окрестности. некоторые из них уже разложились, в рёбрах иных сделали себе гнёзда ядовитые змеи, третьи же ещё сохраняли человекоподобие. видно было, что трупы чудовищно обезображены, зачастую расчленены, и отрезанные руки и ноги, вспоротые кишки, вырезанные сердца говорили о событиях странных и трудновообразимых. o:p/
тем временем, облизывая окровавленный нож, из укрытия вышел красивый и весёлый юноша и направился к ивану петровичу. «не бойся меня, — сказал он ему, — я сегодня убил, изнасиловал, расчленил и съел столько людей, что удовлетворил свой голод до самого завтрашнего дня. поэтому можем поговорить». иван петрович описался и обкакался, но юноша, казалось, этого не заметил и, пребывая в благостном разговорчивом настроении, взял ивана петровича под руку и повёл по аллее. над головой их сплелись ветви, и какая-то невидимая птица запела прекрасную и мучительную песню. o:p/
«я не маньяк какой-нибудь, как вы могли подумать, — сказал юноша ивану петровичу, — и не сумасшедший. и я не один такой. если хотите знать, я сын властителя этой счастливой страны, я превосходно образован, в двадцать лет получил степень доктора богословия, автор многих монографий и сборников религиозных гимнов. и друзья мои — лучшие из лучших, представители культурной и духовной элиты нашего общества, писатели, учёные, журналисты, врачи, учителя. объединяет нас всех то, что мы оппозиционно настроены к существующему порядку. я вижу по вашей физиономии, что вы не из наших мест, и начну издалека, чтобы объяснить вам, почему мы с моими дорогими соратниками убиваем, насилуем и расчленяем мужчин, женщин и детей. слышали ли вы когда-нибудь о разрушенных мирах?» «нет», — жалобно проблеял иван петрович. o:p/
«Господь, прежде чем создать тот неведомый мне мир, который зовётся Землёй и который признан лучшим из возможных, где добро и зло уравновешены и гнев сдерживается милосердием, а милосердие гневом, создал три мира, где безраздельно властвовало зло, насилие, жестокость и несправедливость. благой его замысел заключался в том, что лишь на фоне царствующего гнева и жестокости возможна праведность, возможен свободный выбор добра. он создал эти миры, ожидая появления невиданных прежде праведников, но праведники не появились. прокольчик-с вышел, кхе-кхе… не могли появиться праведники в мире, где существует только зло, как оказалось. и Господь разрушил эти три мира зла. после этого создал он лучший из возможных миров, Землю, где зла и насилия очень много, и они дают возможность свободного выбора добра, но есть и милосердие и любовь, которых пусть и немного, но они суть помощь Божья праведникам, чтобы они всё-таки появились. из-за того, что любовь и милосердие в этом мире всё-таки есть, его праведники праведны, ну как бы это сказать, — не на сто процентов, Бог им фору дал, но благодаря злу и насилию, вечно противостоящим им, в праведности их есть доля свободы, и потому Бог не уничтожает этот мир. ясно?» «ясно», — пробормотал иван петрович и снова описался. «ты, часом, не праведник?» — «нет-с». o:p/
«то есть смотри как там на Земле, например, получается. правитель страны какой-нибудь кровавый упырь, например, — а кто с ним борется? оппозиция. встаёт за добро, справедливость, демократию, хрен знает за что. и на смерть, и в тюрьмы идут за правду. а залог их свободного выбора добра — в чём? правильно — в упыре-правителе, который и позволяет им быть праведными. ну ладно, слушай дальше. Сатана, обезьяна Бога, прослышал об эксперименте с разрушенными злыми мирами и сделал выводы. создал Сатана тогда мир, где властвуют добро, мудрость, справедливость, любовь и милосердие. в этом мире все были праведниками, но в праведности их не было свободы, и оттого истинная праведность, единственно ценная в глазах Бога, в этом мире была невозможна. и мысль об этом доставляла чрезвычайную радость Сатане. но другая мысль доставляла ему ещё большую радость, догадываешься о чём я?» — «нет», — ответил иван петрович и снова обкакался. o:p/
«а я о том, что в мире, где невозможен свободный выбор добра, возможен зато свободный выбор зла. потому благой мир, созданный Сатаной, оказался превосходным потенциальным плацдармом для великих, невиданных прежде грешников. но в мире этом не было ни толики зла, он был настолько стерилен, что и грешники не могли появиться в полностью добром мире, как и праведники в полностью злом. Сатана был несколько разочарован, а Бог… Бог, узнав о нашем мире, исполнился сострадания к нему и решил дать нам шанс на спасение. дать его самым парадоксальным образом. по внешней видимости — сыграть на руку Сатане, а на самом деле — наоборот. он послал Его, о, я не знаю, как говорить о Нём — Свет, пришедший в мир наш, чтобы Свет обучил нас злу, чтобы с Ним толика зла пришла в наш мир и дала нам возможность свободно выбрать зло. но тайный умысел Господа был в том, что, получив возможность свободно выбрать зло, однажды мы сможем свободно выбрать и добро. ведь если мы свободно выберем зло и великие грешники явятся, то от дел, творимых ими, зла в нашем мире будет становиться всё больше и больше, и однажды его станет так много, что кто-то — о, этот великий предвкушаемый час! — сможет свободно выбрать добро, и это будет первый праведник, а за ним придут и другие. по воле Бога Свет пришёл, чтобы обучить нас злу. он был первым убийцей в нашем мире, первым маньяком, первым расчленителем и насильником. он был невозможен — и он явился и дал нам надежду. и многие из лучших, дети и внуки добрых людей, гордость нашего мира — последовали за ним. каждый день мы творим столько зла и проливаем столько крови, сколько возможно, и научим этому наших детей, а они обучат своих детей, чтобы однажды, однажды… когда людей, свободно выбравших зло, станет много, так много, что земля утонет в страдании, кто-то неведомый, не рождённый ещё, мальчик или девочка, дитя этого созданного Сатаной мира, в первый раз под этим небом свободно выберет добро». o:p/
«а почему бы вам самому, молодой человек, э-э, свободно не выбрать добро?» — робко поинтересовался иван петрович. тут парень разгневался: «да ты, я посмотрю, совсем тупой! — заорал он, — я же сказал тебе: в этом благом мире я могу свободно желать лишь зла. даже когда я думаю о грядущих праведниках, я не свободен в этом, потому что я сын доброго человека и внук доброго человека, родившийся в мире, где все добры по необходимости, и я — я тоже добр по необходимости, а это пыль в глазах Бога. но Свет пришёл и позволил мне свободно выбрать зло. слушай, знаешь что? что-то я опять проголодался…» парень широко улыбнулся, достал нож и облизнул его, насмешливо и нежно глядя на ивана петровича. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
15 o:p/
иван петрович и большое веселье o:p/
o:p /o:p
иван петрович сидел на уроке в школе на васильевском острове. был он снова маленьким мальчиком, но помнил почему-то и про всё последующее: учёбу в москве в университете, переезд родителей в деревню, ссору с ними из-за квартиры, женитьбу, развод. какой чепухой маялся, — думал иван петрович и зевал. олег щепкин, сидевший перед ним, тем временем перегнулся через свою парту, чтобы передать записку киселёвой. иван петрович не будь дурак — ухватил момент и радостно воткнул ему циркуль в мягкое место. — дурак, — обиженно сказал щепкин. и тут все на ивана петровича посмотрели и хором заорали: дурак! а иван петрович сам себя не видит, но чувствует — что-то не то. а что-то не то в том заключалось, что у ивана петровича отросли ослиные уши, вместо лица образовалось свиное рыло, сам без штанов, а на голове колпак с бубенцами. и стало ивану петровичу весело, вскочил он и заплясал, даже вприсядку пошёл. а все одноклассники тоже не лучше него стали: кто был роста высокого — великаном стал, кто низкого — карликом. юля цыпина юлой завертелась, олеся киселёва пошла колесом. у очень умного мальчика-ботаника хворостьянова вместо лица образовалась покрытая прыщами задница, а на месте задницы — важное насупленное профессорское лицо. чика чекалин начал пародировать директора, петя восьмёркин — брежнева, а ивану петровичу наказали быть патриархом. торжественно посвятили его в эту должность, щёлкнув по носу. тут в класс вошли две старухи — учительница пения и учительница истории, обе они были беременны и с трудом волочили свои огромные животы. — а ну-ка, иван петрович, — сказали они, — вызывай ленина, без него праздник — не праздник. а для этого ты сделай вот что. очерти вокруг себя мелом круг, пририсуй к портрету ленина рога и начни читать перед ним устав партии задом наперёд. начал иван петрович читать, глядь — а ленин из портрета вылезает как есть с рогами и начинает плясать. — ты читай дальше, — говорят старухи, — пусть они все повылезут. вылез и сталин — тоже с рогами, и пляшет. вылезли хрущёв, брежнев, вылезли и те, про кого в школьные годы иван петрович ничего не знал: андропов, черненко, горбачёв, ельцин, путин. у всех рога, все весёлые, пляшут. смотрит иван петрович, а он уже не в школе, а в самом кремле. и тысячи людей вокруг, чиновники, министры, градоправители, депутаты, у всех рога, все пляшут. а иван петрович стоит в меловом кругу и прядает ослиными ушами, на голове у него шутовской колпак, на груди патриарший крест, и понимает он, что сам их всех вызвал, что были они частью его самого, души его и тела его, и страны его, и космоса его, и кричит им: идите прочь! — со всей мощью своего свиного рыла. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
16 o:p/
иван петрович и красотка o:p/
o:p /o:p
едет иван петрович в переполненном вагоне метро, и стоит спиной к нему девушка. смотрит иван петрович, а там всё как надо: девушка худая, юбочка на ней короткая-прекороткая, обтягивающая очень даже подтянутую попку, каблуки высокие, на чулках рисунок-дракон вдоль ноги вьётся. волосы у девушки рыжие, кучерявые, стоят, как облако. иван петрович и решил, как обычно, немного побаловаться. прислонился лицом к терпким, душистым волосам девушки и натужно засопел у неё над ухом, а ручку свою потную на попу её положил, осторожно стал попу и бёдра её оглаживать, вдруг слышит — девушка издала лошадиное фырканье. иван петрович насторожился, а девушка обернулась к нему, и видит он: лицо её покрыто чешуёй драконьей, нос провалился, как у сифилитика, а на подбородке растёт густая рыжая борода. иван петрович отдёрнул руку, открыл рот от ужаса, а девушка наклонилась к нему и на ушко прошептала: экий вы безобразник, иван петрович. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
17 o:p/
иван петрович принимает зачёт в морге o:p/
o:p /o:p
снова сидит иван петрович у себя на кафедре истории русской литературы, а на этот раз располагается она без обиняков прямо в морге, и приходит к нему студентка шлюцкая зачёт сдавать. в белой простыне приходит, и по всему видно — ещё остыть не успела. начинает сразу: я ничего по вашему предмету не знаю и знать не хочу. — как же мы с вами поступим? — я вам минет сделаю, а вы мне за это зачёт поставите. — помилуйте, барышня, да вы же мёртвая! — так что ж это по вашему, значит, я мёртвая должна знать ваш предмет, а минет сделать я мёртвая не могу?! — ну хорошо, барышня, но между нами ничего не может быть хотя бы потому, что вы моя студентка! — какой-то вы подозрительно порядочный получаетесь. маша вот сказала, что для вас не помеха: живой человек или мёртвый, студентка или не студентка. — что же это за маша такая? — жена ваша маша, тоже здесь лежит, говорит, убили вы её вчера. ещё говорит, что вы ей всю жизнь испортили и не купили шубу. — и после смерти она со своей шубой лезть будет, тварь, — выругался иван петрович, поставил шлюцкой зачёт и ушёл с кафедры, хлопнув дверью. — не видать тебе шубы как своих ушей! — громко прокричал он, проходя мимо холодильных камер. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
18 o:p/
иван петрович и дурная привычка o:p/
o:p /o:p
из двери в старой ленинградской парадной выскочил мужчина в семейных трусах, крикнул ивану петровичу: берегись, мужик, там такое! — и убежал. иван петрович осторожно приоткрыл дверь — там была мышиная нора, и он стал туда протискиваться. нора через некоторое время перешла в стеклянный коридор, своего рода подземный бульвар. время от времени в коридоре стояли белые парковые скамейки, и на них сидели целующиеся парочки: то мужчина с мужчиной, то женщина с женщиной, то взрослый с ребёнком. иван петрович косо на них поглядывал и шёл дальше. наконец иван петрович вошёл в огромный лекторий. зал был заполнен уродцами, которые, увидев ивана петровича, громко ему зааплодировали, показывая жестами, что ему надлежит взойти на кафедру. иван петрович начал пятиться и хотел удрать, но пара крепких уродцев взяла его под руки и поставила на кафедру. — держи речь перед нами, — сказали они ему, — мы все здесь благодаря тебе. из зала начали поднимать руки и задавать ивану петровичу каверзные вопросы: не было ли у него дурной привычки — так называемого рукоблудия, да как часто таковое случалось, да в каких обстоятельствах. иван петрович нехотя признался, что да, случалось иногда, по большому счёту, чуть не каждый день, а в обстоятельствах разных, но чаще всего в сортире. после этих ответов из зала ивану петровичу поднесла цветы девушка с заячьей губой, раздвоенным подбородком и тремя ноздрями и сказала: иван петрович, вы — наш отец. каждый раз, как вы занимались этим — кто-то из нас рождался без матери от вашего семени и грязи, рассеянной в воздухе. вы подарили нам жизнь, и за это мы вас сейчас будем качать на руках и всячески любить. — ну что вы, не стоит, — сказал иван петрович, но уродцы уже стали подниматься со своих мест и окружать его кольцом. когда они подобрались совсем близко и хотели уже схватить его, иван петрович подпрыгнул высоко-высоко, до самого потолка, а в потолке была дыра, и ивана петровича в неё засосало, как в пылесос. но в это время чудовищные создания уцепились за край его штанов, и штаны остались у них в руках, а иван петрович вылетел наружу в одних семейных трусах, увидел дверь, выбежал через неё во двор, проорал щупленькому мужичонке, которого увидел за дверью: берегись, мужик, там такое!.. — и убежал. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
19 o:p/
иван петрович излагает свои убеждения o:p/
o:p /o:p
иван петрович находился на допросе. следователь, представившийся как монах ордена иезуитов, направил ему лампу в лицо и спросил: какого вероисповедания придерживаетесь, иван петрович? — я — православный христианин, — ответил иван петрович, сглотнув. — на все вопросы отвечайте честно, — предупредил его следователь, — это ваш единственный шанс. — а как бы вы определили, что такое Бог? — я думаю, Бог — это сила жизни, разлитая в природе, и нравственный закон внутри меня, — ответил иван петрович с чувством собственного достоинства. — как это вы мудро рассудили, — сказал следователь, — а в церковь ходите? — хожу, — сказал иван петрович, — на пасху. — а как бы вы иисуса христа определили, иван петрович? — я думаю, он был мудрый человек, как будда, лао-цзы и сократ, и учил людей доброму. — в общем, вашими ответами я удовлетворён, — сказал следователь, — вы — православный христианин, в церковь ходите, о Боге и иисусе христе высказываете мудрые суждения, так что всё в порядке. а сами-то вы в Бога верите, ну так, по честняку? — нет, — ответил иван петрович, — наверное, не верю, я — человек рациональный, человек науки, мне кажется, это всё мифы, которые люди придумали, чтобы умирать было не страшно. — да, я вижу, вы не дурак, иван петрович, — сказал следователь, — к вам на хромой козе не подъедешь. ну, поскольку в результате нашего разговора нарушений не выявлено, до встречи на суде-с. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
20 o:p/
иван петрович попал в грозу o:p/
o:p /o:p
а ну не двигайся, — крикнул ивану петровичу горбун, стоящий от него примерно шагах в тридцати. между иваном петровичем и горбуном стоял юноша-олигофрен, на равном расстоянии от них обоих. иван петрович замер. — сейчас гроза, видишь, — кричал ему горбун сквозь порывы ветра, полощущего его бороду, — нельзя двигаться. а то олигофрен умрёт. пока иван петрович, олигофрен и горбун стояли неподвижно, с неба ежесекундно били разряды. упав на землю, они превращались в глыбы льда и катились по направлению к олигофрену, но чуть-чуть не докатывались. o:p/
o:p /o:p
иван петрович увидел на горе неподалёку игрушечный чёрный бор, утыканный маленькими пластмассовыми деревцами, внутри же него были разные таинственные странности: костры, лагеря и цветные светящиеся камушки. ивану петровичу захотелось в бор, и он сделал шаг в его направлении. тут же разряд попал в олигофрена, и тот упал и умер. o:p/
o:p /o:p
ты чего? — подбежал к ивану петровичу горбун, — я же сказал тебе, что нельзя двигаться! мы должны были стоять с двух сторон от него строго симметрично! иван петрович пожал плечами. — подай хоть копеечку христа ради, — сказал горбун жалобно. — накося выкуси, — сказал иван петрович и ушёл. гроза кончилась. o:p/
o:p /o:p
за бором иван петрович нашёл яму, полную липкого серого месива. из грязи этой он стал лепить лошадь, и слепил три варианта, но ни один не получился, и он их отбросил. тогда недоделанные лошади обрели облик существ женского пола с металлическими цилиндрами вместо голов и принялись охотиться за иваном петровичем, который долго от них убегал между пластмассовых деревьев и домиков из пластилина. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
* o:p/
o:p /o:p
иван петрович и окончательное решение o:p/
o:p /o:p
ивана петровича ввели в зал суда. зал был необъятного размера, и находились в нём тысячи, а то и десятки тысяч людей, но иван петрович сразу узнал множество знакомых лиц. лукаво подмигнул ему пьяный пономарь, сидевший со своей женой в третьем ряду, и иван петрович как будто даже услышал: когда всё закончится, дружище, выпьем с тобой по маленькой, я припас. лёлик сидел рядом с ксюшей, славик между цыпиной и киселёвой. в спортивном костюме и кепке сидело быдло, ело курицу и пило жигулёвское, рыгая и чавкая. строго и осуждающе смотрели на него беременные старухи-учительницы. все одноклассники и однокурсники тоже были здесь. на вип-местах сидели все вожди и президенты с рогами — от ленина до путина, вокруг них — чиновники, министры, градоправители, депутаты. видел иван петрович горбуна и олигофрена и женщин с металлическими цилиндрами вместо голов. видел братию свою научную — бесчисленных филологов, литературоведов, докторов наук с цитатами вместо лиц. видел машу в шубе из баргузинского соболя, целующуюся с мужчиной со слоновьим хоботом. видел студентов своих: лыкова в картофельных очистках, мёртвую шлюцкую в белой простыне, животастого животова и зобатого зобова. видел красивого и весёлого кровавого богослова, облизывающего нож. видел сонмища уродцев, родившихся от его семени, девушку с заячьей губой, раздвоенным подбородком и тремя ноздрями и красотку в мини-юбке с рыжими волосами с лицом, покрытым драконьей чешуёй, провалившимся носом и густой рыжей бородой. видел юлю с тремя грудями в голубом пеньюаре и улыбающегося ему следователя из ордена иезуитов. ни адвоката, ни судьи не было на этом заседании. лишь обвинитель с лицом петуха и петушиным гребнем визгливым фальцетом кричал: виновен, виновен! и зал аплодировал ему и кричал ивану петровичу: наш, наш!.. а потом не осталось ничего, только какая-то пустая тёмная комната в деревянном доме, приоткрытая дверь, в которую входит неяркий свет, скрипучие половицы и ведро опилок на полу. o:p/
o:p /o:p
Выше самих себя
Хельга Ольшванг (Хельга Ландауэр) — поэт, сценарист, режиссер
Хельга Ольшванг (Хельга Ландауэр) — поэт, сценарист, режиссер. Родилась в Москве. Окончила сценарный факультет и аспирантуру Вcесоюзного государственного института кинематографии. С 1996 года живет в Нью Йорке и в Калифорнии. Стихи и стихотворные переводы печатались в журналах «Знамя», «Арион», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Крещатик», в книжной серии издательства «Арс-Интерпресс» в Нью Йорке, а также выходили отдельными сборниками: «Девяносто шестая книга» (издательство «Композитор»), «Тростник» и «Стихотворения» (издательство Пушкинского фонда). o:p/
Фильмы Хельги Ольшванг «Вдали от Венеции» (1998), «Дневник Орфея» (2002), «Путешествие Дмитрия Шостаковича» (2006), «Фильм о Анне Ахматовой» (2008) и «Отвлекаясь на другое» (2009) были представлены на международных кинофестивалях, телеканалах и культурных программах, в том числе, в аудиториях Карнеги-холла, Элизабет-холла и Лувра. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
sub * * o:p/ /sub
sub * o:p/ /sub
o:p /o:p
Заслонено, и тем сильнее чувство — o:p/
завалено, задвинуто — разлуки o:p/
с тобой, закрыто наспех чем попало. o:p/
Как будто в осаждённом доме, o:p/
за миг до смерти или сразу после, o:p/
снуют, сбиваясь, преданные слуги o:p/
(хозяевами преданные) — мысли o:p/
о том, к кому уже не прикоснуться. o:p/
Тебя так нет, что я сейчас не знаю, o:p/
кого из нас двоих считать не бывшим: o:p/
тебя не вижу и себя не помню. o:p/
o:p /o:p
sub o:p /o:p /sub
sub * * o:p/ /sub
sub * /sub o:p/
o:p /o:p
Все умерли. А те, кто вместо них, o:p/
не очень знают, как им поступить o:p/
с пропажей, номерами накладных, o:p/
шрифтами, урожаем и жильём. o:p/
o:p /o:p
Дворцы стоят рядами сундуков, o:p/
пылятся лодки, падают — пропасть — o:p/
орехи в мох, и мы себя живём. o:p/
И чиним снасть. o:p/
o:p /o:p
И врём, и врём, и врём себя, o:p/
самим o:p/
себе, и снова врём на свет o:p/
лица напротив. Пламенеет стол, парит обед. o:p/
Муж, девочка, жена, подросток, соль, o:p/
сын, перец, дочь передаёт прибор. o:p/
Погоны книг в шкафу. Ребёнок в пол o:p/
глядит, вслед исчезая. o:p/
Смех. Аэрозоль. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
sub * * o:p/ /sub
sub * /sub o:p/
o:p /o:p
Стало темно, и если бы не плащей o:p/
Крупные пуговицы в углу, o:p/
Ночь показалась мне слепотой. o:p/
Кто мы вне отблесков и вещей, o:p/
Хаоса льнущего? Ночь на слух, o:p/
Вкус и запах и с этой, где я, стороны, и с той, o:p/
Где не светит проснуться, совсем как воск. o:p/
o:p /o:p
Утром воскреснет мозг, o:p/
Залоснятся стульев края, сиять, o:p/
Морщиться, виснуть, сереть, стоять o:p/
Примутся все как один, остыв, o:p/
Заполняя пустоты. А ту, где ты, o:p/
Комнату, окнами в холм, o:p/
И ту, где сейчас не сплю, o:p/
Жизнь забудет одним рывком, o:p/
Утро засветит одним «люблю». o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
sub * * o:p/ /sub
sub * o:p/ /sub
o:p /o:p
Я вспоминаю то, что мимо нас жило, скользило, проплывало, пугало, неожиданно приснясь, разламывалось, блекло, остывало, o:p/
и то, что, тихо нам принадлежа, — зверинец мебели, похожей на курятник библиотеки ветхая душа, одежда, утварь — нас, неаккуратных, o:p/
терпело, и повернутые к нам портреты, и отпрянувшие двери, o:p/
мигающую в сумерках окна Москву, и дыма траурные перья над фабрикой, o:p/
за парком Октября, — o:p/
o:p /o:p
всё-всё, что нам потворствовало зря, и той любви — неправильной,
кромешной. o:p/
o:p /o:p
Так, cлепок, отлегая от лица, сильней напоминает мертвеца (зияя им), чем сам он, неизбежный. o:p/
o:p /o:p
6.10.2009 o:p/
o:p /o:p
sub o:p /o:p /sub
sub o:p /o:p /sub
sub o:p /o:p /sub
sub * * o:p/ /sub
sub * /sub o:p/
o:p /o:p
Яблоки благоухают в траве, сушатся на столах, o:p/
Остаются на дне компота и жаркого дня. o:p/
Дом наш словно корабль в горах, o:p/
Пенный облунок — над. o:p/
И ещё летает, но реже и реже, мяч o:p/
За сараем, и вечер, особенно по краям o:p/
Неба, реки и веранды ещё слепящ, o:p/
И комары, трепеща, приникают к нам, o:p/
Но уже унесён творог и ребёнок — в другой руке, o:p/
И посуда тонет в раковине, скрипя, o:p/
И сердцевины яблок ежам достаются, и молча стоят в реке o:p/
Толпы неба, выше самих себя. o:p/
: Науйокс Марина Марковна родилась
Науйокс Марина Марковна родилась в Москве
Науйокс Марина Марковна родилась в Москве. По образованию — экономист, переводчик немецкой литературы. Переводила стихи литературного кабаре 1920 — 1930-х годов, поэзию декадентов и экспрессионистов, современных немецких поэтов, а также немецкоязычную лирику Швейцарии и Австрии. Среди прозаических переводов — Бертольт Брехт и Фердинанд фон Ширах. Переводы М. Науйокс публиковались в журналах «Иностранная литература» и «Студия». В «Новом мире» публикуется впервые. С 2005 года живет в Берлине. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Почему средневековая лирика так трогает нас, не раздражая своей наивностью, прямолинейностью и зачастую неумелой рифмовкой? Вероятно потому, что дает ощущение присутствия при рождении европейской поэзии. o:p/
…Христианская Европа только что очнулась от непрерывных войн, голода и эпидемий. Кончился сон разума на обломках Римской империи, и люди с изумлением разглядывали окружающий мир и друг друга. o:p/
Первые монахи, потрясенные гармонией мироздания, складывали, а потом и записывали, новые молитвы. Первые певцы пели и слагали саги о героях. Первые колдуньи шептали свои — еще языческие — заговоры и заклинания. Первые поэты-рыцари в недавно построенных, грубо отесанных и насквозь промерзающих замках вдруг заметили — реальную или мнимую — красоту и добродетель живущих рядом женщин. Первые «разночинцы» того времени — школяры, священники, обедневшие дворяне — бродили по дорогам Европы и пели по площадям и тавернам свои не очень складные, но веселые или душещипательные куплеты. o:p/
Темы стихов становились все разнообразнее — рос интерес к обычному человеку, к его личности. Отрабатывались формы стихосложения. Укоротилась строка, появился рефрен — так было удобнее петь. Аллитерация постепенно заменялась рифмой, которую сначала помещали в середину стиха, переняв это от провансальских трубадуров, а затем и в конец строки, как это принято сейчас, — так лучше запоминался текст. o:p/
Все случалось в первый раз. В этом, думаю, и состоит огромная притягательность средневековой поэзии. Средневековье стало эпохой великих поэтических открытий. o:p/
Предлагаемые читателям «Нового мира» стихотворения выбраны мною из антологии «Deutsche Gedichte» (Insel Verlag, Frankfurt am Main, 2009). o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
ВЕССОБРУННСКИЕ СТИХИ И МОЛИТВА <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> o:p/
o:p /o:p
О сотворении мира o:p/
o:p /o:p
Много я передумал и людей расспрашивал об этом чуде: o:p/
ведь когда-то не было ни Земли нашей, ни неба, o:p/
ни единого деревца, ни пригорка, o:p/
и солнце не вставало, и луна не светила, o:p/
и моря не было, воспетого потом в сагах, o:p/
не пролегло еще ни границ никаких, ни сторон света. o:p/
Но одно всё же было — всемогущий Господь, o:p/
щедрый, милостивый, и от него пришла вся мудрость творения. o:p/
Это и был Создатель мира. o:p/
o:p /o:p
Всемогущий Боже, сотворивший небо и Землю, o:p/
даровавший людям все блага мира, o:p/
дай мне крепкой веры в милость твою, o:p/
добрых намерений, здравомыслия и достаточно сил o:p/
противиться дьявольскому наваждению, o:p/
не творить зла и пребывать в твоей воле. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
ЗАГОВОРЫ o:p/
o:p /o:p
(X век) o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Пчелиный o:p/
o:p /o:p
Ах ты, Господи, рой улетел! o:p/
Летите, пчелки, назад, не встретив преград, o:p/
за лесами не летайте, за горами не пропадайте, o:p/
собирайте скромно нектар нескоромный, o:p/
не забывайте Бога и к ульям дорогу. o:p/
Перекрещу вас справа, перекрещу вас слева — o:p/
благослови вас Господь и Святая дева. o:p/
Сидите в улье тихо, не делайте лиха! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
От морока o:p/
o:p /o:p
Ах ты морок проклятый, злое чудище, o:p/
не являйся во сне, не пугай меня! o:p/
Через все ручьи тебе — топким бродом брести, o:p/
а в лесу густом — всю листву общипать, o:p/
а в лугах тебе — все цветы оборвать, o:p/
и все норки звериные — тебе вылизать, o:p/
и все лужи по дорогам — тебе вылакать, o:p/
все соломинки в поле — сосчитать тебе. o:p/
Не являйся мне ночью, не мучь меня! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
ЗАГАДКИ o:p/
o:p /o:p
(XI век) o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
1 o:p/
o:p /o:p
Прилетел птенец — да без перьев, o:p/
сел на дерево — да без листьев. o:p/
Подбежало к нему дитятко — да без ноженек, o:p/
ухватило его накрепко — да без рученек, o:p/
без огня, без котла — приготовило, o:p/
безо рта, без зубов — пообедало. o:p/
o:p /o:p
(Снег и солнце) o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
2 o:p/
o:p /o:p
Самой длинной из ночей o:p/
вырос мост через ручей. o:p/
Двух воров там стали ждать. o:p/
Первый — виден, но не слышен, o:p/
и скользит он тише мыши. o:p/
Вор второй — шумит по крыше, o:p/
но не виден, хоть и ближе. o:p/
Что за воры, что за тать, o:p/
мост задумали сломать? o:p/
o:p /o:p
(Лёд, солнце и ветер) o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
РЫЦАРЬ ИЗ КЮРЕНБЕРГА <![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> o:p/
o:p /o:p
(ок. 1150 — 1170) o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Сокол o:p/
o:p /o:p
Растил я сокола, считай, что целый год. o:p/
Он был уже почти ручным, но вот, o:p/
порвав шнурки из шёлка и постромки, o:p/
он вырвался на волю с криком громким. o:p/
o:p /o:p
Прекрасен был полёт свободной птицы: o:p/
шнурка обрывок в небе золотится, o:p/
а на земле — погнутой клетки хлам. o:p/
О Господи, позволь летать и нам! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
ДИТМАР ФОН АЙСТ o:p/
o:p /o:p
(? — 1171) o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Причитания знатной дамы на прогулке o:p/
o:p /o:p
Вот луг. Благородная дама на нём, o:p/
гуляя, разглядывает окоём. o:p/
Там сокол с небес вдруг бросается ниц, o:p/
пугая сидящих на дереве птиц, o:p/
и снова взмывают два крепких крыла. o:p/
Задумалась дама: «А я б так смогла? o:p/
Он отроду не был в позорном плену, o:p/
сам вьёт он гнездо и находит жену. o:p/
Вот если б мне этаким соколом стать, o:p/
я мужа смогла бы сама отыскать, o:p/
его бы по сердцу нашла я себе, o:p/
чтоб с ним ворковать в нашем общем гнезде. o:p/
Ах, Дева святая, ах, Божия мать, o:p/
вот если б, как сокол, могла я летать!» o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
ХИЛЬДЕГАРД ФОН БИНГЕН <![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> o:p/
o:p /o:p
(1098 — 1179) o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
О человеческой душе o:p/
o:p /o:p
Душа — как ветер, o:p/
гладящий траву, o:p/
как роса, o:p/
освежающая луга, o:p/
как дождь, o:p/
под которым все растёт и зеленеет. o:p/
o:p /o:p
Вот так и человек может — o:p/
изливать доброту на своих ближних, o:p/
доброту, по которой они истосковались. o:p/
o:p /o:p
Он может быть ветром, o:p/
приносящим подаяние. o:p/
Он может стать росой o:p/
вместо слёз всех покинутых. o:p/
Он может пролиться дождём, o:p/
оживляющим всех измученных. o:p/
И давать им любовь, o:p/
как хлеб насущный. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
О листве o:p/
o:p /o:p
О, благородная листва, o:p/
ты разрастаешься на солнце o:p/
и сверкаешь своим великолепием o:p/
пока проворачивается колесо земной жизни, o:p/
такой же прекрасной и непознаваемой, o:p/
как и таинство другой жизни — вечной. o:p/
Ранним утром листья деревьев розовеют, o:p/
а осенью, на солнце, пылают, как факелы. o:p/
Такое чудо — листву — o:p/
могла создать только любовь. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
ВАЛЬТЕР ФОН ДЕР ФОГЕЛЬВАЙДЕ <![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> o:p/
o:p /o:p
(1170 — 1230) o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Влюблённый миннезингер o:p/
o:p /o:p
Что есть любовь, скажите ясно, o:p/
я знаю что-то, но не всё: o:p/
бывает ли любовь напрасной? o:p/
Или разящей, как копьё? o:p/
Тогда ей имя приготовь — o:p/
не может мука быть прекрасной, o:p/
такое чувство — не любовь. o:p/
o:p /o:p
Насколько смыслю в этом деле, o:p/
любовь есть ноша двух сердец. o:p/
И станет, если ношу делят, o:p/
любовь любовью наконец. o:p/
О, госпожа, я бы просил o:p/
часть груза взять, по крайней мере, o:p/
мне одному — не хватит сил. o:p/
o:p /o:p
Да, госпожа, я Вашу долю o:p/
тащу, и время мне помочь. o:p/
Не любите — я не неволю, o:p/
тогда меня гоните прочь. o:p/
Но кто Вам сложит мадригал, o:p/
когда б вдали от Вас, на воле, o:p/
я прославлять Вас перестал? o:p/
o:p /o:p
Вы в горечь превратили сладость. o:p/
Другой поэт, я побожусь, o:p/
не даст Вам эту злую радость, o:p/
когда вдали я окажусь. o:p/
Ослеп я от любви вконец, o:p/
но кто не знает, что за гадость — o:p/
влюблённый немощный слепец! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Под липами o:p/
o:p /o:p
Где старые липы, o:p/
там, у луга, o:p/
из сена с цветами наша постель. o:p/
Мы слушали птиц, обняв друг друга, — o:p/
чириканье, всхлипы o:p/
и брачную трель. o:p/
И вот с опушки, из-за полей — o:p/
тантарадей! — o:p/
запел соловей. o:p/
o:p /o:p
Гляжу в оконце, o:p/
совсем стемнело, o:p/
мой милый устанет под липами ждать. o:p/
Я вышла украдкой, стрелой полетела, o:p/
а то сядет солнце, o:p/
и хватится мать. o:p/
Лучший на мне, как на свадьбу, наряд — o:p/
тантарадей! — o:p/
губы горят. o:p/
o:p /o:p
Была я все лето, o:p/
как дама из знати o:p/
на ложе пышном из трав и цветов. o:p/
И полог из веток на брачной кровати o:p/
пах липовым цветом o:p/
у наших голов. o:p/
Пара моих расплетённых кос — o:p/
тантарадей! — o:p/
на охапке роз. o:p/
o:p /o:p
Для любящих ласки o:p/
любые святы, o:p/
кто строгого нрава — сгорит со стыда. o:p/
Я тоже для вида потупила глазки — o:p/
ведь платье измято, o:p/
коса развита. o:p/
Будут секрет наших жарких встреч — o:p/
тантарадей! — o:p/
липы беречь. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Песня бродячего поэта o:p/
o:p /o:p
Натёр себе ноги, o:p/
присел у дороги, o:p/
понур и невесел, o:p/
я голову свесил. o:p/
Прилёг, подложив под затылок кулак, o:p/
смеются прохожие — что за чудак! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Кто может, ответьте, o:p/
как жить мне на свете? o:p/
Чтоб мысли всё те же o:p/
терзали пореже? o:p/
Зачем не придумано мудрых наук, o:p/
чтоб можно сложить было в общий сундук o:p/
o:p /o:p
и спрятать всё вместе — o:p/
от рыцарской чести o:p/
до милости Бога o:p/
и денег немного? o:p/
Я нажил пока лишь заплечный мешок, o:p/
в нем хлеба краюшка да глупый стишок. o:p/
o:p /o:p
Чего не бывало — o:p/
ларей и подвалов. o:p/
Нужна мне сегодня o:p/
лишь милость Господня. o:p/
А гордость с богатством, и чванство, и спесь — o:p/
в свой спрячьте подвал, если он у вас есть! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
ИЗ ПЕСЕННИКА ВАГАНТОВ «КАРМИНА БУРАНА» o:p/
o:p /o:p
(ок. 1250) o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Песня жареного лебедя o:p/
o:p /o:p
Когда-то мирно жил я дома, o:p/
у небольшого водоема, o:p/
вода, и травка, и солома — всё было мило и знакомо. o:p/
o:p /o:p
Припев: Поперченный, посоленный, o:p/
замученный в неволе я! o:p/
О-о-о, бедный! o:p/
o:p /o:p
Туда-сюда снуют здесь слуги, o:p/
все раскраснелись от натуги. o:p/
Меня на блюде чьи-то руки несут гостям, чтоб съесть от скуки. o:p/
o:p /o:p
Припев o:p/
o:p /o:p
Я лучше плавал бы прилежно o:p/
в чистейшем озере безбрежном, o:p/
чем потонуть во тьме кромешной, в подливке мутной, подгоревшей. o:p/
o:p /o:p
Припев o:p/
o:p/
Я пересох. Восторгов стоны o:p/
неслись мне вслед во время оно. o:p/
Теперь же я черней вороны, лебяжьей нет на мне короны. o:p/
o:p/
Припев o:p/
o:p /o:p
Я прибыл весь в застывшем сале o:p/
из кухонной подвальной дали. o:p/
Но бодро рыцари жевали, под стол шутам куски кидали. o:p/
ЧТОБ НЕБЕСА ИХ ПОКА-Р-Р-РАЛИ!!! o:p/
КРЯ — КРЯ — КРЯ — КРАЛИ!... o:p/
o:p /o:p
Припев o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
О поведении подмастерьев o:p/
o:p /o:p
Вот паренёк с одной девицей o:p/
решили вдоволь порезвиться, o:p/
окно завесив лишь тряпицей и не закрыв замков. o:p/
o:p /o:p
Припев: Чур меня, чур, во веки веков! o:p/
Клянусь Граалем, мы всё наврали. o:p/
Содом и Гоморра, такого позора o:p/
у нас быть не может, прости нас, Боже! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Те двое были в полном раже, o:p/
мы вам подробно всё расскажем, o:p/
всё видно без замочных скважин и без дверных глазков. o:p/
o:p /o:p
Припев o:p/
o:p /o:p
Эй, парень! Ты по крайней мере o:p/
знай толк в приличиях и вере. o:p/
Греши, но запирай все двери и заведи альков. o:p/
o:p /o:p
Припев o:p/
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Старейший немецкий художественный текст неизвестного поэта (первые девять строк) и присоединенная к нему молитва (шесть последних строк). Найдены в монастыре Вессобрунн недалеко от Мюнхена. Датируются не позднее 814 года.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> Миннезингер из Кюренберга — первый известный немецкоязычный лирический поэт.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> Первая женщина-автор лирических стихов на немецком языке. Она же — монахиня и первая женщина-врач.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> Величайший поэт Средневековья, которого называют немецким Данте. Первым начал писать стихи от лица простой женщины.
o:p /o:p
Семейный портрет на фоне эпохи
Горелик Михаил Яковлевич — публицист, эссеист
Горелик Михаил Яковлевич — публицист, эссеист. Родился в 1946 году. Окончил Московский экономико-статистический институт. Постоянный автор «Нового мира». Живет в Москве. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
«Тоня и ее дети» («Tonia i jej dzieci»). Режиссер Марцель Лозиньский, 2011, 57 минут. Марцель Лозиньский — классик польского документального кино. В том же году картина получила «Золотого лайконика» <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> на Международном краковском кинофестивале с формулировкой «За создание произведения, соединяющего лучшие традиции польской документалистики с интеллектуальной смелостью и критической проницательностью».
Недавно фильм был показан (с синхронным переводом) в Международном Мемориале при участии Польского культурного центра и Музея кино в рамках проекта «Документальная среда». Российские зрители фильм увидят разве что на клубных просмотрах — документальные фильмы, тем более такого рода, кассы не сделают.
o:p /o:p
o:p /o:p
Жизнь Тони Лехтман o:p/
o:p /o:p
Обобщенная событийная канва. Тоня Лехтман, девушка из буржуазной варшавской семьи, увлечена коммунистическими идеями — настолько, что даже о любви консультируется с Лениным, что как бы и слишком, свидетельство немалого простодушия. Середина тридцатых. По настоянию родителей, без всякой внутренней мотивации, эмигрирует с ними в Палестину. Встречает молодого человека близких взглядов. Женятся. За подрывную деятельность, как можно понять, вполне невинного свойства, британские власти депортируют их во Францию — муж из Франции. Ничего не стоило остаться, какие-то требовались формальные слова, но с еврейским миром ничего не связывает. И муж такой же.
Франция. Муж оставляет беременную Тоню одну, без средств к существованию, иностранка, в чужом мире, ничего, проживет как-нибудь — у него дела поважней: отправляется воевать в Испанию. Ни тени обиды, поступок мужа естественен: борьба с фашизмом важней семейных обязательств. С тем же успехом муж мог попасть в Испанию из Палестины — Тоня тогда оказалась бы под крылом любящих родителей. Эта возможность, судя по всему, просто не приходила молодым людям в голову, не обсуждается, легконоги, ориентированы на новую жизнь, на прекрасный новый мир, где нет места родителям с их буржуазными и национальными предрассудками.
После поражения республиканцев — муж в лагере во Франции. Приходят немцы — его жизненный путь завершается в Освенциме.
Во время войны Тоня в Лиможе. У нее двое детей, на что живет, непонятно. От депортации в лагерь смерти спасают совестливые французские полицейские. Отправить на смерть ни в чем не повинную молодую женщину с двумя маленькими детьми — как потом с этим жить? Других все-таки отправляли. В случае с Тоней если и рисковали, то не сильно. Но могли бы честно выполнять инструкции.
Война кончается. Тоня отправляется строить новую коммунистическую Польшу. В 49-м сажают за шпионаж в пользу США. Издевательства, пытки, унижения. Отдельная песня — женщина в коммунистической тюрьме, элементарные гигиенические потребности удовлетворить невозможно. Через пять с лишним лет выясняется, что дело ее полностью сфабриковано. Ее выпускают.
Во время следствия и в тюрьме Тоня малость повредилась в уме. Не хотела выходить: мазохизм, сломлена, убеждена в своей виновности, достойное по делам нашим приняли, палачи правы, разоружиться перед партией, искупить грех страданиями, оставьте меня в тюрьме, иначе партия неправа и жить тогда уже совсем невозможно.
В 68-м Тоня уезжает в Израиль. Там же и умерла, сохранив, кажется, верность коммунистическим убеждениям.
o:p /o:p
o:p /o:p
Уровни понимания o:p/
o:p /o:p
Общий вектор общественного сознания в России направлен на невротическое вытеснение исторической памяти. Было и прошло. Да и был ли мальчик? А если и был, что о нем помнить?
Мемориал, где прошла московская премьера, озабочен сохранением памяти. Документированием эпохи жертв и палачей. Не должно быть забыто, уйти в песок. Помнить слезу ребенка и страдание матери. Коммунистический режим, импортированный из Кремля в Восточную Европу, виновен не только в гибели и страданиях прошедших через тюрьмы и лагеря десятков миллионов людей, в разрушении жизней их оставшихся на свободе родственников, но в растлении народов, в растлении не только палачей, но и жертв, в мистификации памяти.
Документирование истории репрессий — благородный и самодостаточный проект: художественная сторона дела опциональна и необязательна.
Но фильм Лозиньского далеко выходит за идеологические рамки. В нем есть то, за что мы любим кино, за что любим искусство: мастерски рассказанная история — увлекательная, захватывающая, заставляющая зрителей забыть себя, погрузиться в вымышленный мир, улыбаться, ужасаться, недоумевать, сопереживать, жить жизнью героев.
Только мир на экране не вымышленный.
Есть еще один уровень с точки зрения художественной — важнейший: психологическая драма.
И еврейский сюжет с тщательно выверенной драматургией. Как если бы это был художественный фильм. Да ведь по существу — художественный.
o:p /o:p
o:p /o:p
Еврейский сюжет o:p/
o:p /o:p
Еврейский сюжет внутренним жизненным сценарием Тони определенно не предусмотрен — грубо навязан извне, настигает Тоню, куда бы ни ступала ее нога.
На каждом жизненном повороте Тоня пытается убежать от (из) еврейского сюжета — он ее драматически настигает. То есть что значит — «пытается убежать»? Никаких сознательных попыток — просто еврейская мотивация, еврейские идеалы, еврейский интерес в ее жизни отсутствуют начисто. Постоянно делает нееврейский выбор и каждый раз, помимо своей воли, оказывается в ситуации, когда, субъективно далекая от еврейства, она определяется внешними обстоятельствами как еврейка, — это внешнее вмешательство в существенной мере определяет ее жизнь. Она предпринимает попытку бегства, кажется, удалось — и вот она опять там же.
И вновь, и вновь.
Как все это понимать: случайное стечение обстоятельств? судьба? но что такое судьба? Б-г?
Зрители ответят на этот вопрос по-разному.
С Б-гом Тоня уж точно никак бы не согласилась.
Она едет в Палестину только по настоянию родителей, никакого национального сантимента, покидает страну безо всякого сожаления.
В параллель истории Тони можно вспомнить, в частности, эпизоды из жизни Лилианы Лунгиной («Подстрочник») и Леи Трахтман-Палхан, рассказанные в ее автобиографической книге <![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> . Обе, как и Тоня, привезены родителями в Палестину — обе ее покинули: Лилиану увезла мама во Францию, Лею, как и Тоню, выслали мандатные власти за подрывную деятельность, столь же, впрочем, невинную, но только выслали в СССР.
Для девочки Лилианы, тогда еще не Лунгиной, Палестина была выключенными из истории и культуры задворками мира с какими-то средневековыми заморочками — страной, с которой она никак себя не идентифицировала. То ли дело Франция! <![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>
Для девушки Леи высылка — внутренняя драма. Коммунизм в голове — сердце оставила в Палестине. Тосковала в чужой, холодной стране. О родителях, о маленьком песчаном Тель-Авиве.
У Тони коммунизм в голове и в сердце. И еще принципиальная разница: Лея ориентирована была не на социальную деятельность — на семью, потому в СССР и уцелела, и все равно, с такой биографией — чудо, что уцелела.
Во время войны существование Тони и ее детей на ниточке. Любопытная деталь. Когда вышел приказ о регистрации, у многих лиможских евреев было убеждение: уклоняясь, мы тем самым как бы декларируем, что стыдимся своего происхождения. Ничего не понимали.
После войны Тоня могла попытаться добраться до Палестины. Даже в голову не приходило. Притом что там родители. Вернулась в Польшу в самый разгар послевоенного антисемитизма. Покинула Польшу только в середине шестидесятых, на новом витке государственного антисемитизма, когда уже оставаться было невозможно. Практически и не осталось никого — тысяч шесть евреев на всю Польшу.
После ареста Тони Веру и Марцеля отправили в детдом. Их встретила красивая белокурая женщина, Вера помнит прическу, золотистый крендель, пик послевоенной моды. Столько лет прошло. Кто вы? Вера не знала, как ответить, сказала: мы дети коммунистов. А! — сказала женщина, — опять жидо-коммунисты. Формально по-польски звучит не с таким отвращением, как по-русски, но содержательно ничем не отличалось.
Такая была красивая, сразу понравилась. До восхищения.
Из письма детдомовки Веры к тель-авивской бабушке. Бабушка, забери меня, мне плохо, я голодаю. Я хочу к тебе, но это невозможно: я знаю, в Палестине чума.
После освобождения Тоня и ее дети жили в крайней бедности. Тоня делала луковый салат. Марцель: ты что кормишь меня жидовской пищей?! Тоня: ведь ты и сам еврей. Я еврей?! Я?! Что ты такое говоришь?! Да я всегда этих жидов бил!
Что чувствовала Тоня?
Последние годы Тоня прожила в Тель-Авиве. Могла бы всю жизнь. Кроме варшавской юности. И не ценой измены своим убеждениям. Будто в Палестине, а потом и в Израиле коммунистов не было! Сионистский мейнстрим в мандатные времена и в первые десятилетия независимости был социалистическим, СССР любили, полно людей со сходными взглядами. Не хотела. Естественней идентифицировать себя с Польшей.
Не покинула бы Палестину, прожила бы другую жизнь.
И дети тоже.
Все равно вернулась, но уже со сломанной жизнью, не жить — доживать.
Вера теперь в Тель-Авиве. Марцель — в Стокгольме.
o:p /o:p
o:p /o:p
Как это сделано o:p/
o:p /o:p
На протяжении часа три пожилых человека сидят за столом и разговаривают. Говорящие головы. Действие не выходит не то что за стены комнаты — из-за стола не встают. Никакого внешнего контекста, никакого внешнего иллюстративного оживляжа — то, что обыкновенно в таких случаях широко практикуется.
Дом-двор-пароход-самолет-паровоз-океан-бульвар.
Старая хроника. Или фото.
И сегодня утром снимали. Как раз в этом месте.
Тогда черно-белое — сейчас в цвете.
Как все изменилось!
Или: как не изменилось.
Паровозный дым, солнце на волне, пальмы на бульваре Ротшильда.
Представляется естественным — как без этого? Взять хотя бы «Подстрочник» и следующие в его русле фильмы.
Здесь аскетичное черно-белое кино. Камерный — в собственном смысле слова — фильм. Жестко поставленные рамки. Есть фотографии, но это не фотографии, с которыми отдельно работает автор фильма, — фотографии на столе, собеседники их во время разговора рассматривают. Во всяком случае, так это видит зритель. Есть еще фрагменты фильма в фильме. Но этот фильм тоже не приставлен извне: показан за столом, его смотрят, обсуждают.
Полное единство места, времени и действия.
Монтажные стыки не воспринимаются как таковые: беседа кажется непрерывной.
За столом дети Тони, Вера и Марцель, и режиссер фильма — тоже Марцель — правда, не в качестве режиссера, не автор, стоящий над фильмом, не модератор — один из них, герой второго плана, фоновый участник, подростковый приятель и тезка другого Марцеля, десятки лет знает своих собеседников и их покойную мать знал.
Марцель Лозиньский подготовил копии протоколов допросов Тони, ее воспоминания о следствии и тюрьме. Сидящие рядом мужчина и женщина читают, обмениваются мнениями.
Чего-то они не знали, что-то забыли.
Что-то помнили, но воспринимали в детстве совсем не так, как сейчас.
В сущности, они не только вспоминают — они проживают свое детство.
Фильм в фильме тоже снял Лозиньский — десятки лет назад, молодой выпускник варшавской киношколы. Тоня и две ее сокамерницы вспоминают тюремный быт. Фильм был запрещен. Понятно.
Особенность происходящего — сложность с контекстом. Контекст собеседников доступен зрителю только отчасти. Как если бы вы оказались в незнакомой компании. В книге в таком случае задающие контекст сведения сообщаются если не в авторском тексте, то в сносках и примечаниях. В фильме — голос за кадром.
Но в фильме Лозиньского повествовательный и поясняющий авторский голос отсутствует, скромный автор вовсе не рвется в комментаторы, даже и не пытается облегчить зрителям понимание. Говорит с друзьями юности, не рассказывать же, что им и так хорошо известно. И они тоже — разговаривают друг с другом. Естественно, понимают друг друга не так, как мы их.
Вспомним тот же «Подстрочник». Эстетика фильма включает эффект присутствия. Мы в гостях. Обаятельная пожилая дама обращается к нам, к каждому конкретному зрителю, сейчас чай с вареньем предложит. Такая форма общения предполагает ясность рассказа, отсутствие лакун, во всяком случае — явных.
В фильме Лозиньского все принципиально по-иному. К нам никто не обращается. Ждать варенья бессмысленно. Эстетика действия предусматривает зрителя не в большей мере, чем любой художественный фильм.
Есть личный семейный контекст, принципиально нам недоступный, — есть общий контекст: исторический и общественно-политический. Ну например, довоенный и послевоенный польский антисемитизм. Ассоциирование в массовом сознании евреев и коммунистов. Без любви к тем и к другим. Государственный антисемитизм, фактически сделавший Польшу в конце шестидесятых judenfrei. Выжившие в Освенциме, избежавшие расстрельных рвов, вернувшиеся из эмиграции, вчерашние партизаны, бойцы гетто, участники Варшавского восстания. Ненавидящие коммунистический режим и верные солдаты партии. Двери открыты: катитесь на все четыре стороны. Напрасно вы выжили, напрасно вернулись. И покатились. Даже такие преданные стране и режиму люди, как Тоня.
Девочка Вера сокрушается о чуме в Палестине, откуда взяла, не было чумы, зовет Страну Израиля Палестиной, будто никакого Израиля нет еще.
Зрителю хорошо бы знать, что Лимож находился во время войны в зоне Виши. И еврейскую ситуацию там тоже хорошо бы знать. И понимают ли молодые зрители, каким образом Тонин муж оказался после Испании во французском лагере? Да и интересно ли это им?
В разговоре возникают отдельные фрагменты жизни. Составить целостную картину. Герои делают это за столом, мы — глядя на экран. И мы, и они — в процессе. В конечном итоге фрагменты склеиваются, но многое остается для нас закрытым. Мы видим пожилых людей. Из разговоров узнаем об эпизодах их детства. В сущности, мы знаем о них так мало. Манера поведения, реакция на прошлое, друг на друга, речь. Как они жили эти годы? Каковы их взгляды? Жизненные обстоятельства? Пропасть, разделяющая детство и старость, остается незаполненной. Так, отдельные факты. Многие важные мотивы остаются неизвестны. Почему Тоня уехала в Израиль? Сама захотела или вслед за Верой? Остаются неизбежные лакуны, неясности, вопросы, но это лишь увеличивает убедительность, остроту, художественную выразительность.
Я говорил о мастерски рассказанной истории. Но классический рассказ предполагает рассказчика-монологиста. Здесь его нет. История рассказывается всеми, у всех свой взгляд на нее. «Расемон» бросает тень на экран. Для пущего сходства вызывается дух Тони (протоколы, воспоминания, юношеское кино Лозиньского) — как дух самурая.
o:p /o:p
o:p /o:p
Брат и сестра o:p/
o:p /o:p
Детство Тониных детей разрушено. После возвращения в Польшу — в детском доме. Не нужны. Как забыть?
Социальная работа выше материнских обязательств.
Великая историческая эпоха.
Новая Польша.
Пафос построения социализма.
С другой стороны — проблемы с жильем, дети без присмотра, без какой бы то ни было помощи. Да и вообще — не может уже Тоня ответить, умерла, раньше надо было спрашивать. А была бы жива — могла бы?
Когда муж ушел воевать с Франко, Гренада, Гренада, Гренада моя, приняла как должное. Сама поступила бы так же.
А дети — нет. Не приняли.
Недолгая жизнь Веры и Марцеля с матерью.
Потом опять детдом после ареста.
После освобождения — сложные отношения, отчуждение, взаимные обиды.
Психиатрическая больная, лечится электрическим шоком, без зубов, здоровье расшатано, чудовищно выглядит, чудовищно одета, чучело на помеле — дети стесняются. В трамвае делали вид, что не с ней едут. Ничего не понимает. Несет околесицу. Какие-то дикие взгляды.
Не такую мать ждали.
Вера: в детдоме лучше, чем с тобой.
Бедная Тоня.
Чувство вины у совестливой Веры, переживает прошлое, страдает.
У Марцеля счастливая способность амнезии, вытесняет из памяти плохое. Она помнит — он нет.
Я так сказал?
Так было?
Не помню. Совсем.
Ничего травмирующего не помнит.
И по отношению к себе, и в своих поступках. Жидо-коммунистов не помнит. Как жидов бил. Как избегал страшную после тюрьмы мать. Нуждающуюся в нем. Не помнит не потому, что был маленький, во всяком случае, не только потому — из-за устройства памяти.
Старшая сестра. Мать на работе, потом в тюрьме. Всегда защищала, дралась с мальчишками, заботилась. Такой маленький, уязвимый, беззащитный. Внутренне в нем нуждалась, мать неизвестно (известно) где, брат — единственный родной человек в чужом враждебном мире.
Так с детства.
С возрастом не прошло.
А у него прошло.
Детство где-то бесконечно далеко.
Сестра далеко: где Стокгольм и где Тель-Авив?
Что общего у Стокгольма с Тель-Авивом?
Своя жизнь.
У каждого своя.
Все это переживается на наших глазах с высокой степенью интимности.
С крайней эмоциональной сдержанностью.
Вера не предъявляет претензий даже самого тонкого свойства.
Тихое, сглаженное десятками лет разлуки, привычное страдание.
Отношения людей асимметричны.
Как правило.
Она это давно поняла.
И приняла.
Для Марцеля все оживает.
Предстает в новом свете.
Брат и сестра.
Два пожилых человека.
Семьдесят плюс. Ближе к восьмидесяти.
Жизнь в значительной мере прожита.
Изменить ничего нельзя.
Вот все сейчас перед ними.
Вдруг Марцель говорит: я люблю тебя.
o:p /o:p
Дальше идут титры.
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Лайконик — в польском фольклорном искусстве персонаж в стилизованном костюме средневекового татарского всадника.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> Трахтман-Палхан Лея. Воспоминания. Из маленького Тель-Авива в Москву. М., Иерусалим, «Мосты культуры», «Гешарим», 2010. См. также: Горелик Михаил. Сорок лет в пустыне. — «Лехаим», 2011, № 5; Горелик Михаил. Тряпичная кукла с порцелановой головой. — «Новый мир», 2011, № 5.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> Горелик Михаил. Европеянка. — «Еврейское слово», 2009, № 16.
o:p /o:p
Опыт быстрого чтения
Лекманов Олег Андершанович — филолог, литературовед
Лекманов Олег Андершанович — филолог, литературовед. Родился в 1967 году в Москве. Окончил Московский педагогический университет. Доктор филологических наук, профессор факультета филологии НИУ ВШЭ. Автор книг «Книга об акмеизме и другие работы» (Томск, 2000), «Осип Мандельштам» (М., 2004) и др. Живет в Москве.
Памяти О. Р.
Сложнейшие «Стихи о неизвестном солдате» (1937) — это и камень Грааля, но и камень преткновения для исследователей творчества Мандельштама. Очень многие мандельштамоведы в какой-то момент своей научной биографии решали для себя — «готов!» — и принимались упоенно анализировать самое длинное и самое темное стихотворение поэта. Было сделано множество ценнейших наблюдений, выявлено несколько убедительнейших подтекстов, однако стихотворение в целом продолжает оставаться загадочным и недопонятым.
И вот мы тоже ощущаем, что не в силах более противиться желанию предъявить результаты собственного (недо)понимания этого эпохального текста, так сказать, urbi et orbi.
Самым удобным способом интерпретации показалось нам построфное комментирующее чтение стихотворения [1] . Отброшенные поэтом строфы и строки для объяснения темных мест не привлекались. Ловлей подтекстов в этой работе мы тоже почти не занимались, а из наблюдений предшественников самыми существенными для нас оказались два — одно более общее, другое более частное.
Более общее — вчитываясь в строки «Стихов о неизвестном солдате», нужно все время держать в памяти ключевой микрофрагмент из мандельштамовского «Разговора о Данте» (1933): «Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку» [2] .
Более частное наблюдение — современники автора «Стихов о неизвестном солдате» хорошо помнили то страшное и символическое впечатление, которое на все человечество произвело появление в небе аэропланов в годы Первой мировой войны. Теперь и Небо воспринималось не как утешитель и свидетель, а как активный участник кровопролитных сражений. Соответственно, новый смысл обрела привычная для описания войны метафора Апокалипсиса — кары Неба человечеству за его грехи.
Разумеется, очень часто мы будем совпадать в своих гипотезах и выводах с филологами, анализировавшими «Стихи о неизвестном солдате» до нас, а иногда — просто использовать их замечательные находки. После некоторых колебаний и размышлений мы решились в данном варианте работы не загромождать текст бесчисленными ссылками.
Заранее просим прощения у всех без желания обиженных.
(I) Этот воздух пусть будет свидетелем,
Дальнобойное сердце его,
И в землянках, всеядный и деятельный,
Океан без окна — вещество.
Под «воздухом» здесь, очевидно, подразумевается небо в двух его воплощениях: (а) небо над полем битвы со стучащим «сердцем» — военным аэропланом в эпицентре (в которое, возможно, целится дальнобойное орудие и которое само может выступить в роли дальнобойного орудия) и: (б) небо («воздушный океан»), заполняющее собой окопы и землянки (в землянках, в отличие от обыкновенных домов, нет окон, поэтому и небесное «вещество» изображается у Мандельштама «без окна»).
Почему окопный «воздух» тоже описывается как небо? Потому, что смерть теперь правит бал и на небе, и на земле, и под землей, следовательно, разница между «воздухом» над землей и под землей утрачивается. Соответственно, оба неба призываются в свидетели на грядущем Страшном суде (ср. идиому: «Призываю небо в свидетели!»).
(II) До чего эти звезды изветливы!
Все им нужно глядеть — для чего? —
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан без окна, вещество…
«Судебная» тема развивается. Картина дополняется образом звезд-доносчиц («изветливы» от «навет»). Доносят они Богу на небо, которое раньше выступало в роли «судьи» над воюющими людьми или величественного «свидетеля» кровопролитных битв (ср., например, соответствующие сцены «Войны и мира»), а теперь само оказалось втянутым в мясорубку войны и потому «осуждается».
(III) Помнит дождь, неприветливый сеятель,
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.
Начнем с попытки объяснения 3 — 4-й строк этой строфы: словосочетание «клин боевой» наводит на мысль, что «крестики», метящие воздушный «океан», — это аэропланы с деревянными («лесистыми») крыльями и фрагментами корпуса. Но «лесистые крестики» — это, без сомнения, и деревянные могильные кресты. Таким образом, небо и земля как место гибели и даже возможного упокоения сражающихся солдат вновь и уже более явственно предстают в стихотворении отраженными друг в друге (еще более прямо об этом будет сказано в V строфе). Если принять эту интерпретацию, то «дождь» из первой строки третьей строфы без насилия над текстом превратится в «неприветливого сеятеля» сбрасываемых с аэроплана бомб, без разбора дарующих свою страшную «безымянную манну» находящимся внизу солдатам. Тогда эпитет «безымянная» (смерть) из второй строки этой строфы встает в один ряд с эпитетом «неизвестный» (солдат) из заглавия всего стихотворения.
(IV) Будут люди, холодные, хилые,
Убивать, холодать, голодать —
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.
В этой строфе для нас самое интересное — соотношение прошедшего и будущего времен. Ничто не мешало Мандельштаму начать третью строку со слова «хоть», и тогда бы смысл высказывания был предельно ясным: люди все равно будут убивать друг друга, хотя трагический символ прошедшей войны (могила неизвестного солдата), казалось бы, мог послужить для сражающихся предостережением.
Но у Мандельштама, кажется, речь идет о другом: люди еще только «будут» убивать друг друга на полях сражений, а «неизвестный солдат» уже «положен» в своей «знаменитой могиле». Подобно тому как одно пространство (земля) в стихотворении отражается в другом (небе), а небо — в земле, будущее в «Стихах о неизвестном солдате» отражается в прошлом, а прошлое — в будущем (ср. далее в финальной строфе стихотворения: «…и столетья / Окружают меня огнем» — и предшествующие и грядущие).
(V) Научи меня, ласточка, хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать.
В этой строфе (где впервые в стихотворении появляется «я») план укрупняется: перед нами уже не обобщенные поле битвы, звезды, дождь и люди, а конкретный падающий самолет и погибающий в нем летчик. Особое внимание обратим на словосочетание «воздушной могилы» из 3-й строки этой строфы, в котором сконденсировано намеченное ранее со(противо)поставление земли и неба. Поскольку теперь убивают и в небе, прямо там можно хоронить, как раньше хоронили в земле (к которой неуклонно приближается «ласточка»-аэроплан). Не обойтись в данном случае и без указания на многократно отмеченный подтекст — «Демон» Лермонтова с его строками: «На воздушном океане / Без руля и без ветрил / Тихо плавают в тумане / Хоры стройные светил».
(VI) И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как горбатого учит могила
И воздушная яма влечет.
Еще один крупный план. Цитата из «Демона» ассоциативно притягивает в стихотворение упоминание о Лермонтове — поэте и воине, за судьбу которого автор (тоже поэт) готов дать «строгий отчет» погибающей ласточке-аэроплану (или читателю? или Богу на Страшном суде?) Здесь впервые в «Стихах о неизвестном солдате» намечается собственное местоположение Мандельштама относительно участников всех прошлых и будущих войн. Он — рассказчик о трагических событиях. Авиационный термин уже и того времени «воздушная яма» перекликается в строфе с «воздушной могилой» из предыдущего четверостишия.
(VII) Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры…
Здесь — возвращение общего плана. Изображаются звезды — символ карающего неба, доносчики на Страшном суде («ябеды») и, возможно, — похожие на падающие звезды, сбрасываемые с аэропланов бомбы. Кроме того, поэт развивает возникшую еще в зачине стихотворения тему еды и голода на войне («всеядный» (I) — «манна» (III) — «голодать» (IV) — «виноградинами», «ягодами», «жиры» (VII). Но наверное, самое главное для нас — это отметить впервые заявленную в комментируемом фрагменте тему губительного света, падающего на землю с неба, не света жизни (традиционная интерпретация этого мотива в поэзии), а света смерти. В VII фрагменте содержится ответ на вопрос II строфы: «для чего» звездам «нужно глядеть» на поле боя? Для того чтобы угрожать человечеству карой небесной.
(VIII) Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей,
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.
В строфе развивается тема смертоносного света, в 1 — 2-й строках, как становится ясно из черновиков к стихотворению, освещающего давние наполеоновские кровопролитные битвы в Египте и Сирии добивающего (в 3 — 4-й строках) до современности, бьющего в глаза современному поэту-рассказчику.
(IX) Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте —
Доброй ночи, всего им хорошего
От лица земляных крепостей.
В строфе, во-первых, возобновляется со(противо)поставление неба (как «пустоты») и земли («землянки» здесь — это и окопы на поле боя, и могилы) и, во-вторых (в 3 — 4-й строках), вводится тема милосердной ночной (и земляночной) тьмы, неброско противопоставленной жестокому свету. В первой строке IX строфы начинает разворачиваться циническая тема коммерческой выгоды войны («задешево»), которая будет продолжена в X, XIV и XVI строфах.
(X и XI) Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей —
За тобой, от тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте —
За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил, —
Развороченных — пасмурный, оспенный
И придымленный гений могил.
Попробуем прочитать эти две, на первый взгляд, очень темные строфы, опираясь на нашу интерпретацию предыдущих фрагментов «Стихов о неизвестном солдате» и тем самым проверяя их на убедительность.
«Небо окопное» — это «воздух» из «землянок» (ср. в I строфе), который образует нерасчленимую целокупность с подлинно небесным «воздухом» (ср. в том же I четверостишии). Целокупность эта складывается потому, что в небе теперь, как и на земле, убивают («небо смертей»).
Эпитеты «неподкупное» и «крупных оптовых» продолжают коммерческую тему, начатую в IX строфе.
Строки «За тобой, от тебя, целокупное, / Я губами несусь в темноте» развивают автометаописательную тему поэта, рассказывающего о войне (ср. в VI строфе) в спасительной тьме (ср. в IX строфе), сменившей апокалипсическую вспышку света (ср. в VII и VIII строфах). А в целом образ несущегося в темном небе над полем битвы поэта, обрамленный мотивами, уже встречавшимися нам в VI строфе, «лермонтовской» строфе «Стихов о неизвестном солдате», как представляется, провоцирует читателя вообразить себе главного героя произведения, цитировавшегося в этой строфе, — демона.
(XII) Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека —
Им обоим найдется работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка —
Эй, товарищество, — шар земной!
В зачине строфы ратный труд солдат-пехотинцев сопоставляется с пением погребального хора (в том числе и хора ночных светил? — ср. «стройные светила» во фрагменте лермонтовского «Демона», цитируемом в V строфе) и тем самым — с «трудовой деятельностью» поэта, поющего скорбную песнь « над » телами погибших ранее воинов (и одновременно, знаковых персонажей истории мировой литературы). Эти воины перечисляются в неслучайном порядке: от Новейшего времени (Швейк) к Возрожденью (Дон Кихот) и Средневековью (рыцарь). Во второй половине комментируемого фрагмента литературные ассоциации, как представляется, дополняются живописными в духе Босха или Брейгеля-старшего. В финальной строке впервые в стихотворении возникает граждански окрашенная («товарищество») и по сути своей — оптимистическая тема взаимовыручки людьми друг друга.
(XIII) Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска,
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится —
Чаша чаш и отчизна отчизне —
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья — Шекспира отец…
Перевод с темного языка стихотворения на общечеловеческий: для того ль человечество тысячелетиями развивало свой интеллект, чтобы он послужил созданию смертоносного оружия? Нет! Интеллект развивается от служения жизни, а не смерти, и тогда вмещающий его череп становится похожим на храм, вырастая до звезд и порождая таких титанов мысли, как Шекспир.
(XIV) Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Как бы обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.
Ясень и явор — это деревья. То есть Мандельштам возвращается к образности III строфы, где изображались аэропланы с деревянными деталями корпуса, и V строфы, в которой описывалось падение аэроплана на землю (хотя, разумеется, детали аэропланов не делались из ясеня и явора). По-видимому, и в комментируемой строфе речь идет о том, как подбитый аэроплан «мчится» к земле, к месту, где его изготовили («в свой дом»), «чуть-чуть» красный от стыда за то, что был использован в военных целях. «Обмороками» (смертями) «затовариваются» (опять слово из коммерческого лексикона) «оба неба», читай — и земля, и небо, в котором теперь тоже идет война. «Тусклый огонь» здесь — символ тлеющего огня войны, всегда готового разгореться в яркое пламя (о губительном свете см. в VII и VIII фрагментах).
(XV) Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный —
Эта слава другим не в пример.
Вероятно, имеется в виду борьба прогрессивной, разумной части человечества (Советского Союза? — ср. «союзно» в 1-й строке разбираемой строфы) против войны — за «воздух прожиточный», за «мирное небо над головой». В этом небе будут летать не военные бомбардировщики и истребители, а самолеты, перевозящие мирных пассажиров, пусть даже это будет избыточной роскошью в сравнении, например, с железнодорожным передвижением. Такая миролюбивая политика достойна прославления, и только она способна превратить маячащий у человечества впереди «провал» («воздушную яму», «воздушную могилу») в «промер» — четко просчитанный путь (вторая строка строфы).
(XVI) И сознанье свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?
От разговора о выборе целой страны Мандельштам переходит к разговору о личном выборе конкретного человека. У него теперь появилась возможность жить не в вечном страхе ожидания войны и не губить свой драгоценный интеллект (мозг, «голову») в окопах (или в размышлениях над созданием нового оружия). Строфа завершает страшную тему голода на войне, начатую еще в зачине «Стихов о неизвестном солдате».
(XVII) Для чего ж заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Если белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчатся в свой дом?
Чуешь, мачеха звездного табора,
Ночь, — что будет сейчас и потом?
Для того ли небо было создано таким прекрасным и мирным, чтобы стать еще одной ареной войны, чтобы с него падали на землю там же и изготовленные самолеты (и бомбы)? Хоть ты, темная ночь, не мать, но мачеха испускающих яркий губительный свет звезд, подобно гадающей цыганке, ответь: что ждет человечество в ближайшем и отдаленном будущем?
(XVIII) Напрягаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом…
— Я рожден в девяносто втором…
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья, с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.
Как и итоговый вариант «Высокой болезни» Бориса Пастернака, темное стихотворение Мандельштама завершается чрезвычайно внятным, прозрачным фрагментом. «Я» утрачивает индивидуальные черты, перестает быть поэтом и вливается в ряды призывников на грядущей мировой войне.
Хотелось бы упредить два почти неизбежных упрека из многих, которые могут возникнуть после прочтения этой заметки.
Первый: в заметке не прослежен сюжет «Стихов о неизвестном солдате», а, в лучшем случае, лишь вязка мотивов мандельштамовского текста. Соглашусь, но с одной оговоркой: на мой взгляд, сквозного сюжета в стихотворении и нет, а представляет оно собой именно что хаотическое развертывание нескольких мотивов.
Второй упрек: очень многие образы все равно остаются неясными. С этим соглашусь тоже, но со второй оговоркой: задача моего быстрого чтения состояла не в попытке прояснения всех образов стихотворения, а в стремлении прочитать текст на одном дыхании, охватить его единым взглядом.
Если это хоть в какой-то степени удалось, буду считать свою задачу выполненной.
[1] Как известно, стихотворение Мандельштама насчитывает множество редакций. Мы разбирали его по тексту, напечатанному в издании: Мандельштам О. Э. Полное собрание сочинений и писем: в 3-х тт. Т. 1. М., 2009, стр. 228 — 231.
[2] Мандельштам О. Э. Полное собрание сочинений и писем: в 3-х тт. Т. 2. М., 2010, стр. 166.
Тайнопись
Вера Кимовна Зубарева — поэт, прозаик, литературовед
Вера Кимовна Зубарева — поэт, прозаик, литературовед. Родилась в Одессе. Профессор Пенсильванского университета. Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики. Пишет на русском и английском. Лауреат международной премии им. Беллы Ахмадулиной. Публиковалась в журналах «Вопросы литературы», «Нева», «Новая Юность», «Посев» и др. Живет в Филадельфии. В «Новом мире» печатается впервые.
Публикуемая статья входит в книгу «Тайнопись», посвященную творчеству Беллы Ахмадулиной. Книга готовится к печати. Все стихи Беллы Ахмадулиной цитируются по изданию: Ахмадулина Белла. Полное собрание сочинений в одном томе. М., «Альфа-книга», 2012.
Говоря о стихах Ахмадулиной 80-х годов, Михаил Эпштейн справедливо отмечает, что в них «возрастает значение точно зафиксированной даты». Он указывает на то, что «впервые в русской поэзии предпринимается попытка систематически раскрывать своеобразие не сезона или месяца („Апрель”, 1959; „Осень”, 1962), а отдельного дня, соединить лирико-философские обобщения с повседневной записью малейших изменений в жизни природы („Пишу: октябрь, шестнадцатое, вторник — и Воскресенье бабочки моей...” и т. п. — „День 12 марта”, 1981; „Ночь на 30 апреля”, 1983, и др.)» [1] . Иными словами, если традиционно стихи о природе отражали лирические раздумья поэта наряду с его философскими взглядами, то Ахмадулина добавляет к этому конкретику отдельного дня. Это совершенно справедливое наблюдение над явной стороной ее стихов требует дополнения относительно их скрытой стороны.
Почти любое стихотворение Ахмадулиной, включающее дату как часть поэтического текста, построено по схеме таинства: зримая его часть связана с конкретикой отдельного дня, а оборотная восходит к библейским образам, событиям и фигурам, непрямо выводящимся из пространства действий. Поэтому ее стихи, посвященные конкретным датам, нельзя назвать «повседневной записью малейших изменений в жизни природы». «Запись малейших изменений» есть даже не систематизация, а простое перечисление . Но перечень не создает целостной картины, хоть и основан на включении большого количества деталей. Создатель перечня не всегда отличает главное от второстепенного, и поэтому его примечания к «перечню» могут остаться разрозненными заметками. У Ахмадулиной же богатство деталей продиктовано строгим отбором и иерархией. Иерархия проявляет себя в выборе центрального образа и тщательном выстраивании его ближайшего и более отдаленного окружения.
Например, приведенное Эпштейном стихотворение «Бабочка» (1979) отсылает к идее воскрешения: 16 октября — преддверие празднования перенесения мощей Лазаря (17 октября по старому стилю). При этом Ахмадулиной удается избежать аллегоричности, поскольку ее задача — сопоставление увиденного с умопостигаемым, а не пересказ Библии. В этом она следует модели Паламы, для которого мир суть зеркало, отражающее Бога [2] .
В стихотворении «Вослед 27-му дню февраля» (1981) появляется такой, казалось бы, странный образ:
День-Божество, вот я, войди в меня,
лишь я — твое прибежище ночное.
Но если учесть, что 27 февраля 1981 г. выпадает на день Святого равноапостольного Кирилла (Словенского), то метафора становится вполне ясной — поэт, работающий при мерцании свечи, и есть «прибежище» кириллицы, соединяющей его с пушкинским «днем чудесным»: «День хочет быть — день скоро будет — есть / солнце-морозный, все точь-в-точь: чудесный». В стихотворении обыгрывается ситуация Непорочного зачатия: кириллица выступает пособником рождения, духом, реализующим вместе с лирической героиней День-Божество на ее странице и так дающим ему вторую жизнь.
День пред весной, снега мой след сотрут.
Ты дважды жил и не узнал об этом.
День один, день второй, день третий… Именно к такому ряду относится «День: 12 марта 1981 года». В Ветхом Завете день — герой Сотворения, дитя Творца, интегральное понятие, вбирающее в себя все созданное от вечера до утра. Точно так же героем стихотворения «День: 12 марта…»является День. Поэт словно перенимает эстафету, добавляя к числу месяц и год как уникальное имя Дня. В этом стихотворении День предстает как ипостась Сына.
День: 12 марта 1981 года
Дни марта меж собою не в родстве.
Двенадцатый — в нем гость или подкидыш.
Черты чужие есть в его красе,
и март: «Эй, март!» — сегодня не окликнешь.
День — в зиму вышел нравом и лицом:
когда с холмов ее снега поплыли,
она его кукушкиным яйцом
снесла под перья матери-теплыни.
Я нынче глаз не отпускала спать —
и как же я умна, что не заснула!
Я видела, как воля Дня и стать
пришли сюда, хоть родом не отсюда.
Дню доставало прирожденных сил
и для восхода, и для снегопада.
И слышалось: «О, нареченный сын,
мне боязно, не восходи, не надо».
Ему, когда он челядь набирал,
все, что послушно, явно было скушно.
Зачем поземка, если есть буран?
Что в бледной стыни мыкаться? Вот — стужа.
Я, как известно, не ложилась спать.
Вернее, это Дню и мне известно.
Дрожать и зубом на зуб не попасть
мне как-то стало вдруг не интересно.
Я было вышла, но пошла назад.
Как не пойти? Описанный в тетрадке,
Дня нынешнего пред... — скажу: пред-брат —
оставил мне наследье лихорадки.
Минувший день, прости, я солгала!
Твой гений — добр. Сама простыла, дура,
и провожала в даль твои крыла
на зябких крыльях зыбкого недуга.
Хворь — боязлива. Ей невмоготу
терпеть окна красу и зазыванье —
в блеск бытия вперяет слепоту,
со страхом слыша бури завыванье.
Устав смотреть, как слишком сильный День
гнет сосны, гладит против шерсти ели,
я без присмотра бросила метель
и потащилась под присмотр постели.
Проснулась. Вышла. Было семь часов.
В закате что-то слышимое было,
но тихое, как пенье голосов:
«Прощай, прощай, ты мной была любима».
О, как сквозь чернь березовых ветвей
и сквозь решетку... там была решетка —
не для красы, а для других затей,
в честь нищего какого-то расчета...
сквозь это все сияющая весть
о чем-то высшем — горем мне казалась.
Нельзя сказать: каков был цвет. Но цвет
чуть-чуть был розовей, чем несказанность.
Вот участь совершенной красоты:
чуть брезжить, быть отсутствия на грани.
А прочего всего — грубы черты.
Звезда взошла не как всегда, а ране.
О День, ты — крах или канун любви
к тебе, о День? Уж видно мне и слышно,
как блещет в небе ровно пол-луны:
все — в меру, без изъяна, без излишка.
Скончаньем Дня любуется слеза.
Мороз: слезу содеешь, но не выльешь.
Я ничего не знаю и слепа.
А Божий День — всезнающ и всевидящ.
(12 — 13 — 14 марта 1981, Таруса)
В соответствии с православным календарем день 12 марта 1981 года пришелся на четверг первой седмицы Великого поста и был посвящен Таинству покаяния. Он отмечается покаянными молитвами и воспоминаниями крестной смерти и воскресения Христа. По-видимому, прочтение в природе одной из важнейших страниц истории покаяния, о которой речь пойдет ниже, и легло в основу сюжетной канвы «Дня: 12 марта…». И не только прочтение — проживание события лирической героиней, сделавшей его частью своего духовного опыта.
В отличие от символистов, идущих от символики чисел и деталей, Ахмадулина не кодирует свое произведение. Как раз наоборот — она старается раскодировать реальность, отыскивая скрытые признаки, по которым восстанавливается ее связь с неизреченной реальностью. «День: 12 марта…» не исключение. Не поэт, но природа наделяет его столь значимым числом. И «стих глядит, что делает природа», пока автор, отталкиваясь от реальной даты, пытается прозреть все знаки и связи, позволяя стиху быть , коль тот «тайну сохранит и не предаст словам» («Кофейный чертик»; датировано тем же днем — 12 марта 1981 г.).
Слово «День» всюду в стихотворении пишется с прописной буквы, что свидетельствует о его Божественном происхождении. Дню присущи «воля» и «стать», которые «пришли сюда, хоть родом не отсюда», а в мир он является как «гость или подкидыш» — его подбрасывает с «холмов» зима под «перья матери-теплыни», берущей начало от земли. Неудивительно, что «черты чужие есть в его красе», — красе снежных высот (снег как символика надмирности). Все это подготавливает к восприятию Дня как Дитя Создателя, «подброшенного» в мирское пространство для какой-то, пока неведомой нам, цели.
По мере разворачивания сюжета все очевиднее становится отраженность черт Сына в Дне, чье восхождение сопровождается противоборством сил, заключая в себе одновременно радость и скорбь. День несет с собой борение стихий, восход и закат. Силы для вселенских деяний даны ему свыше — они приходят с «холмов», откуда он берет начало. Однако его нареченная земная мать теплынь опасается за него, потому что думает «не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф. 16: 23).
Дню доставало прирожденных сил
и для восхода, и для снегопада.
И слышалось: «О, нареченный сын,
мне боязно, не восходи, не надо».
Просьба нареченной матери перекликается с просьбой Петра, пытавшегося отговорить Христа от крестной смерти: «И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» (Мф. 16: 22). В дальнейшем эта перекличка с Петром развивается в скрытый сюжет, трансформируясь из оберегающего голоса «матери-теплыни» в «отрекающийся» голос лирической героини. Такое композиционное разделение «голосов» Петра оправдано поведенческой разнонаправленностью этого апостола — от воистину материнской заботы о Христе до отречения. Это проясняет и метафору нареченной матери-теплыни, то есть неприродно связанной с Днем. Именно эта разница в происхождении и послужила искреннему желанию Петра упасти Христа от крестной смерти. Ответ Христа — «думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф. 16: 23) — проясняет как нельзя лучше суть различий Учителя и ученика. То, что Учитель унаследовал при рождении, достанется ученику путем трудного перехода из додуховной ментальности самосохранения в духовную. Ахмадулина отдает эту материнскую сторону Петра земной матери-теплыни, беря на себя голос отступничества. За этим просматривается покаяние за родину православия, отрекшуюся на время от Христа.
У Дня есть и родная мать — зима, понимающая его и способствующая его вьюжному восхождению, чреватому опасностями. Перекличка с восхождением на Голгофу задает внутреннее напряжение и библейский драматизм отношениям, складывающимся в природе. Все движение Дня, его постепенное державное утверждение замешено на мятежности, раскрывающейся в противоборстве стихий и в бунтарском характере «челяди», которую он набирает. Существительное «челядь» еще более подчеркивает царственность Дня. Сомнений нет — мятежный День приходит в мир как царь, что немедленно ассоциирует его с образом Царя Царей. Предпочитая поземке буран как стихию небес, а стылой неподвижности — динамику стужи, День словно следует стезей Того, Кто шел против устоявшихся догм.
Ему, когда он челядь набирал,
все, что послушно, явно было скушно.
Зачем поземка, если есть буран?
Что в бледной стыни мыкаться? Вот — стужа.
Сонм стихий в имплицитном пространстве стихотворения перекликается с изображениями ангелов на иконах. В частности, на известной иконе XVI века «Богоматерь Неопалимая Купина» ближайшие к Богородице ангелы представлены властителями стихий с чашами снега, града и воды. Это еще больше подчеркивает близость Дня к Сыну. Далее выясняется, что у Дня есть… предтеча. Об этом сказано не прямо и как бы с оглядкой, но именно «оглядка», запинка и привлекает внимание к фразе:
Дня нынешнего пред... — скажу: пред-брат
Словно спохватившись, лирическая героиня обрывает себя на полуслове, чтобы подыскать то ли более подходящее, то ли менее опасное определение, что сразу же наводит на мысль о запрещенности термина, начинающегося с «пред».
День-предтеча подробно описан в стихотворении «Строгость пространства. 11 марта» (1981).
Строгость пространства. 11 марта
Что марту дни его: девятый и десятый?
А мне их жаль терять и некогда терять.
Но кто это еще, и словно бы с досадой,
через плечо мое глядит в мою тетрадь?
Одиннадцатый, ты? Смещая очередность,
твой третий час уже я трачу на вчера.
До света досижу и дольше — до черемух,
чтоб наспех не сказать, как стала ночь черна.
А где твоя луна? Ведь только что сияла.
Сияет — но моя, взращенная в стихах.
Да ты, я вижу, крут. Там, где вода стояла,
ты льдины в память льдин возводишь впопыхах.
Я пререкалась с днем как со знакомцем новым —
он знать меня не знал. Он укреплял Оку.
Он сызмальства зари был взрослым и суровым.
Все вензели зимы он возвратил окну.
Он строго проверял: морозно ли? бело ли? —
и на лету сгубил слабейшую из птах.
Он строил из воды умершее былое,
как будто воскрешал храм, обращенный в прах.
День стужу затевал и делал, что затеял:
вязал ручьи узлом, доверье верб терзал.
То гением глядел, то взглядывал злодеем.
Что б Ты о нем сказал, который все сказал?
Когда я, как всегда, отправилась в Пачево,
меня, как свой пустяк, он зашвырнул домой.
Я больше дням твоим, март, не веду подсчета.
Вот воспеватель твой: озябший и больной.
Меж дней твоих втеснюсь в укромный промежуток.
Как сумрачно глядит пространство-нелюдим!
Оно шалит само, но не приемлет шуток.
Несдобровать тому, кто был развязен с ним.
В ночи взывают к дню чернила и бумага.
Мне жаль, что преступил полночную черту
день — выродок из дней, хоть выходец из марта,
один, словно поэт — всегда чужой в роду.
Особенный закат он причинил природе:
уж не было зари, а все была видна.
Стихами о его трагическом уходе
я возвещу восход двенадцатого дня.
Так же как и в «Дне: 12 марта…», параллели между днем одиннадцатым и Иоанном Крестителем устанавливаются за счет взаимодействия дня с окружающим пространством. Его мощь раскрывает себя в возведении льдин, которые вырастают памятниками сакраментальных льдин, восходящих к крещенским морозам («Да ты, я вижу, крут. Там, где вода стояла, / ты льдины в память льдин возводишь впопыхах»), а его умение возводить из воды «умершее былое» и воскрешать «храм, обращенный в прах» («Он строил из воды умершее былое, / как будто воскрешал храм, обращенный в прах») намекает на противостояние разрушившим «храм». К этому добавляются такие типичные для Крестителя характеристики, как суровость, упорство и умение достичь поставленной цели. Восприятие дня одновременно как гения и злодея уходит корнями в историю отношений Иоанна с последователями и врагами: для одних он был гением, а для других — злодеем. Упоминание верб («доверье верб терзал») достраивает связь с Вербным воскресеньем и Пасхой. Сравнение с поэтом-изгоем («день — выродок из дней, хоть выходец из марта, / один, словно поэт — всегда чужой в роду») поясняется способностью дня говорить на языке, мало кому доступном. Язык его деяний преображает природу, проливающую на землю нетварный Свет:
Особенный закат он причинил природе:
уж не было зари, а все была видна.
Деяния дня рождают «знамения времен» на небе, о которых говорил Иисус фарисеям и саддукеям: «...различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете» (Мф. 16: 3). Уход дня назван трагическим («Стихами о его трагическом уходе / я возвещу восход двенадцатого дня»): здесь явно слышится перекличка Крестителя, кончина дня перекликается с трагической гибелью Иоанна, поплатившегося головой за свои моральные принципы.
Вернемся к «Дню: 12 марта…». Предтеча-день, по словам лирической героини, порождает в ней лихорадку, проявляющуюся одновременно как хворь и как лихорадочное ожидание грядущей зари. В момент созерцания восходящего двенадцатого Дня земное и небесное начинают бороться в ней, как они борются и в природе, передающей аналогичную борьбу в душе тех, кто некогда следовал за Спасителем. Лихорадка обостряет в героине противоборство телесного и духовного. Телесное проявляется в «хвори» плоти, которая слепа к «красе» и «блеску бытия» и страшится гласа небес, принесенного бурей. Дух же, напротив, восхищен красой, ниспосланной с высот.
Хворь — боязлива. Ей невмоготу
терпеть окна красу и зазыванье —
в блеск бытия вперяет слепоту,
со страхом слыша бури завыванье.
Озноб, знаменующий собой противоборство хвори, страха и чаяния перемен, ставит героиню перед выбором между телесным и духовным — постелью и метелью. Параллель с библейской ситуацией достаточно прозрачна — перед тем же выбором между следованием за Христом и покоем поставлены апостолы. На этом этапе героиня выбирает постель, временно «отрекаясь» от того, что она так лихорадочно ожидала, трижды мотивируя свой уход разными причинами. В первом случае она ссылается на отсутствие интереса («Дрожать и зубом на зуб не попасть / мне как-то стало вдруг не интересно»). Во второй раз она сваливает вину на пред-брата как источник лихорадки:
Я было вышла, но пошла назад.
Как не пойти? Описанный в тетрадке,
Дня нынешнего пред... — скажу: пред-брат —
оставил мне наследье лихорадки.
В третий раз она мотивирует свой уход усталостью.
Устав смотреть, как слишком сильный День
гнет сосны, гладит против шерсти ели,
я без присмотра бросила метель
и потащилась под присмотр постели.
Все три «отговорки» являются ложными, и в ложности одной из них она тут же кается:
Минувший день, прости, я солгала!
Твой гений — добр. Сама простыла, дура,
и провожала в даль твои крыла
на зябких крыльях зыбкого недуга.
Покаяние, однако, не меняет модуса поведения героини, поскольку оно сделано частично, и «недуг» остается при ней, как он остается при Петре в момент отречения. «Его отречение — свидетельство его немощи, о которой он сам не ведает и о которой узнает, лишь когда исполняется пророчество Господа», — пишет Олеся Николаева [3] . Тем не менее помимо явного покаяния присутствует еще и скрытое, вербализованное в имплицитных самооценках типа «я без присмотра бросила метель / и потащилась под присмотр постели». Ясно, что бросить кого-либо без присмотра имеет негативный оттенок. Так можно сказать только в укор тому, кто это сделал. Подобное скрытое самоосуждение сродни сокрушению Петра, о котором пишет Николаева: «Горький плач Петра, отрекшегося от любимого Господа и не смогшего противостоять искушению, исполнен подобного же сокрушения: „Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?”» [4] .
Предпочтение «присмотра» теплой постели холоду обыгрывает обстоятельства, при которых Петр, греющийся у огня с рабами и служителями, отрекся от Учителя.
«Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет. Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся» (Ин. 18: 17 — 18).
Упоминание сильного ветра как второй причины отречения ассоциируется со страхом Петра перед ветром, поднявшимся на море в тот момент, когда он пошел по волнам.
«И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих» (Мф. 14: 26 — 33).
Как видим, и холод Дня, и желание согреться, и уход проигрывают библейскую ситуацию с максимальной эмоциональной включенностью героини, испытывающей все оттенки чувств — от восхищения до страха и раскаяния. Ассоциации с заточением и казнью усиливаются образом решетки. Сквозь нее героине явлена «сияющая весть о чем-то высшем», но видение не вдохновляет ее, а порождает скорбь.
О, как сквозь чернь березовых ветвей
и сквозь решетку... там была решетка —
не для красы, а для других затей,
в честь нищего какого-то расчета...
сквозь это все сияющая весть
о чем-то высшем — горем мне казалась.
«Кажущееся» горе — свидетельство внутренней неготовности героини узреть благость вести, которая будет явлена ей позже.
Возвращение героини происходит на закате, встречающем ее прощальным и тихим песнопеньем.
Проснулась. Вышла. Было семь часов.
В закате что-то слышимое было,
но тихое, как пенье голосов:
«Прощай, прощай, ты мной была любима».
К кому это обращение? В стихотворении чужая речь звучит дважды. В первый раз — в связи с боязнью нареченной матери: «О, нареченный сын, / мне боязно, не восходи, не надо». Выразив боязнь за нареченного сына, теплынь выказала ему свою преданность, но та же боязнь передалась героине, спроецировавшей трагизм ухода на себя и не пожелавшей жертвовать собой. Точно так же и Петр, искренне пытавшийся упасти Учителя от казни, перенес в дальнейшем эту боязнь на страх за себя. Понимая корни страха, идущего от земного сознания, Иисус прощает своего ученика. Следуя этой парадигме, можно предположить, что прощальные слова любви в стихотворении обращены к двум ипостасям Петра — материнской и отступнической.
Покаянными слезами героини («Мороз: слезу содеешь, но не выльешь») завершается созерцание уходящего Дня. «Покаянные слезы становятся неким жертвенным приношением Господу», — пишет Николаева. «Только Бог отрет всякую слезу с очей (Откр. 7, 17). Однако эти очистительные слезы должны пролиться и стать выражением совершенного покаяния» [5] . «Содеянная» слеза, схваченная морозом — ипостасью высот, застыла совершенным покаянием, во «внутренних очах» героини, и только Бог «отрет» эту слезу с ее очей, даруя вдохновение.
Вопрос Воскрешения — ключевой в жизнеописании Спасителя. Ключевой он и в стихотворении о скончавшемся Дне. Провожая День, героиня раздумывает о том, обернется ли его кончина «крахом» или «кануном любви» (иными словами, продлится ли его существование в царстве тетради).
О День, ты — крах или канун любви
к тебе, о День? Уж видно мне и слышно,
как блещет в небе ровно пол-луны:
всё — в меру, без изъяна, без излишка.
«Канун любви» в библейских терминах намекает на время до Явления Христа ученикам при море Тивериадском и Его троекратного вопроса о любви, обращенного к Петру.
«После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего» (Ин. 21: 1 — 3).
Словно обыгрывая эту ситуацию «кануна», лирическая героиня ищет приметы воскресшего дня в «кануне луны». Пол-луны, воссиявшей в небе, служит тайным обещанием грядущего полнолуния. Наличие полнолуния — необходимое условие для творчества, объединяющего луну «земную» и духовную («Я <…> округлю твой свет, / чтоб стала ты полней, чем знает полнолунье», — написала Ахмадулина в «Луне от ревнивца», 20 — 24 апреля 1983 года.) Духовная луна восходит к Пасхе, которая празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Как пространственное отражение Логоса, День под пером Поэта может воскреснуть только в условиях творческого «полнолуния».
Смена восприятия кончины Дня с горестного на радостное (слеза, любующаяся «скончаньем Дня») связана с песнопением, знаменующим прощение героини. День прощается с матерью-теплынью и с героиней, уверяя их в своей любви. Его «прощание» созвучно «прощению».
Заверение в любви звучит инверсией диалога Христа и Петра, когда Иисус, явившись Петру, трижды вопрошает его:
«Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих» (Ин. 21: 15 — 17).
В стихотворении День не вопрошает, но вместо этого дважды повторяет слова прощания, а в третий раз заверяет лирическую героиню в любви. Самое главное заверение Христа в любви к своим ученикам было сделано во время Тайной вечери: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13: 34).
Заверение Христа в любви к Петру было выражено и в той миссии, которой Он наделил Петра, сделав его пастырем овец и тем самым подтвердив власть Петра над земным. Слова о любви, переданные в пенье голосов во время скончанья Дня, также являются залогом возвращения лирической героине роли «пастыря» своих произведений. В результате покаяния ей открывается благость «сияющей вести»: День-сын принят своим Отцом, назван «Божьим» и наделен свойствами Творца.
Я ничего не знаю и слепа.
А Божий День — всезнающ и всевидящ.
[1] Эпштейн М. Стихи и стихии. Природа в русской поэзии XVIII — XX вв. Самара, ИД «БАХРАХ-М», 2007, стр. 312 — 313.
[2] «Концепция мира как зеркала, отражающего Бога, была явно заимствована св. Григорием Паламой у греческих Отцов. Она основана на учении о Божественных logoi [логосах], присутствующих в творении, берет свое начало у стоиков и последовательно принималась всеми Отцами, начиная со св. Иустина» (Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение. СПб., «Byzantinorossica», 1997. Цит. по: <; ).
[3] Николаева Олеся. «Поцелуй Иуды». Цит. по: </ 3083.htm> .
[4] Там же.
[5] Николаева Олеся. «Поцелуй Иуды». Цит. по: </ 3083.htm> .
Неправильное слово
Сурат Ирина Захаровна — исследователь русской поэзии, доктор филологических наук
o:p /o:p
Сурат Ирина Захаровна — исследователь русской поэзии, доктор филологических наук. Автор книг «Мандельштам и Пушкин» (2009), «Вчерашнее солнце. О Пушкине и пушкинистах» (2009). Постоянный автор «Нового мира». o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Паше, Олегу, Саше, Лене и Евгению Бунимовичу o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Было бы культурным безумием рецензировать сейчас стихи Александра Ерёменко» <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> — это было сказано давно, по поводу вышедшей в 2001 году большой книги стихов «OPUS MAGNUM», издания, по определению самого поэта, «фантастически-академического», содержавшего немыслимый, абсурдно-пародийный комментарий, богатейший иллюстративный материал и уже хрестоматийные, не раз к тому времени опубликованные поэтические тексты, в основном 1980-х годов. Не заостряясь на выражении «рецензировать стихи», предлагаю задуматься о сути высказывания: стихи Ерёменко в 2002 году, очевидно, представлялись Леониду Костюкову явлением, потерявшим вместе с актуальностью и свою художественную ценность, — так, как будто в актуальности она и заключалась. o:p/
Ерёменко никогда не имел широкой популярности, не собирал стадионы, в годы творческой активности почти не печатался. Слава его была настоящей, признание — безусловным, влияние на поэтов-современников — огромным. Избранный в 1982 году Королем поэтов <![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> , он им остался и по сей день для подданных небольшого поэтического королевства, свидетельство тому — книжка «А я вам — про Ерёму», изданная к 60-летию Короля и вся состоящая из стихов, ему посвященных <![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> . o:p/
Сам по себе случай издания такой прижизненной книжки удивителен, и стихи, в ней собранные, подсказывают, откуда в русской поэзии последних десятилетий XX века выросла та ее ветвь, которая дала, скажем, «поэта-правдоруба» Игоря Иртеньева и так пышно расцвела явлением Тимура Кибирова и Дмитрия Пригова. Вот, например, выразительный поэтический портрет Ерёменко — стихотворение, посвященное ему Игорем Иртеньевым: o:p/
o:p /o:p
На Павелецкой-радиальной o:p/
Средь ионических колонн o:p/
Стоял мужчина идеальный o:p/
И пил тройной одеколон. o:p/
o:p /o:p
Он был заниженного роста, o:p/
С лицом, похожим на кремень, o:p/
Одет решительно и просто — o:p/
Трусы, o:p/
Галоши o:p/
И ремень. o:p/
o:p /o:p
В нем все значение имело, o:p/
Допрежь неведомое мне, o:p/
А где-то музыка гремела o:p/
И дети падали во сне. o:p/
o:p /o:p
А он стоял o:p/
Мужского рода, o:p/
В своем единственном числе, o:p/
И непредвзятая свобода o:p/
Горела на его челе. o:p/
o:p /o:p
1991 o:p/
o:p /o:p
Все здесь точно: Ерёменко узнается не только в образе, но и в звучании стиха, в его словесно-ритмической материи — здесь слышен голос Ерёменко, как он слышен во многих стихах таких прекрасных поэтов, как Юрий Арабов или Евгений Бунимович, никому не в обиду будет сказано. Да и какие обиды, если сами эти поэты с полной щедростью отдают ему дань. «Разве есть поэт, кроме Ерёмы?» — восклицал Бунимович в стихотворении 1982 года, а позже по этому поводу объяснился: «Один старательный критик в популярном литжурнале возразил: ну как же, есть ведь и другие поэты, вот и сам Евг. Бунимович… Он так ничего и не понял, этот критик» <![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> . o:p/
Понять надо бы как минимум две вещи: почему именно Ерёменко получил такое цеховое и узкочитательское признание в 1980-е годы, но главное — есть ли большая судьба у нескольких десятков написанных им тогда блистательных текстов. Второе важнее и труднее первого. o:p/
Для начала попробуем увидеть глазами тогдашних его современников и друзей роль и место Ерёменко на корабле российской истории — приведем (частями) балладу Михаила Поздняева «о том, что, по мнению автора, должно стоять на Лубянке, против Политехнического музея, где в 1983 году были выборы Короля поэтов, хотя сам Король уверяет, что дело имело место совсем не там и не тогда, прибавляя: „Легенда — она и есть легенда”». o:p/
o:p /o:p
Завалили сохатого Феликса, филина Гаухмана o:p/
и козла Михайлу Иваныча заодно. o:p/
Рухнул дождь, а потом из небес просеялась манна, o:p/
а потом все, что было и сплыло, пошло на дно. o:p/
<…> o:p/
Почему — Ерёма? Ведь нас было много! масса! — o:p/
на «Титанике», погружающемся на дно, o:p/
пассажиров первого и второго класса. o:p/
Но Ерёме — в котельной место отведено. o:p/
o:p /o:p
Он с момента отплытья, подальше от милой сторонки, o:p/
знал, чем кончится это плаванье и когда, o:p/
созерцая, как далай-лама, винты, шестеренки, o:p/
шатуны, форсунки и поршни в масляной пленке, o:p/
а на них изо всех щелей хлестала вода. o:p/
o:p /o:p
Он залег на дно и, красиво, по-королевски, o:p/
руки-ноги раскинув, зрит через толщу вод, o:p/
как плывет высоко над ним ледокол «Гандлевский» o:p/
и навстречу танкер «Кибиров» с ревом плывет. o:p/
<…> o:p/
Соберемся, мои товарищи, не для пьянки, o:p/
но затем, чтобы каждый довел до финала роль, o:p/
и поставим Ерёме памятник на Лубянке: o:p/
пусть потомки увидят, кто у нас был король. o:p/
o:p /o:p
Традиционная метафора корабля применена здесь к тонущей России 1990-х, традиционная тема памятника также развернута в сторону конкретной российской истории — рукотворный памятник поэту должен встать на месте памятника чекисту, «заваленного» революционной толпой в 1991 году. Как свидетель тогдашней славы Ерёменко и участник событий августа 1991 года могу подтвердить: связь между этими явлениями была. В последние брежневские и последующие тухлые советские годы Ерёменко явил собой — своей личностью и своим стихом — ту самую «непредвзятую свободу», которую считал с его «чела» Игорь Иртеньев и которая так была нужна. Настоящая поэзия — всегда явление свободы, но Ерёменко нес ее в себе с такой веселой небрежностью, с таким блеском и талантом, что само его присутствие и стихи, тогда еще не печатные, оказывали мощное освобождающее, оздоровляющее воздействие на нас, молодых его московских слушателей. Его иронизм отвечал нашим запросам, помогал дистанцироваться от советского маразма. Ближайшая по времени и по духу параллель к нему была найдена сразу — «Москва — Петушки» Венички Ерофеева, ходившая тогда по рукам в таких же слепых перепечатках («Эрика берет четыре копии», если кто не помнит); впоследствии об этом уже писали критики (Юлия Немировская <![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> , Вячеслав Курицын <![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> ). На фоне общих «стилистических разногласий» с советской властью очевидно и родство деклассированного лирического героя Ерёменко с героем вдохновенной поэмы Ерофеева — оба с отчаянной веселостью выразили свою эпоху, подымаясь временами до истинного трагизма. o:p/
Конечно, была в те годы у нас и совсем другая непечатная поэзия (по преимуществу питерская) — прекрасная, и сейчас уже можно сказать, что великая, также имевшая освобождающее действие на души тех, кто с нею был знаком. Но до московской окололитературной молодежи, от лица которой я здесь пытаюсь что-то вспомнить, эта поэзия доходила хуже во всех отношениях. Хуже до нас, 20-летних, доходил тогда и Бродский в ардисовских сборничках — лично мне потребовалось еще немало времени, чтобы как-то к нему пробиться. С Ерёменко таких проблем не было — он был одним из нас. o:p/
Не зря Михаил Поздняев представил поэта для потомков в виде статуи свободы на Лубянке. На статуарность он не претендует ни обликом, ни образом жизни, но, перестав писать стихи, действительно стал в каком-то смысле памятником своему времени и своей славе. Кончилось время — кончились и стихи. Почти все писавшие о Ерёменко рассуждали о причинах его многолетнего молчания — как будто поэт должен писать всегда, как будто обретенная свобода слова не позволяет ему, оставаясь поэтом, выбрать в какой-то момент свободу молчания. Ерёменко действительно «залег на дно» с началом перестройки, успев о ней своеобразно высказаться, — наиболее полное собрание его стихов «Горизонтальная страна», выпущенное энтузиастическим издателем Александром Ниточкиным в 1994 году и повторенное «Пушкинским фондом» в 1999-м, завершается текстом, в котором автору принадлежит только слово «инфляция» и посвящение Егору Гайдару: «Люблю инфляцию. / Но странною любовью…» и далее точно по Лермонтову, пока он не переходит в почти точно цитируемого Есенина: «Вот так страна! / Какого ж я рожна / Орал в своих стихах, что я с народом дружен?.. / Моя поэзия здесь больше не нужна. / Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен». Пресловутая центонность Ерёменко, о которой речь впереди, редко доходит у него до такого абсурда — поэт совсем отказывается от своего голоса, такого сильного и такого всегда узнаваемого, он уходит из современности, из собственной речи, оставляя вместо себя русскую поэзию, предоставляя Лермонтову и Есенину говорить за него. Для адептов теории смерти автора уточню: перед нами не растворение автора в интертексте, а реальное событие творческой жизни реального автора — он умолкает, сообщая об этом не своими словами. o:p/
Еще более демонстративно сложено другое «политическое стихотворение» времен перестройки: «Если крикнет рать святая», — точно повторяет Ерёменко за Есениным, а во второй строфе добавляет от себя, обращаясь то ли к другу, то ли к Михаилу Сергеевичу Горбачеву: «Если скажет голос свыше: / — Кинь ты Русь, живи в раю, — / я скажу: — Не надо, Миша, / дайте родину мою». Мою — ту самую, унаследованную от Лермонтова и Есенина, которую любить можно только «странною любовью» и которую теперь вознамерились менять. На этом невеселом остроумии он и умолк, почти совсем ушел из поэзии, но ушла ли его поэзия — это другой вопрос. o:p/
В майские 2012 года дни народно-карнавального противостояния полицейскому государству некоторые стихи Ерёменко вдруг зазвучали актуально, особенно — ода «ментовской дубинке» как фаллическому символу («Ода „эРИ-72”») или такое вот: «Я вздрогну и спрыгну с коня, / и гляну на правую руку, / когда, улыбаясь, как сука, / ОПРИЧНИК ПОЙДЕТ НА МЕНЯ» («Косыми щитами дождей…»). В контексте прогулок «за честные выборы» свежий смысл обрели вдруг и «Стихи о сухом законе, посвященные свердловскому рок-клубу» (редкий случай, когда стихотворение имеет у Ерёменко конкретную дату — 1986 год, разгар горбачевской антиалкогольной кампании): o:p/
o:p /o:p
Я тоже голосую за закон, o:p/
свободный от воров и беззаконий, o:p/
и пью спокойно свой одеколон o:p/
за то, что не участвовал в разгоне o:p/
толпы людей, глотающей озон, o:p/
сверкающий в гудящем микрофоне. o:p/
o:p /o:p
Пью за свободу, с другом, не один. o:p/
За выборы без дури и оглядки. o:p/
Я пью за прохождение кабин o:p/
на пунктах в обязательном порядке. o:p/
Пью за любовь и полную разрядку! o:p/
Еще — за наваждение причин. o:p/
o:p /o:p
Я голосую за свободы клок, o:p/
за долгий путь из вымершего леса, o:p/
за этот стих, простой, как без эфеса, o:p/
куда хочу направленный клинок. o:p/
o:p/
Эти строфы дают некоторое представление о технике Ерёменко — пушкинский («Я пью один»), а может быть, и баратынский («И один я пью отныне»), также мандельштамовские («Я пью за военные астры» и «Мы пьем наважденье причин») и лермонтовский (сравнение поэзии с клинком) подтексты нанизаны один на другой, но к пересмешничеству, в котором так часто его упрекали критики «поэзии новой волны», это не имеет отношения. Вместе с голосами других поэтов (Пушкин и Мандельштам из них первые) в стихи Ерёменко приходит общая память поэзии, хранящая ее живые смыслы. o:p/
Вообще-то ничего специфического, концептуального и постмодернистского в этой технике нет, это общий механизм поэзии. Тот же гул чужих голосов опытный читатель может расслышать не только у сверхреминисцентного Мандельштама, но и у «классичного» Пушкина — в свое время этому удивился и хотел удивить читателей М. Гершензон («Плагиаты Пушкина»), но сегодня, после века развития (и последовавшего упадка) пушкинистики, это доказывать не надо. Другое дело, что Ерёменко цитирует почти всегда в открытую, ловко жонглирует цитатами, резко стыкует и перемешивает их с советскими штампами, помещает в парадоксальный контекст. Эта центонная манера оказалась заразительной, принесла успех подражателям и заслонила от многих, в том числе и профессиональных, читателей саму поэтическую личность и лирический мир Ерёменко. o:p/
«…За то, что не участвовал в разгоне / толпы людей, глотающей озон / сверкающий в гудящем микрофоне» — в таких точках, где особенно сильно бьется пульс, актуальное поглощается общечеловеческим, как поглощается, например, в пушкинском «...восславил я свободу / И милость к падшим призывал». Можно и тут не вспоминать о митингах, тогдашних и нынешних, а вспомнить, что сказал в «Четвертой прозе» Мандельштам по поводу есенинского «Не расстреливал несчастных по темницам»: «Вот символ веры, вот поэтический канон настоящего писателя — смертельного врага литературы». o:p/
К этому большому «поэтическому канону» Ерёменко несомненно причастен, но критики прочно прописали его по другому ведомству, а прописав, и вынесли приговор, определили ему, и не только ему, недолгую жизнь в указанных исторических границах: «То, что тогда показалось началом, фактически явилось концом, завершением, не имевшим продолжения, поскольку кончилась среда, питавшая эту поэзию, а вне ее она оказалась удивительно неживучей. Она имела смысл, пока существовали идеологические запреты и лозунги, которые она пародировала; пока в силе были эстетические нормы, которые она смело опровергала, пока не была сюда допущена поэзия русского зарубежья и в первую очередь Иосиф Бродский…» <![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> . В каком значении употребляет критик зоологическое слово «неживучая» — если поэту был отпущен недолгий период активного творчества, значит ли это, что столь же недолог будет век его стихов? o:p/
Восприятие поэзии Ерёменко было заслонено, замутнено бесконечными разговорами и спорами о школе «метаметафористов» (К. Кедров) или «метареалистов» (М. Эпштейн), к которой еще в 1980-е годы Ерёменко был причислен вместе с Иваном Ждановым, Алексеем Парщиковым и рядом других поэтов. Написано на эту тему немало, наиболее осмысленные попытки разобраться в перипетиях теоретической мысли в ее отношении к художественной реальности были предприняты Ильей Кукулиным <![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> и Данилой Давыдовым <![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> , к статьям которых отсылаю заинтересованного читателя. Сами упомянутые поэты высказывались о наличии такой школы с большим сомнением. Алексей Парщиков: «Если считать, что любое литературное течение подразумевает первым дело наличие манифеста, то метареализма действительно не было. Мы просто писали, а критики ходили вокруг нас и классифицировали, как Дарвин или Линней каких-нибудь насекомых» <![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> . Иван Жданов: «Михаил Эпштейн назвал это метареализмом. Метареализм — это нечто, показывающее реальность из-за пределов реальности. <…> Существует много определений слова, но все они не объясняют полностью, что такое слово. Потому что нет внешнего языка описания. Этим языком владеет разве что Господь Бог. Выходит, что понятие „метареализм” — это большая и сомнительная претензия. Вот почему я был против этого. Но еще более странно звучит в нашем случае придуманное Константином Кедровым понятие метаметафоры. Что значит перенос переноса? <…> То есть метаметафора — то, что за пределами метафоры. Опять сомнительный получается смысл» <![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> . Что же касается Ерёменко, то он, не вдаваясь в подробности, высказался по этому, а заодно и по всем другим вопросам критики поэзии просто и радикально: «…Девяносто процентов действующих критиков ничего в поэзии не смыслят» <![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> . o:p/
Поэты открещиваются от навязанных им классификаций, но переубедить критиков и издателей непросто — и вот в 2002 году стихи Ерёменко, Жданова и Парщикова издаются под одной обложкой в сборнике с обобщающим названием «Поэты-метареалисты». Достаточно полистать эту книгу, чтобы усомниться в целесообразности такого обобщения, — как инструмент познания оно не работает и никак не способствует пониманию трех непростых и очень разных поэтических миров. o:p/
В связи с этим хочется поделиться суждением Михаила Айзенберга, поэта и критика в одном лице: «Мне и в самом деле кажется, что говорить о сегодняшней поэзии языком обобщений во всяком случае непродуктивно и даже неуместно. Но ведь можно предположить существование (или возникновение) особого рода критики: чуждающейся обобщений, как-то встроенной в само поэтическое производство. Критики, упорно не знающей , что такое стихи, и выясняющей это здесь и сейчас» <![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> . Да, ведь и поэзия каждый раз рождается заново, в упорном незнании того что такое стихи, и от современного читателя, пусть и профессионального читателя-критика, она ждет прежде всего отклика, а не теории, понимания, а не классификации — история литературы вступает в свои права значительно позже. Дождалась ли поэзия Ерёменко такого отклика? Сам он признал лишь отчасти большую статью Марка Липовецкого, поместив ее в качестве приложения к упомянутому «OPUS MAGNUM» и не преминув заметить, «что интерпретатор он достаточно грамотный, стихи понимает правильно, но в данном случае и он перемудрил» <![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> . Справедливости ради надо сказать, что есть и другие критические тексты, порожденные личным переживанием поэзии Ерёменко, интимным контактом с ней (статьи Вячеслава Курицына, Марины Кулаковой <![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]> ), и кажется, что чем дальше они отстоят во времени от объекта описания, тем ближе к нему по сути, тем отчетливее, вопреки прогнозам, проступают ярко-индивидуальные черты этого художественного мира, связывающие его не с актуальным контекстом, не с той или иной школой, реальной или мифической, а с вертикальным «поэтическим каноном», благодаря которому поэзия «не стареет и не изменяется» <![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]> . o:p/
С чем Ерёменко вошел в нашу поэзию в конце 1970-х — более или менее понятно. С чем он выйдет и выйдет ли в большое время — этот вопрос упирается в вопрос о том, «что такое стихи», выяснять который приходится каждый раз заново. o:p/
Не вдаваясь ни в какие теории, а, напротив, выразив пренебрежение к ним в эссе «Двенадцать лет в литературе» <![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]> , Ерёменко все-таки сформулировал одну важную для него, но не для всех бесспорную творческую установку — в интервью 1994 года он сказал: «Язык — в прямом смысле слова живой организм, он существует по собственным законам. Нужна определенная смелость и даже честность, чтобы его не насиловать, а грамотно идти по тем направляющим, которые он подсказывает. Идти — куда повело. Тогда могут получиться живые стихи; иногда — „темные”» <![if !supportFootnotes]>[18]<![endif]> . Помнил Ерёменко нобелевскую речь Бродского или не помнил в тот момент, когда говорил это, — неважно; этот принцип ненасилия в отношении поэта к языку, доверия к языку абсолютно органичен для него, является прямым продолжением его личности и вытекает из общего принципа существования, сформулированного в том же интервью: «Я вообще-то дзен-буддист. <…> А дзен предполагает приблизительно такой принцип существования: идет, например, человек по улице, ветер подул вправо — он направо повернул. К нему подошли, спросили о чем-то — остановился, разговаривает. Надоело — лег». o:p/
Реализация такой свободы в слове требует от поэта абсолютного слуха и полного растворения в стихии языка. Но для поэта язык, высшая форма языка — это прежде всего сама поэзия, звучащая в нем, вся целиком, без временных, стилистических и пространственных границ, это и есть стихия его свободы, которой он отдается по принципу дзен. Тут я вижу природу ерёменковских пресловутых центонов, природу их парадоксальности, неожиданных стыков, природу множественных «ереминисценций», из которых соткана материя его стихов (но не всегда и не всех), — всплывающая в памяти цитата определяет движение мысли, цепляет другую цитату и третью (ритмом, например) — получается по-разному, не всегда убедительно, но достигаемый кумулятивный эффект создает ту особую энергетику, по которой узнаются стихи Ерёменко. Владимир Новиков объявил его «создателем русской центонной поэзии» <![if !supportFootnotes]>[19]<![endif]> — может быть, так и есть, но сам по себе центон — это всего лишь техника, рассчитанная на искушенного читателя, да и центонов в точном смысле у Ерёменко не так уж много. Вопрос в том, что стоит за этой техникой, как она работает и работает ли на смысл, рождается ли в итоге собственно поэзия. Владимир Новиков писал: «Мы тогда ценили во всем этом веселье и остроумие, вчитываться в суровые и трагические оттенки смысла как-то не очень тянуло» <![if !supportFootnotes]>[20]<![endif]> . Тогда — не тянуло, а сейчас, кажется, пора. o:p/
Ерёменковский цикл «Невенок сонетов» — из лучшего, что им написано. Сонетная форма создает сильный противовес принципу дзен, возникает напряжение между заданной классичностью формы и свободой, а вернее сказать — произвольностью образного развития стиха. Отличающая Ерёменко интонация торжественной, временами одической серьезности сочетается с характерными для него «неклассическими» темами и реалиями — «Войди, мой друг, в святилище сонета, / как в дорогой блестящий туалет», или: «О Господи, я твой случайный зритель. <…> Убей меня. Сними с меня запой»; результатом становится не комическое снижение традиционной формы, в которой «все рассчитано на десять тысяч лет», а, напротив, возведение «низких» топов и тем в онтологически важные. Вообще, «невенок» как будто демонстративно собирает в фокус яркие особенности его поэтики, есть в цикле и пример центонной техники — привожу и разбираю этот текст в наиболее устойчивом виде, так как он, как и другие известные стихи Ерёменко, бытовал и варьировался как полуписьменный фольклор, чему способствовал и автор, заменявший то одни строки, то другие, — но задним числом принцип дзен, как оказалось, не работает. o:p/
o:p /o:p
Как хорошо у бездны на краю o:p/
загнуться в хате, выстроенной с краю, o:p/
где я ежеминутно погибаю o:p/
в бессмысленном и маленьком бою. o:p/
o:p /o:p
Мне надоело корчиться в строю, o:p/
где я уже от напряженья лаю. o:p/
Отдам всю душу октябрю и маю, o:p/
но не тревожьте хижину мою <![if !supportFootnotes]>[21]<![endif]> . o:p/
o:p /o:p
Как пьяница, я на троих трою, o:p/
на одного неровно разливаю, o:p/
и горько жалуюсь, и горько слезы лью, o:p/
o:p /o:p
Уже совсем без музыки пою <![if !supportFootnotes]>[22]<![endif]> . o:p/
Но по утрам под жесткую струю o:p/
свой мозг, хоть морщуся, но подставляю. o:p/
o:p /o:p
Тема гибели задана Пушкиным — цитатой песни Вальсингама в первом катрене: «Есть упоение в бою / И бездны мрачной на краю…». Ерёменко берет из нее отдельные слова и скрепляет пушкинской рифмой, которую проводит через весь сонет. Пушкинский «бой» он переносит в сферу персональную, внутреннюю, при этом лишает его всякого пафоса, называя «бессмысленным и маленьким». Бой из единичного события-состояния превращается в modus vivendi, в бесконечно воспроизводимую ежеминутную реальность; столь же ежеминутна и реальность гибели. К пушкинскому «на краю» цепляется обывательское «хата с краю», но это «край» уже другой — Ерёменко любит обкатывать в стихе одно и то же слово со всех сторон, выжимая из него все оттенки смысла и сопоставляя их, или просто повторять слово в разных формах, как будто изучать его, это — одна из примет его стиля. На поверхности — «моя хата с краю», а из памяти жанра всплывает пушкинский сонет «Поэту» с темой одиночества и независимости поэта, которая у Ерёменко на глубине прочитывается. Тема гибели «у бездны на краю», выраженная просторечным «загнуться», отсылает и к Высоцкому («над пропастью по самому по краю», «я еще постою на краю») — ср. в посвященном ему другом стихотворении Ерёменко: «Я заметил, что, сколько ни пью, / все равно выхожу из запоя. / Я заметил, что нас было двое, / Я еще постою на краю». С Высоцким же, а также с пушкинским «упоением» может быть связана возникающая дальше тема пьянства, но перед тем, во втором катрене, к хору подключаются голоса еще двух смолоду погибших поэтов — Маяковского и Есенина. «Мне надоело корчиться в строю, / Где я уже от напряженья лаю» — объединение себя с певцом революции, который действительно в каком-то смысле «корчился в строю», что же касается «лая», то напомним, что у Маяковского это лай «револьверный» («Мы пройдем сквозь револьверный лай»), но у Ерёменко за лаем стоит конкретно самоубийственный выстрел Маяковского: «Как говорил поэт, „сквозь револьверный лай” / (заметим на полях: и сам себе пролаял)» — за эту строчку из стихотворения «Бессонница. Гомер ушел на задний план» он удостоился от Евтушенко публичных обвинений в кощунстве <![if !supportFootnotes]>[23]<![endif]> . «Отдам всю душу октябрю и маю» — строка Есенина, и дальше у него душа противопоставлена лире (в отличие от пушкинской «души в заветной лире»): «Но только лиры милой не отдам». На этом фоне у Ерёменко «хижина», тоже очень есенинская, прочитывается как хижина собственно поэтическая, аналог творчества (поздняя замена «И разломаю хижину мою» как жест отказа от творчества в дзен-маршрут стихотворения не вписывается). o:p/
Таким образом созвана компания поэтов, присутствующих в сонете цитатами, образами и отдельными словами: Пушкин, Высоцкий, Маяковский, Есенин — два самоубийцы, один погибший на дуэли и еще один, сгубивший себя наркотиками и пьянством, с ними солидаризируется и среди них находит себе место наш автор. Но с пьяницей он себя лишь сравнивает: «Как пьяница, я на троих трою» — так пьянство оказывается метафорическим, компания — совсем уж виртуальной, одиночество — неизбывным: «На одного неровно разливаю» (опять вспомним пушкинское «Я пью один» из «19 октября»). Пушкин вмешивается в дзен-сюжет на протяжении всего сонета: «И горько жалуюсь, и горько слезы лью» — эта цитируемая Ерёменко строка в пушкинском «Воспоминании» относится к оценке прожитой жизни, так что и чаша, в которую сам себе поэт «неровно разливает», выходит за границы алкогольной темы. «Уже совсем без музыки пою» в этом контексте ассоциируется с хрипом Высоцкого на самом уже краю, поскольку песня его о конях привередливых продолжает звучать в заданной с самого начала рифме: «И я коней напою, / И я куплет допою, / Хоть немного еще / Постою / На краю» — собственно, об этом стоянии на краю весь сонет. (Поздняя нигилистически-волюнтаристская авторская замена этой строки на «Я всех вас видел где-то далеко» обрушивает не только систему рифмовки, но и всю семантику стихотворения, что, вообще-то, вполне в духе Ерёменко.) o:p/
Заключительные два стиха вновь призывают Пушкина, но не автора «маленькой трагедии» или покаянно-псаломного «Воспоминания», а сочинителя скабрезной эпиграммы на императора: «…Окружен рабов толпой, / С грозным деспотизма взором, / Афедрон ты жирный свой / Подтираешь коленкором; / Я же грешную дыру / Не балую детской модой / И Хвостова жесткой одой, / Хоть и морщуся, да тру» («Ты и я»). Пушкинская грубая физиологичность у Ерёменко сохраняется — его герой подставляет под жесткую струю «свой мозг» — как будто обнаженный, без черепа, соотносимый благодаря цитате с другим обнаженным местом, противоположным мозгу в иерархии человеческого тела. Тема одиночества и обреченности поэта проводится причудливым, многоголосым цитатным маршрутом и завершается раблезианской точкой. Как писал Олег Хлебников, «…ирония нужна Ереме для сохранения баланса, как шест канатоходцу, чтобы не упасть в пропасть патетики…» <![if !supportFootnotes]>[24]<![endif]> , и он на протяжении всего сонета ловко и остроумно раскачивает тему, так что пушкинское «и горько жалуюсь, и горько слезы лью» звучит у него иронично, а финальная отсылка к неприличной эпиграмме, напротив, очень даже серьезно — ее двусмысленность перекрывается духом стоицизма, характерным для поэзии Ерёменко. o:p/
Так, на случайных как будто немотивированных сцеплениях цитат выстраивается сонет о поэте на грани выживания, в котором сквозь авторское Я просвечивают судьбы Пушкина, Маяковского, Есенина, Высоцкого. Имел в виду Ерёменко такое обобщение или нет, но так сказалось. Хорошие стихи всегда знают больше, чем поэт, это их качественный признак. Еще один качественный признак — непредсказуемость, незаданность результата, его в каком-то смысле независимость от авторской воли или уж, во всяком случае, — неполная зависимость. Чем меньше поэт «хочет сказать», чем меньше у него в запасе готовых смыслов, тем больше его стихи говорят. Провозглашенный Ерёменко принцип дзен — предельное выражение свободы, обретаемой и утверждаемой в творчестве, Ерёменко лишь придал этому принципу вызывающую очевидность, осознал его и обнажил его до экспериментальной остроты. «Куда хочу направленный клинок» его стиха часто режет языковую норму — получается то самое «неправильное слово», которое отличает поэзию Ерёменко и о котором сам он говорит: o:p/
o:p /o:p
Прости, Господь, мой сломанный язык o:p/
за то, что он из языка живого o:p/
чрезмерно длинное, неправильное слово o:p/
берет и снова ложит на язык. o:p/
o:p /o:p
«Неправильное слово» осознается как вина, поэт просит за него прощения — и тут же «ложит» его «на язык». Слово «ложит» знаковое и напоминает об эпизоде из культового советского фильма «Доживем до понедельника», где оно становится причиной ссоры: «Я им говорю: „Не ложьте зеркало в парты”. А они ложут. Я им опять говорю: „Не ложьте”, а они — ложат», — на что учитель Мельников, интеллигент, взрывается: «Ложить — нет такого глагола, где вы его взяли? Мы же не на рынке. Если вам не жаль детей, то пощадите наши уши». В отличие от простодушно-безграмотной учительницы, поэт Ерёменко знает, что слово — неправильное; в отличие от Маяковского («Нежные! / Вы любовь на скрипки ложите. / Любовь на литавры ложит грубый»), он никого здесь не дразнит и никому не грубит, а, напротив, объясняется с Высшей Инстанцией на тему не только языка, но и самого поэтического призвания, развивая мотивы пушкинского «Пророка» («Конечно, лучше спать в анабиозе / с прикушенным и мертвым языком, / чем с вырванным слоняться языком»), но слово это так ложится в стихи, и поэт устраняется от отделки, пренебрегает нормой, отдается как будто случайному выбору своего «сломанного языка» — дальнейшее движение сонета по всем значениям и возможностям слова «язык» вырастает в сложное высказывание, в котором допущенная неправильность работает на смысл. В других случаях она работает на энергетику, как в стихотворении «Сильный холод больничной палаты…» (не лучшем у Ерёменко), где финальная грамматическая неправильность вдруг высвобождает поэтическую энергию: o:p/
o:p /o:p
На больничной кровати лежал ты, o:p/
презирая больничный уют, o:p/
и считал орудийные залпы, o:p/
совпадая свой пульс и салют! o:p/
o:p /o:p
Но во всех случаях это непреднамеренная неправильность, а не результат «работы над словом» — такой работы Ерёменко вообще не признает; поэт, по его мнению, должен быть «до конца свободным и полностью отдаться языковой стихии» <![if !supportFootnotes]>[25]<![endif]> . Если обэриуты (как и Платонов — в прозе) сознательно ломали грамматическую норму в поисках нового языка, если Бенедикт Лившиц строил на последовательном аграмматизме свою «поэтику анаколуфа» <![if !supportFootnotes]>[26]<![endif]> , то Ерёменко просто отпускает слова на свободу, и они «бегут, как маленькие дети, / и вдруг затылком падают на лед» («Блатной сонет»). Такая «свобода слова», как всякая свобода, сопряжена с риском — иногда результат бывает сомнителен, но и успех бывает ярким, если есть талант и есть что сказать. o:p/
Свое «неправильно слово» Ерёменко назвал «чрезмерно длинным» — действительно, характерной приметой его стиля стали непоэтичные, иногда длинные слова из словаря технических и естественных наук, названия приборов, технических приспособлений, процессов, часто составные, как «сверхпроводимость» или «гальванопластика лесов» в знаменитом «Переделкино». Об этой пресловутой «гальванопластике» даже есть у него стихотворение: «Мне нравятся два слова: / „панорама” и „гальванопластика”. / Ты остришь по этому поводу…». Любовь к таким «специальным» словам Ерёменко объяснил в одном из давних интервью: «— В твоих стихах много техницизмов: амперметр, термопара, митоз, водород, хлорофилл, металлургия, числитель... — Это часть моего материала. Еще в школе я проявлял способности к точным наукам. По этому пути и намеревался пойти. Может быть, благодаря именно техницизмам у меня выстраивается что-то новое, свое. Метафоры, например. Не знаю. По моему наблюдению, в разговорной речи мы редко пользуемся природной основой языка. Чаще прибегаем к техницизмам. Век, наверное, такой... А в художественной литературе, в поэзии, в частности, эти слова в полной мере не приручены» <![if !supportFootnotes]>[27]<![endif]> . o:p/
Ерёменко «приручил» эти слова едва ли не в полной мере, и если определить сферу, где они по преимуществу скапливается, то это сфера собственно лирики — в отличие от его поэтической публицистики. Показательный пример: o:p/
o:p /o:p
Ночь эта — теплая, как радиатор. o:p/
В ночи такие, такого масштаба, o:p/
я забываю, что я гениален, — o:p/
лирика душит, как пьяная баба. o:p/
o:p /o:p
Та самая лирика, которая «душит» поэта, буквально разливается в этих стихах, в их мелодике, вокалическом рисунке. Сдержанному лирическому герою Ерёменко предъявлять такие чувства не пристало, и он пытается противостоять их напору сухими словами технического и школьного словаря — «радиатор», «масштаб», по той же схеме стихотворение развивается и дальше. Техника или сухая терминология появляются там, где Ерёменко говорит об устройстве природы, вселенной, о творчества, о душевной жизни человека. К этим материям он прикасается с особым целомудрием. o:p/
o:p /o:p
Человек похож на термопару: o:p/
если слева чуточку нагреть, o:p/
развернется справа для удара... o:p/
Дальше не положено смотреть. o:p/
Даже если все переиначить — o:p/
то нагнется к твоему плечу o:p/
в позе, приспособленной для плача... o:p/
Дальше тоже видеть не хочу. o:p/
o:p /o:p
Когда Ерёменко спросили, о чем эти стихи и при чем здесь «термопара», он ответил просто: «Термопара — это же очень точно — человек состоит из двух половинок — одна реагирует так, другая эдак» <![if !supportFootnotes]>[28]<![endif]> , — как будто читатели поэзии обязаны представлять себе термопару в действии. Для него самого это сравнение наглядно, а для читателя, узнающего про термопару из этих стихов, сравнение не столько раскрывает тему боли, сколько прикрывает ее, потому что «не положено смотреть» и называть прямым словом «не положено», обнажать «не положено» то, что происходит с душой человека, — такова стилистика Ерёменко. Два жеста, выдающие боль, остановлены стоп-кадром перед взрывом чувств. При этом стихотворение устроено по законам тонкой симметрии: двум половинкам человека-термопары соответствуют два четверостишия, в первом фонически раскручивается слово «термопара» — оно построено на созвучиях «пар-пра-ра-ар», все рифмы аранжированы на «р»; второе четверостишие звучит совсем по-другому — оно опирается на созвучие «плч», объединяющее слова «плач» и «плечо», все рифмующиеся слова аранжированы на «ч». Образная и звуковая структуры стихотворения изоморфны — «если все переиначить», если следует не «удар», а «плач» (оба слова в сильной, рифменной позиции), то соответственно меняется звучание стиха. Результат ли это «работы над словом», следование подсказкам поэтического слуха или принципу дзен? Эти вопросы не возникают, если событие стиха состоялось. o:p/
Язык техники для Ерёменко органичен и позволяет говорит о сложном — о творчестве, например: o:p/
o:p /o:p
Как измеряют рост идущим на войну, o:p/
как ходит взад-вперед рейсшина параллельно, o:p/
так этот длинный взгляд, приделанный к окну, o:p/
поддерживает мир по принципу кронштейна. o:p/
o:p /o:p
Потусторонний взгляд. Им обладал Эйнштейн. o:p/
Хотя, конечно, в чем достоинство Эйнштейна? o:p/
Он, как пустой стакан, перевернул кронштейн, o:p/
ничуть не изменив конструкции кронштейна. o:p/
o:p /o:p
К простейшим техническим приспособлениям — ростомеру, рейсшине и кронштейну приравнивается «длинный взгляд» поэта вместе с теорией относительности, сравнимой с перевернутым стаканом, — между этими полюсами простоты и сложности, между всеми этими сравнениями, отражающими друг друга, протянут «вопрос длины пустого взгляда». Техника помогает самому поэту увидеть свой взгляд и передать это видение, не упрощая темы. o:p/
Техницизмы сопровождают образы природы у Ерёменко, в частности — образ леса, преобладающий в его поэтических пейзажах. Лес «стоит промытый, как транзистор», «в густых металлургических лесах» идет «процесс созданья хлорофилла», «корабельные сосны привинчены снизу болтами / с покосившейся шляпкой и забившейся глиной резьбой» — в последнем случае, в одном из, уже скажем, классических, стихотворений Ерёменко («Осыпается сложного леса пустая прозрачная схема…») лес оказывается механизмом времени, сначала заслоняющим, а потом открывающим точку встречи прошлого, настоящего и будущего. В лесу, как и во всей природе, идет иррациональный сверхтехнический процесс («За огородом начинался лес…»); «природа есть не храм», — повторяется дважды у Ерёменко, но если продолжить по Базарову, то и не мастерская, и человек в ней не работник; в лучшем случае — деталь в ее непостижимом механизме: o:p/
o:p /o:p
О, Господи, я твой случайный зритель. o:p/
Зачем же мне такое наказанье? o:p/
Ты взял меня из схемы мирозданья o:p/
и снова вставил, как предохранитель. o:p/
o:p /o:p
Рука и рок. Ракета и носитель. o:p/
Когда же по закону отрицанья o:p/
ты отшвырнешь меня в момент сгоранья, o:p/
как сокращенный заживо числитель? o:p/
o:p /o:p
Убей меня. Я твой фотолюбитель. o:p/
На небеса взобравшийся старатель o:p/
по уходящей жилке золотой. o:p/
o:p /o:p
Убей меня. Сними с меня запой o:p/
или верни назад меня рукой — o:p/
членистоногой, как стогокопнитель. o:p/
o:p /o:p
Ерёменко подсказал нам, что техницизмы у него работают на обновление метафоры, но в этой его механистической метафорике и метафизике многое кажется произвольным, случайным. Однако он предостерег: «…Регулировщики от критики будут уверенно загонять по шхерам и фиордам „снующие джонки” поэтических образов» <![if !supportFootnotes]>[29]<![endif]> , имея в виду мандельштамовское: «Надо перебежать через всю ширину реки, загроможденной подвижными и разноустремленными китайскими джонками, — так создается смысл поэтической речи. Его, как маршрут, нельзя восстановить при помощи опроса лодочников: они не расскажут, как и почему мы перепрыгивали с джонки на джонку» <![if !supportFootnotes]>[30]<![endif]> . В приведенном сонете одна техническая метафора сменяет другую, перемешиваясь еще и со школьной математикой и золотоискательской образностью, — маршрут этот логически не разложим, но и не хаотичен, смысл поэтической речи не переводим, но отчетливо воспринимается в последовательных метафорах смерти, составляющих монолог поэта к тому, в чьих руках находится жизнь. Электрическая схема с предохранителем, вынутым и вставленным обратно, ракета, отбрасывающая ступени, и, наконец, рука — в первом катрене она остается за кадром и не названа («взял» и «снова вставил»), во втором названа («Рука и рок»), и названо ее возможное действие («отшвырнешь меня в момент сгоранья»), в последнем она описана: «...рукой — членистоногой как стогокопнитель». Кажется, что «стогокопнитель» появился здесь по принципу дзен, подцепившись к слову «членистоногой» по созвучию (ни-сто-го). Причем здесь стогокопнитель, да и что это? кто его видел? На самом деле этот образ развивает и закольцовывает метафору первого катрена, а вместе они отсылают к пастернаковскому: o:p/
o:p /o:p
О Господи, как совершенны o:p/
Дела твои, — думал больной o:p/
<…> o:p/
Кончаясь в больничной постели, o:p/
Я чувствую рук твоих жар. o:p/
Ты держишь меня, как изделье, o:p/
И прячешь, как перстень, в футляр. o:p/
o:p /o:p
Стилистика разная, но суть обращения к Всевышнему — одна, поводом к нему у Пастернака является болезнь, а у Ерёменко — запой как состояние на границе жизни и смерти. Зримый образ членистоногой руки стогокопнителя принадлежит гнезду традиционных образов косьбы и жатвы, сопровождавших во все века тему смерти в мифологии, фольклоре, литературе, изобразительном искусстве. Ерёменко индивидуален в своей технической метафизике, образы его причудливы, вызывающе парадоксальны, нарочито антипоэтичны и при этом связаны с традицией. o:p/
С техницизмами граничит и смешивается в словаре Ерёменко еще один пласт — простые и памятные всем слова из школьных учебников, заставляющие задуматься о силе школьного импринтинга в его художественном сознании. «Теорема», «числитель», «правила спряженья», «таблица умноженья», «процесс сокращенья дробей» — такого у Ерёменко много, слова эти общепонятны, и, видимо, с этим связана их роль в стихах. Это тоже «материал» для метафор и сравнений, создающий поле общего опыта и объединяющего простого знания в структуре нового и сложного знания, какое несет в себе поэтический текст. Школьные понятия годятся для того, чтобы назвать не называя, но апеллируя к общей памяти. «Если высветишь ты близлежащий участок пути, / Я тебя назову существительным женского рода…» Что это за существительное? Гадать не нужно — все понятно и запоминается навсегда («Я смотрю на тебя из настолько глубоких могил…»). Простые «школьные» метафоры сокращения дробей или склонения имен встраиваются в сложные образные ряды — так создается особый объемный перифрастический язык, ведущий вглубь, от простого к сложному в стихах на интимные темы, где прямое высказывание для Ерёменко невозможно («Благословенно воскресение…», «Процесс сокращенья дробей…»). В других случаях школьными поэтическими формулами отмечена норма или матрица, мимо которой идет жизнь («Сопряжение окружностей»), или штамп сознания — там, где Ерёменко играет штампами или их пародирует («менделиц таблеева закон»). o:p/
Достоверный разговор о поэзии должен опираться на анализ языка поэта — так считает сам Ерёменко: «Анализировать возможно образную систему, язык; поэзия в первую очередь — явление языковое, а уж потом мировоззренческое. Но валят все в одну кучу. Язык как таковой вообще никого не интересует» <![if !supportFootnotes]>[31]<![endif]> . «Язык как таковой» не существует — Ерёменко прекрасно это знает. Он бунтует против лобового «мировоззренческого» анализа, и в этом надо с ним согласиться. Но анализ его языка, только начатый, дает возможность, потянув за нить, размотать и весь клубок, приблизиться к сути. Да, поэт — инструмент языка, и только поэтому он — «инструмент этики», если воспользоваться формулой Марии Степановой: «Поэт ведь — инструмент этики, ее подопытное животное, ее полигон для антропологических экспериментов. А иначе… достаточно выйти в поле чистой эстетики, чтобы увидеть, что оно давно превратилось в заштатный стадион с танцующим партером» <![if !supportFootnotes]>[32]<![endif]> . Поэт, добывая словом новое знание о человеке и мире, выполняет работу и за нас, и «антропологический эксперимент», о котором говорит Мария Степанова, имеет всеобщее значение. И если так подумать о Ерёменко, то станет очевидно, что в его поэзии нам предъявлен прежде всего эксперимент свободы — тот самый рискованный эксперимент, который лежит у начала человеческой истории. o:p/
В иерархии ценностей Ерёменко свобода занимает неоспоримо верхнюю позицию, она коренится в природе личности и по существу приравнивается к самой жизни: o:p/
o:p /o:p
Погружай нас в огонь или воду, o:p/
деформируя плоскость листа, — o:p/
мы своей не изменим природы o:p/
и такого строения рта. o:p/
o:p /o:p
Разбери и свинти наугад, o:p/
вынимая деталь из детали, — o:p/
мы останемся как и стояли, o:p/
отклонившись немного назад. o:p/
o:p /o:p
Даже если на десять кусков o:p/
это тело разрезать сумеют, o:p/
я уверен, что тоже сумею o:p/
длинно выплюнуть черную кровь o:p/
и срастись, как срастаются змеи, o:p/
изогнувшись в дугу. o:p/
И тогда o:p/
снова выгнуться телом холодным: o:p/
мы свободны, o:p/
свободны, o:p/
свободны. o:p/
И свободными будем всегда. o:p/
o:p /o:p
Сохранить себя — значит остаться свободными, пройдя через круги испытаний, через цепь «антропологических экспериментов», из которых жизнь и состоит, — примерно так можно подытожить этот поэтический манифест, его финальный «выпрямительный вдох». В первой строфе встречаются Николай Островский (ср. в другом стихотворении — «Так сказал санитару Островский…») и Мандельштам — метафора закалки стали («деформируя плоскость листа») стыкуется с отсылкой к стихам ссыльного Мандельштама: «...не изменим… строения рта» — «губ шевелящихся отнять вы не могли» («Лишив меня морей, разбега и разлета…»). «Строение рта» означает здесь то же, что лейтмотив «шевелящихся губ» у Мандельштама, — прирожденную и неотчуждаемую свободу слова, свободу творчества, которую тщетно пытаются отобрать у поэта. Развернутые дальше из технической метафоры мотивы физического насилия, крови, разрезанной плоти нередко звучат у Ерёменко («разрезанная вена», «кость в переломе открытом», «три четверти мои, разорванные в клочья», «разорванная плоть»), и если по Бродскому «человек есть испытатель боли», то по Ерёменко он испытатель свободы и боли. О «философском образе мира тотального насилия», о «безличном тотальном насилии» у Ерёменко верные слова сказал М. Липовецкий <![if !supportFootnotes]>[33]<![endif]> , но не менее важно расслышать эту тему в другом, личном регистре: o:p/
o:p /o:p
Давай простим друг друга для начала o:p/
развяжем этот узел немудреный o:p/
и свяжем новый, на другой манер. o:p/
o:p /o:p
Но так, чтобы друг друга не задеть, o:p/
не потревожить руку или ногу. o:p/
Не перерезать глотку, наконец. o:p/
o:p /o:p
Чтоб каждый, кто летает и летит, o:p/
по воздуху вот этому летая, o:p/
летел бы дальше, сколько ему влезет. o:p/
o:p /o:p
На одном полюсе убивающее насилие («перерезать глотку»), на другом — право каждого на свободу, выраженное в самом поэтическом языке, в «неправильном слове», означающем полет и повторенном четырежды в разных формах с продолжением в звуках соседних слов («дальше», «сколько» «влезет»), что само по себе иконически создает ощущение вольного разнообразного всеобщего полета как образа самой жизни. o:p/
Рассуждая о современной поэзии, Владислав Кулаков очень точно напомнил, что «в искусстве в конечном счете всегда главное не „что” и „как”, а „кто”» <![if !supportFootnotes]>[34]<![endif]> ; при этом он опирался на мысли Иннокентия Анненского о лирическом я (в статье «Бальмонт-лирик»): «Это интуитивно восстановляемое нами я будет не столько внешним, так сказать, биографическим я писателя, сколько его истинным неразложимым я , которое, в сущности, одно мы и можем, как адекватное нашему, переживать в поэзии» <![if !supportFootnotes]>[35]<![endif]> . Добавлю: именно «неразложимое я », воспринимаемое сквозь поэтический текст, несет в себе критерий подлинности — критерий не верифицируемый, ощущаемый интуитивно и при этом несомненный для читателя. Не обладающая качеством подлинности, выдуманная поэзия может вызвать и вызывает отклик, а порой и ажиотаж, лишь в такой же надуманной критике, говорящей языком разного рода обобщений, зачастую ложных или просто не имеющих смысла. o:p/
В поэзии Ерёменко лирическое я выражено сильно, отчетливо, и никакого зазора между биографическим и глубинным я (какой усматривал Анненский у Бальмонта) в его поэзии нет. Лирический герой Ерёменко целен и всегда равен себе, при всех метаморфозах. Если он пишет: «В последний раз меня забрали на Тишинке», то можно не сомневаться, что в реальности так оно и было (забрали в милицию за то, что он подозрительным образом разглядывал надписи на плитах вокруг памятника российско-грузинской дружбе), но подлинность не в этом, а в интонации последующих строф: o:p/
o:p /o:p
Не-е-ет, весь я не умру. Той августовской ночью o:p/
и мог бы умереть, но только — вот напасть! — o:p/
три четверти мои, разорванные в клочья, o:p/
живут, хоть умерла оставшаяся часть <![if !supportFootnotes]>[36]<![endif]> . o:p/
o:p /o:p
И долго буду тем любезен я народу, o:p/
что этот полутанк с системой полужал o:p/
я в неживой строфе навеки задержал o:p/
верлибру в панику и панике в угоду. o:p/
o:p /o:p
Эта «ода ментовской дубинке» написана по следам реального опыта и по мотивам пушкинского «Памятника», с учетом соответствующей традиции. Личный опыт «самостоянья», противостояния тупому насилию, милицейскому произволу имеет значение для вечности, будучи вот так «задержан» в стихе, и на фоне пушкинских цитат соотносится с «чувствами добрыми», «свободой», «милостью к падшим». И алкогольная тема в первых строфах, дающая начало лирическому сюжету, и фаллический юмор звучат с тем же одическим пафосом, с той же важностью и серьезностью. Лирический герой Ерёменко всегда исполнен достоинства в своем социальном отщепенстве, он лишен каких бы то ни было социальных подпорок, свободен от условностей, он — человек как есть, носитель антропологических сущностей, временами супермен («Я женщину в небо подкинул / — и женщина стала моя»), но прежде всего — поэт. o:p/
Учитывая пристрастие Ерёменко к школьному материалу, можно было бы описать его поэтический мир в жанре школьного сочинения: образ поэта и тема поэзии, тема родины, тема свободы, тема любви и дружбы, тема одиночества, смерти… И главное в таких параметрах было бы сказано, уловлено этой нехитрой сетью — так можно вполне адекватно описать и пушкинский, и, скажем, некрасовский поэтические миры. Вечное тело поэзии остается неизменным, находя себе новые формы образности, языка, — в этом смысле следует понимать пушкинские слова, отчасти уже приведенные нами: «Если век может идти себе вперед, науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, — то поэзия остается на одном месте, не стареет и не изменяется. Цель ее одна, средства те же. И между тем как понятия, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философии состарились и каждый день заменяются другими, произведения истинных поэтов остаются свежи и вечно юны» <![if !supportFootnotes]>[37]<![endif]> . Именно в этих непреходящих темах глубинное Я поэта обнаруживает свою уникальность. У Ерёменко традиционные темы присутствуют, как правило, в парадоксальном контексте, как можно убедиться на примере только что процитированной оды, при этом говорить о пародийности таких стихов не стоит — они не направлены жалом остроумия на тексты-предшественники. В его личном видении, в резко индивидуальной манере письма бесконфликтно соединяются и взаимопроникают традиционно-пафосное и условно-низкое, героическое и бытовое, серьезное и смешное. Ерёменко снискал множество обвинений в ерничестве, пересмешничестве, цинизме и пр., а на самом деле он поэт скорее пафосный, чем циничный — силою своего поэтического голоса он придает серьезный жизненный статус, например, похмелью: o:p/
o:p /o:p
В начале восьмого с похмелья болит голова o:p/
не так, как в начале седьмого; хоть в этом спасенье. o:p/
Сегодняшний день — это день, пораженный в правах: o:p/
глухое похмелье и плюс ко всему воскресенье. o:p/
o:p /o:p
И плюс перестройка, и плюс еще счеты свести o:p/
со всем, что встает на дыбы от глотка самогона. o:p/
Вот так бы писать и писать, чтоб с ума не сойти, o:p/
в суровой классической форме сухого закона... o:p/
o:p /o:p
Вот видите, сбился, опять не туда повело: o:p/
при чем здесь «сухой» самогон, когда спирта сухого o:p/
глоток... Извиняюсь, опять не про то. Тяжело o:p/
в ученье с похмелья в бою... Будь ты проклято! Снова. o:p/
o:p /o:p
Вернее, сначала. В начале восьмого башка... o:p/
Люблю тебя, жизнь, будь ты проклята снова и снова. o:p/
Уже половина... восьмого стакана... рука o:p/
уже не дрожит, и отыскано верное слово. o:p/
o:p /o:p
Процесс борьбы с похмельем, перестройкой, безумием, энтропией совмещен с процессом создания текста и завершается победным «найдено верное слово» — поэтическим словом одолевается зло, внешнее и внутреннее. «Суровая классическая форма» стиха уподоблена «сухому закону» — так поворачивается «тема поэта и поэзии» у Ерёменко. В этих стихах заключен весь диапазон свободы поэта — от свободы слов до высшей привилегии проживать собственную жизнь по собственному выбору, не сообразуясь с социальной нормой. o:p/
В стихах Ерёменко просматриваются два варианта личного пути на обочине регламентированной советской жизни с ее «идиотизмом, доведенным до автоматизма»; первый путь — «величайший гуманизм» свободы, расслабленной и беззаботной («…там, где я, свободный дзэн-буддист, / не читавший Фрейда и Лилли, / сплю, как величайший гуманист, / на платформе станции Фили»), другой путь — личного, непубличного, тоже маргинального подвига, смысл которого знает только сам герой, как, например, в «Песенке альпиниста», где альпинизм, конечно, условный, с «разрезанной веной», «разрезанной верой» в свой особый путь и с отсылкой к альпинистским песням Высоцкого, или в двух парных стихотворениях о «старой деве» и «девочке дебильной» <![if !supportFootnotes]>[38]<![endif]> . Эти последние, может быть, самые известные персонажи Ерёменко — его ответ на тему трудового героизма, заполнявшую песни и энтузиастическую советскую поэзию 1950 — 1970-х. И если «девочка дебильная» самоотверженно делает свое жизненное дело в каком-то совсем уж особом измерении, в абсолютно аутичном собственном пространстве <![if !supportFootnotes]>[39]<![endif]> , то «старая дева» со своей «теоремой Виета» существует на грани советской жизни со всем ее абсурдом: o:p/
o:p /o:p
Когда одиноко и прямо o:p/
она на кушетке сидит o:p/
и, словно в помойную яму, o:p/
в цветной телевизор глядит. o:p/
o:p /o:p
Она в этом кайфа не ловит, o:p/
но если страна позовет — o:p/
коня на скаку остановит, o:p/
в горящую избу войдет! o:p/
o:p /o:p
И хотя на поверхности цитируется сплошь Некрасов, на самом деле ближайшая генеалогия этого текста — глава о Вере Фигнер из поэма Евтушенко «Казанский университет» («На лекции Лесгафта ты ли / летела, как будто на бал, / и черные волосы плыли, / отстав от тебя на квартал» — ср. — «она теорему Виета / запомнила всю наизусть», «и северный ветер играет / в косматой ее бороде»), и если уж от чего-то дистанцируется здесь Ерёменко своей иронией, то не от классики, а от громокипящего дешевого пафоса стадионной поэзии. «Казанским университетом» навеяны также интонации двух других его стихотворений — «Кочегар Афанасий Тюленин…» и, может быть, самого «героического» — «Игорь Александрович Антонов…» (ср. начало главы «Щапов» у Евтушенко: «Афанасий Прокопьевич Щапов, / урожденный в сибирских снегах…»). Игорь Александрович Антонов (реальный человек, приходивший на вечера Ерёменко и встававший в зале при чтении этих стихов) героизирован по всем советским канонам, с привлечением Маяковского («как живой с живыми говоря»), песенных штампов («простой московский парень», «с необъятной родиной моей») и, по контрасту — Пушкина («Гений твой не может быть измерен»), Тютчева («как Христос, пойдешь ты по пивным») и Мандельштама («к пьяницам сойдешь и усоногим»). Все это смешано в густой коктейль с фирменным сочетанием патетики, красоты и алкогольной темы: o:p/
o:p /o:p
Я уже давно не верю сердцу, o:p/
но я твердо помню: там, где ты o:p/
траванул, открыв культурно дверцу, o:p/
на асфальте выросли цветы! o:p/
o:p /o:p
Тут все идет вразрез с эстетикой и этикой человека эпохи социализма — так или иначе, героическая тема у Ерёменко сворачивает на пути свободы, а если не сворачивает, то становится абсурдистской пародией («Памяти неизвестного солдата»), тогда как абсурдные герои и действия наделены у него героическими чертами — такое происходит осмысление и переосмысление подвига и человеческих ценностей. o:p/
Все «доблестные» герои Ерёменко — одиночки, и в этом смысле все они — проекция лирического героя с его острым экзистенциальным переживанием одиночества: o:p/
o:p /o:p
Там где человека человек o:p/
посылает взглядом в магазин. o:p/
Кажется, там тыща человек, o:p/
но, в сущности, он там всегда один. o:p/
o:p /o:p
И здесь «Анчар» не объект пародии — подтекстом пушкинской притчи задан универсальный смысл того, что чувствует человек в магазине или на какой-нибудь другой, более возвышенной жизненной сцене: «...в сущности, он там всегда один». Магазин, один из любимых топосов Ерёменко наряду с пивной и туалетом, нисколько не роняет онтологической темы — в другом стихотворении он оказывается метафорой души и снова пространством одиночества: o:p/
o:p /o:p
Невозмутимы размеры души, o:p/
Благословенны ее коридоры. o:p/
Пока доберешься от горя до горя — o:p/
в нужном отделе нет ни души. o:p/
o:p /o:p
На месте условной иерархии высокого и низкого видим у Ерёменко мнимости и сущности, его вообще можно назвать поэтом сущностей — в отличие, скажем, от биографически близкого ему Ивана Жданова как поэта в и дения. И эти сущности проступают зачастую благодаря отсылкам к классике, как в таком, например, контексте: o:p/
o:p /o:p
На холмах Грузии лежит такая тьма, o:p/
что я боюсь, что я умру в Багеби. o:p/
Наверно, Богу мыслилась на небе o:p/
Земля как пересыльная тюрьма. o:p/
o:p /o:p
Мрак тоже переживается у Ерёменко как состояние экзистенциальное, и в этих стихах он скорее делится с Пушкиным серьезностью и остротой переживания, чем заимствует у него что-то или пересмеивает его. Подключаясь к большим поэтическим ресурсам, поэты, как правило, не озабочены правом собственности — они с легкостью берут, отдают и смешивают, за счет чего и прирастает общее поле поэтических смыслов. o:p/
Тема света и мрака — одна из устойчивых тем у Ерёменко. Оставив в стороне выразительные примеры («все забери, только свет не туши», «окно откроешь, а за ним темно» и т. п.), рассмотрим стихотворение, в котором эта тема организует весь сюжет: o:p/
o:p/
Самиздат-80 o:p/
o:p /o:p
За окошком света мало, o:p/
белый снег валит, валит. o:p/
Возле Курского вокзала o:p/
домик маленький стоит. o:p/
o:p /o:p
За окошком света нету, o:p/
из-за шторок не идет. o:p/
Там печатают поэта — o:p/
«шесть копеек разворот». o:p/
<…> o:p/
Без напряга, без подлянки o:p/
дело верное идет o:p/
на Ордынке, на Полянке, o:p/
возле Яузских ворот... o:p/
o:p /o:p
Эту книжку в ползарплаты o:p/
и нестрашную на вид o:p/
в коридорах Госиздата o:p/
вам никто не подарит. o:p/
o:p /o:p
Эта книжка ночью поздней, o:p/
как сказал один пиит, o:p/
под подушкой дышит грозно, o:p/
как крамольный динамит. o:p/
o:p /o:p
Но за то, что много света o:p/
в этой книжке между строк, o:p/
два молоденьких поэта o:p/
получают первый срок. o:p/
<…> o:p/
И когда их, как на мине, o:p/
далеко заволокло, o:p/
пританцовывать вело, o:p/
кто-то сжалился над ними: o:p/
что-то сдвинулось над ними, o:p/
в небесах произошло. o:p/
o:p /o:p
За окошком света нету. o:p/
Прорубив его в стене, o:p/
запрещенного поэта o:p/
напечатали в стране. o:p/
<…> o:p/
Два подельника ужасных, o:p/
два бандита — Бог ты мой! — o:p/
недолеченных, мосластых, o:p/
по шоссе Энтузиастов o:p/
возвращаются домой... o:p/
o:p /o:p
И кому все это надо, o:p/
и зачем весь этот бред, o:p/
не ответит ни Полянка, o:p/
ни Ордынка, ни Лубянка, o:p/
ни подземный Ленсовет, o:p/
как сказал другой поэт. o:p/
o:p /o:p
Стихотворение знаменательное, знаковое во всех смыслах — с песенной легкостью, без нажима, нанизывая одну цитату на другую, Ерёменко рассказывает обыденную историю, а через нее видна большая российская история, фигурантами которой являются поэты, — «два молоденьких поэта» и за их спинами еще целая вереница: «один пиит» (Пастернак), «другой поэт» (Рейн), авторы цитируемых песенок (Ваншенкин и Мориц), автор цитируемых стихов об «этой книжке» (Тарковский) и, наконец, тот большой «запрещенный поэт», автор книжки, в которой «много света», за которую поэты получают срок. Свет этой книжки нужен им как хлеб, но «кататься любишь — люби саночки возить», как сказано в той песенке Ваншенкина («За окошком свету мало, / Белый снег валит-валит, / А мне мама, а мне мама / Целоваться не велит»), а вот «два молоденьких поэта» возят эти саночки сначала «первый срок», а потом «добавочный», который всегда «длинней» (слово «длинный» в стихах Ерёменко достойно специального разговора). За этим просвечивает память о большом Поэте, который тоже возил когда-то свои саночки «там, где рыбой кормят четко, / но без вилок и ножей» и вот теперь через книжку передал другим поэтам эту эстафету. Благодаря упомянутому халтуринскому динамиту из поэмы Пастернака «Девятьсот пятый год» история идет вглубь, но для автора она словоцентрична, и «крамольный динамит» работает как сравнение, как образ взрывной силы «этой книжки» — с намеком, может быть, и на цену слова, соотносимую с ценой жизни. Еще один исторический пласт вводится отсылкой к «Преображенскому кладбищу» Евгения Рейна — сталинская эпоха («Теперь в глубоком царстве они живут, как могут, / Зиновьев, Николаев, Сосо и лысый дед. / И кто кого под ноготь, и кто кого за локоть — / об этом знает только подземный Ленсовет»); мирная московская топонимика, заданная стихами Юнны Мориц («На Ордынке, на Полянке / Тихо музыка играла»), взрывается топонимикой другой, символической — от шоссе Энтузиастов до Лубянки, с уходом в царство мертвых. «Весь этот бред» российской истории нарастает кольцами вокруг той самой «книжки» — образной сердцевины стихотворения <![if !supportFootnotes]>[40]<![endif]> . o:p/
Для самого Ерёменко и для целого поколения поэтов и читателей «крамольным динамитом» стали стихи Мандельштама — именно этим описанным у Ерёменко способом копировался его американский четырехтомник в 1970 — 1980-е годы, «шесть копеек разворот», хотя появилась уже и книжка разрешенная, которую «напечатали в стране» («И синий с предисловьем Дымшица / Выходит томик Мандельштама» — Сергей Гандлевский). Речь в этих стихах, конечно же, идет о Мандельштаме: «Хотя нигде он по имени не назван, никаких сомнений быть не может» <![if !supportFootnotes]>[41]<![endif]> . Уверенность эта основана не только на текстуальных подсказках: любому читателю Ерёменко очевидно, что Мандельштам — ключевой для него поэт, прочитанный от корки до корки («И в „Восьмистишия” гения, в мертвую зону, / можно проход прорубить при прочтенье активном») и пережитый как личный опыт. Говоря его стихами как своими о своем, Ерёменко переносит этот опыт в свою эпоху и разделяет его настолько, насколько возможно. В «Ночной прогулке», написанной по следам мандельштамовского «Нет, не спрятаться мне от великой муры…» («Мы с тобою поедем на „А” и на „Б” / Посмотреть, кто скорее умрет»), он раскрывает мандельштамовский трамвайный маршрут, наполняя его подробностями русской истории: o:p/
o:p /o:p
Мы поедем с тобою на «А» и на «Б» o:p/
мимо цирка и речки, завернутой в медь, o:p/
Где на Трубной, а можно сказать, на Трубе, o:p/
кто упал, кто пропал, кто остался сидеть. o:p/
<…> o:p/
И вчерашнее солнце в носилках несут, o:p/
и сегодняшний бред обнажает клыки. o:p/
Только ты в этом темном раскладе не туз. o:p/
Рифмы сбились с пути или вспять потекли. o:p/
o:p /o:p
Образ Пушкина у Мандельштама («вчерашнее солнце») соединяется с образом самого Мандельштама (цитируется сразу несколько его стихотворений, а «клыки» отсылают к «веку-волкодаву»), и в этой исторической «ночной прогулке», наряду еще и с Андреем Белым, Гумилевым и Межировым, темы которых тоже здесь звучат, участвует и сам поэт — вместе с безымянными теми, «кто упал, кто пропал, кто остался сидеть». История идет по трамвайному садовому кругу какой-то дурной российской бесконечности — «Мы еще поглядим, кто скорее умрет…». И если Мандельштам в свою эпоху воплотил опыт «поэта в аду» <![if !supportFootnotes]>[42]<![endif]> , то Ерёменко на новом витке истории явил своим стихом и своей личностью «поэта в бреду» — не в собственном, а в том самом советском бреду («и зачем весь этот бред»), который то смешон, то «обнажает клыки». При этом мандельштамовский опыт был Ерёменко усвоен и в стихах его как будто растворился, давая такие, например, вспышки: o:p/
o:p /o:p
Я прошел через водные трубы, o:p/
пионерская звонкая медь! o:p/
Подожги меня в огненной шубе, o:p/
как сосна до звезды умереть! o:p/
o:p /o:p
Огонь, вода и медные трубы, слава и смерть, «жаркая шуба» и сосна, которая у Мандельштама «до звезды достает» («За гремучую доблесть грядущих веков…»), соединились здесь в пылающий факел жизни — как красиво!
o:p /o:p
Можно искать и находить корни поэзии Ерёменко, но очевидно, что он ни у кого не учился, никакой школе не наследовал, да, собственно, и не имел развития — создав разом свой поэтический мир, он «от дедушки ушел, и от бабушки ушел», и на сегодняшний взгляд оказался в литературе аутсайдером. Но для тех, кто привык не только жить со стихами, но и думать о них, Ерёменко, как всякий настоящий поэт, обостряет главные вопросы: что, собственно, есть поэзия, из чего она возникает, где в ней игра и где судьба, какова мера творческой свободы и есть ли эта мера. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Костюков Леонид. Александр Ерёменко. OPUS MAGNUM. — «Знамя», 2002, № 9.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> Версии события см.: Арабов Юрий. Метареализм. Краткий курс <; ; Парщиков Алексей. Событийная канва <-parshchikov-sobytiynaya-kanva> .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> «А я вам — про Ерёму. Собрание стихотворений к шестидесятилетию А. В. Ерёменко». Сост. В. Лобанов. М., «Воймега», 2010.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> Бунимович Евгений. Разве есть поэт, кроме Ерёмы? — «Новая Газета», 1998, № 35 (507), 7 — 13 сентября.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> «Литературная газета», 1990, 11 июля.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> Курицын В. «Можно бант завязать — на звезде». — «Сегодня», 1994, 28 сентября. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> Шайтанов И. Дело вкуса: Книга о современной поэзии. М., «Время», 2007, стр. 356. О том же: Алехин А. Из века в век. (Субъективные заметки о десятилетии русской поэзии.) — «Вопросы литературы», 2004, № 6.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> Кукулин И. «Сумрачный лес» как предмет ажиотажного спроса, или Почему приставка «пост-» потеряла свое значение. — «Новое литературное обозрение», 2003, № 59. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> Давыдов Д. Александр Ерёменко в контексте эпохи. — В сб. «Современная русская литература: Проблемы изучения и преподавания. Сборник статей по материалам научно-практической конференции 28 февраля — 1 марта 2007 г. Пермь», 2007, стр. 299 — 303.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> Литературные манифесты от символизма до наших дней. М., «Согласие», 2000, стр. 33.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> Жданов И. «Я просто не слышу ненужного». — «НГ Exlibris», 2009, 4 июня.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> «Александр Ерёменко: мой первый сборник чуть не вышел в тюрьме» (интервью 1994 г.) <-interview> .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> Айзенберг М. «Уже скучает обобщение». — В кн.: Айзенберг М. Оправданное присутствие. М., «Baltrus»; «Новое издательство», 2005, стр. 14. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> «Александр Ерёменко: мой первый сборник чуть не вышел в тюрьме…»
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]> Курицын В. «Можно бант завязать — на звезде». — «Сегодня», 1994, 28 сентября; Кулакова М. Взгляд Александра Ерёменко. — «Знамя», 2001, № 5.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16 тт. Т. 6. М. — Л., 1937, стр. 541.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]> Ерёменко А. «Двенадцать лет в литературе». — «Юность», 1987, № 3.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[18]<![endif]> «Александр Ерёменко: мой первый сборник чуть не вышел в тюрьме…»
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[19]<![endif]> Новиков Вл. Однажды в студеную зимнюю пору. — «Литературная газета», 1990, 30 мая.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[20]<![endif]> Там же.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[21]<![endif]> Авторский вариант: «И разломаю хижину мою».
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[22]<![endif]> Авторский вариант: «Я всех вас видел где-то далеко».
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[23]<![endif]> Рассказ об этом см.: Новиков Вл. Однажды в студеную зимнюю пору…
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[24]<![endif]> Хлебников О. Король безмолвствует. — «Новая газета», 1998, 7 — 13 сентября. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[25]<![endif]> «Александр Ерёменко: мой первый сборник чуть не вышел в тюрьме…»
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[26]<![endif]> См. об этом: Гаспаров М. Л. «Люди в пейзаже» Бенедикта Лившица: поэтика анаколуфа. — Лотмановский сборник. Вып. 2. М., 1997, стр. 70 — 85.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[27]<![endif]> «Праздник слова. Интервью с Александром Ерёменко». — «Молодежь Алтая», 1993, 22 января.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[28]<![endif]> «Праздник слова. Интервью с Александром Ерёменко». — «Молодежь Алтая», 1993, 22 января.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[29]<![endif]> Ерёменко А. Двенадцать лет в литературе…
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[30]<![endif]> Мандельштам О. Э. Разговор о Данте. — В кн.: Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем в 3 тт. Т. 2, М., «Прогресс-Плеяда», 2010, стр. 156 — 157.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[31]<![endif]> «Александр Ерёменко: мой первый сборник чуть не вышел в тюрьме…»
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[32]<![endif]> Поэт — инструмент этики. Интервью с Марией Степановой. — «Книжное обозрение», 2006, 2 — 8 октября.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[33]<![endif]> Липовецкий М. Ересь Ерёменко. — В кн.: Ерёменко А. Опус магнум. Издание репринтное, двухтомное, альбомное повернутое флота Ее Величества старшим матросом покорным слугой нижайше. Сост. В. Курицына, Е. Касимова. М., 2010, стр. 338 — 341.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[34]<![endif]> Кулаков Вл. После катастрофы. Лирический стих бронзового века. — «Знамя», 1996, № 2.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[35]<![endif]> Анненский И. Избранное. М., 1987, стр. 306 — 307.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[36]<![endif]> Ср. у Юрия Домбровского: «„Я двенадцать часов провисел на дыбе и потерял за это время шестую часть своего мяса”. Но пять шестых этого страшного, истерзанного мяса продолжали жить, страдать, бороться и мечтать!» («Обезьяна приходит за своим черепом»).
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[37]<![endif]> Запись в черновиках восьмой главы «Евгения Онегина». — В кн.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16 тт. Т. 6. М. — Л., 1937, стр. 541.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[38]<![endif]> Об их парности писала М. Кулакова в статье «Взгляд Александра Ерёменко».
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[39]<![endif]> Юлия Немировская об этом стихотворении: «Абсурдная реакция на абсурдную действительность так же естественна, как то, что во время эпидемии гриппа люди болеют гриппом» («Литературная газета», 1990, 11 июля).
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[40]<![endif]> Пример совсем другого, глухо-семиотического прочтения «Самиздата-80» можно найти в статье: Гланц Т. Авторство и широко закрытые глаза параллельной культуры. — «Новое литературное обозрение», 2009, № 100.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[41]<![endif]> Губайловский Вл. Александр Ерёменко: пример деконструкции. Цит. по: «Русский журнал» <; .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[42]<![endif]> В отношении Мандельштама эта формула была предложена Л. М. Видгофом — на нем лежит и вся ответственность.
o:p /o:p
Ключи счастья
Жолковский Александр Константинович — филолог, прозаик
Жолковский Александр Константинович — филолог, прозаик. Родился в 1937 году в Москве. Окончил филфак МГУ. Автор двух десятков книг, в том числе монографии о синтаксисе языка сомали (1971, 2007), работ о Пушкине, Пастернаке, Ахматовой, Бабеле, инфинитивной поэзии. Среди последних книг — «Осторожно, треножник!» (2010), «Поэтика Пастернака. Инварианты, структуры, интертексты» (2011), «Очные ставки с властителем» (2011). Постоянный автор «Нового мира». Живет в Калифорнии и Москве.
За замечания и подсказки автор признателен Л. Г. Пановой.
Стихотворение, о котором пойдет речь, задевает первой же строчкой:
Юный слесарь большеглазый.
Юный слесарь отдает советскими стихами о производстве или кружке «Умелые руки», а эпитет большеглазый — сентиментальностью, то ли умилительно детской, то ли пряно декадентской. Вторая строка:
Большеглазый, большерукий
продолжает это балансирование: глаза и руки, конечно, нужны для слесарной работы, но ведь там дело, прежде всего, в сноровке, — к чему тогда фиксация на размерах органов юного техника, да и вообще на его внешности? И серия сложных прилагательных (что дальше — волоокий , крутобедрый ?..) с дразнящим амебейным подхватом: большеглазый / Большеглазый ? В этом любовании еще таким юным, но уже таким крупным экземпляром слышится что-то более волнующее.
Две следующие строки развивают рабочую тему:
Потерялся ключ от дома,
Смастеримне новый ключ,
но подозрения не отпадают, поскольку выясняется, что с самого начала лирическая героиня напрямую обращалась к юному красавцу, причем на «ты». Одновременно всплывают традиционно эротические коннотации ключа , фольклорные и литературные. Можно вспомнить грубоватый лимерик:
I know of a Scotsman, a Jock,
Who’s got the most extraordinary cock,
He’s lucky, you see,
‘Cause it’s shaped like a key,
And with it he can pick any girl’s lock [1]
А можно — изысканно замалчиваемое отсутствие ключа от квартиры в финале «Дара», относящее консуммацию взаимной любви героев за рамки повествования.
Как только наши догадки направляются в эту сторону, интригующая большеглазость-большерукость юного слесаря приводит на ум гипертрофию бабушкиных органов в сказке о «Красной Шапочке»:
Красная Шапочка прилегла рядом с Волком и спрашивает: — Бабушка, почему у вас такие большие руки ? — Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое. — Бабушка, почему у вас такие большие уши ? — Чтобы лучше слышать, дитя мое. — Бабушка, почему у вас такие большие глаза ? — Чтобы лучше видеть, дитя мое. — Бабушка, почему у вас такие большие зубы ? — А это чтоб скорее съесть тебя , дитя мое!
Не успела Красная Шапочка и охнуть, как Волк бросился на нее и проглотил.
Как известно, в психоаналитическом плане Волк набрасывается на Красную Шапочку вовсе не с гастрономическими, а с сексуальными целями. Но если та лишь наивно поддается на его хитрости, то лирическая героиня нашего стихотворения вполне сознательно, хотя и с некоторым лукавством, сама завлекает своего слесаря, причем параметры его членов не настораживают, а притягивают ее [2] .
Перекличка с «Красной Шапочкой» подхватывается во второй строфе, начинающейся с чтобы :
Чтобы он легко вставлялся ,
Поворачивался плавно,
Никогда бы не терялся
И на ощупь теплый был.
Видимость обыденного назначения ключа для порядка все еще соблюдается, но непристойные обертоны нарастают, пока не выдается, наконец, решающая улика: ключ должен быть на ощупь теплым . Тем вернее в эротическом коде прочитываются задним числом и остальные его свойства, напоминая о вероятном литературном подтексте — «Дебюте» Бродского (1970):
1
Сдав все свои экзамены, она
к себе в субботу пригласила друга ,
был вечер, и закупорена туго
была бутылка красного вина
<…>
и гость, на цыпочках прокравшись между
скрипучих стульев, снял свою одежду
с непрочно в стену вбитого гвоздя
<…>
[К] в артира в этот час еще спала.
<…>
и пустота, благоухая мылом,
ползла в нее через еще одно
отверстие, знакомящее с миром.
2
Дверь тихо притворившая рука
была — он вздрогнул — выпачкана; пряча
ее в карман, он услыхал, как сдача
с вина плеснула в недрах пиджака.
<…>
Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки
<…>
Он раздевался в комнате своей,
не глядя на припахивавший потом
ключ, подходящий к множеству дверей,
ошеломленный первым оборотом .
Бродский игриво насыщает свой текст фрейдистской символикой дефлорации, пенетрации и эякуляции: тут и ожидающая раскупоривания бутылка, и гвоздь в стене, и струйка штукатурки, и втекание в отверстие, и рука, проникающая в карман, и плеснувшая в него мелочь, и, наконец, первый оборот потного ключа к множеству дверей, ср. легко вставлялся и поворачивался плавно в нашем стихотворении. Дверь, кстати, появляется у Бродского заранее, а еще раньше — квартира девушки и приглашение туда друга , ср. разговор о потерявшемся и заказываемом на будущее ключе от дома .
2
Разговор о жилище, разумеется, не случаен: архетипический ключ призван отпереть все апартаменты женщины — ее квартиру, дом, сад, виноградник. Ср. в одной из «Александрийских песен» Кузмина:
Ах , наш сад, наш виноградник
надо чаще поливать
и сухие ветки яблонь
надо чаще подрезать
<…>
И калитка меж кустами
там прохожего манит
<…>
Мы в калитку всех пропустим,
мы для всех откроем сад,
мы не скупы : всякий может
взять наш спелый виноград.
Правда, тут дело обходится без ключа, поскольку песенку поют куртизанки [3] , но классический прототип всех подобных садов — это библейская «Песнь песней», где виноградник запирается и подлежит отпиранию:
…[я] смугла, ибо солнце опалило меня <…> поставили меня стеречь виноградники, — моего собственного виноградника я не стерегла (I, 5).
Друг мой <…> стоит у нас за стеною , заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку (II, 9).
[я] <…> нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей (III, 4).
Запертый сад — сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник <…> сад с гранатовыми яблоками. <…> Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его (IV, 12, 13, 16).
Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину , и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему <…> и с перстов моих мирра капала на ручки замка . Отперла я возлюбленному моему... (V, 4 — 6) [4] .
Наряду с домом и садом, символическим средоточием запертых сокровищ героини может служить шкатулка (вспомним три шкатулки Порции и ключи к ним в «Венецианском купце» [5] ), ларец, ларчик. Ср. у того же Кузмина, в «Истории рыцаря д’Алессио», песенку еще одной куртизанки, содержащую к тому же мотивы потери ключа и обращения к слесарю:
От ларчика ключ потеряла —
Где слесаря найти? <…>
Амур принес ключей связку <…>
Ах, много примерить надо,
Покуда подберешь,
Зато всегда как рада ,
Как ключ к ларцу найдешь.
Обратим внимание на частичное созвучие слов слесаря (в песенке) и рыцаря (в заглавии пьесы). Не подсказывает ли оно разгадку заинтересовавшего нас сочетания юный слесарь ?Похоже, что перед нами вариация на популярную тему юного рыцаря , мотивирующая изготовление ключа, проекцию в современный бытовой план и запретный роман утонченной героини с простым работягой.
Образ юного рыцаря (иногда пажа), восходящий к куртуазной традиции, был широко растиражирован в массовой советской культуре — благодаря «Балладе о юном рыцаре» (текст Вл. Лифшица, музыка Э. Колмановского; т/ф «Три дня в Москве»; 1974) [6] , написанной, как и наше стихотворение, в четырехстопном хорее:
Жил на свете юный рыцарь
<…>
На прекрасных сарацинок
Юный рыцарь не глядел,
Был застенчив словно инок,
И под панцирем худел
<...>
Не снимал стальные латы
Он ни ночью и ни днем,
Но висели эти латы ,
Как на вешалке на нем
<...>
Был тот рыцарь однолюб
<…>
[И] сгорел он от любви <...>
Размер этой «Баллады», как и центральный образ, позаимствован у Пушкина, бедный рыцарь которого тоже был по-своему закован в свое однолюбие, так что перекличка с мотивом запертости налицо и там:
Жил на свете рыцарь бедный
<...>
На дороге у креста
Видел он Марию деву,
Матерь господа Христа.
С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел,
И до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.
С той поры стальной решетки
Он с лица не подымал
<...>
Проводил он целы ночи
Перед ликом пресвятой
<...>
Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он строго заключен
<...>
Не путем-де волочился
Он за матушкой Христа.
Но пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего .
В свете «Гавриилиады» роман аскетического рыцаря, запершегося от земных женщин в стальную решетку, с пресвятой девой в конце концов впускающей его — на сугубо платонических началах — в свои небесные палаты, прочитывается вполне в духе интересующего нас топоса [7] . Так что лукавые знаки, подаваемые юному слесарю лирической героиней, обретают еще и этот, сакрально-кощунственный, пушкинско-евангельский ореол.
3
Архетипическая ситуация с ключом-фаллосом разработана в стихотворении очень тщательно. Мы уже отметили постепенность развертывания — загадывания / разгадывания — этого центрального тропа. Она соответствует поэтике непристойных загадок, рассмотренных Шкловским в статье «Искусство как прием» в качестве наглядного примера художественного построения вообще. При этом легкость намека, почти не нарушающего принятой игры в иносказание, достигается выбором решающей улики: ею служит не прямое указание на лишь брезживший до тех пор смысл, а сравнительно невинная «теплота на ощупь», хотя уже вполне тактильно-интимная, но по логике секса предшествующая вставлению и поворотам.
Лукавая иносказательность выдержана на нескольких уровнях сюжета. Так, мотив обращения с жизненными, в частности, любовными и семейными проблемами к посреднику-специалисту — мастеру, помощному зверю, трикстеру, волшебнику, богу любви — богато представлен в фольклоре и литературе. Магические помощники переносят героя в царство будущей невесты, помогают найти, отличить и покорить ее, предоставляют любовные напитки, обучают любовным заговорам.
Вспомним есенинского менялу, который переводит персидскую валюту в рубли, а объяснения в любви — даже не на фарси, а на язык взглядов и жестов:
Я спросил сегодня у менялы ,
Что дает за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?
<…>
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое «поцелуй»?
<…>
Как сказать ей, что она «моя»?
И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза , как яхонты, горят.
Поцелуй названья не имеет
<…>
«Ты — моя» сказать лишь могут руки ,
Что срывали черную чадру.
Роль помощников на свадьбе выполняют плотники из знаменитой эпиталамы Сапфо:
Эй, потолок поднимайте ,
О Гименей!
Выше, плотники , выше,
О Гименей!
Входит жених, подобный Арею,
Выше самых высоких мужей!
(Перевод В.В. Вересаева)
В русском и славянском фольклоре аналогичной магической фигурой является кузнец, способный «сковать свадьбу», причем обращаются к нему с этой просьбой на «ты». Ср. заговор на скорую свадьбу:
Идет кузнец из кузницы, несет кузнец три молота. Кузнец, кузнец, ты скуй мне венец, ты скуй мне венец и золот и нов, из остаточков золотой перстень, из обрезочков булавочку. Мне в этом венце венчаться, мне тем перстнем обручаться, мне той булавкой убрус притыкать.
Античный Амур-Купидон поражает своими стрелами избранные им или кем-то из персонажей цели. Ближе к нашему сюжету — эпизод из гонконгской эротической кинокомедии «Секс и дзен» (1991, реж. Mайкл Мак), в котором врач пришивает герою конский член, делающий его завидным любовником [8] .
Аналогичная функция отводится и нашему юному слесарю — с одной существенной поправкой. Судя по всему, ему предлагается не столько изготовить для героини желанный — в порядке классической фрейдовской penis envy — орган, сколько предоставить ей в постоянное пользование ( Чтобы он <…> Никогда бы не терялся ) свой собственный. Переход от буквального, металлического, ключа к переносному, теплому на ощупь фаллическому построен очень искусно, а венчает эту метаморфозу катартический эффект оживания неодушевленного дотоле артефакта, напоминающий о таких сюжетах, как сотворение Галатеи или Буратино. Но если Пигмалион не становится Галатеей, а папа Карло — Буратино, то юный слесарь вроде бы призван послужить героине сам.
Выбор на эту роль именно слесаря мотивирован отчетливо мужскими коннотациями его профессиональной деятельности, ср. лимерик:
There once was a plumber from Leigh,
Who was plumbing his girl by the sea.
She said: «Stop your plumbing ,
There’s somebody coming!»
Said the plumber , still plumbing : «It’s me!» [9]
Возвращаясь к юному слесарю, подчеркнем, что слияние в одной фигуре волшебного помощника и объекта вожделений героини дано полунамеком, в pendant к иносказательности самого образа ключа.
Под флагом поэтической условности проходят и такие аспекты ситуации, как снисхождение аристократки до аппетитного простолюдина. В традиционном фольклорном варианте ситуация, как правило, опосредуется соревнованием за руку принцессы, которое объявляет царь, обусловливающий брак решением трудной задачи.
Знаменитая ироническая вариация на этот мотив — баллада Гейне «Царь Рампсенит», где дочку фараона соблазняет, а затем получает в жены вор, располагающий волшебным ключом к сокровищам пирамид; фигурирует там и мотив руки:
Говорит царевна: «Вора Я поймала, да слукавил: Хвать его, а он в руке мне Руку мертвую оставил <...> У него есть ключ волшебный <...> Отпирает им он двери, И решетки, и ворота. Я не дверь ведь запертая — И хоть клад твой сберегала, Да и свой-то клад девичий Нынче ночью прогадала» <...> Нашу дщерь ему в супруги Отдаем беспрекословно И наследником престола Признаем его любовно (пер. Л. Мея).
Но в нашем сюжете героиня сама задает слесарю задачу, устраняя посредников. Некоторая двусмысленность, впрочем, остается и даже возрастает по мере развертывания сюжета.
4
Заказом на ключ-фаллос желания героини не ограничиваются. Их, этих фольклорных желаний, у нее, — как выясняется уже из заглавия, которое давно пора выписать, «Три ключа», заодно назвав, наконец, и имя автора, поэтессы и переводчицы Марины Бородицкой, — три. Вторым становится ключ совсем иного рода:
А еще, искусный мастер,
Смастери мне ключ скрипичный ,
Материнский и отцовский,
И со звоном мелодичным
К той же связке прикрепи.
Связка уже встречалась нам у Кузмина, слесарь, смастеривший первый ключ, по праву переименовывается теперь в мастера , а ключ каламбурно мутирует из эротического в эстетический. Эти метаморфозы возвращают мастеру его амбивалентную невинность: поскольку превращение его самого в скрипичный ключ вряд ли может иметься в виду, постольку хотя бы частично пересматривается и его предыдущая трансфигурация в фаллос. Тем более, что теперь героиня вроде бы забывает о размерах его глаз и рук, сосредотачиваясь исключительно на его волшебном мастерстве.
Семейная привязка нового ключа приблизительно читается как родство с музами и знаменует переход от любовно-житейской темы к творческой. Тем более, что «Три ключа» отсылают к одноименному пушкинскому тексту:
В степи мирской, печальной и безбрежной
Таинственно пробились три ключа:
Ключ юности, ключ быстрый и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча.
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит.
Последний ключ — холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит [10] .
Если первый, эротический, ключ Бородицкой соответствует, с вариациями, первому пушкинскому — ключу юности, то ее второй, скрипичный, естественно соотнести с его вторым — кастальским ключом вдохновения. Однако кастальскому ключу отводится следующая строфа — как третьему по счету:
А потом, чудесный слесарь,
Ключ мне выточи кастальский:
Как он выглядит, не знаю,
Но положено поэту
При себе его иметь.
Слесарь окончательно закрепляется в своем колдовском статусе, а заказ на вытачивание кастальского ключа по неведомой автору колодке подается с изящной автоиронией и нарастанием каламбурной магии.
Заодно, как бы невзначай, лирическое «я» презентирует себя в нейтрально-обобщенном мужском роде — как поэта , чем ретроспективно переосмысляется характер его интереса к фаллическому ключу. До сих пор я говорил о субъекте стихотворения как о лирической героине, ориентируясь на пол автора, но IV строфа подсказывает существенную поправку, правда, опять неоднозначную, ибо поэтом вправе называться и автор-женщина. Тем не менее на первые, эротические, строфы эта грамматическая тонкость бросает некоторый гомосексуальный отсвет, актуализирующий переклички со стихами Кузмина.
Что касается противопоставления скрипичного ключа кастальскому, то на фоне стихов поэтессы о детских занятиях музыкой [11] строфы III — IV читаются как рассказ о переходе от навязывавшейся родителями творческой несвободы к подлинному поэтическому призванию [12] . Таким образом, второй и третий ключи Бородицкой в совокупности соответствуют кастальскому ключу Пушкина. Несмотря на возникающий при этом некоторый сбой в отсчете (это уже три ключа? два? два с половиной?), пропорциональность сохраняется: на каждые две строки Пушкина о ключах Бородицкая отвечает двумя строфами.
5
Напрашивается вопрос: что же она будет делать с третьим ключом Пушкина? Ведь магическое число три вроде бы уже исчерпано? А между тем триада «Молодость — Творчество — Смерть» представляет собой поэтическую универсалию. Поэтесса находит нетривиальный выход: она и подключается к разговору о смерти, и позволяет себе — иронически, под знаком условной вседозволенности, тщательно разыгранной в стихотворении, и со ссылкой на традиционный, в частности горацианско-пушкинский, мотив поэтического бессмертия ( Нет, весь я не умру... [13] ) — от него отмахнуться:
А холодный ключ забвенья
Ты оставь себе на память,
Спрячь куда-нибудь подальше,
Чтобы дети не нашли.
Ведь холодный ключ забвенья
Нужен старым и усталым,
Кто не в силах больше помнить,
Мы же — вечно будем жить .
Тема смерти сопрягается с темой творчества — кастальский ключ отменяет потребность в ключе забвенья. На полушутливой ноте это подготовлено оксюморонным возвращением ключа забвенья мастеру напамять .
Композиционно победа над смертью использует прием, часто применяемый в финалах, — формулу «Перемена в последний раз»: в несколько ходов устанавливается некая инерция, а на последнем происходит внезапный поворот. В данном случае инерция особенно сильна, ибо диктуется готовым пушкинским сценарием, и тем эффектнее выглядит ее нарушение. Подобно пастернаковскому Гамлету ( Но сейчас идет другая драма, И на этот раз меня уволь [14] ), героиня решает уклониться от прописанного распорядка действий.
Отповедь Пушкину дается, как и все в стихотворении, иносказательно — в виде неожиданного отказа от очередной услуги мастера. Мастер при этом, с одной стороны, понижается в ранге — отправляется куда-то в детскую, а с другой — чуть ли не на равных правах (подобно Сальери) приобщается к компании счастливцев праздных — самой поэтессы и Пушкина: Мы же — вечно будем жить .
Интонационно отповедь классику кладется на мотив еще одного авторитетного поэтического подтекста. Она проговаривается в узнаваемо женском, одновременно капризном и скромном паче гордости ахматовском тоне, сравните:
Я пришла к поэту в гости
<…>
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!
У него глаза такие ,
Что запомнить каждый должен;
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть .
Заимствуется не только способность отказаться от подчинения великому Поэту-мужчине (во внешности которого, как и у юного слесаря , выделяются глаза ), но и поэтический формат — четырехстопный нерифмованный, так называемый испанский, хорей. Бородицкая отвечает Пушкину не в его размере (пятистопном ямбе), а в ахматовском, но ведь, как мы помним, четырехстопным хореем, правда рифмованным, написан и «Бедный рыцарь», послуживший одним из камертонов обращения к юному слесарю, а испанским — «Рампсенит» Гейне. Гамма семантических ореолов четырехстопного хорея включает балладность, волшебность, фольклорность, частушечность, «гейнеообразную» ироничность, вообще всякого рода игровую условность.
Так, с соблюдением пропорции: по два четверостишия 4-стопного хорея на каждые две строки 5-стопного ямба, завершается полемическая вариация Бородицкой на «Три ключа» Пушкина, выдержанная в нарочито условном ритме [15] .
В спор поэтесса вступает, конечно, не только с Пушкиным, но и с вековой экзистенциальной мудростью. И меняет при этом она не только версификационный формат стихотворения (размер и строфику), но и жанровый: вместо описания трех ключей в объективном 3-м лице, она заводит прямой и достаточно властный разговор с их изготовителем, чтобы в кульминационный момент отказаться от стандартного решения.
Выбор ключей и стоящих за ними ларцов, женихов, невест и судеб — архетипический мотив, фигурирующий в уже упоминавшемся «Венецианском купце» и в посвященной ему, «Королю Лиру», «Золушке» и ряду родственных сюжетов в работе Фрейда «Мотив выбора ларца» (1913) [16] . Согласно Фрейду, выбор не золотого или серебряного, а правильного, свинцового, ларца и, соответственно, молчаливой, немой, бледной, но прекрасной и любящей женщины символизирует приятие смерти, воображаемой для этого в виде красавицы.
По видимости Бородицкая от холодного ключа забвенья, то есть смерти, открещивается. Но в сущности она повторяет жест психоаналитически амбивалентного отрицания/приятия — разыгрывает финальную попытку забыть о забвении, шутливым предвестием чего был каламбур о взятии символа забвения на память. Собственно, ради заблаговременного обоснования этого финального беспредела и нагромождались все предыдущие поэтические вольности с заказами на фаллический, скрипичный и кастальский ключи. Одобрив их, мы должны одобрить и отрицание смерти.
6
Боюсь, что многое из сказанного покажется читателю рискованным. Ниже я приведу представительную антологию фрагментов из стихов Бородицкой [17] , чтобы показать, что за «Тремя ключами» стоят характерные для поэтессы мотивы:
потребность во внимании, жажда и поиск любви
эротическое переживание прикосновений, объятий, глаз, рук, секса
фрейдистская символика
детский дворовый опыт и любовь к простым работягам
пристрастие к ласкательным сложным словам
гендерная амбивалентность
семейные мотивы, восприятие жизни и стихов как собственного дома
чудесные метаморфозы, в частности — каламбурные
обращения к волшебным посредникам
размышления о смерти/бессмертии, Лете, забвении
любовь к неожиданным решениям
Как водится, инвариантные мотивы постоянно переплетаются друг с другом, но я постараюсь иллюстрировать их по отдельности, предоставив следить за их многочисленными совмещениями читателю.
Потребность в любви
И в толпе, хоть раз в декаду, Страж мой милый, ангел мой Для меня организует Восхищенный взгляд мужской. Так чего же мне бояться? <…> Что не можно с ним обняться?
Суженый, ряженый, объявись! <…> Только войди! Встань у плеча!
Не спрошу любви и ласки — Просто постою.
Поведи меня в консерваторию <…> Поведи в джаз-клуб меня сегодня <…> Или поведи меня в пивную <…> Дотемна, до детского невроза Жду тебя, как дедушку Мороза! Но душа уже подозревает, Что тебя на свете не бывает.
Ей нужен дикий Буратино: Упрямый рот, нахальный взгляд, В чернилах нос, в карманах руки, А в мыслях — дверка для ключа.
А я и рада бы выйти, я собралась бы за пару минут, Но меня уж ни с кем не путают и никуда не зовут.
Если руки скрестить на груди И ладонями плечи обнять, То как будто бы есть впереди, Чем изнеженный взор свой занять.
Где ты, невинность? <…> И от младенчества сами себя отлучили, — Так и стареем, а замуж никто не берет.
Тактильная или половая близость, руки, глаза
Твоя куртка в шкафу стенном Обнимает мою за плечи.
Свет твоих виноватых глаз.
Я не верила, что электричество водится всюду, Чуть притронулась — и затрещало, и всю затрясло. Кареглазый учитель, явись из глубин лаборантской, Что-нибудь отключи, расконтачь, эту дрожь пресеки! <…> Не дотронусь до юной твоей долгопалой руки.
О касанье вопиет кожа.
В зеркалах проделай пассы, Жизнь из мрака сотвори. Ножниц хищное круженье...
Я раздеваю солдата, Спящего праведным сном. Вот кобура уже снята, И гимнастерка с ремнем Я раздеваю солдата Прямо-таки до белья. Знаю, скандалом чревата Бесцеремонность моя.
И в мужских глазах отразится узор ковра, И останется в женских — лепной узор потолка <…> разница тел, которая так сладка <…> Вечно в небо глазеют притиснутые к земле И уставились в землю — вздымающиеся ввысь.
Аборигенка, страстно воркуя, тянет к нему два растопыренных щупальца.
В метро с тобою встану рядом, Чуть придержусь, чтоб не упасть, И горьким, горьким шоколадом Заем украденную сласть.
Прикоснулась к твоим усам, Помахала рукой <…> Дух табачный в твоих усах — Не стряхнуть, не смыть. Но про это нельзя писать. Можно только выть.
См. также стихотворение «Кормящая» в прим. 4.
Фрейдистская образность
Японская береза. <…> И мальчик, по-индейски меднокож, Сливался с ней, обхватывал ногами И плавно поднимался — так, что дрожь По всем соседним кронам шла кругами. И к той древесной гладкости прильнуть <…> Мешала только маленькая грудь, Болевшая от всякого касанья. Есть дерево <…> Как первых стыдных мыслей детский зуд, Осталось в глубине чужого сада <…> Я мысленно целую круглый срез Со всей историей внутриутробной.
Ох, подружки, удержите от греха: Лезет в голову такая чепуха! <…> Огурец ли очищаешь иль морковь — Как скаженная бежит по жилам кровь <…> Ох подружки, ох старушки, караул! Мне петрушки корешочек подмигнул. Всюду в мире небывалые дела, В холодильнике картошка родила.
«Амур-р! Амур-р!» — взывает серый кот <…> Мелькни! стрельни! задень, хотя бы тронь! — Седой профессор теребит бородку, И в узком стойле медногрудый конь С размаху бьется о перегородку <…> Амур! Амур! Лукав пунцовый рот, Но детский лепет твой повсюду понят: Лосось полуживой к верховьям прет, И ласточка кричит, и голубь стонет .
«Коли снятся сны на языке заморском — с переводчицей ложись!» Ловко, правда?
Сюда же можно отнести два перевода Бородицкой (из Роберта Геррика, 1591 — 1674) — как свидетельства ее профессиональной работы с эротическими мотивами.
«Вьюнок»: Приснилось мне — вот странный случай! — Что я — садовый вьюн ползучий: Курчавый, цепкий, как горох, И Люси я застал врасплох. Своими усиками крошке По всей длине оплел я ножки, Опутал бедра и живот, И ягодиц округлый свод; Вверх по спине взобравшись ловко, Листвой и гроздьями головку Украсил ей: с такой обновкой Она являла чудный вид — Как юный Вакх, лозой увит. Мои побеги, словно змейки, Повисли, щекоча, на шейке, Ей спеленали плечи, грудь —Так, что рукой не шевельнуть. Когда ж отросток мой зеленый Подкрался к дверце потаенной, Таких вкусил я сладких мук, Что, пробудившись, понял вдруг: Желанная исчезла дева, А стебель обратился в древо.
«Юбка Джулии»: Сколь сладок был мне вид чудесный, Когда летучий шелк небесный, Листвой усыпан золотой, Заколыхался предо мной! То он вздымался горделиво, То трепетал нетерпеливо, Как парус, что команды ждет, Готовый унестись вперед, То вдруг раскидывался грозно, Как небосвод, всей ширью звездной. На солнце вспыхивал подол, Цветами огненными цвел, То прочь стремился безоглядно, То ноги обвивал столь жадно, Что жар я в членах ощутил И перед милою без сил Простерся, как в преддверье рая, В истоме сладостной сгорая… И влекся я, как Моисей, За облачным столпом — за ней, — И вечности мне было мало, Чтоб наглядеться до отвала.
Сложные ласкательные прилагательные
Кареглазый учитель <…> Не дотронусь до юной твоей долгопалой руки.
Белокурый, белокрылый Парикмахер молодой, Долгоногий, долговласый....
О сребролукий,маленький Амур...
Трудоголик мой прекрасный, Свежевымытая челка, Белокурою Роксаной Выйди на балкон! Длинноногая отрава...
Там курсируют амуры И над Летою-рекой Машет правнук белокурый Мне породистой рукой.
И мальчик, по-индейски меднокож...
Белокурый мальчишка, поэт, нараспашку пальто, а быть может, и смуглый, глазастый такой абрикос...
Над расстегнутой рубашкой, Большеротый, чуть живой, Смотрит голой черепашкой Стих молочно-восковой.
Андрогинность
Возьми меня в ученики И говори мне: мальчик. Мне все прозванья велики, Ты говори мне — мальчик <…> И даже, коль захочешь ты, Оденусь, как девчонки.
Я вензель свой рисую как могу Мальчишеским ботинком тупоносым.
У меня большой репертуар <…> Я характерная, скажем прямо, Я — немолодая травести, Федру, Клеопатру, Клитемнестру, А потом Петрушку позову. Сонного Ромео запах млечный Захлестнет наш хлипкий балаган, И Меркуцио, трепач беспечный, Мертвым упадет к твоим ногам. Я тебе сыграю все на свете.
Сшиб я в «Глобусе» пару контрамарок на премьеру «Идеального мужа», — этот педик, говорят, не бездарен.
Перед отправкой в лагерь остригли косы <…> Шорты купили и голубую майку, И тюбетейку от солнца — узорчатый край. Спрашивали: «Ты девочка или мальчик?» Вот было счастье — ответить: «А угадай!» <…> Дядьку смутишь незнакомого в пух и прах, Есть у десятилеток римское право: Быть пацаненком в юбке, девкой в штанах <…> Муза моя, ты девочка или мальчик? Ты — Керубино: смейся, лукавь, замри!
Пред небесной медкомиссией стоит мой жалкий дух: <…> — Ты слонялся, ты повесничал, валял дурака <…> Высоты не взял завещанной, не отнял у тьмы, — Ты опять проснешься женщиной в начале зимы.
Дворовое детство, вкус к плебеям
А дома спросят: «Кто тебя?» А я скажу: «Сама!» «Вольно ж тебе с хулиганьем!» — В сердцах воскликнет мать <…> А Санька, белокурый бог, Заедет мне под дых! <…> Но крыша возле чердака Звенит, как зыбкий наст, Но чья-то грязная рука Скатиться мне не даст, И я вдохну все звуки дня, Весь двор — со всех сторон — И никогда уж из меня Не выдохнется он!
Белокурый, белокрылый Парикмахер молодой...
Говорят, моя прабабка Согрешила с кузнецом <…> Говорят, кузнец прабабку На одной руке носил <…> И с буфетчиком Петрушей Напоследок согрешу.
Суровый сантехник Виталя При встрече мне рад, как родне.
Если плотно сощурить глаза И смотреть на окно, не в окно, Там как будто японский пейзаж И садовник в простом кимоно <…> И пускай здесь десятый этаж И фонтанит прокрученный кран, Есть в окошке японский пейзаж И звонит удверей техник-сан.
Девочка в очках, со школьной стрижкой <…> Так и пропадает с той поры. Что-то сотворили с ней дворы?
Стихи и жизнь — дом с дверями
Стихотворенье — домик, Его легко сложить <…> Стихотворенье — род жилья, Вместительный приют: <…> Давно прошедшие мужья Все мирно там живут <…> А тот, веселый и хмельной, Чужой, должно быть, муж, В стихи заходит как домой И принимает душ.
Я хотела убежать в книжку, Но захлопнулась, как дверь, книжка.
Обустроиться в стихотворенье: Прилепить картинки тут и там, Рифмы, как соленья и варенья, В кладовой расставить по местам. Вделать дверь, закрывшись от Вселенной, И окошко с круглою луной, И скрепить навечно пол и стены Собственной, как ласточка, слюной.
Волшебные помощники
Парикмахер молодой <…> Завари со мною кашу, Из промерзших воскреси. Жизнь из мрака сотвори. Ножниц хищное круженье, Солнечная благодать… Я готова постриженье И помазанье принять .
Амур! Амур! Лукав пунцовый рот, Но детский лепет твой повсюду понят: Лосось полуживой к верховьям прет, И ласточка кричит, и голубь стонет.
Присел амур на подоконник, Но я ему сказала: «Кыш!»
Молча ждет, чтоб растереть мне спину, Ангел мой, гример и костюмер.
Вот монетка, музыкант смуглый, Протруби мне в свой рожок млечный, Дай ударить в барабан круглый, Забери меня в свой ритм вечный.
Еще разок, мой сладкий — осаль, задень, кольни! Из лука, из рогатки, из трубочки пальни! А если ты без лука и звать тебя Гермес...
Каламбурные ходы
Ты велел мне взять себя в руки — Строгим голосом, как большой <…> Милый, с нами ведь как с детьми: Приезжай, покажи, как надо, В руки, в руки меня возьми.
«Амур-р! Амур-р!» — взывает серый кот <…> Амур! Амур! Лукав пунцовый рот, Но детский лепет твой повсюду понят.
Перед отправкой в лагерь остригли косы <…> Нет, в пионерский, конечно, что за вопросы, — Где тихий час и речка, лес и компот.
Есть в окошке японский пейзаж И звонит у дверей техник-сан.
Парикмахер молодой <…> Я готова постриженье И помазанье принять .
Тут пришли ко мне мертвые поэты <…> и сказал мне ловелас, Ричард Лавлейс...
Лета, забвение, бессмертие
Давай барахтаться, как та Хваленая лягушка. Давай барахтаться, давай, В кувшине, полном Леты: Сбивай проклятую, сбивай В катрены и терцеты! <…> Забвенья вечного хлебнуть — Уж это мы успеем.
У вечности глазастой под вопросом, Я вензель свой рисую как могу Мальчишеским ботинком тупоносым. <…> И все развеется, как снежный прах, Все в Лету утечет с весной слезливой! <…> и медная труба — Слышна, хоть с головой в сугроб заройся! — И обнимая, шепчет мне Судьба: «Закрой глаза и ничего не бойся».
Попросили меня раз в «Иностранке» перевесть современного поэта, англоговорящего, живого, — «Ведь не все ж мертвецов тебе толмачить!» Вот раскрыла я живого поэта — <…> Веет смертью от его верлибров <…> я прочла и умерла, не сдержалась. Тут пришли ко мне мертвые поэты <…> и сказал мне ловелас, Ричард Лавлейс: — Слышал в Тауэре свежую хохму, «Коли снятся сны на языке заморском — с переводчицей ложись!» Ловко, правда? <…> Я воскресла, поглядела в окошко, отложила современного поэта.
Лет спустя пятьдесят — а быть может, и сто — Белокурый мальчишка, поэт, нараспашку пальто <…> Откопает мой стих, словно косточку юный барбос <…> И в архив полетит он <…> И друзьям он читать меня станет, и грозно взирать <…> И в окошко глазеть, и такую шептать ерунду...
Обустроиться в стихотворенье: <…> И скрепить навечно пол и стены Собственной, как ласточка, слюной <…> Пусть кому-то повар желтолицый Сварит суп из твоего гнезда.
Я сказала б тебе, брат <…> что вагон наш во тьме — свят и что поезд ведет Бог <…> что не все там, в конце — прах, что никто не умрет весь.
Второстепенные английские поэты, вы руки тянете ко мне из темной Леты и, как детдомовская ребятня: — Меня, — кричите вы, — меня, меня! Да я сама тут запасным стою хористом, да я случайно забрела на эту пристань <…> Первостепенные английские поэты давно пристроены и кушают котлеты, забвенья молчаливая вода над ними не сомкнется никогда. А я переднего уже тяну, как репку, и кто-то сильный встал за мной и держит крепко, и вся компания — а стало быть, и я — за шкирку выхвачена из небытия.
Вышел дед к Михалычу в кофте белой: — Пособи, — грит, — малость, а? ключ заело. Подточил бородку он, вставил ключик, видит — за воротами пруд блескучий, лодка плоскодонная, лес нечастый, небо подметенное, луг цветастый. Старичок догадливый подал руку: — Ну бывай, заглядывай, скрасим скуку. И Михалыч с горочки двинул к пляжу, — Буду, — молвил, — вскорости, петли смажу.
Свободный выбор, перемена решения
У меня большой репертуар <…> Но сейчас идет другая драма, И нельзя мне труппу подвести.
Обустроиться в стихотворенье <…> Надышать, прибраться, утеплиться, А потом уехать навсегда.
Еще последняя нам сласть дана в наследство: сначала в отрочество впасть, не сразу в детство <…> Там можно сделать встречный шаг, как одолженье, и целоваться просто так, без продолженья.
Свет Наташа! Уезжай с Курагиным <…> Но сегодня — твой он, всем кипением Юности, и жажды, и пурги <…> Пропадать — так с музыкой и пением. Все готово, дурочка. Беги!
Корделия , ты дура! Неужели Так трудно было старику поддаться? Сказать ему: «Я тоже, милый папа, Люблю вас больше жизни». Всех-то дел! Хотела, чтобы сам он догадался, Кто лучшая из дочерей? Гордячка! Теперь он мертв, ты тоже, все мертвы <…> Читай, читай, Смотри, что ты наделала, дуреха! Ну ладно, не реви. Конечно, автор — Тот фрукт еще, но в следующий раз Ты своевольничай, сопротивляйся: Виола, Розалинда, Катарина Смогли, а ты чем хуже? Как щенок, Тяни его зубами за штанину — В игру, в комедию! Законы жанра Нас выведут на свет…
О, как нам нужен еще один неожиданный поворот — такой, что даже мисс Марпл с ходу не разберет. когда уже дело ясно, как цейсовское стекло <…> и над последней главою автор занес перо, когда до конца осталось страниц, ну, может, пяток, — пусть будет та самая малость: еще один завиток <…> Один, последний, нежданный, негаданный ход конем — и мы поменяем планы, не ляжем и не уснем.
Как видим, «Три ключа» — плоть от плоти излюбленной мотивики Марины Бородицкой.
[1] Русскую параллель см. в частушке:
Мильцанер , а мильцанер, Меня обокрали. К моей целочке вчера Ключи подобрали.
Ср. еще:
There was an old man of Dundee, Who came home as drunk as could be. He wound up the clock . With the end of his cock, And buggered his wife with the key .
Русская параллель:
Уронил часы в ... я — Тикают проклятые. Я их ... завожу В половину пятого.
[2] Согласно позднейшим интерпретациям, не Волк насилует Красную Шапочку, а она соблазняет его; см.: Берн Э. Люди, которые играют в игры. М., «Современный литератор», 2002, стр. 37 — 42.
[3] См.: Панова Л. Русский Египет. Александрийская поэтика Михаила Кузмина. М., «Водолей», 2006, кн. I, стр. 413 — 414.
[4] У Бородицкой есть вариация на одну из тем «Песни песней»:
Мой возлюбленный, проснулся ты в ночи, Ищешь грудь мою, спешишь приникнуть к ней, Что подобна двойням серны. О, молчи! Сколь прекрасен ты собою, царь царей! Твой живот смуглее чаши золотой, Естество нежнее лилий на ветру. Освежите меня яблок кожурой, А уж мякоть я на терочке натру. Мед и млеко у тебя под языком, Я не чую, что сосцы мои в крови. Подкрепите меня чаем с молоком, Ибо я изнемогаю от любви («Кормящая»).
Тема «запертости на замок», восходящая к «Песни песней», лежит в основе пастернаковского «Дик прием был, дик приход...»:
Если губы на замке, Вешай с улицы другой. Нет, не на дверь, не в пробой, Если на сердце запрет, Но на весь одной тобой Немутимо белый свет, Чтобы знал, как балки брус По-над лбом проволоку, Что в глаза твои упрусь, В непрорубную тоску. <…> Гарь на солнце под замком, Гниль на веснах взаперти…
[5] Ларец, ключи, запертый дом и похищаемые в пользу будущего мужа сокровища фигурируют и в сюжетной линии еврейки Джессики.
[6] О массовой популярности этого топоса свидетельствует, например, такой графоманский текст <-paday-na-koleni-yunyiy-ryitsar-ya-kazhdyiy-den-mechtala-o-takom/> ; 12.03.12):
Не падай на колени юный рыцарь, я каждый день мечтала о таком, Красивом, храбром, добром, званом принце, но сердце разукрашено замком . Стоишь мурлычешь что-то мне на ушко, глаза твои сияют от любви, А я такая девушка-простушка, но не могу я с вами не на вы. Ты за меня сражаешься упрямо, цветы к моим ногам и годы ты со мной. За это время я и не слыхала, чтобы встречался ты с какой-нибудь другой. Ты смотришь на меня, и только слово, и понимаю: я с тобой на век… Но понимаешь ты? на мне оковы! ведь в сердце есть любимый человек!
[7] Любопытно, что еще одна современная ироническая вариация на пушкинскую тему, «Баллада о гордом рыцаре» Игоря Иртеньева (1991), тоже строится на фаллическом образе, отчасти родственном мотиву ключа:
За высоким за забором Гордый рыцарь в замке жил, Он на все вокруг с прибором Б ез разбора положил <…> И промолвил Вседержитель <…> До меня дошел сигнал, Что ты клал на все с прибором. Отвечает рыцарь: клал ! <…> Бог вздохнул: ну что ж, иди, Хочешь класть на все с прибором, Что поделаешь, клади < -igor/ballada-o-gordom-ritsare.html> .
[8] Фильм вольно опирается на сюжет китайского эротического романа XVII в. «Ковер для телесных молитв» писателя Ли Ю. Ср. аналогичный мотив в русской частушке о кузнице:
Тятька кузницу построил И сказал: «Сыночек, куй!» Одна девка заказала Девятипудовый ... !
[9] Впрочем, подобные коннотации охотно вчитываются и в представления о некоторых других профессиях, сравните:
There once was a dentist named Stone Who saw all his patients alone. In a fit of depravity He filled the wrong cavity , And my, how his practice has grown!
Сексуальные фантазии вокруг зубоврачебного дела остроумно обыграны в главе 14 «Печерских антиков» Лескова — истории про привлекательный для дам «повертон».
Есть в частушках и образ обобщенного мастерового:
У меня какой залетка — У меня мастеровой. В одну ночку сделал дочку И с кудрявой головой.
[10] О генезисе и интертекстуальных связях этого стихотворения см.: Благой Д. Творческий путь Пушкина, 1826 — 1830 (гл. 2, ч. 6). Цит. по <-pushkina-2-6.htm> .
[11] Отец-скрипач фигурирует и в стихах Бородицкой о детстве, где он ее
Доводит во мраке до школьных ворот И дальше, сутулясь, со скрипкой идет.
Ср. еще:
А дома — ноты стопкою; Девочке в очках и с нотной папкой Матерью говорено и бабкой <…> Девочка в очках, со школьной стрижкой, С погнутым «Сольфеджио» под мышкой ,
В раннем детстве слова отбили меня у нот <…> Потом слова отбивали меня у мужей: одного взяли штурмом, другого измором.
[12] Ср. авторское разъяснение (в электронном письме ко мне от 18.03.13). «У меня родители — музыканты: папа был замечательный скрипач, мама — пианистка, преподаватель. Так что детство с музыкой прочно связано, хотя я ей сопротивлялась отчаянно. Сестра младшая тоже музыкант <…> а я вот ускользнула в „музыку иную”».
Скрипичный ключ — нотный знак, с которым имеют дело не только скрипачи, но и пианисты, и вообще все музыканты.
[13] Ср.: ... что никто не умрет весь в другом стихотворении Бородицкой.
[14] Ср.: Но сейчас идет другая драма, И нельзя мне труппу подвести в другом стихотворении (см. ниже, раздел 6).
[15] При первой публикации — в составе подборки «Три ключа» («Новый мир», 1998, № 1) — VI строфа была опущена по просьбе редактора отдела поэзии Олега Чухонцева, которому «послышался в ней какой-то излишний запал, потенциально обидный для ёстарых и усталых”» (электронное письмо Бородицкой от 18.03.13). Полный текст — в кн.: Бородицкая Марина. «Оказывается, можно!» М., «Время», 2005, стр. 56.
[16] Фрейд З. Мотив выбора ларца. — В кн.: «Классический психоанализ и художественная литература», СПб., «Питер», 2002, стр. 35 — 46.
[17] В основном из книги «Оказывается, можно!» и публикаций, размещенных в «Журнальном зале»: < / >.
Калейдоскопы памяти
Странники войны. Воспоминания детей писателей. 1941 — 1944. Автор-составитель Наталья Громова. М., «Астрель», 2012, 446 стр.
Нельзя уйти в отпуск от своего времени!
Макс Фриш «Листки из вещевого мешка»
Наталья Громова — землепроходец-первооткрыватель, в девяностые годы ей удалось разведать на литературной карте нашей страны целый материк, совершенно неведомые, нехоженые края. С той поры освоение новых культурных территорий идет последовательно и методично. Книга «Странники войны» продолжает серию издательских проектов Громовой о судьбах отечественных литераторов первой половины ХХ века («Распад», 2000; «Дальний Чистополь на Каме», 2005; «Все в чужое глядят окно», 2005; «Узел», 2006; «Эвакуация идет», 2008).
Отдельные главы нового сборника (о Георгии Эфроне и Всеволоде Багрицком) уже знакомы читателю по книге «Эвакуация идет» и журнальным публикациям, однако вся вторая часть, состоящая из воспоминаний писательских детей, во время войны вывезенных в чистопольский интернат Литфонда, представляет собой новый, абсолютно уникальный материал. В книгах Громовой выстаиваются в один ряд и занимают равные позиции абсолютно разные явления: книги, города, люди, отдельные события. Все подвергается оценке и анализу, преображается в яркие образы прошлого: «Возраст катится к восьмидесяти, и, оглядываясь на прожитые годы, в минуты, когда от нынешнего безобразия подкатывает к горлу комок тошноты, вспоминаю, как много успело случиться в этой жизни хорошего: мне подарили собаку, кончилась война, подох Сталин, вернулись из лагерей друзья и их родители » (из воспоминаний Елены Закс).
Сама Наталья Громова неоднократно отмечала, что ее работы служат своеобразным продолжением «Чистопольских страниц» (1987). Однако если знаменитый альманах представляет собой антологию поэзии, прозы, воспоминаний и писем писателей, находившихся в эвакуации, то Громова работает в несколько ином, удивительно точно найденном жанре. Ее книги — не сухие и строго фактологические научные исследования, ориентированные на узкий круг специалистов, но в то же время и не биографические романы, в которых сложно отделить правду от вымысла и домысла. Громовой удается сочетать почти несовместимое: скепсис дотошного архивного разыскателя, летописца и пафос жизнеописателя, прикипевшего сердцем к своим героям. Вот и получается, что строго документированные сухие факты у Натальи Громовой изложены увлекательней иного романа.
Название «Странники войны» отсылает читателя к сгинувшему в архивах спецслужб (за исключением нескольких восстановленных по памяти фрагментов) роману Даниила Андреева «Странники ночи». Речь в романе шла о тридцатых годах, когда любые «духовные искания» были не в чести. По мысли писателя, все эпохи делятся на красные и синие. Первые несут в себе преобладание материальных ценностей, вторые — предполагают расцвет ценностей духовных. Задача «странников ночи» предельно ясна и важна: переломить время к синему цвету. Громова описывает те же годы, что и Андреев, и то же (и следующее непосредственно за ним) поколение. Эмоциональная доминанта «красной» эпохи — страх, вызванный полным непониманием происходящего, невозможностью обнаружить в событиях какую бы то ни было осмысленность и логику. Каждый из героев книги Натальи Громовой понимает, что за ним или его родными могут прийти в любой момент, поскольку «правильной» модели поведения не существует в принципе. Предвоенные газеты трубят о победоносном шествии пятилеток, но многие мыслящие современники тридцатых годов вопреки казенному оптимизму все больше ощущают, что государство диктатуры пролетариата погружается в духовную смуту и хаос. Поэтому начавшаяся война могла быть воспринята как необходимая очистительная жертва. Только ценой бед и лишений можно искупить каждодневные падения плоти и духа, в смертельной опасности — обрести точку опоры и шанс на спасение. Чем отсиживаться в тылу, лучше любыми путями попасть в действующую армию, туда, где совершается история, — так поступают Георгий Эфрон и Всеволод Багрицкий, Никита Шкловский и Юник Кушнирович.
В наши дни в разных странах опубликованы сотни и сотни дневников участников великой войны, поэтому аналогии, иногда не самые очевидные, напрашиваются сами собой. Вот, например, что пишет только что призванный Эрнст Юнгер, правда, о Первой мировой:
«Мы покинули аудитории, парты и верстаки и за краткие недели обучения слились в единую, большую, восторженную массу. <…> Война, как дурман, опьяняла нас. Мы выезжали под дождем цветов, в хмельных мечтаниях о крови и розах. Ведь война обещала нам все: величие, силу, торжество. <…> Ах, только бы не остаться дома, только бы быть сопричастным всему этому!» [1] . Но, в отличие от Юнгера, все четверо героев книги Громовой погибнут: Георгий и Всеволод почти сразу, Никита и Юник — за несколько месяцев до Победы.
Книга «Странники войны» открывает читателю подлинную повседневную канву непосредственно переживаемого времени. Эффект достигается полифонией, множеством приводимых историй и точек зрения. Воспоминания о писателях первого, второго и последующих рядов соседствуют по праву человеческой и исторической памяти. Время не щадит никого, ошибки и подмены, совершенные мемуаристами, по прошествии десятилетий попросту неизбежны. Но тем ценнее этот калейдоскоп попыток воскресить прошлое. Одни и те же события (а помнят все герои действительно почти одно и тоже) становятся реперными точками, вокруг которых ведется рассказ: приезд в Чистополь — размещение — учителя, влюбленности — гибель мальчиков от разрыва снаряда — призывы на фронт — Новый год — арест родных или близких — лагерь. Таким образом, тщательно структурированная книга представляет собой подобие муравейника совершенно особого рода: здесь незыблемы и просты обязанности каждого рядового насекомого, но отсутствует муравьиная королева, матка, т. е. организующий композиционный центр рассказывания и оценки случившегося. Оставлен лишь внешний фон, пунктир основных событий, и в конце концов именно он оказывается первостепенно важен, парадоксальным образом занимает в книге центральное положение.
Среди героев громовского сборника нет главного, наиболее авторитетного, все картинки памяти существенны, почти не зависимо от масштаба личности вспоминающего и степени достоверности его рассказа. Не концентрированный, четко наведенный на резкость взгляд на фоне размытых фоновых кадров, но вся панорама, мозаика, несводимая к единой картине, — вот что в первую очередь интересует Наталью Громову. Здесь — особое, виртуозное мастерство исследователя: один источник имеет мало силы, двух тоже недостаточно, но вот их обнаруживается четыре, пять, десять — и документ начинает говорить за себя сам, набирая совсем иной градус изобразительной силы, достоверности и убедительности.
Именно таким образом достигается эффект синергии, автор ведет читателя « назад, к самим вещам! » совершенно в духе феноменологии Гуссерля. Особое значение приобретает не сам исторический объект (эпоха, интернат, люди, события), а объект в составе субъективного переживания, объект вспоминаемый [2] .
Тема литературных разысканий Натальи Громовой интересна своей двойной замкнутостью, абсолютной ограниченностью во времени и пространстве. Речь идет о закрытом «литфондовском» сообществе, члены которого и в мирное-то время в большинстве своем жили в особых «писательских гнездах» (дом в Лаврушинском, Переделкино, в послевоенное время — район у станции метро «Аэропорт»). Экстремумы военного времени совпали для этих людей и их семей с испытаниями эвакуации в Чистополь или Ташкент, где немедленно были воспроизведены все те же замкнутые сообщества литераторов, живущие по собственным корпоративным законам. Оказывается, что герметизм, обычно характерный для жанров антиутопии или детектива, создает благодатную почву также и для мемуарной литературы.
Кстати говоря, именно на этой основе возник один из издательских трендов нашего времени. Воспоминания известного человека о собственной школе, университете, армии, первом или наиболее интересном месте работы — прием для издателей давно и успешно освоенный; из недавних примеров уместно вспомнить книгу Евгения Бунимовича «Девятый класс. Вторая школа», биографический роман Владимира Губайловского «Учитель цинизма» или главу об учебе в МГУ из «Бездумного былого» Сергея Гандлевского. Впрочем, в случае Громовой работает все же несколько иной принцип: одни и те же события вспоминают разные люди, в большинстве своем неизвестные, сами литераторами не ставшие, поскольку, по словам Натальи Громовой, еще в детстве получили «антиписательскую прививку».
Перед нами случай, когда сын за отца — отвечает, и ответы эти в своей совокупности составляют единое, пестрое, но цельное и выразительное эмоциональное свидетельство. Возьмем, например, описанную многими чистопольцами трагедию сентября 1942-го, когда нелепо погибли мальчики, нашедшие неразорвавшийся снаряд. Среди них был Миша Гроссман, впоследствии умерший от ран на операционном столе. Елена Левина вспоминает подробно и мучительно:
«Грохот от взрыва раздался такой силы, что мы услышали его на огороде и не могли понять, что это. Когда вернулись в интернат, то увидели взволнованного Женю [Зингера. — Д. Б., Т. С. ], стоявшего у входа в дом. Он уже что-то рассказывал, а когда подошли мы, начал снова и много раз повторял и повторял, как нашли снаряд, как его упорно били, все пытались выяснить, настоящий или нет. Какой ужас он увидел: изувеченные тела, погибших и Мишу без рук и ног. <…> Миша умер на другой день».
А вот воспоминания о том же событии самого Евгения Зингера, уже не просто современника, а непосредственного очевидца события, спасшегося лишь по чистой случайности:
«Один любопытный парень предложил его [снаряд. — Д. Б., Т. С. ] разобрать. <…> Хорошо помня отцовское наставление и понимая риск дальнейшего „изучения” снаряда, я попытался объяснить моим товарищам опасность продолжения их „экспериментов”.
— Если ты боишься, можешь не смотреть и вообще уйти, — грубо ответил мне главный „испытатель”.
Рассудительный Миша Гроссман решил успокоить всех:
— Раз этот снаряд нашли в военкомате, значит, он учебный. <…>
Сильно оглушенный громким взрывом, я некоторое время почти ничего не слышал. Когда же сообразил, в чем дело, немедленно бросился к ребятам. Взрыв снаряда поднял с земли такую страшную пыль, что вокруг не стало ничего видно. Пройдя несколько метров, моя нога что-то задела. Я даже не сразу понял, что это была чья-то оторванная часть тела. Во дворе слышались душераздирающие стоны и крики о помощи».
Видно, что воспоминание это — жуткое, болезненное, и даже стилистические огрехи («пройдя несколько метров, моя нога что-то задела») говорят о том, что перед нами живая, непосредственная боль — спонтанная, еще никак не оформленная стилистически.
Несмотря на то что книга Громовой лишена центральной фигуры, в ней действуют несколько ключевых векторов, вдоль которых расположены силовые линии воспоминаний. Эти векторы указывают на судьбы людей, о которых говорят почти все герои, — Марины Цветаевой, ее сына Мура и Бориса Пастернака. И если биографические обстоятельства Цветаевой и Пастернака широко известны, то своеобразная исключительность Георгия Эфрона вовсе не так очевидна. И тем не менее Громова отмечает, что его появление в Чистополе стало одним из самых ярких и часто вспоминаемых разными людьми событий:
«Ироничный юноша с хорошими манерами, в заграничном костюме воспринимался советскими детьми, плохо одетыми, воспитанными в презрении к внешнему, — как инопланетянин. Всякий, кто его хоть раз увидел, уже не мог забыть никогда. И конечно же, все в интернате говорили о судьбе его матери, многие родители знали ее стихи, переписывали их от руки, обсуждали и осуждали поведение Асеева, который должен был взять мальчика к себе».
Доведенная до отчаяния Цветаева в последние свои дни все чаще говорила о том, как мечтает освободить от себя Мура, надеется, что после ее смерти он — с помощью Асеева — сумеет жить лучше и легче (такое же желание — освободить от себя детей, а не освободиться самой — возникнет у Елены Санниковой, и она тоже уйдет из жизни по своей воле). На деле развязка получается трагической. Сын не желает брать на себя ошибок матери, язвительно, чуть ли не с бравадой отвечает на вопросы о ее смерти, пытается жить самостоятельной взрослой жизнью. Однако эти попытки тщетны, Георгий лишается малейших перспектив и надежд, стремительно доходит до той же степени отчаяния, что и Марина Ивановна. Яркий, гордый и элегантный молодой человек, окруженный трагическим флером, не может остаться незамеченным, смешаться с толпой. Большинство героев книги Громовой так или иначе упоминают о своих встречах с ним. Как ни пытался Мур избавиться от славы «сына Цветаевой», выстроить свою собственную жизнь, он во многом повторил ее судьбу: те же непрерывные поиски самого себя, несомненный литературный дар, одиночество и «нездешность». Георгий Эфрон погиб от ран через несколько дней после отправки на фронт и, по всей вероятности, был похоронен в безвестной братской могиле. И здесь фатальная параллельность судеб: место погребения Цветаевой до сих пор точно не установлено.
Стереоскопия взгляда на прошлое, предложенного и детально разработанного Натальей Громовой, необыкновенно привлекательна и многозначительна. Воспоминания детей советских литераторов ценны сами по себе, они трогают любого читателя, независимо от степени его историко-литературной подкованности, осведомленности о перипетиях судеб российских писателей прошлого века. Но этим дело не ограничивается: работа Громовой представляет значительный интерес и для профессионалов, умеющих видеть и ценить новые введенные в оборот факты и интерпретации известных событий. Русисты прекрасно знают, насколько сложным и многоаспектным был военный и, в частности, эвакуационный период развития отечественной литературы. Знают, например, что именно в эвакуации многими были осознаны масштабы поэзии Марии Петровых, что Арсений Тарковский в это время создает потрясающей силы стихотворный цикл — «Камскую тетрадь», позднее переименованную в «Чистопольскую»… Все эти и иные известные события в книге не упомянуты, но так или иначе предстают в новом свете, обрастают деталями, обретают ранее не известные контексты.
Чистопольская тема настолько обширна, и корпус текстов воспоминаний и свидетельств настолько велик, что их хватит не на одну книгу. И хочется верить, что книги эти рано или поздно увидят свет. Зачем — сама Наталья Громова точно сформулировала в одном из интервью [3] :
«Есть люди, которые занимаются филологией. Есть люди, которые занимаются историей. А есть странный путь. Не ты выбираешь, тебя выбирают, и меня выбрали люди, которых я „раскапываю”. Нам кажется, что мы за ними наблюдаем, а это они на нас смотрят. Мы живем в истории, а они уже зрители. Я действую, а они уже в вечности. Меня не убедить в том, что это никому не нужно. Мне всегда кажется, что если это нужно тебе, то нужно и кому-то другому».
[1] Юнгер Э. В стальных грозах. Перевод с немецкого Н. О. Гучинской, В. Г. Ноткиной. СПб., «Владимир Даль», 2000, стр. 35.
[2] Ср.: «Все, что есть, познаваемо „в себе”, и его бытие есть содержательно определенное бытие, которое документируется в таких-то и таких-то „истинах в себе”. <…> То, что, однако, в себе четко определено, то может быть определено объективно, а то, что может быть объективно определено, то может быть выражено, в идеале, в четко определенных значениях слов. Бытию в себе соответствуют истины в себе, а последним — четкие и однозначные высказывания в себе. <…> Однако от этого идеала мы бесконечно далеки. Стоит только подумать о многообразии определенностей времени и места, о нашей неспособности определить их иначе, как через отношение к уже предданным индивидуальным существующим предметам (Existenten), тогда как сами они не поддаются строгим определениям без использования по существу субъективно значимых выражений. Пусть попробуют вычеркнуть сущностно окказиональные слова из нашего языка и попробуют описать какое-нибудь переживание однозначным и объективно четким образом. Очевидно, что любая такая попытка тщетна» (Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 3 «Логические исследования. Т. II». Перевод с немецкого В. И. Молчанова. М., «Дом интеллектуальной книги», 2001, стр. 92).
[3] Громова Н. «Крики „виновен” сменяются ужасом» (беседовала О. Тимофеева). — «Новая газета», № 28 — 15.03.2013 <;.
Довоенное детство
Станислав Львовский. Всё ненадолго. Предисловие Полины Барсковой. М., «Новое литературное обозрение», 2012, 192 стр. («Новая поэзия»)
При разговоре об этой книге перед критиком встают две опасности: во-первых, несмотря на то, что посвященных Станиславу Львовскому статей не так уж много, почти каждая из них сообщает что-то существенное об этом поэте — существенное и в то же время ставшее со временем очевидным, повторение чего чревато хождениями по проторенным путям. Вторая опасность касается наличной литературной ситуации: присутствие Львовского в том сегменте отечественной словесности, к которому относится и автор этих строк, более чем ощутимо, и многие младшие поэты находятся с его текстами в постоянном отношении притяжения/отталкивания, а это приводит к соблазну говорить о его поэзии с точки зрения влияния на текущий момент, игнорируя ее внутреннюю механику. Львовский всегда на полшага опережал текущую литературную ситуацию: его письмо часто принималось как почти единственный возможный способ говорить с позиции современности, прислушиваясь при этом к голосам поэтов прошлого (в первую очередь, неподцензурных — в диапазоне от Бродского до Сатуновского). При этом фактура стиха Львовского не оставалась неизменной: в разное время он прибегал к разным регистрам поэтической речи, которые, однако, объединяла особая оптика, куда более устойчивая, чем сменяющиеся формальные приемы. Новая книга в этом отношении не исключение: здесь нашлось место и комбинаторной документальной поэме «Чужими словами» (опубликованной на бумаге, к слову сказать, почти четыре года спустя после появления в Интернете), и парафразам советских популярных песен, и жесткому социальному анализу.
Позиция, с которой говорит Львовский, неоднократно артикулировалась, и едва ли повторение общих слов про новый историзм, внимание к проблемам памяти, травмы и устной истории позволит дополнительно приблизиться к пониманию этой поэзии [1] . Можно лишь повторить, что стихотворения Львовского говорят на языке современной гуманитарной науки, для которой понятия травмы и памяти стали ключевыми. Это встречное движение поэзии и социальных наук — прежде всего истории, но не в смысле школьных учебников, а в смысле живого опыта, который может быть осознан только в рамках некоторой концептуальной схемы, так как в ее отсутствие он фрагментируется, «расползается» и не может быть «схвачен» в том числе поэтическими средствами. Но теоретическая оснащенность — не единственная и даже не главная скрепа: теория лишь отчасти задает траекторию, по которой движется текст, и последний нельзя назвать просто иллюстрацией к известным теоретическим положениям. В центре внимания поэта — опыт непосредственного существования, но этот опыт всегда оказывается несколько чужим, поглощенным глобальными историческими нарративами. Это опыт такого существования в истории, при котором частное почти неотделимо от общего, — вернее, при котором частное превращается в общее на наших глазах.
Фрагменты опыта скрепляются, как это ни странно звучит, эмоцией — эмоцией, выведенной за пределы самого текста (маркеры эмоциональной речи от первого лица здесь почти отсутствуют). Стихотворение при этом работает как триггер, заставляющий читателя переживать определенное эмоциональное состояние. Если пользоваться немного игровой терминологией, то поэтику Львовского можно назвать «новым сентиментализмом» — новым именно за счет такого удаления эмоции из текста, при котором читатель оказывается почти вынужден пережить ее самостоятельно, ведь текст почти всегда метит в самые основания человеческого опыта, оживающие в деталях общих для всех, кто живет на обломках утопического мифа. В какой-то мере все эти тексты оказываются «свидетельствами», повествующими о некоем историческом и/или социальном разломе: и если читатель обнаружит в себе хотя бы крупицу соответствующего опыта, сводящегося в конечном итоге к опыту непосредственного переживания движения истории, то он не сможет избежать идентификации с происходящим, «сопереживания» ему (в смысле совместного, синхронного переживания). Львовский почти не прибегает к «большим» историческим темам, для которых проблема свидетельства и стоящего за ним опыта самоочевидна (таким, как повествования об Освенциме, ГУЛАГе или ленинградской блокаде), но пытается обнаружить фрагменты этого опыта в повседневности, за которой, на первый взгляд, не скрывается ничего исключительного.
Особенно это чувствуется в цикле «Новая русская агиография», где жизненные сценарии, существующие обычно на полях современной поэзии, попадают в центр внимания: «в понедельник она весь день бегает по делам. / на разных станциях видит нищих / с плакатами, написанными одним почерком / на одинаковых неровных картонках: // помогите, умирает трехлетний сын. / помогите, умирает трехлетняя дочь. / помогите, дочь умерла, осталось трое детей… » или: «всю жизнь ходил в офис, / выплатил-таки эту / проклятую ипотеку / за дом в Капернауме, / (достанется детям). / так никого и не встретил. / делал, что должен был, / чувствовал, что велели, / редко бывал счастлив». Каждый из этих персонажей претерпевает своего рода кенозис, и в то же время, читателю не позволяют забыть о том, что это происходит в обычной жизни — с теми, кто в известном смысле лишен собственного голоса и не может говорить за себя на языке литературы и искусства. Кенозис, самоумаление, оказывается для этих балансирующих на грани «голой жизни» персонажей залогом посмертного вознесения. Обстоятельства их биографий, сгущающиеся таким образом, что не способны не оказать на читателя определенного эмоционального воздействия, будучи вербализованными, выступают свидетельствами тех зерен «голой жизни», которые скрыты в повседневной и привычной реальности. Это сгущение иногда кажется почти театральным — настолько оно стремится подражать жизни, но за ним можно увидеть серьезную задачу — раскрыть (на экстремальных примерах) общность опыта, объединяющую кенотическую бессловесность и рафинированных читателей современной поэзии. Эти персонажи представляют собой само существо социальной реальности, они настолько укоренены в ней, что могут рассчитывать только на посмертное освобождение, но в то же время эта свобода « post festum »оказывается своеобразной наградой за столь глубокое погружение в социальное тело: «но зато все летучие рыбы / показывали ему дорогу, летели. / а обычные рыбы встали / на семи плавниках изо всех / семи морей и хором запели, // когда он из пролежней / умирал на небо / в своей постели».
Подобное самоощущение присуще не только изображаемым персонажам — кажется, многое в этой книге определяется особым способом переживания времени, при котором поэтический субъект в настоящем полностью конструируется за счет прошлого ( post festum — «после праздника»): «Темпоральность post festum — темпоральность меланхолика, переживающего свое „я” как „я уже бывшее”, как необратимо завершившееся прошлое, по отношению к которому можно быть только в долгу. У Хайдеггера такому опыту времени соответствует брошенное бытие Dasein , его нахождение в состоянии оставленности, брошенности в фактичной ситуации, из которой ему никогда не выбраться. Таким образом, мы имеем дело с некой конститутивной „меланхолией” человеческого Dasein , которое всегда запаздывает по отношению к самому себе, которое всегда уже пропустило свой „праздник”» [2] . Именно поэтому для Львовского оказывается важен момент различения прошлого и настоящего: настоящее уходит в прошлое корнями, по которым струятся отравленные воды истории. Однако не стоит понимать «праздник» буквально — это момент полноты жизни, но не утраченный парадиз: на образ ушедшего рая накладывается картина во многом неприглядной реальности, которая, впрочем, не в силах полностью остановить боль уходящего времени.
В этом контексте не случайно, что книга открывается пространным стихотворением «Довоенный футбол: три фотографии Игоря Мухина», в котором наслаивание различных планов реальности друг на друга получает оправдание в самом восприятии фотографии (в последние годы, пожалуй, ключевого для Львовского искусства): «девочки, чем-то / похожие сразу / на всех / наших мам / из начала / семидесятых / (на самом / деле недолгие / пленницы / школьницы / своих шестнадцати / восемнадцати)». Этот текст написан в июле 2008 года, за несколько недель до войны в Южной Осетии, сама возможность которой для многих оказалась признаком того, что постсоветский мир миновал очередную «точку невозврата». Стихотворение Львовского описывает (это почти экфразис) отдельные фотографии, снятые Игорем Мухиным в Батуми в те же летние месяцы [3] : эти фотографии действительно производят впечатление почти нетронутой советской реальности семидесятых — восьмидесятых (во всяком случае, именно такие отзывы преобладают среди зрителей), и в то же время они — документ, фиксирующий то, что происходило совсем недавно. Стихотворение Львовского детально исследует механику этого восприятия: современность обретает подлинность за счет близости к прошлому и одновременно в перспективе близкой войны сама оказывается приравненной к этому прошлому. «Праздник» завершается на наших глазах, и нам остается лишь рассматривать остатки былого пиршества. Фотография показывает это с наибольшей очевидностью: «Совершенная, она утрачивает доступ к истине воспоминания; профанная, она фиксирует лишь смерть, незримо источаемую всеми порами жизни, и эта смерть настолько же метафорична, насколько буквальна» [4] .
Это стихотворение, построенное на описании фотографии, проясняет то, как настоящее соотносится с прошлым в других стихах Львовского: настоящее всегда содержит в себе следы утраченного, но прошлое при этом остается «непроявленным» в полной мере — оно всегда полустерто, слова, которыми говорят о нем, «распадаются, как под ногой рассыпаются перестоялые грибы» (Гофмансталь). Они словно бы испытывают сомнение в своей способности отразить реальность, а их референты размыты и нечетки. И в первую очередь это происходит с теми словами, которые произносят персонажи Львовского, — всегда заброшенные в движение истории: «он прислушивается / где они / голоса других? / где они, голоса / с другим тембром? / один шум на всех / частотах, одни / три минуты / тишины».
Эта плавающая референция проникает во все тексты Львовского последних лет, и некоторая вершина этой тенденции — поэма «Чужими словами», в которой все слова имеют конкретный литературный источник, но при этом значат вовсе не то, что должны. Возникающий в самом начале поэмы Комитет по невмешательству в испанские дела делает это двоение явным: принцип произвольности языкового знака доводится здесь до предела — связь означающего и означаемого становится непредсказуемой не только в исторической перспективе, но здесь и сейчас [5] . И эта произвольность оказывается не теоретической абстракцией, а сокрушительной силой, в любой момент готовой вторгнуться в жизнь (как невинное слово камон в одном из не вошедших в книгу стихотворений начинает метонимически обозначать совсем другой объект: « пати , пати — орут / мертвые бабушки. // тут из автобусов / высыпает камон . / камон everybody / и поет что-то вроде // ты моя пасха / яблочко ты мое // а я твой камон. / я твой беслан // твой талисман » [6] ).
Вещи мира готовы вывернуться наизнанку, но в то же время, как сказано в самом начале поэмы «Чужими словами», «есть вещи, от которых нельзя отступиться». Однако произвольность означивания пытается взять этот барьер почти в каждом стихотворении. Кажется, такое отношение с языковыми знаками — не просто элемент поэтики, но глубинное следствие внимательного анализа сложившегося human condition (далеко не только в нашем отечестве). Так, «Советские застольные песни» в любой момент готовы обернуться гиньолем: «плещут / холодные волны. // сами зарезали / корейца. / сами убили / китайца. // оскопили дагестанца. / забили якута. / сбросили на рельсы / таджика. // чайки несутся / в Россию». Этот небольшой цикл отчасти продолжает «наивные переводы» песен из книги «Camera rostrum», но устроен противоположным образом: если в прежних переводах неловкость и хрупкость речи, намеренно сохраняющей синтаксис английского оригинала, была призвана отразить общность опыта, преодолевающую границы языков и государств, то в новых парафразах героическое прошлое, запечатленное в архаичных песенных текстах, «расподобляется», перестает быть равным себе, а слова, с помощью которых говорят о нем, почти вынужденно отражают неприглядную реальность, находящуюся в основании героических повествований. Эта неустойчивость языка в конечном итоге ведет к молчанию.
Молчание — важное слово, ведь каждый текст Львовского кем-то рассказывается и произносится. У каждого стихотворения есть свой «голос», обладающий собственной субъективностью и идентичностью, и поэма «Чужими словами» с ее полифонией оказывается лишь крайним и наиболее наглядным выражением этой тенденции [7] . Это сгустки речи, возникающие на фоне исторического молчания, невозможности «разговорить» опыт прошлого. Так происходит, например, в цикле «39, 41», в котором узнаваемые знаки нарратива о великой победе переосмысляются как отзвуки неуслышанных голосов: «черной ряженкой прадедов истекает висок / пока он лежит подо ржевом и над ним стоит / тишина. // дожили пацаны весна — говорит старшина».
Речь эта, однако, остается направленной в никуда, непонятной и не предназначенной для понимания. Впрочем, коммуникативный провал оказывается свойственен вообще любой ситуации, далеко не только разговору с предками, но и любому разговору («…она / оказалась совершенно чужой очень маленькой / женщиной, слишком теплой, без вообще ничего / в голове. он оказался совершенно чужим, / неправильно говорящим, думающим совсем / не о ней, туристом в имперской столице, просто / одним из людей, совершенно чужим человеком»). Внимание к этой невозможности коммуникации доходит почти до мономании, раскалывая каждый текст и заставляя читателя находить соответствия в собственном опыте, несомненно, богатом на аналогии такого рода.
Отчасти это связано с тем, что герои Львовского далеко не всегда могут в полной мере почувствовать себя субъектами, «проявиться» в речевой (и не только) реальности. Они не могут отделить себя от обступающего хаоса истории и не могут найти подходящих слов для описания своего положения в наличной действительности. Разрыв между ними и языком, с одной стороны, и между ними и поэтом — с другой, оказывается подчас слишком очевиден. Поэт, говоря словами Жака Рансьера, не может идентифицировать себя «с теми жертвами, сами лица которых <…> невидимы» [8] , но пытается преодолеть этот коммуникативный разрыв, прислушиваясь к «белому шуму» истории и выделяя из него кванты речи, почти полностью растворившиеся в потоке времени.
Львовский крайне внимателен к социальному контексту: его герой — не просто человек, но человек, погруженный в некоторые социальные отношения (более того, именно эти отношения приводят его к жизненному краху). Однако этот социальный порядок всегда воспринимается как данность, выход за пределы которой, как уже было сказано, возможен лишь посмертно. И здесь кроется важная конструктивная особенность его поэзии: она сосредоточена на прошлом, на его толковании и озвучивании, при этом некоторые действия в будущем возможны только как новые травматические эпизоды, углубляющие и усложняющие и без того прошитую травматическим опытом историю: они не снимают противоречия, но создают новые. Диалектическая логика «снятия» здесь не работает, так как история оказывается длящейся структурой, сложность которой возрастает со временем, и единственное упрощение возможно только в связи с физической смертью фигурантов, обретающих, возможно, вечное освобождение. Кажется, именно в этой точке социальность Львовского противостоит социальности некоторых «левых» поэтов (прежде всего, Кирилла Медведева), для которых посмертное разрешение конфликтов оказывается неприемлемым [9] .
В заключение замечу, что подобная структура темпоральности и особенности поэтики, которые она обусловливает, оказались незамеченными теми представителями младшего поколения, для которых опыт Львовского был принципиален (в диапазоне от Ксении Маренниковой до Ивана Соколова): для этих поэтов на первом плане стоял пластичный, подчеркнуто современный стих и, конечно, особая эмоциональность, лишившаяся, впрочем, конструктивной мотивировки [10] . Влияние Львовского на младшее поколение огромно, однако при этом его никак нельзя назвать фигурой консенсуса: напротив, младшие современники, принадлежащие, казалось бы, той же литературной страте, часто поляризуются в зависимости от отношения к этому поэту. Нельзя ли объяснить это тем, что ситуация исторического разлома, утраты пусть вызывающего ненависть, но привычного мира, которая так важна для Львовского, не находит отклика у поэтов восьмидесятых годов рождения, для которых руинированная реальность — скорее отправная точка? Предположу, что причина пренебрежения к Львовскому со стороны тех младших поэтов, которые также не находят для подобной оптики оснований в собственном опыте и в то же время не способны проникнуться «эмоциональностью» этой поэзии, — в том, что для них эмоции, вызываемые текстами Львовского, представляются едва ли не единственным их содержанием, а сами тексты воспринимаются почти как «прикладные» — рассчитанные на то, чтобы произвести определенный, заранее просчитанный эффект. Тексты, манипулятивные по своей природе.
Не стоит числить эти рассуждения по ведомству войн за литературное наследство: в случае Львовского это не только вопрос влияния на умы младших современников, но и вопрос того, насколько малейшие отличия в историческом опыте способны приводить к принципиально иному восприятию поэтического текста. И дело здесь не в эрудиции читателя, способного распутать подчас нетривиальный интертекстуальный код и уловить едва заметные глазу движения духа теории, а в синхронном воздействии разных уровней поэтики, в которой сильнодействующие, «растормаживающие» стиховые средства работают вместе с гораздо более глубокими, но не всегда очевидными механизмами, требующими от читателя полной самоотдачи и ясного понимания поставленных поэтом задач.
[1] В первую очередь см.: Кукулин И. Антифон замолкнувшего радио: Львов-ский Ст. Camera rostrum. М., «Новое литературное обозрение», 2008; О влиянии историографии Эрика Хобсбаума на поэзию Львовского см.: Дмитриев А. Утешение историей: Об одном стихотворении Станислава Львовского. — «Новое литературное обозрение», 2008, № 92, а также интервью, опубликованное в посвященном Львовскому разделе номера журнала «Воздух» (2012, № 3 — 4, стр. 34 — 39).
[2] Агамбен Дж. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. М., «Европа», 2012, стр. 134 — 135. На этих страницах Агамбен излагает воззрения японского мыслителя Кимуры Бина, чьи работы, насколько мне известно, не существуют в русском переводе.
[3] Подборку можно посмотреть, например, на сайте «Photographer.ru»: <;.
[4] Петровская Е. Фотография в биографическом контексте. — В кн.: Петров-скаяЕ. Безымянные сообщества. М., «Фаланстер», 2012, 384 стр.
[5] О соотношении этой поэмы с другими «документалистскими» произведениями двухтысячных, прежде всего с «Текстом, посвященным трагическим событиям 11 сентября в Нью-Йорке» Кирилла Медведева, см. постскриптум к статье: Kukulin I. Documentalist Strategies in Contemporary Russian Poetry. — «The Russian Review», 2010, № 69, р. 585 — 614.
[6] Львовский С. Солнце животных. — «Воздух», 2012. № 3 — 4, стр. 11.
[7] «Львовский, словно (на)следуя заветам причудливого пророка <…> много говорит о и от „безголосых” — событиях, явлениях, персонажах», — пишет во вступительной заметке Полина Барскова. — В кн.: Львовский Станислав. Всё ненадолго. Предисловие Полины Барсковой, стр. 6.
[8] РансьерЖ. Дело другого. — В кн.: Рансьер Ж. На краю политического. М., «Праксис», 2006, стр. 186.
[9] См., прежде всего, цикл «Поход на мэрию и другие стихотворения» Кирилла Медведева («Новое литературное обозрение», 2011, № 111), в котором прошлое вообще отсутствует как предмет описания, а все события происходят либо в настоящем, либо в будущем. Настоящее Медведева альтернативно по отношению к наличной действительности: в нем заметно усилены признаки будущей революционной утопии, почти незаметные взгляду.
[10] Как пишет Денис Ларионов, «…тексты из книги „Стихи о Родине” поразили меня виртуозностью обращения со словом <…> и, прошу прощения, „доверительностью интонации”. <…> Мне потребовалось некоторое время <…> чтобы осознать глубину разрыва между тем, что пишу я/мои ровесники и Львовский» («Воздух», 2012, № 3 — 4, стр. 44 — 45).
Ветер в цирке, или Между логикой и абсурдом
Василий Бородин. Цирк «Ветер». Книга стихов. М., «Книжное обозрение», «АРГО-РИСК», 2012, 64 стр. («Книжный проект журнала „Воздух”»)
В третьей книге Василия Бородина «Цирк „Ветер”» (две предыдущие — «Луч. Парус» и «P. S. Москва — Город-Жираф» [1] ) собраны поэтические тексты, написанные преимущественно за последние два года (только один датирован 2010-м) и расположенные без соблюдения хронологии. В итоге выбранный автором порядок, сопровождающийся обязательной датировкой, приводит к созданию эффекта нелинейности происходящего, причем темпоральный адрес честно выставлен на всеобщее обозрение. Уже на уровне структуры книга оспаривает верность повсеместно выбранного временного вектора, следуя которому мы непременно должны существовать в соответствии с капризами последовательности.
Проблема времени и, как следствие, — логики занимает одно из центральных мест в книге Бородина. Внутри временного процесса сталкиваются две полярные фазы — детского и взрослого , каждая из них обладает определенной интонацией и либо соответствует установленным законам, либо создает свои собственные. Таким образом, на относительно небольшом текстовом пространстве соседствуют две зачастую вторящие друг другу логические схемы, соответствующие каждая своему порядку на различных уровнях — от лексико-синтаксического до ритмического.
Ярким примером полемики детской и взрослой интонаций является стихотворение «шерстка — крот…», где представлены два полярных изображения, по сути, одной ситуации. Вся первая строфа представляет собой наивную интерпретацию увиденного, явно принадлежащую детскому зрению (отсюда же скандирующая ритмика, повторы и известная антропоморфизация дождя): «шерстка — крот / норка — крот / дождь прошел / сапог прошел / человек смотреть пришел: // тихо…» [2] .
Далее следует совершенно иная формулировка осваиваемого пространства, на этот раз принадлежащая взрослому зрению, несколько затертому и усталому, потому склонному к полубытовому перечислению каких-то наскучивших и предельно известных изображений: «человек — пальто, дом — пальто / год прошел, / приступ миновал. / крот — / слепой зверек / и не смотрит». Ритм речи расшатался, вместо визуального познания («человек смотреть пришел») — слепота, логическая путаница из-за нарочитой одинаковости всех наблюдаемых элементов. Два угла зрения разделены коротким «и наоборот:»; именно эта строка намекает на некоторую динамику, смену хронологических этапов.
Во многих других текстах «Цирка…» ритмическая контрастность еще более заметна, прихотлива, и тоже маркируется переход от одной интонации к другой, но форма маркировки варьируется. Например, обратный вышеописанному процесс мы встречаем в первом тексте безымянного диптиха «стихи идут полем…», где как раз первая часть говорит по-взрослому , рассуждает о сущности «слов, оставшихся от стихов» и делает некоторый вывод: «оставшимся от стихов / словам поют их / над-смысл (!)».
Далее переход маркируется двоеточием, находящимся на отдельной строке, и потому способным пропускать сквозь себя сразу в двух противоположных направлениях; иными словами — это определенная визуализация «и наоборот:» из стихотворения «шерстка — крот…», раздвоение времени и отказ от нулевой точки. За (но в той же степени и перед) двоеточием следует знакомая хореическая речь ребенка, прерванная двумя финальными строками: «ходит-ходит / флаг бедней / нас самих / и нас-камней // ходит видит / сквозь себя / как все опережает его / и это». Именно эта вторая часть стихотворения иллюстрирует вывод о «над-смысле», нащупывая его через искажение логики. Ритмический перебой в последних строках — суть то самое опережение, о котором в них говорится (т. е. язык не успел соблюсти заданный метр).
Но искажение неизбежно порождает новые категории порядка. Бородин вводит в изображение остраняющий элемент, затем принимает его за нечто обыкновенное и, наконец, приступает к абсурдирующему повествованию. Так автор действует в двух (кажущихся обломками одного) текстах из книги: открывающем ее минималистском трехстишии «не хватило: / — общей культуры / — летучего неба (избыток, „о”)» и следующем через несколько стихотворений:
в издательстве «верный шар» издают
шарообразные книги с единственной буквой
«о» внутри:
она, не меняясь
при любом ракурсе, — перевод
всех прежних книг
шары тают
когда им верят
Выбранный поэтом абсурдирующий эффект происходит от детского коверканья всего наблюдаемого вокруг — того самого процесса, в результате которого получается «большая вещь», которая «произведение или жизнь?» (и ответ — «она — произведение или жизнь»). Это же коверканье реальности дальше: в стихотворении «тороп и тесь! Тороп и тесь!..» под тряпкой скрывается «временно безголовый» фотограф (потому как попросту не видно его головы), а в тексте «броски жили…» участвуют капитан Туча, воробей Генерал и туча Гитлер.
Стихотворение «конь стоит направлен в ухо…», явно перекликающееся с обэриутской поэтикой, через синтаксически исковерканный образ коня отсылает к эсхатологической коннотации: «конь свят веткой над пятном / лбу еще предстоит мысль-око / нимбами бьются бом! над ним день за днем, / током…». Это вполне взрослый библейский сюжет, изложенный неправильной детской речью и через нее обновленный.
В заглавии книги оппозиция детского/взрослого подается в еще более усложненной форме: здесь ключевая для Бородина стихия воздуха предстает сразу в двух ипостасях (амбивалентность ветра — поток, несущий в себе воздух, но обладающий в то же время разрушительной силой), а детско-взрослое зрение коррелирует со всегда полусмешным образом цирка (опять-таки амбивалентность — цирк как элемент детской памяти, но — балаганное, концентрированно-ложное действо, в ходе которого осуществляется обман зрителя во имя его же удовольствия). Образ цирка, противоречивый как с точки зрения ребенка, так и с точки зрения взрослого, ставит под сомнение положительную трактовку своего заглавия (внутри заглавия) — «Ветер».
Вышеописанный спектр интерпретаций получил свое отражение в одном из (если не самом) ключевых и, надо сказать, наиболее объемном стихотворении «Цирка…» «слетаясь, яблоки составят…». Трудно с уверенностью сказать, кому именно принадлежит та или иная строка текста, — взрослому или детскому голосу; сталкивавшиеся на протяжении всей книги интонации здесь синтезированы, а границы между ними постепенно блекнут и размываются.
Однако встречаются узнаваемые элементы «цирковой» образности: в частности, «и в поле клоуна хоронят», где модернистское клише придает рисуемому изображению оттенок ложности и даже дополнительной театральности (хоронят понарошку, но и рассказывают об этом не всерьез); можно предположить, родственную функцию выполняет и архаичное «очи» («вдоль ребер утро очи гонит»).
Но последовательно выстроенная на протяжении пяти строф картина поддельной цирковой реальности будто постепенно оспаривается восторженной реакцией наблюдающего за ней ребенка («— у дочки до краев улыбки — / скакать по семь недель сквозь снег…», «…и снова ехать ехать ехать, / и солнце вдруг, и нос распух…»), чувствующего подмену («…приходит — как бы человек…»), но предпочитающего не обращать на нее внимания, дабы не пропустить что-нибудь интересное. Тем временем взрослые изображают окружающую реальность, но в отличие от ребенка далеко не всегда способны почувствовать ее ложность.
Детское зрение вовлекается во взрослую игру, оно внимательно разглядывает происходящее вокруг и делает самостоятельный выбор — замечать это или не замечать:
— у дочки до краев улыбки —
скакать по семь недель сквозь снег,
и укротитель, мерный, зыбкий,
приходит — как бы человек
а до краев усов доехать
на циферблате — п я тью пульс,
и снова ехать ехать ехать,
и солнце вдруг, и нос распух
вот, городские черепахи,
разнятся пьяницы-сады;
на пустыре — шатер и ахи,
и на канате — не следы,
а точки прежнего озноба
— и дочка умная идет
— и братья вздрагивают оба
— и тигр голову кладет
В результате детского коверкания последняя строка приобретает фантомный слог (прочитывается «тигар» вместо «тигр»), текст проходит сквозь время наоборот и, наконец, выбирает свое начальное состояние внутри наивного восприятия.
Однако основная часть поэтических текстов «Цирка…» представляет собой значительно менее развернутую речь. Поэзия Бородина настойчиво стремится к нулевому пределу, то есть не столько к обретению полного молчания через использование минимума средств, сколько — к попытке органично существовать среди по-беккетовски компрессированного молчания и искать внутри него необходимые средства: «а мир / о чем? — он у / тихого белого утра / в обиде ради»; « — это свобода и она / ото всего отражена»; «…вот / любая / не-нота!».
В рамках короткого, но контрастно визуализированного текста поэт прибегает к аллитерационным ассоциациям (вплоть до паронимии и анаграммы), таким образом регулируя прорабатываемое молчание и часто несколько расплывчатый ритм: «беглый Ватто в чужое / время — вата…», «он повертит — поверьте…», «битва струн с лютней, лютая битва — тс-с»; «старое облако / обволок…», «старый час, старый чай…»; «напиши разуму: / „я зам е р”…»; «и жанр жука — лететь слегка…» и т. д.
Некоторые из минималистичных зарисовок Бородина визуально монтируются, как бы сливая воедино два зрительных образа, у которых присутствует один общий элемент, — и именно через него осуществляется перекличка всего текста с последней строкой:
я люблю стайку над
стройкой
музыку в шуме
в старом метро
жил пес [3]
Пограничное «в старом метро» может пониматься либо как продолжение заданной фразы (шум в старом метро), либо как начало нового кадра (жил пес в старом метро); строка в равной степени связана и с тем, и с другим предложением. В результате случившегося монтажа обыкновенное наблюдение приобретает логическое смещение — именно так воспринимается текст при первом прочтении, тем более в нем нет пунктуационных знаков, которые могли бы прийти на помощь. Кроме того, строки расположены на отдалении друг от друга; можно предположить, что сквозь промежутки продувает ветер, присутствующий и на стройке, и в старом метро.
Стихотворения Бородина зачастую оканчиваются открытым финалом, причем речь не только и не столько о пунктуации, которая, надо сказать, отсутствует далеко не во всех текстах книги, речь именно о сознательной прерванности говорения. Так воспринимается вторая строфа стихотворения «земля — это шаги…»: «и во всем / движении отражения — / просто утро»; финал стихотворения «в сердце все время…»: «и мультфильм в светофорах, / во всех один».
Наиболее любопытно конечная открытость текста маркируется в стихотворении «выброшенная правда…», где речь буквально обрывается на полуслове, а обрыв маркирован запятой (практически хлебниковское «и так далее»; опять-таки стремление к сосуществованию с окружающим молчанием): «а на озере утка ждет / и, пока дождь идет,».
Балансируя между логикой и абсурдом, поэзия Бородина трансформирует привычное восприятие пространства и времени. Ее плоскость наполовину погружена в молчание, в отсутствие какого бы то ни было ощущаемого ландшафта; ее время не-векторно, оно может менять направление по той или иной своей прихоти. Логика представлена взрослым зрением, старающимся все объяснить и структурировать. Абсурд, нонсенс, скандирующая интонация, коверканье и созвучия — результат детского восприятия. Бородин синтезирует эти две интонации, а также время с пространством и речь с молчанием. Сквозь текст проходит воздух, постепенно врастающий в ветер; а вокруг живет своей жизнью балаганная реальность, цирк, внутри которого зритель сам решает, верить ему в происходящее или нет.
[1] Бородин Василий. Луч. Парус. М., «АРГО-РИСК», «Книжное обозрение», 2008, («Поколение»); Бородин Василий. P. S. Москва — Город-Жираф. Екатеринбург, «Евдокия», 2011.
[2] Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: Бородин Василий. Цирк «Ветер». М., «Книжное обозрение», «АРГО-РИСК», 2012.
[3] Бородин Василий. Стихи 2005 — 2012 <= 0326140512>.
Вареное сердце манекена
Марина Ахмедова. Шедевр. М., «АСТ», 2013, 349 стр.
— Я боюсь, — шепчет она. — Всего. Своего лица в зеркале — в детстве мне велели не смотреть в зеркало слишком часто, а то увижу Дьявола за стеклом… и… — обернувшись на бело-цветочное зеркало, — надо его накрыть, прошу тебя, можно ведь его накрыть… там они и… особенно ночью …
Томас Пинчон. «Радуга тяготения»
Для того чтобы писать на такие свойственные романтической литературе прошлых веков темы, как безумие, двойники, амок-страсть, творчество-безумие, красота абсолютного шедевра, нужно сейчас, кажется, определенное мужество. Чего-чего, а мужества специальному корреспонденту «Русского репортера» Марине Ахмедовой явно не занимать — чего стоят материалы о больных болезнью Паркинсона и из приюта для бездомных собак, интервью с боевиками и находящимися в самом настоящем подполье членами «Войны» (вынуть из мобильного SIM-ку, чтобы не отследили), ее репортажи о подпольных борделях и наркоманах, больных открытой формой туберкулеза и ВИЧ-инфицированных («Русский репортер» получил в итоге предупреждение от Роскомнадзора за материал об екатеринбургских наркоманах «Крокодил» — после трех предупреждений журнал автоматически закроют). Сама Марина утверждает, что в выборе тем руководствуется целым набором мотиваций — желанием помочь, реализовать как свой дар слова, так и амбиции [1] . Это справедливо, возможно, и для ее прозы: «Женский чеченский дневник» (2010) — рассказ женщины-фоторепортера о первой чеченской, «Дом слепых» [2] (2011) — притча о никому не нужном доме, где посреди разбитого войной города собрались инвалиды всех национальностей, «Дневник смертницы. Хадижа» (2011) — о том, как и что (кто) в итоге забросило девочку с гор, любившую свою семью, соседского парня и красивые одежды, в московское метро с ребенком в животе и пластидом на поясе… В «Шедевре» автор бросает отчасти вызов уже самой себе — никакой «социалки», никакого Кавказа, а, наоборот, «рафинированные» литературные темы: двойники, появляющиеся, как у Майринка, из зеркал, уходящая, как в «Записках сумасшедшего», в безумие героиня… Или безумие было изначальной данностью этого сюжета?
Книга двухчастна. В первой, большей по размеру, кто-то женского пола ненавидит свою хозяйку, ревниво и обиженно следя за каждым ее шагом по квартире. Кто-то обездвиженный, запертый и не совсем живой. Кукла? Маска? Она наблюдает, как женщина спит, дышит во сне, встречается с клиентками, мужчинами, работает, красит ресницы… И — глухо ненавидит так, как можно ненавидеть, пожалуй, только своего двойника, воплощение всего неудачного, отвратительного в себе. И только во второй части «Шедевра» — да, это спойлер, но загадок в тексте еще столько, что это тот случай, когда книгу хочется прочесть заново, уже зная основной к ней ключ, чтобы посмотреть, как он поворачивается в хитром механизме, — узнаешь, что хозяйку квартиры зовут Нина, а наблюдает за ней занавешенное зеркало, оно же и рассказчик [3] . Две части — как два поставленных друг против друга зеркала, умножающие сущности безумия, отражающие до неразличения отображаемого в безумии. Первая часть истерична, она вся — тревога и страх, настоящий Angst. Вторая — почти традиционная женская проза, нарочито женский нарратив. При этом разнообразие стилей работает на противоположную цель — это все равно, тем более даже очень глухой, сомнамбулически-солипсический текст, зацикленный, центрированный на самого себя (так нагнетает в своих вещах драйв безумия Паланик). Тем сильней внутренний дисбаланс, подчеркнутый даже композиционно, приводящий к Big Bang безумия и крови в конце. Большой взрыв породил Вселенную — тут мир книги схлопывается в черную дыру безумия с рваными кровавыми краями.
Зеркало (чтобы не говорить однозначно, что это сама Нина, ее расщепленное двойное сознание, ее ненависть к самой себе) всячески подчеркивает ведьмачество Нины. Глаза той горят после ночи, днем — тускнеют, но все равно от ее взгляда бросает в холод. Ее смех — «как река забвения», сама она — «холодная русалка». А снег сквозь окно пахнет серой… Она просчитывает своих клиенток, делая им такие бусы (ее занятие), которые им нужны, приворотные бусы и ожерелья, за которые платят большие деньги. «Кукла. Неживая кукла. Моя мучительница — кукла», — постоянно обвиняет Нину зеркало. И та, действительно, ходит по комнате заторможенная. Повторяет одни и те же фразы («красивая» фраза, что жмущие ей великолепные туфли купила, зная уже в магазине, что носить их не сможет, но хочет ими восхищаться), жесты (сварить кофе мужчинам и поставить его на сервант), ритуалы (макияж до такой степени, что веки становятся похожими на «жирных тюленей», а ресницы — на «толстых гусениц»). Манекен оживает очень редко, его эмоции не может взбудоражить человеческое (болезнь, сумасшедший дом брата и последующая смерть), но — только что-то свое.
Это — творчество, шедевр, абсолютное художественное произведение. Мечтает о нем больше зеркало, но тут уж ошибки быть не должно — двойнику Нины делегированы ее мысли, ее обсессия. «Если бы у меня были бусины и нитки, свои самые первые бусы я бы превратила в шедевр. Все шедевры я уже держу в голове, они вместе со мной томятся взаперти, мечтая вылететь, как птицы. Я бы всему миру показала, кто я такая. Весь мир говорил бы обо мне. Долго говорил бы. И после моей смерти. Самые красивые женщины носили бы мои бусы. Мое имя вошло бы в историю. Если я и хочу занять ее место, то не со зла, а ради искусства». «Я» у творца может быть раздвоено, его части могут ненавидеть друг друга: неважно — творимое по определению должно быть выше творца, компенсировать ему все и сразу. Галатея станет гомункулом (недаром самым первым известным алхимиком стал Фауст — фаустианское творческое начало, привет Ницше), вылупится новое «Я», что останется в веках. Покупая новые камни для ожерелья у московского индуса, Нина спрашивает его, чем они пахнут, чем пахнет красота, и это открывает галерею рассуждений о природе красоты. «Разные люди по-разному красоту понимают. Некоторые, например, ее в уродстве видят. Или только уродство и считают красотой, а красоту — наоборот, уродством. А еще говорят, что красота спасет мир. Как бы не так!» Красота может быть заключена в уродстве (вспоминается Достоевский — о красоте в Содоме), но она точно не равна истине, то есть — этике: «Потому и говорю, что красота — не всегда шедевр. Шедевр — это в основном правда, истина, только такая, о которой никто еще не знает. Надо эту истину отыскать». Поэтому ли «красоту можно не любить»? О, тут герои выражаются на редкость мягко — красотой они захвачены, пленены, это тот амок, как в новелле Цвейга, что сводит их с ума, доводит до безумия. Это та красота, что была темой всего творчества Мисимы, — антигуманная, отрицающая человека, антиэтичная, подавляющая, манящая куда-то, но оказывающаяся в итоге демонической пустотой. Красота элиминирует героев, своих адептов; только полностью уничтожив свое «Я», можно соорудить из него объект прекрасного (и все равно она будет в итоге фантомом).
Красота доберется, разумеется, до душ героев, но начнет с их (ее) тел(а). При том что «Шедевр» очень телесен, в садическом смысле. Ведь при всей радости от тела, у де Сада — плоть это тоже механизм, подпорка его философских концепций [4] , тело не столь важно в итоге, скорее, это тоже концепт, а все оргии (в отличие от того же Пазолини, в «Трилогии жизни» [5] которого плоть действительно прославляет эрос, молодость и жизнь) сводятся в пределе к утомительному, механистическому ритуалу манекенов. Недаром Камю даже считал «застылость» сцен у де Сада «омерзительно бесполой» [6] , а Батай с его более чем толерантным отношением к де Саду упрекал последнего в однообразии и скучности: «От чудовищности творчества Сада исходит скука, но именно эта скука и есть его смысл. Как говорит христианин Клоссовски, его нескончаемые романы больше похожи не на развлекательные, а на молитвенные книги. <…> В нестихающем бесконечном водовороте объекты желания движутся каждый раз к мучениям и смерти» [7] . Вот и в «Шедевре» плоть изобильна, акцентирована, подана болезненной для того, чтобы затем, в финале ее разрушить. От психологических зарисовок («И слезы ее, которые все равно накапливаются, проливаются внутрь, а не наружу. Открою один ее секрет или особенность — у нее две системы. Одна — кровеносная, другая — слезная. Эти слезные трубки — как вены, только прозрачные, и проходят по всему телу от макушки до пят. Что-то вроде длинной реки, с притоками. Устье — в пупке начинается. Почему — не скажу, не знаю. Из-за того, что трубки прозрачные, они не видны. Слезы постоянно циркулируют по ее телу, копятся за глазами, и если прольются, то это — как водопад. Не у всех есть вторая система…») и «женских» самосозерцательных, даже аутоэротических анатомичностей («Мои сведенные ноги подрагивают, как хвост рыбы, выброшенной на берег. Смеюсь переливчатым смехом. Из расстегнутой пижамы выглядывает моя грудь — белая, сахарная, с голубой венкой. Моя грудь такая расхлопнутая, что, кажется, сейчас взорвется и осыплет Кота белыми хлопьями») — к нарастающему безумию. Рисункам гноем из собственноручно расцарапанного пупка, желанию явить внутренние органы в качестве шедевра же, овеществить их («Предпочитаю осколок стекла, которым можно вскрыть себя от пупа до горла. Раньше я хотела носить бусы — от горла до пупа. Вынуть внутренние органы — легкие, желудок, сердце, печенку, селезенку, а главное — кишки. Если не умру, намотаю их на шею, и буду сидеть в них, как в бусах.» [8] ) и тотальному безумию, в котором тело, как в кислоте, растворяется, расчленяется паранойей: «Нет ничего унизительней, чем расстегнуться, вывалить перед кем-то грудь — белую и сахарную, и увидеть, как от тебя отворачиваются к женщине с уродливой маткой на шее. Со складкой на лбу. С вареным сердцем. Отвернись от меня, канделябр, не смотри, я — отвергнута. Меня не выбрали».
Телесность как (один из) повод для безумия, но в итоге тело отступает: как у де Сада оно было базисом для философии, так тут — деталями, как те же камни для бус, для алтаря в честь красоты. Этот алтарь не полностью рукотворен, в нем физическое на равных соседствует с ментальным, психологическими конструктами, ведь «творение не есть изделие, только, помимо всего прочего, снабженное прилепившейся к нему эстетической ценностью. <…> Творение далеко от того, чтобы быть таким, точно так же как и просто вещь далека от того, чтобы быть изделием, только лишенным своего подлинного характера — служебности и изготовленности» [9] . Не говоря о том, что эта мысль полностью справедлива в отношении зеркала, нужно заметить, что хайдеггеровские рассуждения о вещном вообще многое могут добавить к пониманию текста «Шедевра». По книге повсеместно разбросаны ремарки о том, что кровать вздыхает, что вещи могут передавать друг другу дыхание и умирают в пустой квартире. Вещи можно спрашивать и что-то узнать из того, чего нельзя выпытать у людей («У вас всегда будет тема для разговоров! Вы — люди, наполненные чувствами, — всегда найдете в бесчувственных вещах повод поговорить. Только вы не спросили босоножку, хочет ли она стоять на этом подоконнике! Хочет ли она, чтобы ее обмеряли взглядом чучундры и похотливо лапали черепахи?»), ведь «пространство вещей безмерно», а даже простая кровать «сможет выдержать всю вселенную, когда та обрушится на кровать, затянутая в воронку». Вещи — не просто вещи. Они выражают живое (по бусам можно узнать жизнь человека, как в «Хадиже» по рукотворному коврику — судьбу). «Вещь веществует. Веществуя, она удерживает в их пребывании землю и небо, божественных и смертных; удерживая их в их пребывании, вещь сближает…» [10] . Но она и разъединяет — героиня, мечтая создать шедевр (вещь), раздваивается, ощущает свою личность как в самой себе, так и в зеркале — об этом писал Хайдеггер, говоря о господстве техники, о том, что «вещи, окружающие человека и входящие в его мир, и вся природа, и весь мир в целом начали выступать как нечто противостоящее человеку, как предмет» [11] . Но в «Шедевре» не вещь, все же человек противостоит человеку, одна часть «Я» — другой, в итоге — «Я» разрушается в полном безумии и умирает. Потому что если вещи могли выражать(ся), были одухотворены, то героиня была изначально манекеном, оживленным лишь одной идеей (так в глиняного голема вкладывают бумажку с оживляющей цитатой) — создать шедевр. То есть вещь. Так человеческое сводится к вещи и умирает. Вещью же, набором деструктивных и безумных микросхем, Нину сделали люди — короткой интроспекцией дается происшествие в детстве с психологической травмой от маньяка и попаданием под машину, подробней — несчастная любовь… Смерть, впрочем, присутствовала, нагнеталась в романе изначально: «...тебе время не пережить», зловеще пророчествует зеркало, «я стою ни жива, ни мертва» (и какой, кем еще ей быть, если «я — не боль, — сказала я, целуя его нос. — Я — не обида. Я — не тоска. Я — не любовь»), героиня «впадает в умирание», «смерть пришла за мной, но с собой не взяла» и т. д. И опять же согласно хайдеггеровскому «последние вещи — это Смерть и Суд» [12] , героиня, впадая в полное безумие («Она приблизила лицо к его голове. Голове, которая была Котом и принадлежала мне. Из меня вырвался стон. Она потянулась к нему губами, а Кот как будто только этого и боялся. Матка натянулась на ее шее. Акациевые семена звякнули о пуговицу на воротнике Кота. Их надо было сварить — слишком поздно догадалась я. Принеся семена из старого парка, их надо было сварить, а потом нанизать на нитку. Когда она поцеловала Кота, у меня в голове закипела большая кастрюля. Кот чужой рукой гладил ее по щеке, словно та была из шелка»), вершит суд над двойником. Или двойник над ней [13] . Кто-то умер из частей ее личности, а она — осталась жить?
Марина Ахмедова написала гуманистический при всей жестокости и мизантропии роман о людях-вещах. Книгу трудную, сложную и неблагодарную [14] . Неблагодарную не только в силу психологической тяжести и жесткости, но и из-за своеобразного разламывания канона — как актуализацией непопулярных сейчас тем, так и обращением к новому для себя и непривычному для читателя (имидж «писателя на кавказские темы») материалу. В этом — залог не только того, что в Интернете появятся, скорее всего, разочарованные и даже разозленные отзывы «просто читателей», но и того, что отзывы будут появляться еще долго…
[1] Чанцев А. Марина Ахмедова: «Правда часто звучит циничней лжи». Интервью в «Частном корреспонденте», 2012, 28 июня <;.
[2] О том, что недавние чеченские войны нечасто становились объектом внимания женщин и что эта книга, как представляется, знаменует новый этап не злободневной фиксации, но критического осмысления произошедшего, мне уже приходилось писать (Чанцев А. Рецензия на «Дом слепых». — «OpenSpace.ru», 2011, 14 июня <;).
[3] Здесь классическая почти схема, известная по «Дневнику обольстителя» Кьеркегора: «На стене напротив висит зеркало; она о нем не думает, но оно-то о ней думает!» О том, что наблюдение это, как мы увидим дальше, далеко не равнодушное, исследователи также предупреждали: «Нельзя доверять смиренной покорности зеркал. Скромные слуги видимостей, они только и могут, что отражать предметы. <...> Однако верность их лукавая, они только и ждут, чтобы вы попались в западню отражения. Этот их взгляд искоса не скоро забудешь: они вас узнают, и стоит им застать вас врасплох там, где вы того не ждете, тут и пришел ваш черед» (Бодрийяр Ж. Соблазн. Перевод с французского А. Гараджи. М., «Ad Marginem», 2000, стр. 187 — 188).
[4] «В иных же случаях это построения, растягивающиеся до бесконечности…» — писал о произведениях де Сада Пазолини, замечая также, что садический дискурс — это «фантастическое представление, в котором сексуальные отношения являются метафорой отношений между властью и подданными» (Пазолини П. Из бесед Пазолини с Г. Бахманом. — В кн.: Пазолини П. Теорема: сценарии, роман, повесть, рассказы, статьи, эссе, интервью. Перевод с итальянского, французского, английского Л. Аловой, О. Бобровой, А. Гришанова и др. М., «Ладомир», 2000, стр. 567). В «Шедевре» власть явлена безумием, это власть второго, враждебного «Я» над индивидом с расщепленным сознанием, власть враждебного и агрессивного двойника…
[5] «Декамерон», «Кентерберийские рассказы» и «Цветок тысяча одной ночи».
[6] Камю А. Литератор. — В кн.: «Маркиз де Сад и ХХ век». Перевод с французского Г. Генниса. М., РИК «Культура», 1992, стр. 178.
[7] Батай Ж. Литература и зло. Перевод с французского Н. Бунтман и Е. Домогацкой. М., Издательство МГУ, 1994, стр. 84 — 85.
[8] Здесь опять же Мисима, уподобивший в «Исповеди маски» сокровенную внутреннюю красоту человеческих органов внешней красоте лепестков розы. О телесности в современной литературе и об ее историко-литературных коннотациях см.: Чанцев А. Метафизика боли, или Краткий курс карнографии. — «Новое литературное обозрение», 2006, № 78.
[9] Хайдеггер М. Исток художественного творения. Перевод с немецкого А. Михайлова. М., «Академический Проект», 2008, стр. 129.
[10] Цит. по: Михайлов А. Вместо введения. — В кн.: Хайдеггер М. Исток художественного творения. М., «Академический Проект», 2008, стр. 8.
[11] Там же, стр. 49.
[12] Хайдеггер М. Исток художественного творения, стр. 89.
[13] 13 «Я крушу зеркала, чтоб не видеть, как смотрит двойник!
Зеркала, разбиваясь, сочатся багровым и алым!
<…>
Отобрав твою жизнь, мой двойник и мой враг,
Я останусь один в том и этом мирах».
Сергей Калугин. «Абраксас» <;.
[14] Высокая оценка романа М. Ахмедовой, данная нашим постоянным автором, действительно не очевидна. (Примечание А. Василевского.)
КНИЖНАЯ ПОЛКА ОЛЬГИ НОВИКОВОЙ
o:p /o:p
o:p /o:p
Десятку детективных книг обозревает прозаик, редактор отдела прозы журнала «Новый мир» Ольга Новикова. В этом случае не обойтись без разглашения детективных тайн, но хорошему, крепкому детективу спойлер — не помеха. o:p/
o:p /o:p
Элизабет Джордж. Верь в мою ложь. Перевод с английского Т. Голубевой. М., «ЭКСМО», 2012, 672 стр. («Millenium») o:p/
Первый роман американской писательницы Элизабет Джордж об инспекторе Линли вышел в 1988 году, а в русском переводе «Великое избавление» было напечатано в 2002 году в серии «Лекарство от скуки» издательства «Иностранка». Заметив, что мои коллеги по редакции обмениваются книжками этого автора, решила и сама заглянуть в них. К детективам я, как и многие, поначалу относилась с высокомерным снобизмом. Да, это жанр развлекательный. Тем не менее у него есть своя эстетика: говорят же об «искусстве детектива». В 1920-е годы исследовали «морфологию сказки», «морфологию новеллы». А как насчет морфологии детектива? Не обнаружатся ли здесь закономерности, значимые и для высокой словесности? o:p/
Естественный способ формализации детективного сюжета — пересказ. Это своего рода рентген, выявляющий достоинства и недостатки произведения. Детективы, как правило, не нуждаются в истолковании, в интерпретации, их смысл — сама фабула в кратком изложении. o:p/
«Верь в мою ложь» — семнадцатый роман об инспекторе Линли. Редкий случай, когда «сериальность» не мешает автору экспериментировать и развиваться. В рамках детектива автор по сути создает психологический роман, затрагивающий серьезные социальные проблемы. И делается это без занудства, назидательности и однозначных приговоров. Как заметил в устном разговоре мой коллега, американка Э. Джордж подмечает и подробно описывает и то, что, вероятно, самоочевидно для англичан, но что создает для нас эффект достоверности. o:p/
Томас Линли, инспектор Скотленд-Ярда, владелец родового поместья в Корнуолле, по просьбе руководства занимается неофициальным расследованием смерти управляющего финансами процветающей компании семейства Файрклог. Втайне от своей непосредственной начальницы он привлекает к расследованию напарницу, девушку «из простых» Барбару Хэйверс — импульсивную, нелепо одетую, но очень толковую. Начальница, с которой у Линли непростые любовные отношения, заставляет сержанта Хэйверс позаботиться о своей внешности и, ревнуя, мешает расследованию. Линли прибегает к помощи своих друзей — судмедэксперта Саймона Сент-Джеймса и его жены фотографа Деборы. o:p/
В процессе расследования выясняется, что почти у всех членов семейства Файрклог есть тайны, и каждый по-своему заинтересован в смерти управляющего. o:p/
У многодетного главы семейства имеются любовница и внебрачная дочь. o:p/
Одна дочь притворяется неходячим инвалидом, чтобы не работать и тянуть деньги у отца. o:p/
Другая дочь пытается спасти двоих детей погибшего управляющего, которые остались в доме с любовником управляющего, архитектором. Их непутевая мать занята своей личной жизнью и не хочет обременять себя заботой о детях. У обоих детей большие психологические проблемы, а старший мальчик попадает в руки педофилов. К тому же муж этой дочери находит неувязки в отчетах управляющего. o:p/
Сын, бывший наркоман, вставший на путь исправления благодаря любви к молодой аргентинке, не подозревает, что женился на трансвестите. Его красавица-жена Алетея боится разоблачения и пытается заиметь ребенка от суррогатной матери. o:p/
В это же время бездетная Дебора сопротивляется намерению мужа усыновить ребенка одной молоденькой девушки. Мать готова отдать новорожденного, но хочет участвовать в его жизни. Не подозревая о том, что скрывает жена младшего сына Файрклогов, Дебора следит за ней с помощью недотепы-журналиста. Испугавшись слежки, Алетея в отчаянии сбегает из дома и пропадает в зыбучих песках. В итоге выясняется, что смерть управляющего — несчастный случай. Но развязка не перечеркивает значимости и интересности всего хода событий. И главный месседж романа можно интерпретировать так: закрытость человека, боязнь исповедаться близким людям ведет к трагическим последствиям. o:p/
Легко вспоминаются основные коллизии романа, который я прочитала еще в прошлом году. Жаль, что пришлось опустить побочные линии, каждая из которых могла бы послужить темой отдельного произведения. Не романа, так новеллы. Ненатужное переплетение множества линий, работающее на общий смысл, — эта черта объединяет высокую литературу и доброкачественный масскульт. o:p/
Если сравнить детективный жанр с бомбой, то можно сказать, что большая часть детективного чтива — это примитивные взрывные устройства с двумя цветными проводками. Думающий читатель уже по ходу повествования разрешает вопрос «кто виноват?» (не великий русский вопрос, а очень простую проблему — кто преступник?), то есть безошибочно перерезает красный или синий проводок и обезвреживает бомбу. Немногим авторам удается так переплести провода (сюжетные линии), чтобы после перерезания одной обманки механизм запускался снова. И так много раз, пока сам автор не нейтрализует преступника. o:p/
Телесериал по романам Элизабет Джордж называется «Инспектор Линли расследует». o:p/
Прочитанный том вот уже полгода ходит от одного знакомого к другому, но потом вернется на мою домашнюю полку. Остальные же книги, о которых пойдет речь, отдам почитать, уже не заботясь о том, чтобы они ко мне вернулись. o:p/
o:p /o:p
Кристина Ульсон. Золушки. Перевод со шведского Н. Пресс. М., «Иностранка», «Азбука-Аттикус», 2013, 416 стр. («Лекарство от скуки») o:p/
Шведский детектив, по общему мнению, переживает свой расцвет. Стиг Ларссон, Хеннинг Манкелль, Пер Вале и Мари Шеваль, Мари Юнгстед, Юхан Теорин давно переводятся на русский язык. Так что в поисках новых книг мы все чаще отдаем предпочтение скандинавским и в особенности шведским авторам. Их всегда дочитываешь до конца. o:p/
И вот новое имя: Кристина Ульсон. Обаятельная дама 1979 года рождения. Политолог по профессии, работала аналитиком в Полиции безопасности и МИДе, в отделе по борьбе с терроризмом при ОБСЕ. Автор девяти книг, две из которых уже переведены в России. «Золушки» — ее первая книга. o:p/
Мать спящей девочки во время длительной остановки выходит из поезда «Гетеборг — Стокгольм», чтобы поговорить по телефону с любовником. На перроне ее отвлекает незнакомая девушка — просит помочь перенести больную собаку. Пока они возятся, поезд уходит. В Стокгольме мать на такси догоняет поезд, но дочери там нет. o:p/
Следственная группа под руководством Алекса Рекса разрабатывает версию похищения ребенка отцом-садистом. Его нигде не могут найти. В рабочем компьютере подозреваемого обнаружена детская порнография. Но Фредерика Бергман, новичок в следственной группе, не верит в эту версию и пытается найти следы похитителя в прошлом матери. Ее догадки подтверждаются, когда мать получает по почте скальп дочери и вскоре труп девочки с надписью «Нежеланная» подбрасывают к больнице в городке Умео. o:p/
Чуть позже похищают еще одного ребенка, и его тело с той же надписью находят в доме у пожилых супругов, где когда-то жила удочеренная мать ребенка. Теперь всем ясно, что преступник за что-то мстит именно матерям. Фредерика выходит на след помощницы злодея. Избитую и покалеченную девушку обнаруживают в больнице и допрашивают. Она не знает ни имени, ни места жительства своего любовника-мучителя. Но полицейские выясняют его личность и врываются к нему в дом, когда тот похитил еще одного малыша. Не желая сдаваться, преступник поджигает себя и ребенка. Алекс Рекс, рискуя своей жизнью, спасает ребенка, а преступник погибает. o:p/
Автор умело ведет повествование, перемежая расследование с внутренним монологом преступника. Этим создается и нужное напряжение, и смысловая объемность. Взаимоотношения в следственной группе, психологические характеристики ее членов — все это перекликается с основным сюжетом. Возникают атмосфера доверия и эффект присутствия. Читатель может психологически отождествлять себя с каким-либо из действующих лиц романа (надеюсь, что не с преступником). o:p/
Жаль, что преступник мало соотнесен с действующими героями. Читатель лишен возможности заподозрить кого-либо из персонажей романа и удивиться финальному разоблачению. o:p/
o:p /o:p
Хеннинг Манкелль. Убийца без лица. Перевод со шведского С. Штерна. М., «Иностранка», «Азбука-Аттикус», 2012, 320 стр. («Лекарство от скуки») o:p/
Шведа Манкелля еще в конце прошлого века мне порекомендовала швейцарская подруга, которая уже много лет читает и изучает русскую литературу. Через несколько лет его начали переводить и на русский. Узнав, что автор — режиссер, драматург, общественный деятель, да еще и женатый на дочери Ингмара Бергмана, я заподозрила, что это, возможно, и не банальное чтиво. И не ошиблась: лучшие романы Манкелля — настоящая интеллектуальная игра. Тут есть психологически тонко обрисованные герои, затронуты важные социально-политические проблемы. o:p/
Всего по-русски вышло одиннадцать романов из серии о мрачноватом сыщике Валландере, причем первый роман «Убийца без лица» появился совсем недавно. o:p/
Инспектор Курт Валландер расследует зверское убийство четы пожилых фермеров. Перед смертью жена успела прошептать слово «иностранный». Об этом стало известно местным жителям, и они ополчились на лагерь беженцев, расположенный неподалеку. Жертвой их мести стал ни в чем не повинный сомалиец из этого лагеря. (В Швеции проблема мигрантов встала гораздо раньше, чем у нас.) Обнаружив у старого фермера множество «скелетов в шкафу», Валландер тщательно изучает всю его биографию, но тщетно… На полгода следствие зависает, и только благодаря наблюдательной банковской служащей удается раскрыть преступление. Оказалось, что убийство совершили два чеха, просившие политического убежища. Они проследили за фермером, который снял в банке большую сумму, и пытками выведали, куда он спрятал деньги. o:p/
Действие многих романов об инспекторе Валландере происходит в городишке Истад на берегу Балтийского моря, где, как и в вымышленном Мидсомере из телесериала «Чисто английские убийства», преступления следуют одно за другим (над чем подшутила Елизавета II, награждая Джона Неттлза, исполнителя роли инспектора Барнеби). Но при всей игровой условности шведский городок становится метафорой большого мира. o:p/
Сериалы по романам Хеннинга Манкелля в Швеции и на Би-би-си — «Валландер». o:p/
o:p /o:p
Вэл Макдермид. Тайные раны. Перевод с английского А. Капанадзе. М., «Иностранка», «Азбука-Аттикус», 2012, 528 стр. («Лекарство от скуки») o:p/
Вэл Макдермид — 58-летняя шотландская писательница, которая пришла в детективный жанр из журналистики. У нее три серии детективных романов: а) о лесбиянке, журналистке и частном детективе Линдсей Гордон; б) о психологе Кейт Бренниган; в) самая популярная серия — о консультирующем полицию клиническом психологе Тонни Хилле и инспекторе Кэрол Джордан. o:p/
Книга «Тайные раны» — из последней серии. На Тонни Хилла напал сумасшедший и топором раздробил ему коленную чашечку. Лежа в больнице, психолог с энтузиазмом помогает Кэрол расследовать смерть известного футболиста от отравления и последовавший затем взрыв на стадионе во время матча в его память. Прозрения Тонни все время натыкаются на недоверие и сопротивление Кэрол. Но в результате выясняется, что два трагических события никак не связаны между собой. Оказывается, жена владельца компании подговорила своего любовника-мусульманина устроить взрыв, чтобы убить разом и мужа, присутствовавшего на матче, и любовника. А знаменитого футболиста отравил неудачник, учившийся с ним в одной школе. Теперь он работает управляющим в одном поместье и подрабатывает журналистом, чтобы войти в контакт со своими жертвами. Злодей составил список ненавидимых им знаменитых людей и уничтожал их изощренными способами. o:p/
На писательницу меня вывел телесериал «Тугая струна», созданный по ее романам. o:p/
И в книге и в экранизации привлекают нетривиальные характеры и отношения. И читать и смотреть интересно. o:p/
o:p /o:p
Кейт Аткинсон. Чуть свет, с собакою вдвоем. Перевод с английского А. Грызуновой. СПб., «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2013, 416 стр. («Звезды мирового детектива») o:p/
А вот Кейт Аткинсон пришла в детектив из высокой прозы. Она родилась в 1951 году в Йорке (Англия), изучала английскую и американскую литературу, имеет докторскую степень. В 1995 году дебютный роман Аткинсон «За кулисами в музее» был удостоен престижной Уитбредовской премии, обойдя «Прощальный вздох мавра» Салмана Рушди. o:p/
В 2004-м Кейт Аткинсон выступила с первым романом о частном детективе Джексоне Броуди — «Преступления прошлого». В 2010-м вышел четвертый роман «Чуть свет, с собакою вдвоем», недавно переведенный на русский язык. o:p/
Джексон Броуди «перевалил за полвека, и старость растягивалась, становилась податливее, хотя после пятидесяти нельзя отрицать, что у тебя билет в один конец на экспресс до вокзала». o:p/
Частный детектив, банковский счет которого обчистила бывшая жена, из любопытства откликается на просьбу удочеренной женщины из Австралии, которая ищет своих биологических родителей. Действие происходит в Йоркшире. В процессе поисков Броуди то и дело пересекается с пятидесятилетней Трейси Уотерхаус, которая в семидесятые служила в полиции, а сейчас возглавляет охрану торгового центра. Трейси выкупила маленькую девочку у наркоманки Келли Кросс и пустилась в бега, чтобы у нее не отобрали ребенка. Вскоре наркоманку находят убитой, и бывшие коллеги Трейси занимаются расследованием ее смерти. o:p/
Повествование ведется в двух временных планах: 1975 год, когда Трейси была новичком в полиции, и наши дни. o:p/
В результате многочисленных перипетий выясняется, что в семидесятые годы один из полицейских убил любовницу-проститутку, забрал у нее их общую дочь и передал ее подруге своей жены, которая сразу же переехала с мужем в Австралию. Трейси принимала участие в этом расследовании и помнит, что в квартире тогда был обнаружен только мальчик. Он спрашивал: «Где моя сестра?», но этому не придали значения. А именно эта сестра и была клиенткой Джексона Броуди. o:p/
В финале Трейси с девочкой меняют имена и улетают из Англии, а Джексон Броуди возвращается к своей обычной жизни. o:p/
Романы писательницы полны тонкого британского юмора, метких наблюдений, неожиданных поворотов. Но на этот раз она немного перемудрила. Постоянные смены повествовательных планов, перескоки от одного героя к другому, короткие и длинные экскурсы в прошлое. Непрерывно множится число героев: к новым присоединяются те, кого мы уже встречали в предыдущих романах. Все это мешает следить за действием. Да еще издатели перестарались: от фабулы отвлекает огромное количество подробнейших сносок, поясняющих английские культурные, политические, географические реалии, которые без особого труда можно отыскать в Интернете. o:p/
Телесериал по романам Кейт Аткинсон называется как первая книга — «Преступления прошлого». o:p/
o:p /o:p
Ю Несбё. Призрак. Перевод с норвежского Е. Лавринайтис. СПб., «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2013, 512 стр. («Звезды мирового детектива») o:p/
Норвежский писатель и музыкант Ю Несбё (Ю — это полное имя) с 1997 года написал девять романов о сыщике Харри Холе. Многие расследования сплетены с личной жизнью главного героя, что помогает писателю сделать сыщика не статической функцией, а живым, меняющимся человеком. o:p/
Вот и в «Призраке» Харри, уже не служащий в полиции, возвращается в Норвегию из Гонконга, чтобы помочь Олегу, сыну бывшей своей подруги Ракели. Восемнадцатилетнего юношу обвиняют в убийстве наркоторговца по имени Густо. Сыщик добивается свидания с Олегом в тюрьме, но тот замкнулся и ничего не рассказывает. В процессе самостоятельного расследования Холе понимает, что все нити ведут к всесильному наркодилеру по кличке Дубай, который захватил рынок наркотиков и имеет связи как в полиции, так и в коридорах власти. Когда Олега чуть не убивают в тюрьме, Харри с помощью адвоката, нынешнего любовника Ракели, добивается его освобождения и садится в самолет, чтобы улететь обратно в Гонконг. Но перед взлетом он понимает, что Олег по-прежнему в опасности, и возвращается, чтобы подобраться к Дубаю. Холе не раз пытаются убить, что только укрепляет его уверенность в невиновности Олега. o:p/
Повествование ведется полисубъектно. Тут и летчик, перевозящий наркотики, и бандиты славянского происхождения, и коррумпированные полицейские, и амбициозная вдова из горсовета… В дневнике Густо рассказывается история его усыновления. Там же описывается дружба с Олегом, их общая торговля наркотиками, влюбленность Олега в Ирену из приемной семьи, в которой вырос Густо. Ради наркотиков Густо продает Ирену в наложницы химику, который изобрел и производит новый наркотик под названием «скрипка». o:p/
В финале Харри Холе понимает, что Олег им манипулировал и что именно он застрелил Густо. Вполне киношная ретардация — прямой разговор преступника и сыщика. Разговор, который ничего не меняет. Харри честно предлагает Олегу сдаться, но понимает, что тот этого не сделает. И последняя его мысль после того, как Олег в него выстрелил, — сообразит ли тот сразу улететь из страны, ни о чем не рассказывая матери… Нетривиальный ход. o:p/
Многочисленные цветные проводки в романе переплетены весьма грамотно. Механизм наркоторговли и коррупции показан довольно убедительно. Но психологические мотивировки порой хромают. За что юноша убивает Харри? За то, что в детстве тот не всегда выполнял обещания погулять в парке? o:p/
И смерть сыщика описана так, что он вполне может воскреснуть, если автору захочется продолжить успешную серию… o:p/
o:p /o:p
Пиа Юль. Убийство Халланда. Перевод с датского Н. Киямовой. М., «Астрель: CORPUS», 2012, 320 стр. o:p/
Это первая и пока единственная книга датской поэтессы и драматурга (1962 г. р.) в жанре детектива. По ее прочтении закрадывается подозрение, что детективная завязка нужна только для привлечения поклонников этого жанра. o:p/
У героини-писательницы («Я писала и издавала, с промежутком в несколько лет, сборники новелл») убивают мужа, и выясняется, что она не знала о его реальной жизни. Но открытия не связаны с убийством, и вообще убийство мало занимает как героиню, так и автора произведения. o:p/
Для психологического романа не хватает нестандартных мотивировок. Ложная многозначительность. Тридцать пять глав, каждая с претенциозным эпиграфом. Перебор фраз типа: «В тело мне вкралось чувство некоего удовлетворения». Правда, может статься, что эти претензии надо адресовать и переводчику. o:p/
Получился квазидетектив. Не так это просто — шагнуть от «высоколобости» к массовому читателю. У детективного жанра есть свои законы, и небрежение ими сводит на нет все усилия. o:p/
Еще раз убеждаешься: не надо верить рекламным цитатам, напечатанным на обложке. o:p/
o:p /o:p
Борис Акунин. Черный город. М., «Захаров», 2012, 352 стр. o:p/
Действие романа разворачивается в 1914 году накануне Первой мировой войны. 58-летний Эраст Фандорин сбегает от надоевшей жены в Ялту. По просьбе тамошнего градоначальника участвует в охоте на опасного революционера-террориста, якобы намеренного убить Государя. Но мишенью оказывается сам градоначальник, которого и застреливает террорист. o:p/
Фандорин отправляется в Баку, где по агентурным данным находится обманувший его убийца. Там же проходят съемки фильма с участием его нелюбимой супруги Клары Лунной. o:p/
На бакинском вокзале происходит первое покушение на жизнь Фандорина. Оно не удается исключительно благодаря ловкости и физической подготовке Эраста Петровича. Ради соблюдения приличий он встречается с женой на съемках одного из эпизодов фильма. И его снова пытаются убить. Чтобы поговорить с помощником градоначальника подполковником Шубиным, которого ему рекомендовали в Петербурге, Фандорин идет на прием в честь кинематографистов, устроенный одним из столпов города — нефтепромышленником Левоном Арташесовым. Заметив влюбленность режиссера, племянника Арташесова, в Клару, Эраст Петрович пытается «сохранить достоинство» и размышляет: достаточное ли это основание для развода? На обратном пути Фандорин вместе со слугой попадает в засаду, устроенную одноруким бандитом, который пытался его убить на вокзале. Маса тяжело ранен, а Эраст Петрович — о ужас! — обречен на мучительную смерть в нефтяной яме. o:p/
Но тут появляется избавитель — великан-разбойник Кара-Гасым, который становится верным (как бы!) помощником Фандорина. Эраст Петрович, пользуясь тем, что все считают его погибшим, пристраивает Масу в надежные руки и отправляется на поиски террориста. Вместе с Гасымом они громят логово анархистов, но цель не достигнута. o:p/
К Фандорину обращается вдова нефтепромышленника Саадат Валидбекова, с которой он познакомился на приеме. Просит помочь ей найти похищенного сына. Похитители требуют, чтобы вдова не шла на уступки забастовщикам, тем самым добиваясь ее разорения и расширения забастовки. Фандорин извещает о поисках подполковника Шубина. Тот дает свой мотоцикл, и Фандорин с Гасымом, Саадат с ее евнухом отправляются в путь. Снова погони, перестрелки. Выясняется, что мальчика украли по приказу Арташесова. Нефтепромышленник сознается, что первые покушения на Фандорина совершены по его заказу: он хотел помочь племяннику избавиться от опасного соперника. o:p/
В благодарность за спасение сына вдова отдается Фандорину, чьи любовные успехи напоминают джеймс-бондовские. o:p/
Тут в Баку приезжают начальники двух ведомств, ответственных за безопасность империи, и требуют, чтобы Фандорин поехал в Австрию и попытался вывести из тупика мирные переговоры, чтобы остановить надвигающуюся войну. Фандорин соглашается при условии, что с ним поедет Гасым. o:p/
Перед отъездом он получает письмо от жены с просьбой спасти ее от похитителей. Скрепя сердце Эраст Петрович поступает благородно и едет по указанному адресу в Черный Город. Там он попадает в последнюю ловушку, устроенную террористом. Выясняется, что тот сотрудничает с Шубиным, который заинтересован в расширяющейся смуте для того, чтобы получить власть в империи. o:p/
В финале Гасым, оказавшийся подручным террориста, стреляет в голову связанного Фандорина. Но Эраст Петрович не может погибнуть в 1914 году, поскольку уже известно, что его жизнь оборвется после революции. Что значит тот шепот, который он слышит? «В черном-черном городе…» o:p/
А значит это, что и трагизма подпущено, и надежда на продолжение плодоносного проекта остается. В телесериалах главного героя иногда укладывают в кому, и через десяток серий он может воскреснуть, а может и нет. Амбивалентная «открытость» финала стала расхожим техническим приемом, не несущим глубокой мысли. o:p/
Технично собранный механизм «Черного города» работает почти без сбоев. Исторические и социальные экскурсы, городские пейзажи, моралистические и философские рассуждения из дневника Фандорина — все это не слишком замедляет динамику. «Экшна» хватает. Как классический Джеймс Бонд, немолодой Фандорин много бегает, проявляет физическую сноровку там, где не мешало бы сперва подумать. Детектив порой сползает в боевик. o:p/
Но, помня о писательском долге, Акунин поигрывает с языком. Выдумывает глагол «гарировать» в значении «парковать» (неологизм уже опробован в предыдущем романе «Весь мир театр»), «пророчески» изобретает новую профессию «продуктер» (в значении «продюсер»)… «Работа со словом» присутствует. И все-таки тринадцатый роман фандоринской серии демонстрирует неизбежные для поточного производства самоповторы. Знакомые типажи, сюжетные ходы, любовные линии… Роза исторической стилизации с трудом прививается к дичку масскульта. o:p/
o:p /o:p
Татьяна Устинова. Где-то на краю света. М., «ЭКСМО», 2013, 352 стр. («Первая среди лучших») o:p/
Татьяна Устинова печатается с двухтысячного года. «Где-то на краю света» — тридцать пятый роман за тринадцать лет. o:p/
Но может, количество не во вред качеству? o:p/
Начальник-любовник сплавляет радиожурналистку Лилю Молчанову в полугодовую командировку на Крайний Север, в Анадырь. Столичная девушка в ужасе от холода и непритязательных условий жизни. Но местные жители заботятся о ней и отправляют за теплыми сапогами — «торбасами», которые шьет местный охотник. Когда она возвращается к мастеру, чтобы подправить жмущий сапог, то находит его труп. Официальная версия о самоубийстве устраивает не всех. Во время передачи, которую Лиля ведет вместе с местной радиозвездой Олегом Преображенцевым (сводным братом губернатора Чукотки), раздается звонок с угрозой. Героиню действительно похищают. Но один случайный свидетель преступления отвозит Олега в дальнюю охотничью избушку, где злодеи оставили Лилю умирать. o:p/
В финале выясняется, что виной всему алмазы, которые охотник, предвидя приход грабителей, спрятал в проданном Лиле сапоге. Преступников ловят, а Лиля и Олег влюбляются друг в друга: «Медвежья шкура приняла их, как будто была предназначена только для того, чтобы на ней занимались любовью». o:p/
Устинова эксплуатирует канон дамской мелодрамы с хеппи-эндом, а несложная детективная интрига служит приправой, чтобы изготовленное кушанье не было слишком приторным. Для наращивания объема одни и те же описания чукотских реалий повторяются по нескольку раз. o:p/
o:p /o:p
Александра Маринина. Оборванные нити. В 3-х томах. М., «ЭКСМО». Том 1, 2012, 384 стр. Том 2, 2013, 384 стр. Том 3, 2013, 416 стр. («„Другая” Маринина», «Королева детектива») o:p/
1184 страницы о судэксперте Сергее Саблине. Он учится в институте, наперекор матери женится на иногородней Лене, которая ждет от него ребенка. И все-таки он полюбляет ту Ольгу, которую мать прочила ему в жены. После окончания института работает в поте лица, чтобы прокормить жену, дочь и тещу, но у родителей не одалживается. o:p/
Принимает предложение одноклассника и для заработка переезжает в Северогорск за Полярный круг. (Вот оно, «коллективное бессознательное» жанра: в поисках экзотики и Маринина и Устинова отправляют своих героев подальше от Москвы, в холодные места.) Саблин регулярно посылает деньги жене, а Ольга сама чуть позже приезжает к нему. Автор самым подробным образом описывает работу судмедэксперта, патологоанатома, гистолога и т. п., приводит уйму криминальных случаев и медицинских казусов, которые никак не работают на фабулу. Порой возникает ощущение, что читаешь учебник по судмедэкспертизе, а порой — что смотришь скандальное ток-шоу по телику. Такой прием построения текста, как отбор, нашим детективщикам неведом. Вывалить все, что узнал, — и объем получается солидный, и фабульная схематичность не так заметна. o:p/
А собственно детективная фабула незамысловата. В первых двух частях трилогии ее с гулькин нос: несколько внутренних монологов неизвестного преступника о том, как сладко отравлять незнакомых людей и наблюдать за их агонией. Где-то в середине третьей части Саблин увольняет своего заместителя, и того находят убитым. Подозрение падает на главного героя. И он, сопоставив факты, догадывается, что его подставила прокурорша, сын которой и является тем загадочным отравителем. В финале криминальный сынок пытается отравить и Саблина, но просчитывается с дозой. Главный герой выживает, преступник кончает жизнь самоубийством. Прокурорша добивается от Саблина молчания, обещая оставить его в покое и сдать правосудию своего шофера, который по ее просьбе и убил несчастного заместителя (а по совместительству — ее любовника). o:p/
Злополучный судмедэксперт возвращается в Москву. Дочь выросла, жена с ним разводится, а Ольга не соглашается выйти за него замуж: «Ты не можешь не воевать». Сергей продолжает работать, ведя беседы со Смертью. o:p/
«Танатолог и Смерть. Такой выбор. Такая профессия». Философично, но отдельно от фабулы. o:p/
Фабульность — доминанта детектива, необходимое условие его существования. Это повышенная (до игровой степени) концентрация драматизма. А драматизм — неизменная составляющая и реальной жизни, и литературы как таковой. «Детективный элемент в русской романистике 60-х годов (Тургенев, Чернышевский, Достоевский)» — так называлась диссертация Митишатьева в романе Андрея Битова «Пушкинский дом». Персонаж антипатичный, но тему автор ему дал дельную. o:p/
Разветвленная фабула (с множеством «проводков») заводит в дебри человеческого бытия, обрастая социально-психологическими подробностями, подмеченными автором (а не только взятыми из инородных информационных источников). Это мы наблюдаем у Элизабет Джордж, Кейт Аткинсон, Хеннинга Манкелля, Ю Несбё... А фабульность схематическая и элементарная обычно маскируется декоративным прикрытием в виде неотобранных, неосвоенных, непереваренных сведений. o:p/
Такова она, морфология детективного жанра. Современной элитарной прозе ощутимо недостает драйва. Сможет ли она воспользоваться секретами и наработками криминальной прозы? Или процесс пойдет «снизу»? Японский русист Мицуёси Нумано усмотрел «канонизацию младших жанров» (по Ю. Тынянову и В. Шкловскому) в романистике Б. Акунина и В. Пелевина. Процесс жанровой диффузии продолжается. o:p/
o:p /o:p
NON-FICTION C ДМИТРИЕМ БАВИЛЬСКИМ
64. МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ [1] o:p/
За что мы все еще любим Кортасара? За Париж и джаз. За легкий, летящий стиль, «пропитанный свингом», за путанный, но незамутненный синтаксис, позволяющий в пределах фразы совмещать разнородные явления: когда смешивается высокое и низкое, грустное и веселое, история искусства и сиюминутные шлягеры, создавая пространство высокого напряжения. Какого угодно — интеллектуального, бытийственного, музыкального…
Книги Кортасара похожи на текстуальный театр, совершающийся в момент чтения. Ну да, как музыка, важная в то время, пока звучит. Попытки перечитывания, как правило, проваливаются — при повторном употреблении волшебные свойства кортасаровской прозы начинают расползаться, подобно старой дерюге: память помнит не сам текст, но наши впечатления от него — густое и стойкое послевкусие. Терпкое, сладостное.
Казалось, что, подобно многим классическим и традиционным авторам, Хулио Кортасар постепенно переходит на полочку юношеской беллетристики: прочитанный в ранние годы, он там навсегда и останется, не выдерживая более поздних обращений.
Все, однако, сложнее и связано с неповторимыми конструкциями этих книг, не похожих друг на дружку (сам Кортасар писал в одном из писем к Ф. Порруа, что, «говоря откровенно, я горю желанием написать другую [книгу], которая всегда — другая , всегда упование, всегда надежда, что именно она искупит вину за все несовершенные книги, которые я сотворил до сего дня…»). Наряду с живым и переливающимся «веществом прозы», именно новизна конструкции каждого отдельно взятого кортасаровского текста и есть важнейший источник информации, впитываемый читателем на бессознательном уровне.
Нужно ли говорить, что тропы и метафоры, в том числе нарративные, обустраивающие архитектуру произведения, при правильном с ними обращении тоже являются носителями информации? Безусловно, нужно, ибо тогда становится понятной странная одноразовость кортасаровских книг, которые снова хочется сравнить с театром: раскрываясь, занавес выдает тайны сцены, всю ее сценографическую начинку, работающую на впечатление вплоть до финального сигнала и аплодисментов.
Театр тоже не сводится к тексту пьесы и фабульным приключениям, но дышит всей кубатурой художественного пространства, ускользая от четкости конечных определений: зритель исчерпал спектакль, но не исчерпал своих впечатлений, которые теперь (если все в постановке счастливо совпало) можно баюкать в складках памяти.
Каждый раз, желая написать другую книгу, Кортасар предъявляет читателю очередное структурное изобретение, таким образом, мгновенно теряющее оригинальность и дальше уже не работающее. Или работающее, но вполсилы.
Одной из важнейших тем «Переписки с издателем» являются сетования писателя на трудность нахождения этих самых форм. Письма первой половины 60-х пишутся параллельно строительству «Игры в классики», после которой Кортасар уже физически не способен работать так, как раньше.
Именно поэтому выходящий сборник старых рассказов писатель называет «Конец игры»: «[Издательство] „Судамерикана” анонсирует ее под тем же названием, и наверное, так оно лучше. Ты увидишь, что книга заметно прибавила в весе, но в некотором смысле это уже „посмертное издание”, как ни крути, все, что в ней есть, всего лишь предваряет „Игру в классики”, в какой-то степени она сродни книгам <...> которые издатели, когда маэстро уже отправился к праотцам, собирают из остатков, чтобы люди получили шанс потратить несколько песо и пополнить домашнее собрание его трудов. Даже это невеселое название — „Конец игры” — странным образом оборачивается вдруг эпитафией на могильной плите, не так ли? Но мне оно нравится, недаром я однажды сказал тебе, что теперь намерен посвятить себя живописи и безделью. Через одиннадцать месяцев мне стукнет 50, и пора заняться чем-то серьезным».
Серьезное — это новая книга, известная теперь под названием «62. Модель для сборки», мучиться которой Кортасар будет до конца предъявленной нам переписки. Вот как он описывает первые ощущения нового замысла: «…меня буквально преследует призрак моей новой книги, которая со мной неотступно все это время, но никак не дерзнет обрести плоть, чтобы я, наконец, мог пойти на штурм. В сущности, если я сейчас чего и желаю в первую очередь (и это серьезно, по тому как такого со мной не случалось уже года два), так это написать задуманную книгу, мысли о ней не покидают меня ни на минуту, ни на улице, ни в ванной, ни в офисе, а если исчезают, то лишь когда передо мной листы белой бумаги. Уже есть какие-то наметки, наброски, сквозные линии, но все пока смутно и весьма сложно. „Игра в классики” — слишком книга , и она все еще лежит грузом на моих плечах. И я ни в коей мере не хочу, чтобы моя новая книга стала чем-то вроде „Двадцати лет спустя”, а значит, нужно полностью оторваться от предыдущей, что весьма непросто. Словом, ее общая идея мне нравится, и заключается она в следующем (попробуй объясни, это почти как нарисовать огромную дыру, но, так или иначе, в любом взрезе пространства уже наметки формы): мне видится книга, не слишком большая, в двух частях, первая будет состоять из 4 — 5 рассказов или nouvelles, совершенно независимых во всех смыслах <…> Вторая часть — это собственно настоящий роман, который не будет иметь ничего общего с рассказами из первой части, и вместе с тем, развиваясь, вберет в себя отзвуки и параллели того, чем наполнены эти рассказы, и тогда читатель сумеет увидеть их совершенно в ином свете».
«Центр книги Рудомино» издал отлично прокомментированную переписку Кортасара со своим аргентинским издателем Франсиско Порруа в качестве двойного, а то и тройного мемориала. Во-первых, сборник этот — дань памяти выдающемуся переводчику Элле Владимировне Брагинской (1926 — 2010), виртуозно передавшей по-русски многочисленные и подчас одновременные языковые кортасаровские игры.
Так вышло, что Брагинская работала над переводом писем Кортасара в конце жизни: публикация части из них в «Иностранной литературе» (2009, № 8) стала, к сожалению, ее последней публикацией. Отбирая в трехтомном собрании писем Кортасара «единый сюжет», Элла Владимировна не успела закончить даже одну-единственную «сквозную линию» его переписки. Именно поэтому нынешний том охватывает публикацию текстов только за шесть лет, являясь, таким образом, не репрезентативным изданием, но авторской подборкой.
Это важное для понимания «Писем к издателю» обстоятельство, объясняющее, почему столь напряженный и постоянно крепнущий диалог двух друзей неожиданно прерывается на самом пике.
С другой стороны, подобный финал (став всемирно знаменитым, писатель бросает первую жену и старого издателя) кажется не менее символичным: писательство — это же вам не просто судьба, но ласковое проклятье, лишающее сочинителя не только близких друзей, но и семьи.
Зная это, «Игра в классики» смеется над своим автором: когда Морелли, самого таинственного персонажа этого «антиромана», в квартире которого собирается «Клуб змеи», сбивает машина, кто-то из зевак кричит: сообщите семье! Знает ли семья? На что кто-то из знакомых Морелли резонно отвечает: «Откуда у него взяться семье? Он же писатель!».
«Переписка» состоит из 64 посланий, относящихся к 1960 — 1965 годам, тому самому времени, когда Кортасар только-только выныривал из неизвестности (работа учителем, писание сонетов) и захолустья. Теперь он в Париже, работает в ЮНЕСКО, хотя и на хлопотной работе, далекой от его творческих и человеческих (впрочем, разве это не одно и тоже?) интересов, но тем не менее позволяющей писать ему сначала рассказы (кажется, именно тогда он придумывает хронопов), а затем и свои более объемные, судьбоносные книги.
Переписка развивается параллельно биографии и воплощенности таланта. Драматургическое напряжение возникает оттого что Кортасар пишет все лучше и лучше, причем как книги, так и письма. Предложения об изданиях и переводах сыплются на него со всех сторон (мода на латиноамериканский «магический реализм» все прибывает и прибывает), хотя ему этого мало и мало.
«Персонажи „Игры в классики” идут навстречу собственному поражению с той иронией, в которой можно угадать их тайное торжество. На этой отуманенной территории, где они движутся, любовь, ревность и милосердие как бы дьявольски подчинены прямо противоположному знаку, и тут психологическая причинность в полной растерянности сдает свои позиции, эти существа в своих встречах и невстречах не подозревают, что с каждой новой фигурой их танца они все ближе и ближе к конечной мутации...».
Письма к Пако Порруа, выполнявшего функции литагента, содержат тщательную проработку пошаговой стратегии в отношении книжных рынков разных стран: Испании, Франции (много недобрых слов собеседники отпускают по поводу неразберихи в «Галлимаре»), Германии, англоязычных переводов. Кортасару важны любые издания, от самых что ни на есть локальных (например, шведских или чешских) до многотысячных — в Латинской Америке или странах соцлагеря. «Пойми, я особо заинтересован в этих противо -железно-занавесных изданиях по многим причинам: да, на них денег не заработаешь, кто бы спорил, зато появляется возможность узнать о жизни этих стран, а это немало».
В обсуждениях книгоиздательских вопросов нет и не может быть мелочей. В каждом (!) письме Кортасар выказывает чудеса дотошности, требуя соблюдения самой незаметной запятой (это не метафора), всех составляющих всех его книг, независимо от того, премьера это или очередное переиздание.
Особенно пристальное внимание он обращает на оформление обложек, сочетание цветов и цветопередачу, предлагает не только шрифты и их размеры, но входит весьма подробно в понимание технических типографских сложностей, объясняя, как при печати можно сохранить переходы одного цвета в другой. Пишет о синем и черном, желтом и красном, комбинирует, фантазирует, компонует варианты, ищет редкие фотографии, которые можно задействовать в украшении клапанов, суперов, подключает к оформлению книг знакомых и незнакомых художников.
Да, время от времени он вдруг начинает стесняться собственного занудства, но ничего с рабочей одержимостью поделать не может.
Читая постоянные ссылки Кортасара на работу с верстками и корректурами, постоянными и весьма навязчивыми (все время увеличивающимися в геометрической прогрессии) хлопотами, связанными с книгоиздательскими программами, авторскими договорами (проблемы здесь поджидают на каждом шагу: Антониони предлагает снимать кино по рассказу «Слюни дьявола», но вместо того, чтобы радоваться заинтересованности классика мирового значения, Кортасар хватается за голову — для того, чтобы экранизация осуществилась, все (все!) издатели, купившие права на текст, должны выдать разрешение на этот проект в течение одного месяца) и вытрясанием роялти, понимаешь: главное в карьере известного литератора (то есть писателя, претендующего на интернациональную карьеру) отнюдь не сами тексты, но неприятные, невидимые миру хлопоты. Скучная, черновая работа, требующая максимального напряжения, полной отдачи и постоянной готовности к «бою».
В случае с Хулио Кортасаром два таланта, организационный и собственно литературно-художественный (нужно ли говорить, что это два совершенно разных дарования? Разумеется, нужно, особенно теперь, когда литература сплошь состоит из мертворожденных «проектов коммерческой направленности»), отчаянно совпадают.
Да, Кортасар любит писать до дрожи, до самозабвения, однако, исполнив творческий долг за печатной машинкой (читая сборник, постоянно ловил себя на констатации: Хулио не знал компьютера, а если бы знал, то насколько сильно изменилась бы его стремительная интонация, напрямую зависящая от скорости печатания, скорости воплощения?), мгновенно превращается в амбициозного и тщеславного человека, алчущего чужого признания. Он детально пересказывает собеседнику любые новости самопродвижения, любые, даже самые случайные, отклики и читательские реакции — от цитат из статей ведущих критиков до реплик студентов, пишущих восторженные письма новой знаменитости.
Интересно следить за тем, каких из своих эпистолярных эмоций Кортасар стесняется, специально их оговаривая, а какие льются из него, точно ничем не сдерживаемая песня.
Его постоянный собеседник Франсиско Порруа, по всей видимости (а его реакции нам пока неизвестны), удивительно терпелив и понятлив. Как в деловых вопросах, так и в сугубо личных. Он не только величайший хроноп (этим наиболее почетным титулом Кортасар просто так не разбрасывается), но и друг, даже брат, слепо идущий на поводу у родственных чувств.
«Беда в том, что мужчинам почти невозможно выразить друг другу благодарность словами, разве каким едва заметным жестом, ну, предложить сигарету или слегка тронуть за плечо, что ли. А то и помолчать в те минуты, когда, по правилам этикета, изложенным в руководствах, следует произносить общепринятые фразы».
Переписка, начинающаяся с официального обращения («Дорогой Порруа»), очень скоро превращается в теплый дружеский разговор, градус которого постоянно крепчает. Что достаточно естественно, когда людей, объединенных общим делом, разделяет океан.
О, эти отношения между издателем и автором, кажется, целиком и полностью зависимым от того, с какой ноги встал сегодняшний вершитель литературных судеб. Редакторы всех издательств и изданий мира (Порруа между тем жив и по сей день, в Европу он перебрался только в 1977-м и теперь пенсионерствует в Барселоне) получают тысячи писем, где самомнение смешано с робостью, бравада с безобидным пощипыванием собеседника и незатейливой, но при этом весьма тщательно законспирированной угодливостью.
Вспомним переписку раннего Чехова или позднего Толстого. Письма к издателю — совершенно особый жанр, в котором писательский талант со всей очевидностью встает в полный рост: здесь во всей наглядности показываются не предназначенные чужому глазу манипуляционные возможности автора. Как то: нащупывание слабых мест, употребление наиболее сильных и точных слов и как можно более действенных формул, прикрытых, с одной стороны, дежурным дружеским участием, а с другой — маниакальной зацикленностью на своем творчестве.
Попытки, не мытьем, так катаньем, заинтересовать (порой через всяческие личные обстоятельства) собой чужого, солидного и всепонимающего человека, из-за чего изощренность манипуляции становится запредельной. Или же, наоборот, в диалоге с «дорогой редакцией» следует не рассчитывать эффекты, но тупо бить в одну точку? Да и вообще, какую стратегию выбрать?
Иной раз следить за таким диалогом (тем более, участвовать в нем) дико неловко. Но и здесь талант Кортасара феноменален: его печатная машинка практически не издает фальшивых нот. Хотя повышенная игривость, временами захлестывающая эти драгоценные эпистолярные сокровища, выдает скрываемую нервную дрожь.
Правда, чем ближе к финалу, тем все менее и менее очевидную…
Поэтому, во-вторых, сборник, изданный «Центром книги Рудомино», — памятник нормальным (о’кей, внешне нормальным) профессиональным отношениям. «Письмо твое заставило себя ждать, но оно того стоило. Я его читал не отрываясь, с наслаждением, как в жару пьют холодную воду…» Это еще, в-третьих, памятник верности, для которой даже смерть не преграда.
Те, кто бывал на Монпарнасском кладбище, знают, что Кортасар делит свою могилу с Кэрол Данлоп, умершей на два года раньше самого писателя в тридцатипятилетнем возрасте (официально от лейкемии, хотя Интернет неоднократно намекает на СПИД). Как в таких случаях пишут авторы комментариев, «последняя любовь поэта окончилась трагично…» Главным же участником «Писем к издателю», помимо основных переговорщиков, оказывается Аурора Бернардес, первая жена Кортасара, с которой тот развелся еще в 1967-м. Кортасар и умер на руках этой женщины, разделившей с ним скитания по провинциальным колледжам, эмиграцию и труднейшие годы «творческого становления».
В начале ХХI века именно Аурора Бернардес, оставшись душеприказчиком писателя (между прочим, всю личную библиотеку Кортасара она передала в Никарагуанскую национальную библиотеку), посвятила сбору и публикации кортасаровского наследия. В том числе и писем.
Элла Брагинская, перфекционизму которой мы обязаны образцовой передачей многослойности кортасаровского стиля, мгновенной узнаваемостью его неповторимой интонации, пишет в предисловии: «Мы не знаем, сколько писем Кортасара сохранилось. В трех объемных томах содержится 723 письма, которые охватывают период с 1937 по 1983 год. Десять лет их собирала, упорно разыскивала и наконец подготовила к печати его первая жена <…> преодолев самые неожиданные и весьма серьезные препятствия...».
Из всех латиноамериканцев, повлиявших на нынешний строй русской литературы, влияние Кортасара, научившего наших писателей легкой, приджазованной походке, кажется мне самым важным. Но и самым трудноразличимым. Гораздо проще увидеть в современных сочинениях фабульные мифопоэтические ритмы Маркеса или же фантасмагорические культурные концентраты в духе Борхеса.
Книги Кортасара были быстро впитаны и переварены до полного их неразличения, тем более, что и сами они, естественные как дыхание, провоцируют такое к себе отношение. Тем не менее интерес к писателю не проходит, стойко держится. Уже после Перестройки вышло несколько собраний сочинений писателя (в том числе четырехтомник всех кортасаровских рассказов) и даже несколько разных переводов одних и тех же его сочинений. Книга, переведенная и составленная Эллой Брагинской, подоспела вовремя: когда традиционные способы заполнения читательских потребностей исчерпаны, в ход идут письма и интервью [2] .
Девять лет назад, когда один год совместил две юбилейные даты (1914 — год рождения писателя, 1984 — год смерти), по заданию редакции я пытался опросить ведущих наших писателей о влиянии Кортасара на их творчество. Сама постановка вопроса приводила литераторов в замешательство. Да, следы его джазовых импровизаций, положенных на бумагу, оказались усвоены и присвоены, но как все это вычленить и объяснить другим…
Притом что обращался я к авторам, в работе которых присутствие великого латиноамериканца или же параллельность его опыта («одними дорогами ходим») была очевидной. Василий Аксенов, Андрей Битов, Андрей Левкин… Попытка анкеты провалилась.
Вещество кортасаровской прозы летуче и неуловимо. Но зато попытки каждый раз написать другую книгу позволяют воспринимать «Письма к издателю» как еще один его интеллектуально концентрированный роман, в котором есть все важнейшие составляющие лучших его произведений.
«Ты, наверно, схватился за голову, я это вижу отсюда. Это почти для романа о самом Кортасаре, вот тебе персонаж книги, который в один прекрасный день решает перевести свою книгу на другой язык…» Другое дело, что, в отличие от «Игры в классики» или «Книги Мануэля», здесь рассказчик и персонаж совпадают. Ну, почти, почти, или, как любил писать сам величайший хроноп Вселенной, and yet, and yet…
o:p/
[1] Кортасар Хулио. Письма к издателю. Перевод Эллы Брагинской. М., «Центр книги Рудомино», 2012. («Мастера художественного перевода»)
[2] Здесь хочется отметить другую книгу, составленную и отчасти переведенную (вместе с Н. Беленькой, Н. Богомоловой, Б. Дубиным, Ю. Грейдингом, В. Капанадзе, А. Кофманом, Е. Огневой, Ж. Тевлиной, Е. Хованович и др.) Эллой Брагинской, — сборник кортасаровских эссе и интервью «Я играю всерьез» (М., «Академический проект», 2002), к сожалению, мало кем замеченный.
МАРИЯ ГАЛИНА: ФАНТАСТИКА/ФУТОРОЛОГИЯ
o:p /o:p
o:p /o:p
НЕЖИТЬ, КОТОРАЯ НАС ВЫБИРАЕТ o:p/
o:p /o:p
Или еще раз о «вампирских романах» Виктора Пелевина o:p/
Вокруг и по поводу Пелевина написано уже столько, что если я обращусь к другим критическим материалам, этот текст разбухнет до объема докторской диссертации. Потому я ограничусь своими собственными соображениями, и да простят меня авторы критических статей, если я невольно изобрету чей-то велосипед.
Для начала вполне тривиально замечу, что первые вещи Пелевина вызвали более чем заметный резонанс — помимо очевидного таланта автора — еще и потому, что обращались (в метафорической форме) к реалиям, с которыми так или иначе сталкивались все мы. И ранние рассказы, и «Омон Ра», и «Принц Госплана», и даже «Чапаев и Пустота» написаны как бы изнутри более ли менее монолитной среды, в которой обитали мы все; с очень точным попаданием в детали, которые и создавали — при всей фантасмагоричности сюжетов — ощущение некоей высшей достоверности. Однако очень скоро общество стратифицировалось, распалось на разные, порой никак не соприкасающиеся микросреды, с разными культурными кодами, и взгляд изнутри, охватывающий целостность, стал невозможен.
В такой ситуации можно либо исследовать самые новые и самые заметные из этих микросред («Generation „П”»), либо — обратиться к миру идей и представлений в платоновском смысле этого слова. Последние вещи Пелевина — не столько романы в классическом смысле этого слова, сколько замаскированные под романы трактаты, те же «Диалоги» Платона. Все остальное — приманка, наживка — как, скажем, любовная история в «S.N.A.F.F.»е, которая столь трогает сердца романтично настроенных читательниц. Сюжет — открыто и даже с некоторой издевкой признается сам Пелевин в «Бэтмене Аполло» — это вообще для читательниц (его герой, вампир Рама, апеллирует именно к читательнице , пародируя знаменитое булгаковское «за мной, читатель!», тоже, надо сказать, не без издевки написанное). Да и отсылка к «горячим» темам и событиям (в «Бэтмене Аполло» демонстративно поверхностная, вызывающе-ленивая) — точно такая же, плавающая на поверхности текста наживка, крючок, на который довольно легко клюют уже не только читательницы , но критики и обозреватели. В этом смысле «Бэтмен Аполло» Пелевина вообще очень показателен, поскольку вся механика создания пелевинских текстов последнего времени здесь демонстрируется в открытую, отчего роман напоминает те стильные наручные часы, где механизм демонстративно открыт взгляду и мы наконец-то видим все эти тайны, все эти колесики и шестеренки, по-своему, надо сказать, довольно эстетичные. Смотрите — буквально кричит автор с каждой страницы — как это сделано, как я это делаю: вот так, вот так, а еще вот так. Автор максимально облегчил работу критиков и литературоведов, в чем я подозреваю какую-то сложную, пока не понятную мне интригу.
Ну да, все верно. Совершенно неважно, кто из персонажей открывает рот, за него, как чревовещатель, говорит один и тот же человек — иными словами, как бы анти полифония, контр-Бахтин (полифония по Бахтину признак настоящего романа) — и говорит не как творец, а как транслятор некоей коллективной идеи (или облака идей, или коллективного бессознательного, или того и другого вместе взятого). Кстати, столь раздражающие лично меня лингвистические игры в духе Задорнова в «S.N.A.F.F.»е — тоже некоторым образом трансляция коллективного бессознательного; в ЖЖ-шном сообществе etymology_ru , где премодерация то ли отсутствует, то ли не слишком жесткая, таких, мягко говоря, странных версий продуцируется сколь угодно много.
А уж на сходство с платоновскими «Диалогами» (Платон, кстати, и сам был тот еще мистификатор и гонщик — одна его Атлантида чего стоит) Пелевин в «Бэтмене Аполло» намекает недвусмысленно и даже несколько назойливо — а заодно и на то, что люди воспринимают лишь тени истинных слов и идей. Которые — истинные, — во-первых, доступны лишь вампирам, а во-вторых, — внимание! — вообще не существуют, поскольку называние есть ограничение (мысль изреченная… ну, понятно). Впрочем, возможно, дело обстоит еще более сложно, и Платон тут вообще ни при чем, а в последних пелевинских текстах есть какой-то уровень считывания, мне недоступный, либо, хм… его нет, а есть лишь намек на то, что он есть, — далее см. выше.
Так или иначе, но Пелевин как бы ловит эти плавающие в пространстве коллективного сознательного/бессознательного аморфные тела идей за хвост и проговаривает их, вербализует связно и непротиворечиво в уже ином пространстве, пространстве текста — в некоем порядке и взаимодействии.
Собственно и механизм сегодняшней авторской успешности, полагаю, именно в этом — в том, что отечественное (или, шире, среднеевропейское) коллективное сознательное/бессознательное в каждом новом тексте Пелевина обретает некий моментальный снимок, собственное целостное отражение, а не только, скажем, видит собственный нос или ухо. А смотреть на себя гораздо интереснее, чем разглядывать какого-то там Другого. Целостная картина, добавлю, получается не слишком эстетичная, но, в силу узнавания, внимание заведомо обеспечено.
Закрепляется этот моментальный фотоснимок посредством доминирующего на данный момент стиля, дискурса , причем заодно препарируется (как часть препарата) и сам главенствующий на данный момент стиль.
Эта препарация происходит примерно тем же образом, как на уроках ботаники сдирают кожицу с луковицы, — послойно. Ирония, однако — это и есть такое считывание слоев : все последние тексты Пелевина весьма и весьма ироничны, и ирония эта распространяется на все, в том числе и на сам дискурс (вспомним эпическую битву Верлибра и Сонета в финале «Empire V», а заодно — чем она закончилась: там последовательно две концовки, одна — ложная, другая — истинная). Судя, однако, по критической рецепции пелевинских текстов, ирония считывается далеко не всеми — почти все восхваления/поругания очередного романа либо чрезмерно эмоциональны, либо же в высшей степени наукообразно-серьезны [1] . И это очень показательно, поскольку коллективному бессознательному чувство юмора вообще не свойственно, — в том числе (особенно!), когда оно разглядывает себя. Сатира, да, энергично и даже несколько обидчиво считывается — но это не одно и то же. Ирония — это в том числе ирония и над сатирой (предлог «над» здесь сознательно двусмыслен).
В последнее время (возможно, это связано со всепроникающим влиянием media ) коллективное сознательное/бессознательное без устали воспроизводит два основных паттерна:
«они нас зомбируют»
«нет никакой ложки».
В сущности, это один постулат, если вдуматься. То, что благодаря media правду от неправды отличить стало практически невозможно, реальность как таковая легко подменяется искусственными конструктами, равно как и то, что именно на этом основана манипуляция массовым сознанием («зомбификация»), прекрасно показано в сатирическом фильме Барри Левинсона «Хвост виляет собакой» (1997), поставленном по мотивам романа Ларри Бейнхарта «Американский герой» (1993), но корни гораздо глубже. Искусственную реальность (опять же с целью манипуляции, «зомбификации») с самого начала своего существования создает реклама, но здесь как раз к Пелевину…
Именно этими двумя положениями — про зомбификацию и отсутствие ложки — жонглирует трэш-литература, которая по определению кормится продуктами массового сознания, одновременно воспроизводя их, «передавая дальше». Именно их так или иначе осмысливает литература штучная, иными словами, литература «второго порядка». И именно на эти постулаты в том или ином виде опираются практически все тексты Пелевина [2] — сначала разбирая их «по косточкам», потом вновь собирая в мифологический конструкт — однако уже иного, высшего порядка, основная ценность которого (конструкта, а не порядка) в том, что конструкт получается в высшей степени убедительный и непротиворечивый. Все остальное (сюжет, характеры, если кто-то способен их здесь отыскать, мимолетные политические аллюзии) — лишь розочки на торте, порой весьма и весьма причудливые, но налепленные исключительно для того, чтобы замаскировать грубую умственную пищу.
Вампиры в коллективном бессознательном (и его масскультурном зеркале) как раз и являются одним из воплощений этих двух паттернов/слоганов, но воплощение это, хотя и мегапопулярное, тем не менее (именно потому, что вездесущее) достаточно аморфное. Облик вампира зыблется, двоится и троится — то мрачный асоциальный полуразложившийся кровопийца, то гламурный красавец, то интеллектуал, то слепая сила… Но, каким бы он ни был, из самого существования вампира, несомненно следует одно. Человек, что бы он сам про себя ни думал, — просто звено в пищевой цепи, причем не самое последнее. Над ним стоят некие высшие существа, и эти высшие существа в буквальном смысле слова супермены. Бэтмены Аполло.
Корни этого мифа, полагаю, восходят именно к той точке, в которой европейская культура (не без помощи тех же media ) стала работать с понятием «человечество» как с некоей целостностью, а раз человечество — целостная совокупность отдельных организмов, биологический вид, то и подчиняться оно должно сугубо биологическим законам. Вполне прагматическая теория Мальтуса датируется 1798 годом. Первый литературный вампир доктора Полидори обнажил свои клыки в 1819-м. Романтический «Дракула» Брэма Стокера появился сто лет спустя после обнародования мальтузианской теории — в 1897 году.
Идея вполне понятна — чем выше располагается в пищевой пирамиде соответствующий вид, тем его, во-первых, меньше, тем он — во-вторых — более (по сравнению с жертвами) интеллектуален, да и просто эффективен. Человек в этом смысле оказался эффективен настолько, что вывел себя за пределы естественной пищевой пирамиды, начав прогибать окружающую среду под себя, но если по аналогии высказать предположение, что над человеком тоже стоит кто-то, кто-то им кормится, то — картина меняется. Причем от того, кто кормится: хищник, паразит, или симбионт, картина меняется по-разному — и, соответственно, получает разное художественное воплощение.
Если это хищник — он неуязвим (с точки зрения жертвы, по крайней мере) и харизматичен. Хищником принято восхищаться, как мы (в сущности, крупные обезьяны) восхищаемся крупными кошками. Механизм понятен: в его основе — естественная потребность все время наблюдать за источником потенциальной опасности внимательно и неотступно, поскольку приматы и крупные кошачьи исторически обитали бок о бок. Такое неотступное и пристальное внимание возможно только в том случае, если его объект для наблюдателя по меньшей мере не отвратителен. Эволюционная необходимость — не более того. Не думаю, что для крупных кошек мы эстетически столь же привлекательны.
Харизматичность и привлекательность (в том числе и сексуальная неотразимость) вампиров, начиная с графа Дракулы Брэма Стокера, обусловлена именно этим. Примеров сколь угодно много — в том числе и эпохи «постмодерна», как, скажем, несколько иронический, но очень привлекательный образ вампира-интеллектуала Региса из саги «Ведьмак» Анджея Сапковского. Самый «чистый» недавний пример — харизматичный Юкка Сарасти из «Ложной слепоты» Питера Уоттса, гидробиолога по профессии. Сарасти — самый настоящий хищник, генетически восстановленный реликтовый гоминид, для которого остальное человечество — просто мясо [3] . Уоттсу не чужда ирония — его вампиры практически во всем превосходят человека, но имеют один генетический дефект, сбой, несущественный — и следовательно, не подверженный эволюционной отбраковке, — в дикой природе, но проявляющий себя в сугубо искусственной, созданной людьми, на время вырвавшимися из-под власти вампиров, цивилизационной среде. Вампиры Уоттса впадают в ступор при виде двух перекрещивающихся прямых линий.
Людям (мясу) вампиры Уоттса кажутся не только опасными, но и прекрасными (почему — см. выше), а отсюда уже недалеко до пресловутого «комплекса заложника» — любви (как правило, исступленной, истеричной) жертвы к своему палачу и мучителю [4] .
Отсюда же — небывалый успех не слишком убедительной в плане художественных достоинств «вампирской» саги Стефани Майер «Сумерки» [5] , отыгрывающей тот же высокий эмоциональный накал страсти палача и жертвы в ее подростковом, а потому сильно романтизированном, облагороженном варианте: ничем не примечательную старшеклассницу (таких критики презрительно называют Мэри Сью — everywoman ) удостаивает своим вниманием над-человек, харизматичный красавец-вампир, который к тому же «хороший», поскольку не губит людей ради крови (по Пелевину — неназываемой, сакральной «красной жидкости»). «Хорошесть» вампира, попытка облагородить и гламуризировать его не удивит нас, если мы вспомним, чем кончилась в 1973 году криминальная история, давшая название «стокгольмскому синдрому».
Вампир-паразит — на первый взгляд, наиболее художественно невыигрышный образ, поскольку не опирается на древние архетипы и предоставляет авторам не слишком много степеней свободы. Неудивительно: паразиты, в отличие от хищников, особой привлекательностью похвастаться не могут, сравним, например, тигра и ленточного глиста. К тому же от паразита не требуется ни особого ума, ни ловкости, ни хитрости, ни харизматичности. Однако в массовой культуре эта тема отыгрывается достаточно активно и порой очень плодотворно (один кинематографический цикл Aliens чего стоит!) по другому архетипическому сюжету — «враг внутри», нечто, на первый взгляд, незаметное и безобидное, что постепенно меняет человеческую природу и подчиняет своей воле. В чистом виде вампиры-паразиты, впрочем, встречаются не так уж часто. Один из немногих примеров — роман «Ночной смотрящий» Олега Дивова (2004), где люди в процессе приобретенного вампиризма превращаются в почти неуязвимые, но быстро деградирующие «биологические машины» (в «Ночном смотрящем», кстати, изображено очень показательное и позже отыгранное в тех же «Сумерках» противостояние вампиров и оборотней). Однако канонический вампиризм, если вдуматься, все же несет в себе некое «культурное эхо» паразитизма, поскольку люди после «укуса» вампира, следуя канону, не умирают, но дают ему некую власть над собой, а также сами «заражаются», становятся вампирами, хотя обычно более низкого ранга. Вампир, иными словами, не убивает свою жертву, как хищник, а пользуется ею, как паразит, а это, согласитесь, уже совсем другое дело.
И наконец, симбиоз, иными словами, — взаимовыгодное существование. Казалось бы — наиболее идиллическая форма отношений двух разных видов, но не все так просто: то, что выгодно для вида, может быть невыгодно и смертельно для отдельной особи (для современных видов многих домашних животных сосуществование с человеком безусловно выгодно, поскольку их дикие предки вымерли или истреблены тем же человеком, и «работа» на человека здесь единственная возможность сохранить себя как вид, но каждая отдельная особь при этом обречена на убой). В массовой литературе (в основном в фантастике) мы можем встретить весьма впечатляющие примеры симбиоза, но хочу напомнить, что в реальности симбиотические отношения между видами достаточно неустойчивы и приводят либо к полной зависимости и фактически превращению двух видов в единый организм (лишайник, как мы знаем, — симбиотический организм, состоящий из некоторых видов грибов и водорослей, да и сама живая клетка, по некоторым данным, — такой вот симбионт), либо — к тому же паразитизму, потому что забирать, не давая ничего взамен, энергетически выгодней, чем обмениваться дарами.
Вампиры Пелевина являют собой пример всех трех видов этих взаимоотношений. Они — безусловно высшие существа, над-человеки, манипулирующие человечеством, оставаясь в тени (в слепом пятне сознания). Они же — паразиты, поскольку не способны ни питаться, ни передвигаться сами (паразитирует не собственно вампир, а некая его сущность — «язык», он же — «магический червь», особый организм или автономный орган, который, присосавшись к человеку, и делает человека вампиром). Они же — симбионты, поскольку человечество — специально выведенный ими «под себя» вид (после того, как глобальный катаклизм привел к вымиранию динозавров и едва не уничтожил саму Великую Мышь). Таким образом, все варианты взаимоотношений в паре «человек — вампир» здесь представлены. Пелевин снабдил противоречивый по своей природе миф логически непротиворечивой концепцией, которая (подкрепленная все той же мощной мифологией) выглядит донельзя убедительной и, главное, — объясняет все, сводя сложное и противоречивое устройство мира к нескольким труднооспоримым тезисам. Конспирологические теории именно потому столь соблазнительны для коллективного сознательного/бессознательного, что делают картину мира простой и понятной, — даже там, где все сложно, работает только простое (см. «Бэтмен Аполло»).
Согласно этой концепции, человечество, как изначально и предполагало мифологическое массовое сознание, надстроившее над человечеством еще один, верхний, этаж пищевой пирамиды, — субстрат, на котором процветает еще один вид, и совершенно все равно — просто ли он лопает человека, пьет ли его кровь или потребляет его духовную энергию.
Бритва Оккама (к этому понятию в «Бэтмене Аполло» Пелевин тоже обращается, а вы как думали?) настоятельно рекомендует не умножать сущности без необходимости. С одной стороны, согласно оккамовской бритве, вампиры и есть та самая лишняя сущность. С другой — стоит лишь ее ввести, как все сразу становится на свои места, и все понятийные, бытовые, бытийные и прочие ловушки, в которых барахтается и человечество, и каждый отдельный человек, получают резонное, внятное и непротиворечивое объяснение, а согласно тому же Оккаму, самое простое объяснение скорее всего окажется самым верным. Работает только простое. Конспирологическая установка на то, что «они нас зомбируют», так или иначе существует, так что никаких новых сущностей, кроме тех, что и так присутстсвуют в массовом сознании, в общем-то, и не вводится.
Тем более, что и этот прием в «Бэтмене Аполло» Пелевин в открытую, вызывающе демонстрирует, как бы достраивая параноидальной конспирологической теории второе дно. Вы, дурачки, верите, что над вами стоят высшие силы? — ну и наивны же вы! — потому что это мы вас заставляем верить, что над вами стоят высшие силы! — потому что это прекрасная дымовая завеса, маскирующая тот факт, что над вами действительно стоят высшие силы! — и эту дымовую завесу создаем мы, которые и есть высшие силы!
Иначе говоря, все получается, как мы и думали, но гораздо более логично и обоснованно: во-первых, они нас зомбируют, во-вторых, нет никакой ложки (про «Матрицу» и наведенные иллюзии, в рамках которых только и может существовать разум, и в «Empire V», и в «Бэтмене Аполло», конечно же, тоже есть).
Про Ктулху тоже есть, а как же иначе?
Все модные (или выходящие из моды) мемы есть, а заодно и про то, что такое мемы, — тоже есть.
Надо сказать, симбиоз-паразимизм-хищничество в «Empire V» с его вампо-экономикой, основная цель которой — наладить людей на выделение баблоса — метафизической эманации денег, от которой (а вовсе не от крови) ловят кайф вампиры, — еще не худший вариант. Ну да, современное человечество (читай: западный мир) вынужденно мечется в выстроенном для него вампирами узком коридоре между гламуром и дискурсом , думая, что это его, человечества, собственный выбор. Однако вампирам «Empire V» так или иначе выгодно, чтобы люди могли зарабатывать деньги, чтобы потом эти деньги тратить и по крайней мере не дохли с голоду. Эти вампиры не злодеи — всего лишь циники. Для них, как и для всех сильных мира сего, люди — всего лишь заменяемый материал, возобновляемый ресурс (есть такое понятие в экономике), «двуногих тварей миллионы», а мораль, понятия «справедливость», «добро», «зло», «патриотизм» и проч. — лишь умственная ловушка, колючая проволока, помогающая держать скот в отведенном ему загоне. Но пелевинские вампиры из «Empire V» по крайней мере не слишком вмешиваются в то, как люди сами устраивают свои дела внутри этого загона, что уже большой плюс, хотя эти свои дела люди устраивают большей частью совершенно идиотическим образом. Ну, случаются, конечно, досадные последствия неудачных социальных экспериментов, к которым и вампиры, и их халдеи приложили руку, но повторить участь динозавров вампиры людям вряд ли позволят (как же они, вампиры, без баблоса!).
Тут еще вот что нужно сказать. «Empire V» вышел в 2006 году, во времена торжества гламура , дискурса и рыночной экономики. «Бэтмен Аполло» — в 2013-м. На счет того, почему вампирский цикл оказался столь разнесен во времени и почему это вообще два романа, могут быть (и проговариваются) разные конспирологические теории. Согласно одной, Пелевин сразу написал один роман, разбил его на две части, вторую отложил, потом вставил в текст несколько актуальных моментов и выпустил, чтобы в своем писательско-издательском цикле (по книге в год) взять себе передышку и за два года в освободившееся время написать что-нибудь эдакое. Согласно второй — это действительно новый роман, а вампирская тема, продолжающая историю с Рамой/Ромой, появилась примерно потому же — разрабатывать уже готовый сеттинг проще и удобнее. Лично я — за вторую. Аргументацией, хотя и не слишком убедительной, для меня служит то, что роман вышел позже запланированного времени (2012-й оказался такой пелевинской литературной лакуной). Что-то там дописывалось-доделывалось… Дополнительный аргумент — несостыковки в мелочах. Ну, например, флакон, в котором Рама получает баблос, — в «Бэтмене Аполло» (как и в начале «Empire V») он выполнен в весьма претенциозной форме двухголовой летучей мыши, но мы-то помним, что когда в конце «Empire V» Гера стала следующей Иштар, то дизайн флакона поменялся на более стильный (изящная безголовая женская фигурка). К тому же Гера совершенно по-разному отзывается о том, что значит быть Великой Мышью и выделять баблос, — в «Empire V» это неземное удовольствие, чувство соприродности со всем и вся, жертва, которая стоила сознательного отказа от молодого девичьего тела; в «Бэтмене Аполло» стать Великой Мышью ее уломали и улестили без особого ее сознательного понимания на что, собственно, она соглашается, а процесс выделения того же баблоса «гораздо хуже месячных». Большей частью нестыковки и несовпадения в «Бэтмен Аполло» соотносятся как раз с финалом «Empire V», что заставляет предположить, что, может быть, автор не стал уж слишком внимательно дочитывать свой же роман (такие мелочи помнятся по «свежаку», а семь лет спустя могут и позабыться), а ухватил и переиначил самую его суть. А суть, повторюсь, вот в чем.
Разводить людей как скот и поддерживать «работающую» человеческую цивилизацию ради производства эманации баблоса еще не худший вариант. Вся «вампоэкономика» еще не худший вариант. В «Бэтмене Аполло» проговаривается куда похуже. Баблос — ерунда, дымовая завеса, на самом деле питательной эманацией для вампиров служит человеческое страдание, и все мировые цивилизации устроены так, чтобы этого страдания было как можно больше. Все коридоры возможностей ведут только к страданию — а если и кажется, что они ведут к свету, это лишь иллюзия, призванная, иссякнув, ввергнуть человека в еще большее страдание. Новая идея? — отнюдь нет, говорит сам Пелевин, а вернее, его герои — вполне почтенная, и гностики ее разрабатывали еще тогда-то и тогда-то. Все наши муки и неурядицы, все эти «хотелось как лучше, а получилось как всегда», все эти вопли Иова к пустым небесам — просто потому, что кто-то вывел нас как биологический вид (ну, как мы выводим дрожжевые грибки для сквашивания молока в кефир), чтобы питаться нашим страданием. Идея, надо сказать, настолько неутешительная в своей какой-то совершенной, окончательной простоте и непротиворечивости, что даже коллективное бессознательное ее бессознательно же чурается, разве что иногда проскочит что-то такое. То Владимир Лещенко с романом «Кладезь бездны» (2003), где некие высшие инопланетные существа с целью перекачки энергии опять же кое-кого зомбируют и ввергают средневековую Европу во мрак религиозной войны; то Эдуард Лимонов с его «Illuminationes» (2012) утверждает, что Бог создал человека для того, чтобы питаться его душой («По сути своей Вселенная безжалостна и неумолима. Поэтому мы несомненно, были нужны создателям. Но не для того, чтобы по-доброму наблюдать за нами, ласково наклонившись над нами с неба или прогуливаясь рядом в Саду. Не для того, чтобы считать, сколько раз мы украли или прелюбодействовали. <…> Я полагаю, что они нас поедают. Мы их энергетическая пища. Они и вывели нас как пищу для себя, использовав как основу фауну земли, ее элементы. В пищу создателям идет естественно, не тело, плоть, прах, но душа. Происходит энергетическая подпитка, вроде зарядки аккумулятора»). Алексей Колобродов, цитируя этот отрывок в «Свободной прессе», о логических построениях автора отзывается не без ехидства («Весьма занятно; эдакий микс средневековой мистерии с приключенческим романом. <…> Прошу прощения за долгую цитату, но, собственно, она содержит всю лимоновскую концепцию, глубоко внутренне противоречивую, как настоящей концепции и положено») [6] .
Ну вот Пелевин как раз и выстроил непротиворечивую концепцию. Непротиворечивую — значит, с одной стороны, до какой-то степени упрощенную ( работает только простое ), с другой — закрытую для развития и толкования, иными словами, — мертвую. Мелочам (если где-то и прячется Бог в наше время, то только в мелочах) тут места нет — такое упрощение возможно, только когда мы работаем с общими понятиями, со схемами. А значит — нет места и человечности. Возможно, именно поэтому многие критики-обозреватели и сочли данный пелевинский роман неудачей. Но, повторюсь, Пелевин писал не роман, а беллетризованный трактат. Самое обидное, что трактат ему удался. И если все уже объяснено буквально на пальцах, возражать бессмысленно и двигаться некуда, то нам остается только Очень Сильно Расстроиться, дав тем самым еще немножко полакомиться сами-знаете-кому.
Вампирам, впрочем, тоже не позавидуешь, ибо они живут, погруженные в вечную иллюзию (никакой ложки и для них нету) и жажду, для того лишь, чтобы служить, скажем так, эпителием кишечника некоей всеобъемлющей сущности — «великого вампира», но это, честно говоря, слабое утешение.
o:p/
[1] В этом плане наиболее продуктивно именно «несерьезно-серьезное» считывание пелевинских текстов. Показательный пример — отклик на тот же «Empire V» экономиста и социолога Александра Балода («Новый мир», 2007, № 9), который так и называется — «Иронический словарь „Empire V”» — краткое и очень внятное пособие по современной экономике и вообще мироустройству, опирающееся на пелевинские конструкты из романа. Ситуация иронична вдвойне, так как вторую часть «вампирского цикла» — «Бэтмен Аполло» — сам автор предваряет сходным понятийным словарем, опирающимся на терминологию «Empire V».
[2] Пелевинское эссе «Зомбификация. Опыт сравнительной антропологии» датируется 1990 годом.
[3] Именно в «Ложной слепоте» (2006, русский перевод — 2009), популярной среди продвинутой части читателей фантастики, появляется, кажется, впервые в художественной литературе, понятие «китайская комната», которое мы встретим потом в романе Пелевина ««S.N.A.F.F.» (впервые выдвинуто в 1980 году американским философом Джоном Серлем как контраргумент тесту Тьюринга). Не менее значимо и используемое в «Бэтмене Аполло» понятие «слепое пятно» («Ложная слепота» в оригинале так и называется — «Слепое пятно»), «дырки» в восприятии мира, наличием которого эффективно пользуются (и сами формируют его) пелевинские «над-человеки». Лишнее подтверждение тезиса, что коллективное бессознательное весьма сходным образом воплощается в «индивидуальном сознательном».
[4] Архетипическая ситуация, вовсе не требующая для своего воплощения вампира (как правило — мужское начало) и его жертву (начало женское), — см. все версии «красавицы и чудовища» или, скажем, фильм Лилианы Кавани «Ночной портье» (1974).
[5] См., в частности: Головачева Ирина. Опасные связи: человек и монстр в современной массовой литературе. — «Неприкосновенный запас», 2012, № 6 <;; Хапаева Дина. Вампир — герой нашего времени. — «Новое литературное обозрение», 2011, № 109 <;.
[6] Колобродов Алексей. Красное лето ересиарха. </>; см. также «Книжную полку» Екатерины Дайс — «Новый мир», 2013, № 1.
Книги
o:p /o:p
Вуди Аллен . Без перьев. Сборник рассказов. Перевод с английского — О. Дорман, С. Слободянюк, А. Ливергант и др. М., «АСТ», 2013, 288 стр., 3500 экз. o:p/
Вуди Аллен. Побочные эффекты. Перевод с английского — О. Дорман, Л. Мотылев. М., «АСТ», «Сorpus», 2013, 256 стр., 3500 экз. o:p/
Один из самых знаменитых и плодовитых кинорежиссеров и сценаристов нашего времени Вуди Аллен на самом деле больше всего любил писать рассказы, главным образом «юмористические», то есть грустные, смешные, с подспудной издевкой над собой и миром, но и с любовью к этому миру; по атмосфере проза его отчасти напоминает атмосферу его фильма «Эпоха радио». Сочинительством он, Аллен Стюарт Кенигсберг, занялся в пятнадцать лет, еще будучи школьником, начав писать газетные фельетоны и юмористические миниатюры для ночных клубов. Вуди Аллен автор шести книг. На русском языке кроме двух указанных выше уже вышли: Вуди Аллен . Записки городского невротика, маленького очкастого еврея, вовремя бросившего писать. СПб., «Симпозиум», 2002, 339 стр., 5500 экз.; Вуди Аллен. Шутки Господа. М., «Иностранка», 2005, 352 стр., 7000 экз. o:p/
o:p /o:p
Леонид Губанов. И пригласил слова на пир... Биографическая статья, примечания и библиография А. А. Журбина. СПб., «Вита Нова», 2013, 592 стр., 1000 экз. o:p/
Самое полное из выходивших ранее собраний текстов одного из самых знаменитых русских андерграундных поэтов 60 — 70-х годов и одного из организаторов СМОГа (Самого Молодого Общества Гениев) Леонида Георгиевича Губанова (1946 — 1983); в книгу включена статья Льва Аннинского. o:p/
o:p /o:p
Борис Дубин. Порука. Избранные стихи и переводы. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2013, 304 стр., 1000 экз. o:p/
Книга известного социолога культуры, а также переводчика, представляющая его и в качестве оригинального поэта. Кроме развернутой подборки стихотворений Дубина содержит переводы стихотворений с испанского, португальского, французского, английского, польского языков — Блейк, Шелли, Китс, Готье, Бодлер, Аполлинер, Рильке, Кавафис, Пессоа и др. От автора: «Мне ближе понимание литературы и поэзии как чего-то невозможного... У поэзии язык поэтический, а не русский, испанский или французский; он живет не горизонтальной последовательностью идущих слева направо слов, а „вертикальным” измерением, общим строем, который и есть смысл, и он важнее, чем отдельное слово, даже самое яркое. Переводчик должен найти саму материю поэтического опыта, интонацию, языковой регистр». o:p/
o:p /o:p
Борис Зайцев. На Афон. Вступительная статья А. К. Клементьева. М., «Индрик», 2013, 416 стр., 1000 экз. o:p/
От издателя: «В книге собрано почти все, написанное Б. К. Зайцевым в связи с его пребыванием в Греческой Республике и на Святой Горе в апреле — июне 1927 г. Путевые очерки „Афон” воспроизводятся с учетом всех трех авторских редакций текста, впервые публикуются две тетради дневниковых записей и множество зарисовок автора. Фотографии посетившего Афон в 1928 и 1930 гг. швейцарца Фредерика Буассона позволяют читателю увидеть малодоступный мир Святой Горы таким, каким застал его Б. К. Зайцев. В приложении помещены очерки видных деятелей Русской зарубежной церкви из довоенных номеров газеты „Православная Русь”». o:p/
o:p /o:p
Сергей Залыгин. После бури. Роман. М., «Вече», 2013, 688 стр., 4000 экз. o:p/
Одно из самых поразительных произведений, опубликованных в позднесоветское время (роман писался и печатался с продолжением в журнале «Дружба народов» в первой половине 80-х годов), — поразительных по внутренней независимости художника и мыслителя от идеологических установок своего времени; речь в романе — о русской революции и ее последствиях, действие происходит в одном из сибирских городов в начале 20-х годов, русскую жизнь тех лет автор показывает с точки зрения своего героя, провинциального обывателя, скрывающего свое совсем недавнее прошлое офицера белой армии. o:p/
o:p /o:p
Киев в русской поэзии. Составление Инны Булкиной. Киев, «Laurus», 2012, 256 стр., 500 экз. o:p/
От издателя: «В этой антологии сделана попытка воссоздать своего рода „поэтический канон” Киева, проследить некие устойчивые топосы, которые в известный момент казались „образцовыми” и, так или иначе, воспроизводились вновь и вновь, создавая поэтическую традицию киевского текста. Во втором разделе собраны редко воспроизводившиеся „городские поэмы и повести”. Одна из них — написанная онегинской строфой поэма „Киев” (1827) поручика Вдовиченко — публикуется впервые». o:p/
o:p /o:p
Владимир Набоков. Полное собрание рассказов. Составитель А. Бабиков. СПб., «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2013, 736 стр., 6000 экз. o:p/
Похоже, действительно, полное собрание рассказов Набокова — «…В книге, которую читатель держит в руках, представлены также редкие и неизвестные произведения мастера. Рассказы „Говорят по-русски”, „Звуки” и „Боги”, подготовленные к публикации редактором и составителем настоящего собрания Андреем Бабиковым по архивным текстам, как и недавно найденный в вашингтонском архиве писателя рассказ „Наташа”, на русском языке выходят впервые. Английские рассказы Набокова, печатавшиеся в лучших журналах США и предвосхитившие появление прославивших его романов „Лолита”, „Пнин”, „Бледный огонь”, в настоящем издании представлены в переводах известного литературоведа Геннадия Барабтарло. Полное собрание рассказов сопровождается предисловием и примечаниями Дмитрия Набокова, заметками Владимира Набокова, а также примечаниями Андрея Бабикова». o:p/
o:p /o:p
Екатерина Перченкова. Сестра Монгольфье. Стихотворения. Предисловие В. Месяца. М., «Русский Гулливер», Центр современной литературы, 2012, 104 стр., 300 экз. o:p/
Первая книга стихов молодого поэта, финалиста премии «Дебют» 2011 года — «таня собирается на танцы, / прячет в сумку ножик и коньяк. / хрен тебе советское шампанское, / криворучка молодость моя. // дергают затворники затворы, / песню дружбы запевает молодежь. / хрен тебе провинцию у моря, / умирай покуда где живешь. // выросли хорошие, большие, / покупали кофе и табак, / платья шили, жили не тужили, / заводили кошек и собак. // и кивает с облаков спаситель / потемневшей медной головой. / кто бы видел, боже, кто бы видел — / умер б, и не понял, отчего». o:p/
o:p /o:p
Алексей Ремизов. Дневник мыслей. 1943 — 1957 гг. Том 1. Май 1943 — январь 1946. Ответственный редактор, автор вступительной статьи А. Грачева. Подготовка текста А. Грачевой, Н. Конычевой, Л. Хачатурян; комментарии А. Грачевой, Л. Хачатурян. СПб., «Пушкинский дом», 2013, 376 стр., 1000 экз. o:p/
Первый том будущего трехтомника, представляющего своеобразный текст Ремизова, писавшегося не для печати, в котором — воспоминания, комментарии происходящего, наброски будущей прозы. o:p/
o:p /o:p
Фигль-Мигль . Волки и медведи. СПб., «Лимбус Пресс», «Издательство К. Тублина», 2013, 496, 3000 экз. o:p/
Роман, сделавший автора лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер» 2013 года, — авантюрное повествование, написанное в жанре антиутопии. По некоторым данным, автора, много лет интриговавшего литературную общественность своим псевдонимом, зовут Елена Чеботарева, живет в Петербурге, по образованию — филолог. o:p/
o:p /o:p
Иван Шмелев. Пути небесные. М., «Сибирская Благозвонница», 2013, 608 стр., 7000 экз. o:p/
Роман, над которым Шмелев работал более пятнадцати лет, но так и не успел закончить — из трех его частей были опубликованы первые две; написан на материале жизни Оптиной пустыни. Также вышла книга: Иван Шмелев. Лето Господне. М., Издательство Сретенского монастыря, 2013, 640 стр., 5000 экз. (Из поздней прозы Шмелева — роман, вышедший в издательской серии «Библиотека духовной прозы».) o:p/
o:p /o:p
Геннадий Шпаликов. Я жил как жил. Составитель Ю. А. Файт, редактор В. С. Вестерман. М., «Зебра Е», «Личности», 2013, 558 стр., 2000 экз. o:p/
Стихи, проза, драматургия, дневники и письма Геннадия Федоровича Шпаликова (1937 — 1974), одного из самых ярких представителей культурной жизни 60-х годов прошлого века, сценариста и режиссера фильма «Долгая счастливая жизнь», сценариста знаковых для того времени фильмов «Застава Ильича» и «Я шагаю по Москве»; «Я жил как жил, / Спешил, смешил, / Я даже в армии служил / И тем нисколько не горжусь, / Что в лейтенанты не гожусь. // Не получился лейтенант, / Не вышел. Я — не получился, / Но, говорят, во мне талант / Иного качества открылся: / Я сочиняю — я пишу». o:p/
o:p /o:p
* o:p/
o:p /o:p
А. В. Бакунцев. И. А. Бунин в Прибалтике. Литературное турне 1938 года. М., Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2012, 156 стр., 500 экз. o:p/
Автор предлагает развернутое описание одного из эпизодов жизни Бунина — историю его последней зарубежной поездки с выступлениями перед читателями, которая (история) одновременно становится в книге и эпизодом из жизни русской эмиграции в конце 30-х годов в Прибалтике; турне нобелевского лауреата оказалось отнюдь не триумфальным — русская аудитория в Прибалтике тех лет рассчитывала увидеть не только замечательного писателя, но и одного из своих лидеров в борьбе русских за достойную жизнь в Европе; Бунин же всячески дистанцировался от какой-либо общественной роли. o:p/
o:p /o:p
Александр Довженко. Дневниковые записи. Составители В. Забродин, Е. Марголит. Подготовка текста В. Забродина, А. Евстигнеевой (русский текст), Е. Чугуновой, С. Тримбача (украинский текст). Вступительные статьи Т. Горяевой, А. Евстигнеевой, Е. Марголита и С. Тримбача. Харьков, «Фолио», 2013, 880 стр., 2000 экз. o:p/
Первая полная научная публикация дневниковых записей Александра Петровича Довженко с 1939 по 1956 год. К работе над подготовкой издания были привлечены Федеральное архивное агентство Российской Федерации, Российский государственный архив литературы и искусства, Государственный комитет архивов Украины, Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины. Из записей Довженко: «Мой политический уровень невысок. Кое-чего я до сих пор не понимаю. Вот, к примеру, не знаю, почему сейчас люди не любят работать? Почему их надо погонять газетами? И для чего, скажите мне, труд рассматривается уже как нечто исключительное. Почему его провозгласили делом чести, доблести и геройства, когда он в сущности простое дело. Как хотите, а по-моему, не надо быть героем, чтобы трудиться. И доблести особой не надо. Не следует запугивать людей трудом. Труд штука приятная, радостная… — 10.XI 1945» <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> . o:p/
o:p /o:p
Алексей Зверев. Лекции. Статьи. Составление И. А Зверевой, Н. Д. Старосельской. Предисловие Н. Д. Старосельской. М., «РГГУ», 2013, 501 стр., 500 экз. o:p/
Лекции, прочитанные филологом, специалистом по американской литературе и переводчиком Алексеем Матвеевичем Зверевым (1939 — 2003) в 1993 — 2000 годах, а также статьи и театральные рецензии. o:p/
o:p /o:p
Георгий Иванов. Китайские тени. Составление Сергея Федякина. М., «АСТ», 2013, 808 стр., 1500 экз. o:p/
Самое полное собрание мемуарной прозы Георгия Иванова. o:p/
o:p /o:p
Вячеслав Курицын. Набоков без Лолиты. Путеводитель с картами, картинками и заданиями. М., «Новое издательство», 2013, 452 стр. Тираж не указан. o:p/
Новая книга Курицына представляет собой «дневник читателя русской прозы Владимира Набокова, писавшийся в течение двадцати лет в стремлении приблизиться к набоковскому идеалу читателя-„перечитывателя”, путеводитель по книгам и биографии <...> но самое главное — радикальная попытка последовательного и многолетнего соотнесения собственного опыта с литературным и биографическим опытом другого автора». Иными словами — перед нами новая (скажем так, филологическая) проза Курицына, написанная о Набокове и одновременно «по мотивам Набокова». Цитата: «Я сижу на скамейке на липовом бульваре, напротив нашего посольства, заношу на бумагу метафору. Удобны для этих целей рекламные открытки со стоек кафе: в Германии у них, как правило, чистая оборотная сторона, а в России она плотно зарисована подробностями продвигаемой услуги. На лицевой стороне цветущая акация, с легкостью уступившая свои ароматы какой-то косметике. Вера Лурье сидела как-то с подругой на скамейке, сорвала ветку акации: подскочил немецкий господин, огрел ее тростью. В середине 1970-х бывшая невестка Алексея Толстого послала из Ленинграда в подарок Набокову свою трость, но трость не успела дойти. Адресат умер». o:p/
o:p /o:p
Владимир Лакшин. Театральное эхо. Составитель С. Н. Кайдаш-Лакшина. М., «Время», 2013, 512 стр., 2000 экз. o:p/
Собрание статей, театральных рецензий, воспоминаний о людях театра одного из ведущих критиков второй половины прошлого века Владимира Яковлевича Лакшина (1933 — 1993). o:p/
o:p /o:p
Глеб Павловский, Александр Филиппов. Три допроса по теории действия. М., «Европа», 2013, 128 стр., 2000 экз. o:p/
Текст книги составил диалог политаналитика Глеба Павловского и философа Александра Филиппова с участием в их разговоре Ирины Чечель, организатора этих бесед. («Изначальным нашим намерением был эксперимент. Свести двух ёразноплеменных” интеллектуалов, ученого и политика, так, чтобы схлестнулись два разных мира. И они действительно схлестнулись, но вовсе не так, как мы ждали».) Беседа позволяет Павловскому развернуть в книге свое понимание драматической истории русского диссидентства (в частности: «У Сопротивления нет конечного смысла, оно не цель, а просветительское сообщество ради будущего»), проследить развитие и сегодняшнее состояния политической мысли в России, а также дать свои оценки событиям, свидетелями которых стало наше поколение. o:p/
« Павловский Г. О.: После Буденновска и Хасавюрта стало аксиомой, что мы на дне и хуже не будет. Не может быть, некуда хуже! Мой тогдашний лекторский образ: орбитальная станция „СССР” рухнула, выжившие космонавты, растерзанные и полубезумные в джунглях чужой планеты среди плотоядных хищников. Из остатков советской цивилизации они что-то там мастерят, но все плохо работает. Было ощущение предела дисперсии и запроса на командную волю: прекратите истерику! o:p/
Филиппов А. Ф.: А в этот момент вы считали, что континуум русской истории прервался?.. o:p/
Павловский Г. О.: Конечно, прервался. Финал перестройки отменил русскую историю и русскую литературу. Помню, как в начале 90-х по подъездам валялись горки выброшенных книг, Ленин и Маркс пополам с Чеховым и Лесковым. Святая библиотека закрылась под „Поручика Голицына”. В конце романа Брэдбери люди пересказывают друг другу, что кому лучше запомнилось из сожженных книг, — это прямо картина Москвы 1990-х. Я был среди этих людей. Так случилось, что лучше всего я знал технологию восхождения Сталина, слишком доходчиво ее пересказал и качественно перекодировал в набор кейсов». o:p/
o:p /o:p
А. Е. Перепеченых. Трагически ужасная история ХХ века. Второе пришествие Христа. [«У Бога камни возопиют!» Рассказы А. Е. Перепеченых]. Вступительная статья Шуры Буртина, комментарии и статья «Двадцатый век Александра Перепеченых» А. А. Панченко, историческая справка Шуры Буртина и Сергея Быковского. М., «Новое литературное обозрение», 2013, 256 стр., 1000 экз. o:p/
Книга воспоминаний, написанная крестьянином, философом-самодумом, участником религиозного движения «истинно-православных христиан», всю жизнь противостоявшего давлению госорганов Александром Евгеньевичем Перепеченых (1923 — 2013). О прошлом (про 1937 год): «В это время появилось весьма громкое имя Ежов. Сам он от горшка два вершка. А рисовали его в газете громадную личность, поднявшим могущественную руку в ежовой рукавице. Коммунисты дали понять, возьмем под ежову рукавицу всех инакомыслящих, инакодышащих, инаковзглянувших и всех экстремических и религиозных и политических взглядах. Особенно покончить борьбу с предрассудком религиозного прошлого. И создать свою веру в супостата, веру в коммунистическое будущего рая подобно аду комунизм. И пошла ожесточенная борьба, сплошные аресты не то что за голосование, а и где кто проговорится в слове против власти и всякое недовольствие на власть». О нынешних временах: «Так же и при демократии все избирает народ и все по воле народа. Если кандидат выдвигает свою идею, свою программу, народу объясняют, депутат говорит, сулит, раскрашивает, и народ все слышит и с рукоплесканием принимает, выбирает, а потом когда выберет, тогда на этого депутата и на всю власть и на призидента орут: такой-сякой вплоть до рукопашных стычек. И получается — народ шумит сам на себя. А Бога тут нет, нет и нет. Бог тут никому не нужен. Все тут не Божее, а народное. А что мы можем сказать, когда предстанем перед Господом на Страшном суде???? Хотя этому народ и не верит. Но мы обязательно и обязательно предстанем перед Господом и узрим Того, Кого пронзили, и увидим свои дела ХХ века. Аминь». Книга вышла в издательской серии «Россия в мемуарах». o:p/
o:p /o:p
* o:p/
o:p /o:p
Елена Толстая. Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Петербург. М., «Новое литературное обозрение», 2013, 536 стр., 1000 экз. o:p/
Перед нами уже вторая книга Елены Толстой об Алексее Николаевиче Толстом, в которой она пытается противопоставить мифу о «красном графе» историко-культурную реальность. Первой книгой была «„Деготь или мед”. Алексей Н. Толстой как неизвестный писатель. 1917 — 1923» (М., «РГГУ», 2006, 696 стр., 1000 экз.), посвященная творчеству Толстого в 1917 — 1923 годах и содержащая републикации статей Толстого из московской и одесский прессы 1918 — 1919 годов, а также — некоторых его художественных произведений начала 1920-х годов. o:p/
Новая книга посвящена малоизученному периоду жизни Толстого, который автор считает как раз ключевым для становления творческой биографии писателя, — рубежу 1900 — 1910-х годов, когда Алексей Толстой был человеком из круга Гумилева, Волошина, Кузмина, Вяч. Иванова; когда помогал Ахматовой с первыми публикациями, был женат на красавице, художнице и петербургской светской львице Софье Дымшиц. Следы той литературной школы автор находит в произведениях Толстого самых разных этапов. И уже не имеет значения, что сам Толстой дважды — вначале как сменовеховец в первой редакции романа «Хождение по мукам», а потом как советский писатель — открещивался от «порочащих литературных связей» в молодости. Собственно, этим попыткам дистанцироваться от литературного круга своей молодости и обязан он сегодняшнему имиджу, а также, как считает автор, уничижительным отзывам о Толстом Тынянова и устным воспоминаниям Ахматовой о Толстом; Ахматову, в частности, беспокоило то, что для новых поколения советских читателей Серебряный век был персонифицирован фигурой именно Алексея Толстого, — отсюда, как считает автор книги, и пошли «навязшие в зубах залихватские оценки его как „красного шута”, „беспутного классика”, „художника-буратино”»; и этот миф об Алексее Толстом никак, увы, не могут поколебать работы современных литературоведов и писателей, обратившихся к истории Серебряного века и к фигуре самого Толстого, — Р. Тименчика, М. Липовецкого, О. Лекманова и др. «С мифологией бороться можно только контрмифологией, но именно этого я делать не собираюсь. Наоборот, целью этой книги, как и предыдущей монографии о Толстом в годы революции, является изменения формата исследования — сведения его всего до нескольких лет и нескольких эпизодов в литературной биографии писателя, с тем, чтобы насытить повествование новыми данными. Тогда, может быть, из-под наросшего слоя обобщений высвободится живой исторический момент». Что касается новых исторических данных, то в этой книге ими, в частности, являются вводимые Толстой в культурной обиход тексты чернового (неотредактированного впоследствии) варианта воспоминаний жены Толстого Софьи Дымшиц-Толстой. o:p/
Ну а кроме живого, насыщенного информацией, во много неожиданного рассказа об Алексее Толстом книга эта содержит и на редкость выразительное описание самого Серебряного века и центральных его фигур. o:p/
o:p /o:p
Составитель Сергей Костырко o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Составитель благодарит книжный магазин «Фаланстер» (Малый Гнездниковский переулок, дом 12/27) за предоставленные для этой колонки книги. o:p/
В магазине «Фаланстер» можно приобрести свежие номера журнала «Новый мир». o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> «Новый мир» намерен подробно отрецензировать эту книгу. o:p/
o:p /o:p
Периодика
o:p /o:p
«Арион», «Бельские просторы», «Вертикаль. XXI век», «Вопросы литературы», «Вышгород», «День и ночь», «Дружба народов», «Знамя», «Иностранная литература» o:p/
o:p /o:p
Анатолий Абрашкин. Мы — русские. Стихи. — «Вертикаль. XXI век», Нижний Новгород, вып. 39. o:p/
Про стихослагателя здесь пишут, что он доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института прикладной физики РАН. И дальше: «Автор многих научных работ и книг по древней истории русов: „Предки русских в Древнем мире”, „Русь Средиземноморская и загадки Библии”, „Тайны Троянской войны и Средиземноморская Русь” и др., а также литературоведческих книг „Тайнопись в романе ‘Мастер и Маргарита‘, ‘Чертовщина‘ у русских классиков”…». o:p/
Что ж, отточие это примечательно. И первая же пиеса — тоже: «Я хочу быть сегодня богом, / Чтоб речь вести высоким слогом, / И говорить, как Ломоносов, / О древности великороссов. // Уж сколько раз нас хоронили / В надежде, что вконец добили, / Уж как злорадствовала гнусь, / Но нет! Стоит Святая Русь! // И нас так просто не сломаешь, / Обманешь — да, но не раздавишь. / И пусть на нас свалились беды, / Но мы познаем вкус победы». o:p/
Заглянул я тут же в старинный толково-фразеологический словарь, извиняюсь, Морица Ильича Михельсона (1825 — 1908), лингвиста, педагога, великого попечителя сирот и лауреата Императорской премии митрополита Макария. Захотелось посмотреть, как автор «Русской мысли и речи» толкует выражение «хоть святых выноси». Хорошо толкует, с примерами из русской классической литературы. o:p/
o:p /o:p
Ольга Балла. Вещество жизни. — «Дружба народов», 2013, № 6 </6/>. o:p/
Рецензия на первый — за четверть века — том избранной прозы Гранта Матевосяна, выпущенный в России. o:p/
«К сегодняшнему русскоязычному читателю Грант Матевосян приходит освобожденным от своего позднесоветского контекста, от накопленной в этом контексте слепоты, глухоты и усталости — а накоплено их было, и многие из нас еще хорошо это помнят, в избытке. И эта освобожденность от (исходного, навязанного историей) контекста очень важна, потому что внутри него Матевосян читался совсем другими глазами. <…> Так как же отвечал сам Матевосян на внутренний, а то и внешний вопрос о том, чем он занимается? Какими там коренными формами бытия, каким еще надысторическим, что вы! Он был совершенно уверен, что показывает миру Армению. В тех самых ее местных, конкретных, неповторимых и единственных чертах. o:p/
Был ли он прав? Безусловно. o:p/
Потому что одно из важнейших пониманий и чувств Матевосяна — может быть, вообще важнейшее, на котором все держится, — это понимание и чувство того, что ёлокальное” и ёуниверсальное”, единственное и всеобщее — это одно и то же. <…> Так вот, весь Матевосян, чувствуется мне, — о полноте и подлинности. o:p/
Мне кажется, что сейчас, когда Армения — уже никакая не окраина ёцентра”, а самостоятельная и самодостаточная страна, эта ведущая его идея единства и тождества местного и всемирного видна особенно. Хотя, может быть, сам автор со мной бы и не согласился». o:p/
o:p /o:p
Букер-2012: Литературный момент или литературный процесс? — «Вопросы литературы», 2013, № 3 <;. o:p/
Материалы конференции, проходившей в Москве и расширившей дискуссионное поле за счет «телемоста» между несколькими городами России — Санкт-Петербурга, Перми, Ростова-на-Дону и Тольятти . o:p/
«Я думаю, что нужно говорить о двух типах современной литературы — перспективном и неперспективном. Применительно к прозе это верно особенно. Дело в том, что есть писатели, которые что-то понимают , и есть писатели, которые что-то видят . При этом главное — понятое, а не увиденное. Я, может быть, скажу сейчас слишком резко — и разворошу старую полемику, но... До недавнего времени у нас было очень много свежих талантливых текстов, написанных очевидцами — молодыми писателями, побывавшими в зоне боевых действий в Чечне. Они проигрывают человеку, который никогда в Чечне не был, а именно — Владимиру Маканину с его „Кавказским пленным”. Это важно, так как иначе мы идем на поводу у цивилизации, которая принимает все более зрительный характер; а как я думаю, наше будущее более связано с теми, кто что-либо осмысливают и понимают, нежели с теми, кто просто что-либо видят. <…> Для меня филология очень важна; ее стали сейчас забывать, но не случайно и то, что „Букер” десятилетия присудили Александру Чудакову за роман „Ложится мгла на старые ступени...”. Читать этот роман просто как воспоминания человека о своем детстве нельзя — такого рода произведений очень много, — но, читая, необходимо понимать, что название — это блоковская строчка из „Стихов о Прекрасной Даме”, и что в таком случае этот роман — о той жизни, которая потеряла свой лик, потеряла свой облик, и что все заканчивается смертью... o:p/
Современная проза, по-моему, такого выхода в культуру не имеет. О чем пишут нынешние, даже самые талантливые, писатели? — О некоем гетто; гетто ли избранничеств, гетто ли изгнания... И вообще, самый современный русский роман, как остроумно заметил не так давно Сергей Зенкин, — это роман американца, пишущего по-французски, роман Джонатана Литтелла „Благоволительницы”. Вот там поставлены вопросы, которые мы должны переживать и которых мы не можем сформулировать. o:p/
Так вот, все пишут об этом гетто, но прорыв из этого гетто отсутствует. А так как он необходим (в гетто жить невозможно!), все выливается в очередную эротику. Не любовь, а именно эротику: это тоже весьма показательно для современной „зрительной” культуры — эротику можно продемонстрировать, она очевидна, тогда как любовь — это чувство, которое необходимо понимать . o:p/
Так что я думаю, что будущее — за романами, написанными культурными людьми» ( Андрей Арьев, соредактор «Звезды»). o:p/
o:p /o:p
Карло Эмилио Гадда. Из классики XX века. — «Иностранная литература», 2013, № 6 <;. o:p/
Публикации рассказов из «раннего» и «среднего» творчества выдающегося итальянского прозаика, автора нашумевшего послевоенного романа «Такая грязная катавасища на виа Мерулана» предшествует статья Геннадия Федорова (он же и переводчик). o:p/
«Карло Эмилио Гадда умер в 1973 году. Он погребен на Некатолическом кладбище (Cimitero acattolico) Вечного города. В его рассказе „Путешествия Гулливера, то бишь Гаддуса” имеется набросок для собственной эпитафии: Не ужился с живущими / на этих блаженных холмах / маркиз Благородной Нелепости ». Язвительный Гадда знаменит своими бесконечными «уходами от темы» внутри того или иного своего текста, оставляющими, на первый взгляд, впечатление неорганизованности. Альберто Моравиа писал, что Гадда был «писателем с острым, хоть и тревожным чувством комедийного, очень редкое качество». o:p/
o:p /o:p
Игорь Голомшток. Эмиграция. — «Знамя», 2013, № 6 <;. o:p/
Продолжение мемуаров известного искусствоведа. o:p/
«У меня нет сомнений в том, что атмосфера на Либерти (радиостанции. — П. К. ) в значительной степени подогревалась нашим родным КГБ. <…> Как я уже писал, здесь в качестве сотрудников работали и перебежчики из советской разведки. Американцы, выпотрошив их на предмет советских секретов, предоставляли им богатую синекуру на Либерти. Некоторые так и продолжали оставаться советскими агентами. <…> Работал тут на высокой должности Кирилл Хенкин — бывший чекист, участвовавший в Гражданской войне в Испании. Свое чекистское прошлое он не скрывал, наоборот, ссылаясь на свое знание изнутри дел КГБ, в частности механизма прохождения документов в ОВИРе отъезжающих в эмиграцию, писал в статье „Русские пришли”, опубликованной в израильском журнале „22”, что в делах шестидесяти процентов уехавших лежит письменное обещание „честно сотрудничать с советскими органами разведки”. Следуя этой логике, сказал я как-то Максимову, из четырех сотрудников журнала „Континент” двое обязательно будут агентами КГБ. Хотел Хенкин этого или не хотел, но такие его откровения лишь накаляли атмосферу подозрительности, и без того достаточно напряженную в эмигрантской среде». o:p/
o:p /o:p
Владимир Губайловский. Заметки о поэтических поколениях. — «Арион», 2013, № 2 </>. o:p/
«В последней трети XIX века вовсе не правительство диктовало „правильные вещи” — их диктовала „прогрессистская” общественность и делала это с такой жесткостью и безжалостностью, что статьи в журналах того времени иногда напоминают сталинские проработки. Одна радость, эта общественность не могла поэта расстрелять или отправить на каторгу, зато запросто могла приговорить к остракизму и объявить персоной non grata. А для поэта — это трудная форма смерти. Так была в самом своем начале сломана творческая судьба Случевского. И он, несмотря на все усилия, не смог полностью реализовать свой выдающийся талант. (Я вторично поминаю здесь это имя и еще к нему вернусь, поскольку вижу в Случевском зерно поэтического поколения, которое имело все шансы явить себя миру, но не состоялось.) <…> Для того чтобы поэтическое поколение было способно выразить „дух времени”, оно должно состоять из нескольких исторических поколений, сложившихся в „акцидентный аккорд”. Поэты разного возраста и опыта должны неожиданно для самих себя выйти к рампе единовременно, чтобы их голоса, подчиненные разным „внутренним целям”, совпали». o:p/
o:p /o:p
Земля обетованная. — «Вышгород», Таллинн, 2013, № 3. o:p/
Так названа редакционная врезка к номеру, целиком посвященному Солженицыну. «Все ли юные читатели знакомы с Великим писателем? Его судьбой? Его произведениями? Ответ на эти вопросы и дают школьные сочинения участников конкурса „Александр Солженицын и Эстония”. <…> Мы, как и обещали, публикуем лучшие работы». Затем — имена лауреатов и названия учебных заведений, которые выписываю сюда не без удовольствия: «Таллиннский Линнамяэский Русский Лицей», «Тартуский Русский Лицей», «Таллиннская Немецкая гимназия», «Таллиннская гуманитарная гимназия». o:p/
o:p /o:p
Ольга Иванова. Стихи. — «Арион», 2013, № 2. o:p/
o:p /o:p
опиши, опиши, мой друг, все на свете — живопиши o:p/
не стесняясь в средствах — в литерах, нотах, в красках, карандаше o:p/
ежли что останется — высеки в мраморе, вылей в бронзе, сверху сткла покроши o:p/
чтоб уже ничего не нашлось живаго — ни уму твому, ни душе o:p/
o:p /o:p
Виктор Куллэ. Не с теми, кто в теме… Стихи. — «День и ночь», Красноярск, 2013, № 2 <;. o:p/
« Бросив вызов Творцу, быть собой устаешь, / ибо люди — лишь твой матерьял. / Храм, что ты сотворил, ни на что не похож. / Но кураж состязанья пропал. // Сколько хочешь башкою о стенку стучи, / но в итоге влюбляешься сам / в эти души, каленые, как кирпичи, / из которых воздвигнется храм». o:p/
o:p /o:p
Игорь Растеряев. Георгиевская ленточка. — «Бельские просторы», Уфа, 2013, № 5 < ;. o:p/
Все-таки, чем выкладывать на журнальные страницы тексты песен этого автора, лучше бы, на мой взгляд, поместили какую статью о его культурном феномене. В биосправке пишут о 10 млн. интернет-просмотров, так неужели и т. д. Словом, жаль, что здесь не поняли (или не хотят понимать), что эта поэзия — для другого . o:p/
o:p /o:p
Александр Рубашкин. Игорь Кузьмичев — редактор и писатель. — «Звезда», 2013, № 7 <magazines.russ.ru/zvezda> . o:p/
Очерку к 80-летию автора книг о Вадиме Шефнере, Владимире Арсеньеве, Юрии Казакове, Ольге Берггольц и других писателях предшествует здесь и статья самого И. К. — о незаслуженно забытом писателе Олеге Базунове, старшем брате Виктора Конецкого. o:p/
Александр Рубашкин закончил свой очерк двумя выразительными цитатами: «Старший товарищ критика и объект его исследования В. Шефнер выразил свое понимание о достойной жизни: идти „по теневой, по ненаградной, по непарадной стороне”. o:p/
Два десятилетия назад в предисловии к своему сборнику Игорь Кузьмичев выразительно высказался о собственной профессии: „Итоги, которые подводит критик, оценивая проделанную работу, для него порой столь же неожиданны, как и парадоксы его подопечных. И потому любой, я думаю, критик был бы счастлив удостовериться, что год от году все последовательнее двигался к поначалу неясным целям и цели эти не обманули его надежд”». o:p/
o:p /o:p
Карен Степанян. Из Швейцарии с любовью? — «Знамя», 2013, № 6. o:p/
Отклик на роман Антона Понизовского «Обращение в слух» (на новомирскую публикацию) открывает здесь рецензионный блок. «Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что полуторасотстраничное повествование о беседе четырех русских на горном швейцарском курорте „насчет веры” — веры в Бога, в человека, в Россию — сможет заинтересовать такое количество самых разных (по возрасту, взглядам, профессиональной принадлежности) людей?» o:p/
Интересные размышления на трех журнальных страницах кончаются неожиданно. «А у меня напоследок возникли два вопроса уже к самому себе (курсив мой. — П. К. ) (и это не плюс А. Понизовскому — то, что их именно два). Первый из них тот, который предстоит решить автору любого произведения, ставящего проблему теодицеи (а число таких произведений увеличивается и будет увеличиваться в новой России). Как в тиши кабинета и даже за столом на кухне писать о глубинном смысле зашкаливающих, превосходящих все пределы человеческих болей и страданий так, чтобы с этим ты мог без зазрения совести обратиться к людям, постоянно в такой боли и таком страдании живущим? И второй, совсем уж бестактный вопрос: а вдруг для него, для автора „Обращения в слух”, все, о чем говорилось выше, — всего лишь игра?» o:p/
Нет, все-таки хорошо, что автор «Обращения в слух» — постоянный житель России, а не засевший в Швейцарии герой рецензируемого произведения (филолог Федор, то есть). И хорошо, что вопросы эти не к автору романа. А то ведь — «вдруг», и тем более — «зазрение совести». Кстати, прозаик после своего текста (см. книжное издание) благодарно кланяется не только друзьям и соратникам, но даже и нескольким священнослужителям. Понадеемся, что «не вдруг»? o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p

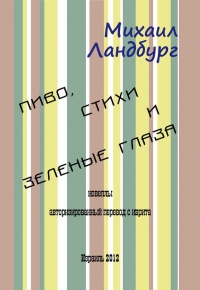





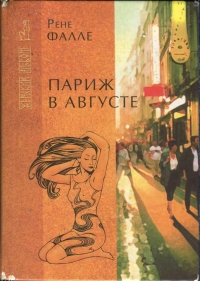
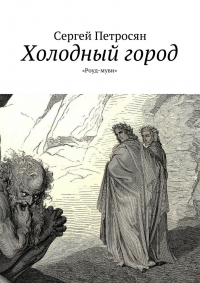

Комментарии к книге «Новый Мир ( № 8 2013)», Журнал «Новый Мир»
Всего 0 комментариев