Стратановский Сергей Георгиевич родился в 1944 году в Ленинграде. Один из самых ярких представителей ленинградского литературного андеграунда 1970-х годов. Автор нескольких поэтических книг. Лауреат литературных премий. Живет в Санкт-Петербурге. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Монолог Хайрема Максима — изобретателя пулемета o:p/
o:p /o:p
Я — Хайрем Максим, изобретатель o:p/
Из родной мне Америки o:p/
вынужден был уехать, o:p/
В Старый Свет уехать, o:p/
Ибо мой пулемет, смертомет из металла и логики o:p/
Был не нужен Америке. o:p/
o:p /o:p
Но зато был он нужен o:p/
британцам, германцам и русским o:p/
Для убийства зулусов, японцев, китайцев, индусов, o:p/
А потом и друг друга… o:p/
Так и вломилась как вор o:p/
В мир — смерть серийная. o:p/
o:p /o:p
Бесконечно познанье, o:p/
но в нем — не одно созиданье, o:p/
А порой разрушенье, o:p/
с кровью глубинная связь, o:p/
С липкой грязью окопной, o:p/
с непогребенными трупами. o:p/
o:p /o:p
Но ведь это — прогресс, o:p/
а прогресс — это воля и власть o:p/
Над людьми и науками. o:p/
o:p /o:p
Да, я слышал… ахимса… непричинение боли o:p/
Никому из живущих… o:p/
Но это лишь вымыслы дикие o:p/
Темнокожих пророков… o:p/
Войны-то были всегда. o:p/
Мир пронизан насильем, o:p/
и его не исправят бессильные o:p/
Джентльмены индийские. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Автоподставщик o:p/
o:p /o:p
Вот и погиб под колесами, o:p/
не рассчитав что-то, видимо, o:p/
Автоподставщик удачливый o:p/
(не поставщик — вы не путайте!) o:p/
Вот его Ватерлоо. o:p/
o:p /o:p
И напишут на склепе, o:p/
что был он умелым мошенником, o:p/
Но исчез под колесами o:p/
автозверя — нелепо, случайно… o:p/
Что, конечно, печально, o:p/
но так уж устроена жизнь. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Бизнес-собор o:p/
o:p /o:p
Вот он — бизнес-собор: o:p/
симбиоз православного сна o:p/
С липким взглядом завистливым o:p/
на небоскребы нью-йоркные, o:p/
Бизнес-соты комфортные o:p/
и прибамбасы престижные. o:p/
o:p /o:p
Кто придумал все это? o:p/
Кто в узел единый связал o:p/
То, что тайно и свято, o:p/
и шумно торгующий зал, o:p/
И конторы с ним смежные? o:p/
o:p /o:p
Да, никто не придумал. o:p/
Само получилось, срослось… o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
* o:p/
o:p /o:p
Дева Обида и дева Протест — сестры кровные o:p/
Шьют себе платья модные, o:p/
шьют у Диора во Франции, o:p/
Чтоб в Москве и окрест — люди умные, o:p/
Креативные то есть, о них говорили и спорили. o:p/
О их ликах, не платьях, но иногда и о платьях. o:p/
o:p /o:p
Дева Обида и дева Протест суть эмоции. o:p/
Аллегории их, но не голые, o:p/
А престижно одетые, o:p/
с шиком парижским одетые. o:p/
o:p /o:p
Так в Москве, иногда в Петербурге. В провинции o:p/
Все иначе, конечно… o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Поэт и парикмахер o:p/
o:p /o:p
Что орет поэтище зычногорлый o:p/
Парикмахеру личному Христофорычу? o:p/
«Причеши-ка мне ухи», — орет он. o:p/
«Причеши мои уши, o:p/
ибо колышится в глыбищи o:p/
Плоти моей человечек некий… o:p/
Человечек диктующий o:p/
строки, строфы стихов, o:p/
ритм и рифмы подсказывающий. o:p/
Это — гений, мой гений… o:p/
А ты кто таков? o:p/
Ты — хорек, o:p/
И твой жалок мирок, o:p/
Жалок, пошл и дрянной мелочевкой нагружен». o:p/
o:p /o:p
«Как постричь-то Вас, все же?» — o:p/
спросил у него Христофорыч. o:p/
o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
* o:p/
o:p /o:p
Иди туда, иди туда, o:p/
Где смог и черная вода o:p/
Под транспортным мостом, o:p/
как ближний гром грохочущим. o:p/
Там сквер без детворы, дворы несвежие. o:p/
В одном из них пятно o:p/
на крестоказнь похожее. o:p/
Иди мимо него o:p/
в большой трущобный дом, o:p/
На лестницу его o:p/
щербатую, крутую, o:p/
Карабкайся по ней: o:p/
площадки, двери, ниши… o:p/
Пусть с передышками, o:p/
но выше, выше, выше… o:p/
И, наконец, чердак, o:p/
но есть еще за ним o:p/
Ступени белые, o:p/
ведущие на небо o:p/
Навстречу ангелам… o:p/
Скворец
Биргер Алексей Борисович родился в 1960 году в Москве. Окончил ГИТИС им. Луначарского. Поэт, прозаик, сценарист, переводчик. Живет в Москве. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Памяти Принцессы на горошине o:p/
o:p /o:p
«Cкворец» писался долго. Я и сам подзабыл, насколько долго, пока совсем недавно не обнаружил в своих завалах первые рукописные наброски, относящиеся к 1977 — 1978 годам. С тех пор, конечно, многое было переделано, но кое-что из первых набросков (побег из детского дома летом 1929 года, посиделки с дедом-браконьером) вошло в окончательный текст. И прежде всего, вошла в него сцена, которая сразу задает интонацию вещи и определяет весь сюжет, — сцена с повешенным котенком. o:p/
Об этой сцене я и хотел бы сказать несколько слов. o:p/
И в наши дни она может шокировать своей жестокостью, не только бессмысленной и бесчеловечной, но и какой-то мелкой и гадостной. Она становится предвестием мелкого и гадкого кровавого кошмара, в который все больше засасывает героев. У кого-то она не вызовет ничего, кроме отвращения и брезгливости. Могут заговорить и о недопустимых методах завоевания читателя. o:p/
Но вот что любопытно. o:p/
Буквально через два-три месяца после того, как я завершил основной вариант «Скворца», поставив, казалось мне тогда, последнюю точку (было это в начале 1995 года), мне в руки попался свежий номер журнала о домашних животных… «Друг» или «Четыре лапы» — не упомню сейчас. Главное, в этом журнале была напечатана переписка Варлама Шаламова и Надежды Яковлевны Мандельштам по поводу пропавшей кошки Варлама Шаламова. o:p/
Варлам Шаламов жалуется, что потерял единственного друга, рассказывает, как искал кошку по всей Москве, как ездил в главный «приемник» для всех отловленных животных на улицу Юннатов (!), как пережил там тяжелейший шок: он ждал чего угодно — собачьего и кошачьего воя, лая, мяуканья, рычания и визжания, любой какофонии… но только не той мертвой, абсолютной, глухой тишины, которую он встретил. Животные молчали — будто понимая, какая судьба их ждет. o:p/
Кошку он так и не нашел. o:p/
Надежда Яковлевна отвечает Варламу Шаламову, что хотела бы его утешить, но не может, потому что известно, как много кошек гибнет от рук всяких идиотов. Она отмечает, что страной владеет настоящая кошкофобия и что началось это с установления советской власти. Ни одна власть не испытывала к кошкам такой патологической ненависти, не превращала ненависть к кошкам в элемент воспитания, и есть в этом что-то очень глубинное, что-то, значение чего мы еще не до конца понимаем. Если бы кто-нибудь взялся взглянуть на советскую власть через призму этой кошкофобии, не виданной никогда ни в какой другой стране, он мог бы докопаться до самой сущности этой бесчеловечной власти, обнажить основные механизмы, управлявшие теми, кто прямым путем вел страну и к ужасу, и к террору, и к полному нравственному разложению. Поминает она и «Собачье сердце» Булгакова. o:p/
Я пересказываю своими словами, но очень близко к тексту. o:p/
В целом письмо Надежды Яковлевны оказалось настолько точным конспектом всей моей вещи, настолько точной идейной концепцией, которой я следовал, что, подумалось мне, когда «Скворец» будет издан (а я предоставил этой вещи «отлежаться», как предоставляю некоторым вещам, которые мне не хочется с пылу с жару тащить в печать), то найдутся люди, которые решат, что я писал «Скворца», уже прочтя это письмо и точно, почти рабски, следуя его указаниям. o:p/
Таких знающих читателей, мне особенно дорогих, я хочу заверить: к моменту, когда я ознакомился с перепиской, вещь была полностью закончена, и здесь можно говорить лишь о чудесном совпадении — одном из многих, сопровождающих весь цикл о Высике. o:p/
Хотя возможно и другое объяснение. o:p/
Во время пропажи кошки и последующей переписки мне было семь или восемь лет. В то время в доме Надежды Яковлевны Мандельштам я бывал очень часто. К разговорам взрослых не прислушивался. Я либо возился с пишущей машинкой Надежды Яковлевны, на которой она учила меня печатать, либо рисовал, получив краски и карандаши, либо рассматривал диковинки со всех стран мира, которые присылали Надежде Яковлевне поклонники творчества Осипа Мандельштама и ее собственных книг, либо был занят чем-то еще, не менее полезным для души и сердца. Разумеется, беда Варлама Шаламова не могла остаться без обсуждения, и, разумеется, Надежда Яковлевна не могла не пересказать свое письмо, а то и зачитать его, и если я в тот момент находился где-то рядом, то услышанная вполуха история, не вполне понятная для детского сознания, осталась во мне: внешне сразу забылась, но на самом деле запечатлелась «в подкорке», чтобы в должный срок дать свои всходы. Тогда получается, я и впрямь писал «Скворца», следуя строгим инструкциям Надежды Яковлевны, но сам о том нисколько не ведая. Получается, Надежда Яковлевна превратила меня в определенном смысле в бомбу замедленного действия. o:p/
Что ж, эта бомба в конце концов взорвалась. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Ю р о д и в ы й: o:p/
Борис, Борис!.. Николку маленькие o:p/
дети обижают… Вели их зарезать, o:p/
как зарезал ты маленького царевича. o:p/
o:p /o:p
А. Пушкин «Борис Годунов» o:p/
o:p /o:p
Время действия — лето 1929 года. o:p/
o:p /o:p
Сережка Высик опрометью летел от увиденного ужаса, непереносимого для двенадцатилетнего мальчика. Он бежал через лес, не разбирая дороги, продираясь сквозь малинник, где ветки хлестали и царапали его, спотыкаясь, падая и поднимаясь — не зная, что, зачем и как, но зная, что вернуться не сможет — что он хоть на край света удерет, зароется и захоронится там, но не вернется в их трудовой лагерь. Ослепленный, он мчался, пока не врезался во что-то. Это что-то, хотя было оно явно не слишком большим, не слишком увесистым и по-человечьи уязвимым, даже не покачнулось. Оно выдержало первый удар, а потом Высик ощутил у себя на щеках две ладони, крепкие и сухие пальцы, от которых слегка попахивало табаком, и эти ладони не грубо, но решительно подняли голову Высика вверх. В глазах мальчика все расплывалось, но он узнал сквозь слезы того, кому принадлежали эти ладони: худощавого, но крепко сбитого при этом парня лет пятнадцати, очень высокого для своего возраста, которого все окружающие называли Скворец. Высику почему-то стало еще страшнее — он вспомнил уважительный шепоток, с которым поминали Скворца его одногодки, достаточно уважительный, чтобы понять: есть в этом парне что-то такое, отчего к нему лучше не подступаться. Вспомнил он, конечно, и странную вчерашнюю историю с этой девчонкой, Тамаркой. Понятно, что воспитанники детского дома наивностью не отличаются, жизнь их просвещает рано, и Высик достаточно соображал, чтобы понять, почему Тамарка — девочка, физически развитая не по летам, — вырывается из дверей барака вся раскрасневшаяся, летит прочь, щеки у нее пунцовей некуда, и кто-то кричит ей вслед, чтобы она бросила и дурью не маялась, и подумаешь, делов… — но все это как-то медленно перетекало сквозь сознание мальчика, и, пока он стоял, со странной отстраненностью переваривая увиденную сцену, с той стороны, куда убежала Тамарка, появился Скворец, он двигался быстрой злой рысцой, и было ясно, что с ним сейчас шутки плохи. Он ворвался в барак, и оттуда донеслись какие-то звуки, а потом Скворец опять появился, таща за шкирку двух парней, каждый чуть не на полголовы выше его, но в его руках они болтались как беспомощные щенки, и оба были окровавлены… Тут Сережка Высик поспешил смыться — он не знал, что произойдет, но в любом случае ему не хотелось оказываться свидетелем, чтобы его потом допрашивали воспитатели и чтобы наказывали его потом за игру в молчанку — ведь Высик молчал бы, хоть режь его, ничего бы не рассказал, согласно мальчишескому кодексу чести. Но одно он понял: в Скворце есть сила, которая одолеет любую физическую силу, и это было страшно — почти так же страшно, как то, что он сейчас увидел, и эти два страха теперь слились в нем воедино — и каким-то образом Скворец ему мерещился причастным к нынешнему ужасу, а нынешний ужас мерещился берущим начало во вчерашней сцене, ярко стоявшей перед глазами: Скворец, встряхивавший двух окровавленных парней. o:p/
— Ну, в чем дело? — спросил Скворец. o:p/
Несмотря на ужас, сковывающий ему язык, Сережка Высик почувствовал себя обязанным заговорить. o:p/
— Там… Наш повар… — проговорил он. o:p/
Скворец кивнул. Страхолюдный был вид у их повара, не так давно прибившегося к ним мужика, непонятно откуда взявшегося, огромного и черного — из тех людей, о которых иначе не скажешь, как «черный человек», и, даже если волосы у них светлые, они все равно кажутся черными от головы до пят, может, из-за их подавляющей угрюмости, а может еще из-за чего. o:p/
— Так что повар? — спросил Скворец, когда молчание Высика затянулось. o:p/
— Он… — Высик сглотнул, прежде чем ответить. — Он повесил котенка… o:p/
Скворец пристально посмотрел на Высика, а потом так резко его встряхнул, что у мальчика все кости задребезжали. o:p/
— Это чтоб ты в себя пришел, — сказал Скворец. — А теперь переведи дух и рассказывай. o:p/
И Сережка Высик принялся рассказывать — связно, насколько мог, что значит не очень связно, как он ускользнул на лужайку, о которой, как он считал, знает он один, — там был такой земляничный бугорок, и земляника с каждым днем все больше наливалась соком, и мальчик предвкушал тот день, когда он соберет полные пригоршни спелых ягод, и съест их, в награду за свое терпение, и для него этот бугорок был чем-то вроде святой тайны, мирным убежищем, которым нельзя делиться с другими, там он хоть на пять минут мог отдохнуть душой, сидя на корточках и блаженно созерцая свои кустики — отключаясь от гиблой атмосферы уныния и страха, и эти тайные вылазки давали ему силы жить… А сегодня полянка и бугорок были разорены и истоптаны, земляника поедена, что не поедено — то раздавлено, и Сережка глядел сначала лишь на свой разоренный и оскверненный храм, до которого добралась эта наглая и подлая жизнь, и лишь потом поднял глаза и увидел — на низком суку дерева у края полянки… И, пока он смотрел, оцепенев от ужаса, на него упала большая тень, и тут он оглянулся и увидел повара, и повар был еще черней и угрюмей, чем обычно, и Высик кинулся бежать со всех ног, он даже вскрикнуть не мог, потому что крик застрял у него в горле… o:p/
— Жуть какая, — раздался голос рядом. o:p/
Мальчик глянул вправо и увидел Тамарку. Она поднялась из-за куста, под которым, видно, до этого сидела, и поэтому Сережка сначала ее не видел. Теперь она стояла, машинально отряхивая травинки с юбки и глядя на мальчика расширенными глазами. o:p/
Скворец взглянул на нее и хмыкнул: o:p/
— Тоже, впечатлительная… Ну, ты-то девчонка, тебе можно, а этот откуда такой выискался? — Он остро посмотрел на Сережку. — Ты что, ничего хуже в своей жизни не видел? o:p/
— Видел… Я… — Мальчик опять сглотнул. — Но это совсем другое… o:p/
— Тебя что, совсем забили? o:p/
— Нет, — несмотря на страх, Высик с некоторой энергией затряс головой. — Я могу сдачи дать. o:p/
— Настоящий крысенок, — сказала Тамарка. — Я видела в столовой... Он вцепился в своего одногруппника, который хотел у него ломоть хлеба стащить. o:p/
Продолжая разглядывать Сережку Высика, Скворец извлек папиросу и спичку и раскурил папиросу, чиркнув спичкой о шершавый ствол дерева. o:p/
— Нет, он не крысенок, — протянул Скворец. — Воробей он, как есть воробей. Прыг-скок, задиристая птичка… Только сейчас, Воробей, перепуган ты до смерти. Весь взъерошен, перья как ни попадя торчат — то ли тебя водой окатили, то ли кошка малость подрала… И вот что, Воробей, — продолжил Скворец другим тоном, — про то, что ты нас здесь с Тамаркой вместе видел — никому ни слова. Для умного и так вообще-то понятно, что не стоит болтать, но вдруг ты из непонимающих? o:p/
— Я никому не скажу, — заявил Высик. — И не смогу даже, пусть и захотел бы. Я назад не вернусь. o:p/
— Куда ж ты денешься? o:p/
— Сбегу. Где-нибудь устроюсь. o:p/
— Ишь ты как, совсем по-взрослому. Вернешься как миленький, и вся недолга. Вернешься, когда страх немного пройдет. o:p/
— Ни за что! — сказал Высик. o:p/
— Я бы тоже не вернулась, — сказала Тамарка. — Этот повар настоящий зверь, я сама его до смерти боюсь. Хотя он и хорошо ко мне относится. o:p/
— Известно… — Скворец ехидно примолк, не договорив фразу. o:p/
— Брось! — сказала Тамарка. — Там что-то другое, я чувствую. Он меня и залапать ни разу не пытался. Не знаю, может, у него дочь была, на меня похожая, или что... Но вот чувствую я это. И еще больше боюсь. Ведь я видела, как он этих котят с начала лета выхаживал, когда наша кухонная кошка окотилась. Души в них не чаял, даже... даже на человека похожим становился, когда с ними возился. А теперь — видишь как! Может, этот котенок кусок мяса попер, и он его наказать решил… o:p/
— Когда мы мясо видели! — буркнул Скворец. — Ладно б, кусок гнилой селедки. o:p/
— Да не знаю я, в чем там дело! Я просто вижу, что он псих! Любил котенка без памяти, а потом ему неизвестно какая блажь в голову вдарила, и он его — того… В помутнении… Может, он всегда убивает всех, кто ему нравится… Может, он не сегодня-завтра и меня так… o:p/
— Ой, да замолчи ты! — сказал Скворец. — Ничегошеньки ты не понимаешь. Не так все было. o:p/
— А ты знаешь, как? o:p/
— Приблизительно знаю. Да и ты могла бы сообразить. А что Воробью пока лучше в лагерь не возвращаться — это правда. Кто знает, что наш повар удумает и что учудит… Ты можешь мне эту полянку показать? — спросил Скворец у своего «крестника», отныне ставшего Воробьем. o:p/
Воробей огляделся и приблизительно сообразил, где они сейчас находятся, в какую часть леса его занесли ноги. o:p/
— Могу, — сказал он. — Только издали. Сам я туда не пойду. o:p/
— Пусть так, — сказал Скворец. — Пошли, веди нас. o:p/
Сережа повел Скворца и Тамарку за собой. Скоро перед ними забрезжил просвет его — бывшей его — полянки, и он протянул вперед руку. o:p/
— Вон там. Ближе я подходить не буду. o:p/
— Хорошо, — сказал Скворец. — Я один пойду. Ждите меня здесь. o:p/
Скворец направился к полянке, а Сережка присел на ствол упавшей сосенки, чувствуя, как у него ноги подкашиваются от муторной слабости. Тамарка сорвала травинку и, задумчиво жуя ее, разглядывала его. o:p/
— Прав Скворец, — наконец проговорила она. — Никакой ты не крысенок. Воробей, как есть Воробей, нахохленный, задиристый и знающий, как по жизни пропорхать. Своего не упустишь. Прямо диву даюсь, откуда ты такой взялся. o:p/
Сережка просто поглядел на нее и ничего не сказал. o:p/
— Понимаю, — кивнула она. — От папы с мамой взялся, конечно. Ты хоть помнишь их? o:p/
— Нет, — сказал Сережка. o:p/
— Я тоже не помню. Вот тетку помню. Крутая была тетка, суровая. Но это тоже давно было. Сколько лет тебе? o:p/
— Вроде двенадцать, — он пожал плечами. o:p/
— А если не вроде? o:p/
— Откуда ж мне знать? Записано, что родился я тридцатого октября шестнадцатого года. Наверно, правильно. o:p/
— Значит, этой осенью тебе тринадцать стукнет? Плюгавеньким ты выглядишь для своих лет, уж прости за откровенность. o:p/
— Чего ж не простить? — Воробей пожал плечами. — Все знают, что я ростом не вышел. o:p/
— Все правильно. Воробей — он птаха мелкая. o:p/
Сережка Высик, отныне и навеки ставший Воробьем, взглянул на Тамарку. Была сейчас в интонациях ее голоса непонятная легкость, словно она забалтывала сама себя, и от этой легкости во всем ее облике мальчик ощутил нечто щемяще-волнующее, нечто смущающее его. Словно произошло с ней что-то, чего он не знал, но от этого произошедшего она сейчас совсем по-новому ощущала себя, свое тело, и эта аура ее нового отношения к своему телу — бережно-горделивого, если искать хоть какое-то определение, — висела над ней, распространялась вокруг нее, заставляя и находившегося рядом увидеть ее другими глазами. Мальчик почувствовал себя вдруг причастным к некой тайне, с которой прежде не сталкивался. Нет, это не было желанием, и не было этому названия — это было вне всего, чем он жил, вне того, что он знал о взаимоотношениях мужчин и женщин, вне мата-перемата после отбоя, вне смачных рассказов толстого Мишки, как в далекой, почти сказочной, Москве найти подпольный публичный дом, если нужное словечко шепнуть извозчику. Мишка уверял, что словечко это «ежевика», и ему верили, хотя было понятно, что Мишка никогда в Москве не бывал и все свои потрясающие знания подхватил от таких же невежественных, никогда в стольном граде не бывавших, от старшего брата, тоже прошедшего через их детский дом и работавшего сейчас подмастерьем на заводе в Ближнем Боре, от расхлябанных и шпанистых друзей брата, угощавших Мишку пивом, — Мишка с важным видом уверял, что от пива прыщи проходят. Вообще, Мишка был переполнен сознанием собственной значимости и пытался весь класс подмять под себя, и были у него свои прихвостни, но к Высику он как один раз сунулся, так больше не приставал. Просто оставил в покое, потому что Высик сам в драку никогда не лез, но свое право держаться в сторонке от всех союзов и компаний и никому не подчиняться охранял остервенело, неистово, когтями и зубами. Потом Мишка даже сам дал Высику почитать истрепанную древнюю книжку, приключения Ната Пинкертона, и тот момент, когда Мишка швырнул эту книжку на кровать Высику и сказал: «На, прочти, убойная книжица», стал моментом заключения вечного и прочного мира. o:p/
…И почему ему сейчас вспомнился Мишка? Вспомнилось это причмокивание губами, с которым Мишка просвещал своих однолеток, и все это вдруг показалось безмерно далеким от этой освещенной солнцем прогалины, от светлой, едва вибрирующей в легком ветерке, зелени вокруг, от великолепного лесного аромата, за которым скрывался ледяной и темный ужас недавно пережитого. o:p/
Вернулся Скворец, небрежно и насмешливо хмурый. o:p/
— Все ясно, — сказал он. — Пошли. o:p/
— Куда? — спросил Воробей. o:p/
— В лагерь. Опоздаем к предобеденной линейке — с тебя шкуру спустят. o:p/
— Я не пойду! — опять заявил Воробей. o:p/
— Не бойся. — Скворец несколько секунд присматривался к мальчику, потом добавил: — Пока я с тобой, ничего с тобой не случится. Ты мне веришь? o:p/
Воробей, в свою очередь, поглядел на Скворца. Не поверить этому парню было невозможно. Он понял, Скворец берет его под свою защиту — и от сознания могущества этой защиты у него перехватило горло. o:p/
— Котенок… все еще там? — спросила Тамарка. o:p/
— Нет, — коротко ответил Скворец. o:p/
— Ты… ты понял, куда он делся? o:p/
— Да, — ответил Скворец также коротко. — Ну пошли. o:p/
Они шли через лес, почти ни о чем не разговаривая. o:p/
— Осенью я покидаю детский дом, — сказал Скворец, когда они уже подходили к лагерю. — Начинаю трудовую жизнь. o:p/
Непонятно, кому адресовались эти слова — Воробью или Тамарке. Было видно, что каждый из них воспринял их по-своему. o:p/
…К линейке они опоздали. А потом был барак столовой, с вечной дракой за места, за миски и ложки, за кусок хлеба, за то, чтобы одним из первых оказаться в очереди к котлу, чтобы эта жижа, именуемая похлебкой, в твоей миске оказалась погуще. Высик обычно одним из первых прорывался к заветному котлу, работая своими острыми худыми локтями, но теперь он не мог себя заставить к нему подойти — хотя и не повар разливал похлебку, а его помощница. И все равно близость повара ощущалась, он был здесь, и ноги Воробья отказывались слушаться. Воробей стоял, растерянно держа миску в руках, и, может быть, остался бы вообще без обеда, если бы не Скворец, заметивший его нерешительность. Он забрал миску у своего нового друга и подошел к раздаче — ему даже пихаться не пришлось, и он спокойно дал наполнить миску и принес ее Высику. o:p/
— Садись и ешь, — сказал он все с той же странной суховатой интонацией, которая, видно, вообще была свойственна его голосу. o:p/
Воробей ел машинально, не замечая, что ест, во все глаза следя за Скворцом. Тот, доев, неспешно сдал свою миску и исчез за дверью кухни. С поваром о чем-то поговорить хочет, догадался мальчик — но о чем? Он глядел как завороженный, словно пытаясь взглядом проникнуть сквозь стену, и оттого, видно, упустил, с чего возник небольшой водоворотик рядом с ним — впрочем, возникнуть он мог из-за чего угодно, ведь в центре водоворотика оказался Цыганок, а его постоянно шпыняли, он вызывал в других ребятах глухую враждебность — и своей болезненностью, и тем, что вечно ковырял в носу, словно в своей ноздре ища защиту от жестокого внешнего мира, и — может быть — своей чернявостью, непохожей на чернявость других, самых темных и смуглых. Ашот тоже был черняв, но при том боек, свой парень, и щеки у него круглились, несмотря на более чем скудную жратву, и сама округлость его щек предполагала, неким смутным образом, его законную принадлежность к общей ребячьей стае. А Цыганок был и безропотен и зажат, и непонятно было, о чем он думает и чем живет, — словом, идеальный козел отпущения, какая неприятность ни приключись или какое дурное настроение ни накати на ребят. Умей Воробей четче формулировать свои мысли, он бы сказал, что травля Цыганка даже поощрялась старшими, педагогами, что, может быть, они и положили начало этой травле, дав всегда улавливаемым намеком понять, что Цыганок им неприятен и что его жалоб, попробуй он пожаловаться, они слушать не будут. Они как бы спустили свору, науськали ее своим пренебрежительно-холодным отношением к Цыганку, звучавшим как «ату!». В глубине души Воробью все это не нравилось, но он соблюдал железный закон — не вмешиваться, если только дело не касается тебя самого. В их детском доме все постоянно прощупывали друг друга на «слабо», и горе было тем, кто хоть раз давал слабинку, пусть и после долгих лет успешного сопротивления. Таких загрызали. Не буквально, конечно… Хотя случалось, что и буквально. Воробей, с трех лет в детском доме, успел несколько раз повидать, что такое смерть. Его самого, туманно припоминалось ему, сперва записали в нежильцы на этом свете, так он был слаб и хил и должен был, по идее, загнуться либо от дурного питания, либо от одной из эпидемий, забредавших к ним, либо еще от чего. Но он оказался удивительно упорным и цепким — и выжил, и утвердил себя, свое право на существование. o:p/
А теперь толстый Мишка сквозь стиснутые зубы говорил Цыганку: o:p/
— Ну все, Цыган, сучонок сраный, допрыгался ты. Считай, что мы тебя сделали. o:p/
Цыганок сидел как-то даже слишком спокойно и не побледнев — на смуглой коже бледность всегда проступает особенно заметно — и взгляд его был не испуганным, не виноватым, не обреченным, а каким-то отрешенным: словно он со стороны наблюдал за тем, что с ним происходит, и ему, стороннему наблюдателю, было ни тепло, ни холодно знать, что какого-то плюгавого мальчонку в очередной раз измордуют до полусмерти. o:p/
Воробей, может, и поинтересовался бы, что произошло, но тут открылась дверь кухни и вышел Скворец. Перехватив взгляд мальчика, он подошел к нему. o:p/
— Порядок, — сказал он. — Ни о чем не волнуйся. o:p/
— Скворцов, Виктор! — послышался голос. Это был Петр Иваныч, преподававший им сразу несколько предметов, — и математику, и историю партии, но по изначальной профессии бывший столяром и основным своим предметом считавший трудовое воспитание. o:p/
— Что, Петр Иваныч? — откликнулся Скворец. o:p/
— Столярная работенка есть. Пошли. o:p/
— Иду, — спокойно отозвался Скворец. — А если я этого мальца в подмогу возьму? Рукастый малец. — Скворец кивнул на Серегу Высика. o:p/
— Этот? — Петр Иваныч остановился перед Высиком и оглядел его с головы до пят, хотя и так отлично знал. — Что ж, парень ладный, хоть и с виду не того. Бери. Готовь себе трудовую смену. o:p/
— Пойдем, — сказал Скворец Воробью. — Все лучше, чем в поле ковыряться или в строю маршировать, — это он о военной подготовке, недавно у них введенной. И преподаватель новый появился, смурной — почти анекдотический — дядя, отставник из нижних чинов, обучавший ходить строем, заставлявший отрабатывать ружейные приемы с палками в руках и в виде учебных пособий использовавший плакаты Осоавиахима. Он не считал непедагогическим или зазорным угостить кого-нибудь из ребят постарше папироской, и это вызывало несколько ироническое отношение к нему, рассматривалось подсознательно как признак слабости или даже тайной боязни своих учеников, но, с другой стороны, от одного его присутствия веяло той армейской казенностью, которая у самых лихих и бесшабашных порождала зябкое неудобное чувство. Благодаря ему их детский дом превращался в частицу огромной армии, военизированный язык не только проникал во все закоулки быта, но и сознание отравлял своей настырностью. «Бойцы трудового фронта», «трудармия» — все эти термины как будто говорили о том, что и мирный труд является подготовкой к некоей грядущей войне. В сотнях ячеек, подобных их детскому дому, выковывалась будущая армия трудовой революции, до картонности победоносной, как было обещано, но от того не менее неведомой и страшной. Как страшен бывает наркотик, навевающий блаженные видения, — всегда занозой сидит опасение, что перегруженный наркотиком мозг даст сбой и вместо прекрасных картин начнет вырабатывать кошмары, от которых некуда будет деться. o:p/
Приблизительно так Сережа Высик воспринимал эту военизированность быта, нарастающую с каждым годом, хотя и не смог бы выразить своих ощущений в словах. o:p/
Во всяком случае, он был только рад убраться со Скворцом и Петром Иванычем подальше от лагеря — хотя бы на время. o:p/
По дороге никто не заговаривал. Воробей, семеня за двумя попутчиками, шедшими довольно быстро, бочком поглядывал то на Скворца, то на Петра Иваныча. Скворец вышагивал с отрешенным видом, словно заранее сосредоточившись на работе и выкинув из головы все беспокойные мысли, к ней не относящиеся. Руки его слегка болтались на ходу, и в нелепом своем, несколько безразмерном пиджаке темного непонятного цвета, похожем на взъерошенные перья, он действительно очень смахивал на скворца, с притворным безразличием высматривающего краем глаза аппетитного червяка. o:p/
Так они дошли до деревни и завернули во двор одного из крайних домов, с широкими воротами. Во дворе стояло несколько телег, над крыльцом висел, обмякнув в безветрии, красный флаг. Петр Иваныч поднялся на крыльцо, постучал и, не дожидаясь ответа, прошел вовнутрь. Ребята прошли вслед за ним. o:p/
Встретил их молодой парень в кожанке, с резкими чертами лица. Петр Иваныч поздоровался с ним, назвав Алексеем, и сказал: o:p/
— Подобрал я вам работника. Рукастый парень, дела не испортит. o:p/
— Вот и хорошо, — сказал Алексей. — Проходите, старшой объяснит, что делать. o:p/
Они прошли в довольно скудно обставленную комнату: стол, несколько стульев, запирающийся шкафчик, стоящий на большом табурете, — вид у шкафчика был вполне канцелярский и как-то сразу угадывалось, что в нем должны храниться всякие документы. Не будь шкафчик таким очевидно хлипким, ему бы вполне удалось выдать себя за сейф. o:p/
За столом сидел «старшой». Он проглядывал всякие бумажки, разложенные перед ним, — сводные таблицы, списки, графики и отчеты. Сережка почему-то прежде всего обратил внимание на то, с какой аккуратностью выполнены все эти документы — каким почти каллиграфическим почерком выведена каждая буковка, как ровна каждая линия. Было в этой аккуратности нечто странно не соотносящееся с ситуацией и оттого чуть ли не удушающее. Она говорила о внутреннем трепете, с которым здесь относились к каждой бумажке — благоговейно до сладострастия, до той чиновничьей бумажной похотливости, за которой всегда брезжит бездушие… Но тут сидевший за столом поднял взгляд — и мальчик уже не мог оторвать глаз от этого лица. Оно притягивало тем пустым выражением, которое иногда бывает вполне естественным для животных, но страшит ненормальностью, когда встречаешь его в человеке. Животное отсутствие жизни — вот как это можно было бы определить. Пустота, не способная жить полноценно сама по себе, пустота, паразитирующая на окружающем, подкармливающаяся кровью, насилием и разрушением, которые она сеет вокруг. Сеет, и собирает урожай, и пожирает, чавкая — а иначе умрет с голоду. o:p/
Серое одутловатое лицо — оно бы выглядело приятно округлым, если бы не общая дряблость, не эти складки щек, не этот сальный поблескивающий лоб. Глаза без всякого выражения, бесцветные глаза, похожие на два кусочка чуть подтаявшего льда. Глаза, зрачки которых передвигались со странной медленностью и могли подолгу застывать на одной точке. Мальчик увидел коричневый пиджак, рубашку под пиджаком, а у горла — красный галстук. Мальчик не сразу сообразил, что же так смущает его в этом галстуке, и лишь потом, вглядевшись, понял — галстук был выкрашен красной масляной краской и оттого отсвечивал тусклым ненатуральным отливом, и мелкие трещинки шли по нему. Он поглядел на Скворца и Петра Иваныча. Но если их и смутил этот галстук или это лицо, то виду они не подали. o:p/
«Старшой» заговорил — таким одышливым и прерывистым голосом, как будто он только что держал долгую вдохновенную речь и еще не перевел дух: o:p/
— Работники? Хорошо. И хорошо, что молоды. Молодая смена. Наше будущее. Вам объяснить вашу задачу? o:p/
— Меня попросили подобрать из наших воспитанников такого парня, который хорошо умеет столярничать, — сказал Петр Иваныч. o:p/
— Да. Столярничать, — кивнул «старшой». — И не только. Работы много. Для начала надо приготовить стенд наглядной агитации. Агитационный материал уже готов. Подойдите сюда. o:p/
Они подошли к столу. «Старшой» открыл аккуратную папку и вынул оттуда ряд рисунков с сопроводительным текстом. Листы были пронумерованы, чтобы не ошибиться, в каком порядке их размещать. Высик увидел карикатурно злобного толстого мужика, похожего на борова. Этот мужик с ненавистью глядел на трактор в отдалении на роскошном поле зрелой пшеницы. Следующий рисунок представлял этого же злодея крадущимся с обрезом. На отдельном листке было выведено чертежным шрифтом название стихотворения: «Плач кулака». Одну из строф этого стихотворения мальчик запомнил на всю жизнь: o:p/
o:p /o:p
У дороги, как саван бела, o:p/
Желтым пламенем плачет береза… o:p/
Эх, рискну-ка, была не была, o:p/
Подпалю скотный двор у колхоза! o:p/
o:p /o:p
— Это все, — объяснил старшой, — надо разместить на деревянном щите. Щит сделать гладенький, рамочки, под стекло… Вот такая важная наглядно-агитационная задача. И кроме того, есть еще ряд ответственных поручений. o:p/
— Колесо у одной из телег починить надо, — сказал Алексей. o:p/
— Да. Колесо. Мы не можем доверять чинить колеса кому попало. Любой в деревне может оказаться вредителем, тайным врагом Советской власти, и якобы починенное им колесо отвалится по пути. Может быть даже там, где нас будет ждать засада. Вовсе не исключено, что кулаки могут попробовать отбить и уничтожить конфискованное у них на пользу трудового народа зерно. Мы их знаем — ни себе ни людям. Поэтому надо, чтобы все ремонтные работы выполняла наша советская молодежь, на которую мы можем положиться. — Он с необычной живостью встал из-за стола и подошел к Скворцу. Мужчиной он оказался не очень высоким, но грузным, одутловатым — и от этой одутловатости он смотрелся неряшливым, хотя и было заметно, что он старается следить за собой и одеваться с канцелярской аккуратностью. — Ты в радио что-нибудь смыслишь? — спросил он у Скворца. o:p/
— Я много в чем смыслю, — ответил Скворец. — Мне всякое приходилось налаживать. Но вообще-то, мне сперва поглядеть надо, чтобы понять, справлюсь я или нет. o:p/
— Хорошо. Тебе все покажут. Замок у сейфа сменить надо, — «Старшой» кивнул на шкафчик. — И сам сейф жестью обить, для надежности. Жесть имеется. Враг бы многое дал, чтобы получить доступ к нашим документам. o:p/
— Многовато работы, — прикинул Скворец. o:p/
— Работы на всех хватит. Работа сейчас повсюду кипит. Приступайте. Вам покажут, где все материалы и инструменты. o:p/
— Ну, вижу, я тут больше не нужен, — сказал Петр Иваныч. — Пойду к моим пацанам. Оставляю этих двоих в ваше распоряжение. Если поймете, что работы много и за день не управитесь, — обратился он к Скворцу и Сережке, — то в лагерь можете не возвращаться. Переночуете тут и завтра закончите. Я предупрежу ответственных за группы, чтобы вас не искали. o:p/
На том он и ушел. Скворец и Воробей получили отдельную комнатку, в которой и приступили к работе. Скворец взялся за разметку деревянного стенда, а Воробья усадил пробивать в жести пробойником дырочки по периметру, через каждые пять сантиметров — под шурупы, которыми эти листы жести будут «пришпандорены», по выражению Скворца, к деревянному шкафчику. Сережка работал со всей ответственностью и сознанием значимости этой работы; отмерял пять сантиметров, ставил метку, тщательно прикладывал пробойник, сильно и резко бил молотком — иногда бить приходилось по несколько раз, пробить толстую жесть с одного удара силенок не хватало — и переходил к изготовлению следующей дырочки. o:p/
Пока они работали, в доме шла своя жизнь, не прекращалась активная деятельность, которую они не очень воспринимали, сосредоточившись на своем. Мимо открытой двери их комнаты проходили люди — то кожанка промелькнет, то шинель. Слышались голоса, один раз лошадь во дворе заржала после того, как послышался скрип въезжающей телеги. Иногда разговоры шли на повышенных тонах, особенно когда говорил «старшой», иногда доносились короткие неразборчивые реплики. Ребята не обращали на все это особого внимания. Часа через три, когда стенд был готов, они перешли в главную комнату, где Скворец быстро и ловко забрал шкафчик в жестяные листы, моментально всаживая шуруп за шурупом, а потом еще с замком шкафчика повозился. «Старшой», выходивший куда-то, вернулся, когда они уже заканчивали работу, и одобрительно покивал. o:p/
— Где стенд устанавливать? — спросил Скворец. o:p/
— Перед воротами, — ответил «старшой», — чтоб всем на обозрение. o:p/
Стенд установили перед воротами на двух столбах, которые Скворец с Воробьем вкопали в землю, да еще чуть забили для основательности обухом топора, а потом Скворец собрал весь инструмент и отправился чинить колесо телеги. Сережка подавал ему необходимые инструменты и материалы и вообще набирался ума-разума, следя за работой Скворца. Уже вечерело, когда они справились с колесом. Подошел Алексей, одобрительно осмотрел их работу, позвал ужинать. o:p/
Уселись они в небольшом закутке, справа от главной комнаты. Смеркалось, и Алексей зажег керосиновую лампу. Достал чугунок с пшенной кашей, бутылку мутноватой жидкости. o:p/
— Пьешь? — спросил он у Скворца. o:p/
— Помаленьку, почему бы и нет, — солидно ответил Скворец. o:p/
— А этот? — Алексей кивнул на Сережку Высика. o:p/
— Ему не надо. Мал еще, — сказал Скворец. o:p/
— Ну, и мальцу можно иногда капнуть, чтобы крепче спалось, — сказал Алексей. o:p/
— Не надо ему, — твердо повторил Скворец. o:p/
— Как знаешь, — пожал плечами Алексей и разлил самогонку по двум кружкам. o:p/
У Воробья и без всякого самогону глаза слипались. Это не помешало ему приналечь на кашу — опыт всей недолгой, но насыщенной жизни научил его, что лучше всегда есть, когда дают, и лучше впрок набить брюхо, чем сожалеть потом об упущенной возможности. Поэтому, в силу привычки, он отправлял в рот ложку за ложкой, усердно прибирая свою порцию, хотя даже и вкус каши не очень чувствовал. В нем спадало наконец напряжение, державшееся после утреннего потрясения, и лагерь казался так далеко, так невозможно далеко, и верилось, что он никогда туда не вернется, и весь ужас, казалось, произошел вовсе не с ним… Голова была чугунной, в ушах звенело, и словно кулак внутри разжимался, отпуская его душу. Он не слышал, о чем идет разговор, не замечал входящих и выходящих. Откуда-то проникли в мозг слова — даже не как услышанное, а как странное воспоминание об услышанном: o:p/
— Старшой наш опять поугрюмел и рано спать собрался, — это, кажется, Алексей сказал. — Как бы беды не вышло. o:p/
Скворец что-то заметил или спросил, а Алексей в ответ: o:p/
— За ним глаз да глаз нужен. В прошлый раз вчетвером держали, чтобы голову не расшиб, а зубы пришлось металлической ложкой разжимать. o:p/
— А в деревне знают? — спросил Скворец. o:p/
— Кто их разберет. К ним, как ты понимаешь, у нас доверия особого нет. o:p/
Скворец кивнул. o:p/
— Но народ вроде смирный, — продолжал Алексей. — Не то что у нас бывало… Хотя, конечно, в тихом омуте… o:p/
— Тоже верно, — сказал Скворец. o:p/
— Пацаненок твой совсем засыпает, — сказал Алексей. — Может, его на лавку переложить? o:p/
— Сейчас переложу. o:p/
И Воробей почувствовал, как его отрывают от стула руки Скворца, потом он проплыл на этих руках метра два и оказался на жесткой широкой лавке. Под голову ему подложили сверток какой-то одежды, вместо подушки, и он сразу заснул. o:p/
Он разок-другой полупросыпался на секунду и слышал тихое журчание неторопливой беседы. Ему показалось даже, что Скворец опять с чем-то возится, шильцем или отверткой ковыряется в чем-то черном и плоском, не отрывая взгляда от ремонтируемого им предмета и подкидывая реплики Алексею, чтобы поддержать разговор. o:p/
— Здорово ты соображаешь, — услышал Сережка сквозь сон уважительный голос Алексея. o:p/
— Да тут и поломки-то особой нет, — ответил Скворец. — Так, немножко поправить кое-что. То ли уронили, то ли при перевозке тряхнули, вот и все дела. o:p/
Сережа Воробей закрыл глаза. o:p/
Опять он проснулся уже в темноте и тишине. С каким-то неуютным чувством проснулся — словно разбудил его дурной сон, который он в ту же секунду забыл, и лишь нехорошая тревога после него осталась. Напрягая память, он припомнил, что вроде снился ему какой-то здоровый мужик зверского вида, совсем на их повара непохожий, хотя и было в них что-то общее, и словно бы этот мужик настаивал на чем-то своем… Но и в этом мальчик не был уверен. Закуток был без окон, совсем темный, даже слабый свет ночных звезд не проникал в него, но за приоткрытой дверью виднелся тусклый свет. Мальчик еще немного полежал, пытаясь заснуть — без особого старания пытаясь, как бы лениво убеждая себя, что надо опять закрыть глаза, что ночь на то и ночь, чтобы спать, но сон не шел, и это Воробья как-то не очень расстраивало. Он присел на лавке, поглядел на тусклый лучик света за дверью. Да, а где же Скворец? Может, еще сидит, болтает с кем-нибудь, а может, спит уже в одном из соседних помещений. Воробей встал, постоял немного, спросонья заново привыкая к своим ногам, и, почти на ощупь, пошел из закутка. o:p/
Он опять оказался в большой, главной комнате. В ней тоже все было темно, пусто и тихо. Свет горел в другом помещении, рядом с этой комнатой. Мальчик осторожно направился туда. o:p/
Подойдя к приоткрытой двери, он тихонько заглянул вовнутрь. Никто его не заметил, и немудрено. В тусклом свете закопченной керосиновой лампы он увидел странную картину — словно застывшую — увидел он «старшого» на кровати, вцепившегося обеими руками в матрац с такой силой, что у него костяшки пальцев побелели, голова его была в крови, и двое людей крепко держали эту голову, а один сидел у «старшого» на ногах, в то время как Алексей одной рукой стискивал челюсти «старшого», вроде открыть их пытаясь, а другой рукой, похоже, собирался кормить его с ложки, только ложку держал почему-то обратным концом. Мальчик сразу отпрянул и попятился, в глазах у него помутнело. Сквозь тьму он двинулся к выходу, а моментальная картина продолжала стоять перед глазами. Он не помнил, как пробрался через все двери на улицу, выбрался на крыльцо, и с крыльца увидел темный силуэт часового во дворе. Лунный свет блестел на штыке винтовки, и сперва у него был позыв окликнуть часового, попросить его о помощи, но непонятный внутренний голос шептал, что лучше этого не делать, и так настойчив был этот голос, что Воробей его все-таки послушался. Он тихо-тихо спустился с крыльца и нырнул в тень под крыльцо, услышав, как заржала лошадь. Часовой повернулся на ржание, сделал несколько шагов в ту сторону, и этого было достаточно, чтобы мальчик незаметно прошмыгнул через открытый участок в кусты с другого краю большого двора, и, прикрытый кустами, стал пробираться на задворки, то пригибаясь в три погибели, то просто ползя на четвереньках, и остановился, только оказавшись за большой поленницей на задворках. Там он привалился спиной к поленнице и перевел дух. o:p/
Ему надо было решить теперь, куда идти и что делать дальше. Вернуться в дом он не желал. В лагерь? Тоже не привлекало, да и ночью туда добираться… Дорога была почти прямая, но все равно Воробей был не уверен, что не заблудится в темноте. Его состояние нельзя было даже назвать растерянностью, он просто ощутил себя в тупике. Весь бойцовский опыт прожитых лет был здесь бессилен. Будь в ситуации хоть что-нибудь узнаваемое, Воробей знал бы, как постоять за себя. Но не за что было зацепиться, нигде не найти было, не разглядеть опоры для сопротивления. Хоть плачь — но Сережка не заплакал, только глаза кулаком потер — и стал пробираться через задворки на дорогу, чтобы вернуться в лагерь. Там хоть все свое, и можно будет почву под ногами почувствовать, и любому самому темному и зловещему дать отпор. o:p/
Дорогу он нашел довольно быстро и пустился по обочине, старательно держась теней. Ему почему-то казалось, что в большом доме его наверняка хватятся и пустятся в погоню, потому что он стал свидетелем чего-то тайного, о чем никто не должен знать. По пути он недоуменно размышлял, где может быть Скворец. Скорей всего, он спит в одной из комнат большого дома. А вдруг он уже ушел?.. Нет, он не ушел бы, не предупредив Сережку — а скорей, он бы просто забрал его с собой. Но если он до сих пор там, то разве не надо его предупредить, что в доме происходит что-то нехорошее? А то, выходит, он покинул Скворца на произвол судьбы? При этой мысли Воробей остановился. Скворец бы ни за что так не подвел друга. Воробью вдруг сделалось очень стыдно. Как он ни мал, но, останься он в доме, их все равно было бы двое. А теперь Скворец там один, и, несмотря на то, что с ним никто не справится и он даже смерти неподвластен… Эта странная и жуткая картина, окровавленная голова «старшого» все еще стояла перед мысленным взором Воробья, и чудилось ему за этой картиной нечто такое, чужеродное и не людское, с чем не справится даже Скворец. Он повернул на сто восемьдесят градусов и пошел назад. o:p/
С приближением к дому ноги Воробья все тяжелели, одновременно становясь как ватные, и каждый следующий шаг давался все с большим и большим трудом. Но он упрямо пересиливал себя и вскоре оказался перед главными воротами. Светила неполная луна, в ее свете отсверкивало стекло, которым была забрана «наглядная агитация» на установленном ими стенде. Сквозь расплывчатые отсветы на стекле проглядывала в одном месте голова злобного кулака-мироеда, гротесково изуродованная колеблющимися наслаивающимися отсветами. От этого возникало на лице кулака несколько иное выражение — выражение звероподобной и отчаянной тоски, выражение жадного, но в своем праве, мальчишки, у которого отняли заработанный на побегушках пятак. o:p/
Воробей стоял, глядя на это лицо, в котором тонкая прорисовка лунного света убрала излишнюю схематичность и проявила нечто доподлинное, когда из дома донесся громкий крик — не крик даже, а вой, долгий протяжный вой, сперва однотонный и надрывный, потом перешедший в членораздельные слова. Воробей увидел, как метнулась тень часового во дворе, как штык блеснул в последний раз, когда часовой взбежал по крыльцу и исчез за дверью, а голос заходился, срывающийся, наколенный до хрипоты: o:p/
— Слезь, слезь, уберите его с меня!.. Уберите его!… Всех… всех… всех… всех под расход!.. Без пощады, гадов!.. Раздавить!.. Всех!.. Всех!.. К стенке!.. Всех их к стенке!.. Все врут, все против!.. Через одного!.. Чтоб знали!.. Чтоб знали!.. o:p/
У Воробья, застывшего на месте, сердце оборвалось от ужаса, когда он ощутил, как на плечо ему легла чья-то рука. Он боялся оглянуться — и было даже желание стряхнуть эту руку и рвануть наугад, куда ни попадя, или вцепиться в эту руку зубами, укусить до крови, чтоб хоть не дешево продать свою жизнь… И он почувствовал тяжесть и болезненное жжение в мочевом пузыре и понял, что вот-вот может напустить в штаны, когда знакомый голос спокойно сказал: o:p/
— Пошли отсюда. Без шума и поживей. o:p/
— Скворец!.. Ты тут… Я… я… Я шел за тобой, предупредить тебя… o:p/
— Молодец, — то ли насмешливо, то ли одобрительно сказал Скворец. — Но нам тут делать нечего. Пошли, у деда отсидимся, подумаем, что делать. o:p/
— Тут Воробей заметил рядом со Скворцом еще одну фигуру — худого деревенского старика, который наверняка смотрелся бы человеком высокого роста, не будь он так сгорблен. Ни слова не сказав, Воробей последовал за Скворцом и их вторым попутчиком. o:p/
— Это его бесы мучат, — сказал дед. o:p/
— Заткнись, дед, — коротко бросил Скворец, без всякого уважения к старшим. o:p/
Как ни странно, но дед, похоже, признал правоту Скворца — глянул на него внимательно, кивнул и больше ничего не говорил, пока они не отошли на достаточное расстояние. o:p/
— Тут недалеко уже, — проговорил старик, когда они оказались за деревней. o:p/
— Сами знаем, — отозвался Скворец. o:p/
И опять период молчания, пока они спускались в небольшую ложбинку и поднимались из нее. После ложбинки прошли сквозь мысок перелеска и оказались у крестьянского двора, расположенного на отшибе. Дед провел их мимо ветхих сараев — то ли коровников, то ли курятников, в любом случае безмолвных и лишь смутными очертаниями видневшихся — в избу, кивком головы указал на лавку возле стола, зажег лучину, когда его гости сели, и лишь потом опять заговорил. o:p/
— С тех пор, как порченный пришел, жизнь кончилась, — произнес он и тем же тоном добавил: — Табачку у тебя не будет? o:p/
Скворец вытащил папиросу, протянул старику, потом достал еще одну и закурил. o:p/
— Ишь ты, набивные гильзы, заводского производства, — восхитился старик. — У нас тут и махоркой не всегда разживешься. o:p/
— Раньше вроде у вас побогаче было, — сказал Скворец. o:p/
— То было раньше, — коротко ответил дед, бережно раскуривая папиросу. o:p/
— У тебя-то много зерна изъяли? — спросил Скворец. o:p/
— У меня чего, у меня и взять нечего, — хмыкнул дед. — Ни зерна, ни скотины толковой, чтоб в колхоз забрать. Наше дело особое. o:p/
— Все то же, что и прежде? — Скворец спросил это, как показалось, с определенной иронией. o:p/
— Известно. В наши годы ремесла не меняют. o:p/
— Власти нет у вас, иначе бы погорел ты на своем ремесле. o:p/
— У нас здесь всякая власть бывала, — возразил дед. — Не скажу, что похлеще нынешней, но тоже лихая. Один закон — наган тебе под нос и делай что велят. Тут, знаешь, дело такое… При любой власти устроиться можно, если ей не перечить. o:p/
— Счастливый ты человек, дед, — сказал Скворец. — Только вряд ли кто из деревенских с тобой согласился бы. Они не перечат, а их все равно под ноготь берут. o:p/
— Так то ж порченный, — сказал дед. — Это уже и не власть, а так… бесовщина. Ему что перечь, что не перечь — все равно не отстанет, пока твоей кровушки не напьется. Он за этим сюда и приехал, чтоб народ извести. o:p/
— И много он уже кровушки выпил? o:p/
— Достаточно. Он, знаешь, если кого в расход не пустит, так сам не свой становится. Говорю тебе, бесы его мучат, вопят в нем, что проголодались. А стоит ему «разоблачить» кого-нибудь, как он говорит, так ему сразу легчает, дня два-три спокойным ходит, пока его опять подзуживать не начнет. o:p/
— И эти дни он спокойный был? o:p/
— Вроде да. Завтра беды бояться надо. o:p/
— Завтра беды не будет, — почему-то с большой уверенностью сказал Скворец. o:p/
— Это еще бабушка надвое сказала. А я тебе вот что скажу — недаром он в этом доме поселился. Как говорят, что рыбак рыбака видит издалека, так бесы издали бесовское место чуют и как мухи на мед на него слетаются. o:p/
— Что ж такого неладного с этим домом? — спросил Скворец. o:p/
— Он ведь с шестнадцатого года пустым стоял, — принялся рассказывать дед. — Нехорошая в нем история произошла. Страшный грех. Дом, как ты видел, ладный, лучший в деревне. В нем до революции самый богатый мужик жил. Свой обоз имел. За всю деревню с купцами торговал. И жена у него была, молодая, красивая. И вот однажды этого мужика мертвым в доме нашли, удушенным. Обвинили в убийстве жену и его приказчика — молодого парня, который у него запись всех дел и амбарные книги вел. Они клялись и божились, что невиновны, но все было против них, и осудили их обоих на каторгу. Только парень до отправки на каторгу не дожил — руки на себя наложил. Кто говорит, что совесть заела, кто — что любил он свою полюбовницу до безумия и жить не смог, когда их разлучили… А есть и такие, кто все-таки его невиновным считают. С тоски, говорят, повесился, что его преступником заклеймили. Тут дело такое… Правду, как сам понимаешь, один Господь Бог ведает. Но после этого стал вроде призрак по дому гулять. Что за призрак — тут тоже по-разному толкуют. Кто говорит — мужика убитого, кто говорит — что повесившегося. Только в доме этом никто жить уже не мог. Проклятое место. Всех из себя выживает. Кто только через нашу деревню за войну ни прошел — и красные, и белые, и зеленые. И много раз в этом пустом доме свой штаб устанавливали. Только никто там не задерживался, всех призрак изводил. Один атаман у нас тут гулял, на что суров был мужик, а и он в этом доме усидеть не смог. Никто не знает точно, что там произошло, только он даже священника приглашал, дом заново освятить, всю нечисть из него изгнать. Только ничего у священника не получилось. Он на входе в дом спотыкнулся и всю святую воду расплескал. Хотел перекреститься — и не смог, рука словно онемела. Атаман как увидел это, так плюнул и в другой дом переехал. А теперь эти… o:p/
— Откуда он взялся, не знаешь? o:p/
— Странные вещи о нем говорят. Один из красноармейцев рассказывал, что вроде он — художник. o:p/
— Да ну? o:p/
— Вот-вот. Говорит, впервые видел его в восемнадцатом году, на главной площади города. Они там иконы жгли, у церквей отобранные, а порченный наш орал «Долой старое искусство!». Не знаю, правда ли, но так рассказывают. o:p/
— А сам он что рисует? o:p/
— Кто ж его знает. Сам я не видел, да и никто не видел, у кого я ни спрашивал. Богохульное что-то, наверное. Известно только, что он из художников в комиссары пошел. Вот и добрался до нас, за грехи наши. o:p/
— Он не жилец, — хмуро заметил Скворец. o:p/
— Конечно, не жилец, — согласился дед. — Удушит его этот дом, если он в нем останется. Уже душить начал — сам небось видел. o:p/
— Да не о доме я говорю, — отмахнулся Скворец. o:p/
Сережка Высик, притихший, слушал этот разговор, жадно ловя каждое слово. Кое-чего он не понимал, но того, что он понимал, было вполне достаточно. Малец он был приметливый и сообразительный и во многом мог разобраться сам, не задавая лишних вопросов. o:p/
— Думаешь, мужики его порешат? — спросил дед. — Нет, такого не будет. Не скажу, что народ у нас смирный, но властью наш народ крепко пуганный. Никто на рожон не полезет. o:p/
— У власти свои разборки бывают, — сказал Скворец. o:p/
— А, ты вон куда гнешь?.. — Дед призадумался. o:p/
Скворец только кивнул. Тут его взгляд упал на Сережку. o:p/
— Треплемся мы с тобой, а у парня глаза слипаются. — Скворец взглянул на окно, за которым начинало слегка сереть. — Скоро нам в путь трогаться. Ты бы побаловал мальца со своего промысла, дед. o:p/
Дед охотно извлек откуда-то горшочек с черной икрой, из печи добыл другой горшок, отлил из него в миску варева, в котором плавали куски осетрины, и все это поставил перед мальчиком. o:p/
— Жаркая икра уже пошла, — заметил он при этом. o:p/
Воробей сам не ожидал, что в нем вдруг проснется зверский аппетит и он так накинется на еду. Казалось бы, все треволнения и переживания должны были притупить в нем желания и чувства. Но нет — видно, здоровый молодой организм брал свое. Поев от пуза, мальчик взглянул на старшего друга. o:p/
— Мы что, куда-то далеко отправляемся? Разве не в лагерь? — спросил он. o:p/
— Ты ж сам в лагерь возвращаться не хотел, — сказал Скворец. o:p/
— Не хотел и не хочу. Но ты-то, наоборот, считал, что сбежать — это глупость. o:p/
— А разве мы сбегаем? o:p/
— Но как же… o:p/
— Вот так. — Скворец встал и потянулся. — Мы не в кусты прячемся, мы попытаемся большую беду предотвратить. o:p/
— Что-то еще случилось? — Воробей почувствовал, как внутри у него все похолодело. Было что-то очень мрачное и пугающее в том, как Скворец произнес последнюю фразу. o:p/
— Случилось, — буркнул Скворец. o:p/
— У нас в лагере? o:p/
— Да. o:p/
— Значит, ты там был? o:p/
— Был. — Скворец нахмурился. — Когда ты уснул, я ушел потихоньку, с Тамаркой повидаться… Цыганок — из твоих однокашников? — спросил он вдруг. o:p/
— Да, — Воробью показалось, будто он начал что-то понимать, — с ним что-нибудь случилось? Его сегодня ночью вроде бить хотели, — добавил Воробей, припомнив сценку во время обеда. — Мишка толстый со своими дружками. o:p/
— Вот как? — Скворец, похоже, сильно заинтересовался. — За что? o:p/
— Не знаю, — Воробей пересказал ему то, что видел и слышал. o:p/
Скворец несколько секунд размышлял. o:p/
— Понятно… — протянул он наконец. — А что, Цыган действительно такой тихий? o:p/
— Вроде да. — Воробей пожал плечами. — Ты видел, как его били? o:p/
—Я другое видел, — коротко и с неохотой ответил Скворец. Он еще подумал. — Знать бы, из-за чего этот Мишка на него взъелся… Хотя и это уже не важно. Ты не знаешь случаем, на повара твой Мишка зла не держал? Не задумывал ему какую-нибудь свинью втихую подложить? o:p/
— Не знаю. Мишка кому угодно может свинью подложить. Но чтобы он зуб на повара имел, я не замечал. А что? o:p/
— Ничего. Словно все вдруг в бешенство впали. Дни, что ли, такие… — Скворец встал и потянулся. — Путь нам не близкий предстоит. Выдержишь? o:p/
— Выдержу, — заверил Воробей. o:p/
— Хорошо. А с тобой, дед, мы договорились, — повернулся Скворец к старику. — Тамарку с Цыганом не оставляй. И ни полсловечка никому… o:p/
— Да уж можешь на меня положиться, — сказал старик. — Чтоб я да своего напарника подвел… o:p/
Скворец взглянул на Воробья и улыбнулся. o:p/
— Я иногда деду браконьерствовать помогал, есть такой грех, — объяснил он. — А это все равно что побратимами стать. Верно, дед? o:p/
— Верно, — подтвердил дед. — Мы теперь всегда друг за другом стоять должны. o:p/
— Но почему Тамарка с Цыганом прячутся? — спросил Воробей. o:p/
— По пути объясню, чтоб не скучно шагать было. Времени, боюсь, у нас мало. Хорошо хоть тебя, несмышленыша, вытащить успел. o:p/
— Отчаянное ты что-то задумал, — пробормотал дед. o:p/
— А ты помолись за нас, — усмехнулся Скворец. — Хуже не будет. o:p/
Воробей уже понял, что приключилось нечто совсем нехорошее, и боялся даже спрашивать, что именно. o:p/
— Ступайте с Богом, — вздохнул дед. o:p/
Скворец вынул еще пару папирос, положил на стол. o:p/
— Последним делюсь. o:p/
И не давая деду времени рассыпаться в благодарностях, взял Воробья за плечо и повел из избы. o:p/
…Когда они вышли на крыльцо, то в сером полусумраке наступающего утра увидели на небе красноватый отблеск — за лощинкой, за перелеском, в стороне деревни. o:p/
— Значит, вовремя мы с тобой успели, — сказал Скворец. o:p/
— Что это? — спросил Воробей. o:p/
— Большой дом горит, — сказал Скворец. — Со всем зерном конфискованным — и, может быть, со всеми, кто был в этом доме. Я поэтому так и спешил тебя оттуда вытащить. Прикидывал, как тебя незаметно разбудить и увести. — Он зашагал со двора, Воробей, отупевший, подавленный и растерянный, заспешил рядом с ним. — Ты почему на улице оказался? o:p/
Воробей рассказал ему. Когда он кончил рассказывать, Скворец резко остановился и остро поглядел на мальчика. o:p/
— Ты знаешь, что такое падучая? — спросил он. o:p/
— Слышал. o:p/
— Так вот оно самое ты и видел… Это хорошо, что тебя дурной сон разбудил. А еще лучше, что мы не разминулись. Видно, ты у Боженьки в любимчиках ходишь. o:p/
— Значит, ты знал, что дом подожгут? o:p/
— Подозревал. o:p/
— А кто поджег? Мужики, у которых зерно отобрали? o:p/
— Нет. Хотя все на мужиков подумают. Несладко им теперь придется. Если, конечно, мы с тобой ничего сделать не успеем. o:p/
Воробей с восхищением поглядел на друга — с какой спокойной уверенностью он говорит о том, что лишь нехватка времени может помешать ему — им! он и Воробья сюда зачислил — остановить нарастающую лавину темного и страшного. o:p/
— Я отправился повидать Тамарку, — с оттенком равнодушной рассеянности заговорил Скворец, он шел ровным шагом и, не глядя на Воробья, словно для самого себя пересказывал то, что с ним было, для собственного лучшего понимания. — Подождал ее около девчоночьего барака… o:p/
Барак, где жили воспитанницы женского детского дома, находился чуть на отшибе; девочки и кормились отдельно, хотя с той же самой кухни. o:p/
— Она не выходила. Мне удалось, постучав в окошко, тихо разбудить одну из ее подруг. И узнал я, что с Тамаркой какая-то разборка была, старшая воспитательница увела ее к себе. — Скворец имел, конечно, в виду ту постройку, в которой жили педагоги, крепкое строение, некогда бывшее, похоже, приказной избой, — и орала на нее, а потом заперла у них на чердаке. Я сразу подумал, что тут нечто вроде женской ревности взыграло, потому что Татьяна Николаевна — женщина на излете, а Тамарка только в молодость входит, и я замечал, как она порой злится на Тамарку, словно Тамарка ей нарочно в нос своим видом тычет, что ее время ушло. Ну, предлог придраться всегда найдется. Только мне знать надо было, что это за предлог. Стал думать, где бы разузнать. От нашего года почти никого не осталось, всех одного за другим по заводам и по ремесленным училищам распределили, трудовую жизнь начинать. Меня и еще троих попридержали до осени, чтобы мы здесь за старших были, помогали педагогам вами, мальцами, управлять. Ну, двое — ребята сволочные, а третий, Митян, ничего. Я его разбудил незаметно от тех двоих. И точно — эти двое на пару во всем и виноваты. Видно, счеты свести хотели. А может, по дурости. Треп у них с военспецем вышел, знаешь ведь, как он умеет с ребятами разговорчики вести. То да се, там, насчет женских прелестей. О Тамарке упомянули. Наш вояка заметил, что она уже девка в соку, хотя по соображению еще и девочка. А один из них возьми и ляпни, что не такая уж она и девочка — вон и наш повар на нее глаз положил, и она ему, кажись, не отказывает, да и не ему одному, похоже. Не знаю, почему он повара сюда приплел, а про меня даже словом не обмолвился. Видно, соображал, что повар — мужик бессловесный, несмотря на весь свой зверский вид, а со мной шутки плохи. И, на то смахивает, военспец сразу Татьяне это донес, на ус намотав… И пошло-поехало… А с поваром-то что, спрашиваю я. Его ведь тоже по этому доносу к ответу должны притянуть, разве нет? Нет, говорит Митян, вроде с поваром все спокойно. Хорошо, думаю, это, наверно, значит, что его завтра с утра взашей погонят. А может, и нет — нового работника сейчас не очень сыщешь, в нашей глуши. Так или иначе, но с поваром мне надо было обязательно немедленно потолковать. Не верил я, будто он не знает, почему эти два гаденыша на него зуб точат — и они ли точат вообще, или просто с чужих слов, в свою очередь, всякие гадости военспецу о нем повторили… Только не было повара на кухне, на его лежаке… Я сразу недоброе почувствовал, хоть повар, конечно, куда угодно на минутку отлучиться мог, до ветра, к примеру, выйти. Сперва я подумал, не навестить ли твой барак на случай, если повар мне все-таки не поверил… Но потом решил, что тебя все равно в бараке нет и что лучше я сначала до Тамарки доберусь. В тот момент я не знал, куда кидаться, — за одно возьмешься, другое упустишь, и никто не знает, что сейчас важней и неотложней, и у меня на душе кошки скребли. Вот так, с задней мыслью, что я могу опоздать, куда опаздывать не следует, я все-таки отправился на выручку Тамарки. Мне через крыльцо и пристройку удалось незамеченным на крышу взобраться, а там я через слуховое окно на чердак пролез. Тамарка перепугалась до смерти, когда я спрыгнул прямо перед ней. У нее, оказывается, уже был до меня один посетитель... o:p/
— Повар? — спросил Воробей. o:p/
— Он самый. Только он в слуховое окно не сумел протиснуться, маловато оно для него оказалось. Странно он себя повел, даже не удивился, когда Тамарка рассказала ему, что ее прорабатывают за то, что она якобы с ним шуры-муры имела. Почему-то сразу о Цыгане стал спрашивать, очень он его интересовал — не говорила ли Тамарка с Цыганом, и вообще… Ну тут Тамарка не поняла, чего он хотел и почему этот самый Цыган его так волнует. Ну и кое-что другое она мне рассказала. Я прикинул, что к чему, и сказал, что надо ей сматываться — все равно хуже не будет. Уговорил, хоть она и боялась. С моей помощью вылезла она на крышу, там я ее подстраховал, спуститься на землю помог. Увел ее в сторонку, за пристройки, велел там меня ждать и никуда не уходить. А сам отправился назад. Надо мне было с этим Цыганом разобраться. Я об него и спотыкнулся, на входе в ваш барак. Сидел там, за дверью, весь в комочек сжавшись. Мне хватило несколько слов из него вытянуть, чтобы понять, какие дела… — Тут Скворец чуть ли не впервые глянул на Сережку, взглядом задумчивым и проницательным. — Боюсь я, Цыгану уже ничем не поможешь. Он так забит, что в нем внутри что-то сломалось. Хребет перешиблен. Не знаю, кем он вырастет, но человека из него, похоже, уже не сделаешь. Но от таких людей можно чего угодно ждать. И жалкие они, и несчастные, и кто угодно ими помыкать может — шпынять их как бездомную дворняжку, понимаешь. Но и психануть они могут запросто и таких зверств натворить, что просто диву даешься. Как бездомная дворняжка, которую добрые люди и отогрели, и откормили, а она в ответ возьми и покусай кого-нибудь, хотя до этого всю жизнь с поджатым хвостом ходила. Ты понимаешь, о чем я? o:p/
— Приблизительно, — сказал Воробей. — Так что Цыган рассказал? — спросил он, увидев, что Скворец примолк. o:p/
— Странную историю. Я сам многого еще не знаю, потому что чуть не клещами из него вытягивал. В общем, он покорно пошел после отбоя в их помещение, хотя и знал, что его будут бить. И бить его действительно начали. Резко начали. Так резко, что всякое соображение потеряли, когда в раж вошли. Цыган хоть и привык такое сносить, но тут перепугался и даже отбрыкиваться попробовал. Но где ему отбрыкиваться — только еще больше их распалил. Последнее, что помнит, что двое его держали, а Ашот, схватив за волосы, о стенку бил. И еще кто-то ему шею сдавливал. Тут он отключился и ничего не помнит. Очнулся он от того, что ему свежий воздух в лицо ударил. Понял, что его кто-то на руках несет. Пошевелил головой, увидел — повар. Чуть не помер от страха… o:p/
— И он сбежал от повара? — спросил Воробей. o:p/
— Сбежал. o:p/
— А как? o:p/
— Не рассказывает. Вообще замок на рот навесил, только глаза таращил. Одно я понял — он боится возвращаться спать не потому, что опять бить будут, а потому что вроде там невесть какая жуткая беда приключилась, и он в этом, мол, виноват… Я понял, что вытрясать из него все до конца времени не хватит, поэтому просто взял его за руку и отвел к Тамарке, ее заботам поручил. Велел ей спрятаться пока что в одном месте, которое мы с ней знаем, а я разберусь что к чему и приду за ними. Если все нормально — они тихо вернутся. Если нет — я придумаю, куда их дальше девать. Но чтобы ни шагу не делали, пока я не объявлюсь... Ладно. Вернулся я в ваш барак, прямиком прошел в комнату, заглянул — ну, словно ищу кого. Все сидят тихие как мыши, никто не спит, но никто и не шевелится. В чем дело, спрашиваю. Но они мне и ответить не успели, как я сам разглядел. Один парень, Антон такой… o:p/
— Ну да, Антон Сапов, — кивнул Воробей. o:p/
— Так вот, у этого Антона башка раскроена, а у Мишки вашего живот распорот, чуть не кишки торчат. А остальные мальцы, они вообще перетрусили, не знают, что делать. И бежать звать на помощь боязно, и помочь раненым не умеют. Сидят и ждут неизвестно чего. Я и гаркнул на них, чтобы дурака не валяли, бежали будили всех, кого положено, потому что тут и первую помощь оказывать надо, и врача вызывать, и в больницу их везти, если больница еще поможет. Трое из них рванули педагогов и воспитателей будить, а я остался раненых осмотрел. Как ты понимаешь, большая буза поднялась. o:p/
— А что ребята рассказали? — спросил Воробей. o:p/
— Понятное дело, что рассказали. Мол, Цыган давно им грозился, что у него повар в дружках ходит, и он любого в порошок сотрет, стоит только Цыгану у него попросить. Мишка и Антон поймали Цыгана на воровстве и сказали ему, что утром кому надо пожалуются. Цыган сказал: «Ах, жаловаться?» — и ушел гулять, а после отбоя ускользнул из барака и вернулся вместе с поваром, и повар по указке Цыгана отделал ребят, а потом повар и Цыган смылись… o:p/
— Но ведь это же вранье! — сказал Воробей, недоумевая, неужели мог кто-нибудь поверить такому наглому, беспомощному и белыми нитками шитому вранью, которое на каждом слове ловится. o:p/
— Правильно, вранье, — согласился Скворец. — Но это такое вранье, в которое все будут крепко верить и держаться за него, потому что правда никому не нужна. Ее и услышать не захотят, очень уж много придется расхлебывать, если правду признать. Ты понимаешь, о чем я? o:p/
— Если рассказать правду, то им надо будет признаться, что они каждый день позволяли Цыгана бить и словно синяков его по утрам не видели, верно? — спросил Воробей. o:p/
— Верно. И не только это… В общем, удобней и легче для всех, чтобы Цыгана с поваром числили бандитами в бегах и чтобы их взгрели как следует, когда поймают, не слушая их. Никто в виноватых ходить не хочет. o:p/
— Повара сразу ловить кинулись? o:p/
— Да, заметались, заголосили, что надо облаву проводить. Но куда посреди ночи облаву затевать? К тому же сообразили, что одним им не справиться, и решили просить помощи у коллективизаторов. o:p/
— У тех, кому мы все чинили? o:p/
— У них самых. Какая-никакая, а военная сила. С самого утра решили к ним обратиться. o:p/
— А откуда ты узнал, что их подожгут? o:p/
— От деда. Он мне одну вещь рассказал, сам не понимая, что она значит… Я ж, как суматоха малость улеглась, и за врачом послали и посты выставили, сразу к нему отправился. Мне его помощь была нужна. От него и узнал, между делом… Сразу подумал, что ты в этом доме, и отправились мы тебя оттуда извлекать. Я думал тихо зайти и увести тебя, но ты снаружи оказался. o:p/
— А разве нельзя было предупредить их, чтобы их не подожгли? o:p/
— А зачем? — удивился Скворец. И, помолчав, добавил: — Это бы еще больше все запутало. И невинных людей я бы тем самым подставил. Мне ведь главное — Тамарку из этой передряги вытащить. Теперь, после пожара, им, хочешь не хочешь, правду принять придется. Другого выхода не будет. Только бы не опоздать нам. o:p/
Они спустились к Волге. Там, в укромном месте, их ждала небольшая и верткая парусная лодка. o:p/
— Залезай, — сказал Скворец. — Ветерок попутный, и плыть нам вниз по течению. Авось часа за два доберемся. o:p/
Сережка Высик, Воробей, забрался в лодку. Скворец осторожными гребками весел вывел лодку из тихой заводи и уже на открытой воде поставил парус. Тот сразу трепетнул и вздулся под ветром. Лодка пошла ровно и хорошо. o:p/
— Ничего, умеешь ногами топать, — сказал Скворец. — Порядочный кусок мы с тобой отмахали. Теперь, если хочешь, можешь прилечь и подремать. Делать пока нечего. o:p/
Воробей покорно прилег на широкую кормовую скамью. Сквозь полуприкрытые веки он следил за Скворцом. По тому, с какой аккуратностью Скворец вытащил папиросу и как тщательно ее раскуривал, Воробей понял, что с табачком у его друга уже не ах. Скворец курил, явно стараясь растянуть удовольствие, а Воробей наполовину размышлял, наполовину дремал. Он только сейчас начал более-менее живо представлять, какие же жуткие вещи произошли. Подлинный ужас сперва не зацепил его — то ли очень усталым он был, то ли Скворец, рассказывая ему обо всем — обо всем ли? — взял ту единственно верную интонацию, которая снимала и отстраняла ужас перед произошедшим. Он не давал времени испугаться, предлагая голую схему событий, заставляя поспешать за выводами. А если бы он, Сережка Высик, проводил эту ночь с остальными? Как бы он все это воспринял? Мальчику почему-то казалось — может, таково было благотворное воздействие на психику той манеры, в которой Скворец ему все рассказал, — что он бы даже не очень испугался. Скорей, он воспринял бы все происходящее вокруг как-то пусто и тупо, словно не у него перед глазами разворачивающееся. И было бы противно, наверно, но он не стал бы сидеть в оцепенении испуга, как остальные. Он пытался живее представить себе эту кровь и эти жуткие раны, но как-то не получалось. Интересно, а с ним бы повар что-нибудь сделал, когда ворвался в их комнату? В том, что Антона и Мишку изувечил повар, Воробей не сомневался. И зачем ему нужен был Цыган? Связано это как-нибудь с тем, что Цыгана хотели избить — и чуть не убили — или нет? Цыган тоже видел что-нибудь страшное, связанное с поваром, и повар хотел помешать рассказать об этом другим? Задобрить или запугать? Наверно, задобрить, если он так зверски расправился с мучителями Цыгана. o:p/
— А меня повар тронул бы или нет, если б я там был? — спросил вслух Воробей. o:p/
— Вряд ли, — ответил Скворец. — Я ведь ему насчет тебя втолковал. o:p/
— Когда ты говорил с ним, во время обеда? o:p/
— Да. o:p/
— Ты сказал ему — я никому не расскажу, — что видел, как он повесил котенка? o:p/
Скворец оглянулся на лежащего мальчика: o:p/
— А ты разве видел, как он его повесил? o:p/
— Нет. o:p/
— Вот то-то и оно. И потом… Даже расскажи ты кому угодно, что повар повесил котенка, никого бы это на самом деле не тронуло. Его котенок, что хочет, то и делает. И с работы его бы не погнали, и отношение к нему не изменилось бы. Его и так не любят. Ну, стали бы любить еще меньше, подумаешь, делов. Нет, твой длинный язык ему ничем не грозил. o:p/
— Так что же было? o:p/
— Было… — Скворец нахмурился. — Я сказал ему, что, голову даю на отсечение, это не ты повесил его котенка. И он мне поверил. o:p/
Воробей дернулся, словно его током ударило, и резко присел. o:p/
— Погоди-ка… o:p/
— А чего годить? — буркнул Скворец. — Он этих котят больше жизни любил. Отправился искать их, потому что они пропали. Находит повешенного котенка — и тебя рядом с ним. Тебе повезло, что ты успел ноги сделать — он бы точно тебя на месте пришиб, никаких твоих объяснений не слушая. — Скворец помолчал. — Не знаю, зачем ему Цыган понадобился, но одно знаю точно — повар искал и ищет, кто с его котятами расправился. Не позавидую я этому человеку. То ли он Цыгана в чем заподозрил, то ли выяснил каким-то образом, что Цыган нечто видел и знает. И хотел из него все вытрясти. Да, повар еще может делов натворить. Я не знаю, что у него за жизнь была, но одно сразу видно — озверила его эта жизнь до предела, и ему человека порешить — раз плюнуть. Он людей и ненавидит, и сторонится, и вообще внутри у него мрак и все умерло. Оттого он с такой отчаянности к котятам и привязался — это для него как выплеск было. Все, что в нем человеческого оставалось, он им отдал — ровно как родным детям. Ну, и Тамарке чуть-чуть перепало. Не знаю, почему, но, думаю, она, скорее всего, права — или у него дочь была, на нее похожая, или любимая женщина, только, так или иначе, он в ней свое загубленное прошлое видит. Какого-то умершего человека, о котором забыть не может. И, я так соображаю, этот человек страшной смертью погиб. o:p/
Воробей пообмозговывал услышанное. o:p/
— Значит, не одного котенка убили, а всех? o:p/
— Да, — сказал Скворец. — По нескольким местам поразвесили. Он их собрал и схоронил. Видел я эту могилку. И сегодня ночью еще раз на нее заворачивал, прежде чем за дедом пойти. Думал, что, может, повар там сидит. Не застал я его там, но что он прямо передо мной там побывал — это факт. Следы свежие там оставил… Эх, покруче бы мне за это дело надо было взяться. Кто-то повара очень ненавидел и отомстить ему хотел — и нюхом своим самое больное место учуял, понимаешь? Я у него спросил тогда, не было ли у него ссор с кем-нибудь или неприятностей, но он отмолчался. Сказал, ни с кем не ссорился, никого не обижал. Может, и соврал, но ведь правды из него было не вытрясти. o:p/
— Выходит, повар не успокоится, пока убийцу котят не найдет? o:p/
— Выходит, да. o:p/
— А если он снова ошибется? — спросил Воробей. — Вот насчет меня чуть не ошибся. Так ведь и с другими может быть, разве нет? Возьмет и вообразит, что именно этот с его котятами расправился, и убьет его. Потом поймет, что нет, не он, и на другого подумает. Так он невесть сколько людей угробить может. Сам ведь говоришь, ему человека убить — раз плюнуть. А если он на этих котятах совсем с ума спятил, то… — Воробей не договорил, потому что и так все было понятно. o:p/
Скворец одобрительно посмотрел на него. o:p/
— А ты смышленый! Мне это почему-то в голову не пришло. Я так представлял, что он будет охотиться за своим обидчиком, выискивать его, пока не найдет. И что все, кроме настоящего обидчика, сейчас более-менее в безопасности. Но ведь он, с его простым соображением, может и действовать совсем по-простому: бей всех, на кого подозрение есть, среди них и настоящий виноватый попадется, а если кроме виноватого еще и ни к селу ни к городу кого-нибудь приберешь — это пустяки. И кто знает, какие подозрения в его башке зародиться могут. Башка-то ненормальная. Он так и половину трудлагеря перережет, глазом не моргнет. Эх, знать бы, зачем ему Цыган был нужен — и что он из него вытянул, когда у ребят отнял… o:p/
— Может, Цыгана потому и бить хотели, что он что-то видел, и это не понравилось… o:p/
— Тогда бы это значило, что котят ребята перевешали. o:p/
— Они могли, — с серьезной мрачностью, неожиданно по-взрослому, кивнул Воробей. o:p/
— Могли. Это все равно, знаешь, как местного сумасшедшего или буйного пьяницу мальчишки иногда дразнят. Камнями в него швыряют, и все такое. И знают ведь, что человек не в себе, что может и пришибить ненароком, если поймает, — а все равно изгаляются над ним, до озверения доводят, а потом драпают от него врассыпную. Тут я прямо не знаю, что срабатывает. Злость со страхом перемешаны. Да еще и сознание, что это — такой взрослый, который у других взрослых защиты не найдет, что над ним ни сотвори… Понимаешь, я сам в сомнении, кто такую штуку учинить мог. Вся эта земляника, поеденная и вытоптанная… Очень похоже на ту бессмысленную злобу, которая обычно у гадливых мальчишек бывает. Пакость, задуманная просто так, чтобы себя над поваром утвердить. Прямо вижу, как они, хихикая, уносят котят за пазухой, и бегут со всех ног, и радуются — может, еще больше радуются от подленькой мысли, что этот жуткий мужик будет как маленький младенец реветь, обнаружив, что у него его котят отняли. Но есть и другое… Кое-что очень по-взрослому сделано. Я ж говорил, что котенка уже не было, когда мы туда подошли… Ну, когда я на полянку пришел, а вы с Тамаркой ждать меня остались… Котенка не было, но петля, из которой его повар вынул, на месте была. И не по-мальчишески эта петля была завязана, навык чувствовался… Мне бы еще кое до чего дознаться, я бы скумекал, кто это сделал. Есть у меня несколько прикидок. И конечно, если уж я сразу нескольких людей под подозрением держу, то повар тем более будет… Ладно! — махнул рукой Скворец, не желая больше ни о чем говорить. — Раз все кругом врут, то и мы соврем, поубедительнее всех прочих. o:p/
— То есть как? — ошарашено спросил Воробей. o:p/
— Узнаешь, как. Отдохни пока, если эти разговоры тебя настолько не растравили, что уже и отдых не в отдых. Зря мы с тобой об этом разболтались. Мне и самому муторно, хотя я поболее твоего повидал, а тебе-то, наверное… — Скворец сплюнул в воду. — Выкинь все из головы. o:p/
Сережка понял, что Скворец больше ему ничего рассказывать не будет — хотя знал он наверняка еще многое. Поэтому Воробей закрыл глаза и, незаметно для себя самого, задремал. o:p/
Спал он, по всей видимости, совсем недолго. И сон его, несмотря на то, что он чувствовал себя странно спокойным, был, похоже, дерганный и взбудораженный. Слишком яркие картинки он видел во сне, чтобы сон этот был глубок и умиротворяющ. o:p/
Сперва, как это часто бывало, он увидел иссиня-радужный промельк в темноте, понемногу этот промельк обрел формы и очертания, словно наводка на фокус состоялась — и оказался чучелом птицы. Это чучело парило в темном воздухе какого-то сводчатого погреба, без всякой видимой опоры. Потом — опять, как обычно, но на сей раз с большей яркостью, с почти болезненной яркостью — он увидел письменный стол, настольную лампу с зеленым абажуром и, в круге света от этой лампы, коробку с папиросами — на коробке было изображение какой-то то ли турчанки, то ли персиянки, в шароварах и прочих цветастых одеяниях, которая весьма призывно держала длинный мундштук с заправленной в него сигаретой и выпускала струйку голубоватого дыма. В круге света появилась рука, протянутая за папиросой… Словом, все те же повторяющиеся образы. Сережка Высик сильно подозревал, что в этом сне запечатлены каким-то образом картины его самого раннего детства, того, что было еще до детского дома — чего по малолетству он запомнить не смог, но что отложилось каким-то образом в его подспудной памяти, чтобы вот так проявляться во снах. o:p/
Потом и картинка на папиросной бумаге изменилась. Такая зелено-черная она стала, с длинным названием золотыми буквами, с узорчиками по краям. Папиросы в ней были большие, толстые, крупные — вальяжные папиросы. И руки, державшие эти папиросы, стали множиться, словно одна рука веером разложилась на несколько, и разными, непохожими были эти руки, и освещение падало на них по-разному, а папиросы были одинаковыми, неприятно одинаковыми… И это уже было что-то новенькое, раньше в Сережкинах снах не возникавшее, и, скорей всего, здесь причудливым образом сгустились и отразились все переживания прошедших суток. Словно мозг не мог избавиться от навязчивой подробности, приставшей к нему как репей, и ее раздражающее воздействие играло роль клапана, спасительной помпы, через которую из сознания — тонущего корабля — выкачивалось то, что психологически невозможно вынести, тот излишек черной воды в трюме, который иначе мог запросто на дно утянуть. o:p/
— Ты что, Воробей? — несколько озабоченно окликнул Скворец, и Сережка, открыв глаза, осознал, что, кажется, он застонал во сне — от того, что ему начало видеться что-то еще, и он бы, может, запомнил, что привиделось ему напоследок, если б оклик Скворца так резко не вернул его к реальности. Лишь общее ощущение осталось — нахрапистого и властного вторжения. o:p/
Воробей, несколько обалделый, присел: o:p/
— Послушай, Скворец, ты какие папиросы куришь? — спросил он, все еще не вполне прочухавшись от своего сна. o:p/
— Разные курю, — пожал плечами Скворец. — Какие попадутся. o:p/
— Те, которыми ты с дедом поделился… o:p/
— А, это Алексей угостил. o:p/
— Мне кажется, я их еще где-то видел… o:p/
— Очень может быть, что и видел. Марка известная. o:p/
— Нет, я имею в виду, совсем недавно. o:p/
— То есть? o:p/
Воробей зажмурился. В мозгу нехорошо звенело, дребезжащим звоном усталости и буксующей памяти, настырно возвращающей к одному и тому же, не давая взять барьер, за которым станут ясно видны до бешенства ускользающие сейчас воспоминания, — так заедает запиленную пластинку, и игла граммофона, срываясь, воспроизводит все одну и ту же визгливую ноту. И надо вручную переставить иглу чуть дальше запиленного места, надо выкинуть из головы этот мозги насилующий тренькающий звук, сосредоточиться, чтобы дальше все опять пошло нормально, чтобы мелодия заструилась… o:p/
— Я вспомнил, — сдавленным голосом сказал Воробей. o:p/
— Что ты вспомнил? — Скворец очень посерьезнел. o:p/
— Где я видел окурок такой папиросы. o:p/
Воробей замолк, собираясь с мыслями. Он теперь догадывался, почему эти папиросы с такой настырностью лезли в его сон. Тот окурок… Он втайне поразил его неуместностью на общем фоне увиденной им картины, но он был слишком напуган тогда, чтобы уделить этой неуместной подробности хоть сколько-то сознательного внимания, — но, может быть, эта крохотная и безобидная деталь и напугала его почему-то больше всего, стала живым зернышком, из которого пророс весь последующий ужас, и только своего времени ждала, чтобы вынырнуть. Так, или приблизительно так, описал бы это Воробей, умей он анализировать свои мысли и переживания. Но сейчас он был просто напуган — воспоминание об этой мелочи, об этом окурке было знаком чего-то страшного, придавало всему случившемуся иной — и более зловещий, чем разумом можно было представить, — смысл… И Воробью казалось, что сейчас, когда он произнесет вслух вдруг вспомнившееся, это зловещее окончательно воплотится — как по колдовскому заклинанию — и обретет такие реальность и власть, которые лучше бы не вызывать к жизни… o:p/
Непонятно, чего было пугаться в такой малости, как оброненный окурок — но от этой непонятности страх делался еще горше… o:p/
— Ну, и где ты его видел? — спросил наконец Скворец, понаблюдав, как лицо его примолкшего друга становится все бледнее. o:p/
— На той полянке… Сбоку от вытоптанных кустиков земляники… Он там лежал, и я подумал… Не помню, о чем я подумал… — Может, именно этот окурок и вызвал в Воробье такой ужас, когда он ощутил запах табака от пальцев перехватившего его Скворца — ассоциативная связь сработала, сомкнув одно с другим, на одном из уровней подсознания… o:p/
— Когда я пришел на поляну, окурка там не было, — твердо сказал Скворец. o:p/
— Но это значит… — Воробей чувствовал, что значит это что-то очень важное, но не мог додумать мысль до конца. o:p/
— Это значит, что окурок подобрал повар, — сказал Скворец. — И по этому окурку он о чем-то догадывался. Именно этот окурок навел его на мысль допросить Цыгана. Причем навел не сразу, а когда он что-то поворочал в своих медлительных мозгах… o:p/
— Но Цыган не курит, — возразил Сережка. o:p/
— Не важно. Этот окурок почему-то убедил повара в том, что Цыган знает очень и очень многое. Он знал, что я был на той полянке, — я ведь ему сам об этом сказал. Догадывался, что Тамарка была рядом со мной. Решил, видно, меня порасспрашивать о Цыгане — и, не найдя меня, полез к слуховому окну чердака беседовать с Тамаркой. Интересно… o:p/
Скворец вынул изо рта почти до корня докуренную папиросу и бережно расправил картонный мундштук. o:p/
— Ты можешь вспомнить, как тот окурок был надломлен? — спросил он. o:p/
Воробей взглянул на него непонимающе. o:p/
— Ну, каждый человек прикусывает папиросу по-своему, зубы у всех по-разному сидят, — объяснил Скворец. — И в пальцах мнет ее тоже по-своему, так, как лично ему будет удобней курить. Можешь вспомнить, как именно тот окурок был согнут и надкушен? o:p/
Воробей кивнул, теперь поняв, и закрыл глаза — чтобы вызвать перед мысленным взором живую картинку увиденного им там, на полянке. Небольшое усилие — и он увидел тот окурок во всех подробностях. o:p/
— Да, пожалуй, смогу, — сказал он. — Дай сюда окурок. o:p/
Скворец вручил ему окурок, и Воробей, иногда останавливаясь и закрывая глаза, чтобы поточнее вспомнить, стал аккуратно сгибать и приминать толстую и пустотелую трубочку мундштука гильзы. o:p/
— Вот, — сказал он наконец, в последний раз мысленно сравнив результаты своей работы с образом, стоявшим у него перед глазами, — и отдал окурок Скворцу. o:p/
Скворец бережно взял окурок двумя пальцами. Теперь наступила его очередь сосредоточиться. Он сидел, отключившись от мира, глядел на бумажную трубочку в своих руках, и просто почти въяве было ощутимо, как в его мозгу с легким щелканьем проходят один за другими фотографические кадры, на которых запечатлены разные люди с их разной манерой курить. o:p/
Так он сидел минут пять, не отрывая глаз от окурка. Потом глубоко вздохнул и сказал: o:p/
— Меткий у тебя глаз, черт. Теперь мне многое ясно. Хотя и не все. Не понимаю, как… Ладно! Если бы раньше знать… Дела у нас, Воробей, неважнецкие. Эх, если б я раздвоиться мог! Но мне надо добраться до… Тебя, что ли, послать? Боюсь, ты один не справишься. o:p/
— Почему не справлюсь? Справлюсь! — с бодрой уверенностью откликнулся Воробей. — Что сделать-то надо? o:p/
— Надо предупредить Тамарку и Цыгана. Добраться до них, увести их в другое место. Потом вернуться, деда подождать и сказать ему, что за ним следить могут — поэтому лучше ему назад не возвращаться. Если за ним действительно следят, и если вас вместе накроют — то скажешь, что драпанул из большого дома, никем не замеченный, когда пожар начался, прямиком в леса пустился и заблудился там. И вот теперь на деда случайно наткнулся, и он тебя взялся к людям вывести. Деду то же самое сказать успей, чтобы вы одно и то же повторяли. Ну что, пойдешь? o:p/
— Конечно, пойду, — горячо заверил Воробей. — Только куда идти? o:p/
— Ты старую церковь знаешь? o:p/
— Это за лесом? o:p/
— Да. Она пустая стоит, разваливается, никто туда не ходит. Священника, говорят, несколько лет назад расстреляли и все имущество вывезли. Они не в самой церкви… Дом священника спалили, но погреба от него остались. Они в этих погребах под пепелищем. Надо сказать им, чтобы в овраг уходили, к Девичьему броду. Там можно будет отсидеться, под обрывом пещерка есть небольшая. o:p/
— Все понял, — сказал Воробей. o:p/
— Мы уже довольно далеко отплыли, — недовольно проговорил Скворец. — Тебе надо долгий путь проделать, и как можно быстрее. Не знаю, успеешь ты или нет, или до тебя их накроют, — продолжил Скворец, поворачивая лодку к берегу. — Нам, понимаешь, важнее всего Цыгана схоронить… Надо, чтобы он мог рассказать то, что было на самом деле. Если его сцапают, его заставят сказать что угодно — то, что им надо будет, — и мы уже ничего не докажем. o:p/
Днище лодки заскребло по прибрежной отмели, потом лодка вообще остановилась. o:p/
— Снимай ботинки, чтоб не намочить. На берегу наденешь, — сказал Скворец. — Эх, не хочется мне тебя посылать, но с тем, что мне предстоит сделать, ты еще меньше справишься. Видишь, как солнце стоит? Держись почти по нему, чуть правее забирая. Выйдешь на лесную дорожку, там чуть подальше примета будет хорошая — родник, ухоженный, под двускатным навесиком, кружка на цепочке… Прямо по дорожке не иди — вдоль нее, за кустами и деревьями. Кто их знает, где они свою говенную облаву поведут. А я постараюсь как можно быстрее. o:p/
Воробей снял ботинки, прошлепал несколько метров по воде и выбрался на берег. Скворец упер весло в дно реки, оттолкнулся, снимая лодку с отмели, и, пока Воробей надевал ботинки, лодка уже опять развернулась и понеслась дальше. o:p/
Следуя указаниям Скворца, Воробей пустился через лес, начинавшийся почти от берега. Сперва он попробовал бежать что есть сил, но потом понял, что долго так не выдержит, — хотя зеленый лесной воздух и освежал, и бодрил, и легкие промывал своим благоуханием — и перешел на легкую рысцу. На дорожку он вышел минут через двадцать. Солнце еще было довольно низко. Не больше восьми утра, прикинул Сережка. Он опять перешел на бег, ему хотелось поскорее добраться до родника и убедиться, что он идет правильно. Родника не было довольно долго, и Воробей уже начал бояться, что направился не по тому пути. В нем начала возникать легкая растерянность — еще не паника, но предвестие паники. Он не знал, что делать — продолжать движение по этой дорожке или попробовать поискать другую, уйдя ненадолго круто вправо, а потом, если справа ничего не найдет, круто влево. Он уже совсем уверил себя, что идет не туда, когда родник наконец появился. Воробей выглянул из придорожных кустов, убедился, что рядом с родником никого нет, и напился сладкой и ледяной воды. Не позволив себе большей передышки, он опять припустил вдоль дорожки, легким надрывным бегом, стараясь как можно правильнее распределить свои силы. Он понятия не имел, сколько ему еще двигаться. o:p/
Так он шел, не сбавляя темпа, и ему казалось, что прошла целая вечность. Вода, так жадно им выпитая и так его сперва подстегнувшая, теперь вяло и муторно побулькивала в животе. Пот застилал глаза — едкий и не избавлявший от жаркой тяжести пот. При всем том Сережка не терял бдительности и чутко реагировал на каждый звук, долетавший до его слуха. Иногда он нырял в кусты и, затаившись там, выжидал несколько секунд, пока не убеждался, что тревога ложная. Несколько раз ему показалось, что впереди мелькают какие-то люди, — но в итоге все оказывалось лишь игрой света и тени в пышной листве. Дорожка шла под уклон, по обеим сторонам ее начался густой орешник, и Воробей сообразил, что он уже где-то поблизости, — если только этот орешник, совсем другой, просто не был похож на знакомый ему, приблизительно в часе ходьбы от трудлагеря. Нет, скорее всего, это тот самый. o:p/
Он и здесь не решился выйти на дорожку и стал продираться сквозь орешник, стараясь производить как можно меньше шума. Опять до него донесся какой-то неестественный для леса звук — на ауканье похожий — и он опять поспешил затаиться среди высоких папоротников. Да, на этот раз он явственно расслышал человеческие голоса. Похоже, люди полукругом двигались по лесу, беря в кольцо определенный участок. Из-за эха сложно было понять, захватят они то место, где затаился Воробей, или нет. Потом послышались шаги по дорожке, и Воробей сквозь папоротники увидел тех двух ребят, с которыми Скворец позавчера — только позавчера? как же давно это было! — разобрался по-своему. Они остановились почти перед тем местом, где прятался мальчик, и один из них заорал: o:p/
— Ау! Слышите нас? Ау! o:p/
— Брось, — сказал второй. — Без толку. Хрен мы кого поймаем, в таком-то лесище. o:p/
— Поймать не поймаем, но хоть от своих бы не оторваться, — возразил первый. — Хорошо, если нам Тамарка или Цыган попадутся. А если это медведь? Тогда скажи спасибо, если на помощь позвать успеешь — и если они успеют добежать… o:p/
— Интересно, куда Скворец делся? — заметил второй. o:p/
— Теперь и на Скворца управа найдется, — хмыкнул первый. o:p/
Из лесу раздалось ответное ауканье. o:p/
— Пошли, — сказал второй. — А то и в самом деле отстанем. o:p/
Они двинулись дальше, а Воробей еще некоторое время лежал, распластавшись под папоротниками. Значит, облава началась и идет вовсю. Неужели младших ребят тоже погнали, ради большего шума? И участвуют ли эти военные, погорельцы? Наверно, да. Воробей отполз чуть в сторону от дорожки — но так, чтобы не терять ее из виду — и, приподнявшись, пошел на полусогнутых ногах, весь скрючившись в три погибели. Красться так было неудобно, и все мускулы скоро болезненно заныли, но распрямиться он боялся, и осторожно продвигался метр за метром, и лихорадочно соображал: старая заброшенная церковь располагалась на небольшом открытом холме, только с одного боку к ней подступали деревья, и надо ведь как-то подойти к ней незамеченным, а если цепь облавы идет густо, то его вполне могут углядеть… Значит, надо подойти со стороны тех деревьев. Занятый этими мыслями, он на какую-то секунду отвлекся — и чуть не обмер от ужаса, когда что-то, пахнущее поношенной кожей, ткнулось ему в нос. Уже в следующий миг он сообразил, что это — носок сапога, и весь сжался, уверенный, что владелец сапога, небрежно поддев его по носу, или схватит его сейчас за шкирку, или вторым ударом приложит со всей полновесностью. «Я испугался, когда начался пожар, и незаметно сбежал, и до сих пор от испуга блуждаю по лесу, прячась от всех…» — быстро подумал Воробей. И тут только понял, что нигде перед собой не видит ног толкнувшего его человека — словно тот либо быстро спрятался, либо над землей парит. Скорей, над землей парит — носок сапога пребывал в непосредственной близости от носа Воробья, а вот рядом с ним и второй… Мальчик поднял взгляд. o:p/
Военрук висел с почти анекдотично благодушным видом, словно марионетка, оставленная после спектакля болтаться на крючке. Его голова поникла набок, по щеке тянулась ссадина. Сук, хотя и крепкий, пригнулся под тяжестью его коренастого тела. o:p/
Воробей почему-то не ощутил ничего, кроме легкого звона в голове и подташнивания, будто с «чертова колеса» слетел или на солнце перегрелся — видно, первый испуг, когда его нос встретился с носком сапога, был слишком велик, и дальше пугаться было уже некуда. Скорей, он смотрел на повешенного с тупым недоумением, словно это покачивающееся тело было частью какой-то игры. Он тихо попятился и нырнул в кусты, и отполз сквозь них на какое-то расстояние, и свет неожиданно сделался ярче, и оказалось, что он лежит на самой границе леса и смотрит на холм с церковью, слегка раздвинув густую траву. И лишь здесь Воробья пробрало мелкой дрожью — ознобом запоздалого осознания того, что он увидел. Он прижался лицом к сырой и влажной земле — и чтобы остудить распаренные лоб и щеки, и чтобы не вскрикнуть, ведь кто знает, нет ли поблизости других людей... Полежав так, он почувствовал себя даже не плохо — будто матушка-земля перекачивала в него свою силу. Он опять посмотрел вдаль, на церковь, на черные обугленные развалины рядом с ней, посреди которых торчала массивная кирпичная труба большой печи, тоже вся почернелая и уже малость объеденная снегом, дождями и ветром. Мысок леса, через который можно более-менее незаметно подобраться к развалинам, находился в другой стороне. Значит, надо либо по краю леса пробираться туда, либо попытаться пробраться напрямую — мчась во весь дух, прячась после коротких перебежек за кочки и редкие кустики и рискуя тем, что тебя все-таки заметят, кому не надо… Воробей решил, что лучше медленней, но надежней. Прислушиваясь к каждому звуку, ловя взглядом любое шевеление травы и сразу затихая, он направился по краю леса в обход. o:p/
Позади него, чуть в отдалении, грохнул ружейный выстрел, и он приник к земле. Слабый ветерок донес до него неразборчивые голоса — голоса взволнованные и, похоже, напуганные. Это, наверно, нашли тело военрука. o:p/
Воробей двинулся дальше, надеясь, что обнаружение тела отвлечет всех на какое-то время от активного прочесывания леса. Он то полз, то пробегал, согнувшись, то выжидал, если где-то поблизости раздавался посторонний звук. Так он добрался до мыска — не очень удобного для передвижения, деревья там росли достаточно разреженно, и подлеска густого под ними не было. Но была неглубокая канавка, дождями и талой водой сотворенная, и трава достаточно высокая, и толстые стволы… Все же лучше, чем ничего. o:p/
— Он где-то совсем близко! — прозвучало буквально в нескольких шагах от Воробья. — Не мог он далеко уйти! o:p/
Воробей узнал голос Алексея. Значит, воинский отряд участвует в облаве. o:p/
— Если только он не ушел сквозь нашу цепочку, когда этого олуха повесил, — сказал другой голос. o:p/
— Надо в оба смотреть, чтобы ни с кем из нас такого же не произошло. И чуть что — стреляйте без предупреждения. Он, видно, совсем с ума рехнулся, псих ненормальный. o:p/
— Интересно, куда он детей спрятал? И живы ли они еще? o:p/
— Тоже мне, дети!.. Прихвостень его сопливый, шпана малолетняя, который небось и взрослому уголовнику нос утрет, и девка-скороспелка, с которой он… Все они одна шайка! o:p/
— И те двое тоже? o:p/
— Малец, наверно, перепугался и удрал посреди суматохи, когда пожар начался. — Это опять голос Алексея. — Небось до сих пор по округе шляется. Может, заблудился, может, возвращаться боязно после такого… А старший… Не верю я, что это он дом спалил. Скорей всего, с ним на реке что-то случилось, когда они с дедом в ночную рыбалку ушли. А дед в этом сознаться боится. Нет, этот Скворец нормальный парень. Он потому и улизнул, что у него с дедом была договоренность попромышлять незаконно… o:p/
— Глупо деду отпираться. И сети у него нашли, и рыбу, и икру, и те папиросы, которыми ты Скворца угощал… Понятно ведь, что виделись они. Может, сам дед его и того?.. o:p/
— Вряд ли. Скорей всего, утоп парень, а дед от всего отнекивается, потому как ответственность на него ведь ложится. Вот что дед поджигателей знает — это очень может быть. Ничего, пусть пока посидит под замком, а мы, когда вернемся, всю правду из него вытрясем. Старшой на это мастер… o:p/
— Надо бы оцепление перестроить… o:p/
— Надо. Церковь заброшенную проверяли? o:p/
— Проверяли. Вроде никого в ней нет. o:p/
— Тогда надо бы в той стороне пошарить. И кучнее держитесь, чтобы он еще кого… o:p/
Голоса удалились. Воробей перевел дух. Деда арестовали и чуть ли не подозревают, что он Скворца убил? Это значит, что дед не придет. Но это еще и значит, что «хвоста» он за собой не приведет, и нечего ломать голову, как незаметно увести Тамарку и Цыгана в пещеру под оврагом — можно и в погребах отсидеться. Тем более, там участники облавы все уже осмотрели, ничего не нашли и вряд ли вернутся повторно… А вдруг это значит, что Тамарки и Цыгана там уже нет? Что они драпанули с испугу куда глаза глядят? Или — еще хуже — что их повар нашел и куда-то с собой уволок? И потом… а вдруг дед не выдержит допроса и выложит все, что знает? Нет, Тамарку и Цыгана уводить надо, если они еще там. Но об этом можно потом подумать; успеется прикинуть, как это осуществить. Сейчас главное — вообще до них добраться. o:p/
И Воробей стал осторожно продвигаться по дну канавки. o:p/
Двигался он ровно и быстро и скоро шмыгнул уже в тень задней стороны церкви. Обогнуть церковь и оказаться среди развалин дома было делом двух минут. Укрытый от посторонних взглядов обгорелыми развалинами, Воробей стал искать вход в погреба. Сперва он ничего найти не мог. Потом ему подумалось, что если бы этот вход был достаточно заметен, то участники облавы наверняка бы его обнаружили — и выволокли бы уже на свет божий Тамарку и Цыгана. Значит, вход должен быть не виден, может даже как-то замаскирован, чтобы незнающий о нем никак его не углядел. Сообразив это, Воробей стал искать какую-нибудь примету, указывающую на закрытый подземный спуск. Сперва ему ничего в глаза не бросалось, но потом он заметил, в одном из углов периметра, образуемого развалинами дома — где, наверно, кухня прежде была — что проросшая трава там чуть желтее, и не просто желтее, а четыре желтоватые линии травы тянутся, образуя правильный квадрат. Он попробовал подцепить с одного боку этого квадрата — безуспешно. Взялся с другой стороны — и замаскированный люк поднялся на удивление легко, а под ним обнаружилась приставная лесенка. Сережка спустился вниз на несколько ступенек, руками придерживая над головой люк, потом опустил его — и оказался в полной тьме. Крепко держась руками за лесенку, он ногами стал нащупывать ступеньку за ступенькой и очень осторожно спускаться, пока не уперся обеими подошвами в ровную и твердую землю. Тогда он вздохнул с облегчением и стал оглядываться вокруг. Но тьма стояла кромешная — сколько ни вглядывайся, а все равно глазам к ней не привыкнуть. Отходить же от лесенки Воробей боялся — вдруг в погребе имеются какие-нибудь углубления, или груда осыпавшихся кирпичей, или ржавые железяки торчат — сослепу запросто ногу сломаешь, а то и еще что похуже. o:p/
— Эй, есть здесь кто-нибудь? — позвал он. o:p/
Ни звука в ответ. Но Воробей не был уверен, что его услышали. Он невольно приглушил голос, и тот прозвучал совсем потерянно — казалось, он только ушам самого Воробья и был слышен. o:p/
— Есть здесь кто-нибудь? — погромче повторил он. o:p/
Опять ни звука. Но может быть, они боятся отвечать. o:p/
— Бросьте! — проговорил Воробей в полный голос. — Это Сережка Высик, Воробей. Меня Скворец прислал. o:p/
Легкое копошение — словно кто-то недоверчиво встрепенулся, потом сомневающийся голос Тамарки: o:p/
— Воробей?.. o:p/
— Да, я это, я. Где вы там? Ни хрена не видно. o:p/
— Подожди, я сейчас свечку зажгу. o:p/
Шипение спички, тусклый ее свет, потом от этой крупинки света занимается другая, побольше, язычок огня вытягивается, разрастается, желтовато-белесый ствол свечи на верхнюю треть становится почти полупрозрачным, и Воробей видит смутные очертания погреба, состоящего из двух камер, между которыми имеется низкий сводчатый проход. Он понимает, что не зря боялся продвигаться на ощупь, — чего тут только нет, и бочонки какие-то, и инструменты, и снасть рыболовецкая, а в этих больших сетях и запутаться можно так, что в темноте не распутаешься, а можно даже и задохнуться. o:p/
— Это что еще такое? — ошарашенно говорит Воробей. o:p/
— Это все дедово. Главный его склад, браконьерский, — говорит Тамарка. — Только дед и Скворец знают. o:p/
— Отсюда до реки далековато… — произносит Воробей, а потом соображает, что на самом деле не так уж и далеко. Скворец высадил его намного ниже по течению, и он все это время шел почти вдоль берега, чуть вглубь от него забирая — а если по прямой к реке двигаться, то, наверно, и четверти часа хватит, — тем более, припоминает Воробей, где-то на этом уровне реки и должна быть та тихая заводь, глубоко вдающаяся в берег, где они со Скворцом сели в укромно припрятанную лодку. o:p/
Но самое главное — можно не беспокоиться, что дед выдаст их убежище, при любом допросе. Раз это не случайное место, а часть его собственного потайного хозяйства, он будет молчать… Скорей признает, что Скворец во время их ночного промысла утонул, а он, дед, побоялся в этом сразу признаться… Да, отсиживаться тут можно. Вот только сколько им предстоит просидеть? Воробей не сомневался, что Скворец их всех выручит, — он вернется, сделав что-то такое, после чего никому из них больше нечего будет бояться… o:p/
Поскорее он появился бы… o:p/
— Скворец послал меня, чтобы увести вас в другое место, — сказал Воробей. — Он почему-то решил, что за дедом будут следить и накроют вас всех вместе, когда дед вас навестить придет. Но деда арестовали, поэтому прийти он никак не сможет. Значит, и нам не имеет смысла куда-то перебираться. Это сейчас опасно, наверху облава идет. Будем здесь отсиживаться, — Воробей сам поразился той спокойной и солидной уверенности, которая в нем возникла — тому, как почти по-взрослому прозвучали его слова. Он почувствовал себя человеком, на котором лежит ответственность за судьбу Тамарки и Цыгана, — и готов был нести эту ответственность до конца. o:p/
— А где сам Скворец? — спросила Тамарка. o:p/
— Он на лодке куда-то поплыл. Сказал, все нормально будет. Главное, чтоб до его возвращения нас не поймали. o:p/
— Это на нас облава идет? o:p/
— На повара, в основном. Вас… вас его сообщниками считают. o:p/
— Это все военрука дела… — мрачно проговорила Тамарка. — Ты знаешь, что со мной произошло? o:p/
— Скворец рассказал, — кивнул Воробей. — Тебя заперли, после того, как военрук донес, что у тебя с поваром… o:p/
— Он не просто донес, — сказала Тамарка. — Он сначала приставал ко мне, — увидев непонимающий взгляд Воробья, она спросила. — Что, об этом Скворец тебе не рассказывал? o:p/
— Нет. o:p/
— Я ему все рассказала. Зазвал меня под вечер в сарайчик для инвентаря и сказал, что ему, мол, известно, что я с поваром живу… и что ему одному… даю… и что с ним можно комедию не ломать, если я с ним побуду, то он никому ничего не скажет… Стал уже меня руками хватать, я стала отбиваться… Сказала, я сама расскажу, как он ко мне приставал, а он ответил, что никто мне не поверит, все решат, это я со злости на него наговариваю, за то, что он меня разоблачил… Что меня под замок посадят, а потом врач проверять будет, если я… Но я все-таки вырвалась и убежала… Он меня еще малолетней шлюхой назвал… И так все и получилось, как он говорил… Когда я Татьяне Николаевне возразила, что ни с каким поваром я… ничего такого, и попыталась рассказать, как военрук ко мне лез и угрожал доносом, если я не… — Тамарка не утерпела и употребила грубое слово, выплюнув его со всем отвращением и горечью. — Тут Татьяна от бешенства чуть ногами под потолок не взбрыкнула. Мне Скворец сказал потом, это оттого что у нее с военруком свои шашни были, и она, видно, знала его как облупленного и, конечно, поверила мне, но эту веру сразу от себя спрятала, и всю злобу на военрука на меня обратила, как будто это я виновата, что такая молодая и бесстыжая, что ее мужика отбиваю… Он умный, Скворец… o:p/
— Нет, как раз об этом он мне не рассказывал, — покачал головой Воробей. А перед его глазами встала увиденная им раз картинка: освещенное незанавешенное окно в низком первом этаже учительского дома, и в этом светлом квадрате окна видны военрук и Татьяна, початая бутылка между ними, и оба уже малость раскрасневшиеся — и сидели они тихо, неподвижно, когда Воробей проходил мимо окна, но в самой их неподвижности — в развороте их тел, в мутноватом блеске их глаз, направленных друг на друга, в по-хозяйски наглой расслабленности друг перед другом — Воробей ощутил что-то неприятное… И даже ненормальное, если искать слова — чувствовалось, что эти двое находятся внутри одного магнитного поля, возникшего между ними, и это магнитное поле протекает через обоих тусклым зудом некоего желания, для этих двух неподходящего и почти неестественного, животного притяжения, от которого вдруг видишь сквозь все одежды их обнаженные тела и понимаешь, до чего же эти тела тупы и уродливы, — и настолько же тупо, уродливо и тошнотворно все то, что можно совершить с помощью такого тела… Теперь Воробей понял, откуда возникло тогда в нем это, в словах для него невыразимое, неприязненное и гадливое чувство. o:p/
— Наверно, Скворец решил, что об этом тебе знать не стоит, — сказала Тамарка. — Может, и мне болтать не следовало, но… — Тамарка махнула рукой. — Теперь, значит, меня как полюбовницу повара ищут. Наверно, в колонию для несовершеннолетних отправят, если у Скворца ничего не получится. o:p/
— Повар военрука убил, — сказал Высик. o:p/
— Что?! — вырвалось у Тамарки, и — эхом — у Цыганка. o:p/
— Совсем недавно, — объяснил мальчик. — Военрук в облаве участвовал. Повар подловил его и удавил. o:p/
— Это он за котят, — сказал Цыганок, и Воробей поразился незнакомости его голоса: действительно, Цыганок так много молчал, что Воробей уже и позабыть успел, как же тот разговаривает. Он сам удивился, когда, прикинув, понял, что последний раз слышал голос Цыганка чуть ли не месяц назад. o:p/
— А от тебя-то что повару надо было? — спросил Воробей. — Что это за история с папиросами? o:p/
— Это… это, понимаешь, тайная революционная организация, — пробормотал Цыганок. o:p/
— Какая еще тайная организация? Вы хотели новую революцию делать? o:p/
— Нет, нашу революцию охранять… o:p/
— И кто ж был в этой организации? o:p/
— Да почти все наши ребята были… o:p/
— Почему ж я ничего не знал? o:p/
— Тебя недостойным признали, — объяснил Цыганок. o:p/
— А тебя, значит, признали достойным? o:p/
— Меня… да… o:p/
— И кто же все это затеял? Кто достойных и недостойных отбирал? o:p/
— Военрук. Ну, и голосованием… o:p/
— Выкладывай. — Воробей сурово — насколько это возможно для воробья — нахмурился. За всем этим шутовством с тайной организацией явственно проглядывало что-то нешуточное. o:p/
— Военрук собрал нескольких ребят, которых считал самыми надежными — которые нравились ему больше всего, Мишка Толстый и другие… И сказал им, что надо создать тайную ребяческую организацию, чтобы овладевать военным делом и готовить себя к отпору врагам революции… Ну, и этих врагов тайно выслеживать и разоблачать, за что нам наша Советская власть спасибо скажет… Главное — быть на боевом посту… Но чтобы никто не знал, ни-ни, потому что враги так повсюду вокруг и кишат, и если они что заподозрят, то еще хитрее маскироваться начнут… Спросил у них, кого еще можно взять в юные бойцы. Они стали все обсуждать, нескольких ребят назвали, тебя помянули, но решили, что ты ненадежный и от тебя, наоборот, все скрывать надо… У них свои клятвы были, сборы… o:p/
— Понимаю, — кивнул Воробей. До этого он недоумевал, почему его так часто оставляют в покое, позволяют гулять в одиночестве, вместо того, чтоб или заставить с другими строем маршировать, или на какие-нибудь работы направить, — не вязалась эта предоставляемая свобода с организацией жизни их детского дома. Теперь понятно — его не трогали, чтобы он гулял в сторонке и не мешал другим заниматься важным революционным делом. Почему Мишка Толстый считал его ненадежным и недостойным доверия — это Воробей тоже отлично понимал. И в глубине души радовался… — Так тебя-то как в эту фигню занесло? o:p/
— Они с меня клятву взяли, что я буду молчать. Сказали, для меня есть очень важное дело. Что я должен все вытерпеть, если хочу быть полезным революции… o:p/
— И что ты должен был вытерпеть? o:p/
— Они на мне тренировались, как добывать признания у пойманных врагов народа. o:p/
— Ну?! — Воробей весь напрягся, ему стало нехорошо. Он почувствовал, что, попадись ему кто из этих революционных бойцов — Мишка Толстый, Ашот, Антон или кто другой — он бы так его заставил кровью умыться, что век бы Сережку Высика помнил. o:p/
— Ну, они били меня и пытали. Руки выкручивали, спички между пальцев ног зажигали… Заставляли говорить, что буржуй и шпион… А я должен был не говорить этого как можно дольше — чтобы быть по-настоящему заклятым врагом народа… o:p/
— И ты, кретин безмозглый, все это терпел и не жаловался? — взорвался Воробей. o:p/
— Нет, я же клятву дал… И вообще… Они меня хвалили, когда все кончалось… Говорили, я молодец и сам не знаю, какую важную работу выполняю… И что теперь меня можно советским шпионом к буржуям посылать — я так закален, что ничего не выдам, если меня поймают… o:p/
— И военрук был при этом, когда они тебя?.. — сдавленным голосом спросила Тамарка. o:p/
— Иногда был, иногда нет… Когда меня по-настоящему больно пытали, его не было, это они сами затевали… При нем они больше понарошку меня, как бы учились… o:p/
И когда военрук уходил, ребята оказывались уже настолько распалены его практическими занятиями, что начинали действовать не понарошку, подумалось и Воробью и Тамарке. o:p/
— Понимаю, почему тебя Скворец так бережет, — сказал Воробей. — Если ты все это расскажешь посторонним, то… Всех взгреют, и ни тебя, ни Тамарку не посмеют тронуть. Но ты ведь сопля, если наши до тебя раньше Скворца доберутся, ты повторишь все то, что они велят тебе говорить… Здесь Скворец тоже прав. А теперь объясни мне, почему из-за окурка папиросы повар на тебя вышел? o:p/
— Так это все из-за того же… Когда говорили, что меня можно будет советским шпионом посылать… Военрук сказал, что мне нужно проверку устроить… Чтобы я вообразил, будто деревня — это вражеская заграница, и проник туда, и добыл важные буржуйские документы или секреты… «Вы, цыгане, народ изворотливый, — сказал он. — У вас воровство в крови сидит. А ты должен обратить изворотливость своего народа не на преступные цели, а на пользу мирового пролетариата». Ну, я и пошел. o:p/
— И?.. o:p/
— У самого края деревни большой дом стоял. Народу вокруг много ходило, и все казенный такой народ. Я подумал, что совсем на вражеский штаб похоже. Пробрался туда потихоньку, заглянул в окно. На столе возле окна коробка папирос лежала. Я сделал вид, будто это папка с документами или военные секреты, схватил ее и дал оттуда деру. Никто не заметил. o:p/
— Заметил бы — вздули бы тебя по первое число, — сказал Воробей. o:p/
— Мне не впервой, — просто ответил Цыганок. o:p/
Крыть было нечем. o:p/
— А потом, — продолжил Цыганок, — я на повара наткнулся. И он у меня папиросы увидел. Я перепугался до смерти, а он только глянул на меня и сказал: «Все приворовываешь, цыганье семя?». Я пробормотал, что я не для себя, а он только рукой махнул и отвернулся, дальше по своим делам пошел. Я папиросы принес, военрук меня похвалил, папиросы себе забрал… o:p/
— И котят, выходит, он перевешал? — спросил Воробей. o:p/
— Мы учились казнить врагов народа, — ответил Цыганок. o:p/
Тут и Воробей употребил выражение, естественное для воспитанника энкавэдэшнего детского дома, но в печатном виде не воспроизводимое. Тамарка сидела с округленными глазами. o:p/
— И, значит, про котят вспомнили? — спросил Воробей. o:p/
— Да. o:p/
— Кто котят унес? o:p/
— Мишка Толстый и Антон. Дождались, когда повар вышел ненадолго… o:p/
— Угу, — кивнул Воробей. — А за что тебя ночью чуть не убили? Тоже тренировались? o:p/
— Мне плохо стало, когда котят вешали, — сказал Цыганок. — А военрук то ли пошутил, то ли всерьез сказал, что я проявляю недопустимую мягкость к врагам народа и за это наказывать надо… В общем, ребята это всерьез поняли… o:p/
— Интересно, посмели бы они расправляться с тобой, если бы я тоже был в спальне, — сказал Воробей. — Я ведь ваших секретов не должен был знать… o:p/
— Не знаю, — пожал плечами Цыган. — Меня и вправду чуть не убили… Очнулся у повара на руках, он тряс меня сильно и все повторял вопрос: «Для кого ты папиросы нес?». Я, еще не совсем в себя придя, ответил: «Для военрука». Тогда повар просто бросил меня на землю, разжав руки и пошел куда-то… Я кровь на нем заметил, и на себе тоже… А я ведь ничего не помнил, я догнал его и спросил: «А кровь на нас откуда?». Он усмехнулся, криво так, и ответил: «А ты еще спрашиваешь? Если бы я не пришел и не уволок тебя — смертоубийство было бы. Не помнишь, откуда кровь? Пойди, на толстого парня вашего погляди — может, вспомнишь?». Я остался стоять на месте, а он ушел. Я решил, по его словам — ну, понял их так, — что я, когда меня уже до потери сознания удушили, психанул и в беспамятстве что-то с Мишкой сделал… Подошел к бараку, но заходить в него боялся… Там, у входа, меня Скворец и подобрал… o:p/
— Может, ты психанул, а может, повар их швырнул со всей дури, когда их от тебя отрывал, — сказал Воробей. — Мишка, наверно, напоролся на что-то, а Антон в твердое головой влетел. Скорей, все-таки повар их уделал. o:p/
— Какая гадость, — тихо проговорила Тамарка. o:p/
— Скворец знал о вашей революционной организации? — спросил Воробей. o:p/
— Не знаю. По тому, какие он мне вопросы задавал, мне показалось, что он о многом догадывался, — ответил Цыганок. o:p/
— Не выберемся мы из этого… — сказала Тамарка. o:p/
— Скворец нас вытащит, — твердо заявил Воробей. o:p/
— Да, но сколько нам еще здесь сидеть? o:p/
— Кто знает… — Воробей попытался прикинуть. — Не знаю, что задумал Скворец. Когда мы отплывали, он сказал, что мы часа через два на месте будем. Что за место, какие у него там дела, сколько времени он там проведет — не знаю. И часа два-три на обратную дорогу. o:p/
— До вечера, наверно, не появится… o:p/
— Но и времени уже много прошло, — возразил Воробей. — С полчаса мы проплыли, когда он меня высадил. Я, наверно, часа два до вас добирался, со всем петлянием. И просидели мы тут, с тех пор, как я к вам спустился… Если все нормально, Скворец давно уже на месте и, может быть, в обратный путь собирается. Или едет уже. …Выходит, зря он меня высадил, — добавил Воробей. — И деда предупреждать не понадобилось, и вас в другое место уводить. Досидели бы вы тут спокойно до его возвращения… o:p/
— Нет, не зря, — сказала Тамарка. — Мы же знали, что дед скоро должен прийти, и уже пугаться начали, что его нету. Стали думать, что делать. Если б ты не пришел, мы бы наверняка наружу вылезли. o:p/
— Ага, и попались бы как миленькие, — согласился Воробей. — Значит, все правильно. o:p/
Они примолкли. Прошло какое-то время. Они сидели, изредка перебрасываясь незначительными фразами. Потом Воробей, продолжая чувствовать себя ответственным за все, встал и пошарил в дедовском хозяйстве. В одном из бочонков обнаружилась свежезасоленная рыба, а в большой фляге армейского образца оказался довольно крепкий яблочный сидр домашней выделки — наверно, эту флягу дед брал с собой, уходя на промысел. Они поели рыбы, запивая сидром, который им, непривычным, сразу в голову ударил, и, в общем-то, стало тепло и хорошо. Цыган даже задремал, и Воробей с Тамаркой тоже почувствовали, что у них глаза слипаются. Может, они и в самом деле заснули, потому что слишком неожиданным оказалось для них легкое изменение в освещение погреба, — с опозданием в долю секунды они поняли, что этот свет падает сквозь приподнятый люк. Свечка уже почти догорела, и первым движением Воробья было задуть ее, в то время как Тамарка зажала рот Цыганку, чтобы он вдруг не закричал, — впрочем, в этом не было, пожалуй, особой надобности, Цыганок привык молчать. Весь проем люка заполнила какая-то крупная темная форма — что не Скворец, это факт. В сероватом зыбком свете, едва освещавшем погреб, глаза Воробья, привыкшего к темноте, все видели отлично, но пришедший никак не смог бы ничего разглядеть. Да он и не смотрел в их сторону. o:p/
Решение пришло к Воробью мгновенно. o:p/
— Чиркни спичкой, когда я крикну, — тихо шепнул от Тамарке, а сам, подхватив один из валявшихся на полу кирпичей, неслышно шмыгнул в угол, перед которым лежали и свисали с потолка рыболовецкие сети. o:p/
Человек начал спускаться. Воробей уже не сомневался, что это — повар. Как он нашел спуск в погреб? Звериным нюхом учуял? Незамеченным он добрался сюда, или его выследили и следом за ним вот-вот ввалятся в погреб его преследователи? o:p/
Люк над поваром опустился, стало слышно, как он в полной тьме осторожно спускается вниз. o:p/
Вот он уже стоит на земле, доносится его тяжелое дыхание. Он произнес то же самое, что и Воробей: o:p/
— Есть здесь кто-нибудь? o:p/
Никто ему не ответил. Он сделал два мелких шаркающих шажка и опять неуверенно проговорил: o:p/
— Эй?.. o:p/
Набравшись духу, Воробей ответил: o:p/
— Я здесь, в углу… Кто там? Идите на мой голос, здесь пусто, ничего нет… o:p/
— Кто это? — спросил повар. o:p/
— Я из детдомовских, Сережка Высик, прячусь тут после пожара в деревне… o:p/
Повар издал неопределенный звук, вроде хмыканья или хрипа, как будто хотел спросить, зачем Воробью прятаться и какое он имеет отношение к пожару, но спрашивать ничего не стал и осторожно двинулся на голос. Потом Воробей услышал ругательство и звук падения тяжелого тела — это повар рухнул, запутавшись в сетях. o:p/
— Чиркай! — отчаянно заорал Воробей. o:p/
Свет спички, которой чиркнула Тамарка, держался всего секунду, но для Воробья этого было достаточно, чтобы разглядеть, где находится голова упавшего повара, и изо всех сил приложить эту голову кирпичом. Он выждал немного, убедился, что повар затих, и севшим голосом сказал: o:p/
— Тамарка, зажги свечку. o:p/
После легкой возни свеча загорелась. Воробей убедился, что по повару он попал хорошо. Из рассеченной кожи на его голове шла кровь, склеивая волосы, сам он явно был без сознания. Воробей с помощью Тамарки и Цыганка поспешил как можно крепче связать повара всем тем, что имелось в наличии, — веревками, ремнями, перемотанными и свернутыми в жгут сетями — с ужасом думая о том, что будет, если повар очнется раньше, чем они закончат работу. Он перебьет их как щенят. o:p/
Только когда повар был крепко и многократно связан — так, что ни рукой, ни ногой он уже пошевелить бы не смог и пут своих не разорвал бы, как ни будь силен, — Воробей облегченно вздохнул и вытер пот со лба. Только теперь до него дошло, что же он сделал и в какую смертельно опасную игру он играл. Ему уже и самому не верилось, что он, с помощью хитрости и удачи, одолел такого огромного и мощного мужика. Не попадись повар в сети так основательно, не получись удар кирпичом — и… Что «и» — лучше было даже и не думать. o:p/
— Ты его не совсем пришиб? — спросила Тамарка. o:p/
— Да нет, дышит — и сердце стучит, — ответил Воробей, проверив. o:p/
— Что мы с ним делать будем? — спросил Цыган. o:p/
— Будем Скворца ждать, — сказал Воробей. — Он решит, что с ним делать. o:p/
— А если Скворец не придет? o:p/
— Обязательно придет. o:p/
Повар застонал и пошевелился. Ребята напряженно замерли. Повар опять застонал, пошевелился, дернулся — видно, начиная осознавать, что связан. Потом его глаза медленно открылись. o:p/
— Кто это меня так? — спросил он. o:p/
— Я, — ответил Воробей. o:p/
— Ты?.. — Повар с трудом повернул голову. — Как же ты… Зачем ты… o:p/
— Потому что ты псих, — сказала Тамарка. — Мы все из-за тебя влипли. А вдруг бы ты и нас решил прикончить, как военрука? o:p/
— Вас… нет… Зря не стал бы… — ответил повар. — И тебя бы не тронул… Ты на мою дочь похожа. o:p/
— С вашей дочерью что-то случилось, да? o:p/
— Я ее убил, — ответил повар. o:p/
Ребят пробрал озноб. o:p/
— Не подумайте, — прохрипел повар. — Я ее из милосердия, чтоб не мучилась. Беглый я, из ссыльных. — Он примолк на некоторое время, потом стал рассказывать. — В наших местах еще в прошлом году начали раскулачивать. А я был мужик зажиточный, крепкий. Вот и пострадал. За грехи свои, видно, потому что богатство мне неправедным путем досталось. Все у нас отобрали, а меня с моей семьей — в телячий вагон и в Сибирь. Жена и младший сын еще в пути отмучались. А высадили нас посреди зимы, только снег и пустота кругом — как хотите, так и устраивайтесь. Мы и землянки какие-то строили, и коренья из-под снега выкапывали, и снег на воду топили… У нас за первые две недели больше половины народу перемерло. Потом и дочка стала отходить. От голода, да и хворь ее взяла… Я сидел возле нее, беспомощный, она есть просит, а я на нее гляжу, в глазах мутится и мерещится всякое… Словом, не выдержал я, придушил ее, чтоб не мучилась. Потом взял на плечи, понес подальше от стойбища нашего, чтобы похоронить с толком. Я боялся, тело могут выкопать и… У нас многие уже всякий облик потеряли. Отошел я так, что лишь снежная равнина кругом. Не помню, сколько часов снег и мерзлую землю рыл, но дочку схоронил пристойно и молитву над ней сказал… А потом оглянулся вокруг — и думаю: чем на месте помирать, лучше попробовать куда-нибудь выбраться. В крайнем случае, упаду без сил и снегом занесет — все равно хуже не будет. И пошел. Долго шел, много дней, но до людей дошел. Видно, по-особому меня Бог сделал, если я все это выдержать мог. Не буду рассказывать, как я с людьми объяснился, кто я такой и откуда, как новые документы выправил. Подработал немного, подкормился, стал думать, куда дальше податься. И тут во сне мне тот мужик явился, и велел он мне идти в те места, где мое богатство начиналось… Сюда то есть… o:p/
— Что за мужик? — спросил Воробей. o:p/
— Давняя эта история, еще до революции. Я тогда извозом занимался. Несколько раз здешние места проезжал, с мужиком одним богатым дела имел, его товар перевозил. И как-то заночевал я при его доме. Рядом со мной приказчик ночевал, полюбовник жены евойной. Все об этом знали, кроме самого мужика. Страсть между ними, говорят, была такая, что совсем их ослепила. И вот, когда приказчик встал, тихо окликнул меня и вышел — а я-то сделал вид, будто сплю, — стал меня бес искушать. Или еще днем он меня искушать начал, когда мужик со мной рассчитывался и я увидел, где он деньги хранит. Мужик-то был осторожный, но я уже несколько раз с его товаром ездил… Я знал, что на ночь он дом на все засовы накрепко запирает, но, думаю, если жена его полюбовника впустит, то и дверь должна открыть и открытой оставить, на случай… Вот я и встал, пошарил в вещах приказчика, его кисет с табаком нашел... С этим кисетом прошел к двери, попробовал — открыта. Я мужика удавил, деньги его забрал, кисет возле кровати подкинул — как будто убийца уронил. На следующий день и приказчика и жену повязали, а я уехал спокойно, с казной мужиковской… Тошно мне потом было, и во снах убитый чуть не каждую ночь приходил, и долго я этот грех отмаливал — да не отмолил, видно… Потом и забываться стало, жизнь-то благополучная, тихая пошла. И войны, и грабежи, и поборы — все, едва меня задев, миновало. Семьей хорошей обзавелся, и вот… o:p/
— Значит, приказчик действительно не убивал? — проговорил Воробей. o:p/
— Слышал от местных эту историю, да? Не убивал он. Вот он, убивец тогдашний, перед вами… Да, и явился этот мужик убитый во сне, и велел в эти места идти… Там, говорит, ты последнюю муку примешь… И точно, принял, горше некуда. Я… Отозвалось во мне что-то, и я к этим котятам так привязался — как к детям родным. Видно, этой любовью меня Бог покарал. Вот, думал, единственная отрада моей жизни конченной. Так радовался им, так душа по ним болела… Поэтому, когда их — так… Сорвалось что-то во мне, совсем черно стало. o:p/
Повар помолчал, потом сказал: o:p/
— Вот ведь как Бог привел. Сам на судьбу свою нарвался. Я ведь раза два бывал проездом в этом доме, у священника расстрелянного, и, когда развалины увидел — сразу их узнал. Вспомнил, что в доме погреба большие были. Попадья из них разносолы доставала, потчевала… Я и подумал, что если погреба не завалило, то смогу в них отсидеться какое-то время. Где был спуск в подвал, я помнил. Пробрался сюда, стал его искать, увидел, что спуск травой аккуратненько замаскирован. Значит, кто-то им пользуется… Кто пользуется, думаю, тот не в ладах с законом, а мне-то что. И спустился сюда. А тут ты меня здорово ошарашил… — Он опять поглядел на Воробья. — Вы выдадите меня, ребята? Они думают, вы со мной заодно. Если вы меня выдадите, то перед ними во всем оправдаетесь. А моя жизнь кончена. o:p/
Наступила тишина, во время которой каждый думал о своем. Воробей отчаянно молился в глубине души, чтобы Скворец появился как можно быстрее и чтобы им не пришлось принимать самостоятельного решения насчет повара. Ему претила мысль о том, чтобы выдать кого-то ради спасения собственной шкуры. То есть повар заслужил, чтобы его передали властям, — но вот это «ради собственного спасения» придавало всему другой смысл, ставило все с ног на голову… o:p/
Скворец, к счастью, не заставил себя ждать. o:p/
Крышка люка опять поднялась, внутрь хлынул солнечный свет. Воробей быстро задул свечу. И все они оцепенели — кто спускается на этот раз? Но никто спускаться не стал — просто сверху донесся бодрый голос Скворца: o:p/
— Эй, вы там? Если там — вылазьте! o:p/
— Скворец! — заорали в один голос Воробей и Тамарка, и даже Цыганок издал какой-то звук. Потом Воробей опомнился и крикнул: o:p/
— Мы тут не одни! У нас повар, связанный! Что с ним делать? o:p/
В погреб спустились Скворец, Алексей и двое людей в военной форме. o:p/
— Ух ты! — восхитился Алексей. — Кто его так? o:p/
— Воробей, — кивнула на Сережку Тамарка. — То есть Воробей его кирпичом ошарашил, а вязали мы его все вместе, пока он без сознания был. o:p/
— Товарищ начальник, что с преступником делать? — крикнул наверх Алексей. o:p/
— Вынимайте его, тут разберемся! — ответил голос — не голос «старшого», порченного, а какой-то другой. o:p/
— Кончайте меня побыстрее, — проговорил повар. o:p/
— Не беспокойся, мы тебя быстренько, — усмехнулся Алексей, разрезая ножом веревки сетей и ремни на ногах повара. — Ну и намотали вы тут, ребята! Со страху, что ли, так его опутали, да? И не разрежешь. o:p/
Повар поджал ноги, резко поднялся со связанными руками и потоптался, разминая затекшие мускулы. Его подвели к лесенке, помогли подняться, поддерживая за узел на руках. Когда повар вылез до половины, сверху его подхватили и выволокли наружу — только ноги его мелькнули. Вслед за ним вылезли и все остальные. o:p/
Повара уже уводили. Тамарка кинулась, всхлипывая, на шею Скворцу. Воробей и Цыганок остановились в нескольких шагах. o:p/
— Ну-ну, все в порядке, — сказал Скворец, без всякой видимой неловкости перед посторонними похлопывая Тамарку по спине. — Я вижу, и Воробей до вас добрался… o:p/
— Ох, он такой молодец! — оглянулась на Сережку Тамарка. — Я прямо и не знаю, что с нами было бы, если бы не он… o:p/
Скворец одобрительно взглянул на Воробья, и Воробей почувствовал приступ небывалой гордости. o:p/
— А это, значит, Цыган? — спросил, подходя к мальчику, высокий человек в кожанке — явно главный здесь. o:p/
Воробей исподтишка рассматривал лицо этого человека — одно из тех аскетических лиц, по которым как-то сразу видно, что человеку не составляет никакого труда — и даже в радость — быть аскетом, что он испытывает большее наслаждение при отказе от всех удовольствий земных, чем при погружении в эти удовольствия. Таким людям всегда надо прилепиться к какой-нибудь высшей идее, чтобы оправдать свою всепобеждающую тягу к аскетизму, чтобы их аскетизм не работал вхолостую… o:p/
— Не бойся, Цыганок, — проговорил аскет, пристально осмотрев мальчика. — Ты еще расскажешь нам все, что знаешь. Мы тебя в обиду не дадим. o:p/
В стороне, за церковью, там, где начинался подступающий к холму мысок леса, Воробей увидел довольно-таки порядочное скопление народа — там были и их, детдомовские, воспитанники и воспитатели, и красноармейцы, и люди в кожанках, и вроде бы даже деревенские мужики. Вся эта толпа стояла тихо и неподвижно, только суетливо переходившие туда и сюда кожанки вносили некоторое оживление движения. o:p/
— Рад тебя видеть, — сказал Алексей Скворцу, когда Тамарка немного выплакалась и Скворец смог как-то общаться и с другими людьми. — Как мы получили сигнал от комиссара, так сразу и разобрались. Но как ты догадался? o:p/
— Это все пустяки. — сказал Скворец. — Деда освободили? o:p/
— Припечь бы твоего деда за незаконный промысел, — сказал Алексей. — Но, ради тебя… Только сделаем ему строгое внушение, чтобы впредь он не так баловал. o:p/
— Горбатого могила исправит, — усмехнулся Скворец. — Не надо его со всей строгостью, он вам еще пригодится… Довольно и того, что он свой главный тайник потерял. o:p/
— Ничего, новым обзаведется, — беспечно и весело откликнулся Алексей. Было ясно, что судьбе деда ничего не угрожает. o:p/
К комиссару подбежал человек в кожанке, что-то зашептал ему на ухо. o:p/
— Да, конечно, — кивнул комиссар. o:p/
Человек в кожанке убежал за церковь, в сторону небольшой низинки между холмом и лесом. Вскоре оттуда что-то глухо хлопнуло. o:p/
Скворец поглядел на Тамарку и Воробья. o:p/
— Пошли, — сказал он. o:p/
— А Цыганок? — спросила Тамарка. o:p/
— С Цыганком комиссар еще побеседует, ты же слышала. И он расскажет комиссару все как было. После этого его, наверно, в другой детский дом переведут. В дом для детей погибших работников органов…— Скворец как будто хотел еще что-то добавить, но осекся и замолчал. o:p/
Когда Скворец с Воробьем и Тамаркой огибали угол церкви, с другой стороны, из низинки, наперерез им выехала телега, сопровождаемая несколькими красноармейцами. Телега была прикрыта рогожей, из-под которой торчали две пары босых ног. По размеру ступней Воробей догадался, что ближние к ним ноги — ноги повара. o:p/
— А рядом с поваром кто? — спросил он у Скворца. o:p/
— Порченый, — коротко ответил Скворец. o:p/
— За что его?.. — спросила Тамарка. o:p/
— За поджог и вредительство, — ответил Скворец. — Ну пошли, нам тут больше делать нечего… o:p/
o:p /o:p
К вечеру Воробей и Скворец вышли на берег Волги. Теперь они сидели на крутом берегу и смотрели на спокойное и величавое течение почти безбрежной воды. У них состоялось общее собрание. Все педагоги и воспитатели сидели бледнее некуда, а комиссар говорил со стальной суровостью. o:p/
— Свили себе гнездо… Вовлечение в троцкистскую террористическую организацию… Потакали… Смотрели сквозь пальцы… Если бы не бдительность Виктора Скворцова, проявившего себя, несмотря на молодость, истинным… Отрава контрреволюции, проникшая в детские души… Задача исправления нанесенного вреда… o:p/
Воробей знал, что «троцкизм» — это что-то очень плохое. И он теперь спросил у Скворца: o:p/
— А откуда ты понял, что они троцкисты? o:p/
— Ниоткуда, — ответил Скворец. — Просто заявил комиссару, что они троцкисты — и все, — увидев, что Воробей недопонял, Скворец начал объяснять: — Ведь было ясно, что, если их не признают виноватыми, они нас всех съедят. По-тихому нас с тобой уберут куда-нибудь, и Тамарку переломят… На Тамарку, как ты видел, настоящая охота шла. Нет, я бы вас в обиду не дал, и, если б не удалось мне добраться до комиссара, я бы вас с собой увел, и хоть бы до самой Москвы с вами добрался… Я знал от деда — а он по цепочке слухов узнал, — что комиссар с большим отрядом находится в одном из самых крупных сел, ниже по течению — ревизию коллективизации проводит. Плыл я на лодке и думал — только б успеть, только б он еще из села куда-нибудь дальше не ушел. Вот я и успел. Попросился к комиссару с неотложным политическим сообщением. Я знал, что слово «троцкизм» безотказно сработает, вот с ходу и заявил комиссару: «В трудлагере нашего детского дома троцкисты и террористы гнездо себе свили». — «Ты точно знаешь?» — спрашивает комиссар. «Еще бы не точно! — говорю я. — Кто, кроме троцкиста, будет детей, тех детей, которых он вовлек в секретную организацию якобы для помощи Советской власти, — учить котят вешать?» Комиссара так и подкинуло. «Вот, — говорю я, — отсюда мне ясно, что он их уверяет, будто они будут бороться за Советскую власть, а на самом деле готовит их к террору против Советской власти». Тут, конечно, котята своей смертью очень нам помогли. Если б они Цыганка до смерти забили — они бы выкрутились. Но повесить котенка — сам понимаешь, столько в этом подлого и ничтожного, что любой комиссар поспешил бы их троцкистами объявить — чтобы, не дай Бог, самому от них не замараться. «Более того, — говорю я. — Они уже начали проводить теракты, и РИКовский дом подпалили, вместе со всем зерном колхозным, только что собранным для отправки в город. Им хочется, чтобы Советская власть в этом мужиков обвинила, и чтоб мужики, несправедливо так обвиненные, взбунтовались бы на Советскую власть». «И ты знаешь, кто поджигал?» — спрашивает комиссар, весь уже напрягшись и готовый с места срываться. «Да, — говорю я. — Поджигал тот, кому в первую очередь это зерно подлежит собирать и охранять, — глава местного РИКа». — «И твердые у тебя доказательства?» — спрашивает комиссар. «Доказательства есть, — говорю я. — Но вам даже доказательств не понадобится. Обвините его в глаза — он сразу сознается, он ведь себя таким хитрым считает, мол, никто не раскусит… Если он увидит, что вы все знаете — то даже запираться не станет, от неожиданности… А кроме того, тут есть сговор и умысел. Котят при нем вешали, может, он даже сам помогал и детей наставлял… Возле повешенного котенка нашли окурок папиросы той марки, которая только у него была, а прикус на этой папиросе — другого человека, того троцкиста, который под видом военрука в наш лагерь проник и ребят против Советской власти растлевает. Явно, он угостил военрука своей папиросой, пока ребята их гнусные команды выполняли…» o:p/
— Эти папиросы Цыганок спер, — сказал Воробей. o:p/
— Теперь я знаю. И даже с самого начала подумывал, что так может быть. Но… но нам же лучше, если есть доказательство их сговора — доказательство разветвленной организации. И что Порченый по решению своей троцкистской ячейки дом поджег, а не просто потому, что психом был. Вот я и подал это в таком свете. «И более того, — говорю я. — Есть три свидетеля из воспитанников детского дома. Я этих свидетелей взять с собой не мог, поэтому спрятал их в укромном месте, чтобы они не пострадали до вашего прибытия. Надо спешить, потому что на них сейчас облаву проводят, под предлогом ловли уголовного преступника. Там, понимаете, хозяин этих котят, который очень их любил, от их смерти с ума спятил и теперь убивает всех, кого только заподозрит в причастности к их смерти… Его тоже перехватить надо, а то он больших бед натворит». Ну, мы погрузились в две машины и полетели во весь опор. Порченого сразу раскололи и в расход списали. Алексей его лично расстрелял. Теперь Алексея временно на его место назначили… o:p/
— Но как же все-таки ты догадался, что это Порченый был поджигателем? — спросил Воробей. — И даже заранее догадался, что он это сделает… o:p/
— Понимаешь, очень он мне одного человека напомнил, — сказал Скворец. — Я как впервые его увидел, так сразу подумал — ну, точно он!.. То есть я этого человека ни разу не видел, но по тому, как я его представлял... Порченый просто точной копией мне показался, прямо ожившим… Император Нерон того звали, не слышал небось? o:p/
— Нет, не слышал, — сказал Воробей. o:p/
Скворец вытащил небольшую книжицу. o:p/
— Вот, единственная книжка, которую читаю и перечитываю, — сказал он. — Случайно нашел, и очень она меня захватила. Иногда в ней ответы про всю нашу жизнь нахожу. o:p/
Воробей увидел, что у книжки нет обложки и первых страниц, да и другие страницы частично порваны. o:p/
— Вся история Рима, — сказал Скворец, листая книжечку в поисках нужного места. — Вот, читай. o:p/
И Воробей стал читать, беззвучно шевеля губами, — дореволюционный текст, с «ятями», со странным написанием многих слов: o:p/
«Наконец одно нещастное происшествие довело до высочайшей степени бедствия Римлян и их ненависть к Нерону. Ужасный пожар вдруг распространился в нескольких частях города, как будто бы огонь был подложен с намерением; вихри дыму и пламени поднимались со всех сторон, а Император не велел тушить огня, и между тем, как посланные Нероном злодеи запрещали подавать помощь, сам он взошел на террасу своего дворца, откуда можно было обозреть весь город, и, играя на лире, воспевал разрушение Трои из Гомеровой ёИлиады”. o:p/
Бесчувственность Нерона, как бы смеявшегося над столь великим бедствием, возбудила величайшее негодование Римлян, и с сей минутой можно было предвидеть, что чудовище скоро будет наказано за все преступления, совершенныя или им самим, или по его приказанию. o:p/
В это время Христианская вера, которую Апостолы начали проповедовать в Иудее, достигла Рима, где Апостолы Петр и Павел своею проповедию размножили число Христиан. Все принявшие новую веру отличались добродетельными поступками и особенно удалением от беспорядочных празднеств и игр, которые одобрял Нерон своим присутствием. К несчастью, это удаление от зрелищ сделало Христиан ненавистными народу и доносчики обвинили их в том ужасном пожаре, который опустошил Рим. Нерон, бывший истинным виновником пожара, приказал казнить всех Христиан. Таким образом, самый худый из Императоров был первым преследователем святой веры». o:p/
— Ну так вот, я этого Нерона представлял совсем таким, каким увидел Порченого, — продолжил Скворец. — А потом, когда мы говорили с ним и он нам толковал, что могут колхозное зерно уничтожить или засаду устроить… Он так об этом говорил, как будто этого ему даже хотелось бы, как будто он сам мог бы это подстроить, чтобы потом всех, кого он объявит виноватыми… Потом, когда мы пили с Алексеем, он упомянул, что у Порченого все приметы близкого приступа падучей, а это значит, что он может после приступа любых сумасшедших бед натворить. Я как услышал про «бед натворить» — так сразу подумал о поджоге, потому что переодетого Нерона в Порченом видел, ничего с собой поделать не мог. А тут еще вся эта ночная история в нашем лагере… И я понял, что мне надо поскорее забрать тебя оттуда: мало ли что — или наш Нерон чего натворит, или… В общем, я тебя перехватил и увел. А потом, когда мы с дедом калякали… Он рассказал, что Порченый — художник. И что он иконы жег. Ага, думаю, совсем похоже. Во-первых, страсть к поджиганию, к огню… И чтобы при этом что-то святое для других оскорбить, как Нерон с христианами. Такая страсть, она уже от рождения в человеке есть. Мальком — спичками балуется или кострами, потом чего-нибудь посерьезней подпалит, потом настоящий пожар устроит… Словно одержимость какая есть в некоторых… Да и то, что он себя художником считает… Нерон себя считал великим певцом, поэтом и актером, и все должны были его хвалить. Видишь, он и Рим поджег, чтобы лишний раз перед всеми выступить… Ну хорошо, хвалят его взахлеб, хотя, может, и плюются заглазно, но ведь себя-то не обманешь — сколько ни внушай самому себе, что ты самый лучший, все равно внутри тебя шепоток будет слышен: говенный ты певец и актер, и никуда тут не денешься… И от этого зудящего шепотка правды человек — бесталанный человек — звереть начинает, и хочется ему все жечь, крушить, народ резать и казнить почем зря — через полоумную жестокость собственное ничтожество преодолеть, или хотя бы голосок заглушить, об этом ничтожестве твердящий… Так вот, если наш Нерон был плохим художником — тогда тем более все понятно. Твердо можно сказать, что лютует он от понимания собственной никчемности. Самоутверждается через это. Поэтому, когда большой дом полыхнул — я ни секунды не сомневался, что это дело рук Порченого. И конечно, он думал о том, чтобы в поджоге мужиков обвинить, записать их во враги Советской власти и колхозного строя и кровью их умыться… Но это только часть правды, внешняя правда. Ему только казалось, что поджигает он ради этого. А на самом деле он поджигал из-за неодолимой тяги к огню, к разрушению — в момент поджога, зверства, расправы он мог на миг почувствовать себя настоящим художником. Да еще таким, который судьбы других людей держит в своих руках. Ну не знаю, понятно тебе это или нет — я лучше не объясню. Все это я вот из этой книжечки вычитал. И проникся пониманием… o:p/
Воробей не очень понял, но признаться в этом постеснялся, поэтому кивнул с умным видом. o:p/
— В общем, я ни минуты не сомневался, кто поджигатель, когда зарево пожара увидел, — сказал Скворец. — Это тоже было нам на руку. И деда я у комиссара выторговал. Сказал комиссару, что дед — горой за Советскую власть, но грешки за ним водятся, поэтому он с властью сотрудничать боится… Если ему пообещать, что все грехи браконьерские ему спишутся, он все что надо расскажет и во всем поможет… Я и повара думал спасти, — сказал Скворец. — Говорили мы с комиссаром, что не надо его расстреливать на месте, когда поймают, — надо его в тюремный дурдом для буйных, ведь ясно, что спятил человек... Но он, видишь, как его вывели, сразу им рассказал, что он беглый из раскулаченных. Помощник комиссара доложил комиссару об этом — и тот велел повара немедленно в расход пустить. Сам себя погубил своим языком… Хотя, возможно, он сознательно смерти искал, — задумчиво добавил Скворец. o:p/
— Мишку и Антона в город отправили, в сопровождении фельдшера местного, — сказал Воробей. — Еще неизвестно, выживут или нет. o:p/
— Да, я знаю, — кивнул Скворец. Он вытащил папиросу и аккуратно ее раскурил. Потом он поглядел на Воробья. — Тамарка мне рассказала, каким ты был молодцом. И как ты до них добрался, и по-взрослому ими правил, не дав в панику удариться, и как ты повара подловил… Не знаю, почему, но я такого от тебя не ждал, — он усмехнулся. — Скворец и Воробей — славно мы вдвоем поработали. Бог даст, полетим мы с тобой по жизни… Хотя меня, наверно, побыстрее уберут — и куда-нибудь подальше. o:p/
— Почему? — спросил Воробей. o:p/
— Не очень я нужный свидетель для всех них, включая комиссара. Слишком много знаю, слишком до многого своим умом допер… o:p/
Это Воробей тоже не очень понял. Ему хотелось, чтобы Скворец оставался рядом с ним всегда, — где еще найдешь такого друга? Ведь очень велика вероятность, что они на одном и том же заводе учениками окажутся — Скворец раньше, Воробей позже — может, Скворец к тому времени уже квалифицированным рабочим будет, и Воробей попадет в ученики не к кому-нибудь, а прямиком к Скворцу… o:p/
Но действительно, Скворца поздней осенью услали куда-то за тридевять земель, в Среднюю Азию, а Воробей через три года оказался в одном подмосковном местечке. Вот так и разошлись их пути… o:p/
— Главное, что Тамарку спас, — сказал Скворец. — Больше ее никто не тронет, даже если меня рядом не будет. o:p/
Воробей задумался: o:p/
— Да, насчет Тамарки, — сказал он. — Ведь ничего у нее не было с поваром, так если б ее врач проверил — ведь это только оправдало б ее, разве нет? o:p/
Скворец вынул папиросу изо рта, поглядел на ее сизый дымок, ленточкой утекающий вверх, и сказал с задумчивым недоумением: o:p/
— Странный ты все-таки, Воробей. Иногда — смышленей некуда, а иногда — дурак дураком. o:p/
Молчание, установившееся после этого между ними, длилось довольно долго. Только речные чайки порой хрипло покрикивали, да ветер с легким шелестом пробегал сквозь кроны деревьев. o:p/
— Это… Это твоя первая женщина? — вдруг спросил Воробей. o:p/
Скворец кивнул. o:p/
Воробей поглядел вдаль, за речку. Он чувствовал в себе легкую зависть — не потому, что Скворец уже испытал то, о чем ребята много рассказывали, а потому, что он полно и глубоко проникся ощущением того хорошего и светлого, которое угадывалось в легком кивке Скворца. В нем возникло непередаваемое в словах понимание отношений между Тамаркой и Скворцом — отношений, прямо противоположных тому, что ему привиделось в отношениях между военруком и Татьяной. Насколько там было все антиестественно и уродливо, настолько здесь было все естественно и красиво, настолько любовью и жизнью полнился и дышал союз — скоротечный или нет, кто знает — этих двоих… Одним небрежным кивком Скворец заложил в него глубинное понимание того, что такое любовь, и насколько она может быть по-земному прекрасна. Для Воробья, все знания которого проистекали из матерщины и сальностей окружающих, это было потрясающим открытием… И ему хотелось, чтобы он, когда придет его срок, тоже пережил это так же красиво… Он многое увидел теперь другими глазами — он понял, что Скворец ради Тамарки совершил почти невозможное, — как понял и то, что нет такой вещи на земле, которой Скворец не совершил бы, чтобы защитить свою любовь. Одновременно он с новой, морозящей ясностью почувствовал весь ужас того, что произошло с ними за последние двое суток, — как и постиг интуитивно, где корни этого прорвавшегося на поверхность ужаса, — скорбное прозрение пришло, что корни эти не выполоты, а выполоть их не под силу даже Скворцу, и что ничегошеньки-то они не победили, а лишь на время отгородили себя — своим малым выигрышем… Но ведь они не уступили — и никогда не уступят — и, быть может, в этом залог того, что ужас не вечен, что он развеется когда-нибудь дымным призраком… Что они — малые и ничтожные — несут в себе ту силу сопротивления, при столкновении с которой любая махина кошмара рассыплется в прах. В Скворце эта сила была изначально, а теперь он щедро поделился ей с Воробьем, вдохнул ее в него, чтобы она и в Воробье жила и крепла. o:p/
Скворец перехватил устремленный за реку взгляд Воробья: o:p/
— На том берегу незакрытая церковь есть, и вроде даже с чудотворной иконой, — проговорил он. — Если приглядишься, увидишь купол и крестик — вон там, совсем крохотные… Дед рассказывал, ее тоже закрыть хотели, но не получилось. Мол, Порченый со своей командой приехал, сразу в церковь — и наган выхватил. Священник уже решил, что его последний час настал, и молиться начал, чтобы Бог его грехи простил и его душу покаянную принял, но Порченый в священника стрелять не стал, в икону эту нацелился. И не успел первый раз курок нажать, как с ним один из его припадков сделался. Пуля в потолок ушла, а дальше ему уже не до стрельбы было. Его выволокли из церкви, пока его колотун трепал. И уехала вся команда подобру-поздорову. И больше не возвращалась… Не знаю, что тут правда, что нет, но дед клянется и божится, что так оно и было, что вся округа про это знает… — Скворец встал, потянулся, разминаясь. — Если и правда, то все равно они в конце концов и до этой церкви доберутся, и священника порешат, и икону уничтожат, и никакое чудо не поможет. А насчет деда… Он сегодня ночью опять на промысел собирается, и я с ним. Хочешь, тебя с собой возьму? o:p/
— Конечно, хочу, — сказал Воробей. o:p/
И они пошли от берега по предзакатной лесистой дорожке, где каждый листик светился литым проникающим золотом, уже чуть тронутым нежно- розовыми оттенками. Легкий трепет пробегал сквозь эти золотисто-зеленые волны, и, чуть отставая от трепета, промелькивала по ним синевато-огненная рябь невесомых теней — сами тени казались сгустками уплотненного света. И почудилось на миг, вся жизнь их будет подобна этой тихой дорожке… И Воробей думал почему-то о чудотворной иконе — и по-детски не сомневался, что здесь-то Скворец и не прав, ничего не случится ни с церковью, ни с иконой, ни со священником — если надо, то и чудо произойдет… Просто так хотелось чего-нибудь чудесного — чудесного, распахнутого в будущее заманчивым обещанием, несмотря ни на что. o:p/
С доверием к холодам
Кублановский Юрий Михайлович родился в 1947 году в Рыбинске. Окончил искусствоведческое отделение истфака МГУ. Поэт, критик, эссеист. Живет в Переделкине. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
* o:p/
o:p /o:p
Что узнала душа зэка, o:p/
чьё тело с биркой o:p/
осталось в промороженной яме, o:p/
не догадываюсь никак. o:p/
Быть может, ей уже и не надо o:p/
было спрашивать ни о чём. o:p/
o:p /o:p
Но мы-то тут проживаем в недоумении, o:p/
которое есмь соблазн: o:p/
ибо простой вопросец — o:p/
зачем же так? — o:p/
мешает чистосердечному покаянию, o:p/
вводит в прелесть, o:p/
что всё тщета, o:p/
и мешает духовной мобилизации. o:p/
o:p /o:p
Живём в сомнении, в расслабухе: o:p/
одно дело — праведные байки o:p/
про «жизнь после смерти» o:p/
заокеанских баптистов, o:p/
побывавших в коме o:p/
на проглаженных простынях, o:p/
o:p /o:p
другое — смерть Мандельштама, o:p/
несметных узников лагерей. o:p/
o:p /o:p
Своими сомнениями o:p/
совестно мне делиться, o:p/
выставляя на всеобщее обозрение o:p/
йоту веры своей, o:p/
o:p /o:p
но во мне они, что кислоты, o:p/
разъедающие остаток дней. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
* o:p/
o:p /o:p
Слабая лента с Моникой Белуччи — o:p/
шеи взъём, у плеча бретелька — o:p/
старикам, подсевшим на сериалы, o:p/
может показаться шедевром. o:p/
Человека, которому под полтинник o:p/
и которому нравится мир всё меньше, o:p/
взгляд трезорки встречного сиротливый o:p/
может отрезвить и прибавить силы, o:p/
даже устыдиться своей щетины. o:p/
Стал уже привычнее матерщины o:p/
бронхиальный кашель для перепонок. o:p/
У шалмана подвыпившие мужчины o:p/
ждут из туалета своих бабёнок. o:p/
o:p /o:p
Неожиданно прихватил морозец o:p/
барбарис, рябину и черноплодку, o:p/
хорошо их ягоды класть за щёку, o:p/
под язык — и мне это винограда o:p/
ну, не слаще… o:p/
А просто душа им рада. o:p/
o:p /o:p
И красавица итальянка в теле, o:p/
что почти не кажется человеком, o:p/
и бездомный пёс, что всегда при деле, o:p/
и плоды из русских садов под снегом o:p/
пусть пока не знают, кто им хозяин. o:p/
Помнишь карамазовский пестик в ступе? o:p/
o:p /o:p
Хоть московских гетто, то бишь окраин, o:p/
огоньки всё ближе к моей халупе. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
* o:p/
o:p /o:p
Оставлял подруг, поступился славой o:p/
и баблом — за ради живого слова. o:p/
Целый день один, не звонит мобильник, o:p/
не по разу читаны с полок книги. o:p/
Но зато не предал свои привычки, o:p/
ни когда другие прогнули выи, o:p/
ни когда столичные истерички o:p/
без ума от шоковой терапии o:p/
на меня клепали, что чуть не красный. o:p/
Выходил в опорках на босу ногу o:p/
на крыльцо — и день в ноябре был ясный. o:p/
Грешен в том, что слишком нетерпеливо o:p/
ожидал поддержки от сил небесных, o:p/
но и мысленно от врагов Христовых o:p/
не искал я бонусов интересных. o:p/
o:p /o:p
Этим летом выпало Подмосковью o:p/
пережить нашествие древоточца. o:p/
Лес теперь от дому до окоёма o:p/
обездвиженных порыжевших елей. o:p/
Мы не сразу поняли, разглядели, o:p/
что за нашим старым окном творится. o:p/
Ведь уже лет двадцать как эти ели o:p/
помогали вовремя сердцу биться… o:p/
Пережившие многое здесь деревья o:p/
не глупей животного, человека. o:p/
Эх, да что, да они умнее, o:p/
во сто раз разумнее человека! o:p/
Но и их поела исподволь гнида. o:p/
Не к добру опрокинутая солонка. o:p/
o:p /o:p
Убыль русских тоже видна как вида, o:p/
словно нас затягивает воронка. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
* o:p/
o:p /o:p
Раскидистые холки старого барбариса o:p/
с красными висюльками ягод. o:p/
o:p /o:p
И чуток снежка в монастырских стенах o:p/
с кирпичом, буреющим сквозь побелку. o:p/
o:p /o:p
Здесь была колония малолеток — o:p/
зэчек, которым не стукнуло восемнадцать, o:p/
o:p /o:p
шивших варежки под сводами цеха, o:p/
прежде корпуса братских келий. o:p/
o:p /o:p
А теперь тут Толгская Божья Матерь, o:p/
перед ней паломники на коленях. o:p/
o:p /o:p
На поклёв сюда прилетают птицы o:p/
и сидят потом у крутых ступеней. o:p/
o:p /o:p
Много-много знают теперь черницы o:p/
тихоструйных ангельских песнопений. o:p/
o:p /o:p
Хорошо, но я вспоминаю зэчек o:p/
у пугливых свеч и иконной охры. o:p/
o:p /o:p
Где-то тут ведь грелись они у печек o:p/
и боялись ночью глумливой вохры. o:p/
o:p /o:p
От цинги спасаться б, как овцам, им бы o:p/
барбарисом, и над головами нимбы… o:p/
o:p /o:p
Вот стоишь уставшим от говоренья o:p/
стариком на пригородной платформе, o:p/
o:p /o:p
про себя страшась то огня, то тленья, o:p/
то загробной жизни в неясной форме. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Возле Волги o:p/
o:p /o:p
Отель, преемник старого дебаркадера, o:p/
вморожен в прибрежный лёд. o:p/
В темноте там слышатся скрипы, шелест: o:p/
видно, не до дна проморожено русло o:p/
и ищет выход себе шуга. o:p/
o:p /o:p
Ничего за окном не видно под утро, o:p/
разве что размытый шар фонаря o:p/
ещё не погас — но кому он светит o:p/
Бог весть. o:p/
o:p /o:p
Каждый раз возвращаясь к себе на родину o:p/
отстоять над холмиком матери панихиду, o:p/
боковым зрением замечаю o:p/
имена знакомые на надгробьях. o:p/
И смиряюсь с убылью прежней веры o:p/
в воскрешение Лазаря русских смыслов, o:p/
заставлявшей сутками биться сердце. o:p/
o:p /o:p
Там погостных рощ в серебре руно, o:p/
а за ним от будущих вьюг темно. o:p/
Тишина такая, как не бывает. Но o:p/
оскользнувшись вдруг на мостках скрипучих, o:p/
мнится, слышу давний ответ уключин, o:p/
когда в майке, свой потерявшей цвет, o:p/
форсировал Волгу в 15 лет. o:p/
o:p /o:p
o:p/
* * o:p/
* o:p/
o:p /o:p
И. П. o:p/
o:p /o:p
Долго-долго искали мы переправу: o:p/
деревянный мост? настил на понтонах? o:p/
иль хрипастый лодочник слабосильный? o:p/
Сумерки сгустились мгновенно, o:p/
темнота же так и не наступила. o:p/
Берег глинистый с вытоптанной травою o:p/
и негромкие разговоры o:p/
всё о том же, только без интереса: o:p/
«Двадцать лет воровской малины»… o:p/
«Убивали раньше, теперь воруют, o:p/
выходя за мыслимые границы»… o:p/
Но уже понятно, что близко к сердцу o:p/
эту муть мы больше не принимаем. o:p/
Чур меня, франтоватый пройда, o:p/
обезьяна в маске, батёк на мерсе. o:p/
Ничего нам больше от вас не надо, o:p/
ни стыда, ни совести, ни признанья o:p/
вашей слабости перед нашей силой. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Между тем накрапывало. И зыби o:p/
плеск разнонаправленный за кормою o:p/
становился въедливей, тише, тише. o:p/
Хватит с нас и прежней земной тревоги. o:p/
o:p /o:p
Вспомнил кадры любительской киноленты: o:p/
до чего ж поджарый ты был волчонок o:p/
в восемнадцать лет, а твоя подруга — o:p/
для Петрова-Водкина, не для нашей o:p/
застывавшей жизни шестидесятых. o:p/
Как дождит старинная кинолента! o:p/
В шёлковой рубашке не зябко милой? o:p/
o:p /o:p
В страшный сон вкрапленье того момента o:p/
наделяет сердце нездешней силой. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Ноябрьская элегия o:p/
o:p /o:p
Стала я подругой мужа o:p/
и теперь из-за реки o:p/
вижу родину всё ту же, o:p/
те же в рощах огоньки. o:p/
o:p/
Е. С. o:p/
o:p /o:p
Подчистую сдули листву ветра, o:p/
забурев, на землю она упала. o:p/
o:p /o:p
Тишина такая — как до Петра o:p/
перед самым благовестом бывала. o:p/
o:p /o:p
Барбарис от холода потемнел, o:p/
клонит гриву, схваченную морозцем. o:p/
o:p /o:p
Я стоял за лирику как умел, o:p/
став её поверженным знаменосцем. o:p/
o:p /o:p
За рекою роща обнажена o:p/
и зажёгся вдруг огонёк ночлега. o:p/
o:p /o:p
От греха подальше накинь, жена, o:p/
шерстяной платок накануне снега. o:p/
o:p /o:p
Скоро волны белые будут спать o:p/
и фосфоресцировать у порога, o:p/
o:p /o:p
а несметность космоса искушать o:p/
неопределенностью — и мешать o:p/
прямодушной вере в живого Бога. o:p/
o:p /o:p
30.XI.2012 o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Перед снегом o:p/
o:p /o:p
Н. Струве o:p/
В патине инея шиповник красный o:p/
и друг его — барбарис гривастый. o:p/
А день то пасмурный, то снова ясный, o:p/
нам разом близкий и безучастный. o:p/
o:p /o:p
Бывает жемчуг холодный, холодный до серизны, o:p/
бывает палевого оттенка — o:p/
и то и то сегодня над нами: o:p/
o:p /o:p
бесшумная маневренность облаков, o:p/
приобретающих консистенцию дымки o:p/
и перистого тумана, o:p/
тусклое жерло солнца, на которое не больно смотреть... o:p/
o:p /o:p
Это ли небеса , o:p/
где обетовано насытиться правдой? o:p/
o:p /o:p
18.XII.2012 o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Рисунок o:p/
o:p/
А. и М. Якутам o:p/
o:p /o:p
Утренний ровный свет o:p/
стеклянного потолка. o:p/
На ватмане твой портрет o:p/
рисует моя рука o:p/
твёрдым карандашом. o:p/
И это в разы трудней o:p/
натурщицы нагишом o:p/
и яблок, сравнимых с ней. o:p/
Тем паче нормандских скал, o:p/
призрачных их громад, o:p/
где старый прибой устал o:p/
и стал отступать назад… o:p/
o:p /o:p
Нынче на склоне лет o:p/
всё-то моё добро — o:p/
грифеля беглый след, o:p/
тёмное серебро. o:p/
Но всё светлей и светлей o:p/
ровный лист под рукой — o:p/
без паспарту, полей o:p/
он будет один такой. o:p/
Не вспышки сангины, не o:p/
масло с густым мазком o:p/
у нищих духом в цене, o:p/
а то, как ты мнёшь во сне o:p/
наволочку виском. o:p/
o:p /o:p
2012 o:p/
ПОВЕСТЬ И ЖИТИЕ ДАНИЛЫ ТЕРЕНТЬЕВИЧА ЗАЙЦЕВА
ПОВЕСТЬ И ЖИТИЕ ДАНИЛЫ ТЕРЕНТЬЕВИЧА ЗАЙЦЕВА o:p/
o:p /o:p
Окончание. Начало см.: «Новый мир», 2013, № 5 o:p/
o:p /o:p
Тетрадь вторая o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
1 o:p/
o:p /o:p
Вернёмся назад, когда я работал на Кулуене в Мато-Гроссо. Панфил свозил нас к своёму шурину, за 200 километров по другой стороне реки Кулуене. Встречает нас Константин Артёмович Ануфриев — ето тот мужик, который сидел у дядя Марки Килина, когда первый раз встретились и я спросил, хто из вас дядя Марка. Константин Артёмович ему свояк, у них жёны — сёстры, и в Уругвае дед Садоф Ануфриев ему дядя. Его отец Ануфриев Артём, мать Валихова Марья. У Артёма с Марьяй восемь сыновей и четыре дочери: Фёдор, Иван, Константин, Алексей, Евгений, Архип, Карпей, Илья, дочери Агафья, Евфросинья, Анна и Васса. o:p/
В Уругвае Садоф — кроткий, спокойный, и проживал толькя в деревнях; Артём, наоборот — горячий, непосидиха, в деревнях никогда не мог ужиться и ни с кем, поетому старались где-то жить одне. И вот когда приехали из Китая в Бразилию, оне в деревне долго не прожили и уехали в штат Гояс, город Рио-Верде, там устроились и выбрали Константина как руководителя. Он у их был боле дошлый в проектах, в бизнесах, в банках и так далее. Но все братьи мастера и работяги на все руки, все горячи, характерны, и мать Марья така же. o:p/
Константин вёл весь бизнес, он вёл очень хорошо, обороты шли в ихну пользу, у них была своя земля 5000 гектар, построили шикарныя дома, была хорошая техника, и оне работали день и ночь. Всё шло прекрасно, но где-то Константин ошибся, получил долг, банок стал притеснять. Братьи Константина стали все на брата, и с каждым днём разгоралось у них пламя, схватили винтовки и за братом. Константин бегом, взял семью, в машину, и убежали, и потерялись без вести. Прошло десять лет, Константин оказался в штате Мато-Гроссо, последний пункт, населённый аборигенами, Паранатинга, внутри жунгли, на реке Кулуене. Нашёл какого-то богача, у его на Кулуене 20 000 гектар земли, договорился с нём работать с половине. Богач дал ему технику и деняг, и Константин со своими малыми детями начал чистить жунглю и сеять. Потом появились рабочие, посевы с каждым годом росли боле и боле. Когда мы приехали к нему в гости, он уже сеял 2000 гектар земли. o:p/
Шло всё хорошо, у них было два рабочих немса, но один, по имени Wilson Vagner, с кем жизнь связала, маленькяй, беззубой, незавидный. Ему понравилось, как Константин доржутся, молются, посты соблюдают, строгие дистиплинисты, все порядки соблюдают, и давай проситься к ним в религию. Оне давай его учить, а он всё исполнять. Нам Константин рассказыват: o:p/
— Парнишку надо помогчи, вижу, что хороший с него будет християнин, всё соблюдает и старается. o:p/
Мене чудно показалось, подошёл к нему, стал спрашивать, хто он и откуду. Он на ломаным русским языке стал мне рассказывать, хто он и откуду. Говорю: o:p/
— Можешь говорить на бразильским языке <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> . o:p/
Он отвечает: o:p/
— Я хочу научиться по-русски. o:p/
— Ну давай. o:p/
Говорит: o:p/
— Я немец, мать-отец немсы, живём мы в штате Рио-Гранде-до-Сул, город Ижуи, деревня немецка, вера у нас лютерана. Занимались мы — ростили свиней и делали колбасы и ветчину, доили коров, делали сыр и всё ето продавали на рынке. Жили хорошо, но однажды отцу ночью в мату <![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> залезла кака-та насекома, утром он не проверил, насыпал йерба мате, залил горячай водой и давай пить. Ничего он не заметил, но через сколь-то дней ему стало хуже, пошли к врачам, лечили-лечили, а ему хуже и хуже. Повезли к специалистам, сделали анализ и признали рак желудку. Мы его лечили и весь капитал свалили. Но отца не вылечили, ему хуже и хуже, и он помер. Мы с братом ишо поработали, скопили деняг, знали, что немсы едут в Мато-Гроссо и что земли там дешёвы, и мы собрались с братом, приехали, купили 500 гектар земли. Но нечем работать, поетому пошли на заработки, и вот мы оказались у Константина в рабочих. o:p/
Когда мы жили в Масапе с Марфой в 1981 году, Константин приезжал с Wilsonom просить за него, чтобы приняли и окрестили. Старики сказали: o:p/
— Хорошо, ежлив ты, Константин, даёшь за него гарантию, что он будет доржаться, пускай подыскивает себе невесту, и мы его окрестим. o:p/
Оне три свояка: Константин, Лука Бодунов и дядя Марка — посовещались и решили женить на Лукиной дочке Хинке. Но Хинка его не любила, у ей жених был парагваес, но оне их сговорили, его окрестили и свенчали. Оне прожили сколь-то дней, и она его бросила и ушла к парагвайсу. Он остался один, поехал с людями в Боливию и жил долго один, но по закону. Старики решили ему разрешить, чтобы он мог жениться снова, так как знали, что он невинный, и он высватал у Игнатия Павлова дочь Нимфодору, его женили. o:p/
А Константин подростил своих детей, добавил рабочих и расчистил ишо 3000 гектар земли, и уже сеял 5000 гектар. Дети захотели ехать жить в деревню, он не хотел, но семья пересилила. С хозяином Константин поделили землю и технику. Константин оказался зажиточным крестьянином. Но ехали на машине, получилась авария, и Константин убился, а жена Ульяна весь капитал провалила. o:p/
В 1982 году дядя Марка отдаёт дочь старшу Ирину за Кузьмина Симеона Анисимовича. Вскоре оне купили землю в Боливии и переехали, сделали деревню, назвали Тоборочи. Ефрем Мурачев переехал к своему свояку, Анисиму Кузьмину, дядя Марка тоже. Но перво чем выехать с Бразилии, отдал втору дочь Варвару за Тимофея Ивановича Снегирева, моего друга детства. Он приехал с США к сестре Палагее, на свадьбе зять положил им на поклоны 100 гектар земли, ето обозначает 400 000 долларов. o:p/
Ануфриевы, дети Артёма, прозвище им Артёмовски, после Константина разбежались все кто куда. Дед Артём с младшими детями уехал в Боливию, старший сын Фёдор туда же, Иван — в штат Парану, в стару деревню, Евгений и Алексей тоже в Боливию, Карпей в Масапе. o:p/
Ето перво переселение в Боливию в 1978 году. Оне забрались в глубокия леса, попадали туда толькя лодками по рекам Ичило и Ичёа. Ето будет провинция Кочабамба, регион Чапаре, где вырабатывают кокаин. Ета зона всегда была наркобизнес. Когда старообрядцы хватились, ето уже было поздно. Тако расстояние и такой расход получился у них! Купили 20 000 гектар земли, завезли всю технику, но земледелие у них не получилось. Вот оне жили да наркоманов кормили. Ето были Артёмовски, пять Ревтовых, Валиховы — где-то семей пятнадцать. Вот тут оне своих детей потеряли, некоторы превратились в потребителей, а некоторы в продавателей. Старообрядцы етого не знали, но сумлевались, откуду у них деньги: нигде не сеют, а всегда покатываются. o:p/
o:p /o:p
2 o:p/
o:p /o:p
Приезжаю в Уругвай. Марфа вот-вот принесёт, сама очень слаба. o:p/
— Ну что, Марфа, поедем в Арьгентину. o:p/
Тёща: o:p/
— Вы куда? o:p/
Я говорю: o:p/
— Домой. o:p/
— Дак Марфа в таким виде не может ехать. o:p/
— Ехать не может и оставаться тоже не может. Графира умерла лично из-за нерадение, поетому доверности нету. Пускай хотя бы выдюжила до аргентинской границы, а там я всё добьюсь. Больницы там хороши. o:p/
Ну, что делать — конечно, обиделись, но я на своим настоял. o:p/
Приезжаем в город Пайсанду, берём билеты — на автобусе через границу. Марфа говорит: o:p/
— Данила, чижало стаёт. o:p/
— Марфонькя, потерпи часок. o:p/
Ну, поехали. Всего четырнадцать километров до Колона — город в Арьгентине. В пути ехала с нами монашка-католичка и всё на Марфу поглядывала. Когда мы слезли с автобуса, у Марфе пошли переёмы <![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> . Мы на такси и в больницу, а монашка уже там, она мне говорит: o:p/
— Я знала, что вы дальше не уедете, — и быстренькя к гинекологам, всё объяснила, нашу ситуацию. o:p/
Марфу увезли, нам с детками дали комнату, через полтора часа, покамесь Марфу оформлял, подходит милосёрдная сестра и говорит мне: o:p/
— У вас родился сын, можете посмотреть. o:p/
Я рад: три сына, слава тебе, Господи! Оказался сын большой, 4,600 кг. Марфа очень ослабла, крови много вышло. Вижу, что она вся бела, взял за руки — вся холодна. o:p/
— Марфа, ты что? o:p/
Она говорит еле-еле: o:p/
— То холодно, то жарко. o:p/
Я бегом к врачам, всё рассказал, оне бегом. Проверили и скоре увезли крови добавлять. Ну, тут я сам не свой ходил, плакал и молился, да чтобы жива осталась. o:p/
Через два часа приходит врач и говорит: o:p/
— Ну, теперь слава Богу, у ней прорвало 4 пунтов <![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> , мы зашили и влили ей шесть литров крови. Ежлив не хватились бы, она бы умерла. Ну, теперь пойдёт на поправку. Чичас она спит. o:p/
— Можно? o:p/
— Толькя не буди. o:p/
Я сходил: Марфа спит, и сын спит. Ну, слава Богу. Пошёл потелефонил Филату Зыкову, чтобы передал тестю, что Марфа принесла сына. Он передал. На третяй день приезжает тесть с обидой: o:p/
— Ведь говорили, что не вези! Нет, не послушал, увёз. o:p/
— Тятенькя, слушай, благодари Бога, что увёз. Не увёз бы, час был бы вдовой и дети сиротки. Она пошти с крови сошла, влили ей шесть литров крови. — Тогда он замолчал, дал молитву и уехал. o:p/
На четвёртой день Марфу выписали, спрашиваю: o:p/
— Как себя чувствуешь? o:p/
Она говорит: o:p/
— Хорошо. o:p/
— Сможешь доехать до Буенос-Айреса? o:p/
— Смогу. o:p/
— Точно? o:p/
— Точно. o:p/
Беру билеты, вечером выезжаем в Буенос-Айрес. Приезжаем к Беликовым <![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> , оне нас приняли, но как-то по-холодному. Владимир сам ничего, добрый, хорошо принял, но Светлана непонятна: всё каки-то придирки, всё не по ней, характер часто меняется, то уж шибко ласкова, то всё выговоры. Мы у них прожили неделю, в ето время получил груз и отправил в Рио-Негро, город Чёеле-Чёель. Но старался избегать с ней встречи, знал, что многи у ней работали старообрядцы и все от ней ушли обиженны. Хотя я их и приглашал на свадьбу и оне были у нас на свадьбе, но я чувствовал, что именно Светлане я не нравлюсь. Но Марфа поправилась, и мы отправились в Рио-Негро, тысячу километров. o:p/
Приезжаем в Чёеле-Чёель и к тяте с мамой. Ну, радость, что приехали! Ето было осенью. Зимой нашли земли в Помоне возле реки, очень удобно место. Выпросили у тяти трактор, он нам его отдал, мы его сменяли на другой, боле новея, марка «Деутс», немецкой, тятя нас деньгями выручил. o:p/
Мы переехали в Помону. Марфа написала матери письмо, попросила сестру поводиться с детьми. Мать послала третью дочь, Ксению, на год. Мы со Степаном посадили врозь каждый себе по три гектар помидор, луку, тыквов и кукурузы пять гектар. Наши жёны нам помогали, к Александре приехала тоже сестра Анна. Урожай угодил ничего, хороший. o:p/
Помона от нас всего два километра, каки поломки — хороший был механик и шиномонтаж тоже. Ето были — муж итальянец, фамилия Жюлияни, а жена немка, фамилия Кединг. Работали оне вместе, обои крутые <![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> , он механик, она шиномонтажник, у них получалось всё быстро и хорошо, мы с ними дружили. В етим году мы ничего заработали, купили машину пикап форд 72-го года. o:p/
Но уже ситуация в стране изменилась, пошла инфляция, 83-й год. Были выборы, настала епоха демократов радикальных, убрали военных, стал частный, Рауль Альфонсин <![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> . Деньги сменили, стали аустралес, с долларом один на один, все говорили, что будет хорошо. Ну, посмотрим. o:p/
o:p /o:p
Приезжает в гости из США Герман Овчинников. Конечно, изменился: побелел, весь седой. Смеёмся: o:p/
— Что, Герман, в снегу искупался? o:p/
Смеётся: o:p/
— Да доллара покою не дают. На самом деле Америка дала нам разуму, научила, как жить. Я вижу, Аргеньтина спит, ничего не изменилось, подумай: с 12 до 17 часов спят сиесту, надо работать, а им ничего не нужно, хоть провались. o:p/
Мы смеёмся. Герман искал земли купить с фруктой и просил нас, чтобы помогли ему. o:p/
Каки поломки, каки бизнесы — всё приходилось мене, Степан не любил ездить по делам, всё старался меня послать. Мне, наоборот, нравилось, и у меня знакомства шире. Давай искать землю Герману, за мало время нашёл четырнадцать гектар — двенадцать фрукты и два пустых гектара. Дёшево, всего за 10 000 долларов. Герману понравилось, и он купил. Попросил нас: o:p/
— Возьмите её и ухаживайте, берегите и пользуйтесь, мне с вас ничего не надо. o:p/
Герман тут же съездил в Сан-Антонио Оесте, там строился большой порт международной, а в стороне, за 60 километров, обозначили туристический пляж. Шла пропаганда, а мы ничего не знали. А Герман всё ето раскопал, приезжает и говорит: o:p/
— Данила, строится пляж, участки ничего не стоют, я куплю участок возле моря, построю hotel и отдам тебе, работай из половина. o:p/
Мы со Степаном хохочем: ну дурак же, куда деньги бросат на ветер! И знали, что Герман скупой и с нём кашу не шибко-то и сваришь, какой-то закоснелый. Я не согласился с нём никаким бизнесом заниматься. Он присватывался к сестре Евдокее, но мы смеялись: но нашлась же пара, она сорок два года, он пятьдесят три года. Говорили Евдокее: o:p/
— Ну что, жених нашёлся? o:p/
Она: o:p/
— Да не мешайте со своим женихом! o:p/
Мы со Степаном молились двоя и наши жёны и детки. Степан съездил в Уругвай, получил благословение и святыню <![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> и стал наставником. Скушно было, но молились. Тут подъехал с США Антон Шарыпов, потом сам дед Василий Шарыпов, поморского согласия. Стали нас сговаривать, чтобы мы перешли к ним, но мы не соглашались, помнили, как оне поступали с народом и были в политике в Китае. А ежлив бы перешли, то откололись бы от общего собору и молились сами себе. Вскоре к ним подъехали ишо четыре семьи, Ларионовски. o:p/
Мы со Степаном обрабатывали фрукту и арендовали у суседа землю под лук три гектара: половина Степану, половина мне. Тут подъехали сестра Степанида с мужем, Николаям Русаковым, и следом за ними брат Григорий. У другого суседа взяли земли и посадили лук и помидоры, каждый себе. Ксения уехала и вскоре вышла замуж за Мурачева Ульяна Ефремовича, уехали жить в Боливию. А к Марфе приехала старшая сестра Палагея, она у нас прожила год. o:p/
Перед урожаям приехали разны гости: из США вперемешку синьцзянсы и харбинсы, с Боливии Назар Ерофеев и Логин Ревтов, к куму Евгену заехал старый друг с Китая, Анастас Шарабарин. Оне все просили, чтобы показать им Аргентину. Ну, мы их повезли в горы, на Анды. o:p/
У кума Евгена там один приятель продавал землю, 4000 гектар за 8000 долларов. Поехали туда, ета земля оказалась на границе Чили, на верхах. Правды, очень красиво, три озера рыбна, красива речкя. Дорог нету, добирались на конях, нам их заняли пограничники жандармерия. При нас выпал снег посередь лета. Стали спрашивать: o:p/
— Сколь лето? o:p/
Отвечают: o:p/
— Три месяца. o:p/
— Ну, тогда нечего тут делать. o:p/
Проехали от Корковадо до Барилоче — нашим туристам не понравилось, вернулись домой. Наши гости уехали, подъезжают ишо гости: ето мои друзья детства Федя Пятков и Саша Зенюхин. Погостили, повозили их туда-сюда, и оне уехали. o:p/
Ларионовски просют, чтобы помог им выкупить груз в таможне. Говорю: o:p/
— Нековды, много работы. o:p/
Оне просют: o:p/
— Мы тебе поставим рабочего и в подарок тебе дробовик «Ремингтон». o:p/
— А чё он стоит у вас? o:p/
— В США стоит 250 долларов. o:p/
— Да, а здесь в Аргентине 750 долларов. Хорошо, давай я вам помогу. Вы мне никаких подарков не давайте, а продайте за ту же цену, что вам досталось. o:p/
Оне обрадовались, поехали в Буенос-Айрес, за три дня всё оформили, пошлины маленьки, всё в копейкях. Ну хорошо, пошли в таможню, там оказалось три заведующих. Проверили документы: o:p/
— Всё хорошо, теперь будем всё проверять. — Спрашивают: — Чё везёте, ребяты? o:p/
— Да всё, и оружие. o:p/
— Много? И что, проверять? o:p/
— Да неохота. А можно как-нибудь так? o:p/
— Ну, посмотрим. o:p/
Подхожу к заведующим: o:p/
— Слушайте, а можно без канители, а то потом надо всё складывать и загружать на машину. Всё ето даст лишную работу, всё равно оне везут свои личные вещи, а их четыре семьи, и все детны. o:p/
— А сколь дадите? o:p/
— Ребяты, сколь дадите? o:p/
— 100 долларов. o:p/
— Мало. o:p/
— За шесть тонн 100 долларов? Давайте 200, — поморшились. o:p/
Говорю: o:p/
— Дают 200 долларов. o:p/
Говорят: o:p/
— Мало. Нас троя, по 100 долларов. o:p/
— Ребята, соглашайтесь за 300 долларов. o:p/
Оне моршутся, не соглашаются. o:p/
— Ребята, обозлятся — всё потеряете. Не хочете — я пошёл. o:p/
— Ну ладно, — согласились. o:p/
Заплатили, вызвали транспорт чёльской, загрузили и увезли. Ребяты остались довольны, что так хорошо обошлось. Через сколь-то время приезжаю с деньгами за дробовиком, но оне даже мне его не показали, а сказали: «Мы раздумали продавать». Вот тебе и помог. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
3 o:p/
o:p /o:p
Тёща после Марфиного замужества ишо родила три сына — Тимофей, Анатолий и Алексей, а у нас Андриян, Илья, Алексей — как раз совпалось его рождение на память преподобного отца нашего Алексея человека Божия римлянина, 17 марта старого стиля. o:p/
После рождение Алексея в Чёеле-Чёель обратились в больницу. Врач-гинеколог угодила женьчина, Сония Алсина. Привёл Марфу, объяснил врачу Марфино здоровье всё подробно. Врач назначила снять все аналисы, взялись мы её лечить. Дома сделали настой от надсады: мёд с алоям в равных частях, в стеклянной посуде, на двадцать дней в тёмным месте. И стала Марфа пить по столовой ложке, до еды, три раза в день. Через шесть месяцев Марфа поправилась, повеселела, стал муж нужон, но огрызаться не переставала. Подбираться в дому и кулинарию не любила, а любила работать на земле, ето её любимое занятие. o:p/
o:p /o:p
В 1984 году мы со Степаном зимой поехали в Уругвай учиться крюковому пению к тестю. Собрались Степан, Марка, Алексей и я. Начали учиться с первого гласу. Два вечера поучились, Степан взадпятки <![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> , не захотел учиться, говорит, что трудно, Марка с Алексеям тоже не захотели. Ну, оне пошли по охотам, да по рыбалкам, да гули-погули. Мне пришлось учиться одному, за два месяца я все гласы прошёл. Ну, слава Богу, теперь можем спокойно молиться в Аргентине. o:p/
Собрались домой, приезжаем в Буенос-Айрес. Я решил сходить в русскую лавку книжную. Лавка была Ласкиевича, мы там иногда брали книжки. Прихожу, того старика нету, спрашиваю: o:p/
— А где тот старик, что нас обслуживал? o:p/
Парень отвечает: o:p/
— Уже как два года умер. o:p/
— Большоя вам сожаление. — Спрашиваю: — Вы с России всё ишо привозите русские книги? o:p/
Он говорит: o:p/
— Нет, нет спросу, и мы вон выставили всю отцовскую библиётеку. Хошь, бери вон лестницу и смотри, что тебе нужно. o:p/
Беру лестницу и на верхных полках проверяю; что интересно, то откладываю. Смотрю, «Протоколы сионских мудрецов». «Ого!» — меня прокололо. Забрал все книги — их было тринадцать штук, — подхожу к прилавку, сын пустил их по низкой цене, даже не взглянул. Ну, я с радостью домой. o:p/
Приезжаю домой, читаю ету книгу, перечитываю ишо на два раза, и у меня мурашики по спине забегали. То, что написано в трёхтолковым Апокалипсисе о последним времени, написано в давние времена Иоанном Златоустым, а тут сионские мудрецы пишут, как оне должны поступить с миром, чтобы ём завладеть. Но никто не поверит, все скажут — дурак, но одно помяну: действительно мы «гои». o:p/
С тех пор стал всем интересоваться, всю информацию рассматривать и анализировать, и за 25 лет, да, точно, не ошиблись, ето опишем дальше. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
4 o:p/
o:p /o:p
Моя крёстна, мамина сестра Марья, — её нихто взамуж не брал, её прозвище было Царь-баба, все её боялись. Но взамуж она хотела, и как выйти? В то время приехали с Китая, было две ровни <![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> . Старши перезрелы, им как-то надо было определить свою судьбу. Оне выпивали. Ну вот, моя хрёснушка хотела выйти замуж, ну как? Выбрала телёнка, напоила, переспали, после того стали любоваться, она забеременела и приказала её брать, а нет — пострашала: в то время за ето власти брались крепко. И хто попал в ету ловушку — ето Анфилофьев Евгений Титович, парень безответный и добрый (их восемь братьяв и две сестры). Бедняге некуда было деваться, пришлось брать, родители были против, и оне сбежались, тайно убежали в Буенос-Айрес. Когда она принесла сына, приехали, но родители их не приняли. Оне стали жить с бабой Евдокеяй, вскоре их свенчали. Дитя окрестили, назвали Борисом, я стал крёстным, а Степанида крёстной. Мы с ними водились, оне пошли по арендам, обои работяги, у них сразу пошло хорошо, он коммерсант, чё вырастит, сам торгует, везёт туда, где нету. Потом рождается дочь, крестили, назвали Анна, тоже моя крестница. o:p/
Интересно: мамин брат Степан и сестра Марья ростили своих детей и внушали против Зайцевых. Мы старались с ними родниться, но с ихной стороны как-то всё бочкём. И детей вырастили, стали совсем чужими. Мы со Степаном молились, он как наставник, а я уставшик и головшик, оне к нам не подходили. Когда подъехали Шарыповы и Ларионовы, у их основался собор, и всё наше родство, включая наших родителей, ходили туда. Нас Шарыповы шшитали за еретиков, мы помалкивали, всё терпели. Вскоре у их за каки-то несправедливости уходют от них наши родители и кум Евгений и крёстна. Крёстна давай нас убеждать, чтобы молились у них, говорит: «Дом большой, места всем хватит». Ну, мы согласились, стали молиться, постепенно она стала во всё вникать, мне ето не нравилось, Степан молчал. Собрались на Пасху, стали молиться, она во всё вникает и везде лезет. Когда отмолились, я с ней разоспорил: o:p/
— Зачем я учился — стары напевки и разный <![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> устав подымать? o:p/
Поспорили, она не сдаёт, тогда я сказал: o:p/
— Молитесь, я суда не приду больше. o:p/
У них без меня не пошло, и она передавала, чтобы я вернулся. Говорю: o:p/
— Нет. Наслышался её досыта, ето не собор, а диктатура. Вот скоро подъедут добры люди, сделам моленну, тогда будем молиться, а пока дома. o:p/
Но за ето крёстна мне отомстила. А получилось ето так. o:p/
o:p /o:p
Когда мы со Степаном уехали с Помоне к Герману, кум Евген арендовал в Помоне землю. Борису уже было четырнадцать лет, на тракторе он работал. У нас родилась дочь Таня, всё было хорошо, но что-то дома у нас с Марфой не пошло, стала пушше спорить, не покоряться, всё на вред, не варит, не стират, станешь допытывать — бурчит. Мама надулась, Евдокея надулась. Что такоя? Мы вообче часто гуляли, а тут вовсе с горя загулял. Однажды приезжает мама, и я прихожу пьяный. Мама: o:p/
— Где, — поднялась, — таскашься, таскун, уходи из дому! o:p/
И Марфа почувствовала таку защиту, повысила голос: o:p/
— Уходи и уходи, таскун! o:p/
Я в шоке, нихто разбираться не хочет, чуть не вытолкали. Собрал в сумку маленькя одёжи и ухожу. Слышу, мама говорит Марфе: o:p/
— Пошлятся да и придёт. o:p/
Посмотрим. Ну и судьба же досталась! Беру автобус, еду в провинцию Чубут, в город Пуерто-Мадрин, там у меня друг детства Луис Пачеко, работает на алюминевой фабрике. o:p/
Приехал к нему, он обрадовался, принял меня. Стал узнавать, где хорошо заработать можно. Он повёл к своему другу, что работает на порту начальником, сгружают свежую рыбу в яшиках лебёдками, и плотют хорошо. Но ето кооператив, и у всех номера, надо быть на порту в пять часов утра, а зимой холодно. На порту работают проходимсы, которы любят лазить по ночам. И бывает так: набор, а рабочих не хватает, вот тут и берут новичков, и каждый раз надо ждать. Как не хватает, так и успевашь работаешь, ето случалось два-три раза в неделю, но прожить хватало. Перво казалось трудно и чижало, но, когда понял сноровку, стало хорошо получаться и легко. Каждый день я был на порту, начальники кооператива ето видели, да и уже со многими соревновался, что <![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> аргентинсы приходют голодны, мату пососут да и на работу, а силы нету. А я по-русски: хорошо позавтракаю да с собой на работу беру обед, вот и сыт голодному не верит. Через полтора месяца вызывают в контору, проздравляют и выдают мне карточкю с номером 33. Тогда начал работать каждый день. Когда не хватало суднов, нас посылали на международный порт Адмиранте Сторни, а мы работали на команданте Луис Пьедро Буено, на большим порту сгружали морожену рыбу и загружали заграничные судна. o:p/
Как-то раз вижу русский флаг, подхожу, спрашиваю на вахте: o:p/
— Можно к вам? o:p/
— Можно. o:p/
Захожу, там передали капитану, приходит: o:p/
— Вы откуда? o:p/
Рассказываю. o:p/
— Интересно. Заходи! o:p/
Собрали на стол, выпили-закусили, расспросы, рассказы. Все чудятся: o:p/
— Через столь лет, уже внук, и чисто на русским языке говоришь! И русская рубашка, поясок — ето сказка! o:p/
Мне ето всё казалось чудно: как так оне удивляются? Показали русские фильмы, приглашали в Россию. Всё там казалось родноя. o:p/
Подходит греческое судно. Я узнал, что ето судно каждых два года приходит на етот порт и хорошо плотют. Я обратился к капитану, через переводшика попросил работу, он спрашивает: o:p/
— На каких языках говоришь? o:p/
— На русским, на испанским, на португальским. o:p/
— А на английским говоришь? o:p/
— Нет, но, ежлив надо, можно подучиться. o:p/
— Хорошо, мы будем стоять пятнадцать дней. Неси паспорт, сделам контракт на два года. Через два года в ети же числы судно будет в етим порту, зарплата 1500 долларов в месяц, но получишь их все через два года на етим порту. А на каждым порту, где будет стоять судно, даём виятик <![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> на каждый день по 30 долларов на личные расходы. o:p/
— Хорошо, я подумаю. o:p/
Действительно, задумался. Два года — 38 000 долларов, ето можно купить 50 — 60 гектар с фруктой. У меня паспорт дома простроченной, но ето полбеды: за два дня в Буенос-Айресе можно поновить. Но как с Марфой? Надоело мне спорить, разойтись раз навсегда — детей жалко, да и стосковался: как ни говори, уже четыре месяца прошло. o:p/
Приезжаю домой, тесть в гостях: o:p/
— Ну что, набегался? o:p/
— Ишо нет. o:p/
Узнала мама, приходит: o:p/
— Зачем приехал? o:p/
— За документами. o:p/
— И куда? o:p/
— В Европу. o:p/
— Зачем? o:p/
Всё рассказал. o:p/
— А семья? o:p/
— Семья, чё вы, сами выгнали, а за чё, сам не знаю. o:p/
— Как не знашь? o:p/
— Не знаю. o:p/
— А кака у тебя женчина в Помоне? o:p/
— Никакой нету. o:p/
— Как никакой нету, а которой поясок подарил? o:p/
Тогда я догадался, в чём дело. o:p/
— Стоп-стоп, вы мараете совсем невинных людей. Марфа, в таким-то числе к нам приезжали за сливами наши помонски друзья, Жюлияни с женой. Он попросил поясок, я тебе сказал: «Марфа, иди принеси». Ты принесла и подарила. Хочете, поедем к ним и сверимся. o:p/
Оне заотпирались. o:p/
— Как так, довели до разводу, выгнали ни за что. o:p/
Мама говорит: o:p/
— А в ребятах ты как жил? o:p/
— Мама, в ребятах у меня не было семьи, я покаялся и клятву сам себе дал, чтобы жене не изменять. А где вы выдрали ету сказку? o:p/
— Да Марья Гениха рассказывает, что ты етой женчины хороший друг и она тебя шибко хвалит. o:p/
— Да, ето правды, мы с ней хорошие друзья, и с мужем, и с сыновьями. А что, нельзя иметь с женчинами дружбу или женчинам дружить с мужчинами и не думать толькя об сексе? o:p/
Молчат. o:p/
— Прости, мы ошиблись. o:p/
— Вы ошиблись! От людей смех, от Бога грех, а дети при чём? Зачем оне доложны страдать из-за наших ошибок? o:p/
Молчат. o:p/
— Ну вот, поеду на два года моряком, через два года можем купить своёй земли и жить себе спокойно. o:p/
Марфа в слёзы, мама не пускат. Говорю Марфе: o:p/
— Неужели всю жизнь будем ходить по арендам? o:p/
— Да, лучше будем ходить по арендам, но я не хочу, чтобы ты уезжал. o:p/
— Но так трудно нам будет. o:p/
— Пускай трудно, но вместе. o:p/
— Ну как хошь. o:p/
o:p /o:p
5 o:p/
o:p /o:p
Со Степаном мы разделились. Ему достался трактор, мне пикап, я его тут же сменял на легкову, а легкову на трактор «Массей Фергусон» — трактор хорошой, но разбитой. Арендовали земли и давай готовить. o:p/
Тут переселенсы с Бразилии и с Боливии. С Бразилии приехали, что там стало трудно. Ето были Бодуновы Лука и Димитрий, Черемнов Иона, Бочкарёв Антон с Ульяной, Снегирев Тимофей — друг, Степан Ревтов; с Боливии Павлов Игнатий, Вагнер Василий, Кузьмин Евгений, Черемнов Максим, Мурачев Селькя. С Боливии уехали, потому что государство старообрядцев обмануло. Оне разработали много земли, забили все рынки рисом, и всё местное население восстало против: «Гринги забили весь рынок, а чем жить?». Вообче в стране вечные непорядки, нищета, коррупция, перед выборами кандидаты посулили местному населению: «Не переживайте, мы грингов уроним». Так и сделали. Надавали нашим кредитов без всяких гарантияв и заставили подписаться друг за друга — обчим, связали всех. А на другой год тянули-тянули с кредитом и, когда стало совсем поздно, выдали кредиты. Хоть и посеяли, но урожай не взяли. Долг получился 4 000 000 долларов. Банок не стал ждать, забрал всю технику, некоторых посадили в тюрьму, многи разбежались хто куда — в США, в Канаду, в Аргентину. Русское посёльство хотело заплатить всем долг, но наши не захотели и долго потом расшитывались с банком. o:p/
У Павлова Игнатия получилось ишо несчастье с зятем Вагнером. Сэлый вагон грузу отправили с границы в Буенос-Айрес, и всё аргентинсы украли, оставили их нищими. Много было слёз, но что поделаешь. o:p/
Пришлось помогать, я занял им свой трактор, и оне на нём всю землю приготовили, и Бочкарёву Антону с Ульяной также. Игнатий вскоре выкрутился, написал своёму родству в США о своим несчастье, и ему выслали 50 000 долларов. У него жена Федосья выпиваха, два сына, Варнавка и Иринейка, три дочери маленьки и три взамужем. o:p/
А Степан етот год помогал Ионе Черемнову. Люди просют — надо помогать. o:p/
Игнатий показал себя скромным, набожным, ну куда лучше, все мы его шшитали почти за бога. Я давай говорить Степану: o:p/
— Степан, ты неграмотный, пускай стаёт Игнатий на твоё место. o:p/
— Ну чё, пускай, я всё равно безграмотный. o:p/
Стали просить Игнатия все вместе. Жена Федосья сказала: o:p/
— Вы его не просите, он вас всех разгонит. o:p/
Мы все рассмеялись, один Лука Бодунов внимание взял и сказал: o:p/
— Да, у нас худенькяй <![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> наставник, да он нам знакомый, а просим хорошего, но он нам незнакомый. o:p/
Нихто на ето внимание не взял, и все дружно просили Игнатия. Он стал, помощника попросили Ревтова Степана Карповича, племянника дяди Федоса, третяй помощник — брат Степан, уставшиком поставили меня, вторым Максима, головшиком Иона. Стали молиться весело, красиво, все старались, всё шло чинно, все были довольны. o:p/
Постепенно Игнатий стал порядки ставить строже и строже, нихто не возражал, хотя и некоторы и были недовольны. Как-то раз отмолились, Игнатий говорит: o:p/
— Слушайте, братия, у нас здесь есть некоторы, знаются с Шарыповыми, а оне поморсы. В США было постановлёно, что с ними не знаться: так как оне не признают святыню — святую воду, на распятии не признают Святаго Духа, то за ето признаём их за еретиков. С ними не знаться, не кушать, в гости не ездить, за них не отдавать, у них не брать, а хто переступит, таких не хоронить, за них милостину не подавать и не молиться. o:p/
Мы со Степаном и тятя говорим: o:p/
— У нас там родство. o:p/
Он: o:p/
— Пускай родство. Не будете знаться — поскорея перейдут. o:p/
Нам не понравилось, но мы промолчали. Что поделаешь, собор есть собор, надо покоряться. o:p/
Вскоре Игнатий обратился в собор в США, попросил помощь — построить моленну. Там собрали 8000 долларов, послали. Они с Ионой купили дешёва дерева тополёва на 4000 долларов и построили моленну. Никому не сказали, остальные деньги прикарманили. На 8000 долларов можно было хорошую кирпичну моленну построить. Моленну построили у кума Евгена, так как ето место боле в центре. o:p/
Постепенно оне создали свою кучкю и давай диктовать — что хотели, то и творили. Ето были Игнатий Павлов, Иона Черемнов, Ульяна Бочкарёва, Василий Вагнер, Степан Ревтов, но не Степан, а Таисья. Остальной народ всё терпел. Как-то раз отмолились, Игнатий Ревтов поднялся на Димитрия Бодунова и закричал: o:p/
— Уберите магнитофоны, а то отлучим! o:p/
Димитрий отвечает: o:p/
— У нас их нету. Может, имеют тайно, но мы ничего не знаем. Оне теперь больши стали и не слушают. o:p/
Игнатий как закричит: o:p/
— Какой ты отец! Продай ети магнитофоны да купи себе штаны. — В подсмешку. o:p/
o:p /o:p
6 o:p/
o:p /o:p
Наш Григорий с бедной Сандрой жил плохо, пьянствовал, избивал её, жил беззаконно, никого не слушал. Было у них две дочери, Полькя да Каринка, и она третьим ходила. Нам всегда было её жалко: добрая женчина, безответна, и была не против жить в христианстве. Но мы всегда говорили со Степаном: o:p/
— Сандра-то чё, Гришу перво надо обратить в христианство. o:p/
Но мама и Евдокея настаивали: o:p/
— Его надо женить на русской, тогда он будет жить по закону. o:p/
Мы были против: o:p/
— Судьба быват от Бога одна, и он сам её выбрал, и чем она не женчина? o:p/
Оне нас не слушали, а ему то и надо было: видит, что за него заступаются, и давай, что «хочу русскую, и всё». Мы со Степаном молчим: творись воля Божия. Григорий не захотел с ней жить, она уже принесла третьяго дитя, ето был сын. Он забрал у ней детей и отправил к матери в Баия-Бланка. o:p/
К етому времю я продал трактор и купил пикап, потому что пошла большая инфляция и невыгодно работать на земле. На етим пикапе я поехал в Коронель-Доррего через Баия-Бланка и увёз Сандру к матери. Но я видел, как она расставалась со своими детями, — не дай Бог никому такого, каки слёзы лила, бедненькя, жалко. И сам себе не могу простить, что мать увёз от детей. Хоть я и невинный, но душа болит. o:p/
Тут вскоре я купил лодку семиметрову, хотел заняться рыбалкой, она принимала пять тонн. Но к етому надо было сдать екзамен, чтобы получить книжку морскую. o:p/
Гриша не ужился один, уехал к Сандре, сговорил её и стал жить с ней. Мама передавала Грише: «Забирай детей. Сын очень хворал, не заберёшь — окрешшу сына, больше не отдам». Он не слушал. Мама окрестила, а когда оне приехали за детями, мама дочерей отдала, а сына не отдала. Сандра убивалась, плакала, но ето ей не помогло. Поехали оне в Пуерто-Мадрин, я Григорию отдал свою карточкю работать на порту, и оне уехали. Он устроился на порту, стал работать, хороши деньги стал зарабатывать, но пользы никакой. Когда мы привезли лодку в Пуерто-Мадрин для пробы, я удивился, где оне живут: в избушке не шшикатурено, не белено, но полны яшики продукту. Спрашиваю: o:p/
— Где работашь? o:p/
— Сторожем на порту. o:p/
— А ето откуду столь продукту? o:p/
Улыбается и молчит. o:p/
— Ты что, сдурел? Ето же всё воровано. o:p/
Выяснилось, что с кооператива его выгнали, и он в одной компании работал сторожем на суднах ночами, и вместе с полицияй воровали продукт. Компания ето всё выяснила, и его выгнала. Домой всегда он приходил пьяный и жену избивал. Она терпела-терпела, не выдюжила и бросила его, взяла девчонок и уехала к матери. o:p/
Лодку я не смог спустить в море, по закону не хватало матерьялу для навигации, и власти не разрешали спускать в воду. Деняг не хватало. o:p/
o:p /o:p
Приезжают с Бразилии Федос с Шурой Фефеловы, сына женить Петра, и стали сватать втору дочь у хрёсне с кумом Евгеном, Палагею. Всего разодна угодила характером в отца — добрая и красавица. Многи её сватали, но хрёсна рылась <![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]> : тот не жених, другой не жених. Когда пришёл Петро, хрёсна отдала, Палагея молчала. Девишником хрёсна узнала, куда отдаёт: в руки ежовые, Шура вообче снох доржала как мусор. И хрёсна решила отказать, невесту спрятала, а сватовьёв выгнала — настроила столь делов, но ей море по колен. o:p/
Вскоре приехал дядя Маркин сын Карпей, и оне отдали Палагею за него. Но она не хотела и не любила его, но пришлось выйти по приказу матери, страдала и страдат до сего дня. o:p/
А Федос с Шурой с сыном уехали в Уругвай и взяли Марфину сестру шесту Агафью. Мы на свадьбе были. Вскоре тесть отдали и пяту дочь, Ольгу, за Василия Ефремовича Ревтова. Ето тот Васькя — мамин шпион. Ефрем разошёлся с женой и уехал в Канаду, семья осталась в Боливии, а Васькя превратился мне в свояка. o:p/
Когда у нас гостила Марфина сестра Палагея, стал с ней заигрывать ларионовской сын Леонтий — парень хороший, и ей он нравился. Он стал говорить своим родителям, чтобы сватать идти. Оне узнали у меня, отдадут ли, нет за них дочь. Я сказал: o:p/
— Езжайте да узнавайте, но ето дело сложно. Едва ли тесть отдаст за поморсов. o:p/
Что у их получилось, не знаю, но они пошли сватать у Бодунова Димитрия Фектисту. Леонтий сказал Палагее, что всё равно он с ней жить не будет, а Палагея убегом не захотела, потому что не хотела обидеть тестя. o:p/
Сам Василий Ларионов — вскоре его схватило, получилось заворот кишков, не довезли в больницу, и он помер. Жена осталась вдова с шестьми детями: три сына и три дочери не определёны, да три сына женатых, и дочь Акилина, старша, за Антоном Шарыповым. Васильева жена всё продала и уехала в США, и два сына старших женатых уехали с ней, а Леонтий с Фектистой остались. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
7 o:p/
o:p /o:p
Приезжает Герман Овчинников и убеждает нас поехать в Китай. В Китае свобода, у его в банке там деньги были, и он часто туда ездил. Рассказыват, что одна семья уже там, ето Степан Барсуков, и он хвалится. Герману китайски власти навеливали <![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]> земли там, где я родился, заниматься пантокрином, фруктой, молочным промыслом, форестом, посевами, давали всю технику. И он решил пригласить нас. Пошёл разговор: «Да, китайско государство надёжно». Мы собрались съездить в китайско посёльство узнать, как можно получить китайско гражданство. Поехали Герман, Лука Бодунов и я. Приезжаем в Буенос-Айрес, приходим в посёльство, нас принимают очень по-холодному. Герман показывает банковски реквизиты, мы говорим: o:p/
— Хочем вернуться домой. o:p/
Герман говорит: o:p/
— Нам хороший предлог <![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]> сделали там в Китае. o:p/
Местные власти нам отвечают: o:p/
— Мы вас не знам, гражданства не выдаём, а хотите — поезжайте, там на месте, ежлив вас там признают и за вас подпишут, там получите гражданство. o:p/
Посудили, как быть, ничего конкретного не присудили, и всё осталось так. o:p/
Приходим к Беликовым, там находились Леонтий с Фектистой, оне купили билеты в США. У них малый сын документы имел американски. Когда пришли на самолёт, их аргентински власти не выпускают, говорят: o:p/
— Как так, ребёнок родился в Аргентине, а выезжает на американским паспорте? Нет, не может, он толькя может выехать с аргентинским паспортом. o:p/
Оне в панике, билеты теряют, Беликов Владимир говорит: o:p/
— Данила, помоги им, мне нековды. Толькя слушай, приходите в федеральную паспортную, не жди очереди, пробирайся внутро и спрашивай начальника. Кода подойдёшь к начальнику, проси со усердием и объясни ихну ситуацию. Он будет отказывать, но меняй запрос, на третяй раз он не откажет, ето закон. Понял? o:p/
— Да. o:p/
Приходим в паспортную. Матушки, три квартала очереди! Пробиваемся внутро, полно народу, коя-как добивамся начальника, показываю ихны паспорта и прошу: o:p/
— Пожалуйста, сеньор, вот у паре проблема. Он американес, она бразильянка, сын родился в Арьгентине, но паспорт американской. Дитя не пускают на самолёт, надо ему аргентинской паспорт, пожалуйста, помоги. o:p/
Он: o:p/
— Я ничего не могу сделать, идите вон на очередь, и вас вызовут. o:p/
— Синёр, пожалуйста, вот ихни билеты, оне прострачиваются, а оне бедны, им даже негде ночевать, и деняг нету. o:p/
— Но я ничего не могу сделать, извините. o:p/
— Синёр, пожалуйста, я нездешной, живу за 1000 километров отсуда в Рио-Негро, и, ежлив я их оставлю, что оне тогда будут делать? У меня сегодня путь, вот билет, мы с ними стретились случайно, и оне были в слезах. Пожалуйста, будь добрый, помоги, пожалуйста. o:p/
Тогда он говорит: o:p/
— Идите за мной. o:p/
Приходим, где пальцы липют и фотографии заснимывают, и приказал: o:p/
— Срочно сделайте паспорт ребёнку. o:p/
Всё оформили и сказали: o:p/
— Через двадцать четыре часа приходите за паспортом. o:p/
Я сходил купил дорогих конфет сэлу коробку и хотел подарить начальнику за таку добрую услугу, но он не взял, а толькя сказал: «Счастливого пути!». Я ету коробку подарил, где паспорт делали. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
8 o:p/
o:p /o:p
Ревтов Степан Карпович, наш помощник наставника, племянник дядя Федоса, человек низенькяй, метр шестьдесят, сухонькяй, но красивой, набожный, скромный, добрый, — чё-то дядя Федосово в нём есть. Жена у его Таисья Гуськёва, женчина высока, стройна и красива, но характер очень чижёлый: вредна, завидлива, ленива. Бедной Степан Карпович был у ней как раб, на пашне и в дому вся его была работа, и никогда не мог ей угодить, всё он худой и всегда такой-сякой. Хто Степана Карповича знал и видел его жизнь, все ему сочувствовали. o:p/
Таисьина мать Зина и тётка Лиза — ето по всем свидетельствам две чародейки, и немало оне принесли горя людям. Слухи идут, что Таисья тоже знат, но мы нихто не верили. Люди рассказывают, что в Масапе она много вреда принесла и ко многим в жизнь залезла. У них один сын Лазарь, характер точно мама, но рабочай в отца, три дочери. Старша дочь, Евфросинья, ленива и вся в маму, вторая, Антонина, средняго характера, вышла за Макарова Иллариона Тимофеевича. Третья, Кира, ета боле в отца, ростом высока, стройна. Мать своим дочерям искала мужиков стройных, двум нашла. Вторую отдала за моего крестника Бориса Евгеновича Анфилофьева, но старшу нихто не брал, все обегали, не связывались: неженка, характерна, любила — полюбит, полюбоваться и дальше, меняла ребят, лезла к мужикам. А мать везде была ей покровительница. Многи перехворали неизвестной болезняй, ето случалось не толькя с ребятами, но и с девчонками. Как котору не возлюбит — так на тебе, страдай. Бодунова Ольгя перенесла много лет неизвестною болезнь, вся высохла, ходила по врачам, врачи ничего не признавали, но слухи шли, что ето не простая. o:p/
Когда Таисья приехала с Бразилии, старалась поиметь со всеми дружбу. Как-то раз приезжает к тяте в гости. У Евдокеи очень много было цветков, в самых воротчиков по обы стороны были больши кусты руды, очень красивы. Таисья подходит к воротчикам, отворяет воротчики, и что она видит: руда! Она как ахнет и чуть не упала: o:p/
— Степан, скоре поехали домой! o:p/
Степан: o:p/
— Что с тобой? o:p/
— Поехали домой! o:p/
И Евдокея сразу сказала: o:p/
— Ето чародейкя. o:p/
А мы ей отвечаем: o:p/
— Да пошла ты со своими сказками! o:p/
Как-то раз выходим из моленны, подходит Таисья и так ласково спрашивает: o:p/
— Данила, довези нас до дому. o:p/
Я за всяко-просто говорю: o:p/
— Да садитесь, пожалуйста, довезу. o:p/
Смотрю, Фроськя заскакивает в кабину, Таисья за ней. Мне стало чудно: в кабине должен сясти Степан Карпович и Таисья, а тут Степана послали наверх, мои дети тоже наверх. Везу их домой, и что же я вижу? Фроськя льнёт ко мне, а Таисья ну така ласкова, и таки словечки говорит! o:p/
— Фросе так трудно, нет путних ребят, а ты такой стройный, ласковый, весёлый, и в моленне как станешь читать, я бы слушала и слушала. o:p/
Я весь в шоке: жена помощника наставника, любимый для меня Степан Карпович, и хорошая память от дядя Федоса! Думаю: ах ты проклятая паскуда, что ты делаешь, Бога не боишься, мужа не почитаешь и детям желаешь разврату! Я незаметно дал им понять, что такими делами не занимаюсь, и вежливо их оставил. Оне приглашали остаться обедать, но я отговорил, что Марфа ждёт, и уехал. Таки дела мы с Марфой разбирались сразу. Бывало, к ней липли мужики: хто скажет, хто заденет, где не подобно, она приходит и сразу мне говорит: такой-то мужик лезет ко мне. Я не налетал никогда ни на кого, и доверия к Марфе росло всегда боле и боле. Но тот мужик, что занимается такими делами, он для меня становился навсегда противный. o:p/
Кум Евген Титович, когда женил Бориса на Кире Степановной, поперво всё было хорошо, но потом получилась между ними вражда, и дошло до того, что кума Евгена стало всяко-разно тянуть. Врачи ничего не признают, пошли к екстрасенсам, оне им сказали: у вас в таким-то месте закопано, раскопайте и сожгите. Нашли место, раскопали и нашли гнездо непонятно и так закутано, ничего не разберёшь. У их вражда ухудшилась. o:p/
В 1987 году рождается у нас дочь, назвали Еленой. У нас всё шло благополучно, часто гости, то к нам, то к друзьям. Елене было три месяца. Как-то раз отмолились, Таисья просится в гости. Мы с Марфой: «Ну что, милости просим». Но странно, она поехала одна, без мужа. Едем домой, она Марфе задаёт каки-то вопросы непонятны: o:p/
— Вот у тебя муж большой, ты маленькя. Такой ручишой тебя ударит, что с тебя станется? o:p/
Марфа: o:p/
— За чё бы стал он бить меня? o:p/
— Да я просто. o:p/
Приезжаем домой, я бегу к маме в ледник за мясом, Марфа ушла доить коров, Лена спит, ребятёшки играют. Марфа подоила, пришла: девчонка в зыбке как из-под ножа ревёт, Таисья даже не подошла. Марфа удивилась. Пообедали, Таисья торопит, приглашает в гости: «Ну поехали». Марфа не захотела — ну оставайся. Приезжаем до них, маленькя посидели, поехали дальше. Целый день возил по гостям, и так натренькялся, но до дому доехал. Приезжаю домой, Марфа встречает злая. У нас с ней получился спор, и так она огрызалась, ето было невыносимо. o:p/
— Замолчи! o:p/
— Нет. o:p/
— Замолчи! o:p/
— Нет. o:p/
Я обозлился да как двинул, что сам напугался. Она лежала без памяти, но, когда очухалась, убежала к маме. Пришла с мамой, мама меня долго пробирала, но я одно твердил: o:p/
— Не лезьте ко мне к пьяному, хочете разбираться — разбирайтесь, когда трезвый. o:p/
А у Евдокеи те кусты руды высохли, и больше никогда она не сумела вырастить руду. o:p/
o:p /o:p
9 o:p/
o:p /o:p
Приходит с Боливии письмо от дядя Марки, пишет, что «в Майами нуждаются рабочими на ситрусе, приезжай, поедем вместе, заработки очень хороши». Думаю, вот шанс, заработаю и абилитирую <![if !supportFootnotes]>[18]<![endif]> свою лодку и тогда буду рыбачить. Марфа не против. Собрался, поехал. o:p/
Приезжаю к дядя Марке, у них несчастье: сын Карпей попал в аварию и повредил в голове каки-то артерии, лежит в Боливии в больнице у японсов, но операция за операцияй. У дядя Марки тако горе, такой расход. Надо было досеять 100 гектар бобов, и некому. Попросил меня, я посеял. Дядя Марка отказался ехать в Майами, что не может бросить сына, а я один не насмелился. o:p/
Узнал, что Ксения, та девушка, котору брату Григорию Евдокея советовала брать, — она в Боливии, в городе, занимается вышивками. Рассказал всю историю о брате, дядя Марка выслушал и говорит: o:p/
— Слушай, и она не лучше, давай им поможем. А может, будут жить? Но знай, что она многих ребят перебрала. o:p/
— Ну что, посмотрим, сойдётся у них или нет. o:p/
Поехали в город, дядя Марка с ней стретился, переговорил, приезжают вместе. Да, женчина высокая, стройная, чем-то напоминает мужчин, некрасивая, но смелая. Познакомились. Стал рассказывать о Григории, она выслушала и весело отвечает: o:p/
— Да я хоть с бесом уживусь! o:p/
Смотрю, ну ты бойкая, посмотрим, как уживёшься с Гришей. Говорю: o:p/
— Мне надо выезжать домой. o:p/
Она говорит: o:p/
— Можешь заехать к моим родителям? Ето надо ехать в Бразилию, в Парану, в деревню Санта-Крус. o:p/
— Ну что, поехали. o:p/
Вечером берём билеты на поезд и утром выезжаем. o:p/
Приезжаем к родителям, всё объясняю подробно, за кого отдаёте. Оне ответили: o:p/
— Хорошо, мы обсудим и тогда ответим. o:p/
Дал им наш телефон, распростился и уехал. o:p/
Приезжаю домой, рассказываю, как случайно встретил Ксению и даже сватал её у родителяв. Григорий остался довольный, Евдокея стала звонить Ксении, всё сошлось по-хорошему. Через месяц приезжает Ксения, мать, брат, завязывается свадьба. Мы не можем пригласить на свадьбу дядя Степана Шарыпова, Игнатий не разрешает. Приглосим — отлучит от братии. А Григорию дядя Степан крёстный. Сыграли свадьбу, вскоре она увезла Григория в Бразилию. o:p/
o:p /o:p
Антон Шарыпов — внук наставника, спасовец, он с малых лет боле кроче и набожный. В США он женился на Акилине Васильевне Ларионовой. Девушка красива, стройна, ласкова, вежлива, но что-то у них не пошло, хотя и были у них дети, три дочери: Матрёна, Фивея, Зина — и сын Коля, ещё маленьким утонул. Оне друг другу изменяли, и мать Антонова, Марфа, Акилине ето не простила, разжигала Антона против неё. Антон с Акилиной приехали в Бразилию богатыми, купили чакру с фруктой 25 гектар с домом, купили на берегу реки 400 гектар земли, провели канавы, поставили помпу большую трифазну, Антон разбахал на етой земле себе дворец, но не достроил. В городе Чёеле с компаньёнами открыли магазин строительный, жил на широку ногу. Так как русских было мало, он часто к нам приезжал и приглашал, возил нас по речке, жарили шашлыки, рыбачили, охотничали кабанов. Но нам ето не нравилось, Антон вёл жизнь развратну. Когда у нас основался собор, категорически запретили с Антоном знаться. С США часто приезжал брат Антона Андрей, он с нами ласкался, но мы как-то к нему относились с опаской. С малых лет как-то поведение у его было непростоя, и чичас — взглянешь на глазки и чувствуешь лукавство. Жена у его Февруса Мартюшева. Впоследствии узнали, что Андрей с Игнатиям свояки, у них жёны сёстры. Андрей — ето полный развратник, а старший брат Гаврил — ето человек грубый, характером в отца, его женили, но у него не пошло. Вскоре слухи прошли, что живёт развратно и сделался наркоманом. o:p/
Когда наш наставник запретил знаться с поморсами, синьцзянсы исполняли волю наставника, но харбинсы не все. Селькя, Максим, Евгений Морозик, Лука Бодунов как праздновали <![if !supportFootnotes]>[19]<![endif]> с Антоном, так и празднуют. o:p/
Вскоре приезжают дядя Васильева Килина жена с сыном, ето Февронья Мартюшева, сестра Игнатьевой жены. Сын Анатолий Васильевич попраздновал, и понравилась ему девка, Екатерина Степановна Шарыпова. Он её высватал, и мать с Игнатием пошли сватать дочь у поморсов. Весь собор был в шоке: дак вот как, закон-то кому-то постановили! На свадьбе дядя Степан нас стыдил как мог и называл нас харбинскими жополизами, и он, получается, прав. o:p/
Вскоре выяснилось, что Игнатий с Андреям Шарыповым гуляли вместе. Как так? Антон — еретик, а Андрей — святой? Народ занегодовал. o:p/
У Игнатия жена померла, остался вдовой. Народ зароптал, что Таисья ездит тайно к Игнатию. Вскоре он высватал в США Валентину, женчина его возраста, но разведёна, один сын Василий, уже парень. Но у нас порядки такие: пока муж или жена живы, хоть и разошлись, не имеют права к другому браку. Но Игнатий на ето не посмотрел, хотя и шёл ропот. Перед венчанием обманул весь собор, наврал, что получил из США из собору письмо, что может жениться на етой женчине. Мы поверили и свенчали его. На свадьбу нихто не пошёл. Оказалось, письма с США никакого не было, всё он врал. Вот тебе и пастырь! o:p/
Тут ихна кучкя всё боле и боле показывала всякия разны фокусы. Игнатьевы сынки подросли, 15 — 16 лет. Варнавка, Иринейкя, Пашка Черемнов поставили в своих машинах наилучшия музыки, и во весь рупорт у них музыка играла. В моленне народ заговорил: o:p/
— Как так, Игнатий, всех боле ты ставил законы и Димитрию Бодунову кричал: «Какой ты отец, продай все ети музыки да купи себе штаны!», а теперь стало всё можно? o:p/
Молчит. o:p/
o:p /o:p
10 o:p/
o:p /o:p
Иона Черемнов с Игнатьевыми ребятёшками и пасынком арендовали за 500 километров от Чёеле в провинции Буенос-Айрес, город Трес-Аррожёс, земли и посеяли пшеницу. Какой у них был урожай, нам неизвестно, но одно: Иона сговаривал как-нибудь устроиться на посевных землях. Правды, охота бы сделать свою деревню, живём хуторами да по арендам. Но как? Земли дорогия, решили поехать посмотреть, где и как можно устроиться. Собрались на моём пикапе, подхватили трейлер с домиком на шесть человек и собрались: мы с братом Степаном, Иона, Василий Немец, Варнавка и Василий, Валентинин сын. Поехали по посевным землям. В провинция Буенос-Айрес много где заезжали, но нигде не подходит. Аренда дорогая, с процентами тоже не подходит, запрашивают 50%, ето очень много, и везде нам отвечают: дешевле вы не найдёте. Куда ни приезжаем, везде меня толкают, чтобы договаривался. Однажды говорю: o:p/
— Что всё мене приходится разговаривать? Давайте хто-нибудь из вас говорите. o:p/
Все промолчали, Иона говорит: o:p/
— У тебя подход хороший. o:p/
И все заговорили: o:p/
— Да, Данила, действуй, у тебя получается. o:p/
Стал им говорить: o:p/
— Слушайте, ребята, сами видите, земли нам не найти. Мой предлог такой. Чтобы нам добиться земли для деревни, один выход: мы должны найти большого богача, устроиться как рабочими всем вместе, показать наше старание, угодить ему, и тогда, может, человек смилуется и уделит земли под деревню. Другого выходу у нас нету, и деняг нету. o:p/
Идея всем понравилась, так и решили. В среду приезжаем в город Чавес, заходим в инмобилярия <![if !supportFootnotes]>[20]<![endif]> . Человек угодил опытной и добрый, выслушал, хто мы такия и что ищем, и говорит: o:p/
— Да, ето возможно, у меня друзья есть такия, но ето будет в консэ провинции, граничит с провинцияй Санта-Фе, там и посевы лучше. o:p/
Договорились, что будем тихонькю подаваться туда и созваниваться, где и с кем стретиться. В четверик вечером звоним ему и слышим хорошие новости. В пятницу в 8 часов вечером ждут, в городе Вижегас-Висти договор. Все повеселели. o:p/
Приезжаем в пятницу к обеду в Вижегас, и что я вижу: вся наша группа зашишикалась. Что происходит, не могу понять. Смотрю, Степан приходит ко мне и говорит: o:p/
— Слушай, братуха, ничего у нас не выйдет. o:p/
— Как так? o:p/
— Ну, все говорят, на какого-то дядюшку работать. o:p/
— А как вы хотите: посрать и жопу не замарать? o:p/
— Но сам знашь, у нас праздники, и в праздники надо будет работать. o:p/
— Степан, всё ето можно обговорить, и, ежлив мы будем работать день и ночь и всё будем успевать, хозяин толькя будет радоваться. o:p/
Подходит Иона, слышит наш разговор, вмешивается: o:p/
— Мы на некристь работать не будем! o:p/
— А что вы думали раньше? Не надо было трогаться с места. Такой расход сделали, всё почти добились, а теперь взадпятки! Иона, всё ето начал ты, а теперь всё изменил. — Вижу, что у их всё заодно. — Ну, — говорю, — давайте хоть встретимся и услышим, какой предлог. — Ни в каки лады, все отмахиваются. — Раз так, пошли вы все в сраку! Но больше с вами я не товарищ, и ни с какими предлогами ко мне не лезьте! o:p/
Развернулись и домой. Но уже проехали 1500 километров. o:p/
Приезжаем домой, Степан говорит: o:p/
— Давай будем искать земли гектар пятьдесят и посеем кукурузы. o:p/
Говорю ему: o:p/
— У меня трактора нету, а твой выдюжит ли? o:p/
Он: o:p/
— Да, выдюжит, толькя что справил. o:p/
Вскоре нашёл возле реки у одного врача-хирурга, доктор Пас. Земля — залог 100 гектар, договорился с нём с процента: 70% нам, 30% ему. Степану сказал, Степан приехал посмотрел, очень обрадовался: така земля добра и возле реки. Ну, договорились: Степанов трактор, моя работа, и взялся я пахать день и ночь. Залог твёрдый. o:p/
Вскоре мотор полетел, не на чё справлять, я пикап продал, на ето справили, на остальные деньги купили семя-гибрид, удобрение, отравы, гербисид. Решили со Степаном посеять двадцать гектар помидор возле реки, а остальные тридцать — кукурузы. И ну опять трактор день и ночь, он снова стал ломаться. Я в переживании пошёл к доктору Пасу и говорю ему: o:p/
— Не знаю, что будем делать, расход сделали, трактор ломается. o:p/
Он спрашивает: o:p/
— И что думаешь делать? o:p/
— Я сам не знаю. o:p/
Он ведёт меня в барак и показывает новый трактор «Джон Дир» 100 лошадиных сил. Я увидал, обрадовался и говорю ему: o:p/
— Выручай, давай проценты добавим тебе, но пускай твой трактор работает. o:p/
Он спрашивает: o:p/
— А сколь добавите? o:p/
Говорю: o:p/
— Со Степаном посудим и тогда ответим. o:p/
— Хорошо. — Приносит каталог и говорит: — Надо фильтры сменять. o:p/
Говорю: o:p/
— Ето пустяки, неси фильтры. o:p/
Он принёс, я сменил, ну и взялся за землю. За каких-то десять дней всё перемолол и приготовил. o:p/
Жил я на речке под палаткой с сыном Андрияном, ему уже было девять лет. Ета аренда была тридцать километров от дому, возле Помоне. Приезжает Степан, видит, что земля пошти готова, но и видит, что и трактор другой, спрашивает: o:p/
— Где взял? o:p/
Говорю: o:p/
— Доктора Паса. o:p/
— Почему? o:p/
— Сам знашь, трактор беспрестанно ломается, и доктор Пас занял с условием, ежлив добавим проценты. o:p/
Степан раскричался: o:p/
— За каки румяны ему добавлять проценты? Я лучше помогу своим християнам! o:p/
Что получилось. Иона с Игнатием побегали-побегали, но аренды не нашли, и уже стаёт поздно, и взялись уговаривать Степана, чтобы уделил земли. Вот и разоряется Степан. Говорю: o:p/
— Степан, каки-то проценты добавим, но будем на спокое. Спомни, когда оне прикочевали и мы им помогали — и чем оне нам заплатили? Спомни, сколь оне показали добра в моленне. А Иону я помню ишо из Масапе, ето будет проблема. o:p/
Степан своё, что «свои» да «свои». Приходим к доктору Пасу, я ему всё объясняю, он обиделся и говорит: o:p/
— Я Степана не знаю, мы с тобой уговаривались. o:p/
Я говорю: o:p/
— Он мой старший брат, и трактор был его, но везде мне приходится договариваться. o:p/
Тогда он говорит: o:p/
— Договор мы снова доложны сделать. Ето было всё без меня. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
11 o:p/
o:p /o:p
Приезжают Иона и Игнатьевичи, я уже посеял семнадцать гектар помидор. Оне привозют свою машинерию <![if !supportFootnotes]>[21]<![endif]> , ни здорово ни насрать, и начали сеять кукурузу и помидоры. У меня помидоры уже всходили. Но ето самый секрет: всходы не надо сеять ни глубоко, ни мелко, и полев — толькя доложна влага подходить, не затоплять. И вот тут у нас получилась проблема. Оне сеяли и не просясь отхватывали у меня воду. Ето очень важно. Стал им говорить — ноль внимания, я нихто, оне хозяева. Да, мог бы я настроить делов, но неохота проблемов. o:p/
Всё бросил, с горя загулял, сял на Степанов трактор, приехал домой в дрезину пьяный. Марфа спрашивает: «Что с тобой?». Со слезами рассказываю, что случилось. Она тоже в слёзы. На третяй день прибегают Степан с Игнатием к нам за трактором: o:p/
— Почему угнал трактор? o:p/
Я давай Игнатию всё высказывать, он даже слушать не захотел. Говорит Степану: o:p/
— Поехали, мы тебя не обидим. o:p/
Ну, Степан довольный уехал. Мы погоревали с Марфой — ну что поделаешь. Посодили огородину, Марфа стала торговать, а мне выпала работа на юге, в провинции Санта-Крус, в городе Пуерто-Команданте-Луис-Пьедра-Буена, Пунта-Килья, переводшиком, компания аргентинска «Тамик», обслуживать русские судна с России, компании «Запрыбхолодфлот» и «Югорыбхолодфлот». Проработал там три месяца, но зарплата была низка, и я уехал. Но зато разных сувениров привёз домой. o:p/
Как со мной поступили Игнатий и Иона, ето мне стало перенести чижало. С тех пор стал нервный, ночами не спал, стал часто выпивать. Марфа стала переживать и стала со мной по-холодному. Однажды спрашиваю: o:p/
— Что случилось с тобой, что стала ласкова? o:p/
Она смеётся и говорит: o:p/
— Хотела пожаловаться на тебя тётке Фетинье, она всё выслушала и спрашиват: «А что, он приходит пьяный, бьёт тебя?» — «Да нет. Придёт да и спит, толькя тогда бушует, когда спорю с нём». — «Ленится он у тебя?» — «Нет, не присядет, всегда старатся, чтобы всё у нас было». — «Ну, Марфа, ты дура, ты ишо не видела, как бабы живут». o:p/
И рассказала несколько примеров Марфе. И вот моя Марфа успокоилась. А для меня тётка Фетинья — ето примерный человек, не за то что Марфе всегда советовала добро, но за то, что Димитрий Бодунов очень пьёт, матерится, Фетинью бьёт, ленивый и в пьяным виде всё против Бога говорит, — и всё она, бедняга, терпит. o:p/
Детки у нас пятеро, все интересны. Андриян — ето лидер, чтобы все его слушались, а он бы командовал; Илья по-своему тоже лидер, но любит врать, спорить, не покоряться; Алексей тихий, кроткий, спокойный, любил играть один сам себе. Бывало, сядут за стол, разоспорют Андриян с Ильёй, а Алексей спокойно кушает, аппетит у него, слава Богу, был. Те проспорют, когда хватются — Алексейкя опять всё съел. Но интересно, парнишки как-то боле к матери ласкаются, а девчонки — ето весёлы шшекатуньи <![if !supportFootnotes]>[22]<![endif]> , а особенно Таня — ето песельница, и голос звонкий. Оне обои ласкались ко мне, часто спали со мной. Бывало, летом лягешь на улице, звёзды показываю, сказки рассказываю, так и на руках уснут. Станешь показывать спутники и говоришь: o:p/
— Вон спутник. o:p/
Лена повторяет: o:p/
— Вонь луня-а. o:p/
Стала Марфа учить их азбучке, Лена подбегает ко мне и говорит: o:p/
— Тятя, я уже научилась! o:p/
— А ну-ка! o:p/
— Аз, буки, веди, глаголь, а там всё доброль. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
12 o:p/
o:p /o:p
Русаков Николай Кирилович — Степанидин муж. Отец его Кирил — бывший пьяница, разом бросил и не стал пить. Характер был у него хороший, и спокойный старик, нигде его не слыхать. Но мать Марья Васина характерна, злая, скупушша, нелюдима, тоже очень пила, дети у них росли на произвол судьбы, ни к чему не приучёны. Три сына — Александр, Николай и Андрей. Александр был характерной, при любом гулянии дрался, всегда кого-то избивал. И вот раз избил Моисея Сивирова, и он его с винтовки убил и сам задушился. Николай — парень весёлый, работяга, не пьёт лишна, в пьяным виде неспокойный и любит чужое: где плохо лежит, у него брюхо болит. Андрей спокойный, как телёнок, но пьёт лишно. Взял он в Боливии Марину Фёдоровну Ануфриеву Артёмовску и пять дочерей. Анисья Кириловна Русакова за Евгением Морозиком, Федосья за бразильяном, Главдея за бразильяном, Анна за Анатолием Миняевым — вышла в США, Евдокея за аргентинсом. Николай жил со Степанидой по-беззаконному, не соблюдал ничего: ни месячной, ни после ребёнка не соблюдал. У них рождались каждый год дети, он её избивал, идивотничал как хотел, прихватывал чужих женчин, был горячий, всё ему мало было женчин. Детки у них — пять сыновей и три дочери: Андрон, Федот, Михаил, Александр, Симеон, — дочери: от чиленса Федосья, от Николая Лизавета и Люба. Когда Степанида убегала за чиленса, мама плакала и сулила ей: «Дай ей Бог мужика-пьяницу и чтобы он бил её». Ну вот — материны слова действуют, а потом жалела сколь, что так сказала. o:p/
У Андрея три сына, две дочери. Сыновья Флорка, Силка, Гера, дочери Фана и Неонила. Марина поперво жила с Андреям, ничего было не слыхать, но потом слухи пошли, что Марина бегает за чужими мужиками. Перво было тайно, но потом пошло явно. Бросила Андрея, поступила в бардак, в Боливии детей хотела продать, но братьи выручили и Андрею отдали, Андрей привёз в Аргентину к матери и ростил с горям пополам, мать идивотничала над ними как могла. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
13 o:p/
o:p /o:p
В 1984 году я решил съездить в Чили. Приехал в Чили, мне там понравилось. Хороший порядок, всё красиво, климат мягкий, народ вежливый, обязательно туристам наилучшие услуги, всё приучённые с малых до больших, как обходиться с туристами. Я заехал с 9-го региона Темуко и до Кояике 11-го региона до Пуерто-Монта на автобусе, а с Порто-Монта до Кояике на катере трансбордадер <![if !supportFootnotes]>[23]<![endif]> , 21 час. Вдоль берега по моря ой сколь рыбаков и островов! o:p/
Приезжаем в Порто-Чакабуко, там на автобусе до Кояике, ночевал в пути. Узнал, что в обратну путь есть дорога каменная, хороша, Пиночет её сделал, называют её Карретера-Аустрал, и в етой зоне заселяют. Очень красиво место, разного лесу много. Спрашиваю: o:p/
— А к кому можно обратиться? o:p/
Мне ответили: o:p/
— Прямо к губернатору, он добрый и вас примет. o:p/
Говорю: o:p/
— Сегодня суббота, надо ждать до понедельника. o:p/
— Ничего, иди прямо на дом, вот адрес, он тебя примет. o:p/
Беру такси, еду на адрес, подъезжаем — что я вижу. Изумительный особняк за городом, беру звонок давлю, выходит роскошная женчина лет тридцать, спрашивает, что нужно. Отвечаю: o:p/
— Я турист русский с Аргентине, можно ли побеседовать с губернатором? o:p/
— Подожди. o:p/
Выходит сам губернатор, человек белый лет сорок, вежливый, здоровается по ручке, приглашает в дом. Входим в дом: ой кака роскошь, всё в коврах, разукрашено разными портретами, ручной изделию, большая библиётека. Выслушал мою просьбу по земле и узнал, хто мы и откуду. Идея понравилась ему, и он сказал: o:p/
— Пожалуйста, приезжайте, в чем можем, тем поможем, и земледельцы нам нужные. o:p/
Я отблагодарил его и ушёл. В воскресенье пробрался 80 километров по етой дороге, но правды, красота. Ночевал у однех чиленсов, занимаются туристами. А в понедельник подошёл автобус и тронулись дальше, 800 километров. Дорога хороша, лес очень красивый и драгоценный, речки светлы рыбны, но всё зарошше бамбуком. Вечером остановились в деревне Пужуапи, ночевали и утром поехали дальше. Природа одна и та же, население очень мало, но дождей здесь много, доходит до 2000 мм в год. o:p/
Вечером в пять часов вечера приезжаем в тупик, в городишко Порт-Чайтен, отсудо надо переплывать на катере в Пуерто-Монт, но на сегодня катер идёт на остров Чилоэ. Проживать лишны сутки неохота, да и деньги на исходе, решил тронуться на етим катере. В 11 часов ночи тронулись, пошёл ветер, катер не очень большой, принял 10 машин да 150 человек. Ветер усилился, народ давай рвать, мене ничего, я улыбался и думаю: ну, слабосери! Решил поужинать, достал рыбной консервы, хлеб, сок, поужинал, заснул, просыпаюсь: тошнота, все спят, мня стало тянуть, да как давай рвать, всю консерву проклянул, так из туалета и не вылазил. o:p/
Наутро в 8 часов прибываем в Пуерто-Кельён, отсуда беру автобус в Пуерто-Монт. Решил заехать к старым друзьям, что учились вместе в школе в Аргентине. Ето в Пангипульи и Вижяррика. Встреча была очень сердечна. Не узнали: конечно, изрос, бородой оброс. Доння Емилия спрашивает: o:p/
— Даниелито, женатой, нет? o:p/
Говорю: o:p/
— Женатой, пятеро детей. o:p/
— Как жалко, вот у меня три дочери, я бы любу отдала за тебя. o:p/
Смеёмся. Ета семья — не только учились с ихними детями, но и последней год садили помидоры, в суседьях были. В 1978 году девчонкам было 11, 9 и 7 лет, чичас настояшши девки, учутся. У них фамилия Гиньес. Пробыл у них два дня, попрощались, и поехал в Вижяррика. o:p/
Приезжаю в деревню, разыскал адрес, встречают старики, спрашивают хто и откуду, я спрашиваю: o:p/
— Вы фамилия Хара? o:p/
Он: o:p/
— Да. o:p/
— Мы с вашими ребятами учились и в ребятах праздновали, Сильвиё и Енрике, Енрике дал мне ваш адрес, а Сильвиё не знаю, где он. o:p/
Старики заплакали: o:p/
— Бросили нас, работать стало чижало, стары стали, но ничего, как-нибудь будем доживать. Один сын ишо с нами, и ето хорошо. o:p/
— А как Енрике? o:p/
— Да он, слава Богу, женатой, жена хороша, у них шестилетней сын, работает в компании екскаваторшиком. o:p/
— Да, мы знам. o:p/
— Ну и хорошо. o:p/
Пригласили в дом, живут хорошо, земля своя 40 гектар, 12 коров дойных, коровы благородны, красны с белым, раса клавель алеман. Вечером приезжает сын, парень молодой, лет двадцать, с родителями очень вежливый, да вообче парень хороший, звать его Сегундо. Я у них ночевал и утром отправился домой. Оне послали сыну письмо и благодарили, что заехал. А старший сын Сильвиё работат в Баия-Бланка сваршиком. o:p/
Приезжаю домой, рассказываю Марфе свои поездки и говорю: с Китая надо было в Чили, а не в Арьгентину. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
14 o:p/
o:p /o:p
Урожай, что собрали Иона с Игнатием, угодил слишком хороший, кукуруза дала три гектара. Свыше 7 тонн, а помидоры свыше 80 тонн с гектара. Нанимали немного рабочих, и некоторы наши работали, едва поспевали грузить, но народ поговаривал: «Собирают Даниловы слёзы». Урожай оне сняли, но Степану ни гроша, ни кукурузы. Степан стал жалобиться на них, что обманули, говорю: o:p/
— Так тебе и надо, вот тебе и християны. Ты говорил, что своим надо помогать, я чужой, а оне свои, вот и кушай. o:p/
Тем временем Иона с Игнатием так дружно-дружьми, что почти на одну досточкю срать ходили. Бодунов Лука говорил: o:p/
— Ето не к добру, ета дружба доведёт их до винтовок. o:p/
После урожая хозяин доктор Пас остался очень доволен и арендовал ишо на год. Иона с Игнатием ликовали. o:p/
o:p /o:p
Селькя, когда поехали с Бразилии в Боливию, свою землю продали бразильянам, и тут же ту землю продали Анфилофьевым и уехали в Боливию. o:p/
Анфилофьев Симеон, брат Ефрема и куму Евгену — троюродны братьи. Симеон — наставник, кроткий был старик, но сынки босяки. Поехали на землю, что купили у Сельки, приезжают, а там хозяева бразилияны, у них получилось спор, вражда, и дошло до того, что Анфилофьев Корнюшка Семёнович подобрал себе шайкю, вооружился и приехал убил бразильянина. Те хватились за оружием, ети сяли в машину убегать, те догонять, получилась стрельба. У Корнюшки с Тимошкой у машине стёклы были не пробиваемы пулями, так что их не повредили. Но родство етого бразильянина сказало: всё равно отомстим. Тимошка с Корнюшкой убежали в США, за ето за всё расплатились отец Симеон и два младших сына, Николай и Афанасий. Бразильяны разыскали, где оне живут, хотя ето было за полторы тысячи километров, перехватили на дороге, увезли и заказнили. И Селькю искали, но Селькя убежал с Боливии в Арьгентину. Тут ничего не делал, толькя гулял. o:p/
Как-то раз на свадьбе подхожу к Домне и говорю: o:p/
— Бедна Домна, как ты ето всё терпишь? — Как раз Селькя разбушевался. o:p/
Она отвечает: o:p/
— Вам не нужно, не вам терпеть — не вам и вмешиваться. o:p/
Я поразился таким ответом. Столь пережить, прежде время состариться, столь рассказов её мучение — и так отвечает. Но героиня, но всё ето терпит ради Бога. o:p/
Селькя и в Арьгентине не прожил долго, увёз семью в Боливию, а сам уехал в Бени, город Руренабаке, залез к аборигенам инкам и как-то через политиков добился 10 000 гектар земли. Стал пилить драгоценный лес мара, разжился, Домну бросил, взял боливьюху. Три сына было с нём, старшего, Никитку, развратил, двух младших как-то Домна как-то сумела достать и женить, взяли американок-старообрядок и уехали в США. o:p/
o:p /o:p
Приезжают с Боливии Ануфриевы Артёмовски Алексей и Евгений, на новым пикапе «тойоте» чиленским, ишшут меня. Была кака-то свадьба, даже не помню чья, мы встретились на свадьбе. Евгений с женой Ксенияй просют меня, чтобы показал им Чили, по той дороге, где я был. Расход весь ихний, и билет в обратну сторону оплачивают. Ну что, надо ехать. o:p/
Поехали на юг по Аргентине до Комодоро-Ривадавия и оттуду прямо на границу в Чили в Кояике. Приезжаем в Кояике, говорю: o:p/
— Можем зайти к губернатору, знакомый хороший, и даже поможет. o:p/
Оне отвечают: o:p/
— Перво проедем посмотрим, тогда будем решать. o:p/
Едем по етой тайге, я ликую, а оне говорят: o:p/
— Мы в етих лесах нажились в Боливии. o:p/
Я рассуждаю об устройство деревни, думаю обо всех людях, а оне мне отвечают: o:p/
— Чё нам про людей думать, каждый пусть думает про себя. o:p/
Думаю: каки странны, толькя оне люди, ласковы, но подхалимы, всё везде с подсмешками, особенно Евгений, про синьцзянсов толькя одне анекдоты. Не могу понять, что за человек. o:p/
С Чайтена на катере переплываем в Пуерто-Монт, оттуда заезжали в разны деревушки, в Вальдивия, Лос-Лагос. В Лос-Лагос нам сказали: в Жёжи деревушка, там есть 70 гектар земли, и не очень дорого, за 40 000 долларов. Съездили посмотрели. Да, земля ничего, коло асфальта, Вальдивия 60 километров. Оне договорились брать, спрашиваю: o:p/
— Мне уделите хоть бы четыре гектара? o:p/
Оне: o:p/
— Да, без проблем, приезжай, хоть будем молиться вместе. o:p/
— Ну, договорились. o:p/
Я с радостью уехал домой, оне вскоре тоже уехали в Боливию собираться кочевать. Приезжаю домой с хорошими новостями, стали собираться, тятя говорит: o:p/
— Ну, цыган же ты, Дашка! Не сидится тебе на месте. o:p/
— Но что поделаешь, так получается. Жили бы деревняй — может быть бы и не поехал. o:p/
Попросил тятю, чтобы отвёз до Барилоче, подцепили лодку за грузовик и тронулись в Барилоче. В Барилоче продали лодку, распростились с тятяй и на автобусе уехали в Чили всёй семьёй. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
15 o:p/
o:p /o:p
Приезжаем на ету землю, Артёмовских всё ишо нету. Зашли в дом, стали жить. o:p/
Дело было летом. Чем заняться? Вижу, что рукоделие здесь в ходу, работать на земле не подходит, надо много деняг. Обратился в мунисипалитет и попросился на выставку своих вышивок. Как раз была ферия <![if !supportFootnotes]>[24]<![endif]> , и нас приняли. Сделали дешёвеньки буклеты, выставили вышивки, иголочки, пяленки <![if !supportFootnotes]>[25]<![endif]> , нитки, рисунки, а программу сделали — что учим даром, бесплатно, толькя матерьял продаём. Народ заинтересовался, мунисипалитет дал нам помещение, где учить, и мы после каникул стали учить. Марфа с детками дома готовили рисунки, нитки, я делал иголочки и учил по пятницам. Обратился в телевизиённой Канал-10 в Вальдивия, ето тоже помогло хорошо. Стали учить в трёх местах. Вскоре добился в Сантьяго в главный канал, в программу «Сабадос гигантес», ету программу вёл дон Франсиско по прозвищу, а его звать Марио Круезбергер. 20 июля мы показали наши вышивки и указали почтовый адрес. К нам повалили со всёй страны письмы. Кажду неделю приходишь на почту, и в яшики письмов, что не входит. Все одне и те же вопросы: где и как можно научиться? Мы отвечали: организавывайтесь, делайте группы, ищите помещение, и мы раз в неделю будем приезжать учить вас, бесплатно, толькя берём за матерьялы, и берёмся учить в главных городах, от Пуерто-Монти до Сантьяго, по главный трассе Рута-Синко. o:p/
К етому времени приехали сам дед Артём с бабушкой Марьяй, младша дочь Васка, два сына — Карпей и Илюшка. Мы здесь без них свалили пять сухих и гнилых лесин на дрова, наняли искололи. Дед приехал, увидел, раскричался: o:p/
— Како имели право дерева трогать! o:p/
Стали извиняться, что сухи и гнилы, зима холодна, много сырости. Он поднялся ишо хуже: o:p/
— Не имеете права задеть и волосинки здесь! И зачем суда приехали, хто вас звал! o:p/
Видим, что пахнет говном, посудили, что делать, и решили в Пайжяко арендовать дом. Нашли, арендовали, стали переезжать. Хотели сколь-нибудь дров взять, но дед поднялся: o:p/
— У нас нет продажных дров, — и не дал ни полешка. o:p/
Ну что, подавись! Мы уехали в город. Но нам чудно: мы с ними прожили неделю совсем незнакомы, деды обошлись с нами очень по-холодному, а бабушка Марья наших детей так зайчатами и катила, везде ругала да обзывала. Мы с Марфой смеялись: ишо таки бывают люди. o:p/
o:p /o:p
16 o:p/
o:p /o:p
Вернусь назад, забыл. В 1988 году в Аргентину приезжал в гости Николай с женой с Аляске. Богатый, имеет два катера рыбальны, две лисензии — на палтус и на лосося. Ето будет брат того Павла, что Марфу не захотели взять с собой с Боливии в Уругвай. Ето не Кузьмин, а Басаргин. Кузьмины простыя, добрыя, Анисим Кузьмин етому Николаю двоюродной брат, Евгений Морозик тоже ему двоюродной брат. Но Николай пробыл неделю в Аргентине и ни раз не заехал к своему братану, но слепился с Ионой, и Иона его катал. А у Ионе привычкя: все таки-сяки, толькя оне хороши. Мы с Марфой видели его два раз и в дрезину пьяным, сразу поняли, что характер говно, одне подсмешки да укоры. Мне запомнилось одно слово, у его привычкя говорить: «А за деньги все поют». o:p/
Проехали оне всю Южною Америку, где старообрядцы живут, вернулись домой, и вскоре жена Лукерья попала на машине в аварию и убилась. Как это получилось, неизвестно, но она давно покушалась на свою жизнь, потому что муж был кровосос. o:p/
В 1990 году Николай приезжает с отцом Захаром в Уругвай и сватат Марфину сестру Палагею. Та не хотела выходить, он ей не нравился, да и намного старше: она 1963 года, а он 1948 года, вдовой, семья большая, двоя определённых да семеро на руках, последнему всего один год. Но тёща пристрела: выходи да выходи, что богатый, религиозной да милостливый. И девчонку сбили с ума, она вышла. o:p/
После свадьбе приезжают в гости в Аргентину с другим свояком, Василием, и собираются проехать по Андам, и в Чили. Заезжают ко мне как свояки, а Иона тут как тут, повёз к себе. Марфины сёстры стали настаивать, что «мы приехали в гости к сестре, а не Иону слушать». Мне обои свояки не понравились, всё подковырки да надсмешки, и всё у них синьцзянсы хуже бесей. Стали меня просить, чтобы повозил их по Андам и довёз до границы Чили. Я попросил грузовик у тяти, он дал, но тормоза были слабы, и не заводился. Стал своякам говорить, что машину добыл, но тормоза надо поправить, и не заводится. Говорят: «Дорогой поправим». Ну хорошо, поехали. Я взял троих сынков, заехали к тетке Фетинье — у них гостили тесть с тёщай, и тронулись в путь. o:p/
Дорогой говорю: «Тормоза надо поправить». Молчат. Едем по трассе 22, движение много, особенно Алто-Важе. Говорю: «Машину надо справить». Молчат. Думаю: испытаю, что будет дальше. На друго утро приезжам в Барилоче, и поехали вдоль Андов на юг, вдоль гор по крутикам. Мы без тормозов, машина не заводится. Через сутки приезжаем в Корковадо, говорю: o:p/
— Куда вас, на границу или поедете со мной рыбачить? o:p/
Тесть: o:p/
— Сразу поехали рыбачить. o:p/
Николай: o:p/
— Мне хоть как. o:p/
Василий: o:p/
— На границу. o:p/
Жёны настаивают: o:p/
— На рыбалку, чтобы отдохнуть. o:p/
Ну, поехали рыбачить. 60 километров дороги худыя, горы крутики. Вот уже вечер, холодно, машина подпрыгивает. Ишо минут пятнадцать, и будем на месте. Стукают из кузова, останавливаюсь: «В чём дело?». Вылазит Василий и взялся меня материть как мог, что завёз в такую глухомань, Николай туда же. Я слушал-слушал и заплакал. Тесть заступился и спросил: o:p/
— Далеко ишо? o:p/
— Нет, пошти на месте. o:p/
— Ну, поехали. o:p/
Приехали. Ето там, где первый раз приезжали землю смотреть. Утром погода угодила прекрасна. Все повеселели, я с детками приготовил сетки, надули камеру, пошли на озеро, поставили сетки. Но вода была очень холодна. Покамесь ставили сетки, я замёрз, меня стало стегать <![if !supportFootnotes]>[26]<![endif]> , едва-едва доплыл, дети напугались. Едва выпрямился и, сколь было силы, пошёл, постепенно разогрелся, и стало хорошо. Наутро пришли — полно сетки форели. Мы етот день консервировали, коптили, солили, вышло 60 банок консервы, два ведра по 20 килограмм солёной да ведро копчёной. Пробыли три дня и обратно доехали в Корковадо. o:p/
Довёз их до границы, помог груз стаскать, оформил в таможне. Когда стали распрощаться, Николай подошёл и бросил 100 долларов мне под ноги. Машину не справили, и вернулся я без тормозов, и машина не заводилась. Правды, топливо заливали. o:p/
Вернулись оне через две недели. Был праздник, мы были у Тимофея, было много гостей. Заходют Николай, Василий с женами, и взялись меня корить и подсмеивать. Я всё молчал. Народ не вытерпел и заговорил: o:p/
— Данила, ты что молчишь? Стань да по морде надавай. o:p/
— Да пускай! Хто что сеет — всё себе. o:p/
Стали с Марфой, сяли на машину и уехали. o:p/
Когда мы жили в Чили у Артёмовских в дому, приезжала к нам в гости Таисья. И что ей надо было — непонятно, поудивлялась и уехала. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
17 o:p/
o:p /o:p
Переехали мы в город, у нас пошло хорошо. Я стал учить: в понедельник Пуерто-Монт и Осорно, во вторник и в среду Сантьяго, в четверик Темуко, в пятницу Вальдивия, в субботу налаживал <![if !supportFootnotes]>[27]<![endif]> иголочки. Марфа учила поблизости: в Пайжяко, Рио-Буено, Ла-Унион и Футроно, в свободно время составляла рисунки и рисовала на материю. Ребятёшки учились в школе, а в свободно время мотали нитки с больших мотков на маленьки. o:p/
В Чили школа нам понравилась. Учут хорошо, приучают строго ко всему, и на кажду материю <![if !supportFootnotes]>[28]<![endif]> разна тетрадь. В Арьгентине, когда я учился, был хорошой порядок и учили хорошо. Но когда стали учиться мои дети, то ето уже не школа, а разврат. Андриян дошёл до четёртого класса и путём ни читать, ни писать. За весь сезон учились 70%, а 30% забастовки, и учительницы почти не задавали уроков на дом. В Чили наоборот: учут в школе и домой задают уроков. o:p/
Заработки у нас шли хороши, но приходилось нелегко. Спал я почти в автобусах, и кушать приходилось по-всякому — не желал бы ето никому, делалось всё на ходу. Чиленсы ничего, стараются учутся, хорошо с ними работать: вежливы, ласковы, обходительны. Но сразу видать: конфликтивны, много алкоголиков. Как-то раз разговорился со своими учениками и спрашиваю: o:p/
— Почему в Чили много алкоголиков и часто стречаются с шрамами? Вижу, в Чили высокая культура, народ приучён к хорошему порядку и соблюдают етот порядок. Но низкий класс конфликтивный, а вышней класс вообче превосходный, но гордый. o:p/
Мне отвечают: o:p/
— Чили завоевали конкистадоры еспаниолес, и вообче завоевали почти всю Южною Америку. Испанский виррей <![if !supportFootnotes]>[29]<![endif]> везде разослал своих доверенных, особенно в Аргентине даже был виррейнато <![if !supportFootnotes]>[30]<![endif]> . В Чили этого не случилось, но испансы объявили по всем тюрьмам и предложили: хто поедет в землю конкистадо, тому свобода, лёгкая жизнь, золото. Вот и заселили Чили тюремшиками, смесились с аборигенами. Вот вся и наша раса, а вышний класс — ето европейцы, особенно немсы, все у нас формы немецки, военный строй, карабинеры, школа и так далее. o:p/
Учить приходилось разных мастей. Ето были в основном женчины разного возраста, от детей и до 60-летнего возраста. Мужчины попадались редко, оне считали, что ета работа женска, и чиленски мужчины считаются мачисто. o:p/
Были и малыя группы, дамы вышняго класса. Собирались оне у себя дома, приходилось стараться ублаготворить. Ну слава Богу, всё шло хорошо. Были группы калеки, но ето бедняжки! Как оне стараются, миленьки, некоторы даже не могут иголочкю в руки взять. Тут мне приходилось трудно. Старался всех приласкать, никого не обидеть и всех научить. Всё ето шло медленно, но видел ихно старание, и ето мне давало силы. Когда у них стало получаться — бедняжки, сколь радости и слёз! Немало и мне приходилось плакать с ними. Потом как прихожу в класс — сколь радости, все считают за какого-то святого. Оговариваюсь, но слушать не хочут. o:p/
Запомнились мне старушки, ето тоже нелёгко. Плохо видят, руки трясутся, нервны, часто отвечал. o:p/
— Профессор, ничего с нас не будет! o:p/
Приходилось убеждать: o:p/
— Потерпите немного, все научитесь. o:p/
— Глаза не видят. o:p/
— Пожалуйста, смени очки. o:p/
— Нервы, руки трясутся. o:p/
— Успокойся, не торопись, работай медленно, со вниманием, забудь про всё, и потихонечкю будет получаться. o:p/
И каждый раз приходилось убедить и обласкать. Потом приходют и говорят: o:p/
— Профессор, спасибо! У меня дома конфликтов не стало. o:p/
Друга: o:p/
— Ето мне терапия, не стало стресса. o:p/
Третья: o:p/
— Бросила лекарства от нервов. o:p/
Да всё не опишешь, столь благодарностей, а мне толькя радость. Часто подарки: хто сувенир, хто конфет, печенье, торт. o:p/
В консэ года выставки. Ето было нелегко — везде организовать и побыть на выставков, а у меня их получалось немало, даже на некоторы не успел, там заменила Марфа. Но на меня мои школьники обиделись, пришлось перед всеми извиняться. На второй год ета же история. o:p/
Но у меня цель была такая: научить как больше, выйти на хороший рынок и снабжать любой запрос. Ходил немало по чиновникам, показывал своё художество, везде отвечали: «Да, как красиво», и сулились помогчи. Но время шло, и никакого результату. Да я понял, вот почему: много бедных, нихто им руку не подаёт, все проекты в шкатулку или на огонь. А всю жизнь учить у меня нервов не хватит: для каждого дела надо иметь цель и результат. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
18 o:p/
o:p /o:p
С Бразилии с Кулуене приезжают Баяновы, с семьёй и с грузом. Попросили, чтобы помог с таможняй и с документами, — помог; попросили земли найти — помог, купили 15 гектар. Стал просить один гектар под дом — отвечают: «Самим мало». o:p/
Артёмовски строили себе дома — Карпей, Илюшка и Васка, часто заезжали в гости погулять. Как толькя приедут, происходют у нас гулянки. Поехали разные туристы — из США, Бразилии, Уругвая, Аргентине. Переехали на жительство Иван Семёнович Анфилофьев с Харитиньяй Лукиничной Бодуновой и Олимпияда Лукинична Бодунова с мужем, аргентинсом Моисеям. o:p/
Иван с Харитиньяй сколь-то время жили у нас, и насмотрелись мы на ету историю. Ванькя в Понта-Пора Харитинью, Хаскю, обманул тринадцатилетню и украл, что Бодуновым немало настроил горя. Вообче босяк, он с Харитиньяй почти не жил, нажил ей двоя детей — Капитолина да Георгий. Бил, издевался, идивотничал как мог, сколь раз сулился убить. Бывало, мы в праздник смотрим фильмы, а она с малыми детками в своёй комнате молится. И сколь раз видели её уплакану. Как-то раз при нас он взялся её душить и кричал: o:p/
— Всё равно я тебя убью! o:p/
И она стала и говорит: o:p/
— Хватит, не хочу боле так жить. o:p/
Он кричит: o:p/
— Уходи! o:p/
Она просит: o:p/
— Данила, Марфа, вы свидетели, пиши справку! o:p/
— Вы что, я вас не венчал, на свадьбе не был, свидетелем также. o:p/
Ванькя тоже просит: o:p/
— Напиши! o:p/
Ну, я написал как мог, оне расписались, и Ванькя ушёл из дому, погрозил: o:p/
— Посмотрим, как проживёшь одна! o:p/
С Аляске звонит свояк Николай, просит, чтобы узнал про рыбалку, цены земли, и сулятся приехать весной. Всё узнал, сообчил: Артёмовски купили катер новый 18 метров за 70 000 долларов с лисензияй, деревянный, готовются на рыбалку. o:p/
Весной приезжают Николай с Палагеяй, тесть, тёща, шурин Григорий — уже парень, Василий Вагнер. Василий с Игнатием уже убежали в Уругвай, расцапались в Аргентине со всеми, и с Ионой у их дошло до винтовок. Оне остались у доктора Паса ишо на год, и, как обычно, Иона занимался посевами, так и тут получилось. У них урожаю не получилось, и доктор Пас их выгнал, вот и дошло до винтовок. Бодунова Луки пророчество сбылось. Василий Вагнер в Уругвае старался залезти всем в добры, за что его и пригласили в Чили поехать. Но надо же: тёща, Николай, Василий — чем же ето кончится? o:p/
У меня в ето время было много работы, но я на неделю попросил отстрочки, чтобы им помогчи. И за неделю помог найти хороший пикап «форд», в рыбальные компании познакомить, снасти рыбальные показать, земли в разных местах показать. Обчим, всё, что требовалось с меня, я исполнил. Но с ними я толькя намучился, одне издёвки да надсмешки. А Василий улыбается до ушей, но толькя оглянись — нож в спину. Всё он видит, всё слышит, всегда каку-нибудь сказку сложит, чтобы была вражда, и всё ему нужно. Как ету неделю я вытерпел — не знаю, но когда в консэ недели оне уехали к Артёмовским, я с нервов так натренькялся и был злой — не подходи. o:p/
Тесть упросил Артёмовских, чтобы нас приняли и продали нам земли под усадьбу, оне согласились. Тесть приезжают, и что оне видят: я хвораю с похмелья. Николая сразу видать, что обозлился, Василий меняется с лица, улыбается. Думаю, пошли вы дальше! Показал себя холодным, и оне уехали. Тесть успел сказать: «Переезжайте к Артёмовским, оне вас примут». Машина была куплена на Григория, и оне на ней уехали в Уругвай, с тем что в следующий раз приедут насовсем суда в Чили. o:p/
Мы нехотя переехали к Артёмовским. Отвели оне нам в консэ земли, возле ключика <![if !supportFootnotes]>[31]<![endif]> место. Мы привезли брусьяв, досок и построили себе избушку. Стали жить, молиться к ним ходить, но опасались и не вмешивались ни в каки их делы. Дед Артём постепенно сполюбил меня и всегда заставлял читать поучение в моленне. Люшка на ето злился, что дед со мной по-хорошему. Но Люшка передо мной виноват: он, когда мы жили в Пайжяко, лез к моей жене, Марфа всё мене рассказала. Я виду не показывал, но знал, что ето враг, и вёл себя очень аккуратно. Оне между себя часто воевали, и Илюшка всё старался, чтобы я в ихно дело вмешался, но мы плечами пожимали и на все вопросы отвечали: «Мы не можем в чужи проблемы влазить». Их ето раздражало, ихны дети издевались над нашими, дети часто приходили со слезами, но мы виду не показывали и просили детей, чтобы терпели. Девчонки тоже кричали и обзывались, Устя даже сумела сказать: o:p/
— Зайчаты пузаты, ишо придёте сватать, хто за вас пойдёт? o:p/
Нам всё ето было чудно. Один Паискя обходился нормально, дак дети часто его поминали добром. o:p/
Выяснилось, что Артёмовски купили землю, машинерию, катер, дома построили — всё ето на наркобизнес. С Боливии возили кокаин в Бразилию и продавали. Люди стали им говорить, оне ответили, что уже покаялись и больше не занимаются етим делом. o:p/
Рыбалка у них не пошла, два раз съездили, и столь шуму и переполоху. Я сразу понял: ето трусы, а не рыбаки, и ничего с них не будет. Оне и сами поняли, что с них ничего не будет, решили продать катер. Но нихто хорошу цену не даёт, оне застраховали катер, и утопили его, и деньги получили. o:p/
В ето время приехал зять, Павел К. Ревтов, Марфин двоюродной брат, Евгения Артёмовича зять. Он его переманил к себе, знал, что у Павла деньги есть. И уехали за Кояике, в Чиле-Чико, заниматься лесом. Купили трактора, лесопилку, и у них дело пошло. Но когда поднялись, Павла отшвырнули, Павел потом сколь обижался. o:p/
Мы часто просили у них, чтобы продали нам усадьбу, оне молчали. Как-то раз приходют дети и рассказывают, что «уже надоел Заяц и оне не думают землю продавать». Ну что делать: ети земли не уступают, Баяновы также. o:p/
В Уругвае произошёл несчастный случай. Николаяв отец Захар, шурин Григорий, кума свояченица Анна и Василий Вагнер ехали с границы с Бразилии, на мосту слетелись, получилась авария. Николаяв отец, Григорий, Анна насмерть убились, Василий остался жив, но весь изломанный. Машина негожа, кусок железы — и всё, но ето будет ниже. o:p/
Приезжает в гости мама, посмотрела на всё и говорит: o:p/
— Бросайте всё и переезжайте в Аргентину, там всё равно вам будет легше. o:p/
Нам нисколь было неохота уезжать с Чили, и в Чили нам нравилось. Но деревни не предвидится, наши вышивки — перспективы никакой, научили многих, но профессионалов нету, и не заботются, от чиновников тоже никакого результату. Мы согласились с мамой и попросили тятю, чтобы стретил нас на границе. 20 ноября 1992 года курсы докончили. На матерьялы клиентов появилось немало, всё ето передали Ксении, Евгеньевой жене. Сколь потом за ето благодарили! Она занималась нашей работой, конечно, не учила, но все матерьялы продавала. o:p/
19 ноября приезжает брат Степан, говорит, что тятя ждёт на границе. Мы наняли машину, загрузили и поехали на границу. Марфа ходила последним временем беременна. o:p/
Приезжаем на границу, оформлям груз, встречаем тятю, перегружаем всё, трогаемся на аргентинску границу. Уже вечер. Приезжаем на аргентинскую таможню — проблема, не пропускают. Надо ехать в Барилоче, там оформить. Мы туды-сюды, стал упрашивать: малы дети, жена последня время ходит, везём толькя свой личный груз. Не пускают. Уж я за ними ходил, упрашивал — никак. В двенадцать часов ночи сменились чиновники, стал их просить. Начальник спрашивает: o:p/
— С каких пор вы здесь стоите? o:p/
Говорю: o:p/
— С семи часов вечера. o:p/
— Но надо же! o:p/
Сразу заставил оформить и пропустить, и мы тронулись в путь. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
19 o:p/
o:p /o:p
Вернусь назад. Мы ишо жили в Чили, брат Степан с Александрой уезжал в Канаду на заработки, проработал шесть месяцев, заработал хороши деньги, купил чакру одиннадцать гектар с фруктой, возле Германа. А Герман приехал, высватал Евдокею, и сыграли свадьбу, он сватал её пять лет. Но она нас на свадьбу не пригласила. С тех пор как я женился на Марфе и не стал её слушать, она мне ето больше не простила и маму всегда раздражала против нас. Получилось так: моё родство Марфу не любили и не любили моих детей, Марфино родство не любили миня и не любили Марфиных детей. А дети при чём тут виноваты? Но я на ето не смотрел и Марфе советовал так же поступать. Но она слабая характерам, и ето принесло много горя. o:p/
Приезжал к нам в гости Антон Шарыпов, побыл неделю, попросил рекомендацию, где купить машину. Я сводил его в компанию «Чевролет». Там у меня была классница <![if !supportFootnotes]>[32]<![endif]> , Клаудия, 25 лет, работала в етой компании бухгалтером. Хороша девчонка, умная, стройна, красива, за всю свою молодую жизнь не имела ни одного жениха, всё себя берегла, ждала хорошего принса. Но принс явился гнилой — Антоша Шарыпов. Обманул её и даже мене похвастался: o:p/
— Кака хороша девка, досталась мене непорочной. o:p/
— Антон, а жена, а дети? o:p/
— Она така-сяка. o:p/
Бедная Клаудия связалась с нём и сколь горя нахлебалась! Он ей голову морочил, она разыскала его в Аргентине, Акилина узнала, пошли семейны раздоры, Антон Клаудию прятал по гостиницам. Она поняла, что кругом обман, и уехала. Антонова мама Марфонькя таки Антоновы проделки знала, в Чили оне повторялись часто, но всё Антона защищала, и всегда была Акилина виновата. o:p/
От Германовой земли семь километров стоит городишко Ла-Марке. В етим городишке каждый год происходит фестиваль — праздник помидоры. На выезде стоит помидора цементова дияметром в три кубометра. Антон с тансов вёз двух проституток, врезался в ету помидору, и дошло до полиции и до больницы, на другой день — в газетах. o:p/
Вскоре Антон схлестнулся с Фроськяй, Таисьиной дочкяй, и Акилина всё ето терпела. У Антона в Чёеле магазин ушёл из рук, на земле возле реки дворец, что он строил, остался брошенный, недостроенный. Выяснилось, что когда Антон жил в США, занимался хорошим бизнесом: садил ёлки, пропиливал, пилил готовый лес, брал больши подряды, нанимал мексиканов нелегальных. Когда всё выпиливал или рассаживал, звонил в миграсиённый отдел и делал заявление, что в таким-то месте работают нелегальные мексиканы. Миграсион приезжал, забирал и увозил их на границу до Мексики, а Антон получал денежки и ни с кем не расшитывался, и так копил деньги. Но мексиканы всё ето раскопали и искали Антона убить. Как-то раз мексиканы на автозаправке увидели Антона, побежали за оружием к машине. Антон ето заметил, сял в машину и будь таков. И очутился в Аргентине, и никогда больше в США даже в гости не ездил, боле десяти лет, хотя у его всё родство там. o:p/
Новости. Приезжает Андрей, как хороший бизнесмен, и с Антоном берутся за експорт: с Боливии експортировать дерево дорогоя мара. o:p/
Антоновы родители уже жили в Аргентине. Отец Яков Васильевич вскоре перевернулся на машине, зашибся, видать, задел тюмор <![if !supportFootnotes]>[33]<![endif]> , появился рак, он прожил с год и помер. А сам дед Василий Васильевич Шарыпов ишо прожил два года и помер. Было ему 104 года, до последних своих дней читал без очкёв. И помер хорошей смертью, с причастию и с покаянием. o:p/
Евлампий в восьмидесятых годах работали на ёлках, в зоне, что один вулкан очень дымился. И власти знали приблизительно, когда он взорвётся, сообчили всем, чтобы уехали с гор. Все уехали, но одна группа осталась. Ето были Евлампий Васильевич Шарыпов, Леонтий Скороходов и два мексикана. У них оставалось малый участок пропилить ёлки, поетому остались докончить. В воскресенье утром стали допиливать, и взорвался вулкан. Оне хто куда побежал, бежали все, но Евлампий забрался на лесину и изжарился как сухарик. Остальные бежали и бежали, им тоже досталося жару. Один мексиканин так и остался — погиб, Леонтий и другой мексиканин выбежали, но уже были повреждёны, их подобрали в больницу, мексикана спасли, а Леонтий помер в больнице. o:p/
Шарыповы хотели утаить, что Евлампий погиб невинный, но шило в мешке не утаишь: погиб он именно в воскресенье на работе. А его жена Таня через десять лет спустя уехала в Россию, в монастырь на Дубчес, постриглась в инокиню, через сколь-то лет преставилась. o:p/
У Якова Васильевича Шарыпова последни года в США родился сын, назвали его Евгением. Когда приехали в Аргентину, ему было семь лет, весёленькяй, но сразу видать, изнеженной последышек. И вот девчонки у их все вышли за порядошных людей, и все живут, ничего худого про них не слыхать. o:p/
o:p /o:p
20 o:p/
o:p /o:p
Мы приехали в Аргентину. Евдокея с Германом уже уехали в США, Степан по-прежнему жил в Германовым дому, тятя с мамой жили на Степановой земле в суседьях, мы устроились в тятиным дому, успели посадить огород. Марфа 16 декабря в больнице принесла сына, сын родился хорошенькяй, но у Марфе его забрали, и она слыхала, как он ревел. Когда его принесли, он весь был истыченной, и не давали его сосить, Марфа сосила украдкой. Но оне снова забирали, и снова был рёв. Марфа спорила, называла их убийцами, ето привело их в бешенство, стали делать всё на вред. Приезжаю, Марфа со слезами рассказывает, что происходило в больнице. Вижу, что ребёнок весь жёлтый, иду ко главному врачу и говорю: o:p/
— Я забираю сына и жену. o:p/
— Что случилось? o:p/
— Здесь убийцы. o:p/
— Как так? — пошёл выяснять. Вернулся и говорит: — Мы не можем выписать ребёнка, он не в порядке. o:p/
— Вот и именно — он не в порядке, поетому я его забираю. o:p/
— Но мы не можем его отпустить. o:p/
— Мне не нужно, я его забираю. o:p/
— Тогда должен подписать, что отвечаешь за него. o:p/
— Конечно, отвечаю за него, он мой сын, и я в ответе. o:p/
Подписал и срочно на такси в Чёеле в больницу, объяснил нашему врачу ситуацию, сына сразу проверили, дали лекарства, витамины, сын уснул, наутро стал розовенькяй. Так и сына спасли, назвали Софонием, но так и остался слабенькяй. А произошло это в Бельтране, в етой больнице угробили немало детей, дошло до того, что на ету больницу открыли суд, после суда сменили врачей, милосердных сёстр, и всё затихло, не стало ужасных новостей. o:p/
В 1993 году нашёл за 180 километров аренду на три года — 15 гектар возле реки. Бесплатно, договор — берегчи берег и засадить тальником, чтобы не мыло берег. Хозяин итальянец, фамилия Гаравота, 59 лет, холостяга, занимается рогатым скотом и овцами. 25 километров от городу Генераль-Конеса, колония Сан-Хуан, естаблесименто Доня-Рина, от моря 100 километров международный порт Сан-Антонио-Есте. Землю арендовал, а трактора нету. Туда-сюда, Степан советует: o:p/
— Вон у Иона Васильев трактор на ограде лежит, на три части сломанный валяется, договорись, справь да и работай. o:p/
Позвонил Василию Немсу в Уругвай, он приехал, стал ему говорить: o:p/
— Арендуй трактор, я тебе его справлю. o:p/
Он говорит: o:p/
— Я его продаю. o:p/
— Но в таким виде ты его не продашь, давай я тебе его справлю, а потом постепенно куплю. o:p/
Ему идея понравилась, он согласился. Загрузили ети три части трактора и увезли к механику. За две недели мы его на ноги поставили, я его угнал туда в Конесу. Но и Иона тоже нахватал везде земли в Конеса, аренда дешёва, вот он и успевал. Нам повезло: земля на берегу реки, мягка, рассыпчата, канал с водой проведён в ряд <![if !supportFootnotes]>[34]<![endif]> , хоть залейся, к трактору инструмент коя-что купил, что-то арендовал, где занял. Суседи были хороши, всегда выручали. Землю приготовили, на самым берегу насадили бакчи в парник, 12 гектар посеяли помидор да 2 гектара тыквов. Речка рыбна, всегда с рыбкой, хозяин и суседи тоже всегда с рыбой, дружба кругом стала рости. Детки уже подросли, стали помогать, речка их увлекала. Мы жили от своёй пашни два километра, утром рано туда, а обратно дети на чурках приплывут. Бакча росла хороша и быстро. o:p/
Иона ето узнал, раз приезжает, второй раз приезжает, я задумался: пахнет говном. Раз Иона забегал — жди нехороших новостей. Смотрю, Иона приезжает вечером на помидоры, ходит ахат. Я не вытерпел и говорю: o:p/
— Иона, у нас с тобой не сходится, всегда коса на камень. Я по твоим пашням не бегаю, не узнаю, и мне не нужно про чужия посевы, и я не хочу, чтобы ты здесь бегал и узнавал да потом сплетни таскал, вы на ето молодсы. o:p/
Смотрю, накалился, покраснел, ничего не сказал, сял в машину и уехал. o:p/
Марфа случайно была с нами, всё слыхала и говорит: o:p/
— Почему так поступил? o:p/
— А что, забыла, мало горя перехлебали? Хто от них уже не пострадал! Лучше иметь их подальше, ишо успеет насеять плевков. o:p/
Конечно, Иону раздражало: у нас помидоры в колено, а он сеет, вот и зависть. o:p/
o:p /o:p
21 o:p/
o:p /o:p
Поехал я в Чёеле искать рабочего. Степан нашёл себе боливьянса, у него шесть гектар, помидоры ничего, хороши. Дело было в субботу. Остался до понедельнику сходить на фабрику, деняг раздобыть и рабочего поискать, охота бы боливьянса. Вечером сидим, мама говорит: o:p/
— На днях был разговор с Марьяй, с Тимофеевой матерью. Слухи прошли, что Тимофей хвастается, что «не умеют работать, вот им и не везёт». o:p/
Мама взяла да сказала Марье: o:p/
— Тимофей умный, дак у его всё хорошо идёт, а у нас дети вечно по арендам бегают. o:p/
Марья отвечает: o:p/
— Настенькя, не оговаривайся, ты бы знала, сколь мы Тиме свалили, сколь я в США заработала, всё ему отдала, а сколь дяди помогли и помогают, ведь он у нас один. Столь бы твоим ребятам помощи, и твои бы ребята были бы умны. o:p/
Это Марьино откровение меня поразило. o:p/
В понедельник со Степаном поехали на тракторе в Чёеле. Переезжаем через мост, смотрим, идёт человек с сумкой, увидел нас, кричит, останавливает. Степан едет, говорю: o:p/
— Степан, стой, узнам, что надо. o:p/
Степан останавливается, идём друг к дружке, спрашиваю: o:p/
— Что ишшешь? o:p/
Он отвечает: o:p/
— Тимофея. o:p/
— А ты откуду? o:p/
— С Боливии. Я работал у русских, слыхал, что в Аргентине хороши заработки, вот и собрался. Меня послал Маркос к Тимофею. o:p/
Вон в чём дело! Значит, Тимофей — дяди Марки зять, вот он и послал к нему. o:p/
— А что, ты толькя к Тимофею? o:p/
— Да мне хоть куда. o:p/
Мне он сразу понравился — стеснительный, скромный и ласковый. o:p/
— А я ишшу рабочего и боливьянса. Поди, пожелаешь работать у меня? o:p/
— Да конешно согласен. o:p/
— Ну садись, поехали. o:p/
Съездили на фабрику, раздобыли деняг и отправились домой. Ну, рабочий угодил золотой! Чуть свет стаёт, бежит на работу сам, не надо подсказывать, везде старается угодить. Мы тоже взаимно старались ему угодить, и так сдружились, как будто всегда знакомы и свои. Он решил после урожая привезти свою семью. Звать его было Каталино Гонсалес. o:p/
Тятя, Степан, Лука Бодунов, Димитрий Бодунов приезжали к нам на рыбалку. o:p/
Пришёл урожай. В Конесе со мной спорили, что здесь всё вырастает поздно, в консэ февраля. Говорю: «Нет, у нас будет урожай к новому году». Сделали залог, и к новому году мы повезли арбузы, дыни, тыквы, огурсы на рынок. Ни у кого нету, цены хорошо. Марфе с Андрияном загрузим утром на телегу, и оне на тракторе в город, к обеду дома. 300, 400 долларов заработки. Ну, слава Богу. o:p/
Слухи прошли, что на порту в Сан-Антонио два судна рыбальных русских конфискованных стоят, моряки без работы и не могут вернуться в Россию, 21 человек. Хто уехал в Буенос-Айрес, хто остался. Пять моряков приехали к Ионе, но я к Ионе не поеду. Через две недели в воскресенье пешком приходют к нам моряки, екс-СССР, знакомимся, угощаем. Попросились, чтобы показал урожай, сяли на трактор, поехали. Ходют, смотрют, дивуются: o:p/
— Вот тебе и пьяница, у пьяницы всё в порядках, и урожай дак урожай, а у честных-то всё зарошше и ничего ишо нету. o:p/
— Откуду вы ето взяли? o:p/
— Да Иона так судит. o:p/
— Так и подумал. o:p/
Стали проситься перейти к нам. o:p/
— Ну что, урожай подошёл, приходите. o:p/
— Но вы можете за нашими вещами съездить? o:p/
— Ну поехали. o:p/
Приезжаем. Покамесь оне собирали свои монатки, Иона увидел меня, и сразу: o:p/
— Уматывай, приташшился суда! o:p/
— Да чичас, я приехал не к тебе. o:p/
Бог знат что он там кричал, но я ушёл на трактор и там ждал. Ребяты подошли, сяли и уехали. И стали у нас работать. Но не очень оне нам понравились: на словах ух каки яры на работу, а на деле всё по-разному <![if !supportFootnotes]>[35]<![endif]> . Я за день насобирываю 50 ящиков, Каталино 80, а оне хто 10, хто 15 и 20. Сколь заработают — всё на выпивку. Как праздник — вези их в город, там гулянка. Бывало, и я с ними натренькяюсь. Марфе ето не нравилось, и она меня ругала — за ето права. o:p/
Приглашают нас съездить на порт в Сан-Антонио, показать нам свои судна. Ну что, поехали. Приезжаем в воскресенье, заходим на судно, и что мы видим: Фроськя с Таисьяй с моряками, а Степан Карпович, наш наставник, на улице. Неудобно, и говорит: «Окаянники, замучили старика». Но мене рассказывать не надо, одно слово — бедный мужичонка, всё ето терпит. И правды, Степан Карпович безответный. Когда Игнатий второй раз женился, упросили Степана Карповича стать наставником. Ето золото, а не человек, со всеми у него по-хорошему, за всех он заботится, но дома — бардак. Никак не хотел стать наставником, но люди упросили. Ето был мученик, Таисья с Фроськяй изводили как могли его. o:p/
Об нём осталась хорошая память. Бывало, аккуратно подойдёт и скажет: o:p/
— Данила, слухи идут — на базаре выпил. o:p/
— Да, не отпираюсь и не прятаюсь. o:p/
— Но сам знаш, подходют праздники, а ты не вместе. Давай, примись, пока люди не знают. o:p/
— Да что, опять шпионы? o:p/
— Получается так. o:p/
— Дак я же вместе не молюсь. o:p/
— Вот я и заботюсь об тебе, охота, чтобы ты был вместе. Сам знаешь: грамотный, красиво читаешь, хорошо поёшь. o:p/
— Ну ладно, что хвалить. o:p/
— Да я не хвалю, ето правды. o:p/
Ну ладно, разошёлся, и приходилось приниматься и доржаться, но случай с друзьями, опять закон нарушали. Но я чётко понимал: напоганился — не смей поганить никого, будь не вместе и не лицемерь. После 1984 года, вам рассказывал, стал всё анализировать и всё читать: всё-всё-всё, все веры, все секты, масонство, разную философию, рассказы, анекдоты, газеты, политику, всю рекламу, новости — да всё, что попадало под руки. Пересмотрел фильмы сколь мог, и всяки-разны — и как я не буду после етого религиозным? Но меня надо понять, я никому не доверяюсь, с каждым днём вижу, сколь фальши в народе, и стараюсь быть недоступным. o:p/
Маленькя скажу о базаре. Святой Никон Черногорский правильно сказал: всё зависит от нашей совести. Ежлив твоя совесть позволяет тебе брать с базару — бери невозбранно, оно уже чисто, купляй, очищается. Ежлив совесть говорит: «Погано», лучше не бери — погрешаешь. Ежлив твоя совесть позволяет, никому не внушай, что ето можно или нельзя, да не отдать за ето ответ. Но ежлив совесть позволяет, а ты взял да воздоржался ради Бога, за ето мзда тебе будет на тем свете от Бога. А в харчёвках — ну, в ресторанах — никак же, должен исправиться. Иоанн Златоуст сказал: «Легче в уста, нежели из устов». o:p/
Моряки довели себя до того, что Марфа сказала: o:p/
— Пускай убираются, больше невыносимо. o:p/
— Хорошо, но выгони ты их сама. o:p/
— Ладно. o:p/
Пришла и сказала: o:p/
— Я не хочу, чтобы вы больше у нас работали, никакой пользы с вас нету, и мужику работать не даёте. o:p/
Оне ждали от меня защиты, но я сказал: o:p/
— Ребята, она така же хозяйкя и имеет таку же праву, как и я, и сами видите: работа стоит, так что не обидьтесь, она права. o:p/
Мы их расшитали, оне ушли к Иону, Иона не принял, тогда оне уехали на порт, потом в Буенос-Айрес, хто из них запился, а хто сумел вернуться в Россию. Один Игорь остался, взял у Иона сестру Соломею. Витя уехал в Ушуая, поваром нанялся, Вова в Россию уехал, Валера и Дима в Буенос-Айресе запились. o:p/
o:p /o:p
22 o:p/
o:p /o:p
Мы набрали в городе рабочих и возили их каждый день. Но ето не рабочи: ленивы, с горям пополам собирали да сдавали, Каталино всегда говорил: «Каки аргентинсы ленивы». Етот год морозы рано пришли, пол-урожая на пашне осталось, мы заработали, но не очень. В консэ урожая приезжает Василий Немец, но Иона тут как тут, давай его приглашать. Что он ему внушал, не знаю, но, когда мы стали просить, чтобы он нам продал трактор, он отвечает: o:p/
— А я уже его продал Миронке Кузнецову. o:p/
— Дак как так, а договор? o:p/
— Да я к вам с другим предлогом. o:p/
Но хитрый же, а он уже Марфу и детей проагитировал, Марфе: o:p/
— Твоя мать передаёт вам поклон, Николай с Александром купили 500 гектар под нову деревню, что вы будете скитаться по арендам, и детям будет есть где праздновать. o:p/
Марфа, дети за Василия: o:p/
— На самом деле, хватит скитаться, всегда мечтали жить в деревне, вот нам и шанс. o:p/
Я возразил: o:p/
— Да мы там не нужны. o:p/
Василий: o:p/
— Данила, покорись Николаю, и всё будет хорошо, он милостливый, после аварии толькя он мне и помог. o:p/
— Но у нас договор с хозяином на три года. o:p/
— Да не переживай, Иона уже с твоим хозяином договор ведёт. o:p/
Я ничего не ответил. Но когда Немец уехал, стал семье говорит: o:p/
— Вы что, сдурели, вам ишо мало горя от етих людей? o:p/
Ни в каки: поедем и всё! Дети: o:p/
— Вовсе не с кем праздновать. o:p/
Я спомнил свою молодость — и на самом деле, детей жалко. Но как быть? Знаю, что ехать надо в осиноя гнездо. Трактор Немец продал. Что делать? Уезжать неохота, устроились хорошо. Поехал к хозяину, стал спрашивать: o:p/
— Неужели правды вы хочете арендовать Иону земли? o:p/
Он смеётся и говорит: o:p/
— Даниелито, вам всем хватит. o:p/
Я говорю: o:p/
— Но с Ионой я не собираюсь работать в суседьях. o:p/
Он: o:p/
— Да что ты, всё будет хорошо. o:p/
— Вы не знаете Иону. o:p/
Так всё осталось. Я поехал к тяте с мамой за советом, рассказал, оне обои сказали: o:p/
— Данила, хватит бегать, живи себе спокойно. o:p/
— Но как, Немец трактор продал, Иона у моего хозяина землю арендовал. Сами знаете, что ето будет. o:p/
Молчат. o:p/
— Марфа, дети собрались. o:p/
Мама говорит: o:p/
— Но съездите, а здесь ничего не продавайте, оставьте всё у нас вон в бараке. o:p/
Тятя говорит: o:p/
— Не знаю, выдюжишь, нет. Чижало с такими людьми жить, насмотрелся я на Игнатия да на Иону, но смотри сам. o:p/
Ну что, придётся ехать. o:p/
Степан Карпович уехали в Бразилию в Масапе к сыну, Степан Карпович уже похварывал, весь изнадсажённой, работать не может, вот и решили уехать к сыну. o:p/
Наставника выбрали Тимофея Снегирева, 33 года, молодого, безграмотного, но порядочного. Тут приезжают его родство, дяди-тётки, хотели собрать тайный соборчик. Тимофей и ета кучкя — тайные поморсы. Пригласили брата Степана и передали, чтобы Степан и мене сообчил. Ну вот. Когда я от тяти с мамой приехал, чтобы Степану свою аренду отдать и своего рабочего Каталино передать, Степан с радости всё ето принял и жалел, что мы уезжам, он тоже сказал: o:p/
— Не знаю, выдюжишь ты или нет, ето идивоты, ну, смотри сам. o:p/
Я тоже дал ему совету: o:p/
— Братуха, переходи на совремённую технику и сей больше помидор. Сам видишь, хто сеет много, тот и живёт. o:p/
Он так и сделал. И тут мне рассказывает: o:p/
— Тимофей в воскресенье собирают тайный соборчик, и меня пригласили, и тебе поклон передают. o:p/
— А хто оне? o:p/
— Тимофей Снегирев, Кипирьян Матвеев, Андрей Иванов, Иремей Пятков, и нас с тобой приглашают. o:p/
— Степан, ето же опять шишиканье и раздор. o:p/
— Да, походит так. o:p/
— Братуха, ты меня прости, но я ненавижу ети кучки. o:p/
Поговорили, так и осталось. Поехал домой, думаю: «Да всё буду терпеть ради деток, всё равно всем угожу Николаю. Что будет, то и будь». Приезжаю домой, даю своё согласие, дети радуются. Ну, собрались, груз перевезли к тяте с мамой, составили всё в барак и уехали в Уругвай. o:p/
o:p /o:p
Бочкарёв Антон, Ульяна Черемнова ишо до нас занялись вышивками во всёй Аргентине. Но Ульяна — ето настояща цыганка и коммерсантка, у ней ничего не пропадёт, всё она продаст, и втридороги, никого она не пожалеет, толькя бы ей было бы хорошо. А Антон — ето ветерок. Ульяна взялась учить по всей стране, запатентировала ето художество, договорилась с фабрикантами в Бразилии брать оптом нитки, брала в Бразилии у одного хохла оптом иголочки. В Аргентине открыли мастерскую делать пяльчики и наняли Кондрата Бодунова, Кондрат был поставшиком пяльчиков, составлять рисунки тоже нанимали, учить она брала дорого, матерьялы продавала втридороги, ей не нужны были профессионалы, ей надо было продать. Взяли хорошу машину и ездили по всёй стране. Оне быстро разбогатели, но что случилось дальше — узнам. o:p/
Антон Шарыпов с Акилиной разошлись и уехали в США. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
23 o:p/
o:p /o:p
Приезжаем в Уругвай, тесть живут в дядя Федосовым дому. Конечно, расстроились. Дядя Федос помешался умом и сидит на цепе. У меня сердце сжалось, и не верится: не может быть, мог быть всемирным судьёй, а вижу на цепе… Подхожу, здороваюсь: o:p/
— Дядя Федос, узнаёшь? o:p/
Смотрит: o:p/
— Нет. o:p/
Я говорю: o:p/
— Я зять Фёдора, Данила. o:p/
— Не знаю. Повешали каку-то цепочкю, дёргаю-дёргаю, не могу отвязать. o:p/
Мне сделалось худо: грязный, косматый, вонючай, избушка маломальна. Иду к тёще, спрашиваю: o:p/
— Почему дядя на цепе? o:p/
— Да убегает, тот раз искали два дня. o:p/
— А почему грязный, вонючай? o:p/
— Да надоел уже. o:p/
«Ах ты, — думаю, — с-сука! Мало ли он вам добра сделал в жизни?» Иду к тестю, спрашиваю: o:p/
— Почему такой дядя? o:p/
У него слёзы на глазах: o:p/
— Нихто за нём не хочет ходить. o:p/
— А ты сам? o:p/
— Да приходится. o:p/
— Но за ето ответ надо будет отдать. o:p/
— Да знаю. o:p/
Я старался не встречаться с дядяй, не мог ето видеть. Вмешиваться — будет проблема. Мы мало у тестя прожили, но успели увидеть, как тёща обращается с дядяй: ругает, бьёт, и он всё тихо-кротко терпит, и нигде его не слыхать. o:p/
Николай тоже у тестя, по-прежняму надсмешки, издёвки. Ну что, приходится терпеть. Тёща говорит: o:p/
— Проситесь в нову деревню, скоро будем усадьбы нарезать. o:p/
Стал просить у Николая, кланяюсь в ноги: o:p/
— Ради Бога, Николай, прими в вашу деревню. o:p/
— Да я не один, надо Александра спросить, мы синьцзянсов не хотели, нам самим мало. o:p/
— Но мы же свои, наши жёны — сёстры. o:p/
— Ето ничего не значит. o:p/
— Николай, смилуйся, — опять поклон, — ради Бога. o:p/
— Ничего не обещаю. — Опять поклон. — Не кланься. o:p/
Что, Николай всех задарил, всех подкупил, его приглашают, пиры ему ставют, Николай в почёте, Николай набожный, милостливый, святой, а он ходит всех учит, его слушают со вниманием. Я ишо подходил два раза к нему с просьбой, но никак. Ну что, что-то надо делать. Пошёл к Александру Мартюшеву, ето будет Чупров зять, брата Степана свояк, человек скромный, в Аляске овдовел и взял Лизавету Ивановну Чупрову, от первой жены два сына и дочь — Колькя, Пашка и Фетинка. Стал у Александра проситься, он не против, но говорит: o:p/
— Я со своёй стороны все усадьбы уже отдал, сам видишь, сколь Чупровых. Просись у Николая. o:p/
— Но как просить, три раза просил, и не тянет и не везёт. o:p/
— Куда он деватся — просись. o:p/
Ну, я ишо подошёл к Николаю — нет результату. Ну что, поступать будем по-разному <![if !supportFootnotes]>[36]<![endif]> . Слышу, что на сельскоя хозяйство дают хороший кредит, директор банка хороший, наших хорошо знает. Обратился к нему, попросил кредит купить трактор и диски, он выслушал: o:p/
— Хорошо, поможем, принеси контракт на землю, тогда обсудим. o:p/
Поблагодарил, поехал в Гичён, узнал, у кого земля близко около будущай деревни. Нашлась земля два километра от будущай деревни, арендовал 50 гектар земли, домишко старый, но ничего, можно жить, речкя в ряд Гуажябос. А под деревню купили — называется Ринкон-де-лас-Питангас, она стоит на реке Кегуай, город 22 километра Гичён. Сделали контракт на землю, с етим контрактом пошёл в банок, банок вырешил 11 000 долларов. o:p/
— Принеси договор трактора и дисок. o:p/
На счастья, нашёл хорошай трактор «Массей Фергусон», 75 лошадиных сил, подоржанной, но в хорошим состоянии, наработанной 7 тысяч часов. Ну, ето хорошо, ишо может проработать 4 — 5 тысяч часов. Диски новы, за ето всё просют 16 000 долларов, срядились на 15 000 долларов. Приезжаем в банок с договором, банок выдаёт деньги, берём трактор с дисками, диски гидравликовы, шикарны, оставляю у них и еду домой. o:p/
Приезжаю домой, новости: в деревне смеются — Зайчишка, хто ему даст кредит, ни земли, ни гарантий. Дети говорят: o:p/
— Марка Чупров нам говорил: «Зайчаты приташились, хто за вас будет отдавать?» o:p/
— Дети, терпите! o:p/
Марфа спрашивает: o:p/
— Ну, как у тебя дела? o:p/
— Хорошо. Землю арендовал у Питанги, на берегу Гуажябос, трактор купил с дисками, завтра надо будет отдавать последни деньги, банок вырешил 11 000 долларов, а покупка на 15 000 долларов. o:p/
— Ты что, правду говоришь? o:p/
— А что, вру? Завтра поедем, тестя попросим, он вас увезёт, а я погоню трактор, как ни говори, 110 километров, но надо гнать. o:p/
— А в деревне смеются. o:p/
— Да пускай смеются. Хто смеётся последняй, смеётся красивше. o:p/
На другой день выехали, я на тракторе, Марфа с детками с тестям. Приезжаю вечером домой, всем радость, трактор хороший, руль гидравлешный, речкя близко от деревни. o:p/
— Марфа, что будем делать? Остались без копейки, всё отдали за трактор. o:p/
— Не знаю, смотри сам. o:p/
— Вот что, давайте молиться Богу, Бог поможет. o:p/
И каждый день утро и вечер все молились. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
24 o:p/
o:p /o:p
Ето было за неделю до праздника Пресвятой Богородицы Успение. Поставили сети, утром поймали мешок рыбы, говорю Марфе: o:p/
— Марфа, поедем с Андрияном по суседьям, а может, рыбу продадим, может, хто-нибудь наймёт работать на тракторе. o:p/
Помолились, благословились и поехали, стали спрашивать у суседьяв, хто нанимает работать на тракторе. Нам сказали: o:p/
— Поезжайте к Кириченкиным, оне нанимают. o:p/
— Ого, повезло, русски! А где оне живут? o:p/
Нам рассказали: восемь километров отсуда. Ну, поехали. Приезжаем. Сразу видать, порядошный хозяин. Выходют, здороваемся, по-русски не говорят. Говорю: o:p/
— Ишшу работу на тракторе с дисками. o:p/
— Сколь берёшь? o:p/
— Люди берут 25, 22 доллара за гектар, а мы берём 20 долларов гектар. o:p/
— А когда можешь приехать? o:p/
— Да хоть сёдни вечером. o:p/
— Хорошо, приезжай завтра, я с сыновьями поговорю, у их тоже надо дисковать. o:p/
Мене мужик понравился, простой, вежливый, разговорились, я им рассказал своё переселение и как нам чижало в сию минуту. o:p/
— Но мы очень вам благодарны, мы поймали рыбы, хотели копейкю сделать, но за вашу добродетель забирайте всю и поделитесь со своими сыновьями. o:p/
Старик увидел сэлый мешок рыбы, бесплатно не берёт, а я деняг не беру, но сказал: o:p/
— Посидите. o:p/
Старуха пошла наложила нам картошки, луку, рису, муки, поймала три курицы, петуха, старик принёс овечкю, говорю: o:p/
— Зачем ето всё? o:p/
Он говорит: o:p/
— Возьмите, мы знам, как приходится жить в трудных ситуациях, нам тоже несладко пришлось в жизни, были православными, но жизнь заставила быть субботниками, ну что поделаешь. o:p/
Приезжаем домой, Марфа увидела всё и заплакала, и я не вытерпел. o:p/
Утром рано с Андрияном уехали на работу, взяли постель, продукту и дисковали день и ночь по очереди. За четыре сутки мы сделали чистыми 600 долларов, приезжаем домой весёлы, праздник встретили слава Богу. После праздника так же день и ночь работали, работа была и у сыновей: Педро, Ариел, Хакобо, оказалось, угодили очень хорошие люди, самого звали Федерико. Все наши заработки мы повёртывали на свою аренду. Посеяли кукурузы и пять гектар бакчи, но бакча без полеву уже не то. Как-то раз свозил своих девчонок к Кириченкиным, старуха надавала им куклов. Приезжам домой, Алёнка бежит к матери: «Мам, мам, у Кикирикиной старухи маленьки цыпляточки!». o:p/
Приезжает Николай с Палагеяй вечером, поужнали, дети помолились начал, подходют ко мне, прошаются и благословляются, также к матери, утром также. Николай не вытерпел и сказал: «Ишо не лучше, у таких людишек ишо и дети прощаются и благословляются!». Мы с Марфой переглянулись, ничего не сказали. o:p/
Оне купили землю, но с документами была проблема. Хозяева етой земли уже умерли, а остались дети, и некоторы из них не хотели подписывать, вот и надо было побегать. Продал им ету землю Хулио Дупонт, переродок <![if !supportFootnotes]>[37]<![endif]> франсузов, парень очень умный, обходительный, мы с нём сразу подружились, он занимается продажей, землёй и машинерияй. Николаю пришлось хошь не хошь меня просить, чтобы помог в переводшики, но сам не просил, но послал тестя. o:p/
И у тестя тоже проблема. Когда была авария, сын и дочь погибли и машину потеряли. Оне не хотели суд открывать, считали, что грех, но тот, хто убил, суд открыл, и тестю сказали: «Бери адвоката, не то будешь платить за весь суд». Оне узнали хороших адвокатов, «Бергер и Бейс» компания, ети адвокаты проверили всю експертизу и сразу поняли, что суд на ихней стороне. Суд был следующий. Наши ехали на пикапе с границы, мост был узкий для одной машине, знак преференции был — хто едет в столицу, после моста подъём в гору, мост 100 метров. За пикапом шёл мотциклет, за мотциклетом легковая, пикап зашёл на мост, с горы спускается грузовик простой <![if !supportFootnotes]>[38]<![endif]> , шёл быстро, но без тормозов, на середине моста поддел пикап и тащил 17 метров, мотциклет хотел отвернуть, но не успел. Мотциклет измяло, водителю обои ноги изломало, и улетел под мост, легковую помяло, но пассажиры уцелели. Когда мы приехали, суд шёл, но некому было на него ездить. Василий Немец разорялся, что грех судить, роптал на тестя: «Какой наставник, суд открыл!». Вот и надо было на тракторе наниматься, бакчю ростить, за кукурузой ходить, землю выкручивать, на суд ездить да ишо помогать строить Николаю дом, барак, баню. Дерево им нашёл у Кириченковых, два гектара евкалиптов на столбы землю городить, брусьи, доски, рипы <![if !supportFootnotes]>[39]<![endif]> , лес пилили, возили на лесопилку и обратно и етим строили. Кириченкиных ребят выпросил, чтобы обгородили всю деревню. o:p/
Ишо жили в Аргентине, я уже пил реже и реже, приехали в Уругвай, я совсем бросил пить, потому что стал похварывать. Николая ето раздражало, он не мог терпеть, что я не пил, он везде проповедовал, что пьяница, а тут не пьёт. А тут как назло тесть упрашиват, чтобы после моления я подбирал поучения и читал. Я не хотел, отпирался, но тесть настаивал, пришлось согласиться. За неделю приготовишь, а в праздник читашь, старался подобрать наилучших поучениев, и большинство для молодёжи. Моя цель была такая: чё учить стариков, оне много знают, надо молодёжи внушать добро — и в будущим будет добро. Ето продолжалось год, молодёжь стала стараться, стали учиться читать, петь. Тестю и Александру Мартюшеву ето нравилось, но Николай и Немец негодовали. Бывало, сядешь с Николаям в машину, и начинает капать: o:p/
— Вот синьцзянсы таки-сяки, колдуны, пьяницы. o:p/
Как-то раз не вытерпел и сказал: o:p/
— Да, я коренной синьцзянин, вот документ, и посмотри: вот написано — Синьцзян. o:p/
Чудно, что ето слово так может подействовать. Он везде говорил: o:p/
— Посмотрите, как он гордится, что синьцзянин. o:p/
Мне смех. У меня волосы уже падали в то время. Как-то едем, он говорит: o:p/
— Га-га-га, а у нас лысы-то все на почёте, га-га-га, а лысы-то все таскуны. o:p/
Я недолго думавши говорю: o:p/
— Да, святый Николай, Апостол Иоанн Богослов, Паисий Великий — все таскуны. o:p/
Он как ошихарет: o:p/
— Нет-нет, оне были девственники! o:p/
— Нет, ты сам сказал: оне таскуны. o:p/
Сколь он потом жалобился: o:p/
— Вы посмотрите, как он меня поддел. o:p/
А раз едем, говорит: o:p/
— Сколь пьяницы ни бросали, всегда вёртывались на ту же точкю. — И ишо добавил: — Посмотрю, как ты будешь своих детей женить и отдавать. o:p/
Меня поразило: в этим человеке ноль добра, одно зло. o:p/
Оне жили: тесть, Николай, Александра, Немец — в старым дому и молились там же, а дома строили полтора километра, где основали деревню. Проект деревни нихто не смог сделать, чертили-чертили, и никак не подходит. Я взял, дома сделал проект, показал, всем понравилось. Николай с Немцем опять злятся. o:p/
o:p /o:p
25 o:p/
o:p /o:p
Как-то раз отмолились, говорю: o:p/
— Мужики, послушайте, у вас дорог нету, електрики нету, будете работать с банками — вас нихто не знает, хочете провести воду — и не знаете как. Давайте сделайте небольшой пир, приглосим властей, интендента, министра по енергетике, директора банка, властей разных проектов, местных властей — сами себя покажете и с властями познакомитесь, тогда у вас всё пойдёт как по маслу. o:p/
Идея всем понравилась, но Николай ежится, согласия не даёт, говорю: o:p/
— Но вы же сами меня просите туда-сюда, а я вам хочу всё зараз сделать, лучше етой идеи нету. o:p/
Все заговорили: o:p/
— Да, ето правды. o:p/
Смотрю, Николай согласился и даже берётся сам за ето. Стал советовать, как лучше сделать, говорю: o:p/
— Хорхе Ларраняга — интендент <![if !supportFootnotes]>[40]<![endif]> , будущай кандидат пресидента, Марио Карминати — министр енергетики, бывшай интендент, нашим хорошо помог, дороги провёл, електрику провели, земли дал. Ети два лица самы главны, остальные полпроблемы. o:p/
— А чем угощать? o:p/
— Угощать русскими блюдами и хорошай бражкой. o:p/
— А будут оне пить? o:p/
— Будут пить да ишо хвалить, но надо купить дорогого вина и виски. Не заботьтесь <![if !supportFootnotes]>[41]<![endif]> , оставьте в мои руки. o:p/
— Ну хорошо, действуй, толькя сообчай. o:p/
— Ладно, хорошо. o:p/
Я знал, что Хулио Дупонт на всё молодес, приехал к нему, весь план ему рассказал, он выслушал: o:p/
— Даниель, ну молодец, лучше некуда. o:p/
Говорю: o:p/
— Помогай, знаю, что ты всё сможешь организовать, и куда обратиться? o:p/
Смеётся: o:p/
— Твоя идея мне понравилась. Как ни говори, этим людям помоги — оне много местным покажут, как работать. Слушай, к Марио Карминати контакт у меня и есть, здесь чиновник по животноводству, друг секретарши, он мене друг, поехали к нему. А к Хорхе Ларраняга у меня прямой контакт. o:p/
— Ну и отлично. o:p/
Приезжаем к етому чиновнику, а он мене уже знакомый, хороший парень, выслушал, тоже схватился за ету идею. Он давай звонить секретарше Марио Карминати, та выслушала, ответила «постараюсь». На другой день с Хулио Дупонт поехали в Пайсанду, Ларранягу не захватили, он был в Монтевидео, зашли к чиновникам: Хорхе Дигиеро — директор дель медио амбиенте <![if !supportFootnotes]>[42]<![endif]> , к Рикардо Монтаубан — директор дель десарольо <![if !supportFootnotes]>[43]<![endif]> , к директору банка. Всё объяснили и сказали: o:p/
— Будем всех вас приглашать на праздник. o:p/
Оне одобрили. Местных властей тоже объехали и стали готовиться и организавывать встречу, заняло ето месяц. o:p/
o:p /o:p
Мы на тракторе у Кириченкиных заработали, в сезон свои посев сделали и насобирали на годовалу квоту в банок, за кредит 2500 долларов, кредит был на пять лет. Кукуруза угодила хороша, но цена низка, бакча не очень без полеву, да и на рынке ничего не стоит. А мы нет-нет да и сетки поставим, рыба в цене, как поедешь — на 200 — 300 долларов. Нам ето понравилось, и мы чаше стали рыбу продавать. o:p/
За нами стали амбиенталисты <![if !supportFootnotes]>[44]<![endif]> следить, стали заявлять. Как-то раз приезжаем, смотрим, едет полиция. Подъезжает и говорит: o:p/
— Пожалуйста, больше рыбу не привозите, а то заявляют, и нам надо будет действовать. Извините, нам охота с вами по-хорошему. o:p/
— Большоя спасибо, что известили. o:p/
Приезжаем домой, я задумался, что делать: на посевы не могу расшитывать, бакча не в в цене, с наших помощи никакой не жди, толькя даром всё сделай. Думаю: а как все рыбаки рыбачут во всёй стране? o:p/
У нас уже в 1994 году ишо сын родился, назвали Никита. o:p/
Приезжаю в Монтевидео, иду в отделение сельскоя хозяйство, спрашиваю, где решаются вопросы по рыбалке, дали адрес, прихожу, название ИНАПЕ — институто насиональ де песка <![if !supportFootnotes]>[45]<![endif]> , захожу, спрашиваю, меня посылают на второй етаж. Подхожу, спрашиваю начальника, подождал минут тридцать, подходит низенькяй человек в очкях, суровый, спрашивает: o:p/
— Что надо? o:p/
Говорю: o:p/
— Извините, у меня семеро детей, долг в банке, бакча ничего не стоит, чем-то надо кормить детей, стал рыбачить и рыбу продавать, но мене запретили, и нам нечего кушать. Как можно получить разрешение на рыбалку? o:p/
Он отвечает: o:p/
— Мы просто давали разрешение, но чичас законы изменились, и вы должны курс сдать. Курс сдадите, принесите документ на лодку, и мы вам выдадим разрешение. o:p/
— А где курс сдавать? o:p/
— Где живёте? o:p/
— Департамент Пайсанду. o:p/
— Хорошо, иди в Пайсанду, префектура наваль <![if !supportFootnotes]>[46]<![endif]> , там экзамен сдашь. o:p/
— Да, я понял, большоя вам спасибо. o:p/
Ну, слава Богу, есть выход. o:p/
Приезжаю в Пайсанду, иду на порт, захожу в префектуру наваль, прошу начальника, жду, выходит, здоровается: «Что надо?». Всё подробно и умильно рассказываю и убедительно прошу, чтобы помогли. Его тронуло, он говорит: o:p/
— У нас три раза в год экзамены сдают, но вижу твою ситуацию, хочу тебе просто помогчи. Вот законы, что надо учить, вытвердишь — приходи, принеси справки, больнишна о здоровье, справку о несудимости, справку место жительства, документы и фотографии 3 на 4, четыре штуки. o:p/
— А лодку как? o:p/
— Кака у тебя лодка? o:p/
— Самоделашна. o:p/
— Принеси квитанцию, где брал матерьял. o:p/
— Хорошо. Большоя вам спасибо, вы даёте моим деткам кусок хлеба, ишо спасибо. o:p/
Смеётся: o:p/
— Желаю успеха. o:p/
Ето был лейтенант Мендоса. o:p/
Ну, я взялся изучать и справки собирать. Обои деревни хохотали: «Выискался капитан!». Я молчал, а своё вёл. Через месяц всё собрал, выучил, привёз все справки и лодку. Лодку смерили, екзамен сдал, всё хорошо прошло, сказали: «Через два дня приходи». Прихожу через два дня, получаю книжку — не простую, а «патрон де песка артесаналь» <![if !supportFootnotes]>[47]<![endif]> , и документ на лодку. Вот тебе и капитан! Приезжаю домой, беру детей и Марфу и показываю: o:p/
— Вот вам наворожили, незнамо получил книжку самого высокого ранга, а люди смеются: нашёлся капитан! o:p/
Сразу в Монтевидео, иду в институт, сдаю документы, начальник поздравляет, делают ксеркопии и говорят: «Подожди». Подождал три часа, приносют временноя разрешение на четыре месяца, а через четыре месяца посулили на четыре года. o:p/
Приезжаю домой, беру лодку, сети — и на рыбалку. Поймали хорошо, на базар, приезжаем, стали продавать. Я уже знал, хто заявлял, смотрю: обои идут, говорю: o:p/
— Покупайте рыбу дёшево! o:p/
Оне улыбнулись, ничего не сказали и ушли. Я говорю Марфе: o:p/
— Ты постой, а я сбегаю в полицию, оне недаром улыбнулись. o:p/
Прихожу в полицию, показываю разрешение, полиция говорит: o:p/
— Давно бы так. o:p/
Ишо говорим — звонок, заявление, офицер отвечает: o:p/
— Слушай, мы ничего не можем сделать, у его всё в порядке, разрешение с самого министерства с Монтевидео, извините, он работает легально. o:p/
Благодарю и спокойно иду на рынок. Так и пошло у нас, чаше и чаше стали рыбачить. o:p/
o:p /o:p
26 o:p/
o:p /o:p
С Боливии приезжает парень, Мартюшев Давыд Иоилевич, встретились в Пайсанду на автовокзале. Парень едет к нам в деревню, узнал, что я туда же, обрадовался: «Поехали вместе!». Ничего парень, разговорчивый. Прошло три месяца, парень высватал у Алексея Чупрова дочь Екатерину. o:p/
Приходит свадьба. На первый день вечера подходит ко мне тесть с обидой и жалобится. o:p/
— Что с тобой? o:p/
— Да ребяты чуть не набили. o:p/
— А за что? o:p/
— А хто их знает. o:p/
— Чичас разберусь. o:p/
Он рад: o:p/
— Толькя на тебя и надёжда, зятёк. o:p/
Ишшу ребят, смотрю, оне подходют к чупровской ограде, останавливаю, спрашиваю: o:p/
— Ребята, в чём дело, почему к старикам лезете? — Стоим на расстояние в двух метрах. o:p/
— А хто жалуется? o:p/
— Да тесть. o:p/
— Да етому таскуну дать надо! o:p/
И подходит сват Иван Чупров, он слыхал, и сразу с верхной полки: o:p/
— Не заставай <![if !supportFootnotes]>[48]<![endif]> за своёго тестя, знам мы его хорошо. o:p/
— Сват, отойди, без тебя разберёмся. o:p/
Он пушше. o:p/
— Сват, пожалуйста, уймись. o:p/
Ребяты почувствовали силу, напряглись, я чувствую, воздух накаляется. Сват Иван стоял с правого бока, чуть поболе метра. Как получилось — не знаю, но я так быстро развернулся и дал его в подбородок, он улетел два метра и без памяти. Всё затихло, ребяты: o:p/
— Данила, прости Бога ради, мы драться не хочем, — и ушли. o:p/
Я опешил: никогда не дрался, и их было шестеро. Свата Ивана привели в чувство, и выяснилось, что тесть хватался девчонкам не за подобно место на свадьбе, и девчонки рассказали ребятам, ребяты хотели его избить, но народ не дал, вот он и пришёл к мене жаловаться. Когда я узнал всё: «Да надо тебя было избить, змеёшка, да ишо наставник называешься». o:p/
Суд шёл два года, судья предлагал виновнику по-хорошему, расшитаться за аварию, он никак не хотел. В консы консах суд решил тестю вернуть матерьяльный ушерб в размере 18 000 долларов, тесть за покойных ничего не требовал, но суд сделал приговор на 148 000 долларов, и виновника лишили свободы на два года, а деньги адвокаты поделили. Немец захотел получить за аварию, но ему нисколь не дали, потому что он был против суда. o:p/
o:p /o:p
Когда сделали пир властям, все уже жили в своих новых домах. Нам дали старый дом, мы уже там жили, а молились у Николая на ограде. Построили временною моленну, и поучения я уже не читал, отказался, потому что Николаю и Немцу ето было не по глазам, оне злились. Тесть упрашивал, но я не соглашался. o:p/
Праздник получился удачный, вороты разукрасили цветами, властей стретили с хлебом-солью, молодёжь была разукрашена по-празднишному, властей поприветствовали вежливо. Во всём помогал мене Дупонт. Пришлось мене выступить поприветствовать, объяснить, зачем приглашёны, поблагодарить за ихно присутствие, посадить всех за стол и открыть пир. Марио Карминати и Хорхе Ларраняга не приехали, но послали своих доверенных лиц, было всех двенадцать человек, окромя водителя. Знакомство было хороше, и ето открыло хорошие перспективы, стало всё доступно. Власти довольны уехали, сказали: «Что надо — заходите, будем помогать». На пир приезжали два антрополога, мужчина и женчина, с университета — универсидад де ла республика, Ренсо Пи Угарте и Мариель Сиснерос, оне всё заснимывали и записывали. o:p/
Но етот пир для меня был роковым. Всё стало готовиться тайно, я что-то подозревал, знаю, что с Николаявой стороны большая зависть: какой-то Зайчишка знается с такими людями и везде передом <![if !supportFootnotes]>[49]<![endif]> , но терпел и виду не показывал. В консы консах Николаю пришлось дать нам пол-усадьбы в размере семь гектар, но он не хотел, дал скрозь зубов. o:p/
Донеслось до меня, что Николай и Немец катют меня масоном: как так у его получается так быстро и хорошо, ето неспроста, масон и всё, гнать надо его отсуда. Идивоты, думают, что всё ето легко! А сколь я ночей не спал, чтобы всё делать без ошибок, и сколь заботы и нервов утрачено на ето! Да, говорить-то хорошо, думашь, как ты: обходишься по-собачьи со всеми и думаешь, что тебе двери откроют? Нет, не так: будь хорошим дипломатом, и тебе будет всё доступно. o:p/
У Николая очень вредныя привычки. Раз приезжаем в Пайсанду, заходим в строительный магазин, хозяин магазина еврей, хороший приятель всем нашим русским, даже говорил по-русску, имя его Моисей Вульф. Заходим с Николаям, и что же он настроил? Взялся срамить всяко-разно Моисея. Мене стыдно: o:p/
— Николай, нельзя так! o:p/
— Нельзя? Проклятыя жиды, распинали Христа, да ишо молчи? o:p/
— Николай, хто-то сделал, но не все же виноваты. o:p/
— Не виноваты? Замолчи! o:p/
Вижу, как Моисей с лица сменился, но виду не показал. Сделали покупку, он деньги ему бросил на пол, я подобрал и отдал Моисею и тихо сказал: o:p/
— Не обращай внимание на етого дурака и извини. o:p/
Он улыбнулся и покачал головой. Мы за ето с Николаям поспорили. У Николая привычкя деньги бросать на пол, чтобы унизить человека. Раз Хулио Дупонту за его услуги так же бросил деньги на пол, да ишо ха-ха-ха. Хулио виду не показал, поднял, но потом мене рассказывает: o:p/
— Когда он бросил мне деньги, у меня даже в желудке повернулось, хотел бросить ему в шары <![if !supportFootnotes]>[50]<![endif]> , но вытерпел. o:p/
o:p /o:p
После праздника выхлопотал, сделали им дороги. Всё ето вышло в газетах и в радиве, опять Николай разоряется. Добыл им проекты воду провести, фрукту, виноградник засадить, и через чиновника по скотоводству, через секретаршу добился аудиенции к Марио Карминати, 23 декабря в 14.00 ч. п. м. Сообчил Николаю, Николай: o:p/
— Я сам поеду, что же за министр. o:p/
Хорошо, поехали. Но когда поехали, он поехал в шлёпках, в грязных брюках и рубашке. Думаю, ну, приедем в Монтевидео, переоденется. Приезжаем в Монтевидео, подъезжаем к зданию, говорю: o:p/
— Николай, переоденься. o:p/
— Ишшо бы! А за что? o:p/
— Но как, нехорошо же, неприлично, надо бы искупаться, переодеться. o:p/
— Ха, я на работе. o:p/
— Ну как хошь. o:p/
Подходим к зданию. Все выходют из здания, нас не пускают, говорят: o:p/
— Куда вы, администрация закрыта, не видите, что все выходют. Сегодня 23-е, 25-го Рожаство, нихто с вами разговаривать не будет. o:p/
— Нас ждёт Марио Карминати, и мы едем за 400 километров, у нас аудиенция в 14.00 п. м. o:p/
Охрана позвонила и немедленно нас пропустила. Подымаемся на 18-й етаж, нас стречает секретарша Ругия, проводит в приемнаю. Встреча с Марио как старыя друзья, хотя и незнакомы. o:p/
— Ну, что вас привело, говорите, время у нас мало. o:p/
— Дон Марио, отец наш, вы уже нам много помогли, но у нас основалась новая деревня, и енергии нету, вот мы и пришли к вам с просьбой: пожалуйста, помогите. o:p/
— Енергия у вас будет через шесть месяцев, и извините, что не смог приехать к вам на праздник. Мне передали, что праздник был замечательный, благодарим. Хто из вас Даниель? o:p/
— С вами говорит Даниель. o:p/
— Приятно познакомиться. o:p/
— Взаимно приятно познакомиться. Слышим про вас, сколь добра оказали стране, и восхищаемся. o:p/
— Что сделаешь — така работа. o:p/
— Передавайте привет другу Филату Зыкову. o:p/
— Благодарим. o:p/
— Ну, большоя вам спасибо, и за ваше время. o:p/
— Да не за что, счастливого вам пути. o:p/
— Спасибо. o:p/
Вышли, я был рад, что так удачно получилось, Николай виду не показал, но в обратну путь был невесёлой и неразговорчив. Думаю: что с нём? Но когда приехали домой, поднял збуш <![if !supportFootnotes]>[51]<![endif]> , что я действительно масонин, шпион и предатель и гнать меня надо с деревни. Я узнал — ахнул: за моё старание вот чем плотют, и нихто не хочет защититься, и всё заодно. Одна Марфа да детки — переживали и терпели. o:p/
Тут подъехал Павел, Николаяв брат. Ето зверь, а не человек. Жена у него синьцзянка, когда она за него вышла, он запретил вконес ей, чтобы она зналась со своим родством. Бедная женчина сколь пережила от етого идивота! Очень гордый, я не я, сидит и злорадно рассказывает: o:p/
— Да мы етих бродяжек прямо в моленне мокрыми верёвками пороли, аж кровь с сала! — И смотрит прямо мне в глаза. o:p/
Думаю: проклятый ты Диоклитиян-мучитель, недаром у вас и получился раскол! Ето произошло в восьмидесятых годах: беззащитных людей избивали мокрыми верёвками, дошло до того, что получился раскол, третья часть старообрядцев ушло в Белокрыническую иерархию. И по всей информации, Коля и Паша были первыми мучителями, ето страшные диктаторы. o:p/
На днях приходит Павел, я сети насаживал. Он ни здорово ни насрать, а сразу с первых слов: o:p/
— Знашь что, я пришёл лично к тебе, ты масон, шпион и предатель, опростай деревню! Нет — меры примем. — Повернул и ушёл. o:p/
Я в шоке, не знаю, что со мной делалось: белел ли я, краснел или чернел — не знаю. Но пришёл домой весь в слезах, Марфа, дети: «Что с тобой?». Я рассказал, Марфа в слёзы. На другой день я в город, и четыре дня прогулял у Димитрия-хохла, фотографа, тестява друга, он овдовел и очень пил. Приезжаю домой, Марфа: o:p/
— Что с тобой? o:p/
Я заплакал: o:p/
— Сердце не выносит, испоганился и четыре дня гулял. o:p/
Тесть поехал в город, узнал, что я гулял, не пришёл ко мне поговорить, он знал, что происходит, но пошёл к Николаю рассказал, а тому то и надо: как бы зацепиться. o:p/
o:p /o:p
Подходит Пасха, тесть просится на рыбалку, ему надо было деняг. Поехали. Наша лодка, сетки, лисензия, я, Андриян, тесть и Тимофейкя. Поймали хорошо, тесть поехал сдал; мы рыбачили, на другой день поймали мало, сдали, стали деньги делить. Тесть говорит: o:p/
— У нас два рыбака и машина, нам за ето два пая, вам один. o:p/
Думаю: «Хорошо, буду знать, с кем имею дело». Он довольный, ишо приговаривается: o:p/
— Да, хорошо заработали, ишо бы надо съездить. o:p/
Говорю: o:p/
— Да, обязательно, — а на уме: — Хватит. o:p/
На рыбалке ждал, чтобы тесть начал разговор: что случается в деревне, он обязан как наставник. Но ето не произошло. Значит, лицемер, вот почему в старой деревне все его ненавидят. o:p/
К самой Пасхе приезжает к нам в гости тятя и сестра Степанида, узнали таки новости, удивились, тятя говорит: o:p/
— Простись, нехорошо жить во вражде. o:p/
— Тятя, хорошо, что ты здесь, сам всё увидишь. o:p/
На Пасху Христову вечером пришли молиться, отмолились вечерню, я вышел на круг <![if !supportFootnotes]>[52]<![endif]> и говорю: o:p/
— Николай, я хочу с тобой проститься. o:p/
— Како с тобой прошшение, тебя не прошшать надо, а гнать! Ты жид, масонин, предатель, уходи отсуда! o:p/
Тесть, Александра: o:p/
— Николай, так нельзя, такой праздник! o:p/
— Никакого! Пускай уматыват! — Кланяюсь ему в ноги, кричит: — Уходи, предатель! o:p/
— Николай, ради Бога, давай простимся. o:p/
— Сказал, уходи — и уходи, и опростай нашу деревню! o:p/
— Николай, прости меня Христа ради, а тебя Бог простит. — И вышел и ушёл. o:p/
Тогда тятя понял, в чём дело: o:p/
— Да, ужасно. o:p/
Но ето для нас была не Пасха, а горя. o:p/
o:p /o:p
После Пасхи сестра просит: o:p/
— Возьми Николая на рыбалку. o:p/
— Ну что, возьму. Знаю, что он хороший рыбак. o:p/
— Да, а то он ничего не делает, толькя пьёт. o:p/
Я собрался с ними привезти груз и Николая привезти. Приезжаю туды, а там новости. У тяте с мамой была баня в ряд с бараком. В гостях у них был Герман, истопили ему баню, он пошёл в баню, выключилась енергия, принесли ему свечкю, он вышел из бани, а свечкю забыл погасить и ушёл. Свечкя догорела, баня загорела, и барак и всё сгорело. Весь наш груз сгорел, мы остались без ничего. А Герман вину не признавал: что сами старики виноваты, недоглядели за нём. Когда я приехал за грузом, а там ничего нету. А что теперь делать: у нас ни постели, ни одёжи, ни книг, ни икон, ни посуды. Мама говорит: o:p/
— Я виновата, я и ответю. Пойдём! o:p/
Пришли. У Германа с Евдокеяй сэлый контейнер грузу, пришло с США, мама открыла и говорит: o:p/
— Бери, что надо. o:p/
— Мама, ето будет проблема. o:p/
— Я в ответе. o:p/
Ну, я взял, сколь полагается на автобус. Но зачем же ето взял, лучше бы прожили голы: Евдокея по всей Америке, что брат обокрал. o:p/
Николай Кирилович собрался со мной рыбачить в Уругвай, у него хороши были сети, Степанида поехала провожать. Николай взял с собой сына Андронькю восьмилетнего. Приезжаем домой, нам от свояка Николая вконец запрет рыбачить возле деревни и — немедленно опростать деревню. o:p/
Пришлось ехать на устья Кегуая, нашли скупателя, стали ему рыбачить: я с сыном Алексеям, Николай с Андроном. Степанида уехала домой. Покупатель угодил жулик, не платил, стали искать другого, нашли Чёло де Агостини, платил очень дёшево, но платил. Стало боле холодно, мы детей отправили домой, стали рыбачить двоя. Рыба хорошо ловилась, но заработки малы. o:p/
В деревне Марфе приказали, чтобы меня больше не принимали, насулили ей горы, тёща туда же. Арендовали у Марфе наш трактор, взял к себе он [Николай] Андрияна и Илью и насулил им всего, те поверили. Потом начали против меня раздражать, и дошло до того, что сулил вырастить, женить, дома построить, земли дать. o:p/
Как-то раз мы встретились с Марфой в городе, и она всё ето мне рассказала. Я выслушал и говорю: o:p/
— Смотри хорошень, ето начали и тебе яму копать. Наши дети им не нужны, им нужны рабы. Спомни мои слова. o:p/
Но Марфа мене не верила, но верила им. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
27 o:p/
o:p /o:p
В Боливии произошло следующа. Мурачев Ефрем жили в деревне и Анисима Кузьмина, в Тоборочи. Анисим всю жизнь помогал своему свояку Ефрему, у Анисима всего один сынок Симеон, у Ефрема двенадцать детей. Всё было хорошо. Ефрем отдал дочь Варвару за богатого вдовца с Аляски, Мартюшева Иоиля, Иоиль помог тестю Ефрему економично, те стали сеять помногу и стали богатеть. Когда стали жить хорошо, забыли за хорошие услуги Анисима, и Ефрем как наставник стал издеваться над Симеоном, что Симеон живёт по-слабому. Началась вражда и с каждым днём развивалась, дошло до того, что Анисим приказал Ефрему опростать деревню, и все в деревне поддержали Анисима. Собор за собором, гнали его с наставника, на соборе мой своячок Ульян Ефремович сумел дерзнуть сказать: o:p/
— Тятя, возьми с них подпись, оне погибают, и ты за ето в ответе. o:p/
Но их выгнали. Тогда Иоиль в Пираи купил земли, лес, жунглю, болоты и наделил Мурачевых етим лесом. Сделали оне там свою деревню, трудно им там досталось, но оне работали, всю землю расчистили, и у них пошли хороши посевы, бывали засухи, а у них сырости хватало, и оне богатели. Свояк Ульян занял у Николая деняг, купил комбайн, начал наниматься жать. В Боливии вообче комбайнов не хватало, и платили хорошо. Ульян стал на ноги, Мурачевы стали славиться богатыми, набожными, Павел и Николай им как свои, часто к ним заезжали, и всё у них было заодно. Тимофей Снегирев купил в Боливии землю возле Мурачевых, 300 гектар лесу и стал чистить, но у них с Мурачевыми не пошло: Тима уж очень синьцзянин, а Мурачевы уж слишком харбинсы, оне часто схватывались. o:p/
Но жизнь продолжалась. o:p/
Как-то раз у Мурачевых была свадьба, с невестиной стороны пригласили Тимофея. Тимофей, ничего не подозревая, приезжает на свадьбу. На свадьбе был Николай-своячок, и говорит Ефрему: o:p/
— Ето что же за срам, пригласили еретика на свадьбу! А ну-ка, Ефрем, иди расправься. o:p/
Ефрем пошёл Тимофея выгнал. o:p/
Николай Марфе показал, на чё он способен. Ульяну купил конбайн, Василию дал 15 000 долларов, Петру дал 25 000 долларов, тестю дал 45 гектар, земли и деньгями не знаю сколь, но чтобы масона все гнали, и Марфе етот же предлог. Но Марфа колебалась, не знала, что делать. o:p/
У меня по-прежнему рыба ловилась, но заработки низки. Но я скопил и Марфе купил 500 цыплят-несушек, комбикорму, зерна. Марфа вырастила и стала яйцы сдавать, деревенски яйцы всегда были в цене. o:p/
Мой рыбак Николай, сестрин муж, — руки золотыя. Я одну рыбину выберу из сеток — он три, не надо его будить, всегда передом, в работе лучше не найти компаньёна. Но как в город — всё пропало, беда, ничто не нужно — выпить да девушки. Сколь раз приходилось: разыщешь, уговоришь и уведёшь, и сколь раз снова сбегал, и опять ходишь ищешь. Всяко предупреждал, и страшал, и говорил: «Николай, твои проделки доведут тебя, останешься без семьи, а мало того — твои друзья зарежут тебя». Степанида всё ето узнала и бросила его, он хотя бы одумался, он наоборот сделался — ишо хуже. «Станиш, — говорит, — прости, прости, больше не буду». Но при первой возможности снова повторялось. «Николай, придёт время, всё заберу и уйду от тебя». o:p/
Приезжает брат Григорий, тоже на рыбалку, стал рыбачить с нами. И видел, что он творит, и тоже стал ему говорить, но Николай не слушал. Григорий Ксению бросил, оне в Бразилии его не считали за человека, он разодрался со всеми шуринами и с тестям, бросил всё и уехал от них, узнал, что мы рыбачим, и приехал к нам. o:p/
o:p /o:p
У меня дружба с Хулио Дупоном продолжалась искренняя, я любил его за его ум. Всё, что произошло в деревне и что сделали со мной, он всё знал и сочувствовал. Я стал ему говорить, что обидно и охота отомстить, он улыбнулся и говорит: o:p/
— Даниель, я тебя считаю за очень умного, и неужели ты етому позволишь? o:p/
— Не понял. o:p/
Он говорит: o:p/
— Матало кон индифиренсия <![if !supportFootnotes]>[53]<![endif]> , ему намного будет чижалея, чем ты ему отомстишь. Жалай ему сто лет жизни, он сам себя утопит, а ты после многого терпения, когда он будет падать, подай ему руку, тогда он спомнит все свои дела, а ты сверху будешь улыбаться. o:p/
Ети слова запомнились на всю жизнь. o:p/
В Монтевидео тоже с антропологами у нас пошла хороша дружба, Ренсо и Мариель. Когда приезжаю в Монтевидео, всегда ночевал у них, и, бывало, беседовали напролёт всю ночь. Дружба росла, оне стали просить, чтобы я написал книгу, говорят, что «у тебя хороший талант», но я етому не верил. o:p/
Время шло. o:p/
Наша рыбалка делилась на сорта рыбы. Сабальо само много, но цена 20 копеек доллара килограмм, траир 1 доллар килограмм, бога 1 доллар килограмм, дорадо 11/ sub 2 /sub долллара килограмм. Зимой ловится сабальо, весной траир, летом бога, дорадо, сабальо. Весной заработки стали лучше, но Николай у нас совсем подвёл нас с Григориям. Сдали на 400 долларов, и он собрался в город. Уговаривали: не езди, но он своё, что «надо позвонить Степаниде». Я упрашивал: «Николай, ради Бога, не гуляй, привези продукту, деньги береги». Он пообещался и уехал. День нету, два нету и три нету, мы без продукту, на четвёртый день является пьяный, без деняг, без продуктов. На етот день я промолчал, но скупателю сказал: o:p/
— Приезжай завтра за нами, я больше с нём не рыбачу. o:p/
Он стал уговаривать, но я сказал: o:p/
— Хватит. o:p/
На другой день трезвому Николаю говорю: o:p/
— Николай, бери свои сетки, свои вещи, я с тобой больше не рыбачу. o:p/
Он: o:p/
— Прости. o:p/
Я: o:p/
— Бог простит, но уже хватит, всяко уговаривал, больше не могу. o:p/
Он голову повесил, а мы в етот день уехали домой. o:p/
Дома сетки поправили, приехала Ксения с Бразилии, привезла Григорию сетки, мы собрались рыбачить на Пальмар, ловить траиров. С нами поехали наши жёны, Марфа взяла Никиту. В деревне узнали, что я дома, и на Марфу обозлились. Андриян уже понял, что всё ето обман, не стал у Николая работать. Андриян уже изменился, стал со мной всегда спорить, не слушаться, Илья по-прежнему угождал Николаю. Андриян поехал с нами на Пальмар. o:p/
Пальмар — ето водохранилища, там траира много. Мы приехали на один остров, стали рыбачить. Не можем поймать траира, ловится одна каскуда. Ета рыба — на ней череп как жалеза, но она липка, её очень много, мы её ловили тоннами и выбрасывали. Траира ловили мало. Хозяин угодил жулик. Ксения убедила Григория рыбачить одному. Нам, конечно, ето лучше. Марфа посмотрела, что у меня пошло на нет, уехала домой. o:p/
У нас лодка маленькя, низка, принимает всего 400 килограмм. Мы с Андрияном решили плыть кверху, туда, где узко и берега выше, с лесом. На открытым месте нельзя работать, больши волны. Мы с утра до вечера плыли, к вечеру стало уже и уже, пошёл лес, волнов не стало, но мы всё перемочили. Плывём, видим на берегу дом, две лодки — думаем, ето рыбаки. Подплываем, оне выходят — один старик, один оброшшенной волосами и бородой, спрашивает: o:p/
— Откуду, куда? o:p/
— На Байгоррия, ключ Ролон, у меня туда разрешение от министерства. o:p/
— Да ето далёко, туда плыть семь часов на моторе. o:p/
Старик дал нам мяса, продукту, Андрияну сапоги подарил, мы ночевали, утром рано собрались в путь. Косматый оказался добрым человеком, звать его Марио Плана, и он коренной абориген чарруа, не имеет никаких документов и живёт что Бог пошлёт, рыбачит и охотничат как придётся. Он нас попросил, чтобы мы его лодку подцепили и доташшили до его табора <![if !supportFootnotes]>[54]<![endif]> . Мы так и сделали. Плывём и ликуем с Андрияном: каки хороши места сети ставить! Приплываем на его табор, он приглашает: o:p/
— Порыбачьте, рыбы здесь много. o:p/
Мы так и сделали. Переплыли на ту сторону, поставили свой табор на устья, на красивы места, поставили сети. Утром подплываем — сети невозможно поднять, едва подымаем, и что мы видим: полно каскуды, траира ни одного! Мы сэлый день провыбирали, коя-как под вечер выбрали. Подплывает Плана, смеётся: o:p/
— Я думал, что вы знаете рыбачить, но вижу, что нет. Траир живёт на мелким месте, ставьте там сети, где вода по колено, а в глубоким толькя каскуда, и завтра у вас будет рыба. o:p/
Мы поплыли, наставил сети, как он сказал, но всё равно в сумленье. Последню сетку поставили в глубоко. Наутро приплываем на мелко — полно траиров. Мы обрадовались: ну, теперь нам повезло! Всё выбрали, приплываем в глубоко место — полно каскуды. Теперь я понял: значит, на Кегуае, там берега крутыя, траир живёт как приходится, а здесь берега мелки, он выходит на мель. Теперь понятно, почему не можем поймать траира. Поймали 300 килограмм, Плана говорит: o:p/
— На Байгории покупатель хороший, толькя льда у него нету. o:p/
Ну что, будем работать. Поплыли на Байгоррию, познакомились с покупателям, сдали рыбу, деньги получили, нам стало весело. o:p/
Плана был с нами, он попросил, чтобы мы его доташшили до Байгоррии, уже давно не был в городе. Купили иму десять литров вина, и он весело загулял. o:p/
А мы с Андрияном взялись ловить траира, за два дня поймали 1000 килограмм, но без льда рыба портилась, стали сдавать — 400 килограмм испортилось, мы её выбросили в речкю. Народ увидел — заявил. На третяй раз приезжам сдавать рыбу, сдали, купили продукту, хотели плыть, подъезжает полиция, спрашивает: o:p/
— Вы знаете, хто выбросил рыбу в речкю? o:p/
— Да ето мы, покупатель не даёт льда, и рыба портится. o:p/
— Вот за то что правду рассказал, не будем вас трогать, но рыбу в речкю не бросайте, а испортилась — лучше закопайте. o:p/
Мы поблагодарили и поплыли и опять стали ловить, но без льда стало невозможно. o:p/
Приезжает Марфа с Никитой, с Софониям и Алёнка — какая радость! Прожили две недели, Марфа оставила мене Софония, ему было четыре года, и он прожил со мной три месяца. Ето осталось на память. Парнишко спокойный, тихой, нигде его не слыхать, всё ему хорошо. Андриян уехал, приехал Алексей — ето тоже изумительный парнишко, тихой, кроткий, угодительный и старательный, у нас с нём пошло как по маслу, всё делат со вниманием. Я стал его учить, как рыбачить: все предметы, как ветер, кака погода и где рыба, и так далее, он всё ето на ус мотал. Ему было двенадцать лет, но рассудок уже был как у взрослого. o:p/
Плана продал нам свою лодку, хоть стара и принимала 800 килограмм, нам всё-таки стало легче возить рыбу. Мы перебрались через дамбу на водохранилища Байгоррия и поплыли на ключ Ролон. Рыба хорошо ловилась, Марфа повеселела, ишо раз приехала, на етот раз привезла Таню, ей было десять лет. o:p/
Перед етим у нас произошло следующая. Поймали рыбу, поехали сдавать, поднялся ветер, я решил Софония оставить одного на таборе. Спрашиваю его: o:p/
— Боишься, нет? o:p/
Он говорит: o:p/
— Нет. o:p/
— Останешься один? o:p/
— Да, останусь. o:p/
— Видишь, какой ветер и волны. o:p/
— Да. o:p/
— Но ладно, оставайся, к берегу не подходи, сиди играй здесь, мы чичас же приедем. o:p/
Плыть было час, сдавать час, обратно час — всех три часа, но я нервничаю, переживаю. Приплываем, он сидит плачет. o:p/
— Что с тобой, Софоний? o:p/
— Испансы на машине подцепили сетку и уташшили. o:p/
— Но ты милоя золотко, не плачь, всё будет хорошо. o:p/
Через три дня — уже была Марфа, Танюшка — мы сдали рыбу, плывём на табор, смотрим: три машины, сколь-то в голубым. Говорю: o:p/
— Полиция. Что надо? — проплываем нимо табора прямо к полиции: — Здравствуйте, что случилось? o:p/
— Здравствуй. Вы рыбак? o:p/
— Да. o:p/
— У вас есть разрешение? o:p/
— Да, на таборе. o:p/
— А хто с тобой? o:p/
— Семья. o:p/
— Можно посмотреть на ваше разрешение? o:p/
— Пожалуйста, поплыли. o:p/
Офицер и ишо один заскочили в лодку, приплыли на табор, показываю все документы, проверяют: всё в порядке. Спрашиваю: o:p/
— А что, заявление? o:p/
— Да, стансёр <![if !supportFootnotes]>[55]<![endif]> заявил. o:p/
— А он заявлял, что сетку украл? Мои дети видали. o:p/
— Нет. o:p/
— Ну вот, у нас легальноя разрешение, и мы имеем право по берегу ходить, до 50 метров от берегу, но мы на его берег даже не слазили, а он первый пришёл пакостить. o:p/
Офицер извинился, мы поблагодарили, дали им рыбы и пригласили: o:p/
— Когда желаете, заезжайте. o:p/
— А отсуда куда поплывёте? o:p/
— Кверху, рыба на месте вылавливается. o:p/
— Ну хорошо, спасибо за рыбу, удачи вам. o:p/
— Вам большоя спасибо. o:p/
Через два дня поехали сдавать рыбу, смотрим, полиция подплыли, оне несут сети. Поблагодарили, дали им рыбы, оне уехали. o:p/
Тут в Байгоррии познакомились с однем сиентификом <![if !supportFootnotes]>[56]<![endif]> русским с России, Евгений. Он работал одной компании именем «Астурионес де Рио-Негро», ростил осетра, завезённый с России, для чёрный икры. Но оне его обманули, сулили 10%, но, когда он всё сделал, ему отказали, и он решил уехать. Мы с нём часто стречались и дружили, он научил меня рыбу коптить, и траир копчёный получается очень вкусный. Евгений рассказал мене, что он уезжает, и есть один секрет, что у них осетёр весь уйдёт, осетёр уже был размером 40 сантиметров. o:p/
Мы вскоре уплыли выше, в ключ Трес-Арболес, от Байгоррии четыре часа плыть. Но нам повезло, в пути познакомились с новым покупателям, и лёд даёт. Он с бразильской границы, звать его Антонио Кори, бывшей полицей, на пенсии, хороший мужик, мы стали ему рыбачить. Вскоре пришлось плыть выше, так как рыба не стала ловиться. Кори нам сказал: o:p/
— Выше есть большой ключ именем Саль-Си-Пуедес, там хороша рыбалка всегда. o:p/
Ну, мы собрались, поплыли. Поднялся ветер, пошли волны, стало страшно. Марфа напугалась, не захотела плыть, мы их высадили и поплыли дальше. Марфа с Танюшкой, с Софонием и Никита на руках пошли пешком напрямик, так как река идёт зигзагами. Мы с Алексеям плыли, местами было страшно, успевали вычерпывать из лодков воду, и у нас медленно подавалось. Мы плыли сэлый день, я переживал, где Марфа с детками. Когда заплыли в Саль-Си-Пуедес, пошли с Алексеям их разыскивать. Шли мы целый час. Ну слава Богу, увидели далёко, и сразу понятно было, что уже выбились из сил. Мы бегом туда, и правды, оне уже совсем обессилели. Вода у них закончилась, но я с собой захватил воды. Увидел, как Софоний еле-еле идёт и помалкивает, у меня сразу слёзы потекли. Марфа тоже измучилась, ташшила Никиту, а он рос чижёлой, рослый, Танюшке тоже досталось, матери помогала. Ну слава Богу, добрались до лодок. o:p/
Поплыли дальше. Через час доплыли до удобного места, отаборились; поставили табор и стали рыбачить. Рыба хорошо ловилась. Через три дня Марфа собралась домой и говорит: o:p/
— Чё, Софоний, поедем домой? o:p/
— Нет, я с тятяй останусь. o:p/
Мне так было его жалко, подумай: жарко, комары, удобства никакого нету, а он всё терпит. Я уговорил его ехать с мамой, и он согласился. Марфа уехали, мы остались втроём, стали рыбачить. o:p/
Прорыбачили три недели, рыбы стало меньше и меньше. Что делать? Кори говорит, что каждый год так: траир ловится с мая по ноябрь, а летом уходит вглубь, и его трудно поймать. Что делать? Думал-думал, решил поехать в Сальто на дамбу, но на ето надо разрешение. Оставил Алексея с Танюшкой, наказал и поехал в Монтевидео в министерство за разрешением. Захожу, объясняю ситуацию и прошу разрешение в Сальто. Сказали: подожди. o:p/
Когда мы ишо рыбачили в деревне, в Гичёне заявляли, что мы рыбачим в Кегуае. И у их не получилось, оне пошли дальше к политикам, и, когда я пришёл получать разрешение на четыре года, как раз в етот день было совещание насчёт меня: выдать или нет. Тут были депутаты, что шли против. Я ничего не знал. Выходит юрист, женчина, спрашивает: o:p/
— Вы думаете продолжать рыбачить? o:p/
— Да, у меня семеро детей, и некуда податься. o:p/
Она ушла, через час выходит, спрашивает: o:p/
— Ежлив дадим вам разрешение на специяльное место, вы согласны? o:p/
— Вам виднея. o:p/
Она ушла, жду ишо час. Смотрю, завыходили человек тридцать, подходит юрист и говорит: o:p/
— Подожди маленькя. o:p/
Ишо жду час, потом подзывает, улыбается, отдаёт мне разрешение на четыре года, поздравляет, спрашиваю: o:p/
— В чём дело? o:p/
— Да тут заявление, и дошло до депутатов. o:p/
— Ну и что? o:p/
— Да ничто. Ничто оне не могут сделать, ваша ситуация выше етих законов, рыбачь себе спокойно, но будь аккуратнее, за тобой будут следить, и, ежлив найдут вину, нам придётся закрыть вам разрешение. o:p/
— Большоя вам спасибо за такоя откровение. o:p/
— Да не за что, рыбачь себе спокойно. o:p/
Когда мы на Кегуае, на устьях с Николаям рыбачили, подбегают со всех сторон вооружённая префектура наваль и полиция, сделала обыск, поплыли проверили все сети, забрали документы и сказали явиться завтре в префектуру. o:p/
— В чём дело? o:p/
Молчат. o:p/
На другой день приехал в префектуру, меня провели в кабинет капитана, капитан был Серрон, зам был Даниель Сассо. Даниель стал спрашивать, как рыбалка идёт, где рыбачили етой зимой, кому сдаёте, каки заработки, не видели ли таких-то лодок. Я им всё честно рассказал, как и что, тогда он взял моё разрешение, прижал его к груди и сказал: o:p/
— Вот так береги своё разрешение. Сам знашь, получить его нелегко, но потерять — ето совсем просто. Ты отец большой семьи, так что берегись. Вот ваши документы, удачи вам, езжай работай. o:p/
Я поблагодарил, но был ошарашенной: что же получилось? Потом выяснилось, что терялся скот, и увозили на аргентинску сторону, но их поймали, ето были аргентинсы. И вот как придёшь в ИНАПЕ, приходилось ждать по пять-шесть часов, специально изнуряли дать справки, но я терпел и решил заработать доверие. Стал каждый раз приносить подарки чиновникам, их было боле десятка: то дорогих конфет, то дорогих напитков, подшалков, вышивки, разны сувениры, — и ето постепенно открывало мне двери. Потом стали все друзья, не надо стало ждать: закажешь по телефону, приедешь — всё готово. Но я не нагличал и старался всё делать честно, толькя тогда обращался в ИНАПЕ, когда действительно была нужда. Оне ето видели и старались помогчи и всегда соболезновали. o:p/
Еду с Монтевидео, пошёл большой дождь, я запереживал: а что же у меня Алексей с Танюшкой? Вообче в Уругвае как больши дожди, ключи подымаются до неузнаваемости. Приезжаю в Пасо-де-лос-Торос, жду до пяти часов утра другой автобус, еду на мост Саль-Си-Пуедес, слажу, уже рассветало, и что же я вижу: наводнения! Перепугался и бегом к низу: ну, думаю, утонули. Бегу к низу, пересекает маленький ключик, но ето уже не ключик, а речкя. Рюкзак на голову, переплыл и дальше бегом, подбегаю против табора, вижу, что лодка на месте, палатка стоит, но вот-вот подтопит, стал кричать — никого нету, я пушше стал кричать — нету. Ну всё, утонули. Я сял и горькя заплакал. Посидел, думаю: дай ишо покричу, и изо всей силы стал кричать. Нет-нет, смотрю, Танюшка из палатки выскочила, увидела меня, обратно к палатке, смотрю: Алексей вылазит. Ну, слава Богу, живы. Он завёл мотор, подплыл, и взяли меня. Спрашиваю: o:p/
— Что так крепко спите? Едва докричался. o:p/
— А мы всю ночь не спали. o:p/
— А почему? o:p/
— Дождь пошёл, я думал, сетки уташшит. Было тёмно, ничего не видать, толькя молния, мы с прожектором <![if !supportFootnotes]>[57]<![endif]> разыскали сети, стали убирать — полно рыбы, ташшит, чуть не утонули, а последни сетки едва выташшили, мусор и палки, даже порвали. o:p/
— Да бросили бы всё! А утонули бы, потом что? o:p/
— Дак сетки было жалко. o:p/
— Ну, Алёша, Алёша, молодец же ты! Но в дальнейша так нельзя, перво надо думать о безопасности, а тогда об остальном. o:p/
Вот тебе и Саль-Си-Пуедес — ето обозначает «спробуйте выйти», тут немало потонуло. o:p/
Сетки вычистили, рыбу сдали, и нас Кори увёз в Сальто. Планину стару лодку бросили в Сальто, приехали в село Вижя-Конститусион, предъявили документы в префектуру, стали рыбачить. Но в каждой зоне рыбалка разна, и рыба сорт по-разному ходит. Ко всему надо приучаться, а добиваться надо самому, не думай, хто тебе подскажет — как ни говори, конкурент. Сабальо никому не надо, а бога трудно поймать, я не знаю, где она ходит. Переехали на речкю Арапей, но ето всё водохранилища, устроились на местным таборе, где рыбаки останавливаются: два балагана, в однем старик живёт рыбачит, другой простой <![if !supportFootnotes]>[58]<![endif]> , мы в нём устроились. В ряд скотовод-сусед, старик со старухой. Мы здесь мучились, рыбы никак не можем поймать, само много 20-30 килограмм в день, но бога крупна, и цена хороша — по полтора доллара килограмм. Я отправил Алексея с Танюшкой домой, остался один. Танюшка интересна была девчонка — ласкова, песельница, хороший голос, любила со старухами дружить, вот она и подружила с суседкой. Старуху звать было Наир, она Танюшку сполюбила, и, когда Танюшка поехала домой, она ей подарила котёнка — смесь с дикой кошкой. Но етот котёнок был необыкновенный, подпускал толькя Танюшку, больше никого, был злой, но мышей при нём не было. Когда остался я один, пытался всяко-разно рыбачить, но результату никакого. o:p/
Решил съездить домой. Приезжаю домой — Марфа не принимает, говорит: o:p/
— Не могу принять, наказано строго-настрого не принимать, приму — выгонят и нас. o:p/
Я ушёл: вот тебе и жена! Уехал на рыбалку, но я не рыбачил, а слёзы лил, и загулял, хотел сам себя убить. Прогулял я две недели на таборе и как-то раз уснул и вижу: подходит ко мне женчина в драгоценным платье, очень красива, и строго мне стала говорить: o:p/
— Что себя так распустил? Бросай пить, ставай на ноги и действуй. Захочешь — всё наладишь. o:p/
Проснулся: что ето такоя? Думал-думал — и поехал домой. o:p/
o:p /o:p
Приезжаю домой, Марфе неудобно, что так поступила, извиняется, но мне обидно. Я виду не показал, а собрался в Бразилию на работу. Взял с собои Андрияна, и в Гояс к Ивановским. o:p/
Приезжаем в Рио-Верде, разыскал Сергея Сидоровича, попросил работы, он с удовольствием взял: «Синьцзянин, да ишо Зайцев». Стал работать на тракторе, начальником у его был Николай Берестов, бывшай хозяин. Я обрадовался, но моя радость вскоре исчезла: Николай закон Божий бросил и старообрядцев ненавидел. И мы с Андрияном были под его распоряжении, Николай издевался как мог. Я дюжил два месяца. Приезжает Сергей Сидорович, подхожу к нему: o:p/
— Сергей Сидорович, здорово живёшь! o:p/
— Здорово. Как дела? o:p/
— У меня к тебе просьба. o:p/
— В чём дело? o:p/
— Ради Бога, убери нас из рук Николая, уже невыносимо. o:p/
— Ну вот, а я хотел просить тебя, чтобы ты взял в руки сушилку. Сможешь етот ответ <![if !supportFootnotes]>[59]<![endif]> взять? o:p/
— А ежлив покажешь и научишь, конечно, смогу. o:p/
— Покажу и научу, у меня как раз начальник ушёл и некого поставить, вот и думал тебе предложить. o:p/
— Хорошо, давай показывай. o:p/
Он всё показал, разъяснил, и ишо приезжал два дня подсказывал все порядки. Я всё понял и взялся за работу. Всё было засорёно, все туннели засорёны старым прогнившим зерном, везде дохши мыши, полный беспорядок. Попросил Андрияна, взялись чистить, за неделю всё вычистили и привели в порядок. Стали сушить бобы соявы, жнут, везут, ссыпают, а мы сушим. У того начальника было пять рабочих, а мы управлялись втроём. Ета сушилка с бараками и силосами на 10 000 гектар, в сезон высушивает 30 тонн. Сергей Сидорович бы доволен: всё чисто и в порядках. Приходили больши грузовики, что принимают по 30 тонн, и ето успевали загружать, а их приходило по 6 — 7 в день, но ето всё лёгко. Сергей сеял 10 000 гектар бобов, толькя надо хороший глаз. После урожая Сергей Сидорович купил в штате Рорайма возле Венесуэла 20 000 гектар земли и предложил мне быть главным начальником. Я ему ответил: o:p/
— Надо с женой посоветовать. o:p/
— Но езжай посоветуйтесь, работа не убежит. o:p/
Мы у Сергея проработали 6 месяцев, заплатил он мне по 500 долларов в месяц, Андрияну по 250 долларов, но ето очень хороша цена по-бразильски. Но у меня план совсем другой, Андрияну предлагал: o:p/
— Присматривай себе девушку, сам видишь, люди порядошны, хоть и поморсы, но никакой разницы нету. Сам видал, что у нас делается. o:p/
Но Андриян всё отвечал: o:p/
— Да все красивы, все хороши, но моё сердце спокойно. — И не захотел оставаться. o:p/
Приезжаем домой, я еду в Монтевидео, иду к американскому консулу, прошу визу. Вопросы: o:p/
— Сколь детей? o:p/
— Семеро. o:p/
— На сколь едешь? o:p/
— На тридцать дней. o:p/
— В США есть родство? o:p/
— Нету. o:p/
— Зачем едешь? o:p/
— Посмотреть Америку. o:p/
— Подожди. — Немного сгодя вызывают: — Счастливого пути. o:p/
— Спасибо. o:p/
Виза на шесть месяцев. Приезжаю домой, показываю Марфе визу, Марфа в шоке: o:p/
— Ты что? o:p/
— Да ничто, я так жить не хочу, поеду устроюсь и тогда вас вызову. o:p/
Марфа согласилась, смеётся, спрашивает: o:p/
— А ты не женишься там? o:p/
Смеюсь: o:p/
— Всё может быть. o:p/
Взял билеты в Буенос-Айресе, через четыре дня вылетаю. Поехал к тяте с мамой. Приезжаю, тятя схудал, глаза отцвели, вижу, что долго не проживёт, стало жалко. «А свидимся ли ишо?» — таки мысли прошли. Что за чушь таки мысли, тяте всего семьдесят пять лет! o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
28 o:p/
o:p /o:p
5 июля 1997 года вылетаю в США. Сообчил Усольцеву Андрону, чтобы стретил, он посулился. Перва посадка была в Даллас, втора Лос-Ангелес, последня Портланд, Орегон. Да, ето Америка! Чувствуешь свободу, вежливость, ласкоту, порядок, чистоту. o:p/
Андрон стретил, ето Степана друг, он в Аргентине был парнем, а я пацаном, его братьи, мои друзья, — наркоманы. Поехали к нему домой. Приехали. Андрон живёт зажиточно, жена его Евфросинья — дочь Сидора Баянова, что в Чили, хороша женчина, живут дружно. На ограде живут Василиса Пяткова с Бразилии, бывшая вдова, она была за Александром Русаковым, чичас за Дорофеям-бразильянином, хорошо говорит по-русски и по-английски. o:p/
Через два дня Андрон поехали в штат Айдахо, пригласили меня, у их там куплена земля под деревню. Ето все синьцзянсы, бывшия жители Аргентины: Киприян Матвеев, Иван Матвеев, Андрей Бурков и Андриян Иванов, Андрон Усольцев. Поехали на хорошим «Бенни». Проехали штат Вашингтон, штат Монтана и штат Айдахо, заехали в горы. Место очень красиво, пробыли два дня. Ети ребяты воздоржны, ничего с базару не берут, всё своё, но за ето жёны молодсы: наварили, напекли всего, и соки-морсы тоже свои. В обратну путь заехали в Сеятлы, потом на реку Колумбия. o:p/
Приезжаем домой. Я устроился на работу у Кирила Фомича Иванова — сын наставника Фомы Иванова, Дорофей тоже у него работает, начальником. Кирил брал подряды — дома и отдавал нам, чтобы оббивали сайдингом. Но ето надо было за три дня отдавать дом готовый, работали по 16 — 17 часов в день, платил мене по семь долларов час, жил я у Андрона в трейлере, ничего не платил. o:p/
Молиться я ездил с Дорофеям к Фоме-наставнику в моленну. Моленна большая и полная, много знакомых и незнакомых. Куда ни поедешь, везде видать своих. Синьцзянсы, харбинсы и турчаны — все сами по себе. Турчаны — ето старообрядцы с Турции, некрасовцы. В моленне меня знали, что я грамотный, и заставляли читать каноны и Поучение. В праздники ездили с Дорофеям на горячия воды, на пати по гостям. Андрон свозил к Андрею Шарыпову в гости, дома его не было, он работат в Майами. Дом у его ого, стоит 1 000 000 долларов и стоит очень на удобным месте. Февруса обошлась по-гордому. o:p/
Через месяц Дорофей договорился с друзьями поехать в горы на пати, ну и меня взяли. Приезжаем в горы, там уже собрались, музыка, барбекью, тансы-мансы. Там были Василиса, бывшая Германова жена, со Славиком — он с России, Ирина Иванова — за Юрой-никониянином, Настасья Пяткова с Симеоном Бурковым — знакомым с Аргентине, ну и Дорофей с Василисой. Вечером повеселились, утром отдохнули и под вечер поехали по домам — в понедельник на работу. o:p/
Я каждый день готовлю с собой обед, но вижу: нихто с собой ничего не берёт, потом понял. Значит, ставать — ставать надо в пять часов утра, готовить завтрак и обед, в 6 приходит машина, на заправку, все бегут за ланьшем и дале в 8 часов на работу, в обед полчаса обедать и снова на работу, в 23 часа домой, два часа в дороге, дома в час утра, в пять опять ставать. Ну и я бросил готовить, стал поступать как и все. o:p/
Андрон свозил меня в гости к Вавиловым. Оне разошлись, сам дед Вавилов в престарелым доме, старуха Арина живёт у Дуньки, Дунькя разошлась с мексиканом, Ванькя в тюрьме — поймали за продажу кокаина, работал Андрею Шарыпову, Колькя Анфилофьев убежал в Мексику за ето же. Из моих друзей мало хто уцелел — наркоманы да пьяницы. На неделе позвонил Марфиной двоюродной сестре Агрипене, что продавала нам вышивки, — не захотела стречаться, сказала, много работы. Вообче чудно: приезжают в Южну Америку — таки друзья и родные, а тут как не видют тебя. Сколь наших приезжало из Южной Америки, все рассказывали одно и то же. Я не верил, а тут сам увидел. Коренныя американсы намного лучше, чем наши. o:p/
В консэ недели звонют Ирина с Юрой Дорофею, сулятся приехать в гости, готовют сюрприз. Я у Андрона и у Дорофея приспрашивался, как можно остаться в США и достать семью. Мне отвечали: трудно, один способ толькя — повенчаться формально, но на такой рыск не знаю хто пойдёт, и ето лицо должен быть американес, иметь собственность и платить налоги. Так как многи венчаются и потом требуют половина капитала, поетому все боятся. Дорофей смеётся: «В субботу увидишь сюрприз». o:p/
В субботу вечером приезжают в гости Юра с Ириной и с ними женчина моего возраста — стройна, высока, фигуриста. Познакомили: ето будет Марья Снегирев, вдова, муж был Афанасий Колмогоров, наркоман, стал стрелять в полицию, полиция его убила. Она осталась одна, троя детей, старший женатой, второй — парень, третяй — подросток. Ето женчина порядошна, рассудок здравый. o:p/
После ужина Ирина пригласила меня к ним, поехали. Живут в богатым месте, дом шикарный, оне обои начальники компании «Пендлетон», заработки у них высоки, живут богато. Поставили на стол, рюмка по рюмке, язык развязался, пошёл разговор. Ирина сумела задеть меня за сердце, пошли слёзы, я признался, что со мной сделали харбинсы и как Марфа поступила. Оне чётко знают, что такоя харбинсы и что оне строили <![if !supportFootnotes]>[60]<![endif]> в Аляске. Марья стала ласкаться, мне она очень понравилась. Ету ночь мы все напились, на другой день провели весело, вечером отвезли меня домой. o:p/
В следующу субботу снова приехали за мной. Я всю ету неделю размышлял, как быть, и решил: ежлив Марфе я нужон, так пускай теперь она позаботится <![if !supportFootnotes]>[61]<![endif]> , а я посмотрю. Деток жалко, но я их добуду. o:p/
Приезжаем к Ирине с Юрой, Марья уже там. Но она разоделась так красиво, была в чёрным платье, красивы чёрны туфли, и от неё шёл приятный запах. Мы с ней етот вечер веселились, но я не пил — чуть для замазки глаз, она последовала моему примеру, поступила так же. Мы с ней ушли рано в постель. Я весь отдался ей, а она мене. Ета ночь для меня перва в жизни была, такого наслаждения я не стречал, и мы провели всю ночь в блаженстве. Наутро стали, Ирина улыбается, Юра также. Провели день, вечером я к ней, и больше не разлучились. o:p/
Я позвонил Дорофею, чтобы заезжал за мной к Марье, дал адрес и стал ездить на работу, она также. Дом у ней хороший, две машины, работат на фабрике швейной, получает 25 долларов в час. Женчина чиста, порядошна, не ветер. Я её сполюбил, для её я тоже стал дорогим. Первый муж её избивал и всё из дому ташшил для наркотиков, она не жила, а мучилась. А теперь она рада, старается во всём мне угодить. У ней ишо две дочки есть, оне взамужем, живут на Аляске. Я етого не знал, узнал после. o:p/
Маша стала меня возить по магазинам, стала одевать меня по-светски, выбирала само наилучшее, одёжу, возила в парки и музеи, на разны выставки, теятры. Каждо воскресенье ездили к Юре с Ириной, вместе ездили праздновали, вечерами были у Ирине. К ней ишо приезжали гости, тут мы стретились с Акилиной, Антоновой женой, но она уже вышла за российца <![if !supportFootnotes]>[62]<![endif]> Сашу. Узнала Гливка Шутова — тоже прибежала и приглашала, но она уже потерянна наркоманка. Часто приезжали и Василиса со Славиком. Всё шло лучше некуда, но я тосковал по деткам. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
29 o:p/
o:p /o:p
Люди узнали, что я настроил, и позвонили Марфе. Марфа получила паспорт — и к консулу. Консул дал ей визу на десять лет, и Марфа прилетела. У нас с Машей через месяц венчание, но я тосковал по деткам. Маша узнала, что Марфа приехала, запереживала. Я ей говорю: o:p/
— Не переживай, ето всё к лучшему, мы с ней здесь разойдёмся, и я буду свободный, толькя деток жалко. o:p/
Маша говорит: o:p/
— Твоих деток я приму как своих, и будем ростить вместе. o:p/
— Ну хорошо, давай будем бороться вместе за одно. o:p/
Марфа приехала, пошла к своему родству, но оне с ней обошлись по-холодному. Тогда она обратилась в собор к Фоме Иванову. А я у сына работал, сын меня уволил: мать приказала, страшшали, что выгонют с Америке. Я сказал: «Пускай гонют, но погонют всех». Их ето задело, не стали трогать. Я устроился у Машиного сына Ивана, он стал платить десять долларов час, работать девять часов. o:p/
У Маши, Ирине и Юры летние каникулы, мы собрались в Невада и Калифорнию, доложны свенчаться в Сакраменто, в Калифорнии. o:p/
Марфа добилась моего телефона и хотела встречи. Маша не поехала, повезла меня Ирина, встреча была у Леонтия Можаева. Встретились, Марфа вела себя достойно. o:p/
— Почему так поступил? o:p/
— Сама знашь, не надо рассказывать. o:p/
— А дети? o:p/
— Да, детей жалко, будем решать. И всё, всё. o:p/
Весь и наш разговор. Ирина слыхала всё, в обратным пути говорит: o:p/
— Дура! o:p/
— Нет, — говорю, — пустоголова, живёт чужими умами. o:p/
Мы уехали в Калифорнию, приехали в Сакраменто. Там у Ирине сёстры, живут хорошо, одна вышла замуж за чиновника миграсионной службы. Там нас свенчали, сделали нам праздник. Пробыли в Сакраменто три дня, ходили на выставки, в разныя музеи, потом поехали в штат Невада, в город Рино, там всё казино, да развлекательное, и гостиницы. Здесь мы провели неделю, ходили по казинам, балам, ресторанам, потом поехали в Сан-Франсиско, Калифорния, в город Чайнатовн. Тут забили наши машины покупками. Мне чудно показалось: мы всегда считали, что китайско производство само некачественно и дешёво, а здесь всё качественно, и дорого, и всего изобильно, и разнообразно. Поехали домой. o:p/
Приезжаем. Маша на днях повезла меня в магазин, выбрала для меня пикап «тойота такома», саму дорогуя, чёрну, за 59 000 долларов, и купила мне его в подарок. Потом поехали смотреть новый дом за 270 000 долларов, её дом уходил за 160 000 долларов. Всё ето решали тихонь. o:p/
Новости с Аргентине нехороши: тятя помер в больнице, и Степанидин муж Николай в Уругвае утонул пьяный, по всёй експертизе утопили рыбаки. Я детям послал 1000 долларов, Степаниде тоже. Своячок Николай был в Аляске, тесть с тёщай тоже приехали в США. Николай прославил меня везде масоном, шпионом, предателем, но в США Басаргиных хорошо знали, и Колю с Пашей отлично, поетому были в сумленье. Но мой брак подтверждал конкретность, и народ роптал, а правды не знал. o:p/
Маша стала замечать, что машина меня не веселит и все подарки также, стала плакать часто и стала вопросы задавать, что я ничто ето не ценю и чужаюсь. Но проблема была одна — детки. Я с каждым днём становился угрюмым, Маша меня ласкала, я отвечал, но дети меня сокрушали, и ето не мог скрыть. Маша видела и страдала. o:p/
С Аляске приехали Машины дочки и убеждали, чтобы она меня бросила: o:p/
— Слухи идут, что он масон и предатель, бросил жену и семеро детей. o:p/
Маша плакала и меня защищала. Я в другой комнате всё ето слыхал, мне всё ето было больно. Раз её дети полезли в ето дело, мои дети тоже не отстанут, мы наплодили детей, и оставить, чтобы оне страдали, — ето тоже неправильно. Я все ети дни ходил сам не свой, нервничал и страдал, что делать. У Маши парень Пиро уже наркоман, из тюрьмы не вылазит, подростка Никита 13 лет — уже не слушатся, и она ничто не может сделать. В США детей власти строго защищают, а дети поетому имеют полное право, что хочут творят, и родителяв часто садят в тюрьмы. o:p/
Приезжают Марфа и пять женчин: наставника жена Вера, Агафья — Максима Молодых жена и ишо три женчины, незнакомы. Дали звонок, Маша увидела, позвонила в полицию и говорит мне: o:p/
— Марфа приехала с Верой и ишо четыре женчины, оне приехали вас смирять, Вера етим занимается. o:p/
Не прошло и пять минут, полицмен тут как тут. Вера видит, что дело худо, стала Машу просить: o:p/
— Мы приехали по-хорошему, с Данилой поговорить. o:p/
Маша слушать не хотела, но я вмешался и Маше сказал: o:p/
— Пускай, я тоже хочу узнать, что оне хочут. o:p/
Маша отпустила полицмена, зашли в дом, Маша ушла в другу комнату. Гости сяли и сразу стали меня обличать всяко-разно, я руку поднял и говорю: o:p/
— Вы за етим пришли? Чичас здесь будет полиция. o:p/
Вера как порядочный человек сразу сказала женчинам, чтобы прекратили. Я говорю: o:p/
— Вы кричите, а сами не знаете ничего, что у нас произошло. — И стал рассказывать по порядку всё, что у нас произошло в жизни, и несколько раз спрашивал Марфу: — Что, Марфа, было ето? o:p/
Она с потупленной головой отвечала: o:p/
— Да, всё ето было. o:p/
— Но и как ты думаешь, имею ли я право тоже выбрать себе жизнь и отдохнуть? o:p/
— Да, имеешь. o:p/
— Дак в чём же дело? Я же был не нужон. o:p/
— Ты мне всегда был нужон, я тебя люблю и не хочу тебя потерять. o:p/
— А что ты думала раньше? o:p/
Она заплакала и говорит: o:p/
— Раз ветер, дак что сделашь? o:p/
— А я сколь раз говорил тебе: куда ветер подует, туда и ты. o:p/
— Да, виновата. o:p/
— И что вы думаете теперь? Задели мы и посторонню жизнь. Маша ни в чём не виновата, у ней судьба тоже не гладка, муж был наркоман, она с нём толькя мучилась, осталась вдова. Нет проходу: «проститутка». Вы думаете, ето легко всё перенести? Никакой ниоткуда нет защиты. Каждый из вас положьте ету рану на себя и тогда увидите как — хорошо, нет. А она слёзы льёт. o:p/
Все молчат. o:p/
— Ну что, кричите теперь. o:p/
Тишина. Вера: o:p/
— А дети как? У вас их семеро, вот в чём проблема, дети совершенно невинны, и зачем оне доложны страдать? o:p/
— Но как жить дальше? «Масон», «шпион», «предатель», «пьяница», лезут в нашу жизнь, выгнали из моленны, выгоняют из деревни. o:p/
— Да, Данила, знаем мы етих людей, с ними жить невозможно, оне уже во многи жизни залезли. Данила, в чём вам помогчи? Желаете, мы в моленне подпишем за вас гарантию, и вас США примет. o:p/
— Да хоть куда, толькя бы с етими кровососами не жить. o:p/
— Мы и ваших детей поможем достать. o:p/
— Но а Маша как? o:p/
Вера: o:p/
— Позови её. o:p/
Я позвал, Маша пришла, Вера стала убеждать её: o:p/
— Марья, пожалей ету пару, оне невинны, отпусти мужа. o:p/
Маша молчит. o:p/
Вера: o:p/
— Марья, сделай добро ради Бога, и Бог даст тебе хорошу судьбу. o:p/
Молчок. o:p/
— Марья, пожалей деток. o:p/
Маша молчит. o:p/
Вера стала, все женчины стали, Вера: o:p/
— Данила, поехали. o:p/
— Нет, так не делается. Вы езжайте, а мы обсудим. o:p/
— Вы обманете нас. o:p/
— Нет. Мы обсудим и вечером приедем. o:p/
— А кака гарантия? o:p/
Марфа сказала: o:p/
— Он сказал приедет — значит, приедет. o:p/
Вера: o:p/
— Тогда ждём, приезжайте o:p/
Остались мы одне. Маша в слёзы, но каки слёзы — ето надо увидать, ето река слёз. Как охота было показать етим женчинам ети слёзы, особенно Марфе, чтобы хорошенькя подумала, как надо берегчи жизнь. Машу я уговаривал сэлый день, но пользы никакой, она плакала и плакала. Вечером с заплаканными глазами повезла меня отвозить. Я не знал, как её ублаготворить. Привезла меня к двери, крепко меня прижала <![if !supportFootnotes]>[63]<![endif]> и поцеловала, я ей ответил так же. На прощание сказала: o:p/
— Моя дверь для тебя всегда открыта. o:p/
— Благодарю, золотце. Прощай. o:p/
— Прощай. o:p/
o:p /o:p
30 o:p/
o:p /o:p
Захожу в дом к Вере, оне остались все довольны. o:p/
Вера устроила меня к зятю Ивану на работу, Марфа нанималась шить сарафаньи, обвязывать платки кистями, вышивать. Нас пригласили в гости в Аляску, но я не захотел, не хотел Колиной рожи видать, Марфа поехала одна, я работал. Было обидно, что так поступила, ну пускай. o:p/
К Марфе долго у меня сердце не лежало, всё казалась грязна и холодна. Но постепенно всё забылось. o:p/
Марфа через две недели вернулась. Осенью пошли свадьбы, каждо воскресенье по две-три свадьбы. Как мы жили у наставника, с наставником как гости ездили на все свадьбы. Тут порядки такия: на все свадьбы наставники съезжаются. И всего мы здесь навидались. Народ потерянный, мало хто что соблюдает, по-русски нихто не хочут говорить. Немало женчин присватывались ко мне, а многи материли как могли, что Марфу бросал. К Марфе тоже мужики лезли, но она, как обычно всегда, подойдёт и скажет: «Вон тот мужик лезет». Посмотрели мы с Марфой — тут полный содом, как здесь жить? У наставников дети наркоманы, пары изменяют друг другу, разводы, пьянство, оргии. Говорю Марфе: o:p/
— Ты согласна ростить здесь детей? o:p/
Она: o:p/
— Нет, я суда своих деток не повезу, там худо-бедно, но дети там слава Богу. o:p/
— Да, я на ето же смотрю. Слушай, ты со мной согласна в огонь и в воду? o:p/
— Согласна. o:p/
— Значит, надо вёртываться. Обещаешься? o:p/
— Обещаюсь. А как с Верой? o:p/
— Надо объяснить. o:p/
Фоме с Верой всё объяснили, оне ответили: o:p/
— Вам виднея. А как жить с харбинсами? o:p/
Марфа говорит: o:p/
— Помогайте. o:p/
— Да мы отчасти можем помогчи, но ето же далёко. Вам там жить не дадут. o:p/
— Как-то будем вывёртываться. o:p/
— Ну, смотрите сами. o:p/
Мы собрались, люди узнали, занесли хто чем мог, но все подарки с собой не сумели забрать. Мы взяли 8 местов по 30 килограмм, пришлось доплачивать. Мы сколь взяли, то ишо больше половины осталось, деньгами сколь заработали, сколь добры люди помогли, но мы насобирали 15 000 долларов. У Ивана я получал 17 долларов в час, и перед самым отъездом давали 21 доллар, но я не захотел оставаться: детки сокрушали сердце. o:p/
Насмотрелись мы на всё. К заключению, турчаны почти всё потеряли, кака-то искорька остаётся, оне горячи, но боле справедливы; харбинсы и так и сяк, но горды и лицемеры; боле синьцзянсы доржутся, заботются, сами едут в монастырь и детей везут, и боле справедливы. Но всё рассыпается, продлись век — ничего не останется. o:p/
Видал тестя с тёщай на свадьбе: норкой виляют <![if !supportFootnotes]>[64]<![endif]> , перед людями оправдываются. Тёща решила на свадьбе меня угостить, подходит со стаканом и говорит: «Зятёк, выпьем!». Я не стал, на уме: «Ах ты змея!». o:p/
Перед отъездом решил попрощаться с Машей. Поехал к ней, встретились, рассказал ей, что уезжаю. Она долго глядела мне в глаза и заплакала, я тоже заплакал. Проводила, сял я в машину и часто оглядывался: она стояла смотрела, как машина удалялась. Мы свернули на другу улицу, и я больше её не видал. Но долго не мог её забыть, споминаю часто, но всё реже. Так судьба с нами расправляется. o:p/
o:p /o:p
Нас проводили Миша Зенюхин, друг с малых лет, сын помощника наставника Макара Афанасьевича Зенюхина, жена его — дочь Верина. Миша хороший парень, когда мы с Марфой стали жить у Вере, Миша всегда был с нами, он живёт хорошо, он и проводил. o:p/
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> На португальском языке.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> В чай из травы мате, исп . hierba mate.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> Родовые схватки.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> Четыре сосуда.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> Беликовы, Владимир Дмитриевич и Светлана Ивановна, живущие в Буэнос-Айресе русские эмигранты, много помогали старообрядцам и поддерживают с ними дружеские отношения до сих пор.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> Быстрые.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> Рауль Рикардо Альфонсин (1927 — 2009) — первый демократически избранный президент Аргентины после падения военного режима. Занимал пост главы государства в 1983 — 1989 гг.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> Святую воду.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> На попятную.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> Две группы разного возраста.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> Другой.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> Потому что, союз .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> Командировочные, исп . viatico.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> Плохонький.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]> Придирчиво выбирала.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]> Настойчиво предлагали.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]> Предложение.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[18]<![endif]> Оформлю, зарегистрирую, получу разрешение, от исп . habilitar.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[19]<![endif]> Проводили свободное время в воскресенья и праздники.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[20]<![endif]> В агентство недвижимости, исп . inmobilaria.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[21]<![endif]> Сельскохозяйственные машины, от исп . maquinaria.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[22]<![endif]> Баловницы.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[23]<![endif]> Паром, исп . transbordador.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[24]<![endif]> Ярмарка, исп . feria.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[25]<![endif]> Пяльцы.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[26]<![endif]> Сводить судорогами.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[27]<![endif]> Изготовлял.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[28]<![endif]> На каждый учебный премет, исп . materia.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[29]<![endif]> Вице-король, исп . virrey.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[30]<![endif]> Вице-король, исп . virreinato.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[31]<![endif]> Возле небольшой речки.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[32]<![endif]> Одноклассница.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[33]<![endif]> Опухоль, исп . tumor.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[34]<![endif]> Рядом.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[35]<![endif]> По-другому.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[36]<![endif]> По-другому.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[37]<![endif]> Рожденный от смешанного брака.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[38]<![endif]> Ненагруженный.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[39]<![endif]> Рейки.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[40]<![endif]> Интендант, исп . intendente. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[41]<![endif]> Не беспокойтесь.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[42]<![endif]> Буквально: директор окружающей среды, исп . director del medio ambiente.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[43]<![endif]> Буквально: директор развития, исп . director del desarollo.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[44]<![endif]> Экологическая полиция.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[45]<![endif]> Национальный институт рыбного хозяйства, исп . Instituto Nacional de Pesca. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[46]<![endif]> Береговая охрана, исп . prefectura naval.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[47]<![endif]> Образцовый рыбак, «хозяин рыбной ловли», исп . patron de pesca artesanal.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[48]<![endif]> Не заступайся.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[49]<![endif]> Впереди.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[50]<![endif]> В глаза.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[51]<![endif]> Поднял взбуч — скандал.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[52]<![endif]> Вышел на середину моленной.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[53]<![endif]> Убей его равнодушием, исп . matalo con indiferencia.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[54]<![endif]> В говоре старообрядцев-«синьцзянцев» табор — временная стоянка рыбаков, охотников, лесорубов на берегу реки или в лесу.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[55]<![endif]> Фермер, исп . estancior.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[56]<![endif]> С ученым, исп. cientıfico. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[57]<![endif]> С фонарем.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[58]<![endif]> Пустой, незанятый.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[59]<![endif]> Ответственность.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[60]<![endif]> Делали, совершали, творили.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[61]<![endif]> Побеспокоится.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[62]<![endif]> За эмигранта из России.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[63]<![endif]> Обняла.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[64]<![endif]> Воротят нос.
o:p /o:p
Забайкалье. Из книги «Анафоры»
Улзытуев Амарсана Дондокович родился в 1963 году в городе Улан-Удэ. Окончил Литературный институт имени Горького. Публиковался в журналах «Арион», «Дружба народов», «Юность», «Байкал» и др. Автор поэтических сборников «Утро навсегда» (2002) и «Сверхновый» (2009; послесловие Александра Еременко). Живет в Улан-Удэ и в Москве. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
АНАФОРА (греч. anafora — возвращение, единоначатие, скреп…) o:p/
o:p/
Википедия o:p/
o:p /o:p
Сначала зададимся простым вопросом. Итак, что есть поэзия: таинство сотворения смысла («мы — смысловики», Мандельштам) или одно из искусств, подражающих природе, вроде музыки или живописи, — плюс упражнения с конечной рифмой? Как известно, конечная, заднестрочная рифма была, в свое время, перенята у арабов, через арабскую Испанию — трубадурами, усвоившими изощренную рифмовку арабской системы стихосложения. Можно предположить, что то ли в силу своей «всемирной отзывчивости», а скорее, удовлетворяя эстетическим потребностям салонной публики, русская поэтика ее позаимствовала, и в результате переноса европейского стиха на русскую почву, после двух веков русской поэзии, — выплеснула с водой и младенца. Речь здесь идет о существовавшей параллельно, еще до эпохи культуртрегерства, до наших классиков-«мичуринцев» — прикладной поэзии, то есть о волшебной традиции заговоров и заклинаний, былин и плачей, гимнов и призываний. О традиции, собственно и создавшей саму русскую поэзию. o:p/
Пушкин по этому поводу как-то обмолвился: «Много говорили о настоящем русском стихе. А. Х. Востоков определил его с большою ученостию <и> сметливостию. Вероятно, будущий наш эпический поэт изберет его и сделает народным». И в той же статье, словно предчувствуя тупиковость предпринимаемых усилий, Пушкин писал: «Обращаюсь к русскому стихосложению. Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую. Пламень неминуемо тащит за собою камень. Из-за чувства выглядывает непременно искусство…». o:p/
Итак, чтобы белый стих не превратился в аморфное образование типа западного верлибра с его, как говаривал Бродский, «недомоганием формы», я и применяю в своих поэтических опытах анафору и переднюю рифму как систему. Ранее использовавшиеся лишь окказионально в русской поэзии, они образуют новую форму поэтического большого стиля. Возможно, когда-нибудь эта форма придет на смену конечной рифме. Поскольку анафора — это выражение торжества бесконечного сознания над конечным, «смертным», над потребительским императивом, — постольку конечная рифма ради акустики, ради игры созвучий («…побрякушек ларь / И весь их пустозвон фальшивый» по слову Верлена), зачастую низводит, по моему мнению, идею стиха до смыслового эрзаца. То есть искусственно «доpащивает» эмоцию или мысль, а стихотворца превращает в «наперсточника». Да азиаты мы, да скифы мы, — и не только потому, что это сказал великий, а потому, что тысячелетиями существования мы обязаны гортанным песням наших, в том числе и протомонгольских предков, — певших зачины своих сказов и улигеров анафорой и передней рифмой. И как обычно — на полмира. o:p/
o:p/
(из авторского манифеста Амарсаны Улзытуева «К вопросу о конечном и бесконечном в русской поэзии») o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Шэнэхэнские буряты o:p/
o:p /o:p
Из-за горьких гор, из-за дальних дол, из Китая, o:p/
Истории из-под полы, тайников, сезамов, o:p/
Словно нежданно-негаданно золотые запасы нашлись Колчака, o:p/
Слов забытых носители и баснословной культуры. o:p/
o:p/
Коллективизацией нетронутые, как Лыковы, заповедные, o:p/
Иллюстрацией из бурятских народных сказок, o:p/
Косоворотки-халаты, шелковые кушаки, o:p/
Конусы островерхих шапок с алыми бунчуками, o:p/
o:p/
А коновязи у них, будто высокие горы, o:p/
А копыта коней широкие, как лопаты, o:p/
Слепят улыбками из малахитовой шкатулки генома, o:p/
Говорят по-нашему, а кажется, что поют. o:p/
o:p/
Дореволюционные, довоенные, дорогие, o:p/
До седьмого выбитого колена помнящие родство, o:p/
Истовые, как старообрядцы, кочевники, o:p/
Изгнанные советским дедом морозом двадцатых… o:p/
o:p/
Старомонгольским письмом вертикальным владея, o:p/
Степи тысячелетий они в душе своей носят, o:p/
Так поют и любят родину у Байкала, o:p/
Как, возможно, уж давно не умеем. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Разделка барана o:p/
o:p/
И пока ненасилья идя трансцендентным путем, o:p/
Извлекая из гиперпространства кумыса броженье — o:p/
Эти степные народы еще не нашли o:p/
Эсхатологический способ питаться чистой энергией солнц, o:p/
o:p /o:p
Созерцаю необратимый процесс o:p/
Согласно второму закону термодинамики, o:p/
Вспарывания брюха, проскальзывания руки под шкуру — оторвать аорту, o:p/
Взмахи и песнопенья ножа… o:p/
o:p/
Как от кишок отделяются Солнце и Млечный Путь, o:p/
Космос от небытия, тело от иллюзорного тела, o:p/
Сотворяются суша, эфир, Мировой океан, o:p/
Отворяются бездны, возникают начала начал… o:p/
o:p/
Создается природа, человечества варится крепкий бульон, o:p/
Сок совершенства и жизни сочится, o:p/
Гости отведали плоти и крови, и потрохов, o:p/
Кости — собакам, и на дворе, свежесодранно, неба руно золотое дымится… o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Джеймс Камерон погружается в Байкал o:p/
o:p/
То не Джеймс Камерон спускается в Байкал, o:p/
То не глубоководный аппарат «Мир — 1» с чужестранцем в гости к омулю, o:p/
То Титаник и Аватар в душу мою погружаются один за другим, o:p/
Топят лукоморье мыслей моих, вспучивая воображение. o:p/
o:p/
И то, как плыл грандиозный корабль по морю-океану, o:p/
И то, как он исчерпывающе тонул, показав нам блеск и нищету людей, o:p/
И камера по замыслу режиссера учила, но так и не научила наших болванов, o:p/
Как нужно снимать широкоформатные фильмы. o:p/
o:p/
И я вспомнил Ди Каприо, но не глянцевого полубога таблоидов, o:p/
А яростного романтика и художника здесь, где он конгениален, o:p/
И, конечно, полет свирепокрылых драконов у неземных водопадов, o:p/
Бесконечно более реальных, чем Манхэттена небоскребы. o:p/
o:p/
Представляю, как Джеймс Камерон, погружаясь в Байкал, o:p/
Превращается из человека в аватара байкальской нерпы — o:p/
Дно изучать наших грез, разные эндемики и разломы o:p/
Сна золотого, если правды святой найти не сумеем… o:p/
o:p/
o:p /o:p
Омулевая бочка o:p/
o:p/
Славный корабль омулевую бочку свою o:p/
Сладить решил, дабы, как в песне великой, o:p/
Священный Байкал переплыть без весел, руля и ветрил, o:p/
Свет Николай Федорович Лупынин из поселка Култук, o:p/
o:p/
Вот он нашел из-под кабеля деревянных бобин, o:p/
Ведь не пропадать же добру на мусорной свалке, o:p/
И сконструировал чудо-плавсредство свое o:p/
Искренне веря, что молодцу плыть недалечко. o:p/
o:p/
О тяжких цепях, о старом товарище, что бежать подсобил, o:p/
О пуле стрелка, что беглеца миновала, o:p/
Второе столетье поет-размышляет самодержавный народ, o:p/
То сбросит царя, то на море качается в бочке. o:p/
o:p/
Вспомнил я детство мое, омулевую бочку в сенях, o:p/
Вспомнил поселок Боярский, рыбаков-браконьеров, o:p/
В драке солдатским ремнем будреевским братьям грозил, o:p/
С другом, Серегой, я пел, по шпалам идя домой по привычке… o:p/
o:p/
o:p /o:p
Семейские o:p/
o:p /o:p
Самая длинная деревенская улица на планете имеет o:p/
длину 17 км в деревне Бичура в Республике Бурятия. o:p/
o:p /o:p
Книга рекордов Гиннеса o:p/
o:p /o:p
Чьи это в селах самые длинные улицы в мире, o:p/
Чисто помытые — вплоть до ставен резных — чьи деревянные избы? o:p/
Сарафаны у женщин краше царских палат, в кокошниках кички, o:p/
Сами в каменьях янтарных, еще с берегов прибалтийских. o:p/
o:p/
Мужики их не пьют и не курят, но сеют и пашут исправно, o:p/
Кулаки их сжимают пароконные польские плуги, да бурятские плетки, o:p/
Борозды ладят — по тайге да по сопкам — сказочные микулы селяниновичи, o:p/
Бороды носят — по скитам и заимкам — ссыльные протопопы аввакумы. o:p/
o:p/
Видно, с ликом святым принесли родники своей веры, o:p/
Словно испить от них припадают, двоеперстьем себя осеняя, o:p/
Вглубь бурятской украйны селясь, у подножий хребтов забайкальских, o:p/
Будто Древняя Русь, подустав на миру, набирается сил святогоровых. o:p/
o:p/
У бурят научились есть буузы, шти готовить самих научили, o:p/
Говорят по-бурятски — тала, то есть друг, всё старинные песни поют… o:p/
Иногда на бурятках женились, за местных парней выходили, o:p/
Инда у бабки скуластой моей нездешнего цвета глаза… o:p/
o:p/
Что за место у нас, что ссылали сюда и цари, и монгольские ханы, o:p/
Что ль погано сибирским морозом оно, что ли вольною волей красно? o:p/
Остается, однако, одно, как сибирскому кедру в мороз загребущий, o:p/
Отстоять и молиться — Ом Мани! и Да святится имя Твое… o:p/
o:p/
o:p /o:p
Ноготь небожителя o:p/
o:p /o:p
Леониду Агибалову o:p/
o:p /o:p
Жить в небе и наблюдать облака здесь удобнее, o:p/
Жимолости вкус, горчинки — здесь в Бурятии жить, o:p/
Где коровы жуют эдельвейс, цветок альпинистов, o:p/
Где головою в космосе, гуляешь по городу. o:p/
o:p/
И тем, кому вечность здесь обретать спокойнее, o:p/
Итигэлов, йогин нетленный, в позе лотоса здесь и сидит, o:p/
Для живых, с сознаньем бессмертных, совершенно нормально, o:p/
Что живее и старше страны его срезанный для изучения ноготь. o:p/
o:p/
Горчинки, ибо жить в небе — немного щемяще и грустно, o:p/
Горный ландшафт, облака пред тобой и вокруг вызывают восторг и уют, o:p/
Так не хочется с этим пронзительным всем иногда расставаться, o:p/
Тем, у кого ничего, кроме синего неба и вечности, нет. o:p/
o:p/
С сознаньем бессмертных, вдыхающих ветер с Байкала, o:p/
Сопок старинных сияньем, степей колыханьем, дыханьем тайги, o:p/
Едешь, местами во весь окоем одно только вечное синее небо, o:p/
Видишь один только бисер таежной гряды где-то вдали. o:p/
o:p/
Облака пред тобой и вокруг, под тобой только древние горы, o:p/
О бока их порой в невесомости трется соседней галактики бок, o:p/
Оттого и местами они до бескрайних степей, косогоров альпийских o:p/
истерлись, o:p/
Отчего и дышать здесь трудней, что разреженный воздух густей. o:p/
o:p/
И текучие песни людей испокон здесь протяжно и туго так льются o:p/
Итигэлова словно тягучая, словно в квазарах пульсируя, кровь, o:p/
Как же нужно так петь, чтоб уметь навсегда на земле оставаться, o:p/
Кем же нужно здесь быть, головой чтобы в космосе жить… o:p/
Вечер пятницы
Оганджанов Илья Александрович родился в 1971 году. Закончил Литературный институт им. А. М. Горького, Международный славянский университет, Институт иностранных языков. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Урал», «Сибирские огни», «Крещатик», «День и ночь» и др. Живет в Москве. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Стало раньше темнеть, и служащие банка возвращались теперь к метро в серых ноябрьских сумерках. Ровно в шесть одно за другим погасли и сразу недобро помрачнели огромные окна, за которыми, как на витрине, провели они весь день: перед мониторами, с папками бумаг, телефонными трубками и блуждающими улыбками на непроницаемых лицах. Вежливые, услужливые, нарядные — мужчины в строгих костюмах и галстуках, девушки в юбках до колена, светлых блузках и синих форменных шелковых платках, одинаково кокетливо повязанных на голых, словно мраморных, шеях. Погасли окна, распахнулись стеклянные створки входных дверей, и нестройная колонна банковских служащих потянулась к метро. Несколько секунд они послушно толпились у светофора и затем, дружно перейдя по «зебре» дорогу, исчезли в провале подземки. o:p/
Часы перевели на зимнее время, и стало раньше темнеть... o:p/
Вадим безучастно оглядел притихшую редакционную комнату и выключил компьютер. На погасшем экране отразилось его лицо. Какое-то жалкое и незнакомое — нахмуренный лоб, скорбная складка между бровями и в глазах слезы. Он отодвинул кружку с недопитым, давно остывшим кофе и снова уставился в окно. o:p/
В просвете между зданием банка и стройной высоткой, словно заблудившаяся, стояла колокольня Новоспасского монастыря. Раньше он часто бывал там, в Спасо-Преображенском соборе. Он любил чуткую, бездонную тишину монастырского двора, похожего на любовно прибранную девичью комнату, сумрачный покой церковных сводов с обнажившейся грубой древней кладкой, долгие службы, их тягучий гулкий распев — «христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, у Господа про-о-оси-и-им», — суровые голоса монашеского хора, потрескивание свечей и в дрожащем огненном свете — строгие восковые лики святых. А потом как-то не стало времени. o:p/
Сначала он все думал подыскать работу получше, сделать какую-никакую карьеру, потыкался туда-сюда, но безрезультатно. Да и махнул рукой. И незаметно привык к этой комнате, словно улей, разделенной перегородками на закутки, к неумолчной болтовне, темпераментным редакционным летучкам, мелким склокам, ежемесячными авралами... o:p/
Еще немного — переулок опустеет, и можно собираться. o:p/
o:p /o:p
На улице зажгли фонари. Влажный асфальт блестел и отливал расплавленным золотом. Резче очертились тени, и по краям тротуара из сгустившейся темноты по-разбойничьи выступали голые ветви деревьев. Вечер выдался теплый, почти весенний. Хотелось идти куда-нибудь без цели, ни о чем не думая. o:p/
— Чудесный вечер, правда?
От неожиданности он не сразу понял, что обращались к нему. Подлаживаясь под его неторопливый шаг, рядом шла девушка из соседней редакции модного женского журнала. Новенькая, недавно устроилась, и первую неделю от стеснения по десять раз здоровалась с ним в коридоре, когда он выходил покурить или заглядывал в буфет. Похоже, начинающая журналистка. В школе, наверно, писала сочинения на отлично, побеждала на районных олимпиадах по литературе и мечтала стать писательницей. А потом, к радости родителей, пусть и не без труда, поступила на журфак. o:p/
Она проходила по коридору прямо держа спину, чуть склонив голову к круглому плечику, то и дело без надобности поправляя тонкими пальцами распущенные русые волосы, всегда с таким видом, будто спешит по очень важному делу. И что ни день, изобретала какой-нибудь неожиданный наряд. Совсем девочка, с простым, открытым, еще детским лицом.
И однажды в ответ на ее подчеркнуто деловое «доброе утро» он откровенно, по-мужски посмотрел ей прямо в глаза и, заметив ее смущение, невольно улыбнулся. С тех пор, встречаясь, они переглядывались и приветливо улыбались друг другу, как знакомые, и она уже не отводила взгляда. o:p/
Конечно, в том, что она с ним заговорила, ничего такого нет. И она случайно нагнала его по дороге к метро. Просто здесь все идут к метро и порой нагоняют друг друга. Обычное дело. Просто выдался теплый вечер, у нее хорошее настроение, и в ее больших масленичных глазах играют веселые огоньки. Ничего такого. Просто зажгли фонари, и от их золотистого света блестят глаза.
Он горько усмехнулся:
— И правда, вечер чудесный. Как говорит мой приятель, выбившийся в большие люди, «так хорошо, что и умирать не надо».
Он приостановился у табачного киоска, хотя сигарет в пачке было достаточно и зажигалка работала исправно.
— Тогда… до понедельника? — И ее голос, кажется, слегка дрогнул.
— До понедельника.
o:p /o:p
Ступеньки эскалатора ползли вниз, и навстречу бесконечной вереницей плыли незнакомые мужские и женские лица. Вадим старался вглядеться в них, запомнить, но они сливались в сплошную неразличимую массу глаз, носов, ртов. Сотни неразличимых лиц, дважды в день, пять раз в неделю... За без малого тринадцать лет выходила устрашающая статистика. o:p/
Он поравнялся с дежурным по эскалатору. Хмурый, сухощавый, совсем седой. Бледное бескровное лицо изрыто морщинами. Годами, как ворон, сидит в своей тесной стеклянной будке, не видя ничего, кроме глаз, носов, ртов. Но может, какие-то лица примелькались ему и он легко различает их в толпе? И порой дома, ковыряя вилкой холодный ужин или ворочаясь бессонной ночью в рыхлой сырой постели, вспоминает об этих людях с теплотой, как о единственно близких, и всем сердцем переживает за их далекую неведомую жизнь? Кто знает, может, иногда думает и о нем, о Вадиме?
o:p /o:p
В вагоне было тесно и душно. Поезд летел сквозь черноту тоннеля, и казалось, так вот, грохоча и подрагивая, прикатит он прямо в преисподнюю. Вадима притерли к самой двери с надписью «не прислоняться». Раскрасневшийся толстяк пихал его то животом, то локтем, пытаясь вызволить застрявший где-то в ногах дипломат, а прижатая к толстяку дама в пальто с пушистым нестерпимо надушенным воротником всем своим видом старалась показать, как презирает она этих вонючих потных мужиков и что последний раз едет в треклятом этом метро. Девушка слева, в очках с тонкой металлической оправой и толстыми стеклами, невозмутимо читала увесистую книгу по педиатрии, не обращая ни малейшего внимания на привалившегося к ней плечом долговязого подростка в наушниках и натянутой по самые брови вязаной шапке. Парень самозабвенно кивал в такт слышимой только ему музыке и жевал жвачку. Налитой прыщ на его щеке, покрытой редкой, тонкой, торчком растущей щетиной, ритмично двигался, как живой. Вокруг, держась за поручни, покачиваясь и толкаясь, сгорбившись, положив на колени сумки, свесив голову на грудь, стояли и сидели «граждане пассажиры», смутно отражаясь в окнах вагона, летящего куда-то в кромешной тьме. Народу набилось много, и Вадима придавливали все сильней. От постоянного напряжения затекла спина, но он не обращал внимания. Ему было хорошо и спокойно среди этих притиснутых друг к другу людей, и он был благодарен им за то, что сейчас не один. o:p/
o:p /o:p
Возвращаться в пустую съемную квартиру не хотелось, и он решил проехаться в центр, до Тверской. o:p/
В длинном гулком подземном переходе ярко горели окна торговых палаток. Букеты цветов, сигареты, пирожки, бижутерия, музыкальные диски, красочные новенькие иконы, расписные платки, алые майки с изображениями серпа и молота, герба СССР и трехглавого профиля вождей мирового пролетариата и белые — с двуглавым орлом. Все это пестрело, предлагало себя и звало остановиться.
У выхода на улицу притулился книжный развал. Тихий старичок в перекошенных очках, стоптанных валенках, потертом драповом пальто и вязаном шарфе, несколько раз обмотанном вокруг шеи, переминался с ноги на ногу, заискивающе улыбаясь, когда кто-нибудь из прохожих задерживался перед его лотком. Книги были случайные и довольно потрепанные — детективы, приключенческие романы, несколько томов «Библиотеки поэта» и серии «Русская классика». Все аккуратно разложены рядами. Должно быть, на них возлагались большие надежды. Вадим перелистал томик Блока, от пожелтевших хрупких страниц пахло пылью и чужим неустроенным жильем. o:p/
o:p /o:p
Тверская сияла огнями. С витрин модных магазинов на прохожих надменно взирали бесстрастные, пугающе совершенные, с иголочки одетые манекены. За окнами ресторанов в приглушенном свете белели тугие крахмальные воротнички, холодно поблескивали ножи и вилки, мерцали бокалы с шампанским, и официанты, вооружившись карандашами и блокнотами, словно секретари-референты, склонялись над столиками. o:p/
И опять, как на эскалаторе, навстречу двигались бесчисленные глаза, носы, рты. Слепя фарами, проносились машины, и в них, искаженные бликующими стеклами, сидели все те же рты, носы, глаза…
У Елисеевского Вадим на секунду задержался. В двух шагах от входа, скорбно понурив голову, стоял на коленях мужчина средних лет в добротной коричневой кожаной куртке и просил на срочное леченье умирающей дочери — сложное латинское название ее болезни было крупными печатными буквами выведено черным жирным фломастером на небольшой картонке, висевшей у него на груди. Уже не первый год при любой погоде часами выстаивал он здесь в одной и той же позе, со склоненной головой. Ему часто и охотно подавали, и многие, как Вадим, по нескольку лет подряд.
o:p /o:p
На бульваре было тише и сумрачней. От земли тянуло сыростью и запахом прелой листвы, точно в грибном лесу. Редкие парочки сидели на скамейках обнявшись и целовались. В свете вечерних фонарей они походили на огромные живые иероглифы. Временами в глубине бульвара волчьим глазом вспыхивал красный огонек: кто-то одинокий задумчиво курил в темноте. Все это неуловимо, мучительно напоминало парк культуры и отдыха в его родном городе. o:p/
o:p /o:p
Он озяб и проголодался. С утра так ничего и не ел. o:p/
Он зашел в первое попавшееся кафе. Здесь было тепло, пахло выпечкой и кофе. В мягком электрическом свете плавал сизоватый сигаретный дым. Играла легкая музыка. Отовсюду слышались непринужденная болтовня, смех, звон бокалов, позвякивание ножей и вилок — совсем как в гостях на праздничном ужине.
Ладная, улыбчивая официантка, поводя тяжелыми бедрами, подошла к его столику, поменяла пепельницу, близко наклонясь полной грудью и нежным томным голосом, будто весь день только его и ждала, спросила: «Что желаете?»
o:p /o:p
На другой стороне улицы мертвенно синела неоновая вывеска стрипклуба, то и дело подмигивая кому-то в непроницаемой мглистой вышине. o:p/
Дюжий охранник, в своем тесном черном костюме похожий на школьника-переростка, с ленцой охлопал Вадима по карманам и посторонился, освобождая проход.
В полупустом зале гремела светомузыка. За барной стойкой что-то живо обсуждали трое плечистых бритоголовых парней, и складки на их мясистых затылках шевелились, словно гигантские распухшие губы. По гладкому помосту с вделанными в него хромированными шестами лениво расхаживала длинноногая девица в мини и просторной клетчатой рубашке без рукавов, завязанной узлом выше пупка. Пару раз, видимо разминаясь, она волнообразно изгибалась, повисала на шесте и высоко вскидывала точеную ногу. Еще две стриптизерши прохлаждались у стойки, по соседству с бритыми парнями. Для такого заведения было слишком рано.
Вадим сел за столик и заказал рюмку коньяка. Скоро внутри потеплело, и музыка уже не казалась такой невыносимо громкой. Зал постепенно заполнялся одинокими мужчинами с коньяком, водкой или пивом. Стриптизерши, скинув рубашки, стали активно примериваться к шестам. Им вяло аплодировали.
o:p /o:p
Между столиков шустро сновали вертлявые официантки, с показной легкостью удерживая одной рукой, на растопыренных пальцах, большие круглые подносы. В сторону сцены с мест что-то развязно кричали. Особо распалившиеся посетители терлись у самого подиума. Зал гудел, слепил огнями и тонул в густом сигаретном тумане. o:p/
Вадим не заметил, как она подсела. В дымном призрачно мерцающем свете софитов ее взбитые волосы и открытое платье с блестками попеременно окрашивались красным, зеленым, золотым. Черты лица были едва уловимы, словно отраженные в быстро бегущей воде. Она несмело улыбалась уголками губ и барабанила по столу острыми накладными ногтями, похожими на миндальные скорлупки.
Было шумно, и приходилось напрягать голос.
— Выпьешь чего-нибудь?
— Мохито! — мгновенно среагировала она, без усилия перекрикивая музыку.
Он поднял руку, тут же подбежала официантка. Он заказал мохито и еще коньяка.
— Ты чего такой смурной?
Он неопределенно пожал плечами.
— Проблемы? С женой или на работе? Сейчас у всех или с женой, или на работе. Не бери в голову. Пройдет.
Он кивнул, как бы нехотя соглашаясь.
— Был у меня один с проблемами. Все жаловался, про бизнес свой рассказывал, а как до дела доходило, у него ни тпру ни ну — не вставал в общем. Так он материл меня на чем свет и обзывал протухшей воблой. Случалось, и поколачивал. Но ничего, зато платил хорошо. А ты чем занимаешься? o:p/
— В журнале работаю, для путешественников.
— Нормально! Небось во всех странах побывал и знаменитостей разных знаешь?
Вадим не ответил и одним глотком допил свой коньяк.
— У меня тоже был один известный — экстрасенс. Такой забавный... Предсказал мне любовь до гроба и кучу денег. И по руке гадать научил.
Она потянулась к Вадиму через стол, повернула его руку ладонью вверх и стала внимательно изучать.
— Ничего так не вижу.
Обошла столик и по-хозяйски уселась к нему на колени.
— Вот смотри: это линия жизни, она у тебя длинная, дотянешь до старческого маразма. Это — линия любви, тоже длинная. И бугорок Венеры ничего себе. В общем, расстраиваться тебе не с чего. Ну, что тут еще… Крестики разные, треугольнички, не помню, что они означают. Да и какая разница. o:p/
Он с волнением чувствовал тяжесть и тепло ее узких крепких бедер, вдыхал сладковатый горчащий запах кожи.
Чертя ногтем указательного пальца по его ладони, она непоседливо ерзала и то и дело сползала с колен, цепляясь острыми высокими шпильками за его джинсы. Он притянул ее к себе. Она замолчала, обхватила его за шею и горячо задышала в ухо:
— Все грустишь? Это ничего… Я люблю грустных. Они ласковые. Хочешь, поедем ко мне? Да не пугайся, я же сказала: ты мне нравишься. Можно просто так, за полцены.
o:p /o:p
Они долго колесили по ночной Москве. По набережной Москвы-реки — в замогильной, отливающей глянцем воде криво отражались башни Кремля, арки мостов и похожие на лисьи хвосты рыжие огни фонарей. По Садовому кольцу, напоминающему огромную цирковую арену, где все куда-то неслось на бешеной скорости, словно только ночью и начиналась здесь настоящая жизнь. По притихшим улицам и безлюдным переулкам. Пока не очутились в глухом спальном районе, застроенном коробками однотипных домов, будто сложенных из детских кубиков. Сотнями бессонных окон они обреченно глядели в темноту. o:p/
В такси его немного развезло. Перед глазами вспыхивали протуберанцы, летали мушки. Из динамиков магнитолы наглый хрипловатый голос орал о том, что все хорошо и будет еще лучше. От кислого запаха прокуренного салона и приторного аромата духов слегка мутило. Зачем он здесь, промозглой осенней ночью, в чужом, чуждом городе, в такси, с этой незнакомой девицей? Он уткнулся ей в плечо, торопливо шепча что-то горестное и бессвязное, обнял за шею, как ребенок, который просится на руки, зажмурился, подбородок дрогнул, и, словно захлебываясь, он сдавленно зарыдал. o:p/
Она гладила его по голове, по мокрой щетинистой щеке, приговаривая: «Ну чего ты так расстраиваешься, дурачок, не надо. Все образуется. Вот увидишь». И целовала в макушку.
o:p /o:p
Когда они зашли к ней, он сразу потянул ее в комнату. Неловко, грубо стащил с нее платье, порвав бретельку, и с силой бросил на кровать. o:p/
Перед глазами все плыло, двоилось. Ползущая из коридора косая полоса света слепила и дрожала, точно лунная дорожка на сонной ночной реке. И в рассеянном полумраке вдруг померещилась нагая утопленница.
С какой-то ненасытной злостью он целовал ее приоткрытый рот, глаза, напудренные щеки, худые острые плечи, мял в горсти маленькие беспомощные груди с нежными сосками, твердевшими под его бесстыдными ладонями, и, уже почти задыхаясь, стискивал ее податливое тело, словно хотел вжаться в него целиком. Она не сопротивлялась, обмякла и послушно развела ноги. Только все шептала, слабее, прерывистей и глуше: «Я-то думала, ты нежный, ласковый… а ты такой же, как все… как все… такой же…»
o:p /o:p
Вадим не сразу понял, где проснулся. Комната тонула в пепельном предутреннем свете. На широкой двуспальной кровати, прильнув к нему, лежала вчерашняя девушка из клуба. Ее припухшее лицо бледнело на розовой шелковой наволочке. Она выглядела несколько старше, чем прошлой ночью в играющем огнями шумном зале. Закутавшись в одеяло, подложив под щеку сложенные ладошки, она тихонько посапывала. Помада на губах размазалась, тушь потекла, и казалось, она чему-то улыбается во сне и плачет. o:p/
У кровати на тумбочке лежали разноцветные заколки, перекрученные резинки для волос, опрокинутый пузырек бордового лака, иконка Владимирской Божьей Матери, стояли полная окурков пепельница и недопитая бутылка красного с жирным следом помады на горлышке. В зеркальной дверце платяного шкафа отражались незашторенное окно, пыльный прямоугольник телевизионной панели и вперемешку разбросанная по полу одежда. На стене, оклеенной пожелтевшими обоями, висели прилепленные скотчем поблекшие, выцветшие, счастливо улыбающиеся «битлы», прошлогодний календарь с мускулистым белозубым бодибилдером, репродукция «Джоконды» и приколотая кнопкой небольшая фотография: немолодая пара на фоне выкрашенного серебристой краской провинциального бронзового Ленина. Этакие застенчивые пожилые пионеры. Должно быть, ее родители.
У него на квартире тоже висела фотография родителей, только черно-белая, в овальной пластмассовой рамке. Снято в фотоателье, сразу после свадьбы: подретушированные, будто фарфоровые молодые лица, глаза смотрят потерянно, виновато. С нее потом делали портрет отца на памятник. Вадим не любил эту фотографию — «ты здесь прямо копия матери», — а он всю жизнь мечтал походить на отца. Но другой, где родители вдвоем, не было…
o:p /o:p
…Сильно за полночь, и давно пора спать. Но мама почему-то не гонит в постель строгим голосом, хотя, конечно, видит свет за приоткрытой дверью в детскую. Правда, завтра суббота, и не надо в детсад, но все равно странно и на маму не похоже. o:p/
Она сидит, укутав ноги пледом, в старом промятом кресле, под оранжевым абажуром, который отец за его пышную бахрому прозвал балдахином, и, отложив на колени вязанье, похожее на серого ласкового котенка, словно не замечая времени, отрешенно листает потрепанный номер «Вокруг света». Отец всегда говорил, что лучшее лекарство от душевных ран — хорошее путешествие. И если доведется, кто знает, может на пенсии, он обязательно куда-нибудь закатится, желательно подальше и на подольше, а лучше бы насовсем, ну хотя бы в Тверскую область по грибы да по ягоды — без разницы. «Тебе, разумеется, без разницы, — ехидничала мать, — ты же в них ничего не смыслишь. Ты у нас — городской житель. Так что сиди уж лучше, а то, чего доброго, потравишь всех». o:p/
Отец еще не вернулся с работы. Наверное, опять запарка перед приездом очередной госкомиссии. «Что-то они к вам зачастили. Можно подумать, у вас секретное предприятие, а не консервный завод», — равнодушно говорит по утрам мать, готовя отцу завтрак. o:p/
За окном в затаившейся темноте февральской ночи белеют заснеженные ветви деревьев и скат крыши соседнего дома. Под сгорбленным фонарем весело искрится тучный сугроб, и, словно в ответ ему, подмигивают звезды, как будто где-то там, за облаками, забыли потушить новогоднюю гирлянду. o:p/
По полу разбросаны игрушки. Солдатики, лежащие ничком и навзничь, перевернутые машинки — точно после бомбежки. Одна закатилась под небрежно застеленную пустую кровать брата. Он совсем отбился от рук, никакого сладу, и мать с ним не справляется. Связался с дурной компанией. Шастает где-то ночами. Но отец не вмешивается. Все одно скоро в армию. o:p/
В напряженной тишине нервно шелестят страницы журнала. o:p/
Щелкнул замок, хлопнула входная дверь. Слышно, как отец вешает пальто, бросает на полку кроличью шапку и пропахший табаком, колючий мохеровый шарф, возится со жмущими ботинками и наконец всовывает ноги в теплые домашние тапочки, которые недавно купила ему мама. o:p/
Надо чем-то оправдать нарушение режима и распорядка дня, и в голову не приходит ничего лучшего, как вбежать в комнату к матери и, развернув перед ней вкладыш от жвачки, выпалить: o:p/
— У меня тут вапос по ангисскому. o:p/
Вкладыш шуршит и сладко пахнет клубникой. На нем нарисован совсем не смешной комикс и мелкими буквами напечатано: «Love is… when you feel leave the ground». Мама поднимает от журнала покрасневшие невидящие глаза и несколько секунд молчит, не понимая, чего от нее хотят. Потом, словно смахивая с лица паутинку, приглаживает стянутые узлом на затылке, начавшие седеть волосы, и запинаясь читает приведенный тут же перевод: «Любовь это… когда земля уходит из-под ног». o:p/
— У вас, вижу, ликбез на животрепещущие темы, — входя в комнату, бодро говорит отец. — Ничего, подрастешь — сам все поймешь, без перевода: любовь — это когда уже никуда не денешься с подводной лодки. А теперь ложись-ка скорее спать, не то я возьму ремень и покажу тебе, что такое настоящая отцовская любовь. o:p/
— Иди спать, Вадик. Папа, как обычно, шутит. o:p/
— Зато мама у нас серьезна донельзя, — бурчит отец, силясь расстегнуть на широкой груди непослушную пуговицу сильно помятой белой рубашки. o:p/
— Ты почему так поздно, опять комиссия? o:p/
— Да, ждем скоро. Дел по горло, ничего не успеваем, — и, прикрыв рот массивной ладонью, крепко зевает. o:p/
Мама кладет журнал на колени поверх вязанья. Изогнутые страницы топорщатся, будто прося еще раз перелистать их и прочесть. o:p/
— Знаешь… интересные попадаются статьи. И сколько разных стран на свете! А мы нигде не были. Хочешь, поедем куда-нибудь? В путешествие. У нас ведь даже свадебного не было… Вадьку оставим моей маме и поедем. А? o:p/
Отец отвечает тихо и холодно, но его сиплый сдавленный голос отчетливо слышен через притворенную дверь детской. o:p/
— Какое свадебное путешествие?! Ты, верно, забыла, дорогая, что была тогда на третьем месяце. o:p/
И, выдержав паузу, еще тише и тверже добавляет: o:p/
— Это после двух-то месяцев знакомства… o:p/
o:p /o:p
Стараясь не шуметь, Вадим собрал с пола свои вещи, оделся, положил на тумбочку деньги, прижав их донышком бутылки, и закрыл за собой дверь. o:p/
Район был незнакомый. Панельные многоэтажки теснились вокруг пустынного двора с островком песочницы, безжизненно висящими качелями и железной горкой в виде застывшей морской волны. Сыпал мокрый снег, и ледяные иголки покалывали нос, лоб, щеки. Вадим прищурился, застегнул куртку и поднял воротник, пытаясь удержать пахучее тепло чужого жилья и чужого тела, еще напоминавшего о себе тоскливой сладкой усталостью.
В серой рассветной дымке тускло горели бесполезные уже фонари. Вадим глубоко втянул открытым ртом сырой студеный воздух. В горле пересохло, голова гудела, и ноги были как ватные. Он бестолково плутал в лабиринте домов, хлюпая по раскисшей снежной каше, пока не заприметил нескольких прохожих, уверенно спешивших в одном направлении. Он побрел вслед за ними и скоро оказался на какой-то широкой улице. Вдалеке виднелась автобусная остановка.
o:p /o:p
Автобуса долго не было, и на остановке столпился народ. Люди жались друг к другу, чтобы всем хватило места под навесом. За рабочую неделю у них скопилось немало неотложных домашних дел, которые нужно успеть переделать. Впереди было два выходных дня. o:p/
Вадим стоял рядом с миловидной женщиной лет тридцати пяти. Ворот ее кремового пальто был распахнут, будто ей было очень жарко, и в открывшемся вырезе облегающей кофты белела высокая, тугая грудь с матово-бледными голубоватыми прожилками и темной глубокой ложбинкой. Она держала за руки двух дочек в одинаковых бежевых унылых курточках, по виду погодков, и устало, неотрывно смотрела поверх голов куда-то вдаль. Девочки громко перешептывались, украдкой поднимая к матери свои зарумянившиеся от холода кукольные личики и надеясь каждая привлечь ее внимание.
— А ты знаешь, где Боженька живет?
— …К-конечно.
— И где?
— А ты сама-то знаешь?
— Так нечестно, я первая спросила. Ничего ты не знаешь. А мне бабушка Поля рассказывала: он живет в таком своем доме, называется церковь.
— Тоже мне новость! Он еще и в других разных домах живет. А летом и на улице может, потому что тепло. Много она понимает, твоя бабушка Поля.
— Ну и пожалуйста. Зато ты не знаешь, что мой папа мне сказал, когда брал меня на воскресенье.
— Опять какую-нибудь глупость?
— Сама ты глупость. Он сказал, что я в этом году пойду на музыку.
— Подумаешь. И кому это надо!
— Тебе ничего не надо. Ты вот знаешь, что такое менуэт?
— Что-то очень грустное, да?..
— О, это жутко печальная вещь!
Кто-то мягко подтолкнул Вадима в спину. Он обернулся: мутные немигающие глаза, дрожащие фиолетовые губы, искривленные в несмелой улыбке, багровое лицо, похожее на побитое морозом сморщенное яблоко. Пожилой алкаш, тяжело дохнув перегаром, кивнул ему, как знакомому:
— Позвольте присоседиться.
o:p /o:p
Вадим, извиняясь, выбрался из-под навеса. Замерзшими непослушными пальцами вытянул из мятой пачки изогнутую сигарету, чиркнул зажигалкой и несколько раз быстро, коротко затянулся, выпустив изо рта облачко дыма, резко очертившееся в стылом воздухе. Облачко причудливо расплывалось, бледнело и наконец растаяло. Вадим достал из заднего кармана джинсов сложенную вчетверо, слегка потертую по краям телеграмму от старшего брата, развернул и перечитал, медленно ведя пальцем по слабо пропечатанным, прыгающим перед глазами словам: мама умерла тчк похороны в субботу. o:p/
На небесном дне
Хлебников Олег Никитович родился в Ижевске в 1956 году. Кандидат физико-математических наук. Автор двенадцати стихотворных книг (в том числе переведенных на французский и датский языки); заместитель главного редактора «Новой газеты». Лауреат Новой Пушкинской премии. Живет в Переделкине. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
В конце проулка, в гибком фонаре, o:p/
похожем шеей на плезиозавра… o:p/
«Переулок» o:p/
o:p /o:p
И трудно утру наступить… o:p/
Александр Аронов o:p/
o:p /o:p
1 o:p/
o:p /o:p
Плезиозавры фонарей o:p/
стоят по грудь в тумане желтом. o:p/
По дну небесному дошел ты o:p/
до ручки не своих дверей. o:p/
И ты попал — попал сюда, o:p/
как на подлодку: только стены o:p/
вокруг и темные системы, o:p/
чтоб свет и пресная вода o:p/
не иссякали и тепло o:p/
текло по трубам обнаженным… o:p/
Гудит в усилье напряженном o:p/
запас еды — смертям назло. o:p/
И передатчик новостей o:p/
передает погоды сводки o:p/
и шифр: Nazdaq, баррель, бобслей, — o:p/
осмысливает быт подлодки. o:p/
Но есть хозяин у нее — o:p/
вот он радирует и скажет: o:p/
« Пора, мой друг !». И думай, как же o:p/
подняться, всплыть, явить ржевье. o:p/
И лучше все-таки живьем. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
2 o:p/
o:p /o:p
Но дело, конечно, не в нем, o:p/
а в том, что сегодня и завтра o:p/
то свет — промокашечный днем, o:p/
то ночью — из плезиозавра. o:p/
И дело не в том, что вокруг, o:p/
а — что впереди там, в тумане: o:p/
лежанье на съемном диване o:p/
и старости замкнутый круг? o:p/
А может быть, вдруг да… Увянь! o:p/
Пока есть хотя бы диван. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
3 o:p/
o:p /o:p
Диван напоминал бегемота. o:p/
И ты, возлежавший на нем, o:p/
повторял его формы. Дремота o:p/
порой настигала и днем, o:p/
когда вдруг терялся, как ручка, o:p/
как зажигалка, смысл бытия. o:p/
Впереди светила только получка — o:p/
хотя уже не совсем твоя. o:p/
Но все же она, как фонарь, светила o:p/
в голое это окно. o:p/
И каждое утро надо было o:p/
идти сквозь Темно, Смурно, o:p/
Зябко, Не хочется… Но оставаться o:p/
точно — большее зло… o:p/
Как жили на съемной квартире Ватсон o:p/
и Холмс?.. Как уютно, тепло!.. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
4 o:p/
o:p /o:p
Кстати, читать детективы — o:p/
спасение от рутины: o:p/
сыщики столь ретивы, o:p/
преступники — креативны! o:p/
Даже если трясешься o:p/
в маршрутке битком набитой, o:p/
как-нибудь да извернешься, o:p/
чтобы сбежать от быта: o:p/
среди каждодневных странствий o:p/
в кутузке по имени «транспорт» o:p/
попасть в другое пространство — o:p/
не хуже любого транса, o:p/
и в погруженности крайней o:p/
в интриги свечей и каминов o:p/
опомниться на окраине, o:p/
свою остановку минув. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
5 o:p/
o:p /o:p
Своя остановка… Китайцы-водилы… o:p/
Никогда не имел своей квартиры — o:p/
ну, чтобы совсем своей. o:p/
Делил даже ванны, женщин, сортиры o:p/
с десятком чужих людей. o:p/
В общем, так же делил и воздух — o:p/
на вдох делил и на роздых… o:p/
А порой оставался наедине — o:p/
с собой? И то не вполне… o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
6 o:p/
o:p /o:p
Никого не будет в доме, o:p/
кроме — тысячи чужих o:p/
нажитых вещей, в объеме o:p/
блочной хаты… Вот мужик o:p/
с фотокарточки смеется — o:p/
а кому он сват и брат? o:p/
Вот трехногих три уродца o:p/
табуретками стоят. o:p/
Здесь ютилась жизнь чужая o:p/
и ушла в небытие. o:p/
Гений места, угрожая o:p/
шлет и шлет привет тебе. o:p/
Ты не хуже и не лучше o:p/
тех, кто жили-были здесь… o:p/
А сейчас давай почутче — o:p/
вдруг да и услышишь весть. o:p/
Говорят, придет планета o:p/
больше нашей и ее o:p/
как проглотит — значит это: o:p/
ты получишь забытье. o:p/
Лучше нету, нет краснее o:p/
быстрой смерти на миру — o:p/
да со всеми, даже — с нею, o:p/
той, кому «Люблю, умру!» o:p/
клялся, клялся, не краснея, o:p/
прыгал, точно кенгуру. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
7 o:p/
o:p /o:p
И рай в чужом шалаше o:p/
бывает — ты знаешь это. o:p/
И свет бывает в душе, o:p/
хоть нету снаружи света. o:p/
И Бог — конечно, любовь. o:p/
Когда ж она остывает, o:p/
Господь поднимает бровь o:p/
и этот дом оставляет. o:p/
Снимает угол другой — o:p/
с недогоревшей свечкой o:p/
любви человечьей — такой o:p/
смешной, по-людски не вечной. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
8 o:p/
o:p /o:p
…И она тебя послала o:p/
не куда-нибудь — сюда. o:p/
Вспомнишь вдруг, как мягко стлала, — o:p/
сразу же со сном беда. o:p/
И среди всего чужого — o:p/
слишком близкого уже — o:p/
ходишь-бродишь бестолково o:p/
на невнятном этаже. o:p/
Под тобой и над тобою o:p/
штабелями люди спят. o:p/
…И протоптанной тропою o:p/
средь сугробов и оград o:p/
добредешь до магазина o:p/
и возьмешь как молодец o:p/
продуктовую корзину: o:p/
водку, хлеб да огурец. o:p/
Ну и выпьешь, и закусишь, o:p/
и — не даром ночь прошла. o:p/
И еще покажешь кукиш o:p/
в зрак оконного стекла o:p/
туче серой, как зола, o:p/
формой — Раша, блин… бла-бла… o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
9 o:p/
o:p /o:p
И почему мы родине o:p/
до смерти за все должны? o:p/
Чем нам она, мы вроде не o:p/
меньше ей нужны. o:p/
Не обойдется милая o:p/
уж совсем-то без людей, o:p/
казня нас или милуя o:p/
в давке площадей. o:p/
Конечно, можно вахтовым o:p/
методом того-сего o:p/
ее — на радость яхтовым o:p/
хозяевам всего. o:p/
Ан, ширь ее пустующую o:p/
возьмут и не вернут назад o:p/
китайцы, маракующие, o:p/
где будет город-сад . o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
10 o:p/
o:p /o:p
В том городе был сад, o:p/
там вы бродили вдвоем — o:p/
полжизни уже назад, o:p/
ночью чаще, чем днем… o:p/
Как же родное вдруг o:p/
делается не своим?! o:p/
Ну-ка, сходитесь в круг o:p/
все, кто уже несводим! o:p/
Те, кого повстречать, — o:p/
счастью почти сродни. o:p/
Странному счастью — кричать: o:p/
«Прошлое! Миг верни!». o:p/
В этом миге года o:p/
можно еще прожить. o:p/
Прошлое — как звезда — o:p/
светится и дрожит. o:p/
Хоть и погасло давно, o:p/
манит, как в стужу окно. o:p/
(А нового райского сада, o:p/
спасибо, больше не надо!) o:p/
o:p /o:p
11 o:p/
o:p /o:p
Окна, бывает, изображают, o:p/
что за ними мед, а не «жисть», o:p/
елку за ними когда наряжают — o:p/
фольгою кажется жесть. o:p/
И улицы в непогодь освещают o:p/
окна — не фонари. o:p/
А два или три забыться мешают, o:p/
те — со свечою внутри. o:p/
o:p/
o:p /o:p
12 o:p/
o:p /o:p
Не догорела ваша свеча — o:p/
сами ее погасили. o:p/
Долго делили роль палача — o:p/
вот ее и разделили. o:p/
…Что перед сном способен палач o:p/
делать? Пролистывать святцы? o:p/
Библию?.. Лучше сосать первач o:p/
и забывать, забываться... o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
13 o:p/
o:p /o:p
Так забывать, чтоб очутиться o:p/
на съемной хате и — спиваться? o:p/
Так отметаться, отчудиться o:p/
и навсегда отцеловаться? o:p/
Ну нет! — взыграет ретивое — o:p/
пока ты жив, еще ты волен o:p/
все изменить и над травою o:p/
своей подняться головою. o:p/
И тише ты уже не будешь o:p/
воды, гудящей в трубах снова. o:p/
А успокоишься в гробу лишь? o:p/
Но нарвались не на такого! — o:p/
кто перед тем не скажет Слово… o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
14 o:p/
o:p /o:p
А скажешь — что? Мол, одиночество o:p/
мешает утру наступить, o:p/
что жить, что пить уже не хочется o:p/
и что не хочется не пить. o:p/
Что я, я, я — вот слово дикое, o:p/
и смерть действительно придет. o:p/
Что — червь, что — Бог… Что, горе мыкая, o:p/
стал населением народ. o:p/
И что-то про зарю вечернюю, o:p/
любовь последнюю, про то, o:p/
что жизнь пройдет, как увлечение, o:p/
и сам пройдешь, как конь в пальто. o:p/
Что мир насилья мы разрушим и o:p/
кто был ничем, тот станет всем. o:p/
(С неоцифрованными душами o:p/
у Бога множество проблем. o:p/
И снова жгут траву забвения , o:p/
а от нее ужасный дым…) o:p/
Ну и — про чудное мгновение: o:p/
мол, дай вам Бог — того же. Но — с другим. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
15 o:p/
o:p /o:p
Ни к женщине, ни к Всевышнему o:p/
не обращайся, брат. o:p/
Фемина услышит лишнее, o:p/
а наш Господь глуховат. o:p/
Но если все туже дышится — o:p/
вон из подлодки! Вмиг o:p/
выпади, словно ижица o:p/
из словарей и книг. o:p/
Как будто тебя и не было — o:p/
это ли не восторг?! o:p/
Где ты? Земля ли, небо ли? — o:p/
Здесь не уместен торг. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
P. S. o:p/
o:p /o:p
Ну а когда… Тогда скорей o:p/
отсюда!.. А в сквозняк дверей o:p/
глядят из древности своей o:p/
плезиозавры фонарей… o:p/
Ожидание отца
Тяжев Михаил Павлович родился в 1974 году в г. Горьком. Прозаик. Студент Литературного института им. А. М. Горького. В «Новом мире» публикуется впервые. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
1 o:p/
o:p /o:p
Наша жизнь состоит из разных ожиданий. Ждешь жену, сына, врача, убийцу. Ждешь отца. Отца я ждал всегда, если не всю жизнь. Отец мой умер давно, а я его до сих пор жду. Вся моя жизнь подчинена тому, чтобы доказать отцу, что я его достоин. Доказать ему, что я — существую. Мне всегда хотелось, чтобы он посмотрел в мою сторону. Отец был для меня загадкой. Я живу с ощущением, что мой отец вот-вот войдет ко мне в дом. o:p/
Что я ему скажу? o:p/
В тот день я остался дома один. В дверь позвонили, я подумал, что это отец пришел. Открыл, а там стоял участковый. o:p/
— Чего надо? Случилось чего? o:p/
— Нам нужны понятые, не поможете? Сосед ваш повесился. o:p/
— Вадик, что ли? o:p/
— Вадик, да. Не поможете? o:p/
— Да, я сейчас буду, оденусь только. o:p/
Я знал Вадика. Знал, что в последнее время дела у него не заладились и он страшно пил. Вчера к нему должен был прийти отец. Я не стал говорить Вадику, что тоже жду отца. Но к нему отец должен был прийти по-настоящему. Они должны были помириться. А сегодня утром Вадик заглянул ко мне за солью. Сказал, что жарит яичницу, а за солью в магазин не хочется бежать. Затем он сказал, что сегодня на лестнице снова была полная банка окурков. o:p/
— Что из этого? — заметил я ему. o:p/
— Как что? Наверное, посторонние приходят и курят. o:p/
— Не знаю, я не слышал, чтобы кто-то стоял у меня за дверью. Если бы слышал, то сказал бы им, чтобы не курили. o:p/
— Это плохо, что они здесь курят. Потом убирай за ними. Наверное, те, кто приходит курить, не с улицы. С улицы бы они не зашли — домофон же. Значит, сверху спускаются. o:p/
Вадик еще постоял немного. Внешне он выглядел веселым, глаза же были отрешенными. o:p/
— Приходил отец к тебе? Ты же его так ждал? — спросил я его. o:p/
— Не было пока. Не приходил. Обиделся он серьезно. Все из-за дома в деревне. Я продал его, а деньги ему не все отдал. Нет, наверное, все-таки кто-то с улицы заходит курить в подъезд. Если отец придет, куда окурки бросать будем? o:p/
На лестничной площадке сновали какие-то незнакомые люди, какие бывают тогда, когда умирает человек. Человек живет, его мало кто окружает, а вот когда умирает — всем до него есть дело. В комнате Вадика было очень грязно. Так грязно, что я даже удивился, потому что не знал, что так грязно могут жить люди. Участковый сидел на повернутом к себе спинкой стуле. Он был страшно расстроен. o:p/
Я постучал ему по плечу. Он как будто отошел от какого-то тягостного ему оцепенения, посмотрел на меня, словно только что проснулся. o:p/
— Я сосед, — сказал я. — Вы ко мне заходили, просили понятым быть. o:p/
— Уже все, ничего не нужно. Знали его? o:p/
— Да, часто курили на лестнице, а сегодня он заходил за солью. o:p/
— За солью, зачем ему соль? o:p/
— Яичницу хотел пожарить. Еще он отца ждал. o:p/
— Отца? o:p/
— Они поругались, и он ждал, что отец придет. o:p/
Я еще постоял около участкового. В комнату заглядывали соседи сверху, здоровались со мной и всем своим видом показывали, что они здорово переживают за Вадика, хотя его и не знали особо. o:p/
Август подходил к концу. Становилось прохладно. В это время часто захватываешь с собой какую-нибудь кофту. Я чувствовал, что понимаю Вадика. Понимаю в том, что ему нужна была поддержка отца. Мне тоже всегда нужна была поддержка отца. o:p/
Отец мой работал таксистом и часто играл в карты. Выигрывал, проигрывал и никогда не расстраивался, что проиграл. Помню, я был на заднем сиденье и к нам села женщина на переднее сиденье. Я не видел ее лица, только что-то резкое, ароматическое вдруг наполнило салон. Вытеснило запах бензина и табака. Так бывало дома, перед праздником, — мать наполняла комнату радостью и духами. Коленка женщины обнажилась, и отец обернулся на нее, осклабился. Она сказала, что едет из Москвы. Отец ответил ей: «Хорошо, что такие красивые женщины возвращаются из Москвы». Женщина спросила, можно ли закурить. o:p/
— Валяй, — ответил отец. o:p/
— А как же мальчишка? o:p/
— Ничего, он привыкший. o:p/
Они разговаривали о погоде, о дороге. o:p/
— А чего муж-то не встречает? — спросил ее отец. o:p/
— У меня нет мужа. o:p/
Отец заелозил на сиденье. Посмотрел на ее коленку. o:p/
— Может, тогда, это, встретимся, посидим. Я место хорошее знаю. o:p/
Женщина покосилась на меня. o:p/
— Нормально. Он привыкший, — сказал отец, — мужика из него делаю. Матери у нас нет. o:p/
Отец наврал. Я хотел сказать, что у нас есть мама. Что она дома, и завтра, в воскресение утром она будет обязательно печь блины. o:p/
Он довез ее до дома, понес ее сумки. Темнело. Я сидел в машине долго и уснул. Отец вернулся довольный, от него пахло духами женщины. o:p/
— Чего так долго, пап? o:p/
— Сумки были тяжелые, — сказал он, — дома молчи. Ты ничего не видел.
Я любил мать. Сильно, так, что мне хотелось уткнуться в ее веснушчатую руку и сидеть молча и вдыхать запах кожи. Они познакомились еще до армии, и она ждала его. А потом, когда его посадили за угон, она тоже его ждала. o:p/
o:p /o:p
2 o:p/
o:p /o:p
Месяц назад я избил одного мужчину на нашем озере. Я прозвал его жук-плавун, потому что он ходил в смешных плавках. o:p/
Я сидел и ждал свою знакомую. Она должна была привести подругу, чтобы познакомить ее с моим другом. Такое небольшое, безобидное сводничество. Мой друг Диня ждал меня уже на озере. Когда я пришел, то сразу же окунулся в воду, потом крутил подъем-переворот на турнике. Внизу стоял и смотрел на меня какой-то тип в узких плавках. Я и прозвал его жук-плавун. o:p/
Сижу на турнике, наверху. o:p/
— Вы долго? — спрашивает он меня. o:p/
— Долго. o:p/
— Я бы тоже хотел. o:p/
А мне этот урод не нравится, и плавки его, и то, что он демонстрирует свое добро. o:p/
— Обойдешься, — говорю я ему. И вижу себя как будто со стороны: я — важный такой, сижу на турнике, и кто-то во мне управляет мною. Мне-то наплевать на этого жука-плавуна. Ну, натянул он плавки и натянул, что из этого? Разве мало таких дураков ходит по пляжу, которые демонстрируют. Только отец внутри меня говорит: «Неужели уступишь этому придурку, извращенцу? Если уступишь ему, будешь слабак». o:p/
— Вы издеваетесь, — говорит жук-плавун и трогает меня за ногу. o:p/
Я спрыгиваю и бью его в нос. Он падает. Кровь у него идет, но никто не видел, что я ударил его. Все так же заняты своим купанием, загорают. В мяч играют. Диня подошел, и то он видел только последствие моего удара, и я ему сказал, что нечаянно, когда спрыгивал, ногой ударил этого мужика. Тут и знакомая моя, Таня, на пляж пришла, стала раздеваться. Я к ней. Мы зашли в воду, а Диня остался с подругой Тани. o:p/
Таня плавала хорошо. Ее полные руки в воде казались еще полнее. Я крутился около нее, подплывал, обхватывал ее тело. Она просила, чтобы я отстал, иначе мы пойдем ко дну. Тогда я занырнул. Я разводил руками и опускался все ниже и ниже. Перевернулся на спину. Ноги Тани надо мной стали крохотными. Я вдруг вспомнил то состояние, которое у меня было, когда я тонул и отец спас меня. Это воспоминание пришло ко мне сейчас, быстро, под водой, как будто нужно было этому воспоминанию всплыть в моей голове. Я никогда раньше и не догадывался, что это воспоминание живет во мне. Так бывает — сон, который ты не помнишь, но при определенной ситуации он вдруг всплывает в тебе, как нечто явное, бывшее с тобой. Сон и воспоминание умеют ждать в тебе. o:p/
Я захотел побыть под водой дольше, я достиг самого дна. Но что-то выталкивало меня обратно наверх. Наконец в голове застучало, стало невыносимо больно, она как будто разрывалась, я посмотрел наверх и подумал, что никогда не смогу всплыть. И затем подумал, что было бы хорошо, если бы отец протянул сюда свою руку и вытащил меня. o:p/
Я сделал последнее усилие, вырвался из-под воды и задышал сильно, так, как никогда не дышал. o:p/
На берегу меня ждали полицейские, жук-плавун показал на меня. Они попросили мои документы, у меня их не было. Я сказал, что нечаянно заехал этому мужчине по лицу: «Он стоял внизу, и когда я спрыгивал, то ударил его — не нарочно». Моя ложь показалась полицейским убедительной. Диня подтвердил, что видел, как мужчина стоял под турником и я спрыгивал и задел его нечаянно. Старшина явно замялся, он не знал, как быть. А жук-плавун закричал тогда: o:p/
— Как можно так заехать не нарочно, чтобы разбить нос? По-вашему выходит, что я сам подставился? o:p/
На эти его слова старшина резонно сказал, что ногой-то и можно заехать. Нога, мол, сильнее руки. o:p/
— Я просил его уйти. А он так торопился запрыгнуть на турник, что я нечаянно задел его. Бывает такое, — сказал я самым невинным образом. o:p/
Старшина согласился со мной: o:p/
— Конечно, ногой так можно сильно ударить. o:p/
Жук-плавун после его слов совсем потерялся, не знал, что и ответить. Полицейский, видно подумав о чем-то, сказал: o:p/
— Я должен запротоколировать нанесение побоев. Он же на вас пожаловался. o:p/
Таня не верила тому, что я говорю. Она знала, на что я способен. Догадывалась, что я специально ударил мужчину в нос и теперь прикидываюсь скромником. o:p/
Когда полицейские ушли, она первым делом спросила, правда ли, что я ударил этого мужчину. o:p/
— Правда, — ответил я, — ты посмотри на него. Его не ударить было просто невозможно. o:p/
o:p /o:p
3 o:p/
o:p /o:p
Мне часто кажется, что во мне множество комнат, в каждой из которых сидит отец или стоит его статуя или же висит его изображение. Я открываю комнату, вхожу и разбиваю статую молотком. Затем открываю новую комнату, режу ножом изображение отца и в следующей комнате снова убиваю его, и так бесконечно. Я блуждаю по комнатам, ищу освобождение свое от отца, но всюду его лица, даже в зеркале я вижу его лицо. Я хочу сам, самостоятельно двинуться вперед. Я хочу избавиться от моей любви к нему и ненависти. Я хочу быть настолько свободным, чтобы не испытывать страха по поводу того, что я потеряю его. o:p/
Я никогда не боялся мертвых тел, и меня никогда не пугали покойники. Поэтому если бы сейчас отец поднялся из могилы и заговорил со мной, я бы знал, что ему ответить. o:p/
Я работаю обвальщиком мяса. Моя работа — вот что организует меня. Когда держишь в руках нож и ведешь им по кости, ты не думаешь, что есть отец, и не думаешь, что он наблюдает за тобой. Я мог бы стать тренером, у меня были все задатки для этого, в молодости я увлекался футболом, затем учился на первом курсе пединститута, факультет физического воспитания. Но отец, он тогда очень сильно болел, требовал к себе внимания, за ним нужно было ухаживать. Мать умерла к этому времени. Ее нашли в гараже задохнувшейся в машине. Сама ли она убила себя или же это был несчастный случай, я могу только догадываться. Помню, на день рождения отца, за несколько месяцев до его смерти, я купил ему рубашку в клетку. Когда я выбирал эту рубашку, то подумал — похороню его в ней. Я не испугался этой мысли, она возникла во мне как-то просто и естественно. Я как будто бы знал ее давно. o:p/
У отца была водянка и цирроз печени. Врачи не брали его — им не хотелось, чтобы он умирал в больнице. Тогда я решил: буду за ним ухаживать, завоюю его любовь. o:p/
Я взял академический отпуск. Мне требовались деньги, и знакомые пристроили меня на рынок рубщиком мяса. Отец часто ругал меня, когда я подносил ему утку, называл неблагодарным, смеялся надо мной, говорил, что никогда не хотел иметь такого сына, что лучше бы у него вообще не было сына, чем такой растяпа, который вечно причиняет ему боль. Я смотрел на него, на его серо-желтое лицо, на зеленые тени под глазами — мне так хотелось его убить. И в то же время я хотел плакать от несправедливости. И тогда я стал понимать, что отца не изменить, он умрет таким. Мне стало безразлично, что он болеет, но я так же убирал за ним его говно. Я делал это скорее по привычке. И вот когда в один из дней он вылил на стены всё содержимое утки и страшно раскричался, я сказал ему, что хочу, чтобы он поскорее подох. Почему-то мне показалось, что с его смертью умрет и он сам во мне. o:p/
o:p /o:p
4 o:p/
o:p /o:p
Теперь мне часто снится отец, он всегда сидит ко мне как-то боком и смеется. И я хочу развернуть его к себе и сказать, что люблю его. Люблю с каждым разом все сильнее и сильнее. Сказать, что я не вправе судить его за то, каким он был, сказать, что я так же, как и он, доставляю горечь и разочарование своим близким. Сказать, что если бы он по какому-то закону реинкарнации вдруг стал свиньей или коровой, я бы его разделал не задумываясь. o:p/
Сцены из «Комедии ошибок»
o:p /o:p
В Санкт-Петербурге готовится новое, пятнадцатитомное Собрание сочинений Шекспира под редакцией Сергея Радлова. Это проект Университетского издательского консорциума; в Собрание войдут даже так называемые dubia — пьесы, которые великому Барду принадлежат лишь предположительно. Будут там и новые текстологические комментарии, и построчные примечания, и богатый иллюстративный материал, прослеживающий, как менялся Шекспировский театр на протяжении веков. o:p/
Собственно, по заказу петербургского издателя я и взялась за перевод «Комедии ошибок» — и неожиданно влюбилась в эту раннюю, чуть особняком стоящую шекспировскую пьесу. Быстрая, бурливая, как ручей в половодье, она ветвится дельтой и, «впадая» в зрелого Шекспира, несет с собой предголоски «Двенадцатой ночи», «Укрощения строптивой» и, может быть, даже «Отелло» (только лейтмотив женской ревности звучит здесь, пожалуй, громче мужской). Пленило меня и версификационное разнообразие. Чуть ли не треть пьесы написана в рифму, причем встречаются и трехстишия, и правильные катрены с перекрестной рифмовкой, и даже (в 1-й сцене четвертого акта) — шестистрочная строфа. И еще мне показалось — прежде, чем признать полную и окончательную победу белого пятистопника, автор как будто примеривался к разным ямбам. Есть тут и четырех-, и шести-, и семистопные строки, иногда они чередуются друг с другом и с пятистопными, как в первой сцене третьего акта, усиливая впечатление веселой путаницы, азартной беготни… o:p/
Рамки журнальной публикации не позволяют, к сожалению, представить пьесу полнее. Надеюсь, что приведенные сцены и пояснительные «связки» между ними все же помогут вам почувствовать молодое обаяние этой истинно шекспировской вещи. o:p/
o:p /o:p
АКТ I o:p/
o:p /o:p
Сцена первая o:p/
Входят эфесский герцог С о л и н, сиракузский купец Э г е о н, с т р а ж а и т ю р е м щ и к. o:p/
Э г е о н o:p/
Что ж, герцог, пресеки своим приказом o:p/
И жизнь мою, и все невзгоды разом. o:p/
Г е р ц о г o:p/
Не жди пощады, гость из Сиракуз, o:p/
Я от закона отступать не стану. o:p/
Вражда и распри, что порождены o:p/
Жестокостью, с какою ваш правитель o:p/
Казнить эфесских повелел купцов, o:p/
Кому на выкуп злата не достало, — o:p/
Вражда сия и кровь тому виной, o:p/
Что взгляд мой тверд и суд мой беспощаден. o:p/
С того злодейства начался раздор o:p/
Меж городами, и у нас в Эфесе, o:p/
И в Сиракузах издан был указ: o:p/
Торговые и прочие сношенья o:p/
Для горожан строжайше запретить — o:p/
Так на обоих решено советах. o:p/
Узнай же: если житель Сиракуз o:p/
В Эфесской гавани или на рынке o:p/
Замечен будет, или наш купец o:p/
Отправится с товаром в Сиракузы, o:p/
Такому — смерть, а весь товар — в казну; o:p/
Лишь откупившись тысячею марок, o:p/
Спастись он может. За твое добро o:p/
Не выручить и сотни в день базарный, o:p/
И по закону будешь ты казнен. o:p/
Э г е о н o:p/
Пусть так! Одно мне служит утешеньем: o:p/
Что настает конец моим мученьям. o:p/
Г е р ц о г o:p/
Ответь нам, сиракузец, в двух словах: o:p/
Зачем ты свой родной покинул город o:p/
И для чего приплыл сюда, в Эфес? o:p/
Э г е о н o:p/
Едва ль возможно описать словами o:p/
Все злоключенья, выпавшие мне. o:p/
Лишь силясь убедить, что не преступник o:p/
Пред вами здесь, но жертва злых стихий, o:p/
Я к повести печальной приступаю. o:p/
Рожден я в Сиракузах; там я рос, o:p/
Венчался с девушкой, достойной счастья, o:p/
И стал ее несчастьем. Но сперва o:p/
Судьба нам улыбалась: я на судне o:p/
Возил свои товары в Эпидамн o:p/
И торговал с прибытком. Но внезапно o:p/
Скончался компаньон мой; весь товар o:p/
Остался без присмотра; я поехал o:p/
Улаживать дела. Спустя полгода o:p/
За мною вслед отправилась жена. o:p/
Под сладким бременем изнемогая, o:p/
Она до Эпидамна добралась, o:p/
Где вновь я заключил ее в объятья. o:p/
И очень скоро сделалась она o:p/
Счастливейшей из матерей: два сына o:p/
На свет явились, до того похожи, o:p/
Что лишь по именам и различишь. o:p/
В тот самый час в гостинице той самой o:p/
Двух близнецов служанка родила — o:p/
Мальчишек, меж собой на диво схожих. o:p/
Я их купил и спас от нищеты, o:p/
Чтоб сыновьям моим служили с детства. o:p/
Супруге так хотелось поскорей o:p/
Перед родней похвастать близнецами — o:p/
Она меня с отплытьем торопила, o:p/
И нехотя я сдался. o:p/
Но увы!.. o:p/
Уже на лигу удалились мы o:p/
От Эпидамна и беды не ждали, o:p/
Как вдруг ветрам послушная пучина o:p/
Разволновалась, в небе свет померк — o:p/
И тем ясней узрели мы во мраке o:p/
Всю неизбежность гибели. Я сам o:p/
Смирился бы со страшным приговором, o:p/
Но так рыдала бедная жена, o:p/
Как будто бы до срока нашу участь o:p/
Оплакивая, — да и малыши, o:p/
Ей подражая, так пищали хором, o:p/
Что поневоле стал искать я средство o:p/
Спасти нам жизнь или отсрочить смерть. o:p/
Без нас на шлюпке уплыла команда, o:p/
Покинув спешно тонущий корабль, o:p/
А нам осталась мачта запасная. o:p/
Жена к ней крепко привязала сына, o:p/
Рожденного вторым, а вместе с ним — o:p/
И младшего из мальчиков приемных; o:p/
Я так же поступил с другою парой. o:p/
Затем жена и я, мы с двух концов — o:p/
Детишек по двое оберегая — o:p/
Все к той же мачте привязались оба o:p/
И отдались теченью. Нас влекло, o:p/
Как нам казалось, в сторону Коринфа. o:p/
Когда же солнца животворный взгляд o:p/
Рассеял тучи грозные и волны o:p/
Лучами долгожданными пригладил, o:p/
На горизонте увидали мы o:p/
Два корабля, к нам шедших: из Коринфа o:p/
Один, из Эпидавра плыл другой. o:p/
И тут… Но нет, довольно! Продолженье o:p/
Пускай подскажет вам воображенье. o:p/
Г е р ц о г o:p/
Э, нет, старик! Рассказывай еще! o:p/
Тебя мне жаль, хоть я прощать не вправе. o:p/
Э г е о н o:p/
О, если б так же сжалились тогда o:p/
Над нами боги! Их не зря кляну я: o:p/
Ведь оба судна лигах в десяти o:p/
От нас уж были — вдруг перед глазами o:p/
Огромная скала — потом удар — o:p/
И мачта пополам! В тот миг судьба o:p/
Нас разделила ровно посередке, o:p/
Чтоб каждый утешенье получил o:p/
И каждый оставался безутешен… o:p/
Обломок мачты с плачущей женой o:p/
Снесло вперед: он легче был немного, o:p/
Хоть ей пришлось, бедняжке, нелегко. o:p/
Я видел издали, как их троих o:p/
Втащили на борт рыбаки с Коринфа. o:p/
Довольно скоро подобрал и нас o:p/
Другой корабль. Знакомые матросы o:p/
Нас приняли как дорогих гостей. o:p/
Но на тяжелом барке тихоходном o:p/
Нагнать давно уплывших рыбаков o:p/
Мы не смогли — и к дому повернули. o:p/
С тех пор я не был счастлив, только жив, o:p/
И дожил наконец до худшей муки — o:p/
Несчастья пересказывать свои. o:p/
Г е р ц о г o:p/
Послушай, ради тех, о ком ты плачешь, o:p/
Не прерывай рассказ: мы знать хотим, o:p/
Что было дальше — и с тобой, и с ними. o:p/
Э г е о н o:p/
Мой юный сын, из всех моих забот o:p/
Старейшая, — искать надумал брата. o:p/
Когда ему сравнялось восемнадцать, o:p/
Он в путь собрался вместе со слугой: o:p/
Ведь и тому от сгинувшего братца o:p/
Осталось только имя. Я рискнул o:p/
Их отпустить. Утраченного сына o:p/
Обнять мечтая, я утратил все… o:p/
Пять лет провел я в поисках. Обшарил o:p/
Все закоулки в Греции, объехал o:p/
Всю Азию — сюда же заглянул o:p/
Лишь по дороге к дому, напоследок, o:p/
Чтоб убедиться: здесь их тоже нет. o:p/
Как видно, город ваш и впрямь последний o:p/
В моей судьбе. Я умер бы счастливым, o:p/
Когда бы знал, что живы сыновья. o:p/
Г е р ц о г o:p/
Несчастный Эгеон! Для тяжких бедствий o:p/
Тебя мишенью выбрала судьба! o:p/
Клянусь тебе, когда бы не закон, o:p/
Когда бы не присяга и корона, o:p/
И все, чем мы не вправе пренебречь, — o:p/
Я за тебя душой бы поручился. o:p/
Тебе, однако, смертный приговор o:p/
Уж вынесен; отмена приговора — o:p/
Бесчестье для правителя, и все ж o:p/
Ты от меня получишь послабленье. o:p/
Даю тебе отсрочку, ровно день: o:p/
Весь день сегодня можешь ты в Эфесе o:p/
Искать друзей, родных — кто даст взаймы o:p/
Иль за тебя внести согласен выкуп. o:p/
Проси, моли — иначе ты умрешь. o:p/
Тюремщик, слышал? От него ни шагу! o:p/
Т ю р е м щ и к o:p/
Да, ваша светлость. o:p/
Э г е о н o:p/
Надежда эта не прочнее дыма. o:p/
Зачем тянуть, коль смерть неотвратима? o:p/
Уходят. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Сцена вторая o:p/
Входят А н т и ф о л С и р а к у з с к и й, Д р о м и о С и р а к у з с к и й и п е р в ы й к у п е ц. o:p/
П е р в ы й к у п е ц o:p/
Так не забудьте: вы — из Эпидамна, o:p/
Иль живо конфискуют ваш товар. o:p/
Вон давеча купца из Сиракуз o:p/
Поймали — не успел сойти на пристань. o:p/
Бедняга, откупиться он не смог, o:p/
И стало быть, по нашему закону o:p/
Еще до темноты его казнят. o:p/
Вот золото, что вы сберечь просили. o:p/
(Передает ему кошель с деньгами.) o:p/
А н т и ф о л С и р а к у з с к и й o:p/
(отдает кошель Дромио) o:p/
Снеси монеты, Дромио, в «Кентавр», o:p/
Где мы остановились. До обеда o:p/
Осталось меньше часу; жди меня. o:p/
По городу хочу я прогуляться — o:p/
Пройтись по лавкам, поглазеть вокруг, o:p/
Потом вернусь в гостиницу обедать o:p/
И лягу спать: с дороги я устал. o:p/
Ступай же прочь! o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Другой слуга поймал бы вас на слове: o:p/
Взял денежки да и подался прочь. o:p/
Уходит. o:p/
А н т и ф о л С и р а к у з с к и й o:p/
Пройдоха этот предан мне душой. o:p/
Всегда готов он разделить заботу o:p/
И шуткой меланхолию прогнать. o:p/
Хотите, сударь, вместе прогуляться, o:p/
А после отобедать у меня? o:p/
П е р в ы й к у п е ц o:p/
Я нынче со знакомыми купцами o:p/
Обедать зван и сделку обсудить, o:p/
Что мне сулит барыш. Прошу прощенья. o:p/
Я вам готов компанию составить o:p/
С пяти часов — и допоздна. Сейчас o:p/
Идти я должен. Встретимся на рынке. o:p/
А н т и ф о л С и р а к у з с к и й o:p/
Ну что ж, прощайте. Я бродить отправлюсь o:p/
По городу, куда глаза глядят. o:p/
П е р в ы й к у п е ц o:p/
Надеюсь, это вам доставит радость. o:p/
Уходит. o:p/
А н т и ф о л С и р а к у з с к и й o:p/
Доставит радость! Если бы он знал! o:p/
Я в этом мире — словно капля в море, o:p/
Что ищет и не может отыскать o:p/
Давным-давно потерянную каплю, o:p/
И всю себя истратив наконец o:p/
На поиски утраты, исчезает. o:p/
Так я разыскиваю мать и брата — o:p/
Забывши радость, потеряв себя. o:p/
Входит Д р о м и о Э ф е с с к и й. o:p/
o:p /o:p
А! Вот и тот, кто горести мои o:p/
С рожденья делит. — Ты за мной? Так рано? o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Какое рано! Еле вас нашел. o:p/
Каплун горит, кабанчик пережарен, o:p/
Часы бьют полдень, а меня хозяйка o:p/
Бьет по щекам. Обед у нас простыл — o:p/
И оттого хозяйка горячится. o:p/
Обед простыл затем, что нет вас дома; o:p/
Вас нет затем, что вы не голодны; o:p/
Зачем же вы не голодны к полудню? o:p/
Затем, что где-то ели. Вывод прост: o:p/
Вы согрешили — мы же держим пост! o:p/
А н т и ф о л С и р а к у з с к и й o:p/
Постой, не тараторь. Ты где оставил o:p/
Кошель с деньгами, что тебе я дал? o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Ну да, вы мне шесть пенсов дали в среду, o:p/
Хозяйкиной лошадке на подхвостник, o:p/
Так я их сразу шорнику отнес. o:p/
А н т и ф о л С и р а к у з с к и й o:p/
Послушай, я шутить не расположен. o:p/
Где деньги? Отвечай, да не дури! o:p/
Мы здесь чужие — как же ты решился o:p/
Такую сумму выпустить из рук? o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Шутили б, сударь, дома, за обедом! o:p/
За вами послан я как гончий пес, o:p/
Вернусь один — разделает как зайца o:p/
Меня хозяйка. И на что часы, o:p/
Когда и так голодная утроба o:p/
К полудню будто колокол гудит? o:p/
А н т и ф о л С и р а к у з с к и й o:p/
Довольно, Дромио! Побереги-ка o:p/
Дурачества свои до лучших дней. o:p/
Где золото, что поручил тебе я? o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Клянусь, я золота у вас не брал! o:p/
А н т и ф о л С и р а к у з с к и й o:p/
Бездельник, пустомеля, отвечай: o:p/
Как ты мое исполнил порученье?! o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Мне порученье было — вас найти o:p/
На рынке и свести домой, где ждут вас o:p/
Обед, хозяйка и ее сестра. o:p/
А н т и ф о л С и р а к у з с к и й o:p/
Клянусь душой, ты скажешь мне, мошенник, o:p/
Где спрятал деньги — или я сейчас o:p/
Твою башку дурацкую взломаю, o:p/
Чтоб не паясничал, когда не просят. o:p/
Что с тысячею марок? Где они?! o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Немало на лице моем помарок o:p/
От вас, да на спине — от госпожи, o:p/
Но тысячи не будет. И терпенья o:p/
Не стало б вашей милости, боюсь, o:p/
Когда бы я вернуть их попытался. o:p/
А н т и ф о л С и р а к у з с к и й o:p/
От госпожи? Какая госпожа?.. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
[ С этого «разговора глухих» между пришлым Антифолом и местным Дромио начинается всеобщая путаница. Антифол Сиракузский все-таки попадает на обед к Адриане, жене местного Антифола, при этом уверяет, что он ей не муж, и объясняется в любви ее сестре Люциане. В разгар обеда появляется Антифол Эфесский с друзьями и пытается войти в собственный дом.] o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
АКТ III o:p/
o:p /o:p
Сцена первая o:p/
Входят А н т и ф о л Э ф е с с к и й, Д р о м и о Э ф е с с к и й, ю в е л и р А н д ж е л о и к у п е ц Б а л ь т а з а р. o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
Синьор мой Анджело, чтоб на меня o:p/
Жена не злилась бы за опозданье, o:p/
Скажите, что у вас я в мастерской o:p/
Работу наблюдал над ожерельем, o:p/
Которое ей завтра принесут. — o:p/
Но что мне делать с этим недоумком? o:p/
Он все твердит, что я его избил, o:p/
Что денег требовал и отрекался o:p/
Я от жены и дома своего. o:p/
(К Дромио.) o:p/
Что это значит? Отвечай, пьянчуга! o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Бранитесь как хотите, сэр, улики налицо: o:p/
Меня теперь любой болван прочтет, как письмецо. o:p/
Будь я пергамент — вы б давно свою узнали руку. o:p/
Скажите, чем я заслужил подобную науку? o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
Скажу одно: что ты осел. o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Похоже, так и есть: o:p/
Все бьют, гоняют и хотят ко мне на спину влезть. o:p/
Пожалуй, коли я осел, начну в ответ лягаться: o:p/
Кто с колотушками пришел — прошу остерегаться! o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
Синьор мой Бальтазар, у вас усталый вид. o:p/
Надеюсь, мой обед вас несколько взбодрит. o:p/
Б а л ь т а з а р o:p/
Вы столь радушны, сэр, что без еды я сыт. o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
Радушие, мой друг, — впрямь лакомое блюдо, o:p/
Но вдоволь добрых яств к нему подать не худо. o:p/
Б а л ь т а з а р o:p/
Не яства дороги — легко их приобресть. o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
И ласковый прием — порой пустая лесть. o:p/
Б а л ь т а з а р o:p/
Когда прием хорош, и скромный пир во благо. o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
Коль гость не голоден или хозяин скряга. o:p/
Но будь мои харчи дурны иль хороши, o:p/
Вам, добрый Бальтазар, здесь рады от души. o:p/
Они подходят к дому. o:p/
o:p /o:p
А дверь-то на замке. o:p/
(К Дромио) o:p/
Покличь там, чтоб открыли. o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Мод, Бриджет, Марианна, Дженни, Джилли! o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й (по другую сторону двери) o:p/
Шут, олух, мерин, дурачина, пень! o:p/
Ступай к другим, коль глотку драть не лень. o:p/
Ишь, баб накликал, тут одной-то много… o:p/
Рот на замок — и скатертью дорога! o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Что там за страж? Хозяин наш под дверью ждет, дурак! o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
И впрямь дурак, ведь там сквозняк — простынет он, бедняк. o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
А ну, открой мне дверь, бездельник ты болтливый! o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Скажите, кто вас пригласил и для чего пришли вы. o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
Обедать мне пора, и я пришел поесть. o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Едва ль сегодня, старина, вы поедите здесь. o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
Кто в доме у меня закрылся от меня же? o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Мне имя — Дромио, и я поставлен здесь на страже. o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Он место у меня украл! Он имя взял мое! o:p/
За них я честно получал попреки да битье. o:p/
Нет, ты не Дромио, дружок, ты из другого теста, o:p/
Иначе звался бы ослом — или сменил бы место. o:p/
В доме (наверху) появляется Л ю с и; Антифол Эфесский и его спутники ее не видят. o:p/
Л ю с и o:p/
Эй, Дромио, кто там шумит, когда у нас обед? o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Хозяин, Люси! Отворяй! o:p/
Л ю с и o:p/
Хозяин? Ну уж нет! o:p/
Он опоздал. o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Да ты в уме? Ведь тут, как говорится: o:p/
Не может муж войти к жене — войдет, где отворится. o:p/
Л ю с и o:p/
А я иначе вам скажу: на «нет» управы нет. o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Да ты не промах, Люси! Раз — и готов ответ. o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й (к Люси) o:p/
Паршивка дерзкая! Ты отворишь нам двери? o:p/
Л ю с и o:p/
Ведь вам сказали «нет»… o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Глухие вы тетери! o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Сейчас они у нас… o:p/
Он и Антифол Эфесский барабанят в дверь. o:p/
o:p/
Начнут нести потери. o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й (к Люси) o:p/
Открой немедля, дрянь! o:p/
Л ю с и o:p/
Кто отдал сей приказ? o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Сильней стучите, господин! o:p/
Л ю с и o:p/
Стучи хоть битый час. o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
Сейчас я выбью дверь — и брань вобью вам в глотки! o:p/
Л ю с и o:p/
Вот для таких-то молодцов придуманы колодки. o:p/
В доме (наверху) появляется А д р и а н а; тем, кто снаружи, она, как и Люси, не видна. o:p/
А д р и а н а o:p/
Что там за шум и гам? Стеречь велела дверь я! o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Похоже, в городе у вас буянят подмастерья. o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
Ау, жена! Явилась наконец? o:p/
А д р и а н а o:p/
Я не жена тебе. Ступай, наглец! o:p/
(Скрывается в доме вместе с Люси.) o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Вот вам размолвка любящих сердец. o:p/
А н д ж е л о o:p/
Радушия здесь нет и угощенья тоже. o:p/
Б а л ь т а з а р o:p/
И зря гадали мы, что ценится дороже. o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й (Антифолу) o:p/
Под дверью гости ждут — на что это похоже? o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
Здесь что-то в воздухе… но что, не разберу. o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Да это холод, сэр — тут зябко, на ветру. o:p/
Там, в доме, греется обед; вы мерзнете снаружи — o:p/
Как не свихнуться от таких забот жены о муже? o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
Дай что-нибудь, я выломаю дверь! o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Тебе я тоже что-нибудь сломаю, уж поверь. o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Ты лучше голову ломай, как выдержать осаду. o:p/
А коли нету головы, задай работу заду! o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Охота дурака ломать? Пошел отсюда к ляду! o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
Чем посылать, позвал бы в дом да отворил бы дверь. o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Родится ль птица без пера или без шерсти зверь? o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й (Дромио Эфесскому) o:p/
Пусть даст тебе сосед железный крюк иль «кошку». o:p/
Д р о м и о Э ф е с с к и й o:p/
И впрямь бесшерстный этот зверь проложит нам дорожку. o:p/
(Дромио Сиракузскому) o:p/
И в дом мы все-таки войдем, ведь нам давно пора o:p/
Взглянуть, что ты за птица — с пером иль без пера. o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
Ступай живей и принеси мне лом! o:p/
Б а л ь т а з а р o:p/
Не надо, сударь, не ломитесь в дом. o:p/
Не сокрушайте вашей доброй славы o:p/
В горячке, имя чистое жены o:p/
Случайным не пятнайте подозреньем. o:p/
Ее терпенье, опыт, здравый ум o:p/
И скромность вам известны. Без причины o:p/
Она от мужа б не закрыла дверь. o:p/
Уверен я, все выяснится скоро o:p/
И смысл ее поступка мы поймем. o:p/
Я вас прошу, уйдемте потихоньку o:p/
И в «Тигре» отобедаем втроем, o:p/
А к ночи вы вернетесь — и супруга o:p/
Вам все благополучно разъяснит. o:p/
Ведь стоит вам лишь в дом ворваться силой o:p/
Средь бела дня, когда зевак полно, — o:p/
Пойдут немедля слухи, вашей чести o:p/
Непоправимый нанося урон, o:p/
Наветы, сплетни — словом, грязь такая, o:p/
Что не стереть и с гробовой плиты, o:p/
И дальним поколеньям не отмыться. o:p/
От предков к правнукам, из уст в уста, o:p/
Как хворь, передается клевета. o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
Ну что ж, вы правы. Я уйду без шума o:p/
И, как ни горько мне, развеселюсь. o:p/
Есть у меня знакомая девица: o:p/
В речах остра, собою хороша o:p/
И с норовом, хотя и незлобива. o:p/
У ней мы пообедаем. Жена o:p/
Не раз меня корила — и напрасно! — o:p/
За эту дружбу. o:p/
(К Анджело) o:p/
Вы сперва домой o:p/
Сходите за цепочкой: уж наверно, o:p/
Она готова. Взявши, принесите o:p/
Ее вы к «Дикобразу», где живет o:p/
Та девушка. Подарок ей отдам я — o:p/
Хотя б назло жене! Ступайте, сэр, o:p/
И я пойду: от собственного дома — o:p/
В чужом искать радушного приема. o:p/
А н д ж е л о o:p/
Вы в «Дикобраз»? Я через час — туда ж. o:p/
А н т и ф о л Э ф е с с к и й o:p/
Недешево мне встанет эта блажь. o:p/
Уходят. o:p/
o:p /o:p
[ Путаница нарастает, драгоценная цепочка по ошибке вручена Антифолу Сиракузскому, тогда как заказавший и не получивший ее Антифол Эфесский арестован за отказ платить. Уводимый приставом в тюрьму, он посылает Дромио (разумеется, не того) к жене за спрятанным в комоде кошельком с дукатами, чтобы его отпустили под залог.] o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
АКТ IV o:p/
o:p /o:p
Сцена вторая o:p/
Входят А д р и а н а и Л ю ц и а н а. o:p/
o:p /o:p
А д р и а н а o:p/
Так он тебя пытался соблазнить o:p/
Не в шутку? О сестра, как это было? o:p/
Сбивался ль он в речах? Терял ли нить? o:p/
Краснел или бледнел? Глядел уныло o:p/
Иль весело? В глазах мерцал ли свет o:p/
Сердечных вспышек и шальных комет? o:p/
Л ю ц и а н а o:p/
Он все твердил, что не жена ему ты… o:p/
А д р и а н а o:p/
И впрямь, жена такой не стерпит смуты. o:p/
Л ю ц и а н а o:p/
Что он впервые видит этот дом. o:p/
А д р и а н а o:p/
И впрямь, себя он держит чужаком. o:p/
Л ю ц и а н а o:p/
Речь завожу я о тебе — o:p/
А д р и а н а o:p/
И что же? o:p/
Л ю ц и а н а o:p/
Мне руку предлагает он и ложе. o:p/
А д р и а н а o:p/
Как добивался он любви твоей? o:p/
Л ю ц и а н а o:p/
Не знай я правды — дрогнула б, ей-ей. o:p/
Он превознес красу мою сначала, o:p/
А следом — речь… o:p/
А д р и а н а o:p/
И что ты отвечала? o:p/
Л ю ц и а н а o:p/
Дай досказать. o:p/
А д р и а н а o:p/
Нет сил моих! Язык o:p/
Во рту горит, из сердца рвется крик. o:p/
Ах он скотина! Старикашка грязный, o:p/
Косой, кривой, увечный, безобразный, o:p/
Тупой и грубый, злобный и скупой, o:p/
Уродливый и телом и душой! o:p/
Л ю ц и а н а o:p/
К чему так горевать о скверном муже? o:p/
Ушел — и с плеч гора. Ему же хуже! o:p/
А д р и а н а o:p/
Он не таков. Моя к нему вражда — o:p/
Лишь напоказ и для других. Как птица, o:p/
Чужих я отвлекаю от гнезда, o:p/
Но сердцем я люблю его, сестрица. o:p/
o:p /o:p
Вбегает Д р о м и о С и р а к у з с к и й с ключом. o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Мой господин… Комод — кошель — залог!.. o:p/
Л ю ц и а н а o:p/
Ты что, бежал? o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Совсем я сбился с ног. o:p/
А д р и а н а o:p/
Что твой хозяин — весел? Не в обиде? o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Он в преисподней, в Тартаре, в Аиде! o:p/
Его туда сам дьявол уволок, o:p/
В воловьей коже с головы до ног, o:p/
С железом на груди — спаси нас боже! — o:p/
На волка быстроногого похожий. o:p/
О, этот чёрт, он сердцем тверд, к мольбам и стонам глух, o:p/
По закоулкам, тупикам вострит свой песий нюх, o:p/
Он сзади по плечу вас — хлоп, и никакой поблажки: o:p/
Да-да, до Страшного суда сидеть вам в каталажке! o:p/
А д р и а н а o:p/
Что с ним случилось, Дромио? В чем дело? o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Не знаю, дело в чем, а он в тюрьме. o:p/
А д р и а н а o:p/
Он арестован? Кто же подал иск? o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Не все ль едино, кто там поднял писк. o:p/
Мадам! Во искупленье грешной плоти o:p/
Нужны дукаты. Вы ведь их пришлете? o:p/
А д р и а н а o:p/
Вот ключ, сходи за ними, Люциана. o:p/
Люциана уходит. o:p/
o:p /o:p
Кому же задолжал он? Это странно — o:p/
Долгов наделать за моей спиной… o:p/
Он что, не уплатил по закладной? o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Нет, хуже! Мы, считай, уж на причале, o:p/
И тут — цепочка… Дили-дон! Слыхали? o:p/
А д р и а н а o:p/
Что, звон цепей? o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Нет, время бьют как раз: o:p/
Мы расставались — было два, и уж гляди-ка, час. o:p/
А д р и а н а o:p/
Что, время вспять бежит? Вот новые порядки! o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Завидит пристава оно — и прочь во все лопатки. o:p/
А д р и а н а o:p/
Ведь время — не должник. К чему же этот бег? o:p/
Д р о м и о С и р а к у з с к и й o:p/
Оно банкрот, и всех долгов не выплатит вовек. o:p/
К тому же время — ловкий вор, оно всегда при деле: o:p/
Крадется и у нас крадет минуты, дни, недели… o:p/
А коли вы банкрот и вор, и пристав на пути, o:p/
На часик отбежать назад — не грех, как ни крути. o:p/
Входит Л ю ц и а н а с мешочком. o:p/
А д р и а н а o:p/
Вот деньги, Дромио: внеси залог o:p/
И господина приведи обратно. o:p/
Дромио Сиракузский берет мешочек и уходит. o:p/
o:p /o:p
Идем, сестра. Надежд или тревог o:p/
Душа полна — самой мне непонятно. o:p/
Уходят. o:p/
o:p /o:p
[ Надежды сбудутся, а тревоги разрешатся в конце пятого акта; но героям еще многое предстоит пережить. Мнимую измену мужа, мнимое предательство жены (объявившей мужа безумным), ревность, предсмертное отчаяние… Наконец, обе пары близнецов сойдутся в одном месте, а Эгеон и его сыновья обретут даже больше того, что искали. ] o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Бородицкая Марина Яковлевна родилась в Москве. Окончила МГПИИЯ им. Мориса Тореза. Известна как переводчик английской и французской классической поэзии, в том числе Джона Донна, поэтов-кавалеров XVII века, Роберта Бёрнса, Гилберта Честертона, Редьярда Киплинга, Поля Верлена и других. Автор первого опубликованного перевода книги Джеффри Чосера «Троил и Крессида». o:p/
Марина Бородицкая — автор более пятнадцати детских книг и шести сборников «взрослой» лирики. Лауреат литературной премии имени Корнея Чуковского (2007) и переводческой премии «Мастер» (2010). Живет в Москве. o:p/
Дума
В лесах далеких молодых
ложатся спать большие ночи,
у них наплечники из кружев,
и ноги в белых лепестках.
Они нас любят — кто их знает? —
они поспят дубровным сном,
потом придут. Мы им расскажем
свои позорные дела.
Лежат в гробу наши дела,
свечами тлеют наши пальцы.
Гляди! Гляди! Когда же я
в моих трудах орлом пребуду?
Так знаки разные висят,
картины замыслов дорожных,
их промывает ветерок,
и вечерок ему помощник.
Приди, мой ночь!
Ведь ты была,
и Пушкину висела сверху,
и Хлебникову в два ряда
салютовала из вагона.
Как я глубок — больной, печальный,
голубок гладить я хочу,
приди и лобызай тихонько
мою младенческую грудь.
Приди, мой ночь!
На этом мире
я чудным вымыслом брожу,
гляжу в стекольчатые двери,
музыкой радуюсь, дыша,
сжимаю белые колени
в пылу полуночного бденья,
приди мой ночь!
Мне стало больно,
что я едва-едва велик.
Ох, сердце, самое хорошее
из самых нежных уголков,
тебя не слава успокоит,
тебя не сон развеселит;
лежат в гробу наши дела,
они созвездьями влекомы,
они на громких лошадях
в санях торжественных поедут, —
уж там вдали Святая Горка,
и псковских башен суета,
и долгодневная дорога
под песню грустну ямщика.
Ездок посажен набекрень,
не ест, не пьет — молчит всю ночь,
проказы на поля готовит
и всяки бедствия сулит;
уж он тихонько умирает
и трудным голосом твердит:
— Приди, мой ночь,
я очень жажду
твоей младенческой груди!
И вот, моленью тихо внемля,
духовная приходит ночь.
11.IX.26.
Стихотворение Николая Заболоцкого «Дума» (1926): текст и контексты
Автограф стихотворения «Дума» (1926) был найден одним из авторов этих строк, Ильдаром Галеевым, среди бумаг художника Константина Ивановича Рождественского (1906 — 1997), ученика Казимира Малевича.
В недавно опубликованном дневнике Рождественского есть краткая запись, сделанная художником 20 февраля 1929 года: «Получил от Заболоцкого книгу. Рад» [1] . Дарительная надпись на сохранившемся экземпляре «Столбцов» гласила: «Константину Ивановичу Рождественскому, — в знак единения искусств! Ваш Н. Заболоцкий 19.II.1929».
Очевидно, этот дар поэта настолько взволновал художника, что чуть позже, 10 марта 1929 года, откликаясь на смерть своего товарища по Школе Малевича — И. Г. Чашника, он приводит фрагмент стихотворения «Футбол» (1926) и дополняет его комментарием: «Хотя я и не автор Заболоцкого стихов, но „Футбол” я посвящаю Илье Чашнику» [2] .
В биографиях Заболоцкого и Рождественского немало общего. Оба — уроженцы далеких от центров культурной жизни мест: Заболоцкий родился в Казани, рос в Сернуре и в Уржуме, Рождественский — томский сибиряк. В том, что жажда знаний и первые опыты в творчестве привели молодых провинциалов в Северную столицу (Заболоцкого — в 1921 году, Рождественского — в 1923-м), нет ничего удивительного. Культурная жизнь Петрограда наполнялась силой и энергией молодых талантов, прибывающих из самых отдаленных уголков страны.
Как вспоминает Рождественский, он сразу оказался в эпицентре строительства нового искусства. Художник Н. Ф. Лапшин (1891 — 1942), заметив среди посетителей Музея художественной культуры (МХК) 17-летнего томича, познакомил его с К. С. Малевичем. Вскоре Рождественский был введен в круг сотрудников только что организованного на базе МХК Государственного института художественной культуры — знаменитого ГИНХУКа, где он занимался организацией лекций и докладов, участвовал в экскурсионной работе института. На опыты Рождественского в теории искусства обратил внимание Малевич. Он рекомендовал молодому практиканту сосредоточить свои усилия на изучении метода Сезанна. Рождественский впоследствии выдвинулся в число знатоков в этой области. Малевич ценил его и выделял среди своих ассистентов.
В октябре 1926 года Малевич отозвался на просьбы Д. И. Хармса и А. И. Введенского предоставить помещения ГИНХУКа (Белый зал и подсобные комнаты в Доме Мятлевых на Исаакиевской площади) для репетиций пьесы «Моя мама вся в часах» в постановке экспериментального театра «Радикс». Вполне допустимо и даже естественно, что руководство института и его актив могли присутствовать на репетициях. Именно там, вероятно, и состоялось знакомство Рождественского — ведущего сотрудника формально-теоретического отдела ГИНХУКа — и Заболоцкого, который, не будучи формально вовлеченным в постановочный процесс, «включался в обсуждение действия, придумывал новые сюжетные ходы и даже предлагал новых персонажей пьесы» [3] .
После разгона ГИНХУКа (конец 1926 года) связь Малевича со своими адептами не прекращалась. Весной 1927 года Малевич выехал в Варшаву, откуда писал: «Дорогой Рождественский. Необходимо Вам найти Чинарей [4] и сказать им, чтобы они собрали лучшие свои стихотворения тож[е] и Mama вся в часах и прислали на „Prаzens” [5] , я хочу связать их с Польскими поэтами» [6] . Сведений о публикации обэриутов в польских изданиях нет, и поэтому неизвестно, выполнил ли Рождественский поручение. Но отсюда вытекает, что художник, безусловно, имел контакты с поэтами. В московском частном собрании хранится графический портрет А. И. Введенского, исполненный Рождественским во второй половине 1920-х годов. В иконографии поэта он занимает особое место: это — едва ли не единственный сохранившийся прижизненный портрет Введенского.
В «Записной книжке 8» Даниила Хармса на обороте листа 57 (1927) выписаны имена и, вероятно, номер телефона Рождественского и его тогдашней жены, художника Анны Александровны Лепорской, в близком соседстве с другими важными именами: «203—96. Лепорская Анна Алкдр. Рождественский Константин Иванович <…> Лев Александр. Юдин. Среда 6 апр. у Ермолаевой. 8 часов» [7] .
Еще один из возможных каналов связи между художником и миром литературы находим в посвященных Лепорской записях Е. Л. Шварца: «Из Витебска с самыми верными перебрался Малевич в Ленинград. Тут Анечка с ним и встретилась и стала преданнейшей его ученицей и вышла замуж за Костю Рождественского. И сняли они комнату у Тыняновых, Анечка знала их еще с Пскова» [8] .
Заболоцкий и Рождественский вместе сотрудничали в журналах «Ёж» и «Чиж» (1928 — 1930). В редакции «Детгиза», где собирались молодые художники и литераторы, царила особая творческая атмосфера, полная искрометного юмора и веселья. Рождественский помещал в журналах не только свои изобразительные материалы; он был также автором очерков из жизни деревень и сел своей родной Сибири, куда он отправлялся каждое лето. В тех же номерах журнала Заболоцкий печатал свои детские стихи.
В пору своей молодости Рождественский особенно сблизился с еще одним учеником Малевича — Львом Александровичем Юдиным (1903 — 1941), обширная переписка с которым (1926 — 1940) ныне хранится в отделе рукописей Государственного Русского музея. Известно, что Юдин был автором первого варианта обложки к сборнику Заболоцкого «Столбцы». Об этом — в письме Заболоцкого Юдину от 28.VI.1928 [9] , в котором поэт просит исполнить обложку, стилистически близкую плакату вечера обэриутов «Три левых часа», состоявшегося 24 января 1928 года в ленинградском Доме печати; авторами афиши-плаката были Л. А. Юдин и В. М. Ермолаева (1893 — 1937) [10] . По воспоминаниям Рождественского «обложка Юдина была сделана в том же принципе: на белом поле стояло короткое, плотное, как из камня, монолитное слово „Столбцы”» [11] . К сожалению, издательство отвергло юдинское оформление, и книга вышла «не в той обложке, которую заказал автор» [12] . По словам Рождественского, «Заболоцкий подарил Юдину книгу с надписью: „Да здравствуют Столбцы № 1!”» [13] , возможно, тем самым обозначая свое — авторское — отношение к обложке изданного сборника, сделанной художником М. А. Кирнарским. По сообщению сына Л. А. Юдина, в архиве художника, погибшего в 1941 году, этот экземпляр книги не сохранился.
Другой вариант обложки «Столбцов» был выполнен В. М. Ермолаевой [14] . В отличие от варианта Л. А. Юдина, здесь основной упор был сделан не на шрифт, а на воплощение образа города, который служил бы фоном поэзии Заболоцкого. Ермолаевский эскиз также не получил одобрения, но на творческом содружестве художницы и поэта это никак не отразилось: вместе они исполнили две замечательные книги для детей [15] .
Все три художника, так или иначе связанные с Заболоцким, — Рождественский, Юдин и Ермолаева, — входили в так называемую группу «живописно-пластического реализма», образовавшуюся в 1927 году. Все они ощущали потребность выйти из-под «малевичева крыла», освободиться от подавляющего индивидуальность влияния доктрины супрематизма, все больше работая «над реальной пластической формой в отличие от иллюзорно-изобразительной» [16] . Примерно в это же время (с конца 1928 года) Заболоцкий дистанцируется от практики обэриутов: «звезда бессмыслицы» более не освещает его путь.
Стихотворение «Дума» аккуратно переписано автором на двух листах с оборотами, пронумерованными в верхних углах в соответствии с пагинацией неизвестного источника: 7 — 10 (карандашом, цифры взяты «в кружок»). Под каждым из восьми строфоидов справа карандашом проставлено число стихов; вот этот ряд: 8, 4, 4, 9, 10, 12, 9, 2. Название выведено красными чернилами, текст — черными; эти особенности, наряду с характерным для беловых автографов конца 1920-х годов каллиграфическим почерком, роднят находку с немногими дошедшими до нас хронологически близкими автографами: стихотворением «Disciplina clericalis» (1926), сохранившимся в личном архиве поэта, самодельным рукописным сборником «Арарат» (1928) [17] и автографами столбцов «Свадьба» и «Пир», попавшими (вероятно, через Н. И. Харджиева) в собрание А. Е. Крученых [18] . На последней странице, под текстом — дата и подпись: «11.IX.26 Н. Заболоцкий. — Рождественскому в знак хорошей встречи».
Следующим днем, 12 сентября, датировано малоизвестное миниатюрное стихотворение (или набросок), черновой автограф которого, снабженный указанием «После посещения худ.<ожника> Филонова» примыкает к «открытому письму» «Мои возражения А. И. Введенскому, авто-ритету бессмыслицы», написанному 20 сентября того же года [19] :
я голого не пью и не люблю
и эту тоже не люблю а знаю
сейчас я ей открою белый рот
и перепонку заведу над жаброй
теперь душа не спи пошто вокруг стола
дымок твой развиваться начинает
а тут во рту в тринадцать молоточков
мир ежедневный запевает
Сентябрь 1926 года — время тесного творческого общения Заболоцкого с художниками авангарда (Малевич, Филонов, их ученики и «апостолы») и начало его решительного размежевания с абсурдистской поэтикой Введенского. Если в наброске «я голого не пью и не люблю» Заболоцкий действует на территории своего оппонента, освещаемой «звездой бессмыслицы» (или пародирует его?), то «Дума» отражает поиски собственного голоса, своей темы, поэтики и истоков — поиски, которые привели к созданию прославивших поэта «Столбцов». Слово «столбцы», давшее название сборнику, было найдено позднее, но «Красная Бавария», «Белая ночь» и «Футбол», а также «Лицо коня» и «В жилищах наших» к сентябрю 1926 года уже были написаны.
Ряд стихотворений молодого Заболоцкого, оставшихся за пределами «Столбцов», отличает высокая степень «литературности»: «Disciplina clericalis» и «Дуэль» (1926), «Баллада Жуковского» (1927), «Поприщин» (1928). Понять их, не зная текста-источника, почти невозможно. Ребусная насыщенность реминисценциями обнаруживает в их авторе не только поэта-авангардиста, но и недавнего студента Отделения языка и литературы Педагогического института им. А. И. Герцена, ученика В. А. Десницкого. Именно под его руководством состоялось вхождение молодого поэта, «назубок знавшего символистов вплоть до Эллиса» [20] , в более глубокие слои национальной истории и словесной культуры. Если в «Столбцах» литературность, восходящая в первую очередь к жанровой системе XVIII столетия (от оды и сатиры до ирои-комической поэмы), органически, до неразличимости, растворена в слое узнаваемых бытовых реалий советского Ленинграда 1920-х годов, то эти опыты 1926 — 1928 годов связаны с литературной жизнью пушкинского времени.
Место «Думы» — на границе между загадочной поэтикой опытов молодого филолога и зрелым поэтическим строем поэм и стихотворений, вошедших позднее в «Смешанные столбцы».
Название публикуемого стихотворения сближает его с жанровой традицией XIX столетия, одноименной фольклорным малороссийским думам ; в литературном измерении эта традиция вобрала черты разных поэтических жанров, от баллады (К. Рылеев) до элегии (А. Фет, К. Случевский).
Вольное обращение с языком и его правилами не было характерным для Заболоцкого ни на одном из этапов его творчества. Тем интереснее четырехкратное повторение «Приди, мой ночь!», всякий раз рассекающее строку на два двустопия. (В стихотворении 58 строк и 54 четырехстопных ямбических стиха; композиционный центр — и графический, и стиховой — приходится на стихи «гляжу в стекольчатые двери, / музыкой радуюсь, дыша…»). Если элементы зауми, связанные с грамматическим родом, у Введенского производят впечатление комической бессмыслицы [21] , Заболоцкого привлек их магически-заклинательный потенциал.
Можно предположить, что заумное магическое призывание ночи у Заболоцкого имеет источник в русской литературной классике. Стихотворение В. К. Кюхельбекера «Ночь» (1828) начинается таким четверостишием:
Ночь, приди, меня покрой
Тишиною и забвеньем,
Обольсти меня виденьем,
Отдых дай мне, дай покой! [22]
Если это предположение верно, дальние отголоски — парафразы или игровые пастиши — кюхельбекеровского ноктюрна становятся слышными и в других стихотворениях: «О полезная природа, исцели страданья наши <...> отвори свою больницу — / холод, солнце и покой!» («Сохранение здоровья», 1929); «Все спокойно. Вечер с нами! / Лишь на улице глухой / Слышу: бьется под ногами / Заглушенный голос мой» («Отдых», 1930).
«Дума», о которой автор, насколько нам известно, никогда не упоминал, тесно связана с дальнейшим развитием поэтического мира Заболоцкого.
«Гляди! Гляди!» дважды встречается в «Столбцах» 1929 года и «продвигается» от зачина стиха к позиции рифмы: «…гляди! гляди! он выпил квасу» («Новый быт») и «Смеется чиж — гляди! гляди!» («Фокстрот»). Призыв глядеть , открывающий «Столбцы» в редакции 1958 года: «Гляди: не бал, не маскарад…» («Белая ночь»), — отзывается троекратным «Вижу…» в стихотворении «На даче».
Изображение таинственного мира природы роднит «Думу» с некоторыми из стихотворений, вошедших в «Смешанные столбцы» («В жилищах наших», «Меркнут знаки Зодиака», «Царица мух»), с начальными главами «Торжества Земледелия».
«Картины замыслов дорожных», висящие, как знаки (в терминологии чинарей — иероглифы ), напоминают о «Лодейникове», о ранней редакции «Поэмы дождя», о неосуществленном замысле окружавших Заболоцкого поэтов и мыслителей составить словарь иероглифов.
Сближение имен Пушкина и Хлебникова памятно по стихотворению «Вчера, о смерти размышляя», написанному десять лет спустя, в 1936 году. Мотивика смерти, присутствующая в «Думе» на текстовой поверхности (дважды встречается стих «лежат в гробу наши дела», творительное сравнение пальцев и погребальных свечей), в последних частях стихотворения оказывается залогом победы над смертью: «духовная приходит ночь…» в некотором смысле синонимично «Нет, весь я не умру…»
«Торжественные сани» отсылают к символике погребального обряда: «сидеть на санях» означало пребывать на границе жизни и смерти. Место Григория Сковороды, еще не вошедшего к 1926 году в «пантеон» Заболоцкого, незримо занимает здесь Владимир Мономах — автор «Поучения», литературного памятника XII века (входящего, кстати, в круг профессионального чтения будущего филолога): «Сидя на санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, который меня до этих дней, грешного, сохранил. Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться…» [23] .
Вслед за по-хлебниковски неожиданным однократным появлением дактилической клаузулы («Ох, сердце самое хорошее…») в стихотворении концентрируются образы, отсылающие к эпизодам дуэли, смерти и погребения Пушкина (возможно, через известное исследование П. Е. Щеголева): «Ездок посажен набекрень…», «уж там вдали Святая Горка / И псковских башен суета…».
Память о драматических перипетиях железнодорожных одиссей Хлебникова к 1926 году была свежа: легенда, которая не отошла еще в область истории.
«Дума» посвящена, таким образом, размышлениям о земной участи поэта, о том, как ее печальные обстоятельства преодолеваются в бессмертии поэтического слова. Двадцатитрехлетний Заболоцкий здесь как бы впервые, с осторожностью подходит к осознанию своей высокой миссии, примеряет к своей работе масштабы поэзии и судьбы Пушкина и Хлебникова: «Когда же я / в моих трудах орлом пребуду?..»
Отметим аналитическую проработку «фактуры стиха», углубление внутренних созвучий: «их промывает ветерок, / и вечерок ему помощник…»; «Как я глубок — больной, печальный, / голубок гладить я хочу…»; «точечное» присутствие просторечных усеченных форм: «под песню грустну ямщика»; «и всяки бедствия сулит».
В июне 1991 года Рождественский пишет мемуары о своих встречах с мастерами культуры в годы своей молодости. В них он вспоминает и о Заболоцком: «Зимний румянец покрывал его щеки. Что-то детское, радостное исходило от него. Кустики волос на бородавочке подчеркивали младенческую нежность кожи лица. <…> Тогда, в 1927 — [19]28 году, Николай Алексеевич ходил как демобилизованный солдат — в шинели, стриженный под машинку, в военной гимнастерке, в сапогах. Комната на Конной, 15, аскетическая: стол, стул, железная кровать [24] . Как каземат. На стене мой пейзаж — „Озеро в горах” [25] . <…> Первый творческий вечер Н. А. Заболоцкого состоялся в Ленинградском Доме Печати на Фонтанке [26] . Перед началом он одиноко сидел в совершенно пустом огромном зале-буфете. Сидел в шинели. Заказал рюмку водки. <…> Мне Н[иколай] А[лексеевич] подарил „Столбцы” — „В знак единения искусств”, а также несколько своих, переписанных его рукой и подписанных стихов» [27] .
Нам остается глубоко сожалеть, что из этих «нескольких» драгоценных автографов до наших дней дошел лишь один. Радует, однако, что читатели впервые узнают «Думу» в пору особенного юбилея. В 2013 году исполняется 110 лет со дня рождения поэта, земной путь которого был до горечи краток: ровно половина этого срока — всего 55 лет…
Игорь Лощилов, Ильдар Галеев
[1] Рождественский К. И. Дневник 1923 — 1934. — В кн.: «Константин Рождественский. К 100-летию со дня рождения». Авторы-составители И. А. Вакар, Т. Н. Михиенко. М., ГТГ, 2006, стр. 304.
[2] Там же, стр. 306
[3] Заболоцкий Н. Н. Жизнь Н. А. Заболоцкого. М., «Согласие», 1998, стр. 82.
[4] «Чинарями» Малевич называет здесь не только участников одноименного философско-поэтического кружка (А. Введенский, Я. Друскин, Л. Липавский, Т. Липавская, Д. Хармс), но — шире — поэтов и драматургов круга ОБЭРИУ. Подтверждение этому — упоминание пьесы «Моя мама вся в часах», текст которой был написан И. В. Бахтеревым, входившим в ОБЭРИУ, но не связанным с «чинарями».
[5] «Prаzens» — журнал польских конструктивистов, с которыми сотрудничал Малевич.
[6] Малевич о себе. Современники о Малевиче: Письма. Документы. Воспоминания. Критика. В 2-х томах. Авторы-составители И. А. Вакар, Т. Н. Михиенко. М., RA, 2004. Т. 1, стр. 185.
[7] Хармс Д. И. Полн. собр. соч. Записные книжки. Дневник. В 2-х кн. СПб., «Академический проект», 2002. Кн. 1, стр. 147.
[8] Шварц Е. Л. Телефонная книжка. М., «Искусство», 1997, стр. 266.
[9] Два письма Заболоцкого к Юдину хранятся в его архивном фонде: ОР ГРМ. Ф. 205. Д. 36. Л. 1 — 7. См.: Заболоцкий Н. А. Собр. соч. в 3-х томах. Составители Е. В. Заболоцкая, Н. Н. Заболоцкий. М., 1983 — 1984. Т. 3, стр. 306 — 308.
[10] См. об этом: Вера Ермолаева. 1893 — 1937. Текст и комментарий А. Н. Заинчковской. М., «Галеев Галерея», «Скорпион», 2009, стр. 56; Шубинский В. И. Даниил Хармс: Жизнь человека на ветру. СПб., «Вита Нова», 2008, стр. 203 — 205.
[11] Рождественский К. И. Главы из книги воспоминаний. Встречи. — В кн.: «Константин Рождественский. К 100-летию со дня рождения», стр. 124.
[12] Заболоцкий Н. Н. Указ. соч., т. 3, стр. 139. Рисунки Юдина сопровождали публикацию двух детских стихотворений: Заболоцкий Н. А. О том, как мы на трамвайном языке разговаривали (Шутка); Мистер Кук Барла-Барла. — «Чиж», 1935, № 1, стр. 25, обложка. Почти ничего неизвестно о проекте еще одной книжки; см.: Юдин Л. А. Иллюстрация к книге Н. Заболоцкого «Индейцы». Вырезка из черной и цветной бумаги. 1929. (Не издано.) Кузнецова Э. В. Искусство силуэта. Л., «Художник РСФСР», 1970, стр. 117.
[13] Рождественский К. И. Главы из книги воспоминаний. Встречи. — В кн.: «Константин Рождественский. К 100-летию со дня рождения», стр. 124.
[14] Ныне — в собрании Государственного Русского музея. Репродукцию эскиза см.: Обложка к книге Н. Заболоцкого «Столбцы». 1928 — 1929 (не издано). Бумага, гуашь. Пост. в 1984 г. от Н. Н. Казанского, Ленинград (КП145123). Инв. номер: РС—12356. — В кн.: «Вера Ермолаева. Государственный Русский музей: Каталог выставки». Вступительная статья, сост. А. Н. Заинчковская; состав. каталога Л. Н. Вострецова, Т. В. Горячева, А. Н. Заинчковская. СПб., «Palace edition», 2008, стр. 91 (Кат. № 168).
[15] Заболоцкий Н. Хорошие сапоги. Рис. В. Ермолаевой. Л., «Государственное издательство», [1928]; Миллер Я. [Заболоцкий Н.] Восток в огне. Рис. В. Ермолаевой. М. — Л., Молодая гвардия, 1931. Рисунок из книжки «Хорошие сапоги», изображающий распластанную шкурку и восходящий, в свою очередь, к обложке, выдержавшей три издания (1926, 1929 и 1930) детской «производственной» книжки М. Ильина «Кожа» работы Е. К. Эвенбах, Заболоцкий повторил на обложке самодельного сборника «Арарат»; см. об этом: Россомахин А. А. «С виду будто бы ничего особенного, а приглядишься…»: Потерянный ключ к книге Заболоцкого. — В кн.: «Цвет в искусстве авангарда: Материалы международной научной конференции». СПб., ГМИ СПБ, 2011, стр. 19 — 31. Рисунки Ермолаевой сопровождали также две журнальные «детские» публикации Заболоцкого: Миллер Я. [Заболоцкий Н.] На реке. Рис. В. Ермолаевой. — «Чиж», 1930, № 6, стр. 3 — 4; Миллер Я. [Заболоцкий Н.] Первый сбор. Рис. В. Ермолаевой. — «Маленькие ударники», 1931, № 1, стр. 5 — 6.
[16] «Константин Рождественский. К столетию со дня рождения», стр. 102.
[17] Рукописный Отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом). Р. I. Оп. 10. № 144. Лл. 1 — 21.
[18] РГАЛИ. Ф. 1334 (А. Е. Крученых). Оп. 1. Ед. хр. 1136. Лл. 8 — 11; 12 — 13.
[19] ОР РНБ. Ф. 1232 (Я. С. Друскин). Оп. 2. Ед. хр. 796. Л. 3 (об.). Текст, насколько нам известно, воспроизводился дважды: Эрль В. Вокруг Хармса. — «Транспонанс», 1984, № 11 [февраль-март], стр. 100 — 101; Эрль В. И. С кем вы, мастера той культуры? СПб., «Юолукка», 2011, стр. 31 — 32.
[20] Заболоцкий Н. А. Собр. соч. в 3-х т. Т. 3, стр. 352.
[21] Ср., например, стих «наш англичанка уж бежит» из «Минина и Пожарского», завершенного в июле того же 1926 года (Введенский А. И. Полн. собр. соч. В 2-х томах. Состав. и подготовка текста М. Б. Мейлаха и В. И. Эрля. М., «Гилея», 1993. Т. 1, стр. 49).
[22] Кюхельбекер В. К . Сочинения. Л., «Художественная литература», 1989, стр. 86.
[23] Поучение Владимира Мономаха. Подготовка текста О. В. Творогова, перевод и комментарий Д. С. Лихачева. — В кн.: «Библиотека литературы Древней Руси». В 20-ти томах. СПб., «Наука», 1997, Т. 1: XI — XII века, стр. 457.
[24] Заболоцкий жил тогда по адресу: Ленинград, ул. Конная, дом 15, квартира 33.
[25] «Озеро в горах». 1926. Холст, масло. Ныне — в собрании Государственной Третьяковской галереи, Москва.
[26] Весной 1928 года.
[27] Рождественский К. И. Указ. соч., стр. 124.
Под знаком Достоевского
o:p /o:p
Когда я читала роман Антона Понизовского «Обращение в слух» еще в журнальном варианте, я думала о том, как беззащитен этот никому не известный автор. Конечно же (казалось мне), критика высокомерно отнесется к роману дебютанта. Кто-нибудь посмеется над настойчивой дидактикой и припомнит Набокова, считавшего пошлостью всякое морализаторство и сравнившего в послесловии к «Лолите» с обычной дребеденью «литературу больших идей», существующую в виде «громадных гипсовых кубов», по которым давно уже полагается трахнуть молотком. Кто-нибудь, процитировав старомодные описания природы, вроде «солнце просвечивало сквозь весеннюю дымку» или «на воду у дальнего берега опустилась ночная тень», а еще лучше, фразы типа «Нет, не верю! — страдая, воскликнул Федя. — Вы рисуете русский народ как пьяное сборище, гогот, и проститутки... Вы видите унижение — и еще унижаете: это неправильно!..» — скажет, что этот дискурс высмеял еще Владимир Сорокин в «Романе». (Тут непременно должно быть слово «дискурс».) o:p/
Я же думала о том, какая отчаянная нужна решимость, чтобы сегодня сесть за роман идей, чтобы поручить героям рассуждать как «русские мальчики» Достоевского — о Боге и бессмертии, о цели человеческого существования, о зле и страдании, о русском народе и его миссии — словом, о том, о чем рассуждали герои Достоевского. И у меня возникло желание поддержать писателя, так смело и безрассудно ринувшегося в литературную пропасть, которую нельзя перепрыгнуть.
Но обнаружилась совершенно неожиданная для меня вещь: в прессе роман Понизовского был встречен громом аплодисментов.
Еще не завершилась журнальная публикация, еще не вышла книга, как Виталий Каплан, прочтя роман в рукописи, провозгласил: «Читать обязательно. „Обращение в слух” — огромный прорыв в современной русской прозе, а в отечественной литературе появилось новое имя» <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> .
Вслед за тем Лев Данилкин («Афиша», 26.02.2013) <![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> написал без всякой иронии, что «Обращение в слух» — сложный, полифоничный, тонко имитирующий приемы и сюжетные линии Достоевского роман, и подробно рассказал, кто такой Понизовский (я, например, понятия не имела о том, что дебютант — опытный телевизионщик, придумал и продюсировал несколько программ, по которым, впрочем, никак не скажешь, что их автор читал Достоевского).
«Старинный по замаху и абсолютно сегодняшний по содержанию и по форме роман, который читается как актуальная публицистика. Но это не художественная публицистика, это именно роман. Роман идей. Возможно, самый значительный из написанных у нас за последние годы», — добавил Сергей Костырко в «Русском журнале» <![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> .
Эти мнения повторялись, размножались и варьировались. Например: «До недавнего времени Антон Понизовский был малоизвестным российским писателем, пишущим, как говорят писатели, „в стол”. Но это ничуть не помешало автору создать роман-сенсацию» <![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> (Мих. Довгалюк). Или: «Начнем с места в карьер: „Обращение в слух” — это событие. Дебютный роман телевизионного журналиста Антона Понизовского ошеломляет с первых же страниц» <![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> («Читаем вместе», 2013, апрель). o:p/
Было бы уж вовсе странно, если б дело обошлось без скептических голосов. И они появились — очень разные. Невнятная рецензия в «Литературной газете» (27 марта 2013), автор которой недоволен романом, но чем именно — объяснить не может, полная иронии реплика Романа Арбитмана в «Профиле» (22 апреля 2013), в которой осмеивается сама возможность серьезного разговора о России, умная статья Вадима Левенталя, цепко ухватившего и художественные просчеты, и логические противоречия идеологизированного текста (увы — именно в ней наконец я прочла, что этот дискурс «окончательно деконструирован Сорокиным», правда, с ироническими многократными извинениями и за слово «дискурс» и за слово «деконструирован») <![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> . o:p/
И наконец, настощий разнос, устроенный на сайте colta.ru (как раз в том стиле, которого я ждала). Сначала Денис Ларионов заявил, что роман дилетантский, текст плох, характеры угловаты, персонажи ходульны, потом Мартын Ганин развил мысли предшественника: карикатурные персонажи изрекают на повышенных тонах трескучие банальности, и вообще все это — плохая литература, графомания <![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> . Но как бы то ни было, мнение о романе было уже сформировано, а негативные рецензии только подлили масла в огонь: какое же это литературное событие без споров вокруг него? Блогосфера отреагировала на критические разносы вспышкой интереса к роману и вполне благосклонными откликами.
Выходило, что ни в чьей защите роман не нуждается: он прекрасно защищает себя сам.
Ну а раз так, можно и не примерять мантию адвоката и ограничиться несколькими суждениями, которые возникли при чтении Понизовского.
Читатель, вероятнее всего, знаком с романом «Обращение в слух» или хотя бы наслышан о нем. Но для порядка я все же обозначу сюжетную схему. o:p/
В романе два слоя повествования. Один — документальный, это рассказы самых разных людей (чаще — женщин) о своей жизни. Другой — фикшн. Вымышленные герои обсуждают невымышленные рассказы, спорят, в спорах раскрываются их характеры, споры являются катализатором сюжета. o:p/
В статье Льва Данилкина, посвященной не столько самому роману, сколько истории его создания, сообщается о том, как автор, чувствуя некоторый «дефицит знаний о жизни», решил провести своего рода социологический эксперимент. Для этого на Москворецком рынке был арендован торговый павильон, поставлен стол с чайником, повешены занавески, и вместе с психологом Татьяной Орловой будущий автор романа принялся зазывать людей рассказать о собственной жизни. Когда рынок себя исчерпал, декорация со столом переехала в одну из больниц города Одинцова. o:p/
Так Понизовский оказался обладателем нескольких десятков историй, записанных на магнитофон, которые требовалось расшифровать и обработать. Мотивировка присутствия всех этих рассказов в романе — простая рамочная конструкция, известная в литературе с древних времен: в «Панчатантре» мудрец обучает сыновей царя и для этого рассказывает им многочисленные истории, Шехерезада рассказывает султану сказки, чтобы спасти свою жизнь. o:p/
В европейской литературе рамочная конструкция усложняется, мотивировка повествования тщательнее прорабатывается. Нужна какая-то причина, чтобы собрать героев вместе и заставить их что-то рассказывать. o:p/
В «Декамероне» такой причиной стала чума: три дамы и семь кавалеров из Флоренции, удалясь из зараженного города в богатое поместье, рассказывают друг другу правдивые истории, чтобы скоротать время. В «Гептамероне» Маргариты Наваррской французы, отправившиеся на воды в Испанию и застигнутые непогодой, никак не могут попасть на родину и после некоторых приключений встречаются в монастыре, где коротают время, рассказывая друг другу истории. o:p/
Рамочная конструкция романа Понизовского трогательно воспроизводит классические образцы. Застигнутые непогодой в Швейцарии (исландский вулкан выбросил столько пепла, что отменены все авиарейсы) двое мужчин и две женщины оказываются в одной гостинице и слушают рассказы. Но не рассказы друг друга — тут ноу-хау ХХI века, а магнитофонные записи «нарративов» простых русских людей, которые расшифровывает 23-летний русский аспирант Universite de Fribourg по имени Федор, уехавший из России в Швейцарию шесть лет назад. Он, дескать, успел подзабыть кое-какие реалии русской жизни. o:p/
Тут надо оговориться, что желающие датировать действие романа по всем памятному извержению вулкана (а такие были) рискуют обмануться: вулкан — вулканом, а роман — романом. Сюжетная линия четко связана с лыжным сезоном. Автору надо собрать русскую компанию на швейцарском курорте, и когда это сделать, как не зимой, в длинные новогодние каникулы, когда горнолыжники и сноубордисты слетаются на свежий снег? А исландский вулкан с непроизносимым именем Эйяфьятлайокудль извергался в апреле и воздушное сообщение было перекрыто 16 — 20 апреля 2010 года. Этот анахронизм, разумеется, сознателен и лишний раз напоминает, что мы имеем дело с вымыслом, с романом, где позволительно не только изменить время извержения вулкана, но и вообще — само это извержение выдумать. o:p/
Есть еще один персонаж, который присутствует в романе постоянно, в виде тени, — это Федор Михайлович Достоевский. Само знакомство героев происходит совершенно по Достоевскому: прислушавшись к разговору молодых людей в швейцарском кабачке (а Федя излагал девятнадцатилетней Леле, московской сноубордистке, застрявшей в Швейцарии из-за злополучного вулкана, тезисы своей работы о писателе), незнакомый респектабельный сосед заговаривает с Федей: «А осмелюсь ли , милостивый государь , обратиться к вам с разговором приличным?..». o:p/
Федя узнает цитату из «Преступления и наказания» — так Мармеладов обращается в трактире к Раскольникову. «Где, кроме Швейцарии, могут сойтись любители Достоевского?..» — в тон отвечает Федя, хоть и не цитатой, но фразой, подчеркивающей родство с Достоевским, хотя бы лексическое. o:p/
Новые знакомцы, Дмитрий Всеволодович Белявский, некогда сам занимавшийся Достоевским, и его жена Анна переезжают в пансион, где живет Федор. (Предлог для переезда легко сыскать — мол гостиница небольшая, уютная, недавно открывшаяся в старинной, переделанной под отель ферме, неизвестная и потому дешевая, но хорошая.) Сами персонажи соотносимы с героями Достоевского. Федя — гибрид князя Мышкина с Алешей Карамазовым, молодой человек, глубоко верующий во Христа и, по Достоевскому, в Россию и русский народ, которого он, впрочем, совершенно не знает, ибо уже шесть с лишним лет живет в Швейцарии. Вопреки утверждениям не слишком внимательных критиков, что Федя — сын нуворишей, следует обратить внимание на замечание автора: «Федя уже седьмой год почти безвыездно жил в Швейцарии: жил очень скромно, даже, пожалуй, скудно — и одиноко». Родители его развелись, у каждого новые семьи, и им не до старшего сына. Да и вряд ли они богаты, так — средний класс. o:p/
Это делает Федю и по положению похожим на князя Мышкина, которого поместили в швейцарский пансион и забыли. o:p/
Дмитрий Белявский в споре с Федей будет играть роль Ивана Карамазова с примесью циника Свидригайлова. (Некоторые обнаружили еще и примесь Смердякова — я ее не вижу. А вот Версилова можно поскрести: что-нибудь герою Понизовского да перепало.) o:p/
Женские персонажи труднее соотносятся с героями Достоевского, да это и не надо делать: женщина у Достоевского выступает как часть мужской судьбы. Ни эмансипированная жена Белявского, занимающаяся гендерными проблемами на какой-то государственной службе, ни отчаянная сноубордистка Леля в героини Достоевского не годятся. o:p/
В романе промелькнет тень еще одного жителя Швейцарии — Набокова. Во всяком случае, вставное разоблачительное эссе о Достоевском, где все народолюбие писателя объясняется комплексом вины за отца — изверга, убитого крестьянами, формально принадлежащее Белявскому, соотносится не с «Легендой о Великом инквизиторе», сочиненной Иваном, но скорее с главой о Чернышевском в романе «Дар». В эссе этом, как и замечает Федор, Белявский слегка обокрал Фрейда и возвел напраслину на отца писателя, человека, может, и вспыльчивого, но в надругательстве над крестьянскими девочками все-таки неповинного. Однако не герой же, в самом деле, написал это эссе. Само его наличие в тексте романа, не слишком хорошо мотивированное внешними событиями, заставляет задуматься о многообразии литературных пристрастий автора. o:p/
В большинстве рамочных сюжетных конструкций рамочные герои второстепенны, а сами рассказы — главное. Возможно, не без влияния классики критики объявили документальную часть романа самой ценной его частью: тут, кажется, сошлись все — и поклонники романа, и скептики. o:p/
Даже Вадим Левенталь, выразивший несогласие с автором, отмечает, что «в своей документальной части книга интересна и выполнена мастерски». Даже Мартын Ганин, разругавший роман в пух и прах, оговаривается: «Понизовский берет очень хороший материал, который бы взять и издать отдельной книгой, в крайнем случае, с предисловием, — и снабжает его довольно жесткой идеологической рамкой». o:p/
Документальная часть действительно хорошо выполнена. Понизовский умело использует записанные им рассказы, группируя их в соответствии со своими задачами. Послевоенная нищета, голод, бесправие, смерть русской деревни, беспросветное пьянство мужиков и бесконечные пьяные драки, в которых они погибают, нелепые несчастные случаи, бытовое насилие, унижение женщины, ее безропотность, терпение. Все эти темы возникают в рассказах и служат предметом обсуждения. Но вопреки общему критическому мнению скажу, что именно споры вымышленных героев и есть главное в этой книге, а документальные рассказы «людей из народа» — это что-то вроде начинки пирожка, поданного к супу. Можно выбрать с капустой. Можно и с мясом. o:p/
Ну, взять вот хоть такой рассказ женщины о том, как с четырех лет коров доила, как с десяти уже сама дояркой работала. Замечание впроговор: проходы в коровнике были неудобные, тупиком кончались. «В этом проходе маму бык укатал <…> придавил в тупике, на рога прям, рогами грудную клетку помял».
Нет, рассказчица вовсе не жалуется: просто жизнь вспоминает, жалеет о том, что кончилась та деревня, разрушен коровник и поля зарастают. Гордится тем, какая в юности была ловкая и боевая, как на мотоцикле сызмальства гоняла, как с десяти лет на трактор села. «Правда, на „Беларусе”-то я боялась, они кувыркучие...». И не зря боялась — отчим рассказчицы так и погиб: трактор перевернулся. Может, можно было спасти тракториста. Да когда стали трактор краном поднимать, «уронили еще раз на крышу... Его кислотой обожгло всего». o:p/
К слову приходится рассказ о поездке на МАЗе за водкой. У брата родился сын, положено — обмыть, поехали в район, заехали в кафе, а там парни из другого села, ну и «зассорились ребята».
Посылают рассказчицу в магазин купить две бутылки водки и принести монтировку, она выходит из магазина — «гляжу, о-о-ой! у них уже потасовка! Брата моего двое бьют! И один как раз вытаскивает из сапога то ли отвертку, нож, что ли, или заточку — что там раньше было у пацанов...».
Далее следует рассказ, как девушка стукнула бутылкой по голове парня с заточкой, как брат, почуяв запах разлившейся водки, заорал: «Ты разбила бутылку полную?!», как она сунула брату монтировку и брат «монтировкой этой начал его охаживать...».
Я подобных рассказов слышала десятки, и во время студенческих фольклорных экспедиций, и во время студенческой же «картошки», и в период путешествий по России, которую (в молодости казалось) каждый русский должен обойти с рюкзаком за плечами, пользуясь сельскими автобусами и попутными грузовиками, и много позже, когда автомобиль отменяет попутку и автобус, а гостиница — сеновал в случайном доме. И вот что удивительно: деревня меняется, люди по-другому одеты, говорят по-другому, в домах телевизоры, теперь и мобильники, а рассказы все о том же: водка, самогон, выпили, показалось мало, поехали за новой (на мотоцикле, тракторе, грузовике), разбились (столкнулись с автобусом, с поездом, свалились в овраг, задели столб, опору, упали с моста в реку). Или: выпили — подрались. Кто-то схватил нож (заточку, топор, утюг чугунный, кочергу, вилы, монтировку, охотничье ружье), убил (ранил, изувечил) — гостя, друга, зятя, тестя, жену и т. д.
o:p /o:p
Белявский подвергает рассказ небольшому лингвистическому анализу. Выясняется, что Федя не очень хорошо представляет себе, что такое монтировка. И Белявский объясняет, что это такой изогнутый лом. «Особенно умиляет, когда кто-то кого-то стал монтировкой „охаживать”. <…> Что такое „охаживать” — это значит наотмашь, слева, справа, куда он бьет этим ломом? Лежачего человека. По голове? По спине, да? Ломом. Что при этом делается с тем, кого охаживают? С черепом, если по голове? С лицевыми костями? И главное, так мягко, нежно: „охаживает”, тю-тю-тю — это у нас игра, баловство…» o:p/
Федор, естественно, возражает, что в рассказе этом нет злобы, нет ненависти, это, мол, не в нашем национальном характере... o:p/
Белявский подхватывает: o:p/
«А злобы нет, зачем? Убьем, искалечим, кости переломаем, а в душе мы добрые, православные! „Охаживаем” полегонечку ломиком… Мы шалим. Что-то было еще такое. <…> „Зассорились”, „ребятишки зассорились”. <…> „Пацаны”». «Что там у пацанов-то бывает? Ножик, „ножичек”, да? „Заточечка”, „потасовочка”, как по молодости-то обойтиться без потасовочек?.. Тю-тю-тю! Это мы так журчим, незлобивенько…» o:p/
Возникает еще один голос — молчаливой Лели, которая, желая защитить рассказчицу, произносит: «Эти все монтировки — просто часть жизни, это у нее входит в нормальную жизнь…». И дает тем самым хороший пас Белявскому. «Вот именно в этом и ужас, что такая и есть их нормальная жизнь! Вы глядите: родную мать у нее бык поднял на рога, что она говорит? Она говорит „неудобно проходы сделали”. <…> Поножовщина <…> просто нормальное бытовое явление! Может человек посмотреть и сказать: бог ты мой, в чем же мы все живем?!». o:p/
Скептик, циник и атеист Белявский в итоге будет автором осужден, православный Федя — поддержан. o:p/
Но пока по очкам побеждает Белявский. Потому что вопросы: в чем мы живем, почему мы столько пьем, почему мы принимаем насилие как должное? — это все существенные вопросы. И от них не отделаешься всякими книжными достоевскими соображениями об особой миссии русского народа-богоносца, до которых охоч Федор. o:p/
А теперь зададимся вопросом: можно ли вместо рассказа этой бывшей доярки поставить другой, где не отчим переворачивается на «кувыркучем» тракторе, а отец погибает от метилового спирта? Да сколько угодно. Дискуссия о насилии возникает в романе снова и снова. Ну хоть после рассказа врача в сельской больнице о том, как после двадцати двух операций за ночь анестезиолог сам упал в обморок. «Практически каждый день привозили — кого подрезали, кого расстреляли: из ружья, из гладкоствольного оружия очень много было ранений…». И снова Белявский говорит о будничности насилия, о том, что оно стало «элементом пейзажа»; «вон у нее соседка сидит, вон другая соседка — муж зарубил топором… Обычное дело: подумаешь, топором. Фигня какая». o:p/
Разговор о пьянстве тоже идет по кругу. В какой-то момент Белявский упоминает имя американского демографа Николаса Эберстадта, отметившего, что в России в последние двадцать лет наблюдается «сверхсмертность», — мужская смертность выше, чем в Эфиопии и Сомали, где идет война, и что «даже при всех недостатках России — при относительной бедности, при плохой экологии, медицине, при низком достатке — такие масштабы сверхсмертности необъяснимы…». o:p/
Реальные ли это проблемы? Более чем. Актуальны ли они? Несомненно. Имеет ли значение для читателя, вникающего в эти проблемы, что послужило отправной точкой рассуждений героя: смерть от топора или смерть от метилового спирта? Не очень. Имеет ли вообще значение для восприятия романа подлинность рассказанных в нем историй? Ну, если б завтра обнаружилось, что никаких таких социологических экспериментов Понизовский не предпринимал, а рассказы придумал сам, стилизуя речь «людей из народа» — что изменилось бы? Да ничего. Все проблемы — остаются. А читатель не обязан знать механизм работы писателя. К примеру: для историка литературы, для комментатора «Братьев Карамазовых» важно, что в главе «Бунт» Иван приводит в качестве примеров того, как мучают «деток», не вымышленные истории, а подлинные случаи. Что малышка, которую запирали родители в отхожем месте, пришла в роман из «дела Джунковских», которое Достоевский ранее подробно анализировал в «Дневнике писателя». o:p/
Но Достоевский писал роман не для комментаторов и литературоведов, и читатель, который не знает данного факта из истории романа, получает ничуть не меньшее впечатление от горячечной речи Ивана Карамазова. o:p/
Вообще мне кажется, что рецензенты, придающие этим невымышленным «рассказам» основную ценность, попадаются на удочку писателя. Это швейцарский студент Федя верит в своего профессора Хааса, который задумал изучать национальный характер («народную душу, ее загадку») по записям рассказов «простых» людей (к рассказам образованных он питает недоверие). Для каковой цели и получил «правительственный грант на сбор полутысячи образцов „свободного нарратива” в Сербии, в Боснии, в Косово, в Турции и в России». o:p/
«Грант» — тут очень важное слово. Гранты, случается, получают и под откровенную туфту. Я как-то, тому уж лет двадцать назад, выступая перед американскими аспирантами-русистами, удивившими меня хорошей подготовкой, была ошарашена вопросом рослой темнокожей девушки (кстати, хуже всех говорившей по-русски) относительно афрорусской литературы. Аспирантка, оказывается, уже подала заявку на грант для изучения афрорусской литературы и собиралась ехать в Москву. Мои уверения, что таковой литературы нет, на нее не подействовали: она слыхала про афрорусского поэта Пушкина и афрорусского поэта Джеймса Паттерсона. И, получив грант, надеялась во время пребывания в России обнаружить целую афрорусскую культуру. Не знаю — может, и обнаружила. o:p/
В какой научной дисциплине блистает Федин профессор? Сам Федя замялся, когда объяснял: «...профессор культурной антропологии <...> то есть антропологии национальной культуры».
Федя запутался недаром: то, что в англоязычных странах называется антропологией, во Франции называется этнологией. Этот термин по-русски кажется не столь многозначным. И дает более четкое представление о предмете науки. Этнология изучает преимущественно традиционные общества. Разумеется, эта наука все время видоизменяется и обрастает новыми отраслями, видами и подвидами, гениями и шарлатанами.
Когда Клод Леви Стросс, основатель структурной антропологии, проводит долгие месяцы в Бразилии, собирая рассказы индейцев из разных племен, — это приводит к созданию новой науки. Когда он возглавляет Лабораторию социальной антропологии в Париже и десятки молодых ученых разлетаются по разным странам мира, опрашивая представителей бесписьменных народов и традиционных обществ, — возникает научная школа. Когда же «культурные антропологи» начинают работать в России теми же методами, что и исследователи традиционных обществ и бесписьменных народов, и собирать «свободные нарративы» (непременно у необразованных людей, будто образование исключает человека из общности «народ») с целью исследовать загадку русской души, — это начинает напоминать проект лапутян об извлечении солнечных лучей из огурцов.
Столь неопределенная субстанция, как «русская душа», не может быть предметом полевых исследований, и уж во всяком случае душа эта гораздо полнее отразилась в национальной культуре, в литературе, в миллионах письменных источников, чем в «свободных нарративах» «простых» людей.
Зато для романа Понизовского эти «нарративы» как нельзя более годятся. Но если б действительно последовать совету Мартына Ганина и некоторых других его коллег и издать их отдельной книгой — то боюсь, критики не обратили бы на них внимания.
Как мало кто обратил внимание на книгу «Русская деревня в рассказах ее жителей», вышедшую в 2009 году в издательстве «АСТ» совершенно мизерным тиражом. А история ее очень интересна и поучительна.
На протяжении пятидесяти лет сотрудники Института русского языка ездили в диалектологические экспедиции по многим селам страны. Официальная цель экспедиции — уходящая речь русской деревни. Но, как объясняет составитель книги, известный лингвист Леонид Касаткин, люди часто рассказывали очень откровенные и интересные вещи о своей жизни.
В книгу «Русская деревня в рассказах ее жителей» вошла лишь малая часть расшифрованных записей. И все темы, которые послужат профессору Хаасу для суждений о русском народе, там есть — и война, и голод коллективизации, и тяготы военных лет, и безотцовщина, и свирепая нужда, и тяжелая работа в колхозе с раннего детства, и болезни, и бесправная старость, и пьянство мужиков, и нелепые смерти, и домашнее насилие, и терпение женщин, и одиночество в старости, и предательство детей. Есть и ностальгия по прежним временам, по молодости, есть и рассказы о светлых вещах — о любви, о том, как помогали друг другу.
И что ж — получила ли эта книга хоть одну десятую того резонанса, что уже выпал на долю Понизовского? Ничуть не бывало. Рецензий на нее в нашей прессе почти не было, лишь обстоятельный Сергей Костырко пытался привлечь к ней внимание <![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> .
На долю спектакля «Бабушки» театра «Практика», поставленного по рассказам крестьянок, вошедшим в книгу, выпал куда больший успех: и на фестивалях он шел, и писали о нем в разных газетах, и о модной технике вербатим рассуждали — забывали чаще всего лишь сообщить, что рассказы «бабок» не автор пьесы подслушал, а лингвисты записали.
И вот что забавно: утверждая, что эти «нарративы» — самое ценное, что есть в романе, критики тем не менее анализируют споры вымышленных героев, протягивают ниточки между Федей и князем Мышкиным с Алешей Карамазовым, между Белявским — и Иваном Карамазовым, рассуждают о том, как звучат достоевские темы на современный лад и звучат ли, полифоничен ли роман (все ведь читали Бахтина) или автор играет на стороне Федора. Но никто — совершенно никто — не взялся рассуждать о самих нарративах. o:p/
Что же касается споров героев о России и русском народе — тут недостатка в толкованиях не было. И это симптоматично: значит, мы готовы переварить роман идей. И этот роман не должен, разумеется, иметь однозначный вывод: иначе о чем спорить и что трактовать?
Понятно, что никакой загадки русской души герои не решили и самонадеянному швейцарскому культурному антропологу не помогли. Но чего же они достигли?
В споре за девушку Лелю победил юный и благородный Федя, а циник Белявский потерпел поражение. А кто победил в споре о России?
Я думаю — никто.
Белявский говорит о реальных проблемах общества — Федя переводит их в религиозно-философский план.
Белявский говорит о тяжелом пьянстве (подразумевая, что его быть не должно), Федя размышляет: «Если целый народ <…> по-черному пьет — может быть, именно этот народ сильнее других ощущает внутреннюю пустоту? Острую нехватку Бога?..».
Белявский замечает реальные проблемы: будничность насилия, чудовищную смертность, проистекающую частью от пьянства, частью от детской какой-то расхлябанности (все эти кувыркучие трактора, разбивающиеся мотоциклы), правовую беспомощность, — и делает вывод об инфантильности народа. «Психологический возраст русских — ну, в большинстве — лет двенадцать-тринадцать», — резюмирует Белявский. Отсюда простой вывод: народу надо взрослеть. Это длительный процесс. o:p/
А Федя понимает все иначе: в свете Евангелия. Значит, русские как дети? Но ведь Христос сказал, «иже аще не приимет Царствия Божия яко отроча…» то есть кто не примет Царства Божия как дитя, не войдет в Него. Значит, что получается? Если русские — «„дети”, „подростки” <...> значит, русский народ — инфантильный, как вы говорите; простой — значит, все-таки он получается первый в очереди? Один из первых? Ведь получается так?». o:p/
Тут нет точек соприкосновения. Люди мыслят совершенно в разных плоскостях. o:p/
Автор, конечно, играет на стороне Феди и не удержался от соблазна окарикатурить Белявского. Либерал, западник, который видит все недостатки своего народа и готов его сурово судить, вовсе не должен произносить сакраментальные русофобские фразы типа: «Русские — тупиковая ветвь» или «Ох, как я все это ненавижу! Страна рабов». Это, в конце концов, безвкусно, а Белявский — как он написан автором, слишком умен и слишком эстет, чтобы повторять пошлости. o:p/
Но будем справедливы: автор и над Федей любимым слегка поиронизировал. Ирония заключена даже в том, что русофил Федя остается в Швейцарии внимать магнитофонным рассказам, толковать их, подобно притчам, и любить русский народ из своего прекрасного далека, а русофоб Белявский торопится вернуться в Россию и там работать.
Но смысл романа мне видится вовсе не в том, чтобы провозгласить победителя в споре. Нечеткость завершающего аккорда дала возможность одним говорить об открытом финале, другим — выразить неудовольствие скудостью представленных позиций.
Вадим Левенталь, статью которого я уже упоминала, считает, например, что Понизовский «предлагает ложную альтернативу: либо ёпора валить” — либо ёпусть все остается как есть”; я бы хотел поставить галочку напротив, например, ёдавайте останемся и что-нибудь поменяем”, но такой опции в ёОбращении в слух” не предусмотрено».
А по-моему, если подобная опция возникает в мозгу читателя как реакция на роман — то скорее всего и она предусмотрена. Или, скажем так: неважно, предусмотрена она или нет. В романе нет нужды предусматривать все позиции в старом споре о русском народе и его судьбе и персонифицировать каждую. Между крайними точками зрения всегда найдется веер всевозможных соображений, в том числе и прагматических. Размышлять над ними — дело читателя. Будить мысль — дело писателя.
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> <; .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> </> .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> <-povestka/Pro-vechnyj-russkij-spor> .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> </> .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> <-vmeste.ru/pages/review.php?book=3154> .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> </> .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> <; .
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> Костырко Сергей. Из первых уст. — «Новый мир», 2010, № 5. o:p/
o:p /o:p
Одноклассники
Юрьев Олег Александрович родился в Ленинграде в 1959 году. Закончил Ленинградский финансово-экономический институт. С 1991 года — в Германии (Франкфурт-на-Майне). Автор книг драматургии, прозы, нескольких сборников стихов, многих публикаций в периодике; значительная часть произведений издана (а пьес — поставлена) также по-немецки. В начале 1990-х — один из ведущих авторов литературной программы «Поверх барьеров» (Радио Свобода). Один из основателей литературной группы «Камера хранения» (1983), куратор одноименного интернет-проекта. Лауреат Премии имени Хильды Домин (2010), присуждаемой в Германии писателям-эмигрантам, и премии журнала «Звезда» (2012). o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
Введение o:p/
o:p /o:p
В русской литературе (да и культуре вообще) — по крайней мере, в зоне ее видимости для внешнего наблюдателя, — произошла за последние полтора-два десятилетия качественная катастрофа, сравнимая разве что с катастрофой тридцатых годов прошлого века <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> . Та катастрофа была следствием разного рода реформ и реорганизаций, направленных на развитие «социалистической культуры», основанной на господствующей идеологии и на интеллигентски-мещанских вкусах и представлениях господствующего (на первых порах и в партийно-государственном аппарате) слоя массовой интеллигенции («жизнь в формах жизни», Пушкин в рамках гимназического курса, Толстой как вечный образец вечно требуемой советской эпопеи). И конечно же, она была основана и на постепенном изъятии из оборота (всеми способами) представителей «культуры эксплуататорских классов». Но прежде всего и самое главное, та катастрофа окончательно оформилась вследствие реального прихода нового поколения — первого поколения, выращенного при советской разрухе и действительно не имевшего уже ничего общего ни с культурой русского модерна, ни даже с культурой революционного авангарда и только чуть-чуть с «классической» русской культурой (в объеме школьного и рабфаковского курса) <![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> . Имеются в виду как писатели, так и читатели — «молодые любители белозубых стишков», по ядовитому выражению О. Э. Мандельштама. Комсомольцы, одним словом. o:p/
Нынешняя катастрофа связана, по всей вероятности, с экономическими методами культурной репрессивности, оказавшимися в постсоветских условиях необыкновенно эффективными <![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> . Но в конечном итоге природа ее — та же самая: стремление широкого «образованного слоя», ставшего в начале 2000-х годов платежеспособным, настоять рублем на собственных вкусах и представлениях, порожденных полусвободами позднесоветской эпохи. o:p/
Поэтому особое значение приобретают сейчас жизненные и творческие практики, стратегии выживания, методы ориентации в окружающей враждебной среде и способы самоприживления к культурам «ликвидированным», практиковавшиеся в классическое советское время (30 — 50-е годы) писателями, полностью и сознательно отказавшимися от литературной социализации — в первую очередь, от попыток публикации. При этом они могли быть довольно или даже очень успешными в других областях — заслуженный, например, деятель искусств Казахстана, главный художник «Казахфильма» П. Я. Зальцман или выдающийся, награжденный, едва ли не крупнейший искусствовед СССР, автор множества книг Вс. Ник. Петров — они, кстати, учились в одном классе 1-й Советской школы в Ленинграде. Вообще, люди этого слоя, последнего поколения петербургского модерна — «невидимого», «постобэриутского» и «постэкспрессионистского», как можно было бы назвать эстетику позднего Кузмина и близких к нему молодых авторов 1930-х годов (Андрея Николева, например), — оказались при ближайшем рассмотрении необыкновенно тесно связанными друг с другом биографически: Вс. Ник. Петров, в 1949 году изгнанный вслед за своим учителем Николаем Пуниным из Русского музея и вынужденный сделаться «свободным автором», опубликовал несколько биографий русских художников в соавторстве с Геннадием Гором, о чьих блокадных стихах, открытых в том же 2006 году, что и повесть Вс. Петрова, мне уже приходилось подробно писать <![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> . Вообще, можно условно сказать, что 2006 год, одновременно с очередным витком оскудения «актуальной культуры» (расцвет «нового реализма» и всякого тому подобного), маркирует и начало очередной «исторической революции» в русской литературе — открытие целого массива чрезвычайно значительных авторов и текстов, доселе совершенно неизвестных, — больше того, открытие последнего поколения русского модернизма. Можно сказать, что o:p/
o:p /o:p
чем унылее делается настоящее русской литературы, тем блистательнее становится ее прошлое! o:p/
o:p /o:p
Начнем мы со Всеволода Петрова и его крошечной великой повести. Вторая часть будет опираться на обширный и великий роман Павла Зальцмана «Щенки». o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Часть первая o:p/
o:p /o:p
Два поезда, или ВсЕВОЛОД Петров o:p/
o:p/
1. Два текста o:p/
o:p /o:p
Год 1946, первый послевоенный. В атмосфере «маленькой послевоенной оттепели 1945 — 1946 годов», оборванной, как известно, Постановлением ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград» , явились на свет два прозаических текста, в которых военно-санитарный поезд становится не просто местом действия, но в известном смысле и героем повествования, активно влияющим на события и судьбы героев. Явление на свет следует понимать различным образом — один текст был напечатан, другой просто написан. o:p/
Первый принадлежал перу не очень уже молодой, но практически неизвестной в советской литературе журналистке и драматургу В. Ф. Пановой (1905 — 1973): «Спутники» стали сенсацией года (наряду с «В окопах Сталинграда» В. П. Некрасова), получили Сталинскую премию первой степени («В окопах Сталинграда» — третьей) и навсегда обосновали славу и положение Веры Пановой в официальной писательской иерархии. И не только в официальной: «Спутники» были колоссальным читательским успехом — очереди в библиотеках выстраивались на месяцы вперед. Нельзя сказать, что совсем незаслуженно: вне всяких сомнений, «Спутники» принадлежат к произведениям советской литературы 1940 — 1950-х годов улучшенного качества — они старательно написаны и не чрезмерно напичканы пропагандистскими формулами и лозунгами (Сталин упоминается в них, кажется, всего один раз — как и у Некрасова; эта необычная редкость упоминаний вождя была фирменной меткой Сталинских премий 1946 года и, вероятно, одним из основных признаков «литературной мини-оттепели»). Персонажи «Спутников» выглядели в глазах советского читателя этого времени почти что «жизненно» (до известной границы, всякому ясной и поэтому почти не замечаемой). o:p/
Второе сочинение «о санитарном поезде» написал только что демобилизованный тридцатичетырехлетний офицер, вернувшийся на свое рабочее место научного сотрудника Русского музея, Всеволод Николаевич Петров (1912 — 1978). Его текст — небольшая новелла, по всей вероятности, возникшая в результате прочтения пановских «Спутников», которые, напоминаю, в этом году все рвали друг у друга из рук, «Турдейская Манон Леско», осталась неопубликованной. При жизни автора и в течение почти тридцати лет после его смерти <![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> . При этом нельзя сказать, что Петров держал ее в секрете: он показывал ее знакомым, читал из нее на своих знаменитых днях рожденья, собиравших огромное количество гостей <![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> . Он только не пытался ее опубликовать. Почему? Считал бессмысленным? Из брезгливости к варварам в тогдашних редакциях? Ясно понимая, что эта крошечная повесть ни по каким своим параметрам — ни по содержательным, ни по формальным — несовместима не только с советской литературой любой эпохи, в которой жил Вс. Петров, но и с советским мирозданием как таковым? o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
2. Две литературы o:p/
o:p /o:p
Сходство обоих текстов (скорее всего, не случайное) позволяет уже при кратчайшем их сравнении довольно отчетливо увидеть базовые различия между двумя литературами, в сущности, — двумя культурами, параллельно существовавшими в Советском Союзе 1930 — 1950-х годов: «официальной», со своей точки зрения единственно возможной, единственно правильной и единственно настоящей, — и «второй», существовавшей рядом с «первой», становясь с каждым десятилетием все незаметнее для наблюдателя. В конце 1930-х — начале 1940-х годов, на гребне Большого Террора и с началом войны она вообще выходит из зоны видимости, и воображаемый наблюдатель должен прийти к выводу, что после уничтожения Олейникова, гибели Введенского и Хармса никакой серьезной свободной литературы в России больше не существует. Этот вывод, после многих десятилетий кажущейся неоспоримости, можно считать опровергнутым: невидимым следующим поколением были созданы более чем серьезные сочинения, только сейчас занимающие свое место в истории русской литературы. o:p/
То, что «другая культура» была невидима для стороннего наблюдателя, вовсе не означает, что она была несущественной и несуществующей для себя самой — для очень узкого круга или, лучше, системы нескольких очень узких кругов, объединявших как людей из того времени , эпохи расцвета русского модернизма, традиционно именуемой Серебряным веком (в Ленинграде, например, Кузмин, Бен. Лившиц, Ахматова, да, собственно, и многие другие, постепенно выбывающие из литературного процесса и/или из жизни), так и молодых людей, наперекор всей «новой жизни» ощущавших «старую культуру» как непреодолимый фасцинозум . o:p/
Эти молодые люди волей-неволей жили двойной жизнью. С одной стороны, совершенно нормальной советской жизнью своего времени: школа с комсомольцами, собраниями, политинформациями; вуз, в который до появления так называемой Сталинской конституции, отменившей графу «социальное происхождение» в документах граждан, большинство этих молодых людей могло попасть, только подделав каким-нибудь образом графу о родителях («служащие» было самым простым вариантом); убогость коммунальных квартир; вечный уличный страх перед хулиганами, терроризировавшими прохожих; дефицит всего съедобного и надеваемого; — и ощущаемая всегда и повсюду власть оснащенных соответствующим рабоче-крестьянским происхождением надсмотрщиков за культурой и их добровольных помощников, рекрутируемых из «прогрессивной интеллигенции». А с другой стороны, когда юный Всеволод Петров приходил в дом Михаила Кузмина, а Павел Зальцман, ученик Филонова, к Хармсу на домашнее чтение, они попадали в совершенно другой мир — точнее, в два других мира, не менее реальных, чем «основной», не скрадывающих никаких его признаков, но принципиально других по атмосфере, по языку, по взгляду на вещи. o:p/
В Ленинграде конца двадцатых — начала тридцатых годов одним из центров (можно, пожалуй, сказать: главным центром) этой параллельной культуры был дом Михаила Кузмина (собственно, одна комната в коммунальной квартире, где обреталось еще несколько семей — Петров в своем мемуаре о Кузмине смешно и блистательно описал эту квартиру с ее обитателями <![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> ). С 1933 года по 1936-й (год смерти М. А. Кузмина) Петров посещал этот «открытый дом», куда между пятью и семью вечера каждый мог прийти и привести друзей, чтобы послушать рассказы хозяина и его игру на специально несколько расстроенном (чтобы напоминало фисгармонию) пианино. И прочитать и послушать новые стихи. o:p/
Сюда ходили «все» — от филологических юношей во главе с любимцем Кузмина А. Н. Егуновым (Андреем Николевым) до Хармса и Введенского (последнего Кузмин считал эпохальным поэтом — равновеликим Хлебникову). Лишь ближайшие к Анне Ахматовой люди здесь почти не появлялись — отношения были враждебные. Памяти Михаила Кузмина посвящена «Турдейская Манон Леско», что немедленно, еще до начала чтения сообщает: это будет не советская литература . Общеизвестное кузминское обожание XVIII века Всеволод Петров не то чтобы полностью перенял, но превратил в центральное образное средство своей новеллы, чей герой не хочет жить в современном ему мире, а хочет жить в Восемнадцатом веке. И готов принести этому в жертву многое. Проблема лишь, что не только себя самого, но и другого человека. o:p/
o:p /o:p
«Первая» культура, официальная и советская, «вторую культуру», «полу-», а позднее (с 1934 года, примерно с года создания централизованного департамента литературы — Союза писателей) «неофициальную» и «несоветскую», просто-напросто не замечала, не «видела», поскольку существование таковой в стране победившей культурной революции <![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> было теоретически невозможно. Она была ликвидирована (вместе с большинством ее носителей — физически или духовно), у нее не было питательной почвы в социалистическом обществе — у этого самовлюбленного упоения красивыми картинами и красивыми фразами вместо воспитания трудящихся для борьбы за лучшее будущее всего человечества . Богатый и добрый советский писатель при случае мог подкормить тот или иной остаток бывшей культуры, подкинуть толику денег (как, скажем, Валентин Катаев Осипу Мандельштаму), помочь с переводом или редактурой, но общее мнение казенной творческой интеллигенции было едино: время такой литературы навсегда кончилось, писатель в Советской стране служит народу и партии. Хозяевам. Хозяину. И это было не притворство, а вполне искреннее убеждение (что, по моим наблюдениям, очень трудно понять интеллигентам принципиально двурушнических позднесоветских времен, когда советский писатель непринужденно собачил у себя на кухне тех, чей хлеб ел). Неискренность воспринималась как слишком опасная вещь, да и эпоха гипнотизировала энергией и правотой (см. случай подносителя отбойных молотков метростроевкам Б. Л. Пастернака). o:p/
То обстоятельство, что время от времени советская литературная, музыкальная и художественная критика по команде сверху или по собственной инициативе чувствовала себя обязанной обличить «остатки» враждебной культуры, которые, как оказывалось, все еще существовали — влачили жалкое существование — исподтишка отравляя атмосферу и соблазняя «малых сих» своей отравленной красотой, — не создавало в рамках логики тоталитарного общества никаких особых противоречий. Позже, в 1960-х годах, можно будет чрезвычайно ясно наблюдать эту логику на хрущевской критике художников-авангардистов и на процессе Бродского. o:p/
o:p /o:p
«Другая» культура действительно состояла из «остатков», очень осторожно воспроизводивших себе, выражаясь по-советски, «смену». Последнее было, кстати, одним из важнейших и страстнейших обвинений пропаганды: совращение советской молодежи, прививка ей враждебных вкусов и интересов . «Правящую культуру» она как раз замечала, да и не могла не замечать — а куда ей, собственно, было деться? Люди этой культуры жили, окруженные звуками и картинами советской жизни, они ходили на службу, присутствовали на собраниях и политинформациях, стояли в очередях «за продуктами», радио играло советские песни и «популярную классическую музыку», газеты тоже приходилось читать, хотя бы прогноз погоды. Словом, вопрос, как с этим со всем обходиться, был центральным вопросом «другой» культуры 1930 — 1950-х годов: игнорировать по мере сил и возможностей, «уходить в Восемнадцатый век» — или заниматься художественным претворением окружающей реальности, хотя бы и с помощью Восемнадцатого века (дело небезопасное — «несоветское» легко превращалось при таких попытках в «антисоветское»). o:p/
Необходимо еще заметить, что «другая культура», пока она действительно существовала в этом качестве, воспринимала господствующее окружение не как полноценную конкурирующую культуру, но скорее как цивилизацию варваров, учиняющих свои примитивные ритуалы в руинах разрушенных ими же городов <![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> . Это не означало полного отказа от художественной коммуникации с «варварами» и их варварскими продуктами, не означало отказа от попыток извлечь из жалкой советской жизни художественный смысл. Таков принцип организации, в частности, романов Константина Вагинова, коллекционирующих курьезы раннесоветской жизни, превращающих ее в развлечение для социоэнтомолога. Таков принцип действия на долгие годы забытого, а в 1990-х годах получившего «культовый статус» романа Андрея Николева «По ту сторону Тулы» (1931), которого мы еще должны будем коснуться. И на этом же принципе построена и петровская «Манон», где, однако же, затеяна опасная и этически не совсем однозначная игра с дочерью варваров <![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> . o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
3. Два поезда o:p/
o:p /o:p
В «Спутниках» Веры Пановой, как известно, рассказывается история военно-санитарного поезда и его персонала, с комиссаром Даниловым и главврачом Беловым во главе. Эти и прочие персонажи — сестры, врачи, монтеры, кочегары, а также некоторые раненые описаны весьма подробно, с их жизненной предысторией и возможностью заглянуть в их внутренний мир. Они кажутся вполне убедительными, «живыми», если, конечно, не обращать внимания на известные выпуски. o:p/
Поезд переезжает с одного фронта на другой, попадает под бомбежки, возвращается с ранеными в тыл. В сущности, начиная с первых дней войны и по дни победы в Сталинградской битве, дни забрезжившей победы, он объезжает если не половину, то добрую треть Советского Союза. И позже: катит по только что освобожденным областям Украины, въезжает в освобождаемую Польшу, возвращается в тыл... Эта не особо длинная повесть демонстрирует удивительный временной и пространственный размах, а также предоставляет огромное количество сведений о медицинских, технических и организационных принципах работы военно-санитарного поезда времен Великой Отечественной войны. Мы узнаем здесь очень много всякого... за исключением того, что мы не узнаем, и именно эти «выпуски» интересуют нас сейчас — в отличие от советского читателя 1946 года, для которого они были само собой разумеющимися: он и сам знал прекрасно, что не рассказывается и не показывается, но был приучен этого не замечать. o:p/
В этой книге нет никаких ошибок начальства (не говоря уже о Сталине), хаоса первых месяцев войны и всемогущего НКВД, ожесточенно охотящегося за действительными и мнимыми врагами. Лагерей и арестов в довоенных биографиях и воспоминаниях персонажей не существует вообще, что, конечно, совершенно невозможно — почти каждая семья была так или иначе затронута. И разумеется, никакой речи о миллионах советских граждан, если не с радостью, то с определенной надеждой встречавших наступавшие немецкие войска <![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> . Короче говоря, в «Спутниках» нет ничего, что не отвечало бы официальной, предписанной системе представлений и картине мира... o:p/
При этом именно Вера Федоровна Панова относилась к тем, кто обладал самой что ни на есть полнотой информации о реальной жизни своего времени. К началу войны она оказалась (вместе с дочерью) в Пушкине. Двое ее сыновей, мать и свекровь, мать ее погибшего в лагере мужа, арестованного в 1934 году ростовского журналиста Бориса Вахтина, находились в это время в глухой украинской деревеньке, куда семейство Пановой в 1937 году переселилось из Ростова-на-Дону. Большой город стал для них опасен, начиналась очередная волна террора. Вера Панова была чрезвычайно умной женщиной и догадалась, что спастись можно переездом в глухое место (далеко не единственный способ — можно вспомнить о переезде в Москву Маршака, которого ленинградский НКВД сватал на главные роли в «писательское дело»; дело, как известно, обошлось без Маршака). o:p/
В сентябре 1941 года немцы вошли в Пушкин, и Панова — вместе с маленькой дочерью! — отправилась пешком и на всех возможных перекладных в долгий, бесконечно долгий и, несомненно, опасный путь через всю разоренную и захваченную врагом Европейскую Россию — к семье. Если у кого было реальное представление о жизни Советского Союза во время войны (да и до войны, во времена Большого Террора), так это была Вера Панова. Но в ее «Спутниках» нельзя заметить даже легчайшей тени этого представления. Нужно, однако, понимать, что это не ложь и не фальсификация: в рамках культуры, в которой существовала Вера Панова, вся эта «низкая реальность» и не должна была быть показана. Советский писатель должен был показывать советскому читателю «высшую реальность», воспитывающую и поднимающую людей. Система теоретических и практических представлений советской литературы хоть и именовалась «социалистическим реализмом», была на деле скорее «социалистическим классицизмом» — художник описывает жизнь так, как она в соответствии с действующими нормами должна (была бы) выглядеть. o:p/
После возвращения Советской власти на Украину семейство Пановой переехало в Молотов-Пермь. Она стала работать в газете и получила однажды задание (от которого отказались все прочие коллеги): написать популярную брошюру о работе военно-санитарного поезда. В 1944 году она провела несколько месяцев в таком поезде — для сбора материала. Результат — «Спутники». o:p/
В этом поезде все ( почти все) — очень хорошие люди, патриоты, думающие лишь о том, чтобы сделать что-нибудь хорошее для фронта, для победы . Небольшие человеческие слабости — повышенная приверженность к спиртному у старого монтера, не мешающая ему, впрочем, совершать чудеса при ремонте и усовершенствовании оборудования; склонность к легкомыслию и кокетству у одной из медсестер, само собой, отступающая при поступлении раненых, и т. д. и т. п. — тут ничего не меняют. Напротив, они делают персонажей «жизненнее» для читателя (фирменный метод соцреализма). Для нас, однако, сейчас существенно, что среди всех этих симпатичных людей наличествует один-единственный несимпатичный. При этом он не делает ничего плохого — он просто неприятный: эгоист, трус и даже не думает в едином порыве слиться с коллективом. Он не такой, как все. Он живет для себя и просто-напросто выполняет свои обязанности. И здесь мы, вполне возможно, наталкиваемся на инициальный импульс для Всеволода Петрова: несимпатичный врач Супругов описан Пановой как человек той, «другой» культуры, к которой принадлежал и демобилизованный артиллерист Петров: он любит все, что любили Петров и люди его круга, — предметы искусства, венецианское стекло, фарфор, антикварные книги, Восемнадцатый век и — о ужас! — тоскует по оставшейся в Ленинграде полной подшивке альманаха «Шиповник», одного из основных изданий Серебряного века, где печатались и Блок и Кузмин. Думаю, Петров чувствовал себя, читая «Спутники», лично оскорбленным, поскольку среди всего персонала санпоезда оказался один-единственный человек, с которым он мог бы себя отождествить, — неприятный врач Супругов. И Петров пишет новеллу от имени и во имя подобного человека — человека, который выполняет все, что от него требуется, но остается чужим . И вовсе не собирается и не хочет становиться «своим» <![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> . o:p/
Рассказчик «Турдейской Манон Леско» — это в известном смысле декарикатуризированный пановский Супругов. Неслучайно новелла начинается приступом истерического страха смерти у рассказчика, ведущего к перебоям дыхания и почти что к инфаркту. Такой страх — постоянная характеристика Супругова, единственного в пановском санпоезде: кроме него, никто вроде бы смерти не боится. Безымянный рассказчик «Манон» и есть Супругов, только вовсе не несимпатичный, а, наоборот, — тонкий, нервный и мечтательный человек. Позже, найдя в любовной игре а ля XVIII век лекарство от своего страха, он будет единственным из всей команды поезда, кто во время бомбежки сможет принудить себя не бежать в панике, а остаться в поезде, — реванш своего рода! Делает ли это его «положительным героем»? Этот вопрос вряд ли стоял для Петрова — для него на первых порах было важно защитить себя и себе подобных от обвинений в трусости, слабости и эгоизме. o:p/
А что происходит с реальностью, «опущенной» у Веры Пановой? Возвращает ли ее Петров в описание? Заменяет ли он ею «фальсифицированную» реальность, «нормативные установки»? Нет, ни в коем случае — это был бы путь «антисоветского соцреализма», путь Солженицына и многих других. Эти писатели, собственно говоря, не ставили под вопрос базовые принципы культуры, в которой были воспитаны, — они только пытались наполнить эту культуру «правдой». Что, разумеется, приводило к возникновению другой «неправды»: жизнь СССР состояла не исключительно из лагерей, волн террора, страха и убогости. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
4. Редукция реальности как метод сохранения правды o:p/
o:p /o:p
Всеволод Петров пошел принципиально другим путем: путем дальнейшей редукции. Вместо показа «правды жизни» он редуцирует ситуацию до наиболее (для него) существенного. o:p/
По всей очевидности, перед нами небольшой любовный роман из времен Второй мировой войны. Советский военно-санитарный поезд переезжает с одного фронта на другой. Герой, рафинированный петербуржец (это, правда, можно предположить по одному-единственному очень косвенному признаку: где-то в середине повести он перед сном декламирует себе стихи Николая Олейникова, вряд ли известные за пределами Ленинграда и вообще «чинарского круга»), страдает от сердечных приступов и страха смерти, читает «Страдания молодого Вертера» (по-немецки, разумеется) и наблюдает жизнь своих товарищей по поезду, военврачей, аптекарей, медсестер, сандружинниц... Странное, промежуточное время посреди войны: «Мы ехали так долго, что мало-помалу теряли счет времени. Нас перевозили на новый фронт. Никто не знал, куда нас направляют. Ехали от станции к станции, как будто заблудились. О нас, должно быть, забыли». Все заняты своими бытовыми заботами, ссорятся, мирятся, поют хором... o:p/
Посреди какой войны, собственно? Эта война могла бы быть и Первой мировой, хотя мы, конечно, с самого начала каким-то образом знаем, что действие повести происходит во время Второй мировой войны. Но параллельно этому знанию мы наблюдаем последовательное выведение за скобки всех конкретно-исторических признаков: никаких комиссаров или замполитов (то есть они там, конечно, есть, но читателю придется долго догадываться, кто из персонажей мог бы претендовать на эту должность; мне не удалось; само слово не упоминается), не называются воинские звания, характерные именно для Красной Армии (майоры и капитаны — пожалуйста; всегда «солдаты», а не «бойцы» и т. д.), и даже слово «товарищ» не используется в его уставном значении — при обращении военнослужащих друг к другу, что, конечно, совершенно невероятно. И т. д. и т. п. o:p/
o:p /o:p
Петровский военно-санитарный поезд переезжает из ниоткуда в никуда, названия проезжаемых населенных пунктов обозначаются первыми буквами, только станция Турдей названа полностью (и ближняя к ней разрушенная деревня Каменка). Здесь, на этой станции происходит поворот новеллы и начало ее движения к трагическому концу. o:p/
Работы врачей и сестер нам тоже не показывают, она только изредка упоминается. Даже слова «немец» мы здесь не встретим, война ведется с неким безымянным врагом. При всем этом нельзя сказать, что это какой-то нереальный, кафкианский или схематизированный мир: все персонажи выглядят абсолютно объемно, оснащены вполне человеческими свойствами и хорошо раскладываются по социальным типажам 1930 — 1940-х годов. Мы видим их, мы слышим их, и именно они «датируют» происходящее: этот непривычный способ обеспечивает особое, в том числе и историческое углубление в материал. С помощью редукции здесь создан образ войны, страшнее и действеннее многих других, созданных «реалистическими методами». o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
5. Военно-полевой роман как личная утопия o:p/
o:p /o:p
«Лежа на нарах, надумал себе любовь к этой советской Манон Леско. Мне страшно было сказать себе, что это не так, что я ничего не надумал, а в самом деле все забыл и потерял себя и живу только тем, что люблю Веру». o:p/
Отчетливо и ясно рассказчик признается в своей игре: одинокий и затравленный, он обнаруживает среди «спутников» человеческое существо, которое, как ему кажется, годится для его личной утопии — утопии XVIII века, в которой он, «новый кавалер», сильный и влюбленный человек, «ведет игру», а не является игрушкой стихий и посмешищем поезда, как, несомненно, дело обстоит на самом деле. o:p/
Здесь как раз и находим мы корень нашего конфликта: себя советский офицер считает несоветским человеком. Он знает , что это так. Он живет среди варваров, в настоящий момент он даже ведет вместе с ними войну против еще больших варваров, но он другой . Но ему нужна любовь, какая-то собственная жизнь в этой банке шпрот, катящей по рельсам войны, он не может существовать без своей собственной, персональной утопии, и поэтому он превращает живого, реального, чувствующего и страдающего человека, сандружинницу Веру <![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> , в игрушку своих персональных мифов. Добром это не может кончиться, и кончается не добром. o:p/
o:p /o:p
Интересное обстоятельство: как только рассказчик и Вера, после всех комических и печальных эпизодов, неверностей, приступов ревности и т. п. и на фоне злорадных комментариев членов поездной команды, наблюдающих за этим странным спектаклем, наконец-то соединяются в чем-то похожем на гармонию, в действие явным образом впервые врывается война: o:p/
«У разъезда было французское, какое-то бретонское название: Турдей, а на соседнем холме стояла разоренная вражеским нашествием русская деревня Каменка. Деревенские собаки, на низких лапах, похожие на лис, подбегали к вагонам подбирать объедки, выкинутые в снег. Мы встали на этом разъезде так прочно, что колеса вагонов покрылись толстой снежной корочкой». o:p/
С этого момента начинается постепенное разрушение утопического мира рассказчика, парадоксальным образом не уничтожающее странное ощущение счастья, подымающегося с этих страниц. o:p/
«Турдейская Манон Леско» предстает нам сначала как утопия, или, точнее, идиллия (что, конечно, подвид утопии) посреди войны, своего рода бегство от всех ее ужасов. Но это не только индивидуальная утопия Всеволода Петрова. Многим людям того же происхождения — не из интеллигентских семей, а из семей дореволюционного образованного слоя : ученых генералов, «реакционной профессуры», как это называлось у демократически настроенной общественности, юристов и т. д., оказавшихся изгоями в собственной стране, война показалась очистительной волной, которая смоет с Советской России советское и оставит Россию. За это они пошли воевать с немцем, радуясь каждому слову «русский», «Россия» в официальных тостах , а потом и новым-старым званиям и погонам на плечах. o:p/
Показалось: вот она — просто Россия: солдат, женщина, земля. Что народ, в сущности, остался таким, каким он был (если судить по ярославским нянькам и книгам графа Толстого), а большевицкий нанос слетел, смылся. Что снова — нет, не снова, а в первый раз! — остались они одни под русским небом: народ и они, культурные русские люди. Больше не стоит между ними «третье сословие» — провинциальные робеспьеры в пледах, породившие язык и стиль советской цивилизации. Кстати, отсюда, из этого чувства, в повести и французский XVIII век — предреволюционный, где есть большие господа и простые люди… o:p/
Может быть, именно поэтому от текста Петрова исходит это странное ощущение ровного, неколебимого счастья, никак не соответствующего сути происходящего. Казалось бы, ни время (советское, да еще и война к тому же), ни место (военмедпоезд), ни собственно любовный сюжет, заканчивающийся гибелью «русской Манон», этого не предполагают. Но — враг больше не ты и не твоя семья, а «он». И он — там. Понятно где и почему. o:p/
Не Большой Террор, а Большая Война. В сущности, для таких людей, «потомственных врагов», большое облегчение участи. Счастье. Война как зона утопической свободы и восстановления естественного состояния мира — человеческих чувств и отношений. o:p/
Разумеется, после войны эта иллюзия была немедленно уничтожена — и как это чаще всего бывает в России, не путем запрета, а путем доведения до абсурда — на скорую руку стали сколачивать «Россию Александра III», и эта Россия, несмотря на погоны и фуражки повсюду и возрождение петушкового стиля в социалистической культуре, никому уже не могла стать родной. Можно было рукой махнуть и забыть. Что они — выжившие из них — и сделали. Но здесь, в повести Петрова, зафиксирован и законсервирован — теперь, думаю, навсегда, потому что повесть эта никуда уже не денется из нашей литературы — воздух проживаемой утопии, воздух счастья. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
6. Что такое Турдей и где он находится o:p/
o:p /o:p
Турдей... Для рассказчика это звучит как-то по-французски: Tourdeille ... Никто не знает этого названия, нужны были специальные разыскания (в наше время, конечно, незатруднительные), чтобы узнать, что Турдей — небольшая железнодорожная станция в сердце России, в Тульской области. o:p/
Эта информация, внешне вполне незначительная, может рассказать многое. Истории «советской Манон» назначено происходить в одной из важнейших для русской литературы областей России. Тульская и Орловская губернии, родина и/или место жизни величайших русских писателей XIX века: Жуковского, Льва Толстого, Тургенева, Фета, Лескова — вплоть до Бориса Зайцева. Здесь у многих из них были поместья, здесь, в губернских городах Туле и Орле, они ходили в школу, иногда служили по чиновничьей части. Здесь происходит действие многих базовых текстов русской литературы — «Записок охотника», значительных фрагментов «Войны и мира», многих рассказов и повестей Лескова... В поздней лирике Фета мы буквально видим, слышим и осязаем природу этой местности. Здешние крестьяне всегда превозносились за чистоту и богатство их языка, что, несомненно, пошло на пользу сочинениям их помещиков. Всеволод Петров одним уже выбором места действия ставит свою новеллу своего рода завершающим звеном (как он, вероятно, сам полагал) в очень длинную цепь. Немаленький замах маленькой повести! o:p/
Когда Петров, постепенно отвлекаясь от полемики с Верой Пановой, писал свою «Манон», он, несомненно, вспоминал другой «несоветский» утопический роман, не знать которого не мог. Предпоследнее звено упомянутой цепи. Речь, конечно, идет о «По ту сторону Тулы» Андрея Николева (А. Н. Егунова, 1895 — 1968) (1931, изд-во писателей в Ленинграде; тогда, в начале тридцатых годов, такое еще могло быть опубликовано!). Действие романа Николева происходит, собственно, ни больше ни меньше как в Ясной Поляне, имении Льва Толстого, и построено на схожих принципах редукции и индивидуальной утопии. В один из экземпляров своего романа Николев вписал жанровое обозначение: советская пастораль , что говорит само за себя. Но если николевская утопия была очевидной попыткой с негодными средствами (разумеется, только в этом смысле — в смысле персональной защиты от варварства), была утопией побежденного, оттесненного, то утопия Петрова производит впечатление устойчивое, почти победоносное. o:p/
Егунов, поэт, прозаик, переводчик с древнегреческого, принадлежал в 1930-х годах к ближнему кругу Михаила Кузмина и описывается в петровских воспоминаниях о Кузмине самым восторженным образом: Егунов, полагал Петров, был единственным человеком и единственным поэтом, у которого можно было обнаружить творческое и личное сходство с Кузминым. o:p/
В 1960-х годах Егунов, после всех его жизненных перипетий (которые сегодня общеизвестны и не нуждаются в подробном изложении) вернувшийся в Ленинград, стал, как и сам Вс. Петров, одним из центров «передачи культуры». Круг молодых людей — поэтов, историков, литературоведов, художников, собирающих по крохам сведения о «той культуре» и «том времени», — ходивших к Егунову и Петрову (и не только к ним, конечно, — незабвенна в этом смысле роль Якова Друскина, спасшего хармсовский архив и начавшего им осторожно делиться!), как некогда сами Егунов и Петров ходили к Кузмину, частично совпадает. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
7. Всеволод Петров, кто он был o:p/
o:p /o:p
Всеволод Николаевич Петров происходил из старинной дворянской фамилии (известной с XV века): на репинском «Заседании Государственного Совета» изображен его дед, Николай Павлович Петров (1836 — 1920), инженер, генерал, член Совета с 1900 года. Отец Петрова, еще один Николай Петров (1876 — 1964), был знаменитым медиком, основателем онкологического института в Петербурге (который и сейчас носит его имя). Люди, знавшие Петрова, вспоминают, что он никогда не забывал всего этого и держался чрезвычайно необычно для времени, в котором судьба определила ему жить: ледяная петербургская вежливость, безупречные манеры, литературный и художественный вкус, сначала изумлявший, а потом восторгавший приходивших к нему молодых людей <![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> . o:p/
В 1932 году двадцатилетний Петров становится сотрудником Русского музея и учеником Николая Пунина (1888 — 1953), одного из самых значительных русских искусствоведов. o:p/
В году 1949-м, в результате критики Пунина и его деятельности (конечно, сказано очень нежно — это была не критика, а канонады ругани во всех основных советских культурно-надзирательных изданиях и на всех соответствующих собраниях и заседаниях), Русский музей вынужден был оставить и Вс. Ник. Петров. В отличие от Пунина, он не был отправлен в лагерь, не был даже арестован. Он только принужден был искать возможности для дальнейшего существования. И стал «вольным литератором», автором монографий и биографий, энциклопедических статей. Можно сказать, что Всеволод Петров завоевал себе вполне комфортную «нишу» в, несомненно, презираемой им советской культуре. o:p/
К 1960-м годам он высоко оценен как официальным культурным аппаратом, так и остатками старых культурных элит Ленинграда, а также юными тогда неофициальными писателями (чей круг только нарождался). Среди последних был, например, и Александр Миронов (1948 — 2010), в будущем один из значительнейших русских поэтов конца ХХ века. Происходила интенсивная «передача культуры», обеспечивающая потаенное продолжение русского модернизма 20 — 30-х годов. o:p/
o:p /o:p
От Петрова дошли до нас лишь очень немногие тексты, которые можно было бы отнести к «художественной литературе». Собственно, если не считать нескольких философских миниатюр и блистательно написанных воспоминаний о Кузмине, Ахматовой, Хармсе <![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]> (и некоторых ленинградских художниках), к ней относится только «Турдейская Манон Леско». Зато это один из важнейших и содержательнейших текстов русской литературы ХХ века. Можно было бы сказать, что это в известном смысле ключ (один из ключей? может быть и не единственный, но, может быть, и главный!) к загадкам российской истории культуры — ключ, шестьдесят лет пролежавший в ящике письменного стола знаменитого советского искусствоведа Всеволода Николаевича Петрова, но нисколько не проржавевший и совершенно сохранный. o:p/
Часть вторая o:p/
o:p /o:p
СОВА И ЗАЯЦ, или ПАВЕЛ ЗАЛЬЦМАН o:p/
o:p /o:p
1. Кто был Павел Зальцман o:p/
o:p /o:p
В январе 1955 года в Ленинград, впервые со времени эвакуации из блокированного города и мучительного переселения в Казахстан, приехал Павел Яковлевич Зальцман (1912 — 1985), одноклассник Всеволода Петрова по 1-й Советской школе. o:p/
Зальцман жил в Казахстане как бы на поселении и не имел права выезжать из Алма-Аты как «этнический немец» — его отец, полковник царской армии, художник-любитель и поэт-дилетант, действительно был немец по происхождению, мать — кишиневская еврейка, крестившаяся ради этого брака. Как бы — потому что все-таки он не был высажен в степи с парой лопат, как миллионы поволжских немцев, хотя это постоянно грозило и ему, а работал на «Казахфильме» <![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]> художником-постановщиком и даже преподавал историю искусств в местном Художественном училище, Казахском госуниверситете и Казахском педвузе, для чего ему пришлось придумать никогда не бывавшее высшее образование <![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]> . На самом деле сразу после школы Зальцман пошел работать на киностудию (тогда еще не «Ленфильм»), где от рабочего-подсобника поднялся до художника-постановщика. В вуз бы его не приняли — для представителей «эксплуататорских классов» существовали многочисленные ограничения — и особенно в смысле высшего образования. Ограничения эти были иногда обходимы — но, конечно, не для всех. Отец Зальцмана, бывший полковник, после восьмилетних скитаний по Югу России осел в Ленинграде скромным бухгалтером, отец же Петрова был знаменитым врачом-онкологом, от него зависели многие, в том числе и высокопоставленные советские люди. Не смею утверждать, но предполагаю, что с этим обстоятельством связаны были и сравнительно мягкие «санкции» против Петрова по делу Пунина — «лишь» изгнание из Русского музея. Для Пунина все это, как известно, закончилось гибелью. Но вернемся в 1955 год. o:p/
o:p /o:p
Зальцман привез с собой дочку Елену, по-домашнему Лотту. Благодаря ее любезности мы можем прочесть его дневниковую запись: o:p/
«Уходим с Лоттой <из киностудии>, обедаем и едем к Глебовым. Сперва просмотр „выставки” Владимира Васильевича, затем приезжает специально приглашенный Петров. Мое чтение. Они просят еще, в конце концов — вся тетрадь». o:p/
«Глебовы» — это художники Т. Н. Глебова, как и Зальцман, ученица Филонова и участница его МАИ («Мастера аналитического искусства»), и ее муж, В. В. Стерлигов, ученик Малевича. o:p/
Возвращаться в Ленинград Зальцман впоследствии не захотел (такая возможность была: его вторая жена, И. Н. Переселенкова, с которой он познакомился в тот же приезд, перебралась к нему в Алма-Ату, но сохранила ленинградскую прописку). Город стал ему чужим, в подвальной квартире на Загородном, где умерли в блокаду его отец и мать, жили чужие люди. Позже, в 60-х годах, у него стала быстро складываться карьера в Алма-Ате, что на «Ленфильме» и в ЛОСХе представлялось вещью маловероятной — достаточно было взглянуть на нищенскую петергофскую жизнь Стерлигова и Глебовой. Но наезды в Ленинград продолжались. Вот что пишет Елена Павловна Зальцман о визите к Петрову в году предположительно уже 1967-м. Поскольку пишет она прекрасно, не пересказываю, а цитирую (разумеется, с разрешения автора) ее письмо: o:p/
«...Я тогда уже преподавала историю искусств где только можно, рьяно готовясь к лекциям по всевозможным курсам. В частности я пользовалась и ёИсторией русского искусства”, издание которой оборвалось на какое-то время на девятом томе (Суриков), и было заявлено, что под редакцией В. Н. Петрова ожидается десятый том, посвященный концу XIX — нач. XX века. Это было событие. В программах этот период значился так: ёМутная волна декаданса, захлестнувшая русскую культуру”. Но ведь значился! И я, по разрозненным журналам („Аполлон” и „Золотое руно”), взяв папу за жабры, разумеется, написала курс (на часов 6-8) по „Миру искусства”, надеясь, что вот-вот смогу его расширить по 10-му тому. Однако вышел 11 том — ленинский план монументальной пропаганды . А я, пользуясь провинциальной безнаказанностью, читала что знала и как могла. И вот я попала к Петрову с переплетенными листочками и трепетно исправленными орфографическими ошибками. До этого папа ничего о Петрове не рассказывал, а мама упоминала о нем: „Осколки разбитого вдребезги”. Судя по количеству звонков на двери, это была густо населенная коммунальная квартира, огромная, видимо. Папа сказал, что когда-то вся принадлежала В. Н. Его комната представляла собой узкий коридор с каким-то огромной высоты потолком, думаю, метра четыре, с выступающим куском ампирной лепнины. Потом я таких перегородок видела много в ленинградских домах. Мебель была тоже ампирная — диванчики, маленький круглый столик, было много фарфора: Гарднер, Севр, вероятно. Он налил чай в изящные чашечки с очень маленькими неудобными ручками, и я тут же свою перевернула. Но мне предстояла еще одна волна стыда, когда я в полной мере ощутила себя девочкой из алма-атинской гостиницы „Дом Советов”. Разумеется, я совершенно не помню, о чем они говорили, так как готовила свой вопрос. Я сказала, что написала про „Мир искусства” и не захочет ли Вс. Ник. посмотреть. Он взял папочку, полистал, даже на чем-то задержался и спросил, какова цель моей работы. И я бойко ответила, что хочу написать диссертацию. Лицо у В. Н. стало вежливо-ироничным, и он что-то сказал, вроде что цель тривиальна. Впрочем сказал еще, что тезисы о плоскостности и условности формы, вытекающие из театральности и ретроспективизма, правильные, и дальше они с папой об этом говорили. А я провалилась в отхлань стыда за свой прагматизм. А ведь тогда я еще не знала, что должна представлять собой советская диссертация по истории искусств, как и того, что В. Н. Петров был одним из немногих, кто не замарал себя заигрыванием с псевдонаучными правилами „защиты”. Впрочем, через десять лет я все же написала свою работу по анализу, но времена были уже полегче в плане идеологического прессинга. o:p/
Я запомнила В. Н. вот таким: небольшого роста, бледный, даже с желтизной, очень хрупкий, изящный, в чем-то сером <![if !supportFootnotes]>[18]<![endif]> . o:p/
Вот и все, но все мои воспоминания вот такие, очень субъективные, знала бы я тогда, что нужно внимательнее смотреть по сторонам и слушать. О том, что В. Н. и писатель, я узнала из Вашего журнала <![if !supportFootnotes]>[19]<![endif]> и прочла „Турдейскую Манон”, И подумала, как непохожи были эти одноклассники друг на друга. У Петрова такая прозрачная чистая проза, такой незамутненный родник, правда в обрамлении примитива и грязи теплушки, но все же хрустально чистый. И никакой бомбе его не разрушить. А у папы мир разорванный и разломанный, с летящими с бешеной скоростью осколками, уничтожающими все живое, разрывающими и плоть человека и плоть мироздания. Такие контрасты. Вот уж где точно „осколки разбитого вдребезги”». o:p/
o:p /o:p
«Дружили ли Петров и Зальцман в школе?» — спросил я. — «...Я думаю, что в школе такие „мажоры”, как мой папенька и его друг Борис Карпович, которые над всеми издевались, были в другой компании, чем утонченный дворянин Петров. Но общий дух школы удивителен...» — ответила Елена Павловна. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
2. Осколки разбитого вдребезги o:p/
o:p /o:p
Осколки разбитого вдребезги — это очень точно сказано, и перенос с одного на другого тоже точный: оба они были осколки разбитого вдребезги . Но разные осколки. И очень может быть, что только рассмотренные вместе они создают полную картину: что было разбито и что из осколков удалось, хотя бы отчасти, использовать в дальнейшем. o:p/
Напомним, что в России, по крайней мере начиная с последней трети XIX века, было две «интеллигенции», а не одна. Собственно интеллигенция — «сутулые в пледах», борцы за прогресс и лучшее будущее, благородные личности — и «культурный слой», плод экономического подъема, начавшегося после реформ Александра II («бывали хуже времена, но не было подлей», — возмущался Н. А. Некрасов, бессознательно (?) понимая, что прежние, «феодально-крепостнические» времена были для него, в сущности, лучше — можно было сеять разумное-вечное, проигрывать деревни в Английском клубе и вполне прилично зарабатывать на тиражах и статусе «Современника»). o:p/
Отчетливо этот слой служилой и хорошо оплачиваемой «другой интеллигенции» проявляется в царствование Александра III, и именно второе-третье поколения этого слоя — дети и внуки поминавшейся уже «реакционной профессуры», высокопоставленных юристов, штатских и военных генералов по инженерному и научному ведомству, богатых и полупросвещенных фабрикантов, но вовсе не непременно «из дворян» или «из купцов», а хотя бы и из «кухаркиных детей», как Сологуб, — все эти Брюсовы, Блоки, Белые, Ивановы создали русский литературный модернизм, или, если угодно, Серебряный век. o:p/
Большевистский переворот был антропологической победой одной интеллигенции над другой. «Культурный слой» (вообще говоря, численно уже немаленький), обеспечивавший в российском модернизационном проекте постепенное нарастание цивилизационной составляющей, был вытеснен за границу, уничтожен, в том числе и физически, и на его место — вследствие практической необходимости — была в срочном порядке воспитана «рабоче-крестьянская интеллигенция» (в том числе и сначала по преимуществу из привыкших учиться и, соответственно, быстро обучаемых детей еврейской бедноты), потомками которой в том или ином поколении (первом, втором или третьем) являются большинство советских и постсоветских интеллигентов, включая сюда, конечно, и автора этих строк. o:p/
Остатки культурного слоя доживали, мимикрируя (а то и действительно мутируя) или укрываясь в локальных утопиях — пока было можно, коллективных (кружки, семейные кланы, бытовые обряды и пр.), а к концу 30-х годов — в утопиях личных и тайных. Однако же «разбитое вдребезги» — это не «до революции», хотя Роза Залмановна Магид, первая жена Зальцмана, учившаяся в той же самой 1-й Советской школе, несомненно, имела в виду именно старую разрушенную... — культуру? цивилизацию? Скорее цивилизацию. Эту цивилизацию Петров, не говоря уже о Зальцмане, сыне провинциального чудака-военного (оба 1912 г. р.), мог знать только по осторожным рассказам семейно-дружеского круга, по домашнему воспитанию — скорее как образ, чем как точное ощущение, с каким себя определенно идентифицируешь. Этот образ он проявленно нес, в том числе и в своем поведении, в манере держаться, о чем уже говорилось. Но то было скорее внешнее проявление внутреннего несогласия. o:p/
Было, однако, явление, к которому — хотя и к очень разным его слоям — оба одноклассника принадлежали лично, были им до известной степени внутренне воспитаны. Это явление — ленинградская литературно-художественная среда 20-х — начала 30-х годов, не просто среда, а скорее локальная культура, не воспроизведение (невозможное в социокультурных обстоятельствах) «старой культуры», культуры русского модерна, а совершенно новый по структурам, отношениям и творческим результатам феномен, которого мы уже касались в первой части нашего «почти повествования», — ленинградская полу- и неофициальная культура 20 — 30-х годов, «разбитая вдребезги» в середине 30-х. Структуры ее, взаимоотношения основных участников, установки и результаты требуют, конечно, подробного изучения, но уже можно сказать, что эта культура возникла как «правая» (в эстетическом и чуть-чуть политическом смысле), т. е. «модернистская», т. е. сконцентрированная вокруг символистского и акмеистского наследства и переживших его «мэтров» (в первую очередь это круг Кузмина, ученики Гумилева, Ахматова и ее узкий круг <![if !supportFootnotes]>[20]<![endif]> ). С постепенным вытеснением из официальной культурной жизни «авангардистов», т. е. эстетически и очень даже сильно политически «левых», с постепенным наступлением по всем фронтам интеллигентского культур-мещанства, к культуре этой стали постепенно присоединяться извергаемые «революцией» представители «революционного искусства» — такова, например, эволюция обэриутов. Таким образом образовалась своего рода эстетически двусоставная локальная культура, элементы которой постепенно проникали друг в друга: достаточно сравнить поздние, «экспрессионистские», прекрасно-неясные стихи Кузмина с его «прекрасной ясностью» или раннюю «левую заумь» Введенского и Хармса с их позднейшей «правой бессмыслицей». o:p/
Другими словами, все это с точки зрения побеждающей и к середине 30-х годов победившей нормативной культуры был «формализм» — правый или левый. Или даже «право-левый». Или «лево-правый». o:p/
В отличие от фантомов сталинской юстиции ( лево-правый уклон , право-левая оппозиция ), право-левый и лево-правый формализм фикцией не являлся. Если Вс. Ник. Петров с его подчеркнутой утонченностью, завсегдатайством у Кузмина — но: «последний друг» Хармса и любимый ученик Пунина, ставшего из мирискуснического критика членом партии и рупором революционного авангарда (и состоявшего с Анной Ахматовой в своего рода эмблематическом лево-правом супружестве) — очевидно «право -левый», то филоновец (с 1929 года) Зальцман, написавший километр заумных стихов <![if !supportFootnotes]>[21]<![endif]> , человек из «ленинградских трущоб», так выразительно описанных в «Щенках», без корней и без истории, дольшей, чем одно-два поколения <![if !supportFootnotes]>[22]<![endif]> , — и поэт, и прозаик, и художник — «лево -правый». О стихах его мы говорили отдельно и подробно, чтобы себя не повторять, отсылаю к соответствующей статье <![if !supportFootnotes]>[23]<![endif]> . Пора поговорить и о прозе. Эта проза, в ее лучших проявлениях, имеет огромное значение для ретроспективной истории русской литературы. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
3. Более чем реальные сны, более чем сновидческая реальность o:p/
o:p /o:p
Выпущенная в 2012 году и ставшая событием книга прозы Зальцмана <![if !supportFootnotes]>[24]<![endif]> содержит некоторое количество рассказов, маленькую сатирическую повесть «Memento» и — самое важное! — роман «Щенки», писавшийся с 1932 по 1952 год. Незадолго до смерти Зальцман вернулся к рукописи. Слава богу — он ничего не попортил непоправимо (что само по себе бывает), но нельзя сказать, что роман закончен и имеет окончательную или почти окончательную рукопись. Счастьем иметь опубликованный текст мы обязаны каторжной, вероятно, работе Алексея Зусмановича (мужа Е. П. Зальцман), Ильи Кукуя и Петра Казарновского по расшифровке и сложению зальцмановских черновиков. o:p/
Рассказы особого впечатления не производят — по большей части это маленькие фантасмагории в тех или иных историко-культурных кулисах. Во многих случаях автор отмечает, что увидел тот или иной рассказ во сне, и это и есть их основная проблема — сновидения, как правило, очень плохо переводятся в литературу, у них есть собственная логика, с художественной малосовместимая. Вроде бы все хорошо, и страшно, и красиво, но в какой-то момент ты понимаешь, что это чужой сон, а не твой собственный. Большая литература создает твои сны, а не пересказывает сны авторов. o:p/
Повесть хорошая, в традициях сатирической повести 20-х годов (хотя бы и того же Зощенко — не по интонации, но на уровне строения и по принципу иронического дистанцирования рассказчика от персонажей, что, конечно, не исключает эмпатии), но с совсем иной степенью свободы в показе реалий советской жизни — автор ведь не собирался ее печатать. Тем более, что изображаемая действительность — будни и люди уже тыловой Москвы военного времени. o:p/
Все это хорошо и мило, но, на мой вкус, не очень серьезно. «Щенки» же вовсе не милы, но очень и очень серьезны! Чтобы потом к этому не возвращаться, сразу выскажу свое убеждение: o:p/
o:p /o:p
« Щенки» одним своим появлением в зоне нашей видимости изменяют историю русской прозы ХХ века и ее иерархии! o:p/
o:p /o:p
Советская (раннесоветская, но и вечносоветская) реальность приобретает в «Щенках» страшную убедительность сна — но нашего сна, снящегося по ходу чтения. Незаконченность, при всей окончательности, является, судя по всему, основополагающим качеством этого текста — что, между прочим, никак не относится к другой известной нам прозе Павла Зальцмана <![if !supportFootnotes]>[25]<![endif]> и совершенно нетипично для его живописи и графики. Он же был учеником Филонова, проповедовавшего абсолютную точность и законченность, и эта законченность присутствует во всех картинах и графических листах Зальцмана. П. Н. Филонов и сам удивился. Вот отрывок из его дневника 1933 года (приведенный в содержательном послесловии Ильи Кукуя, где, правда, есть вещи, с которыми я никак не могу согласиться, — например, сближение «Щенков» с неудачным и капитулянтским романом Пастернака): o:p/
«Зальцман принес свою литературную работу „Щенки”. <...> У Зальцмана удивительно острая наблюдательность и гигантская инициатива, но вещь полудетская, сырая, „первый слой”. Отдельные куски его работы — например, дождь на лужайке у сибирской тайги под Минусинском, где он был на съемке „Анненковщины” с кинорежиссером Берсеневым, — почти удивляют» <![if !supportFootnotes]>[26]<![endif]> . o:p/
Павлу Николаевичу Филонову, великому художнику и своеобразному мыслителю, но убежденному коммунисту федоровского толка, своего рода Платонову живописи, была совершенно чужда черта, Зальцману, несмотря на все его «мажорство», видимо, прирожденная, — острое ощущение наличия (точнее, отсутствия в окружающей жизни) цивилизационной нормы. Именно это качество зальцмановского текста кажется Филонову «полудетскостью». Это качество могло бы показаться ему и вредным (или даже антисоветским) мещанством, но при хорошем отношении он воспринял его как слабость, неокончательность. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
4. Неправильная жизнь o:p/
o:p /o:p
Не только в «Щенках» — в любой зальцмановской прозе, независимо от ее качества, очень сильна и ощутима эта нарушенная, порушенная жизненная норма. Она нигде не декларируется и нигде не демонстрируется, и, может быть, по крайней мере в первой половине жизни, она и для автора была неосознаваема, но из всех его текстов буквально вопит: жизнь не должна быть такая: люди не должны терзать друг друга по малейшему желанию и при малейшей возможности, дома нужно красить, лошадиные яблоки нужно вывозить с проезжей части, поездам следует ходить по расписанию, а солдатам — защищать родину, а не грабить и насиловать ее население... Практически все, что есть в прозе Зальцмана, не должно существовать в жизни! Вот отрывок из рассказа «Лошадь в яблоках» (редакция октября 1944 года, но начат, несомненно, раньше), почти «на расхлоп»: o:p/
«...За окном гастронома мясник рубил кости топором. Два куска белой сахарной и пористой, так называемой мозговой, отлетели от прилавка. В это время раздался крик: „Держи, держи!” Один из покупателей на собачьем меху схватил за руку мальчика-шпингалета, который ухватил кость и зажал ее, так что все перепуталось. С визгом и криком „Вор! Вор!” он не выпускал его, и тот тоже. <...> Но в это время мальчик Аркашка укусил его в руку и, блестя каплями крови на губах, выкатился из лавки». o:p/
Вот этого всего и не должно быть — ни мясника, ни очереди, ни покупателя на собачьем меху, и ни мальчика-шпингалета! o:p/
Именно диктуемые этим «не должно быть» возникают у Зальцмана сцены почти непереносимой жестокости. Вот драка, неважно кого с кем, из первой, сибирской части «Щенков»: o:p/
«Неловкий мужик зажал ногу в сапоге выше колена. Проводник отбрыкнулся в зубы. Мужик не выпустил, рванул обеими руками, палка ударила концом в песок; и покатились с насыпи двое, срывая стебли; на ходу, хотя и под пятьдесят, но с широкой костью, вдавил проводнику ребро, внизу навалился и вмял глубоко в траву, выдавив покрывавшую воду, — она влилась в рот, так что после долгого крика только раз булькнуло, — и поднялся с колен один. Сверху еще падают, роя локтями землю, над ними танцуют, крутя палку, пока мужики со стороны не валят камнем по голове. Камнем вышло сильней, чем палкой. Другого освободившийся проводник хватил за шею сзади и гнет назад; голодный, не сопротивляясь, пробует ногами бежать, руками рвется в сторону, но падает на спину; проводник ступил на ухо коленом и, навалившись, душит, вырывает из зубов лоскут шерсти; сверху свалился топор и пробил ему череп; он падает на хрипящего мужика, тот выползает, выплевывая песок, на коленях и тянет, хрустя зубами, за отступающие ноги. На тело садится второе...» o:p/
Подобных — и еще более подробных — сцен в «Щенках» много. Конечно, можно сказать, что вся раннесоветская литература о революции и Гражданской войне, точнее, ее «экспрессионистский фланг» — «Россия, кровью умытая» Артема Веселого, отчасти Пильняк, несомненно, страшные «Два мира» Владимира Зазубрина (в сущности, первый роман о Гражданской войне, задавший до известной степени тон всему последующему) — построена на натуралистическом изображении безудержного насилия, а первые два «локуса» зальцмановских «Щенков» — сибирский и приднестровский — несомненно основаны на этой литературе (так же как последняя, ленинградская часть базируется до известной степени на ленинградской «физиологической» прозе 20-х годов — Николай Баршев, Вас. Андреев...). Литературные источники в «Щенках» несомненны, причем, скорее всего, это преимущественно «текущее чтение», актуальная советская проза 20 — 30-х годов, но Зальцман последовательно лишает изображаемое полюсности. Зазубринские крестьяне-сибиряки не менее страшны и жестоки, чем колчаковцы, но они правы . Вообще в прозе 20-х годов, показывающей революцию и Гражданскую войну, всегда очевидно разделение на стороны — грубо говоря, здесь белые, здесь красные, здесь зеленые. И кто-то из них непременно прав, в зависимости, конечно, от личных обстоятельств автора и места публикации текста. В довольно обширной эмигрантской литературе о Гражданской войне полюса, естественно, поменяны местами, правы не те, а другие! — но эти полюса (почти <![if !supportFootnotes]>[27]<![endif]> ) всегда существуют. Для простоты можно сравнить первую, «эмигрантскую» редакцию «Хождения по мукам» А. Н. Толстого с их позднейшими, советскими изданиями. Вот всего этого у Зальцмана не найдешь. Нельзя сказать также, что у него все правы или неправ никто. Проблематика правоты/неправоты в «Щенках» просто-напросто снята, точнее, существует в области невидимой нормы. Правота/неправота должна была бы существовать, но в этом мире ее нет и быть не может, что превращает его в мир в отсутствии права , где с каждым может случиться все что угодно. o:p/
o:p /o:p
Дело здесь не в самой дикости и убогости изображаемой Зальцманом жизни — может быть, у Зазубрина жестокости и дикости с обеих сторон и побольше будет, да и изображены они еще резче, поскольку у него, естественно, полностью отсутствует метафорический/метафизический уровень зальцмановских «волшебных животных» (щенков, гениального зайца, спешащего к любимой, демонической совы), но жестокость «красных партизан» он оправдывает, а «белых» клеймит со всей однозначностью редактора красноармейской газеты. Может быть, блатной нэповский Ленинград изображен в раннесоветской прозе 20-х годов еще и похлеще, но удивительное качество Зальцмана — он нигде и никогда, ни в «Щенках», ни в рассказах не соглашается признать, что так оно есть, потому что так оно есть . Потому-де что «Революция» (обычное объяснение раннесоветской прозы). Это тем более удивительно, что — еще раз напомню! — Зальцман никакой старой жизни не знал, никаких карандашей и сачков для бабочек, никаких вежливых официантов и грубоватых половых. Но его ощущение, что нет, так быть не может, не должно, — никогда ему не изменяло. Почти физически ощущается острая и еще не улегшаяся боль, с которой тремя революциями и мировой войной была сорвана с России тонкая пленка цивилизации. То, что мы видим в «Щенках», — голое, пульсирующее, еще не начавшее подсыхать мясо России. Практически — неверные Фомы и беспрозванные Иваны — мы можем вложить персты в ее раны. o:p/
o:p /o:p
Пожалуй, единственное (но очень существенное!), что объединяет прозу таких непохожих одноклассников <![if !supportFootnotes]>[28]<![endif]> , — это отказ от социально-общественных, конкретно-исторических индикаторов. Как в повести Петрова последовательно игнорируются все, по крайней мере внешние, приметы «советского», так и у Зальцмана сняты все однозначные маркировки времени действия. Разумеется, читатель понимает: время — Гражданская война в Прибайкалье/Приднестровье (хотя в Приднестровье это больше напоминает революцию 1905 года), а потом НЭП в Ленинграде, так же, как понимает он, что в война в повести Вс. Петрова не Первая, а Вторая мировая. Но — в Прибайкалье и Приднестровье действуют не красноармейцы, не белогвардейцы, а крестьяне, голодные , т. е. кочующие в поисках пропитания беженцы из районов, охваченных тотальным голодом, и — внимание! как и у Петрова — солдаты. В Ленинграде же мы даже милиционера на улице не встретим, даже лихо проносящихся на чихающих испано-сюизах угрошников в поисках за Ленькой Пантелеевым . Речь идет не об эскапизме как таковом — крушение эскапистской культурной позиции очень наглядно продемонстрировано у Петрова, — речь идет о попытке достижения личной, внутренней, авторской независимости от системы советской культуры и, главное, от советской речи, несущей в себе микробы изменения личности. o:p/
Отчасти это напоминает знаменитые рассказы Пу Сунлина (1640 — 1715) о лисах, духах и монахах — действие их происходит в современном автору Китае, завоеванном и полностью подчиненном маньчжурами. Но никаких признаков не то что маньчжурского владычества, а и вообще, кажется, ни одного маньчжура у Пу Сунлина не наблюдается, такой своего рода протест с помощью выведения за скобки. Может быть, у ленинградской неофициальной литературы 70 — 80-х годов так нехорошо было с прозой (в отличие от стихов), что она эту технику не осознала и этой техникой не овладела. (О двух основных прозаических текстах 60-х годов — о «Летчике Тютчеве» Бориса Вахтина и «Одном очень счастливом дне» Олега Григорьева — следует говорить отдельно, но ни Вахтин, ни Григорьев ни формально, ни по сути не принадлежали к неофициальной литературе, возникшей уже в 70-х, после смерти Аронзона и отъезда Бродского.) o:p/
o:p /o:p
Всякая неофициальная культура стремится (или ей следовало бы стремиться) избежать главной ловушки — языка времени. В советской истории таких культур как полностью сформированных, замкнутых и самодостаточных культурных общностей с собственными правилами существования и собственными языками описания и коммуникации было, собственно, только две: ленинградская 20 — 30-х годов, о которой мы много говорим на этих страницах, и ленинградская же 70 — 80-х годов — культура Елены Шварц, Александра Миронова, Виктора Кривулина и многих других. Одно из ее самоназваний — «вторая культура», — общепризнанно неудачное и кем только, включая и автора этих строк, не обруганное за признание «первенства» официальной советской культуры — оказалось вдруг совершенно точным: она и была второй неофициальной культурой по отношению к первой . Только ту надо было еще открыть <![if !supportFootnotes]>[29]<![endif]> . o:p/
Можно сравнить это с садиком, который весь выморозило, а через некоторое время из перезимовавших корней и семян поперли растения — одичавшие, лишенные культурной дрессировки — но все же живые. И сразу начали цвести и плодоносить — диковато, но ярко. Вырос ли бы когда-нибудь настоящий новый садик, т. е. культивировались ли бы мы, дички, люди «второй культуры», сами? — вопрос праздный, времени на это нам не дали — снова, в конце 80-х, содрали тонкую кожицу с тела России. И может быть, именно потому и содрали, что боялись: а вдруг садик действительно воссоздастся, еще одно поколение, только одно поколение... o:p/
5. О «Щенках» o:p/
o:p /o:p
«Щенки» писались долго, с перерывами, и каждый раз автор возвращался к ним с несколько другим языком. И своим другим языком — язык меняется с возрастом, отражая в том числе физиологические изменения. И с другим языком времени , менявшимся в Советской России едва ли не каждые 7 — 10 лет. Но заданная с самого начала могучая энергетика фразы, могучий ветер прозы, наклоняющий любой синтаксис, любую лексику, обеспечили удивительную стилистическую однородность таких разных по материалу кусков. Вот образец этого «прозаического ветра» в начале романа: o:p/
«...Путь раскаленной пули из черного дула в закипающий дождь, через взлетевшие песчинки в срезанные стебельки, со свистом над норкой суслика, в дрогнувшую березу, раздробленную кору. Пуля вбита в твердый ствол, обтекающий сок мертвеет каменной коркой. o:p/
Одна забита, за ней летит сотня. Кузнечики сложили крылья. Сосновые шишки влипают в глину или бороздят песок. Трава, расходясь, свистит под прямыми дорожками. Суслик зигзагом катится в норку. Разбитый туман ложится и стекает в окопы, и дождь редеет. Солдаты напрасно ищут, скользя в глине. Разбуженная сова улетает в мокрую чащу...». o:p/
А вот цитата из «ленинградской части»: o:p/
«...После теплого дождя остаются бледные пятна снега. Под высокими домами с черными окнами еще никого нет. Только у забора стоит босая баба с закутанной трехлетней девочкой, у которой на тонкой шее свесилась голова. Еще держится предутренний неподвижный туман, сцепляющий веки; после духоты ночевки, проспав на цементном полу на вокзале, разламывает голову. Ее лихорадит. Она поворачивает острое лицо, ожидая...». o:p/
Мы видим, как изменения материала, персонала, повествовательных установок подчиняются этому могучему ритму. Создается однородная фактура текста (ну, или почти однородная), и на основе этой фактуры возникает единая структура романного текста (ну, или почти единая). Текст этот пересказывается или бесконечно долго и подробно, или очень коротко. Мы выберем второй вариант. o:p/
o:p /o:p
«Щенки» начинаются в Прибайкалье, на реке Уде, в местах, зрительно знакомых Зальцману по съемкам «Анненковщины», фильма о Гражданской войне в Сибири (1933, не сохранился). Мы видим войну всех против всех, голод, одичаниe <![if !supportFootnotes]>[30]<![endif]> , постоянноe нерассуждающеe насилиe. Причем видим все это по большей части как бы глазами двух щенков, ищущих в этой кровавой каше пропитания и любви. Именно любви, а не хозяина. Солдаты насилуют и грабят, кочевые голодающие воруют и нищенствуют, поезда перестают ходить, пассажиры пытаются добраться до следующей станции на перекладных, и, естественно, это плохо для них кончается... Надо всем парит страшный сова (это мужчина, да еще какой — вожделеющий всех человеческих женщин) — грабит, ворует (пока еще непонятно, зачем сове чемоданы с пассажирским барахлом). Нельзя сказать, что щенки очеловечены, — очеловечение было бы для них падением: они человечнее людей и в награду за это не изменяются, не стареют, не грубеют, проходя по всем частям романа. o:p/
Сибирская часть страшна, прекрасна, но сравнительно недолга — вскоре действие переносится в Приднестровье, в места, знакомые Зальцману по детским впечатлениям (Рыбница). Здесь оказываются, без особых объяснений, и щенки, и сова, уже наполовину очеловеченный, способный по желанию менять внешний вид. В приднестровской части происходит разрушение утопии богатства и сытости, данных счастливой природой. И утопии физиологической страсти <![if !supportFootnotes]>[31]<![endif]> , т. е. той же природы, разыгрываемой в драматизированных сценках, слегка похожих на маленькие пьесы Хармса. o:p/
И в Приднестровье появляются голодные и нищие бродяги, но здесь они сознательно используются перевозчиком Иваном Степановичем, ненавистником и завистником богача Балана, у которого он служит, для разрушения балановского дома и счастья. В целом создается ощущение, что действие этого куска происходит раньше действия части сибирской: начало революционных событий, причем если не пятого года, то 1917-го, между февральской и октябрьской революциями. Просто по атмосфере. Но время для нашего романа не слишком существенно, в отличие от пространства. o:p/
Здесь мы встречаем еще одно зальцмановское животное — гениально написанного и быстро погибающего зайца: o:p/
o:p /o:p
«...Заяц летит через пень, срывая землю когтями, и нежно жует губами, прыгая — о жене. „Залечу на страшный двор, проскочу мимо окон в сарай и со сжавшимся сердцем, подбирая зад, но непобедимый голод, впрочем с душой в пятках, однако в нетерпении. Утешаясь в страхах наглостью воровства — для придания отваги и силы жалости — из слабости. Проберусь сквозь кучи сена и утащу для тебя, белая, милая, прелесть моя, и принесу тебе морковки и моченых яблок. Угощу тебя в мягкие губы”. o:p/
<...> o:p/
Заяц одним прыжком перемахнул пруд. Запачкал белые лапки серой водой, грязной, и дальше летит в счастье на дальний холмик к полю. А зайчиха спит в норе, уткнувшись мордой в живот. В животе у нее неслышно движутся крохотные дети...». o:p/
o:p /o:p
К зальцмановским животным мы еще вернемся. А пока все действие и большинство оставшихся в живых персонажей первых двух частей переносятся в нэповский Ленинград, т. е. как минимум должно пройти лет пять с 1917 — 1918 годов, времени первых двух частей. Бывшие девочки повзрослели и стали несчастными женщинами, бывшие мальчики спились и тоже несчастны. Сова, частично позаимствовавший воплощение у рыбницкого богача Балана, погибшего сидя на толчке (одна из выразительнейших литературных смертей, мне известных), и носящий теперь имя Балабана, сделался совсем человек — хищный послереволюционный человек, как бы парящий над мелкой уголовной сволочью, замышляющей налеты и шантажи. И только щенки остаются щенками, верными паладинами выбранных в первых двух фрагментах «дам сердца». Со щенками все более или менее ясно, на них держится стереоскопия нелинейного повествования и одновременно последняя, не очень, впрочем, сильная надежда — на их упрямстве, на их верности, на их отказе взрослеть. А что же с совой и зайцем, для чего нужны они в этом романе, «что обозначают»? o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
6. Сова и заяц o:p/
o:p /o:p
Вся (кроме, вероятно, «Мелкого беса») проза русского модернизма зависима от поэзии, что в большинстве случаев является ее родовой слабостью. В некоторых вершинных проявлениях, в «Петербурге» Белого, например, это приводит, наоборот, к необыкновенным достижениям, хотя в среднем символистская проза ужасна. Собственно, и проза Кузмина, не символистская, конечно, но располагающаяся в смежном поле, парадоксальным образом теряет часть яркости за счет того, что в основе ее фактуры лежит не прозаическая фраза, а поэтическая строка, стих. o:p/
Л. Добычин (тоже вершинное проявление) доводит эту стиховую фактуру в прозе до совершенства, но сама процедура встречается и позже, вплоть до «конца эона». Например, при описании «любовных чувств» Вс. Ник. Петров пользуется в «Манон» своего рода пересказами знаменитых лирических стихотворений XIX века — Тютчева, Фета и пр. С одной стороны, это свидетельствует о недостатке собственного эмоционального опыта повествователя, с другой — это обычный ход для той культуры, к которой Петров принадлежал: выход из первичного, т. е. поэзии, во вторичное, т. е. в прозу. Поэтическая природа прозаической фразы Зальцмана очевидна. Для нашего романа мы можем продемонстрировать не источник, но другой росток из того же источника — одноименное стихотворение 1936 года (роман уже четыре года как пишется!): o:p/
o:p /o:p
Последний свет зари потух. o:p/
Шумит тростник. Зажглась звезда. o:p/
Ползет змея. Журчит вода. o:p/
Проходит ночь. Запел петух. o:p/
o:p /o:p
Ветер треплет красный флаг. o:p/
Птицы прыгают в ветвях. o:p/
Тихо выросли сады o:p/
Из тумана, из воды. o:p/
o:p /o:p
Камни бросились стремглав o:p/
Через листья, через травы, o:p/
И исчезли, миновав o:p/
Рвы, овраги и канавы. o:p/
o:p /o:p
Я им кричу, глотая воду. o:p/
Они летят за красный мыс. o:p/
Я утомился. Я присяду. o:p/
Я весь поник. Мой хвост повис. o:p/
o:p /o:p
В песке растаяла вода. o:p/
Трава в воде. Скользит змея. o:p/
Синеет дождь. Горит земля. o:p/
Передвигаются суда. o:p/
o:p /o:p
(«Щенки», 1936) o:p/
o:p /o:p
Вторая родовая проблема — уже не всей прозы русского модерна, конечно, но ее отдельных, обочинных составляющих («декадентской» прозы начала ХХ века или раннесоветской «революционной прозы», сохраняющей связи с «бытовым космизмом» предреволюционной эпохи): злоупотребление символическим. Это касается как неудачных сочинений больших мастеров (вроде «Творимой легенды» Федора Сологуба), так и несимволистской «декадентщины» на манер Арцыбашева. o:p/
o:p /o:p
«Щенки» — роман хотя и символистский (или постсимволистский, но с не опровергающим символизм ходом, как, например, орнаментальная проза 20-х годов, а прямо ему наследующим), но не символический . Некоторые персонажи в нем существуют на образно-обобщенном, или, если угодно, мифопоэтическом уровне, что не отрицает известных догадок об их значении, но никак не предполагает исходной заданности этого значения. Снятие уровня вины/правоты (для людей!) — это и есть один из способов отказа от символического уровня. Но зальцмановские «волшебные животные» очевидно что-то значат — для автора и для нас. o:p/
o:p /o:p
Я долго думал: почему именно сова — существо, получившее микроб сознания в результате людских забав с раненым совенком в поезде, ползущем сквозь охваченную Гражданской войной Сибирь, — сделалась главным инфернальным персонажем книги? Бывают ведь животные и даже птицы и страшнее, и мерзостнее? И вдруг догадался: по фонетическому, поэтическому сближению сова для Зальцмана — советское, даже совецкое в его развитии от животной (с окровавленным клювом Гражданской войны) до человекоподобной (в нэпманской шубе) и, быть может, еще более отвратительной формы. Вот ведь действительно, и здесь фонетика — служанка ну, не серафима, конечно, не отражения Божественной Любви, но, скажем, херувима , отражения Божественной Мудрости. o:p/
И тут, «фонетическим методом», открывается и смысл зайца, помните? — «Заяц летит через пень, срывая землю когтями, и нежно жует губами...»: заяц — Зальцман. Заяц — не Зальцман, но Зальцман, вероятно, немножко заяц в его суетливой, отчаянной семейности, в его любви к подруге, в животе у которой «неслышно движутся крохотные дети», в его небеззащитной беззащитности. Заяц, частный, отдельный любитель капустки, никак, в сущности, не привязанный к действию, к истории, к стране, к отношениям с людьми, погибает, как ни старается выжить и для себя и для зайчихи и ее «крохотных детей», и это, вероятно, та судьба, которой постоянно боится для себя автор — частный человек между молотом и наковальней, не знающий ни абсолютного благородства щенков, ни абсолютной подлости совы. Погибнуть можно, в сущности, и от того, и от другого — и заяц погибает от того и другого. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Заключение o:p/
o:p /o:p
Итак, общее правило: o:p/
o:p /o:p
средняя модернистская проза первой трети ХХ века хуже средней реалистической прозы того же времени, но вершины ее далеко, т. е. высоко превосходят вершины реалистической литературы от Горького до Шолохова (зрелого Чехова мы, с вашего разрешения, «реалистом» не числим). o:p/
o:p /o:p
Это впрямую касается и «Щенков»! o:p/
o:p /o:p
Значение «Щенков» — не только в высказывании Зальцмана (не утверждаю, что полностью сознательном) о создающихся на его — и наших! — глазах советском человеке и советской цивилизации. Не только в показе ободранной, окровавленной России, постепенно зарастающей диким мясом. Существенна, и, может быть, даже более существенна культурно-историческая сторона: сам факт возникновения прозы (и стихов, кстати) такого языкового и поэтического качества в тех условиях, в которых Зальцман жил, — свидетельство жизнеспособности высокой русской культуры. Это, конечно, касается не только Зальцмана, но и Всеволода Петрова. Это касается и стихов и прозы Андрея Николева, и блокадных стихов Геннадия Гора, и, вероятно, еще чего-то, чего мы пока не знаем. В конечном итоге это касается всего последнего, невидимого поколения русского литературного модернизма. o:p/
Не знаю, за какие заслуги открылись нам в 2000-х годах и «Блокада» Гора, и «Турдейская Манон Леско» Вс. Петрова, и (несколько позже) поэт и прозаик Павел Зальцман. Уж ничего такого хорошего мы, кажется, не сделали. Может быть, именно поэтому? Тогда, надо полагать, на подходе еще что-то важное и прекрасное — потому что ничего хорошего мы, похоже, и не собираемся делать. Может быть, два пропавших обэриутских романа всплывут — «Убийцы вы дураки» Александра Введенского и «Похождения Феокрита» Дойвбера Левина, недостаточно оцененного и недостаточно изученного писателя? Может быть, еще что-нибудь, совсем неожиданное, совсем прекрасное? o:p/
o:p /o:p
Вполне возможно, увы, — ведь o:p/
o:p /o:p
чем унылее делается настоящее русской литературы, тем блистательнее становится ее прошлое! o:p/
o:p /o:p
За помощь советом и суждением автор благодарит Е. П. Зальцман, М. Н. Айзенберга, В. А. Бейлиса, Д. М. Закса, И. С. Кукуя, А. В. Скидана и О. Б. Мартынову. o:p/
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Следует ли здесь специально подчеркивать, что вышестоящее мнение, как и все прочие мнения, высказанные в настоящей статье, является исключительно личным мнением ее автора? Это для тех, кому кажется, что статьи, книги или записи в блогах пишутся для того, чтобы высказать их, читающих, мнение, а вовсе не мнение авторов этих статей, книг и записей в блогах (это и все последующие примечания — автора, что далее не оговаривается).
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> Остатки «попутчиков» 20-х годов, т. е. в той или иной степени «культурных» писателей, переработанных советской идеологической машиной, существовали, за немногими исключениями, приспосабливаясь к основному требованию эпохи: писать надо лучше, что по логике тоталитарной культуры означало свою противоположность: писать надо хуже . Это касается даже такого выдающегося мастера, как А. Н. Толстой, а что уж тут говорить о броско начинавших, но быстро потускневших леонидах леоновых и иже с ними. Впрочем, это несколько другая тема, требующая подробного рассмотрения. Важно, что осколки прежней (в данном случае скорее раннесоветской, т. е. 20-х годов) литературы на общую картину существенно не влияли.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> Об этом см. статью Ольги Мартыновой «Загробная победа соцреализма» <;. Статья в основном посвящена возрождению в 2000-х годах повествовательной литературы старого советского типа, но затрагивает и социально-общественные причины этого возрождения. Сам по себе «новый реализм», вероятно, отступил с тех пор в тень, но причины продолжают действовать и порождать соответствующие явления.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> Юрьев О. А. Заполненное зияние — 2. — В кн.: Юрьев О. А. Заполненные зияния. Книга о русской поэзии. М., «Новое литературное обозрение», 2013, стр. 49 — 63.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> Первая публикация: Петров Вс. Н. Турдейская Манон Леско. — «Новый мир», 2006, № 11, стр. 6 — 43.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> Таким образом, подспудное действие ее началось задолго до журнальной публикации. В этой связи приходит на ум замечательное стихотворение Сергея Чудакова (1937 — ?): «Как новый де Грие, но без Манон Леско / Полкарты аж в Сибирь проехал я легко / И, дело пустяка, проехал налегке, / Четырнадцать рублей сжимая в кулаке // Перевернулся мир, теперь другой закон / Я должен отыскать туземную Манон / Разводку, девочку, доярку, медсестру / В бревенчатой избе на стынущем ветру» (Чудаков С. И. Колер локаль. Составление и комментарии Ивана Ахметьева. М., «Культурная революция», 2008. Издание 2-е, испр. и доп., стр. 37). Совпадения по образам и мотивам настолько разительны, что можно заподозрить Чудакова, библиофила и знатока (в свойственной ему особенной форме), в знакомстве с повестью Петрова (присутствовал при одном из домашних чтений? — интересно, чего в этом случае не досчиталась библиотека Вс. Н. Петрова?). Но и совпадения, конечно, бывают.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> «Он был одним из жильцов захламленной и тесной коммунальной квартиры тридцатых годов. Кроме Кузмина и его близких, в ней жило многолюдное и многодетное еврейское семейство, члены которого носили две разные фамилии: одни были Шпитальники, другие — Черномордики. Иногда к телефону, висевшему в прихожей, выползала тучная пожилая еврейка, должно быть глуховатая, и громко кричала в трубку: „Говорит старуха Черномордик!” Почему-то она именно так рекомендовалась своим собеседникам, хотя было ей на вид не больше чем пятьдесят или пятьдесят пять. А однажды Кузмин услышал тихое пение за соседскими дверями. Пели дети, должно быть вставши в круг и взявшись за руки: „Мы Шпиталь-ники, мы Шпи-тальники!” Кузмин находил, что с их стороны это — акт самоутверждения перед лицом действительности. Также жил там косноязычный толстый человек по фамилии Пипкин. Он почему-то просил соседей, чтобы его называли Юрием Михайловичем, хотя на самом деле имел какое-то совсем другое, еврейское, имя и отчество. Если его просьбу исполняли, то он из благодарности принимался называть Юрия Ивановича Юркуна тоже Юрием Михайловичем. Почему он так любил это имя и отчество — из пиетета ли к Ю. М. Юрьеву или по иным причинам, — осталось невыясненным» (Петров Вс. Н. Калиостро (Воспоминания и мысли о М. А. Кузмине). — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1986, № 163, стр. 81— 82).
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> Если кто не знает — «культурная революция» была не только в Китае. Уничтожение старой, «буржуазно-помещичьей» культуры вместе с остатками ее носителей (или их добровольное или недобровольное приспособление к новым обстоятельствам) начиная с 1922 и по 1945 год, а также создание новой, сначала «рабоче-крестьянской», позже «социалистической» культуры, именовалось в официальной советской историографии именно так — «культурная революция». Иногда — «сталинская культурная революция».
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> См. в этой связи известное место из «Разговоров чинарей» (записанные Леонидом Липавским «застольные разговоры» Хармса, Введенского, Олейникова, Якова Друскина и нескольких других членов этого блистательного сообщества):
«Я. С. <Друскин>: Некоторые предвидели ту перемену в людях, при которой мы сейчас присутствуем — появилась точно новая раса. Но все представляли себе это очень приблизительно и неверно. Мы же видим это своими глазами. И нам следовало бы написать об этом книгу, оставить свидетельские показания. Ведь потом этой ясно ощущаемой нами разницы нельзя будет уже восстановить.
Л. Л<ипавский>: Это похоже на записи Марка Аврелия в палатке на границе империи, в которую ему уже не вернуться да и незачем возвращаться» (Липавский Л. Исследование ужаса. М., «Ad Marginem», 2005, стр. 329).
<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> Важно: как только участник «другой культуры» начинал воспринимать советское культурное окружение как реальное, а свое собственное как «ненастоящее», «игрушечное» — он выбывал из одной культуры и полностью прибывал в другую, пополняя ряды «перерожденных». Этот механизм действителен для 20 — 30-х годов, действителен он и для 60 — 80-х, когда советская печатная литература и совписовская жизнь на значительную часть пополнялись «повзрослевшими и поумневшими» беглецами из неофициальной культуры. Осуждать их трудно, но в этом механизме коренится и самоуничтожение неофициальной литературы в конце 80-х — начале 90-х годов. Вместо сохранения собственных структур и институтов она отдалась иллюзии «соединения трех ветвей русской литературы» (третья ветвь — зарубежная русская литература того времени). И потеряла все. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> Тут необходимо заметить, что германский рейхсвер, вошедший по ходу Первой мировой войны на Украину, оставил о себе хорошую память. Немцы вели себя корректно, платили за взятое и не обижали население. Поэтому многие не верили советской пропаганде, расписывавшей зверскую природу национал-социализма (как говорится, врет-врет, а иногда и правду соврет). В том числе и многие евреи на Юге России в это не верили и всеми способами уклонялись от эвакуации. Немцы — культурная европейская нация, народ Гёте, Шиллера и т. д., аргументировали многие — большинство из них расплатилось за эту веру жизнью — своей и своих близких.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> Очень интересно, что, по признанию самой Пановой в ее поздних вопоминаниях (Панова В. Ф. Мое и только мое. О моей жизни, книгах и читателях. СПб., Изд-во журнала «Звезда», 2005), Супругов — единственный персонаж «Спутников», не имеющий прототипа среди команды санпоезда, — она его придумала, исходя, вероятно, из общетеоретических представлений о «несоветском человеке»; кто-то не совсем «положительный» нужен же был для «объема». Петров обиделся на пшик, на выдумку.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> Думаю, учитывая очевидную абстрактность замысла и литературность повода, имя Манон неслучайно совпадает с именем автора «Спутников» — как бы бессознательный (?) намек на исходный импульс.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> Вот как описывают его Вл. Эрль и Н. Николаев, авторы превосходного послесловия к первой и пока что последней публикации «Турдейской Манон Леско»: «Всеволод Николаевич Петров (1912 — 1978) не по времени рождения, а по облику и поведению, сказывавшемуся в старомодной учтивости, манере говорить и одеваться, принадлежал, без сомнения, первому десятилетию XX века» («Новый мир», 2006, № 11, стр. 40).
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]> «Мне выпала судьба стать последним другом Хармса», — написал он в своих воспоминаниях (Петров В. Н. Воспоминания о Хармсе. Публикация. А. А. Александрова. — «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год». СПб., «Академический проект», 1993).
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]> Студия и командировала его со спецразрешением в Ленинград. До отмены спецпоселения, т. е. до указа Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и их семей, находящихся на спецпоселении» от 15 декабря 1955 года оставалось еще около года.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]> Вообще, очень распространено было, при повсеместности случаев утраты по военному времени муниципальных и прочих архивов, автобиографическое творчество . Чаще всего женщины убавляли себе годик-другой-третий, не задумываясь, конечно, о том, что на пенсию придется уходить соответственно позже. Другие меняли имена-отчества, выбирали родителям соцпроисхождение «поприличнее», да и национальности «потитульнее». Это так, для общего сведения.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[18]<![endif]> Обратите внимание, как похоже это описание на поздние описания внешности Мих. Кузмина, да хотя бы на воспоминания самого Петрова: «Его матово-смуглое лицо казалось пожелтевшим и высохшим. <...> А если довериться сохранившимся любительским фотографиям, то может создаться впечатление, что Кузмин — это маленький худенький старичок с большими глазами и крупным горбатым носом. Но это впечатление ложно» (Петров Вс. Н. Калиостро, стр. 88 — 89).
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[19]<![endif]> Имеется в виду мой блог.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[20]<![endif]> Тогда она еще не особо интересовалась обзаведением «сиротами», перепевальщицы ее раздражали, в ленинградской литературе она чувствовала себя вытесненной на обочину (не Советской властью, это был общий фон для всех, а Кузминым, продвигавшим Анну Радлову в качестве «первой поэтессы»).
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[21]<![endif]> До того, как он применил к своим стихам принципы обэриутской поэтики и создал некоторое количество очевидных шедевров — подробнее см. в нашей статье о поэзии Зальцмана: Юрьев О. А. Заполненное зияние — 3, или Солдат несозванной армии. — В кн.: Юрьев О. А. Заполненные зияния. Книга о русской поэзии. М., «Новое литературное обозрение», 2013, стр. 64 — 78.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[22]<![endif]> Историю ему, как и многим детям военных, тем более во времена, на которые выпало его детство, заменяла география: сначала Кишинев (рождение), Одесса, скитания по Югу России (в разгар Гражданской войны!), переселение в Ленинград, потом бесконечные разъезды со съемочными группами по Сибири и Средней Азии, эвакуация в Алма-Ату — все это основополагающе для его литературы, в отличие от Петрова, основополагающей для которого является история, в первую очередь история культуры.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[23]<![endif]> Зальцман П. Я. Сигналы Страшного суда. Поэтические произведения. Составление, подготовка текстов, послесловие и примечания Ильи Кукуя. М., «Водолей», 2011. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[24]<![endif]> Зальцман П. Я. Щенки. Проза 1930 — 50-х годов. Подготовка текстов Ильи Кукуя и Петра Казарновского, послесловие и примечания Ильи Кукуя. М., «Водолей», 2012.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[25]<![endif]> Кроме романного отрывка «Средняя Азия в Средние века», но о нем мы будем говорить после его публикации, которая, надеюсь, не заставит себя ждать.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[26]<![endif]> Филонов П. Н. Дневники. СПб., 2000, стр. 217.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[27]<![endif]> Трогательно, например, почти полное снятие этой полюсности в «Вечере у Клэр» Гайто Газданова — почти полудетское нежелание мальчика, завинченного в исторический вихрь, знать и решать, кто из взрослых во всем этом виноват.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[28]<![endif]> Человечески их объединяет очень многое, несмотря на совершенно разные типы личности, социокультурный фон и т. д. Например, ни тот, ни другой не ходили со своей литературой «в собрание нечестивых», по слову псалмопевца, — в советские редакции.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[29]<![endif]> Об открытии этой культуры см. более подробно в нашей статье «Даже Бенедикт Лившиц» (Юрьев О. А. Заполненные зияния. Книга о русской поэзии. М., «Новое литературное обозрение», 2013, стр. 28 — 39).
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[30]<![endif]> Предупрежу возможную читательскую иронию: даже «дикие степи Забайкалья», даже зачуханные казачьи городки и деревни Сибири начало к концу XIX века затягивать тонкой пленкой цивилизации. Кто не верит, пусть перечтет хотя бы «Похождения факира» (1935) Вс. Вяч. Иванова.
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[31]<![endif]> Некая девушка любит дядю, вожделеема племянником, которого, в свою очередь, желает тетя; а дядя, тот любит тетю, без взаимности — бульварная комедия с кровавым концом.
o:p /o:p
Вакуум обетованный
o:p /o:p
Анатолий Рясов. Пустырь. СПб., «Алетейя», 2012, 248 стр. o:p/
o:p /o:p
Роман начинается описанием снега. «И снег будет падать. Холодный и хрустящий. Хруста не будет слышно». Снег падает, ложится на ладони, стирает пространство. Ничего, кроме снега и «шепота тишины», — нет. Этот снег никто не видит. Он только осязаем. «Мягкий пух впивается в кожу мелкими осколками. Несравненная гармония ваты и стекла. Сугробы растут так быстро, что бледно-алые точки едва заметны, и они никогда не станут заметны. Нет, будут. Эти стигматы обязательно будут различимы. Когда снег растает. Если снег растает. Пусть он когда-нибудь растает. Растает сразу, как только губы разучатся вышептывать тишину. Как только босая нога сделает первый шаг». o:p/
Уже по этому отрывку видны стилистические принципы построения текста: минимум вещей, максимум ощущений — звуков, касаний, причем неясно, кто ощущает; допущения и предположения, противоречащие друг другу («…не станут» — «Нет, будут»). Процесс говорения, построенный так, чтобы ничего не сказать. Этот принцип речи и в дальнейшем будет повторяться и воспроизводиться. Периоды будут все длиннее и длиннее, вещи все неопределеннее, люди — бескачественнее. o:p/
Но вернемся к процитированному отрывку. Чья «босая нога сделает первый шаг»? o:p/
На последней странице романа один из героев видит, «…как безумец топчется на месте, словно разучившись ходить, как не может сделать и шага в направлении изгороди… Каждый шаг давался ему с таким мучением, словно, делая его, он терял несколько лет жизни… Вокруг босых ног виднелись темные прогалины. Неспособная сделать ход, фигурка замерла в бесконечности космоса, но что удивительно: она не падала, как будто ветру было не под силу уронить ее. Мальчик всматривался в белое пламя не разыгранной партии — пламя, в котором все сущее горело, не сгорая. Фигурка больше не шевелилась, но сохраняла за собой угрожающую возможность возобновить движение. Ничто, кроме тающего под босыми ногами снега. Не выдавало в бродяге жизни». o:p/
Это последние слова романа. Но ясно, что последует за ними: «И снег будет падать. Холодный и хрустящий…». o:p/
Круг замкнется. Речь истончится и уйдет. Останется только неясная надежда, что «босая нога сделает первый шаг». o:p/
Роман оказывается даже не шагом, а попыткой шага — одного шага на месте. Фигурка, увязнувшая в снегу. И почему-то босая. Развернутое на две сотни страниц описание пустоты. o:p/
o:p /o:p
Согласно квантовой теории поля физический вакуум, строго говоря, не вполне пуст. В нем постоянно рождаются и аннигилируют пары «частица — античастица». Вакуум живет. Но он не перестает быть вакуумом. o:p/
«Пустырь» — в некотором смысле описание такой модели вакуума. Начавшись концом и кончившись началом, роман населен персонажами, наполнен описаниями, событиями, разговорами, но все они не более чем нулевые колебания вакуума. o:p/
Фигурка начнет двигаться. Станет бессловесным бродягой, обретет нечеткие, но все-таки вполне реальные очертания. И постепенно возникнет действие, разворачивающееся не в пространстве-времени, а в поле слов, в потоке речи. Прерывающей себя, противоречащей себе. Петляющей, срывающейся. o:p/
В эссе «Ничто, или Последовательность» (предисловие к вымышленной книге Соланж Маррио) Станислав Лем пишет: писатель паразитирует на опыте читателя. «Любовь, дерево, парк, вздохи, боль в ухе — читатель понимает это, потому что испытывал сам. С помощью книги можно в голове читателя попереставлять всю мебель, при условии, что хоть какая-то мебель до начала чтения в ней находилась. Ни на чем не паразитирует тот, кто производит реальные действия: техник, доктор, строитель, портной, судомойка. Что по сравнению с ними производит писатель? Видимость. Разве это серьезное занятие? Антироману хотелось взять за образец математику: она ведь тоже не создает ничего реального! Верно, но математика не лжет, поскольку делает только то, что должна. <…> Писатель, поскольку его не понуждает такая необходимость — поскольку он так свободен, — всего лишь заключает с читателем свои тайные соглашения; он уговаривает читателя предположить... поверить... принять за чистую монету... но все это игра, а не та чудесная несвобода, в которой произрастает математика. Полная свобода оборачивается полным параличом литературы» <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> . o:p/
Лем описывает роман Соланж Маррио как последовательный отказ от любых обращений к читательскому опыту, как пример полной редукции любого проявления действительности (ведь только читательский опыт в любой книге является действительностью, остальное — слова), как только читатель начинает подозревать, что сейчас ему что-то сообщат, он будет разочарован: ему не сообщат ничего, а то действие, событие, лицо, о котором он заподозрил, — только фикция, и речь не о том. О чем же? В конце концов, о «затмении речи», о ее невозможности, о ее отрицании, которое она сама же порождает. О нулевых колебаниях вакуума. Примерно о том же и роман «Пустырь». o:p/
Роман Соланж Маррио начинается словами: «Поезд не пришел. Он не приехал». Лем говорит: здесь сообщено даже слишком много, но Соланж последовательно устранит из романа всякое воспоминание и о возможной, хотя и несостоявшейся встрече, и о реальном, хотя и неописанном человеке. o:p/
Как я уже говорил, Рясов начинает словами: «И снег будет падать. Холодный и хрустящий. Хруста не будет слышно». Снег только обещает падать, что происходит сейчас — неясно. Хруста не слышно. Откуда известно, что снег хрустящий? Собственно, так и продолжается роман, утверждая и тут же отрицая на всех уровнях организации текста все, что успел утвердить, — от отдельного предложения до героя, от героя до всего сюжетного движения. Сказав А, не забудь сказать не-А. Читатель как бы цепляется за текст всем своим опытом, но напрасно: этот опыт будет опровергнут. Здесь он не работает. Но такой метод в «Пустыре» полностью оправдан главным объектом описания. Пустырь всегда примыкает в городу или к деревне, он невозможен, например, в лесу. Пустырь — это незастроенное или брошенное по каким-то неясным причинам место. Пустырь — это прямое отрицание обжитого, заселенного пространства. Пустырь — это пространство плохой пустоты, к тому же в России — это всегда свалка, всегда горы мусора и хлама, намеков на действительные вещи, которые когда-то существовали, которые могли бы существовать, но их уже нет и не будет. o:p/
o:p /o:p
В романе есть сюжет. Некто — бродяга — приходит в деревню Волглое. Там люди не живут — они доживают. Там всегда идет дождь, пока не выпадает снег. Там не бывает солнца. Бродяга не говорит. Он погружен внутрь себя. В деревне его встречает местный священник — Лукьян Федотыч. И решает бродягу приютить. Мотивы священника не вполне ясны и ему самому. Это не милосердие. Это попытка таким странным образом показать обитателям Волглого пример милосердия. Оно им надо? На окраине деревни живет кузнец Нестор. У него погибли — утонули в местной речке — жена и дочь. Он замкнулся в себе. К нему тянется учительница Анастасия. В деревне живет юродивый Игоша, который, пользуясь полной безнаказанностью, травит священника. Живет в деревне старуха-знахарка Марфица. У нее какие-то свои дела со священником. Они друг другу сочувствуют и как-то управляют прочим населением Волглого. Бродяга, попадая в Волглое, оказывается неожиданным возмущением (флуктуацией) этого заросшего гнилью и тиной пространства. К бродяге тянутся люди, поскольку прозревают в нем некую подлинную, непустырную пустоту. Бродяга ничего не говорит, но люди приходят к нему и что-то рассказывают. Им это необходимо. o:p/
Дмитрий Галковский писал в «Бесконечном тупике»: «В Идиоте… есть какая-то вечная тайна. Желание не понять его, а быть понятым им» <![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> . Все, кто приближается к князю, — гибнут. Это и есть история бродяги. o:p/
Священник нарекает бродягу Елисеем. Поименованное кажется понятнее. Но это не поможет. Лукьян пытается использовать Елисея, чтобы укрепить свой авторитет среди обитателей Волглого, и приводит его на службу. Юродивый Игоша решает, что это — оскорбление подлинной пустоты, которую несет в себе Елисей. Игоша является на службу и бьется в припадке, напоминающем падучую. После того как Марфица совершает над ним обряд экзорцизма, юродивый вешается прямо в церкви, чем лишает Лукьяна возможности служить — церковь проклята на сорок лет как дом самоубийцы, она осквернена. Лукьян сходит с ума. Нестор — умирает. Анастасия — умирает. В общем, все умерли. И бродяга уходит… И застывает босой в снегу на краю пустыря. o:p/
Герои лопаются как пузыри на поверхности речи. С тихим хлопком. Они аннигилируют. Процесс выравнивания и разглаживания действительности продолжается. Пустота наступает. o:p/
o:p /o:p
«Пустырь» — это довольно прозрачная метафора России. Но в «Пустыре», как и в романе, описанном Лемом, почти ничего не сказано. Рясов практически не обращается к конкретному опыту читателя. Он не переставляет мебель, потому что мебели нет. o:p/
Герои ничего не делают. Они почти исключительно говорят. Иногда друг с другом (реже), иногда с собой (чаще). Еще чаще они чувствуют — касаются, слышат, видят. И не только то, что бьет снаружи, но и то, что плещется, царапается, колеблется внутри. o:p/
Роман Рясова глубоко уходит корнями в русскую литературу. И именно литература является той первичной реальностью, к которой обращается писатель. И здесь можно довольно уверенно указать два главных источника — это Достоевский (уже помянутый «Идиот», но не только) и Гоголь. o:p/
Отсылки даны прямо в тексте — учительница сравнивает Лукьяна с Великим инквизитором. Волглое — указывает на Мокрое, куда бросается кутить Митя Карамазов и где случаются с ним плохие дела. И развернутый, буквально пронизывающий мотив льющейся воды. Нестор, страдающий от болезни, чувствует, как «ему на голову все так же лилась эта вода… бесконечным холодным потоком, похожим на утробные воды мироздания». И в последней фразе 10-й главы Рясов повторяет: «Холодная вода мерно и ровно лилась на его голову». Это «Записки сумасшедшего»: «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего» <![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> . o:p/
Ничего и не видно. Волглое тонет в дожде. Бесконечном, нестерпимом дожде. И нет отсюда ни выхода, ни исхода. Даже попытавшись уйти, ты застрянешь и будешь топтаться на месте, не в силах перейти через пустырь. o:p/
o:p /o:p
Роман дает пример колебания пустоты, возникновения речи из небытия языка. Пример прямого воплощения слова как вещи, потому что никаких других вещей просто нет. Но только с одной целью: чтобы показать, что и речи тоже нет. o:p/
Читать эту книгу трудно. Все эти бесконечные всхлипы и слезы, не имеющие никакой опоры на предметность, на нарратив, который хоть и есть по видимости, но распадается при первом же пристальном взгляде. Бесконечные переговаривания, споры с собой, которые ведут и автор и герои, вода на листьях, вода в лужах, вода в покрытой ряской заболоченной речке, и дождь, и снег… И все это лепится из слов, утекающих сквозь пальцы, ускользающих от внимания, зыбких, нечетких, прыгающих. Но постепенно тонкая пленка слов растягивается, как мыльный пузырь, как переливающаяся граница пустоты, и из словесной плоти рождается бытие. o:p/
И в этих всплесках пустоты проступает душа русского человека: тихая и страшная, страшная для него самого. Он живет и боится, а как вдруг смолкнет весь этот внешний шум и звон (вечный он там или зеленый — роли не играет), и она — не заговорит, нет, она говорить не умеет, — загундит, заноет, застонет… Тогда или напиться немедленно в полный хлам, или в омут головой. И тоже с грохотом и матом, только бы ее даже в эти последние секунды не слышать. Потому так громко, так смрадно, так суетно вокруг… Так пусто. o:p/
Но между тем: «Порвутся рельсы. Поломаются машины. А что человеку „плачется” при одной угрозе „вечною разлукою” — это никогда не порвется, не истощится. Верьте, люди, в нежные идеи. Бросьте железо: оно — паутина. Истинное железо — слезы, вздохи и тоска . Истинное, что никогда не разрушится, — оно благородное. Им и живите»4 (курсив мой. — В. Г. ). o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Лем Станислав. Ничто, или Последовательность. — В кн.: Лем Станислав. «Библиотека XXI века». М., «АСТ», 2002, стр. 67 — 68. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> Галковский Дмитрий. «Бесконечный тупик». Цит. по <-624.htm> . o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> Гоголь Н. В. Записки сумасшедшего. М — Л., 1928, стр. 226. o:p/
o:p /o:p
Простенок миров
o:p /o:p
Мария Маркова. Соломинка. М., «Воймега», 2012, 64 стр. o:p/
o:p /o:p
Вологда — особый город на российской литературной (в широком смысле) и, конкретно, на поэтической карте. Здесь можно было бы много сказать о свежей поэтической крови, о продолжении традиций, об уже четвертой воймеговской «вологодской» книжке после двух сборников Наты Сучковой и книги Леты Югай. Многое в этом роде уже и сказано. Однако Маркова — случай особый, она и вписывается в этот ряд, и в то же время стоит в стороне. Попробуем разобраться, чем вписывается и где различие. o:p/
Сама поэтесса «Соломинку» называет первой своей настоящей книгой, хотя до этого в небольшом вологодском издательстве выходили — в 2005 и 2007 годах — два поэтических сборника (впрочем, без ISBN). Те, кто интересуется поэзией и следит за новыми именами и новыми текстами, знают Маркову примерно с тех самых лет — не столько по упомянутым сборникам, сколько по сетевым публикациям. Но есть еще одно привнесенное обстоятельство, благодаря которому о Марии заговорили не только профессиональные литераторы и любители стихов. В позапрошлом году тогда мало кому известная поэтесса получила премию Президента РФ за 2010 год для молодых деятелей культуры. Подчеркнем — получила, не имея в активе ни одной «официально» изданной книги, на основе нескольких газетных и журнальных (причем — отнюдь не в ведущих изданиях) подборок и сетевых публикаций. «Соломинка» — книжка небольшая: в ней всего 41 поэтический текст. И что еще более характерно — через два года после премии. Мне кажется, даже в далеких от литературы людях, привыкших к торжеству бизнес-стратегий, к принципу «куй железо, пока горячо», такое ответственное и серьезное отношение к предъявляемым читателю текстам способно вызвать уважение. o:p/
Есть еще одно обстоятельство, также связанное с упомянутой премиальной историей, которое заставляет как минимум попытаться разобраться в особенностях поэтики Марии Марковой. В список на получение Президентской премии ее рекомендовала «Литературная газета», несколько раз публиковавшая ее подборки. При этом среди почитателей таланта Марковой числятся литераторы с самыми разными эстетическими установками, — например Михаил Айзенберг, считающий, что «ее владение стиховой техникой — естественное и как будто врожденное (то есть кажется, что врожденное, а на самом деле это не так)» <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> , или Екатерина Перченкова, поэт и критик, близкий к издательству «Русский Гулливер» и журналу поэзии «Гвидеон», которые в своей деятельности наследуют метареалистам. o:p/
Итак — первая основательная поэтическая книга. И при этом начинается «Соломинка» на удивление неброско и, я бы сказал, медленно, в отличие от иных стихотворных сборников, старающихся захватить внимание читателя уже с первых ударных строк. Зато здесь сразу — авторский взгляд и речь от первого лица. Это пойдет дальше через всю книгу, как и сочетание особого лирического доверия к читающему с чувством, если можно так выразиться, тревожной благодарности к бытию. o:p/
o:p /o:p
…все ли, как свечи, зимы подопечные o:p/
в облаке пара тают дотла, o:p/
все ли стоят на ветру, просвечивая, o:p/
их ледяные тела?.. o:p/
Где еще видишь на вырост пространство, o:p/
в огненном город венце? o:p/
После полуночи ходит ли транспорт o:p/
с бедной окраины в центр?.. o:p/
o:p /o:p
Эта тревожная благодарность вместе с ощущением «простенка миров» идет по нарастающей от начала книги к ее композиционной середине — тому корпусу текстов, который я для себя условно обозначаю как «больничный цикл». В поэтическом мире Марии Марковой все — и ушедшие, и живущие — называются по именам, существуют одновременно, здесь и сейчас, поддерживая зыбкий каркас жизни. Этот мир — чуть расплывчат, потому что увиден сквозь слезы, текущие не спросясь, сами собой, как будто так и должно быть: o:p/
o:p /o:p
Баю-бай, троллейбус, потешную жизнь мою. o:p/
Если плачется — плачу. В зеркальном живу раю. o:p/
Здесь застенчивый воздух и денег на день, на два, o:p/
уязвимые вещи, медлительные слова. o:p/
o:p /o:p
Здесь надо бы сказать о способе письма Марии Марковой, о ее поэтическом языке. Тем более, что на эту тему уже можно было прочесть много удивительного: от восторженных признаний в том, что стихи Марковой невозможно анализировать, потому что в них — само вещество поэзии, до заключений о наследовании Мандельштаму, протянувшему ей «соломинку» <![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> . Мне представляется, что в последнем случае критика, скорее, ввело в заблуждение некоторое совпадение образного ряда. Мандельштамовской цепочки микровзрывов, преобразующих изнутри самую сущность произносимого слова, у Марковой нет. В этом смысле ее поэтика, воспринимаемая первым, поверхностным, взглядом, сознательно наследует классической традиции, и именно такое ее восприятие объясняет признание широким кругом «традиционалистов». Но если уж вспоминать автора, к которому, на мой взгляд, поэтика Марковой отсылает почти напрямую, включая и пристальный интерес к «простенку миров»; и перелетания из тени в свет, то тут, то там мелькающие в ее стихах; и зеркальные отражения; и попытку окликнуть ушедших, вернув их живым, и почти навязчивую тему детства, и даже ритмический рисунок многих ее стихотворений — то я бы вспомнил совсем другого, «младшего» акмеиста… o:p/
o:p /o:p
Юность я проморгал у судьбы на задворках, o:p/
Есть такие дворы в городах — o:p/
Подымают бугры в шелушащихся корках, o:p/
Дышат охрой и дранку трясут в коробах. o:p/
o:p /o:p
................................... o:p/
Так себя самого я угрозами выдал. o:p/
Ничего, мы еще за себя постоим. o:p/
Старый дом за спиной набухает, как идол, o:p/
Шелудивую глину трясут перед ним. o:p/
o:p /o:p
Это Арсений Александрович Тарковский, конечно. 1933 год. (А спроси у кого-нибудь чей это стихотворный образ — «шелудивая глина», так назовут Мандельштама, не задумываясь. Но это — к слову.) И здесь — осознанный или неосознанный — скрывается перводвигатель многих стихотворений Марии Марковой — в тарковском «О том, что лето миновало, / что жизнь тревожна и светла, / И как ты ни жила, но мало, / Так мало на земле жила». Вот марковское: o:p/
o:p /o:p
Но музыка — удушье, o:p/
один сплошной обман — o:p/
и дудочка пастушья, o:p/
и скрипка, и орган. o:p/
o:p /o:p
Или: o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Как будто я знаю, куда приведёт меня память, o:p/
пчела повивальная: плакать и медленно падать. o:p/
Терновый мой вестник, последний мой провожатый, o:p/
жестокий и звонкий, к щеке опаленной прижатый. o:p/
Как будто я знаю — июнем иду налегке — o:p/
какая из улиц спускается к самой реке. o:p/
o:p /o:p
Там все еще заросли, белые цветники, o:p/
ивовые заросли, дымчатые венки. o:p/
Полощут белье, и вода забирает на дно o:p/
то ленту, то юбки воздушное полотно. o:p/
o:p /o:p
Конечно, это «Река Сугаклея уходит в камыш…». Но и еще что-то, и, возвращаясь к книге, мы продолжаем идти по ней, вглядываясь пристально: что же еще? Приход смерти с «льняной головой», которую «невыносимо жалко» — в «Как рассказать — не знаю...». Уже упомянутое, но — первое в «Соломинке», называние ушедших по именам, их детские образы, превращенные в пчел (пчела как вестник иного и ее жало как знак перехода между мирами — один из сквозных образов книги), — в стихотворении «Об ушедших вслух не говорю». И книга раскрывается уже упомянутым «больничным циклом»: «…к больному ангел ночью сел на койку, / а после обошел и остальных, / всех выписали, а на выходных / заколотили окна…». Все выздоровели — или все умерли, что в конечном счете не имеет значения, «потому что смерти нет»: «Это воздух, воздух, любовь моя, не одышка. / Это счастье, счастье, любовь моя, не болезнь». o:p/
Однако центральным стихотворением книги, и по положению, и по значению, мне кажется завершающая «больничный цикл» «Ирочка». Недаром, когда речь заходит о поэзии Марковой, рецензенты цитируют именно этот текст. o:p/
На первый взгляд «Ирочка» — воспоминание о детстве как об утерянном рае, с обычной для «традиционных лириков» печалью о том, что «теперь никого не найти». Но первый план стихотворения прорастает вглубь по мере развития сюжета об «одышливой Ирочке», тяжеловесной девочке с больным сердцем, которой не угнаться за другими детьми, хотя именно ее призывный голос в начале слышится нам: «...но из пестрого гомона, крика / выделяется голос один — / земляника, — зовет, — земляника». Ирочки не найти более, чем других, потому что ее уже нет среди живых. Именно об этом — не столько об общем прошлом, сколько об общем будущем — и говорит нам Маркова: o:p/
o:p /o:p
Земляника, — шепчу, — обернись, o:p/
руки сладким испачканы соком, o:p/
грузный птенчик двора, что нам жизнь, o:p/
искупавшимся в смерти высокой. o:p/
Мы с тобой полетим, раз-два-три, o:p/
нелюбимые дети, за нами — o:p/
тополя и дома, посмотри, o:p/
список летних проказ с именами… o:p/
o:p /o:p
Полет между жизнью и смертью, легкость «того» мира, пришедшая на смену тяжести «этого», печаль о невозвратности и — одновременно — счастье преображения. И при этом — интонационная особость. Михаил Айзенберг, конечно, прав: «…я дочитал до строчки ёземляника , — зовет, — земляника” — и вздрогнул, словно это меня окликнули. Такое случается крайне редко, и ошибиться тут невозможно. Поверх авторской манеры, вытесняя и как бы отменяя ее, слышится голос самого стихотворения». o:p/
Однако что-то остановило меня в этой «землянике», вспомнилась какая-то другая: o:p/
o:p /o:p
…ты одна в этой северной дикой глуши o:p/
ты одна загораешь топлес o:p/
и в траве рядом с майкой твоею лежит o:p/
биография элис би токлас o:p/
где твой старофранцузский июльский пейзаж? o:p/
я никак к запятым не привыкну o:p/
поднимаешь глаза и кладешь карандаш o:p/
говоришь мне: скажи земляника o:p/
o:p /o:p
Это — из стихотворения «…потерявшись в диковинных этих краях» Наты Сучковой, вошедшего в ее книгу 2010 года «Лирический герой». Кстати сказать, с эпиграфом из Гертруды Стайн — «скажи еще раз земляника». o:p/
На мой взгляд, это очень показательная перекличка. Еще со времен Ахматовой и Цветаевой в русской поэзии повелось, что «первые дамы» в ней существуют парами, а не поодиночке. Творческая ревность, соперничество — но и взаимодополнение. Сучкову и Маркову часто упоминают вместе: обе — лауреаты литературных премий, обе вологжанки, обе издавались в «Воймеге» и печатались зачастую в одних и тех же толстых журналах. При этом Маркова по творческому темпераменту — поэт-одиночка, сосредоточенный «самокопатель», а Сучкова — всегда на виду, издатель и публикатор. Маркова — исследователь глубин и пограничных состояний вне времени и места, а Сучкова — вся «здесь и сейчас», в этом городе и среди этих людей. Маркова ориентируется на петербургскую поэтическую традицию и Тарковского, а если ей кто и близок из условных «москвичей» — то Ольга Седакова; Сучкова работает жестче, четче, продолжая традиции «шестидесятников» и осваивая современную городскую лирику, ярким представителем которой является, например, калининградец Игорь Белов. Да, обе эти вологжанки по-своему яркие авторы, но совершенно разные. o:p/
Вернемся к книге. Вторая ее половина, после условного «больничного цикла» — это, в основном, протяженные монологи-размышления, насыщенные самой разнообразной и сложной, часто зооморфной символикой. Здесь вспоминаются уже не только Тарковский и Ольга Седакова, но и Заболоцкий с его антропоморфными зверьми и торжеством земледелия: o:p/
o:p /o:p
Я хотела бы знать, называя o:p/
окружающий мир по частям, o:p/
где скрывается птица кривая o:p/
и олень саблезубый мой. Нам o:p/
предстоит чудесами заняться, o:p/
из шиповника выйти в крови o:p/
или в венчиках розовых, чтобы смеяться, o:p/
а потом сколько хочешь — живи. o:p/
o:p /o:p
Или: o:p/
o:p /o:p
О, этот возраст! Ты еще дошкольник, o:p/
тебя подводят к самой кромке леса, o:p/
потом толкают и бегут назад, o:p/
и ты стоишь без словаря лесного o:p/
и называешь заново траву, o:p/
кузнечика, невидимую птицу, o:p/
чудовище за спутанной листвой… o:p/
o:p /o:p
Голос становится тише и глуше, меньше надрыва, больше спокойной мудрости. Но еще раз, перед самым концом книги, мы услышим в небе печальный и непонятный звук как будто лопнувшей струны: o:p/
o:p /o:p
Пчела Паганини не жалит, не умирает. o:p/
О, кто с тобой, милая, в игры в потемках играет? o:p/
О, кто тебя трогает, слушает, душит, целует? o:p/
О, кто твои пальчики тонкие любит, балует? o:p/
o:p /o:p
.................................................. o:p/
Я всех бы жуков своих, бабочек ломких, стрекоз, o:p/
цветов разноцветные головы без колебаний — o:p/
и порвана нитка невидимых радужных слез — o:p/
отдать бы могла, но ведь ей не угодна любая — o:p/
от сердца — ревнивая жертва, не надо ей слез, o:p/
а только за пальчик кусать и вытягивать душу… o:p/
o:p /o:p
В этой книге живет поэзия в больших дозах. А поэзия не соглашается на «любую жертву». Ей даже наших слез не нужно. Только — вытягивать душу. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> 4 Розанов В. В. «Опавшие листья». Запись от 21 апреля. СПб., 2012, стр. 112. o:p/
o:p /o:p
Айзенберг Михаил. Полоска света. — «Знамя», 2011, № 2. o:p/
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> Погорелая Елена. Три грани лирики. О том, как Мандельштам Марии Марковой соломинку протянул. — «НГ Ex Libris», 2012, 27 сентября. o:p/
o:p /o:p
Заполняя пустоту
o:p /o:p
Майя Кучерская. Тётя Мотя. М., «Астрель», 2012, 512 стр. («Проза: женский род») o:p/
o:p /o:p
Майя Кучерская написала роман о любви <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> . Не «про любовь», а именно о любви. Именно любовью автор последовательно проверяет каждого героя, причем любовью в разных ее обличьях: увлечением, страстью, семейной привязанностью. o:p/
Итак: главная героиня — Марина, или Матреша, Мотя, как звал ее в детстве отец, бросивший семью, когда дочери было всего два года, — бывшая учительница литературы, а ныне корректор в газете, замужем за программистом Колей, но отношения между супругами трудно назвать идиллическими — отчуждение возникло вскоре после свадьбы и с тех пор все растет. Поэтому когда в жизни Марины появляется внимательный, тонкий, умный и романтичный Ланин (коллега, более того — начальник героини), она бросается в новые отношения, видя в них — настоящее, то, чего до сих пор была лишена. o:p/
Тётя Мотя проверяется автором четырежды: любовью к словам, Коле, Ланину и пятилетнему сыну Артему (или, как называет его героиня, Тёплому). Чувство к словам едва ли не самое сильное и чистое в жизни Марины. Слово — связь всего со всем: «…от каждого слова тянулись антенны, росли еле различимые усики, которыми оно связывалось с соседями по предложению, тексту, книге, эпохе, веку, подавая собственные позывные, подхватывая, расшифровывая чужие». Она подсознательно мечтает о таких же прочных связях между родными людьми, но с Колей — не выходит, отдаление все ощутимей, взаимная усталость все сильней. Она и в Ланина влюбляется сначала именно через тексты его путевых заметок, чувствуя в них жизнь на общем фоне мертвых газетных слов. Потом уже начинается настоящий роман, и вот с Ланиным, кажется Марине сначала, получается — подавая собственные позывные, подхватывая, расшифровывая чужие: жизнь обретает полноту, близость достигает абсолюта и стремится к полному единению. Но постепенно выясняется, что люди и слова все-таки подчиняются разным законам: столько и в этих отношениях надуманности, измысленности. И прочная, взаимная связь оказывается возможна лишь с одним человеком, более того, он нуждается в ней даже больше Марины — это Тёплый, мальчик, который, любя всех вокруг, словно просит ответной любви для себя. Но она отчего-то бежит этой сверхблизости, сторонится, нарочно отдаляясь от сына, даже будучи рядом с ним, точно чувствуя себя хорошо в окружении мертвых слов, пугается — живого и тепло го. o:p/
Что же до Марининого мужа Коли, то в его жизни — три настоящие любви: Мотя, сын и катание на кайте. Однако с Мотей все очень непросто, она другая — «социально неблизкая», что в период ухаживаний казалось милым, а после свадьбы стало раздражать. o:p/
Коля вырос в самой простой пролетарской семье, воспитан на классической модели «муж на работе, жена на хозяйстве». А Мотя живет в мире слов и книг и о домашнем хозяйстве спохватывается только после многократных напоминаний. Ни духовной, ни телесной близости у нее с мужем толком не получается. И тем не менее Коля любит Марину, и единственная его измена, не принесшая ничего, кроме горьковатого осадка, тому подтверждение. Но в целом перед нами не любовь-радость, а любовь-мучение: и для него, срывающегося и ищущего утешения, и для нее. Совсем другое чувство Коля испытывает к сыну. Тёплый для него и друг, и — прежде всего — связь с женой, невербализируемая гарантия, что семья есть и будет. Поэтому однажды он «проговаривается», что им не помешал бы второй ребенок — на случай, если что-то случится с первым. o:p/
Освобождение от назойливых мыслей Коля получает только выходя под парусом в море. Кайт становится символом свободы и уверенности в себе, вытаскивает наружу его другое «я». Чтобы продлить это ощущение на суше, забрать его и в повседневную жизнь, Коля заводит блог в Живом Журнале, где пишет о своем увлечении, словно примеряя на себя маску независимого и счастливого человека. o:p/
Ланин появляется в романе как полная противоположность мужу героини: он старше и опытней, образованней, умней, талантливей и духовно ближе героине. Телезвезда на пике карьеры, путешественник и автор сверхпопулярных колонок в федеральной газете, где он к тому же занимает один из руководящих постов, он вполне самодостаточен. Не случайно в романе упоминается ухажер Марины времен давней юности — Лесик, влюбленный на самом деле только в себя и свою влюбленность. В Ланине много от него. Но все-таки Ланин умеет любить не только себя и, по крайней мере, человек тонко чувствующий: его работа — с постоянной занятостью, с вечными разъездами, стала не то симулякром, не то суррогатом нормальной семьи, «оставалась единственной стеной, вечно-праздничной надежной стенкой, ограждавшей от рыка пустоты, надвигавшейся старости, неизбежного вытеснения на обочину, просто потому, что зрителю приятнее видеть молодое и свежее лицо», именно поэтому, от неосознанного желания удержать молодость, ему нравится «непредсказуемость, подростковая нервность, а вместе с тем необязательность» их отношений. Ключевое слово здесь — «подростковый». Пятидесятилетний мужчина с пустотой внутри пытается вновь почувствовать себя подростком, у которого еще все впереди и которому кажется, что жизнь сложится именно так, как ему захочется. А на самом деле — у него больная раком жена, с которой он прожил всю жизнь, но по-настоящему близок стал лишь за несколько дней до ее смерти; дочь, давно уже ставшая взрослой и самостоятельной; и карьера, сейчас на пике акме, но тем неизбежнее вскоре грозящая устремиться вниз, к завершению. o:p/
Еще один индикатор, которым автор поверяет чувства своих героев, — физическая любовь. Коля только во время близости открывает жене душу, говорит то, о чем не просто молчит днем, но что тщательно прячет под грубостью и раздражением. Ланин нежен и сентиментален, в такие моменты он наиболее соответствует образу, придуманному Мариной. Сама Марина физические отношения с Колей скорее терпела и как бы отчуждала от близости духовной, деперсонифицировала: «Это был не Коля и никакая не любовь, это был проводок. Вживленный в нужное место. Физиологический процесс, который никак не соприкасался с чувством к мужу и уж совсем не пересекался с чем-то еще — самым важным, ради чего стоит жить». С Ланиным — другое дело. Все отношения с ним, начиная с первого сказанного им слова и до этого самого физиологического процесса, стали именно тем, самым важным, ради чего стоило жить. Это любовь природная, основанная на инстинктах, лежащая, по гегелевской концепции, в сфере непосредственного, а потому плохо поддающаяся какой бы то ни было рефлексии, разумному вмешательству <![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> . o:p/
Иного рода, однако не менее возвышенную, романтическую, словно врожденную любовь испытывает к истории родного края Сергей Петрович Голубев — учитель истории из небольшого городка, чьи письма попадают в рамках затеянного редакцией проекта «Семейный альбом» на стол к Марине. Это иная история — уже не частная, но общая, вернее, частная, но становящаяся общей, народной, и как бы взрывающая камерную, в общем-то, ситуацию внутренних метаний Тёти Моти. o:p/
«Феде пришлось быть свидетелем ее [Духовной Академии] разгона — на глазах его увольняли лучших преподавателей. Он бежал за утешением в Зосимову пустынь — к игумену Герману и иеросхимонаху отцу Алексию, „принявшими его в свою любовь”, как писал он в письме отцу. Отец Алексий, участвовавший потом в избрании патриарха Тихона, тогда еще не такой знаменитый, благословил Федю принять постриг, что он и сделал, получив при пострижении имя Серафим. По окончании Академии иеромонах Серафим стал насельником московского Чудова монастыря, уже накануне революции сделался игуменом, а вскоре после того пошел путем многих, путем арестов, ссылок, — невыносимых страданий. Он погиб на Соловках в 1937 году. <…> o:p/
Один человек, видевший его в ссылке <…> так и написал о нем в своих записках, опубликованных уже после перестройки: „Услышав, как служит отец игумен, на полянке, в лесу, я впервые всем сердцем ощутил страх Божий. Я воочию увидел — слушая, как давал он возгласы, как читал Евангелие, — что этот страх есть такое. Любовь и трепет. Так показал мне батюшка, и так я с тех пор и верю”. Тот же автор пишет и о том, что отца Серафима никогда не видели обозленным, даже в самых жутких, унизительных и грязных ситуациях он умел хранить достоинство. o:p/
Лишь сестра его, моя мама, Ирина Ильинична Голубева доподлинно знала, как погиб брат, но не открыла этого и на одре смерти. „Слишком страшно! Нет, не надо повторять”». И хотя владеющая Голубевым страсть к генеалогическим изысканиям основана, вероятно, на детской травме, — мальчик, выросший без отца, пытается создать и удержать семейную историю, окружить себя хотя бы умершими родными, — она искренняя и неподдельная. Неслучайно именно его письма, где он пытается восстановить биографию рода, дают толчок к развитию отношений Марины и Ланина: автор словно сталкивает между собой две эпохи — рубеж XIX — XX веков и наше время, два типа сознания, два уклада. И — не делает однозначного вывода, в точном соответствии с озвученной в одном из интервью формулой: «Писатель не должен учить, его дело — показывать» <![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> . o:p/
И Кучерская показывает. Например, все новые и новые попытки самоидентификации героини, стремление обрести себя и неожиданно найденный ключ: «Матреша, матрешка: несколько девочек, девушек, женщин жило в ней. Каждая любила своего, каждая была немного другой, растроение, распятирение личности, но в самой середке все-таки лежал якорь: завернутый в одеяло кулек с бантом». Прозвание Мотя (Марина) получает в данном случае неожиданную расшифровку как Матрешка, Матрена. Но будем помнить, что Матрена — это обрусевшее Матрона, согласно энциклопедии — в Риме — свободнорожденная, замужняя дама, в более широком толковании — мать семейства, уважаемая в обществе женщина. Иными словами, найдя имя, героиня находит себя — вполне в духе мифологических конструкций. o:p/
В романе есть и такие — воплощенные образы женственности и жертвенности, свободные от «исканий» и потому — более цельные. Например, университетская подруга Моти Тишка (Таня) — верующая и воцерковленная, — хранящая память о первой и самой счастливой своей любви, но упорно строящая и хранящая семью: с тремя детьми и склонным к адюльтерам мужем. Или жившая век назад Ася Адашева, дневник которой находит и расшифровывает Голубев (как окажется впоследствии, не случайно). Она — воплощенный символ жены и матери, хранящая верность семье и укладу, отвергающая ухаживания пылкого поклонника (что, по крайней мере, следует из ее записок). Но и здесь все не так просто и понятно: последний ребенок Аси рождается спустя девять месяцев после смерти мужа — «Уклад укладом, а люди людьми». o:p/
Наверное, здесь интересно было бы провести параллель между одним из самых заметных и восторженно встреченных романов прошлого года — «Женщины Лазаря» Марины Степновой <![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> утверждают примат семейного уюта и частной жизни над всем остальным, включая талант, призвание, жизнь для других (то есть не для близких, но для кого-то еще). Появление двух романов если с не одинаковым, то со сходным посылом (а я готова напророчить «Тёте Моте» счастливую премиальную судьбу) наверняка означает какие-то подвижки в сознании читающей публики и массовом сознании вообще, и остается только осознать, какие именно. Уже, пожалуй, можно говорить о появлении в России «нового семейного романа» — здесь показательно и благосклонное отношение литературно-критического сообщества: будь роман, скажем, написан в 60 — 70-х, какой-нибудь брюзгливый критик обязательно бы упрекнул автора в апологии мещанства — была такая социальная, спущенная сверху, мода — называть обычную человеческую жизнь мещанством и яростно бороться с ней. o:p/
Героям Кучерской свойственны метания, сомнения, поиски. Каждый своим способом заполняет пустоту внутри себя, образовавшуюся от разных причин, но одинаково мучительную. Так, еще один герой голубевской истории рода — семинарист Илья — вдруг понимает, сколь много в учении Церкви домыслено, допущено, обобщено. «Предания, пусть ложные, пусть неточные, но и они составляли ее суть, были частью ее содержания, мягкими покровами, делавшими пребывание в ней уютным. Теперь же Илья знал, как много продиктовано в церковной жизни, да в той же канонизации святых, одной сиюминутной политической выгодой, не имеющей со Христом, Его жертвой и учением никакой связи». Смятение и разочарование разрешаются осознанием простой истины: вместо того, чтобы копаться в этих огрехах и нестыковках, стоит разобраться в себе, ответить на главный вопрос — готов ли ты не выяснять, но верить? o:p/
Христианские символы и параллели работают и в этой книге Майи Кучерской. Так, в самом начале романа возникает образ Неопалимой Купины: не только горящий куст из Ветхого Завета, но и новозаветный образ Божией Матери. На «горящий» красными листьями осенний куст указывает Тёплый, сын героини, сердце которого переполнено любовью не только к родителям — к людям вообще. В финале своеобразной инверсией непорочного зачатия, метафизически упомянутого в начале романа, дано рождение девочки от двух отцов . На свет появляется новая жизнь, новая девочка, новый «кулек с бантом», которому еще предстоит заполнять свою личную пустоту. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Роман впервые опубликован в журнале «Знамя», 2012, № 7 — 8. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> Ср.: «Романтическая любовь проявляется как непосредственная благодаря тому, что она основана на природной необходимости. Опирается на красоту, — частью на красоту чувственную, частью же на ту красоту, которая может быть представлена вместе с чувственной и через ее посредство, однако же не таким образом, что она проявляется посредством размышления, — но так, как если бы она, все время находясь на грани того, чтобы проявиться, просвечивала через свою оболочку. Хотя такая любовь по сути своей и опирается на чувственное начало, она тем не менее является благородной вследствие сознания вечности, каковое она воспринимает в себя; ибо это как раз и отличает всякую любовь от сладострастия: любовь несет на себе отпечаток вечности» (Кьеркегор С. Или — или. Фрагмент их жизни. В 2-х ч. Перевод с датского, вступительная статья, комментарии, примечания Н. Исаевой и С. Исаева. СПб., Издательство русской христианской гуманитарной академии; «Амфора», 2011, стр. 491). o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> «В институте семьи идет ремонт». Майя Кучерская о новой книге «Тётя Мотя» и не только. < http:// www. pravmir . ru >. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> См. рецензию Александры Гуськовой. — «Новый мир», 2013, № 3. o:p/
o:p /o:p
КНИЖНАЯ ПОЛКА ПЕТРА ДЕЙНИЧЕНКО
o:p /o:p
В этом номере свою десятку книг представляет шеф-редактор журнала «Читаем вместе». o:p/
Петр Гуляр. Забытое королевство. Перевод с английского А. Пономаревой. М., «Астрель: CORPUS», 2012, 398 стр. o:p/
Невероятная история о том, как беглец от русской революции сделался китайским чиновником и отправился нести свет прогресса в совершенное Средневековье. Потомка сибирских чаеторговцев Петра Гуляра, без сомнения, вела судьба. Ему было шестнадцать, когда большевики пришли к власти. Он жил тогда вместе с матерью в Москве, и, видимо, в семье сразу поняли, что к чему. Решение двигаться в Китай было далеко не случайным. Перипетии, которых хватило бы на хорошую эпопею, Гуляр плотно упаковывает в одну главу: здесь и бегство из России, и приобщение к даосской мудрости, и работа в американской фирме, и вхождение в чиновничий круг Китая... Но все это подступы к главному, к работе в Лицзяне, ставшем для Гуляра «страной мечты». o:p/
Собственно, именно в Лицзяне Гуляр оказался отчасти случайно. В самом глухом углу дальней провинции Юньнань, среди варваров-инородцев китайские чиновники чувствовали себя неуютно. Основания тому были — суровый высокогорный климат, непривычная пища, дикие горцы, всегда готовые пустить в ход нож... словом, справится бледнолицый простачок с делом — честь ему и хвала, провалится — ну так не он первый, не он последний. «Множество китайцев, служивших в Лицзяне, было заколото ножом или убито иным образом». Задача перед Гуляром стояла совершенно фантастическая — запустить в этом затерянном крае кооперативное движение. Он сам подал идею, что именно в этой плохо контролируемой местности близ границы с Бирмой дело пойдет. Зачем уж это надо было гоминьдановскому правительству в годы войны с Японией — трудно сказать, но все продвигалось на государственном уровне, а с предприимчивостью у подданных Поднебесной всегда все было на высоте. Тут же завертелся мелкий бизнес, затеявший массовое производство шерстяных изделий. o:p/
Оказавшись в Лицзяне, Гуляр почувствовал себя инопланетянином. Привычный мир исчез — нужно было вести себя в соответствии с нормами и обычаями тысячелетней давности, напоминавшими скорее Европу времен Высокого Средневековья. А первым делом ему пришлось взяться за изгнание злых духов: так уж получилось, что в доме, который ему предоставили, прежние жильцы умерли плохой смертью... Довелось ему быть и аптекарем, и врачом, и, разумеется, о кооперативном движении не забывать. o:p/
Как ни странно, Гуляр смог наладить отношения с представителями почти всех народов, населяющих этот край — от благородных ицзя, напоминающих манерами европейских феодалов, и дружелюбных наси, у которых реальная экономическая власть принадлежала женщинам, до загадочных боа. Возможно, помогло как раз то, что Гуляр был чужим для всех и легко овладевал языками местных племен. Привычные стереотипы не сработали — и его очень скоро признали за своего — за лицзянца. Он сиживал в винных лавках госпожи Ли и госпожи Ян, захаживал в бар госпожи Хо, слушал местные сплетни, лечил и разбойников, и аристократов... До тех пор, пока не пришла революционная армия председателя Мао. По счастью, Гуляр смог через Бирму перебраться в Сингапур, где в середине 1950-х и вышли в свет его записки, в которых нет ни снисходительного презрения к не знающим благ цивилизации горцам, ни восторга перед «благородными дикарями», часто свойственного антропологии прежних времен. o:p/
o:p /o:p
Семен Экштут. Повседневная жизнь русской интеллигенции от эпохи великих реформ до Серебряного века. М., «Молодая гвардия», 2012, 428 стр. («Живая история. Повседневная жизнь человечества») o:p/
Как в России завелась интеллигенция, так с тех пор и подрывает основы, портит духовные скрепы. И в Империи, и при Советах, и после. И даже полезный европейский интеллектуал, этакий Штольц, на отечественную почву пересаженный, уже во втором поколении порождает русского прогрессивного интеллигента, взыскующего идеала. «Трагическая безысходность российской действительности заключалась в том, что у русской интеллигенции отсутствие основ профессиональной этики и элементарное несоблюдение своих должностных обязанностей выступали в превращенной форме все ускользающего идеала и смысла жизни», — так формулирует эту печальную закономерность философ, историк и социолог Семен Экштут, сам, по несчастью, интеллигент. И ведь не передергивает — разве что кое о чем умалчивает. Книга в немалой степени построена на цитатах из русской классики, мемуаров, дневников — русская интеллигенция сама все о себе рассказала и все диагнозы расставила. В числе главных источников — воспоминания военного министра в правительстве Александра II Д. А. Милютина, записки Афанасия Фета, произведения и письма Тургенева, Толстого, Чехова, Гончарова, Боборыкина... Настоящий путеводитель по русской классике, в котором странным образом отсутствует Достоевский. Впрочем, не нашлось в книге должного места и революционному брожению, прогрессистам-технократам (даже Гарина-Михайловского автор почти не упоминает), славянофилам, а также необъятной купеческо-мещанской «образованщине» — всевозможным механикам, бухгалтерам, телеграфистам, конторщикам, фельдшерам, верстальщикам, — из которой выходили уже новые поколения интеллигенции. Это книгу несколько обедняет, интеллигенция у Экштута является словно чертик из коробочки — уже со всеми своими надеждами, устремлениями и комплексами, главный из которых, безусловно чувство вины перед неким умозрительным Народом, сводившееся зачастую к незамысловатой формуле: быть богатым и счастливым плохо, потому что народ страдает. Народ следовало освобождать, просвещать, наставлять и ни в коем разе не эксплуатировать. Реальная экономика, полагает Экштут, как правило, оставалась за пределами интересов русской интеллигенции, больше того, на тех, кто осмеливался заниматься делом, образованная часть общества смотрела в лучшем случае как на эксцентриков. o:p/
Пристрастий своих Экштут не скрывает, полагая правильным именно европейское, либерально-рыночное устройство общества. И главную беду видит в том, что в свое время русская интеллигенция отшатнулась от подлинных буржуазных ценностей, приняв за них жажду наживы и безжалостность к ближнему. Впрочем, вину за это он во многом возлагает на Николаевскую эпоху, когда и зародилось великое противостояние власти и общества, а точнее — образованного слоя, вписавшегося в государственную бюрократию, и все растущей массы людей с дипломами, не имеющей никакой возможности влиять на принятие решений. Положение изменилось после великих реформ Александра II, но последний шанс сдвинуться в сторону настоящего буржуазного либерализма был упущен поколением раньше, когда на руинах разоряющегося дворянства, разваливающейся крепостнической экономики росли те, кого позже назовут интеллигенцией. В итоге «русское образованное общество дорого заплатило и за свое нежелание вступать в диалог с властью, и за свое отторжение капиталистических реалий». o:p/
Книга вышла в серии «Повседневная жизнь», но подробностей быта в ней не так уж много, главная ее тема, пожалуй, — повседневный образ мысли, который Экштут рассматривает на не самых стандартных примерах — таких, как польский вопрос (в книге подробно анализируется трансформация отношения общества к польским восстаниям — в 1831 и 1863 годах оно было различным), эмансипация женщин, ставшая настоящей сексуальной революцией, колониальная экспансия, отношение к истории и действиям русской армии. o:p/
o:p /o:p
Александр Пыжиков. Грани русского раскола. Заметки о нашей истории от XVII века до 1917 года. М., «Древлехранилище», 2013, 646 стр. o:p/
Чтобы увидеть русскую историю XIX века в необычном фокусе, требуется некоторое усилие. Слишком уж трудно отвлечься от привычной схемы, в которой силы прогресса, сиречь революционеры, вели неустанную борьбу с цепляющимся за прошлое самодержавием. Александру Пыжикову это удалось — и привело, прямо скажем, к нетривиальным выводам. o:p/
Ключевая точка русской истории, согласно концепции автора, — церковный раскол, приведший к тому, что в России «образовались два социума с различной социальной и культурной идентификацией». Вряд ли кто станет с этим спорить, однако до сих пор принято было считать, что в итоге православные в массе своей приняли реформу Никона, а роль старообрядцев была незначительной. Пыжиков утверждает ровно противоположное, показывая, что немало православных лишь сделали вид, будто приняли реформу, на деле оставшись верным старине. Фактически старообрядцам удалось создать мощнейшие теневые структуры, пронизывающие едва ли не все слои общества, причем особенно влиятельными они стали в конце XVIII — XIX веке. В книге подробно исследуется феномен внезапного, из ниоткуда, появления купцов-миллионеров и старообрядческой модели капитализма, основанной на принципе «твоя собственность есть собственность твоей веры». Тут и в самом деле много удивительного — еще современники отмечали, что громадные средства внезапно оказывались в руках людей, прежде «занимавшихся разве что мелкой торгово-кустарной деятельностью». Пыжиков полагает, что на самом деле эти старообрядцы-нувориши были не столько удачливыми предпринимателями, сколько управленцами, которых «община наделила соответствующими полномочиями». И работали они не на себя, а ради «противостояния никонианскому миру». Деньги же находились в распоряжении общины, и вся экономика староверия была основана на общинном кредите, причем огромные средства зачастую ссужались без оформления каких-либо бумаг, на основе устной договоренности. Рассматривая движение старообрядческих капиталов в XIX столетии, семейные и политические связи старообрядцев, Пыжиков приходит к выводу, что противостояние властей и приверженцев старой веры не прекращалось вплоть до первой русской революции, причем давление правительства вело к радикализации части влиятельных старообрядцев. Так, старообрядческий капитал сыграл немалую роль в организации вооруженного восстания в Москве в декабре 1905 года. А если учесть, что народные массы пронизывали староверческие толки и согласия, для которых сама идея частной собственности выглядела странной, становится понятным, почему коммунистическая идея не встретила в народе серьезного сопротивления. o:p/
o:p /o:p
Валерий Янковский. От Сидеми до Новины. Дальневосточная сага. Владивосток, «Рубеж», 2011, 608 стр. o:p/
Валерий Янковский — внук польского шляхтича Михаила Янковского, пошедшего после разгрома польского восстания 1863 года на каторгу в Сибирь, да так там и прижившегося, натуралист, охотник, эмигрант, зэк, писатель — прожил почти сто лет, и на его долю выпало все, что мог предложить XX век. Этот сборник его избранных произведений задумывался как подарок к столетию писателя. Увы, автор совсем немного не дожил до выхода книги в свет. Ее составили воспоминания о детстве, охотничьи рассказы, публиковавшиеся в разные годы в журнале «Охота и охотничье хозяйство», записки о жизни в эмиграции в Корее, а также воспоминания «От гроба Господня до гроба ГУЛАГа». Сочетание лирической прозы и жесткой мемуаристики напоминает путешествие в параллельную реальность, в Россию, которая могла бы быть, если бы не революция или, скажем, если бы Дальневосточная республика сохранила самостоятельность... Но русского фронтира, с гордым и свободным вооруженным народом, не получилось. А ведь могло бы — Янковский вспоминает «белый дом-замок с башнями и бойницами», дедов кабинет, где постоянно стояли наготове четыре пулемета, не считая множества ружей. Сам Валерий первое ружье получил в подарок на Новый год, в возрасте восьми лет. И вот картинка из ушедшей жизни: «...в высокой серо-зеленой траве лежит на боку здоровенный рыжий в белых пятнах и белым животом бык-пантач. Спешиваемся, девчонки хлопают в ладошки, стрелок вытягивает из ножен короткий финский кинжал с черной рукояткой. Ловко делает глубокий круговой надрез вокруг шеи, резко поворачивает голову быка, — крак — легко отделяет башку с серо-розовыми, покрытыми нежным пушком молодыми летними рогами». Детям, участникам сцены, еще и десяти лет нет... o:p/
Хозяйство Янковских росло «в борьбе с тиграми, барсами и волками, с хунхузами и браконьерами». А чуть позже — и с красными партизанами. Но в 1922-м прежняя жизнь кончилась, пришлось уезжать. Благо, недалеко — граница всего в полусотне километров. Начался корейский этап жизни Янковских (точнее, корейско-японский, ибо Корея тогда была под властью Японии). Скудный, но достаточно благополучный — занимались своим любимым делом, устраивая охоту для богатых иностранцев, приезжавших даже из Европы и Америки, а позже организовали на берегу Японского моря курорт, пользовавшийся известностью у русской диаспоры в Восточной Азии. До войны с Японией, замечает Янковский, русские эмигранты жили в этих краях «как у Христа за пазухой», даже Вторая мировая прошла тут почти незамеченной. Но 9 августа 1945 года «всю Маньчжурию накрыл гул самолетов» — Япония терпела поражение, Маньчжурию и Корею заняли советские войска. Странно, но русская молодежь, в том числе и Янковский, ждала своих с воодушевлением, не подозревая, что у многих впереди лагерные сроки, а то и пуля. Янковскому, пытавшемуся бежать уже из заключения, выпали даже не колымские, а чукотские лагеря. Но ему невероятно повезло — в 1949 году дело переквалифицировали, и вместо 25-летнего срока вышел девятилетний. По счастью, Янковский прожил еще более полувека — чтобы успеть обо всем рассказать. o:p/
o:p /o:p
Шон Эллис. Свой среди волков. [В соавторстве с Пенни Джунор.] Перевод с английского А. М. Тихоновой. М., «Астрель: CORPUS», 2012, 352 стр. o:p/
Шон Эллис с волками жил, по-волчьи выл, по-волчьи ел и пил. Так, скажут, не бывает, но жизнь богаче любой выдумки: плохой парень из английской глубинки, в свое время в буквальном смысле сбежавший от полиции в десантуру, всегда чувствовал — он с этими хищниками одной крови. Только потому и смог прожить несколько месяцев в зимнем горном лесу в волчьей стае. Одно только он не делал вместе с волками — не охотился. Волки умеют это лучше, да и, как выяснилось, далеко не все члены стаи в охоте участвуют. Некоторые заняты совсем другими делами, и за это их кормят. Вот Эллис и прикинулся таким полезным волком. Но это была вершина его волчьей карьеры, к которой он шел многие годы. o:p/
Стая, приютившая Эллиса, жила, разумеется, не в Британии, а в Северной Америке, в штате Айдахо. Чтобы попасть туда, пришлось приложить некоторые усилия. Детство Эллиса прошло в глухой дыре, ничуть не напоминающей идиллические деревушки из английских детективных сериалов. Добрая старая Англия Эллиса словно сошла со страниц советской деревенской прозы — безотцовщина, никаких тебе благ цивилизации, грязные картофельные поля да сельские танцульки с обязательной дракой. Одна радость — собаки. «Я считал фермерских псов своими друзьями», — пишет Эллис. С детства он отлично знал и понимал собак, и родство собак с волками — важнейший элемент его концепции волчьей психологии. o:p/
Научили выживать в любых условиях армейские тренировки — в том числе в Приполярье, где приходилось есть сырое мясо и спать в снегу. А еще армия дала привычку подчиняться и чувство иерархии — без этого среди волков не прожить. Впрочем, полагает Эллис, волки не так уж кровожадны — в отличие от людей, они никогда не убивают зря. Конечно, Эллис волков идеализирует. Попадись он им в голодный год — кто знает, не увидели бы они в нем просто добычу. Но, похоже, волки почему-то признали его за несчастного лысого и беззубого собрата, согласного на последнее место в стае. Позволили ему возиться со щенками и выдавали иногда немного еды — слегка обглоданную оленью ногу, например. o:p/
Так или иначе, но Эллис смог увидеть жизнь стаи изнутри, в естественных условиях, и оказалось, она сильно отличается от того, как люди ее себе представляют. Прежде всего, нет у волков никакого «альфа-самца», великого охотника, ведущего стаю. Всем заправляет дама, матриархат беспрекословный, и никакой охотой она не занимается. Госпожа руководит — а дело делают бесконечно влюбленные самцы, защитники, охотники-промысловики, наставники молодежи. Чрезвычайно сложное взаимодействие между членами стаи, соблюдение иерархии в доступе к пище, очевидное планирование охот... Нет, этого не может быть! Многие профессиональные зоологи и этологи отвергли выводы Эллиса, решив, что он слишком уж очеловечивает волков. Возможно — но ученые мужи сами оленью ногу с волками не делили. Эллис убежден, что эксперимент его вполне корректен. Он до сих пор активно изучает волков в национальных парках Великобритании, США и Польши, стал героем нашумевших документальных фильмов о дикой природе и мечтает о том, чтобы «научиться говорить от имени этих благородных созданий, языка которых пока никто больше, кажется, не понимает». o:p/
o:p /o:p
Пути следования. Российские школьники о миграциях, эвакуациях и депортациях XX века. М., «Мемориал», «Новое издательство», 2011, 392 стр. o:p/
Непрерывное перемещение людей в условиях резко ограниченной свободы — так видят XX век современные российские школьники, лауреаты очередного конкурса работ в рамках проекта «Человек в истории», который уже много лет осуществляет общество «Мемориал». По итогам этого конкурса вышло более десятка книг. К сожалению, они редко становятся предметом публичной рефлексии — за исключением, может быть, педагогических кругов. А жаль — в каждой собраны совершенно уникальные материалы, причем сборники — лишь верхушка айсберга, лучшее из лучшего. Участвуют в конкурсе тысячи старшеклассников со всех концов страны. Тут понимаешь, что образование у нас каким-то образом все эти годы умудрялось выживать, причем в самых неожиданных местах: отличительная особенность конкурса — всегда относительно малая доля работ из столичных городов и часто худшее их качество. o:p/
Иногда к конкурсу встречаешь отношение пренебрежительное: мол, мемориальцы призывают школьников писать о репрессиях, выискивать негатив, между тем как у нас были великие победы и энтузиазм. Это, мягко говоря, заблуждение. На деле школьники просто глубоко вникают в семейные истории своих родственников и соседей. Надо сказать, это едва ли не единственный способ убедить современного подростка, что те или иные события действительно имели место, а не придуманы пропагандистами и литераторами. o:p/
Данный сборник посвящен не столько «сталинским депортациям», сколько бесконечному и безжалостному перемещению человеческих масс, охватившему страну в минувшем веке. Мы сделались страной мигрантов, причем мигрантов чаще всего вынужденных. Людей носило по всей стране, но крайне редко по их собственному выбору. На войну, на великие стройки, на лесоповал, в ссылку, в лагеря, в эвакуацию или в эмиграцию... В книге — три десятка частных историй, но детали повторяются — эшелон, барак, голод, холод, война... Одно из эссе озаглавлено просто: «Как мы выжили». И заголовок этот подходит к любой точке российского пространства-времени в минувшие сто лет, от Абхазии до енисейской глуши, от Поволжья до Харбина, от Гражданской войны до недавних войн на Кавказе. Причем никаких особых ужасов в книге нет — обычная советская повседневность, от которой так яростно открещиваются нынешние радетели державного величия. Да, мы делали ракеты и покоряли Енисей. И в военные годы в считаные месяцы запускали вывезенные на Урал и в Сибирь заводы. Только отчего-то даже эвакуированные «жены и дети начсостава» порой оказывались без жилья, еды и теплой одежды — и еще были вынуждены доказывать, что имеют на это право. Что уж говорить о спецпереселенцах, трудармейцах, ссыльных, депортированных... В работах школьников преобладают документы и воспоминания очевидцев. И жизнь советской страны предстает во всем своем тягостном однообразии — лямку тянули все: в архангельской глубинке, в эвенкском селе Сым, в провинциальных студенческих общежитиях середины 1950-х, в послевоенной мордовской деревне.... o:p/
o:p /o:p
Луций Эмилий Сабин. Письма к Луцию об оружии и эросе. Текст подготовил О. П. Цыбенко. СПб., «Алетейя», 2011, 207 стр. («Античная библиотека») o:p/
Античность уходит из культурного поля, а потому литературные эксперименты в этой области остаются почти не замеченными. Так случилось и с «Письмами к Луцию» — утонченной игрой, вызывающей в памяти такие шедевры, как «Воспоминания Адриана» Маргерит Юрсенар или «Письма римскому другу» Иосифа Бродского. Читаешь книгу с неподдельным удивлением — как это возможно сейчас, на русском языке? (Кстати, первоначально книга вышла в Афинах, на греческом.) Причем условия игры выполнены полностью — солидная серия, в которой и Ксенофонт, и Катулл, вступительная статья, ученое послесловие и комментарии. Но что за Луций Эмилий Сабин? Разве был такой среди римских авторов? Конечно же, нет, сообщают нам, на самом деле был малоизвестный сочинитель Эмилио Сабино, чье «оставшееся незамеченным (скорее всего по воле самого же автора) произведение было отпечатано в конце XIX века либо в нескольких экземплярах, либо тираж был полностью уничтожен», причем место издания не известно... Словом, дают понять, что перед нами — только текст, и судить следует лишь слова... А слова — блестящий образчик римской эпистолярной прозы конца Республики. Герой книги — коллекционер старинного оружия, редкостей и красавиц, путешествует по Италии, изливая душу в письмах другу Луцию Лукуллу, пишет о «стихии Марса и стихии Венеры», разрываясь между ними. Где-то там, на границах повествования, легионы Красса бьются с войском взбунтовавшихся рабов, но Сабин смотрит на это с точки зрения эстетической и мистической, усматривая в некоторых успехах Спартака «нечто высшее — прохождение через смерть и вхождение в бессмертие», рассуждая о красоте гладиаторской игры, красоте — ибо изящество в конечном счете «основывается на жестокости или завершается жестокостью»... Сам он больше озабочен поиском уникальных доспехов и предметов вооружения и потому устремляется на Сицилию, где надеется заполучить драгоценный греческий шлем небывалой красоты. Там он и встречает гречанку Эвдемонию, открывающему ему божественный, поистине потусторонний Эрос. «Она уводит меня в свой мир, чтобы я забыл все бушевания, порождавшие чудовищ в Проливе и в душе моей, забыл все копья и мечи, которыми я сражался рядом с тобой и за которыми рыскал… Хочу забыть всю кровь, пролитую моей рукой и моей мыслью… Всю кровь, пролитую в войне с рабами по их вине и по нашей вине». Высокий слог порой мешается с низким, прекрасная возлюбленная оборачивается страшной Сфингой — «женщина исчезла: остались только львица и хищная птица», а Сицилия обернулась островом извечных чудовищ... Женщины и оружие, оружие и женщины — вот что занимает ум Сабина. Он находит тайную связь между ars amatoria и ars gladiatoria, обнаруживает их неразрывность и странную извращенность — извращенность, присущую самому Риму, неспособному избавиться от гладиаторских страстей... o:p/
Что же, о переводчике мы не знаем ничего, но сказано, что «текст подготовил Олег Цыбенко», известный переводчик, знаток латыни, древне- и новогреческого (и автор небольших исторических романов, написанных на греческом). Как замечает он в послесловии, «Письма об оружии и эросе» — «не что иное, как римская nuga — ученая безделка, основной целью которой является доставить удовольствие читателю». Цель достигнута — давно не доводилось читать столь изысканной и умной русской прозы. o:p/
o:p /o:p
Василис Алексакис. По Рождестве Христовом. Перевод с французского Л. Ефимова. СПб., «Лимбус Пресс», «Издательство К. Тублина», 2011, 272 стр. o:p/
Легко ли жить в стране-музее? Легко ли жить в стране, которую почему-то решили превратить во всеевропейский курорт? Легко ли жить в перманентном столкновении ценностей традиционных и глобальных, великого античного наследия и провинциального православия, в постоянном присутствии былого величия и недавнего позора — многовекового иноплеменного владычества, диктатуры, экономической зависимости? Роман Василиса Алексакиса — о современной Греции, но написан он еще до того, как картинки греческих беспорядков заполонили телеэкраны. Еще ничего не случилось, еще все будто бы хорошо, и студент-историк, квартирующий у слепой старушки, отправляется по ее просьбе на Афон, чтобы узнать что-то о судьбе ее брата, по слухам, ушедшего в монастырь. Все чисто, прозрачно: пейзажи, поездки, ученые и политические разговоры, археология, красивые дамы, море, шум деревьев, размеренная монастырская жизнь. Ничего модного ныне мистически-триллерообразного, хотя некий детективный элемент в повествовании присутствует. Даже эротики почти нет, смело можно ставить гриф «16+». o:p/
И все же сюжет держит в напряжении — отчасти потому, что уже знаешь, чем обернулось курортное благополучие, но в большей мере из-за бури в душе героя. Ему никак не совместить в себе несколько противоречащих друг другу образов своей страны — благостного курортного рая, полностью встроенного в глобальный мир, трагически подневольной и провинциальной православной страны и античной Греции, стоявшей у основ европейской цивилизации. А если добавить весьма двусмысленную позицию церкви в годы войны и диктатуры да сомнительные ее финансовые эскапады... В этом смысле грекам приходится куда тяжелее, чем нам, у греков уже почти не осталось точек опоры — ни в прошлом, ни в будущем, ни в вещах вечных. Осталось лишь сонное царство беломраморных руин, жаркое курортное марево — и даже в монастырь не сбежать... o:p/
Строго говоря, Алексакис писатель не столько греческий, сколько французский. Такое двойственное положение — между европейским центром и периферией, когда периферия одновременно является и первоисточником ценностей, принятых в центре, — позволяет писателю смотреть на греческие проблемы несколько ироничным взглядом. Любовь, смешанная с иронией, — вот, пожалуй, главное ощущение от этого романа, совершенно заслуженно удостоенного Гран-при Французской академии. o:p/
o:p /o:p
Александр Смоляр. Табу и невинность. Перевод с польского Е. Гендель. М., «Мысль», 2012, 520 стр. o:p/
Американский историк Тимоти Снайдер несколько лет тому назад назвал земли между Россией и Западной Европой страшноватым словом «Bloodlands» — лучше всего перевести это как «Кровавый край». Термин этот Снайдер использовал одновременно и в узком, и в широком значении. В узком — потому что отнес его прежде всего к первой половине XX века, в широком — потому что сама территория эта точно не определена, а на протяжении многих столетий там пролилось столько крови и накопилось столько взаимных обид, что поневоле приходит на ум Святая земля — разве что там взаимные счеты и обиды на пару тысяч лет старше... Сравнение тем более напрашивается, что и в этом «восточно-европейском пограничье» (термин, также прижившийся в американской историографии) еврейский народ сыграл не последнюю роль. o:p/
Историческая, нравственная и психологическая составляющие, постоянно присутствующие в сознании обителей этой «зоны конфликта», странным образом не фиксируются в представлениях, укоренившихся как в России, так и на Западе. Между тем без поправки на большую кровь, лившуюся еще на памяти старшего поколения, нам не понять того, что происходило в Восточной Европе перед падением соцлагеря, и не понять, что происходит там сейчас. Разобраться в этом отчасти помогает книга польского политического мыслителя Александра Смоляра. Отчасти — потому что Смоляр смотрит на вещи прежде всего с точки зрения поляка, точнее — польского еврея. Двойная идентичность позволяет Смоляру свободно высказываться о самых больных проблемах польской истории и политики (так, он иронически замечает, что говорить о польско-еврейском диалоге в современной Польше абсурдно, поскольку еврейской стороны уже нет). Собственно, заглавное эссе, «Табу и невинность», посвящено как раз отношению поляков к евреям в годы войны. На ту же тему — заметки о Мареке Эдельмане, одном из руководителей восстания в Варшавском гетто, а позже — видном польском диссиденте. o:p/
Эти нелицеприятные для поляков заметки об особенностях исторической памяти прямо перекликаются с российскими проблемами. Как ни странно, но Польша для нас — неплохое зеркало, может быть, чуть кривое, но это та кривизна, которая лишь подчеркивает самые важные, общие черты. Это общее — и давний «спор славян между собою», и тяжкое наследие социализма, и застарелая проблема взаимоотношений власти и общества. Именно поэтому старые эссе о польской революции конца 1980-х, о развитии гражданского общества тогда и сразу после падения социалистической власти, об отношении ко Второй мировой войне читаются как сегодняшняя актуальная российская публицистика, кое-где можно ни слова не менять. Что печально, это не значит, что поляки все науки превзошли и нам остается на них равняться. Ничего подобного — просто и мы и они с завидным упорством наступаем на одни и те же грабли... o:p/
o:p /o:p
Ханс Йоас. Возникновение ценностей. Перевод с немецкого К. Тимофеевой.СПб., «Алетейя», 2013, 312 стр. o:p/
Небольшая и совершенно академическая работа немецкого социолога Ханса Йоаса — о наболевшем. О том, к чему апеллируют и политики, и деятели культуры, и религиозные авторитеты, — о ценностях. Хотя отстаивать свои ценности, продвигать их и защищать готов едва ли не каждый, мало кто может внятно определить, о чем вообще идет речь. Что такое вообще ценность, что такое приверженность ценностям, как эти понятия соотносятся друг с другом, как возникают ценности — только самых общих вопросов набралось у Йоаса на целую страницу. А есть еще и проблема утраты ценностей (кстати, почему всеми без исключения это явление, простите за тавтологию, расценивается негативно?). Собственно, книга и призвана дать некоторые ответы — точнее, обозначить подходы к возможным ответам. Для этого Йоас рассматривает отношение к проблеме ценностей ряда крупнейших западных философов, в том числе Фридриха Ницше, Уильяма Джеймса, Эмиля Дюркгейма, Георга Зиммеля, Макса Шелера, Джона Дьюи, Чарльза Тейлора, Юргена Хабермаса. o:p/
Не стоит ждать каких-либо определенных ответов. По существу, Йоас анализирует и толкует дискуссию, продолжавшуюся много десятилетий «от Ницше до Дьюи» и до сих пор далекую от завершения. И хотя, замечает автор, «результаты герменевтических усилий с трудом поддаются обобщению», он все же предлагает читателю некий общий вывод: «Ценности возникают в опыте формирования и трансценденции самости». Заключительная глава книги, названная «Ценности и нормы: благо и справедливость», посвящена исключительно толкованию этого достаточно темного вывода. Темного, ибо только выражение «возникновение ценностей» предполагает четыре трактовки. Это важное место, поскольку прямо касается того, как функционируют ценности в обществе. Итак, пишет Йоас, говоря о «возникновении ценностей», мы можем предполагать возникновение ценности впервые в истории; отстаивание этой ценности небольшой и постепенно увеличивающейся группой последователей; возникновение приверженности уже существующим ценностям у индивидов и, наконец, об оживлении забытых ценностей. При этом ценности «обретают свою направленность в неустойчивом балансе между опытом, артикуляцией и существующим в той или иной культуре репертуаром интерпретаций». Что же — в современном мире ценности зыбки и подвижны, а потому понятно стремление автора «объединить теорию возникновения ценностей с универсалистской концепцией морали». o:p/
Читателя может смутить тяжеловесный стиль, но это не оттого что переводчик плохо переводил, — тут беда, на мой взгляд, в наследственной безъязыкости русской философии, нет у нас слов, чтобы разговаривать о таких вещах просто. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
NON-FICTION C ДМИТРИЕМ БАВИЛЬСКИМ
o:p /o:p
БЕЛАЯ КНИГА o:p/
o:p /o:p
Книга <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> , между прочим, вышла в свет совсем белая, лишь на корешке портрет классика. И вот что интересно — если на собрании дневников Гомбровича «Издательство Ивана Лимбаха» <![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> , которое ничего не делает просто так, само слово «Дневник» значительно превышает размерами имя и фамилию автора, то здесь, точно невзначай, обозначение жанра написано с маленькой буквы. Как если бы книга называлась: «дневники Льва Толстого». o:p/
Та же самая конструкция повторяется на титуле. Только в аннотации и выходных данных первая буква заглавия меняется на заглавную. Для чего затеяна эта оформительская игра, станет понятно, когда большая часть книги будет прочитана, — да, просто поденные записи Льва Толстого оказываются лишь поводом для ведения Владимиром Бибихиным своих собственных, «голосовых» дневников. o:p/
Это — правленые стенограммы лекций, посвященных чтению толстовских дневников: два спецсеминара (в одном 13 лекций или, как их величает сам Бибихин, «пар», в другом — 14), проходивших на философском факультете МГУ (2000 — 2001 годы) и ныне переведенных в книжный вид. o:p/
Именно это, как кажется, затрудняет вход в белый том с портретом Толстого на корешке, хотя правильнее было бы дать там портрет самого Бибихина, внешность которого случайный читатель вообще не представляет. o:p/
А представлять нужно — книга, сделанная с голоса, кажется особенно личным (физиологичным, физиологическим, едва ли не слепком телесного) высказыванием, смысл которого рождается по иным, нежели в письменном тексте, принципам. В ином агрегатном состоянии. o:p/
Другое дело, что вряд ли у «Дневников Льва Толстого» (тираж 2000 экземпляров) найдется этот самый «простой» или «случайный» читатель, нуждающийся в прояснении «правил игры». o:p/
Посмотрите на издание сторонним взглядом — остраняясь: о чем здесь вообще идет речь? Ради чего на 478 страницах громоздятся непрозрачные философические навороты и никуда не ведущие разъяснения? o:p/
Издательство, понимая это принципиальное частничество книги, пренебрегло даже оглавлением: отныне корпус Бибихинских лекций, посвященных дневникам Толстого, представляется единым, нечленимым брикетом. o:p/
Вход в книгу — важный показатель тождества (или же, напротив, различия) автора и читателя, предстоящей предвкушаемой трудности, которая может быть оправдана авторским опытом (и плотностью его донесения ), а может быть подчистую проиграна — если количество затраченного времени и сил не покрывает сухого остатка. o:p/
Нынешний читатель достаточно прагматичен для того, чтобы игнорировать непропорциональные тексты. Хотя, с другой стороны, кажется, никогда у книгоиздательской отрасли не было такого количества читателей, бескорыстно тратящих время своей жизни на бездарные, пустые сочинения коммерческих ремесленников. o:p/
Если с одноразовой коммерцией все более или менее понятно, то книги исследовательские, трактующие и интерпретирующие, взыскующие не только доверия, но и уважения, мурыжат тебя до последнего набором каких-то малоуловимых признаков и переходов, что, совпадая или не совпадая с читательским ожиданием, порождает то, ради чего все затевалось, — рему . o:p/
Книга В. В. Бибихина — из таких вот, сопротивляющихся, трудных, требующих не только участия, но и соучастия, полного приятия правил игры, вырабатывающихся и складывающихся по ходу лекционного курса. o:p/
Есть книги, подхватываемые с лету, едва ли не с первых страниц или даже строчек (нынешний потребитель привередлив), зато другие, подобно подробным театральным постановкам, способны угробить на ввод всех важных обстоятельств едва ли не все первое действие. o:p/
Но Бибихин и тут чемпион — в его манеру выражаться въезжаешь едва ли не на середине тома, когда те или иные авторские мысли и наблюдения за мыслями Толстого обкатываются с помощью других философов. o:p/
Начинается этот кусок Дильтеем и Витгенштейном, далее следуют Кант и Хоружий, а также целая лекция, в которой рассматриваются уже не записки Толстого, но большая статья Томаса Манна. o:p/
Кажется, именно это отступление — три или даже четыре внешне нетолстовские лекции — окончательно вправляет повествовательный сустав книги. Именно здесь «Дневники Льва Толстого» находят свой ритм и приемлемую для читателя степень понятности. o:p/
Несмотря на то что фразу со страницы 66 («Поздравляю вас. Сейчас наконец на третьем занятии мы вступим в пространство толстовских дневников») уже вовсю окружают толстовские цитаты, собственно работа над пониманием текста начинается значительно позже. И, как я уже заметил, не с толстовского «материала». o:p/
Особенно темной в этом смысле выглядит самая первая лекция, где метод не проговаривается, но выговаривается по принципу «клади рядом», и которую можно советовать читать не как предисловие к этому лекционному курсу, но как послесловие и венчающий «Белую книгу» купол. Форма ее (книги, разумеется, но, следовательно, и лекции тоже) напрямую зависит от особенностей говорения конкретного человека, пауз и неповторимых интонаций, что следует, видимо, обозначать в стенограммах знаками из нотной грамоты или из нотаций танцевальных манускриптов. o:p/
Потому что две рядом стоящие здесь фразы и выглядящие в книге продолжением друг друга, причинно-следственной цепочкой и сквозным нарративом, на самом деле, берутся (могут браться, выделяясь голосом ) из соседних, но совершенно разных дискурсов. o:p/
Кажется, некоторые высказывания первой лекции — декларативные (и являющиеся частью декларации) и особенно автору важные, ронялись в действительности лекционного зала, точно абзацы манифеста. Как важные соображения, нуждающиеся в осмыслении и поэтому отделяемые и отдаляемые от других, расположенных по соседству. o:p/
Книжная природа (порода) «Дневников Льва Толстого» это ощущение смазывает, соединяя разрозненные фразы в единый поток, при этом лишая их ощутимых (зримых и звуковых) подсказок. o:p/
Я не знаю, каким был Владимир Вениаминович, внешне и голосово, какие жесты были ему свойственны, с какой скоростью он говорил, как смотрел… o:p/
По себе знаю, как часто на лекциях или же в разговоре с важным человеком на тебя как бы снисходит ощущение полной прозрачности, полного понимания и того, что говорится, и того, что из себя представляет сам собеседник. o:p/
Вдруг становится видно во все стороны его света, а то, что он говорит, начинает прорастать в сознании немедленно, переполняя извилины многочисленными следствиями и собственными, уже твоими, последствиями чужих мыслей, будто расчищая их от ментального хлама, делая процедуру понимания прямой, даже летящей. o:p/
Такие состояния ценны десятками мгновенно вспыхивающих идей и внезапно образующихся планов, которые тускнеют и пропадают, стоит твоему визави выйти за дверь. o:p/
Возможно, это и есть харизма или что-то в этом духе — ощущение особого состояния полноты понимания, схожее с измененным сознанием, плоды которого, как протрезвеешь, оказываются лишенными жизни. o:p/
Тут ведь еще что — поспевая вслед за говорящим, ты подтягиваешь свое понимание вслед за тем, что слышишь. И есть здесь небольшой временной зазор, оказывающийся внутри коммуникации едва ли не определяющим — когда отставать ведомому тем более незазорно, что устная коммуникация ведь именно таким образом и устроена. o:p/
Читая книгу, автоматически сам себе устраиваешь режим считывания текста, идущий вплотную с авторскими намерениями, а то и (если чтение невнимательно и курсор зрачка, подгоняемый случайными мыслями, не относящимися к сути дела, рвется вперед поверх типографских строчек) опережая его. o:p/
Важнейший урок устного текста заключается в большей, нежели обычно, свободе творящего: тем более, что формулировки его подвижнее и приблизительнее тех, что обычно кладутся на бумагу в одном, неизменяемом более виде. o:p/
Проговоренному вслух (в том числе и бессознательно) легче затеряться в толще синтаксических и пунктуационных складок — устное несет меньше ответственности, нежели письменное: устное выговаривается в никуда, в воздух, тогда как письменное прицельно кладется на бумагу; тут уже не забалуешь. o:p/
Устное есть чистое время, тогда как письменное — время, искусственно обработанное нашими личными синдроматиками и более близкое к субъективности хронотопа. o:p/
Так, толкаясь с автором темпераментами, проскакиваешь добрую половину «Белой книги», лишь в последней трети выходя на более или менее уравновешенное восприятие. o:p/
После чего и начинаешь отвечать на главные прагматические вопросы, занимающие нашего человека: каковым должен быть итог этой книги — лучшее понимание Толстого? Себя? Путей познания? «Проблематики Бибихина»? o:p/
Обложка отвечает: «Наша цель не портрет. Но и не вживание, вчувствование. Мы вглядываемся в человека как в весть, к нам сейчас обращенную и содержащую в себе ту тайну, участие в которой нам сейчас крайне нужно для нашего спасения…». o:p/
Спасения от чего? Когда я читал книгу, тоже себе эту цитату пометил, выделив из общего массива. И лишь позже обратил внимание на эту выноску, так как она, едва ли не единственная в книге, напрямую проговаривает цель, объясняя, зачем все . И как оно устроено. o:p/
Лекции эти находятся в постоянном становлении и развитии, кружат вокруг сквозных лейтмотивов и тем, так никуда и не приводя; оставаясь примером концентрированного времяпрепровождения (что, по нынешним разреженным временам, само по себе подарок). o:p/
Бибихин ведь не берет записи Толстого в некоей последовательности, не анализирует их форму или буквальное содержание (микст биографизма и исторического подхода), но иллюстрирует ими свои оригинальные выкладки, настоянные, впрочем, на том, что было у классика. o:p/
Потому что, «я не знаю в мире теперь писателя, который осмелился бы так смиренно и просто рассказать, не рисуясь немного и не отмечая черты героя, свой день…». o:p/
Так уж счастливо сошлось: беспрецедентная полнота описания (гениальный романист, венчающий своим творчеством «психологический метод») и почти невероятная протяженность десятилетий самонаблюдения делают толстовские дневники документом, едва ли не единственным в своем роде. o:p/
Тем более, что писатель, скорее всего неосознанно, но тем не менее, да, выстраивал на протяжении многих дневниковых лет внешне малозаметный разворот генерального сюжета. Иначе и не бывает. Совсем уже по-романному, начиная записки из «точки отсчета» правилами, которым важно следовать. «Жить по написанному». o:p/
Каждый, открывающий толстовские дневники, помнит этот свод, необходимость которого доказывалась им всю оставшуюся жизнь как некая, гениально увиденная в юношестве, теорема. o:p/
Поэтому именно здесь, как кажется, и возникают «дополнительные» (прагматические) вопросы, которые читатель как бы задает лектору и автору «Белой книги». Зачем барину и писателю Толстому нужно было так изнурительно и долго школить себя? Почему нам, совершенно иным во всех смыслах, людям необходимо читать об этих усилиях? o:p/
Ну хотя бы оттого, что Толстой, как подлинный и редкостный гений, выступает в своем наследии (вряд ли следует делить его на художественное, публицистическое и эпистолярное) как всечеловек , способный дать каждому то, что ему нужно. o:p/
Да, такова его амплитуда, в которой, кажется, есть все от самого что ни на есть плоскостного и низменного до опять же самого космически необъятного, необзорного. Непостижимого. o:p/
Оттого любые посттолстовские штудии говорят в первую очередь не о Толстом, но о том, кто читает-изучает. Примесь этой субъективности входит в условия игры. Говорим «Толстой», подразумеваем «Бибихин». В том числе и Бибихин. o:p/
Подобно Бибихину, я ведь тоже внимательно прочитал дневники и письма Толстого. Для того, чтобы лучше понять логику мысли «Белой книги», изучил не только тома с записными книжками и дневниками, но и большую часть переписки. o:p/
После чего у меня вполне естественно образовался собственный образ Льва Николаевича. Кстати, по-человечески менее симпатичный и более конкретный, физиологичный, нежели у устного Бибихина, относящегося к текстам Толстого как к некой абсолютной, неменяющейся, неизменной данности едва ли не божественного происхождения; из-за чего их, скажем, нельзя подвергать сомнению, критике. Их можно только интерпретировать. o:p/
Приводя пример того, как Толстой хотел быть добрым и любить неприятных ему людей (одно из важнейших условий придуманного им самосовершенствования), Бибихин цитирует записи 1909 года. Затем комментирует: «Со Струве Толстой пытается завязать разговор — и бросает». o:p/
Дальше идет абзац из Толстого, выделенный другим размером шрифта. После чего Бибихин пишет: «Через 10 строк Толстой забывает, что уже записал и повторяется ». Снова идет цитата из дневников Льва Николаевича, после чего Бибихин уточняет: «Через 2 дня яд у Толстого куда-то бесследно девается, испаряется; он проснулся во время прогулки от своей кратковременной полемической страсти ». o:p/
Уточнение обнаруживает: записки Льва Николаевича воспринимаются Бибихиным как единый, прямой нарратив, в котором нет разноуровневого совмещения самых разных дискурсов и потребностей. Он выпрямляет Толстого примерно так же, как «Белая книга» выпрямляет устную речь Бибихина в попытке стать литературной. o:p/
Бибихин показывает Толстого, как бы думающим одну и ту же мысль на протяжении нескольких дней, отбрасывая все закадровое существование, не зафиксированное в коротких поденных записях. o:p/
Бибихин относится к тексту Толстого точно так же, как читатель относится к тексту самого Бибихина, для каких-то своих целей множа уровни интерпретации. Продолжая их множить. o:p/
При том что сам же Бибихин, с помощью цитат из Вардана Айрапетяна и Ганса Зедльмайера, вводит двумя сотнями страниц раньше различие между двумя видами интерпретации: «В справочнике под одним словом „интерпретация” вы найдете оба противоположных смысла: объяснение, перевод на более понятный язык — и тут же „построение моделей для абстрактных систем (исчислений) логики и математики”, их реализацию; „разъяснение содержания, стиля художественного произведения” — и тут же уже упоминавшееся „истолкование музыкального произведения в процессе его исполнения...”». o:p/
И еще: «...пока люди не думают, они смешивают всё в одно и сами не замечают, что говоря герменевтика, интерпретация, толкование, перевод имеют в виду и часто вперемешку называют разное» o:p/
Готовясь к книге Бибихина и читая, страница за страницей, биографические бумаги Толстого, я тоже ведь каждый раз приходил к своему понимаю написанного, хотя оно и возникало у меня не в таких, как у Бибихина, углубленных формах. o:p/
Я не специалист, я — читатель, у меня не так много времени на медитацию и «укрупнение кадров», объем давил, да и другие занятия требовали внимания, однако же некоторые важные Бибихинские интуиции (« жить по написанному »; « навиденье », противоположное ненависти, « смена глаза », объясняющая эволюцию Льва Николаевича и изменения его взгляда на мир), правда, иначе, по своему сформулированные, я тоже для себя в свернутом виде отметил. Сделав из этого совершенно иные, нежели Бибихин, выводы. o:p/
Понимание, сделанное на бегу, и понимание, разжеванное под прицельным углублением, принципиально не отличаются, меняется только степень осознанности. И то, что проглатывается интуитивно, приобретает законченность. Воплощенность. o:p/
Вообще-то, этот путь читателю «Дневников Льва Толстого» и предлагается: осуществить свою собственную (без этого никуда) работу по освоению двойного, Толстовского и перестающего быть прозрачным Бибихинского, опыта: раз Толстой — всечеловек, то нам в данном случае важна именно Бибихинская редукция, его личный выбор того, что выделять и на что обращать пристальное внимание. o:p/
У Солнца своя собственная жизнь, свои собственные физические и физиологические циклы, ему совершенно фиолетово, как они воздействуют на окружающие планеты. o:p/
Между тем именно эта солнечная активность дает жизнь планете Земля, точнее, жизни на планете Земля, львам и куропаткам, тысячелетиям непрерывных поколений, думающих как о себе, так и о том, что происходит вокруг. o:p/
«В окончательной редакции натурфилософии Толстого все движение идет от солнца. Два основных движения приданы Земле: одно непосредственно от движения Солнца, это круговое по орбите, и другое опосредованно, из-за неравномерного облучения частей земли — движение вокруг оси. Под облучением, не надо забывать, он понимает и магнитное и, может быть, еще какое-то предполагаемое неизвестное. Оба движения, по орбите и осевое, вызваны лучами, природу которых Толстой не уточняет, но в его занятиях магнитом (вместо магнитного поля он говорит о направленности магнитных лучей) замечена способность магнитных лучей двигать». o:p/
Что движет солнце и светила? o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Бибихин В. В. Дневники Льва Толстого. СПб., «Издательство Ивана Лимбаха», 2012, 478 стр. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> См.: «Non-fiction с Дмитрием Бавильским». — «Новый мир», 2013, № 2. o:p/
o:p /o:p
МАРИЯ ГАЛИНА: ФАНТАСТИКА/ФУТУРОЛОГИЯ
o:p /o:p
АПОЛОГИЯ ПОСЛЕЖИЗНИ o:p/
o:p /o:p
Заметку во «Взгляде» о новом романе Виктора Ерофеева с эпатажным названием «Акимуды» (так называется загадочное государство, с которым у России начался вооруженный конфликт) Кирилл Решетников показательно назвал «Россия для мертвых» <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> . Цитируя самого Ерофеева, у которого «Россия для мертвых!» — лозунг ходячих мертвецов, ни с того ни с сего полезших из-под земли и постепенно захвативших власть. Мертвецов, понятное дело, можно трактовать как некую метафору, а сам роман — как политическую сатиру, но это не так уж важно. Важно, что чуткий к «тенденциям» Ерофеев, сводя в активном конфликте мир живых и мир мертвых, оказался далеко не первым. o:p/
Однажды в этой колонке я уже говорила <![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> , что «хтоническое» стало излюбленной темой современной отечественной литературы. Шахты, штольни, тоннели метро (у Ерофеева мертвецы прорываются в Москву, понятное дело, проломив стены тоннелей) стали излюбленным топосом, а зомби, псоглавцы и подводные чудовища — населением уже не трэша, но той литературы, которая в каталоге книжного магазина «Москва» проходит под рубрикой «российская проза». Да и сам термин «хтоническое» в последнее время так эксплуатируется нашими культурологами, литературными критиками и обозревателями, что уже отдает дурновкусием. o:p/
Самое простое, конечно, усмотреть в ходячих мертвецах, которые у Ерофеева предлагают живым заводить самим на себя уголовные дела, эдакий символ удушающей, «мертвой» бюрократии, равнодушной, обезличенной политической системы и так далее (нужное вставьте), и в какой-то мере так оно и есть <![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> . Можно, расширив этот посыл, вывести из ряда современных текстов (хотя бы из пелевинских), что всем миром всегда правят мертвецы и нежить (вспомним «Empire V» 2006 года и его нынешний «сиквел»), а наша родная мертвечина — просто частный случай. Можно — как в другом недавнем романе, в «Живых и взрослых» Сергея Кузнецова <![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> — в «живых» усматривать людей с детской, бескорыстной, не зачерствевшей душой, живущих в мире «высоких идеалов», подозрительно похожем на приукрашенное ностальгией советское прошлое, а во «взрослых» (читай — мертвых, тут прямая отсылка к «Живым и мертвым» Константина Симонова) — рациональных, «деловых» людей из мира капитализма и эксплуатации человека человеком. Но несомненно одно — мир живых и мир мертвых в современной прозе взаимопроницаемы, граница между ними тонка, если вообще существует. Мало того, «живые» так или иначе вынуждены сосуществовать, сотрудничать с «мертвыми» — в тех же «Живых и взрослых» именно мертвые владеют современными технологиями и доступом к столь вожделенным в советское время красивым «шмоткам». o:p/
Мир посмертия и сам по себе стал объектом художественного исследования. В романе Святослава Логинова «Свет в окошке» <![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> , пожалуй, первой ласточке, герой, обычный человек, «эвримен», строитель Илья Ильич (сознательная или нечаянная отсылка к толстовской «Смерти Ивана Ильича), оказывается в «нихиле», где посмертное существование оплачивается монетами-мнемонами и отмеряется тем, помнят ли об умершем, там, на земле, живые. По этой логике такие малоприятные фигуры, как, скажем, Чикатило, имеют больше шансов задержаться в посмертии, чем какой-нибудь тихий обыватель, существующий, пока его помнят дети и внуки. Можно опять же усмотреть (вот здесь <![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> , к примеру, и усматривают) социальную сатиру: «Чисто внешне, роман о потустороннем мире, но если приглядеться, слишком очевидны параллели между царством загробным и новым ёэкономическим” строем России. Кошель, из которого утекают мнемоны и лямишки, без которых ты — ничто, никто, зато за местную валюту — можешь хоть рай выстроить (правда недолговечный), хоть поесть всласть, хоть каких угодно излишеств, развлечений „и этсетера”. И получается в этом новом мире, что счастье, может быть, и не в деньгах, но величина жизни — точно в их количестве. <…> Кроме того, что все продается и все покупается, мы видим, что мир переполнен безобидными и обидными шарлатанами и мошенниками всех мастей, готовыми обобрать любого новичка, а ведь здесь даже воздух в сутки стоит лямишку. Единственный утопичный элемент этого будущего — невозможность умереть, и главное — невозможность убить или нанести повреждения (все возвращается сторицей в виде пустеющего кошелька)». Сатирой, как в любом хорошем романе, дело не ограничивается, другое дело, что посмертие, нарисованное Логиновым, скажем так, неканонично. o:p/
А в романе Анны Борисовой (очередной проект Григория Чхартишвили) «Там» <![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> несколько человек (преподаватель истории, бармен, чернокожая литовская проститутка с маленьким сыном, военный, мусульманские террористы, старик-японец, французские молодожены — всего двенадцать, сакральное в общем-то число) случайно оказываются, как пишет один из рецензентов на LiveLib (вообще, хороший ресурс, где выкладываются отзывы на прочитанные книги), «не в том месте и не в то время» <![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> и в результате террористического акта попадают вроде бы в общее, но в то же время каждый в свое посмертие, иллюстрирующее тезис «по вере вашей да будет вам!». Тезис, кстати, иронически перефразированный в знаменитом романе отцом лжи, куролесящим по Москве под маской иностранного консультанта-историка. o:p/
В опубликованном годом позже (в журнальном варианте) романе Яны Дубинянской «Сад камней» <![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> героиня, амбициозная и стервозная дама-телережиссер, выйдя в припадке раздражения из поезда на первой попавшейся станции, оказывается на странном хуторе, где ей вдруг «начинают приходить посылки из какого-то другого, неслучившегося мира. Яшмовый кулон, именно такой, какой она не смогла подобрать на первых съемках. Письмо от давно умершего друга. Наконец — ребенок, которого у нее никогда не было. То, чего не хватало ей для обретения душевного покоя, достижения внутреннего психологического равновесия» <![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> . Не сразу догадываешься, что, в сущности, героиня проходит посмертные «мытарства», очищающие и подготавливающие к будущей вечной жизни. o:p/
Яна Дубинянская — киевлянка и пишет на русском, Сергей Жадан, один из самых ярких нынешних украинских авторов, живет в Харькове и пишет на украинском. Однако в его романе «Ворошиловград» <![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> одни критики видят овеществленную метафору ада: «Одна из границ этой фантастической страны (не обязательно северная) напрямую соприкасается с адом. Это туда направляются контрабандные караваны с топливом. (Читатель знает, зачем там топливо.) Этот заграничный край густо населен друзьями молодости главного героя. Порой они все вместе приезжают оттуда и, захватив Германа, отправляются в степь на футбольный матч с местными газовиками. Герман не спускается в ад — ад сам идет ему навстречу. И, похоже, это единственное место, где ему по-настоящему хочется очутиться — рядом со своими друзьями, рядом с их и его убийственной молодостью. Как-то примиряет героя с окружающей земной действительностью лишь то, что она мало отличается от места, где находятся его погибшие друзья. Поэтому столь проницаемы границы в романе Жадана. Собственно, и до ворошиловградского буддиста Жадана было известно, что нирвана и сансара (земная жизнь) тождественны. Но Жадан добавляет: ибо обе они — ад» <![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> . Другие — как, скажем, Татьяна Кохановская и Михаил Назаренко <![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> , обозревавшие современную украинскую литературу в новомирской колонке «Украинский вектор», усматривают в возвращении на родину «пиарщика с политическим уклоном» Германа Королева, чтобы защитить от местной мафии крохотный бизнес «уехавшего в Голландию» брата (недвусмысленный, как пишут авторы колонки, эвфемизм смерти), прохождение некоей инициации, обретаемой через схождение в мир мертвых, однако все согласны в том, что «поэтика романа <…> строится на переплетении очень плотной, очень вещной реальности быта и поэтичности иномирья» <![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> . o:p/
В иномирье (преджизнь/посмертие) попадает и героиня романа Вероники Кунгурцевой «Орина дома и в потусторонье» <![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]> , по поводу которого Александр Чанцев писал: «Пространство тотально обманывает <…> его детали размыты, как мираж, мерцают, как марево: в начале книги дети на земле принимают клюкву за кровь, в конце книги — кровь за клюкву. Вещи так и норовят перетечь из одного в другое. <…> Коварны даже обычные, казалось бы, метафоры — „они летели в клубах пыли, как будто велосипед был паровозом”, радиоприемник обращается к слушателям „с одними и теми же заговорными словами”. <…> Более чем размыто и время…» <![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]> . o:p/
Героиня «антисказки» Орина, которую норовит затянуть в «Потусторонье» «убитая во чреве мертворожденная родственница, мертвушка-навёнок», должна в сопровождении своего ангела-хранителя (в романе эта сущность именуется иначе) пройти все мытарства, чтобы вернуться на «этот свет». Тут, пожалуй, как нигде, просматриваются все атрибуты современного «иномирного» повествования — излишняя лабильность пространства и «схлопывание» времени — здесь одновременно происходит и штурм Белого дома, и «вроде бы совсем недавно закончились сталинские чистки и война с Германией — еще бегают по лесам немецкие овчарки, вот танк прямой наводкой разнес сельсовет, наступают и даже бомбят из-за реки немцы…» <![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]> . o:p/
Такая же присущая сновидениям оптика и нарушения пространственно-временных связей встретятся в «ЖД» Дм. Быкова <![if !supportFootnotes]>[18]<![endif]> — и не только в эпизодах, связанных с «вневременной» страшной деревней Жадруново, пристанищем не менее страшного Жаждь-Бога, отбирающего не только память, но и самость, человеческую личность, но и во время странствий главных героев по полям российской вечной войны, где они сталкиваются с телеграфистом времен Гражданской, отправляющим свои депеши в никуда («Из Харькова нас выбили, и с Волги подпирают, и на Дону бунтуют, сволочи. Голод в Поволжье, слыхал? <…> И товарища Болотова убили, слыхал про такого товарища? <…> Потому и не слыхал, что убили»). o:p/
Радио, «говорящее одно и то же», появится в одном из ранних рассказов Виктора Пелевина «Вести из Непала» (1992), где покойники, вернее, их души, проходящие воздушные мытарства, оказываются вроде бы в привычной, но несколько искаженной, сдвинутой «служебной» обстановке и вспоминают о своем состоянии только после ежевечернего несколько издевательского сообщения радиоточки. o:p/
Тексты, посвященные посмертию, стали в обилии появляться именно в конце 80-х — начале 90-х, и в основном это были рассказы. Тут, конечно, можно вспомнить и Пелевинский «Синий фонарь» (1992), и его же «Бубен верхнего мира» (1993), и, скажем, «Бог-Посейдон» Людмилы Петрушевской (1993), где случайно встреченная рассказчицей в «приморской местности» подруга Нина, которая «и белья-то порядочного никогда не знала, а имела одно вечное пальто на зиму и три платья, одно страшней другого», на самом деле вовсе не живет в «богатстве и изобилии» в огромной и запутанной квартире, опекаемая доброй хозяйкой и ее взрослым сыном, а просто «год тому назад утонула вместе со своим маленьким сыном, попав в известное кораблекрушение...». Или ее же «Два царства» (1993), где кроткую героиню прямо с операционного стола друг детства увозит в прекрасную страну, и читатель не сразу понимает, что это за страна, и куда именно попадает героиня, и почему друг детства определенно обещает, что маму героини удастся в скором времени сюда вызвать, а вот с сыном придется немного подождать. o:p/
Герои короткой прозы того времени с легкостью совершают путешествия туда и обратно, что, впрочем, часто стоит им рассудка, — традиционная мифологическая плата за общение с мертвецами («Бабушка сидит на полу на полосатом матрасе, вмерзшем в серые наросты льда, и ест из алюминиевой миски манную кашу. „Бабуля, ну кто тебе разрешил самой есть? — говорит она. — Доктор же сказал, чтобы тебя кормили с ложечки. Ну что же ты такая непослушная!”. И отбирает у старушки миску. Бабушкино лицо съеживается, становится размером с кулачок, и тонким плаксивым голосом старушка выкрикивает: „Но я кушать хочу!”. „Тебе нельзя много кушать. Ты что, хочешь, чтобы вся операция насмарку пошла?”. „Что же, и в морге нельзя кушать?” — удивляется бабушка. Она вздрагивает и внимательно вглядывается в бабушкино лицо». — Нина Габриэлян, «Давай копать ямку», 1992). o:p/
Я уже отмечала, что малая проза 90-х, посвященная посмертию, как бы мутировала в «большую прозу» 2000-х <![if !supportFootnotes]>[19]<![endif]> , интересно здесь именно то, что эта тема оказалась востребована и что текстов появилось так много — к тому же за столь короткий отрезок времени. o:p/
И речь идет не только о прозе. o:p/
В рецензии на последнюю книгу Марии Степановой Аркадий Штыпель пишет: «Цитаты можно множить: взгляд Степановой обращен к некоему призрачному посмертию или, на худой конец, к некоей сумеречной, между жизнью и смертью (вне жизни и смерти) зоне. <…> вопрос — нет, не что хотел нам сказать автор — но какой смысл можно извлечь из такой направленности его взгляда. <…> самые разные посмертия то и дело предстают перед нами в самых разных сочинениях самых разных авторов. Тут можно вспомнить и десятилетней давности роман „Свет в окошке” фантаста Святослава Логинова, и вышедший пять лет назад „Щукинск и города” Елены Некрасовой, и сравнительно недавнюю „Малую Глушу” Марии Галиной, и совсем уж недавнее „Устное народное творчество обитателей сектора М1” Линор Горалик — в нынешней словесности, и в стихах, и в прозе можно найти еще немало разного рода посмертий, и, наверное, неспроста. o:p/
Да, собственно, и у самой Степановой причудливое взаимопроникновение поту- и посюстороннего миров, реального и запредельного, — давняя, можно сказать, сквозная тема. Это и большая часть баллад из „Песен северных южан” (1999), поэма „Гостья” (2003), большие многоплановые поэмы „Проза Ивана Сидорова” (2008) и „Вторая проза Ивана Сидорова” (2010)» <![if !supportFootnotes]>[20]<![endif]> . o:p/
«Проза Ивана Сидорова», напомню, посвящена путешествию некоего мужика в некую странную область Среднерусской полосы, с тем чтобы, как выясняется впоследствии, вернуть свою умершую жену, но, как и во всяком сюжете на тему Орфея и Эвридики, это оказывается невозможным, мертвые не возвращаются. Во «Второй» же «прозе Ивана Сидорова» уже вся Среднерусская полоса оказывается такой транзитной зоной, где одним из проводников в посмертие работает (именно — работает!), отбывая собственные мытарства, Мэрилин Монро. o:p/
Степанова вообще очень чутка к «коллективному бессознательному», что уже не раз отмечалось исследователями ее поэзии, но ведь и в сборнике (фактически — поэме) Владимира Гандельсмана «Читающий расписание» <![if !supportFootnotes]>[21]<![endif]> можно усмотреть (цитирую себя же) <![if !supportFootnotes]>[22]<![endif]> не столько реконструируемую при помощи сложных языковых средств жизнь двух престарелых супругов, сколько «посмертие, принимаемое героем (и читателем вместе с ним) за длящееся угасание — река, которая „слепит меж двух городов”; жена героя-повествователя „на чулочной фабрике двумя руками / девять часов шьет каждый день / им выдают зарплату иногда коврами, / мы отдаленно не знаем, куда их деть”, она садится „на пристани в белую лодку, / в пять десять отчаливает”, пока герой спит; черепаха в пруду, которую время от времени идут кормить супруги — все это не состыкуется, не складывается в непротиворечивую картину. <…> Ад или чистилище, где престарелые супруги проходят свои мытарства, прилепившись друг к другу, остановившееся время, одиночество ушедшего в себя сознания, лишенного внешних ориентиров и раз за разом воспроизводящего один и тот же отрезок жизни — в данном случае скудную старость. В этом контексте открывающее книгу стихотворение о полумертвом таракане, вечно читающем расписанье за стеклом автобусной остановки, приобретает совершенно определенный смысл». o:p/
Можно вспомнить не только Линор Горалик с ее фольклором адских насельников <![if !supportFootnotes]>[23]<![endif]> , но и петербуржанку Анаит Григорян с ее «Аллой в городе мертвых» <![if !supportFootnotes]>[24]<![endif]> — в качестве города мертвецов здесь выступает несколько фантастический, но вполне узнаваемый Питер, что вообще вполне укладывается в питерскую традицию. Героиня (поэма посвящена Алле Горбуновой, чью мрачноватую лирику также можно упомянуть в этом контексте), спускаясь (или даже просто оказываясь, перемещаясь на плоскости, особо нисходить тут никуда не нужно) в царство теней, узнает, что «медный человек с медными ботфортами и на медном коне» является убийцей чуть ли не мирового змея Ёрмунганда, отчего мировой порядок нарушается и мир мертвых никак не может примириться с миром живых, — героине предстоит этот порядок восстановить, что она, собственно, и делает, однако сама, опять же согласно всем мифологическим канонам, отказывается вернуться в мир живых, где слишком много боли и страстей. Думаю, в новейшей русской поэзии это не последняя крупная вещь о потусторонних странствиях, и можно ждать и других текстов такого плана. o:p/
Нельзя сказать, что у этой темы предшественников не было вообще. Это и Юрий Мамлеев со своим появившимся в самиздате в 1966-м и впервые опубликованным лишь в 1988 на Западе (и то в урезанном виде) макаберным романом «Шатуны» (его герой Федор Соннов, совершая цепь на первый взгляд немотивированных убийств, на деле желает, проникнув в душу убиваемого, перейти на ту сторону, «познать извечную тайну смерти»), и с примыкающими к этой теме рассказами, такими, как, скажем, «Изнанка Гогена» из одноименного сборника, опубликованного опять же на Западе в 1982 году. Это (и даже в первую очередь) поэма Александра Твардовского «Теркин на том свете» (1963, время «оттепели»), которую вполне можно было бы назвать сатирической (тема посмертия активно эксплуатируется в сатирическом ключе самыми разными авторами в самых разных культурах), высмеивающей бюрократическую машину, тотальный дефицит, выморочную, навязшую в зубах агитацию и пропаганду, и т. п., если бы не одно странное обстоятельство. Павший «за Родину, за Сталина!» (впоследствии «вытащенный» медиками с того света) солдат узнает, что и здесь «Особый ваш отдел / За самим Верховным». o:p/
o:p /o:p
— Все за ним, само собой, o:p/
Выше нету власти. o:p/
— Да, но сам-то он живой? o:p/
— И живой. o:p/
Отчасти. o:p/
o:p /o:p
Для живых родной отец, o:p/
И закон, и знамя, o:p/
Он и с нами, как мертвец, — o:p/
С ними он o:p/
И с нами. o:p/
Устроитель всех судеб, o:p/
Тою же порою o:p/
Он в Кремле при жизни склеп o:p/
Сам себе устроил. o:p/
o:p /o:p
Невдомек еще тебе, o:p/
Что живыми правит, o:p/
Но давно уж сам себе o:p/
Памятники ставит... o:p/
o:p /o:p
Страшноватая фигура одновременно живого и мертвого Вождя нижнего и срединного миров явно проходит уже не по разряду сатиры, а чего-то большего, соприкасающегося с нашей темой. Советский официоз вообще с огромной настороженностью относился к теме потустороннего, а уж к теме посмертного бытования — тем более, потому такие исключительные примеры можно пересчитать по пальцам. И один из них, яркий и в данном контексте для нас весьма значимый, — это небольшая повесть Валентина Катаева «Святой колодец» (1965) с вроде бы совершенно четкой географической привязкой. «Святой колодец» — название небольшого родничка вблизи станции Переделкино Киевской железной дороги, возле которого писатель, по его собственным словам, «обдумывал эту книгу и размышлял о своей жизни». Размышления эти, однако, выливаются в странную историю о зыбкой реальности, некоем счастливом запредельном месте («Времени как такового, в общем, не существует»), — «святом колодце», где проживает свое посмертие (возможно, иллюзорное, измышленное под влиянием больничных наркотиков) смертельно больной герой Катаева. Рай или чистилище подозрительно напоминают санаторий для тогдашних випов (нежнейшие фрикадельки из райских птичек, подаваемые в качестве диетического блюда, и тому подобное) или же недоступную большинству «советских граждан» и оттого идиллическую, воображаемую заграницу. Недаром Виктория Шохина метко замечает <![if !supportFootnotes]>[25]<![endif]> , что в последних, в духе «мовизма» написанных «исповедальных» повестях Катаева «из внешних впечатлений самыми сильными оказываются — сообразно возрасту и статусу в Союзе писателей — больница и заграница». Больничные впечатления, положенные в основу «Святого колодца» и художественно преображенные, становятся способом освобождения от посттравматического синдрома. o:p/
Посттравматический синдром, впрочем, бывает и коллективным. Недаром тексты на тему посмертия обнаруживаются не только в России, но и на других территориях бывшего СССР, в частности — в той же Украине. Кстати, вот что пишет по этому поводу — в той же рецензии на «Киреевского» Марии Степановой — А. Штыпель: o:p/
«Рискну предположить, что дело здесь в том переломе исторического времени, которому мы все были свидетелями и который породил множество — миллионы — неприкаянных душ, выбитых из привычной житейской колеи в новое, в определенном смысле призрачное, эфемерно-неустойчивое существование. В смысле не столько даже прагматически-бытовом, сколько, я бы сказал — бытийственном. Вот эта массовая, глубинная, низовая интуиция ирреальности послесоветской жизни <...> видимо, и отражается, метафоризируется столь причудливым образом в стихах и прозе». o:p/
Иными словами, все мы — по крайней мере те, кто застал в относительно сознательном возрасте тот мир, — до какой-то степени переживаем послежизнь, пытаясь ее осмыслить в меру отпущенных нам сил и таланта. Возможна, правда, и другая версия. Например, нынешние романы и поэмы о послежизни, о застывшем, мифологическом времени и торжестве мертвецов — это одно, а короткая проза конца 80-х — начала 90-х на сходную тему — совершенно другое. Что короткая проза появилась сама собой в силу просто освоения некоего нового, «внесоветского» способа письма и угла зрения, и сходство между ней и романными полотнами 2000-х на ту же тематику чисто гомологическое, а появление подобных романов в «душные» 2000-е как раз и вызвано вот этим самым ощущением остановившегося времени, попыткой осмыслить, описать его при помощи некоего архетипического, символического ряда. То есть описывается не «посмертие», а, я бы сказала, «прижизние» — недаром в романы этого толка так часто вторгаются элементы сатиры. o:p/
Или вот еще одна версия. Советская официальная культура была подчеркнуто светской, и граждане бывшего СССР пришли в постсоветское время, разуверившись не только в нерушимости союза республик свободных, но и в господствующей атеистической парадигме. И привнесли в свое свежеобретенное христианство множество вполне языческих представлений, темных и страшноватых образов, никогда не уходивших из глубин народного бессознательного. Вот это взаимодействие христианства и архаики с сознанием и бытием современного человека как раз и оказалось очень значимым для современной отечественной литературы. o:p/
Или вот. Концепция «реального» мира, меняющегося в зависимости от человеческой воли, возникла в романах фантастов так называемой «новой волны» в США еще в 60-е, когда довольно активно проводились опыты с влиянием амфетаминов на человеческое сознание, к тому же амфетамины были тогда легальными препаратами. Известно, что один из ключевых для «новой волны» авторов — Филип Дик в 1963 — 1964 годы написал, сидя на психотропах, одиннадцать (!) романов, доводя производительность до 60 машинописных страниц в день. Романы об «измененной реальности», однако, пошли не столько по ведомству психоделической прозы, сколько по ведомству киберпанка. Тем, кто не очень знаком с идеологией киберпанка, советую посмотреть знаменитый фильм «Матрица» (1999) братьев (тогда еще братьев) Вачовски с его всеобъемлющим девизом «Нет никакой ложки!». У нас по ряду причин киберпанк и соприродные ему литературные формы во второй половине ХХ века не получили заметного развития <![if !supportFootnotes]>[26]<![endif]> , однако в 2000-е благодаря технологическим достижениям и новинкам средств массовой коммуникации мы сталкиваемся с моделируемой реальностью сплошь и рядом, и каждый может назвать случаи, когда вброшенная и притом фальшивая информация оказывается неотличима от подлинной и вызывает вполне реальную реакцию. Добавлю, что природа человека устроена так, что единственный вид информации, который не подвергается критическому осмыслению, — информация визуальная (сколько раз мы слышали «я видел это своими глазами!»). На протяжении всей эволюции приматов зрение было орудием познания мира, практически никогда не подводящим (случаи иллюзий можно в расчет не брать, поскольку их, как значимых в ходе эволюции факторов, было ничтожно мало). Однако уже в середине ХХ века зрительная информация, поступающая к человеку посредством кино (в том числе «кинохроники») и телевидения, моделируется и подделывается вовсю. Видимость и реальность вступают в конфликт, вызывая сомнения в устойчивости и непротиворечивости окружающего мира. Защититься от такой психологически неприятной ситуации можно лишь при помощи раздвоения сознания, некоей наведенной шизофрении, признания существования двух или нескольких правд, двух или нескольких сосуществующих реальностей — вплоть до отмены представления о существовании реальности как таковой; но если американские авторы привлекают для осмысления ситуации жанр киберпанка, у нас естественней и легче она осваивается через изображения посмертия, раз за разом вызывая к жизни модели, в которых причинно-следственные связи буксуют, а правда множественна и противоречива, иначе говоря, ничем не отличается от лжи, и только от индивидуального сознания зависит, какую правду принять и какую реальность выбрать. o:p/
Тут опять некоторое отступление — не столько самореклама, сколько попытка самоанализа. Когда я в конце 2007 года закончила первую часть «Малой Глуши», я, в общем-то, не предполагала писать вторую, однако, задерживая сдачу романа издателю, села все же дописывать какой-то крохотный фрагмент, послесловие, смутно ощущая, что чего-то не хватает. В итоге послесловие разрослось совершенно неожиданно для меня, но как бы следуя своей внутренней логике, в отдельную повесть <![if !supportFootnotes]>[27]<![endif]> , сопряженную с первой частью (где действие происходит как раз в советское время, в эпоху застоя) лишь довольно хрупкой перемычкой. Повесть объемом в шесть листов была закончена очень быстро, месяца за два — за три, что для меня вообще-то не характерно. Почему и зачем я решила, что неплохо было бы обратиться к теме «другой стороны», мира мертвых, куда, однако, можно, хотя и после некоторых положенных испытаний, попасть из мира живых, и к некоему взаимодействию между этими мирами, не очень понятно, но помню, что работа над повестью шла как бы сама собой, без особого моего вмешательства. Не хочу сваливать все на коллективное бессознательное, но, полагаю, если задать тот же вопрос другим авторам, они ответят примерно в том же роде — почему-то показалось важным и интересным взять именно эту тему. И все. o:p/
Впрочем, одну причину я могу назвать точно. Косвенно толчком к написанию повести послужил пост ЖЖ-юзера ivanov_petrov <![if !supportFootnotes]>[28]<![endif]> , на который я наткнулась еще в 2006 году, — довольно странный южноамериканский, вернее, мезоамериканский вариант мифа об Орфее и Эвридике, который был столь хорош, что просто просился стать зерном какого-то сюжета. А вот что заставило собственно иванова -петрова выложить именно этот миф именно тогда? Не знаю. В сущности, повторюсь, мы и свои намерения понимаем очень плохо. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Ерофеев Виктор. Акимуды. М., «Рипол-Классик», 2012; Решетников Кирилл. Россия для мертвых <; . o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> См.: Галина Мария. Мир без солнца. — «Новый мир», 2010, № 8. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> Кирилл Решетников, впрочем, усматривает в «Акимудах» иной посыл — автор транслирует, по его словам, «присущее „прогрессивной” общественности подсознательное желание катастрофы, которая бы нарушила ненавистный и все еще сохраняющийся русский порядок». o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> Кузнецов Сергей. Живые и взрослые. М., «АСТ», «Астрель», 2011. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]> Логинов Святослав. Свет в окошке. М., «ЭКСМО», 2002. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]> rusty_cat <; . o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> Борисова Анна. Там. М., «КоЛибри», 2008. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]> <; . o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]> Дубинянская Яна. Сад камней. Роман. — «Новый мир», 2009, № 12. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]> Владимирский Василий <; . o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]> Жадан СергЁй. Ворошиловград. ХаркЁв, «ФолЁо», 2010, («ГрафЁтЁ»). В русском переводе: Жадан Сергей. Ворошиловград. М., «Астрель», 2012, перевод Завена Баблояна. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]> Пустогаров Андрей. ВорошиловгрАД, который всегда с тобой. — «Дружба народов», 2011, № 4. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[13]<![endif]> Кохановская Т., Назаренко М. От Львова до Ворошиловграда и обратно, или поэт как гражданин — «Новый мир», 2011, № 12. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[14]<![endif]> Там же. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[15]<![endif]> Кунгурцева Вероника. Орина дома и в Потусторонье. М., «Время», 2012. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[16]<![endif]> Чанцев Александр. Дао антисказки. — «Новый мир», 2012, № 9. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[17]<![endif]> Там же. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[18]<![endif]> Быков Дмитрий. ЖД. Поэма. М., «Вагриус», 2006, стр. 527. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[19]<![endif]> Galina Maria (Moscow; Novy Mir ): «Reality Shifts» in Women’s Prose of the early 1990s as a Herald of the «New Consciousness». — In: Decadence or Renaissance? Russian Literature since 1991. International conference at St. Anthony’s College, Oxford Univ., 24 — 26 spt., 2012 <; . o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[20]<![endif]> Штыпель Аркадий. С гурьбой и гуртом. — «Новый мир», 2012, № 7. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[21]<![endif]> Гандельсман Владимир. Читающий расписание (Жизнь собственного сочинения). Книга стихотворений. СПб., «Пушкинский фонд», 2012. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[22]<![endif]> Галина Мария. О «Читающем расписание» Владимира Гандельсмана. — «Воздух», 2012, № 3 — 4, стр. 260 — 261. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[23]<![endif]> Горалик Линор. Устное народное творчество обитателей сектора М1 (составлено Сергеем Петровским с предисловием и послесловием составителя). М., «Арго-Риск», «Книжное обозрение», 2011, 96 стр. («Книжный проект журнала „Воздух”, малая проза»). О книге см.: Ганин Мартын. Внутри пространства ада. — «Новый мир», 2012, № 3. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[24]<![endif]> Собрание сочинений. Том 3. Стихотворения 2011 года: Антология современной поэзии Санкт-Петербурга. Составители Д. Григорьев, В. Земских, А. Мирзаев, С. Чубукин. СПб., «Лимбус Пресс», 2012, стр. 97. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[25]<![endif]> Шохина Виктория. Валентин Катаев: Паркур в катакомбах <; . o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[26]<![endif]> Исключение составляет цикл «Опоздавшие к лету» (1990 — 1994) Андрея Лазарчука, написанный в духе, как он сам определяет, «турбореализма». o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[27]<![endif]> Галина Мария. Малая Глуша. — «Новый мир», 2008, № 12. o:p/
o:p /o:p
<![if !supportFootnotes]>[28]<![endif]> <; . o:p/
o:p /o:p
Книги
* o:p/
o:p /o:p
Лиля Газизова. Люди февраля. М., «Воймега», 2013, 60 стр., 400 экз. o:p/
Новая книга стихов известного поэта из Казани — «Правде ложь предпочитаю. / Ведь она говорится словами / Красивыми и теплыми. // Ложь — это живые цветы. / Ложь быстро вянет. / Правда — сухой стебелек, / Что от лжи остается. // Правда бедным нужна. / Бедным телом или душой. / У меня же красивые щиколотки». o:p/
o:p /o:p
Наталья Горбаневская. Осовопросник. Стихи 2011 — 2012 гг. М., «Книжное обозрение» («АРГО-РИСК»), 2013, 56 стр., 300 экз. o:p/
Новые стихи Горбаневской, которая не только легенда русского диссидентства и русской неподцензурной поэзии второй половины прошлого века, но и сегодняшний, современный поэт — «Красная заря / на исходе дня. / Тень от фонаря / имени меня. // Имени кого? / Кто такое я? / Вещь ли, вещество, / тварь ли, коия // стала на нестылый / путь, чтобы долезть / мирной, безболез- / ненной, непостыдной…». o:p/
o:p /o:p
Фридрих Дюрренматт. Моя Швейцария. Книга для чтения. Составители Хайнц Людвиг Арнольд, Анна фон Планта и Ульрих Вебер. Перевод с немецкого Н. Федоровой. М., «Текст», 2013, 190 стр., 3000 экз. o:p/
Пьеса, несколько эссе, развернутое интервью, публицистические выступления, посвященные Швейцарии, а также три стихотворения — «Страна моя, курьез, от края и до края / два-три шага, ты лежишь / среди этой злополучной части света, // прибитая к ее трухлявым доскам и опаленная / огнем ее деяний. // Земля, тебя несущая, окаменела, нагромоздила / холмы и кручи / панорамой лунной, / разбившись о берег вечности, / а этот берег — ты. / Швейцария! Народ донкихот! Зачем / я должен тебя любить!..». o:p/
o:p /o:p
Юна Летц. Шуршание философа, бегающего по своей оси. СПб., «Комильфо», 2012, 210 стр., 1000 экз. o:p/
Юна Летц, несмотря на третью книгу, — начинающий, но, похоже, действительно интересный писатель. Совсем юной девушкой она вышла замуж и уехала с мужем из-под Смоленска в экзотическую африканскую страну (Мозамбик) на берег океана, чтобы жить ярко и интересно и, соответственно, писать такую же яркую необычную русскую прозу на нерусском материале. И в первой книге ее (Свитербук. М., «Имидж Принт», 2010), за рассказы из которой она получила премию «Дебют», отчетливой была прежде всего авторская тяга к экзотичности, автор брал отчасти наугад уже существующие в русской и переведенной на русский язык прозе стилистические и образные ходы, и в словесной вязи вдруг начинали проступать неожиданные и действительно яркие образы, однако при чтении той книги самым внятным было ощущение авторского азарта, наслаждения от самого процесса письма, не более того. Первая книга была декларацией о намерениях, декларацией яркой, но и только. Вторая книга Летц «Там, где растет синий» (М., «Комильфо», 2011), на мой взгляд, мало отличалась от первой. И вот — третья книга, в которой тот же напор, та же тяга к неожиданному яркому образу, но автор, похоже, начал дописываться до себя: в повествовательной интонации, в образном ряду, в интонационном строе уже проступает индивидуальность, слово уже не называет, а изображает; и уже чувствуется, что пишет Летц не для того, чтобы быть писателем, а потому пишет, что — писатель, что сидит в ней этот неистребимый вирус. o:p/
o:p /o:p
Лучшие рассказы 2011 года. Антология. М., «ОГИ», 2013, 184 стр., 3000 экз. o:p/
Собрание рассказов, которые жюри Литературной премии имени Юрия Казакова признало лучшими в 2011 году и которые, соответственно, вошли в длинный список премии того года, — рассказы Евгения Алехина, Ксении Букши, Марины Вишневецкой, Андрея Волоса, Ксении Драгунской, Анны Золотаревой, Владимира Козлова, Николая Кононова, Сергея Носова, Олега Павлова, Игоря Савельева, Игоря Фролова. В конце книги краткие сведения об авторах и полный список рассказов — финалистов премии: «Лучшие рассказы 2000 — 2011 годов по версии Литературной премии им. Юрия Казакова», представляющий, по сути, содержание «большой антологии» современного рассказа, над которым — над содержанием антологии — более десяти лет работали в качестве экспертов наши ведущие писатели и критики. o:p/
o:p /o:p
Мантикора . Альманах фантастики / Мантикора. Альманах метареалiстичної лiтератури. Шеф-редактори проекту В. Л. Єшкiлєв i Н. В. Щерба. ВЁдповЁдальний редактор МарЁя Микицей. Львiв, «Кварт», 2013, 250 стр., 500 экз. o:p/
Альманах украинской фантастики, составленный в большей своей части по результатам литературного конкурса, специально для этого издания проведенного украинским сообществом любителей фантастики «Зоряна фортеця» («Звездная крепость»). Представлены произведения как на украинским, так и на русском языках: Натальи Щербы, Владимира Ешкилева, Владимира Аренева, победительницы конкурса питерской писательницы Татьяны Томах и других. o:p/
o:p /o:p
Анна Матвеева. Подожди, я умру — и приду. Рассказы. М., «Астрель», 2012, 316 стр., 2000 экз. o:p/
Новая книга рассказов одного из сегодняшних мастеров этого жанра, в частности, в книгу включен рассказ «Обстоятельства места», вошедший в шорт-лист премии имени Юрия Казакова 2012 года. o:p/
Также вышла книга: Анна Матвеева. Перевал Дятлова, или Тайна девяти. М., «АСТ», «Харвест», 2013, 320 стр., 2500 экз. (Одна из шести лучших повестей 2001 года по версии премии Ивана Петровича Белкина.) o:p/
o:p /o:p
Э. Д. Миллер. Подснежники. Перевод с английского С. Ильина. М., «Фантом Пресс», 2012, 320 стр., 3000 экз. o:p/
От издателя: «Британский журналист Эндрю Миллер провел в Москве несколько лет в середине двухтысячных, работая корреспондентом журнала „Экономист”. Этот опыт лег в основу его дебютного романа „Подснежники”, который попал в шорт-лист британского Букера-2011. Формально это психологический триллер, главный герой, адвокат, влюбившийся в Москву, оказывается в центре очень сложной для иностранца и такой понятной всем нам аферы с недвижимостью. Но на самом деле это роман о Москве, признание ей в любви и портрет России, увиденный чуть наивным и романтичным иностранцем». o:p/
o:p /o:p
Алексей Михеев. Чтение по буквам. М., «Новое литературное обозрение», 2012, 240 стр., 1000 экз. o:p/
Вышедшая в издательской серии «Письма русского путешественника» книга эта к жанрам путевой прозы отношение, разумеется, имеет, но в известной степени формально — автор ее путешествует не столько в пространстве, сколько — во времени. В стилистике ее представлены элементы прозы лирико-исповедальной, «геопоэтической» и «геоисторической»; главный географический объект в книге — Москва, путешествие по которой у Михеева оборачивается проживанием — очень личностным — ее географии и истории, с воспроизведением (особенно в разделе «А. и Б. сидели на трубе. Семидесятые») атмосферы жизни. Среди мотивов этого повествования непостроенный Витбергом храм Христа Спасителя и сталинские высотки, самолет «Максим Горький», газетная империя на улице «Правды», московское метро, стела из букв Зураба Церетели на Тишинской площади, бульвары и голуби, трамваи, концерты на площадях, московские пончики, ГКЧП, коммуналки и т. д. — география и приметы быта и жизни города даны здесь как знаки «культурного и исторического сознания» нашего современника. Также обращается автор и с материалом своих путешествий в Грузию или Швецию. o:p/
o:p /o:p
Олеся Николаева. Меценат. Жизнеописание Александра Берга. Роман в двух книгах. М., Издательство Сретенского монастыря, 2013, 880 стр., 5000 экз. o:p/
Новое повествование Николаевой о сегодняшних людях церкви, но на этот раз написанное в жанре детективного романа; выбранный сюжет позволил автору дать достаточно широкую картину не только церковной жизни, но и жизни России перестроечных и постперестроечных лет. o:p/
o:p /o:p
Эрнест Хемингуэй. Проблеск истины. Перевод с английского Н. Красникова. М., «Астрель», 2013, 381 стр., 12 500 экз. o:p/
Новая публикация Хемингуэя, представляющая своеобразное продолжение «Зеленых холмов Африки», материалом для которого стало последнее сафари Хемингуэя, а также размышления о своей писательской судьбе, — роман, над которым писатель работал в последние годы жизни; текст романа к публикации подготовил сын писателя Патрик. o:p/
o:p /o:p
Алексей Цветков. Записки аэронавта. Избранные и новые стихи. М., «Время», 2013, 512 стр., 2000 экз. o:p/
Избранные стихи Цветкова из написанных им с 2004 года, то есть после многолетней паузы: «голодный тушинский постой / ненужный нож карман пустой / приборы жизни бедной / и кто в гостях у нас была / в пальто из мутного стекла / в железной шляпке с лентой // что я за диво был тогда / изгой всеобщего труда / в одной отдельно взятой / квартире на краю москвы / улитка липкие мозги / с ее спиральной хатой / … / гандлевский пьет кенжеев вслед / над тушином слабеет свет / заштриховала лица / последняя спираль пурги / и липкий с рожками внутри / молчит не шевелится» («Московское время»). o:p/
o:p/
o:p /o:p
* o:p/
Родрик Брейтвейт. Афган. Русские на войне. Перевод с английского Антона Ширикова. М., «Corpus», 2013, 496 стр., 4000 экз. o:p/
Книга бывшего посла Великобритании в России о войне в Афганистане, по мнению критиков, лучшее из опубликованных на английском языке описаний кампании 1979 — 1989 годов. Брейтвейт: «Многие у нас до сих пор уверены в том, что злые русские вторглись в мирный Афганистан, преследуя какие-то свои коварные цели. И все. Но при этом забывают, что была и есть политическая история, между нашими державами складывались непростые отношения в связи с Афганистаном и в XIX веке, и в начале XX века. Это называют еще „большой игрой”. Мне показалось очень интересным и полезным исследовать эту историю, особенно еще и потому, что теперь наши военные и советники находятся в Афганистане и решают многие из тех проблем, с которыми сталкивались когда-то ваши солдаты и советники». o:p/
o:p /o:p
Ф. М. Достоевский и культура Серебряного века: традиции, трактовки, трансформации. К 90-летию со дня смерти Ф. М. Достоевского. Составитель Е. А. Тахо-Годи. М., «Водолей», 2013, 592 стр. Тираж не указан. o:p/
«…именно русский модернизм, — литература, философия, публицистика, религиозная мысль Серебряного века — сформулировал отношение к Достоевскому как к пророку, как к вершинной фигуре русской классики. В этой связи не случаен выход нынешнего солидного тома, составленного по материалам XIII „Лосевских чтений”, которые были как раз посвящены рецепции Достоевского в Серебряном веке. Среди рассматриваемых тем — Достоевский и чуть ли не все значимые фигуры модернизма, среди авторов статей и материалов — Л. И. Сараскина, И. С. Приходько, А. Л. Доброхотов, М. В. Михайлова, Дмитрий Сегал, Ю. Б. Орлицкий, Жорж Нива, многие другие; особенно хотелось бы обратить внимание на статью покойного Омри Ронена, связанную с „отрицательным” образом Достоевского — от слов Льва Толстого до высказываний Набокова» (Данила Давыдов, «Книжное обозрение»). o:p/
o:p /o:p
Максим Кронгауз. Самоучитель олбанского. М., «АСТ», «Сorpus», 2013, 416 стр., 5000 экз. o:p/
Книга известного филолога, директора Института лингвистики РГГУ, продолжающая его размышления о сегодняшних процессах в русском общеупотребительном языке, начатые в книге «Русский язык на грани нервного срыва» (М., «Языки славянских культур», «Знак», 2008), в новой книге речь — о русском языке в Интернете (см. также его статью «Утомленные грамотой» в «Новом мире» — 2008, № 5). Из записей Кронгауза в его блоге на сайте журнала «Сноб»: «Я утверждаю, что величие и могущество русского языка основывается на двух столпах. Первый: великая русская литература, которая существенно поддерживает язык. Второй: как это ни парадоксально прозвучит, огромное число не очень грамотных людей. Они никогда не перейдут на английский язык, как это происходит в современных европейских обществах, которые стали двуязычными, что является некоторой угрозой их языкам». o:p/
o:p /o:p
Наталья Рейнгольд. Мосты через Ла-Манш. Британская литература 1900 — 2000-х. М., «РГГУ», 2012, 608 стр., 1000 экз. o:p/
«В книгу вошли редкие материалы, связанные с английской литературой ХХ в., — интервью автора с Айрис Мердок, Джоном Фаулзом, Мартином Эмисом и Пирсом Полом Ридом, а также эссе о знаменитых малоизвестных русскому читателю корифеях британской литературы первой половины ХХ в.: В. Вулф и Дж. Рис, Дж. Джойсе и Форде Мэдоксе Форде, Т. С. Элиоте и Х. Дулитл, Д. Гарнетте и Д. Г. Лоуренсе, Г. Риде и Н. Дугласе. Завершают книгу эссе о крупных прозаиках конца ХХ в. — А. Картер, М. Брэдбери, А. С. Байет — и переводы отрывков из обсуждаемых произведений, большей частью интеллектуальных бестселлеров ХХ столетия» (от издателя). o:p/
o:p /o:p
Дмитрий Соколов. Таврида, обагренная кровью. Большевизация Крыма и Черноморского флота в марте 1917 — мае 1918. М., «Посев», 2013, 272 стр., 1000 экз. o:p/
Документальное исследование крымского историка массовых репрессий в Крыму, начинавшихся как форма политической борьбы большевиков за власть и очень быстро переросших в этноконфессиональный конфликт, сопровождавшийся грабежом и массовыми убийствами с активным участием «революционных матросов». Написана работа с использованием архивных источников и мемуаров участников и свидетелей тех событий. o:p/
o:p /o:p
Игорь Сухих. Русский канон. Книги ХХ века. М., «Время», 2013, 864 стр., 2000 экз. o:p/
Тридцать очерков о тридцати книгах, которые с точки зрения известного петербургского критика и литературоведа могут служить визитной карточкой отечественной литературы прошлого века: от «Вишневого сада» Чехова и «Матери» Горького до «Старика» Трифонова, «Заповедника» Довлатова и «Генерала и его армии» Владимова. Большая часть очерков, по мере их написания, публиковалась в журнале «Звезда». «Когда-то, в начале 1920-х, Е. Замятин боялся, что у русской литературы может быть лишь одно будущее — ее прошлое. Сегодня можно сказать, что опасения не оправдались (в том числе и благодаря самому Замятину). Кровавый ХХ век оставил замечательный литературный след. Лучшие книги ХХ века читаются как свидетельство, пророчество, провокация» (от автора). o:p/
o:p /o:p
И. Н. Тетенс. О всеобщей спекулятивной философии. Вступительная статья, перевод с немецкого, примечания А. Н. Круглова. Введение Н. Хинске. М., «Канон+», «Реабилитация», 2013, 336 стр., 800 экз. o:p/
«В России никогда не везло Канту, но еще больше не везло его современникам. Если где и можно было их встретить, то под тяжелыми переплетами переводных или оригинальных компендиумов по философии, затерянных среди вороха цитат. Тем более важно, что мы сейчас можем читать билингву основного трактата одного из важнейших современников и во многом соратников Канта»; «Трактат Тетенса посвящен созданию критической онтологии, двигался он в том же направлении, что и Кант. Но чтение его труда показывает, что понятия Тетенса — не условные знаки, не символы тех или иных уровней реальности, но скорее чехлы, упаковки или коробки для онтологических коллекций. Например, абстрактное понятие, по Тетенсу, содержит одновременно всеобщее и реальное, чувственное и нематериальное, но именно поэтому необходимо разложение понятий на части и изобретение новых понятий. Точно так же нам может казаться, что насекомые отличаются друг от друга только внешним видом, но пытливый зоолог укажет, что только механизмы их строения позволяют построить правильную таксономию. С точки зрения Тетенса, люди слишком склонны фантазировать, и фантазия — это не столько дополнительное представление, сколько поспешное обобщение. Люди торопливы, и нужно хотя бы иногда заставлять их производить ревизию собственной терминологической коллекции. Тетенс один из первых понял, что философия не может достичь полной ясности и прозрачности понятий, сама ёпсихологическая” работа нашего мышления этому препятствует. Но она может достичь истинности, когда созидает реальные знания: когда крылья насекомых подсказывают возможность полета, а сходство насекомых — закономерность наших открытий. Тетенс учил совершать открытия каждый день, а не считать одно-единственное открытие венцом всей жизни», — А. Марков («Русский журнал»). o:p/
o:p /o:p
Хроника рода Достоевских. Под редакцией И. Д. Волгина. Игорь Волгин. Родные и близкие. Историко-биографические очерки. М., Фонд Достоевского, 2012, 1232 стр., 1000 экз. o:p/
Составленная Игорем Волгиным родословная Достоевского, цель которой продемонстрировать включенность писателя в ту «этническую общность», «которая составила основу российской государственности и всего русского мира». Содержит описание родов Достоевских с включением отрывков из исторических документов, а также цикл очерков о близких Ф. М. Достоевского o:p/
Периодика
o:p /o:p
ПЕРИОДИКА o:p/
o:p /o:p
«05/03/53», «Коммерсантъ Weekend», «Литературная газета», «НГ Ex libris», «Новая газета», «Новые облака», «Огонек», «ПОЛИТ.РУ», «Радио Свобода», «Русский Журнал», «Эксперт Юг», «Colta.ru», «Radio France Internationale», «Thankyou.ru», «The Prime Russian Magazine» o:p/
o:p /o:p
Михаил Айзенберг. Будущее Мандельштама. К столетию «Камня». — «Коммерсантъ Weekend », 2013, № 10, 22 марта < >. o:p/
«Отзывы современников, как правило, поучительно подслеповаты, но Осип Мандельштам и здесь выделен из общего ряда. Замечания (это не оценки, а именно замечания — брошенные небрежно и вскользь) старших, поэтов-символистов, приводить как-то стыдно: стыдно за этих людей. Но и немногочисленным рецензентам „Камня” язык Мандельштама кажется искусственным, „филологичным” и стилизованным — „русской латынью”. (Через 10 лет Юрий Тынянов снова скажет о работе „почти чужеземца над литературным языком”.) Даже Гумилев высказывался в том духе, что среди акмеистов будущее есть только у Ахматовой и Нарбута». o:p/
«Современники не понимали, даже не различали биографичности стихов Мандельштама (это все стихи „на случай”), как не различали творческую основу его биографии. Не понимали, что это другое слово: собственно, другой язык, но не в словарном, а в системном, синтаксическом значении». o:p/
o:p /o:p
Борис Акунин. «Хочу заразить своей любовью к истории». Беседу вела Ольга Тимофеева. — «Новая газета», 2013, № 34, 29 марта < >. o:p/
«Ключевский — ученый, его главный труд — собрание лекций, то есть он писал для людей, которые уже и без него хотели знать историю. Я рассчитываю на другую аудиторию — на тех, кто историю не знает и, может быть, даже не хочет знать. Эти люди не станут читать Ключевского — побоятся, что это тяжело и скучно (между прочим, зря). А про автора по фамилии Акунин им известно, что он массовик-затейник, и никакого напряжения для мозгов от него ожидать не следует. Больно не будет. Поэтому автором моей „Истории” будет не Чхартишвили, а именно Акунин. Так же писал двести лет назад и Карамзин — для широкой публики. Чтобы барышни и офисные (то есть я хочу сказать архивные) юноши читали. Восхищались Святославом, негодовали на Святополка Окаянного и т. п. Карамзин ведь тоже был беллетрист, он знал, как увлечь публику». o:p/
o:p /o:p
В реестре, славой громыхающем. Год назад не стало Станислава Рассадина. — «Новая газета», 2013, № 30, 20 марта. o:p/
Письмо К. И. Чуковского Станиславу Рассадину от 23 июня 1967 года посвящено книге Рассадина «Так начинают жить стихом. Книга о поэзии для детей» (М., 1967). «Спасибо за книгу. В ней больше всего растрогала меня Ваша беседа с умирающим Маршаком. Я тоже беседовал с ним в эти дни. Мы жили тогда в санатории. Слепой, оглохший, отравленный антибиотиками, изможденный бессонницами, исцарапавший себя до крови из-за лютой чесотки, он в полной мере сохранил свою могучую литературную потенцию. Случилось так, что в один и тот же день мы получили от нашего английского друга, проф. Peter ’а Opie его сборник тех „Nursery Rhymes” , к-рые отклоняются от канонических текстов. За ночь я едва успел познакомиться с этим сборником. Прихожу рано утром к С. Я. Он сидит у стола полумертвый, на столе груда свежих рукописей. „Чтобы забыться от смертельной тоски, — говорит он, — я за ночь перевел 7 стихотворений из этой книжки”. И прочитал мне написанные красивым круглым почерком очень крепкие, мускулистые — подлинно маршаковские — строки...» o:p/
Здесь же напечатано письмо Н. Я. Мандельштам (осень 1967 года). o:p/
o:p /o:p
Дмитрий Волчек. В дивной маске идиота. — «Радио Свобода», 2013, 15 марта < >. o:p/
«Герой [Сергея] Нельдихена похож на Назара Ильича Синебрюхова, персонажа Зощенко. Вот его рассуждения, на этот раз рифмованные: „Кто сказал, что соловей / Распевает для затей? / Есть мыслишка у ручья / Есть она у соловья”. Максим Амелин и Данила Давыдов убеждены, что это маска, не буду спорить, но я ни малейшей дистанции между автором и персонажем не заметил. Возможно, маска стала лицом (так было проще выжить в советских редакциях: Нельдихен сочинял ради заработка стихи для красноармейцев), но подозреваю, что ее не было вовсе. Наивные наброски литературных воспоминаний — свидетельства человека, случайного и чужого в постакмеистическом кружке, членом которого его избрали „за глупость”. В пьесе „Фокифон”, прежде не публиковавшейся, модный жанр антиутопии превращается в катастрофические сапоги всмятку: бестолковые персонажи теряют и похищают какие-то капоры и духи, финал совершенно несуразный, но эта драматургическая беспомощность придает пьесе своеобразное великолепие. Если ее поставить сейчас, со всеми придуманными автором кинематографическими вставками — могло бы выйти удивительное зрелище». o:p/
o:p /o:p
Наталья Громова. Крики «виновен» сменяются ужасом. Уникальный исследователь — о быте, нравах и страхах интеллигенции. Беседу вела Ольга Тимофеева. — «Новая газета», 2013, № 28, 15 марта. o:p/
«Он [Даниил Андреев] при всей своей гениальности был такой „мимозный”, не умеющий сопротивляться. Когда его арестовали, тут же написал списки тех, кому роман читал. Мало того, сдал все экземпляры, даже тот, что закопал. В результате роман исчез. Так же как исчез последний роман Пильняка, последние произведения Бабеля. КГБ-ФСБ говорили, что все уничтожено». o:p/
«Впрочем, когда писательница и исследователь Наталья Соколовская искала дело Берггольц, ей тоже говорили, что дела нет, но после десятой просьбы все-таки нашли. Я убеждена, что это бюрократическая организация, которая если что-то и уничтожала, то оставляла описи, пересказы или выписки. К слову, дневник Булгакова 1927 года был именно так обнаружен. Булгакову по просьбе Горького его вернули. Как только он его получил, тут же сжег. Но когда исследователь Г. Файман пришел на Лубянку в 90-е годы, нашлись сфотографированные копии». o:p/
o:p /o:p
Андрей Иванов. 1994 — 2012. — «Новые oблака». Электронный журнал литературы, искусства и жизни. Таллинн, 2013, № 1 — 2 (63 — 64) < >. o:p/
«Меня больше не интересуют „великие задачи”, великие имена, грандиозные инфраструктуры неподъемных романов (таких как Infinite Jest , например) или наоборот, — стертый до дыр минимализм, смахивающий на изношенные носки. Восхищает случайное. Намеренное — утомляет. Я больше не хожу в библиотеку, потому что устаю от книг до того, как до них доберусь. Пока дойдешь до остановки, люди своими взглядами так нагрузят, что потом сутки не знаешь, куда все это сбыть». o:p/
o:p /o:p
Каких русских книг не хватает Америке? Беседа с редaктором издательства « Overlook » Марком Кротовым. Беседу вел Александр Генис. — «Радио Свобода», 2013, 18 марта < >. o:p/
« Марк Кротов: Но Пелевин интересен тем, что книги его здесь выходят менее как социальные книги или как книги, которые представляют политическую ситуацию или какую-то особую реальность, а как узкожанровые книги, которые серьезно страшные или серьезно развлекательные. И в каком-то смысле мне кажется, что это совсем не самый худший вариант для литературы. o:p/
Александр Генис: Когда появился в Америке Пелевин, я помню, что многие молодые люди не знали, что он русский, думали, что он живет в интернете, как все они, и в этом виртуальном пространстве они одинаковое место занимают. Поскольку Пелевин прекрасно знает английский язык, и особенно американский сленг, то он очень легко себя чувствует в этой среде. Но мне кажется, что его книги еще недостаточно проникли в американскую среду». o:p/
o:p /o:p
Андрей Канавщиков (Великие Луки). Старик Державин их заметил. — «Литературная газета», 2013, № 12, 20 марта < >. o:p/
«Они стоят рядом — Иосиф Бродский и Юрий Кузнецов. Это два фактических столпа русской поэзии второй половины ХХ столетия, два полюса, две самые цитируемые и почитаемые фигуры двух различных спектров поэтических пристрастий отечественных ценителей рифмованного слова». o:p/
«И Кузнецов, и Бродский выглядят в исторической перспективе своего рода предвестниками Русского хаоса перестройки. Гениальные алконосты распада пропели свои печальные песни, чтобы потом, за ними, не было уже ничего, даже отдаленно напоминающего реалий СССР. Они в предельно концентрированном и незамутненном виде явили то, что тогда же прорывалось у многих, но не было пока что оформлено столь беспощадно и бескомпромиссно». o:p/
o:p /o:p
Игорь Клех. Блеск и нищета моральной философии. Об ужасе и мессианстве Льва Толстого. — «НГ Ex libris», 2013, 7 марта < >. o:p/
«Оправдание дневников Толстого и его зачастую односторонних высказываний в их потрясающей противоречивости и непоследовательности, позволяющей сказать: Се человек!» o:p/
o:p /o:p
Сергей Костырко. Про вечный русский спор. — «Русский Журнал», 2013, 11 марта < >. o:p/
«Открытым финал романа [Антона Понизовского «Обращение в слух»] воспринимается еще и из-за хода, который предлагается здесь автором, — смены дискурса. Дискурса конкретно-исторического, социально-психологического комментария записей, с которого начинается повествование, на дискурс философский. Ход естественный для героя романа». o:p/
«Теологумен, с помощью которого Федор удерживает в романе равновесие, возможно, поймет и разделит Леля; поймут, но не примут для себя Дмитрий с Анной, а вот для подавляющего большинства рассказчиков из романа ход мысли Федора останется красивыми словами, мало помогающими что-либо изменить в реальности. Более того — оправдывающими, по сути, сложившийся в русской жизни порядок с творящимся в нем произволом. (Здесь необходимо уточнение: для „подавляющего большинства”, но отнюдь не всех интервьюируемых — в романе есть поразительная запись, в которой формулируется, пусть и другими словами, то же, что пытается сказать Федор.)». o:p/
См. также статью Аллы Латыниной «Под знаком Достоевского» в настоящем номере «Нового мира». o:p/
o:p /o:p
Сергей Кузнецов. Почему нам не нужен спор о Сталине? — «05/03/53», 2013, март < >. o:p/
«Сегодня раз за разом твердить о миллионах жертв — это как в анекдоте: искать под фонарем, а не там, где потерял. Слушать эти разговоры противно вдвойне, если тебе небезразлична память погибших. Я не знаю, для чего они умерли, — но уж точно не для того, чтобы мы упражнялись в красноречии на их могилах. Да, конечно, история определяет современность. Но Сталин умер шестьдесят лет назад. Это уже давняя история. Почему мы не спорим с такой же страстью о Петре Первом или Иване Грозном? Нам кажется, что это было недавно? Нет. Это было давно. Сталин умер, и сталинизм сегодня возможен точно в том же смысле, в котором возможна опричнина или петровское обстригание бород: как метафора, не более». o:p/
o:p /o:p
Таисия Лаукконен. Балтийская русская литература: письмо из ниоткуда? — «Новые oблака». Электронный журнал литературы, искусства и жизни. Таллинн, 2013, № 1 — 2 (63 — 64) < >. o:p/
«Постсоветская русская диаспора в Балтийских странах нова не только относительно самой себя, но и в отношении других общин постколониального мира. Во-первых, трансформация — от доминирующей в языковом и культурном смысле группы к меньшинству — произошла без перемены места жительства , что необычно для традиционных диаспор». o:p/
«Идентичность новой русской диаспоры вынуждена строиться на каком-то ином основании, и одно из направлений, которое оказалось востребованным, — это актуализация ситуации культурного пограничья». o:p/
«Таким образом, балтийский русский писатель оказывается в ситуации двойного „заказа”: со стороны метрополии (абстрактное русско-европейское пограничье) и от местной публики (конкретное культурно-языковое пограничье), но каждый автор совершает индивидуальный выбор». o:p/
o:p /o:p
Станислав Львовский. Долгий разговор. — «05/03/53», 2013, март < >. o:p/
«Функционирование памяти о терроре в качестве социального института не означает произнесение ритуальных формул раз в месяц (или дважды в год, или раз в пять лет). Это означает усилие по возвращению в пространство социального, в общественный оборот, того, что не было рассказано или не было рассказано вслух, — пусть не всего, но хотя бы того, что удастся восстановить. Означает возвращение погибшим их лиц, доброй (или совсем наоборот) памяти о них. Означает рассказать их истории . Одновременно это означает и возвращение лиц палачам, рассказывание и их историй тоже». o:p/
o:p /o:p
Владимир Микушевич. Диалоги с цикутой. — « The Prime Russian Magazine », 2013, на сайте журнала — 14 января < >. o:p/
«Таким образом, афинская демократия основывалась на ночных Элевсинских Таинствах, суливших бессмертие, и на дневных трагических действах, сплачивающих катарсисом». o:p/
«Сократ постоянно ссылался на демона, который им движет, а с этим афиняне примириться не могли. Афинянин должен был воздавать подобающие почести официальным божествам полиса, а свой особый, личный демон был для них, выражаясь по-современному, идеологической диверсией». o:p/
o:p /o:p
«Новый виток начался с социальной поэзии». Ян Шенкман беседует с поэтом Андреем Родионовым. — «Огонек», 2013, № 11, 25 марта < >. o:p/
Говорит Андрей Родионов: «У поэзии помимо смысла есть голос. Другое дело, что способ ее презентации безнадежно устарел. Традиционные для Москвы поэтические вечера — это, как бы мягче сказать, глубокий вчерашний день. Когда режиссер Эдуард Бояков привлек нас с Катей к работе в „Политеатре”, мы поняли, что надо разрабатывать общую идею поэтического вечера, только тогда народ будет покупать билеты. А значит, и поэты получат деньги». o:p/
«Время тетенек, которые еще с 1960-х по инерции ходили на творческие встречи, когда-то должно было закончиться, и вот оно подходит к концу. Бояков показал на Стрелке спектакль „Стихи о Москве” и собрал тысячу человек. Это делал серьезный режиссер — со светом, со звуком, с картинкой. Так можно собрать и тысячу человек, и больше». o:p/
o:p /o:p
Лев Оборин. Спокойное торжество. — « Colta.ru », 2013, 22 марта < >. o:p/
«В статье „Пути русской поэзии” [Сергей] Нельдихен пытается предсказать будущее: в поэзию должны войти современность, обыденность, „реальный логический смысл”, в ней должно продолжаться „культивирование прозаической речи”. „Наше же будущее, в особенности, представляется веком всяких синтезов”. В другой статье Нельдихен пишет, что в текстах современных ему прозаиков „подмечаются приемы, приближающие… прозу к поэзии… Литература наших дней стремится к одному общему виду, соединяющему прозу с поэзией. По всей вероятности, к подобию библейской прозы!”. Наконец, в „Основах литературного синтетизма” перечисляются свойства новой, синтетической формы (среди них — отказ от рифм, ритма и устаревших тропов, усложнение композиции, „успокоенность восприятия мира, чувств, ритмов как протест против отрывочности, ударности, динамизма, пафоса, истеричности, характерных в динамичное время”). Здесь же говорится о переходе к лиро-эпическим формам. Все это, не правда ли, заставляет вспомнить о недавних поисках „новых эпиков” (по словам Юрия Орлицкого, Федор Сваровский эту генеалогию признает). Но, кроме того, теоретические тексты Нельдихена будто предсказывают популярный в современной критике разговор о сращении прозы и поэзии». o:p/
o:p /o:p
Борис Парамонов. Зовите меня Исмаил. — «Радио Свобода», 2013, 13 марта < >. o:p/
«13 марта — столетие Сергея Михалкова. А умер он всего четыре года назад, дожив до вполне патриаршего возраста. <...> Это не Русь богоспасаема, а Михалков». o:p/
«Никакой органики в русской истории не было, а сплошь провалы и разрывы. Люди, сумевшие удержаться и даже преуспеть во всех перипетиях века, — это редкий исторический и культурный материал, музейная ценность и как таковые должны вызывать понятное, заинтересованное и чуть ли не благоговейное внимание». o:p/
«„Зовите меня Исмаил”, как говорит уцелевший после сражения с китом герой романа Мелвилла. А кит был знатный, подлинный Левиафан, то есть, по Гоббсу, тоталитарное государство. Можно и отечественного классика вспомнить: „И ризу влажную мою сушу на солнце под скалою”. Всех кормчих пережил — и от последнего принял подобающую возрасту и случаю награду». o:p/
o:p /o:p
Переоценка ценностей. Часть вторая. По просьбе COLTA.RU экспертное сообщество продолжает развенчивать авторитеты и вспоминать незаслуженно забытых. — « Colta.ru », 2013, 27 марта < >. o:p/
Анна Наринская. Недооцененные: «Булгаков. По отношению к нему сработал синдром ниспровержения своих же кумиров. Сами назначив в свое время „Мастера и Маргариту” „главным русским романом ХХ века”, мы впоследствии сами же от него отшатнулись, переведя его чуть ли не в синонимы литературной пошлости. При этом в „Мастере” есть куски гениальные, да и вообще у Булгакова множество гениальных страниц. Набоков. Здесь сработал тот же синдром. <...> Зощенко. Писателя, создавшего новый абсурдный язык, отобразивший новую абсурдную реальность, считают автором смешных рассказиков, годных для чтения на досуге. Юрий Казаков. Создатель шедевра „Вон бежит собака”, единственный русский автор, умевший сделать рассказ из его отсутствия, стал достоянием профессионалов, а не читателей. Виктор Голявкин. Его просто никто не знает. Ну, или только как детского автора. Прочитайте „Арфу и бокс”». o:p/
Алексей Цветков. Переоцененные: «Ахматова. Избитая и безразличная техника, расхожие эмоции, оба недостатка тесно взаимосвязаны. Пастернак. Поразительная слепота к метафорическим нелепостям при бесспорно крупном таланте». Недооцененные: «Заболоцкий, изначально оттесненный фаворитами на второй план и там остающийся. Трифонов, один из лучших прозаиков прошлого столетия, о котором сейчас помнят в основном те, кто читал его еще при царизме». o:p/
o:p /o:p
Поговорим о Померанце. — «ПОЛИТ.РУ», 2013, 14 марта < >. o:p/
Говорит Глеб Павловский: «Она, эта культура 50 — 70-х, была отодвинута в сторону своей же организованной и прагматичной подгруппой — т. н. „шестидесятничеством”, далее благодаря Горбачеву перешедшему в перестроечное „восьмидесятничество” — плоскую массовую культуру, которая не могла и не хотела развиваться. Послевоенная советская культура 50 — 70-х развиваться могла, она была открыта для анализа страшного опыта ХХ века. Но большинство ее замыслов, этических и политических, остались нереализованными. Померанц и Гефтер для меня — два лица этой полузабытой культуры. Они, кстати, взаимно друг друга недолюбливали». o:p/
o:p /o:p
Валерия Пустовая. Дары гробовщиков. — «Русский Журнал», 2013, 27 марта < >. o:p/
«Книга „От мая до мая” доказывает, что интеллигентский разговор пополнил список классических, мертвых жанров. Это самодостаточное искусство, для которого наработаны лексика, темы и места волнительной нестыковки собеседников. Как формулы вежливости: Рубинштейну поспорить о допустимости слова „патриотизм” — все равно что сказать „пока, дорогой, до встречи”. К „патриотизму” лепится „Радищев”, за Радищева встает „наше с тобою сословие”, за сословием влечется „наше дело и есть слово”. Все это должно быть сказано, как неизбежно произнесены будут слова „интеллигент” и „хам”, „простота” и „сложность”, и, будьте уверены, произнесены, как уточняет Рубинштейн, с нужными „интонациями”. Такими, по которым „распознаем друг друга”. Это беседа заранее согласных. Не случайно Чхартишвили, вводя в рассуждения изящные отсылки к буддизму, предлагает о православии, наоборот, умолчать: „а то все разнервничаются”. Да и Рубинштейн неловко затирает следы взбрыкнувшей было полемики: „Я-то задал тебе этот вопрос как раз для того, чтобы получить именно этот ответ, с которым был согласен уже до того, как его получил”». o:p/
«Как-то, почему-то мы чувствуем, что Гришковец-художник был проводником „подлинного”, а Гришковец-учитель стал проводником фальши. Не потому, что хочет врать, — в этом „подлинного” художника стыдно подозревать. А потому, что исповедует правду давно мертвую. Гришковец попал в ловушку времени, а Мартынов ее разгадал и вывернулся. Недаром он и пишет — тонкий нюанс — не о „конце литературы”, а о „конце времени литературы”. Показывая этим, что от воли художника, пусть даже самого „подлинного”, в этом времени мало что зависит». o:p/
o:p /o:p
Валерия Пустовая. «Книга встраивается в электронику, слово взаимодействует с картинками…» Беседу вел Платон Беседин. — « Thankyou.ru », 2013, 24 марта < >. o:p/
«...В разное время своими наставниками я могла бы назвать философов Освальда Шпенглера, Николая Бердяева, критиков Ирину Роднянскую, Евгения Ермолина. Сейчас своим учителем я назвала бы композитора и философа Владимира Мартынова, пишущего книги про конец слова, европейской культуры и привычного языка искусств». o:p/
o:p /o:p
Ольга Седакова. О греческой классике, авангарде и модерне. — « The Prime Russian Magazine », 2013, на сайте журнала — 10 января < >. o:p/
«Однажды я вдруг заметила, что после греческой классики искусство уже не умело изобразить человека стоящего. Стоящего так, как будто он не угнетает земли. И его не угнетает ничто. Закон тяготения и вес как будто преодолены. Он стоит в самой легкой для себя позе, он никогда не устанет». o:p/
«Этот стоящий, уходящий вверх человек с какого-то момента исчез. Я неожиданно и со всей наглядностью увидела это в парижском музее Родена. Эти белоснежные, мраморные, почти эллинские на первый взгляд фигуры: лежащие в изнеможении, сидящие так, как будто над ними свинцовые плиты, падающие на колени… И если стоящие или идущие, как Граждане Кале или Бальзак… Идущий надломлен в своем шаге». o:p/
«Почему все упали, почему никто не может стоять — спокойно и открыто? Модерн, решила я. Человек модерна стоять, очевидно, не может. Но знаменитые скульптурные образы, которые приходили мне на ум, начиная с Микеланджело, как будто возражали: нет, это не модерн. Это началось давно». o:p/
o:p /o:p
Елена Скульская. Биография должна догнать стихи, чтобы стать судьбой. Эссе. — «Новые oблака». Электронный журнал литературы, искусства и жизни. Таллинн, 2013, № 1 — 2 (63 — 64) < >. o:p/
«Со мной это случилось в четырнадцать лет. Подчиненная всем странным, мучительным, невыносимым устоям маминого карнавального дома, я была совершенно свободна в стихах. Совершенно! Я писала верлибром наперекор классическим размерам, я писала о догорающем снеге, по которому я иду, спотыкаясь о звезды, я писала о трещинах на стенах домов, которые похожи на дерганые зигзаги человека, убегающего от пули, я писала о стрельчатых спинах кленовых листьев. Я ничего не боялась. Мой отец, тревожась за мое будущее в советской стране, где не было смерти и горя, осторожно (но не насильственно!) пытался подтолкнуть меня к стихам света и радости, и, по-моему, был счастлив, когда я не сдалась. Ему нравились мои стихи, хотя они, по своей сути, разрушали и отвергали все, что было ему — советскому писателю — если и не дорого, то все-таки важно. А мама строго возмущалась: „Но ведь простые люди тебя не поймут!” Для мамы навсегда высшим критерием оставалось мнение коллег по зеркальному цеху и цеху строганного шпона Таллиннской фанерно-мебельной фабрики, где она проработала сорок лет инженером». o:p/
o:p /o:p
Ольга Славникова. «Мы представляем не кровавый режим, а русскую литературу». Беседу вела Анна Строганова. — « Radio France Internationale » (Русская редакция), 2013, 21 марта < >. o:p/
«Каждый молодой хочет быть своим среди своих. Если в первые годы существования премии [„Дебют”] это означало делать тексты в альтернативных эстетиках — постмодернистских, постпостмодернистских и т. д., то сейчас тренд — заявлять о своих левых настроениях». o:p/
o:p /o:p
Глеб Смирнов. Битва Атлантиды с Гималаем. — « The Prime Russian Magazine », 2013, на сайте журнала — 6 января < >. o:p/
«Это не зазорно — интересоваться всем чужим, когда помнишь свое. Европа же — совершенно забытая собственными аборигенами цивилизация. <...> Это забвение цивилизации самой себя, любовь к чужой экзотике — для судеб Европы опасность гораздо страшнее любого ислама». o:p/
o:p /o:p
«Тексты Введенского — чудо на краю воронки». Интервью с Марией Степановой. Беседу вел Игорь Гулин. — «Коммерсантъ Weekend », 2013, № 10, 22 марта. o:p/
Говорит Мария Степанова: «Тексты Введенского, те из них, что выжили, это ведь не только победившее смерть слово , как сказала бы далекая от чинарей Ахматова, — но и в некотором роде процесс и результат этой смерти. Они (я имею в виду главные, последние) написаны на нейтральной территории — за жизнью, как бы на подоконнике, вынесенном в несуществование». o:p/
«В этом смысле опыт интеллигенции 20 — 30-х годов совсем не похож на наш. Как это было с ними? Они родились в неподвижном мире, его хотелось раскачивать. Они застали последние минуты, когда все стояли на своих местах: буфеты, заборы, городовые. В новом мире ничего этого не было — а с ними самими, как выяснилось, можно было сделать все, что угодно. Законы физики, грамматики, логики перестали работать вместе со всеми остальными (и это стало предметом и поводом к речи) — но это еще удивляло и завораживало. Разница с нами состоит, кажется, в том, что нет перемены, к которой мы не были бы внутренне готовы (которой не ждали бы с привычным ужасом)». o:p/
«Я читала недавно статью, где пересказывались сны наших ровесников — тех, кому сейчас по тридцать-сорок лет. „Вышло постановление — всех, кто потерял паспорта, будут расстреливать”. „Еду в скотском вагоне и думаю — я ведь всегда знала, что так со мной и будет, для этого я и родилась”. Семейная история и история страны учат такому; в реальности, которую мы знаем, может произойти все, что угодно». o:p/
o:p /o:p
П. И. Филимонов. Кляксы Роршаха как гирудотерапия. — «Новые oблака». Электронный журнал литературы, искусства и жизни. Таллинн, 2013, № 1 — 2 (63 — 64) < >. o:p/
«Точно так же, как нет никакой психологии — и не было никогда, — точно так же нет и никакого кризиса среднего возраста. Все это называется гораздо проще. Одним простым словом. И слово это — „зависть”. Обычная бытовая зависть. К тем, кто командовал полками, сочинял симфонии и пользовался популярностью у публики и гламурных журналисток. Которые, в отличие от всего вышеперечисленного, прекрасным образом есть. Вон же сидят, светят ляжками и бухают что-то невообразимо зеленое и экзотичное. А могли бы сорваться с места и побежать просить у меня интервью. Унижаться и с придыханием заявлять, что готовы на все. А я бы смотрел на них свысока и раздумывал бы». o:p/
o:p /o:p
Валерий Шубинский. Слова и не-слова. Что изменилось в воздухе поэзии за эти десять лет? Валерий Шубинский отвечает на этот вопрос на примере книг Игоря Булатовского. — « Colta.ru », 2013, 12 марта < >. o:p/
«Начало XXI века было для российского общества временем атеросклероза, отъедания и отупения, но для поэзии оно стало, возможно, временем второго за полвека чуда. За закономерным умиранием „бронзового века” наступил не распад, не гниение отмерших традиций, не провинциальное цветение среднеевропейской герани, наскоро пересаженной от соседей. Русская (нео)модернистская поэтика не просто не умерла — она омолодилась. Дело не только в том, что появились талантливые молодые авторы с резко выраженной индивидуальностью <...>, что у некоторых старших поэтов (того же Айзенберга, того же Юрьева) открылось „второе дыхание”. Дело в качестве этого дыхания. Вещество лирической свободы, витамин бесстрашия стали куда доступнее, чем раньше. Это дает огромные возможности, но таит и опасности». o:p/
o:p /o:p
Михаил Эпштейн. Библиотека и кладбище. Эдгар По, ангелы и те хитренькие, что хотят в книжку забраться и всех пережить. — «НГ Ex libris», 2013, 21 марта. o:p/
«Проходя мимо этих длинных рядов, уставленных разноцветными корешками, чувствуешь себя словно в колумбарии, где так же в ряд выстроились разноцветные урны с именами усопших. Чувство даже более тяжелое: там погребена смертная оболочка людей, а здесь выставлен прах того, что они считали залогом своего бессмертия. Это второе кладбище, куда попадают немногие удостоенные, но зато и запах тления сильнее, ведь смердит само „бессмертие”». o:p/
«Ради вот этих фолиантов, которые явно не раскрывала ничья рука, кроме хранителя-регистратора, люди трудились, мучились, изводили себя, лишали тепла и внимания близких. <...> У них нет другой жизни, чем на этих полках, но и на этих полках у них жизни нет». o:p/
«Да, есть твоя личная вина в том, что ты не раскрыл эти книги, не воскресил их сочинителей чтением и пониманием, — а ведь они в это верили, ради этого жили. <...> На это чувство неискупленной вины накладывается другая скорбь — твоей собственной обреченности». o:p/
«И поставив обратно на полку Эдгара По, я ушел успокоенный. Будет ли книга прочитана, важно для ее читателей. А для самой книги важно быть написанной. Тогда ее ждет неведомая нам судьба». o:p/
o:p /o:p
«Эффект документальности получается сам собой». Беседу вела Мария Нестеренко. — «Эксперт Юг», 2013, № 11-12, 25 марта < >. o:p/
Говорит Алиса Ганиева: «Когда в Дагестане установилась советская власть, художественной прозы как таковой не было. То есть существовали какие-то полумаргинальные жанры: путевые заметки, дневники. Все это выходило из-под пера детей дагестанской аристократии, получавших хорошее образование в кадетских корпусах Петербурга. Однако этого было недостаточно для становления прозы. В советские годы с появлением Союза писателей возникла и необходимость разделения на литературные цеха, и проза была просто вынуждена появиться. И была она, за редким исключением вроде текстов Эффенди Капиева, выхолощенной и ненастоящей. Сейчас эта тенденция в основном продолжается. А вот поэтическая культура насчитывает в Дагестане не одно столетие, и о ней можно говорить бесконечно». o:p/
«Во-первых, мне хотелось „обнулить” свой имидж как критика, а во-вторых, это был мой первый опыт в прозе; спрятавшись за псевдонимом, я обеспечила себе своеобразную зону комфорта. Но самое главное — это то, что в повести [«Салам тебе, Далгат!»] показан мужской мир: если бы главным действующим персонажем была девушка, пространство было бы более табуированным, ее передвижение по Махачкале и большинство разговоров, присутствующих в повести, оказались бы технически невозможны». o:p/
o:p /o:p
Составитель Андрей Василевский o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
«Арион», «Вопросы литературы», «Гвидеон», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Знамя», «Звезда», «Православное книжное обозрение», «Фома» o:p/
o:p /o:p
Алексей Алехин — Олег Чухонцев. Беспомощность лирики. — «Арион», 2013, № 1 <;. o:p/
« О. Ч. <…> Читатель ушел. Все так надменно полагали, что он будет вечно. Последние, кого читали, были громкие „шестидесятники”. Ну, еще потом Бродский — но тут и нобелевский статус действовал. А теперь ты хоть из себя выпрыгни, издай хоть десяток книг, если только тебя не посадили… o:p/
А. А. …в тюрьму или в телевизор… o:p/
О. Ч. …да-да, в тюрьму или в телевизор, — никто твоего имени не услышит и не узнает. Поэтому надо учиться жить в подполье, как тамплиеры. Или наши гонимые староверы, и этот этап, возможно, будет достаточно долгим. И чем шире под видом искусства насаждается то, что за него теперь выдается, тем дольше мы будем отшельниками. Мы должны быть чем-то вроде монашеского ордена. <…> Важно какой-то уровень общения поддерживать в нашем „ордене”…» o:p/
o:p /o:p
Виталий Амурский. «Все у меня о России…» Вспоминая Владимира Соколова. — «Вопросы литературы», 2013, № 2 <; .
«Сам Владимир Николаевич рассказал мне буквально следующее: „Я написал это стихотворение («Я устал от двадцатого века, / От его окровавленных рек. / И не надо мне прав человека, / Я давно уже не человек…» — П. К. ) — в конце 1988 года. Я был тогда в гостях в Болгарии. По телевидению было передано сообщение о землетрясении в Армении. А перед этим шли события в Карабахе, шли события такого тяжелого свойства по всей стране. Мне это землетрясение показалось чем-то переполнившим чашу терпения, и я почувствовал, как я устал, и что я не один устал от этих непрерывно развивающихся тяжелых событий. Мне было страшно написать строчку: ‘Я давно уже не человек‘. Но я заметил, что если страшно что-то написать, то это необходимо сделать...” o:p/
Никаких сомнений в том, что все было именно так, у меня не было и нет. Однако, поведав о моменте, который как бы спровоцировал у него взрыв душевного отчаяния, Соколов, не задумываясь о том специально, сделал важное указание не только на обстоятельства, в которых родилось стихотворение, но и на место: в Болгарии. Именно такое единение времени и места (отмеченного личной драмой), на мой взгляд, подвело его перо к страшной по существу формулировке: „Я давно уже не человек”, с ключевым — „давно”». o:p/
o:p /o:p
«А синтаксис — просто какой-то Моцарт!..» Беседа Михаила Мейлаха с Омри Роненом. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2013, № 3 <; . o:p/
С выдающимся филологом-славистом (ушедшим из жизни прошлой осенью), многолетним ведущим авторской рубрики в «Звезде», М. Мейлах беседовал, как он пишет в предисловии, 10 августа 1998 года. Ниже — фрагмент монолога О. Р. и наше недоумение. o:p/
«Я всегда говорю: в молодости я менял свои взгляды очень редко, а на старости лет стал их менять довольно часто. Это нечто обратное склерозу и происходит чисто эмоционально: в старости я очень быстро реагирую на то, что в воздухе. Например, мое убеждение во всегдашней правоте Запада, Западной Европы изменилось весной 1999 года, после бомбардировки Белграда, когда я увидел торжество не рассуждающей грубой силы, которая защищает бандитов, и никто не смеет рта раскрыть… Как я уже говорил, сейчас я на стороне сербов». o:p/
Тут что-то не так: Белград бомбили, действительно, весной-летом 1999-го, а беседа записана… см. выше — указанную М. М. дату. o:p/
o:p /o:p
Уильям Бойд. Нат Тейт (1928 — 1960) — американский художник. Перевод с английского и предисловие Ольги Варшавер. — «Иностранная литература», 2013, № 4 <;. o:p/
Скрупулезная документальная проза о легендарном художнике-самоубийце Тейте, «символе послевоенной эпохи» (с множеством фотографий и иллюстраций) публикуется ближе к концу номера. В послесловии переводчица пишет, что пока переводила, «совершенно поверила в существование Ната Тейта» и «тоже попалась на удочку». Поверил и я, тем более, что о «Тейте» слышал и ранее. o:p/
Этот номер целиком посвящен теме «Круговорот масок: мистификация или фальсификация?». Здесь и Борхес с соавтором (получился вымышленный писатель детективных рассказов О. Б. Домек), и серб Бора Чосич (придумавший «Записную книжку Музиля»), и молодая испанка Каре Сантос («продолжившая» того же Борхеса, Кортасара, Карпентьера и других). Алексей Симонов вспоминает здесь о «поэте XVI века» Гийоме дю Вентре, — созданном фантазией и талантом двух лагерников — Якова Харона и Юрия Вейнерта… o:p/
o:p /o:p
Иосиф Бродский. Blues. Tornfallet. A Song. To My Daughter. Переводы с английского. Вступление Виктора Куллэ. — «Иностранная литература», 2013, №1. o:p/
«Неизбежность сопоставления диктовала потребность в оригинальности собственного английского имиджа. В случае Бродского это означало стремление не вписаться — а, наоборот, выступить против устоявшихся в англоязычной поэзии традиций, прежде всего это касалось нехарактерной для современного английского стихосложения тенденции к строгой ритмической упорядоченности. <…> Другой точкой преткновения стала рифмовка. В стремлении к оригинальной рифме Бродский шел на эксперименты, носителям языка казавшиеся рискованными, а то и вовсе невозможными» (В. Куллэ). o:p/
В публикации приведены разные переводы четырех названных стихотворений. По-моему, очень интересна здесь Марина Бородицкая. o:p/
o:p /o:p
Евгений Водолазкин. Близкие друзья. Повесть. — «Знамя», 2013, № 3 <;. o:p/
Короткая, драматичная вещь, которую «не читаешь», но смотришь «как кино». Судьбы трех немцев — двух парней и девушки — тянущиеся с довоенных времен и до наших дней. Травестированный такой Ремарк. Все — чуть не сказал « постмодернистские » — ходы тут, что называется, «записаны», сделано на ять, мерцают переклички и угадываются историко-литературные метафоры, но оторваться от этой довольно натуралистической хроники, изредка прерывающейся лирическими выпадами, невозможно. Все происходящее органично, на мой взгляд, укладывается в реплику В. Губайловского на конференции по Гончарову (см. ниже). o:p/
o:p /o:p
Владимир Воропаев. Однажды Гоголь… Рассказы из жизни писателя. — «Православное книжное обозрение», 2013, № 3 <;. o:p/
Выдержки из готовящейся к изданию книги. Автор — председатель Гоголевской комиссии Научного совета РАН «История мировой культуры». В сети я прочитал, что за подготовку Полного собрания сочинений и писем Н. В. Гоголя в 17 томах три года назад В. В. получил в Киеве орден УПЦ преподобного Нестора Летописца I степени. o:p/
Название — по строке Николая Рубцова, который посвятил Гоголю несколько стихотворений, знал наизусть целые страницы гоголевской прозы. А книга, судя по отрывкам, будет живая и многоадресная. Некоторые ее фрагменты публикуются и в апрельском номере «Фомы». o:p/
o:p /o:p
Наталья Громова. Скатерть Лидии Лебединской. То немногое, что осталось за пределами «Зеленой лампы». — «Дружба народов», 2013, № 3 <; . o:p/
Новая книга Громовой — на сей раз яркий и плотный биографический рассказ о писательнице, без которой литературная Москва «старого уклада», действительно, осиротела. Уже после всех переполненных именами, событиями и датами рассказов о родителях, литераторах, любовях; после монологов дочери и самой Лидии Борисовны, в финале, — точное и необходимое поминание: «…писатель, мемуаристка, рассказчица, организатор конкурсов чтецов и создатель музеев — на самом деле ни одно значение не исчерпывало род ее занятий. С одинаковой страстью она могла рассказывать как о Фадееве и Светлове, так и о Вяч. Иванове, Блоке и Пастернаке. Она умела соединять людей из разных эпох с несхожими взглядами, убеждениями, творчеством. Любовь к чужому таланту, восхищение перед ним — редкое качество, которым в избытке обладала Лидия Борисовна. Наверное, потому, что она была просто Добрым Духом литературы». o:p/
o:p /o:p
Владимир Губайловский. [Из материалов конференции «Иван Гончаров в контексте XXI века», состоявшейся в редакции журнала]. — «Знамя», 2013, № 2. o:p/
«Когда мы читаем Гончарова, у нас нет всеобъемлющей конструкции, в которую вписаны герои. Гончаров выстраивает свои отношения с ними на условиях какого-то паритета. Персонаж может вести себя „хорошо”, как Обломов, или „плохо”, как Штольц. Автор своего отношения к ним не скрывает, но они ведут себя так, как считают нужным, как это соответствует их природе, они — равные с автором, они — свободны. Не Гончаров дает слово героям, он у них, скорее, просит слово. Он говорит: „Может, все было так?”. А герой ему отвечает: „Нет, не так”. И писатель соглашается: „Значит, не так”. И думает: а как же это было на самом деле. Это равенство автора и героя, которое я вижу у Гончарова, очень современно. В сегодняшней литературной ситуации писатель, претендующий на исключительное, высокое положение, по-моему, просто обречен». o:p/
o:p /o:p
Светлана Егорова. Рассказы из жизни поэта Александра Ерёменко. — «Знамя», 2013, № 3. o:p/
Кажется, это первый случай в новейшей литературе, когда реальный литератор (наш сегодняшний современник с устоявшейся легендой) становится героем художественных апокрифов, действительно, уходящих от привычной «постхармсовской» подачи — в «рассказы», в прозу, — пусть и сдобренную сильным игровым веществом. До сих пор А. Е. был героем стихотворных посвящений (из коих, как помним, В. Лобановым недавно был составлен и сборник). o:p/
o:p /o:p
Евгений Ермолин. Роль и соль. Вера Полозкова, ее друзья и недруги. — «Знамя», 2013, № 2. o:p/
«Где они, читатели Кушнера и Рейна? Впрочем, и сегодня за пережженными в поэтический уксус уроками поражения можно иногда сходить к Гандлевскому, за трагическим историзмом — к Чухонцеву. Да хоть и к Бродскому, которым кончается все на свете. Однако ж, господа, когда этим зачастую живешь и сам, следует чем-то перебить или дополнить свинцовую тяжесть последних опытов. А главное — монологическая сосредоточенность, в сильной мере присущая нашим лучшим поэтам XX века, озабоченным тем, чтоб ни единой долькой не отступаться от лица , не всем уже кажется убедительной в ситуации тотального диалога, сквозной коммуникации, интенсивной общительности, ставшей нормой нашей жизни в XXI веке. Наше время — это время, когда кончается эпоха добрых намерений и банальных приличий, эпоха больших, не слишком взыскательных масс. Но в ней слабо угадывается и трагическая нота». o:p/
o:p /o:p
Вадим Ковский. Литературный быт в позднесоветских декорациях. Взгляд из-за кулис. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2013, № 3, 4. o:p/
Рубрика «Мемуары XX века». К цитате: автор одно время заведовал отделом поэзии в «Дружбе народов». o:p/
«Всегда взрывоопасной была тема войны. Стоило только войне предстать в стихах в своем неприглядном, а подчас и двусмысленном обличье (так, скажем, уже позволяла себе рисовать войну проза), как поэзия наталкивалась на цензурные барьеры. Не удалось опубликовать, в частности, одно большое стихотворение такого рода А. Межирова, и „Дружба народов” была далеко не первым журналом, куда он его приносил (по-моему, об артиллерии, жаль, я его не сохранил). Зато удалось напечатать в 1986 году в рубрике „Литературное наследство” подборку фактически заново открытого для читателей фронтовика Константина Левина, с добрыми словами Владимира Соколова. И в ней, в частности, присутствовало знаменитое стихотворение „Нас хоронила артиллерия…”, давно ходившее в литературной среде по рукам. Честно говоря, не уверен, что мы могли бы его опубликовать, будь автор жив: „Мы доверяли только морфию. / По самой крайней мере — брому. / А те из нас, что были мертвыми, — / Земле, и никому другому. / Тут все еще ползут, минируют, / И принимают контрудары. / А там уже иллюминируют, / Набрасывают мемуары… / Бойцы лежат, им льет регалии / Монетный двор порой ночною, / Но пулеметы обрыгали их / Блевотиною разрывною”. Впрочем, и тут без купюр не обошлось: „А тех, кто получил полсажени, / Кого отпели суховеи, / Не надо путать с персонажами / Ремарка и Хемингуэя”». o:p/
o:p /o:p
Татьяна Морозова. Стать Лавром. — «Знамя», 2013, № 4. o:p/
Рецензия на роман Евгения Водолазкина «Лавр». «Свести дискурс романа к противопоставлению разумных европейцев и стихийных русских — значило бы катастрофически обеднить роман. <…> У народа и его избранных — разные задачи и разные сюжеты бытия. Евгений Водолазкин написал роман о том, как, следуя осознанной цели, человек может спастись сам и спасти тех, кто рядом. Мысль не новая, но от повторения она не делается старой. Роман показывает, что разговор о Боге, вере, любви, долге и других всем известных вещах может быть живым и свободным». o:p/
o:p /o:p
Особенности перевода с божественного на человеческий: Григорий Померанц и Зинаида Миркина. Интервью о постхристианстве. Беседовал Андрей Тавров. — «Гвидеон» («Русский Гулливер» / «Центр современной литературы»), 2012, № 4. o:p/
Из разговора о том, может ли спастись человек, «не пошедший в глубину», «в отличие от того, кто соприкоснулся с Богом» (А. Т.). o:p/
«Г. П. Он может спастись. <…> Узнавание — очень важный акт. У нас того же Антония Сурожского узнать и отделить его от прочих митрополитов — для этого нужно иметь дар узнавания. Этот дар узнавания намного шире , чем непосредственная благодать (выделено мной. — П. К. ). У нас есть такие люди. Среди тех, кто узнает, я мог бы назвать несколько имен из православных, с которыми знаком. Конечно, большинство — нет». o:p/
Надо ли понимать, что существует что-то выше и «шире» «непосредственной благодати»? Или Григорий Соломонович в этом (вероятно, одном из последних своих интервью) имел в виду какую-то особую благодать, не Божественную? o:p/
o:p /o:p
Татьяна Полетаева. Жили поэты. Предисловие Сергея Гандлевского. — «Знамя», 2013, № 3. o:p/
В отличие от достаточно «игрового» сочинения Светланы Егоровой (см. выше), эту вещь можно — условно — отнести к «мемуарной». Однако это не просто воспоминания, это еще и чеканная, лирическая проза, очень интересно «рифмующаяся» с известным произведением под названием «Трепанация черепа» (пера автора предисловия). Добавлю, что если бы меня спросили, как это: написать о тех, кого любишь (пусть большинство уже за чертой), о самых родных и близких, о товарищах по судьбе, о времени, в котором выпало жить, — и написать увлекательно, искренне, с юмором и горячим сердцем, — то я бы мгновенно адресовал сюда, к «Жили поэты». И пишет-то литератор, поэт. «В быту Татьяна Полетаева женщина как женщина — то ключи посеет, то кошелек, то заговорит собеседника до одури, — но в литературе ей бывает присущ реликтовый, „бабий” и здравый, взгляд на вещи, который, думаю, правильней всего приписать ее таланту» (из предисловия). o:p/
В этом же номере продолжается живая, чуть беллетризованная «портретная галерея современных критиков», создаваемая Сергеем Чуприниным. На сей раз — об Игоре Шайтанове. o:p/
o:p /o:p
Вадим Перельмутер. Перекличка. — «Арион», 2013, № 1. o:p/
Вообще-то В. П. пишет о перекличке Александра Межирова с Владиславом Ходасевичем («Серпухова» с «Не матерью, но тульскою крестьянкой»). Но приводит и другие случаи. o:p/
«Одно из самых известных его стихотворений: o:p/
o:p /o:p
Мы под Колпиным скопом стоим, o:p/
Артиллерия бьет по своим, — o:p/
o:p /o:p
написано в 1956 году. o:p/
Десятью годами ранее его сокурсник по Литинституту — тоже фронтовик — Константин Левин написал стихи, которые были напечатаны лишь в восемьдесят четвертом, в единственной прижизненной левинской книге, но вероятно, чуть ли не все поэты из фронтовиков , да и не только поэты, их знали, во всяком случае, мне их цитировали и Винокуров, и Наровчатов, и Ревич: o:p/
o:p /o:p
Нас хоронила артиллерия. o:p/
Сначала нас она убила. o:p/
Но, не гнушаясь лицемерия, o:p/
Теперь клялась, что нас любила. o:p/
o:p /o:p
Сходство пережитого на войне — и чужие стихи об этом. Опять-таки двойственность импульса». o:p/
o:p /o:p
Гарольд Пинтер. Суета сует. Пьеса. Перевод и послесловие Галины Коваленко. — «Иностранная литература», 2013, № 3. o:p/
В крохотной пьесе нобелевского лауреата 2005 года — два действующих лица: мужчина и женщина, тому и другой — около сорока лет. Они разговаривают. «Пьеса вызвала неоднозначные толкования. Майкл Биллингтон считает, что в фашизме, в числе прочего, таится сексуальная сила, являющаяся его политическим эквивалентом. Ханна Скольников страстно доказывает, что пьеса Пинтера — о Холокосте. Пинтер не соглашается с подобной окончательностью оценок» (из послесловия). o:p/
Вослед пьесе идут воспоминания последней жены Г. П. — Антонии Фрейзер. «Гарольд был уверен, что его герои начинают жить своей жизнью, и к этому нужно относиться с уважением. Я вспомнила об этом много лет спустя, когда узнала о случае с Пушкиным, произошедшим во время создания „Евгения Онегина”». o:p/
o:p /o:p
Алехандра Писарник. «Скиталица по себе самой…». — «Иностранная литература», 2013, № 2. o:p/
Стихи и фрагменты записных книжек. Представление одной из самых оригинальных поэтесс Аргентины (родилась в русско-еврейской семье эмигрантов, выходцев из Ровно; почти все родственники, оставшиеся в Европе, погибли в Холокост). Писарник покончила с собой осенью 1972 года в возрасте 36 лет. Переводчик ее стихов, П. Грушко, относит А. П. к проклятым поэтам. o:p/
«Мама рассказывала нам о России с ее заснеженными лесами: „…а еще мы лепили из снега снежных баб и нахлобучивали на них шляпы, которые крали у прадедушки…” Я смотрела на них в недоумении. Что такое снег? Почему баб надо лепить? И главное: что это за штука — „прадедушка”?» (перевод Натальи Ванханен). o:p/
o:p /o:p
Ян Пробштейн. Джон Эшбери. Эскиз на ветру. — «Гвидеон», 2012, № 4. o:p/
Автор переводил и, судя по тексту, плотно общался с крупнейшим (и старейшим) англоязычным поэтом. «В стихотворении, название которого состоит из усеченной пословицы, соответствующей русской „Больше дела” (меньше слов) или „Словами делу” (не поможешь), Эшбери пишет: „…И может, стремленье не взрослеть и есть / Ярчайший род зрелости для нас / Сейчас по крайней мере…”. Социальная неуверенность и неверие в человеческое понимание взаимосвязаны. Отсюда и стремление не взрослеть, сохранить детскость, быть непохожим на других. На первый взгляд кажется парадоксальным, что в творчестве Эшбери, человека вполне благополучного, так сильны мотивы неустроенности, даже некоторого изгойства. <…> o:p/
Помимо философского, этому, как я уже заметил, есть и социальное объяснение: в прагматическом индустриальном обществе, особенно в Америке, интеллектуалы, интеллигенты, не производящие материальных благ, действительно в некотором смысле изгои, пока не приобретут известность и не станут знамениты. Есть тому и психологические причины: от природы Эшбери человек весьма сдержанный, даже замкнутый. В разговоре скуп на слова. Он и сам это признает: „Люди 60-х были открыты, люди 70-х погружены в себя”, — как-то сказал он мне». o:p/
o:p /o:p
Алексей Пурин. Александр Леонтьев. — «Арион», 2013, № 1. o:p/
Рубрика: «Мой важный поэт». «И про этику упомянуто не ради красного словца. Потому что все-таки самое важное для меня у Александра Леонтьева — удивительная тональность его стихов. <…> Невообразимая искренность, неслыханная нежность». o:p/
Вторая позиция: Игорь Иртеньев о Вадиме Жуке. «Самое обидное и несправедливое, что известность Жука почти обратно пропорциональна его подлинному месту в современной поэзии. Пасясь на иных, театрально-эстрадных, лугах, он, увы, не нагулял положенного веса на литературных». o:p/
o:p /o:p
Роман Сенчин. Чего вы хотите? Повесть. — «Дружба народов», 2013, № 3. o:p/
«Как любят писать в таких случаях: „Редакция может не разделять точку зрения автора”. Но здесь сложнее. Дело в том, что сам автор далеко не всегда разделяет точку зрения автора. И вообще он тут не главный. <…> Повесть „Чего вы хотите?” наверняка вызовет неоднозначную общественную реакцию. По-видимому, именно такую реакцию и предполагает автор. Будет ли она сочувственной по отношению к его персонажу — писателю Сенчину? Наверное, у кого как. Но то, что она будет сочувственной по отношению к его дочери Даше, это точно. Однако нас как литературный журнал волнует не только это. Вот эти новые жанры — что они означают? В какой мере они откликаются на общественные запросы — в том числе эстетические? Понятно желание художника поскорее выплеснуть то, что накипело, — но не вредит ли это собственно художественным качествам произведений?» o:p/
Это из редакционной врезки. Что до жанров, то в недалеком будущем, возможно, какое издательство и соберет новую антологию типологической в первом приближении прозы — от Валерия Попова до Романа Сенчина, почему нет? В апрельском номере «ДН» прозаики Алексей Варламов, Ирина Богатырева, Владимир Березин, критики Мария Ремизова и Евгений Ермолин откликаются на призыв редакции — обсудить. Вышло более чем неравнодушно и портретно (в отношении откликнувшихся). От «Сенчин написал замечательную книгу. Может быть, лучшую из всех им написанных» (А. Варламов) до «Обобщающая, продуцирующая общие смыслы литература уходит в сторону масскультовского мейнстрима, сплавляющего жанровые матрицы с модными идеосимуляциями» (Е. Ермолин). o:p/
o:p /o:p
Андрей Турков. Запретные главы. Заметки на полях перечитанной книги. — «Дружба народов», 2013, № 4. o:p/
В Питере вышло новое, полное — с добавлением раздела под названием «Главы, которых не было» — издание знаменитой «Блокадной книги» Гранина и Адамовича. Непонятно, почему этого не случилось хотя бы лет десять тому назад. Не было издателя? o:p/
«„Блокадная книга” впервые подробно поведала о неимоверных лишениях и страданиях ленинградцев, о заиндевелых домах, где, по словам Ольги Берггольц, человек „у себя на кровати замерзал, как в степи”, о рабочих, привязывавших себя к станку, чтобы не упасть, о матерях, ради спасения детей совершавших такое, о чем и читать-то трудно („Я тогда, чтобы она могла уснуть, давала ей сосать свою кровь… прокалывала иглой руку повыше локтя и прикладывала дочку к этому месту”). o:p/
Но самые потрясающие страницы (быть может, и объясняющие „чудо” живучести, казалось бы, обреченного города) — об „отчаянной борьбе… души за то, чтоб сохранить себя, не поддаться, устоять”». o:p/
Я подумал, читая, что Андрей Михайлович Турков, наверное, единственный сегодня активно пишущий литературный критик (и участник войны) в своем поколении. o:p/
В следующем году ему исполнится 90 лет. o:p/
o:p /o:p
Мишель Турнье. Зеркало идей. Перевод с французского и вступление Марии Липко. — «Иностранная литература», 2013, № 1. o:p/
Работая над переводом этой «галереи отражений» (тут десяток искусных пар-«антидвойников» вроде «Дон Жуана и Казановы», «кошек и собак», «ванны и душа», «вилок и ложек» и т. п.), — М. Липко прилагает во вступлении и свой шутливый пастиш под названием «Вишня и черешня». По моему, конгениально. o:p/
o:p /o:p
Борис Херсонский. Депрессия. Что делать с духом уныния. — «Фома», 2013, № 4 <; . o:p/
Из последней главки, названной «Церковный ракурс». o:p/
«Есть еще один предрассудок, характерный уже для людей верующих. Мол, медицина — от лукавого. Уповать нужно только на Церковь, таинства, пост и молитву. Да, верующий человек уповает на Бога, и вера укрепляет его. Но почему нужно пренебрегать врачебной помощью? Вспомним — целитель Пантелеимон изображается с ларцом, в котором находятся лекарства. Врачом был апостол и евангелист Лука (см. Кол 4: 14). А Косма и Дамиан были хирургами. И святой двадцатого века, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) был врачом — и каким! o:p/
Еще хуже обстоят дела, если больной — человек неверующий, а родственники тянут его в церковь. При этом таинства низводятся до уровня магических процедур… Сколько раз я с этим сталкивался! Если в депрессию впадает верующий, воцерковленный человек, роль хорошего духовника трудно переоценить. Но было бы прекрасно, если бы врач и духовник могли идти в заботе о таком пациенте рука об руку. Об этом писал в „Пастырском богословии” архимандрит Киприан (Керн)». o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
Составитель Павел Крючков o:p/

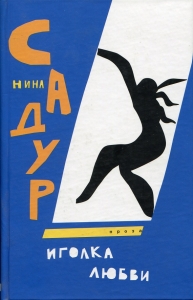
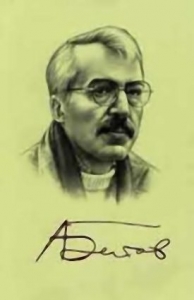




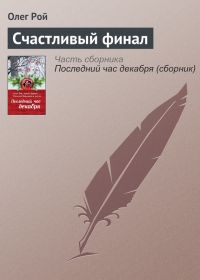
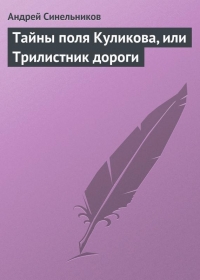
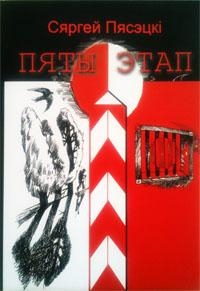



Комментарии к книге «Новый Мир ( № 6 2013)», Журнал «Новый Мир»
Всего 0 комментариев