Русаков Геннадий Александрович родился в 1938 году, воспитывался в Суворовском училище, учился в Литературном институте. Работал переводчиком-синхронистом в Секретариате ООН в Нью-Йорке и Женеве. Автор семи книг стихотворений. Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Москве и Нью-Йорке.
Владимиру Самошкину
1
Трудно люди живут и трудами свой хлеб добывают,
стоя спят в электричках, нелепым столетьем дыша.
Утешают детей, в фиолетовых снах уплывают —
и над каждым в потёмках мерцает, как свечка, душа.
Мне хотелось бы стать и на тех и на этих похожим
и носить, как награду, высокого сходства печать,
узнавая себя в загулявшем под праздник прохожем,
пить баварское пиво и медью в кармане бренчать.
Только я не отмечен ни хваткой, ни бранной отвагой:
как со смертного ложа, ночами на дело встаю —
заслоняться от века исчерканной в клочья бумагой,
потому что я трушу в моём повседневном бою.
Потому что опять начинается медленный ветер
и спускается сверху, воздушные кручи тесня.
Потому что на белом, на этом единственном свете
за окном электрички летят и летят зеленя.
2
Красота — это цифры, их женская стать и осанка.
Мне в них поздно открылся гармонии точный расклад —
их провизорской меры исходно высокая планка,
их почти музыкальный, немногими слышимый лад.
Вот чем нам надлежит упорядочить яростность мира!
Математика лечит от хворей и низких страстей.
И квадратного корня недооценённая лира
безвозмездно врачует недуги любых областей.
Поднимаю стакан за арабскую вязь уравнений!
За могущество чисел и праведность их теорем!
Мне, увы, не по силам эвклидов и кеплеров гений...
Я за них просто выпью и чем-нибудь скупо заем.
Но зато мне близка непреложность магических формул.
(Ни одной не запомнил, но всё же почувствовал вес.)
Даже время в цифирь испокон сведено для проформы,
для товарного вида — отсюда к нему интерес.
3
Мелкозубчатый серп над продмагом меняет личины.
Кто ушёл — не вернётся, на вётлах патлатый галдёж.
Так чего ж ты талдычишь и сливы трясёшь без причины
и кого-то как будто до срока из памяти ждёшь?
Переможемся, вспомним, в творении примем участье
и достроим ко вторнику рыбий костяк бытия.
Привыкание к жизни — одно ожидание счастья,
голошение меди да смертное блюдо — кутья.
Оглянись по дороге — на что нам такое столетье?
Вон полощутся в небе разбойные стаи грачей,
исчезают за школой, колышатся нищенской сетью.
И гудение крови становится всё горячей.
А всего-то и нужно, чтоб утро крутого налива.
Чтоб капустная пойма, поливка в прозрачных усах...
...Жизнь, наверно, и вправду местами слегка несчастлива.
Но порою различье всего лишь в каких-то часах.
4
Для чего я сквалыжничал, разнагишался в строке,
бился в мыле, чужое с чужим на бегу сопрягая?
Право, мне бы по-прежнему жить от всего вдалеке:
там по дому гуляет бесстыдница, дура нагая.
Полоумная тётка — долдонит про плотность письма,
на малиновый штырь шашлыки из эпитетов нижет,
кличет Пушкина “Саней”, при этом распутна весьма,
варит в сенцах варенье и липкие пальчики лижет.
В этом розово-хриплом и жирно проперченном дне,
в этой радостной прорве вполне уголовного года
не в умении дело: уменье даётся и мне,
а поди разбери, как к утру повернётся погода.
Или где пистолет: в первом акте висел над столом,
в кобуре, а потом застрелился и вышел со сцены,
потому что несдержан — как был, так и есть дуролом.
И похоже, потомок,
притом самого Авиценны.
5
Муравьиная кучка, забитая в щель тротуара,
мокрый запах соломы, вагона блажной перепляс...
Ну а если по правде, то этого, Господи, мало
для того, чтобы время стояло водою у глаз.
Мало, Господи, мало, и бренные это приметы.
Да и сам я не нужен творенью для радостных дел —
для просторных закатов твоей бесхозяйственной сметы,
про которых я тоже когда-то, ликуя, трындел.
Мне сегодня для воли достанет шестнадцати строчек.
Остальное — довески, любовей забытый озноб,
продолжение рода, анкетный задиристый прочерк
возле пятого пункта, и детских ладошек прихлоп.
Мало, Господи, мало, ещё добавляй для довеса,
чтоб глядеть, холодея, на лысое темя бугра,
чтобы вспомнился снова блатной говорок Мелекесса...
И у края столетья залязгали в ночь буфера.
6
Люди странно менялись: придут — и борцы за свободу.
Или наше подполье: взрывали ЦК изнутри.
Я писал трое суток бессмысленно-страстную оду.
От неё сохранилось название: “Секретари”.
Всем чего-то хотелось. Осознанно — воли и корма.
Был разгул презентаций: под них накрывали столы.
Три захода за сутки — вполне допустимая норма,
хоть порой бутерброды бывали постыдно малы.
Сослуживцы из МИДа внезапно подались в евреи:
в нашей секции трое в Германию тихо ушли.
А другие евреи зажили трудней и смирее
и стояли за гречкой, как все, посредине земли.
У отечества были не самые лучшие годы.
Это стало понятно по множеству сильных людей,
промышлявших прихватом и ездивших к немцам на воды.
И туда отряжавших шалманы валютных блядей.
7
Паровозы трубят, словно мамонты в брачную пору.
Паровозы трубят от меня через тысячи лет.
Паровозы трубят, вылетая навстречу простору,
потому что для них ничего притягательней нет.
Пусть их. День отспешил и уйдёт по просохшей дороге.
Из сеней потянуло простудной струёй сквозняка.
Нам сидится, молчится. Какие тут, к ляду, итоги?..
Засинело в окошках. А всё-таки жизнь коротка.
Но уже началось ворошение заднего сада:
в палисаднике голо, а там раскачнулись кусты.
Полюби меня снова — опять, как тогда, до упада...
С блеском глаз в темноте и смещением всей высоты.
Чтобы снова кино, чтобы клёны с безумной луною,
чтобы свет проносился по листьям счастливой водой.
Чтобы хмурый подросток, тогда называвшийся мною,
с перехваченным горлом стоял под случайной звездой.
8
Снова мёдом пропахнул настой тростникового лета.
Тишина расстояний теряется в палевой мге.
Но ударит июль роковыми стволами дуплета —
и фуражку сорвёт, и приклад перекинет к ноге.
Как сырое беремя, мне руки мой век прогибает.
И утица вертится в пруду на весёлой воде.
Перепончатой лапой буровит и клювом долбает,
низко голову прячет, ныряя неведомо где.
Что мне время моё и гудение полой тростины?
Что мне тяга пространства и пряная эта вода?
Поплавки этих уток, их нежно покатые спины,
отряхнувшие Лету, чтоб снова вернуться сюда?
Ведь не в этом же суть и не в этом постыдная вера!
Что-то есть выше слова, за пряничной ложью стиха,
где уже не услышишь солдатской походки размера,
где закончены счёты и боль узнаванья тиха!..
9
Облиствели сады. Пахнет спиртом и детством природы.
Не смотри на меня: я тут вправду совсем ни при чём.
Это просто случилось (как все предыдущие годы),
и анисовым ветром подуло над левым плечом.
Ну а дальше — тепло и младенческий пух сотворенья,
прошивные полотна по тыну растянутых дней.
Бестолковое время, бессмысленный стих-говоренье,
из-за этой бессмыслицы ставший как будто родней.
Дальше май загрохочет никчёмной в хозяйстве грозою
или глины просядут под тяжестью первых дождей.
Не смотри на меня, я и сам не привык к мезозою —
к этим стратам Сухуши со шляпками Божьих гвоздей.
Так, наверно, и надо. Наш мир по-хозяйски сколочен.
Он стоит, как и прежде, на трёх исполинских китах.
И всё так же безумен, прекрасен и мелочно склочен...
И сезонно лысеет бугор на пригретых местах.
10
Ходят кругом ветра по смертельному этому миру,
ни сезонов не помнят, ни молью побитых ночей.
Лишь в кадетских каре расставляют года по ранжиру,
чтобы реяли лычки и грели ещё горячей.
Чтоб кругами повтора,
кругами,
кругами повтора,
по альтовой струне, по пороше, по волчьей гоньбе!
До последнего хрипа, а то до похабного ора —
о живущих и ждущих: о нас, обо мне, о тебе.
Чтобы видеть и знать, как обрушился август кудлатый,
как зерно прорастает, как женщина хочет любви.
По стране, по стерне, по дорогам судьбы-недоплаты,
лейкоцитного сбоя и внятного зова в крови!
Крупнотелая ночь раскрывает навстречу объятья.
Просыпаться до света с негаснущим всполохом щёк.
По стерне, по стране, нерождённые сёстры и братья!
Чтобы воля и доля, дождей утешительный щёлк...
Обращение в слух
Untitled
Понизовский Антон Владимирович родился в 1969 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Подлинные интервью, собранные в лечебных и торговых учреждениях РФ, были использованы в романе «Обращение в слух». Это первая публикация автора.
Текст печатается в сокращенном варианте. Сохранена авторская редакция.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
1. Рассказ незаконнорожденной
Жила семья — муж с женой. У них было трое дочерей.
Дочери постепенно замуж вышли, у них стали свои дети нарождаться. А это послевоенные годы. Тогда ведь мало сидели с детьми: немножко посидят — и сразу работать надо идти. И их мать стала ездить и каждой дочери помогала сидеть с внучатами. И так она детям своим помогала.
А в это время отец был один и жил со своей матерью. А хозяйство все держат же, огороды. Мать старая, и она, конечно, не управлялась со всеми этими делами домашними, с хозяйством: огороды и так далее… И вот так получилось, что моя мама и согрешила с этим мужчиной-то. И я родилась незаконная, так сказать.
Она помогала по хозяйству?
Да, этому мужчине она помогала, и в итоге я родилась.
И получилось так, что умерла вот эта его мать, и он сам после этого тяжело заболел. И приезжает его законная жена. Немного пожили — и он умирает. Отец-то мой. А я-то еще не родилась — я родилась, когда он уже умер.
И когда жена законная распродавала там дом, хозяйство — он уже умер, а мама пока беременная была — и, мама мне говорила, «она мне не дала даже рваных сапог». Но ей же тоже, жене-то законной, было морально и больно и обидно…
И вот мама меня в роддоме родила третьего января тысяча девятьсот пятидесятого года, а она сама с девятьсот восьмого, значит, ей было сорок два года, видите, уже возраст. А дома своего нет. Куда ей идти? И осталась она при этой районной больнице Пичаевской, село Пичаево, райцентр. Она там санитарочкой стала работать, и так немножко она там жила при больнице.
А потом ей пришлось оттуда уйти, и она стала ходить по селам побираться. Туда в село пойдет, в другое село пойдет, и я за ней в хвосте, в хвосте постоянно — хожу побираюсь вместе с ней. Вот это я помню уже. Что я всегда с ней в хвосте ходила. В тот дом пошли, в другой дом пошли…
И вот помню: сентябрь, убирают уже картошку… Стоит лошадь, на этой лошади мешки с картошкой привезли — почему-то вот этот момент мне запомнился. И там соседская женщина говорит: приезжали из детдома и сказали, чтобы тебя подготовить к детдому.
Вы помните этот момент?
Да-да, я помню: осень, и вот меня оформляют в Канищевский детский дом, Пичаевский район Тамбовской области. И я там четыре года училась. Там было очень хорошее место: плодовые деревья, сады, своя земля была у детдома, высаживали овощи, фрукты — и всем этим потом нас кормили. Вишня, яблоки — все свое у нас было. Капусту рубили: кочерыжку вырезали и бросали в такие корыта — и прямо штыковыми лопатами рубили эти кочаны наши там… Ну, на хранение, чтоб кормить нас в детдоме. Свои ульи были, мед качали, медку нам немножко давали… Мы обирали смородину, вишню, потом отдавали на кухню, там все это готовили, и варенье давали нам из наших фруктов.
Мама ко мне приезжала в детдом. Приедет, гостиничек привезет, побудет со мной, платьице какое-нибудь мне купит… И летом — три месяца каникулы, она возьмет меня, может, на недельку, — у кого она жила, я около нее побуду, — и опять она меня в детдом…
А потом на базе этого детского дома решили организовать туберкулезный санаторий — а нас, детдомовцев, разбросали по всем детдомам Тамбовской области. И я в свою очередь попала в станцию Умет, Уметский район тоже Тамбовской области.
И вот когда из Канищевского детского дома нас отвезли в станцию Умет, мы когда туда приехали, — а там новое здание построено, все на взгляд так добротно, все хорошо… но что-то у нас случилось в психике — вот когда мы уехали от директора, от завуча, от своих воспитателей… какой-то перелом у нас произошел, когда вот так резко нас взяли и из одного гнезда пересадили в другое гнездо… ну, как-то мы не почувствовали доброту нового коллектива. И мы озлились, мы стали убегать. Воровали хлеб, жгли этот хлеб на костре… Там посадки были недалеко от детдома, и вот в этих посадках костер разводили, на костре хлеб коптили и ели его…
А учебный процесс-то уже начался, уже сентябрь — а нас никто не соберет, мы в разбежку: станция рядом — сели поехали на Тамалу, Тамалу проехали — дальше поехали… Нас никак не соберут, мы, в общем, разболтались окончательно.
Тогда приехал наш директор, Яков Гаврилович, который был у нас в первом детдоме, в Канищевском. Всех нас, воспитанников своих, собрал…
Как сейчас помню, был хороший солнечный теплый день осенний, и мы пешком пошли к водоему: там река протекала, и вот мы пешком идем, ему все рассказываем, на всех жалуемся — как нас обидели, как нас не выслушали, как нам чего-то не помогли, — мы ему как отцу всё рассказываем. А путь длинный до речки, до водоема — наверное, километров пять. Идем рассказываем — и пришли на этот водоем. Помыли пшено, картошки начистили, наварили на костре каши, она дымком попахивает, мы сидим разговариваем…
И вот он нас как-то объединил. Наверное, он сам был воспитанник детского дома и в свою очередь обладал этим вот педагогическим талантом. Как-то отогрел он нам душу. И мы вернулись когда после этого в новый детдом, мы как-то уже стали мягче, стремились уже учиться, какие-то у нас другие проблемы стали появляться… А то мы ведь вообще неуправляемые были…
2. Тунерзейский квартет
— Не слышно ничего, — сказала девушка с татуировкой на шее.
— Сейчас исправим! — с готовностью откликнулся мужчина постарше. — Федор? Лёлечке плохо слышно.
Ухоженная темноволосая женщина, жена мужчины постарше, посмотрела на мужа, перевела взгляд на девушку, приподняла бровь, но смолчала.
Федор, молодой человек с мягкой русой бородкой, что-то подкручивал в портативном компьютере.
Просторная комната была наполнена предзакатным светом. Очень большое, чисто вымытое двухсветное окно открывало вид на котловину, на озеро и на горные цепи за озером. Над горами стояли розовые облака. Дымок поднимался от крыши соседнего дома в темно-голубое сказочное небо.
Федя регулировал звук в своем старом лэптопе и от волнения путал клавиши. Удивительные события завязались вокруг него в последние дни.
Будучи студентом, затем аспирантом, а в последнее время и помощником профессора в Universite de Fribourg, Федя уже седьмой год почти безвыездно жил в Швейцарии: жил очень скромно, даже, пожалуй, скудно — и одиноко.
Сложилось так, что в конце декабря он оказался здесь, в «Альпотелe Юнгфрау». Гостиница не была роскошной — в сущности, пансиончик на шесть номеров, — но все же гостиница, и курорт, и поразительные — даже по меркам Швейцарии — виды… И никогда раньше Феде не приходилось живать в гостинице одному, без отца.
«Альпотелем» приятные неожиданности не исчерпались. Два старых, еще московских, приятеля, с которыми Федор пытался поддерживать угасавшую переписку, — вдруг, впервые за шесть лет, воспользовались его приглашением. Очевидно, Федору следовало благодарить снежную тучу, которая в целости миновала Австрию и Италию, но обильно просыпалась над Швейцарией — и сразу после Нового года в Беатенберг нагрянула компания московских «доскеров». Федор был несказанно рад и растроган: так хорошо ему было в шумной компании, болтавшей по-русски… Но через несколько дней пришла необычная оттепель, маршрут снежных туч поменялся — и компания так же внезапно разъехалась по соседним альпийским державам. На день-полтора задержалась в Беатенберге одна суровая девушка Леля: ей нужно было скорее вернуться в Москву. С Лелей Федор раньше не был знаком, да и в эти дни они не сказали друг другу двух слов — но, выполняя долг гостеприимства, Федор проводил ее на автобусную станцию; проследил за покупкой билета в аэропорт… и вдруг выяснилось, что из-за вулкана рейсы по всей Европе отменены.
При всей своей независимости и суровости Леля все-таки оставалась девятнадцатилетней девушкой, на неизвестный срок застрявшей в чужой стране… словом, Федор счел своим долгом взять над нею опеку. В «Альпотеле» как раз оказалась свободная комната. Федя даже выговорил у хозяина небольшую скидку.
На шее у Лели, пониже правого уха, был вытатуирован штрих-код. Федору любопытно было, что бы это могло означать, — но при знакомстве он, разумеется, не спросил, — а дальше стало еще неудобнее: такой «персональный» вопрос (по-французски размышлял Федор) мог быть истолкован как флирт, — а у него не было намерения флиртовать с Лелей.
Правда, время от времени Феде казалось, будто от нее исходит некий — не физический, а какой-то общий, нравственный что ли, — запах чистоты, напоминающий запах свежего снега, и ощущение это ему нравилось и удивляло его — но внешне она его совсем не привлекала: всегда была одета в один и тот же бесформенный балахон и угги, ходила немного вразвалку... и главное, он никак не мог попасть с нею в тон. Леля вообще отличалась немногословностью, но даже когда что-нибудь говорила (обычно кратко), он ее не понимал: не понимал, зачем она говорит сейчас именно это; что имеет в виду; что чувствует, — и даже простой, «первый» смысл сказанного часто не понимал.
Вчера Федор повел ее ужинать в дешевый — может быть, самый дешевый в Беатенберге — кабачок Bode-Beizli, с грубыми лавками вместо стульев и длинными дощатыми столами. В виде декора здесь были развешаны допотопные лыжи, а под тарелки подкладывались листочки со схемами горных трасс и подъемников. В кабачке было шумно, по соседству братались итальянцы и, кажется, англичане… Вообще, Федору показалось, что вулкан привнес в курортный быт некоторое оживление.
Когда в очередной раз молчание затянулось, Федя стал создавать видимость светской беседы, пересказывая свое позапрошлогоднее сочинение о Достоевском. Леля слушала — или не слушала, Федя не понимал.
Итальянцы с шотландцами, пошатнув пару раз тяжелые лавки, кое-как выбрались, и Федор с Лелей остались за длинным столом одни. Тут-то и состоялось важное и неожиданное знакомство.
В кабачок вошла пара — семейная пара, муж и жена, как иногда бывает видно с первого взгляда: он — среднего роста, плотный, она — маленькая, очень собранная и ухоженная; оба одетые дорого и хорошо: вошли — и на пороге как-то замялись… Может быть, не ожидали встретить настолько простецкую обстановку: за открытой стойкой на кухне громко жарилось мясо; низкая комната была набита битком — кроме ближайшего стола, за которым сидели только Федор и Леля. Помявшись, вошедшие все-таки втиснулись по соседству, обменявшись с Федором осторожными полуулыбками.
Федор плохо определял чужой возраст: на первый взгляд ему показалось, что эти люди близки по возрасту к его родителям — но помоложе, то есть им лет по сорок или чуть меньше.
Меню, состоявшее из одной ламинированной страницы, вошедшие начали обсуждать по-русски. Брюнетка заказала воду без газа и Sprossensalat [1] , ее муж — мясо, пиво и кирш.
Федор по обычной своей застенчивости не решился вступить с соотечественниками в разговор. Поколебавшись, продолжил излагать Леле тезисы о Достоевском — и сразу почувствовал, что соседи прислушались.
Через короткое время Федор услышал, что слева к нему адресуются, причем каким-то ужасно знакомым образом: «А позволите ли… — начал сосед и сразу одернул себя, — нет, не так! А осмелюсь ли, милостивый государь, обратиться к вам с разговором приличным? ..» Федор повернулся — сосед весело улыбался ему: «Откуда цитата? помните?»
«Ах, он экзаменует всегда, невозможно!..» — воскликнула его жена, и Федя подумал, что люди они симпатичные.
Мужа звали Дмитрий Всеволодович Белявский, жену — Анна. Рукопожатие у Белявского было крепкое, теплое.
Выяснилось, что давным-давно, «при совке», Дмитрий Всеволодович и сам писал курсовую о Достоевском. Порадовались совпадению.
«Впрочем, — дипломатично оговорился Федя, — где, кроме Швейцарии, могут сойтись любители Достоевского?..»
«Какой у вас русский язык… необычный», — заметила Анна.
Федя пояснил, что, хотя в последние шесть с половиной лет он много читал по-русски, особенно классику, но современную разговорную речь подзабыл.
«Оно, может, и к лучшему?» — тут же вернула реплику Анна. Она вся была тонкая, острая, как струна: в ее присутствии Феде и самому захотелось выпрямить спину и произнести что-то сдержанно-остроумное.
Вероятно, знакомство и ограничилось бы маленьким разговором — тем более Леля уже как-то заерзала; Федор стал выбирать момент, чтоб откланяться, — но в кабачке произошло анекдотическое явление. Всем присутствовавшим оно показалось смешным и нелепым — но, как вспоминали по меньшей мере двое из очевидцев, без этого незначительного происшествия все дальнейшее — очень важное, самое важное для них двоих — не случилось бы.
Анна спросила Федора, что именно тот изучает в Швейцарии, какой предмет.
«Чтобы честно… Я несколько раз поменял факультеты, переходил…» — начал Федя, — и в этот момент на пороге (вход был низкий: приходилось даже чуть-чуть пригибаться под балкой) появилось семейство: отец, мать и долговязый подросток лет тринадцати или четырнадцати. Уставший, потный хозяин кабачка — краснолицый, с висячими, похожими на украинские, седыми усами, — пробегая мимо новоприбывших с подносом, ткнул в стол, ближайший ко входу — тот, за которым сидели Федор, Леля и двое их новых знакомцев. Семейство начало было опускаться на лавки, когда Федор продолжил: «Была славистика, компаративная культурология, теперь этнология по большей части…»
Лица новоприбывших выразили мгновенный ужас. Мать, сын и отец быстро переглянулись, и ужас сменился другим выражением, у каждого из троих собственным. Подросток изобразил нечто вроде сильной усталости, изнеможения; он даже слегка закатил глаза, как бы безмолвно стеная: «Ну во-от, опя-ать, сколько мо-ожно!..» Мать подростка взглянула на мужа с негодованием, как бы обвиняя его, мол: «Куда ты привел?!» Лицо мужа тоже выразило гнев, но с оттенком недоумения и досады: «Откуда я знал?» Как ошпаренное, семейство вскочило с лавок, отпрянуло обратно к двери, мужчина решительно крикнул: «Лец гоу!» [2] — и они вышли вон.
Федя вытаращил глаза. Леля фыркнула. Дмитрий Всеволодович громко и заразительно, с треском, захохотал. В этот момент Федина симпатия укрепилась. Его восхищала чужая способность испытывать и выражать эмоции бурно и непосредственно.
«Что это было, — ровно проговорила Анна. — Их напугала… компаративная культурология?»
«Нет, их русская… русская речь… напугала! — крикнул Дмитрий Всеволодович, хохоча. — Вы видали? Нет, ну видали?!»
Сквозь хохот он рассказал, что уже примечал эту семейку — в поезде, который возил лыжников, и на подъемнике, — и был убежден, что они тоже русские: точно, в поезде между собой эти трое общались по-русски!
«Я так и знала, — сказала Анна с упреком. — Ты им что-то такое выдал, как всегда...»
«Нет! Нет! Нет! — возмутился Белявский. — И близко не подходил! Они просто услышали русскую речь, им в падлу сидеть рядом с русскими; если русские — значит, плохой ресторан!..»
Белявский махнул хозяину, заказывая всем по пиву.
«Ну что за народ?! — булькая, еще сбиваясь на смех, продолжал Дмитрий Всеволодович, — в чем загадка? Почему любые какие-нибудь американцы, датчане, да кто угодно — радуются, когда встретят своих? чуть не обнимаются — да и обнимаются тоже — а русские друг от друга шарахаются, почему?!.»
Игрушечная обида — и все же обида, которая была им, всем вместе, нанесена, — и то оживление, в которое Дмитрий Всеволодович сразу же превратил эту обиду, — все эти быстрые общие переживания превратили сидящих за длинным столом из случайных соседей — почти в приятелей. Федору расхотелось прощаться. Выпили пива.
За пивом заговорили о «русской душе», о «загадке русской души» — и тут Федор произвел впечатление на новых знакомых. Уже много месяцев каждый день — и сегодня — и не далее как часа два назад — он занимался не чем иным, как — буквально! — загадкой русской души. И можно сказать, имел открытый доступ к этой загадке.
Научным руководителем Федора был Николя Хаас, профессор культурной антропологии... то есть антропологии национальной культуры… Федор немного запутался в терминах: название дисциплины, в которой блистал доктор Хаас, не имело точного русского перевода.
Если коротко пересказать Федину речь — теория доктора Хааса заключалась в следующем.
Чтобы понять национальный характер — не важно, русский, турецкий или швейцарский — т. е. именно чтобы понять «народную душу», «загадку народной души» — нужно было (по Хаасу) выслушать les recits libres («свободные повествования») подлинных «обладателей» или «носителей» этой самой «души», т. е. простых швейцарцев, или простых португальцев, или простых косоваров... Главное — с точки зрения д-ра Хааса — следовало организовать интервью таким образом, чтобы повествование (le recit) от начала и до конца оставалось «свободным» (libre) . Ни в коем случае интервьюеру не дозволялось влиять на ход разговора: разрешено было лишь поощрять говорящего («дальше, дальше», «ах, как интересно»), а также — при соблюдении ряда строгих ограничений (с французской дотошностью перечисленных Хаасом) — задавать «уточняющие» или «проясняющие» вопросы. Le narrateur (повествователь) должен был рассказывать исключительно то, что хотел сам; как хотел; и сколько хотел.
Другим «пунктиком» доктора Хааса была нелюбовь к рассказчикам-горожанам, и особенно к горожанам с высшим образованием. Профессор решительно предпочитал людей «простых», выросших на земле — желательно в глухой деревне.
Когда доктор Хаас наконец получил правительственный грант на сбор полутысячи образцов «свободного нарратива» в Сербии, в Боснии, в Косове, в Турции и в России, Федор обрадовался, что его вот-вот отправят в командировку на родину — но выяснилось, что гораздо дешевле нанять интервьюеров на месте.
Вокруг новой — еще не написанной — книги Николя Хааса завязалась дискуссия; особенно живо обсуждались темы, связанные с иммиграцией, «интеграцией» и т. п. Многочисленные помощники и аспиранты профессора «расшифровывали» интервью — то есть записывали слово в слово десятки часов непрерывного говорения; переводили многие сотни страниц с турецкого, сербского и т. д. на французский; пытались прокомментировать множество иностранных «реалий».
Федору досталась большая часть русского урожая. Четвертый месяц он расшифровывал, переводил, комментировал ежедневно, по много часов, до головной боли и черных мух перед глазами.
Помимо растущей усталости, Федор столкнулся и с более важной помехой. Некоторые отечественные «реалии» он, естественно, помнил с детских и школьных лет. О чем-то способен был догадаться интуитивно. Очень многое находил в интернете. Но все-таки Федя вырос в московской «интеллигентной» семье, а с восемнадцати лет вовсе жил за границей: «реалии», фигурировавшие в «свободном повествовании» пожилых русских людей из деревни, были ему самому ничуть не понятнее, чем его швейцарским профессорам.
А выполнить эту работу Федя стремился как можно лучше: не только из-за своей обычной дотошности и уж точно не из-за денег (деньги платились мизерные) — а потому, что лучших помощников профессор пообещал внести в список младших соавторов книги. Федино воображение рисовало его собственную фамилию рядом с громкой фамилией доктора Хааса — и раскрывало веер научных возможностей…
Выпив пива и набравшись смелости, Федя спросил своих новых знакомых, не согласятся ли те оказать ему помощь: вместе послушать записи; может быть, поделиться соображениями?..
Дмитрий Всеволодович, осушивший к этому времени полграфинчика кирша и пару больших кружек Rugenbrau, бурно заверил Федю, что они с Анной снабдят Федю такими исчерпывающими комментариями, что уже не Федя станет соавтором Хааса, а сам Хаас будет проситься, чтобы его втиснули после Федора мелким шрифтом! Отличная разминка для мозгов: все равно они с Анной давным-давно должны были вылететь из Женевы в Москву, а теперь застряли тут неизвестно на сколько, кататься на лыжах поднадоело, тем более начинается оттепель… — как нельзя кстати придутся «свободные рециталы»!
Федя пригласил Анну и Дмитрия в Alphotel и, стесняясь того, что он, студент, позволяет себе жить в курортной гостинице, принялся путано объяснять, что благодаря некоторым обстоятельствам его поселили почти бесплатно… Гостиница только что открыла свой первый сезон, она никому не известна и не заполнена… хотя, в сущности, очень хорошая, недорогая…
«Насколько недорогая?» — быстро уточнил Дмитрий Всеволодович и показался Феде трезвее, чем буквально минуту тому назад. Федя припомнил цены.
«Вы говорите, хорошая? И свободные комнаты есть?..»
Погода наутро выдалась солнечная, не январская, теплая. Эр и к, хозяин и управляющий, провел Белявских в большую гостиную (Эрик называл эту комнату salon а cheminee [3] в честь гигантского прокопченного доисторического камина). За двухсветным окном перед Дмитрием Всеволодовичем и Анной раскрылся вид на три самые знаменитые швейцарские горы — Эйгер, Мюнх и Юнгфрау; на озеро Тунерзее; развернулась вся панорама горных цепей за озером… Эрик упомянул, что Шильтхорн («видите? посередине») — снимался в «Джеймс-Бонде», и обратил внимание посетителей на идеальную пирамидальную форму горы Низен («вон, справа, справа…»).
«La plus belle vue de toute la Suisse…» («Лучший вид… лучшие виды в Швейцарии…» — перевел Федя.) «…А mon humble avis», — скромно добавил Эрик. («…Полагаю».)
По лестнице с толстыми буковыми ступеньками, не скрипевшими, а как будто позванивавшими при ходьбе, поднялись на второй этаж, осмотрели комнаты.
Молча спустились.
Переспросили названную накануне Федором цену.
«С завтраком?» — уточнил Белявский.
«Да, но, — Эрик посерьезнел, — есть некоторая проблема…»
Белявские, как показалось Феде, почувствовали облегчение: «Альпотель» оказался не столь пугающе безупречен.
«Камин нельзя разжигать! — Голос Эрика дрогнул. — Ремонтируя крышу, рабочие сдвинули кирпичи и нарушили прилегание…» (Федор с трудом перевел «прилегание».) «…Но есть надежда, что буквально на днях появится мастер — хороший мастер! — камину двести пятьдесят лет, эту работу нельзя доверить первому встречному — и можно будет разжечь… Пока что — нельзя».
Дмитрий Всеволодович разделил скорбь хозяина: «Да, это существенный недостаток… мы должны хорошенько подумать…» — и подмигнул Федору.
Таким образом Alphotel Jungfrau оказался полностью «русским». Дмитрий Всеволодович и Анна заняли самый большой сдвоенный номер на втором этаже; Леля тоже жила наверху, через комнату от Белявских; Федор внизу; два номера в эти дни пустовали.
На исходе дня, после того как Белявские накатались на лыжах, Леля — на сноуборде, а у Федора голова привычно распухла от многочасовой работы в наушниках, — все постояльцы «Юнгфрау» расселись вокруг каминного столика.
Дмитрий Всеволодович пожинал плоды своего артистизма. Разыграв перед Эриком мучительные сомнения, он все же — «была не была!» — сделал выбор в пользу «Альпотеля», хотя и с — «увы!» — неработающим камином. Теперь на старинном черном буфете, отгораживавшем собственно «каминный угол» от большой гостиной, была в качестве так называемого «комплимента» выставлена внушительная стеклянная чаша с griottes au kirsch [4] собственного производства. Тяжелая на вид жидкость сверкала темно-красными искрами.
— Ну попробуй, попробуй компотик! — подносил Дмитрий Всеволодович жене ложку с мочеными вишнями…
— Тьфу! Ди-ма! Это же водка!
— А как же? — веселился Белявский. — Специальный компотик! Выпивка и закуска в одном флаконе…
Дым, поднимавшийся в небо, сделался золотым на просвет; беленые стены комнаты приобрели теплый зефирный оттенок.
Федор долго выбирал, с какой записи начать, и остановился на самой своей любимой.
Бывало, что «расшифровки» давались мучительно — но речь этой женщины родом из-под Тамбова отличалась такой особенной внятностью, мерностью, рассудительностью, что Федор к ней прибегал как к лекарству: он расшифровывал записи этой Нины Васильевны, когда ни на что другое не оставалось сил. И все-таки даже настолько внятную речь приходилось прослушивать шесть, семь, восемь раз — так что Федор почти наизусть помнил все повороты сюжета. Теперь он следил за реакцией слушателей — так, как будто рассказывал сам.
3. Рассказ о матери
И находясь там в Канищевском детском доме и в Уметском интернате, мать ко мне туда приезжала. Она со мной связь поддерживала. Но я бывала у нее очень мало, потому что, во-первых, ей меня содержать было не на что, а во-вторых, и жить негде: она так и ходила по селам, по селам…
А когда я замуж выходила, я ее пригласила на свадьбу. Она на свадьбе очень переживала, плакала, что я замуж выхожу. Но мне уже было двадцать пять лет, я работала, материально ей помогала. Она ко мне приезжала, и мы пойдем с ней — я ей покупала и обувь, и одежду… Мы ткачами работали — норма обслуживания три станка, а я пять станков брала, я работала очень хорошо, отсюда в то время мы хорошо зарабатывали. Тем более кто хотел и у кого это спорилось. Поэтому я имела возможности и себя накормить, и учиться за эти средства, и мать содержать. Но она не в ущерб, как-то она не злоупотребляла. Она довольствовалась малым. Поэтому мне не трудно было ее тоже материально поддерживать…
А после свадьбы пришло письмо, что мать у меня тяжело заболела. Она жила в это время у одной женщины. И я выехала, и ее там нашла — она лежала парализованная…
Там вот как получилось. Одна женщина, монашка — она потеряла сына, он у нее утонул. И она взяла себе девочку, ну, такую… не очень здоровую в умственном развитии… и она ее поднимала. И этой девочке уже было пятьдесят лет, когда я приехала и узнала эту женщину-то. Эта монашка время от времени уезжала в крупные города: покупала свечи, покупала ложки, потом приезжала туда обратно в Пичаевский район и эти ложки-свечи продавала — такой приработок у нее был. А уезжая, она маму у себя оставляла, чтоб она печь протопила и чтобы за ней присмотрела, за этой пятидесятилетней женщиной. И вот в одну из поездок она поехала, эта монашка, а эта пятидесятилетняя женщина осталась вместе с моей мамой…
Вот я разыскала когда ее, свою маму-то, и увидела эту картину — мама лежит вся грязная на постели, а эта… не очень здоровая в умственном отношении женщина путем ничего не может сделать… (тяжело вздыхает) Она маму-то оставляла за ней присмотреть, а получилось наоборот — что эта больная смотрит за еще больней…
Я пошла нашла в этом селе фельдшера, с ним проконсультировалась, можно ли ее транспортировать в районную больницу или нет. Потому что я волновалась: вдруг в пути ей еще хуже будет? Фельдшер сказал, что ее транспортировать можно. Я выехала в район, пришла к главному врачу районной больницы, объяснила ему ситуацию. Что помочь некому, что я воспитанница детского дома, у меня тяжело больна мать, лежит в этом селе, с этой вот глупой женщиной, ухаживать за ней некому…
Он меня выслушал, вошел в мое положение, дал мне машину «скорую помощь», уазик, и я выехала в это село. Приехали — на госдороге есть дорога, а к селу не подъедешь. Там вот так идут посадки перпендикулярно асфальтовой дороге — и все забито снегом. И я пешком… ну, километра три, наверно, от госдороги — дошла, попросила там мужчину — у него лошадь: он запряг сани, и на санях мы ее довезли до госдороги, мать. Посадили в этот уазик… ну, не посадили, а на носилках… На уазике я ее привезла в больницу в Пичаевскую, в райцентр — и ее положила.
Паспортные данные я отдала главному врачу и сказала, что я ее не бросаю: ведь бывают такие случаи — бросили в больнице и все, правильно? Я ее не бросала, я дала все свои паспортные данные, объяснила, что я должна работать на фабрике, а тут такая накладка случилась…
Суббота-воскресенье — я ехала всегда в больницу, за ней там ухаживала и общалась с ней. У нее одна сторона отнялась, но она еще разговаривала со мной, общалась. У них там ванна — я на каталке ее подвезу, помою ее, покупаю, переодену, грязное белье заберу — и уезжала обратно в город работать.
И вот в одно прекрасное время среди недели меня вызывают на работе в отдел кадров и говорят, что ей стало хуже. Ее вторично парализовало, она уже не могла разговаривать, у ней язык отнялся — и тут меня уже окончательно отпустили с работы и дали больничный по уходу за тяжелобольной. И остаток времени я уже провела с ней рядом, в этой больнице в районной. Ухаживала за ней, как могла с ней общалась... И вот однажды за руку она меня обжала, одной рукой, которая у нее работала, она так сжала мне, и прямо на глазах у меня и ушла…
(пауза)
Там жили дальние-дальние родственники — я пошла, объяснила, что так и так — мама моя умерла, мне здесь обратиться не к кому, потому что я же там не жила, я в детдоме была, меня там никто не знает… И попросила по мере возможности помочь мне в похоронах. И вот эта женщина, тетя Лида, и дядя Семен — они мне помогли. Пригласили мужчин, гроб сделали при больнице, вырыли могилу — тетя Лида работала директором рынка в районном центре Пичаево. Я ей деньги дала, и она купила это… ну, на поминки всё… в общем, по-человечески мы ее помянули, похоронили: в церковь ее заносили, потом на кладбище похоронили, и там на кладбище я ей памятник поставила, и оградку, и каждый раз, когда мы туда приезжаем, первым делом иду к ней на кладбище.
Вот, казалось бы, она меня не воспитывала, а все равно вот… как вам сказать это… Родная кровь, что ли…
И, вы знаете, еще повезло мне, наверное, с мужем. Он всегда мне во всем помогает. Вот мать — казалось бы, она не помогала нам ничем, ни в чем… А тем не менее он все равно идет мне навстречу: мы с ним вместе едем, он там вырубает сорняк, оградку покрасит, так далее…
Вот у нас был директор в детдоме, Яков Гаврилович. Он всегда говорил нам: ребята, жизнь-то, она вас пошвыряет… (плачет)
И вот, казалось бы, сколько лет прошло… Пятнадцать лет мне было — и уже пятьдесят девять… (плачет) …а я эти слова помню.
И вы знаете, как по жизни бывает: так тебя к стенке прижмет — ну, думаешь, нету выхода. А потом — раз-раз, смотришь, все прокрутилось как-то, прокрутилось — и пошло опять своим чередом…
4. Пошл о
— Э-м… Как это называлось?.. — Анна чуть-чуть наморщила лоб, — когда ребенок рождался после смерти отца?.. Дима! Было какое-то специальное слово…
— А пусть с нами Леля поделится! — вдруг повернулся Белявский. — Кто тут у нас человек двадцать первого века? Было вам интересно?.. Смешно? Непонятно?
— Непонятно «посадки». Жарили хлеб в «посадках»…
— Возможно, роща?.. — предположил Федор. — Искусственная рощица?
— Не рощица, — отмахнулась Анна. — Посадки — это когда высаживают посреди поля, в рядочек…
— Лесополоса. Ну а все же, — не отступал Дмитрий Всеволодович, — перед вами, как было сказано, аутентичная русская душа. Вот она — и вот вы, успешная, юная, из абсолютно другой реальности: что-то вызвало внутренний отклик? Что-то запомнилось?
— Как убегали. Как хлеб жарили на костре.
— Вот! Во-от! — подхватил Дмитрий Всеволодович, — глядите: все хорошие воспоминания заякорены на жратве! Хлеб, каша, капуста в корыте: все в жизни хорошее связано со жратвой…
— Время голодное, — кивнула Анна.
— Простые потребности, примитивные. Пирамида потребностей. Федор, фиксируйте: у русского человека положительные воспоминания — о еде! Считайте, уже первое наблюдение…
Воодушевившись, Дмитрий Всеволодович направился к буфету, наполнил розетку «грийотками» — и вдруг воскликнул:
— Постума!
— Что? Что?
— Помнишь, Постум, у наместника сестрица… А, Федор? Худощавая, но с толстыми ногами… Родившийся «пост», после смерти отца. Мужчина — «постум». Женщина — «постума»! Хэ, помню еще кое-что…
И — вот идея, — продолжил Белявский, двигаясь с полной розеткой обратно к камину. — Мы собираемся слушать разных людей… Представьте, что все рассказы — от лица загадочной русской души. Все это нам рассказывает — она. Душа. На разные голоса. А? Ракурс? Русская душа себя называет незаконнорожденной — забавно?..
— Возможно, каждая… — пробормотал Федор чуть слышно, — каждая душа в некотором смысле — незаконнорожденная…
— …забавно? Не то, понимаете ли, от викингов, не то от татаро-монгол… Нищая! Родилась нищая. В детстве — нищая. В раннем тинейджерстве забирают в казенный дом . Пыталась оттуда сбежать. Хлеб насущный себе — воровала! Ела этот ворованный хлеб — в посадках … Символы! Одни символы. Незаконнорожденная — незаконная — нелегитимная. И вся жизнь ее, начиная с рождения — незаконная… Интересно? По-моему, интересно. Ань, какие твои ощущения?
— Э-м… Мои ощущения? — Анна завела глаза к потолку. — В первую очередь — ощущение тьмы…
То ли тьма прошлого… тьма происхождения… или тьма забытого детства…
В сельской больничке, в пятидесятом году, зимой… врачи пьяные с Нового года… по щелям дует, тощие одеялка со штампами… За окнами тьма…
— А я слышу, — поднял голову Федор, — рассказ про терпение и про общность. Не только «жратва», совсем нет, много больше «жратвы»! Вы заметили: кашу они варят — вместе; капусту рубят, ягоды собирают, хлеб на костре жарят — вместе…
— А как же! Вся жизнь в коллективе! Советские…
— …здесь почти «преломление хлеба»...
— С какой целью рубили капусту? — строго спросила Леля.
— Квасить...
— Видимо, чтобы в бочку побольше утрамбовать…
— Ну, ребята? — потер руки Белявский, — дело пошло? Сейчас разберемся с русской душой, всю разложим по косточкам! Давай, Федор! Эту дальше, другую, какую?
— Может быть, пока другую, для разнообразия — а к этой вернемся позже?..
— О’кей, о’кей, заводи агрегат!
5. Рассказ о разбитой бутылке
В четыре года я такая матершинница была, ой!.. В четыре годика, ага. Меня доярки учили. В подол конфет насыпят мне: «скажи так-то и так-то». Иду ругаюся — они смеются!.. Только к девяти, наверно, годам начала понимать, что это нехорошо.
А я и коров в четыре года доила. У меня две любимые были коровы — Краля и Люба. Сижу на стульчике — стульчик маленький — она через меня перешагнет, хвостом р-раз! — корова. А я на нее ругаюся: «Ах ты такая-такая, стой, твою мать, стоять!..» Под ней перелезу, опять дринь-дринь-дринь: пальчики маленькие, я выдаивала до капелюшечки просто! Руками доили, а как же. Доильные аппараты нам только годах в восьмидесятых начали ставить.
Вставали в четыре утра. Папа мне вязаночку маленькую сделает, она здесь вот такая широкая, а здесь кончик. И вот, значит, сенце сюда накладываешь, этот конец закидываешь, в этот сюда продеваешь и так — раз! — затягиваешь. И на себя. Ну, упаду иногда с этой вязанкой… (смеется) А сено когда начинаешь дергать — мыши оттуда ка-ак побегут! И я их вилами: тинь, тинь! Вилы — те бывают трехрожковые, а есть четырехрожковые, они помельче: я шустрая была, много насаживала этих мышей. Они: «и-и!» — пищат, бегают от меня, интересно… Мама очень боялась, она и до сих пор мышей боится у меня.
Теляток кормили: поильнички с сосками были, круглые, черные такие; а то пальчик сували — он пальчик заглотит тебе, так интересно! — выкармливали теляточек. При родах помогали вытягивали. Зимой холодно, а к теляткам прислонисся — так это тепло, молочком пахнет, ну, этим, молозивом еще, когда только родятся… Батон хлеба возьмешь, сиськи это — дрынь-дрынь-дрынь — на хлеб теплое молоко, наедимся… Вообще, в деревне легче было с этим вопросом.
А в десять лет я уже сама на группе работала, группа знаете что такое? — по двадцать, по двадцать одной, двадцать две коровы на каждую доярку, по двадцать, как говорится, голов. Здесь группа, здесь группа, друг против друга, а между ними проходы, ну где мы кормили ходили. У нас не было ни транспортера тогда, ничего: ходили сыпали… Ограждения были не деревянные, а бетонные такие. В этом проходе маму бык укатал. Большой бык, с кольцом, очень страшно было, конечно. Забежал туда — а здесь тупик, он ее и придавил в тупике, на рога прям, рогами грудную клетку помял. Хорошо, пастухи за кольцо схватили его, оттаскивали, еле оттащили от нее. В больнице даже отлежала… Неудобно делали тупики, конечно: нет чтобы сквозные делать.
Нет, это, конечно, надо было видеть ту жизнь… Сейчас даже в совхозе в этом, «Россия», ни фермы уже, ни коров, нич-чего не осталось. Я вот езжу, смотрю, как деревня гибнет — просто душа кровью обливается. Сколько полей зарастает, деревьями все заросло, березами, уже, конечно, ни один трактор не возьмет, выкорчевывать надо...
И у нас в деревне — осталось четыре дома: прилетит аист, никого нет… И ходит он как хозяин по этому по озерку, по болотцу по нашему...
А раньше — помню, на озерко, на речку ездили отдыхали. Все молодые, все любили…
Любили — а замуж никто не предлагал. Вот как-то солнышко встречали на Петров день, а я говорю: кто первый приедет, за того замуж выйду. Серьезного такого ничего как бы не было. Как посмеялась вроде того что.
Ну, естественно, муж-то на «Яве» вперед приехал. А Шурка на «Восходе» поехал, да «Восход» сломался, — пока на лошади прискакал…
И такие разборки со всех сторон начались! Сразу всем стала нужна: почему не за меня?.. почему не пошла замуж за этого, за того? А я ж говорю: никто руку и сердце-то не предлагал.
Муж мне потом уже после свадьбы рассказывал. Говорит, его стрелять хотели на плотине. Да-а! Застрелить хотели, «если на ней женишься». А он говорит: «Ну стреляй». А он такой спокойный: «Ну стреляй». А кто, так и не рассказал. В секрете. Я до сих пор и не знаю.
Хвалиться не буду — а волосы у меня тогда были длинные, густые, шика-арные: муж на «Яве», я на своем «Днепре» — красный «Днепр» у меня был, еду, волосы по сторонам распущу…
На мотоцикле я даже не знаю с какого возраста. Наверно, как руль начала держать, так и ездила, как себя помню. Конечно, там милиция ездиет иной раз. Но я ничего не боялась, никакой милиции. Ну, брошу я этот мотоцикл и скажу: «Ну и что?» Что они мне сделают-то? (смеется) Ну правда?
Лет с десяти тоже на трактор села, потом на бульдозер, на ЗИЛ, «Беларусь»… правда, на «Беларусе»-то я боялась, они кувыркучие… Затем что было у меня? ЛиАЗ автобус… а, МАЗ! Брат работал на МАЗе, вот это очень была интересная ситуация, хотите, вам расскажу?
Родился у брата сын — мой племянник. Ну, положено как? обмыть. А у нас в деревне нету. Значит, куда? в район. Там все же к Туле поближе, цивильнее: магазины… Поехали на трех МАЗах: брата моего, друга и там еще одного. И заехали по дороге в кафе, возле железнодорожной платформы — есть такая ветка, Калуга - Ряжск. А чт о мы заезжали в кафе, не помню… не то выпить… Короче, первая машина пришла раньше, а мы с братом попозже приехали. И когда мы приехали, они там уже чего-то зассорились. Ну, раньше ж ребята как? Одно село — другое село, встретились, кто-то чего-то не так сказал, не так посмотрел — и понеслась: «Мы вас будем ждать там-то…» — разборки. А я-то не знала, мне-то не говорят. Чего мне там, четырнадцать лет. Ну ладно, поехали дальше, приезжаем в район. Денег ровно на две бутылки. Ребята мне говорят: н а деньги, иди в магазин и заодно в машине возьми монтировку…
«Зачем?»
Не говорят. «Иди вот так, вкруг дома обойдешь, возьмешь, но чтоб тебя никто не видел».
А мне тогда родители пальто новое купили, красивое, бордовое такое, еще модные воротнички-то были… как они, мелкий мех-то… норочка, норочка! Шарфик так вот переплетался, волосы у меня всегда длинные мои, кудри… И, значит, вот так дорога, здесь магазин, а здесь дальше идет дом. И я не отсюда выхожу, а вокруг дома — гляжу, о-о-ой! у них уже потасовка! Брата моего двое бьют! И один как раз вытаскивает из сапога то ли отвертку, нож, что ли, или заточку, — что там раньше было у пацанов… Тут уж я, конечно, как заорала — бутылки две в одной руке, монтировка в другой руке: «А-а!!!.. — кричу матом, — поубиваю всех!!!» А бабы в подъезде стоят, говорят: «Там какая-то бешеная с ломом бежит». И затащили одного в подъезд, не пустили: «Чокнутая, — говорят, — какая-то с ломом бегает, она убьет», — это про меня… (смеется) А я хватаю эту бутылку и по голове ему — раз! — который хотел пырнуть! А мне брат потом рассказывает: чувствую, запах водки разлился… Как он заорет на меня: «Ты разбила бутылку полную?!» По нём же все потекло… А я горлышко от бутылки бросила, монтировку эту ему даю: «Давай!» — говорю…
А этот, который внизу был, схватил это горлышко и брату руку порезал! Мне брызнуло, шарфик-то мой в крови, всё, а брат как монтировкой этой начал его охаживать... Я испугалась, бежать!.. Прибегаю, залезла в МАЗ и поехала! Ну вот чего-то какой-то у меня испуг произошел: ну не знаю, что делать! Может, так у меня подсознание сработало: может, если они увидят сейчас, что МАЗ тронулся, может, бросят драться уже, побегут догонять, а то ж поубивают друг друга там… Короче, всё, на педали, через переезд переезжаю, метров через двести останавливаюсь, бросаю МАЗ — и на деревню бежать! Бегом, в слезах… А мама видит шарф-то этот в крови: «Ты где была?! — на меня: — хулиганка!..»
Вот такая была у нас эпопея. Но брату жизнь, может быть, и спасла…
Я когда за кого-то, все закипает сразу… Действительно говорят, что женщину лучше не трожь! (смеется) Ну не виновата я, что? Жизнь такая… Мама вон моя тоже — чего только ни делала: кирпичи клала, гаражи выкладывала, дома строила… Тоже и на грузовике ездила, на ЗИЛ у : отец напьется пьяный — ей везти молоко на молокозавод. Раньше не было молоковозов, возили во флягах — би т оны такие большие, битоны. С-под бугор спустится: «Ой, мужики-и!.. Выехайте в бугор, я боюся!..»
А потом мама с папой совсем разошлись — нас трое осталось, мама с нами одна… Папа-то был у нас очень такой… жестокий...
(пауза)
Жестокий. Не хочу даже вспоминать, неприятно. Ну и царство ему небесное, а плохо не говорят о покойниках, пусть уже успокоится на том свете.
А с мамой у них судьба интересная получилась: он второй раз женился, с кем встречался в молодости, — и мама второй раз сошлась, с кем тоже в молодости встречалась. Этот дядя Степа, отчим, забавный был у меня.
Приходит бабка, рядом жила в совхозе в этом как раз, в «России»:
«Ой, — грит, — Степ, у мене у коровы-то бородавки на сиськах. Ох!.. я дою, а она ж, зараза, мне хвостом и ногой...»
«Да ладно те, мать, — дядя Степа грит, — сходим щас, я тебе все бородавки у ней заговорю».
«Ой, да што что ты пойдешь, да куда ты пойдешь?..»
Пошел, обнял эту корову и давай ей в ухо шептать.
«Ты че, пьяный напилси, што ль, че ты корову-то мою обнял?!. Ой ты паразит! Да отстань от коровы-то от моей, да иди ты к лихоманке!..»
Проходит время, бабка пошла корову доить — а бородавок нет!
Пришла опять, говорит: «Бородавки пропали! Гляди: отвалились все бородавки! Черт, колдун!» — на него… Ну как это?..
Озорной тоже был… Частушки всегда сочинял на ходу. Сидит-сидит — и что-нибудь такое отмочит… Говорил: «Как помру — на моих похоронах чтоб не плакали, а песню мне исполнили!»
И на тракторе перевернулся, погиб. Гидравлика отказала. Может быть, он и жив был, а когда стали краном поднимать, уронили еще раз на крышу… Его кислотой обожгло всего, вылилось там это на него, кислота, сожгло все... Вот на похоронах и пришлось ему песню петь.
…Какую-то русскую песню, не помню, даже не буду врать…
А вот сейчас у мамы спрошу! Спрошу даже, ага, как раз мне надо…
(набирает номер, ждет)
Она на даче сейчас: погода хорошая… она у меня цветочница, цветы любит…
Ну вот, телефон, наверное, не взяла…
Щас сестре позвоню...
(набирает номер)
Светлан! слышь, лапуль, а какую наш отчим на… помнишь, когда дядь Степ… Свет, ты меня слышишь, нет?! Ты выйди... Алло?!.
Ну, щас недоступная будет, в душкомбинате этом... Ну, я ж говорю: «недоступен», ага.
Я говорю, он на ходу, дядя Степа: поют там чегой-то, а он молчит-молчит — хлоп! опять чего-то придумает, запоет… «Я купил себе часы, а они не тикают… интересно посмотреть, куда девки сикают!» (смеется) Настолько был юморной…
(звонит телефон)
Ну чего ты там недоступная? Это не у меня, это ты: (передразнивает) «извините, связь прервала-ась». Ну слышно терь или нет? А ты где была?!. ну ладно. Слушай, ты помнишь, когда дядю Степу-то хоронили? Ну, дядю Степу, отчима-то, Первухина! Не помнишь? Ой, а чего ты не помнишь-то? А-а. Я хотела вспомнить, какую песню-то пели. Он все говорил-то: «песню мне спеть». То ли «По Дону гуляет», нет, не «По Дону гуля…» Какую-то песню пели... …Да на даче где-то копает… Ну, ладно, давай, ага.
У мамки, говорит, спроси. Ага, вон спроси поди…
А когда хоронили, спрашивали даже: «Кого хоронят?» Было, наверное, человек сто: столовую сняли в Алексине, в самом городе: «Кого хоронят?»
«Тракториста».
Удивлялись даже, что столько народу — простого тракториста.
Вот так… Интересно было, конечно…
6. Заточка и кувыркучесть
— А теперь обратите внимание, господа, — поднял ложку Белявский, — как четко у них развивается тема. Сначала она боится ездить на тракторе… «Беларусь»? «Беларусь», да: «они падучие»…
— «Кувыркучие».
— Кувыркучие. Затем наступает следующий момент: грузовик. Мать боится выехать на бугор. Сразу представьте эту дорогу. И третье предупреждение — безупречно! по всем голливудским канонам: чинит трактор — уродует себе руку, делается «неправильная рука». «Человек с черной рукой», мементо мори.
И жирный финал: в тракторе — погибает! Логично? Логично.
Глядите: казалось бы, безобидные механизмы… трактор, какой-то там грузовик молочный с бидонами — становятся смертоносными! Нужно их укрощать. Как коня-огня. Тоже, кстати, для Федора тема: «Русские — и механизмы». Пойдет?
— Вы знаете, — сказал Федор, — в одной русской книге был поразительный эпизод: рассказывалось, что все подростки в русской деревне — все до одного разбивались на мотоциклах. Едва в деревенской семье появляются деньги, первым делом надо купить мотоцикл: на машину не может хватить, но хватает на мотоцикл. И на мотоцикле — по ямам, без освещения, без фонарей… безусловно, аварии… Я держу в голове описание девушки после аварии: девушек возят на заднем сиденье, поэтому она осталась жива, но со сломанным позвоночником. Одна в темной комнате — занавески закрыты — постоянно она вспоминает последний вечер перед аварией, снова, снова, все подробности повторяет в уме…
— Да, вот кстати про девушек: как тебе, — обратился Дмитрий Всеволодович к жене, — как тебе понравилась эта принцесса? «Кто первый прискачет, за того выйду замуж». И ведь знает, хитрая, у кого мощнее «движок»! Притворяется, что само собой получилось: «судьба», мол. А если по сути-то — дарвиновский отбор! Не рога, не копыта, не кулаки — а «движок» у кого мощнее!..
— Зверьки, — вдруг процедила Леля.
— Что? Что? — удивился Белявский.
— Зверушки. Резвятся. Или сидят за решеткой, — немного щурясь, пояснила Леля. — А вы — человечище. Натуралист…
— Резковато… — улыбнулся Дмитрий Всеволодович. — Зверьки, животные? Резковато… Но разница-то — ведь и правда очень большая.
— В чем разница?
— А давайте мы с вами, Леля, пошире поставим вопрос: в чем вообще разница между людьми? Я считаю — в потребностях, по Маслоу. Я считаю, что если потребности человеческие — значит, передо мной человек. А если потребности скотские — то животное! И не важно уже: за решеткой, не за решеткой, в вольере… Лучше бы за решеткой.
Все просто. Если в канаве валяется и мычит — животное. Если лакает дрянь, нюхает, не знаю, лижет, колет… — животное!
— Ага. Ясно. А вы человек.
— Я человек, пока я веду себя по-человечески. Если я буду каждое утро жрать ханку — я тоже быстро стану животным. Но я ведь не делаю это, так? Я не пропиваю последние деньги. Я не валяюсь пьяный с утра, как отец этой бабы, моя жена вместо меня не идет на работу. Я не учу трехлетних девочек материться. Я не ношу заточки и монтировки… Да, кстати, Лелечка: вы вообще знаете, что такое «заточка»?.. Не знаете? А вы, Федор? Заточка?
— Отточенный… как сказать… прут?
— Вот именно, так и сказать: металлический прут, заостренный прут. Или толстая проволока: срезают наискось проволоку, заостряют. А «монтировка»?
— Монтировка? Другой способ сказать… арматура?
— Нет, арматура — она и есть арматура. А монтировка — это изогнутый лом. Гвоздодер представляете? Вот, наподобие. Особенно умиляет, когда кто-то кого-то стал монтировкой охаживать. Нормально, Ань? «Охаживают» в бане веником, тряпкой, не знаю, крапивой, — а представляете себе, как «охаживают» железным ломом? Что такое «охаживать» — это значит наотмашь, слева, справа, куда он бьет этим ломом? Лежачего человека. По голове? По спине, да? Ломом. Что при этом делается с тем, кого охаживают? С черепом, если по голове? С лицевыми костями? И главное, так мягко, нежно: «охаживает», тю-тю-тю — это у нас игра, баловство…
— Вы неправильно слышите! — возразил Федор. — Вы слышите злобу, но здесь беспорядочность, а не злоба! В рассказе — давнее прошлое: уже нет никакой ненависти, нет злопамятства — это в нашем национальном характере: пьянство — да, разгул — да, — но ведь и отходчивость, и прощение: она чистосердечно смягчает, не помнит зла, она просто…
— Она просто дает в руки железный лом и — «давай»! А злобы нет, зачем? Убьем, искалечим, кости переломаем, а в душе-то мы добрые, православные! «Охаживаем» полегонечку ломиком… Мы шалим. Что-то было еще такое… «Зассорились», «ребятишки зассорились»… «Пацаны». «Что там у пацанов-то бывает?» Ножик, «ножичек», да? «Заточечка», «потасовочка», как по молодости-то обойтиться без потасовочек?.. Тю-тю-тю! Это мы так журчим, незлобивенько… И частушечки припеваем… Добрый такой народец, в душе…
— Все не то, — с недоумением сказала Леля. — При чем тут вообще это «добрый», не «добрый»… «прощаем»… Она вообще про другое.
— Вот интересно, Лелечка: про что же она рассказывает, по-вашему?
— Ну… про фан.
— Кто профан? Я профан?
— Нет, — усмехнулась Леля, — она говорит про свой fun … ну, про радость, про… реальную жизнь. Эти все монтировки — просто часть жизни, это у нее входит в нормальную жизнь…
— Так вот именно! — простонал Белявский. — Вот именно в этом и ужас, что такая и есть их нормальная жизнь! Вы глядите: родную мать у нее бык поднял на рога, чт о она говорит? Она говорит «неудобно проходы сделали, надо было сквозные делать». Это максимум, чт о у нее в голове, потолок!.. Бык — нормально, проходы вот неудобные!..
— А какую реакцию вы бы ждали? — нахмурившись, спросил Федор.
— Ну хоть какой-то минимум понимания... я не знаю, гражданского, что ли… хотя бы проблеск какой-то!
Ведь это взрослая женщина говорит: ей уже не четыре года, наверно? Может она в своей голове понимать, что это безумие абсолютное: трехлетние дети в двадцатом веке таскают сено, коров доят руками… пещерная жизнь!.. Поножовщина — вы правы, Лелечка: просто нормальное бытовое явление! Может человек посмотреть и сказать: бог ты мой, в чем же мы все живем?! Хоть один человек?..
— У меня есть такой человек, — сказал Федя. — Вы хотите послушать?
— Я — да, я послушаю, если дамы. Милые дамы, вы выдержите еще?
7. Рассказ о двухтавровой балке, или Dies irae [5]
Ну а чо вам рассказывать-то? За жизнь мою? А чего, сами не видите, жизнь какая? Видите? Вот и напишите Путину, и этому, медвежонку его, детсад - штаны на лямках… че он нам сделал, Путин этот? Сколько лет пробыл у власти, а чего он нам сделал? Только бензин подорожал да жизнь. Работаем за копейки. Вон, тридцать шестой километр сдали мост — заплатили двенадцать тысяч ребятам: как?!. Ты скажи мне, как это? Зима!.. Холод ихний, снег ихний, дождь, ихнее всё, ветер ихнее, холод, всё ихнее!.. А эта падла сидит — инженер, Рыбаков, главный инженер — и еще у него два заместителя! На хрена?! А получают по сто пятьдесят тысяч, и это только окла-ад! Плюс каждый квартал прогрессивка, шестьсот-семьсот тысяч: он получил — он покупает машину себе. Я носки себе реже меняю, чем он машины меняет. Я ему говорю: «Ты получил семьсот тысяч премию — отдай ребятам сто тыщ, премию дай на участок», а он мне: «Деньги людей по-ортят». Я в глаза ему говорю: вот начнется, будет тебе беда, — перешагну, руки не подам. Не подам! Или добью даже.
Понял?
До этой, енай ее, перестройки — все было по науке: все люди работали, все трудились. Затунеядничал? — раз, тебя милиционер останавливает: та-ак, ваши документики… Вы не работаете? пройдемте… Оп-па! давай, родной: не хочешь по натуре работать, как все люди? заставят! Тебя в ЛТП или еще куда принудиловкой отправляли, не давали людям слабину!
А сейчас чего? одна наркота у нас в Одинцово: зайди в каждый подъезд — везде шприцы! Безработных восемесят процентов, подъезды все... на этажах стоят — им деться некуда, у них энергия кипит! Они ж молодые, им покачаться надо ребятам — а качка одна сколько стоит? Девчонкам где-то собраться в обществе, в клуб прийти… но бесплатно! Бесплатно! здесь тебе — танцевальный, здесь — пианисты, здесь всё… а где? нет же этого ничего! Куда деваться? некуда.
Пришли к нам на стройку с наших домов, с Новоспортивного, — вон я живу, красные дома — пять ребят молодых, вот как Дениска, сварщики все. Ребята здоровые, молодые — дай только работу им, дай работу! Пахали месяц, а начальник участка им закрывает — двенадцать тыщ.
Они приходят: «Дядь-Кость, ты гляди, сколько он нам закрыл! И как ты думаешь, мы будем работать здесь? Каждый день рискуя упасть, или разбиться, или ногу сломать или руку, или изуродоваться…»
Я начальнику говорю: «Почему ты так закрываешь? Почему ты ему двенадцать тыщ? Ты смотри, они какой объем сделали!»
«А я не могу больше, мне сказал главный инженер, начальник управления — закрыть им по стольку». Всё!
Ну, и что остается нам? Руки прям… ну распускаются руки, не держат, к работе нет стремления! Внуково это, мы бы давно уже аэропорт этот построили. А им двенадцать-четырнадцать тысяч, ребятам: живут в вагончиках — ни поесть, ни помыться, ни умыться… Арматуру эту таскают, вяжут, бетон принимают… Мужика чуть не убило: краном балку поднимали, швеллер знаешь что такое, не знаешь? Во, балка металлическая. В белой каске прораб подбегает: «Давай быстрей, вира, мне кран нужен!» А он второпях, и как следует не зацепил… Балка пятьдесят пятая, таврушка, двухтавровая… Он ее на чалку-то зацепил, парнишка, а прораб: «А! быстрей давай… Вира! Давай ее!» — и не смотрит. Ну, тот ее поднял на высоту, поворот дает, а она и поехала… Она ж короткая, ее не зажала чалка, — она выпадывает, и мужику прям по голове — тчпок! Прям вот на глазах. Двадцать метров… тридцать… по голове... И что ты думал? даже машину не дали! Кое-кое-как начальник выдал машину, чтоб увезти мужика в деревню захоронить…
А на фуганке работал парень?! Ему прораб: «А, че стоишь, давай быстрей! Мне брусок надо пилить!..» А у нас пила, и фуганок тут же. Парнишка растерялся — ф-фух! — пальцы — щщух! — ни одного! А начальнику доложили — он наверху стоял, со всеми вот с прорабами этими, с мастерами, он знаешь чт о им сказал? Он сказал: «А, ладно, мяса еще наберем». Повернулся — пошел. Сел в машину — спокойно уехал.
И как смотреть на это все?
С простого народа… народу — чт о надо нам, знаешь, нет? Нужен мужик настоящий, чтоб поднял, повел: поднимемся все, вся Россия-матушка, всех мочить будем сподряд, всех! Не то что в Киргизии — похлеще будет! Пойдет брат на брата, от мала до велика подымется весь…
Как на улице ни соберемся ли, на работе — один разговор: где бы ни собирались, компанией там по пять, по шесть человек, один и тот же разговор: ждем… Ждем! Не один я, все мужики ждут, только бы чуть-чуть вспышнет, как вот в Киргизии… — всё! будем всех, не разбирая... и начиная с этого, с медвежонком его... Ему в детский сад ходить в машинки играть на песочке, а он в правительство залез! Что это значит? Это значит масоны. Что такое масоны, знаешь, ну? А-а... Ты на стройке видел еврея хоть одного? Покажи нам! Да он на третий день… на второй день сбежал бы оттудова! Или где ты, допустим, еврея видел рабочего? Или командует, или где-нибудь мастеришкой… Я их всех перевешал бы до одного. Потому что сами не живут и другим не дают. Вот чуть-чуть бы, вот только чуть-чуть бы вспышнет — да я бы с больной ногой пошел стрелять их всех! И жалости б не было.
Жалко, нету такого руководителя, чтоб завел, нету такого, как типа, наверное, Сталина, чтоб за Россию смотрел, за всеми, чтоб не давал никому ничего! Был Баркашов. Но он руку поднял, как фашист. А народу это не понравилось. А был бы путный… не медвежонок этот, сюсю-мусю, а мужик настоящий, чтоб за поколение, чтоб учить бесплатно, чтоб одевать, сады, всё… вы в метро ездите же, в электричках? Раньше за пять копеек едешь — все улыбаются, рассказывают чего-то, шутят друг с другом, все как-то идет... с весельем. А сейчас — бабушке не уступят, никому не уступят… Бабульки у нас — нищета! Отработали честно по тридцать — по сорок лет, приходит в магазин, смотрит-смотрит, смотрит-смотрит… «Ты че такое высматриваешь?» — «Да вот хотела колбаски взять, да у меня денег нет, не хватает…» Это же вообще, срамотища! И вся Россия такая. Люди уж до того… меж собой такая усобица идет… Попомните мои слова: год-два-три — все равно вспышнет! Всех мочить будем не разбирая, что под руку попадет.
А вот был бы телевизор, я бы ему сейчас в глаза это все сказал, и Путину, и Медведеву. Они мне… я жизнь, считай, прожил: они мне до лампочки, я их раньше-то не боялся и сейчас не боюсь. Горбачев приехал тогда, получил в Свердловске по мусалам — жалко, Медведь не приехал с Путиным, тоже бы получил, хоть и каратист он, это… как его... дзюдоист…
Ну, чего еще?
Вот, а ты говоришь…
8. Гипноз
— Ну что, Анька? Домик на Кипре? — вздохнул Белявский. — Или квартирка в Хорватии?
— Ага, страшно? — съязвила Леля.
— Да как сказать, Лелечка… Не то чтобы страшно, а…
Федя уже замечал у Лели гримаску… нет, даже слово «гримаска» было бы слишком сильным для маленького, еле заметного мимического движения… Можно было сказать «презрительно фыркнула», но никаким звуком это движение не сопровождалось: оно складывалось из легкого расширения ноздрей и почти незаметного наклона шеи — мол, «а-а, ну-ну», «говори-говори»…
Короче говоря, Леля фыркнула.
— …А вообще страшно, конечно, — признался Белявский. — И главное, безнадежно. Ничего тут не сделаешь. Ни-че-го. Только валить. Мотать. И чем дальше, тем лучше…
— Простите, Дмитрий, — возразил Федя, — но разве так решится проблема?
— Ка-кая проблема? — прищурился Дмитрий Всеволодович.
— Мы слышали: в первую голову — проблема несправедливости. Тяжелый труд — тоже, да; в ужасных условиях; нищета; но больнее всего мучит русскую душу, разъедает ее, отравляет — неравенство, несправедливость! Если взять исторически —
— Водка плохая ее отравляет, денатурат! Если взять исторически. А мучит русскую душу — похмелье! А на остальное плевать хотела русская историческая душа. С колокольни. Ах-ах, мировая несправедливость, замучен в тяжелой неволе… Дядя Степа ваш этот — кто по профессии?
— Электросварщик. Его зовут дядя Костя…
— Так. Электросварщик. А сколько лет уже сварщиком, не говорил?
— Да, говорил: он на стройке с семьдесят… первого, кажется, года...
— То есть сорок лет. На стройке сварщик. О’ке-эй. Теперь: кто у него вызывает самую сильную злобу?
— Путин?
— Дах если бы… Путин — это как раз было бы и неплохо… Только это он с вами непримиримый, а покажи ему Путина метров за пятьдесят — он обгадится, ляжет на брюхо, на брюхе к этому Путину поползет и будет вылизывать языком, пока не отгонят пинками… Нет, главный враг дяди Степы — не Путин, а «белые каски». Прорабы и мастера. Кто повыше — но на ступенечку, на ступенечку!.. Он и сам бы… и про себя понимает: ах, мог бы, мог бы ведь! Не машины менять, хоть носки… за сорок лет из рабочего можно подняться как-нибудь до прораба? Вы как сами думаете? Ему сколько, если он сорок лет работает… шестьдесят? Под шестьдесят? а он даже в прорабы не выбился: что, масоны не дали?
А я объясню. Помните, он изображает: «затунеядничал — в ЛТП»?.. ЛТП, Лелечка? Знаете? Ну конечно не знаете. При совке хронических алкоголиков отправляли в так называемый «лечебно-трудовой профилакторий», их там лечили — ну понятно, как там лечили — и заставляли работать. По сути, зона-лайт. Ставлю банку, что дядя Степа отметился!
— Почему? — возмутился Федя. — Почему вы с такой уверенностью —
— А вы не слышите эти блатные присадки? «В натуре, слышь», «падла» — но главное, сама манера — наезд, навал: а-а-а, вира, майна, давай, греби, что-нибудь да сработает! всё, блатная манера!
— Хорошо: возможно, он сидел в этом эль-тэ-пэ — но что меняется по существу? Он говорит про ужасные случаи на производстве...
— Щщух — пальцы — ни одного? Левая нога хрусть, балка чпок, голова как орех? Ой, я вас умоляю, Федя…
— Нет, не может быть!.. Он правду говорит! Вы пытаетесь сделать вид, что не слышите этой правды… Нет, нет, пожалуйста, дайте сказать! Если даже вы правы, если некоторые детали он приукрасил, но в глубине — ведь он прав?! В глубине ведь все просто, все очень просто!
Им плохо живется — а нам хорошо! Они нищие — мы богатые! Они плачущие — а мы смеющиеся, причем изощренно смеющиеся, издевательски над ними же и смеющиеся!.. подождите, позвольте договорить!.. Мы здесь с вами в Швейцарии, или на Кипре, или на Адриатике, или даже в России — но все равно — в благоустроенном доме, в хорошем автомобиле, мы сытые, мы довольные — а они на холоде: всё как он говорит, на снегу, на ветру… Это так просто: им плохо, а нам хорошо!
Мы не можем от этого убежать, мы не можем от этого отшутиться, потому что au fond … dans le fond, в глубине, в евангельской глубине — это крайне несправедливо, неправедно!..
Дмитрий Всеволодович аккуратно выдержал паузу:
— Вы закончили?
Федя перевел дух:
— Я закончил.
— В самом деле? — с иронией переспросил Дмитрий Всеволодович. — Я могу говорить? Мерси.
Однако сразу не стал ничего говорить, а помял пальцами подбородок, потом быстро потер подлокотник кресла, как будто стирая невидимое пятно…
Федя внимательно следил за пальцами Дмитрия Всеволодовича. Пальцы были крепкие — коротковатые, но хорошей формы, с круглыми, аккуратно подстриженными ногтями.
Сам Федор стеснялся своих длинных рук, и если делал жесты, то не нарочно, а только в забывчивости: и когда вдруг ловил себя на том, что неопределенно помавает в воздухе, то спохватывался и руки прятал.
А Дмитрий Всеволодович жестикулировал много и с удовольствием: поднимал палец, тыкал им, щелкал, потирал руки, — и все получалось ловко и выразительно.
— Раз уж мы собрались — крупные знатоки Достоевского… — усмехнулся Белявский. — Тогда я поиграю немножко в Федор-Михалыча. Помнят все «Легенду об инквизиторе»? Федя помнит, конечно… Вот странно: самая ведь беспомощная глава! Севилья какая-то, инквизитор… кошмар, вампука — и ведь считается многими: лучшее, что написал Достоевский…
— И сам Достоевский считал так, — добавил Федя.
— Ну, сам автор вообще никогда не знает, что написал, на ФедорМихалыча тут кивать нечего… Эта Севилья — ну ведь абсолютно картонная декорация: ночь пахнет лимоном, бледный старик — ну ведь опера, оперные злодеи, пародия! У Пушкина за полвека до этого в «Дон Гуане» уже перепевка Байрона, вторая свежесть, а у Федор-Михалыча — уже получается не вторая, а третья свежесть, лубок, пародия на пародию… зато «идея»!
Вообще, закон искусства: желаешь провести «идею» — рисуй лубок; а еще лучше бери готовый, к которому за полвека привыкли… А хочешь художественно — прощай любая идея…
Так что я по примеру Федор-Михалыча возьму лубок, чтобы стала ясна идея.
Что является современным лубком? Как вы думаете?..
Кино, конечно.
Вот и представьте кино полувековой давности. Шестидесятые годы. Неореализм… А может быть, даже раньше, пятидесятые: кино черно-белое, по экрану штришки… Или даже сороковые; а может, вообще немое кино.
Декорация: порт. Европа, какой-нибудь там Марсель. Или Гамбург. Марсель. Рядом с портом — дешевое кабаре… Нет, трактир — но с остатками кабаре — самое-самое что ни на есть дешевое — как сейчас бывает дешевый стриптиз… За столами матросы, шлюхи… Все пьяные, дым коромыслом, га-га… На сцене танцовщицы — тоже нетрезвые, некрасивые, третий сорт… Вместо портьеры — какая-то грязная тряпка… Номер кончается, перерыв, танцовщицы в перерыве пьют пиво с матросами, прямо тут же, за столиками — а в это время на сцену, пошатываясь, забирается гипнотизер. Тоже обрюзгший, опухший… Но кое-что помнит. Остатки былого искусства. Ищет кого-нибудь в зале, жертву себе… находит взглядом — студента. Не знаю, правда, как там оказался студент…
— А если, — предположил Федор, — это был юнга?
— Студент. Ну, заходят студенты в портовую забегаловку: дешево, чт о бы им не зайти? Студент с тонкой шеей, с юношеским румянцем… Его втаскивают, вталкивают на сцену. Гипнотизер делает пассы, пассы — и вводит студента в транс. Глаза закрываются у студента, на лице блуждающая улыбка…
И вот начинается самое главное. Гипнотизер вызывает на сцену самого жуткого отвратительного пропойцу — вонючего, грязного, сального, без зубов… а студент под гипнозом, он спит… Он уверен, что перед ним — прекрасная девушка: ангел света, бутон! Юноша прижимает руки к сердцу, бледнеет, краснеет, страдает, поет серенаду и наконец — тянется поцеловать… а вокруг га-га-га! Га-га-га! Страшный гогот, до сблева!..
Ясна аналогия? Сами чувства — прекрасны! Чувства студента — прекрасны. И ваши чувства — прекрасны. Только — неадекватны объекту… Понятно?
— Понятно… — Федор помрачнел. — Неясно только, кого у вас представляет гипнотизер…
— Да целая свора! Пожалуйста, вся «великая русская литература»… Да вон сам Достоевский — крупнейший гипнотизер! Дипломированный! Все его униженные-оскорбленные; нежные бледные проститутки; убийца, который целует родную почву и кланяется на четыре стороны — это же а-хи-не-я, гипноз!.. или самогипноз скорее, чувство вины…
— И все же — хотя я в бреду, по-вашему, с идиотским лицом...
— Почему с идиотским?! С прекрасным лицом, с живыми глазами, прозрачными… Вы на родине где найдете такие глаза? Вы мне с первого взгляда понравились — вы и Леля — вы мне симпатичны, и ваши чувства, я повторяю, мне симпатичны, я даже завидую — но объект, объект ваших чувств — не могу, не хочу уважать!..
— Ребяточки… — попыталась втесаться Анна.
— Нет, не верю! — страдая, воскликнул Федя. — Вы рисуете русский народ как пьяное сборище, гогот и проститутки… Вы видите унижение — и еще унижаете: это неправильно!..
— Что такое «неправильно»? — утомленно сказал Белявский.
— Мы, сытые и богатые, — будем жаждать и алкать, а они, плачущие и нищие, — возрадуются и воссмеются…
— Ой, вот не дай бог они воссмеются! Они та-ак воссмеются, мало вам не покажется!..
— Ребятки, брэк! — Анна встала.
— Вам с вашей швейцарской бородкой народовольческой…
— Брэк, я сказала! Дима!! Ты что завелся с пол-оборота? Что с тобой? Ты вообще как себя ведешь?
Федя… Федя, скажите мне… вот что: я ночью слышала самолеты —
— Аня, мы не договорили!.. — с неудовольствием сказал Дмитрий Всеволодович.
— Отлично вы договорили. И даже лишку. Как же так, Федя, не знаете? Кто у вас тут летает, если аэропорты закрыты?
— Э-э… — Федя не сразу собрался с мыслями. — Вероятно, мираж…
— Не мираж! Я слышала самолеты!
— Нет, нет, Mirages, военные… истребители. Здесь поблизости авиабаза, в Майрингене…
— Какие еще «Миражи»? — Дмитрий Всеволодович был раздосадован тем, что его перебили. — «Миражи» устарели сто лет…
— А разве можно летать, если вулканический пепел? — Анна по-прежнему адресовалась к Феде.
— У вояк свои нормы… — ворчливо сказал Белявский. — Своя техника безопасности…
— Уф, теперь все понятно. Дима, можно, мы улетим отсюда на истребителе?
— Улететь улетим. Но, боюсь, над границей нас встретят… И багаж в бомболюке побьется…
— Скажите, Федя: есть у вас что-то более… позитивное? Я устала от ужасов. Я хочу сказку на ночь. Есть у вас для меня сказка на ночь? Или про любовь? Или что-то смешное?
— Да, сказки есть, в своем роде... И про любовь…
— Ну а что же мы ужасы слушаем? Я хочу про любовь!
9. Рассказ о любви
Мене все хотели замуж, но я не шла.
Парень к матери подошел: «Отдай мне!» А я не дружила с ним, ничего. Матерь «не, — говорит, — Верка моя молодая еще», — мне восемнадцати не было, — «вот Пашеньку я б отдала». Ну, он и женился на ей, на сестре. Она и рукодельная была, и шила, и все, и вообще хорошая по характеру. Я была похворсистей такая. Хворсистее: любила это одеться получше, с ребятами погулять на вечерах. Но я честная была: я женихами верьтела, но я с ними не связывалась никогда: мы замуж честные выходили.
С Никольского тоже парень предлагал замуж, но… как-то еще мы мало дружили, и он такой гордый был… — и я тоже гордая была. Он после говорил: «Она очень гордая». Я гордая была девчонкой…
Ну вот. А больше всех, конечно, я Шурку любила Мухина, это с детства, эта самая любов, она с детства. Самый первый он у мене был жених. С Федосовки, от нас за речкой. Но он такой тиховатый был… — как по-деревенски, тихой такой парень был... А играл!.. — он гармонист хороший был, как заиграеть, а я любила плясать! я так плясала хорошо, не хвалясь. А он как заиграеть прям, ой… а я так плясала здорово…
Корову пасу, а сама все время песни пою, все думаю об нем: ой, господи...
Но вот видишь как — не судьба, как говорять, не судьба…
Его в армию забрали, Шурку-то, он был в армии.
А у мене был сосед, а братья — они любили его, соседа. Такой уже в годах был, порядочный такой, на шесть лет мене старше. Братья все за него. Ну, я с ним год продружила-то, а ощущения от него никакого не ощущала.
Раз «я поеду, — говорю, — в Москву» (я говорю).
«И я с тобой поеду!» (сосед) «Я токо с тобой до Москвы», — вишь, какой хитруля? Я токо до Москвы.
А я такая ему говорю: «Иди ты!.. не буду, да и не поеду я с тобой».
И он мене замуж звал, а я два раза ему говорила: «Не пойду я за тебя замуж. У тебе там семья большая…»
А надо ж было сказать: «Я тебя не люблю» — и все. Надо было прямо, вот щас же прямо говорят, в кино показывають и все… а мы что видели в деревне-то, господи? Война как раз… что мы видели? Ничего. А кино — привезуть какую-то кино темное, загородют, показывают… Что раньше было-то? Ничего.
«Вот, у тебе большая семья, не пойду за тебя замуж» — ну что это за отговорка такая?..
Как было. Приехала я на октябрьские в деревню — тут уж я приоделася в Москве-то, приехала в деревню, кофточка у мене голубенькая была… И узна ю , что он с армии приехал, Шурка, в отпуск, что ли, на праздники на октябрьские. Ой, думаю, ну как мне его увидеть?!. Как мне его хочется увидеть...
А брат мой ездил туда в Федосовку, он работал в колхозе там, за соломой или за сеном: «Я, — говорит, — Шуру видел».
Я говорю: «Что ж ты не сказал, что я здесь?! он бы пришел».
«А мне (вроде) с воза высоко, и неудобно было…» Ну, не сказал.
А ему осталось три дня всего, Шурке-то, — в армию уезжать. Ну, думаю, теперь уж он не придет. Наверное, разлюбил…
И как раз пришел за три дня!
А ехал далеко, там у нас речка разливается — далеко, — с другом приехал. А у нас девчонки в общежитии гуляли, я пришла, вижу — и он тута! Я, правда, сразу к нему подошла, и мы с ним договорились, и ушли гулять. А брат тута же был, и сосед — это за кого братья-то мои… Ну, мы с ним все-таки, с Шуркой, ушли: они походили-походили — нас нигде не нашли. Вот мы хитрые были!
А назавтра утром мы с ним, с Шуркой-то, назначили свидание у моей сестре.
А этот, сосед-то, как пришел в восемь утра, я еще спала. И не уходит сидит: никуда не деться от него. Вишь, хитрун. И не отстал от меня, и я не могла открутиться: как-то надо было спрятаться — да, вишь, некуда от него…
Вот щас я в годах уже, я б сказала: «иди ты на хрен, я тебе не люблю». А тада не могла сказать, мне как-то жалко, что ли, было, или совестно как-то сказать, что «я тебя не люблю»… Я же с ним год продружила, и… и не могла сказать, что «я тебя не люблю», ну как вот можно так человеку?.. Надо было сказать, можеть бы он и отстал…
А так, вишь, пристал ко мне — и никуда. И поехали с ним, с братьями к своим близким, ну, к деревенскым нашим, гулять. И там даже заночевали мы: все отдельно, ребята отдельно, а мы отдельно, и заночевали там.
А он, бедный, приехал к сестре, ждал-ждал, ждал-ждал… Шурка-то. Ждал-ждал, ждал-ждал — не дождался.
Назавтра приехал днем. С другом приехал. Вино они купили, вино. И я подружку пригласила. Ну, сели мы. И брат мой был один.
А друг-то говорит: «Ой, Верочка-Верочка, какая ты была хорошая…» — а, мол, вроде как будто я в Москве избаловалась.
А брат мой его подсмехаить: «А у вас там в Федосовке, — говорит, — коломники одни…» Ну, коломники — это которые палками дралися. Там у нас была драка с федосовскими, ну и палками… но это не все ж одинаковые, это там два брата были… нехорошие, в общем. Он подсмехаеть, брат-то, — он за соседа за этого. А ему завтра, Шурке-то, уходить...
И до утра до самого мы так с ним и просидели.
А он смирный такой… я ж чувствую, он любил меня: чувствуем мы друг друга-то.
Я ему стала говорить: «А я, может быть, буду тебе ждать еще...»
А ждать было немало, и годов мне было уже двадцать два.
«Я, можеть, прожду, — я ему говорю, — да ты меня не возьмешь...»
А он мне ничего не сказал на это. Постеснялся, наверно. Он хоть бы мне пообещал бы чего…
Ну и так он уехал, а я взяла да и подала заявку замуж выходить.
Он пишет мне, а я говорю: «Я выхожу замуж, больше ты мне не пиши».
Он пишет: «Не выходи, я с баяном приеду».
А я заявку уже подала… Так вот и вышла за свово мужа.
А он к матери, как пришел с армии, Шурка-то, форма хорошая у него была, к матери моей пришел сразу: «Я, — говорит, — дурак был, — говорит, — надо было с Веркой мне расписаться».
Дурак, говорит, был... как не дурак… тихой был…
И все. И ни разу его не видела… а хотелось мне!
Вот, бывало, встану, все равно об нем думаю; ложусь — все равно думаю об нем. И он обо мне, видно, всю жизнь думал, часто икалось мне. И я точно знаю, что он мене любил и меня все время хотел видеть.
Мой же брат хорошо его знал, рассказывал: Шура говорит, «хоть бы одним глазком на нее посмотреть».
А такой тихий, взял бы да и пришел! Подумаешь.
Ну, мой-то — вот мой бы заревновал (смеется) дай боже... Он на виду не ревновал, но куда я поеду — и он со мной едет, он меня не отпускал, боялся, что как бы я не бросила его.
Уже вот когда, перед смертью, он на меня говорит: «Чтоб ты туда через дорогу не ходила, а то я тебя убью!»
Я говорю: «А почему это?»
А он приревновал к одному — ой-х! ему пятьдесят с чем-то, пузо вот такое… Я говорю: «Да зачем я ему нужна? и он мне не нужен. Ты что, соображаешь?»
«Я видел, как он на тебе смотрел!»
Ну ладно. Пошла за молоком, смотрю, а он тащится туда за мной, еле-еле, уже ноги плохо ходили: думал, что я где-нибудь там гуляю…
Ну, говорю, ходи сам за молоком, я не буду ходить.
А как-то один раз было такое. Я с маленькам ребенком была, а молодая же была еще тогда, говорю: «Пойдем гулять?» — а он гулять не любитель был, не идет. «Пойдем, пойдем» — не идет. Ну, и взяла да пошла одна. И долго-то я не гуляла: только иду — и он уже выходит и как даст мне вот в щеку! Да, ударил, синяк у мене был даже.
Написала ему на разводку… не помню уже, или на суд, или на разводку, поехала к брату, написала брату записку: «Ты меня сдавал замуж, ты и живи. Я жить с ним не буду!» И уехала, его не было дома. А он назавтра приехал, брат, и поехали за грыбами с ним, с мужем моим, и забыл про мене! Етить твою налево! отдал меня замуж, а сам все равно с этим, с мужем с моим…
Поехала к тетке: «Тетк, — говорю, — я не буду с ним жить, я разойдусь от него». Она грит: «Да куда ты разойдесси, кто разойдесси? Он-то найдет, а ты? останесся с ребенком». Ну в общем, тетка не посоветовала, так я и простила ему. Он после, правда, меня никогда не ударил. Другой раз и можно б было, но — боялся…
Так вот и жизнь прошла.
Разойтиться, видишь ты, не так просто. Квартира была — это надо делиться, проблема тоже… А так вроде живешь и живешь.
Любить, конечно, его не любила, а так мы в достатке жили. Все вроде нормально было… а вот как бы для жизни — он нет, совсем не подходил. И как мужчина был совсем... только, бывало, залезет — минуту, и все, и уже нет ничего. Не подходил совсем. Если б любила я, может быть, как-то быстрей бы что-нибудь успевала, а то… так, кое-как…
Ну, не подходил он для мене. Может быть, полюбила, если б он мене удовлетворял бы, или как-то лаской или чем… но вот не было у него этого. Хоть и любил, но не было у него этого.
А вот тот, с тем бы я, конечно… ну кто его знает. Может быть.
Да нет, с ним бы я плохо не жила. Ну, выпивать бы, можеть, и выпивал бы — дак и мой стал к концу выпивать. А так хоть бы по молодости я бы почувствовала себя бы. А то так… так, кое-как.
Щас они, молодежь, стали умнее. Щас как они? заранее начинают жить: ну, не подошли друг другу, да и разошлись. По идее оно и правильно: разошлись — ну и не расписаны, и ничего, другого себе найдут. У нас-то по-другому жизнь была. Мы замуж честные выходили, разве можно было нечестной выйти?
И вот сколько я с подругами ни говорила, тоже не нравится вродя. Многие: не подходит вот то одно, то другое... То любви нет, то так нет, никакой ласки.
Вон как стали читать эти книжки… в книжках тоже, конечно, напишуть там — но все равно же есть: хорошо живут муж с женой, любят друг друга, все их устраивает, бывает такое… но у меня такого не было.
Не судьба…
А того всю жизнь любила, всю жизнь. И всю жизнь я думала о нем. Все время думала. И всю жизнь я хотела его увидеть… А щас уже куда я, беззубая, старая, и он уже старый, щас не хочу. Не судьба.
10. Чуточку
— Ну, — энергично начал Белявский, — эта история, я считаю, про ин…
— Дим, отложим до завтра.
— Устала?
— Не хочется портить.
— Да? Вам понравилось?! — загорелся Федя.
— Очень. Очень, — сказала Анна значительно. — Федя, спасибо вам.
— А что же сказка? вы не послушаете?
— Завтра.
— А загадка русской души? — спросил со своей стороны Белявский. — Анют?
— Все завтра.
— Ну, Федор, — встал Дмитрий Всеволодович, — держитесь! Завтра здесь же, часика в три - в четыре — решительный бой!..
Когда прощались, Анна — незаметно, естественно, — оказалась к Федору почти вплотную и, чуть привстав на цыпочки, — само собой разумеющимся, «светским» жестом — подставила щеку для поцелуя.
Федор замешкался от неожиданности — и, чтобы сократить образовавшуюся неловкую паузу, поспешил наклониться, но, будучи на полторы головы выше Анны, не рассчитал расстояние и с размаху сильно — сильнее, чем полагалось «по-светски», — ткнулся лицом в подставленную щеку и очень громко чмокнул в нее — сконфузился еще больше и даже слегка покраснел.
Анна невозмутимо взяла мужа под руку и, больше не посмотрев на Федора, поднялась вместе с Дмитрием Всеволодовичем на второй этаж.
В свое время описывая одну «светскую» ситуацию, классик выразился так: «Ничего не было ни необыкновенного, ни странного в том, что…» (произошло то-то и то-то), «…но всем это показалось странным. Более всех странно и нехорошо это показалось…» такому-то (или такой-то).
В данном случае было бы преувеличением утверждать, что секундный эпизод с поцелуем «всем показался странным» — хотя, действительно, внимание Дмитрия Всеволодовича и Лели зацепилось за этот эпизод, как за какой-то маленький заусенец. Дмитрий Всеволодович улыбнулся, Леля — нет.
Однако и для Белявского и для Лели впечатление могло быть только сторонним и зрительным, в то время как Федор продолжал ощущать на губах гладкость и сладковатый пудреный запах чужой щеки.
ВТОРОЙ ДЕНЬ
11. Молодые люди
— Нет, сегодня все будет иначе! — торжественно пообещал Федя.
Они с Лелей стояли у двухсветного окна «каминной». Темнело. После полудня на горы начали наползать облака.
Федор видел при входе лыжи: значит, Белявские уже вернулись с катания, — но вниз в назначенный час не спустились.
— Сегодня я дам отпор… Дмитрий — хороший человек, умный человек, но он актер, он позирует… С ним трудно спорить, но я сегодня поспорю. Моя проблема в том, что я почти разучился общаться с другими людьми…
Федя не знал, что он не «разучился», а никогда и не умел общаться с другими людьми. В лучшем случае он был способен общаться с теми словами, которые произносили другие люди. Слова — и написанные, и сказанные — Федор принимал на веру. Например, если бы некрасивая женщина сказала ему, что производит на всех неотразимое впечатление, Федор, скорее всего, сразу в это поверил бы.
Он любил размышлять, преимущественно на абстрактные темы, — но почти совсем не умел понимать мотивы чужих поступков, если об этих мотивах не говорилось прямыми словами и, главное, если чужие мотивы отличались от его собственных.
В сущности, Федор, не отдавая себе в этом отчета, жил в неомраченной уверенности, что другие люди — по крайней мере, все нормальные и разумные люди — думают то же самое, что и он; чувствуют то же; хотят того же. Он мог бы еще допустить, что другой человек не сумел или не успел додумать какую-нибудь витиеватую мысль (недавно выношенную самим Федором), — но был уверен, что если прямо сейчас выразить эту мысль словами, то всякий умный человек немедля с ним, с Федором, согласится.
Откуда взялась эта душевная неразвитость, неспособность к сочувствию?
Родители Федора — молодые, красивые и «успешные», занятые собой и своей карьерой — кое-как дотянули до Фединого окончания школы и с облегчением развелись. Отец, бизнесмен средней руки, отправил сына учиться в Швейцарию, дал сколько-то денег и счел свои родительские обязанности завершенными. Четыре учебных года как-то сами собой растянулись на пять, шесть…
Феде хотелось домой — но в Москве у него больше не было дома. У обоих родителей появились новые семьи и новые дети. Не было ни малейшего шанса найти в России работу по специальности, для которой по-русски не было даже названия, — в то время как здесь, в университетском Фрибуре, всегда подворачивались маленькие подработки и маячили тоже маленькие, но предсказуемые перспективы. Федор свыкся с размеренной жизнью и уже начинал побаиваться перемен.
Иногда — к счастью, редко — он чувствовал такое лютое одиночество, что готов был побежать по улице с криком или причинить себе какую-нибудь сильную боль — но справлялся. В этом смысле хорош был учебный график, все шесть с половиной лет не оставлявший продыху…
Еще Федор не знал о том, что именно его одиночество и неприкаянность (в сочетании, правда, с хорошим ростом, с приятными, хотя не вполне определенными чертами лица и, главным образом, в сочетании с выразительными, задумчивыми серо-голубыми глазами) обращали на него внимание женщин, особенно женщин старше него. Его хотелось пригреть, пожалеть — и в то же время растормошить.
«Технически» он не был девственником еще с московских времен — да и здесь, в Швейцарии, у него было несколько (быстро угасших) влюбленностей, но гораздо больше возможностей он не увидел — по той причине, что об этих возможностях ему не сказали словами .
И вот уж чего Федор не мог даже предположить — что своим королевским житьем в «Альпотеле» он был обязан в первую очередь не профессору Хаасу, а его жене Жюли.
Ранней осенью в честь начала семестра профессор пригласил всех сотрудников так называемой «лаборатории» к себе в гости на аперитив, apero . К вилле примыкал сад. Раздвижные двери в сад были прозрачными — сплошь, от пола до потолка.
Когда Федя, о чем-то, по обыкновению, задумавшись, со стаканом в руке выходил к пожелтевшим деревьям — вдруг со всего разгона ему в лоб ударило армированное стекло!
Несколько следующих секунд или даже минут выпали у него из памяти: следующее, что он помнил, было ведерко — скорее всего, серебряное — с розовым льдом. Федя сообразил, что лед розовый от его собственной крови. Впрочем, крови вытекло совсем немного, несколько капель, зато шишка на лбу надулась внушительная.
Эта шишка быстро прошла — но чуть выше лба, под корнями волос, осталось уплотнение наподобие шрама, и когда Федор физически напрягался или даже долго и напряженно о чем-то думал — в этом уплотнении чувствовалась пульсация крови.
Но главное (о чем Федя не подозревал), Жюли Хаас с того дня регулярно справлялась у мужа о «бедном мальчике», о здоровье «русского мальчика» — и однажды спросила у мужа, «отчего бы не отправить мальчика пожить на ферме?» . Доктор Хаас подумал и согласился: Федор, который всегда был безотказной рабочей лошадкой, в последнее время выглядел совершенно замученным; пожалуй, ему полезно было бы, не оставляя занятий, несколько отдышаться в горах.
«Фермой» в семье назывался старинный дом в Бернских Альпах — действительно бывшая ферма, несколько лет назад унаследованная Николя Хаасом и его младшим братом Эриком. После долгих юридических проволочек дом был перестроен в маленькую гостиницу, Эрик переехал в Беатенберг, и перед самым началом рождественского сезона гостиница наконец-то открылась.
Постояльцев в первую зиму было немного. Впрочем, договорились, что если гостиница заполняется, Федор переезжает к Эрику на «хозяйскую половину» — а если какой-то из номеров пустует, то Федор живет в этой комнате за символическую плату.
Федор побаивался, что будет Эрику в тягость, но тот отнесся к нему тепло и первым делом устроил подробнейшую экскурсию по всему дому…
— Ты знаешь, что это? — теперь в свою очередь спрашивал Федор у Лели, дотрагиваясь до черной балки. Горизонтальная балка тянулась вдоль стены на уровне Фединых глаз, и, соответственно, чуть выше Лелиного роста. — Бывший потолок! В восемнадцатом веке комнаты строили такими низкими для экономии — экономить тепло. И конечно, окна делали совсем малюсенькими… Здесь, у камина, была жилая комната — а там хлев… Сверху был сеновал… Старый дом здесь заканчивался: все, что дальше, от лестницы и за лестницей, — все пристроил Эрик. Теперь он говорит, что если бы прежде увидел счета за отопление, то два раза подумал бы сооружать такую большую гостиную… Он говорит, этот дом уникальный для Oberland … для Альпийского региона: бывает, строят модерные виллы с большими окнами — и есть исторические дома, там окна крохотные. А здесь старый дом, восемнадцатого века — и такое огромное окно в гостиной. Но зато, конечно, он очень, очень гордится видом…
За окнами быстро двигались клочковатые облака.
Пошел дождь. Потемнел, почернел ельник на склонах. На фоне гор наискосок снижался маленький винтовой самолетик, помигивал красный сигнал.
— Я думаю, если бы Эрик был местным, он не запланировал бы такую колоссальную комнату. Но он fribourgeois [6] , у нас все же более мягкие климатические кондиции… Я слышал даже, Эрик хотел положить пол из плитки — насилу отговорили. Они довольно упрямые, оба брата. К тому же Эрик, конечно, большой патриот: все должно быть именно так, как он привык во Фрибуре, лучшая кухня в мире — fribourgeoise … Но все-таки здешний альпийский дом, «ферму» — он очень любит. Очень гордится камином. Посмотри, сюда может въехать автомобиль. Не лимузин, но средних размеров — вполне… Видишь эти крюки? Здесь вешали туши, коптили… А этот буфет — Эрик называет его Le buffet rouge, «Красный буфет», хотя, видишь, он черный. Знаешь, почему такое несовпадение? Угадай. Он был выкрашен кровью. Раньше использовали для покраски животную кровь… кровь животных — свиней, коров… Очень старая мебель. Эрик рассказывает, что кровь оттирали песком и все равно не смогли до конца оттереть. Да-да, получается, под этой краской — кровь убиенных животных… А в вазе еще немало «компотика» для Дмитрия Всеволодовича… что-то он не идет?..
Федя уже привык к Лелиному молчанию — но по-прежнему не понимал, нравится ли ей его общество, или она вынужденно его терпит.
Когда один из московских приятелей (кажется, неравнодушный к Леле) случайно упомянул в разговоре, что Леле почти двадцать лет, Федор слегка удивился. При первом знакомстве ему показалось, что ей не больше шестнадцати. Впрочем, он плохо определял чужой возраст.
У Лели было чистое, кругловатое, почти детское лицо: круглые щеки, довольно пухлые губы… тем более странно выглядела татуировка (и сама по себе довольно загадочная) на нежной коже.
Пальчики у нее тоже были почти что детские, пухловатые… «Э, ты бы видел, как она рубится, — говорил Федин приятель, и в голосе его звучало нешуточное уважение: — Лелька киллер реальный…» («Киллером», как понял Федя, назывался такой сноубордист, чей стиль катания выделялся — даже на общем фоне — рискованностью и агрессивностью.) «Ты б сходил посмотреть?»
Федя, в отличие от своего отца, кататься почти не умел. Большинство швейцарских его сокурсников и коллег по лаборатории буквально с младенчества встали на лыжи; кататься для них было настолько же естественно, как, например, ходить в кедах или в ботинках; нечего было и думать с ними равняться; он и не пытался.
В последний день перед отъездом московских приятелей-сноубордистов Федя встретил их в холле гостиницы: «доскеры» возвращались с катания встрепанные, с красными лицами, с блестящими глазами; некоторые, переступив порог, сразу сбросили куртки и стали похожи на каких-то панцирных и пластинчатых ископаемых. Леля, которая была меньше всех ростом, напомнила ему черепашку в броне…
— Ну где они наконец?! — воскликнул Федя. — Уже почти пять часов! Я такие богатые записи подготовил… Хочу, чтобы Дмитрий оставил наконец свою позу. Он претендует, как будто не любит народ, к которому принадлежит, — но это невероятно… В конце концов, он не монстр, он живой, образованный человек… Неужели он променяет такое богатство на скучный Кипр? Непонятно. Я думаю, это поза, игра…
— Жена, — проговорила Леля сквозь зубы. — Ее идея.
— Да? Ты думаешь?.. — недоверчиво переспросил Федя. Ему такое в голову не приходило — но вот, слова были произнесены — и он сразу подумал: а может быть, правда?
— Без вариантов. Жена командует.
— Мне казалось, напротив: она и глубже, чем он, и тоньше… и неожиданней…
В этот самый момент зазвенели ступеньки, и на лестнице появились Белявские. Анна, раньше укладывавшая прическу с помощью сложной системы заколок, сегодня оставила свободный хвост. Волосы ее были влажными, она выглядела моложе.
— Ах, ах, прощенья просим! проспали! — воскликнула она весело. — Прилегли на минутку, смотрю на часы: ой-е-ей!..
Белявский молча переводил блестящие глазки с жены на Лелю, с Лели на Федора.
— Не пообедали, ничего… — посетовала Анна, уже подходя к каминному столику.
— Тогда, может быть, отложить? — вежливо, хотя и с разочарованием сказал Федор. — Лучше уж пообедайте…
— Не успеем, — откликнулась Анна и села. — Дима зарезервировал ужин на шесть. Табльдот. Ой-ей, мы вас не предупредили?! Фу, какие мы бестолковые. Федя, Леля, мы вас приглашаем. Федечка, вы обещали мне сказку!
12. Рассказ о встречах
Когда мне заболеть, у меня подруга в ресторане была, Зина. Мы с ней пятнадцать лет дружили. Касса у нас всё вместе, друг от друга никогда вот ни копеечки не украли, ничего. И очень она меня любила (ну как подругу), очень.
И вот раз мы сидим, мы обедать с трех до четырех закрывалися. Сидим, а она че-то приболела (она постарше меня на десять лет). И она говорит: «Рай, — говорит, — если я умру, то я, — грит, — буду стучаться, — (ну, шуткой грит), — стучаться буду к тебе».
Да-а?.. а вот слушай!
Говорит: «Я там без тебя не смогу».
«Да ты что, у меня четверо детей! Ты с ума сошла, что ли».
А у ней тоже трое. Ну, она постарше, у ней дети-то уже все были определенные. А у меня ж Маринка маленькая, я родила-то ее поздно. Вот. А она говорит: «Я там без тебя не смогу».
«Зин, да ты че, очертенела?» — я на нее прям вот так…
Ну и все, вроде шутка и шутка.
А потом она и умерла. Щас уже восемь лет. Ну, я и хоронила, и всё честь по чести, всё, и поминала, и так же вот и пощас: сажуся есть — и маму с папой, и всех там кого поминать своих… Даже не успеешь всех — говорю: помяни, Господи, всех моих сродичей всех по крови. А подружек надо так поминать, именами: и я ее, Зинку, всегда поминаю. А то забыла раз помянуть, и… ты слушай, слушай!
Снится она мне, значит, во сне… а так явственно!
Я иду вроде бы на свекл у тяпать. Раньше нас посылали на свеклу тяпать, и вот у меня там тяпочка, узелок это с молоком, с яйцами — с собой брали.
И речка. С этой стороны я иду, и девчонки все со мной с ресторана, и мы идем вдоль речки вроде работать.
А на том берегу сидит эта Зина, моя подруга, а около нее пустое место на травке. А через это место — сидит там, одну у нас соседку муж зарубил топором, Ельку. И вот она, Елька эта, там тоже с ней сидит, ее соседка. И там еще одна женщина умерла, эта, как ее… Люба звали, и муж ее этот, Эдик.
А Зинка мне прямо так, шумит мне: «Райк! я место тебе берегу, ты че там ходишь-то?» А я не почувствовала сразу, что она мертвая-то…
Да! а ноги-то у нее в воде! Ноги у нее в воде, ну, во сне-то…
А так явственно! Сидит — и мне прямо так…
Я ей: «Зин, да я тут не пройду, глыбако, как я к тебе пойду-то, вода холодная… переплывать — у меня продукты тут, намочу…»
А она: «А вон там немного мосточек обойдешь и сюда сразу придешь».
Я немного шагнула, шаг-два… — и вспомнила: «Ой-й! Она ж мертвая-то!..» И все соседи сидят — какие уже мертвецы!
И как начну с ней ругаться: «Ты чего ж, говорю, меня зовешь-то! Тебе чего, мою Маринку не жалко?! она еще маленькая!»
А она свое: «Я по тебе соскучилась, приходи…»
Тут я беру какие-то яйца из сумки, в нее вот так кидаю со злости, кидаю, ругаюся с ней во сне…
А она говорит: «Ну и ладно, ну и не надо тогда. Я другую себе тут подругу найду».
И очнулась.
А после этого я заболела оч сильно.
Я сюсюкаю-то почему. Семь часов операция была, наркоз-то: зубы эти были красивые — все повыпало, тут еще немного держатся, а там золотые повыскочили, там кошмар. Лысая была вся, щас отросло… Я год не вставала, лежала лежачая. Все руки были тут… потом их это… марлей, это… все в крови у меня было… ох…
Мне иконка одна помогла, Казанская божная мать. Или Тихоновская, по-моему… Она даже на столике там у меня была, в больнице на тумбочке, помогла мне, иконка.
И видите, как случилось. Как к слову она говорит: «Ой, как же я без тебя, не смогу…» Вроде шутка, а получилось вот так.
И потом стала стучаться мне. Ну, в окно: сплю — она стучится.
Я утром проснуся: у меня церковь — пять минут от меня ходьбы. Я с костылем прямо в церковь. Схожу, еще конфет там надо раздать, чтоб не снилось, раздам, всё, пришла, соседей к себе позову, еще ко мне подруга придет проведать, я чачу свою достану… Летом груш было много: груши, сахар — сосед армян научил: молоко банку, банку воды и вот эту… и в перегонке вторую делаешь — от молока остается просто такие пятнышки, все очищается: светлое, только немного грушей… О-о! нич-че на свете не надо. Вот ни коньяк тебе, ни дорогую водку за пятьсот, ничего. В ней шестьдесят, а пьется!.. ну как вам сказать, ее женщина даже выпьет пятьдесят грамм — сидишь, раскраснеисси… и такое вот ощущение — никогда ни голова не заболит, хоть ты ее перепей, хоть ты в доску ее напьесся!..
Да.
А что-то хотела еще… А! Про Зинку-то.
Значит, только забуду ее помянуть — стучит ходит в окно мне. Не просит ничего, ничего, просто в окно…
А я ей: «Зин, иди ради бога, ну че ты ко мне стучисси-то? Тут у меня, — говорю, — и так без тебя полон дом, иди отсюда!» — во сне начинаю ругаться с ней…
Ну а потом мне монашка одна помогла. Че-то там почитала, одна монашка там у нас. Она чето там почитала свое, и она больше не стала ко мне стучать… так просто, приснится во сне и все.
У нас очень церковь сильная в Дубов о м. Село Дубовое, Липецкая область, Чаплыгино, село Дубовое. Там у нас святой колодец. Лечебнай. Его в революцию закапывали тракторами, но он все равно пробивал. Щас там всё уже сделали, там и иконы, купаются там и всё. И хорошая экология. Москву не сравнить — Москва грязновата. У нас все с Москвы люди едут лечиться. Даже землю купить хотели, но там нельзя: святое, не продают. И церковь. Батюшка Валерьян — это просто!.. Он мне сказал: «Первую воду компот отваришь...» Нет, он не так говорил. «Когда была война в Афганистане, то брали не русскую кровь нашим солдатам, а брали украинскую, потому что она сильней, потому что они пьют сухофрукты. — Батюшка Валерьян. — Первую воду ты, значит, компот сливаешь, второй заливаешь и кипятишь, и вот эта вторая вода очень сильная для желудка». Вот, я придерживаюсь. У меня ягод много замороженных дома, и я придерживаюсь.
Вот такие дела…
Что-то еще хотела вам рассказать самое главное…
А! Отец-то приснился мне! Отец родной, уже десять лет его нет.
Он такой тихой у меня был, несмелый... контуженый весь, с войны-то. Мать-то у нас боевая. Она любила в глаза чего-нибудь высказать: у меня другой раз совести не хватает… Она тоже на фронте была, мама моя, у ней был летчик жених — разбился. Любовь была у них. Мама красивая у меня, но маленькая росточком: в ней всю жизнь шестьдесят килограмм.
Они с отцом в один день поженились. После войны-то мужчин — кто без ног, кто без рук, а тут целый, только контуженый: привели и сразу сосватали, через родню, ну как в деревнях-то… Самогоночка, хлеб напекли, и вся свадьба.
И вот помню, мы приезжаем к ним, лет, мож, восемнадцать назад, мож, семнадцать, давно: заходим, гостинцы... ой!.. Мама всегда: «Ой, детишки слетелися! Ой господи, какой праздник-то! девки, как хорошо-то, детишки мои все слетелись…»
А дед (отец мой) сидит на сундуке, тихо так… А лысый был, я гляжу: у него тут вот так, ободрано немножко. Я говорю: «Мам, че это отец-то ободранный? Подрался с кем?»
«Да ну его туда, глухая тяпка! Все настроение мне испортил!»
«Мам, че это ты?»
А сидит — платок хороший на ней, с цветами, кофта в горох, сидит такая: «Да не люблю всю жизнь! Не люблю и не по любви вышла. Я любила кого — он разбилси. Всю жизнь не люблю. Тяпка глухая…»
«Мам, а ты ведь так не говори! Тяпка-тяпка, а шесть человек-то нас р о дили?»
«Ой, девки, простите меня… В азарт войдешь — ничего не помнишь...» Ха-ха-ха-ха! Мы посейчас вспоминаем: «в азарт войдешь — ничего, грит, не помнишь…» Боевая такая была упокойница, царство небесное, папе это… Николая и Александры…
Ну вот. Я пригляделася: у отца-то полоски две от ногти. А никогда они не дралися. Не было у них, чтоб дралися между собой.
«Мам, — говорю, — да кто ж его так ободрал-то?»
«А-а, если б вы знали-то! Под старость лет с ума сошел: наркоматик стал!..»
Ребята его научили в деревне: сажали — как ее называется, наркоманческая такая… да, конопля, конопля! И отец насажал им за баней. А она разрослась выше крыши, красивейшая такая…
Мама говорит: «Что ж я, не знаю? раньше в деревне она росла, мы с ней пряли да ткали, половики конопляные, полотенца: я думаю — ладно, мож, чего к делу она пригодится или чего…»
А он обрезал, половину ребятам отдал, а половину высушил, нарубил, на чердак все занес — и потихоньку добавлять начал… А че? ему хорошо. Вино даже не надо пить.
Бабка заметила: «Что ж махорку не курят, какую я насажала, а курят какую-то эту длинную...» Смотрит, что он какой-то… Ну, думает, это, мож, потому что старый, да и контуженый весь, с войны-то...
А как догадалась: «Ой-х! Ты погляди?! То молодежь курит, а этот с ума сошел, ну вообще! Наркоматик! Я ему лысину-то ободрала, будет знать! И спожгла у него всю эту структуру…»
Ну и всё, после этого дед не прикоснулся.
Другой раз приезжаем: всё тихо-мирно… Я деду всегда брала, отцу-то, бутылочку: перцовочку он любил, и «Стрелецкая» была раньше тоже. За колодец поставлю в крепиву, чтобы никто не лазил, руки-то не крепил.
Подхожу, моргаю отцу: «Там за колодцем-то, как обычно… шнапс».
Он улыбается, прям улыбается весь сидит… Пока мама на стол соберет нам садиться, он тихо пойдет туда, раз — и выпьет.
А мама: «О-о-ой!.. Эй-т, ты где это махнул-то?!.»
Сидит, молчит, улыбается… Он вообще такой смирный был…
«Ну тюлень, ох тюл-лень!.. тихой, глянь — где-то уже махнул!.. Ведь вот даже в навоз закапывала, в навоз бутылку! И там — ведь надо ж было, нашел!..»
Ну, он не алкаш какой-нибудь был: он работал, на печах клал, и крыши крыл, и дома, и срубы рубил, и конюшни, то, это — ну, на все руки. А выпить-то… в деревнях все ж такие…
Вот и снится он мне теперь во сне, дед, отец-то этот мой.
Выходит в сенцы меня встречать в голубой куртке: это у него в последнее время была болоньевая. Открыл двери, а сам отворачивается от меня.
Я говорю: «Папань, ты чего меня не встречаешь-то?»
Он молчит.
«Ты меня че не встречаешь-то, а?!» — говорю. Молчит. Ну, тут я догадалась: «Ах! Выпить-то я тебе забыла купить!..»
Он прямо так улыбнулся: мол, «да…» — и ушел в ту дверь: там двойная дверь, в деревнях-то…
Я скорей покупать да скорей поминать… мужу говорю, там еще судья в гости пришел, говорю: «Выпейте, ради бога, немножко, он там хочет, наверное, выпить-то…»
Видите, сны-то!
А говорят: «На свете вроде не-ет ничего…» Всё есть.
А как же. Всё есть.
13. Ключ
— «Всё есть», — крякнул Белявский. — Да, Федор... вы это не стирайте смотрите. Тут у вас просто памятники настоящие! Что дядя Степа, что эта — «второй компот сильный», «батюшка Валерьян»… Я слушал-слушал: какая же это эпоха, по европейским меркам? Сперва думаю: Средневековье? Нет, как дошло до компота — нет, все-таки первобытная хтонь: души предков… Представьте: русская степь, курган и на кургане — каменная баба. Она и есть, она и рассказывает, эта самая каменная б а б а! — вкусно повторил Дмитрий Всеволодович.
Федор насупился:
— Почему вы считаете, что «первобытная»? Я согласен, она необразованный человек, но она ходит в церковь…
— Зачем?
— Затем же, зачем и все, зачем и я…
— Э, позвольте! Вы — современный мыслящий человек, вы читали каких-то святых отцов, толкования на священный завет и так далее. А баба ходит — свечку поставить, тут пошептать, там покропить, покрестить, помахать, помакать…
— Вы слишком сильно идете здесь… вы сгущаете! — возразил Федор. — Вы правы, она неточно проводит границу между священным и бытовым, но…
— Какая граница? — расхохотался Белявский, — бог с вами! Вот сильная церковь: раздать конфет, чтоб не снилось. Святой колодец: макнуться. Компот: первый слить, второй отварить, проварить… Это у вас граница между святым и профанным, а у нее все цельное, целиковое, как литая болванка...
— Не болванка совсем, а живая душа — но простая душа, поэтому и вера тоже — простая!..
— Ну вот я и говорю: простая. Точней, примитивная. Первобытная…
— Если копнуть, — сказала Анна небрежно, — если копнуть, то у всех первобытная…
— Да, естественно! — согласился Белявский, — весь вопрос только в том, сколько надо копать. В чем вообще смысл цивилизации? В культурном слое. Он нарастает. Но медленно нарастает, веками, эонами… У Федора один слой — компаративная этимология. А у каменной бабы — другой слой. Точней, не слой, а пыльца, пудра: ф-фух! — и нету слоя, чистый палеолит! Вы думаете, — обратился он к Федору, — вы в одно здание ходите, значит, у вас с этим народом общая церковь? Ха-ха. У вас — святые отцы и Никейский догмат. А у народа — конкретное вуду! Хотите к народу — прощайтесь с отцами. Бейте в бубен, не знаю, сливайте компот…
— Дмитрий Всеволодович… — сменил тактику Федор. Он быстро побегал по клавиатуре. — Дмитрий, помните притчу о плевелах?
— Нет, не помню, — ответил Белявский с некоторой надменностью.
— Позволите, я отниму две минуты?
— Сделайте одолжение.
Федор приблизил лицо к экрану:
— «Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы, и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
— Так, прекрасная притча, — одобрил Белявский. — И что?
— Вера тоже бывает неоднородной. — Федор постарался придать голосу максимальную убедительность. — Есть чистое зерно, чистый хлеб слова Божьего. Но есть также и плевелы — суеверия. Если сразу их выполоть, можно выдернуть вместе с ними зерно…
— Да ведь тут не зерно! — засмеялся Белявский, — не путайте, Федя, зерно — оно, может, у вас зерно, а у них просто какой-то Мичурин! гибридный сорт!..
— Слушайте, мистика! — перебила Анна. — О хлебе — и сразу еду понесли...
Все расположились за большим столом у окна: Дмитрий Всеволодович напротив жены, рядом с Лелей; Федор, соответственно, рядом с Анной. Разрумянившийся от кухонного жара Эрик и его помощник — невозмутимый светловолосый атлет с серьгой — расставляли закуски а la fribourgeoise: густой молочный суп с картошкой, шпинатом и белой крапивой; салат из томленой моркови; пирог с шукрутой — и, разумеется, сыр грюйер во всех видах: порезанный палочками и завернутый в бекон; взбитый в суфле; запеченный в ramequin (керамической чашке), и он же — в пироге, в салате, в молочном супе…
— Assez [7] , assez! — испуганно вскричала Анна, когда Эрик щедро отрезал ей пирога. — Дима, возьми у меня…
Федор скованно перекрестился и начал есть.
Белявский встряхнул темно-красную тканую салфетку:
— Ну что, коллеги? Мы выполнили задачу!
— Уже?
— Путешествие к центру души состоялось. Загадка — разгадана!
— Давай, просвети… — предложила Анна, но как-то не слишком охотно.
— Э не-ет, мне интересно сначала послушать ва-ас!.. — лукаво пропел Белявский, цепляя на вилку грюйерный рулет: — Ваши версии?
Вот — на данный момент мы имеем семь персонажей. Отдадим должное нашему… Федору: есть палитра. Все разные — но все семеро четко подводятся под один знаменатель. Вопрос: под какой? Есть ответ?
— Как ты любишь экзамены, — вздохнула Анна. — Есть много ответов…
— Так, так? Эрик, — обратился Белявский к хозяину, появившемуся с новым дымящимся блюдом, — кен ю гив пейпа? Райт? — Дмитрий Всеволодович перешел на язык жестов: — Райт? Пейпа? Пен?
Федор пришел ему на помощь, повторив просьбу по-французски.
— Пенсил?.. — не сдавался Дмитрий Всеволодович. — Я буду фиксировать!
— Э-м… Что прежде всего поражает — отсутствие мучика…
— Мученика? — не понял Федя.
— «Мучик» — это «мужчина», — перевел Белявский. — На Анином языке. «Жечка» — «женщина». Анна Вадимовна у нас крупный специалист по гендерным отношениям, социальным… Анна Вадимовна у нас человек государственный. Я-то мелочь, по мелочи помогаю Анне Вадимовне…
— Мучик в русской семье, — невозмутимо продолжила Анна, — потерянное звено.
Он ушел… причем ушел как можно быстрее, пока ребенок маленький, так что жека воспитывает ребенка сама. Сама кормит, сама обеспечивает, сама ростит …
Если он не ушел — значит, умер. Сам умер — как в первой истории, от болезни: от сердца, от рака, от туберкулеза… Погиб — в тракторе перевернулся. В драке зарезали, застрелили, на стройке упала балка. Погиб на войне.
Но даже если мучик остался в семье, все равно его нет. Жека — вот она, рулит: платок в цветах, кофта в горох, — она в доме хозяйка! А мучик где? Да где-то сбоку припеку, на сундучке, с ободранной лысиной: бутылку сунули ему — он доволен. Как соску…
Дмитрий Всеволодович, сидевший напротив Анны и рядом с Лелей, наклонился к уху своей соседки (как будто из вежливости — чтобы не перебивать жену) и тихо что-то сказал или спросил.
Анна приподняла подбородок — и ее голос тоже зазвучал несколько выше:
— Затем жека едет в Москву. Из деревни, из Липецка, из Тамбова; первопроходец — она! Завоеватель — она…
— Как pelerinage! [8] — Федя увлекся сравнением. — Как… странствующий рыцарь!..
— Странствующая рыцарь. Она — рыцарь, она странствует и воюет — он дома прядет… то есть пьет, то есть соску сосет.
Но однажды она возвращается. В голубой кофточке. В ореоле. «С Москвы!» Она в центре внимания, на ней отблеск цивилизации…
— Тепло, тепло!.. — подал голос Белявский.
— И, вернувшись, что она получает как приз? Что она завоевала в итоге странствий? Мучика. Обратили внимание? мучик моложе ее на три года. Это статистика: чаще и чаще мужья — младше жен. И не у творческой интеллигенции, а в самом что ни на есть суконно-посконном народе. Как думаете, почему?
Потому что мучик быстро приходит в негодность. Он пьет. Он болеет. Его надо брать, пока еще что-то шевелится, — то есть теплого из-под мамки. Жека больше не выходит за -муж, за большого и сильного мужа — наоборот, она мужа берет под себя, подбирает: по сути, усыновляет мучика как ребенка…
— Горячо! — тыкнул вилкой Белявский, энергично разделывавший эскалоп. — Что-то еще у тебя, Ань?.. Все? Федор!
Федор глянул на Дмитрия Всеволодовича исподлобья.
— Я боюсь, что мы слишком… — заговорил он с некоторой запинкой, — боюсь, что вы смотрите на поверхность, одну поверхность — в то время как сущность кроется в глубине… Россию вы видите в первую очередь как страдающую. И вы правы: церковь тоже молится о России как о «многострадальной». Но также и «богохранимой»…
— Какой-какой?
— Богохранимой, — как можно тверже повторил Федор. — Россия — страна богохранимая.
— Как-то посредственно она «хранимая»… — хмыкнул Дмитрий Всеволодович.
— А в чем это проявляется, Федя? — внимательно уточнила Анна.
— В Православии. В вере. В терпении. В простоте. В Божьей искре…
— Федя, вы говорите «в терпении», — мягко прервала Анна. — Но по опросам — я видела в том числе и закрытые данные — больше трети российских жителей эмигрируют, если им предоставят такую возможность. Если брать образованных горожан трудоспособного возраста — больше пятидесяти процентов. Вы видите здесь «терпение»?
— Во-во, — подключился и Дмитрий Всеволодович, — что это за «богохранимое» государство, откуда все население хочет свалить? Храним для кого? Для китайцев?
— Боюсь, — не отступал Федя, — у ваших выводов ненадежная база: представьте, что к вам с опросным листком подходят на улице — разве станете вы исповедовать глубину? Совершенно напротив: эту внутреннюю глубину каждый истинный русский ревностно бережет! чтобы не загрязнить тот источник живой воды, который в этой глубине испокон веков бьет и никогда не иссякнет!..
Дмитрий Всеволодович закряхтел.
Анна, до сих пор довольно сочувственно слушавшая Федора, тоже как-то пригорюнилась.
Леля неподвижно созерцала огни, загоревшиеся на горах.
— Нелегко дискутировать, — развел руками Белявский, — получая в ответ на статистику проповедь за живоносный источник… Ну ладно. В конце концов, тоже позиция — она понятна. Теперь — Энигма!
Федя взглянул непонимающе.
— Ну кто тут у нас самый энигматический? Лель, скажи нам: в чем тайна русской души?
— Понятия не имею, — фыркнула Леля.
— Не спеши… — улыбнулся Белявский:
Нет, ты погоди, не спеши,
Ты погоди, не спеши,
Ты погоди, не спеши
Дать от-вет!
Жаль, что на свете
Всего только два слова,
Всего только два слова,
Всего «Да» и «Н-нет»!
Помните такую песню? Миронов пел… Ответь, Энигма!
— Мне сказать нечего, — повторила Леля.
Федю вдруг взяло зло — и на глупую песню, и на «Энигму», — причем разозлился он почему-то на Лелю, а не на Белявского.
—Ты согласна со мной? — Он подался вперед. — Или с Дмитрием? Или с Анной? Что главное? Что важнее? Вопросы пола? Поверхность? Или глубина? С кем ты согласна?
— Да не знаю я, — изумилась Леля, — чего?.. Я ни с кем не согласна. Вообще непонятно, как вы можете разделять, что «важнее», что «главное», что не «главное»… Вот в первой истории: привезли яблоки на телеге…
— Картошку, — поправил Федя.
— Не суть дело, картошку. Привезли на телеге картошку — и в этот же день ее забирают в детдом. Что тут главное? Какая-то твоя религия? Тут — про осень, что было тепло… Воровали хлеб, жарили, весело было, как в детстве…
— Во-о-от! Во-от! — вскинул палец Белявский. — Умничка! Я говорил, что Энигма провещевает? Как в детстве! Вот вам и знаменатель: самая главная черта русской души, все объясняет и все определяет — именно инфантильность!
Отпив из бокала, Белявский промокнул губы:
— Все помнят суперсемейку? Ну, позавчера — на чем мы вообще познакомились? в кабачке? С чего весь разговор начался, про русскую душу. Я видел раньше эту семейку — и в поезде и на подъемнике. Этот длинный парнишка, акселерат, ему лет двенадцать, наверное, — я всю дорогу смотрел, как его колбасило — ох, как же колбасило-то его! Прямо видно было через вагон, как родители его бесят — каждым словом, каждым… не знаю, всем своим видом! Мать что-то на нем пытается поправлять, он отдергивается… ну, тринадцать лет, все понятно. Я подумал еще: да-а, парень, веселый у вас получится семейный отдых… А потом — вы помните, как они от нас рванули, из этого кабачка…
— Bode-Beizli, — зачем-то уточнил Федя.
— Чего они испугались? Вы знаете? Я вам скажу. Себя самих! Повели себя в точности как их сын! Этот парень прыщавый (у русских вообще хреновая кожа) — ужасно боится, что родители что-то неправильно сделают… — почему он боится? Потому что в себе самом не уверен, себя самого стесняется, страшно стесняется, не знает, куда девать свои длинные руки-ноги — а вдруг еще и родители что-нибудь учудят?! Это будет уже вообще неподъемная ноша! Поэтому изо всех сил делает вид, что они к нему отношения — не имеют, он знать их не знает!
Русский на Западе есть подросток во взрослом мире. Мало, что сам толком не знает, как себя вести, мало того, что себя стесняется, — так тут еще и ты появляешься рядом точно такой же, русскоязычный: мало ли что ты выкинешь? Надо скорей продемонстрировать, что я сам за себя, а он сам по себе, я не имею к нему отношения, я за него не отвечаю…
Психологический возраст русских — ну, в большинстве — лет двенадцать-тринадцать. Вроде уже не ребенок. Вроде какие-то взрослые уже обязанности. Но как справляться? Как вообще ориентироваться на местности? — с этим полный туман! Страх — отсюда. Агрессия тоже отсюда, бессмысленная, и жестокость — бессмысленная, бесцельная, Леля права: сначала поубивают друг друга, а через полчаса пойдут вместе бухать. Кто жив останется. Эмоции — нелогичные, подростковые! И так в каждом рассказе, буквально во всех, по порядку, смотрите!
На принесенном Эриком листе с эмблемой «Alphotel Jungfrau» Дмитрий Всеволодович начертал энергичную единицу.
— Нищая в первом рассказе. Ну, нищенство — это вообще предел инфантильности. Не делаешь ничего, только просишь. По сути, страна вся поставлена в это нищее унизительное положение: в этой стране тебе не положено — ни-че-го! Могут дать — могут… послать: как получится. Как настроение будет. Ты можешь только просить, умолять: «пода-айте, дя-аденька, пода-а-айте-христа-ради…» Ей надо мать больную везти в больницу — что она делает? Она просит директора райбольницы, причем она же еще ему благодарна! Хотя он вообще-то обязан, он представитель лечебного учреждения — но она благодарна, что не послали. Рефлекс! Хотя не директор, а только она сама, с парой каких-то случайных людей, которых она опять, обратите внимание, упросила — сама должна волочить за три километра больную мать по снегу до «госдороги». Нормально?!
И вся страна так устроена. Да, ты можешь украсть. Это даже в порядке вещей: все крадут — ты кради. Можешь даже убить, тебя тоже поймут: «ребятишки зассорились». Но ты никогда нигде ничего не получишь по праву! ..
Назовем этот пункт « Правовая инфантильность». Или, может быть, так: «Инфантильность самосознания ».
Да, и жуткие эти похороны… Там и стыдно, и жалко, и обида на эту родину-мать, которая не заботилась, не кормила, бросила маленького беззащитного в казенном доме… И ни попрощаться с ней толком, ни толком похоронить… Словом — нищая, нищая родина…
Номер два. «В тракторе перевернулся». Помните, мы говорили? Я так формулирую: вот подросток пытается влиться во взрослую жизнь. Для этого ему нужно освоить взрослые навыки: водить машину, мыть руки, работать на тракторе…
Но он же — ребенок! Внешне кажется, ему двадцать лет, тридцать лет — а по сути, он на двенадцати остановился. Он просто психологически не справляется: он надолго внимание не способен сосредоточить; он обязательно куда-то полезет куда не надо, просто из любопытства — ему сухожилие перебьет, кислотой обольет — он ребенок! Поставим здесь «Инструментальная…» или, шире, «Предметная инфантильность».
Третьим номером у нас шел гегемон дядя Степа…
— Костя, — поправил Федор, но без особенной надежды.
— У дяди Кости есть политическая проблема: ему не нравится президент. Есть также у дяди Кости проблема экономическая: не устраивает зарплата. Проблема, как вы считаете?
По-моему, рядовая техническая проблема. Бывают такие проблемы в цивилизованном мире? Сколько угодно. Есть способы их решения? Масса: пожалуйста, забастовки; пожалуйста, выборы; профсоюзы — пожалуйста. Что выбирает из этого дядя Степа? Идет «мочить всех сподряд». Это взрослый ответственный человек? Никогда. Это тринадцатилетний арабский подросток, который в Париже идет жечь машины. И дядя Степа в свои шестьдесят — абсолютный подросток. Всё, полная «Политическая инфантильность».
Что дальше было у нас? «Не судьба». История про старуху. Хотела за одного, вышла за абсолютно другого, всю жизнь жалеет. О’кей. Вопрос: о чем думала, когда выходила? Ответ: не могла отказать, потому что пришел и сидит. Ну и что?! Ну пришел. Ну сидит. Решается твоя судьба: твой самый важный вопрос как для женщины, выбор супруга — почему ты в этом вопросе пассивна? Ответ: потому что ребенок. Ребенка берут и ведут — он не хочет идти, но идет — он не чувствует свое право — и тут точно так же. Это мы назовем «Инфантильность…», скажем, «матримониальная» .
Сны каменной бабы — «Религиозная инфантильность». И далее по всем пунктам.
Дмитрий Всеволодович положил карандаш и оглядел присутствующих победоносно:
— Я считаю, что это универсальный ключ. Инфантильность. Согласны?
— И что же делать? — спросил Федор очень серьезно.
— Я думаю, перекурить! — жизнерадостно отозвался Белявский. — Энигма! Пошли на терраску покурим?
— Я не курю, — ответила Леля.
— Ну хоть пьете? Напитки спиртосодержащие употребляете?
— Практически нет.
— Почему?
— А и так хорошо. Без веществ.
— Вот, новое поколение, уважаю! — признался Белявский. — А мы уж, с вашего позволения… Как это называется, Федя, — меня учили — в середине еды выпить что-нибудь крепкое?
— Coup du milieu.
— Точно, ку де мильё! Это как-то… «посередине»… «ударная»? Что «посередине»?
— Что означает un coup? Удар, выстрел… shot … Но, Дмитрий, я все же не понимаю. Допустим, вы правы, и русские инфантильны, такая у нас особенность, или даже дефект… но зачем? Где причина, что Бог позволил нам быть инфантильными? В чем миссия инфантильности нашей? В чем ее смысл?..
— О-о, нет, про «миссию» — без меня! Это вопросы, которые не имеют ответа…
— Почему? — вдруг подначила Анна. — Если тебе хватило полтора дня найти ключик к русской душе, слабо вычислить «миссию»?
— Да! — почувствовав неожиданную поддержку, Федя воспрял: — Вы говорите, что инфантильность — «ключ». Но что именно этот ключ открывает? Допустим, мы принимаем гипотезу: русские как народ — инфантильны. Допустим, но что с этим делать?
— Взрослеть, разумеется! Дорастать до больших, брать пример. Стояли на четвереньках, хватали из миски — пора за стол, пользоваться вот… — Дмитрий Всеволодович поднял и повертел нож и вилку, — благами цивилизации…
— А как быть, — спросил Федор, — если цивилизация несет не благо, а зло? Если она загрязняет —
— Ну что загрязняет?! — картинно запричитал Дмитрий Всеволодович. — Что у вас цивилизация загрязняет? Бискайский залив?!
— Нет, хуже, — Федя не обратил внимания на издевку, — гораздо хуже залива: живые души. Как быть в том случае, если цивилизация несет загрязнение для души?
— Это абстракция. Это я не понимаю.
— Ну почему же, есть совершенно конкретный пример, очень яркий: пожалуйста —
14. Рассказ стриптизера
Старшекурсник оказался земляк с Коврова. Первый год мы не знались, а на второй курс я перешел — и он меня к себе под гребеночку прижал.
Он мне говорит: «Поехали, я тебя свожу хоть раз в московский клуб».
Я говорю: «Да ладно, хорош».
«Нет, поехали».
Заплатил за вход, всё. И я полночи там зажигал, до упаду прям…
Я же в школе еще танцевал. Танцевальный коллектив «Улыбка». Он до сих пор числится во Владимирской области — первое место. Везде во Владимирской области. Мы тренировались как следует: и шпагаты и всё. Мне вот столько вот не хватало. Обидно было: все садились в шпагат, а мне больно, и всё…
Ну, короче, я в клубе в этом танцевал так!.. Они уже: «Хватит, — говорят, — энерджайзер, садись». А я и так и сяк…
Арт-директор меня замечает и говорит: «А вы не хотели бы… ну… вместе с нами?»
Я стесняюсь: че, парень с деревни…
Тогда он зовет меня в бар, наливает, по-моему, грамм пятьдесят…
Я же раньше не пил не курил. Спортсмен был. По соревнованиям занимал третье место. Только в восемнадцать лет начал: попробовал пиво, попробовал сигареты…
Короче, мне арт-директор: «Пошли!» И в баре: «Девушка, девушка, будьте любезны!..»
Пятьдесят грамм наливает и еще как-то со спрайтом делает — хлоп! Я выпиваю…
«Ну что, может, будете?»
Тут меня озарило сияние. Я говорю: «А че, можно».
И такая система: он меня переодевает в костюм, свет потухается, и я начинаю танцевать… Ну вот.
И людям понравилось.
Как бы людям понравилось. У меня и поклонницы были, и все было. Денюжки даже засовывали — ну, то есть, стриптиз. Вот. И я, значит, два года в стриптизе.
Меня даже чуть не отчислили из училища. Зам по воспитательной работе. Московское военно-музыкальное училище. Оно единственное в мире во всем. То есть в мире и в России единственное. И люди поступают по таланту. А москвичей и каких-то других там — за деньги.
Самые лучшие там у меня были годы!
Ну, первый год, конечно: «Иди, стрельни сигарету...»
Недели две-три я бегал. А потом сказал: «Нет, ребята, хорош».
У человека должно же быть свое «я», нет? «Хорош, я больше бегать не буду».
«Та-ак… Коровкин, после отбоя — в бытовку!..»
Знаете, че это, да? Каптерка, где гладят штаны и все такое. Захожу — а там эти доски, где гладят, — они же не прикрученные: тут четыре ряда, тут четыре ряда. Ну, мне как сунули, я вот так: дж! упал, и все четыре доски положил.
И каждый день: «Иди сюда! Сигарету».
Я: «Нету».
«На!..»
Сколько... недели две, наверное, я летал.
Потом старшекурсник, из них же, которые били, говорит: «Ладно, пойдем покурим со мной». Оказался земляк.
А те люди, которые так и бегали — они, я не знаю, может, и до сих пор бегают…
Говорили, я слышал, в Московском музыкальном дедовщины нету. Это ложь и брехня. Все это есть везде.
Но у нас был закон — как мы музыканты, да? — губно-зубной аппарат не трогать. В любое другое место, а лицо не трогать, потому что завтра придешь, скажешь «пошел умываться, упал об раковину, об ванну» — это все не канает.
То есть бьют не по лицу, а просто чисто по телу. Бывает, в душу пробьют, или… В душу, в душу — ну вот сюда.
Случай был. У нас флейтист был на курсе, с Питера. Все унижали, хотя пацан был хороший... ну, он и есть сейчас, может. Не знаю.
Короче, человек просто запоздал на отбой. А командир роты сказал: «Я не буду проводить проверку, пока лиц на месте не будет». Там у нас второй этаж, и все курсы стояли ждали на этаже. Старшекурсники в тапочках… Мы-то первый курс, все по форме, а старшекурсники в тапочках, в шортах: им-то — быстрей бы отбой…
Он забегает — и слышно уже: «Ну все, хана тебе, парень… после отбоя держись».
Про себя думаю: «Ну, труба».
Он встал — начинается проверка, от ног до головы: там «Сидоров, Петров, Иванов! — Я, я, я! — Всё, ребят, всем отбой».
И от старшекурсников слышен голос: «После отбоя Заславский — в бытовку».
А там у нас иркутские… ну, звери были. Они даже по инструменту, по специальности не профессионалы. Их взяли из-за того, что они из каких-то приютов... ну, дикари. Там полкурса было иркутских, дагестанцы даже не связывались с ними.
Потом люди рассказывали: он заходит в бытовку, а там их человек пять или шесть. И такая система, что эти берцы… ну, берцы, как у этих, скинхедов, вот эти высокие — одели на руки, вот так завязали… Ну, и вшестером оприходовали его. Как бы не насмерть, просто отбито все — и его сразу комиссовали.
Такие вот пироги.
Покурить нельзя у вас, нет?
Я хотел спросить: трудно ли привыкнуть танцевать стриптиз?
А что значит понятие «стриптиз»? Че стриптиз? Ну стриптиз…
Вам было стыдно?
Да не то чтобы стыдно… Но стремно как-то… Ну, неприятно, когда смотрят на тебя, допустим, триста человек или сто...
Нет, ну ты же идешь — ты же знаешь, зачем ты идешь. У нас выход, короче, — пятнадцать минут на сцене. Три-четыре выхода в ночь. Платят семьсот рублей выход. Плюс «вип» знаете что такое? «Вип-танец»? Во-первых, клиент не имеет права до тебя дотрагиваться — это раз! Человек сидит один, танец длится пять минут: песня — все. Человек платит сумасш… ну, не сумасшедшие, но по тем временам, допустим — сто долларов. Музыка, ты ее можешь всю, допустим, облапать там, вот. А она не имеет права пальцем… пальцем дотрагивается — все! Все, танец заканчивается, до свиданья.
Потом чего. Со временем уже видишь в толпе: оп! знакомая — «Привет- Привет!». И допустим, там на руках стойку — фью!.. фляк назад, кувырочек, на сцену сел, в оконцовочке ножки свесил, допустим, по щечке провел ей… То есть танцуешь — и у тебя есть поддержка зала.
Да, вот чего! Самое главное — поддержка.
Короче, заманивает само…
Да, ну и плюс с женой со своей где познакомился? Там же. Я танцевал стриптиз, а она в охране работала…
Ваша жена работала охранником?
Да. Она у меня пятиборка...
А раньше ведь там у нас каждый день… ну не то чтоб, как говорится, женщины низкого пола, но девчонки такие простые: «Презерватив есть? — Есть. — Пошли». Там внизу у нас были «кабинки релаксации» называется. В кабинке закройся и все. Че хошь, то и делай.
Но это пока с женой еще не знаком был. То есть так, переглядывались: «Привет-Привет», «Пока-Пока», ну, как всегда начинается…
Вот, про нее историю расскажу! Я тогда офигел.
Была воробьевая дискотека. Ну, детская: типа воробьев дети бегают, малыши. Так называется: воробьевая. Нам сказали: сделайте детям шоу. Мы сделали шоу: на стул садишься в майке, воду на себя раз! — все течет, им нравится — ну, дети маленькие…
А парковая же зона, дверь открыта: и — хоп! — ротвейлер забежал прямо в клуб. А там дети же, шухер, всё…
Вот жену-то когда я увидел.
Все охранники — они в галстучках, в белых рубашечках… И она, значит, галстучек свой снимает — берет на ротвейлера: ш-ш-шик — и на галстуке спокойненько его выводит!.. Весь зал такой: «У-у-у!!..»
И я такой: «Ни фига себе девчонка!»
Ну, и стали встречаться…
Сначала она боялась сказать. Не сама сказала, а через подругу. Отвела меня в сторону, говорит: «Вот такая система, что у нее есть дочка, ты знал?»
А откуда я... Нет, ну ты девушку видишь, откуда ты знаешь, есть у нее ребенок, нет, правильно? Выглядела, ухаживала за собой, стройненькая, хорошенькая, все.
Я говорю: «Ну а че? жизнь-то, она продолжается». Говорю: «Мне девушка нравится, ну и ребенка приму».
Вот. Короче, первый раз ее увидал и до сих пор люблю, и она меня любит. Может, она знает, что я ей не родной отец, но все равно. Они со Стасиком молодцы, но хотя два разных человека. Стасик в меня: глаза мои, телосложения мои, голова вот такая, а походки мамины, то есть, может, она приучает его… Я говорю: «Не надо! в попу не дуй!» В смысле не надо там дышать над ним… Надо — наказали! А то: один наказывает, второй жалеет, так нельзя тоже.
А Вику я, честное слово, больше люблю, потому что к ней внимания никакого. Вот вчера даже прихожу с работы, она мне: «А вот здесь, пап, я как разукрасила?» Я говорю: «Хорошо». «За линии не залезала?» Я говорю: «Нет».
Домой тоже ездили с ними на зимние… Поселок Малыгино, Владимирская область, Ковровский район. С Москвы до Владимира поезд, а с Владимира есть проходящий автобус, прям через поселок.
Дома я отдыха-аю! Я вот, допустим, живу в пятиэтажке, так? Вышел за дом — пошли гаражи. В гараже погреб — спустился, взял баночку огуречиков, картошку с погреба поднял, с маслицем отварил — а? шикарно?
А здесь, в Москве, банка огурцов скоко стоит? А картошка скоко стоит?
Домой я приезжаю — я деньги вообще не трачу. Ну, если только спиртное. И даже спиртное дешевле там. Ну сейчас не об этом.
А летом вообще! Заходишь в огород, вот тебе пожалуйста: горох хочешь? — покушай горошек, хочешь фасоль — покушай фасоль...
Москва-то — она провалится, я так чувствую…
«Провалится»? В каком смысле?
В прямом. Сколько рыть-то можно в Москве? Метро это... А потом, сколько уже случаев было, да? И взрывают…
Дома всё по-другому. Я даже не хотел уезжать, честно…
А, да! мне еще Ирина Евгеньевна позвонила! У нас была преподаватель, танцевальный коллектив «Улыбка». Зв о нит: «Слав, ты знаешь, у нас юбилей. Надо танец поставить, сможешь?»
Я: «Не вопрос».
Жену обманул. Маме говорю: «Мам, она просто так не отвянет, придумай историю». Мама звонит ей, говорит: «Там в гараже че-то помочь надо, там это, погреб поднять…» Всё! три дня продлил, билеты на поезд поменял, всё. Прихожу ставить танец.
Захожу — ну а там как всегда, по старой схеме: «И-и раз, и-и два...» Три прихлопа, три притопа.
Я: «Сто-оп!» Говорю: «Ирина Евгеньевна, так уже не пройдет».
Я диск с собой — раз! О? музыка уже другая!
Показываю: вот такие движения и такие. Там сначала с медленными танцами — девушка с парнем, ла-ла, потом два рэпера приходят, парня отталкивают, девушку забирают и начинают с ней танцевать.
Короче, за два-три дня мы поставили танец.
Но репетиция — это одно, а когда на сцену выходишь — совсем другое, правильно? И мандраж какой-то, и всё…
Я говорю: «Ирина Евгеньевна, надо …»
Она: «Но вы станцуете?»
«Ирина Евгеньевна! — я говорю, — надо срочно …»
«Хорошо!» — побежала, купила нам.
Ну, и мы там зажгли. И в зал прыгали тоже. Я сначала боялся: в простых клубах ряды эти, лавки — а там и дети стоят, и это, а нам еще прыгать туда… Но нормально, все целы остались.
И главное, была комиссия с области — всё, понравилось, выдвинули на область. Я уехал, за меня брат танцевал — ну, и первое место во всей Владимирской области.
Вот — московская-то закалочка клубная.
Вот такие вот пироги.
15. Два — один
— И все-таки не понимаю, — не выдержал Дмитрий Всеволодович, — разве я не закрыл тему?
— Ну и что нам теперь, разойтись? — насмешливо сказала Анна. — Сидим общаемся. Какая разница — «закрыл», не «закрыл»…
— По-моему, различие вполне существенное, — возразил Федя. — Дмитрий видит спасение в цивилизации —
— Какое еще, — покривился Белявский, — «спасение»?
— Хорошо, не «спасение» — направление. Верное направление… Но вот мы только что слышали — человек. Мой ровесник. Жил в деревне Малыгино, жил не тужил, занимался в ансамбле «Улыбка». В один прекрасный день его встретила цивилизация (мы так ее превозносим) — западная цивилизация встретила его и растлила!
Трое Фединых слушателей задвигались и, как показалось Федору, даже будто бы заворчали.
— Почему не назвать вещи прямо? Что это, если не прямое растление, не разврат? Вот, допустим…
— «Разврат»? — переспросила Анна. — Федя, а что такое «разврат»?
— Ага, вот и я не въезжаю, — неожиданно присоединилась Леля.
— Кому «разврат», — добавил и Дмитрий Всеволодович, — а кому свобода.
— Снять трусы перед ста человеками? — поперхнулся Федя. — Это вы называете «свободой»?!
— Почему нет? — пожал плечами Белявский. — Имеет право.
— А допустим, если у человека такое… призвание? — задумчиво проговорила Анна. — Если он хорошо двигается? Если это красиво, в конце концов?..
— И кто-то платит, — присовокупил Белявский. — Тоже немаловажно…
— А кто-то другой хочет платить за убийства! — воскликнул Федя. — «Снэтч», «ститч», как это называется — убивают детей, снимают на пленку…
— Фу, Федя! — поморщилась Анна. — Это уж совершенно из другой оперы...
— А по моему убеждению, одно и то же!.. Нет, наоборот, убийство тела — гораздо менее тяжкое: тело — временное пристанище, иллюзорное временное пристанище в этом временном мире! Чуть раньше или чуть позднее иллюзия распадется — и тело умрет тоже, исчезнет. Убийство тела — всего лишь досрочное пробуждение от иллюзии, а вот растлевающий душу… — «лучше, если бы повесили ему жернов на шею и утопили в пучине»! Жаль, мы не способны видеть глазами, как душа человеческая болеет: если бы мы могли видеть душу — как она делается пористой, губчатой, распадается… как с ней происходит нечто ужасно необратимое, как она отмирает…
— Вы говорите про этого мальчика? — уточнила Анна. — У него — «отмирает»?
— Конечно! конечно!..
— А посмотрите: он принял чужую дочку. И даже говорит: «ее люблю больше, чем собственного ребенка, потому что ей — меньше внимания». Это, знаете ли, не часто встречается…
— И еще, Федя, вы пропустили важный момент, — Белявский, прищурившись, посмотрел на просвет розетку с «грийотками», — важный момент между деревней Малыгино — и стриптизом. Он, главное, вам рассказал все подробно. А вы пропустили. Его человек избивает, потом зовет покурить: «падем покурим» — и он идет — это что, не растление? При нем калечат невинного человека, а он со всеми молчит — не растление?
Я вам скажу, по сравнению с этим растлением любой стриптиз — тьфу!
А через это растление произволом проходят все-е. Через насилие проходят все: через армию… А потом Анна Вадимовна удивляется, что у нас с «мучиками» в стране плохо…
— Хорошо, пусть и это, но мы-то с вами, — гнул Федор, — мы с вами — несём ответственность перед ним? Или нас его жизнь не касается? Мы устроились, нам тепло, мы вкушаем блага цивилизации — а его эта цивилизация пусть унижает и уничтожает? Вы помните самый жалкий момент: как он пытается хоть за что-нибудь уцепиться, пытается оправдаться и сам не знает, за что ухватиться — не то за поддержку зала, не то за семьсот рублей… Помните, как он описывает этот «ви-ай-пи-танец»: «Она не имеет права дотронуться, а я всю облапаю» — какое здесь чувствуется ответное унижение, корчи — сначала его душу унизили и изнасиловали, и в ответ он пытается…
— Кто кого «изнасиловал»? — не выдержала Леля. — В чем проблема вообще? Ну стриптиз, ну и что? «Ах», «ох»!.. Что он —
— Людей посмотрел, себя показал… — ввернул Белявский.
— Что он, с голоду помирал? Нет, пошел добровольно…
— А, думаете, — чуточку улыбнулась Анна, — вы думаете, можно раздеться перед ста человеками добровольно?
— А вы как думаете? — приняла вызов Леля.
— Думаю, вряд ли…
— Есть опыт? — резко спросила Леля.
Мужчины притихли.
— Н-нет… — слегка побледнев, медленно ответила Анна, — опыта такого у меня нет…
— Ну и зря, — отрубила Леля.
— Э-м… вот как… — не сразу нашлась Анна. — А что, вы… подобный опыт… имеете?
— Да, имею, — четко ответила Леля.
Федя приоткрыл рот.
Дмитрий Всеволодович, наоборот, очень сильно сжал зубы и улыбался, не разжимая зубов.
Леля быстро прибавила:
— Но — не за деньги!
— Зачем же тогда? — плавно продолжила Анна.
— Просто фан.
— Просто fun … — отозвалась Анна эхом. — И… часто вы этот fun получали?
— Нет, пару раз.
— Удивительно интересно… — это было похоже на поединок, в котором Леля двигалась и наносила удары быстро, а Анна — замедленно, как бы пытаясь загипнотизировать, — ну и как… ощущения?
— А попробуйте сами. Бар «Голодная правда», с пятницы на субботу: стойки для всех желающих.
На протяжении этого диалога Дмитрий Всеволодович, любуясь, смотрел на Лелю. Его зубы блестели.
Федор чувствовал себя совершенно bouleversе — «опрокинутым», ошеломленным.
Он неожиданно для себя натолкнулся на общее сопротивление — и даже не мог взять в толк, каким образом могло произойти так, что умные и хорошие люди объединились против него в таком простом, очевидном вопросе. При этом его царапнуло замечание Анны о том, что рассказчик «принял чужую дочку», и это не вязалось с Фединым рассуждением о «разрушении» или «смерти» души. Федя чувствовал, что здесь ему встретилось некое противоречие — но не мог толком сообразить, в чем оно заключается. И главное, он никак не способен был соединить только что услышанное от Лели — и то ощущение чистоты, которое с ней было связано.
Леля натолкнулась на любующийся взгляд Белявского — и встретила этот взгляд с вызовом.
Дмитрий Всеволодович, тоже не отводя блестящих глаз, медленно, с удовольствием обсосал пару вишневых косточек и аккуратно сложил в розетку. Протянул руку и, стукнув, поставил пустую розетку на стол.
— Федя! — сочувственно воскликнула Анна и даже ущипнула Федора за рукав. — Ну что же вы так серьезно относитесь ко всему? Нельзя…
— Это молодость, — сладко вздохнул Белявский. — Нас с тобой, Анька, уже ни в стриптиз не возьмут… ни вон к Федору в моралисты.
Ах, Федя. Хорошо с принципами, когда прекрасен и юн. А представьте, вы женщина. И вам пятьдесят… восемь? Или шестьдесят шесть? Где же взять-то прекрасных и юных? Хорошо, появилась возможность: немножко денег — и хоть одним глазком поглядеть… Напоследок, вип-танец… Вам как бел и веру [9] надо, наоборот, иметь милосердие…
Пусть идет как идет. Все придет в свое место…
— В стриптиз-клуб, — сказал Федя убито.
— Кто-то — да, в стриптиз-клуб. А другой — в институт благородных девиц. Это и называется свобода, нет?
Мы тут, например, свободно распределились: кроме вас, все за стриптиз…
— Я воздерживаюсь, — поспешно отмежевалась Анна.
— Одна воздержалась, один — против, два — за.
…го января две тысячи …го года, в восемнадцать пятнадцать, в «Альпотеле Юнгфрау», Беатенберг, побеждает стр-ри-ип-ти-и-из-з-з!..
Федор, мои соболезнования. Компотику?
16. Рассказ о белой корове, добром генерале и запрещенном огурце
Когда война началася, отца забрали на фронт, мы осталися с матерью.
Мать наполовину слепая, отца нет, бедность жуткая! Вот такой голый дом, половина фанерой была отгорожена, там иконы висели, одна кровать и печка. Мы с сестрой на печке сидим, а на потолке мел — ну и начинаем баловаться. Мать берет, кочергой или веником нас: «Лихоманки! А печка обломится?! в чем мы хлебы-то будем печь?»
Вот говорят много о ветеранах, кто воевал — я им дань отдаю. Но ведь женщины-то, которые одни остались, — они-то что пережили?
Я помню, война была: выйдешь — волки ходили. Прямо вот — волков видели. Ночью корова во дворе: «ду-ду-ду, ду-ду-ду!..» Мать: «Ой, ой, у соседки вчера волк овец трех зарезал! И моих, наверное, всех...» — а во двор выйти боится: темно, да еще и слепая…
Утром встала, Богу молится… Выходим, смотрим — в заборе вот такая огромная яма! Волк прокопал. Корова стоит вся мокрая, дрожит, овцы под нее все забилися — они всегда под корову туда забиваются от волков…
Я это запомнила на всю жизнь: ночь холодная, зимняя, война, отец на фронте… Во двор боимся выходить: темнота…
Или, помню, теленок на улице перемерз: мать в дом его принесла, а он начал околевать… Боже мой! Как она упала перед иконой, как Богу молилася: «Господи! Спаси!» Если она теленка не сдаст — значит, семья на весь год голодными остается. Деньги-то не давали в колхозе, но хлеб какой-то давали, зерно давали…
Мы, дети, болели, с температурой валялись на печке — на нас никто внимания не обращал, а за скотину вот так она переживала...
Сейчас говорят: «В детдомах детям плохо». А я завидовала детдомовским детям. Они были ухоженные, даже во время войны, были чистенькие, они имели свой огород, свиней разводили... А мы ходили гнилую картошку искали по полю. Сестра с тридцать девятого года, я с тридцать седьмого. Она всегда радовалась, что мы больше всех понабрали. Мать из-под снега эту гнилую картошку — толкла, кашу какую-то нам варила…
И старшая сестра тоже — они три подружки ходили в поле работать. Копали картошку, копали капусту... Приносили кусочек капусты, чтоб щи сварить. А с поля нельзя было брать, вы знаете. Они прятали эту капусту вот здеся, под телогрейку. Осень, все ледяное. И обе эти старшие девочки умерли от воспаления легких.
Но самый-то голод — вы знаете, когда наступил? Уже война кончилась, это был сорок восьмой год. Ой, какой это голодный был год, это что-то невероятное. Из Саратовской области шли к нам люди, лягушек ели, и голубей ели, и грачей ели... Ребята пухли… Столько ходило голодных, нищих, на гармошке играли, просили… А больных людей — заставляли брать в дом. Если на улице человек лежит — насильно в дом приводили, и не имел права выгнать. А кормить-то их — чем?
Я помню, пришел брат и говорит: «Папань, там бабушка одна лежит у нас в сенях». Ну, отец бригадиром был, он пошел к председателю колхоза — ее у нас взяли...
Отец — огородник был страшный. Насажал, говорит: «Ребята! небось не помрем. Свеколка вылезла, и огурчик тоже один появился. Но вы пока не трогайте ничего».
А сестра маленькая была… (Нас всего девять было детей, я восьмая.) Сестре года три: она как услышала про огурец — а сорвать-то он ей не велел! Она пошла в огород, села на коленочки и съела половину этого огурца прям на грядке, а половину оставила, представляете?..
И я тоже, не помню, куда мать ушла… ну, куда-то ушла, а я на эти полки, где посуда-то лежит — ноготочкими всё выковыривала, думала: а вдруг кусочек крошечки там найду?..
Это вот сейчас мы живем, вроде все недовольные жизнью...
Я девчонкам своим говорю (они за границу ездили отдыхать) — говорю, не выбрасывайте, экономьте там на еде, на пакетах, — они даже слышать меня не хотят…
А напротив нас жила женщина, у нее мальчик, звали Егор. Она взяла с поля несколько картофелин, и ее посадили в остр о х. Не «в тюрьму» говорили, а по-деревенски «острох». Ну, увезли — осталась бабка и этот мальчик.
Мы с мамой пошли посмотреть, что они там в доме-то у себя делают.
Заходим — у нас-то хоть пол какой-то дырявый был, а у них земля и больше ничего. А этот мальчик — он постарше меня был, в первом классе — сидит, привязал катушку такую обычную с нитками, натянул нитки и как будто звонит: телефон у него такой на печке. Говорит: «Алё!..» (А он картавый был.) «Аё! Буянкин?..» (Буланкин — это был у нас участковый района, милиционер.) «Буянкин, пйиежжяй! Бабка мне жъять не дает, а мне жъять хочется!..»
Ты понимаешь, (смеется) жрать ему хочется... Буланкин...
У меня очень жалость к этим детям к бедным. Особенно к деревенским. Они по своей природе умные, всё. Но вот этот быт ихний!.. Ведь это надо видеть, как люди живут там!
Свет электрический дали нам в каком… году в пятьдесят седьмом, наверное… А коротать вечера-то зимние надо в деревне? На пол стелили солому, мать на печке жарила горох, этот горох мы ели. Свету не было, у нас керосиновая такая коптюська. Отец в очках, засаленным пальцем читал книжку. Я плакала над этой книжкой… А как называлась, не знали: корочки не было. Отец ее обернул газетой и написал «Жан-Вольжан».
И еще была моего отца настольная книга — «Тихий Дон». Издание вот такое огромное. Он перелистывал, курил трубку, усы крутил и читал. Вот такая была огромная книжка. Я ее изучила от корки до корки. Аксинья для меня — это что-то!.. И все говорили, я была очень схожа с Быстрицкой. У меня была огромная коса, маленький лоб. В Москве у меня фотография Быстрицкой висела — одно лицо.
Я в Москве живу с четырнадцати лет.
Сестра раньше. В войну ее забрали на трудовой фронт. Окопы рыла, и так в Москве и осталась. А я школу окончила восемь классов, приехала к ней.
Ой, сестра у меня была такая салтычиха! Один раз я взяла семечки, она: «Ты что-о?! Всем показываешь, что ты дура деревенская?! Никогда не грызи семечек!»
Никогда с тех пор семечек не беру.
Жили мы с ней около ВДНХ. Вот так коридор и тридцать шесть квартир, все дети босичком бегали — ну как студенческие такие бараки, как общежитие.
Сестра мне давала десять рублей и говорила: «Иди на Выставку, купи арбуз. Только в табор не заходи!» Там цыгане были, капуста росла. А с этой стороны еврейские домики — всегда в белых этих пыльничках они ходили, я обожала. Москва была вся такая славная.
Но тогда был очень жесткий режим при Берии: три дня прожил в Москве — нужно зарегистрироваться. И пришел участковый оштрафовать мою сестру за то, что я незаконно с ней проживаю. Она говорит: а у нее отец умер, мать слепая, совершенно инвалид. «Не положено». И все равно оштрафовали.
Ну и что? обратно ехать в деревню корову доить? Сестра говорит: «Садись…»
Сестра у меня шустрая была, это что-то! Говорит: «Садись пиши письмо Маленкову». Я, представляете, пишу Маленкову, что я приехала к сестре, ищу в Москве работу, а меня не регистрируют, ничего.
Вы не поверите: не прошло две недели, приходит ответ! То есть мое это, можно сказать, детское письмо — дошло до Маленкова! Что прописать меня, зарегистрировать у сестры, Алексеевская двадцать семь, как сейчас помню, квартира шесть. Вот благодаря Маленкову я и осталась в Москве.
Устроили меня ткачихой в три смены. Фабрика была на Бауманской, где Аптекарский переулок. Меня туда взяли, а до станка-то я не доставала! Поставили мне такой подмосток — торчали только два бантика, и черная ситцевая юбочка. И прозвище у меня было — Букварь. Почему, я не знаю. Наверно, самая маленькая была девочка.
Работали мы в три смены, по восемь часов. Неделю утром, следующую — в вечернюю смену, и третья неделя ночная. И мы, дети, работали по восемь часов ночью. Женщина там пожилая одна говорила, что даже при царе такого не было, чтобы дети на станке ночью работали, только мужчины работали.
И была я всегда стахановкой, зарабатывала по тем временам двести шестьдесят рублей — это когда еще деньги такие были зелененькие, солдатики в касках были на них нарисованы. Шестьдесят рублей я за квартиру платила, и на двести рублей мне оставалось купить в электричку билет, и мы кушали: бутылку кефира — тридцать копеек она стоила, «городская» булочка семь копеек, и вот так выживали.
А когда Берию сняли, издали приказ, чтоб детей освободить от работы в ночное время. Я двумя руками вцепилася, меня оттащить не могли. Я думала: как же я буду платить за квартиру?
Я не стала городской, хоть и вела такую хорошую жизнь, накормленную… Душой, все мои мысли остались в деревне… (плачет) Я маме писала, когда устроилась на фабрику: «Мама, я лучше буду коров доить! Как я не люблю Москву! Возьми меня, мама, домой!»
Родина моя там, сколько бы я лет ни прожила в Москве…
Как-то еду в метро… Это я уже работала контролером на сорок пятом заводе. Ну, контролер — я ходила всегда с маникюром, следила за собой, все. И вот еду в метро: платформы у меня, там, педикюр, стою. И одна девочка едет с мамой, видно, что из деревни: с мешками… Эта девочка в метро как меня увидела и смотрит вот так: то на ноги, то на меня. То на ноги, то на меня. Я думаю: бедная девочка, если б я из деревни бы не уехала, и я такая бы тоже была…
Я в Москву-то приехала — девочки все учатся в десятом классе — а я восемь классов только окончила… Все одеты прилично…
Сестра говорит:
«Так! Садись за машинку, учись!» Научила меня на машинке, мы с ней вышивали…
«Ехай в ГУМ, купи только синельку!»
«Синелька» называлась — такая нитка пушистая. Мулине это всякое, тонкое…
Я еду туда… на каком троллейбусе… пятьдесят второй, что ли?.. Не помню, какой-то до «Революции» туда ходил. А с ночной смены — ну и уснула на заднем сиденье.
Просыпаюсь: о-о-ой! Под щекой — звезды! Погоны-то генеральские! А я сплю у него на плече!
А он мне говорит: «Спи-спи, у меня жена не ревнивая…»
Вы представляете? В трамвае можно было генерала увидеть рядом с тобой. В общественном транспорте ездили.
«Ты, наверное, — говорит, — с ночной смены?»
Я: «Ага».
«А у меня тоже, — говорит, — сын…»
То есть настолько люди проникновенно друг к другу все относились… Это вот кто попозже к власти пришел… ну ладно.
Вот, на сорок пятом заводе парень с нами работал, Юра, заливщик. Металл заливал, а я мерила температуру термоаппаратом: две тысячи градусов. У него дядька был министр тяжелой металлургии какой-то, а племянник его работал с нами. Вот чтобы проблемы какие-то были с ним? Чтобы он на нас накричал?..
Люди были другие. Добрейшие были люди!
Я в вечернюю смену работала, в час возвращалась, никто никогда не приставал, ничего этого близко не было…
При коммунистах жить было лучше, конечно. А вот то, что сейчас происходит, мне даже вообще непонятно. И вы знаете, я вам скажу — я сейчас обращаю внимание: кто на иномарках за рулем ездиет? Нету русских! Самые бедные люди — русские.
Правнук у меня пошел в первый класс — тридцать процентов москвичей, россиян — остальные приезжие. Чеченский ребенок сидит с переводчиком. Афганский ребенок сидит, из гостиницы возят. Он по-русски даже двух слов не может связать, а нашему бы ребенку пора уже дальше по умственному развитию, он и читает, и пишет, и всё… И мы вынуждены терпеть, нам говорят: «Будьте терпимыми». И всю жизнь так. И мама моя: «Чужого не брать!» Крапиву ели, а яблоки у соседей валялися — нельзя было поднять...
Ну не знаю, не знаю...
Как моя одна знакомая говорила: «Не везет нам на царей». Больше я ничего, сынок, не могу сказать: не везет нам на царей.
Если раньше я себя считала средним классом, теперь по сравнению я считаю, я нищая. Я! при Сталине пошла работать, двадцать лет отработала на авиацию и тридцать лет в космическом цеху — я имею пять тысяч пенсию! Ну да бог с ней — но вот у меня сейчас два мальчика: я помогаю внучке без отца растить двоих детей. Вот защитники родины — и кого они пойдут защищать? Мне вот непонятно: где моя родина?
А? Я к вам обращаюсь: где родина-то моя?
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
17. Исповедь пылкого разума. У камина
Всю ночь шел дождь. Снег растаял и стал безобразным. Даже на высоте — катания не было из-за густых облаков.
Давным-давно рассвело, но между каминным проемом и черным сервантом как будто все еще медлила, не желала рассеиваться прошедшая ночь.
В комнате кроме Федора находилась сейчас одна Анна.
На ней был очень легкий шерстяной свитер с V-образным вырезом — и прямая серая юбка чуть выше колен. Она устроилась в кресле с ногами, закуталась в плед.
— …Сюда впервые — шесть с половиной лет тому назад, — рассказывал Федор. — Но по дороге мы заезжали в Париж: у отца были какие-то деловые переговоры.
Мы прилетели в Париж поздно вечером, я был крайне уставший: перед отъездом со всеми нужно было встречаться, прощаться, сборы, я двое суток почти не спал, и в гостинице сразу же отключился.
Отец ушел рано утром, и в номере я проснулся один. Было поздно: полдень, начало первого... Я в гостинице. Вокруг Париж. И… не знаю, как это объяснить, меня охватило странное ощущение: разумом я понимаю, что я в Париже. Но на самом-то деле — если верить моим непосредственным ощущениям — я просто в комнате, в квадратной комнате . Две кровати. Две тумбочки. Стул. Обои в лилиях. Я думаю… нет, не думаю, а непосредственно чувствую: здесь какой-то обман. Или заговор против меня. Мне обещан Париж, а на деле — квадратная комната…
Я, наверное, непонятно рассказываю?..
Хорошо.
Я вышел на улицу, пошел к реке… гостиница была почти в центре, на улице Монж — а все виды Парижа я с детства знал по картинкам в учебниках, я же с семи лет изучаю французский: вот стрелка Ситэ, Пляс Вандом, Пале-Руайяль — на взгляд все совпадало.
Но мне казалось, будто я в некоем tridimensionnel … три… трехмерном кино: как будто мне демонстрируют на экране изображение…
Назавтра мы прилетели в Женеву… Тоже красивое слово, правда? Geneve… Я люблю слова, все же я и филолог…
Ну да, Geneve — но комнатка оказалась та же! Разве только обои чуть-чуть изменились. Не лилии, а… не помню. Цветочки. Полосочки.
Зато тумбочки — в точности те же! кровати те же…
И знаете, что я понял тогда?
Я вдруг понял, что всю свою жизнь мы проводим в одной-единственной квадратной комнате. Она бывает чуть пороскошней обставлена… или чуть победнее. Чуть теснее или чуть просторнее. Может меняться пейзаж за окном. Но тем не менее это всегда — одна и та же квадратная комната…
— Федечка, надо больше кататься.
— Что-что?
— Катайтесь на лыжах каждые выходные. Когда едешь с горы, видишь небо — разве это похоже на комнату?
— Да! Конечно! В том-то и дело, что да! Даже небо, и много неба, и купол неба — все равно тесная, тусклая комната! В том все дело: пусть будут прерии, айсберги, океан — это не более чем другие обои… как это называется… фотообои.
Да, манят далекие страны. Манят пальмы и белый песок. Манят горы. Некоторых небоскребы манят… Но это всего лишь другой рисунок на фотообоях.
Я так устроен, что меня манят слова: «атолл Раротонга»… «Таити»… «Мурция»… «Мачу-Пикчу»… Ну хорошо, вот я увидел нечто такое, что именуется красивым словом — пусть не Раротонгу пока — но увидел, допустим, Монблан.
И первое ощущение — се, я вижу Монблан! Я доволен. Но это чувство быстро тускнеет, и остается… В сущности, ничего и не остается. Может быть, фотографии, если кто-то любит, мумии ощущений. Я — нет, не люблю.
Остается прежняя неразрешимая тяга — сосет изнутри, тянет, тянет… куда? Неужели на Раротонгу?
Я думаю, нет.
Раротонга и Мачу-Пикчу, Париж и Монблан — это только подставка… подменка. Нас тянут не дальние страны, а целый далекий мир. Тянут не горы, а горнее наше отечество. Тянут не странные, из необычных звуков составленные слова — а «неизреченные глаголы», небесные, а не земные…
На земле — мы всегда остаемся в маленькой комнате. Каждый, как черепаха, носит на себе собственную закостеневшую комнату.
В момент смерти — из комнаты открывается дверь. Стоит выйти наружу — и явятся нам такие сокровища и такие пейзажи, что по сравнению с ними все Мачу-Пикчу и Тадж-Махалы — такая бледность, серость и нищета…
И понимаете, совершенно уходит желание суетиться. Пусть на земле я не поднимусь к Мачу-Пикчу, какая разница? О чем жалеть? И Мачу-Пикчу, и мыс Доброй Надежды, и «Мурцию и Альбарацин» — всё покажут. Все, что я заслужу, мне покажут, и даже в одну секунду! Потому что и время будет другое…
— Какие мысли у тебя, Федечка…
— Здесь не мысли — во всяком случае, не умозрительные рассуждения — а внутренняя уверенность. Не мысль, а чувство.
Я перечитываю Достоевского — у него постоянно герои мучаются вопросом бессмертия: есть бессмертие? Или нету бессмертия? Или все-таки есть? И вот качаются на качелях до бесконечности… Ох, здесь я — самый плохой читатель для Достоевского. Я совершенно не в силах эти терзания разделить. Умозрительно понимаю — но остаюсь равнодушен.
Как мне допустить, что в этой плоской, скованной жизни — все завершается? Просто абсурд! Все, что здесь, — это только иллюзия, бледный образ, мелькнувший сквозь пыльное и кривое стекло. Ни на мгновение, ни на йоту не сомневаюсь: конечно, есть следующая жизнь! Это настолько твердое внутреннее ощущение… я даже не знаю, как им поделиться…
— Ты делишься.
Анна смотрела на Федора, широко раскрывая глаза, и голову наклоняла то так, то эдак, как бы стараясь получше его рассмотреть.
Федю это немного смущало, но и вдохновляло: он чувствовал, что речь его льется, что мыслям тесно:
— Представьте: вдруг зажигается яркий свет! Раньше был один тусклый фонарик, которым мы освещали дорожку прямо перед ногами — и это было наше линейное время. Как узенькая тропинка, как нитка, и мы на ней топчемся, дышим друг другу в спину. Мы видим только «сейчас». Прошлое уже исчезло во тьме, у нас сохранились смутные, разноречивые воспоминания. Впереди — мрак кромешный…
И вдруг со всех сторон вспыхивает свет — и становится видно все: и сзади и впереди... И даже не так! больше нету ни «сзади», ни «спереди», потому что вместо одной тонкой нитки мы видим огромный и полноцветный ковер. Это — время! Не наше линейное, иллюзорное время — а вечность. Вечность я понимаю не как бесконечное будущее, а как состояние, в котором нет ни будущего, ни прошлого, ни настоящего, а всё — как нитки, сплетенные в один узор. Когда говорят «перед смертью вся жизнь прошла перед глазами» — не может быть, чтобы все события жизни еще раз последовательно прошли — нет! вся жизнь, все время жизни будет увидено как ковер, как переплетение ниток, как связи, которые тянутся из детства в старость, и каждый поступок — как капля, которая капает на ковер: одна капля чистой воды — высыхает, не оставляя следов; а капля водки, может быть, разъедает нитки, подтачивает; а капля крови — как в сказке про Синюю Бороду — не смывается и расползается в будущее, и в прошлое, и даже в каких-то неведомых направлениях…
— Ох, Федечка… Пожалей мою слабенькую головку…
— Простите, Анна, мне так много сразу хочется вам сказать… Мне почему-то с вами очень легко! Главное, что меня вдохновляет —
— Нет, Федечка, подожди, подожди… Такой разговор надо перекурить…
С этими словами Анна скользнула к камину и извлекла откуда-то из глубин пледа тонкую сигарету.
Федор опешил: за шесть лет он отвык от того, что можно запросто закурить в общественном месте.
— Вы здесь… курите?
— Балуюсь, — как ни в чем не бывало ответила Анна и щелкнула зажигалкой. — Да не бойся так, Федечка! — рассмеялась она. — Смотри-ка, в лице изменился. Все вытянет. Это же просто труба: вон — труба-а… Что тебя вдохновляет?
— Меня… — Федя вспомнил не сразу, — пожалуй, больше всего меня вдохновляет отмена иллюзий. Отмена ложных противоречий. Я думаю, в будущей жизни, в подлинной жизни отменится противоречие между так называемым «мной-субъектом» и «им-объектом». Знаете, как я пришел к этой мысли? Я вам расскажу.
Представьте, что вы попадаете в рай…
— Я точно не попадаю.
— Представьте! А кто-то из ваших близких отправился мучиться в ад. Как вы можете наслаждаться в раю, зная, что кто-то — и даже любой известный вам человек — в это время страдает? Согласны?
И все согласны. А я вот думаю, это — сугубо земная, или, как писал Достоевский, «эвклидова» мысль: я думаю, после смерти должно исчезнуть противоречие между «субъективным» и «объективным», иначе сказать, между «я» — и «не-я»! Если я знаю кого-то, то он уже — часть меня. Даже если хотя бы я слышал о нем, слышал имя, читал в газете — значит, уже в этой маленькой мере он — часть меня, часть моей «субъективности», личности: например, вы — уже часть меня!
Анна склонила голову набок, и Федору показалось, что она смотрит на его губы.
— Значит, если я иду в рай, то все люди, которых я знаю, тоже вместе со мной идут в рай! Я — вмещаю в себя целый мир и весь мир приведу туда вместе с собой… или не приведу! Поэтому именно самоубийство — страшнейший грех: это убийство не одного человека, а всех, кого знаешь, убийство целой вселенной! И это не поэтический образ, не иносказание, вот в чем дело!..
— Подожди-подожди… То есть я существую только в твоей голове?
— Вы в моей, а я в вашей!
— А кто же из нас настоящий?
— Мы оба! Ах, знаю: ужасно трудно понять. Мы привыкли, что есть так называемое «реальное», «объективное», «существующее для всех одинаково» — или другое, презрительно называемое «субъективным», — и либо так, либо эдак, и мы не можем от этой привычки освободиться — как мы не можем освободиться от ощущения времени, от пространства… В действительности обман — уже в сам о м различении: ибо все — настоящее и в то же время все — субъективно! Оба мы суть настоящие: вы настоящая, и я тоже. Но если я встретил вас в своей жизни, то, значит, вы уже существуете во мне, внутри меня. И я — в вас!
— Я волнуюсь.
— В реальности…
— Федечка, ты такой умный… А где твоя девушка? — неожиданно спросила Анна.
— Кто?.. Леля? — сбившись, переспросил Федор с недоумением. — Леля не «моя девушка». Никогда не была ею.
— Да-а? Правда?
То-то я смотрю… Димка вернулся под утро, что-то в полпятого уже, пьяный в хлам… Пальто не брал. Не холодный. Значит, из дому не выходил… Где мог быть? У нее…
Но не шибко довольный. Пьяный в пень. Укладывался — все чего-то кряхтел... Не похоже, чтобы добился больших успехов. Хотя фиг его знает. Он обаятельный, когда хочет. Димон-то.
— И… что… вы думаете?.. — едва выдавил Федор.
— Думаю, — сказала Анна с ленцой, — думаю, трахнула бы она его, что ли.
Федя приоткрыл рот.
— Все бы и успокоились. Ему чего надо-то? Доказать, что еще ого-го… Ну и пусть напоследочки порезвится…
Вот у вас, Федечка, все так красиво… так сложно… — никем не прерываемая, продолжила Анна, туша сигарету, вкручивая ее в испод чугунных каминных щипцов, затем соскребая пепельный след и заворачивая окурок в фольгу. — А на самом-то деле люди — такие простые животные…
И, очутившись рядом с креслом, в котором сидел совершенно ошалелый Федя — перегнулась через подлокотник и поцеловала его в ухо, слегка прихватив за мочку острыми зубками, и, прижавшись губами к его губам, запустила цепкие пальчики Федору в волосы и принялась эти волосы ерошить, наматывать и куда-то тянуть.
Федор хотел было встать ей навстречу — но ограничился тем, что кое-как обхватил ее спину: когда она наклонилась, коротенький мягкий свитер задрался почти до лопаток, и под его ладонями оказалась обнаженная кожа.
Все беспорядочно взбаламутилось у Федора в голове.
Подобное с ним иногда случалось и раньше. Федор не понимал бессловесных сигналов, которые женщины ему посылали, и чаще всего, не получив никакого ответа, женщины оставляли попытки сближения — но иногда шли дальше на собственный риск — и в этих случаях Федор переживал подобное внутреннее сотрясение: чувство, что с ним происходит что-то невероятное.
Все дальнейшее — в данном случае, копошение цепких и грубоватых лапок — было менее важным: главным оставалось первое громовое эхо, как эхо удара...
Следующим — менее сильным — чувством была благодарность. Федор был благодарен всем (немногим) женщинам, которые у него «были», и всегда чувствовал себя обязанным им — хотя не вполне понимал, за что именно — и уж тем более неправильно понимали они…
Анна довольно чувствительно укусила его за губу.
Кроме «громового эха» и благодарности, в крутящемся, как в стиральной машине, сумбуре мелькала гордость: меня — меня! — выбрала взрослая и красивая женщина…
Но был скованный страх от того, что войдут и увидят неправильное, нехорошее: потому что происходящее — при всей радости, неожиданности, благодарности, лестности, победительности — все-таки ощущалось как нехорошее. Первый момент был прекрасен, а вот от всего последующего лучше было бы как-нибудь освободиться. Губы, целующие его, были ловкими и умелыми — но изо рта у Анны довольно сильно пахло табаком. Кожей головы Федя чувствовал острые ногти, когда его волосы собирали в горсть и тянули — это было слегка неприятно. Ладонями он ощущал прохладную влажность кожи, под кожей какие-то твердые кости… ребра? Из V-образного выреза (ее грудь оказалась совсем вплотную к его лицу, не защищенная ничем, кроме тонкого свитера) — из-под свитера сладко пахло духами и теплым телом — но к этому запаху примешивался запах женщины намного, намного старше него… Вдруг он вспомнил морозный и снежный запах, каким пахла Леля. В следующее же мгновение чужие губы отклеились от его губ, и Анна со вздохом выпрямилась:
— Бесполезно… Целую прекрасного мальчика… а думаю в это время о старом козле! Ах, как ты хорош, Федечка! — воскликнула она, сверкая глазами. — Весь чистенький! Так бы прямо и съела!
Федор почувствовал очень сильное облегчение. Все самое лучшее произошло, и даже повод для гордости появился — а ничего неприятного не успело случиться.
Анна вынула из сумочки тюбик и помазала губы прозрачным кремом:
— Дура твоя эта Лялька, Лелька… ей бы в тебя вцепиться…
Да не пережива-ай! Дура-дура, конечно, но на фига же ей старый козел?
Хорошая девочка, молодая. Мясистенькая… Все сложится!
18. Рассказ о трех ранениях
В нашем городе есть такая промзона. И в районе промзоны кафе, известное место.
Туда пришли... назовем так, солидные люди . Сели поговорить. Кафе на это время закрыли.
Заходит туда молодой человек. Они ему говорят: погуляй. Не видишь, люди сидят? Потом придешь поешь.
Он ушел — а минут через двадцать-тридцать вернулся и всех расстрелял.
Оказалось, что он воевал в Афганистане. Коллекционировал огнестрельное оружие. И сам дома мастерил.
Двух мужчин привезли к нам в больницу, и одного мы сразу взяли на операцию.
Особенность была в том, что револьвер этот, наган, — у него пуля была не обычная, семь шестьдесят две, а малокалиберная. А когда ранящий снаряд обладает высокой энергией кинетической, но малой массой, то, попадая в плотные ткани и ударяясь там о костные структуры, он свое направление изменяет. Получается раневой канал с неправильным направлением. И образуются большие пульсирующие полости раневые.
В данном случае эта пуля сначала попала в грудную клетку — потом ударилась в ребро — пробила диафрагму — вошла в брюшную полость, пробила печень в нескольких местах — потом еще она пробила толстую кишку! — почку! — и ушла в итоге так глубоко к позвоночнику, что мы не вытащили ее. Часов семь-восемь оперировали — но не вытащили. Пришлось этому мужчине удалять почку.
Он в итоге поправился — все хорошо, все нормально. Такой, действительно, серьезный человек: следит за своим здоровьем, заботится…
Не всегда у нас это встречается, честно говоря. Наши люди обычно плохо относятся к своему здоровью.
Вот такой я могу привести пример.
Привезли мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, с ножевым ранением в область сердца.
Очевидно, какие-то там вместе с ним выпивали — и нанесли ему это ранение. В поселке Радиоцентра, тут рядом по Горьковскому шоссе. Привезли его к нам, наверно, минут через сорок.
Мы его сразу, конечно, взяли в операционную.
Было очень тяжелое проникающее ранение в сердце, очень больших размеров. Поврежден был левый желудочек.
Но самое интересное: когда мы начали зашивать — то есть когда сердечную ткань стали стягивать — она начала расползаться, и образовался большой дефект. Из-за того, что у него миокард совершенно был, будем так говорить, нездоровый — из-за образа жизни, так далее, — сердечная ткань у него никуда не годилась. Мы стягиваем — а она расползается, и мы ничего практически сделать не можем. Образуется очень большой дефект, где-то около пяти с половиной - шести сантиметров.
Больной, естественно, быстро теряет кровь. Эту кровь мы не успеваем ему перелить, потому что рук не хватает.
Анестезиологи наши, конечно, боролись: старались, чтобы давление у него не снижалось… Но мы думали, больной умрет. Потому что рану стягиваешь — а она расползается все равно.
И уже как последняя мера — я выкроил большой лоскут из перикарда и подшил к стенке сердца.
И самое интересное: кровотечение остановилось! Сердце продолжало сокращаться. Хотя он потерял больше четырех литров крови. Мы донорской крови ему перелили, какая была, но небольшое количество…
И, вы знаете, как ни странно, но этот больной поправился.
Мы его показывали, возили в «Пироговку» — в научный центр хирургии. Там его осматривали. Даже есть у нас видео. Сняли сердце с этой заплатой...
И дальше мы продолжали следить за судьбой этого больного, чтобы оценить состояние, работу сердца…
Ну что сказать?
Он жив, в общем-то, — но продолжает вести, скажем так, нездоровый образ жизни. Продолжает пить. Была информация, что он в поликлинику обращался: его снова избили, он получил сотрясение мозга…
Понимаете, жалко: вкладываешь-вкладываешь в этих больных — и душу там, и все что угодно. А потом они выходят — и все сначала…
Вот тоже была криминальная ситуация.
К нам привозят мужчину. Он сам, значит, таджик. Он кого-то там со своими друзьями насиловал. На квартире здесь где-то в Ногинске.
Но эта женщина как-то у них ухитрилась вырваться, схватила нож и ножом нанесла ранения ему — в глотку и в полость рта. Был язык поврежден, корень языка поврежден. Там находятся крупные сосуды, язычная артерия. Поэтому была тоже большая кровопотеря, и опять приходилось больному, в общем-то, спасать жизнь.
Зашили ему язык, подъязычную область. В таких случаях мы используем кетгут, кетгутовые нитки. Это не синтетический материал, а нитки, которые делаются из серозно-мышечного слоя крупного рогатого скота. Такая методика приготовления этого шовного материала. Швы потом постепенно рассасываются.
Все, спасли ему жизнь, выписали из больницы — и где-то через неделю опять он к нам поступает!
Видимо, эта женщина сообщила кому-то — друзьям своим или кому, родным, — чем он там занимался, насиловал ее. И те собрались его наказать. Уже из местных жителей — кто-то захотел ему отомстить.
Он испугался. Решил опять отлежаться в больнице. И сам себе эти нитки кетгутовые — раскусил.
Снова все то же самое, кровопотеря — литра полтора или два крови он потерял, снова к нам поступил, мы зашили…
Но на этот раз уже приехали его знакомые из Таджикистана, забрали его, увезли.
Вот такие вещи бывают.
И я вам вот что хочу сказать. Когда работаешь, то, естественно, просто стремишься быстрей спасать человека. Делаешь свое дело как можно лучше. Вот.
А на самом деле, конечно, дикость.
19. Боль
На столике перед Белявским стояла чашка кофе и две стеклянные бутылки воды «Кристальп».
— Поучительно, пра-авда? — пропела Анна хрустальным голоском. — Вкладываешь-вкладываешь — а они выходят — и всё снача-ала…
Белявский, прищурившись против света, взглянул на жену. Лицо у него было серое, под глазами мешки.
— Мы тут с Федечкой мно-ого успели, пока вы… отцуцтвовали.
Ах какая была история про таблеточку. Поучительная. Вот тебе бы понравилась. Мучик — мучику за шестьдесят — поехал со взрослым сыном в лес густой, озеро Жужица, Жижица… Отец с сыном. Соскучились в лесу, вызвали девок. Отец сперва не хотел: «Что я с ними, — говорит, — буду делать?» Сын покупает отцу таблеточку, что-то вроде виагры. Прогресс влияет, ты чувствуешь? Девка делает вид, что залет, — и готово: мужик в шестьдесят пять, что ли, лет — бросает семью и женится на б…ще. А все благодаря малипусенькой таблеточке…
Знаешь, что меня потрясает больше всего? Одноклеточность — ладно. Мозгов нету — ладно. Меня потрясает, что после всего — еще остаются претензии на уважение! «Ах, меня не слушают», «ах, мое мнение ничего не значит»… Так если ты ведешь себя как собачка: свистнули — побежала, все рыло в слюнях — какое потом «твое мнение»? Сначала слюни вытри…
Федор потянулся было, чтобы встать, как вдруг Анна залилась звонким смехом. Федор даже чуть-чуть испугался.
— Я вспомнила анекдот про динозаврика!.. — смеялась Анна. — Знаешь, Федечка, анекдот про динозаврика?
Идет динозаврик маленький, плачет.
«Ой, ну что же ты плачешь? Давай мы позовем твою маму…»
«Нет у меня мамы!»
«Ах, бедненький, что случилось, где твоя мама?»
«Я ее съе-ел…»
«Ай-я-яй! Какой безобразник! Пойдем тогда к папе…»
«И папу съе-ел!..»
«К бабушке пойдем, к дедушке, к дяде, к тете, к сестричке…»
«Всех, всех съе-е-ел!..»
«Кто же ты после этого?!»
«Сирота-а-а!..»
Вот точно. — Анна стряхнула слезинку — длинным ноготком, аккуратно, чтобы не повредить макияж. — Невинные жертвы... эмансипации…
Ах, ладно. Чего мы пугаем мальчика. У него еще все впереди.
Федечка, у тебя были вопросы.
— Я лучше пойду?..
— Сиди! — сверкнула глазами Анна. — Не смей уходить! Не бросай меня. Ты делаешь важное дело. Тебе нужны комментарии. Вон сидит комментатор. Все знает. Все понимает. Спроси его! Спрашивай! Что ты хотел спросить?
— Я хотел спросить… — Стараясь не смотреть на Дмитрия Всеволодовича, Федя побегал по клавишам. — О «промзонах» я вроде бы все нашел… Вот, хотел уточнить, что такое «солидные люди». Он имеет в виду местных чиновников? Или криминальных… преступников?..
— Авторитеты, — хрипло сказал Белявский.
— Спасибо…
— Так, Федечка, спрашивай дальше, — настаивала Анна.
— Вроде бы остальное ясно… Может быть, просто… общие мысли? Общее ощущение?..
— Любимый, — обратилась Анна к мужу, и Федор даже слегка поежился, так оскорбительно прозвучало это «любимый», — какое у тебя «общее ощущение»?
— Омерзения.
— Мало ли, — просияла Анна, — мало ли что у кого вызывает «омерзение»! Надо терпе-еть!..
— Омерзение, безусловно, — заговорил Федя, чтобы только прервать ее — и, как его научили в университете, попробовал выхватить нечто бесспорное в утверждении оппонента, с чем все были бы изначально согласны и на чем можно было бы развивать диалог, — омерзение, разумеется, очень сильное чувство… — продолжил он наугад, понимая только, что, пока он произносит какие-нибудь слова, Анна молчит и безобразная сцена не возобновляется, — сильное чувство обычно свидетельствует, что затронуто нечто важное…
— Затронуто? — нехорошо усмехнулся Белявский. — Я помню, толстая кишка затронута . Кал затронут , моча затронута, кровь затронута. Серозно-мышечное что-то такое затронуто. Что может затрогать анатомический справочник? Что мы слушаем? Вообще, о чем это все?! Зачем?!
Федор немного обиделся. Он проявил милосердие к поверженному противнику, а противник вместо благодарности огрызался.
— Я думаю, — ровно ответил Федя, — что все это — рассказ о боли. Крик боли. Страдания. Я уже говорил, что, на мой взгляд, страдание — ключевая проблема всей человеческой философии…
Всем своим видом Анна выразила одобрение и внимание. Федя невольно заговорил увереннее и чуть громче:
— В сущности, тема большинства записей — именно боль: душевная либо физическая, общая или личная, острая или тупая…
— Да, точно! — с энтузиазмом продолжила Анна и даже встала из кресла. — Я в прошлом году упала на Дьяволецце: приехала в госпиталь. Сижу в очереди, а передо мной пропускают и пропускают! Без очереди идут и идут. Я спрашиваю врача: что такое? Я раньше приехала! Он говорит мне: у них «акутер шмерц». Как это переводится точно? «Сильная»?..
— «Острая». «Острая боль». «С острой болью»…
— Вот-вот!..
Федору было немного досадно, что Анна его перебила какой-то не относящейся к делу глупостью, но в то же время он был благодарен ей за поддержку.
— Я говорю: у меня тоже очень акутер! А он мне, сучок, улыбается и ехидно: «Нет, фрау Бельяфски, у вас не акутер, у вас нормалер шмерц». Я ему говорю: откуда вы знаете, какая у меня шмерц, нормалер или не нормалер?! Каким местом вы вообще можете это знать?..
— Как верно! — зажегся Федя. — В детстве я был убежден, что осциллограф — это прибор для измерения силы боли! Чем выше прыгает эта зеленая вспышка — тем, значит, больнее… Может быть, так родители пошутили? Или какой-нибудь врач в поликлинике? Я в это верил долго-предолго, лет, может быть, до двенадцати, и был страшно разочарован: не мог поверить, что измерителя боли не существует. Столько сложных устройств! — вот, адронный коллайдер совсем рядом с нами, в ста километрах, — а такой жизненно необходимый прибор до сего дня никем не изобретен?
Вообразите, как интересно было бы посмотреть результаты! Допустим, зубная боль — сто единиц. А роды — тысяча единиц! Или семьсот пятьдесят? Или триста? Сколько дней зубной боли равняется одним родам?
А сколько боли один человек испытывает на протяжении жизни? В конце это как-то уравнивается у всех? Или нет?
А когда пробивают руки гвоздями — какой это «индекс» боли, какая величина?
А какая сильнее — душевная боль? Физическая?..
— Физическая, — буркнул Белявский. Все-таки ему трудно было молчать.
— Возможно! — с готовностью повернулся Федор. — Возможно.
Хотя Левинас — вы его знаете, тот философ, который пять лет был в концлагере, Эммануэль Левинас, — считал, что сильная физическая боль захватывает и душу; причем захватывает гораздо сильнее, чем так называемая чисто «душевная» боль, не связанная с непосредственными физическими страданиями. Потому что «душевная» боль позволяет нам подниматься над «здесь и сейчас»; даже наоборот, «душевная боль», как правило, отсылает нас в прошлое или в будущее — а боль физическая намертво привязывает к «сейчас», и Левинас считал, что невозможность вырваться из «сейчас» — это и есть наиболее сильное нравственное мучение…
Ну да как бы то ни было, теперь я считаю: недаром у людей нет такого устройства, которое обеспечило бы объективное измерение чужой боли. Здесь должна крыться некая фундаментальная тайна: человеку и не положено достоверно узнать, как болит у другого; кому больнее — другому или мне самому...
— Каждый думает, «мне больнее», — кивнула Анна, ужалив мужа взглядом.
— Во всяком случае, люди хвалятся болью, это известно. Любят вспомнить свои переживания… На первый взгляд это даже загадочно: почему? Помыслить холодно: почему одна женщина рассказывает, как она хоронила мать? А другая — как плакала из-за сына? А третья — как голодала? Почему они не рассказывают о том, как им было приятно и хорошо?..
— Это ваш мазохизм христианский, — брезгливо сказал Дмитрий Всеволодович. — Пострадал — получи «отпущение грехов»…
Как ни пытался Федор принять вид научной неуязвимости, его огорчало и ранило, что Дмитрий Всеволодович, буквально вчера такой компанейский, находчивый, симпатичный, теперь говорил с ним враждебно.
— Да? Вы считаете, мазохизм... Ну а как же тогда быть с маленькими детьми?
Я даже помню, в детском саду: «А смотри, какой у меня шрам ! А у меня еще больше рана !» Наши родители не были христианами, детей трудно было бы заподозрить в каком-то идеологическом мазохизме…
— Значит, инициация, — процедил Дмитрий Всеволодович. — Примитивное общество. Дикари. Мальчика посвящают в мужчины. Он должен вытерпеть боль. Отсюда все ваши «раны», «шрамы»…
— Татуиро-овки… — ввернула Анна.
Она плавно передвигалась по комнате, выписывая круги, и, в очередной раз очутившись у Федора за спиной, остановилась и положила руку ему на плечо. Федя испуганно глянул на нее снизу вверх: она, продолжая держать руку у него на плече, с ясной улыбкой смотрела на мужа.
Ее губы радостно улыбались, а неулыбающиеся глаза будто бы говорили: «Ну что, любимый? Хочешь что-то спросить? Ну попробуй, попробуй, спроси. Попробуй только».
Федя почувствовал, что его используют. Ему захотелось сбросить со своего плеча маленькую руку. Он даже повел плечом, но Анна держалась цепко.
— М-м-м… — Он все же потерял мысль. — Стало быть, мы обсуждали вопрос: отчего люди хвастаются болью? Вы говорите, инициация… Но ведь не только мальчики хвастаются, девочки тоже…
— Конечно! — Анна пожала его плечо.
— И главное, «инициация» предполагает, что человек хорошо перенес боль, ничем не выказал... А ведь хвастаются совсем другим. Очень часто — перенес плохо, плакал, и даже плачу сейчас, до сих пор — то есть, по логике инициации, потерпел поражение, не сдал экзамен...
Думаю, что гордятся самим фактом боли. Тем, что дано было ее почувствовать. В чем смысл этой гордости? Когда апостол Павел говорит: «Похвалюсь только немощами моими», то есть «страданиями», — в чем здесь смысл? Что он имеет в виду?
— Слушайте. — Дмитрий Всеволодович поднял голову, и глаза его были нехороши. — Самому-то бывало больно? Долго? и сильно?
— Долго? Сейчас не припоминаю…
— «Не припоминаете» — значит, не было. А когда лечите зубы, вам колют анестезию?
— Я редко бываю у стоматолога…
— Вы вообще живете неплохо, судя по вашим вопросам. И все-таки: когда сверлят зуб, нерв выдергивают — вам сначала колют укол?
— Да, но —
— И всё на этом! И не морочьте голову. Боль в цивилизованном мире — купируют. Нейтрализуют. Сильная боль превращает в животное человека, боль человека — дегуманизирует . Разрушает. В боли нет ничего хорошего, запомните, ни-че-го. Все эти досужие разговоры — пока у самого как следует не заболит. Тогда увидите, куда пойдет вся ваша философия. У боли есть одна философия — анестезия. Великое достижение человечества. Знаете, что практическая анестезия существует не больше ста лет? Всего! Сто лет! Знаете, что большинство хирургических пациентов сто лет назад умирало от болевого шока? В Лондоне до сих пор висит колокол — экспонат в больнице Святого Георга — знаете, зачем вешали колокол? Заглушать крики тех, кого резали без заморозки. Пастернаку в двадцатом веке чистили челюсть — кисту банальную чистили без заморозки, это было самое страшное воспоминание его жизни… О боже мой, о чем мы сейчас говорим?!.
Белявский откинулся на спинку кресла. Вид у него был измученный.
Федя потрогал языком нижнюю губу: она слегка вспухла.
— Вы знаете… — задумчиво сказал Федя. — Недавно к нам в лабораторию приезжал один очень крупный лингвист из Сорбонны.
В частности, он рассказывал о «пра-синонимах». Это понятия, которые в древности были синонимами, а по мере развития цивилизации разделились. Самое удивительное, что языки совершенно различные, даже из разных семейств — а синонимы те же.
Один из примеров, которые он приводил, было именно слово «страдание». По-французски peine . От латинского poena . По-гречески «п о нос», ударение на первом слоге. У всех этих слов первое значение — «боль, страдание». А второе значение — «тяжелый труд».
И в древнеславянском языке слово «труд» означает «страдание». «Видишь труд мой елик» значит «видишь, как я страдаю?». Собственно, и наоборот: «полевая страда»…
На меня эта мысль произвела очень сильное впечатление: боль есть труд. Для современного цивилизованного человека странно: ведь у труда должен быть результат? Какая-нибудь «прибавленная стоимость»? Здесь — на первый взгляд нет результата...
Но я думаю: а вдруг действительно не-пережитая боль — как невыполненная, недовыполненная работа, висит, тяготит... Как будто ходишь по жизни — но удовольствия не получаешь: твоя работа не сделана, ждет, и все равно не отвертишься, твою работу никто не сделает за тебя…
И наоборот: не гордятся ли люди страданием пережитым — как выполненной работой? Как пройденной до конца «страдой», как хлебом насущным, добытым в поте лица?..
Федор Михайлович Достоевский тоже отметил эту таинственную гордость: «редко человек согласится признать другого за страдальца, точно будто это чин»…
— Так. Опять Достоевский, — оскалился Дмитрий Всеволодович. — Вижу, пора объяснить вам про Достоевского. Раз навсегда. Здесь у вас есть интернет?
Если одновременно искать — вы сможете в это время слушать свое? Тогда заводите, что там у вас по программе. А я пороюсь...
20. Куда ведет тропинка милая, или Правдивый рассказ о том, как Михаил Ходорковский обманывал государство
Ну вот я работала у Ходорковского.
Как его замели — и нас взяли всех, прямо в этот же день! Всех (смеется) по стенке поставили: «Кем работаете? Кем работаете?» Я говорю: «Да меня попросили прийти убраться! Я откуда знаю кем?! я никем не работаю здесь!»
«Ну ты Павлик Морозов!» — он мне говорит. А я: «А откуда мне, что мне, следить, что ль, за ними?! Машины ездют, — я говорю, — люди работают, вон дорожки метут, цветочки сажают; а кто здесь, что, кого охраняют — какое мне дело?! Я что, до них допытываться буду, „что это” да „хто это”? Оно надо мне?!.» «У, Павлики, — говорит, — Мор-розовы собрались...»
Нам нельзя было ничего говорить, ты что.
Я работала горничной на КПП. Но меня и на территорию выпускали. В доме, когда ремонт или чего-то — приходилось мыть тоже, все эти там статуэточки протирать, окошечки… Но моющие, конечно, там были — о-о!.. И шуманиты, силиты, и… Все эти пемолюкс — это не чета вообще: там и… как они… чистить чем, эти блестели чтобы, кран ы : багиклин … ой! И даже таких я и в магазине-то не встречала, какое-то еще… кумкумит … ой, не знаю, чего там не было! Мыло камей, представляете, все это дорогое: и перчатки, и тряпочки — и одну за одной, сколько хотела, столько брала, вот эти желтые, по двадцать пять рублей тогда были, мягенькие, я ей сегодня помыла — и выбросила! Вот не считались, действительно, люди…
Но не дай бог прошел кто, следы, надо протереть сразу; то с пылесосиком, то запрыгну окошки помыть… (хихикает) Со всех сторон и зимой и летом всё протирали, чтобы вообще не было никаких, ни пылиночки — ни с улицы, ни с этой стороны…
Хотели старшей поставить горничной. Я говорю: «Э не-ет!..»
У меня ребята на КПП молодые, я им — то пирогов напеку, то приеду с работы каких-нибудь пряников быстренько напеку: подкармливала ребяток. А че мне? Какой-то стимул в жизни же должен быть? Прихорошишься, помолодеешь...
Иду, у меня шуба-то нараспашку, волосы эти длинные развеваются, а ребята (шепотом): «Глянь, глянь, Ритуська пошла!..» Наблюдают меня.
Ну, естественно, юбочка, здесь разрезик, колготочки все там эти с цветочками, босоножечки, юбочка... Моешь лестницу, со шваброй в этой юбочке возисся, а они с сумками... прут! Ребята, охрана-то: «Маргарита Иванна, дор-р-рогу!..» —
«П о няла!» Поднимаюсь — а тут разрезик у меня… ой, кошмар!.. (смеется) Андрюшка потом говорит: «Слышь, Ритусь, ну ты что ж это со своим телом делаешь?! Нет, ну че ты делаешь-то с ним?»
Я так: «Че я сделала-то? Синяки, что ли, где?..»
«Ты смотри, — говорит, — ведь ребята бесятся ходят! Не дай бог че случится…»
Я говорю: «А че бесятся-то?» (смеется)
А тем более в сорок лет начинаешь еще издеваться-то над ребятами молодыми. Каждый день поменять себе что-то, какой-то имидж, где-то покраситься по-другому, одеться, причесочку... А это их заводило.
«Риту-сик! Па-дем перекурим!» Они меня уважали, меня молодые ребята везде уважают…
Но гоняли за это, вообще!
Начальство меня вызывает: «Вы не должны выглядеть лучше хозяев. Золото не носить, не краситься…»
Я говорю: «Может, мне еще это самое, платочек черный одеть?»
«Вот вы видите, как у нас Оксана работает горничная? Брючки, ботиночки…»
А ботиночки как в тюрьме — толстые со шнурками, и брюки такие стеклянные, синие… Я ей говорю: «Че ты ходишь боисся? Оксан!» — «Ой, что ты, что ты, мы не должны...»
Вызывает меня тоже: «Маргарита Ивановна, смотрите, чтоб вы не плакали горькими слезами». Фафа ходит, учит меня жизни.
Я говорю: «Дочь! Ты мене жизни-то не учи. Тебе двадцать пять лет. А мне уже, — говорю, — сорок пять». Ну вот такой разговор, чисто это самое... «Я-то плакать не буду, — я ей говорю, — у меня муж - двое детей. А вот у тебе детей нет да мужа: вот ты плакать будешь!..»
Но получали, конечно, мы по тем временам — триста долларов! По бюджетам по ихним было у нас, допустим, шестьсот тыщ или там восемьсот — ну, чтоб налоги маленькие платить. А тогда триста долларов — извините, для горничной очень даже хорошо получалось.
Но потом всё, его ж посадили… Не дай бог, думаю, заметут еще: ай, ну на фиг. Ушла.
Но он зря, конечно… Сам виноват. Че полез куда не надо?..
(звонит телефон)
А вот и мама…
Мамулик! Привет, где ты там?
Мам! слушай, во-первых, мне тут надо канистру тебе… Ага. Ага.
И вопрос тебе на засыпку: скажи, у деда... у отчима, у дяди Степы — какую песню-то пели на похоронах?.. Ну, какую он всегда любил песню?..
А-а, точно!.. Да тут, как говорится, корреспонденты у нас… ну да, вроде того. Рассказываю им историю. Что кричал: «На моих похоронах чтобы песню исполнили!»… Ну да, да… Ну ладно, мамуськ, целую, люблю, все, давай!..
«Куда ведет тропинка милая». Ну вот видишь? Не соврала.
«Куда ведет тропинка милая». Пели ему.
Он вообще интересный был, дед…
Я ж тебе не рассказывала: я ему тоже бутылкой-то съездила по башке! Вишь, бутылки-то у меня летали по головам…
В День молодежи гуляли у нас на терраске.
А свет-то раньше в деревне всегда воровали. И до сих пор все воруют. Счетчик — и там наверху, ну где это... провод такой делали оголенный, и с обоих сторон закидывали: кабанчики такие цепляли — и все.
Ну, и дед начал че-то к мамке по этому делу: «такая», «сякая»!.. И раз! — ее душить!.. и к этому счетчику — а там два провода эти торчат!.. Я хватаю бутылку! — пустую. Пустую бутылку можно даже об ведро не разбить — я об голову ему разбила!
Так он и не знал до сих пор, царство небесное, что это я. За голову так схватился: «Ох, дочка… дочка… мне это там... в голове… осколки вытащи...»
А я думаю: «Щас я тебе, старый, еще их поглубже туда засуну!..» Ага! (смеется) А что ты думал!..
Вот мамке-то моей, представляешь… (вздыхает) Первый муж резал-стрелял…
Да, отец мой. Нас с сестрой хотел застрелить. В деревенском доме поставил к стенке, ружье зарядил... Мама только вот так ружье успела вверх…
А когда маму пырнул, два миллиметра до сердца не достал. Ножом, ножом! Я маленькая была, помню. Светлана на руки прыгнула, сестра, прям в руки ему — и мама так вот падает… (вздыхает) Папа был жестокий у нас…
Так что я за мамку могла… Прямо все закипало внутри!..
Боевая, а че!.. (смеется) Мужа тоже вон один раз ка-ак толкнула в пруд — в чем в Москву ехать собрался...
Зато в обиду его не дала тоже, мужа-то…
Пил, конечно. Из гаражей из этих вылавливала — находила, кодировала, в больницу клала… Три раза кодировала. В девяносто пятом году думала, все уже, ему не жить.
В реанимацию положила сюда, а они не справлялись.
Я возвращаюсь с работы, бегу, а он: «А-а-а!!» — одеяло запутает: «Бежать отсюда!!» — всё рвёт, всё машет...
Я говорю: «Ну давай я тебе укольчик сделаю, сейчас посидим с тобой и домой пойдем…» Ну, как бы нормально: там ни скандалов ему, ни нотаций… Реланиуму кольну, говорю: «Ну, давай сейчас посидим, поговорим с тобой, ты мне расскажешь...»
Он успокоится и уже так мне: «Ну ладно. Иди! Я тут сам, без тебя. Нюрок! иди сюда, мы с тобой яблочко съедим…»(Сестре.) «Нюрок! — говорит, — иди яблочко есть…»
…Ой, да кого там было ревновать-та!
Думала, все, не выживет. Но вроде ему прокапали, пролечили, домой его перевезла, нарколога-психиатора вызвала, заплатила ей тоже денег… Денег не было в доме, конечно, двое детей…
Психиатор приехала, научила: говорит, чтоб никаких дома компаний!
А он опять где-нибудь спрячется от меня, я опять лазю ищу его…
Как собачонку в лес выводила. «Пойдем, говорю, прогуляемся, ну пойдем! Я тебе машину куплю, денег, говорю, дам, найду, только не пей…» Чем только ни уговаривала. Но не кричала никогда, не орала.
И он держался: первый раз шесть лет у нас продержался.
Второй раз три года.
Ну сейчас вот уже — давно не пьет.
Он уже может… — друзей-то много, и в парке автобусном — он уже: «А че это вы не пьете, че это вы?..» А раньше если увидит, что я выкинула бутылку пива, мог в окно выпрыгнуть за бутылкой.
Было оч тяжело. Я уже сама и уколы делала, обучилась полностью в медучилище, и работала тут на «скорой» у нас, ездила на вызыв а . Вот не с этой стороны, а где морг теперь, там у нас раньше была «скорая». Я сестрой-хозяйкой работала тоже, ну и санитарила на вызывах сутками.
Ни в одной ситуации не растерялась, смело меня отпускали везде…
…Ой, в какие только ни попадала!.. Однажды едем…
Однажды едем, значит, на перевозку, вот тут на Можайке сто девятнадцать, этот угол, автобусная остановка, торговый центр. Гляжу: че-то мужик на дороге сидит. Садится — падает. Садится — падает.
Ну че, пьяный и пьяный, да? Но чего-то я говорю: «Володь, слышь, давай остановимся, с дороги хоть оттащим его…» Вот че-то меня кольнуло.
А холодно!..
Выскочила, подхожу к нему: «Че сидишь?»
А он мне только говорит: «Автобус — переехал — ноги».
Он с задней стал спускаться ступеньки и подскользнулся, упал, и ноги у него туда… Автобус поехал — и переехал ему. И уехал! А у него от боли... ну, болевой синдром, шок болевой — он сидит, за сумку держится, ни встать не может, ниче: подымается — ему больно, он падает.
Я без чемодана — ни обезболивающих, ничего: беру шину, под ноги ему подоткнули, халат порвала, тряпками этими привязала… Кричу: «Володь!» — он машину туда подгоняет, мы его в машину к себе, включили всё, все мигалки, орем!.. На встречку выруливаем, по встречке, с мигалкими со всеми с этими, всё, летим…
А раньше ж брали только по полюсам . Я ему говорю: «Где работаете?» Он говорит, какая-то организация замудрённая, предпринимательские какие-то… Я говорю: «Не в десятке?» Он: «Нет». А мы только десятку обслуживали. Я Володьке: «Давай в ЦРБ!»
Привожу в ЦРБ, там в приемном сидит врач не врач, или кто там, не знаю, фельдшер — такой уже, в годах, пишет: «Н-ну, ч-че случилос-сь?»
Я говорю: «Я санитарочка со сто двадцать третьей. Парня подобрала на дороге: ему автобус ноги переехал!»
А он мне: «Н-ну, давайте пос-смотрим, пол ю с-с какой у него, где рабо-отает… Может быть, он не на-аш…»
Как я здесь завелась! Кричу: «„Наш”, не „наш”! не кусок колбасы, делить не будем!»
И к мужику-то к этому моему — а он… все, отключился!! Голова уже на грудь — раз… кокнул! Все, он в коме уже у меня!
Как я там заорала на все приемное: «О н у м е н я у м е р !!!»
Тут все ка-ак подхватились! (смеется) Тут же ему наркотики, обезболивающее, каталку сразу — все нашлось! Все прибежали сразу!
А че, действительно: я ж привезла-то его в нормальном состоянии, он отключился-то у меня уже в приемном… Как можно у человека… а если кирпич на голову упадет, без сознания: «где работаешь» будут спрашивать, что ли?
Ну, тут же его отреанимировали, жив остался…
Ой, на «скорой» там чего только не прошла… просто сейчас некогда уже…
На дороге, я помню, тоже вон, — у «Дубравы» мужика сбило, парня. А мы ехали на перевозку, то ли с заправки мы возвращались… Я его забираю в машину, обрабатываю — у него все лицо было — вот он как катился, видно, в щебенке… А дипломат не выпускает из рук! Это когда начались эти, предпринимательские — он с деньгами откуда-то шел… Вцепился в этот свой дипломат, не отпускает. Я говорю…
(Звонит телефон) Сейчас…
Да, Тонечка!.. Так… Да-да-да… Да. Ну правильно!.. Так… Да… Вскрытие будет? Угу… Но они же должны заключение дать?.. Э-э-э… А кто вам даст свидетельство-то о смерти?.. А, морг даст! Хорошо… А забирать-то его из морга будете?.. А… Судебка, судебка!.. Но чтоб заключение сделали! Чтоб бесплатно сделали, слышишь? А то тоже деньги сдерут. И за хранение, и за то, что одевать будут… А ты скажи: мы соседи просто! Соседи мы! Он нам как бы никто. Он бомж! Всё, соседи, ага, соседи!.. Паспорт-то нашли у него?.. А у него был вообще паспорт-то?.. Ну и пусть сами тогда пробивают: действительно, что, бомж и бомж… Вы почему должны за него отвечать? Если милиция не справлялась… Мы принесли его: что, скажи, мы платить еще будем за это, что ли?!.. Ну да!.. В принципе у него есть сестра: пусть сестра на себя и берет, если что… Ах, она не хочет… Ах вот так…
Ну и гните на то, что он как бомж поступил, он никто, он ничейный!.. Вот, ты прозондируй почву, скажи: мы соседи, че дальше? У нас, скажи, и денег-то нету. Вот. Поговори с Коноваловым, вызови Коновалова. Давай, Тонечка, давай!
У моей подруги зять умер. Допился, все! Долги навешал на них, кварплату выплачивать за неизвестно сколько и щас теперь еще хоронить! Дочке остался должен сто пятьдесят тыщ одних алиментов.
А раньше был кэгэбэшником. Вот до чего докатился!
Он пил. Она развелась с ним. Щас все живут с матерью в однокомнатной: Лена, встречается щас с молодым человеком, если придет; дочка Ленына; бабка, и Тоня вот, — пять человек в этой комнате в одной, ютятся там неизвестно где… (вздыхает) Ой господи, беда прям…
А он один в двухкомнатной. Хорошо хоть одну комнату они забили, железную дверь поставили. А то он же все двери вообще поснимал, все попродал — это уж умудриться надо, чтобы продать двери межтуалетные! Мож, на дачу кому… До чего опустился! Туалет с ванной — всё, раковины — такую раковину умудриться, кран ы поснимал... (смеется) Вообще кошмар!.. Ну вот умер наконец, царство небесное.
В тюрьме сидел тоже два раза. Полез воровать: есть надо было чего-то, он через балкон к соседям залез… Ой, дочке оттуда написал, чтё-т-ты! Они там все… моей племянницы тоже муж — он щас, правда, освободился, по-моему… — ох, красиво там сочиня-яйю-ют!.. А больше-то заниматься чем?
Ну и все. Бомж бомжом был. Водил всех алкашей, отраву эту, всё, вши — это ж противно было смотреть! Эти вот наркоманы все, алкаши — стоят у помойки, и никакой управы на них, ни в Москве, ни нигде. Их, говорят, еще и кормют. А что с ними делать, если их даже заставь работать — они не будут работать. Они привыкли к такой жизни, всё. Ну вот, видать, или убили его, задушили, подушкой, мож, думали, он один, мож, квартиру хотел кто…
С утра была эпопея. Машина за машиной, милиция за милицией, эксперты, скорая, эта вся канитель целое утро. Вот только отвезли в морг.
А я научила: «Ты им говори, что он бомж: вы соседи!»
…А че жена-то? Он бомжевал! Сестра тоже, видишь, отказывается хоронить. А она и не будет! Если при жизни-то он ей не нужен был. Тоже, если так разобраться-то…
Ох, ну хоть, слава богу, он руки им развязал. Квартира приватизированная, на дочку на Леныну и на него: теперь все на дочку останется. Он как задолжник, сто пятьдесят тыщ только за алименты…
Я научила, его отвезли бесплатно уже… (смеется)
Вот в этом плане.
Видишь, как получается в жизни… Сказка!
21. Дыра
— Кажется, это у вас называется богохранимая? — осведомился Белявский. — Не путаю?
Он уже осушил две бутылки «Кристальпа» и только что вернулся к камину с очередной чашкой кофе и с третьей бутылкой.
— Послушайте, Федор. Вы вроде знаете там, куда обратиться: можете пролоббировать, чтоб поменьше хранили? ..
У Феди было тяжело на душе.
— Ах да! — не унимался Дмитрий Всеволодович. — У вас же пьяных бог бережет? Есть такая пословица «Пьяных бог бережет»? Тогда точно богохранимая!
Хомо сапиенс на восемьдесят процентов состоит из воды, хомо руссус — на сорок. Сорок — воды, сорок — спирта. Плюс хрящи.
Глядите: мы слушаем третий день. Ни одной, ни единой записи, чтоб эти люди не пили. Ребенок родился — что первое? Это. Обмыть. «Человек пришел в мир». Спасибо, отца в первый день не зарезали. Типа все впереди. Детский утренник — надо «это». «Ирина Сергеевна, надо э-то» . Как штык. Умерла — «помянули как следует». С того света приходят — зачем приходят? Не правда ли, глупый вопрос?..
— Нет, не глупый, — стойко возразил Федя. — Наоборот, очень важный вопрос: зачем русские пьют.
— А что они еще могут? Пруста читать?
— Надо думать, что русские пьют затем же, зачем и все люди…
— А вот ни фига! — снова перебил Белявский. — Нормальные люди в нормальных странах пьют, чтобы повеселиться, расслабиться… насладиться… Барьеры снять, за девушками поухаживать, потанцевать…
— А у нас?
— Чтобы сдохнуть скорее!
Федя не стал немедленно спорить. Вместо этого он решил поделиться своим наблюдением:
— Однажды я сопоставил два места в Новом Завете. В Послании к Ефесянам апостол пишет: «Не упивайтесь вином, а исполняйтесь… — то есть „наполняйтесь” — Духом». Не правда ли, странно: апостол Павел буквально через запятую говорит про Дух Святой — и вино?
И этот момент — не единственный. Когда Дух Святой впервые сошел на апостолов, некие люди «ругающеся глаголаху» — то есть говорили, насмехаясь, — «яко вином исполнены суть» — то есть что апостолы напились сладкого вина, буквально по-гречески «наполнились сладким вином», «наполнились сладостью»… Два раза упоминается сходство между действием Святого Духа — и действием алкоголя!
Вы говорите, «повеселиться»: веселье, радость… «Расслабиться», «снять барьеры»: свобода… И «насладиться» — именно насладиться, наполниться сладостью, как будто сладким вином… Именно!
И даже когда вы говорите «сдохнуть»: в каком-то смысле тот, кто исполнен Духа, наполнен Духом — мертв для здешнего иллюзорного мира…
Разумеется, разница принципиальная: алкоголь дает временную иллюзорную радость — временную горьковатую сладость — и временную обманчивую свободу. В то время как Дух, то есть собственно Бог, преподносит свободу, и радость, и сладость — подлинную и вечную. Но при всех оговорках: вино, которое наполняет сосуд — представляется как некий образ Святого Духа…
Не зная Духа, человек обращается к этому образу, к этой подмене… да, грубой. Да, совершенно не… неудовлетворительной. Но все же — когда человек пытается себя наполнить, заполнить — что кроется в этом желании? Не означает ли уже само это желание, что человек ощущает внутреннюю пустоту, что она покоя ему не дает? Если бы пустота его не тревожила, он и не пил бы…
Если целый народ, вы говорите, по-черному пьет — может быть, именно этот народ сильнее других ощущает внутреннюю пустоту? Острую нехватку Бога?..
— Цинка.
— Что?
— Говорю: может, просто цинка нехватка? Вон у финнов, у шведов — северная проблема… Может, достаточно биодобавок? И бог, глядишь, не понадобится…
Ха-ха-ха! черт возьми, приятно вас озадачить…
Вы, Федор, все-таки очень молодой человек. Не в обиду будь сказано. Я эту песню слышал уже знаете сколько? «Пьяные, ...ные, зато духовные». Это очень вредная песня, поверьте. Лживая и гнилая. «На лицо ужасные, добрые внутри». Щаз.
Что-то у вас было еще в этом роде... А, да, «боль как фабрика»...
— Фабрика?
— Ну да, боль, которая что-то там производит. Что-то такое хорошее. То есть чем больше народ страдает, тем больше он этой субстанции производит. Мысль остроумная. Но, увы, не выдерживает проверки.
Кто у вас там рассказывал про сорок восьмой год? Бабка легла на пороге — хорошо, был отец бригадир — по блату договорился — забрали бабку. Сдохла где-то еще — не у тебя на пороге. Окей, голод. Я понимаю.
А сейчас? В наше время? Человек умер: хороший, плохой — человек. Жена не хочет его хоронить. Не хочет тратиться. Бывшая жена, окей, но у них общий ребенок, она носила от него ребенка. Родная сестра не хочет похоронить. Что это вообще такое?
Человека автобусом переехали — и уехали. Это что? Это где происходит? В степи? На Северном полюсе? Нет: она говорит, перед торговым центром, угол большого шоссе…
Да никакому Западу в страшном сне не приснится настолько мертвое отчуждение. Такое отсутствие личности. Я имею в виду, твоей личности — для другого. Тебя просто нет. Ты невидим. Ты ноль. Между тобой и другим человеком — не то что тепла нет: ноль, космос, космическая пустота!
А вы говорите, боль производит… Она ничего не производит. Ни одной факин’ молекулы.
— Тогда зачем люди страдают?!
— А кто их знает.
— Зачем Бог позволяет людям страдать?
— Бога нет.
— Если вы говорите, что русские — это дети…
— Злые дети.
— …То, значит, страдания русских — это по сути и есть «слезинка ребенка», и не слезинка, а целое… море, поток! Зачем, по-вашему?
— Некорректный вопрос «зачем?». Ни за чем.
Корректней поставить вопрос: «почему?» По какой исторически-философской причине? И тут я отвечу. Русские — тупиковая ветвь. Русские провалились между двумя огромными цивилизациями…
— Между Европой и Азией?
— Шире! Между цивилизацией будущего — и цивилизацией прошлого. Ни туда, ни сюда. Цивилизация прошлого — не в хронологическом отношении, а в глобальном. В концептуальном. Можете называть «традиционное общество»: в Азии, в Африке, в Южной Америке, на Кавказе, даже отчасти в Южной Европе — человека поддерживает семья. Человек принадлежит роду . Человек под защитой своего Рода . Можно не знать таблицу умножения, но родных надо знать до седьмого колена. Тетка с отцовской стороны и с материнской стороны — это два разных слова, знаете, у армян до сих пор? Потому что твой род — твоя защита, опора. Традиционное общество. Цивилизация прошлого.
И есть — новая цивилизация, европейская, американская: человек может жить в одиночку. И выживать. Потому что он защищен государством. Со всех сторон. Его лечат. Его охраняют. Ему гарантируют сбережения в старости. Его хоронят. Его не переезжают автобусом!
Будущее — или прошлое. Род — или государство. У всех! Во всем мире. А русские — провалились промеж. Семьи нет, род разрушен. Про государство — вообще смешно говорить. От старой цивилизации русские оторвались, их там уже нет — а до новой ползком ползти лет четыреста! — получается, их нет нигде. Они в черной дыре. Нет защиты — вообще никакой!
Вы спрашиваете — «почему» бог?.. «Зачем»? Как он смотрит на это? Я думаю, если он вообще смотрит — то как на какой-то невероятный эксперимент…
Ладно, все. Дайте мне еще двадцать минут в интернете, я расскажу, откуда у вас с Достоевским весь этот «божественный замысел», «высшая правда»… Все вам расскажу. Заводите шарманку.
22. Рассказ снабженца
Смешно сказать: я когда пацаном был, пятнадцать лет, я мечтал всё, это самое, узконосые полуботинки. Знаете сколько? Девять рублей. Это большие деньги по тем временам. Если бутылка водки стоила два рубля восемьдесят семь копеек. Вырезка, настоящая вырезка — три рубля! Рыбой все завалено было: заходишь в магазин — изобилие! Коньяк был четыре двенадцать, тоже валялся запыленный — никто и брать-то его не брал…
А зарплата была у отца… скажу даже сколько: пятьдесят семь рублей. Во какие зарплаты были! Жили хреново, мягко сказано. Во многом нуждались — ну а что делать? Такова жисть.
И все-тки было интересно. Приходилось выкручиваться как-то-либо, пути искать, доставать, приспосабливаться…
Я уже с детства был человек предприимчивый вот в каком отношении: я стал копить. Раньше у всех у ребят была мода: хотелось купить обязательно мотоцикл. Легковую — там даже речи не может идти об этом, купить. Это пожилого возраста ездили на машине. А молодежь ездили на мотоциклах. Если мотоцикл купил, то это ты уже — во! — первоклассный парень. Ну, я копил-копил-копил — и накопил! Хотя вообще-то к технике равнодушен.
Мать мне говорит: «Сынок, а как же? Ведь денег нет...»
Я говорю: «Деньги есть».
Она говорит: «Не может быть!»
Я говорю: «Вот деньги».
«Откуда ты взял?!»
Я говорю: «Накопил на протяжении такого-то-такого времени».
Вот сейчас у вашего поколения такого нет, чтобы действительно к чему-то стремиться, добиться… У вас таких стремлений нету сейчас.
А у меня — прежде всего, я добивался положения в обществе. Обязательно добивался. Я работал в строительном тресте. Меня один человек увидел — такой, в годах уже, — и говорит мне: «Ты, — говорит, — прирожденный снабженец».
Я говорю: «Да какой, я в жизни никогда…»
«Иди работай в снабжение. Пойдет нормально, научишься». И что ты думаешь? научился!
У нас такая была Канатчикова база, на этой базе все было: пиломатериал, лес, изделия из него, паркет был... Тогда славился дубовый паркет. Это самый наилучший паркет был. И вот меня послали, молодого снабженца: «Давай ехай — привези дубовый паркет».
Я приезжаю туда. Ну, представляете, лет двадцать от силы… ну двадцать три... Прихожу, а там женщины сидят: здоро-овые…
«Чего пришел?»
Я говорю: «Вот у меня наряд на получение дубового паркета».
«А у нас его нету».
Я говорю: «Как это нету? Он у вас есть».
«А мы сказали, что нету».
Я вышел, думаю: как это нету, не понимаю ничего… Вроде бы есть — и нету? — ничего не понятно.
А там мужик был, тоже снабженец, ну, правда, постарше моего. Он мне говорит: «Ты чего приехал сюда?»
«Да за дубовым паркетом…»
«Ну и чего?»
«Не дают мне…»
«А как ты пришел?»
Я: «Как „как пришел”? Вот у меня разнарядка…»
«О, дружок! так не приходят. Надо было с собой торт взять хотя бы. Иди в магазин, бери торт, приходи».
Я так и сделал. И сразу дали что нужно — паркет.
Тогда же ничего не было — никаких ликбезов. Сами учились всему.
Человек к тебе обратился помочь — помогай! Потом тебе оказалась помощь нужна — ты приходишь ко мне: «Извини, вот такое случилось, мне нужна твоя помощь…» Я говорю: «Вопросов нет — пожалуйста». Один одно делает, другой другое делает. Вот, предположим, врач сделал операцию — все-е, благодарность у меня есть… А как? иначе нельзя.
Сейчас, конечно, время не то уже. Сейчас бутылку коньяка, чего-то там шоколад принести — это никому не нужно. Только надо деньгами. Деньги дашь — тогда делают. Легко и просто. Сплошь эта вот мелкая коррупция: в поликлинике, везде. И дефициту нет ничего.
И вся молодежь — вот все это споко-ойствие, равнодушие, наплевательское это: «Да ну-у… голову ломать себе…»
Ты посмотри, на проходных стоят кто? Молодежь! Ты молодой? Иди работай! Если у тебя голова на плечах — работай!
Вот я щас лежал с мужиком: «Ты работать работаешь?»
«Нет».
«Ну а где же живешь, с кем живешь?»
«Живу с мамой».
Выходит, мама пенсию получает, ты эту самую пенсию берешь, а бедная твоя мама занимает, чтобы чего-то покушать?
Я говорю ему: «Это же свинство, это ты негодяй. Такие люди — вас вообще убивать надо, блин!»
Разве ж можно?! Мать-отец заработали свою пенсию не для того, чтоб еще кормить этого балбеса!..
Я работал так!.. рассказать, так никто не поверит. Я себе не позволял, чтоб в обеденный перерыв поесть нормально как человек. Мог пожрать на ходу — и вперед! И вперед! И вперед! И вперед. Но я добился такого положения!.. Я исполнял обязанности начальника отдела снабжения треста!
Конкурентов я устранял.
Один приходит: «Ну что тут у вас, отдел снабжения? Я буду у вас начальник отдела».
Я говорю: «Приятно…»
А по нему видно — видно же по нему, что он алкаш! А его — ставят моим начальником!
Я сколько лет — всё «и. о.», «и. о.», «и. о.», «и. о.»! Потому что устав был такой: начальник отдела должен быть членом партии. Обязательно. И иметь высшее образование. Ну ладно, уж пусть я буду «и. о.», но не такого дурака все-таки надо мной ставить, который вообще без понятия…
Ну я его и убрал.
Говорю ему: «Слушай, это ж такое дело, — мол, — тебя назначили! Пойдем, это…»
Он говорит: «Ты что, нельзя…»
Я говорю: «Да по рюмочке — и кто знать-то будет? Сейчас немного отойдем, — говорю, — от здания, вмажем…»
Ну он — бац! — это, вмазал, потом еще: вм-мазал! — и несколько дней пил беспробудно!
Шеф: «А где он?»
А я говорю: «Откуда я знаю? Ну, может, где-то в компании были, выпили… за назначение…»
Через неделю приходит — в виде в тако-ом!.. Ну тупой человек, разве можно? Хоть бы в баню пошел отмыться… Тем более он в таком государственном тресте…
Шеф: «Ув-волить!! Немедленно!»
А я шефу, мол: «Парень-то молодой, всяко в жизни бывает...»
Хотели его по статье, я отговорил: отпустили по собственному желанию.
А чего? В жизни так и надо людей убирать — ненужный хлам, вообще…
Я свою жизнь не просто впустую гнал, как сейчас молодежь. Я действительно добивался. Был дефицит — я его преодолевал, доставал — мне удовольствие доставляло. У меня и сейчас все есть. Хотя уже возраст стал преклонный…
Но вот сын у меня — он особо не хочет мне помогать. Говорит: «Пиши дарственную на дачу, тогда я буду помогать». Сначала деньги ему. Не знаю, откуда у него характер такой. Не знаю. Он парень споко-ойный... Он ро-овный, никогда голос не повышает, он лучше просто уйдет и все.
Вот девчонка — она копия моя чисто, дочь. Ей надо бы мужиком родиться, а этому наоборот.
Дочь приходит: «Пап, сделай мне бюллетень?»
Я говорю: «Иди к маме. Она работает в поликлинике — тебе справку любую сделает моментально».
А та как: «Не! не! Мама говорит „Нет!” — и все».
Ну что делать? Пошел, заплатил, сделал ей бюллетень на три дня…
То есть не было у меня, чтоб жена что-то сделала. Я все делал.
Дочери было нужно — кто в институт устроил ее? Только я. Лаборанткой.
Жена ничего не умела. Вопросы она не решала, не интересовалась ничем. Только я занимался своими руками. Жена за моей спиной все время была.
И такую мне сделала подлость. Это вообще невыносимо — порушила мою семью.
Ну как: бывает у человека мечта.
Мечта в чем? В том, что она работала с военными. Они получали в первую очередь квартиры. Квартиры хорошие, в любом месте — в Монине, на Лосино-Петровском… Обстановка в квартире была более лучше. Одевались получше. А у нее не было ничего. И все это годами, годами оседало, оседало, оседало: она ждала момент, когда какого-то-либо полковника подцепить.
Полковника не нашла, но нашла подполковника.
Я сказал ей: «А сможешь прожить-то?»
«Смогу! На кой хрен ты мне нужен такой — ни хороший, и ни плохой, никакой!»
Я тогда пил, конечно... конечно, пил. Год болтался вообще. Меня выбило из колеи.
А потом решил: хватит, все. Сам решил. Бросил водку. Сейчас вообще — ни водку, ни вина, ни пива — ничего. Мужики меня спрашивают: «Ты чего, закодировался?»
«Не кодировался, ничего».
«А как так?»
Говорю: «А вот так, сила воли».
«Ну, этого не может быть!»
Я детально рассказываю. Да, был тяжеловатый момент. Но я сам себя пересилил. В результате вот — шестой год. Уже пять лет и три месяца. Не тянет, ничего. А эти как продолжали — они так и пьют.
И жена тоже первое время: «Конечно, ты закодировался...»
Думала, все (про меня): мол, пойдет по всем этим злачным местам, будет пить там, валяться… Ну а исход известно какой — летальный исход.
А я пришел к ней — в костюмчике новом, рубашечка с галстучком... Она: «Ой-е… Какой у тебя костю-ум?!..»
Я: «А что я — не человек?»
Речь не то, что костюм: она не предполагала, что я на ноги встану.
А я встал на ноги!
А она — в результате что? — подполковник со своей семьей жил — и продолжает живет.
И толку? Теперь хочет вернуться — а я все, я уже не хочу. У меня уже отгорело все.
Мне посвятила другая женщина жизнь. Она в сотни раз ее лучше, и не хочу я менять. Та свою судьбу сама захотела, а эта для меня готова на все что угодно. Сейчас сказал, поеду в Шатуру — она бросит все и поедет со мной жить в Шатуру. Потому что такой человек. Ничего ей не надо. Ни денег не надо. Ни дача ей не нужна, ни квартира ей не нужна: ты мне нужен сам человек — и все. Вот бывают такие люди, скажите мне? Не бывают! Это редкость бывают такие люди.
А эта уже — пустой номер. Я всегда говорю: если человек раз изменил — он еще раз изменит. Хоть ты корми, хоть ты не корми — хоть мясом корми, уже не склеишь.
Вот так в результате кукует кукушечка-то одна-а-а. И на старости лет приткнуться-то надо — ну а к кому приткнуться-то? Не к кому!
Кто водички подаст? И того нет, оказывается.
Вот та-ак…
23. Разоблачение Достоевского, или Coup du milieu
— Герой, герой! — засмеялась Анна, но как-то невесело, через силу. — Победил жену...
— На мой взгляд, — сказал Федор серьезно, — это самый страшный рассказ из всех, самый бесчеловечный. Разве лишь под конец промелькнула… хотя бы обида, хотя бы какое-то живое чувство. А до этого — просто какая-то выжженная земля… Совершенно не русский подход! это мелкое накопительство, «убирать конкурентов» — совершенно какой-то Бальзак, Растиньяк… Мелкий, мертвенный — и не русский характер совсем, даже на удивление…
— Вот! — ткнул пальцем Белявский, — смотрите: когда людей убивают — люди спиваются — люди калечат друг друга — это не «самое страшное»! Смотрите все: «страшно» другое. «Страшно» — копить на ботинки! Это «не русский характер»… «Не русский…» — он перелистывал что-то в компьютере, — вот! цитирую: «Немцев надо душить. Пусть они там сильны в науках, а их все-таки надо душить... Все настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не философ — ты смерд»! Немцы — раз.
Есть еще про поляков: «Да и куда ему убежать-то, хе-хе! За границу, что ль? За границу поляк какой-нибудь убежит, а не он…» Поляки — два.
Америка! «Я эту Америку, черт ее подери, ненавижу. Я разве вынесу тамошних смердов?»
«Смердов», — смачно повторил Белявский: — «Я разве вынесу тамошних смердов, хоть они, может быть, все до одного лучше меня! Ненавижу я эту Америку уж теперь! И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие, али что — и черт с ними, не мои они люди, не моей души! Россию люблю, Алексей, русского Бога люблю, хоть я сам и подлец! Да ведь я там издохну…»
Смотрите: здесь нет аргументов для русского превосходства. Немцы «ученые». Американцы «все машинисты», у них — машины, станки; они «лучше», и больше того! «все до одного лучше».
Но это неважно! Пусть они «там все машинисты» — и черт с ними, со смердами… Главное слово — даже не «смерды», а незаметное «там». «Они там». Это как про женщину сказать: «эта там…», «как ее…». Хуже нет…
Вот что мне это напоминает! Влюбленный уединился с… с объектом страсти — и вдруг кто-то «там», посторонний, без стука заглядывает к ним в дверь. «А ну вышел! Неважно, кто ты „там”, какой ты там — хороший, плохой, неученый, ученый: ты там — а мы тут. Вышел отсюда быстро!»
Анна хмыкнула:
— Жизненно…
— Вы всё талдычите, что «Достоевский любит русский народ». Ессесно, любит! А як же! Есть смысл говорить влюбленному про других женщин: «та умная — а та добрая — а та красивая»?
Да черт с ними! Я эту хочу!
«Почему — эту?»
Ну глупый же вопрос. «Почему?» Потому!
А чтоб не быть голословным — цитатки… цитатки…
«Воссияет миру народ наш!..»
«Пусть у других народов буква и кара: у нас дух и смысл, спасение и возрождение!..»
«От народа спасение…»
«От востока звезда сия воссияет…»
«Поражает меня в великом народе нашем его достоинство истинное, благолепное… Вижу наше грядущее: будет так, что даже самый развращенный богач наш устыдится богатства своего пред бедным, а бедный, видя смирение сие, уступит ему с радостью и лаской ответит на благолепный стыд его. Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство, и сие поймут лишь у нас. Образ Христов храним, и воссияет как драгоценный алмаз всему миру…»
Ну скажите мне: это можно всерьез обсуждать?
Тут только выйти и дверочку за собой притворить…
— Почему здесь нечего обсуждать? — спросил Федор, мрачнея.
— «Почему»? «Почему», вы серьезно мне говорите? Посмотрите, как «лишь у нас» богатые устыдились, а бедные благолепно ласкают! Это бред настоящий.
Любовный бред. Вы же сами сказали: Федор-Михалыч «любит русский народ»…
Вам, кстати, это само по себе не кажется извращением?
Можно любить человека. Русского человека, вай нот. Русскую женщину. Или мужчину. Русскую музыку можно любить. Кто-то может, наверно, любить какой-нибудь русский пейзаж, не окончательно испохабленный: пашню там, лужу… не знаю, взгорок-пригорок… ну, может, нравится, мало ли…
Но любить целый народ?.. наро-од?
Белявский двумя руками как будто огладил в воздухе что-то круглое, размером с баскетбольный мяч.
— Вот, к примеру: «Чем беднее и ниже человек наш русский... — (Дмитрий Всеволодович произнес театрально: «русскый»), — тем и более в нем сей благолепной правды заметно…»
Или вот: «Для смиренной души русского простолюдина нет сильнее потребности, как обрести святыню…»
О ком это? Кто этот «благолепный простолюдин»? Это мелкий чиновник, какой-нибудь Мармеладов? Нет, Мармеладов ни разу не благолепный. А может, военный в отставке, какой-нибудь штабс-капитан Снегирев? Студент, Раскольников? Кто-то из Карамазовых? Семинарист, журналист?
Нет, конечно. «Простолюдин» — это крестьянин и землепашец, мужик. Мущикь. Про чиновника и журналиста так не напишешь: «смиренный», бла-бла-«благолепный»… Даже для Достоевского было бы слишком смешно. Тут, конечно, крестьянин в лаптях.
Но поскольку Федор-Михалыч — писатель, а не философ, значит, его инструментом должны не теории быть, не абстрактные формулы, а конкретные образы, лица. Давайте найдем в его творчестве образ смиренного и благолепного простолюдина. Где этот благолепный простолюдин?..
Его нет.
У Достоевского нет ни единого мало-мальски заметного персонажа простолюдина.
Вот весьма показательный эпизод. Сон Мити Карамазова. Зачитываю.
«Приснился ему… странный сон. Вот он будто бы едет в степи на телеге. Холодно будто, ноябрь, и снег валит крупными мокрыми хлопьями... И вот селение, виднеются избы черные-пречерные... А при въезде выстроились на дороге бабы, много баб, целый ряд, все худые… какие-то коричневые у них лица. Вот одна с краю, высокого роста, а на руках у нее плачет дитя…
— Чего они плачут? — спрашивает, лихо пролетая мимо них, Митя…
— А бедные, погорелые…»
Обратите внимание: «Лихо пролетая мимо». Хотя едет он — на телеге. Ладно на тройке бы «пролетал»: а телега-то — транспорт вполне тихоходный... Конечно, во сне и по воздуху можно лететь на телеге — а все-таки ощущение, как будто он не на телеге, а на каком-нибудь скоростном поезде, ТэЖэВэ [10] …
Можно выхватить лицо, фразу — но невозможно остановиться и рассмотреть — как он рассматривает своих нормальных героев… А чего он летит-то, Федор-Михалыч? Зачем пролетает смиренного простолюдина?
Может, он просто в глаза не видал живого народа? — как множество русских писателей, и вообще так называемых интеллигентов? Поэтому и «летит»?
Никак нет. Четыре года в остроге, потом год в казарме… Все видел. Все знает. И даже, говорит, любит. Но живописать — не желает. Что-то тут не коннектится, вам не кажется? Почему не желает приглядываться, если «любит»?
А может, вопрос в том, как любит? Для разных людей это разное — «любит»… Что это такое для Федор-Михалыча, «любит»? «Любить»?
Вот вам маленький — дилетантский, без всяких претензий — анализ: как, кто и кого у Достоевского «любит»?
Чтобы не закопаться, берем две главные книги... Самые знаковые: «Карамазовых» и «Преступление и наказание».
Да, кстати, пока не забыл! Поглядите. Два главных писателя: Достоевский — Толстой.
У каждого — две главные книги: «Война и мир» — «Анна Каренина». «Преступление и наказание» — «Карамазовы». Раз — и два.
Название каждой книги — бинарное. Две книги с абстрактным названием: «Война — и мир». «Преступление — и наказание».
И две книги — по именам персонажей: «Анна Кар-ренина», «Братья Каррамазовы». А?
— Однако, — не без уважения сказал Федя, — как вы глубоко погрузились…
— Пользуйтесь.
Возвращаемся к теме. Любовь Достоевского. Или лучше: любовь у Достоевского. Берем две главные книги, гуглим. Что нам выдает поиск на «любит», «люблю», «любил»?
«Любите вы уличное пение?..»
«Я люблю, когда врут…»
«Я люблю наблюдать реализм…»
«Он любил эту церковь, старинные в ней образа…»
Куча мусора, ничего не понятно.
Попробуем тогда пойти по косвенным признакам. Что обычно бывает связано с любовью? Эротика. Есть эротика у Достоевского? Есть ли у него, например, поцелуй?
Я не поленился, проверил все поцелуи. В двух главных романах.
Целуются у Достоевского — сразу скажу — активно: сестры с братьями, братья с сестрами, братья с братьями, в том числе в губы (так было принято у мужчин в России), целуют руки, ноги… о да-а! Дико любят целовать ноги — не в эротическом смысле, а в смысле унизиться — ноги, следы этих ног, сапоги целуют неоднократно… Главные персонажи целуют родную землю — хотя автор вынужденно признает, что родная земля грязновата… «Как стоял — так и упал он на землю! Стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастием…» Целуют письма, портреты, могилки, мертвую лошадь… Не помните? По-омните: «С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы...»
— Тьфу! — сказала Анна.
— Дарлинг, это дети в школе проходят. В девятом классе, если не путаю…
Но если все это пугающее разнообразие опустить — и ограничиться поцелуями между людьми а) разнополыми; б) не состоящими в родственных отношениях, — то останется в двух толстых романах — шесть эпизодов. Всего-о!
Шесть маленьких эпизодов. Всё строго поровну: в «Преступлении и наказании» три поцелуя — и в «Карамазовых» три поцелуя.
Мертвые лошади не считаются. Брат и сестра, муж и жена — не считаются. Только мужчина — и посторонняя женщина.
Вы представляете? На два здоровенных романа — один вообще эпопея четыре тома — по три поцелуя между мужчиной и женщиной. Просто рекорд.
В числе шести эпизодов — один особенный. Вот он.
Дмитрий Федорович Карамазов, Митя, двадцать семь лет, везет Грушеньку, двадцать два года, с бубенцами на тройках кутить, ну и целует, в процессе... Грушенька приговаривает в перерывах: «Целуй меня, целуй крепче, вот так. Любить, так уж любить!..» («Стрелять так стрелять» хочется добавить...) «…Раба твоя теперь буду, раба на всю жизнь!.. Целуй!.. Стой! Подожди, потом, не хочу так... — оттолкнула она его вдруг: — Ступай прочь, Митька, пойду теперь вина напьюсь... пьяная плясать пойду…» и так далее.
Не знаю как вам, а мне как-то не особенно эротично. Вроде идут по программе: на тройках приехали — ну, шампанское, пляски, это, цыгане, ну и поцелуи тоже в наборе… В ассортименте. Положено вроде: на тройках приехали… Но целуются — а сами думают о своем…
И все же, при всех оговорках, сцена с Митей и Грушенькой — это что-то особенное. Это что-то, я бы сказал, из ряда вон выходящее.
Знаете, что здесь особенное? Возраст женщины.
Двадцать два года — не то чтобы сильно много, но все-таки половозрелая…
— Как неприятно ты выражаешься, — сморщилась Анна.
— Да. — Дмитрий Всеволодович не то согласился с женой, не то заключил свою предыдущую фразу. — В то время как остальные пять из шести эпизодов… Я повторяю! это шесть эпизодов на два огромных романа, главных в творчестве автора: и из этих шести эпизодов в пяти — мужчина целует девочку. Не взрослую женщину, а — Достоевский подчеркивает это — девочку!
И пять раз из пяти — на фоне страдания, сопротивления, унижения, принуждения…
Номер раз. Тот же Митенька Карамазов:
«…в темноте, зимой, в санях, стал я жать одну соседскую девичью ручку, и принудил к поцелуям эту девочку, дочку чиновника, бедную, милую, кроткую, безответную. Позволила, многое позволила в темноте…»
Это — раз. Не говорится, сколько лет было «девочке», говорится только, что «девочка». «Бедная, безответная»…
Номер два. Это уже «Преступление и наказание». Раскольникова целует Соня. Юридически говоря, Соня — взрослая, хотя по самой нижней границе, ей восемнадцать — но в описании автор все время упорно подчеркивает: «…девушка, очень еще молоденькая, почти похожая на девочку… домашнее платьице… оробела, как маленький ребенок…» И снова, очень настойчиво: «…худенькое и бледное личико…» Вот! «В лице ее, да и во всей ее фигуре, была одна особенная характерная черта: несмотря на свои восемнадцать лет, она казалась девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почти ребенком». Главная, особенная, характерная черта: девочка, маленький ребенок. Это особенно важно автору, в первую очередь.
Три. Свидригайлов целуется с девочкой, ей пятнадцать: «Можете себе представить, еще в коротеньком платьице, неразвернувшийся бутончик, краснеет, вспыхивает… детские еще глазки, робость, слезинки стыдливости… Светленькие волоски, губки пухленькие…» Так...
Номер четвертый. Алеша Карамазов целуется с Лизой, четырнадцати лет... Лиза, если помните, инвалид, она не ходит…
И наконец, номер пятый — к вопросу о пухленьких губках — десятилетняя девочка Полечка. «Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девочки, улыбавшееся ему и весело, по-детски, на него смотревшее… положил ей обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее. Ему так приятно было на нее смотреть, — он сам не знал почему…» — прочитал Дмитрий Всеволодович с особенным выражением. —
«— А кто вас прислал?..» Бла-бла-бла… Вот:
«— А меня любить будете?
Вместо ответа он увидел приближающееся к нему личико девочки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его… Тоненькие, как спички, руки ее обхватили его крепко-крепко, голова склонилась к его плечу… Прижимаясь к нему все крепче и крепче… Заплаканное личико…
— Всю мою будущую жизнь буду об вас молиться! — горячо проговорила девочка и вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять обняла его… Раскольников сказал ей свое имя, дал адрес, и… девочка ушла в совершенном от него восторге».
Этот номер с девочкой Полечкой и пухленькими губешками особенно крут, если учитывать, что две минутки назад у девочки Полечки помер папочка.
Две минуты — буквально! Ну, пять. На глазах у ребенка умер отец! раздавленный, как все помнят, телегой. Раскольников произносит небольшой абзац текста — уходит — его на лестнице догоняет дочка раздавленного отца и ап! — «по-детски весело засмеялась», «тянется теплыми губками» и «ушла в совершенном восторге»!..
Смотрите: не просто «маленькие», не просто «слабенькие» — еще желательно, чтобы была инвалид, а еще лучше, чтобы отца задавило, чтобы было какое-нибудь унижение, чтобы слезинки поблескивали — вот тогда прямо совсем хорошо…
Дмитрий Всеволодович выпил воды. У Федора на душе было тяжко, но слушал он со вниманием.
— Надо признать, — продолжал Дмитрий Всеволодович, — что все эти эпизодики с детскими личиками и безответными губками — эпизоды короткие, не центральные. Ощущение, что все они где-то сбоку, наскоряк, в какой-то темной подворотне… то на лестнице темной узкой кривой… то в санях под пологом, в темноте, как-то криво все, наскоро, неудобно, негде автору от души развернуться...
Оно понятно: «Лолиту» когда у нас напечатали? Что-то лет через сто после «Преступления и наказания»? И то был страшный международный скандал. Так что Федор-Михалычу в тысяча восемьсот шестьдесят каком-то году тему пухленьких детских губок не стоило слишком уж развивать... Костей не собрал бы. Так что — по краешку… кривенько, маргинальненько…
Зато есть описания, где Федор-Михалыч дал жару уже — каламбур! — не по-детски. Есть описания, где уже не намеки по типу «много позволила в темноте» — а все смачно прописано, и что позволила, и кому, и куда; и непонятно, что это вообще такое: то ли ещё художественная литература, то ли уже что-то за гранью… добра и зла...
Чтобы не выглядело как предвзятость, я снова жестко привязываюсь к лексике.
В девятнадцатом веке, в каких-нибудь шестидесятых-семидесятых годах, не в ходу было слово «эротика», «эротичность». Не говоря уже «сексуальность». Использовались другие слова — «наслаждение» и, буквальнее — «сладострастие».
Я начну с более слабого, с «наслаждения».
«Знай, сударь, что мне таковые побои не токмо не в боль, но и в наслаждение бывают...» — говорит Раскольникову Мармеладов. «Ибо без сего я и сам не могу обойтись. Оно лучше».
Мне это нравится: «Оно лучше».
Жена «схватила его за волосы и потащила в комнату. Мармеладов сам облегчал ее усилия, ползя за нею на коленках.
— И это мне в наслаждение! И это мне не в боль, а в на-слаж-дение, милостивый государь!..»
«В на-слаж-дение» Достоевский сам написал по слогам. Он подчеркивает: наслаждение связано с чувством вины. Алкоголика — а Мармеладов клинический алкоголик — наказывают, и в момент наказания он вместе с болью испытывает наслаждение.
Мы эту связь для себя помечаем: преступление — наказание — наслаждение… Здесь же, в скобках, запойный алкоголизм… И, не задерживаясь пока на этом, движемся дальше.
В том же романе — сцена публичного покаяния. В общем-то, психологическая развязка: «Он стал на колени посреди площади, поклонился и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастием».
Обратите внимание, счастье и наслаждение здесь испытывает — кто?
Убийца.
Вообще, если вдуматься: кто главный герой двух самых главных романов Федор-Михалыча Достоевского?
Кому мы сочувствуем что-нибудь страниц пятьсот «Преступления и наказания» и тысячи так полторы страниц «Карамазовых»?
Это убийцы.
В первом случае — непосредственный и реальный убийца Раскольников, во втором случае — убийца, я бы сказал, мистически-коллективный: вы помните, к отцеубийству причастны по крайней мере три брата — Дмитрий, Иван — и Павел Смердяков, который тоже их единокровный брат. Парадоксально, что Дмитрий — ударил и в принципе физически мог убить. Павел реально убил. Но при этом мистически самый виновный — Иван, который в момент убийства находится вообще в другой географической точке — в деревне Чермашне. Чермашню тоже запомним.
Достоевский так строит логику повествования, что виноват в первую очередь Иван, поскольку он ненавидел отца больше всех. А что убил чужими руками — неважно, не суть.
Другой интереснейший момент в двух романах — это описание жертв убийства.
Жертвы в обоих случаях — отвратительные. Тошнотворные. Вы обращали внимание, насколько похожи Федор Павлович Карамазов и старуха-процентщица? Они страшно похожи!
«Старуха была подозрительна… Жиденькие волосы, жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку… Крошечная, сухая старушонка, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом… На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу…» Бр-р. И кстати, вот еще важно: прямо перед убийством Раскольникову «показалось в ее глазах что-то вроде насмешки».
А вот Федор Павлович Карамазов, которому, между прочим, автор дал свое имя:
«Кроме длинных мешочков под маленькими его глазками, подозрительными и насмешливыми, кроме морщинок на его маленьком, но жирненьком личике, к острому подбородку его подвешивался еще большой кадык, мясистый и продолговатый, как кошелек, что придавало ему отвратительно-сладострастный вид… Обломки черных, почти истлевших зубов… Брызгался слюной каждый раз, когда начинал говорить…» Ну, понятно. Предел физического отвращения. Алкоголик, что важно. Свел в гроб мать Ивана и Алексея. «Завел в доме целый гарем и самое забубенное пьянство»…
Итак. Оба злющие, жирно-востренькие, мозглявенькие, подозрительные и насмешливые, с морщинистой шеей… Ни разу не жалко!
И кстати, знаете, почему из восьми романов Федор-Михалыча Достоевского — самыми главными оказались в итоге два? Как сами думаете? Я думаю, потому, что читатель чувствует, когда автор пишет по существу.
А по существу два романа написаны про одно: хороший, милый, красивый и тонко чувствующий молодой человек давит старую гниду. Потом весь роман мучается и страдает, читатель сочувствует. Ближе к концу со страдающим молодым человеком случается… что?..
А случается с ним — таинственная история!
В тот момент, когда убийство раскрыто — Митеньку Карамазова замели, Родя Раскольников сам признался, — в этот момент убийца испытывает удивительную расслабленность. Он — буквально — падает, припадает к родной земле — и как в сказке: ударился оземь и обернулся… взлетел ясным соколом!
«Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю... и поцеловал эту грязную землю, с наслаждением и счастием». Это Раскольников, мы читали.
И про Дмитрия Карамазова читали тоже — ему снится сон про дите именно когда его повязали и вот сейчас отправят в тюрьму: «…какое-то странное физическое бессилие одолело его… прилег на большой хозяйский сундук и мигом заснул». Фактически «упал», «упал в сон», «провалился»…
Ему снится сон про дите — коричневые погорельцы, бла-бла... — «загорелось все сердце его и устремилось к какому-то свету». И просыпается, «светло улыбаясь», «с каким-то восторженным чувством» и «с новым, радостью озаренным лицом»!
Упал он больно — встал здорово. Упал виноватый — взлетел абсолютно счастливый!
Теперь еще раз, чтобы не забыть, весь маршрут, вся последовательность.
Жертва. Предельно мерзкая, отвратительная. Ненависть к ней. Убийство — тайное! Чувство вины. Известие о наказании. Странная слабость, бессилие, размягчение — падает наземь — и счастье!
Что всё это означает?
Поблизости продолжают маячить униженные малолетние девочки, алкоголизм — и крестьянская группа с бурыми неразличимыми лицами. То есть русский народ, который, по Фединому утверждению, кто-то «любит».
Какой странный коктейль. Тем не менее каждый ингредиент — строго на своем месте. Коктейль «Достойевски». Минуту терпения — и мы имеем рецепт!
Федор снова взглянул на Лелю и на Белявского.
Леля слушала очень внимательно.
Дмитрий Всеволодович — как показалось Феде — несмотря на торчащие волосы, на глубокие морщины по сторонам рта, которых Федя раньше не замечал; несмотря на измятость, несвежесть, — выглядел злее и притягательнее, чем когда-либо раньше — и даже чем каких-нибудь тридцать-сорок минут назад.
Федор поймал себя на том, что Белявский ему даже нравится в этом расхристанном виде — и сразу испытал давление ревности: «Если Белявский может нравиться мне — значит, он может нравиться и Леле тоже?..»
24. Разоблачение Достоевского, или Coup du milieu (продолжение)
— От «наслаждения» — к «сладострастию»! — объявил Дмитрий Всеволодович. — По восходящей!
Смотрите: два ударных романа. В двух ударных романах — две ударные сцены. «Ударные» абсолютно буквально: в обеих сценах — секут. Плюс в обеих сценах — присутствуют дети.
В «Преступлении и наказании», как все помнят, бьют лошадь: «Миколка в ярости сечет учащенными ударами кобыленку…» Мне нравится вот «учащенными ударами», потом вернемся. «— Пусти и меня! — кричит один разлакомившийся парень из толпы… — Засеку! — И хлещет, хлещет, и уже не знает, чем и бить от остервенения… — Секи до смерти!.. Засеку!..»
Все это время маленький мальчик — собссно, главный герой — порывается оказаться на месте лошади, заменить собой лошадь — ему попадает кнутом — через четыре страницы подробного истязания лошадь наконец дохнет — маленький мальчик к ней припадает, целует морду… короче, пытается с ней максимально идентифицироваться.
Но даже такое педо-зоо-некро — еще цветочки! А настоящие ягодки, вишенки — это, конечно, так называемый «Бунт Ивана».
В главе «Бунт Ивана» Иван Карамазов цитирует — якобы цитирует — якобы из газет — якобы судебную хронику. То есть Федор-Михалыч грамотно обставляется . Барьер аж тройной: во-первых, это не авторский текст. Как бы автор и ни при чем: говорит персонаж. Во-вторых, говорит персонаж на грани безумия — а может, уже за гранью безумия. То есть и персонаж не особо при чем. И в-третьих, даже этот безумный Иван вроде бы не сам выдумал, а вычитал из газет. Таким образом, защитившись тройным барьером, обставившись, Федор-Михалыч пишет что пожелает.
Чего ж он желает, наш любитель народа, интеллигентный наш господин? «Интеллигентный господин сечет собственную дочку, младенца семи лет, розгами… Папенька рад, что прутья с сучками, „садче будет”, говорит он, и вот начинает „сажать”... Я знаю наверно, что есть такие секущие, которые разгорячаются с каждым ударом до сладострастия, до буквального сладострастия…» Хотя вот прокольчик! откуда «знает наверное», если это внутренние ощущения человека, про которого он прочитал в газете? Откуда такая детальная физиология? В девятнадцатом веке не было газеты «Жизнь», тогда не писали так: «…с каждым ударом до сладострастия, до буквального сладострастия, с каждым последующим ударом все больше и больше!.. Секут минуту, секут, наконец, пять минут, секут десять минут, дальше, больше, чаще, садче. Ребенок кричит, ребенок не может кричать, задыхается: „Папа, папа, папочка, папочка!..”» Вот это мне тоже нравится: «дальше, больше, чаще, садче, папа, папа» — мне нравится этот ритм! Так же было с кобылой: «учащенными ударами». В «Преступлении и наказании» лошадь секли три-четыре страницы, при средней скорости чтения две минуты страница — значит, в сумме примерно шесть-восемь минут. В «Карамазовых» дается точное время: пять-десять минут. Куда прозрачнее?.. А вообще, и чего тут догадываться, о чем? Автор сам говорит однозначно: «до сладострастия, до буквального сладострастия». Современным языком это называется «сексуальное наслаждение». «Чаще-садче»…
Между братьями Карамазовыми происходит при этом чудный диалог: «— Мучаю я тебя, Алешка». — Дмитрий Всеволодович прочитал усеченно «Алешк». — «Мучаю я тебя, Алешк, ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь.
— Ничего, я тоже хочу мучиться, — пробормотал Алеша».
Не вопрос! Главное, автор тоже хочет еще! И еще! Уж у него и младенчиков режут, и девочку семилетнюю секут, и мальчика восьмилетнего — голого, что характерно, — затравливают собаками, и еще одну пятилетнюю девочку — тоже секут, запирают в отхожем месте, я даже детали тут опущу… Это уже Сорокин фактически. Мало, что автор далеко по ту сторону человеческой меры — если угодно, нравственной меры. У меня ощущение, что он меру художественную (что важней для писателя) напрочь уже теряет: все эти мальчики-девочки пяти-восьми-семи лет давят друг друга, мешают друг другу — а Федор-Михалыч все наворачивает, наворачивает, остановиться не может, все громоздит, громоздит!..
— Я не понимаю, — повысила голос Анна, — к чему это?!
— Сейчас молодые люди подумают, что мы с тобой репетировали. Нет, мы не репетировали. Хотя в точности ту же реплику подает Алексей Карамазов брату Ивану — пока оба не входят во вкус, или, как выражается автор, «разлакоми...», «разлакомливаются»: к чему это все?
Это все вот к тому самому, — Дмитрий Всеволодович кивнул в сторону Федора, — что именно любит Федор-Михалыч. Что такое вообще в его понятии «любит», «любовь». И соотвецно, в какой интересной компании оказываются русский народ и религия…
Обратите внимание! я не утверждаю, что Достоевский не любит русский народ. Или, кстати, что он не искренне религиозен. Ни в коем разе. И русский народ, и религия — для Достоевского еще круче, чем мучить маленьких девочек!.. если круче бывает…
Вот вы как сами считаете: круче — бывает? Может ли быть в природе что-нибудь круче, чем сексуальное наслаждение от продолжительных сильных мучений маленького ребенка?
Как ни странно, в случае с Федор-Михалычем — да. Ребеночка, как мы выяснили, имели пять-десять минут — а здесь речь идет о пяти секундах, даже не десяти, а именно о пяти: «В эти пять секунд я проживаю жизнь — и за них отдам всю мою жизнь, потому что — ст о ят! Если более пяти секунд — то душа не выдержит и должна исчезнуть. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически. Это не земное… человек в земном мире не может перенести. Надо перемениться физически — или умереть…»
Федор, я вижу, знает, о чем тут речь. А девушек я еще потомлю.
Вот кусочек из воспоминаний: Федор-Михалыч на поселении в Семипалатинске. К нему приезжает старый товарищ. Как раз накануне праздника Пасхи. Цитата: «На радостях просидели всю ночь напролет, не замечая ни времени, ни усталости, говорили и говорили... Коснулись религии... „Есть Бог, есть!” — закричал Достоевский, вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви, воздух весь загудел. „И я почувствовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога, проникнулся им. ‘Да, есть Бог!‘ — закричал я, — и больше я ничего не помню. Вы все, здоровые люди, не подозреваете, что такое счастье. Счастье испытываем только мы, эпилептики, за секунду перед припадком… Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем… Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которой страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы — но верьте слову: все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!”»
Речь идет о так называемой «ауре». Непосредственно перед припадком растет активность синхронизированных нейронов… не суть: начинаются галлюцинации. Зрительные, вкусовые; бывают мучительные, бывает, наоборот, эйфория. Михалычу повезло: эйфория. Как настоящий наркотик. Михалыч подсел и честно нам признается: «Все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него». Квинтэссенция жизни — припадок.
Человек-Достоевский говорит «жизнь отдам» за припадок. Достоевский-писатель даже само это слово «припадок» дрожащими пальчиками вставляет как драгоценность, как джювел [11] ... Это вам не какая-нибудь «любовь», которую можно транжирить направо-налево: уличное пение «любит», врать «любит», суп «любит», бла-бла: нет, припадок он с барского плеча дарит только главным героям…
Вот Карамазовы. Дмитрий, Иван, Алексей — и четвертый брат Смердяков.
Иван. Видит черта в припадке горячки.
Алексей. В первом томе с ним происходит припадок, которым он очень напоминает отцу свою мать. Та вообще называлась «кликуша» из-за припадков, которые с ней постоянно случались — от них, собсно, она умерла.
Даже Дмитрий, который вроде бы погрубее… Про Дмитрия: «…поднимается из груди его столько любви… до моления, до исчезновения... „И исчезну!” — проговорил он в припадке какого-то истерического восторга».
Ну, Смердяков просто клинический эпилептик, понятно, — и самый сильный припадок случается после отцеубийства — вокруг чего, собственно, крутится весь сюжет…
«Припадок» мы бережем для своих, для торжественных случаев…
Когда Сонечка узнает, что Раскольников убил старуху, во-первых, она убийцу целует (что само по себе тоже важно: в случае с девочкой Полечкой тоже теплые губки совсем рядом со смертью) — целует, а убийце, в свою очередь, поручает поцеловать родную землю: «Пойдешь? Пойдешь? — спрашивала она его, вся дрожа, точно в припадке…» Раскольников от нее заражается: «…новое ощущение каким-то припадком к нему подступило и вдруг, как огонь, охватило всего. Все в нем размягчилось...» — после чего припадочный падает — и, натурально, целует грязную землю!
Смотрите, как все сливается вместе: земля, родная земля — религиозный восторг — и припадок. И умиление, растворение, исчезновение: «все в нем размягчилось…», «нежного до моления, исчезновения… и исчезну».
Точно такое же чувство — у Мармеладова, когда он описывает, как Христос зовет «пьяненьких»: «И прострет к нам руце свои, и мы припадем... и заплачем...» Обратите внимание: «при-падем», упадем...
У Дмитрия Карамазова, когда тот летит вверх тормашками, падает: «Пусть я низок и подл, но я все-таки и „твой сын, Господи, и люблю тебя!..”»
И точно такое же чувство Федор-Михалыч приписывает народу: «…неустанно верует народ наш в правду, Бога признает, умилительно плачет…»
Смотрите: не чем иным, как этим припадочным размягчением, «у-паданием», «при-паданием» Достоевский оправдывает целый русский народ.
Не мысль! не идея, не знания, не способности — это пусть американцы «там все машинисты», мы не машинисты, мы лаптем хлебаем; не нравственное достоинство — американцы пусть будут «там лучше все до одного»: ничто осязаемое — а исключительно это припадочное умиление, размягчение, которое — якобы — присуще русским и — якобы! — отличает русского от поляка, от немца, американца и прочего смерда. Я «подл и низок» — но зато припадаю и упадаю. Я весь в дерьме — зато падаю, плачу — и все. И — оправдан. И воссияю! И — русский народ!
Умиление, размягчение — «я твой сын» — плач, припадок, падение — русский народ. Зафиксируйте эту цепочку. Запомните это.
Потому что если еще внимательней посмотреть, как бы «зумом» наехать — проявятся неожиданные детали. «Есть секунды, всего пять или шесть: вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг говорите: да, это правда. Здесь только радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость...»
— Откуда эта цитата? — спросил, потирая лоб, Федор. У него запульсировало уплотнение на голове — в том месте, которым он осенью въехал в стеклянную дверь.
— Из «Бесов». Терпение! Всё! Последние два-три штриха — и переходим к постановляющей части!
На первый взгляд, то же самое. Мы уже слышали про гармонию, радость, бла-бла-благоговение… Но если внимательнее посмотрим — таинственный текст! «Вы не прощаете ничего…» Что «прощаете»? Кого прощаете? За что прощаете? При чем здесь вообще: припадок — и «прощаете»?
И дальше: «Всего страшнее, что ясно — и такая радость». Тоже странно: если ясно и радость — то почему «страшнее»? Что страшного в ясности?..
И в восемнадцатый раз: казалось бы, при чем здесь русский народ?
Мутно-белые массы тумана затапливали котловину. Отроги гор были похожи на мысы, ложбины — на бухты. Виднелись полузатопленные дома, деревья. Дорога скрылась, только желтые фары время от времени тускло просвечивали сквозь туман.
Вскоре туман поднялся до «Альпотеля», и все, кроме ближайших домов и елей, исчезло.
— В погожий летний денек, — в голосе Дмитрия Всеволодовича была вкрадчивость, — а может быть, денек был пасмурный — восьмого июня тысяча восемьсот тридцать девятого года Михал-Андреевич Достоевский, батюшка Федор-Михалыча Достоевского, сели в коляску и выехали инспектировать полевые работы в Черемашню. Или, в другом написании, в Чермашню. Родовое имение Достоевских. Вы помните — так называлась деревня, с которой Иван Карамазов и его единокровный брат Смердяков связывают убийство отца:
«— Так зачем же ты, — спрашивает Иван Смердякова, — в Чермашню мне советуешь ехать? Я уеду, и у вас вот что произойдет?!
— Совершенно верно-с…» — отвечает ему Смердяков.
«В это время в деревне Черемашне…» — это уже я цитирую другой источник — родного братца Федор-Михалыча, Андрей-Михалыча Достоевского: «В это время в деревне Черемашне на полях под опушкою леса работала артель мужиков. Дело было вдали от жилья. Выведенный из себя каким-то неуспешным действием крестьян, отец вспылил и начал очень кричать на крестьян. Один из них, более дерзкий, крикнул: „Ребята, карачун ему!..” И с этим возгласом все крестьяне, в числе до пятнадцати человек, кинулись на отца и в одно мгновенье, конечно, покончили с ним».
То, что «покончили», — правда. Отец Федора… чуть не сказал «Карамазова» — отец Федора Достоевского был убит своими крестьянами и двое суток валялся в поле, пока не хватились.
Но само описание — малоправдоподобное. Откуда эти детали? «Карачун», «закричал „карачун”»… Кто это рассказал? Случайный свидетель? Свидетелей не было, были одни участники — он же сам написал: «все крестьяне набросились…» Кучер? Кучер сбежал, прихватив коляску и лошадей. И главное: тысяча восемьсот тридцать девятый год — это все же не тысяча девятьсот восемнадцатый. Как-то не принято было «кончать» помещика, если помещик на крепостных «накричал»…
Лет через восемьдесят, когда убийство помещика стало считаться делом богоугодным, в местной газетке «Красная нива» был напечатан рассказ. Рассказывали уже потомки тех мужиков: «Бить, конечно, не били: знаков боялись. Приготовили бутылку спирту, барину спирт в глотку весь вылили и платком заткнули. От этого барин и задохнулся».
Похожая версия и у дочери Федор-Михалыча — соответственно, внучки Михал-Андреича: «Его нашли позже на полпути, задушенным подушкой из экипажа. Кучер исчез вместе с лошадьми, одновременно исчезли еще некоторые крестьяне из деревни».
Окей, убили. Так, эдак: забили мотыгами, придушили подушкой, залили бутылку спирта — убили. Понятно. Но все же — за что? Как в любом детективе, требуется мотив. «Накричал»? Или все-таки было что-нибудь посущественней?..
Племянница Достоевского упоминает в числе убийц некого крепостного Ефимова и некого крепостного Исаева.
У некого крепостного Ефимова была племянница Катя. В возрасте неполных четырнадцати лет ее взяли в дом Достоевских в горничные. После того как умерла жена Михаила Андреича, то есть мать Федор-Михалыча — горничная Катя от барина — родила-а…
Другой крепостной, Исаев, имел дочь Акулину. Акулина была хороша собой. Ее взяли в барский дом, когда ей было одиннадцать лет…
Упоминалась также некая горничная Вера, из-за которой Михал-Андреич подрался с младшим братом своей жены. И так далее…
Вот вам маленькие беззащитные девочки, униженные, обиженные, «слезинки»…
Вот и понятно, почему сын убитого предпочел вегетарианскую версию про «накричал»…
Дальше! «Исчезли еще некоторые крестьяне из деревни. Другие крепостные моего деда показали, что это был акт мести: с крепостными старик обращался всегда очень строго. Чем больше он пил, тем свирепее становился…» Это все пишет Любовь Федоровна Достоевская. «Над крепостными своими глумился систематически. Любил незаметно, со спины подкрасться к работающему крестьянину, первым низко поклониться ему — а за то, что барин поклонился ему первым, отправить тут же на конюшню, на порку…» «На порку»! Помните: «Садче, чаще…» Раз.
Девочки маленькие со слезинками — два.
Алкоголизм — три! Не пьянство по случаю, а настоящий запойный клинический алкоголизм, тут все свидетельства сходятся: «Михаил Андреевич отличался крайней скупостью, подозрительностью…» — помните «подозрительность» у старухи-процентщицы и у Федора Карамазова? — «…подозрительностью и жестокостью. При этом страдал алкоголизмом и был особенно зол и недоверчив в пьяном виде. Близкие жестоко страдали…» Отец Достоевского мучил и унижал свою жену — то есть мать Федор-Михалыча, — и в тридцать семь лет свел ее в гроб — точно так же, как Федор Павлович Карамазов свел в гроб мать главных героев, Ивана и Алексея. Отец Федор-Михалыча Достоевского мучил детей морально, а крепостных — то есть тот самый искомый наш русский народ — мучил и унижал физически, сиречь сек.
Еще цитирую Любовь Федоровну Достоевскую: «Создавая тип Федора Карамазова, Достоевский вспоминал и о скупости своего отца, и об его пьянстве, как и о физическом отвращении, которое оно внушало его детям…»
Видите — вот и «физическое отвращение» подоспело…
Дмитрий Всеволодович вздохнул, отпил «Кристальпа» и вытер рот бумажной салфеткой.
— Летом тысяча восемьсот тридцать девятого года Федор-Михалычу Достоевскому было семнадцать лет. Когда до него дошло известие о насильственной смерти отца, с ним впервые — впервые! — случился приступ с конвульсиями и потерей сознания, позже определенный врачами как эпилепсия.
И вот здесь я еще раз — с чувством и с расстановкой… «Вдруг вы чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг говорите: „да, это правда, это хорошо”... Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость…»
— Но это же Фрейд! — не выдержал наконец Федя. — Старая статья Фрейда про Достоевского...
— Ну и что? — не смутившись, парировал Дмитрий Всеволодович. — Фрейд не Фрейд, но у каждого человека, как говорится, «есть или были родители». Отсюда вообще вся динамика человеческой жизни: борьба центростремительной силы — и центробежной.
Центробежная сила, стремление оторваться: с момента рождения, с перерезания пуповины — и дальше всю жизнь.
А с другой стороны — притяжение, связь: каждый из нас — даже чисто биологически — продолжает в себе родителей. В каждой клетке, в каждой молекуле… Знаете, например, откуда взялась эпилепсия? Папа Фёдор-Михалыча, Михал-Андреич, страдал клиническим алкоголизмом. Алкоголизм вызывает нехватку цинка — и у самого алкоголика, и у его потомства. Братья Федор-Михалыча — Михал-Михалыч и Николай-Михалыч — вслед за папашей стали запойными алкоголиками. А Федор-Михалычу природа выдала несимметричный ответ: ударила по алкоголизму эпилепсией!
Значит, не будь у Михал-Андреича алкоголизма — не было бы писателя Достоевского, и никаких «Карамазовых»… Но эпилепсия — это тоже дефицит цинка!
Наследственные болезни, внешнее сходство, способности, убеждения, любовь к маленьким девочкам… Куда деться? Куда уйти? Куда б ни ушел — все равно человек носит это в себе, в своих атомах, клетках, мышцах, как герпес… Ну? А вы говорите, «фрейдизм»…
Каждый привязан канатом, своей пуповиной.
И в то же время — каждый хочет ее перервать. Если ее не порвать — то не сможешь иметь своих детей, род человеческий прекратится.
Как порвать, как оторваться из этого притяжения, вырваться из гравитации? Надо ускориться, как космическая ракета. Для ускорения нужно топливо. Это могут быть разные негативные чувства: вплоть до «физического отвращения», до желания смерти родителям. Это чувства естественные — оторваться же надо? — но человек их боится, считает себя виноватым за эти чувства, плохим.
А в какой-то момент родители умирают. И — с одной стороны — возникает жгучее чувство мгновенного освобождения: никто не мешает! «гармония совершенно достигнута»!..
И — мгновенно же — страшное чувство вины: «я о нем плохо думал», «он вызывал у меня физическое отвращение», «я желал ему смерти» — и: «я — убийца»!
Это уже не ракета: это две половины атомной бомбы — и ядерный взрыв! Поэтому «больше пяти секунд нельзя выдержать»: атомный взрыв — и теряет сознание!..
Но при этом в самом что ни на есть эпицентре, в самой глубине сердца — и радости, и свободы, и страшной вины — он не один. С ним есть кто-то еще… Кто-то, кому он обязан и тем и другим: и эйфорией, и счастьем, и умилением — и запредельным чувством вины.
Вы помните, что убийц было несколько. Может, пять. Может, десять. По версии Андрея Михайловича, пятнадцать. Никто не знает. Их не нашли. Не судили. Для Федор-Михалыча — они остались безликими, безымянными. Это были какие-то мужики. Простолюдины. Крестьяне.
Это был — русский народ!
Вы понимаете, что в этой точке — все сходится? понимаете, почему он гонит из этой внутренней подсознательной комнаты — немца, поляка и американца? Ему с ними не о чем говорить. Они не виноваты.
И он перед ними не виноват. Не их — не поляков, не немцев, не американцев — его отец по пьяни порол, и не их дочек трахал — и Федор-Михалыч не перед немцами вину наследует, и не с немцами он сообщник в убийстве… вы понимаете, сколько всего тут намешано?!.
— Ох-х… — Федор даже встряхнулся, как будто пытаясь выбраться из-под груза. — Вы сводите к патологии…
— Почему «патология»?! Я же вам говорю: эта амбивалентность — у всех! У Достоевского — просто сильнее. Еще плюс талант…
— Тем не менее веру в Бога вы подчиняете эпилепсии, почему…
— Потому что…
— …почему не наоборот?
— Очень просто. Сейчас объясню.
Вообще, как я пришел к этой теме?
Началось абсолютно не с Достоевского.
Однажды — я был моложе, чем Федя сейчас, еще вовсю была советская власть — мне в руки попался сборничек приключенческих повестей — советский такой - пресоветский сборничек — тоненький, про каких-то разведчиков... назывался «Чекисты»...
25. Разоблачение Достоевского, или Coup du milieu (окончание)
— Сборничек назывался «Чекисты». Матерчатая обложка, на обложке тиснением — герб КГБ: золотом выдавлен щит и меч. Я пролистал: что-то такое возвышенное, романтическое, повести про разведчиков… Вдруг гляжу — фамилия-то знакомая?
Оказалось, что я отлично знаю одного автора — ну больше не самог о , а дочку, семью, — но знаю точно, что у него в тридцать седьмом году мать расстреляли, отец в лагере был то ли двадцать лет... долго: а он — публикуется в сборнике про чекистов!.. Я был тогда диссидентски настроенный юноша, я просто ушиблен был: как, каким образом все это сочетается в голове?
— Видимо, — рассудил Федор, — страх?..
— В семидесятые годы? Какой там страх уже. Там не страх. И не ложь, самое главное! Не корысть! Вот что самое интересное. Говорю, я знал эту семью хорошо: и отца знал, писателя — светлый был человек, редких качеств: точно говорю, не страх, не расчет — а искренняя романтика!
«Страх»… А что, вы скажете, у Федор-Михалыча — тоже страх? Перед кем? Тут не страх: тут настоящий душевный подъем, пафос, гимн!
И советская интеллигенция — не ловчилы, а лучшая часть — замешена на том же подъеме и пафосе: вот, сравните!
«Воссияет как драгоценный алмаз всему миру…» Это мы с вами уже учили: Федор-Михалыч про русский народ… «Воссияет…»
«Свети из Кремля нам, сияй-пламеней! Всех солнц во вселенной наш Сталин ясней!» Это Павло Тычина. Вы и имени такого не слышали...
«Алыми звездами башен кремлевских…» — тоже не знаете. Это Евгений Аронович Долматовский, отца у него расстреляли в тридцать девятом году... «Родина слышит, родина знает...»
…что «от востока звезда воссияет»! А это кто? Долматовский тоже? Звезда у кого «воссияет»? Нет, это опять Достоевский, у которого тоже отца в тридцать девятом… — только на сто лет раньше!... И оба хором: «воссияет» и «просияет» — звездами от востока!.. «Сияет над миром…»
«Сияет над миром» — кто это? Достоевский? Опаньки, Лебедев-Кумач: «Сияет над миром наш герб величавый, победно горит боевая звезда!»
«Восстанут, пойдут на великое дело…» — а это? Тоже Лебедев-Кумач? «Вставай, страна огромная?» Ан нет, Достоевский! «От нас издревле деятели народные выходили… Те же смиренные постники и молчальники восстанут, пойдут на великое дело»! «Но мы подни-мем гор-до и сме-ло… знамя борьбы-ы за рабочее де-ло! Марш-марш впере-од рабо-чий народ!»
«И воссияет миру народ наш!» Федор-Михалыч!
У Федора голова пошла кругом.
— «Нам засияет во мгле»… Кто опять засияет?
«Ленинской правдой заря коммунизма! нам засияет во мгле»: Михалков, Сергей Владимирович! Различить невозможно: где Достотовский? Где Долмаевский? Где какой-нибудь Демьян Бедный? Михей Голодный? Иван Бездомный? Сплошной «засияет» да «воссияет», «взвейся» — «развейся»…
Кт о обращал внимание, что Достоевский звучит как чистый соцреализм? за полвека до соцреализма: смотрите, как он весь выпучивается, несчастный Федор-Михалыч, весь как пузырь надувается… знаете, почему так беспомощно? Знаете, почему такой неестественный пафос? Потому что задача ставится — непосильная! Поднять себя за волосы — и не только себя, а целое мироздание поднять за волосы, опираясь на пустоту! Смотрите: я объясню, в чем секрет…
Белявский выбросил скомканную салфетку.
— Смотрите сюда. Человеку… ребенку в первую очередь, но и взрослому тоже — нужен определенный порядок. Это базовая необходимость, это даже не в мозговой коре, не в извилинах — а в каком-нибудь гипоталамусе, в мозжечке. Каждую минуту человек должен точно знать, где находится верх, где находится низ.
Вы знаете, что во время землетрясения люди массово сходят с ума? Не от страха! А от того, что стены колеблются и земля плавает. Человек точно знает: земля твердая, неподвижная — и вдруг она плавает, как вода. Человек твердо знает, с младенчества, как он в люльке лежал и смотрел: стены должны стоять вертикально, под девяносто градусов — а они наклоняются!.. Все, готово: человек сходит с ума. Человек не может жить без порядка. Лучше любой порядок: плохой, жестокий, любой — чем вообще без порядка. Такое устройство у человека. Дизайн психики.
Дальше вопрос: на чем строится миропорядок ребенка? Что — в основе миропорядка ребенка? Ессесно, родители. Это ось, ось земли. Мир — вращается вокруг этой оси. И вдруг — представляете, эту ось резко выдергивают, одномоментно, насильственно: в тысяча девятьсот тридцать седьмом, в тысяча девятьсот тридцать девятом, в тысяча восемьсот тридцать девятом — неважно: выдернули ось! Что это такое случилось? Это не просто «психологическая травма» — а это рушится мир! Нужно немедленно — я не говорю «сознательно», я наоборот говорю: в мозжечке, в гипоталамусе — нужно немедленно мир — перестроить! Весь образ мира, картину мира — нужно немедленно перестроить картину! И в первую очередь нужно понять: что случилось с родителями? Что случилось с отцом? Где он теперь находится, в этой новой картине?
Вспомните, как Достоевский любит про «скрытое», «тайное», «в уединении», «в недрах» — даже само слово, «недра»...
— «В недре отчем»… — почти против воли обронил Федор.
— Ось! — воскликнул Белявский. — Ось, вокруг которой вращался мир, не исчезла. Ее воткнули как спицу, вогнали в центр мира — всю целиком — она теперь в самом центре земли, в основании, в «недрах»… Весь видимый мир, новый мир, новый порядок — оп, каламбур — «новый порядок», нью ордер теперь строится над отцом, на отце, на основе отца. Федору как религиознику это должно быть понятно: отец не просто тупо убит, он заклан, принесен в жертву.
Чему? как вы думаете? Чему жертва?
Ответ прост: жертва — самому величайшему, что только можно себе представить. На что хватит фантазии. Вон, спасению мира. Всемирному торжеству справедливости.
В тысяча восемьсот тридцать девятом с этим понятно, двух мнений нет: бог. Самое большое на свете — бог.
И значит — кто получается русский народ? Бого-носец! Вы понимаете? Потому что народ — он технически эту жертву осуществляет, приносит в жертву отца: но он не просто убийца, он «богоносец», он жрец! Понимаете?
И через сто лет — ровно такая же жертва и тот же жрец — только бог поменялся: теперь он называется по-другому, «всех солнц во вселенной наш Сталин светлей!». Сталин, Ленин, заря коммунизма — неважно: главное, был бы канал, куда хлынут душевные силы — нужен противовес, чтобы порядок восстановился, чтобы земля больше не плавала, чтобы стены стояли.
Поэтому именно те, кто больше всех пострадал, у кого боль сильнее, невыносимее — вот они-то как раз громче всех воспевали: «заря коммунизма», и «просияй-воссияй», и «народ-богоносец» как жрец, как орудие нового бога, нового миропорядка — причем не для денег и не от страха, и даже не жизнь спасали, не надо их обижать — они спасали то, что даже важнее жизни: они спасали миропорядок и смысл!..
Достоевский был из них — первый! В чем его уникальность? Почему он востребован и в двадцатом веке, и по сей день, пока полмира — Россия, Китай, пол-Африки, пол-Америки — живет при тоталитарных режимах? Потому что весь ужас двадцатого века — и чувство вины за ужас — все было предварено в личном ужасе Достоевского! Судьба образованных классов, убитых народом, судьба всей, так скажем, интеллигенции — и дети этих же образованных классов, которые верой и правдой пытались служить этому же народу — всё, пожалуйста, в личной судьбе Достоевского!
Отцы — трахали и секли этот народ. Дети несут их вину, и еще страшнее — вину перед отцами, убитыми этим народом. На этом чувстве вины все замешено: и «торжество коммунизма», и религиозный экстаз…
— Подождите!! — взмолился Федор, — но вы же все время не с того начинаете!.. Вы говорите про материальное: про «гипоталамус», про «цинк», про «наследственность», про «эпилепсию», про «нейроны»…
— Я говорю про базовые вещи —
— Вот именно: вы утверждаете эти вещи как базовые, но это — ваш выбор! Вы говорите: любви нет, а есть сексуальная тяга, садизм и педофилия. Вы говорите: религиозного чувства нет, а есть «аура» перед припадком и чувство вины. Вы говорите, что Бог и любовь — фантазия, а синхронизированные нейроны — единственная реальность. Но это — ваш выбор!
Мне постоянно в последнее время встречаются эти статьи, где пишут: «британские ученые определили, что любовь — разновидность психоза, потому что в мозгу вырабатываются такие-то и такие-то вещества»… Они сами не видят — авторы этих статей, — что в этом утверждении скрытая аксиома: «материя первична, а дух вторичен», простой марксизм!
Почему вы не думаете, что все устроено совершенно наоборот? Бог первичен! Любовь — первична! Бог создал нейроны и гипоталамус, Бог синхронизировал эти нейроны, и сексуальность создал для того, чтобы человек в своем грубом животном облике, в своих грубых кожаных ризах — смог услышать хотя бы слабый отзвук любви…
Вы смакуете личный ад Достоевского — его болезнь, сексуальность, враждебность к отцу… Во-первых, я не уверен в фактической подоплеке, но главное: это его собственный, личный ад, его личное дело! может быть, он и должен был пройти ад, чтобы совершить свой писательский подвиг: в таких же, как сам он, страдающих и озлобленных, увидеть божественный образ, божественную любовь; чтобы весь Божий народ, страдающий и озлобленный, суметь увидеть в реальности как народ-богоносец!..
— Конкретнее! — перебил Дмитрий Всеволодович, — кто конкретно у вас «богоносец»? Этот, который копит на полуботинки — он «богоносец»?
— Ну нет, он-то как раз…
— «Нет»? Отлично! А тот, которого ткнули ножом собутыльники? Богоносец? А дядя Степа?
— В какой-то степени… Мы не можем сказать про конкретного человека «вот он», «вот этот», только про самого Христа; никто в отдельности, но все вместе…
— Вы всё сказали, — развел руками Белявский. — Мне нечего даже добавить. «Никто конкретно». Вообще то и се, и божественная любовь, и бла-бла, но — ни-кто кон-крет-но! Вы себя слышите? И Достоевского заодно? «Богоносец» и «драгоценный алмаз», «просияет» и «воссияет», а конкретно, сию минуту, сейчас — никого! Поэтому и летите вы на телеге, чтобы все лица сливались в неразличимые пятна. Потому что стоит в одно-единственное лицо вглядеться — сразу лезут полуботинки за девять рублей!
А я вас спрошу: что ужасного в узконосых полуботинках? Знаете? Я скажу. Самое для вас с Достоевским ужасное — это реальные люди.
Если обпился древесного спирта, если в канаве валяется и мычит — вам нормально! только мычит пусть как можно нечленораздельнее, тогда вы сможете на него проецировать свои идеи: мол, «мычать-то мычит, зато сердце знаете у него какое? О-о! Золотое! Народное! Знаете что в душе-то у него? Глубина-а!» Вы сами себе вырастили фантом — и целуетесь c ним. А реального человека — вы видеть не можете, вы корежитесь и дымитесь, вы гоните его: «Это не русский! Не русский народ!» Да ну? А какой?
Нет, Федор, таких русских, как у Достоевского и у вас — нет в природе. Никто ничего в глубине не хранит и алмазами не сияет: все бред собачий. Народу эта ваша риторика — «Бог», «миссия», «искупление» — до полной фени... Знаете, что ослепляет вас с Достоевским? Чувство интеллигентской вины — и интеллигентского ужаса перед насилием. Чем острее вина и ужас, тем больше пузырь! Достоевский надул из себя пузырь: «народ-богоносец». Советская интеллигенция надула пузырь: «великий могучий советский народ — строитель»… чего-то там… Нет такого народа и не было! Нет «богоносца» и не было никогда! Было чувство вины за отца, боль и ужас, и радость освобождения — а «народ-богоносец» — фан-том! Сколько можно фантомов?!.
— Нет. Сколько. Можно. Слов! — произнесла Анна.
Федя повернулся к ней — с внезапной надеждой, что вот сейчас она как-нибудь сможет разогнать весь этот ужасный туман.
— В чем ваша ошибка, — властно продолжила Анна, —
26. Звонок
Да, Тонечка? Ну, что там у тебя?
С утра, да… Нет, сегодня уже нет, вскрывать не будут: время уже хорошее, все домой… А чего? к девяти мы спокойно… Да, в девять - в десять, и я подойду тоже, и Конова… Что?.. Не, вскрытие-то часов, наверно, в одиннадцать. В десять - в одиннадцать. В принципе-то они начинают с утра, потому что им заключение сдавать в милицию…
Да, одежду возьми. Возьми какую-нть старую простынь, мыло какое-нть найди, тоже нуж… А тоже нужно будет, когда они будут мыть его, обмывать, как бы говорится, обтирать, всё это… ага… мыло кусок, расческу там положите, бритву-станок у него если есть, всё туда побросайте и принесите. Трусы, носки, тапочки любые…
Чего?.. с пятками?.. Ой, да какая разница-то ему! Еще спасибо скажет, что тапочки положили домашние! Здесь продаются такие вот одноразовые дешевые, прямо в морге. Спасибо пусть скажет, что тапочки еще положут, а не голого в целлофановом пакете, вот чего!
Все равно это или в братскую могилу пойдет… Ну да, да: всех вот этих бомжей, они… безымянные могилы называется. А конечно, конечно! Так прям бросили в целлофановом пакете, крест поставили - закопали и всё… Куда кремировать-то еще? Кремировать — это, знаешь, тоже деньги хорошие...
Да? …смотри… ну смотри… ну как хочешь…
Гробы дешевые есть. Что-то даже в пределах двух тыщ можно найти договориться. Я позвоню попрошу, чтоб дешевый сделали… здесь, в лесу…
Да! Да! Да. Деревянный гроб просто, там без обивки, без ничего… Или здесь с девочками, или на Власихе договоримся, сделают подешевле, собьют: ты им только скажи рост, размер там… Если сжигать тем более все равно… И он че вам? денег, что ль, состояние что ли оставил, мль?.. Ну?!
Ага...
Давай, Тонечка... Да, давай, хорошо… Я сама вопросы решу по поводу морга…
Да, а завтра мы с Коноваловым поговорим. Всё, давай…
Все, до завтра, ага.
(Окончание следует.)
[1] Салат из проростков, диетическая еда (нем.) .
[2] Let’s go — Пойдем, уходим (искаж. англ.).
[3] «Каминная комната» (швейц. фр.) .
[4] Вишни, замоченные в кирше, десертное блюдо (фр.).
[5] День гнева, Судный день (лат.) .
[6] Фрибуржец, житель города Фрибур (фр.) .
[7] Хватит, достаточно (фр., фам.) .
[8] Паломничество (фр.) .
[9] Верующему ( от англ. believer).
[10] TGV — скоростной поезд (фр.) .
[11] Jewel — зд. драгоценный камень (искаж. англ.) .
Победная песенка
Амелин Максим Альбертович родился в 1970 году в Курске. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Автор нескольких книг стихов, статей о русских поэтах конца XVIII — начала XIX века, переводчик Пиндара, Катулла и “Приаповой книги”. Главный редактор издательства О.Г.И. Лауреат многих литературных премий. Живет в Москве.
Надпись над дверями тбилисской бани
Смертных сердца прожигая глаголом
иль услаждая божественный слух
вычурной речью, я помню, что голым
вышел на свет, не стыдясь повитух.
Случай мне вновь без смущенья и срама,
словно пред Богом, по долгом посте,
кающемуся под сводами храма,
выпал явиться во всей наготе.
Серная бани тбилисской утроба
каждого может, отмыв добела,
Лазарем сделать, восставшим из гроба,
или младенцем в чём мать родила.
Банщик сотрёт рукавицей овечьей
грязь, что в скудельный впиталась сосуд,
подлинный облик вернув человечий, —
страшный не страшен здесь бывшему суд.
Господи, так же очистить и душу
дай до вселения в общий Твой дом! —
с ней разлучения тела я трушу,
вечную жизнь представляя с трудом.
Пиндар и осел
(баснопение)
Некогда празднество пышное
на Делосе скалистом в честь
избавителя справлялось Аполлона,
и многолюдная съехалась
толпа с окрестных островов
и далёких берегов земли матёрой
возликовать и хвалебную
услышать о бессмертном песнь,
свежесложенную лебедем Фиванским:
“Иа, иа, Пеан! Иа, иа, Пеан!”
Некий торговец маслинами
с товаром прибыл и с ослом,
груз по лестнице на храмовую гору
определённым взволакивать,
что и свершилось, но, когда
славословия торжественные хора
грянули, слуха животного
коснулся вещий Музовод
и отверз ему уста припеву вторить:
“Иа, иа, Пеан! Иа, иа, Пеан!”
Чудо случилось, — заслушался
ослиным пением народ,
неожиданно уместным, и захлопал,
чтя исполнителя нового,
и потрясённые жрецы
подались его узреть, а безголосый
ямбов смеситель и дактилей
без торга выкупил певца
и пожертвовал во храм благого бога:
“Иа, иа, Пеан! Иа, иа, Пеан!”
Притча моя поучительной
для тех, кто, смысла не познав,
подражает оболочке песнопений
внешней, и только, является,
пусть содержащиеся в ней
не мешают пониманию темн о ты,
ибо грядут поколения
вслед нынешнему, что уже
отличить осла от Пиндара не смогут:
“Иа, иа, Пеан! Иа, иа, Пеан!”
Победная песенка (6)
Некогда голоса Муз
пушек перекрывал грохот,
противоговоря стройности, —
в новые времена всё
глушится то монет звоном
сладостным, то купюр шелестом.
Ты не переживай так, —
мне же не для того, крошка,
песенки сочинять вздумалось,
чтобы передо мной здесь
трепетное твое тело
лотосом расцвело розовым.
В медные небеса бьют
яростно получить отклик
жаждущие любым способом, —
только невыносим шум
суетно-деловой слуху
Ведателя суд е б истинных.
Опыт о патриотизме
Князь
Пётр Андреевич Вяземский,
наполовину ирландец,
камергер Двора
Его Императорского Величества,
товарищ министра финансов,
добрую треть
долгой жизни своей проездивший
по заграницам,
раздраженно брюзжать
возвращался в отчизну время от времени
о народе русском и Боге.
Граф
Толстой Алексей Константинович,
русак чистокровный,
наперсник и друг
детства будущего Царя-освободителя
и сиделец на коленях у Гёте,
редкой силы мужик,
разгибавший подковы, и равнодушный к почестям
в наследных имениях охотник,
в стихах искажал
историю государства российского,
надо всем святым насмехаясь.
О,
какие б им теперь обвинения
предъявили мнимые патриоты,
уличив, например,
в презрении ко всему, чем отечество
справедливо гордится,
в оскорблении чувств
верующих чересчур тщательно,
трепетно и щепетильно, —
но, увы, глупцам понять не дано,
ко врагам своим способным только на ненависть,
как они любили Россию!
* *
*
Это не зависит от возраста
и от положения в обществе,
это не зависит никак
от того, сколько чистой прибыли
и в какие сроки получено,
в смутные ли жить времена
или в просвещённые выпало, —
каждый человек закрывается
раз и навсегда всё равно.
Люди с неподвижными лицами
ходят и взорами потухшими,
ничего не видя, глядят
безразличное неволнуемо
продолжая существование, —
Господи, тебя я молю,
если неизбежно закрытие,
пусть оно меня не касается
раньше, чем в последний мой час!
Отражённые сигналы
Березин Владимир Сергеевич родился в 1966 году. Закончил МГУ. Постоянный автор “Нового мира”. Живет в Москве.
Мир пропитан радиоволнами — сигналами телефонов и телевизоров, в нём живут уже не миллионы, а миллиарды передатчиков, спутники и корабли, автомобили и самолёты, бездушные автоматы и операторы бездушных устройств — все повязаны электромагнитными волнами, как рыбы неводом.
Они ищут друг друга — и всё дело в том, что одни радиоволны рассеиваются по пути на препятствиях, а другие продолжают движение в бесконечность.
Отражённая волна приходит обратно, и вот уже оператор видит светящуюся точку на своём зелёном экране.
Кроме точки, поди, и нет ничего — двигается точка, измеряется, а потом исчезает с экрана, будто и не было. Пропали куда-то и дальность, и угловая скорость, и люди, что сидели внутри этой точки. Всё смыло за край светящегося экрана во время наблюдения.
Время ушло.
НОЧНОЙ САМОЛЁТ В ДАЧНОМ НЕБЕ
Мы сидели на крыльце в сгущающихся сумерках. Наши матери несколько раз выглядывали — как мы там, и меня веселило то, что они явно боялись — не покуриваем ли мы. На дачах были тысячи мест, где это можно было сделать тайком, а они боялись, что мы будем курить прямо у них на глазах. Да и бояться надо было совсем других веществ, не табака все теперь боялись.
А уж наши отцы как раз задымили сразу после ужина.
Их фуражки висели рядом — у моего отца околыш был голубой, а у Лёхиного — чёрный. Они всё время шутили, что, дескать, один должен сбивать другого, а тот должен бомбить первого. “Сами не летаем и другим не даем!” — приговаривал Лёхин отец. А вот Лёха всегда завидовал моему шлему, настоящему шлему пилота, чёрному, кожаному, с вставками для наушников. У его отца такого шлема не было, зенитчикам лётные шлемы были не положены. Правда, и мне мать запретила носить этот шлем — если я затягивал ремешок на подбородке, то не слышал уже ничего, а она боялась, что я попаду под машину.
Я бредил авиацией и представлял себя в кабине бомбардировщика — в кожаной куртке, в шлеме, с планшетом, откуда перед вылетом надо достать конверт с указаниями — точно, на Берлин, мы готовы к этому, и дизеля нашего ТБ-7 уже запущены, мы знаем, что вряд ли вернёмся на родной аэродром, прощай, мама, прощай, Лёха…
Мы жили на соседних дачах, и в городе наши дома были неподалёку.
Дружили наши матери, дружили наши отцы, и мы с Лёхой жили как братья.
Сейчас отцы наши крепко выпили, и мой остался на веранде — сидеть и смотреть на чужую работу. Дача — много посуды в холодной воде. Тарелки стучали друг о друга, и тихо звенели вилки.
Лёхин отец вышел к нам, как раз когда в небо россыпью бросили крупные августовские звёзды.
Там, в вышине, мигал разноцветными огнями заходящий на посадку самолёт. Ещё выше по небу медленно двигалась белая точка, и я подумал, что это, наверное, спутник или космическая станция.
— Да, — сказал Лёхин отец, — много всего в воздухе нынче болтается. В мои-то времена…
Лёха скривился, и я знал почему — сейчас его отец будет вспоминать, как начинал службу.
Мы слышали этот рассказ не раз — и всегда вот так, после шашлыков, когда Лёхин отец приходил в сентиментальное состояние.
Он и выглядел в этот момент моложе.
А рассказывал он всегда о том, как начал служить в зенитном полку, одном из многих, стоявших под Москвой. Эти полки встали там ещё при Сталине, а ракеты для них придумал сам Берия. Ну или сын Берии, или внук — всё равно. Мы как-то ездили на велосипедах к такому месту — нам рассказали, что это огромные сооружения, которые строили зэки, и их не стали ломать, потому что как начали, так обнаружили, что внутри толстенных стен эти самые зэки и замурованы.
Никаких скелетов мы не нашли — военная часть была в запустении, всюду валялся мусор, и местные пацаны, судя по пустым бутылкам, уже выпили там целое море пива. Честно сказать, местных мы боялись больше, чем скелетов.
Внутри бетонных укрытий было нагажено, всё мало-мальски ценное растащили, и мы не стали рассказывать об этом Лёхиному отцу, чтобы не расстраивать.
А когда мы, снова оседлав велосипеды, приехали года через два с новенькой цифровой мыльницей, то оказалось, что перед нами крепкий забор, а вместо развалин военного городка — коттеджный посёлок.
Но для Лёхиного отца все эти сооружения были живы, он перечислял смешные позывные и названия каких-то приборов. Рассказывал, как надёжно всё было придумано ещё тогда, в конце сороковых, а в наше время в специальном месте сидел пулемётчик, который должен был сбивать крылатые ракеты.
Но мы потихоньку вырастали из того возраста, когда любая железяка, покрашенная в зелёный цвет, возбуждает мальчишку. Нас стали возбуждать совсем иные вещи.
Мы, поздние дети, любили наших отцов, видя, как они понемногу становятся беззащитны.
Вот и сейчас мы слушали старую историю про то, как дежурный по полку уронил свой пистолет в туалетную дырку, и пришлось пригнать целый кран с электромагнитом, который притянул к себе не только боевое оружие из трясины, но и все гвозди из дощатого домика.
— При Сталине за такое бы не поздоровилось, — сказал я и тут же прикусил язык.
Глупость какая, я, в общем, понимал, что Сталин был давным-давно, а Лёхин отец, как и мой, служил при ком-то другом.
Но тут мой батя вылез с веранды и сказал:
— Ты им про атомный самолёт расскажи.
Лёхин отец посмотрел на меня с недоверием — стоит ли такому рассказывать про атомный самолёт.
По всему выходило — не стоит. Дурак я был дураком и этой истории недостоин, но он всё же начал.
Когда он только приехал в полк, время было неспокойное (оно у нас всегда было неспокойное), но как-то особенно ждали войны. Особенно, значит, в неё верили.
И вот однажды молодой лейтенант сидел на своём боевом посту и защищал наш город от американских бомбардировщиков: к нам ведь не могли долететь никакие другие бомбардировщики, ни английские, ни китайские.
Вдруг он увидел на экране своего радара точку, что приближалась к нашему городу.
Он тут же нажал кнопку боевой тревоги и стал ловить нарушителя в прицел — не такой, правда, какой бывает у снайперской винтовки, а в специальный электронный захват.
Я себе очень хорошо представлял эту картину — в полутёмном зале светятся только зелёные круглые экраны, потом вспыхивает красная лампа, она мигает, как на дискотеке, все начинают бегать, а Лёхин отец тревожным голосом кричит в микрофон: “Цель обнаружена! Маловысотная! Дальность — тридцать!” Ну, что-то ещё он кричит в микрофон, а в это время солдаты отсоединяют заправочные шланги от ракеты и бегут в укрытие — и вот эта ракета медленно летит по голубому небу, оставляя длинный ватный след.
А на них всех смотрит Сталин с портрета. Ну, или там Берия. Или там ещё кто-то, кто должен висеть в виде портрета на этой чумовой дискотеке.
Но в этот раз всё было иначе: старший смены остановил молодого лейтенанта и крикнул: “Отставить тревогу!”
И тревогу отставили — только жёлтая точка всё ползла и ползла по экрану, а потом выползла за его край.
Это был наш атомный самолёт.
У него был вечный запас топлива, потому что атомному самолёту нужен всего один грамм топлива для его реактора, чтобы облететь Землю. А может, даже и меньше ему нужно.
— Всё дело было в том, что много лет назад, ещё при Сталине, — тут уж Лёхин отец сказал это с нажимом и посмотрел при этом на меня, — ещё при Сталине, в сороковые годы, когда война уже кончилась, а у нас появилась атомная бомба, мы стали думать, как же нам её добросить до американцев. Не из рогатки же ею пуляться. Ракеты у нас были маленькие, прямо скажем, ракет у нас вовсе не было, а вот самолёты были хорошие. Одна беда — нашим самолётам не хватало дальности, и вот в этом была засада.
Тогда Сталин вызвал к себе разных авиаконструкторов и велел им придумать самолёт, который бы мог пролететь десять тысяч километров.
Потому что американцы могут на нас атомную бомбу сбросить, а мы — нет.
А у него за спиной сидел Берия, и когда Сталин говорил, то Берия корчил из-за его спины авиаконструкторам такие рожи, что они понимали, лучше бы этот самолёт им сделать, а не то с ними случатся неприятности.
Когда Сталин закончил, то встал Берия и говорит: “А сейчас выступит товарищ Курчатов, наш самый главный специалист по атомным бомбам, который не только всё про них знает, но ещё и понимает, как их можно использовать в других целях”. Тут вышел такой бородатый старичок и говорит: “Есть такое мнение: очень полезно сделать атомный самолёт. Но не в том смысле, что на нём будет атомная бомба, а в том, что он будет летать на атомной энергии”.
Тут конструкторы переглянулись, и всё это им показалось дико — совершенно непонятно, как это всё будет летать, потому что атомная бомба понятно что такое, и на ней, конечно, можно далеко улететь, но только один раз и неизвестно куда.
А бородатый Курчатов и говорит: “Вы ничего не понимаете, мы поставим внутрь самолёта ядерный реактор, он будет нам вырабатывать электричество, а от этого электричества будут винты у самолёта крутиться. Но если вам так не нравится, то можно просто воздух нашим реактором нагреть, реактор-то ведь жутко греется, а потом этот воздух из двигателя будет вылетать — и вот у вас реактивный двигатель без керосина. Теперь уж вы сами думайте — что вам удобнее: сделать винты на электрической тяге или сразу на ядерной.
Тогда встал такой конструктор Туполев, которого Берия не любил и даже посадил в тюрьму. Поэтому Туполев уже ничего не боялся и как был — в ватнике и ушанке — пришёл на это совещание.
— Я могу сделать, — говорит.
Ну и начали Туполев и другие конструкторы делать проекты, а потом и сами самолёты. Сначала, конечно, выложили эти самолёты свинцом внутри, а потом стали туда реакторы ставить. То так, то этак примериваются — у нас ведь лётчики не одноразовые, как камикадзе.
Медленно, но верно продвигались конструкторы к своей цели, но тут умер Сталин. Потом умер Берия — там с ним, правда, как-то неловко получилось, и он очень неудачно умер. А потом умер и человек, который был специалистом и по атомным бомбам, и по разным реакторам, — бородатый старичок Курчатов.
Но задания-то никто не отменял! А они были советские люди, и отступать им было некуда, даже без Берии с его дурацкими гримасами. Им даже если бы Берия сказал: всё, надоел мне ваш самолёт и Сталин всё равно умер, не делайте ничего! Так они бы ему сказали, что всё равно надо сделать, даже без зарплаты, ведь мы же взялись, обещали… Ведь надо отвечать за своё дело и не кривляться, что вот у меня болел зуб и я поэтому математику не сделал. Наконец конструкторы построили такой самолёт, который может летать вечно и вечно пугать американцев атомной бомбой.
Но я вообще-то думаю, что если он сам бы, безо всякой бомбы, грохнулся у американцев, то им бы мало не показалось.
Нам в школе рассказывали про реактор, который взорвался в Чернобыле, так уж много лет все только глазами хлопают, не знают, что со всем этим делать.
Лёхин отец как раз и засёк этот наш самолёт.
Оказалось, что двигатель-то конструкторы к нему сделали, а сам самолёт вышел очень тяжёлым. Недаром там столько свинца было, чтобы защитить лётчиков, — на меня когда в рентгеновском кабинете свинцовый фартук надевали, я дышал с трудом, а тут целый экипаж надо защитить от излучения.
И вот на взлёте самолёт уж было приподнялся, но нырнул вниз и стукнулся о взлётно-посадочную полосу. И от этого у него отвалилось переднее колесо. Я всегда говорю “колесо”, хотя отец меня поправляет и говорит, что надо произносить “шасси”.
Самолёт взлететь-то взлетел, а сесть они уже не могут — у них же там реактор за спиной, и люди могут погибнуть, если всё это взорвётся. И будет новый Чернобыль. То есть Чернобыля ещё не было, а мог бы быть гораздо раньше.
Тогда экипаж стал набирать высоту — делать-то нечего, это ведь были советские лётчики, а они всегда спасали тех, на кого мог упасть их самолёт.
Я посмотрел на своего отца — он был абсолютно серьёзен и кивнул мне:
— Экипаж Поливанова. Я его даже знал, хорошие ребята. Лучшие тогда были в летно-испытательном институте.
— Так вот, — продолжил Лёхин отец. — Этот самолёт был вечен. И они поднялись высоко-высоко, до самого практического потолка этой машины и стали уводить самолёт в сторону от жилья. Но тут выяснилось, что и катапультироваться им нельзя: тогда всё это упадёт на людей в других странах, да и какие-нибудь пингвины ничем не виноваты, и киты.
С тех пор они летают над нами, но раз в год командир корабля направляет машину в сторону испытательного центра и пролетает над своим домом.
А я его чуть не сбил тогда. Хорошо, что старший смены у меня был что надо. Его потом, правда, сняли, когда Руст к нам пролетел и сел на Красной площади. Тогда многим не повезло, вот нашего главкома тоже сняли. А он неплохой был человек, всё говорил: “Главное богатство войск ПВО — замечательные советские люди”…
Я его уже не слушал, тем более что их всех позвали снова на веранду. Лёха тоже пошёл туда пить чай с только что сделанным крыжовенным вареньем.
Я встал на полянке перед домом и, задрав голову, стал всматриваться в чёрное небо. Там медленно плыла новая святящаяся точка.
Наверняка это были они — и я представил себе этот самолёт с двойными винтами, которым нет сносу, могучую машину, что плывёт между облаков, а за штурвалом её сидит седой старик в ветхом кожаном шлеме. У него длинная белая борода, и такая же борода у второго пилота. А маленький высохший старичок за штурманским столом выводит их на правильный курс — прямо над домами родственников, что забыли их имена. Портретов у них никаких нет, какие портреты в кабине, разве фотографии давно умерших жён? Но отец говорил мне, что лётчики на испытаниях таких фотографий не брали — из суеверия.
Они и были такие, как мой отец, — приказали бы ему, он бы тоже полетел на атомном самолёте. И тоже всех спас, если что.
А теперь летящий надо мной самолёт превратился в белую точку. Этот самолёт был уже стар, я слышал, как скрипят под обшивкой шпангоуты. Самолёт шёл тяжело, как облепленное ракушками судно, но бортинженер исправно латал его — потому что полёт их бесконечен.
Они уже так стары, что не слышат попискивания в наушниках, да и не от кого им ждать новостей.
Но их руки крепко держат штурвалы, и вот пока эти лётчики живы, всё будет хорошо.
СТАНЦИЯ
Лейтенант (впрочем, тогда он был не лейтенантом, а младшим лейтенантом, да и в семье всегда стоял самым младшим) попал в училище в переходное время. Великая война давно кончилась, но теперь стала набухать снова, как чёрная туча. И это было после сокращения армии, о котором писала каждая газета.
“Мильон двести”, — шептались курсанты.
“Мильон двести”, — поджимали губы преподаватели.
“Мильон двести”, — писали в газетах. На миллион двести тысяч человек сокращали армию, и рядом с училищем в половину стены пятиэтажки был нарисован советский солдат, который говорил американскому: “Я своё отслужил, а ты?”
Но больше всего он страдал от того, что опоздал на ту, окончившуюся и великую войну, он опоздал на неё на поколение.
Однако в его училище все преподаватели были с боевыми медалями, а кто и с орденом. И они были в его глазах богами.
А вот у него не обнаруживалось на гимнастёрке ничего, кроме комсомольского значка.
Главное окончилось тогда, в сорок пятом, и оно прошло мимо него. Из этого прошлого у него ничего не было — можно было только мечтать, как стоял бы у сложного прибора управления огнём ПУАЗО и крутил колёсики счётной машины. Зенитная батарея отразила бы налёт, и вот перед строем ему вручили бы Красную Звезду, хороший боевой орден. Но ничего этого не было и быть не могло, к тому же он много разного уже видел в жизни, и романтика из его души успела испариться. Но другие надежды в ней ещё жили — на великую силу человеческой техники, на тот разум, который заставляет ткать из электронов изображения на зелёном экране, на могущество науки, которое переворачивает землю.
Раньше был сталинский план преобразования природы — все эти лесозащитные полосы, водоёмы, каналы, рукотворные моря и плотины — эти никогда не виденные им сооружения он должен был защищать от чужой враждебной силы.
Каждый день в коридоре училища он видел огромную карту, с гидростанциями, красными нитками линий электропередач, и над всем этим простирал руку человек в белом кителе. Но теперь этот человек только просвечивал сквозь наклеенный новый портрет. На портрете был изображён новый вождь и руководитель, и такой же, только поменьше, кусочек ватмана с новым названием был наклеен на город Сталинград.
Но это была — Родина.
Над бело-золотой картой могли появиться чужие самолёты или хищные ракеты и капнуть чёрным в любое место. И тогда чёрная атомная клякса растечётся по крохотным кубикам, обозначающим Тахиа-Ташскую гидростанцию и Главный туркменский канал, или по синей глади Сталинградского моря (Сталинградское море тоже было заклеено и превращено чёрной тушью в Волгоградское) или попадёт на Ереванский каскад, спрятавшийся среди коричневого цвета Кавказских гор.
Мир был прост и понятен, он подчинялся общим законам и воле вождя, прежнего или нынешнего, весь — от Каховки, где тоже шло электрическое строительство, до Молотовской (это тоже было закрашено) ГЭС, которая была где-то здесь, хоть и южнее той станции, куда ему предстояло ехать.
Пропасть в болоте армейской ненужности выпускник не боялся, специальность у него была радиотехническая, а значит, нужная. По ночам ему снились генераторы импульсов, огромные лампы — одни с водяным охлаждением, другие — с воздушным. И он научился разговаривать с лампой по имени ГИ-24Б как с живым человеком. Материализму это не мешало.
И пусть пехота боится сокращения, а он бояться не будет.
Итак, его выпускали одним из лучших, но вдруг распределили на Северный Урал, в забытую Богом часть.
Он долго ехал с Украины на север, и поезда становились всё хуже, и всё проще обращение проводников.
Он прибыл к месту своего назначения, зажав в зубах старую пословицу “Береги честь смолоду”. Но потом он ещё месяц прожил в доме офицерского состава, слыша, как за стеной старый майор исполняет свой супружеский долг — долго, мучительно и в несколько приёмов, будто тренируясь в штыковой атаке на чучело.
Но пришёл и час младшего лейтенанта — его вызвали и услали дальше — ещё севернее, где в отрогах Уральских гор стояла два года назад поставленная, но не введённая в строй радиолокационная станция.
Место назначения хоть и казалось странным, но виделось правильным: лейтенант понимал, что всё логично: если враг прилетит из Америки, то лететь он будет над полярными льдами и придёт с севера. Так что он едет не в глушь, а на главное направление обороны.
Наконец он достиг посёлка, от которого до станции было ещё километров тридцать.
Старуха у сельпо смотрела на него как на привидение.
Вдруг она цепко схватила его за галифе.
Лейтенант ощутил, как старушечьи пальцы ущипнули его за ногу. Она, казалось, проверила, живой это человек перед ней или так, призрак.
Он отцепился от старухи и перевёл взгляд на горы.
Конечный пункт был перед ним, и он был ему явлен белым шаром купола, видным за двадцать километров. Он знал, что в этом куполе крутится на бетонном стакане огромная антенна.
Шар и сама Станция стояли на вершине горы в тайге, и ничего, кроме тайги, вокруг не было.
Лейтенант снова ехал, только теперь его уже везли на грузовике, вместе с письмами и мешками крупы.
Ему казалось, что дорога так длинна для того, чтобы он забыл прошлое.
Оставшаяся за спиной старуха не верила, что он живой, и он сам понемногу переставал верить в себя. Липкое чувство паники иногда поднималось в нём — и он старался успокоить себя мыслью о том, что он здесь на год, не больше. Он хороший специалист, такие нужны. Такие сейчас особенно нужны. Мильон двести, я не твой. Мильон двести не приказ двести, расстрел на месте.
И он спрыгнул с грузовика, а потом стащил чемодан.
Лейтенант представился начальнику и вдруг ужаснулся спокойной пустоте в глазах майора.
Начальство смотрело сквозь него, будто сквозь кисейную занавеску на улицу. Потом он обнаружил, что майор почти не вмешивался в течение жизни на Станции, но всё в этой жизни, от движения антенны внутри белого шара до заунывной песни восточного человека в солдатских погонах, обязательно замыкалось на этого человека, редко выходившего из своей командирской комнатки.
Служба была службой, и лейтенант, не обращая внимания на странности начальства, приступил к ней, чтобы отогнать тревогу перемены места.
Дни потянулись за днями — лейтенант знал, что ужас нового места приходит на десятый день. А ещё он знал, что потом человек привыкает ко всему и новое место и пища на новом месте постепенно вытесняют всё прежнее, что было в теле. Проходит время, и оказывается, что человек уже состоит из воды, которая текла из крана на новом месте, и из тех животных, что паслись тут, а не в прежнем мире.
Клетки тела, выросшие прежде, сменяются новыми клетками, состоящими из нового окружения. Это ему однажды объяснил один биолог, а людям с высшим образованием лейтенант верил.
А у него самого было пока лишь среднее специальное — в высшее техническое училище он не прошёл.
Жизнь Станции была ленивой и тянулась вопреки уставам. Ни вечерней поверки, ни утреннего развода никто не проводил. Лейтенант было попытался построить вверенный ему радиотехнический взвод, да не сумел разобрать в казарме своих. Дневальный спал, и единственное его отличие от прочих было в том, что он спал в сапогах.
Лейтенант отчаялся и приступил к своим обязанностям без всякой помощи. День за днём он лазил с первого этажа Станции на второй и проверял блоки гигантского радара и помечал продвижение на технологической карте.
Ему рассказали, что ещё до его прибытия один бывший студент, попавший на Станцию рядовым, пытался повеситься — да не просто так, а внутри белого радиопрозрачного шара, на опорно-поворотном устройстве большой антенны.
Узбеки заметили это сразу, и бывший студент едва успел закинуть на балку тросик, как его уже держали за руки.
Только к врачам его везти было некуда — и он неделю пролежал связанным, а потом успокоился сам.
Был он демобилизован через три года — не врачебным, а обычным календарным порядком.
И как-то, на первом этаже Станции, за стойкой настройки фазовой частоты задающего генератора, лейтенант обнаружил написанный химическим карандашом неприличный стишок. Стишок был записан в строчку, но рифмы легко читались: “То не камень лежит, а солдат ПВО, он не пулей убит — за…ли его”.
И он подумал, что это написал, наверное, тот самый висельник.
Но потом лейтенант перестал думать об этом студенте и снова погрузился в свою работу — в выдачу пеленга на постановщик активных помех и устройство распознавания своих и чужих самолётов.
Что ему было до неудавшегося самоубийцы, когда на Станцию поставили лампу ГИ-5Б вместо ГИ-24Б, а нужный триод был не просто лампой, а генератором импульсов весом в двенадцать килограммов, и этих двенадцати килограммов не хватало ему для счастья, никак не связанного ни с чем потусторонним. О путанице надо теперь слать радиограмму невидимым начальникам, и дело будет длиться, длиться, длиться…
Разговаривать тут было не с кем — пару раз он попытался добиться ответа от начальника Станции, но тот снова стал смотреть мимо стеклянными глазами.
Ему ничего не нужно было от лейтенанта — и, видимо, он ничего не боялся. Ни начальства, ни одиночества — за ним была какая-то мрачная сила, и она была чужда миру электронных блоков, импульсов и помех, которому лейтенант доверял.
На Станции не было женщин, и лейтенант решил, что это мудро. Он видел, во что превращаются мужчины, когда делят внимание поварихи в геологической партии, где он перед армией отработал один полевой сезон.
Единственно, с кем он подружился, был старший товарищ, который готовил дизельный отсек. Собственно, дизель уже работал. Станция со всеми своими приборами и механизмами требовала прорву электричества, и этот человек был электрическим богом, вернее, он был властителем трёх дизелей — одного основного, одного — в холодном резерве и третьего — в горячем.
Он и по званию был старшим. Этот капитан был из той породы, которую его молодой собеседник успел научиться отличать от прочих офицерских пород. Порода эта звалась “залётчики” — что-то у них могло получиться в жизни, но щёлкнули неизвестные переключатели, повернулись тумблеры — и всё пошло вкривь и вкось. Наверное, он был когда-то разжалован, а теперь служил медленно и вязко, безо всякого рвения.
А вот капитан-то уж точно воевал. То и дело в его жестах, в словах и суждениях проявлялись повадки человека, бывшего на войне не месяц и не год, а, может быть, прошедшего и несколько войн в разных частях света.
Настала осень, угрюмое время, которое отрезало станцию от Посёлка, и как только дорога подмёрзла, лейтенант напросился в Посёлок.
Машина ехала туда целый день.
Дорога всё равно плохо держала её, и лейтенант с ужасом думал, как они поедут обратно с грузом.
Они получили положенное, ящики и мешки легли в кузов, но ехать обратно было уже поздно.
Солдаты заснули в своём законопаченном кузове, и Сидорова удивило, что они не стали проситься на ночлег к местным вдовам. Наверняка, думал он, тут должны быть такие разбитные вдовы... Ну или просто одинокие женщины... Но и он сам нескоро нашёл себе ночлег.
Не то чтобы ему отказывали, но были явно ему не рады. Даже те самые одинокие женщины, к которым он стучался. Ни его лейтенантским погонам они не были рады, ни деньгам, что потом появлялись в его руках как последний аргумент.
Наконец его пустил в дом старик учитель.
В его избе было просторно, но стоял странный затхлый запах. И вроде было чисто, и старуха учительша всё время сновала по избе, а затхлость лезла изо всех щелей.
Лейтенант думал, что его станут расспрашивать о жизни в больших городах, но никто ни о чём не спросил. Жена учителя и вовсе ушла к соседям. Лейтенант потрогал рукоятку репродуктора и вдруг убедился, что провод оборван.
От нечего делать он срастил провод и снова воткнул штепсель в розетку. Тарелка-репродуктор захрипела, но ничего членораздельного не произнесла. Не рассказало радио ни слова — ни про погрузку рельсов на заводе “Азовсталь” для новых строек, ни про погрузку труб на заводе имени Куйбышева для нового канала, ни про изготовление генератора на турбогенераторном заводе имени Кирова для Братской ГЭС. Радио хрюкнуло и стихло, потому как кончилось в проводе электричество.
Он удивился, что его работа не понравилась вернувшемуся от соседей хозяину.
— Ты лишнего не делай, главное — лишнего не делай, — хмуро сказал он.
Потом, со временем, лейтенант стал понимать, что это главный закон здешних мест.
А тогда хозяин посмотрел на него сурово:
— Вот геологи у нас делали лишнее. Слыхал про геологов? У нас тут геологи года два как пропали.
Лейтенант слышал эту историю ещё в училище — в газетах, разумеется, об этом не печатали. Но слухи были самым старым и неистребимым источником знаний. У одного из курсантов отец был геолог и рассказал сыну эту историю с многочисленными подробностями.
Лейтенант запомнил рассказ (впрочем, уже обросший деталями совершенно невероятными), но не думал, что это случилось именно здесь. Смутные воспоминания тасовались, как замусоленная колода: молодые ребята, партия специального назначения, искали, как водится, что-то секретное, загадочное исчезновение... Через полгода, когда сошёл снег, их всех нашли. Геологи лежали у ручья с вырванными языками.
Старшина его курса в училище был до службы охотником-промысловиком и только усмехнулся — в лесу полно всякой мелкой твари, и по голодному весеннему времени объедят тело как муравьи лягушку. Лейтенант и сам помнил эту детскую забаву — дохлую лягушку клали на муравейник, а через пару дней забирали её гладкий, очищенный муравьями скелет.
История была грустная и непонятно от чего запомнившаяся. Может, оттого, что хорошо представлял себе работу в геологической партии, а может, оттого, что всё мерил смертью на войне — её смыслом и целесообразностью.
Молодые ребята погибли, хоть и не было войны. Одну девушку-коллектора и вовсе не нашли.
— Что, — спросил как-то лейтенант у капитана, — наверное, убили их?
— Глупости, — отвечал тот. — Я там был с первой поисковой группой. Некому их было убивать — зэков тут нет, нет и местных жителей поблизости. Разве наши бойцы, но ты, Сидоров, представь наших узбеков, которые скрытно, как пластуны, окружают туристов и потом забивают их до смерти, чтобы ничего потом не взять. Представил? То-то. Я бы скорее решил, что они сами подрались, но это не так. Я видел их трупы. И ты бы, если увидел, так сам бы понял — они перед смертью грели друг друга, лежали обнявшись. Какая драка?
— И что там было?
— Да кто ж его знает? Буран тогда был, паника могла быть...
— А звери?
— Да нет тут большого зверя. А кто есть, зимой спит.
— Да, а диверсанты?
Капитан вздохнул:
— Ну при чём тут они. Это всё неглубокий ум хватается за внешнюю историю, а история всегда внутри, как косточка внутри вишенки. Ребята были честные и погибли просто и без затей. Да только это не интересно никому, ты как подписчик газеты “Труд” всё хочешь увидать тайну в простом месте, меж тем драма вокруг нас, она — повсюду: и рассеяна в воздухе, и растворена в воде.
Сейчас, сидя в угрюмой избе, он вспомнил подробности, и от этого у него заныло под ложечкой. Но тут хлопнула дверь, в сенях что-то упало и покатилось, а на пороге возник старый милиционер.
Было ему на вид не больше сорока, но лейтенанту он показался ужасно старым.
— Участковый наш, — мотнул хозяин головой.
Участковый хмуро посмотрел на военного.
— Он ел? — спросил участковый, не здороваясь.
— Ел, ел, не беспокойся, — ответил хозяин.
— Пусть ещё поест, при мне. — Милиционер очень нехорошо посмотрел на лейтенанта.
И тот, ничего не понимая, хлебнул ложку-другую.
Вдруг участковый переменился, но лейтенант уже ничему не удивлялся. Не удивился он и тому, что участковый сел с ним рядом за стол, и тому, что он приобнял его за плечи, и тому, что он вдруг понёс, не стесняясь своих милицейских погон.
— Видели мертвеца?
— А? — выдавил из себя лейтенант, но хозяин остановил его:
— Он из новеньких. Ничего не понимает. Нет, не было никого. Никто никого не видел.
— Ну так пошлите гонца, если что, — сказал милиционер. — Понимаете?
Выходило по его рассказу так, что милиционер ловил и уничтожал нечисть. Сначала лейтенант решил, что речь идёт о беглых, о каких-то врагах, но потом оказалось, что речь о мёртвых.
Счёт у участкового шёл на десятки, да битва была не равная.
Зимой у милиционера выходило проще — у мертвецов не шёл пар изо рта, а вот летом — хуже. Мертвецы не ели, а сумев набрать еды в рот, не могли её глотать.
Лейтенант быстро смекнул, что участковый давно пьёт от одиночества, но, впрочем, никакого запаха не учуял. Тогда он решил, что участковый просто свихнулся в этих тоскливых местах и это гораздо хуже.
В остальном милиционер был совершенно нормален, со знанием дела говорил об охоте и действительно расспрашивал о больших городах. Но мертвецы всё же были главным в его жизни.
— Ну как вам не стыдно, — всё же сопротивлялся лейтенант. — Вы же офицер, фронтовик...
— А что — фронтовик? У нас под Сталинградом был политрук из казахов, так у него вообще фамилии не было. У них фамилия по национальности была не положена, вместо неё отчество писали. Этот политрук перед атакой костёр жертвенный возжигал и нас окуривал. Так пока его не отозвали куда-то, у нас ни один боец не погиб.
— Странные вещи вы говорите.
— Нормальные вещи я говорю. Ты, парень, пойми, ты тут новый, не понимаешь, что к чему, а я здесь с конца войны, как с госпиталя пришёл. Смотри в оба.
— Я-то посмотрю, посмотрю...
— Посмотри, посмотри...
Но водка уже сделала своё дело, и лейтенант засыпал на секунду-две, клевал носом и потом резко дёргал головой вверх. Он не помнил, как заснул, однако проснулся с на удивление ясной головой.
Вчера ему рассказывали сказки, а сегодня вокруг была хмурая реальность.
Только хозяин смотрел в сторону, а хозяйка снова исчезла.
Он вернулся на Станцию, и снова потянулись дни, целиком заполненные проверкой блоков и калибровкой импульсов.
Через месяц они с капитаном снова поехали в Посёлок по зимнику.
Они поехали в посёлок, когда мороз лишил воздух влаги.
Щёки кололо как иголками — только приоткроешь дверцу кабины. Но кожа тут же переставала чувствовать и эти уколы.
На этот раз они сразу пошли к дому учителя, и учитель сразу пустил их на постой. Участковый больше не появлялся, и лейтенант думал, что избавился от этого дурака.
Утром он проснулся от странного гомона за окном.
За это время отвык от утренних построений, а тут в маленькую дырочку в оттаявшем окне был виден именно развод.
Население Посёлка стояло, переминаясь на площади перед поселковым советом.
Жители построились в два ряда, между которых шёл участковый. Он внимательно всматривался в лица, и тут лейтенант вспомнил ночной разговор под водку.
Участковый проверял, идёт пар изо рта или нет. Это было наяву, за окном, при ярком солнечном свете.
Вдруг участковый замер и сделал рукой знак. Откуда ни возьмись, за человеком возникла фигура и взмахнула рукой.
И человек рухнул прямо под ноги участковому.
Только теперь лейтенант увидел, что в руке у милицейского помощника зажат большой деревянный молоток.
Он в ужасе обернулся и понял, что капитан всё видел.
И он понял также, что капитану это было не в новинку.
Лейтенант ощутил, что его крепко держат и шепчут в ухо.
— Спокойно, лейтенант, — бормотал капитан. — Не делай глупостей, тут тебе не фронт, не фильмы о войне. Тут ты в гостях.
И лейтенант понемногу успокоился, тем более вместо воды у него в руке появились полкружки водки, которую он хватил залпом.
— Ты, лейтенант, не дёргайся. Твоё дело — блоки прозванивать, лампочки-фигампочки менять. А у них свои дела — я, кстати, тоже не знаю, зачем это всё. Но порядок есть порядок, я и не спрашиваю — у тех, кто в коричневых шинелях, есть правило: никогда не переходить дорогу тем, кто в синих шинелях. Я когда здесь по первому году был, то по избам ходили — смотрели, кто печь топит, а кто нет. Нет дыма, значит, — мертвец живёт. Мертвец живёт, живёт мертвец, в землю идти не хочет.
Некоторые, правда, печь топили, а сами ложились в сенях — так до весны можно было дотянуть. А при царе страшно боялись — была вера такая, что если покойника не похоронить, если он от погребения сбежит, то всему дому его конец. Все умрут, один за другим, а может, одновременно. Попы этого ужас как боялись и завели специальные обряды — покойнику капали церковной свечой в лицо — смотрели, не дёрнется ли. А уж коли дёрнется, то били его деревянным колом в сердце.
— Осиновым?
— Почему осиновым? Да хоть чугунным. Только тут всякое бывало — мне рассказывали, что года за два до войны тут кузнец помер, а была жара летняя, деваться ему некуда, и полез он к себе на двор в погреб. Но почуял, как блины пекут, и явился за блинком. “Дай блинка”, — говорит, — так его и словили. Но никто его не тронул, а потом он на фронте погиб. Погиб мертвец за Родину — всё ж лучше, чем от односельчан, да?
В этот момент, прервав их разговор, в избу ввалился учитель. Он что-то держал в руке, отводя её за спину. Офицеры переглянулись. Стало понятно, что именно он был помощником участкового. Лейтенант старался не смотреть на деревянный молоток, измазанный чем-то липким.
— Зачем? — спросил он и получил в ответ уже знакомое:
— Порядок должен быть. Молодой, а не понимаешь.
— Да что я не понимаю? Вы ж человека убили, советской власти полвека, а вы тут мракобесием заняты... Вы же учитель, член Партии! У нас сейчас двадцатый век, мы овладели тайной зарождения жизни, мы покорили атомную энергию, заканчивается электрификация страны…
Учитель посмотрел на него хмуро:
— Это ты, парень, кому другому рассказывай. Электричество — это только у вас на горе, где дизеля стоят. А у нас внизу как дизель накроется, так в темноте по неделе и живём. Материализм дело хорошее. Мы и сами его выказываем, когда какого-нибудь проверяющего водкой поим и олениной потчуем.
А вот как я объясню детям то, что кузнец Ермилов пошёл на охоту с собаками, а у реки встретил почтальоншу Стрелку, которая умерла года два назад. И очень эта Стрелка ему нравилась, так что он с ней заговорил, а как они распрощались, собаки его перестали слушаться. Да и то: вернулся он в деревню совершенно седой, будто лет пятьдесят прошло, дряхлый старик, не то что молота поднять не может — ходит с трудом.
Что я детям скажу? Всё на виду у них и у меня. Вот кузнец, вот молот. Ковать некому теперь.
А про члена Партии вот что отвечу — у нас парторг тут на лесозаготовках тоже мёртвый был. На него раз десять доносы писали — и хоть бы хны. При нём дело не стояло, при нём норма выработки была.
— Не веришь, сосунок, — вздохнул наконец не зло, а как-то грустно учитель. — Да ты майора своего спроси, как он так живёт.
Лейтенант тупо посмотрел на него, не понимая, о чём это он.
Но тут вмешался капитан:
— Иди, иди, Николай Палыч, не надо больше, видишь, парень не в себе с непривычки.
Когда хозяин ушёл, то бог дизелей усадил своего младшего товарища за стол.
Тот было решил, что, по вечному правилу, его снова будет поить водкой, — но нет, разговор пошёл на сухую.
Капитан опять объяснял, что нравы тут простые — отчего гонять мертвецов, действительно непонятно. Он, капитан, и сам не поймёт, но надо так надо. Тут, в Посёлке, десять человек с войны вернулись, а присмотрелись — живых среди них всего двое. И что делать? Все в орденах и медалях, а — мёртвые. Из уважения ничего с ними делать не стали, сами они истончились. Зато как у одной молодухи муж умер, а она с ним жить продолжала, так подпёрли избу колом да и спалили обоих.
Ну не любят тут люди этого — но прежде народ и вовсе тёмный был, говорят, убивали всех, кто выглядел не по годам. Вот бабе лет шестьдесят, а выглядит она на тридцать — и ату её. Только ты не спрашивай, причём тут наша Станция, — вот уж правильно говорят: меньше знаешь, крепче спишь.
— И что, так на построении поутру и ловят?
— Ну, ловят. Но это зимой так. А летом уж не знаю — ведь как мертвецы теперь делают? Наберут воздуху ртом, а потом тихо через нос выпускают, и тебе кажется, что они дышат. Практически все так умеют. И вот тебе кажется, что он пыхтит, ноздри раздувает, а это он просто воздух через глотку гоняет. А уж один так свою мать любил, что решил воскресить. Но он на науку надеялся — даже в город поехал, чтобы подробнее это разузнать. Но из города-то не вернулся. Мать его мёртвая притомилась — скучно ей было в избе сидеть и стала по деревне бродить, в окна заглядывать. И хоть она добрая-то была, дети кричали и плакали. Вышел тут поп Еремей (настоящий поп, он, пока его не забрали, прямо в Посёлке жил) да обрызгал её святой водой. И стала она окончательно мёртвая. А сын так и делся куда-то, не приехал. Это и хорошо, а то, вернувшись, он бы расстроился. Всё-таки мать уж похоронили, и не воскресишь никак. Почитай, её червяки уже съели.
Лейтенант затравленно посмотрел на него.
Мистика, тупая мистика в век науки — вот что раздражало его. Но вдруг он вспомнил одну историю, которую ему рассказывали солдаты. Как-то наряд отправился за водой к роднику на склоне горы. Бойцы наполнили большой алюминиевый бидон водой и потащили его вверх по склону.
Когда они остановились посередине пути, то увидели, как сверху спускаются они сами, только с пустым бидоном. Двойники прошли вниз, не обращая на оригиналы никакого внимания, но кто из них оказался оригиналом — непонятно.
Лейтенант не любил логических парадоксов.
И тогда он отмахнулся от сержанта, который, боязливо прерываясь, рассказал ему про этот случай. Мало ли что привидится здесь — среди чёрного леса и серого неба.
Иногда он вспоминал погибших где-то неподалёку геологов — погибших как целое подразделение, накрытое противником. И эта девушка, тело которой не нашли, представлялась ему по-разному, но всегда живой.
Женщины вспоминались ему реже, он понемногу отвыкал от того, что они существуют.
Интересно, как боролись с такими воспоминаниями его восточные солдаты, но лейтенант знал, что их мира он не поймёт никогда.
В сухие зимние ночи они и вовсе видели северные сияния — лейтенант только гадал, что по этому поводу думают узбеки, выдернутые призывом из своего жаркого рая.
Но бессловесные южные солдаты были более гармоничны, чем он сам. Они плохо умели читать, но вовсе не испытывали потребности в чтении, им не нужно было успокаивать эмоции и убивать время. Солдаты с Востока были естественны, как сама природа, а вот несколько русских и украинцев на Станции чуть не сходили с ума.
Они возвращались на Станцию молча и, раскачиваясь в кабине грузовика, смотрели в разные стороны. Два дня лейтенант думал о произошедшем, а потом принял решение.
Он решил делать вид, будто ничего не случилось.
Не с кем ему тут было говорить, а говорить с кем-то надо было. Иначе, вслед за тем студентом, перекинешь тросик через антенную балку да будешь крутиться, болтая ногами день или неделю внутри белого шара, пока тебя не найдут.
Так что лейтенант решил не напрягать свой разум.
А общался он с ним бережно — будто разговоры их были кем-то расчислены.
Будто дали лейтенанту горсть патронов — три пристрелочных и пять зачётных, и не дадут уж больше. Однажды он пришёл в машинное отделение к капитану и спросил его о смысле здешней жизни.
— Вот, — произнёс он, — представьте, что живёт один человек. Наверное, в детстве у него были родители, хорошие, может, люди. А может, и не было их, погибли они, и вырастил человека наш советский детдом, в принципе не суть важно. Даже нет, представим, что он сын кулака или вовсе предатель. Но нарушает этот человек социалистическую законность и сидит в тюрьме, а его кто-то должен охранять.
И другой человек, комсомолец, его охраняет, которого тоже вырастили родители или наше общество, — дышит с ним одним воздухом, сидит в одних стенах. Или в далёком месте, без жены (тут он вдруг вспомнил мёртвых геологов и их коллекторшу)… И их жизнь одинакова, только у одного пенсия побольше. Но разве они равны?
— А так везде. Ты знаешь, кто такой Клаузевиц?
— Ну да, нам в училище рассказывали.
— Дело в том, что, как говорил Клаузевиц: “После генерального сражения потери обычно оказываются примерно равными, разница заключается лишь в состоянии боевого духа армий”. Так и здесь, все это пустое. Цель — ничто, движение — всё, а воинский дух реет где хочет. И хоть тюрьма специально придумана, как та точка, где жить хуже, но и там можно прожить счастливо до самого конца.
А мы с тобой защитники Родины, нам с тобой через двадцать пять лет службы полный пенсион выйдет, а тут и вовсе — год за полтора идёт.
Да и гляди, есть масса примеров, когда люди с разной судьбой оказываются в чем-то одинаковы: лезет на вершину капиталист-миллионер, а рядом ползёт его слуга (ну или нанятый инструктор — не важно). И вот недели две, а то и больше они спят в одних и тех же мешках, дышат одним и тем же обеднённым воздухом, питаются одинаково и одинаково выбиваются из сил. При этом их состояния различаются в тыщу раз, а то и в миллион. И что? Тут неудачников нет вовсе — мёртвых или живых. Нам с тобой тут жить вечно — это я пять лет назад понял, да и ты поймёшь.
Нам не хватает философского осмысления мира…
В этот момент лейтенант понял, что капитан уже выпил давно и много.
— Мир так устроен, что он состоит из наших представлений о нём. Нет, милый друг, ты можешь сходить в Ленинскую комнату и почитать там “Материализм и эмпириокритицизм”, тот том из собрания сочинений вождя, который никто, кроме меня, тут не читает, но помни: всё дело в том, что только наши представления управляют миром. И наш дорогой майор, с которым случилось такое несчастье пять лет назад, тому прекрасное свидетельство.
— А что с ним случилось?
Капитан вдруг поднял мутные глаза и уставился на младшего лейтенанта:
— Забудь, ничего. Ничего. Откуда ты здесь такой, а?
Лейтенант понял, что его собеседник давно и непроходимо пьян и удивительно только, как ему удавалось так складно говорить.
— Наш майор влюбился, вот в чём дело. И сделал совершенно непростительный для коммуниста и офицера выбор. Но я тебе всё же скажу о том, с чего ты начал. Мы действительно тут как бы на зоне, вернее — точно в зоне, зоне особого внимания. Потом мы, может, и выйдем на пенсию, хотя отсюда в большой мир никто не возвращался. Кто раз понюхал этого мёртвого воздуха, больше не вернётся в скучный мир живых.
Лейтенант захотел тотчас же сплюнуть себе (и капитану) под ноги, но удержался.
Приближались новогодние праздники.
Накануне к ним выехал проверяющий, и проверяющий был вестником войны.
Война вызревала, лейтенант это чувствовал, — она набухала как гроза в дальней точке, где-то под пальмами, у берегов Америки, но теперь невидимыми радиопутями в атмосфере это доходило до него, занесённого снегом и наблюдающего вокруг только лиственницы.
Он поехал встречать проверяющего. Тот был в ужасе от пейзажа и невменяем от водки, которую стремительно влил в него лейтенант для профилактики этого ужаса. Мысленно лейтенант простил все грехи своему капитану, потому что он раз и навсегда научил его мудрому армейскому правилу выполнения боевой задачи — устранить начальство, и чем быстрее, тем лучше.
Итак, после водки, сделанной из технического спирта, проверяющий стал благостен. Лейтенант даже подумал, стоит ли его везти на Станцию — может, он подпишет все отчёты прямо в Посёлке. Но нет, проверяющий очнулся и сам залез в грузовик.
Проверяющему на Станции понравилось — хотя в его состоянии можно было рассказывать, что сейчас он сидит под пальмами и вот сейчас именно по этим вагончикам, антеннам и личному составу империалисты нанесут упреждающий удар.
Он уехал, и лейтенант проводил его до автобуса из Посёлка.
Через неделю им передали по радио, что офицерскому составу присвоены внеочередные звания.
— На случай ядерной войны, — сказал капитан, усмехнувшись.
Военторг не снабдил их звёздочками, откуда тут военторг, так что они продолжали ходить в старых погонах и называли друг друга по-прежнему.
Перед тем как в репродукторе оповещения, по случаю подключённому к гражданскому радио, заколотились Кремлёвские куранты, их поздравило родное начальство.
Майор в свою редкую минуту просветления вышел со стаканом в руке и произнёс речь о важности службы и несколько раз сказал, что они спасают город Молотов.
“Мы защищаем Молотов... Какой Молотов, что он городит, — подумал лейтенант. — Мы страну всю защищаем”.
Майор вдруг выделил лейтенанта из немногих офицеров, посмотрел ему в глаза и захрипел:
— Мы Молотов… Не сметь! Мы защищаем Молотов...
“Что он городит, уж десять лет никакого Молотова нет. Нет, наверное, персонального пенсионера Молотова никто не замучил, но вот города Молотова вовсе нет. Лет пять уж как нет города такого, а есть город Пермь заместо него”, — успел подумать лейтенант, вытянувшись по стойке “смирно”. Но майор уже не говорил ничего, а только хрипел — будто дребезжала какая-то специальная жабра в его горле. Хрип становился то выше, то ниже и вот, наконец, иссяк. Майор повернулся и ушёл к себе.
Лейтенант обернулся к капитану, но тот только мотнул головой — после, мол, объясню.
Уже под утро лейтенант вышел проветриться и вдруг увидел у командирского вагончика женщину.
Сначала он не понял, кто это, и думал, что это капитан зачем-то надел на себя плащ-палатку, надвинув на голову капюшон.
Но когда человек вышел на пространство между вагончиком и лесом, капюшон опал, и лейтенант увидел лицо молодой женщины. Сомнений не было — в серебристом свете луны картина была удивительно чёткой, как на старинных фотографиях.
Он увидел волосок к волоску туго заплетённую косу, ровный пробор в волосах и обращённое как бы внутрь лицо.
Женщин тут не было да и быть не могло. До Посёлка не добежишь, отпусков и увольнений вовсе не было — и однажды он застал своих подчинённых, что гоняли естество в кулаке, глядя на закат. Он поразился молчаливой сосредоточенности этого действа в шеренге, но не стал мешать — в конце концов, он был таким же, как они.
Но женщина, тем более такая, была на Станции невозможна.
Она шла к лесу, и только под конец лейтенант понял, что она идёт по снегу босая.
Подняв лицо, он увидел, что командир Станции смотрит ей вслед из окна.
Майор глядел из окна на женщину, уходящую по лунной дорожке, и лицо его было залито слезами.
Когда лейтенант вернулся в командирский кубрик, его старший товарищ заглянул ему в глаза и понимающе улыбнулся:
— Ясно. Ты её видел. Теперь тебе должно быть понятно, почему нас не любят в Посёлке. Но тут у нас нейтралитет, да и что можно поделать — он любит её и скорее отдаст приказ наряду вести огонь на поражение, чем с ней простится. Да и нам-то что? Ну вот что нам? Станция должна быть боеготова, вот о чём нам думать. Я — о дизеле и электричестве, ты — о своих лампочках и антеннах.
Придёт в марте смена, что мы им скажем? А до марта дожить ещё надо. Такой вот у нас Клаузевиц, такие вокруг участковые уполномоченные, мир такой.
Пей, дружок, у нас войска такие — постоянной боевой готовности, а как ты готов-то будешь без баб да на трезвую голову?
И подвинул кружку.
— Радист сегодня принял приказ про тебя, — сказал капитан.
— Что за приказ?
— Отзывают тебя, мальчик, на новую станцию. Сменит тебя целая команда, наготовили уж специалистов, техников потенциалометрических и каких-то там импульсных устройств.
— Как это? Я же здесь ещё много должен сде...
— А вот так.
Лейтенант обвёл пространство взглядом. Белый шар, тайга внизу, выл ветер, он уже был частью этого пейзажа.
— Знаешь, — сказал капитан, — я тебе не завидую, это просто отсрочка. Ты для этого места создан и сюда вернёшься. Вернёшься, да.
ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ
В бросании мореходом бутылки в волны и посылке стихотворения Боратынским есть два отчётливо выраженных момента. Письмо, равно и стихотворение, ни к кому в частности определённо не адресованы. Тем не менее, оба имеют адресата: письмо — того, кто случайно заметил бутылку в песке, — стихотворение — читателя в потомстве.
Осип Мандельштам
Я приехал к Синдерюшкину в первый день нового года.
Так бывает — справив, как всегда бессмысленно и суетливо, праздник, ты начинаешь желать ему продолжения и вот ищешь, ищешь нового общества.
Я долго ехал в электричке с заиндевевшими окнами. Ко мне пытался пристать с объяснением устройства мироздания какой-то пьяный, но только я цыкнул на него, как он превратился в круги и стрелы на стекле. Дети в тамбуре плясали вокруг кота — несчастного кота, тянувшегося, стоя на задних лапах, за недоеденной новогодней колбасой.
Шли одна за одной сборщицы пустых похмельных бутылок, заглядывая под каждую лавку, как полицейские в поисках бомбы.
Станция была пуста, как это бывает в дачных местах. Те, кого звали, уже добрались куда надо.
И вот теперь в домах курятся трубы.
Жизнь идёт своим чередом. Жили тут по советским меркам небедные люди — придумывавшие уши для ракет. Специалисты по радиолокаторам. Одни их придумывали, другие — использовали.
Да только все они растворились во времени, а памятью о них остались дачи, над которыми ещё торчали диковинные телевизионные антенны, способные принять сигналы с Марса.
Я миновал несколько поворотов среди глухих заборов и не без труда нашёл дом Синдерюшкина — большую рубленую избу в окружении засыпанных снегом примет прошлой жизни — куч строительного мусора, припорошенных снегом холодильников и даже двух чугунных ванн под шапками снега.
Зима долго не наставала, и навязшее в зубах “снег выпал только в январе” — свершилось.
Накануне действительно повалил снег, и ночные фейерверки мешались с летящими вверх хлопьями.
Здесь, в дачной местности, ночные забавы были видны по обгорелым вешкам, откуда стартовали ракеты и где крутились шутихи.
Правда, на участке Синдерюшкина ничего подобного не было — там была какая-то особенно отчаянная белизна пустоты.
Ничего чёрного — ни кустов, ни забора, ни вешек — не было.
Всё было облеплено не тронутой китайским порохом и прочим новогодним весельем кристаллической водой, и это придавало местности сказочный вид.
В этот момент я подумал о том, что и мне был бы нужен крепкий дом, пахнущий деревом, в который нужно возвращаться из путешествий и развешивать по стенам африканские маски. И я сразу же задумался — сам я придумал эту фразу или прочитал у кого-то.
Итак, жить в бревенчатом доме — среди пустых глухонемых дач зимой. Выходить из дому только ради того, чтобы поссать с крыльца.
Вот как Синдерюшкин.
Синдерюшкин был один.
Это мне не очень понравилось, потому что я думал застать хоть какую-то компанию. К Синдерюшкину собиралось несколько наших общих друзей. Про одного я знал, что его не отпустила жена, но не думал, что вообще никто так и не доехал.
На мангале у крыльца явно только что что-то жарили, да и сам хозяин выглядел приветливо.
Слово за слово, я вытащил бутылку. Он, впрочем, поставил на стол свою.
Вечер пал на дачный посёлок, как рыхлый сугроб с крыши.
Стало темно и уютно. Трещала печь.
Попискивало и мурлыкало какое-то необременительное радио.
Моя бутылка быстро опустела, и Синдерюшкин, вдруг задумавшись, начал смотреть в зелень бутылочного стекла как в калейдоскоп.
— Ты знаешь, — сказал он. — Ты знаешь, очень странная погода. Она тоже это отметила.
Я понял, что он говорит о женщине, которая справляла с ним Новый год и только что уехала.
— Она сказала: “Хорошо, что я запомню твою дачу именно такой”. Так она сказала, будто проговорившись, и внутри меня натянулась какая-то нитка.
Я понял, что что-то у моего друга пошло не так. Но он продолжил:
— То есть она уже давно внутренне прощалась со мной, с этими деталями моей жизни, и я пришёл в ужас, хотя вида не подал. Что мне подавать вид — будто это могло что-то изменить. Печь моя между тем оказалась довольно прожорливой, и я скормил ей не только многолетние обрезки досок и даже два стула. Стулья, впрочем, были гадкие, битые жизнью и ломанные чьими-то телами. Но я возвращался к этим деталям моего состояния, к исчезновению меня из её жизни, быть может мнимому. Наши отношения меня многому научили. Я перестал бояться утраты — так солдат на войне привыкает к своей и чужой смерти. Невозможно бояться всё время, потому что либо сойдёшь с ума, либо привыкнешь. И вот я перестал бояться, потому что так страшна была сама мысль об утрате. Я постоянно думал, зачем я нужен ей — небедной и красивой женщине. Ответа на этот вопрос я не находил. Если бы это был каприз, это что-то объяснило бы. Но то был не каприз. Возможно, это был подаренный мне последний шанс устроить свою жизнь, но я упускал его, выпускал из пальцев, как юркую ящерицу.
Как ящерица, этот шанс покидал меня, оставляя только странное ощущение чего-то мелькнувшего. Встреча за встречей — это ощущение не оставляло меня.
Всё было как в страшной хармсовской истории о человеке маленького роста, который всё бы отдал, чтобы быть чуточку повыше. И вот перед человеком являлась волшебница, а человек не мог вымолвить ни слова.
Волшебница исчезала, а человек сгрызал до основания ногти сначала на руках, а потом на ногах...
Слушая эту исповедь, я ещё не понимал своего положения и решил сострить, вспомнив вслух старую цитату. Рассказ кончался словами: “Вдумайся в эту басню, — заключал Хармс, — и тебе станет не по себе”.
Но мне уже стало не по себе, потому как надежда на гармонию дачных посиделок таяла у меня на глазах.
Ещё бы мне не стало не по себе. Кто бы думал.
Синдерюшкин продолжал рассказывать мне свою историю, и я вдруг понял, что он давно и непроходимо пьян. Так бывает, когда остановишь какого-то человека, спросив у него дорогу, и повторяешь свой вопрос несколько раз. Ан нет, он тебя не слышал — и вот это противоречие между внешней нормальностью и каким-то внутренним безумием и ввело тебя в заблуждение.
Синдерюшкин, рассказывая о своей возлюбленной, напоминал мне какого-то героя. И прошла целая бутылка, прежде чем я догадался.
У одного писателя, что создал эпопею, в которой хождений много, а мук — мало , был такой герой Иван Ильич. Мысли этого Ивана Ильича, стоявшего посреди половодья Гражданской войны, как заяц на острове, были схожи. Этот герой всё вспоминал, как с ним прощалась его жена у стены вокзала, и вот он хотел понять: чем не угодил ей? Потому что этому герою казалось, что в страшный час смуты люди должны, наоборот, крепче прижаться друг к другу. Этот герой сердился, он разговаривал с невидимым собеседником, упрекая свою жену: хорошо, найди, милая, поищи другого такого, кто будет с тобой так же тютькаться... Но тут же одёргивал себя, и выходило, что сам этот оставленный мужчина не очень-то и хорош. И вот он обычный человек, которых много. Только случайно выхватил номер в лотерее: его полюбила девушка, в тысячу раз лучше, умнее, выше, и так же непонятно разлюбила...
Главное там было — непонятное. Непонятно полюбила, непонятно разлюбила.
С годами ты бережливее относишься к чувствам. Ты просто понимаешь конечность жизни.
В двадцать лет ты не понимаешь ничего, не имеешь этого главного знания.
— Я написал ей письмо. Надо было написать его как-то иначе или лучше — заменить голосом. Но это невозможно. Зато теперь придумали электрические дупла для всякого Дубровского. Мировая паутина как море, и её волна донесёт рано или поздно письмо в бутылке. — Синдерюшкин, не глядя на меня, стал читать, видимо, наизусть: “Ты знаешь, тяжелее всего сохранить твои следы. Больше всего сопротивляются запахи. Им бы полагалось исчезнуть первыми, но они прячутся — в халатах, висящих на дальних крючках, или в забытом в дальней комнате полотенце. В памяти сохранить тебя легко, а вот в жизни — сложно. Вот прошло две недели, а кажется, я тебя видел вчера. Иногда ты приходишь в мои сны. Про это я не могу рассказывать.
Просыпаться тогда тяжело. Тает снег, природа поворачивается на другую жизнь. Я не поворачиваюсь, я вообще неповоротливый”…
Сказать, что это всё мне не понравилось, значило — ничего не сказать.
Я уже несколько раз пожалел, что приехал на эту дачу.
Меня даже пробрал страх — а ну как он повесится, если я усну. Или, там, застрелится, он же охотник. Я ведь видел Синдерюшкина с ружьём. Меня захватило противное липкое чувство ненависти к себе: я думал не о нём, а о своём спокойствии.
Мне вовсе не хотелось такой канители — вызывать полицейских, давать показания — это, а вовсе не чувство сострадания захватило меня.
Я боролся с винной дремотой, а Синдерюшкин шагнул за порог.
Опять у меня сердце как-то заныло.
Но нет, он вышел, а потом вернулся в избу такой же, как обычно. Мы сели за стол и снова стали превращать полное в пустое.
За нашими разговорами я вспомнил стихи, что мы как-то с Синдерюшкиным множили незаконным способом.
Сначала мы фотографировали их — но это оказалось чересчур дорого.
Дорогой проявитель с закрепителем, дорогая бумага и время, дороговизну которого мы не понимали.
Мы сидели несколько ночей, чтобы создать удивительно толстую книгу чужих стихов, и первым среди них была история про послание в бутылке.
Там непонятно было, где “зад” и “перёд”, и Левиафаны лупили хвостом, и корабли плыли кверху дном, сирены там были и тысяча лиц, и жизнь каких-то иностранных девиц, и было звёздное небо и старый маршрут, слова “Норд” и “Вест”, капитан и Улисс, крик белых морских удивительных птиц, а мы не могли отличить альбатроса от чайки и новую мудрость новых времён черпали из детского чтенья “Незнайки”, который познал на Луне, как устроен мир акций и мир биржевой, а всё это скоро нарушило наш покой. Сирены пели и скалы смыкались за нашей кормой. Время ушло, и кто-то стал мерить Фаренгейтом тепло, что было Цельсием для прежних нас. А кто-то лёг под снега зимы с обрезом в руке, но то были не мы. Время ушло, и осталась изба, стекло на столе и у двери дрова, в тельняшках мы были оба, и воздух спёрт. И будто Левше, являлся нам морской мохнатый чёрт. Ночь вспыхивала чужим огнём, соседи стреляли в небо, и видно было как днём, а потом снова настигала тьма, исчезали вокруг люди, дома, и снова трещал в печи какой-то стул, леший на свечку дул, и снова мы вспоминали женщин былых времён, а им и времена нипочём, они по свету разъехались кто куда, и их миновала беда.
Но мы были с ним и вспоминали, как под красной лампой смотрели вниз, где проявлялись буквы чужих стихов. Они проступали как бойцы весной, когда пригреет снега, и на полях появляется — у кого рука, у кого нога. И вот уж видно — этот упал ничком, а этот в небо глядел — и ничему не предел, строка за строкой буквы лезут, как на убой. Поэт писал о любви и былом, бутылка плыла с письмом, и будущие листы висели над ванной, будто бельё. Моряк на них прилежно плыл, но не успел он крикнуть “ё-моё”, как входил ему в бок какой-то риф. Автор в то время возил навоз в северной деревне, и этот извоз не был чужд нам. И вот он в бутылку пихал письмо и уже чувствовал под собою дно, и текст прерывался словами (размыто) — видно, потопло его корыто. Не Ляпидевский, он смог отстучать последние строки, и может, как и мы, допить, закусить и, размахнувшись, море о доставке просить.
И тут я понял, что совершенно пьян, и упал, будто красноармеец в бурьян после взмаха казачьей шашки, забыв о чистоте рубашки.
Рассвет был хмур.
Солнце ушло. Поутру я тупо смотрел в стекло.
Хозяин пришёл с вязанкой дров. И я понял, что не время снов.
Синдерюшкин уже запалил костёр — там варилось что-то. И я, шатаясь, вышел в снега менять их цвет.
Разговор был вял.
Мы снова помянули дев былых времён, а потом и мужчин. Каких-то врагов (он провожал их добрым: ну и хрен с ним).
Вдруг Синдерюшкин сказал, будто продолжая вчерашний разговор, хотя я так понял, что он его не прерывал, просто я не существовал для него как собеседник, собеседником был кто-то отсутствующий.
— Я написал так: “Здравствуй. Пишу тебе сюда, потому что открыл, как устроена нынешняя цивилизация. Можно стучать головой в стену, и от этого на стене остаются хоть какие следы. Звонить кому-то, когда твой телефон в чёрном списке, — совсем другое, в электрический век никаких следов не остаётся.
Бесполезно жаловаться. Бесполезно надеяться на то, что тебе что-то объяснят, а неизвестность страшнее отчаяния. Есть такая история: один человек отправил десяти своим друзьям анонимные записки: „Всё открылось. Беги”. И восемь из десяти скрылись из города. Неизвестность стимулирует вину — и ты придумываешь себе преступления, которые страшнее действительности. Я заслужил, чтобы мне ничего не объясняли. Я ещё меньше заслужил то счастье, что мне перепало, — и бессмысленно сетовать, что оно закончилось. Мне остаётся лишь благодарить — за всё, что остаётся в памяти навсегда, за запахи и звуки. Судьба мне сделала подарок — незаслуженный. Подарок отняли.
Но память неотъемлема. Ничего, кроме благодарности. Слова не передают ничего — в этот момент я ненавижу своё ремесло.
Вместо человеческой речи оно подсовывает девяностый сонет Шекспира”.
— А почему невозможно увидеться? — тупо спросил я.
— А как?
— Ну, там, выяснить место…
— Я не знаю, где она живёт, — ответил Синдерюшкин.
— Как не знаешь?
— Она всегда приходила ко мне.
— Ну? Впрочем, это несложно выяснить. Это выяснить, брат, особенно теперь — очень легко.
— И что, караулить её у подъезда? Это унизительно.
— Впервой, что ли?
— Это ей унизительно. Это всем унизительно. Ну, если хотела ответить, ответила бы. Зачем её вынуждать врать, что уехала, что гости или ещё что.
— Вы поссорились?
— Не важно. Нет. Не поссорились. Просто её не стало. Она перестала со мной говорить и исчезла.
Я сперва решил, что он говорит о неожиданной смерти, но нет, это всё было как-то не так ужасно. Что-то случилось, но непонятно что.
Воображение, затуманенное посланиями и бутылками, бутылками в океане и бутылками на столе, рисовало мне романтические картины. Тайну мафии, исчезающую женщину, что боится навести след мстителей на любимого. Но это я отогнал, как пьяного приставалу в электричке.
Однако мой друг явно был не в себе.
— И что?
— Я стал писать ей письма, подсовывая их под двери социальных сетей. Одно за другим, как письма в бутылке.
Он запрокинул голову и снова забормотал:
— Здравствуй. На этот раз я расскажу тебе не про бесконечную сказку, а про письма в бутылках. Я ведь не знаю, читаешь ли ты всё это, и могу позволить себе рассказывать без оглядки — интересно тебе или нет.
Тысячи бутылок не выловлены из океанской пены.
Тысячи писем лежат под водой в своих воздушных пузырях. Это редко, когда плесневелая бутылка попадается в лапы рыбаку.
А говорят, что в Англии, кажется при Елизавете Первой, при дворе появился Откупорщик бутылок, что занимался морской почтой.
Далее рассказывают легенду о случайном рыбаке, что выловил бутылку с доносом. Внутри бутылки жило сообщение о заговоре, а рыбак был неграмотен. Неграмотный рыбак давал читать записку всем, и листок бумаги выбалтывал тайны. За это рыбака повесили, а бутылки стали достоянием королевы. За год открывали с полсотни бутылок.
Всё это свидетельство неспешности.
Потерпевшие крушение обживали острова, превращались в прах, а их вопли о помощи качались на волнах.
Про Откупорщика бутылок пишет и Гюго. Этот француз написал об этом, когда рассказывал о вечно смеющемся человеке Гуинплене. Оказывалось, что в море попадаются три рода находок — те, что лежат на большой глубине, те, что плавают на поверхности, и те, что море выбрасывает на берег. Все эти предметы являются собственностью генерал-адмирала, говорит его персонаж. И вот всё, что находится в море, всё, что пошло ко дну, всё, что всплывает наверх, всё, что прибивает к берегу, — всё это собственность генерал-адмирала. Если бутылка идёт ко дну, это касается начальника отдела Легон, если она плавает — начальника отдела Флоутсон, если волны выбрасывают её на сушу — начальника отдела Джетсон. И только осетры принадлежат королю без формальностей.
Дальше у Гюго снова рассказывают историю, как в тысяча пятьсот девяносто восьмом году один рыбак, промышлявший ловлей угрей, нашёл в песчаных мелях у мыса Эпидиум засмолённую бутылку, и она была доставлена королеве Елизавете; пергамент, извлечённый из этой бутылки, известил Англию о том, что Голландия, не говоря никому ни слова, захватила неизвестную страну, называемую Новой Землей, что это случилось в июне тысяча пятьсот девяносто шестого года, что в этой стране медведи пожирают людей, что описание зимы, проведённой в этих краях, спрятано в футляре из-под мушкета, подвешенном в трубе деревянного домика, построенного и покинутого погибшими голландцами, и что труба эта сделана из укреплённого на крыше бочонка с выбитым дном. И вот поэтому Откупорщику платят сто гиней в год. Потом к человеку с разрезанным ртом, прозябающему в нищете, приходит чиновник из Адмиралтейства. Он говорит, что в присутствии двух присяжных, состоящих при отделе Джетсон, двух членов парламента, Вильяма Блетуайта, представителя города Бата, и Томаса Джервойса, представителя города Саутгемптона, откупорил бутылку, и вот теперь нищий изуродованный человек получает миллион годового дохода, что он — лорд Соединённого Королевства Великобритании, законодатель и судья, верховный судья и верховный законодатель, облачённый в пурпур и горностай, стоящий на одной ступени с принцами и почти равный императору, что голова его увенчана пэрской короной и что он женится на герцогине, дочери короля.
Пятнадцать лет эта горностаевая мантия, пэрская корона и знатная невеста плавали в воде. Так, пишет Гюго, в конечном итоге послание, предназначенное Богу, попало в руки к дьяволу.
Я уже не понимал, говорит ли это Синдерюшкин или я сам вспоминаю книги своего детства.
Когда мы сидели на этой даче, пропитанной безумием, передо мной вдруг явились бутылки нашего прошлого. Это был довольно странный образ — представить себе того, кто пил из твоей бутылки раньше. Я знавал брезгливцев, которых это неприятно волновало. В десятках книг были пропеты оды приёмным пунктам, их жестяным прилавкам и окошечкам, за каждым из которых сидел свой бутылочный Пётр. Был давний способ вынимать продавленные в бутылки пробки, чтобы их, эти бутылки, не забраковал приёмщик стеклотары. Не брали то те, а то эти. Веничкин венчик быстрым движением райского привратника проверялся на грех скола.
Особая история была с бутылками, внутри которых болтались, будто скорбное послание, продавленные пробки. Их извлекали по-разному.
Главный метод был хорошо известен — брался ботиночный шнурок, лучше плоский — поскольку и при советской власти бывали разные шнурки. Из него делалась петля и просовывалась в горлышко — бутылка при этом должна быть наклонена, а пробка — занять горизонтальное положение. Петля накидывалась на пробку так, чтобы край петли приходился на дальний конец пробки, и пробковый мустанг тащился к горлышку на этом аркане. Когда пробка входила в горлышко, можно было считать, что гривенник у тебя в кармане. Если, конечно, ты не сэкономил на шнурках и не использовал гнилые, прямо из ботинок. Этот способ даже пробился сквозь рогатки цензуры и был описан в опубликованном давным-давно романе: “На полу большой комнаты стояли четыре бутылки из-под вина „Старый замок” с пробками внутри. Войнов сразу же вернулся к бутылкам. Сел на стул, шнурком от ботинок стал ловить пробку в ближней бутылке. Язык высунул. Данилов взволновался, присел возле бутылки на корточки, готов был помочь Войнову советами...” Это были навыки прошлого — когда запрут тебя, как маяковского клопа в зоопарке, можно делиться с учёными наматыванием портянок и умением крутить козьи ножки.
Пустую бутылку принимали по десять, винные и водочные — по двенадцать копеек, шампанскими брезговали — говорилось, что из-за долгого внутреннего давления они непрочны. Впрочем, где-то их принимали, и граждане в очереди спешно счищали с горлышек фольгу, орудуя ключами от дома.
Но из вереска напиток забыт давным-давно.
С ностальгией главное не переборщить — придёшь куда в гости с банкой шпрот и бутылкой дешёвой водки, а тебя мог встретить ливрейный лакей и устроить такую дерриду неузнанному гостю, что побежишь по улице что твой Бердяев, стреляя из всех пистолетов.
Пустые бутылки были онтологической деталью нашего прошлого. Была отдельная история с погоней за стеклянными банками для консервирования — особенно трёхлитровыми, где внутри, будто в переполненном автобусе, давились помидоры с огурцами. Но эта история отдельная — консервирование было уделом взрослых того времени, а не нашим.
Рассказывали легенду о каком-то лётчике, построившем дом из пустых бутылок, обмазанных цементом. Дом этот оказался удивительно тёплым — ведь состоял он из винной пустоты. Причём лётчик был человеком умным и менял бутылки у окрестных детей на мороженое — современники складывали помноженные на что-то двенадцать копеек и восемнадцать копеек за мороженое и дивились предприимчивости лётчика. Потом цены дрогнули, и непоколебимое величие этих копеек поплыло. Однако и сейчас кое-где торчат будочки приёма стеклотары.
Я как-то долго крутился около такой будочки, что стояла рядом с домом Синдерюшкина, — эту будочку роднила с прошлым только записка “буду через 2 ч”. Но я не поленился переписать прейскурант — там были всё те же копейки, правда, чуть поболее — двадцать, пятьдесят, восемьдесят. Старые книги шли по рублю за кило.
А здесь, на чужой даче, где безумие торчало между брёвен как пакля, где неостановимым прибоем шумел разговор о прошлом, главным были бутылки.
Бутылочная почта с её копеечными расценками пыталась что-то донести до меня из сокровищницы прошлого.
Но сокровищ не было, была река Лета стареющих мужчин. Она не стала похожей на Енисей и Миссисипи, она была узкой, как подмосковный Иордан, и берега её были покрыты осокой и камышами, где, кивая узкими шеями, ещё плавали бутылки нашего детства. Вода была подёрнута ряской, и подходы к берегу были покрыты следами в одну сторону.
Мы уже сняли ботинки и собирались расстаться с нашими глупыми воспоминаниями в этой воде цвета бутылочного стекла.
И я понимал своего друга — выпала ему какая-то удача, но зазвенела бутылочная гора и рассыпалась, обдав колкими воспоминаниями.
Синдерюшкин вдруг сказал:
— Помнишь, был в нашем детстве такой фильм, где в лесном заброшенном доме сходятся люди и немецкий студент начинает рассказывать сказку о проданном сердце. Эти сердца чёрт держал под водой в бутылках — целую коллекцию. И вот в дом прибывают новые люди, а студент продолжает рассказ, не объясняя, что было раньше. Появляются разбойники и берут заложников — и студент вызывается ехать одним из них. И в пути он продолжает свой рассказ — уже с новыми слушателями… Так и я стал писать свои письма, то отправляя их на почту, то швыряя их в разные углы электронного моря.
Много он помнил. Говорят, только мужчина может через столько лет ещё помнить что-то детски-романтическое. С другой стороны, — все могут, коли время есть. Заботы придуманы Богом для психотерапии. Но в чём Синдерюшкин был прав, так это в том, что наши отношения были намертво повязаны с бутылками. И не только с алкогольными — хотя именно с них они начинались и ими заканчивались.
И Синдерюшкин снова запрокинул голову:
— Про бутылки человечеством написано много. Некоторые бутылки находят внутри акул. Биологи говорят о пищевом безумии, когда акулы глотают всё, что увидят.
В знаменитом жюль-верновском романе самую главную бутылку находят в акуле. Акулу рубят топором. Сначала бутылку принимают за камень, но потом понимают, что это сосуд тайн. На длинном, узком, крепком горлышке уцелел обрывок ржавой проволоки. Тут Жюль Верн мимоходом хвастается и говорит, что такими бутылками виноделы Аи и Эперне разбивают спинки стульев, причём на стекле не остается даже царапины. Все догадываются, что это бутылка из-под “Клико”.
Потом герои извлекают порченую бумагу.
“7 июня 1862 трёхмачтовое судно „Британия” Глазго
потерпело крушение ................... гони южн
берег ............................... два матроса
Капитан Гр ............................. дости
.... контин ....... пл .............. жесток инд
брошен этот документ .................. долготы
и 37°11" широты ................. Окажите им помощь
погибнут”.
Это самый знаменитый из порченых текстов, что вывели целую традицию в мировой литературе. Сотни героев пускаются неверной тропой. В тысячах книг повествование то обрывается, то продолжается после пропуска. На самом деле капитан Грант терпит крушение около придуманного острова Марии-Терезы. Этот остров придумал не Жюль Верн. Этот остров возник в пространстве воображения задолго до него. Его искали и искали долго, а бутылку Гранта вынимают из акульева брюха через два года. Акулу убили в Ирландском море. Что она делала там — непонятно…
Он вздохнул и, будто утопающий, вынырнув на секунду из своего моря, повторил:
— Что я делал и зачем это писал — непонятно.
А потом продолжил свой рассказ, который, я уже понял, был не о женщине, а о невозможности этой женщины. Он прятался от неё в бутылку, в ту самую бутылку, в которой он отправлял ей послания. Я знал Синдерюшкина давно, помнил его возлюбленных, но не мог понять, о ком он говорит. Ну, может быть, он познакомился с кем-то накануне Нового года, я её наверняка не знал, но меня несколько удивляло, что он ни разу не упомянул никакой подробности — цвета волос или истории из прошлого. Мне как-то всё время неловко было спросить, а он сворачивал на невозможность переписки и вообще на всякую невозможность. Он надеялся только на свои бутылки, вернее, на записки в них — и меня подмывало сказать, что лучше бы он пил. Это использование бутылок мне казалось более надёжным.
Бутылки, кстати, все еще звенели у него в голове как колокола, и он продолжал:
— У бутылок, брошенных в море, было две разновидности — послания, исполненные некоторым тиражом, и письма, единственные в своём роде.
Есть сообщение, написанное в единственном экземпляре, но благодаря литературному пространству достигшее адресата. В печальной истории десяти негритят идеальное преступление, обручённое с идеальным правосудием, кончается запиской в бутылке — и последняя глава романа предваряется словами: “Рукопись, которую переслал в Скотленд-Ярд капитан рыболовецкого судна”. “Мой рассказ подходит к концу. Бросив бутылку с исповедью в море, я поднимусь к себе, лягу в постель. (Дальше мёртвый судья подробно рассказывает, как он покончит с собой.) После шторма на остров приплывут люди, но что они найдут здесь — лишь десять трупов и неразрешимую загадку Негритянского острова”.
Бутылки доходят по назначению на удивление часто. Не отвлекайся, слушай меня... Эй, не спи.
Во время Великой войны немецкий дирижабль упал в Северное море. Командир английского тральщика с малым экипажем не взял на борт немцев и ушёл прочь. Потом его самого взяли в плен и расстреляли на основании доноса в бутылке, который отправили утонувшие.
Раньше с помощью бутылок исследовали морские течения, но когда появились спутники и радиопередатчики, это всё стало ненужно. Полтора века назад бутылки готовили тщательно — в них сыпали песок, чтобы бутылка плыла ровно, а к горлышку привязывали флагдук — вымпел из яркой ткани. Иногда бутылок было вовсе две: чтобы на связку не действовал ветер, нижняя тянула верхнюю вниз. Писали об этом так: “Бутылка сия найдена не доходя реки Косогоцкой в верстах 5-и от селения Явина. Найдена 25-го октября 1908 года. Ходил на охоту, нашёл казак Уссурийский Инакентий Меновщиков, проживающий на реке Озерной...” “Кто-то из русских наболтал гилякам, что за эти записки дают наградные, за каждый листок 25 руб., и когда я их просил для отправки листов во Владивосток, то они от меня потребовали половины, т. е. 12 р. 50 к., что и Вам сообщаю”.
Бутылок сейчас много, а в океане болтается миллионов тридцать, кажется.
Тут Синдерюшкин тоже вспомнил о бутылочном доме.
— Помнишь, в нашем детстве писали о лётчике, что построил дом из бутылок — дачный дом в посёлке лётчиков. Кажется, этот дом давно продан. И поделом, за бутылками не спрячешься от нового времени.
И знаешь, выловленных бутылок — мало, зато записки из них часто производят на суше.
Записки коллекционируют, их продают на аукционах. Большинство из них поддельны, а иные и вовсе продаются в туристических магазинах, закрашенные под старину. В этих магазинах десятками ловят записки с “Титаника” и теми же десятками продают желающим. Это как обманная любовь, фальшивые оргазмы. Знаешь, почему их так боятся мужчины? Потому что потом будешь сомневаться в настоящих. Жюль Верн был неправ. Ни разу бутылочная почта никого не спасла.
Я не верю, что она спасёт меня.
Её материк всё дальше отдаляется от моего острова. В прежней своей жизни я занимался движением континентов и знаю об этом много. Она становится всё более идеальной: идеальные песни — это ведь те, у которых нетвёрдо помнишь слова и додумываешь их на ходу.
Александр Селькирк, что попал на необитаемый остров, страдал от одиночества и ловил диких коз. Ловил он также диких кошек. Их всех Селькирк обучил танцевать на задних лапах и сам танцевал с ними под светом луны. Бутылок у него не было — писать никому он не мог.
Лунной ночью он плясал с козами и пел. Слова всех песен были у него либо забыты, либо перепутаны. Но козы с кошками не знали этого и перебирали передними лапами в воздухе под эту безумную музыку.
Так его изображали на старинных гравюрах. Моряк был найден, и его спасители в кафтанах и треуголках изумлённо смотрели на танцующих коз, опершись на свои ружья.
Эту историю можно рассказать иначе, и она заиграет особыми красками: “Александр Селькирк, что попал на необитаемый остров, наслаждался одиночеством и ловил диких коз. Ловил он также диких кошек…”
На острове Селькирка росла репа. Наверное, она помогла затворнику не использовать партнёрш по танцам в пищу. А в бутылочных письмах есть одна горькая правда — они всегда шли от того, кто находился в положении стеснённом.
Это потом бутылками начали бросаться подвыпившие молодожёны. Они предугадывают будущее отчаяние и своё стеснённое положение.
Метафора тоже была с самого начала — действенность бутылочной почты ничтожна, удачное соотношение течений — редкость, и это знали настоящие моряки. Раньше это не было метафорой: бутылочной почтой не пользовались, было понятно, что лучше обращаться к Богу напрямую, а излить душу в молитве естественнее, чем заниматься психотерапевтическим выговариванием на бумаге.
Но отправка письма в бутылке всегда была сакральным актом. Недаром писали обычно на странице, вырванной из Библии, — впрочем, другой бумаги под рукой не было. И это было нечто вроде покупки свечки в церкви. Ах, друг, настоящей метафорой это стало только в ХХ веке — Бог умер, погнали наши городских, и из сферы религиозной мистика перешла в сферу психоанализа.
Парадокс бутылочной почты в том, что иногда она доходит, — дело ещё и в том, что путешественники из Европы, отправившиеся в Америку и двигающиеся обратно, находились в неравном положении: бутылки не плывут против Гольфстрима. Американские индейцы, увы, не строили кораблей, чтобы достичь Старого Света.
Бутылочная почта имеет тот же смысл, что и литература, — в Новое время позвать на помощь, заявить об открытии, протоколировать бедствие — то есть что-то прагматическое. А сейчас — развлечение, необязательный Интернет на удачу, бутылочный туризм “здесь-был-вася”.
Ах, да, кстати, Робинзон Крузо не отправлял письма в бутылках. А отправлял бы, исправно швырял в океан бутылки вместо ведения дневника, надеясь на избавление, — книга Дефо была бы совершенно другая. Без протестантской угрюмой этики, без надежды на самого себя, своего попугая и своего Бога. Бутылки не были средством спасения, это морские похоронки.
Бутылочная почта плывёт в одну сторону — от несчастного к счастливому, мало кому придёт в голову запечатать в бутылку спички, табак и пропихнуть через горлышко кубик пеммикана.
Когда мы с тобой пошли в школу, между звёзд поплыла космическая бутылка — зонд “Пионер-10”. Когда я получил аттестат, эта штуковина, похожая на сковородку с двумя ручками (одна подлиннее, другая покороче), миновала Плутон. Когда сыну моему исполнился год, зонд этот пискнул в последний раз и взял курс на Альдебаран, которого достигнет через два миллиона лет.
Вторая такая же бутылка летит сейчас к созвездию Щит. Её зашвырнули в космос через год после первой — и на ней такая же алюминиевая, покрытая золотом пластинка, где топчутся голые мужчина и женщина и он машет рукой.
Мужчина и женщина стоят поодаль — как метафора разлуки. Будто двое землян разъединены на миллионы лет и не могут обняться.
И, писал поэт, в этой бутылке у ваших стоп, свидетельстве скромном, что я утоп, как астронавт посреди планет, Вы сыщете то, чего больше нет (размыто), — вот что должно быть здесь. Море говорит лишь прибоем — зато мерно и вечно, повинуясь ветрам. Поэт говорит: “Вспоминайте ж меня, мадам, при виде волн, стремящихся к Вам”. Здесь рифмы нет, ведь я не поэт. Смерть проста и легка, как глоток солёной воды, без которой, как говорил один водовоз, — ни туды и ни сюды. Удивительный с ним был вопрос — отчего он стал водовоз. Весна идёт и тает снег, весла ломают льды, и бутылки, вмёрзшие в белое, несёт туды. А может быть — сюды. Но за весной придёт жара, и бутылки будут крутить шторма. А потом течения их вдаль унесут, и искать их — напрасный труд. Прощаясь, я не прощаюсь никогда — такая со Стрельцами всегда беда.
Тут до меня стало доходить, что это всё какая-то нелепица, Синдерюшкин не мог, поссорившись, успеть написать все эти письма за один день.
— Постой. А сколько ты её не видел?
— Вчера — три года. Ты знаешь, тогда была очень странная погода, как сейчас. Она тогда тоже это отметила, говорит: “Хорошо, что я запомню твою дачу именно такой”. Так она сказала, будто проговорившись, и внутри меня натянулась какая-то нитка. Сегодня я так и написал — здравствуй, именно тогда я и понял, что натянулась какая-то нить. И она приехала со мной прощаться, а ты, Вова, наливай, наливай. Что попусту сидеть, заодно и бутылку освободишь.
ЧЕЧЁТКА
В давние, подёрнутые молочной пенкой детства годы я жил в маленьком дачном посёлке. Посёлок этот смыкался с другим посёлком, образуя дачную местность, тянувшуюся бесконечно долго и составлявшую с мая по сентябрь весь мир. Один посёлок назывался посёлком пэвэошников, а другой — посёлком артистов, но спустя десятилетия пэвэошники и артисты перемешались, многие из первопоселенцев умерли, а их дети, встречаясь на дачной дороге, образовали новые семьи, и новые пэвэошники перемешались с новыми артистами, так что никто уже не знал, среди кого он живёт. Между дачами бродил толстый мальчик-дурачок и истошно кричал в пустые железные бочки. Бочки стояли повсюду — на всякий пожарный случай, наполняясь дождевой водой. Дурачок кричал, опуская голову в бочки: “Бациллы! Бациллы!” — и этот крик означал начало лета. Центром всего этого мира смешанных посёлков для меня был не дачный дом, не участок, без единой грядки, поросший соснами, а стоявшая рядом станция.
Всё свободное время мы проводили на этой железнодорожной станции, вдыхая терпкий запах шпал, вслушиваясь в окрики механического женского голоса и всматриваясь в разноцветные огни путевой сигнализации. Часто нас посылали в пристанционный магазин, и, приковав там свои велосипеды, мы вдруг замирали, глядя, как проносится мимо станции товарный поезд, чередуя цистерны и платформы.
У станционного магазина всегда сидели старики — то есть тогда нам казалось, что это старики. Нам было строго-настрого запрещено водить с ними знакомство и даже просто разговаривать. Но потом, когда они стали за небольшую мзду покупать нам сигареты, все запреты куда-то улетучились. Постепенно мы подружились.
Однажды, приехав на дачу зимой, я обнаружил их на том же месте — по-прежнему сидящими у магазина. Они, не боясь холода, сидели всё на той же скамейке.
А летом мы видели, что иногда к ним присоединялся совсем уже древний человек, похожий на странную худую птицу. Видно было, что прочие старики его немного боялись.
Как-то, проводив одну девочку на соседние дачи, я возвращался по пыльной пристанционной дороге мимо магазина.
В тот вечер этот худой старик сидел около него один и курил.
Я присел рядом.
Спустя пару минут старик прошелестел у меня над ухом:
— Время — самая дорогая на свете вещь, ты знаешь?
И я терпеливо кивнул.
По неписаным правилам пристанционного и околостанционного мира мы никогда не спорили с этими стариками. Как потом нам рассказывала учительница биологии, у нас был симбиоз. Мы слушали стариков и их хвастовство, их байки о подвигах во всех необъявленных войнах, что вела наша Империя.
Рядом с нами остановилась красивая гладкая машина. Мужчина вошёл в магазин, а женщина, невероятно красивая, по крайней мере, так мне тогда показалось, осталась внутри. Через окошко, откуда пахло дорогой кожей сидений и иностранными сигаретами, к нам лилась совсем другая, незнакомая мне музыка.
— Это всё негры придумали, — сказал вдруг старик. — А музыка там особая, у негров-то. Представь себе, что топаешь ногой: раз-два. Топни. А теперь за это время хлопни в ладоши три раза? Трудно? А теперь топай ногой, как и топал, — раз-два, но хлопай в ладоши не просто так, как раньше, а сдваивай удары. А теперь страивай… Сбился? Ничего, это вообще мало у кого получалось. У негров разве и среди членов ордена чечёточников. А вот так?.. Гляди-ка, как быстро ты учишься. Ладно, расскажу я тебе всё. Это ведь особое искусство, хоть ты ничего и не слышал об ордене чечёточников.
Действительно, под орденом я понимал какую-нибудь золотую штуковину на колодке, но старик имел в виду вовсе не это. Он говорил про особое братство, связанное чувством ритма.
— Чувство ритма — это самое главное. У тебя, я вижу, есть чувство ритма, и поэтому ты тоже можешь подчинить себе время.
Итак, по рассказу старика выходило, что чечёточники были не артистами, а чем-то большим.
Они могли то убыстрять, то замедлять время своим ритмом, то есть ритмом своих движений. В двадцатые и даже в начале тридцатых годов прошлого века они были в фаворе, но потом, как за всякую силу, за них принялись чекисты. Чекисты и чечёточники начинались на одну букву, но чекисты оказались сильнее. Так что понемногу все любители ритма отправились в те места, где ритм диктовался слаженными движениями двуручной пилы. “Вжик-вжик, вжик-вжик”, — показал рукой старик.
На воле членов братства оставалось всё меньше, но после той, Большой войны, которую не надо было путать с войнами неизвестными, войнами секретными и необъявленными войнами последующих лет, в нашу Империю переехали чечёточники из других стран. Тогда новая Империя подтвердила гражданство подданных прежней Империи, и они хлынули к нам — из Харбина, Белграда и Парижа.
Чечёточники оттуда были не чета нашим — тёртым временем, испуганным уже и слабым. Эти, новые, ощущали волю, и чувство ритма у них было другое.
Когда они тоже стали проводить каждый день за возвратно-поступательными движениями казённых пил (и старик опять заладил своё “вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик” — он жужжал так несколько минут), они поняли свою ошибку и решили бежать. Всё дело в том, что у них не отобрали чечёточные туфли.
В назначенный день они стали в круг посреди своего лагеря, что в глухой тайге. Чечёточники встали в магический круг и ударили ногами в своих туфлях, которые помнили доски сцен в харбинских, парижских и белградских кабаках, в доски деревянных дорожек. Этими дорожками было покрыто их болотистое место заточения. Ритм чечёточников то убыстрялся, то замедлялся, и наконец, время потекло по-другому. Чечёточники прошли через ворота своей таёжной тюрьмы, а часовые на вышках не увидели ничего, потому что пялились в вязкое и густое время.
— Их потом судили, — прибавил старик.
— Кого судили?
— Часовых, разумеется. Но слушай дальше... Чечёточники углубились в тайгу и пошли к ближайшей железной дороге. Время работало на них, и они шли в специальном темпе, который позволял им двигаться сквозь время обычных людей. Они не знали, какое испытание ждёт их потом — из-за того, что они неверно рассчитали расстояние. Ведь они были повелителями времени, а не повелителями пространства.
— И что случилось потом? Они съели кого-то из своих? Я видел такой фильм — беглецы так там делали.
Старик посмотрел на меня, будто я только что плюнул ему на ботинок.
— Нет. Ты не понял сути ордена чечёточников. Они были повелителями времени, а не людоедами. Но когда они поняли, что их силы на исходе, то сварили в припасённом котелке свои чечёточные туфли. Они съели их все — по очереди, разумеется.
Наконец они вышли к железной дороге и дождались товарного поезда. Им повезло — товарняк шёл на запад, и всем им удалось ускользнуть от преследователей.
Но когда один из них попытался отбить чечётку прямо в вагоне, у него ничего не вышло. Он бил голыми пятками в пол, но не попадал в ритм. Его товарищ попробовал отбить чечётку сам — и у него тоже ничего не вышло.
Попробовали все — и не получилось ни у кого.
Всё дело было в том, что они обменяли своё искусство на свободу.
Тогда они посмотрели друг другу в глаза и навсегда замолчали от позора и стыда.
Никто из них не раскрыл больше рта, и, не прощаясь, они стали покидать вагон на разных станциях.
Так прекратил своё существование орден чечёточников, и никто больше не умеет управлять временем.
Говорят, правда, что один беглец не утратил свои туфли, а смухлевал, пустил на варево казённые ботинки, спрятав за пазухой туфли с набойками… Но это вряд ли.
Вот я и рассказал тебе, парень, эту тайну — смотри не протрепись. Ты знаешь всё это только потому, что у тебя настоящее чувство ритма.
Я был доверчив и впечатлителен. И теперь я знал тайну мира, но больше того, — я знал, что мир не скучен и уныл, а волшебен и ярок. Его пульс бился мне в мальчишеские уши ритмом чужого танца. Я хранил чужую тайну три дня — больше, чем мог вытерпеть любой из моих сверстников. Проговорился я старшему брату.
Тот, не дослушав, поднял вверх палец:
— Дай угадаю… Они съели свои туфли! Съели!..
И он хохотал, шлёпая себя по ляжкам.
Я стоял как оплёванный. Оказалось, что не только брат, но и весь посёлок знает эту тайну.
Оказалось, что и старик этот был многим известен — много лет он учил детей музыке в железнодорожной школе, пока новый директор не выяснил, что у преподавателя музыки вовсе нет музыкального слуха.
Мир оказался опять прост и естественен — и это было чудовищно жестоко. Я убежал в сарай и плакал там от обиды и унижения, проклиная свою доверчивость.
Грабли и лопаты жались по стенам в испуге от моего рёва.
Прошло десять лет. За это время много чего переменилось: “вжик-вжик” — и рухнул старый мир, а потом поменялось название государства. Переменилась и моя жизнь. Умерли родители, а брат уехал в другой город. Дача перешла ко мне, хотя зимой в городе я скитался по съёмным квартирам. Но я был молод, а когда ты молод, то тебе плевать на благополучие. И все мы давно узнали, что возвратно-поступательные движения можно делать не только с двуручной пилой.
Дачный посёлок тоже изменился, весь он как-то усох — зато к нему подвели газ, и исчезли дачники, что возили в детских колясках красные длинные баллоны. Миновали голодные годы, когда сумасшедшие старики и старухи разводили на дачах кур и поросят, а потом, надорвавшись, продавали свой надел пришлым людям. Исчезли заборы из штакетника, сменившись каменными и железными.
И внезапно всё как-то успокоилось, будто набрало в рот ваты. Ритм времени стал глухим, невнятным.
В те времена у меня приключилась большая любовь к той самой девочке, что провожал я когда-то, — любовь быстрая и безнадёжная, как жизнь падающего альпиниста.
На третий месяц этой любви выяснилось, что моя девушка уезжает навсегда — к антиподам. Почему-то все мои друзья, когда слышали “Новая Зеландия”, бормотали: “К антиподам, к антиподам, к антиподам?” — и думали, что это удачная шутка. Но шутка эта будто двуручной пилой рвала мне душу — “вжик-вжик”.
Я узнал об этом случайно, не от неё, — сидя под вечерним дачным небом у мангала.
Сосед мой сказал, что она улетает завтра, — и можно было опустить голову в уцелевшую пожарную бочку и орать туда о своём горе. Или, повинуясь нелепой романтике, можно было умчаться в аэропорт для последнего поцелуя... Нет, на самом деле для того, чтобы там произошло какое-нибудь чудо неразлуки. Я действительно сорвался с места, прибежал на станцию и увидел, как к ней подходит и останавливается — всего на минуту — последний поезд.
На него было невозможно успеть. Отчаяние охватило меня, и тут я почувствовал на себе чей-то взгляд.
На скамейке у магазина сидел худой костистый старик, бездарный учитель музыки, и смотрел на меня в упор. Наверное, это длилось секунду-две, и вдруг он махнул мне рукой — беги, дескать, беги. Успеешь.
Успеть я не мог, но всё же сделал несколько шагов вперёд и тут же обернулся.
Старик встал со скамейки и одновременно щёлкнул пальцами обеих рук.
Он хлопнул в ладоши, топнул ногой. А потом начал странно двигаться — это был не танец, а развалины танца. Будто здание, обросшее мхом, с нехваткой стен и крыши, при порыве шквального ветра обнажает мраморные колонны и напоминает о своём величии.
Старик бил чечётку по плитке, которой была вымощена площадка перед магазином.
Вдруг я понял, что пространство вокруг меня загустело и движение фигур на станционной платформе остановилось. Я ещё медлил, но старик мотнул головой — что, дескать, ждёшь?
Он натянул тонкие морщинистые веки на глаза, как большая черепаха, и принялся танцевать вслепую, как шаман.
Я бросился к поезду, который увяз в этом киселе, и влетел в тамбур как раз в тот момент, когда двери вагона с шипением стали смыкаться. Смыкаться медленно-медленно.
В мутном окне со стёртыми буквами, призывающими не то не прислоняться, не то не слоняться, уже ничего нельзя было различить.
Я не видел ни станции, ни магазина рядом с ней, ни старика — и отчего-то догадывался, что не увижу его больше никогда.
Шесть стихотворений
Цветков Алексей Петрович — поэт, прозаик, переводчик, журналист. Родился в 1947 году на Украине. Учился на истфаке и журфаке МГУ, был одним из основателей группы “Московское время” (70 — 80-е годы). Эмигрировал в США в 1974 году. Окончил аспирантуру Мичиганского университета со степенью доктора филологических наук. Выпустил несколько стихотворных сборников, а также эссеистику и прозу за рубежом и в России. Живет в Нью-Йорке.
сафари
приспичило секретарю райкома
предначертать чинов начальства в честь
с мотыгами сафари на дракона
а что у нас еще в хозяйстве есть
драконы эти если не соврали
дают на экспорт уникальный мех
ну и пошли а кто такой сафари
не знал пожалуй ни один из всех
начальство чутко ехало на джипе
в пожарных касках с ханкой в багаже
которую глотками небольшими
успело и попробовать уже
бежим в строю штаны мокры от пота
трусцой поодаль мой напарник лю
у нас в селе случается охота
на крыс а на дракона не люблю
он состоял из пламени и эха
огромный как великая стена
хрен из такого понащиплешь меха
из тигра проще или из слона
запас любви к отечеству кончался
уже штаны от мужества черны
он покосился вдруг на джип начальства
и чуть дохнул на высшие чины
по счастью партбилеты уцелели
в музее под стеклом по одному
драконы да в своем искусны деле
а кто такой сафари не пойму
мы сеем сорго с лю и землю пашем
опять на крыс охотимся как встарь
лишь о секретаре всплакнули нашем
хороший был не жадный секретарь
отпуск
прощай отряд приматов тип chordata
к финалу мчится вольница твоя
у каждого кончается ребята
веселый отпуск из небытия
и примеряясь к несуществованью
внезапно вспомнишь тени и тела
в крутых баранках голову баранью
твоя почти такая же была
пусть флагманом ни типа ни отряда
сыгравшего в саванне пастораль
не выбирали но и то отрада
что хоть в строю на фланге постоял
скитавшимся в росе перед рассветом
ронявшим с лодки в сумерки весло
уже не быть но рассказать об этом
другим кому пока не повезло
пункт назначения
подлетаем на автопилоте
на часах меняя времена
никакого ахтунга в природе
только чуть качается она
под шасси астральными телами
тишина встречая взорвалась
полоса где испокон теряли
высоту прибывшие до нас
точность места наступленье мига
из рассудка россыпью как ртуть
кажется в руках дремала книга
но теперь потеряна забудь
впредь не отличу от света тень я
в плотный ноль сольются полюса
в тысячах свечей поминовенья
вся посадочная полоса
* *
*
временного отрезка аренда
коротка и отчетлив сигнал
а не то бы любил без расфренда
а не в ленту лениво ссылал
после нас остаются на свете
не массивные бивни слона
в пустоте социальные сети
где за все отвечают слова
мы висим в них как мертвые рыбы
гребешком растопырив костяк
кабы не были немы могли бы
серебриться у славы в гостях
вот и вся напоследок харизма
ночь повадится шашкой глуша
и финальный урок дарвинизма
получает в фейсбуке душа
преградившая русло плотина
нам управа на прихоть и прыть
только жаль что любви не хватило
весь рентгеновский ужас прикрыть
спиди
временами ко мне приходила живая мышь
настоящая в что ни на есть натуральном виде
я на мышь не роптал и не топал ногой а лишь
потакал баловству и придумал ей имя спиди
но кормить не кормил потому что тогда бы она
всю родню до троюродной в дом а дохода мало
у мышей что ни жизнь то тяжелые времена
никакому диккенсу в страшном сне не бывало
я остался в сторонке хотя и не гнал взашей
избегал поощрять беготню и другие трюки
тут ведь как рассуждаешь кто сотворил мышей
пусть о них и печется а сам умываешь руки
но печется вполсилы откуда и брешь в строю
чья-то мелкая участь опять обернулась шуткой
погулял по соседним квартирам хотя в свою
не пустил крысобой с арсеналом отравы жуткой
с той поры эта спиди не ходит уже ко мне
поголовье белок с пожарной лестницы реже
и шелковицы прежней не вижу теперь в окне
только жестче земля а звезды на небе те же
пустяки все равно бы она умерла и так
не одна же ей-богу утрата на всю планету
даже если и сыра ей не купил на пятак
а пятак потерялся искать интереса нету
* *
*
когда-нибудь я вспомню все что знал
и все что вспомню рассую по полкам
и даже тем чего не вспомню толком
набью до люстр библиотечный зал
пусть служит мне последняя своя
просторная хоть и на склоне века
александрийская библиотека
где все из бывшей памяти слова
не упущу в реестре ни одно
из прежних лиц что радовали око
но горько будет мне и одиноко
глядеть в библиотечное окно
под визги сверл и циркулярных пил
сквозь стеллажей ажурные границы
от неудачи в поисках страницы
где было про тебя но я забыл
Иногда словно кто-то окликает меня по имени
Ионова Марианна Борисовна – прозаик, критик. Родилась и живет в Москве. Окончила филологический факультет Университета Российской академии образования и факультет истории искусства РГГУ. Как критик печаталась в литературных журналах. Лауреат премии “Дебют” в номинации “Эссеистика” (2011).
Как же я поеду, — сказала я, — у меня же ничего с собой нет.
— А что нужно? Зубная щетка… Так мы ее в аптеке купим.
И верно, вот аптека, только я думаю: нет, не поеду, но это я для него думаю — как будто он может читать мои мысли, а самой очень хочется ехать. Мы заходим в аптеку и покупаем мне зубную щетку. И машина стоит припаркованная у тротуара — “трабант”. В маленьких чешских городах до сих пор их видишь и в восточно-немецких тоже.
Это был ранний сон, потом снилась школа, и я залезаю на подоконник и смотрю через форточку вниз, внизу почему-то река, и потом я стою ночью в Милютинском сквере и держу фотографию, по которой должна узнать Толю, потому что он вот-вот придет, а вокруг какие-то цыгане — жгут костры.
В жизни никогда ничего не происходит. Жизнь сама происходит. Происходит от меня и от Толи и от ребят, играющих в баскетбол на баскетбольной площадке, и когда мяч ударяется о заградительную сетку, такой звук, как будто рассыпали что-то блестящее и серебрящееся, вроде рыбьей чешуи. Ребята разного возраста, постарше и белобрысые лет двенадцати, и среди них одна девочка, то есть девушка в длинной белой футболке, и я знаю, что ее зовут Галя. Она в белой футболке, а должна быть в коричневом платье с черным фартуком, потому что о ней рассказывал Толя, она из того Верхнего Михайловского проезда, когда “Дача-голубятня” была еще детской библиотекой, а не рестораном “Граф Орлов”.
Но она ведь и наполовину я.
Я часто встречаю на улице девушек, похожих на Галю: высокая и тонкая, с маленькой головкой и прямыми волосами. Туловище, или лучше по-балетному корпус у таких девушек всегда чуть откинут, спина прямая-прямая до прогиба в пояснице, ленивые гибкие ноги. Девушки всегда смугловатые, с маленькими глазами и маленьким ртом.
Но Галя лучше их, потому что она настоящая, и волосы у нее не висят мертво до пояса, а разбросаны по плечам или собраны в “конский хвост”.
И те девушки никогда не смеются и не кричат, а Галя смеется и кричит.
Она мне приснилась по рассказам Толи. Она однажды спасла ему жизнь, но это долгая история, которой даже я не знаю.
В баскетбол я играть не умею и сажусь на кровати, проснувшись, и вспоминаю, как Толя сказал, что отчаянье — самое человеческое состояние. И мы еще поспорили об этом. Я потом сказала: растерянность — самое человеческое. Но я не Галя и никогда не стану ею.
Я хочу пройти сквозь жизни людей, не застревая ни в одной жизни. Как я выхожу на станции метро “Октябрьское поле” или “Первомайская”, где никто и ничто меня не ждет, и хожу часами, испытывая “непривязанность” на себе, себя на неприкаянность.
Они искали 4-й Верхний Михайловский проезд и не могли найти, потому что спрашивали переулок .
Мужчина и женщина. Он — лет шестидесяти, темный, с впалыми щеками, на шее женская косынка в горошек, она — лет сорока пяти, белесая, коренастая, одета как по-летнему для церкви: белая блузка и юбка до пят.
— Это ведь от Плющихи близко, — то ли спросила, то ли сказала женщина.
— От Шаболовки.
— Вот. — Она успокоительно повернулась к мужчине: — От Шаболовки.
Он смотрел не на нее и не на меня, а куда-то поверх.
— Вам повезло: я живу в тех краях. Сейчас вместе сядем на “аннушку”, и я с вами сойду.
Она улыбнулась вместо “спасибо”, и щеки стали матово-румяными.
— Мы из Ярославля. Это мой брат. Он не говорит: связки ему вырезали. У нас тут сестра живет, только мы с детства не видались. Представляете? С детства не видались…
Однажды ночью на Малой Калужской за нами с Толей долго шел юноша, по голосу лет восемнадцати, но на самом деле — почему-то мне подумалось — старше. Поравнявшись, он сказал:
— Здравствуйте. Я Ангел смерти.
— Приятно познакомиться, — сказал Толя.
Я потянула его вперед, но он не прибавил шагу, и юноша все тащился рядом, пока Толя не остановился вдруг и не спросил:
— А собственно, что дальше?
Повиснув у него на локте, я дернула в сторону, но Толя как врос.
— Ничего, — промямлил юноша.
— Тогда вы не Ангел смерти, а барахло, — сказал Толя с таким презрением, что у меня подкосились ноги.
— …Брат в Москве родился, но давно уехал, а я так только пару раз была, давно тоже. Говорят, центр весь снесли, старину всю…
— А у вас в Ярославле — как?
— У нас как раньше.
Она все время показывала пальцем на что-то и говорила: “Смотри”. Ее брат смотрел большими аристократическими карими глазами. Губы у него были чуть раздвинуты, словно он готовился шептать.
Мы сошли напротив 1-го Верхнего Михайловского. Я вспомнила, как встрепенулся Толя, когда первый раз провожал меня до метро и спросил, докуда мне ехать.
— “Шаболовская”? — переспросил рывком, недоверчиво. — Там рядом Верхние Михайловские проезды?.. “Дача-голубятня”?.. Знаю эти места — у меня там… знакомые жили. Давно.
А “Дача-голубятня” тридцать с лишним лет спустя его разочаровала, после реставрации ярко-желтая, огороженная. Толя сказал, что раньше здесь была детская библиотека. Я не сразу поняла где, потому что смотрел он на жилой дом напротив, первый из ползущих по улице в горку. Оказалось, в “Голубятне”. “Место мест, — прошептал он и тут же: — Ладно, пойдемте”.
Мы тогда были знакомы полтора месяца. Друг-художник искал советские иллюстрированные журналы — для коллажа, и я подумала про “Советское фото”. Нашла в Интернете объявление о продаже старых номеров, списалась, он извинился: после болезни еще не может носить тяжести, договорились, что я приеду.
На нем была тельняшка с длинным рукавом и тренировочные штаны на синтепоне.
— Простите за вид, — сказал он, отступая вглубь прихожей, — после болезни десять кило слетело, нормальная одежда сидит отвратительно.
Я заверила его, что все в порядке, что по мне вид вполне приличный.
На полу аккуратными стопами были сложены фотокниги, отечественные, двадцати-тридцатилетней давности, и номера “Советского фото”.
Я опустилась на колени и стала разбирать стопы, показывая, как я бережна. Из фотокниг самые новые относились к 70-м, самые старые — к 50-м. Самарканд, Ферганская долина, Памиро-Алай. Крым. Армения. Заонежье. Заладожье. Рига. Таллин. Валаам. Суперобложки, залатанные желтым скотчем. Картонная коробка в углу была доверху полна плоскими пластиковыми коробочками. Я вынула одну такую под брюхо, как черепаху. В ней туго лежали снимки. Во всех коробочках — или позитивы, или негативы. Годы надписаны черным фломастером: 60-е, 70-е, 80-е. Малоярославец. Галич. Юрьев-Польский. Переславль-Залесский. Торжок. Коломна. Я уже потом узнала, что в Коломне он родился и жил до семнадцати лет.
— Отец вел в Коломне кружок “Фотолюбитель”. Сам инженер. О фотографии знал все. Нет издания по истории, по теории, по практике, чтобы у нас в былые годы на полке не стояло. Альбомы опять же… Отец денег на это не жалел. Обожал ездить в турпоездки по старым русским городам — всегда с “Лейкой”…
— И все продаете? И книги? И снимки?
— Книги — да, а снимки-то кому нужны? Просто хранилось вместе.
Он прочел это мое “неужели не жаль?” и произнес как-то мягко, баюкая:
— Деньги нужны позарез. Назанимал на лечение.
— А альбомы… Альбомы-то точно возьмут в букинистическом!
— Давайте-ка лучше чай пить, — сказал он, надев улыбку.
За стеклом серванта стояли открытка и фото. Открытка была с репродукцией фрески Джотто “Проповедь св. Франциска птицам”. А снимок — не черно-белый даже, а серо-желтый, вырезанный из книги или журнала тридцати-сорокалетней давности и наклеенный на плотную бумагу. Юная гимнастка в черном трико подпрыгнула и будто зависла на шпагате.
К чаю он подал черный хлеб, сыр и кусковой сахар прямо в коробке. Больше, кажется, по обязанности хозяина спросил, профессиональный ли у меня интерес к фотографии. Я ответила, что нет и что филолог. Он спросил, кем я работаю, и я ответила, что преподаю русский и литературу в десятом и одиннадцатом классах. И он расспрашивал, районная школа или какая-нибудь “спец” и какие ребята достались, и я сказала, что ребята — первый сорт, насмешив нас почему-то.
— Я в школе преподавал, — сказал он. — Недолго. Биологию. С шестого по восьмой класс. — И, не переводя взгляд, не меняя тон: — А вы любите фотографию?
— Фотография больше, чем живопись, знает о смерти, — сказала я.
Он отставил чашку и стал глядеть на меня сквозь прищур. Это тянулось и тянулось, я не понимала, и мне уже стало больно, когда он тихо спросил:
— А вы — что знаете?
И вдруг будто отпустил меня, откинулся на спинку стула и заговорил, словно рассеянно и словно вглядываясь куда-то:
— Когда был таким, как ваш “первый сорт”, мечтал стать архитектором, поступал в МАРХИ, но провалил тригонометрию. Пришлось отслужить на флоте, сперва на Дальнем Востоке, потом еще полгода в Крыму. Тогда я впервые и увидел птиц.
Это было похоже на концовку рассказа, или так говорят о злой и светлой женщине: завиднелись брови и углы рта.
— И знаете, птица более всего птица, когда она ходит. Птица, когда она летит и когда ходит, — это два разных животных.
— Помните у Рембо, про альбатроса?
— Да, — он как-то небрежно кивнул (подумала: стихотворения не знает), — главное, что птица на земле двунога. Как мы. Птицы при ходьбе похожи на нас. Вот только мы не похожи на ходящих по земле птиц.
Он засмеялся, без сарказма, просто.
— И я сдуру решил, что раз так, должен жизнь посвятить изучению пернатых. Подал документы на биофак МГУ, на вечерний, чтобы хоть какой-то был шанс. И прошел. Устроился гардеробщиком в кинотеатр “Победа”, пару лет бесплатно смотрел все, что шло на советском экране, до тошноты. Потом уже подвизался лаборантом на кафедре. Хотел с третьего курса свалить, но совесть удержала. В итоге — специалист по птицам средней полосы. — Он опять засмеялся, почти с облегчением. — А в перестройку выучился на слесаря. Видели внизу вывеску “Металлоремонт”? Последние двадцать лет там работаю.
Я купила все “Советское фото” и альбом “Самарканд”.
На лестничной площадке я обернулась и сказала:
— Спасибо.
Мне показалось, что он поспешно затворил дверь.
Во дворе дома мальчик лет девяти сильно раскачивался на качелях и, задрав голову, пел: “Разлука ты, разлука, чужая сторона…” Он пел хорошо. “Зачем нам разлучаться, зачем в разлуке жить? Не лучше ль обвенчаться и друг друга любить?” Я остановилась и слушала, не понимая, зачем эта песня мальчику.
А Верхние Михайловские — место мест, негромкое, как старая школа, как лист на влажной земле. Перепелочный кирпич, для рабочих строили, и спокойные, справные дома шагом идут на пригорок. Радостный всхлип качелей. Девочка, бегущая из кирпичного дома в кирпичную школу, из осени в осень, и прибегающая домой, и поднимающаяся на свой четвертый этаж, и глядящая из окна за шторой.
Как-то мы шли в Нескучный сад мимо Донского монастыря, и я сказала: чем дальше осень, тем стволы деревьев темнее, а когда листва уже вся-вся желтая, они просто черные; так обычно рисуют дети красками, когда велено изобразить “осень”, и взрослым кажется, что это для красоты, ради сочетания желтого и черного. А Толя сказал, что летний свет придает всему объем, стереоскопичность, а зима — плоская картинка, и чем ближе к зиме, тем площе. Там, внутри деревьев, то есть среди них — как Царство Божие внутри нас, то есть среди нас, — есть источник света, свое Царство, но только летнее, а зимой деревья стоят порознь, в пустоте.
Они с Галей любили музей Ферсмана, а вот палеонтологический — нет, но в обоих поняли трогательность, они казались заброшенными, брошенными в первобытные лопухи, две огромные старые теплицы. Галя называла их старыми чудаками: ну разве может настоящий музей выходить в парк, глядеть на столы для пинг-понга. В музее Ферсмана Толе больше нравились сами минералы, а Гале — изделия из них, вроде пресс-папье с почти живыми ягодами из цветных камней.
Они сидели на скамейке у Чайного домика в Нескучном саду, Галя подняла указательный палец, и на него тут же спикировала синица. Толя пришел в восторг, а Галя сказала с обидой: знаешь, как это больно?
Неизвестно, кто построил “Дачу-голубятню”. Галя видела ее из окна, но за книжками туда уже не ходила, была записана в районную взрослую.
Я обернулась на оклик: женщина семенила ко мне, то маша рукой, то прижимая ее к сердцу. Брат отставал, не торопился.
— Ох!.. Представляете — не нашли. Витя говорит, это не четверка в письме, а единица…
Брат ее ткнул пальцем в тетрадный лист, лиловатый и прозрачный от клеток, и издал слабый то ли посвист, то ли шелест. Я заглянула: и впрямь единица, 1-й Верхний Михайловский.
— Позвоните ей на мобильный.
— Звонила! Абонент недоступен. Ну и не надо беспокоить: мы ведь как сюрприз хотели. Галина все зазывала, да то дела, то случаи, а теперь вроде как осчастливим!
И смеется, и лицо больше не жалкое, и белая блузка пахнет какими-то вырезными голубями, коньками, подзорами и наличниками, и огородами, и Ярославским кремлем.
Мы поднимаемся на пригорок. Здесь, в Верхних Михайловских, лучше бы им было застать октябрь. Нигде так не пахнет землей, как в октябре, а небо еще сухое, и асфальт как гравировочная пластина.
— Они с Галиной мне сводные. Мама с их отцом развелась, Витьку взяла и к родителям в Ярославль уехала. Там годика через два опять замуж вышла и меня родила. Вот, а Галя — у отца и его новой . Мачеха хорошая: в художественную гимнастику ее отдала. Галина у нас мастер спорта, по миру поездила, выступала. Личная жизнь, конечно, вся побоку… А мама меня когда первый раз привезла с сестрой знакомиться, приезжаем — а тетя Надя, Галинина мачеха, руки заламывает, дядя Сережа тоже весь чернее тучи: сбежала Галька. В шестнадцать лет. Со взрослым парнем, совершеннолетним. Сама через неделю вернулась. Я этого ничего не помню, помню только, что суетились все, мама плакала. Мама потом рассказывала, когда мне уже можно было. Дядя Сережа шум поднимать не стал. Вроде так все обошлось…
Ее брат кивал, глядя под ноги.
— Витя тогда уже был женат. Помнишь, Вить, ты все собирался кого-то в Москве натравить на того парня — помнишь? Бог пронес… Ой, а тут же ведь Донской монастырь?!
— Да, вот он, прямо перед вами.
— Я все монастыри в Москве знаю! У меня книжка, такая хорошая — батюшка дал!
Ее глаза любят меня, Москву, батюшку, 1-й Верхний Михайловский. Я смотрю на косынку вокруг Витиной шеи.
То, что ты принимаешь за тоску, чаще всего что-то другое.
В день рождения Пушкина на Пушкинской площади устроили книжный развал. Торговали старыми книгами за “дорого”, по большей части мужчины пенсионного возраста, иногда моложе, все в замасленных рубашках, с пропащими полуулыбками или мрачные. Это оно меня высмотрело, а не я его — “Москва — Петушки”, первое издание, с бутылками на обложке. Я взяла, и из книжки выпало старое черно-белое фото: пустынная местность, горизонт, посредине торчит какая-то будка не то землянка.
— Это Владивосток, — сказал продавец из “мрачных”, не дожидаясь вопроса, и убрал фото за пазуху.
Не убегай от тоски. Потому что она не хищник, который тебя преследует, а собака, которая трусит рядом. Загляни ей в глаза, потрепи по холке. Скажи ей: ты моя собака, я люблю тебя.
Толя приподнялся и поцеловал меня.
— Ты мечтаешь о счастье, — сказал он однажды и улыбнулся совсем как продавец с книжной барахолки, будто счастье сразу встало перед ним в виде чего-то маленького. — Это придет. Всем выпадает немного счастья.
— Не хочу никуда лететь, — сказала я. — Хочу сидеть на твоей ладони.
Он с чем-то возился за кухонным столом, черные от смазки пальцы перебирали детали, как будто лепили из пластилина. Попросил подать отвертку, и я вложила ему в руку.
— Галя до сих пор живет там, в 1-м Верхнем Михайловском проезде, напротив “Дачи-голубятни”, — сказала я. — Я узнала: она до сих пор живет там.
Отвертка крутилась быстро-быстро, а я догадалась, что это у него: дверной замок.
— Да что ты говоришь, — сказал Толя.
Я смотрела на белую ребристую ручку в масленых пальцах.
— Мне вчера приснилось, будто ты куда-то едешь и зовешь меня с собой. У тебя во сне был “трабант”. Смех, правда?
Ручка отвертки лоснилась и переливалась, а Толя вытер пальцы ветошью, долго мыл руки и тер щеточкой ногти, и мы сели пить чай.
Он не позвонил ни через день, ни через два, а потом прошла неделя. И я не звонила.
Как-то днем я шла по Малой Калужской, сзади поздоровались, и я узнала голос.
— Здравствуйте, — сказал он, обогнав меня, — я Синяя Птица Счастья. Исполню одно ваше заветное желание.
— Пусть Толя вернется, — попросила я.
Он стоял передо мной, хлипкий, сутулый, большеголовый и длиннорукий, в очках, с темным “ежиком”, и пальцы его — указательный и средний — на обеих руках были скрещены, как плоскогубцы.
— Пусть Толя вернется, — сказала я и пошла вперед быстро, стараясь не побежать.
На задворках, куда выходит “Металлоремонт”, живет молодая собака, черно-пегая, легкая, похожая на шакала. Она робко выбегает откуда-то, почуяв человека, чтобы тут же отскочить. Она всех боится, кроме Толи, который ее прикармливает.
Мне бывает жаль, отчего мы с Толей познакомились не так, что вот я принесла бы ему сюда на починку сломанный зонтик. Вот я бы вошла и сначала попала бы на Толиного помощника Макса, который с отличием окончил ПТУ, и Толя им гордится, но я бы не знала, что это Макс, и просто поздоровалась бы, выложив перед ним зонтик. И Макс зычно позвал бы, повернув только толстую шею, и то чуть-чуть, а туловище оставив как есть: “Анатолий Алексеич!..” Толя вышел бы в своем сизом халате, и Макс шмыгнул бы носом: “Для вас работа”. Толя молча взял бы невесомый зонтик, как берут что-то тяжелое, отошел бы с ним в сторону, стал бы разглядывать и вдруг открыл бы, точно выстрелил, судорожно сморгнув.
— Анатолий Алексеич!.. — позвал Макс.
Толя вышел, увидел меня и сразу сказал:
— Пойди пока в “стекляшку” у метро, выпей чаю — я через сорок минут заканчиваю.
Я не пошла в кафетерий, а сорок минут гуляла по району. Потом я испугалась, что он пойдет за мной в “стекляшку” и мы разминемся, и заспешила туда, и правда еле успела. Толя стоял внутри и озирался. Я подождала несколько секунд у него за спиной, потом коснулась его локтя. Он как-то неуклюже развернулся, как проворачивается сломанный замок.
Я сказала:
— Я вчера в Нескучном саду кормила белку. Ты замечал, что белка горбата, когда сидит? Знаешь, у нее такой продолговатый хрупкий горбик — как детская рука в варежке.
Толя сказал:
— Все мелкие звери хрупки и некрасивы вблизи.
— А птицы, — сказала я, — птицы красивы.
— Птицы красивы, — согласился Толя.
В жизни никогда ничего не происходит. Жизнь сама происходит. От маленького чешского города, залитого огромным и несводимым пятном заката. От трамвайной улицы где бы то ни было, от любой улицы, пущенной под откос к реке. От меня и от Толи. Господи, мы же Твои дети, а улицы — наши дети.
Иногда кто-то словно окликает меня по имени: Галя.
Клеенчатый алый плащ с клетчатой подкладкой, зеленые резиновые сапоги, букет кленовых листьев, рыже-коричневый портфель. А вот школа, и голубь переходит трамвайные пути. Только скажи мне, где ты, где мы, и я потеку туда горючим трамваем.
В каком Верхнем Михайловском, в каком октябре.
Минойская элегия
Надежда Мальцева родилась и живет в Москве. В СССР ее стихи почти не публиковались, и только с конца 1980-х стали входить в западные русские, а в следом и в отечественные поэтические журналы и антологии. Мальцева — автор поэтических книг “Дым отечества” (2006), “Навязчивый мотив” (2011, литературная премия “Серебряный век”) и многих поэтических переводов; более 20-ти лет работает над словарем “Тезаурус”, объединяющем русские рифмы, толкования и синонимы (первая версия словаря должна появиться в Интернете в конце 2014 года).
“…Я давно имею дело только со старыми, твердыми, уже выкристаллизованными стихами; мне казалось, что я разучился воспринимать новое, потерял профессию читателя. Ваши две книги были для меня как оживание. В первый раз за не знаю сколько лет я опять почувствовал себя в поэзии, как в воздухе и в воде. Все мы знаем это чувство счастья, все знаем, что словами его не обозначить, позвольте и мне его не описывать. Только поверьте, это не комплимент: комплименты нам уже не по возрасту” (из письма М. Л. Гаспарова — Н. Е. Мальцевой, 2002).
Портрет змея в Феодосийской раме
Александру Ревичу
Не спи под яблоней! восхитив облик твой,
сорвёт с ветвей, перевернёт, покатит,
как паданку, червями обрюхатит
и бросит гнить, едва прикрыв листвой.
Гуденье пчёл, садящихся на губы,
вверху гуляет ветер, звёзды вскачь —
среди греха и смерти любо, любо,
ах, любо, братцы!.. в небо пара кляч
из Авгиевых тащится конюшен,
их пьяный топот туп и равнодушен,
а камень сердца хрупок и незряч.
О бедной кукле глиняной поплачь,
смолою пахнут и гробы и срубы.
Под веками играют свет и тьма,
плывёт вселенной вечная изнанка…
Как резво крутит спицами Ананка —
лови, лови! медяк, венок, тюрьма,
ещё медяк, и сразу порто-франко.
Соблазны века, что тебе до них?
Бегут на месте стрелки циферблата,
твой маскарад надёжней маскхалата,
под яблонями ждёт-пождёт жених,
да вот до Гесперид далековато.
Из куклы выйдет славный мотылёк
со временем, а может быть, и птица,
придёт тепло, гречиха уродится,
соединятся Запад и Восток,
и вдруг — рывок, толпа, чужие лица.
Изволит старый фокус делать князь,
открой глаза! в листве обетованной
ползёт змея тропою покаянной
и держит в пасти яблоко, смеясь.
2007
На гребне девятого вала
— Ваше сиятельство, пахать подано!
Распахав берега киселя,
отрыгались, шугнули кого-то,
благолепья всеобщего для
осушили родное болото.
На просторе, недолго пустом,
возвели карусель волонтёры —
хоть катайся в сметане постом,
хоть подайся в кудыкины горы,
хоть, не смея пуститься в бега,
встань на гребне девятого вала...
А у нечисти бритой рога
отросли как ни в чём не бывало.
И по всей необъятной стране
то заквохчет двуглавая птица,
то зачавкает там, в глубине,
где должна бы душа находиться.
2010
Минойская элегия
Дышит тьма в затылок, как подсказка,
что сегодня кончилось вчера,
и луны вакхическая маска
входит в сны и светит до утра.
Звякнет ночь серебряной цепочкой
уходящих в прошлое следов,
и покатят с вековой отсрочкой
день за днём из мёртвых городов.
Словно тени по нетленным фрескам,
ходят в небе звёзды-светлячки,
но кошачьи, с филигранным блеском,
не мигают в прорезях зрачки.
Почему мы только убегаем,
не встаём к себе лицом к лицу?
Вход завален и недосягаем,
кто откроет двери беглецу.
Нет давно ни Кносса, ни Эллады,
но Геката ждёт своих котят,
и на зов спешат сквозь мрак менады,
а от моря гарпии летят.
2010
* *
*
В припадке всемирной хандры,
звериной тоски и печали
двуногий пинает с горы
святые дары и скрижали.
Он ввысь кулаками грозит
и плачет над долею жалкой,
простой симбионт, паразит,
божок с огнестрельною палкой.
— Других поищи дураков! —
вопит разгулявшийся субчик. —
Прощай, до скончанья веков!..
И слышит: — До завтра, голубчик.
2010
Возвращение
От старой тётки, что с трудом
писала раз в году,
он получил в наследство дом
и пасеку в саду.
И, повздыхав, что тёткин дар
далёк и бестолков,
едва достал билет в разгар
курортных отпусков.
В плацкарте душной, сняв пиджак,
меж двух усталых баб
он, примостившись кое-как,
дремал под чей-то храп.
Попутку ждал, а кто в дыру
такую сунет нос?
Попёр пешком и был к утру
у тёткиных берёз.
Поминки справить во дворе
соседка помогла —
всем по блину, по просфоре,
чин чином, три стола.
Расклеил в городе листки,
что продаётся дом,
и чуть не запил от тоски
через неделю в нём.
Следили молча образа,
как спит он, ест и пьёт,
в пролом соседская коза
рвалась на огород,
то умолкал, то пел сверчок...
“Давай повременим”, —
шептал ему земли клочок
и колдовал над ним.
Ночами снилось, что отец
по горнице прошёл,
вносила бабушка светец
и ставила на стол,
и пела мать — о чём, со сна
не разберёшь, хотя
казалось, рядышком она,
баюкает дитя.
Проснёшься — вроде никого,
а кто нагрел скамью? —
и пчёлы приняли его,
как равного, в семью.
Весь август он чинил забор
и рвал листки с ворот,
а в сентябре ломал в разбор
и ел свой первый мёд.
2011
Венок
Кто первый? Плывёт над холмами, как в топке,
шафранное марево летней жары,
и на спор к реке по извилистой тропке
несутся девчонки с высокой горы.
Пугливая стайка, дички, недотроги,
их щёки в малине, их пятки черны
и звонкую дробь выбивают в дороге —
так ливень гуляет по глади волны.
Бегут друг за другом, а кажется — пляшут,
легко, не касаясь травы и камней,
и голыми крыльями в воздухе машут,
вот-вот полетят, через несколько дней.
Всё дальше и дальше, до самой до ночки,
до кованых рожек луны молодой!
И младшая в сползшем на ухо веночке
хохочет и брызжет на старших водой...
Одна нарожает детишек пьянчуге,
другая сбежит без бумаг из села
и канет на севере или на юге,
и только меньшая живёт где жила.
Она ковыляет походкою валкой,
погост прибирает и ходит к реке,
но вниз не идёт — подпирается палкой
и смотрит на быстрый закат вдалеке.
Как будто однажды разверзнутся хляби,
а ветер дохнёт и положит у ног
потерянный где-то на тёмном ухабе,
давно унесённый теченьем венок.
2011
Прогулки с Кафкой
Кобрин Кирилл Рафаилович родился в 1964 году в Горьком, окончил исторический факультет Горьковского государственного университета. Редактор журнала «Неприкосновенный запас» (Москва). Автор (и соавтор) 12 книг прозы и эссеистики. Активно публикуется в журнальной и сетевой периодике. Лауреат премии «Нового мира». Живет в Праге, работает на «Радио Свобода».
Рассказы об одном мюнхенском пансионате для людей искусства, где
живут художники и ветеринары (чья школа неподалеку) и где так
безобразничают, что окна дома напротив, откуда все хорошо видно,
сдаются в аренду. Чтобы удовлетворить этих зрителей, иной раз
какой-нибудь пансионер вскакивает на подоконник и в обезьяньей
позе выхлебывает свою суповую миску.
Дневник Франца Кафки, запись от 26.09.1911 [1]
Отсюда максима: наблюдай, двигаясь.
Александр Пятигорский [2]
Место, где история выкачана, теперь здесь вакуум.
Мы плаваем в нем, как херстовские акулы в формалине.
Петр Кириллов [3]
Я прожил в этом городе почти двенадцать лет, так и не обнаружив в себе ни малейшего отклика на него. Он отплатил мне тем же; мое существование столь же безразлично для него, как и его — для меня. Не вижу в этом драмы; даже повода для расстройства здесь решительно никакого нет. Это как долгое время заниматься любовью с совершенно чужим тебе человеком: проходишь все стадии от некоторого возбуждения (ведь абсолютно чужое может вызвать таковое, не так ли?), через довольно академический интерес к устройству отдельного от тебя организма и последовательности его реакций до механического совокупления, не вызывающего ни симпатии, ни антипатии, нечто вроде пития кофе из автомата в офисе, где трудишься много лет. Вышесказанное не предполагает отвращения, да и вообще иных отрицательных чувств; привычка есть нередкая замена счастью, рутина нам дана, чтобы не сойти с ума от бунта вещей и людей, выпавших из автоматизма наших репетитативных действий, вещей и людей, вышедших из скреп той системы, что мы создали для них. Для включения света следует нажать на клавишу или кнопочку; что будет, если каждый раз эта задача будет сопряжена с разнообразными условиями и вытекающими из них размышлениями? К примеру, однажды выключатель потребует от нас исполнить целиком All You Need Is Love , в другой раз окажется склизкой зеленой лягушкой, покрытой изумрудными бородавками, в третий — заставит тебя натянуть на руку резиновую перчатку. Останется ли тогда у нас время, чтобы думать, читать, мечтать? Оттого и работа самая лучшая — эта та, что делаешь (добросовестно, но) автоматически; главное, во-первых, не халтурить, ибо халтура вампирична, она выпьет всю кровь из полного сил и страстей ума, предназначенного вовсе не для работы; а во-вторых, автоматизм напряженного труда позволяет оставить нетронутыми этой протестантской заразой хотя бы жалкие островки сознания. Что уже потом будешь делать с этими силами, страстями и островками, не имеет значения, пусть даже затопить их алкоголем или засушить беседой с внезапно нагрянувшими дальними родственниками — не важно. Главное, что они есть. А если так, не все еще потеряно.
Лучше других понимал это Франц Кафка. Как известно, он работал в полугосударственной страховой компании; некоторые утверждают, что Кафка был выдающимся специалистом своего дела и пионером страхования рабочих в Северной Богемии. Быть может, это так; к тому же любому, кто читал его крючкотворскую прозу, клаустрофобичные дневники и иезуитские эпистолярии с невестами и просто девушками, очевидно: добросовестность этого человека не знала предела. Он был практически идеальным клерком, хорошим сыном и отменным братом и дядюшкой; из всего вышеперечисленного возможен только один вывод: халтурить Кафка не умел и не хотел. Его продвигали по службе, его, немецкоязычного еврея, не выгнали даже после того, как Чехословакия обрела независимость от проклятых немцев; наконец, несмотря на все его хвори и метания, его любило начальство. Все это свидетельствует о высоком качестве работы Франца Кафки — страхового агента: ни тебе богемной беспечности, ни зыбкой ненадежности невротика. Этот великий человек нашел великий модус вивенди, который хоть позже и погубил его физически, но все же позволил написать то, что он написал; большего и не нужно (да и больше текстов Кафки, чем есть, тоже, пожалуй, не надо).
В основе этого модус вивенди лежат два главных принципа — автоматизм и строгий распорядок. Первый касался поведения на службе; лишь изредка Кафка сожалеет в дневнике, что, диктуя секретарше деловое письмо, он пользуется словами, которые мог бы вставить в собственную прозу. Впрочем, он только мельком упоминает об этих приступах лексической скупости; наверняка Кафка приучил себя просто не вникать в смысл диктуемого. Он освоил великое искусство: заученными экономными движениями выигрывать раз за разом конторскую партию, оставляя ум и чувство праздными для лучшего их использования (сочинительство, психическое саморазрушение, переписка с невестами и просто девушками, чтение Герцена, Достоевского, мемуаров наполеоновских генералов). Строгий же распорядок был выработан для того, чтобы поддерживать силы после работы, точнее — гибернировать их до позднего вечера, когда можно будет усесться за пыточный письменный стол. Если верить биографам да и дневникам самого Кафки, то выглядело это таким образом: закончив рабочий день (в те блаженные времена это происходило не в семь вечера, не в шесть и даже не в пять, а около четырех), Франц направлялся к Пороховой башне, где его поджидал лучший из друзей, Макс Брод. Они обедали, после чего Кафка шел домой и заваливался спать часов до девяти-десяти. Очнувшись от наверняка тяжкого забытья, он с ватной головой садился сочинять «Приговор», или «Превращение», или «Голодаря», а то и «Процесс». Если дело шло хорошо (что случалось далеко не всегда), Кафка заставлял себя остановиться часа в три ночи, после чего долго и мучительно пытался заснуть, борясь с вполне понятным возбуждением разгоряченного прозой прозаика. Добавлю еще, что он пил (за крайне редким исключением) только воду, не курил, был вегетарианцем, занимался гимнастикой, любил ездить на воды и даже деятельно сочувствовал нудистам. Несмотря на все это, размеренный образ жизни с разорванным на две неравные части сном так ослабил организм Франца, что он не смог сопротивляться горловой чахотке, которая медленно пожирала его последние восемь лет. И все же — несмотря на страдания, страшную болезнь и раннюю смерть — он победил.
Кафка оказался для меня единственным ключом к Праге; я инстинктивно ухватился за него, когда пытался хоть как-то объяснить для себя существование этого города — и мое существование в нем. Первые месяцы (не)искреннего восторга прошли; я более-менее выучил топографию центра, местонахождение лучшей кофейни, приемлемого винного магазина (тогда меня еще интересовали такие вещи, будто не все вино выше определенного уровня одинаково — по крайней мере, для меня, да и, думаю, для большинства населения планеты), ближайшего супермаркета и прачечной (еще одна ошибка раннего периода пражской жизни; стирать надо самому, а гладить и вовсе не следует), прочел пару книг по локальной истории, реанимировав кое-какие университетские познания по части прошлого всего региона, в котором я оказался, и тут стало понятно, что, в общем-то, делать больше нечего. Я имею в виду, «с этим больше ничего не поделаешь». Надо было начинать жить, а не туристствовать, но для этого нужны некие внутренние основания, конгруэнтность месту обитания или, наоборот, отталкивание — хоть что-то. Я копался внутри себя в поисках всего этого, но увы. Я оставался сам по себе, город — сам по себе. Он был вязко безразличен ко мне, я — как печальный любовник, обнаруживший, что равнодушен к женщине, которой добивался с такой страстью и добился-таки, — разочарованно безразличен. Разочарование следовало списать не на город, а на себя; это лишило меня последней иллюзорной связи с ним. Мы остались при своих: он терпел меня, я терпел его. И точка.
Но, кроме этого, существовало еще одно обстоятельство: работа, служба. Она была для меня совсем новой — и, надо сказать, тяжелой; опуская ее содержание, скажу только, что работа требовала то ночных дежурств, то прихода на службу в смертельную рань, то — чуть ли не на следующий день — поздним вечером. Если биологические часы существуют, как уверяют нас врачи, то они были растоптаны тяжелыми эскадронами регулярной кавалерии моего рабочего расписания. Естественно, я потерял сон, элан [4] и способность сочинить хотя бы одну прозаическую строчку; на место всего этого пришли задушевные семейные радости и вялый буржуазный консюмеризм, которые не требовали ничего, кроме равнодушной покорности обстоятельствам и умения помнить наизусть номер кредитной карточки. Чтобы не сойти с ума, я принялся перечитывать дневники Кафки.
Сейчас, немало лет спустя — немало уже для такой некороткой биографии, как моя, — мне кажется, что я всю жизнь только и занимался этим. Но это не так, далеко не так. Думаю, что впервые я открыл их году в девяносто втором-третьем, когда вышло, кажется, первое собрание его прозы на русском в нескольких томах (в советское время Кафке разрешались лишь отдельные книжки; помню изданную чуть ли не в год моего рождения мышиного цвета величайшую редкость, затем — тут бы проверить неверную память вебчекингом, да бог с ним — в серии «Мастера современной прозы», но уже об лихорадочную перестроечную пору). Да, целых три тома, в последнем из которых и то самое письмо отцу, и эпистолярий с друзьями, и почтовый роман с Фелицией в избранных дыбах и кнутах. И отрывки из дневников. Любопытно, что фрагмент, о котором сейчас пойдет речь, наличествовал в том трехтомнике, однако в качестве «прозы», а не «записи в дневнике», в первом томе, а не в третьем. Но мы еще нагоним в нашей с Францем прогулке этот сюжет, сейчас же воспомним былое.
Да, читал я его дневники всегда — или, точнее, с тех пор, как они оказались в моем распоряжении. Потом, несколько лет спустя, в конце девяностых вышло отдельное издание: голубовато-сероватый том, прекрасно подготовленный, замечательно переведенный и заботливо отредактированный (не считая постыдного мягкого знака в фамилии автора «Крыльев» на самых первых страницах). Вот его я изучал неделями, месяцами, годами, а теперь можно сказать, и десятилетиями — по крайней мере, уже больше одной декады. Отстоять полную смену у этого конвейера садомазохизма, от звонка до звонка, мне никогда не удавалось; чтение прерывалось короткими и затяжными паузами, причем последние такого свойства, что впору было начинать все сначала. Так я и делал, двигаясь чудовищно медленно, бессистемно и неверно, руководствуясь раздражением, страхом, паранойей, быстро иссякшим любопытством и неторопливо разбухающим пониманием любого мельчайшего мотива, стоявшего за самым абсурдным кафкиным капризом. Лет двенадцать тому я закончил эту книгу — и тут же принялся за перечитывание. Так бы оно и шло, неведомо сколько и с пугающе непонятным результатом, если бы не прихоть судьбы, забросившей меня своей неслабой рукой в тот самый город, где мой герой медленно превращался из приятного на вид подающего несомненные надежды страхового клерка в символ всех невидимых миру кошмаров обывателя. И как раз в Праге я почти забыл о нем, ненадолго, но все же.
Дело было так. Переезжая, я сначала перевез себя с полудюжиной книг и двумя полупустыми блокнотами; библиотека и семейство присоединились ко мне лишь два месяца спустя. Эти несколько десятков дней заложили фундамент той ментальной тюрьмы, где я провел начало двухтысячных. Прага и вправду парализовала меня на год-другой; дочитав и дописав старое, я никак не мог решиться на новое приключение — неудивительно, учитывая, что и предыдущее было далеко не первым в моей тогда еще гораздо более короткой жизни. Каждое превращение, смена амплуа, окружения, контекста (но не тихого накала потайной истерии и мотивчика опять-таки внутренней, еще, наверное, в детском саду взлелеянной интонации — такие вещи остаются неизменными до сих пор) превращали предпредыдущий период (в лучшем случае) в остраненный, чужой, описываемый только феноменологически или буддически — либо (в худшем) в небывший. К примеру, сегодня, прогуливаясь и слушая на айподе песню Pulp «Do you remember the first time?», я с разочарованием обнаружил, что не помню ни даты, хотя бы приблизительной, ни обстоятельств потери собственной невинности. Октябрь? Ноябрь? Год? Питер? Горький? Ни лиц, ни имен, ни меблировки места рокового происшествия — и все потому, что было сие в предпредпредпредпредыдущей жизни, которая осталась в физиологической памяти разве что психического происхождения изжогой, вспыхивающей в желудке при запахе горящего маргарина из одного карибского фастфуда в Долстоне. Какие уж там форникации [5] ...
Итак, тогда, в двухтысячном году, все, что было тезисом в предыдущую пору, стало даже не гегелевским антитезисом, а каким-то распадением на отдельные дхармы, суспензией фактов и мнений, почти мгновенно потерявших свое значение. Нет, тексты дочитывались и дописывались, дружбы додруживались, но уже почти автоматически и с прохладным интересцем. А вокруг, на расстоянии полувытянутой руки, начиналось чудовищное, центральноевропейская волшебная гора, липкая паутина не-истории в городе, битком набитом историями об истории. Чтобы не сгинуть в пивном гуляше местной жизни, нужно было ухватиться за шест магистрального сюжета этого места — и моего места в этом месте. Влажноглазый красавец Кафка в элегантном костюме юриста протянул мне этот шест.
Как-то раз вечером, часов в одиннадцать, отослав крошечное свое семейство по его зефирным бивуакам, я валялся на диване, слушал гудки поездов и громкие объявления о платформах и направлениях, доносившиеся с близкого к моему дому вокзала, не способный к любому усилию, кроме разве что задремать или посмотреть последний клип Fettes Brot на немецком MTV , я перелистнул всегда дежурящий на столике голубой том и прочел: «Когда кажется, будто твердо решил вечером остаться дома, надел домашнюю куртку, уселся после ужина за освещенный стол и занялся такой работой или игрой, по окончании которой обычно идут спать, когда на улице такая скверная погода, что лучше всего сидеть дома, когда ты так долго спокойно просидел за столом, что уже нельзя уйти, не вызвав отцовского гнева, всеобщего удивления, когда и на лестнице уже темно и ворота заперты и когда, несмотря на все это, ты во внезапном порыве встаешь, надеваешь вместо куртки пиджак, появляешься сразу же одетым для улицы, говоришь, что должен уйти, и, коротко попрощавшись, действительно уходишь и, в зависимости от быстроты, с какой захлопываешь входную дверь, обрываешь всеобщее обсуждение твоего ухода, оставляешь всех в большей или меньшей степени раздосадованными, когда оказываешься уже на улице и тело вознаграждает тебя за неожиданно дарованную ему свободу особой подвижностью, когда чувствуешь, что одним этим решением уйти ты пробудил в себе весь запас решимости, когда яснее, чем обычно, осознаешь, что в тебе больше возможности, нежели потребности легко вызвать и перенести быстрейшую перемену, что, предоставленный самому себе, ты в полной мере наслаждаешься покоем и разумом, — тогда ты на данный вечер выбыл из своей семьи с такой абсолютностью, какой ты не мог бы достичь самым дальним путешествием, и пережил такое необычное в Европе чувство одиночества, что его можно назвать только русским. Оно еще больше усилится, если в этот поздний вечерний час навестить друга, чтобы справиться, как его дела» (запись от 05.01.1912, стр. 127).
Отец мой умер примерно лет за пять до вспоминаемого мною вечера, так что вызвать его гнев я уже явно не мог; никаких ворот в доме, где я тогда обитал, не было; оправдываться перед окружающими, отчего мне вдруг пришло в голову пойти прогуляться, тоже не требовалось. Более того, ничего особенно «русского» в моем литературно спровоцированном порыве не проглядывало; наоборот, тогда я назвал бы все это одним из симптомов особой центральноевропейской тоски, коей стал к тому времени жертвой. Собственно, и сейчас, немало лет спустя, являюсь ее жертвой, но только уже не безгласной и бездумной, а жертвой, рефлексирующей как собственную принесенность в жертву, так и свои мысли по поводу оной. Но это так, вновь забегая вперед размеренного шага нашей с Францем прогулки. Пока же я читаю и перечитываю дневниковую запись Кафки от пятого января тысяча девятьсот двенадцатого года, встаю с дивана, набрасываю на себя приличествующую выходу на улицу одежду, приоткрыв дверь в спальню, говорю, что решил немного проветриться, дверью не хлопаю, к другу не направляюсь, ибо в этом городе у меня тогда был только один, но вовсе не из разряда приемлемых для посещения в одиннадцать часов вечера. Узнать, как его дела, всегда можно по телефону.
Куда же мне идти? Нет-нет, перед тем как принять одно из возможных направлений (направо или налево от входной двери дома), следует кое-что пояснить. В моем случае «возможности вызвать и перенести быстрейшую перемену» ничуть не больше, чем «потребности»; они, собственно говоря, одновременно и на нуле и на максимуме. Иными словами, пока ты эту потребность не ощутил, пока ты эту возможность не понял для себя, их как бы и нет. Потом, сразу через мгновенье после того, как набросил верхнюю одежду и еще даже не повернул ключ в замке, они уже в полной боевой готовности, на все сто, а то и больше. Самое загадочное как в этом отрывке Кафки, так и в моем порыве, вызванном его перечитыванием, — сам порыв, роковая секунда, когда рутина вдруг исчезает, оставляя тебя один на один с бесконечным полем возможностей. С другой стороны, особенность Праги такова, что никаких особенных возможностей она не предоставляет; оттого переживание потенциальности остается чистым и обреченным одновременно. «Чистым» оттого, что на твою долю остается лишь шататься по одним и тем же улицам, глазея на одни и те же витрины, в лучшем случае — посещая одни и те же заведения, где подают одни и те же напитки и сидят одни и те же люди. Ты меняешь одну заданность на другую, один автоматизм на другой, однако неуловимое мгновение воли, буквально выбрасывающее тебя в поздний час из квартиры бог знает куда и зачем, придает второй заданности и автоматизму вид ритуала.
Да, ритуала. Суть его неясна; впрочем, некоторое объяснение предлагает сам Франц: «…предоставленный самому себе, ты в полной мере наслаждаешься покоем и разумом». Но помилуйте, как же так? Разве собственный дом не является тем местом, где и положено наслаждаться желанными «покоем и разумом»? Увы, домоседы, это не так. Дом, как место, принадлежащее тебе (или по праву собственности, либо просто по праву проживания и привычки; в любом случае, место, где определенным образом расставлены и разложены твои вещи, где ты проводишь немало времени, принимая привычные позы в соответствии с привычной тебе мебелью, в окружении привычной тебе палитры цветов), есть пространство ментально, психически приватизированное; а в таком пространстве невозможно быть предоставленным самому себе в полной мере. Только в окружении чужого, повторяющегося, знакомого, но чужого, можно быть оставленным в покое окружающим миром; прогуливаясь поздно вечером или ночью по известному тебе днем району, ты переживаешь разом и автоматизм, так как знаешь все эти места наизусть, и остранение, так как разглядываемые тобою витрины, трамвайные остановки, автомобили, двери контор вырваны из своего собственного автоматизма, они кажутся странными, как томик Кафки, оставленный каким-то чудаком среди прошлогодних глянцевых журналов на стеклянном столике в приемной дантиста. Ты вроде бы наизусть знаешь все эти строчки, однако читаешь их будто в первый раз.
А теперь представим себе: ходить раз за разом к дантисту, но не для того, чтобы сверлить зубы или возводить во рту мосты, а преследуя читательский интерес: заглянул в приемную, прочел пару страниц «Замка» или «Певицы Жозефины» и скрылся. Причем делаешь это не то чтобы регулярно, но довольно часто, безо всякой системы, побуждаемый исключительно порывом. Сие и есть лучший способ «наслаждаться покоем и разумом», оказавшись по прихоти волевого побуждения в чужой знакомой обстановке, но в непривычном контексте ея; чужесть в квадрате, но ритуализм действия не позволяет этой чужести превратиться в экзотизм; никакого романтизма — чисто философское переживание. Как говорится, ничего личного — ведь разве «личное» имеет хоть какое-то отношение к «покою»? К «разуму»?
Это-то Кафка и называл «выбыть из семьи с абсолютностью»; мы же заменим «семью» на ничто, просто «выбыть с абсолютностью для наслаждения покоем и разумом». И разделим одинокую нашу прогулку с Кафкой, который, кстати говоря, некоторое время жил в моем районе, во время Первой мировой, недолго, но все же. Со второй своей невестой прохаживался по тому самому парку, на который я сейчас искоса посматриваю, заполняя буковками белый компьютерный лист. Но перед тем, как мы стартуем, несколько слов о том, что происходит за мгновение до того, когда вскакиваешь с дивана, отшвырнув плед, натягиваешь джинсы, набрасываешь куртку и открываешь дверь. Этому предшествует странный момент, сочетание психической тревоги и нервного изнеможения, который может не кончиться ничем, или, к примеру, неурочным принятием ванны, или просмотром катарского телеканала (номер 362 в моем пульте), но порой приводит и к вышеописанному. Что это такое, хотел бы я знать. Проявление внутреннего беспокойства? Симптом начинающегося безумия? Судороги давно ушедшей молодости? Знак чего-то высшего, нет, точнее, не «высшего», а «иного», сигнал того, что приближается тот самый момент, когда можно будет насладиться покоем и разумом, главное — поймать, использовать, заставить себя встать и совершить вечерний свой ритуал, упражнение в одиночестве, в абсолютном выбывании из? В поисках ответа я перерыл в сотый раз дневники Кафки, но не нашел ничего, кроме этого: «Когда я сегодня хотел подняться с постели, я свалился, как подкошенный» (19.02.1911, стр. 28), «…вчера вечером я намеренно сделался бесчувственным, ходил гулять, читал Диккенса, потом я немного оправился, у меня не было сил предаться грусти, которую я считаю оправданной и тогда, когда она кажется чуть отодвинутой вдаль, что дает мне надежду на лучший сон» (04.10.1911, стр. 44). Небогатый улов, верно, но хоть что-то. Францу не всегда удавалось совершить этот удивительный акт воления, он сваливается, как подкошенный, пытаясь встать с постели. Но случаются и удачи; комбинация бесчувственности с прогулкой и чтением Диккенса доводят до такого упадка сил, что все персональные психические состояния (грусть в данном случае), пусть даже и «оправданные» (что значит «причинно обусловленные», являющиеся следствием несвободы, отсутствия покоя и разума), кажутся чуть отодвинутыми вдаль. Значит, победа возможна, неокончательная, тактическая, локальная, изменчивая, пусть, — это не важно. Она возможна.
Я открываю (мы открываем) дверь парадного и выхожу во тьму. Здесь было бы уместным еще одно пояснение. Тогда, лет десять назад, я жил на той же самой улице, что и сейчас, только в доме под номером на восемнадцать единиц меньше нынешнего. На самом деле расстояние между прежним моим обиталищем и нынешним можно измерить метрами, количество которых будет только чуть больше разницы между номерами домов. Однако это крошечное расстояние имеет большой психогеографический смысл; в условном 2002 году, выходя из парадного, ты оказывался напротив огромной австро-венгерской гимназии, справа улица уходила немного наверх и в темноту, а вот слева она тут же упиралась в откос, только не над рекой, а над находящимися довольно далеко внизу железнодорожными путями и — чуть правее — вокзалом. Вечером и ночью все это светилось замогильными голубыми светлячками (там, где разбегались рельсы) и мертвенным больничным люминесцентным светом (вокзал); изредка проходили поздние электрички и праздные локомотивы, пустые платформы наводили память на коллажи Макса Эрнста, во всем этом было что-то очень европейское, модернистское, индустриальное, типа цивилизация, что ли. Этот вид приглашал к путешествию; и действительно, стоило наутро прийти на вокзал, потратить довольно скромную сумму, как уже через несколько часов гуляешь и по Дрездену, и по Берлину, и по Мюнхену, и даже по Вене. Более наглядного символа бегства из Праги и придумать невозможно; думаю, Франц ходил сюда вечерами, смотрел на поезда, пыхающие под его длинными ногами дымом, и размышлял примерно вот такое: «Я никогда не смог бы жениться на девушке, с которой в течение целого года жил бы в одном городе» (запись в дневнике от 02.07.1913, стр. 174). То есть он думал о побеге, о прекрасных девушках в других городах, где нет его большой семьи, большого отца, большого круга знакомых, нет ничего, городах, где можно затеряться, быть чужим, даже оказавшись в одной чужой комнате с прекрасной молодой девушкой. Поезда гудели под его ногами, он вздыхал и шел домой, надеясь выдавить из себя пару страниц никому не нужной прозы: «Вернулся с прогулки, одиннадцать часов. Свежее, чем обычно. Почему?» (запись в дневнике от 10.02.1914, стр. 203). Я же домой не шел, прогуливался по аллее над вокзалом, смотрел на пути, на электрички, на мертвые пустые платформы, на город, что простирался подо мной, узнавал башни церквей, добытые из темноты подсветкой, а там, еще дальше, на горе, выхваченный такими же люминесцентными прожекторами, стоял замок, не тот, что мы представляем себе по иллюстрациям к сказкам братьев Гримм или сочинениям Вальтера Скотта, а такой, как описан в одноименном романе: «Весь Замок, каким он виделся издалека, вполне соответствовал ожиданиям К. Это была и не старинная рыцарская крепость, и не роскошный новый дворец, а целый ряд строений, тесно прижавшихся друг к другу низких зданий, и, если не знать, что это Замок, можно было принять его за городок. К. увидел только одну башню, то ли над жилым помещением, то ли над церковью — разобрать было нельзя» [6] . Как практически во всех случаях, когда нечто увиденное тобою вызывает в памяти прочитанное, поражая почти идеальным совпадением литературного образа и визуального, пражский Град только относительно похож на Замок. То есть передо мной было (и есть, пока я живу в этом городе, в этом районе, пока не ослеп и могу передвигаться на своих двоих) абсолютное воплощение принципа Замка: не крепость, не готические зубчатые башенки над высокими серыми стенами, а группка гражданских строений на горе, увенчанная одним-единственным шпилем собора Святого Вита, никаких стен, укреплений, донжонов и барбаканов. Символ власти государственной, настолько мощной и всепроникающей, что ей незачем даже заморачиваться фортификацией и прочими милитаристскими штучками. Кафка был прав: Закон сильнее любого оружия, его власть всепроникающа, в отличие от полиции и армии в их бессмысленных мундирах и эполетах.
Вот туда я и гулял в те годы, в начале нулевых, где-то между 9/11 и Бесланом — под Замок, в Деревню, так сказать. Центр Праги (туристический центр, конечно) лежит внизу — и под моим районом, и, если брать уже другую сторону реки, под Градом. Туда приходилось спускаться из тихого буржуазного спалища на месте бывших виноградников, перейти проспект у «Кодака», пробежать ужасным вонючим зассанным тоннелем, тогда еще не ополовиненным вдоль еще более вонючим фастфудом, дальше, между хранилищем доистории этой земли и памятником недоистории сорокалетней примерно давности, на площадь, которая вовсе и не площадь, а бульвар, а по нему ходят теперь уже не трамваи, а проститутки, дилеры, джанки и туристы, потом пересечь линию когдатошнего рва (справа готическая башня городских укреплений) и углубиться в старый город, где в те годы бродили несколько зловещие, потрепанные в боях за разврат пятидесятилетние немецкие и австрийские парочки, явно в поисках стремных у себя на родине удовольствий (купить на ночь мальчика? девочку? расположиться на отельной кровати втроем? вчетвером?) и стайки пияных британских лосей, прибывших с кратким алкогольным визитом в страну Дворжака и Гавела. Старый Город тогда еще нес на себе знаки недавней советской запущенности, а то, что было вылизано чистеньким языком внезапно нагрянувшего капитализма, казалось столь безупречно веселым и беззаботным, что я чувствовал себя как Незнайка на Луне, — до того, конечно, как учтивые официанты потребовали с него денег за прекрасную трапезу. Комбинация старого запустения, буржуазной лакировки, ошалевших от дешевого пива туристов и мрачных автохтонов, так и не поверивших в счастье выпасть из истории еще раз, на этот раз на прочном основании недавних заслуг перед ней, так что теперь, казалось бы, можно спокойно торговать материальными остатками многочисленных оккупаций своей страны; все это парализовало всяческую волю, оставляя открытыми только глаза. Не наглядеться на это фрик-шоу было, не нарадоваться его барочной бессмысленности.
Только вот упражнением в чужести, в покое и разуме все вышеописанное назвать сложновато — хотя об ту пору это казалось именно так. Обилие людей вокруг настраивало на романтический лад, будто Бодлера с Верхарном начитался, бродишь себе белокурой бестией из толпы, вильямом вильсоном нового тысячелетия, от чего даже образуется некий временный образ мысли, логика восприятия и, я бы даже сказал, «подсадное Я», на манер тех уточек и селезней, что держат в своих сарайках хитроумные охотники на дичь. «Подсадное Я» принимается реагировать, мыслить, выдавать сентенции для сугубо внутреннего употребления — какой же тогда «покой»? Где же тогда «разум», который, по словам Пруста (в пересказе А. Пятигорского), есть один для всех, «разум, на который мы все направляем взгляд, каждый из своего тела, — как в театре, где каждый зритель смотрит из своего места на сцену, одну для всех»? Во время тех прогулок десятилетней давности взгляд мой — точнее, взгляд «подсадного Я», рассеянный и жадный одновременно взгляд самозваного фланера — все время наводил фокус на город, на людей, на отчего-то непристойную гамму цветов ночного освещения; все это приковывало внимание и даже порождало быстрые пустые мысли; а там, где мысли, нет места ни покою, ни разуму. Так я и бродил, между площадью с апостольской пантомимой вокруг часов и старым еврейским кладбищем, куда можно заглянуть через решетку и насладиться совершенно марсианским ландшафтом, между глухим, слишком живописным тупиком, упирающимся в готический монастырь, и грязноватой широкой (по местным меркам широкой) улицей, заканчивающейся огромной площадью, справа — ренессансная ратуша, из окон которой выбрасывали бюрократов, слева — легендарное обиталище самого знаменитого в Европе доктора, над тобой — иезуитские герои с самим Игнатием во главе, все оснащены верой, волей, знанием и пропеллером святости на затылке. Это и мешало наблюдать один на всех разум, сидя на галерке жизни: ратуши, монастыри, кладбища, святые, пропеллеры. Отвлекало сознание, не слишком твердое в своей уверенности бежать привычного, размягчало волю, разъедало броню отдельности. В общем, выходил такой культурный туризм, особого свойства, но туризм, вроде книг Брюса Чатвина или фильмов Гринуэя. При чем здесь Франц, спрашивается? Ни при чем.
Впрочем, кое-где мы с ним умудрялись пройти вместе хотя бы несколько метров. Скажем, здесь: «На Йозефплац мимо меня проехал дорожный автомобиль с тесно сидящей семьей. За автомобилем вместе с запахом бензина мне ударила в лицо воздушная волна из Парижа» (запись от 3.10.1911). Но здесь Франц не на высоте, здесь беллетристика, здесь воспоминание о недавней с Максом поездке в Париж, здесь рухлядь контекста, а не холодная сталь логики. И все же именно тогда я понял, что этот город прочитывается только через него, и никого больше. Остальные описывали Прагу как прекрасную декорацию, где происходят разнообразные истории; Кафка свел декорации к условному буржуазному городу с типическими улицами, экипажами, трамваями, мостами, домами, пивными, судами, лавками, борделями, реками, мостами, парками, иными словами — к нейтральному обобщенному театру, где мы глазеем на один на всех разум, разыгрывающий перед нами одно на всех представление. За барочными излишествами и имперским многоязычием Праги он узрел скелет, как буддийский монах, встретившись на дороге с девушкой, прозревает за прекрасной плотью ее лица череп, а за черепом — Ничто. Дойдя до крайней точки этого размышления, можно спокойно приниматься за подробное описание чудовищной, а-гуманной логики, на которой построены сочинения Кафки. С первых же страниц одной из его книг нам говорят, что Йозеф К. оклеветан, что он не сделал ничего дурного (легкомысленное предположение, не правда ли?), что он попал под арест, что он обречен (последнее не говорится, но и так очевидно, ибо здесь решение некоей безличной силы, описываемой только с помощью пассива «оклеветан / попал под арест / обречен»). Собственно, роман можно было бы кончать на этом месте, едва начав; так, собственно, обычный писатель и поступил бы, Майринк, к примеру, или Чапек, но Франц не обычный — и не «писатель», строго говоря. С тщательностью закоренелого законника он выстраивает логическую цепочку, ведущую от первого (и окончательного) утверждения до момента объявления приговора. Чем нелепее на первый взгляд инициальное утверждение Кафки, тем скрупулезнее и последовательнее прокладывается идущий от него логический ряд. Если преступник нарушил определенную статью закона, именно ее следует вырезать железной бороздой на его голой спине. Что может быть логичнее, что может быть дальше от какой-либо «фантазии» или «выдумки»? Главное — сделать первый шаг, совершить акт воли, вскочить с дивана, набросить куртку и выбежать в ненастную ночь, на мгновение сделать рутину, автоматизм небывшим, несуществующим, превратить коммивояжера в навозного жука и бесстрастно проследить, что из этого получится — с ним, с окружающими, с собой, наблюдающим. Ничего особенного, экзотического, никакого «магического реализма». Жук сдох, родные вздохнули с облегчением. Покой рассуждения дает нам возможность внимательно и без эмоций наблюдать, как работает разум. С тех пор я прекратил ночные прогулки в центр. А чуть позже переехал туда, где живу сейчас.
Из нынешнего моего дома ведут совсем иные пути в совсем иных направлениях. Выходить можно и направо и налево; прямо тоже можно, по идее, продвинуться, но вверх, по небольшому склону паркового холма, придерживаясь за ветки кустов. Но это для скаутов; мы — немолодые чужаки — спокойно двинемся по одному из обычных путей, безо всякого пыхтения и ободранных ладоней. Собственно, куда ни пойди, маршрут один — мой район вдоль, поперек, наискосок, вокруг. В нем все равно куда направиться — справа и слева будет одно и то же: либо большие доходные дома времен «бель эпок», либо большие дома времен местного извода конструктивизма и фашистской архитектуры, либо большие дома эпохи советской «нормализации». Это раньше мне казалось, что они не очень-то подходят друг другу: патриотические голожопые чешские нимфы на буржуазной эклектической застройке, сурьезные инженеры и крестьяне на крышах и фронтонах Первой республики, сирый, сиротский функционализм шестидесятых-семидесятых. Но сейчас я вижу, что все это хорошо, что все это одно и то же, что передо мной — условная «история», ставшая архитектурно правильно организованным «прошлым». Они идеально соответствуют друг другу, особенно в темноте, когда я здесь гуляю, эти, как сказали бы местные, «выследки» трех великих строительных эпох местного национализма. Сначала растущая чешская буржуазия решила поселиться отдельно от немцев и построила этот район для себя — и, чуть подальше и поплоше, для своих рабочих и служащих. Потом пришедшая к власти чешская буржуазия решила восполнить пробелы и возвела училища, ремеслухи, институты, суды и недостающие, по ее мнению, церкви. Наконец, невзрачным чешским коммунистам пришел черед расселить как следует гегемонических рабочих и примкнувших к ним служащих и интеллигентов. Еще несколько лет назад можно было пошло повздыхать, мол, как же так, рядом со столь прекрасными домами — серый невзрачный кирпич и панели, рядом с красочной историей — невзрачная современность (или совсем уже недавнее прошлое). Слава богу, сейчас заблуждение развеяно и ясность обретена. Историю стоит знать, чтобы в один прекрасный момент избавиться от нее.
Сейчас это все прошлое, нерасчленимое на до войны, между войнами, после войны, после шестьдесят восьмого и прочая. Все стало «городом», не важно, когда именно на этом месте в разверстом котловане копошились строители. Здесь все уже построено, и навсегда. Просто город, просто условная декорация; оттого совершенно никакого значения не имеет, в каком именно доме гнездится вьетнамская лавочка, на чьем первом этаже расположилась пивная или магазин, возле какой архитектурной эпохи кафе раскинуло свою летнюю террасу. Все стало одним — чужим городским районом, где тебе все абсолютно знакомо и столь же абсолютно далеко от тебя. Поздними вечерами я гуляю по артериям каменного Другого, развлекая себя тем, что могу угадать любую выставленную в витрине хозяйственного магазина кастрюлю, что увижу в своем кафе за углом все тех же самых официанток (одна изучает историю в университете и читает между разносом напитков толстенную книгу о Веймарской республике, другая ровно в одиннадцать скажет «привет» заглянувшему на огонек бойфренду и равнодушно подставит для поцелуя губы), что услышу одни и те же пияные вопли у ночного клуба с названием тихого французского города, что если поверну сюда, то вернусь к дому через двадцать минут, а если сюда — через тридцать пять. А в парке в летней пивной в это время показывают на экране футбол, рядом на лавочках курят траву и целуются. И самое замечательное — все это не имеет ко мне ровным счетом никакого отношения. Я лишь упражняюсь в автоматизме свободы.
Абсолютно пустой, я отгорожен от города скафандром чужести, в котором дышу холодком равнодушного интереса к окружающему. Запасы этого специального воздуха пополняются каждый раз, когда я вечером выскакиваю из дома, второпях, приготовившись было залечь на диван с книжкой или поделать отложенную давно работу. Акт воления наполняет скафандр атмосферой, нечто вроде эфира; освободившись от дома, от тела, от назойливых мыслей и раздражений, я хожу или сижу за стаканом и даю чужой жизни происходить вокруг меня. В состоянии покоя наблюдаю за представлением разума; мое место на галерке, меня не видно, меня нет. Никакого «подсадного Я», вообще никакого «я», только хищный глаз и сильные ноги, несущие по улицам. Главное — попасть в такт длинным шагам Франца, ведь он ходит быстро, молча, неутомимо. «Рассказ: вечерние прогулки. Изобретение быстрой ходьбы. Вступление в прекрасную темную комнату» (04.02.1912, стр. 137).
[1] Все цитаты из дневников Франца Кафки даются по изданию: Кафка Ф. Дневники. М., «Аграф», 1998. В дальнейшем тексте страницы указаны в тексте в скобках; цитата, взятая в качестве эпиграфа, — стр. 38.
[2] Из беседы с автором этого текста, опубликованной в 43-м номере журнала «Новое литературное обозрение» (2000). Цит. по: <; .
[3] Из личной переписки с автором.
[4] «Порыв», даже, пожалуй, «драйв» (от франц. «elan»).
[5] Прелюбодеяние, блуд (от англ. «fornication»). См. такжеигрусловвназванииальбома «Red Hot Chili Peppers» — «Californication» .
[6] Кафка Ф. Сочинения в трех томах. Т. 2. М., «Художественная литература»; Харьков, «Фолио», 1995, стр. 300.
: Empty data received from address
Empty data received from address [ url ].
Творить жизнь
Сурат Ирина Захаровна — исследователь русской поэзии, доктор филологических наук. Автор книг «Мандельштам и Пушкин» (2009), «Вчерашнее солнце. О Пушкине и пушкинистах» (2009). Постоянный автор «Нового мира».
В одном из ранних официальных откликов на смерть Льва Толстого, в газете «Правительственный вестник» от 9 ноября 1910 г., современники могли прочитать рассуждения о сходстве толстовского предсмертного побега, всколыхнувшего тогда всю Россию, да и мир, с мотивами одного из поздних стихотворений Пушкина: «События последних дней показали с большей или меньшей достоверностью, — утверждал автор газетной статьи, — что Толстой на закате своих дней сознал свою ошибку, почувствовал пустоту в своей душе, которой не могло заполнить все его причудливое учение, и испытал то чувство, которое испытывал Пушкин в последние годы своей жизни, когда писал своей жене:
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь, как раз умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег» [1] .
«Аналогия эта не нуждается в комментариях», — замечает по этому поводу автор фундаментальной, хоть и грубо тенденциозной советской книги об уходе и смерти Льва Толстого [2] , смыкаясь таким образом с той еще оценкой последнего толстовского поступка и всей его титанической духовной работы последних тридцати лет.
Между тем эта аналогия, внешне очевидная, как раз нуждается в самом вдумчивом комментарии. Первые вопросы лежат на поверхности: «обитель дальная трудов и чистых нег», в какую устремил свой побег герой пушкинского отрывка, — разве не похожа она на тот самый яснополянский рай, из которого с такой бесповоротной решимостью бежал яснополянский старец? Рукопись пушкинского незавершенного и неопубликованного при жизни стихотворения содержит и план его продолжения: «...поля, сад, крестьяне, книги: труды поэтические — семья, любовь, etc. — религия, смерть» [3] . Этот пушкинский идеал духовно богатой, уединенной, углубленной деревенской жизни, исполненной любви и трудов, правильной, хорошей жизни, в которой человек может наилучшим образом подготовиться к концу, так близок к тому образу жизни, какой сложился у Толстого в Ясной Поляне и какой он так тщательно оберегал и отстаивал от всех посягательств. Один рвется туда — другой бежит оттуда… И при этом причину своего ухода Толстой объясняет в письме к жене, уже с дороги, буквально пушкинскими словами: «Может быть, те месяцы, какие нам осталось жить, важнее всех прожитых годов, и надо прожить их хорошо» [4] . Что значит — «прожить хорошо»? Упоминает он там и о «покое», которого ищет и не может найти, хотя это как-то не согласуется со всем душевным обликом Толстого и с его жизненным кредо, сформулированным бескомпромиссно и страстно еще в 1857 г. в письме к родственнице А. А. Толстой и неизменном до конца дней: «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость. От этого-то дурная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя, что достижение его сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного, не человеческого, а оттуда » (т. 60, стр. 231). Перечитав это письмо через полвека с лишним, в марте 1910 г., то есть за несколько месяцев до ухода и смерти, Толстой записал в дневнике: «…Теперь ничего бы не сказал другого» (т. 58, стр. 23), так что «покой», о котором он мечтает в предчувствии близкого конца, вряд ли похож на тот пушкинский вожделенный «покой», что в сочетании с «чистыми негами» обретает оттенок столь ненавистного Толстому душевного комфорта. И — главный вопрос: вопреки «причудливому учению» или во исполнение его совершил Толстой свой отчаянный побег из родового гнезда в непогожий предрассветный час 28 октября 1910 г.? Обозреватель правительственной газеты тут не ведает сомнений, как не ведает их и официозный литературовед советских времен, но оба они при этом нащупали некоторую пульсирующую точку, проблемный узел, в котором связались далековатые на первый взгляд сюжеты нескольких пушкинских произведений последних лет, сюжеты ряда разножанровых произведений Толстого на тему ухода, созданных в течение четверти века, —и сам знаменитый его уход .
У Пушкина сюжет ухода намечен пунктиром и остался в тени. У Толстого, тщательно разработанный, он пророс в судьбу, в мощнейший итоговый поступок, что-то поменявший, сдвинувший в русском сознании, так что в разговоре на эту литературно-сюжетную тему нам никак не удастся остаться в рамках литературы — за эти рамки тему вывел сам Толстой.
Пушкинское «Пора, мой друг, пора!..» традиционно связывают с созревшим у поэта к лету 1834 года решением уйти в отставку и переехать с семьей в деревню. «Туда бы от жизни удрал, улизнул!» — пишет он жене в Полотняный Завод 27 июня 1834 г. [5] , и как тут не вспомнить словцо, которое так часто повторял Толстой вплоть до последнего дня на смертном одре: «Надо удирать, надо удирать куда-нибудь…» [6] . Но не будем увлекаться внешними перекличками — гораздо важнее понять, какой глубинный импульс вдруг выталкивает человека (автора или его героя) из привычной жизненной колеи и гонит его в «обитель дальную» или, как Толстого, — в полную неизвестность.
У Пушкина этот импульс развернут в стихотворении «Странник» (1835). Внутренняя пружина этого стихотворения та же — мысль о возможности внезапной скорой смерти, но если в «Пора, мой друг, пора!..» эта мысль порождает медитацию (оставшуюся в прозаическом плане) на традиционную поэтическую тему деревенского уединения, то в сюжете «Странника» откровение о близкой смерти разражается настоящей катастрофой.
«Странник» представляет собой переложение начала прозаической повести английского писателя Джона Беньяна (John Bunyan, 1628 — 1688) «Путь паломника» («The Pilgrim’s Progress»), в которой аллегорически запечатлен жизненный путь христианина, каким он виделся протестантскому писателю-миссионеру. При создании «Странника» Пушкин опирался одновременно на английский оригинал и на несовершенный, устаревший русский перевод, бывший в его библиотеке [7] ; из большого сюжета Беньяна он высветил лишь исходный момент прозрения героя и его побег из дома, при этом рядом простых художественных решений переключил сюжет Беньяна в свой лирический регистр, упростил его и очистил от лишних подробностей. У Беньяна повествование ведется от третьего лица и действие происходит во сне — у Пушкина все случается наяву, рассказ ведется от лица лирического Я, и к нему добавлены некоторые выразительные сравнения («Как раб, замысливший отчаянный побег» [8] , «Как от бельма врачом избавленный слепец»), так что из зачина аллегорической повести получается прямое лирическое высказывание. Пророчество о близкой гибели заставляет пушкинского героя покинуть внезапно родной дом, оставив жену и детей. Родные подозревают его в расстройстве рассудка, пытаются остановить — но тщетно. «Уныньем изнывая», он встречает «юношу, читающего книгу», признается ему в своих страхах («к суду я не готов, / И смерть меня страшит») и по его совету пускается в путь.
В статье 1962 года [9] Д. Д. Благой ввел «Странника» в контекст толстовского ухода — он соположил сюжет и основные мотивы пушкинского стихотворения с толстовским жизненным сюжетом и с мотивами его «Записок сумасшедшего», важнейшего текста-самосвидетельства, в котором точка внутреннего перелома в человеке зафиксирована с той прямотой, что вступает уже в некоторый конфликт с художественностью. Забегая несколько вперед, можно уже сформулировать, что эта интересующая нас толстовская тема со всеми ее ответвлениями горячо автобиографична и вместе с тем универсальна. Толстому важно было выявить в теме духовного пробуждения и ухода ее общечеловеческий характер, и в этом направлении он много лет работал, стремясь осмыслить и представить происходящие с ним внутренние события как всечеловечески значимые. Отсюда и такая беспредельная открытость, такая полная готовность обнажить свою внутреннюю жизнь до дна, излить и проанализировать ее не только в художественных сюжетах, но и в дневниках, с тем чтобы их потом читали люди. Работая над своей душой, Толстой сознательно работал на все человечество — а в меньшем масштабе он никогда и не мыслил. Так вот именно в этом своем качестве универсальности тема пробуждения, духовного рождения и ухода у Толстого смыкается с той же универсальной темой у Пушкина.
«Записки сумасшедшего» (вначале — «Записки не сумасшедшего») Толстой задумал в 1884 г., когда заново, на очередном витке развития, переживал то, что было некогда им пережито и что он оценивал как второе рождение. «Записки…» остались незавершенными, при этом они, как писал Лев Шестов, «в некотором смысле могут считаться ключом к творчеству Толстого» [10] . Следуя внешне образцу гоголевских «Записок сумасшедшего», Толстой переносит в эту готовую форму свой давний опыт, свой «арзамасский ужас», испытанный в начале сентября 1869 г. на пути в Пензенскую губернию, куда он отправился с хозяйственной целью — прикупить выгодно продающееся имение. Из письма жене от 4 сентября 1869 г., из Саранска: «Что с тобой и детьми? Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай Бог испытать» (т. 83, стр. 167 — 168).
В «Записках сумасшедшего», по прошествии 15 лет, читаем: «Именье с большими лесами продавалось в Пензенской губернии. <..> Я собрался и поехал. <…> Наступила ночь, мы всё ехали. Стали дремать. Я задремал, но вдруг проснулся. Мне стало чего-то страшно. <…> „Зачем я еду? Куда я еду?” — пришло мне вдруг в голову. <…> Вдруг представилось, что мне не нужно ни за чем в эту даль ехать, что я умру тут в чужом месте. И мне стало жутко. <…> Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал. Куда я везу себя. От чего, куда я убегаю? — Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я, вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. <…> „Да что это за глупость, — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь”. — „Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут”. Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь и не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. <…> Я чувствовал, что что-то новое осело мне на душу и отравило всю прежнюю жизнь» (т. 26, стр. 468 — 470).
В приведенном письме к жене Толстой краток и состояние свое передает одной фразой: «Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал». В «Записках сумасшедшего» то же состояние описывается подробно, с нарочитой эскалацией и детализацией ужаса, с бесконечным повтором одних и тех слов (страшно, жутко, ужасно, тоска, мучительно) — Толстой всей силой тянет читателя в бездну, в омут болезненных ощущений, принуждая вместе с ним искать выход. К чему Толстой приобщает нас таким образом — почти насильственно? К пережитому им минутному болезненному состоянию — или к тем вопросам, без которых немыслима жизнь?
«Записки сумасшедшего» дали богатый материал для психоаналитических упражнений еще в начале прошлого века — один из пионеров русского психоанализа Н. Е. Осипов опубликовал в 1913 г. статью «„Записки сумасшедшего”, незаконченное произведение Л. Н. Толстого (к вопросу об эмоции боязни)», в которой уложил духовный кризис героя «Записок…» во фрейдистскую терминологию — увидев в них отражение «психоневроза великого человека», Осипов квалифицировал переживание героя как «истерию страха» (Angsthysterie), предопределенную детской психической травмой и осложненной еще и истерическим бредом (Wunschdelirium) [11] . И хотя Осипов признает и за больными, в данном случае — за Толстым, право на «вдохновенное искание правды, искание справедливости, искание Бога», но поставленный им жесткий диагноз обесценивает эти «искания», перечеркивает их смысл, ставит под сомнение внутреннюю борьбу, заполнившую последнее тридцатилетие толстовской жизни.
Когда, вослед за Осиповым, современные толкователи жизненного пути Толстого называют пережитый им «арзамасский ужас» «просто нервным срывом» или «панической атакой» [12] , они не учитывают простого обстоятельства: и нервный срыв, и паническая атака — состояния временные, они, как правило, быстро проходят, и человек, их переживший, возвращается к прежней, нормальной жизни. Но то, что случилось с Толстым в 1869 г. в Арзамасе и впоследствии было отражено в «Записках сумасшедшего», не прошло никогда — это событие разломило жизнь Толстого и его героя на две части, на две половины: до и после. В «Записках сумасшедшего» речь идет не о состоянии, а о совершенно новом отношении к жизни, с каким герой уже не может расстаться, как не может и герой пушкинского «Странника» расстаться с новым для него ощущением жизни — перемена, происшедшая в нем, радикальна и решение о побеге бесповоротно. Состояние Странника Пушкин описывает от первого лица с несвойственным ему нажимом, повторяя и нагнетая слова того же эмоционального поля, что и Толстой, — скорбию, тяжким бременем, в тоске, муки, горько, сетуя, уныние, скорбь, горе, тоской и ужасом, мучительное, унынием тесним, уныньем изнывая . Откровение смерти, данное Страннику и герою «Записок сумасшедшего», не само по себе страшит их, но ставит перед ними главные вопросы, без ответа на которые невозможно дальше продвигаться по жизни: «Что буду делать я? что станется со мной?» («Странник») — «Зачем я сюда заехал. Куда я везу себя. От чего, куда я убегаю?» («Записки сумасшедшего»).
Пушкинский Странник ради спасения души рвет все жизненные связи, бросает дом, родных, привычную жизнь и устремляется в неизвестность. Толстовские аналогии здесь очевидны. Д. Д. Благой, обративший на это внимание и раскрывший некоторые параллели, говорит о влиянии пушкинского стихотворения и «Пути паломника» Беньяна на Толстого, и в первую очередь — на его «Записки сумасшедшего». Да, Толстой, несомненно, знал и стихи Пушкина, и книгу Беньяна (что засвидетельствовано записью Д. П. Маковицкого от 22 декабря 1904 г. [13] ), но в его произведения и в жизнь сюжет ухода попадает явно не из книг. Сюжет ухода вырастает и развивается из главной толстовской темы, из главного для него и для его героев вопрошания: ЗАЧЕМ?
Задолго до «Записок сумасшедшего» и других поздних произведений, за несколько лет до «арзамасского ужаса» 1869 г. Толстой пишет первые главы второго тома «Войны и мира», в которых рассказывается о переломе в жизни Пьера Безухова. Расставшись с женой, Пьер едет в Петербург и по дороге останавливается на станции в Торжке в ожидании лошадей. Внешние обстоятельства и суть этого романного эпизода как будто предрекают то, что случится потом с самим автором во время вынужденного ночлега в Арзамасе, — с этим взаимопроникновением литературы и жизни мы то и дело встречаемся при рассмотрении сюжета ухода у Толстого. Как справедливо сказано С. Г. Бочаровым, тут «личное порождает литературное», а «литературное готовит последнее личное» [14] , жизненные и литературные сюжеты сливаются в единый многофазовый сюжет, растянувшийся на несколько десятилетий и завершившийся на станции Астапово 7 ноября 1910 г.
Пьер на станции в Торжке: «О чем бы он ни начинал думать, он возвращался к одним и тем же вопросам, которых он не мог разрешить и не мог перестать задавать себе. Как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. <…> „Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?” — спрашивал он себя. И не было ответа ни на один из этих вопросов, кроме одного, не логического ответа, вовсе не на эти вопросы. Ответ этот был: „...умрешь — все кончится. Умрешь и все узнаешь, или перестанешь спрашивать”. Но и умереть было страшно» (т. 10, стр. 64 — 65).
Коллизия по сути та же, что и в пушкинском «Страннике», и в не написанных еще «Записках сумасшедшего»: мысль о смерти ставит перед человеком последние вопросы, неразрешимые в прежних условиях жизни. Он оказывается на перепутье, а по существу — во внутреннем тупике, из которого сам выйти не может. Случается то, что Толстой в «Исповеди» (1879 — 1882) называет «остановкой жизни» (т. 23, стр. 10, 11, 46), случается это в движении, на пути — в Торжке, в Арзамасе или, как у Пушкина, во время странствования «среди долины дикой».
Еще первый исследователь «Странника» А. Габричевский отметил, что Пушкин сохраняет дантовскую аллюзию в начале повести Беньяна [15] ; развивая это наблюдение, А. Долинин показал, что Пушкин идет дальше и сознательно приближает начало «Странника» к началу «Ада» Данте [16] : «Однажды странствуя среди долины дикой…» — «Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura / chе la diritta via era smarrita./ Ahi quanto a dir qual era e cosa dura / esta selva selvaggia e aspra e forte / che nel pensier rinova la paura!» — в переводе М. Лозинского это звучит так: «Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу, / Утратив правый путь во тьме долины. / Каков он был, о, как произнесу, / Тот дикий лес, дремучий и грозящий, / Чей давний ужас в памяти несу!» Отсылки к Данте у Пушкина и у Беньяна говорят об одном: оба художника мыслили своих героев и случившиеся с ними потрясения как проявление общих законов развития личности, неких путей, которыми суждено пройти каждому человеку. У Беньяна этот иносказательно-обобщающий пафос очевиден и лежит в основе замысла, у Пушкина такого пафоса нет, но характер его лиризма вообще таков, что самое интимное в его устах обретает черты всеобщего, универсального опыта, — это природное свойство лирики гением Пушкина возводится в абсолют. Для Толстого же с его проповеднической страстью более чем характерно было придавать своему опыту и опыту героев нарочито учительное значение, и так он строил и описывал свою жизнь, чтобы все могли извлечь из нее общеполезный жизнестроительный смысл, — в связи с этим интересна его дневниковая запись от 23 марта 1894 г.: «Художественное произведение есть то, которое заражает людей, приводит их всех к одному настроению. Нет равного по силе воздействия и по подчинению всех людей к одному и тому же настроению, как дело жизни и, под конец, целая жизнь человеческая. Если бы столько людей понимали все значение и всю силу этого художественного произведения своей жизни! Если бы только они так же заботливо лелеяли ее, прилагали все силы на то, чтобы не испортить его чем-нибудь и произвести его во всей возможной красоте. А то мы лелеем отражение жизни, а самой жизнью пренебрегаем. А хотим ли мы, или не хотим того, она есть художественное произведение, потому что действует на других людей, созерцается ими» (т. 52, стр. 113).
И вот, создавая для людей «художественное произведение своей жизни», Толстой и «остановку жизни», пережитую и не раз описанную им, проповедовал как необходимую для всех. В статье «Неделание» 1893 г. он писал: «Для того же, чтобы могла произойти перемена мысли, человеку необходимо остановиться и обратить внимание на то, что ему нужно понять»; «Всем некогда, некогда очнуться, опомниться, оглянуться на себя и на мир и спросить себя: что я делаю? зачем?»; «Для того, чтобы люди могли так любить друг друга, нужно, чтобы изменилось их жизнепонимание. Для того, чтобы изменилось их жизнепонимание, нужно, чтобы они опомнились; а чтобы они могли опомниться, им нужно прежде всего остановиться хоть на время в той горячечной деятельности во имя дел, требуемых языческим пониманием жизни, которой они предаются; нужно хоть на время освободиться от того, что индейцы называют „сансара”, от той суеты жизни, которая более всего другого мешает людям понять смысл их существования» (т. 29, стр. 197, 199, 200). «Остановка жизни» — лишь первый момент на пути ко всеобщей любви, она мучительна, она переживается как тяжелая болезнь, но с нее, собственно, и должен начинаться для каждого настоящий «путь жизни» (напомним — так называется итоговая книга Толстого).
У самого Толстого решающая, переломная «остановка жизни» пришлась ровно на ее середину — арзамасское потрясение случилось с ним в 41 год. Ставя этот жизненный факт в один ряд с произведениями Пушкина и Беньяна с их дантовским зачином, нельзя не обратить внимание на то, что «остановка жизни», описанная в первой песни «Ада» Данте, приходится ровно на середину жизни: «Земную жизнь пройдя до половины…» — в комментариях к этому стиху обычно указывают, что Данте имел в виду 35 лет, что именно этот возраст он считал вершиной жизненной дуги, но говорил он не о собственном возрасте, а о середине «нашей жизни» («di nostra vita»), жизни человека вообще. Пушкинско-толстовский сюжет духовного пробуждения, а с ним и сюжет ухода, оказывается подключен множеством связей, совпадений, случайных или неслучайных, к большой европейской традиции. Толстой в своих обобщениях исходил из личного опыта, а не из чужих сочинений, но опыт этот, претворенный им в литературные сюжеты или изложенный непосредственно в исповедальных текстах, смыкается с тем, что уже было в литературе.
Пьер в Торжке доходит до дна, до предела отчаяния: «Все в нем самом и вокруг него представлялось ему запутанным, бессмысленным и отвратительным» (т. 10, стр. 66) — и тут же, на станции, на перепутье, происходит его встреча с масоном Баздеевым, читающим книгу, «которая показалась Пьеру духовною» (т. 10, стр. 67), и тут же заходит между ними разговор о поиске истины, об очищении внутреннего человека в себе, о необходимом для этого уединении, и возникает тема света, которая потом, во время ритуального посвящения Пьера в масоны, оборачивается бутафорией («…ты видел малый свет» — т. 10, стр. 80). «Но что же мне делать?» — спрашивает Пьер Баздеева, а тот сравнивает его со слепцом или человеком, закрывшим глаза (т. 10, стр. 69). Этим мотивам находятся соответствия в «Страннике»: «Что буду делать я?» — восклицает Странник, затем встречает «юношу, читающего книгу», и тот побуждает его к бегству, указывая путь к свету, а Странник сравнивает сам себя с прозревшим слепцом, видит свет («Я вижу некий свет») и пускается в путь. Вряд ли Толстой, работая над этой главой «Войны и мира», помнил о «Страннике», вряд ли соотносил сознательно свой сюжет с пушкинским — речь может идти о совпадении опыта и представлений о путях человеческой жизни.
Архетипическое зерно этого сюжета определяет и параллели между «Записками сумасшедшего» и началом повести Беньяна (как будто поверх «Странника»), и параллели между «Странником» и первой песнью «Ада» — не только первым ее стихом, но и самим сюжетом встречи автора в момент «остановки жизни» с тенью Вергилия, указующей ему путь к свету врат Петровых. А в «Исповеди» рассказ об «остановке жизни» сопровождается образом лесной чащи — ровно так, как в первых терцинах «Ада»: «В поисках за ответами на вопрос жизни я испытал совершенно то же чувство, которое испытывает заблудившийся в лесу человек. Вышел на поляну, влез на дерево и увидал ясно беспредельные пространства, но увидал, что дома там нет и не может быть; пошел в чащу, во мрак, и увидал мрак, и тоже нет и нет дома» (т. 23, стр. 21). Все эти произведения в художественном, в жанрово-стилистическом отношении не имеют между собой ничего общего — их объединяет лишь всечеловечески важная тема, воплощенная в символических и отчасти совпадающих образах и сюжетных звеньях.
В «Исповеди» Толстой, не упоминая конкретно об «арзамасском ужасе», рассказал напрямую не про одну, а про многие «остановки жизни», случавшиеся с ним на протяжении нескольких лет: «…на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. <…> Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? <…> Я понял, что это — не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них. <…> Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю — зачем, я не могу ничего делать» (т. 23, стр. 10, 11).
Вопрос «зачем?», сопровождавший Толстого всю вторую половину жизни, порожден мыслью о смерти: «„Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?” Еще иначе выразить вопрос можно так: „Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?”» («Исповедь» — т. 23, стр. 16 — 17). Ввиду смерти жизнь обессмысливается — в этой точке и происходит «остановка жизни», тут и начинается внутренний путь толстовских героев к смыслу, а в ряде его произведений с этой точки начинается уход, побег, разрыв с прошлым. Так или иначе, в основе темы ухода лежит насущная потребность принять или преодолеть, то есть так или иначе понять, смерть.
Одновременно с «Записками сумасшедшего» Толстой начал весной 1884 г. работу над повестью «Смерть Ивана Ильича» — дневниковая запись от 27 апреля говорит о параллельности этих замыслов: «Хочу начать и кончить новое. Либо смерть судьи, либо записки несумашедшего» (т. 49, стр. 87). В двух этих произведениях можно видеть два разных захода к теме смерти — смысловое ядро у них общее. «Остановка жизни» у героя повести происходит тогда, когда он осознает, что обречен и находится на пороге смерти, и вопрос «зачем?» встает перед Иваном Ильичем не в плане философском, а непосредственно, императивно, и требует срочного разрешения. «Остановка жизни» состоит в том, что реальная близость смерти обессмысливает прошлое и настоящее и вообще все происшедшее и происходящее с героем: «„Но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать”, — говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. <…> „Нет объяснения! Мучение, смерть… Зачем?”» (т. 26, стр. 109).
Финал «Смерти Ивана Ильича» кажется не слишком убедительным. Герой, испытав жалость к сыну и жене, находит смысл в своих страданиях и освобождается от страха смерти: «Вместо смерти был свет» (т. 26, стр. 113). Он принимает смерть и тут же умирает, но все вопросы, поставленные в повести, остаются неснятыми, потому что касаются не столько самой смерти, сколько жизни в виду смерти. Духовные скитания Пьера Безухова в «Войне и мире» тоже заканчиваются тем, что главный «вопрос жизни» оказывается решенным: «Прежде разрушавший все его умственные постройки, страшный вопрос: зачем? теперь для него не существовал. Теперь на этот вопрос — зачем? в душе его всегда готов был простой ответ: затем, что есть Бог; тот Бог, без воли которого не спадет волос с головы человека» (т. 12, стр. 206). Находя для своих героев в разные годы то или иное решение «вопроса жизни», Толстой сам так и не смог ни на чем успокоиться; прожив большую часть жизни в доме, где родился, он по духу всегда оставался странником. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь» (т. 62, стр. 130) — эта фраза из его письма А. А. Толстой в декабре 1874 г. помогает понять нечто едва ли не главное в Толстом. Были в его жизни моменты, когда он как будто останавливался, обретал опору, но вскоре отбрасывал ее и двигался дальше в неизвестность, и это духовное странствие так никогда и не кончилось. Символическое воплощение этого свойства можно увидеть в знаменитом толстовском посохе с раскладной ручкой-бабочкой (он и сегодня стоит в его комнатке в яснополянском доме) — во время длительных прогулок посох на несколько минут превращался в табурет, чтобы тут же снова превратиться в посох странника. Именно этот посох и подвел Толстого на его последнем пути — как рассказал Д. П. Маковицкий, он «просидел на палочке три четверти часа (роковых три четверти часа!)» [17] на площадке вагона третьего класса, на ветру, отчего простудился, заболел и уже не смог продолжать свой путь. Странническая натура Толстого запечатлена, в частности, на той известной его фотографии, где он пойман на пути из Москвы в Ясную Поляну, с палкой и мешком за плечами, — Толстой идет вперед, лишь на миг обернувшись и оставляя нам прощальный взгляд. Однажды посетивший Толстого в Ясной Поляне В. В. Розанов увидел и позже описал толстовскую отчужденность от дома, от окружавших его ненужных вещей, он сравнил Толстого с арабским бегуном в пустыне — «а за спиной его было 76 лет» [18] .
В «Войне и мире» Толстой наделяет княжну Марью тайной страннической мечтой: «Оставить семью, родину, все заботы о мирских благах для того, чтобы, не прилепляясь ни к чему, ходить в посконном рубище, под чужим именем с места на место…» Княжна Марья «припасла себе полное одеяние странницы», «она была несколько раз готова бросить всё и бежать из дому <…> направляя свое странствие без зависти, без любви человеческой, без желаний, от угодников к угодникам, и в конце концов туда, где нет ни печали, ни воздыхания, а вечная радость и блаженство» (т. 10, стр. 236 — 237). Эта мечта описана с большим пониманием и сочувствием, но и с недоверием, конечно, — потому что противопоставлена «любви человеческой» и сопряжена при этом с «радостью и блаженством». Для самого Толстого его духовное странничество было вовсе не блаженством, а цепью нескончаемых мучительных усилий по поиску смысла — это было, как выразился В. Г. Короленко, «трагическое пилигримство неугомонной великой души» [19] .
Неустанная добыча смысла из всего происходящего стала главным делом Толстого, поглотившим его художественное призвание. Задачу извлечения смысла он императивно ставил перед каждым человеком и перед всем человечеством в целом — в дневнике 1910 г. под датой «10 мая» читаем: «Машины, чтобы делать что? Телеграфы/фоны, чтобы передавать что? Школы, университеты, академии, чтобы обучать чему? Собрания, чтобы обсуждать что? Книги, газеты, чтобы распространять сведения о чем? Железные дороги, чтобы ездить кому и куда? Собранные вместе и подчиненные одной власти миллионы людей для того, чтобы делать что? Больницы, врачи, аптеки для того, чтобы продолжать жизнь, а продолжать жизнь зачем?» (т. 58, стр. 48).
Изучив в разные годы различные философские системы и религиозные представления, Толстой многое из них вобрал в себя, но никогда не опирался на готовое знание в поисках смысла. И в отношении к смерти он не мог принять того, что предлагало и предлагает христианское или какое-либо другое традиционное учение. Герой «Записок сумасшедшего» знает готовый ответ на вопрос «зачем?» — знает, но отказывается от него: «Затем, чтобы жить в будущей жизни, отвечал я себе. Так зачем же эта неясность, это мученье? Не могу верить в будущую жизнь. Я верил, когда не всей душой спрашивал, а теперь не могу, не могу» (т. 26, стр. 472). А вот пушкинский Странник в будущей жизни не сомневается и пускается в побег, чтобы успеть подготовиться к Страшному суду («к суду я не готов»), чтобы успеть найти для себя «спасенья верный путь». У Пушкина все лаконично, а в соответствующем месте повести Беньяна подробно развернута альтернатива будущей жизни, открывшаяся герою: ад со всеми его атрибутами или вечная жизнь и Царствие Небесное. Для толстовских героев и для него самого такой перспективы нет, и они вынуждены разрешать мысль о смерти в рамках здешнего, земного существования.
В позднем дневнике Толстого (9 февраля 1908 г.) есть важная запись на эту тему: «Говорят о бессмертии души, о будущей жизни, что нужно знать про это для настоящей жизни. Какой вздор! Тебе дана возможность все увеличивающегося и увеличивающегося блага здесь, сейчас; чего же тебе еще надо? Только тот, кто не умеет и не хочет находить это благо, может толковать о будущей жизни. Да и что такое в самом деле то, что мы называем будущей жизнью? Понятие будущего относится ко времени. А время есть только условие сознания в этой жизни. Говорить о будущей жизни, когда кончается эта жизнь, это все равно, что говорить о том, какую форму примет кусок льда, когда он растает, перейдя в воду, и составные части его превратятся в пар.
Кроме того, какая мне и зачем жизнь в будущем, когда вся моя жизнь духовная — только в настоящем. Жизнь моя в том, что я люблю, а я люблю людей и Бога. И то и другое не уничтожается с моей смертью. Смерть есть только прекращение отделенности моего сознания» (т. 56, стр. 100 — 101).
Эта запись носит итоговый характер, насколько это вообще было возможно для Толстого, в ней сформулировано то, к чему он пришел к восьмидесяти годам в результате долгого и непрямого пути. Четвертью века раньше Толстой так не формулировал, и герой «Записок сумасшедшего» остается со своим неверием в будущую жизнь в неопределенности, в сомнении… Сам же Толстой весной того самого 1884 г., когда писались «Записки сумасшедшего» и «Смерть Ивана Ильича», в разгар семейного кризиса впервые уходит из Ясной Поляны, но с полдороги на Тулу возвращается с мыслью, что жена его вот-вот должна родить, что и происходит в ту же ночь.
Этот несостоявшийся уход можно истолковать как чисто семейную историю, как и последний уход Толстого из Ясной Поляны в 1910 г. можно объяснить «исключительно семейными обстоятельствами» [20] , доступными пониманию так называемого «широкого читателя». Можно также представить толстовские уходы как выражение «синдрома беглеца» [21] — в наше время победно шагающего бытового психоанализа в его общедоступном изводе такой модный взгляд на духовные проблемы великого человека приближает его к обывательскому сознанию, происходит своеобразная актуализация классика. Самого же Толстого, то есть его поздние религиозно-философские труды и дневники, приходится при таких подходах отложить в сторону. Если же взять на себя труд войти во внутреннюю жизнь Толстого и на ее фоне оценить его семейные обстоятельства последних десятилетий, то поражает прежде всего их вопиющее несоответствие [22] . Столь же резкое несоответствие, заметим, было и в жизни Пушкина — между теми внутренними событиями, породившими стихи каменноостровского цикла (1836 г.), и обстоятельствами внешними: унизительной зависимостью от двора, цензурными тяжбами, интригами Дантеса и Геккерна против его семьи. И Толстой и Пушкин в какой-то момент взрывают свои внешние обстоятельства мощными освобождающими поступками, и это обоих приводит к гибели.
Да, каждый раз, когда Толстой пытался уйти из Ясной Поляны (а таких попыток было несколько), этому предшествовало обострение семейных отношений — но обострение это всегда происходило на почве толстовских духовных проблем, которых Софья Андреевна не понимала и не хотела знать. Определяя суть семейного конфликта, Толстой написал ей в декабре 1885 г.: «Между нами идет борьба на смерть — Божье или не божье» (т. 83, стр. 547), именно тогда он готов был уехать от семьи «в Париж или в Америку», как писала тогда же сестре сама Софья Андреевна (т. 85, стр. 297). Импульс ухода из семьи коренится не в семейных неурядицах и минутных слабостях Толстого, а именно в этом настойчиво убеждает нас автор последней популярной книги на эту тему Павел Басинский, и не в «синдроме беглеца», а в тех глубинных и самых важных вопросах, которые с момента внутреннего перелома вели Толстого по «пути жизни». Путь этот осмыслен в его дневниках и книгах — его можно проследить, читая последовательно «Исповедь», «В чем моя вера» (1883), «О жизни» (1886 — 1887), «Царство Божие внутри вас…» (1890 — 1893) и другие книги, трактаты, статьи, художественные произведения Толстого, как раннего, так и позднего, послекризисного. Условно-итоговой приходится считать его последнюю книгу «Путь жизни» — она составлялась в течение всего 1910 г. и была завершена в октябре, перед окончательным уходом. В этих текстах сохранен огромный духовный опыт, но вместе с тем в дневниках и произведениях на тему ухода засвидетельствован мучительный разлад с близкими, с женой и сыновьями, которые остались там, куда Толстой не мог уже вернуться. Этот разлад как будто заранее описан Пушкиным в «Страннике» — с точностью почти визионерской: «Тут ближние мои, / Не доверяя мне, за должное почли / Прибегнуть к строгости. Они с ожесточеньем / Меня на правый путь и бранью и презреньем / Старались обратить». В этих нескольких стихах Пушкин, следуя, впрочем, Беньяну, обозначил вполне закономерную и понятную реакцию людей непроснувшихся на странное, непонятное для них поведение того, кто из мерного повседневного существования попадает в огонь вечных вопросов. Обрушение семейного Дома в такой ситуации неизбежно. Толстой переживал это обрушение очень болезненно и правоты за собой совсем не чувствовал — это отразилось, в частности, в незавершенной пьесе «И свет во тьме светит», над которой он работал в 1890 — 1900 гг. и в которой собрал всю свою «семейную» проблематику. Ее герой Николай Иванович Сарынцев порывается уйти из семьи, от жены, не принимающей его взглядов, — но ни правых, ни виноватых в этом конфликте нет.
Из диалогов героя с женой:
Марья Ивановна . <…> Ты христианин, ты хочешь делать добро, говоришь, что любишь людей, за что же ты казнишь ту женщину, которая отдала тебе всю свою жизнь?
Николай Иванович . Да чем же я казню? Я и люблю, но...
Марья Ивановна . Как же не казнишь, когда ты бросаешь меня, уходишь. Что же скажут все? Одно из двух: или я дурная женщина, или ты сумасшедший.
<…>
Николай Иванович . Ведь ты не хочешь понимать моей жизни, моей духовной жизни.
Марья Ивановна . Я хочу понимать, но не могу понять. Я вижу, что твое христианство сделало то, что ты возненавидел семью, меня. А для чего, не понимаю.
<…>
Марья Ивановна . Если ты уйдешь, я уйду с тобой. А если не с тобой, то уйду под тот поезд, на котором ты поедешь (т. 31, стр. 178, 180).
В пьесе нашли точное отражение многие детали семейной жизни Толстого, черты личности Софьи Андреевны, но и сомнения, не покидавшие Толстого вплоть до 28 октября 1910 г., также отразились в ней, особенно в ее открытом финале, где герой осознает разрушительное действие своей проповеди в судьбах близких людей:
Николай Иванович . …Неужели я заблуждаюсь, заблуждаюсь в том, что верю Тебе? Нет. Отец, помоги мне (т. 31, стр. 183).
На этом пьеса заканчивается — герой собирается уйти, сомневается, и с этим намерением и сомнением он оставлен. Сам Толстой собирался уйти и сомневался более четверти века — на этом фоне поражает бесповоротная решимость его последнего ухода 28 октября 1910 г., столь же бесповоротная, как и решимость пушкинского «Странника». Суть его сомнений сводится к тому, что бесхитростно сформулировала героиня пьесы Марья Ивановна и что многажды он говорил сам себе в дневниках: если победа над смертью возможна лишь на путях любви, то почему оказалось невозможно, при всех титанических усилиях действительно невозможно, «исполнять дело любви» (из дневниковой записи от 26 июня 1909 г. — т. 57, стр. 90) в кругу своей семьи! Настоящая трагедия ухода для самого Толстого состояла именно в этом. Желая только одного: «исполнять волю Бога», видя эту волю только в том, чтобы «человек увеличивал в себе любовь и проявлял ее в мире» («Путь жизни» — т. 45, стр. 95), Толстой исчерпал все возможности осуществить свой идеал в собственном доме — убедиться в этом может всякий, кто возьмет на себя труд прочитать его дневники.
Толстовский идеал семьи и дома и толстовский идеал любви не совместились, и Толстой покинул свой дом, в котором родился и прожил фактически всю жизнь, — покинул, чтобы продолжить «путь жизни». В пушкинской лирике последних лет тоже есть драматические напряжения между темами пути и дома: до 1829 — 1830-х гг. тема пути в ней преобладала и сопровождалась чувствами тоски, уныния, страха, затем она сменяется темой дома как символа духовных основ — и вдруг в 1835 г. эти темы противоречиво сталкиваются в двух почти синхронно написанных и текстуально связанных стихотворениях, в «Пора, мой друг, пора!..» и в «Страннике». Стихи близки темой побега в виду близкой смерти, но в главном они расходятся. Первое стихотворение обращено к спутнице жизни, с которой герой и мыслит свой побег в «обитель дальную трудов и чистых нег», а в черновом плане продолжения, как уже говорилось, есть и семья и любовь, и начинается оно со слов: «Юность не имеет нужды в at home , зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он домой » [23] . Герой «Странника», напротив, покидает дом, семью, «дабы скорей узреть, / Оставя те места, / Спасенья верный путь и тесные врата», заметим при этом, что о любви в «Страннике» не сказано ни слова. Альтернатива этих двух путей приготовления к смерти — это и есть по сути та альтернатива, которая мучила Толстого в течение десятилетий и вошла в сюжеты ряда его произведений. Сам он в конечном итоге пошел по пути Странника.
Бунин поразился одному «удивительному совпадению»: в книге «Мысли мудрых людей на каждый день», составленной Толстым в 1903 г., под датой «7 ноября» помещена цитата из Евангелия от Матфея: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их (Мф. VII, 13 — 14)» (т. 40, стр. 196), — так вот Бунин поразился тому, что цитата эта поставлена Толстым на дату будущей смерти [24] . Но ведь парафразой того же евангельского стиха кончается пушкинский «Странник». Толстой вряд ли помнил об этом или уж во всяком случае не имел этого в виду, и даты своей смерти он тоже не прозревал, но общность путей мысли фиксируется такими совпадениями независимо от авторской воли.
При этом велико и различие между внезапным порывом пушкинского героя, его импульсивным побегом — и выношенным, обдуманным, многажды отрепетированным в жизни и произведениях и глубоко мотивированным толстовским уходом , именно уходом , а не побегом или бегством , как настаивает современный автор [25] . И это не спор о словах — «квалификацию события <…> автор книги с вызовом изменил, заменил, но изменилась и вся картина события: оно раздробилось и измельчало» [26] . Оно измельчало до семейной тяжбы вокруг завещания и в таком виде было охотно воспринято сегодняшним массовым читателем как доказательство того, что великий человек если не «мал и мерзок, как мы», то уж во всяком случае слаб и непоследователен, как мы. «Это был поступок слабого больного старика, который мечтал об уходе 25 лет, но, пока были силы, не позволял себе этого, потому что считал это жестоким по отношению к жене. А вот когда сил уже не оставалось, а семейные противоречия достигли высшей точки кипения, он не увидел другого выхода ни для себя, ни для окружающих» (цитируемая глава и называется полемически: «Уход или бегство») [27] .
Но сам-то Толстой высказался в отношении силы и слабости ровно противоположным образом — за неделю до последнего ухода из Ясной Поляны, 21 октября 1910 г., он говорил своему единомышленнику М. П. Новикову: «Я от вас не скрывал, что я в этом доме киплю, как в аду, и всегда думал и желал уйти куда-нибудь в лес, в сторожку, на деревню к какому-нибудь бобылю, где мы помогали бы друг другу. Но Бог не давал мне силы порвать с семьей <…> моя слабость, может быть, грех, но для своего спокойствия я не мог заставить страдать других, хотя бы и семейных» [28] . А раньше, 17 февраля 1910 г., отвечая на письмо киевского студента Б. Манджоса, Толстой писал о своем уходе из семьи: «Сделать это можно и должно только тогда, когда это будет необходимо не для предполагаемых внешних целей, а для удовлетворения внутреннего требования духа, когда оставаться в прежнем положении станет так же нравственно невозможно, как физически невозможно не кашлять, когда нет дыхания. И к такому положению я близок и с каждым днем становлюсь ближе и ближе» (т. 81, стр. 104).
Не порыв отчаяния, а «внутреннее требование духа» гнало его из дому, заставляло много лет обдумывать уход и проживать его в различных художественных сюжетах. Это «внутреннее требование духа» было рождено откровением смерти и усиливалось по мере приближения к ней. Если у Пушкина «отчаянный побег» остался лишь поэтическим мотивом, то для Толстого его уход стал абсолютной неизбежностью и должен был в конце концов осуществиться. Толстой просто не мог не привести собственную жизнь в соответствие со своими представлениями — именно об этом он говорит жене в одном из своих писем об уходе 8 июля 1897 г.:
«Уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. <…> И я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать, — уйти, во-первых, потому, что мне, с моими увеличивающимися годами все тяжелее и тяжелее становится эта жизнь и все больше и больше хочется уединения, и, во-вторых, потому что дети выросли, влияние мое уж в доме не нужно, и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие.
Главное же то, что как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому, религиозному человеку хочется последние года своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, с своей совестью» (т. 84, стр. 288 — 289).
И через 13 лет, 28 октября 1910 г., он пишет в прощальном письме к жене по существу о том же самом: «Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни» (т. 84, стр. 404).
Слово «уединение», повторяющееся в этих письмах (а в одном из вариантов последнего письма сказано: «ухожу просто в уединение» — т. 84, стр. 405), имеет большой объем у Толстого — за этим словом стоит потребность уйти от «человеческого» к «божескому» если вспомнить название одного из поздних его рассказов, потребность «готовиться к смерти» и «хорошо умирать», о которой он говорил Маковицкому 17 октября 1910 г. [29] Можно вспомнить и слова из «Ответа Синоду» (1901): «Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть…» (т. 34, стр. 252) — или другие: «Чем уединеннее человек, тем слышнее ему всегда зовущий его голос Бога» — эту фразу Толстой поместил в «Круге чтения» рядом с тютчевским «Silentium» (т. 42, стр. 107), и она вполне разъясняет нам то самое «внутреннее требование духа» как нечто закономерное, свойственное «всякому религиозному старому человеку».
Для многих современников Толстого его поступок был ожидаем и оказался вполне понятен, и их суждения, высказанные по этому поводу непосредственно после толстовского ухода, как правило, соответствуют масштабу случившегося. Один из ярких примеров тому — реакция С. Н. Дурылина, отраженная в его записях: «„Уход” Толстого для нас был величайшим событием, — таким примерно, как если бы гора, настоящая гора, действительно двинулась куда-то по евангельскому слову. Ушел! Он ушел! <…> Куда? Конечно, в путь подвига, в путь труда и испытания. И неизвестно, куда. В народное море, на самое дно. К чему-то светлому-светлому. Ушел Он … Может быть, и Мы сможем сдвинуться с места и уйти от своих стихов, литературных интересов, маленьких кружков, где мы даром тратим молодость?.. И не только мы, но все-все, кто его читал, с ним спорил и его же обвинял, что вот, мол, проповедует одно, а сидит сиднем в той же Ясной с той же Софьей Андреевной, — может быть, и все тоже „уйдем” куда-то от лжи, пошлости, косной недвижности нашей общей жизни?»
А дальше Дурылин вспоминает и пушкинского «Странника»: «„Уход” Толстого предрешал и разрешал, казалось, вопрос об отношении религии к искусству. Если тот, кто обладал искусством „Войны и мира”, не мог ограничиться этим обладанием, а вот ночью, тайно „ушел” в неведомую даль — не за искусством же! — а как пушкинский „Странник”, навстречу божественному голосу, звавшему его неумолчно, — то к чему еще спорить о том, может ли искусство не нуждаться в религии и в силах ли художник обойтись без Бога?» [30] .
Сергею Дурылину Толстой был близок по духу, но и многие люди, отстоявшие дальше от Толстого, как именитые, так и безвестные, восприняли его уход сходным образом. Приведем отрывки из некоторых откликов и корреспонденций со страниц столичных и провинциальных газет: «Неурядицы семейной жизни если и играли какую-нибудь роль в этом желании великого старца отрешиться от жизни, в его стремлении к „затворничеству”, то совершенно второстепенную; главную же причину близкие люди видят в той огромной душевной работе, которая в последнее время в нем происходила»; «великий старец давно подумывал о возможности уйти подальше от житейских дрязг и волнений, „уединиться от мира” и провести остатки своих дней „наедине со своим Богом”»; «это уже не великий разум Толстого, это — великий дух, который уносит его в непостижимые сверхчеловеческие высоты в стремлении к совершенству»; «все, кто хорошо знали трагедию духа, переживаемую великим писателем вот уже в течение 13 лет, приняли эту весть как давно жданную»; «рано или поздно это должно было произойти»; «старый вождь нашел в себе силы смело завершить дело всей своей жизни: личным примером освятить свои заветы»; «всю свою жизнь Толстой искал единения с Богом, и, по-видимому, условия его домашней жизни препятствовали этому единению» [31] . Даже Лев Львович, сын Толстого, решительно не разделявший его идей, напечатал в «Новом времени» письмо с достаточно точным разъяснением причин ухода: «Я думаю, что Львом Николаевичем тут руководила исключительно религиозная идея: одиночество в Боге. Пусть мир меня осудит, пусть будет горе жены и детей, но я „должен” спасти душу до конца, уяснить себе мою сущность в последние дни моей жизни. Вот главная и единственная причина поступка, и никаких других тут нет и не может быть» [32] . Были и более выспренние отклики, в которых уход Толстого расценивался как залог «духовного перерождения» «народной души» и общего освобождения от «мелочных интересов» и «злобы сегодняшнего дня» [33] . Насколько же далека от этого оказалась большая часть юбилейной продукции 2010 г., апофеозом которого стала «развесистая клюква» фильма «Последнее воскресенье», продюсированного Андреем Кончаловским!
И этот широко разрекламированный и прошедший по всем мировым экранам китч, и книги, сосредоточенные на семейной истории, на тяжбе вокруг завещания, возвращают Толстого обратно в тот обывательский мир, который он с такой решимостью покинул, и тем уничтожается для нас само великое событие его ухода. Разбираться с духовными проблемами Толстого трудно, и так же трудно рассчитывать здесь на читательский успех. Гораздо больше понимания вызывает взгляд на Толстого сверху вниз, как на слабого больного старика с «синдромом беглеца», или, скажем, рассуждение о том, «не были ли семейные конфликты связаны с физическим охлаждением уже стареющего мужчины к своей, хотя и несравненно более молодой (разница шестнадцать лет), но тоже далеко не юной подруге?» [34] . Все это связано с духом нашего времени, отторгающего всякую значительность.
Но по существу не намного ближе к Толстому была и его жена Софья Андреевна — именно ее недоумения породили версию о толстовском безумии, тогда же укоренившуюся во многих умах и получившую сегодня новую популярность. 7 ноября 1879 г. Софья Андреевна писала сестре: «Левочка всё работает, как он выражается, но, увы! он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это чтобы доказать, как церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего. Я одного желаю, чтоб уж он поскорее это кончил и чтоб прошло это, как болезнь» [35] . Сходным образом воспринимались религиозные поиски Толстого и в писательских кругах; так, Достоевский с готовностью подхватил слухи о сумасшествии Толстого, распространившиеся в 1880 г. с легкой руки И. С. Тургенева и М. Н. Каткова, — в мае 1880 г. он писал жене: «Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел»; «о Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался» [36] . Сдвиг сознания проводит между людьми границу почти непроходимую, границу непонимания, так что человек, перешедший внутренне в иное измерение жизни, со стороны кажется безумным.
В 1885 г. Софья Андреевна уже прямо говорила о муже: «…вижу — человек сумасшедший» (т. 85, стр. 297), а в последние годы она шантажировала Толстого признанием его недееспособности в борьбе за наследство. К началу 1890-х годов слухи о сумасшествии Толстого распространились широко — об этом писали и говорили многие [37] . Тема безумия сопровождала Толстого до самой смерти, но зародилась она вместе с его религиозным пробуждением, так что и в этом отношении «Записки сумасшедшего» прямо автобиографичны и символичны — Лев Шестов писал даже, что «„Записки сумасшедшего” могут почитаться как бы суммарным заглавием ко всему, написанному Толстым после 50-ти лет» [38] . В семье Толстого с начала 1880-х годов его «сумасшествие» стало едва ли не главной темой, чрезвычайно для него болезненной, так что он снова и снова возвращался к этому вопросу в объяснениях с женой. Приведем выдержки из одного лишь письма Толстого к Софье Андреевне — от 15 — 18 декабря 1885 г.: «…я готов допустить, что то, чем я жил и живу, не истина, а только мое увлечение, что я помешался на том, что знаю истину и не могу перестать верить в нее и жить для нее, не могу излечиться от моего сумасшествия. Я готов допустить и это, и в этом случае остается для тебя то же положение: так как нельзя вырвать из меня того, чем я живу, и вернуть меня к прежнему, то как <прожить со мной наилучшим образом> уничтожить те страдания мои и ваши, происходящие от моего неизлечимого сумасшествия? Для этого, признавая мой взгляд истиной или сумасшествием (все равно), есть одно только средство: вникнуть в этот взгляд, рассмотреть, понять его»; «Ты поверила и своему чувству и общему мнению, что моя новая жизнь есть увлечение, род душевной болезни, и не вникла в смысл ее…»; «То же игнорированье меня <…> и тот взгляд на меня, как на доброго, не слишком вредного душевнобольного, с которым надо только не говорить про его пункт помешательства» (т. 83, стр. 542, 544, 545).
В «Записках сумасшедшего» эта тема сжата до нескольких коротких фраз: «Жена требовала, чтоб я лечился. Она говорила, что мои толки о вере, о Боге происходили от болезни. Я же знал, что моя слабость и болезнь происходили от неразрешенного вопроса во мне» (т. 26, стр. 472), и все это снова возвращает нас к пушкинскому «Страннику»: [39]
Мои домашние в смущение пришли
И здравый ум во мне расстроенным почли.
Но думали, что ночь и сна покой целебный
Охолодят во мне болезни жар враждебный.
............................................
И наконец они от крика утомились
И от меня, махнув рукою, отступились
Как от безумного, чья речь и дикий плач
Докучны и кому суровый нужен врач.
Пушкин переносит в свои стихи мотив повести Беньяна («At this his relations were sore amazed; <…> because they thought some frenzy distemper had got into his head»; «Родные его сильно тому поразились <…> им подумалось, что он не в своем уме»), но опять-таки речь не идет о заимствовании у Толстого из Пушкина или Беньяна — речь идет о типологическом сходстве ситуаций, о вечном «суде людском», направленном на того, кто, прозрев, вдруг начинает вести себя не как все. В толстовской пьесе «И свет во тьме светит» князь Борис Черемшанов, отказавшийся от присяги и воинской службы по религиозным основаниям, попадает за это в сумасшедший дом, да и сам главный герой пьесы, Николай Иванович Сарынцев, принимает от жены обвинения в безумии. В связи с этой темой из героев русской интеллектуальной истории вспоминается прежде всего, конечно, Чаадаев, а из персонажей дотолстовской литературы — соответственно, Чацкий, которого Грибоедов не обременил религиозными исканиями, но в каком-то смысле заставил прозреть («Мечтанья с глаз долой — и спала пелена») подобно тому, как прозреет пушкинский Странник («Как от бельма врачом избавленный слепец») или толстовский Сарынцев («прежде я был слеп, как слепы мои д о ма, а теперь глаза открылись» — т. 31, стр. 144).
Пушкин лишь наметил в «Страннике» тему мнимого безумия героя — Толстой же, лично переживая эту коллизию, углубился в нее и развил до парадокса, предъявив всему миру обвинение в сумасшествии. В 1910 г. он много работал над статьей «О безумии», так и оставшейся незавершенной; в рукописи ей предпослан французский эпиграф: «Ce sont des imbeciles. Un imbecile est avant tout un home q’on ne comprend pas» (т. 38, стр. 395) — «Это — безумцы. Безумец — это прежде всего человек, которого не понимают». Этот вывод он мог сделать из своих разысканий, посещая в процессе работы над статьей психиатрические клиники и читая специальную литературу, но главным образом — из личного опыта отчуждения, из того конфликта непонимания, который разрастался вокруг него в течение тридцати лет.
Для человека же, оказавшегося по ту сторону границы и обвиняемого в безумии, безумны, наоборот, те, кто ведет мнимую жизнь, кто слеп и не хочет прозреть. Уже в «Записках сумасшедшего» Толстой выворачивает ситуацию наизнанку — напомним, что в первоначальном замысле повесть называлась «Записки не сумасшедшего». Но и в последнем варианте названия, в точности повторяющем Гоголя, сохраняется полемичность — автор как будто призывает сравнить своего героя с гоголевским Поприщиным, сравнить и задуматься, действительно ли сумасшедший тот, кто всего лишь осознал бессмысленность собственной жизни.
Тема безумия «нормальной» обывательской жизни, тема всеобщего, повального безумия звучит уже в «Исповеди» и в дальнейшем обретает большую мощь у Толстого. Бессмысленность «нормального», то есть бездумного, неосознанного существования — вот для него настоящее безумие. Среди дневниковых записей 1884 г., синхронных началу работы над «Записками сумасшедшего», читаем: « 29 марта/10 апреля . <…> Я боялся говорить и думать, что все 99/100 сумасшедшие. Но не только бояться нечего, но нельзя не говорить и не думать этого. Если люди действуют безумно (жизнь в городе, воспитание, роскошь, праздность), то наверно они будут говорить безумное. Так и ходишь между сумасшедшими, стараясь не раздражать их и вылечить, если можно. <…> Если точно я живу (отчасти) по воле Бога, то безумный, больной мир не может одобрять меня за это»; « 28 мая/9 июня. <…> Точно я один не сумасшедший живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими» (т. 49, стр. 75, 99). Пройдет больше четверти века, и в 1910 г., за два дня до последнего ухода, Толстой вновь запишет в дневнике: « 26 Ок . Мне очень тяжело в этом доме сумасшедших» (т. 58, стр. 123). А более ранняя запись от 4 сентября разъясняет, что, собственно, он имеет в виду под сумасшествием: «Жизнь, без понимания ее смысла, т. е. без религии есть то, что называется сумасшествием. Когда же сумасшествие становится общим большого количества людей — оно смело проявляется и доходит до высших пределов самоуверенности. Так что уже люди здравые считаются сумасшедшими и таких людей запирают или казнят» (т. 58, стр. 99).
Итак, без вертикального измерения жизнь теряет смысл, без него человечество, по мнению Толстого, впадает в безумие роскоши, «безумие религиозных суеверий» и «суеверий науки», в «безумие личной жизни» — обо всем этом много записей в его дневнике последнего года (т. 58, стр. 3, 13, 19, 46, 98). «Ужасно не единичное, бессвязное, личное, глупое безумие, а безумие общее, организованное, общественное, умное безумие нашего мира», — записывает он 19 июня 1910 г. (т. 58, стр. 67). В писавшейся тогда же статье «О безумии» он обобщает эти мысли и приходит к выводу, что «большинство человечества <…> живет в наше время жизнью прямо противоположной и разуму, и чувству, и самым очевидным выгодам, удобствам всех людей — находится в состоянии, вероятно, временного, но полного сумасшествия, безумия» (т. 38, стр. 404). Чтобы выйти из этого всеобщего безумия, «надо сознать себя и вызвать в себе то нравственное чувство и нравственное усилие, которое свойственно разумному существу, человеку» (т. 38, стр. 410).
Уповая на разум, бунтуя против бессмысленности, Толстой нередко достигает в этом пафосе такого накала, что выходит, казалось бы, за грань разумного. И сам метод его мышления таков, что свои ключевые идеи он развивает до предела, обнажает и доводит почти до абсурда, чтобы предъявить их миру в убедительном виде, чтобы заставить себе поверить. «С великолепной, обезоруживающей непоследовательностью, которой всегда отмечается мысль избранников человечества, он точно одним движением плеча стряхивает с себя наложенные на него веками бремена разума с его истинами и доказательствами» (Лев Шестов) [40] . Эта «великолепная непоследовательность» и интеллектуальная страсть Толстого дали почву для разного рода патографических суждений на его счет. Та самая наука психиатрия, которую Толстой считал «повальной формой сумасшествия» («О безумии» — т. 38, стр. 411), самому ему уделила немало внимания еще при жизни и сразу после смерти. О работе Н. Е. Осипова и его диагнозах Толстому мы уже писали; другие выводы о психическом здоровье Толстого сделал итальянский психиатр Чезаре Ломброзо, автор знаменитой книги «Гениальность и помешательство» (1863, русский перевод 1885), посетивший его в Ясной Поляне в 1897 г. Ломброзо был предупрежден московскими властями о сумасшествии Толстого, знал он и мнение на этот счет Макса Нордау, однако Толстой произвел на него совсем другое впечатление — бодрость, интеллектуальная активность и никаких следов психического расстройства [41] .
Макс Нордау посвятил Толстому отдельную главу в своей известной книге «Вырождение» (1892, русский перевод 1894). Случай Толстого он рассмотрел как пример дегенерации искусства — будучи по образованию врачом, он нашел в основании «толстовщины» разного рода патологические отклонения, проявления истерии и психопатии, эротомании и пр. [42] В религиозном поиске Толстого Нордау увидел логические ошибки, признаки вырождения, мистицизма, то есть «смутного и бессвязного мышления», а также «болезненную страсть к сомнениям, совершенно бесплодную» [43] . Медицинский, патографический подход, таким образом, смыкается в оценках с обывательским сознанием, которое, оставаясь в рамках житейской нормы, соотносит с ней и явления, принципиально выходящие за эти рамки, — религиозное откровение, интеллектуальный прорыв или художественную гениальность. Как заметил Шестов, «если бы современный психиатр увидел Иезекииля, исполняющего волю Бога, ему бы и в голову не пришло, что пред ним пророк, и он без колебания надел бы на него смирительную рубашку» [44] . Добавим к этому, что и новозаветный эпизод, обращение апостола Павла, с медицинской точки зрения — всего лишь эпилептический припадок. Толстому тоже вменяется «аффективная эпилепсия» как простое объяснение многих его художественных мотивов, стиля, поведения его героев (Пьера, князя Андрея, Левина, Позднышева), его собственных поступков, реакций, взглядов, исканий — в основе всего лежит «сумеречно затуманенная психика эпилептоида» с доминированием истерического компонента (последнее якобы отличает его от эпилептика Достоевского) [45] . Это не курьезы ранних стадий психоанализа и первых опытов патографии, а устойчивая тенденция, растущая и снова вошедшая в моду, — дискредитация духовной жизни великого человека и тех сфер его активности, которые не близки сегодняшнему читателю, сведение сложного к популярному и доступному. И вот уже из свежего исследования, опубликованного авторитетным научным издательством, мы узнаем, что Толстой в 1895 г. был помещен в «лечебницу для неврастеников» [46] ; об этом говорится с ложной ссылкой на дневники Софьи Андреевны, с которой недобросовестный автор таким образом солидаризируется, — так создаются и поддерживаются мифы, уводящие читателя от Толстого и обессмысливающие все его усилия на пути к истине.
Все это касается и вопроса о толстовском уходе, который на этом фоне может восприниматься как проявление болезни. Но есть и другой фон у этого события — есть большая человеческая история, в которой немало было великих уходов, и есть мировая литература, отразившая идею ухода, и все это психопатология вряд ли может объяснить. Строя наши разыскания по линии Пушкин — Толстой, мы здесь остановимся на одной ветви мирового сюжета ухода, которую условно можно назвать «уход властителя». Этот архетипический сюжет, веками живущий в фольклоре и литературе в различных своих вариациях, получил воплощение в двух пушкинских произведениях — в поэме «Анджело» (1833) и в стихотворении «Родрик» (1835); у Толстого он лег в основу сказки-притчи «Ассирийский царь Асархадон» (1903) и незавершенных «Посмертных записок старца Федора Кузмича» (1905). Между четырьмя этими текстами усматриваются сложные смысловые соответствия.
В сказке-притче «Ассирийский царь Асархадон» на условном языке фольклорного сюжета Толстой рассказывает историю внутреннего переворота в человеке и его последующего ухода, разрыва с привычными условиями жизни. Сюжет как будто нам уже знакомый, но здесь, на предельно ограниченном пространстве короткой, голой притчи, он и заострен предельно — героем выступает не частное лицо, а монарх, и не просто монарх, а тиран, использующий свою безграничную власть, чтобы убивать противников и сеять зло. Его пробуждение, прозрение происходит чудом — некий старец, сказочный мудрец силою волшебства дает ему возможность встать на место преследуемого им врага и всего лишь почувствовать его боль. Этой боли царю Асархадону хватает сполна, чтобы понять: между ним и другими людьми нет границы, их жизнь едина, и, делая зло другим, он делает зло и себе. «Жизнь одна во всем, — говорит ему старец, — и ты проявляешь в себе только часть этой одной жизни. И только в этой одной части жизни, в себе, ты можешь улучшить или ухудшить, увеличить или уменьшить жизнь. Улучшить жизнь в себе ты можешь только тем, что будешь разрушать пределы, отделяющие твою жизнь от других существ, будешь считать другие существа собою — любить их » (т. 34, стр. 129). Восприняв это откровение, царь Асархадон меняет в корне свою жизнь — он уходит : «На другое утро царь Асархадон велел отпустить Лаилиэ и всех пленных и прекратил казни. На третий день он призвал сына своего Ашурбанипала и передал ему царство, а сам сначала удалился в пустыню, обдумывая то, что узнал. А потом он стал ходить в виде странника по городам и селам, проповедуя людям, что жизнь одна и что люди делают зло только себе, когда хотят делать зло другим существам» (т. 34, стр. 130). Сказка на этом кончается, хотя, казалось бы, сюжет ее разомкнут в будущее. Но для Толстого главное событие — уход героя, его неибежность и глубокая мотивированность, при том что сами мотивы в тексте почти не предъявлены. Зато предъявлена важнейшая для Толстого — и не только позднего, но и условно «раннего» — мысль об общей жизни человечества, о единой вневременной его жизни, участвуя в которой человек избегает смерти. Та же мысль параллельно формулируется в небольшом тексте «Это мы», построенном как диалог между Тираном и Мудрецом и основанном, по указанию самого Толстого (т. 74, стр. 167), на том же немецком сказочном источнике: «Взгляни вокруг себя на всё живое и скажи сам себе: всё это я. Все люди — братья, то есть все люди по существу своему один и тот же человек» (т. 34, стр. 139); ср. с дневниковой записью: «…если хоть не сознаешь, то живо воображаешь другое „я” как свое, то сознаешь и то, что всякое другое „я” самое коренное „я” есть не только такое же, как мое, но оно одно и то же. <…> Любовь есть ничто иное, как только признание других я — собою» (т. 58, стр. 5). К идеологии ухода у Толстого эта мысль имеет непосредственное отношение, и к ней мы еще вернемся.
Итак, сюжетная схема сказки о царе Асархадоне проста: царь, грешник и тиран, встречается с мудрым старцем, узнает от него некую нравственную истину и, восприняв ее, отрекается от царства, уходит — переходит в другое измерение жизни, не связанное с его прежним высоким положением. К этой же схеме, но, конечно, с вариациями и перестановками, сводится, по существу, сюжет пушкинского стихотворения с условно-редакторским названием «Родрик», написанного весной 1835 г. на основе цикла средневековых испанских романсов о короле Родриго и эпической поэмы Роберта Саути «Родерик, последний из готов» (1814). Если Саути сосредотачивается на последних частях народной легенды (история скитаний короля после потери престола), то Пушкин перелагает лишь начало фольклорного сюжета, помещая в центр своего стихотворения историю ухода Родриго. В зачине у него, как исходная точка действия, рассказ о греховном поступке короля — зло от этого греха расходится кругами, порождает войну и бедствия для всего испанского народа. Поняв это и раскаявшись, Родрик уходит — удаляется в «темную пещеру / На пустыном берегу», где живет аскетом, борется с искушениями и готовится к смерти (в этих эпизодах Пушкин концентрирует на небольшом пространстве текста традиционные житийные мотивы [47] ). В какой-то момент Родрику является во сне отшельник, открывает ему будущее и благословляет вернуться в мир. «Родрик» разомкнут, финал его открыт, как открыт новый путь перед героем — в этом «Родрик» сходен со «Странником», с пушкинским «Пророком», с толстовскими «Записками сумасшедшего» и сказкой о царе Асархадоне.
Вряд ли можно согласиться с таким пониманием сюжета «Родрика», какое предложено было Александром Архангельским: «Для короля — до тех самых пор, пока за ним остается это священное звание, — единственно возможный путь спасения — это возвратная дорога к трону» [48] . Для такого вывода нет оснований в пушкинском тексте, напротив — в финале прямо сказано, что король «венец утратил царский». Да, Родрик не сам оставил трон, но Пушкин ясным образом показывает главное: как из властителя его герой превращается в просто человека, оставшись один на один с Богом. Уход Родрика от себя прежнего к себе новому связан с осознанным и окончательным отказом от особого, высокого положения в отношении других людей.
В истории ухода Толстого и в сюжетах его произведений об уходе именно отказ от своего положения занимает центральное место. Эта тема, видимо, и привлекла его к легенде, положенной в основу незавершенных «Посмертных записок старца Федора Кузмича», — Толстой, задумав это произведение в 1890 г., много лет носил в себе замысел, изучал исторические материалы и имел возможность убедиться в том, что легенда об уходе императора Александра I в 1825 г. и о дальнейшей его жизни в Сибири под видом старца Федора Кузьмича не имеет под собой фактических оснований. Но эта легенда увлекла Толстого независимо от ее достоверности — в 1905 г. он начал непосредственную работу над текстом, а 2 сентября 1907 г. писал великому князю Николаю Михайловичу: «Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Козьмича, легенда остается во всей своей красоте и истинности. Я начал было писать на эту тему, но едва ли не только кончу, но едва ли удосужусь продолжать. Некогда, надо укладываться к предстоящему переходу» (т. 77, стр. 185). Поразителен в этом признании скачок от литературного замысла к реальности, к «предстоящему переходу», и слово «укладываться» звучит в этом контексте прямым указанием на будущий исход из Ясной Поляны, отъезд «с вещами». Жизненный мотив определяет художественный текст, но ведь очевидно и обратное: художественный, в данном случае — легендарный сюжет провоцирует реальный поступок и делает его неотвратимым. Такова особенность и сила толстовского сюжета ухода — на протяжении 25 лет он набирал энергию в творчестве, чтобы разразиться финальным окончательным уходом самого автора.
Не так у Пушкина — сюжет ухода возникает у него в трех подряд произведениях весны — лета 1835 г. («Родрик», «Странник», «Пора, мой друг, пора!»), с очевидным нарастанием личного, лирического начала (от третьего лица к первому), и затем, как будто исчерпавшись, исчезает. А до этой лирической вспышки уход становится важным сюжетным элементом поэмы «Анджело» (1833) — переложения шекспировской драмы «Мера за меру», и это именно уход правителя, отказавшегося от своего положения, но отказавшегося на время. В «Анджело» тоже есть отголоски слухов, сложившихся позже в легенду о старце Федоре Кузьмиче, — сам таинственный старец объявится в Сибири лишь через несколько лет, но толки о том, что император Александр I на самом деле жив, что похоронен вместо него солдат-двойник, а сам он по каким-то причинам добровольно покинул трон, пошли по России с конца 1825 г. и Пушкину, конечно, были известны [49] .
Однако «старый Дук» из «Анджело» решает своим уходом некоторые проблемы власти, а не отказывается от нее во имя чего-то высшего. Он полагает, что, передав на время власть другому, более жесткому правителю, сможет восстановить нарушенный порядок в государстве [50] . Сам по себе этот поступок Дука служит Пушкину лишь завязкой действия, в толстовских же «Посмертных записках старца Федора Кузмича» именно уход царя и мотивация ухода становятся предметом художественного исследования. По сути мотивация та же, что и в «Родрике», — раскаяние, но то, что у Пушкина дано извне, скупо, через одну пластическую деталь («И с поникшею главою / Мимо их пройти спешит»), то у Толстого раскрывается подробно, изнутри, в исповедальных записках героя, где все названо прямым оценочным словом: «Я родился и прожил сорок семь лет своей жизни среди самых ужасных соблазнов и не только не устоял против них, но упивался ими, соблазнялся и соблазнял других, грешил и заставлял грешить. Но Бог оглянулся на меня. И вся мерзость моей жизни <…> наконец открылась мне во всем своем ужасе. <…> Какие душевные муки я пережил и что совершилось в моей душе, когда я понял всю свою греховность и необходимость искупления <…> я расскажу в своем месте. Теперь же опишу самые действия мои, как я успел уйти из своего положения, оставив вместо своего трупа труп замученного мною до смерти солдата…» (т. 36, стр. 60).
«Ужас» заставляет толстовского героя бежать от людей, но теперь это не ужас перед смертью, как в «Страннике» и «Записках сумасшедшего», а ужас от себя самого, от зла, укоренившегося в душе, и спасение прозревший герой видит в том, чтоб «уйти из своего положения», символически поменявшись жизнью с тем, у кого он отнял жизнь. В авторском пояснении, предваряющем исповедь героя, есть важная деталь, прямо связывающая «Посмертные записки старца Федора Кузмича» со сказкой о царе Асархадоне, с ее центральной идеей: «…при протоколе описания тела Александра было сказано, что спина его и ягодицы были багрово-сизо-красные, что никак не могло быть на изнеженном теле императора» (т. 36, стр. 59). Описывая в дневнике экзекуцию, от которой умер тот солдат, герой говорит сам себе: «Человек этот был я, был мой двойник» (т. 36, стр. 62). Поменяться телом и судьбой с тем, кому причинил страдания, на кого прежде распространялась твоя власть, — вот путь, на котором толстовские герои, наделенные какой бы то ни было властью, начинают чувствовать и осознавать свою общность с другими людьми. Следствием этих новых чувств и становится «уход из своего положения», полная смена жизненной парадигмы.
Социальное неравенство людей, равных перед Богом, — одна из важнейших и самых острых тем позднего Толстого, и в сюжетах об уходе властителей она находит свое радикальное выражение. Но ведь и сюжет романа «Воскресение» (1899) по существу сводится к тому же: Нехлюдов осознает свою вину перед Катюшей, проникается ее болью и болью других осужденных, и с этого сострадания начинается его уход из привилегированного положения в жизнь страдающих и бесправных людей. «Воскресение» вообще дает ключи ко всему позднему Толстому — в лице и судьбе Нехлюдова Толстой исследовал и показал, как медленно и трудно человек переносит центр тяжести своего существования с себя на других, как, расставаясь с социальными привилегиями и входя в общую, прежде далекую от него жизнь, герой одновременно приближается к себе самому, к своему подлинному Я, которое было заглушено и только теперь пробудилось. Все это Толстой знал по личному опыту — и все это имеет отношение к уходу самого Толстого. Одним из постоянных острых переживаний для него в последние десятилетия было переживание неравенства, стыд за свое обеспеченное и благополучное существование перед простыми людьми, и конкретно перед теми, на кого распространялась его помещичья власть. Сам Толстой в зрелые годы никак не употреблял эту власть, но на его глазах этим неустанно занималась Софья Андреевна, и этот фактор, наряду с другими, выталкивал его на страннический путь из комфортного яснополянского дома. 7 января 1910 г. он записывает в дневнике: «…есть только не перестающий стыд перед народом. Неужели так и кончу жизнь в этом постыдном состоянии?» (т. 58, стр. 5).
Так что в основе толстовского ухода лежит, в частности, и руководившее им во всем величайшее сочувствие к простым людям, с которыми он хотел жить общей жизнью, растворившись в ней и отказавшись от себя, от всех своих привилегий, от поклонения и славы, от собственности, от комфорта, от учительства и власти над умами, от своего абсолютно на тот момент царственного положения в русской жизни и русской литературе — действительно царственного, тут можно напомнить известное высказывание А. С. Суворина: «Два царя у нас: Николай Второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии» [51] . Толстого называли «Львом Великим», его появление на людях вызывало ажиотаж — достаточно вспомнить «царские проводы», устроенные ему осенью 1909 г. на Курском вокзале, после которых Толстой потерял сознание [52] . Он тяготился этой слишком заметной, царственной ролью и хотел от нее освободиться, сравняться с другими людьми. Именно об этом стремлении говорят некоторые детали толстовского ухода, описанные Маковицким [53] , — ехали нарочно даже не вторым, а третьим классом, в тесноте и духоте, но и в горячих, важных для Толстого разговорах с простыми людьми. Маковицкий же записал и знаменательную фразу Толстого, произнесенную уже на смертном одре 6 ноября 1910 г. и переданную его дочерьми Татьяной и Александрой: «Л. Н. им ясно сказал: — Я вас прошу помнить, что, кроме Льва Толстого, есть еще много людей, а вы все смотрите на одного Льва» [54] .
Но, помимо вопроса о социальном неравенстве, тема «высокого положения» получила и другой аспект в сюжете ухода у Толстого — в повести «Отец Сергий» (1890 — 1891, 1898) эта тема развернута в аспекте внешнего и внутреннего, внешней жизни, заглушающей в человеке голос его внутреннего Я. Собственно, и начинается повесть с видимого парадокса: герой, Степан Касатский, занимавший в жизни блестящие позиции, бросает все и уходит в монастырь, уходит «из своего положения», освобождается от него — для подлинной, внутренней жизни. Сюжет проходит круг — и вновь герой, уже теперь отец Сергий, почитаемый старец, осознает, что, заняв высокое положение в монастыре, он удалился от себя самого: «Сергий чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу» (т. 31, стр. 28). Это достигнутое положение приводит героя ко греху — и он вновь уходит, чтобы, став никем, освободить в себе все, что «было загажено, заросло славой людской» (т. 31, стр. 44). И в первую же ночь после ухода из монастыря отец Сергий видит сон — явившийся ангел отрывает ему правильный, спасительный путь. Это не единственный мотив в толстовской повести, заставляющий нас снова вспомнить пушкинского «Родрика». На фоне общих мотивов житийной аскетики, развернутых в «Отце Сергие» и свернутых в «Родрике», есть и другие общие точки в сюжетах двух этих столь разных произведений об уходе. Оба героя уходят дважды — сначала из мирского высокого положения, затем из аскетического затвора. Оба в раскаянии ищут смерти и не находят ее, оба хотят молиться и не могут. И оба наконец получают во сне от посланника Небес наставление на новый путь и некое знание будущего. Так что пушкинский «Родрик» и толстовский «Отец Сергий» тоже составляют сюжетную пару — подобную той, какую составляют «Странник» и «Записки сумасшедшего». Но и в этом случае вряд ли можно говорить о влиянии Пушкина на Толстого, а скорее о некоторой общей взвеси человеческого опыта, который воплотили оба писателя в сюжетах ухода.
При этом финал «Родрика», как уже говорилось, открыт, финал же «Отца Сергия» вполне определенный (при том что работа над повестью не была Толстым завершена): после скитаний Касатского «как беспаспортного взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он, он отвечал, что билета у него нет, а что он раб Божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь. В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными» (т. 31, стр. 46). Герой отказывается от себя, от своего имени — он осуществляет толстовский идеал скромного, безвестного служения людям. И здесь, в этой точке расходятся сюжеты ухода — пушкинский и толстовский. Здесь мы вступаем в область собственно толстовских смыслов, в область личного толстовского богословия, которое всегда у него продолжалось в жизнь и целью своей имело правильное устроение жизни.
Тяготясь вниманием и славой, Толстой хотел уйти в незнакомое место, где бы его не знали [55] ; для него важно было «довести до конца ту задачу самоотречения, которую он на себя принял» [56] , и вопрос был только в одном: как и каким путем довести до конца эту задачу, то есть уйти или все-таки остаться, претерпев до конца свое положение. Этот выбор стоял перед Толстым более четверти века — вплоть до того момента, когда выбора уже не было. И в его мечтах о правильной жизни, как он представлял ее себе за несколько дней до ухода («я <…> всегда думал и желал уйти куда-нибудь в лес, в сторожку, на деревню к какому-нибудь бобылю, где мы помогали бы друг другу» [57] ), слышны те же мотивы, что и в финале «Отца Сергия». Труд на земле или по дому, жизнь в безвестности, растворение в народе, в природе — таковы составляющие толстовского идеала.
Идеал этот, конечно, не нов, он имеет большую культурную историю — известно, какое колоссальное воздействие оказал на Толстого Руссо, которого он почитал своим «учителем с 15-летнего возраста» (т. 75, стр. 234) и перечитывал всю жизнь. Но есть в этих мечтах и религиозная составляющая — выношенная толстовская идея «сына человеческого», идея единства людей и их вневременной общей жизни. Вот как сформулирована эта идея в книге «В чем моя вера» (1884): «Воля <…> Отца жизни есть жизнь не отдельного человека, а единого сына человеческого, живущего в людях, и потому человек сохраняет жизнь только тогда, когда он на жизнь свою смотрит как на залог, как на талант, данный ему Отцом для того, чтобы служить жизни всех, когда он живет не для себя, а для сына человеческого» (т. 23, стр. 390). На этом пути сослужения общей жизни уничтожается смерть, но понятию «личности» и проявлениям личности при таком взгляде не находится места, так что и вопрос о бессмертии переносится из поля личной судьбы в это определенное Толстым поле общей вневременной жизни. На это Толстому возражал, в частности, А. П. Чехов: «Он признает бессмертие в кантовском вкусе; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цели которого для нас составляют тайну.Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы; мое я — моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой — такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю» [58] .
Толстой был последователен в своем имперсонализме, распространяя его в мыслях и на посмертие и на повседневность. Но в яснополянском доме его идеал отказа от личности и растворения в общей жизни не был осуществим — в этом доме Толстой был как пуп земли, на виду у всего мира, под прицелом кино- и фотокамер, при постоянном потоке посетителей и журналистов, и это так же глубоко претило ему, как и сам уклад этого дома, и семейные распри. Он хотел избавиться от всего этого своим уходом — но вышло наоборот: его поступок приковал к нему еще большее внимание, ибо «нельзя спрятаться солнцу», как восклицал по поводу толстовского ухода один из журналистов [59] . (Тут надо сказать, что солнечные ассоциации столь же устойчиво сопровождали Толстого в сознании современников, сколь и Пушкина, — можно вспомнить статью Блока «Солнце над Россией» (1908) или многочисленные вариации на закат солнца в газетных откликах на смерть Толстого. При этом интересно и отличие: если гибель Пушкина вызвала слова о закате «солнца нашей поэзии», то в связи со смертью Толстого говорили чаще о закате «солнца земли русской» [60] — Пушкин при жизни воспринимался прежде всего как поэт, тогда как в Толстом видели не столько художника, сколько совесть нации, носителя жизненной правды.)
Толстовские дневники последних лет дают возможность увидеть, как нарастала его неуспокоенность в предощущении смерти, но теперь уже это был не «арзамасский ужас», обессмысливавший жизнь, а насущная потребность самоустроения ввиду близкого конца, «внутреннее требование духа», стремление привести свою жизнь в соответствие с понятиями о ней, то есть хорошо подготовиться к смерти — Толстой не раз повторял это, и здесь корень его неуспокоенности и настоящая причина ухода. Смерть уже не страшила его. Д. П. Маковицкий записал разговор с Толстым 17 октября 1910 г.: «Вы мне вчера говорили про припадки, ведь в них могу кончиться. <…> Надо хорошо умирать, готовиться к смерти, я так и думал, но так как смерть может наступить в беспамятном состоянии (когда нельзя будет хорошо умирать), то надо теперь всегда готовиться умирать. <…> Чего лучше смерти?» [61] .
К приятию смерти Толстой пришел в результате пути, в итоге развития своих представлений о жизни. В завершенной тогда же его последней книге читаем: «…то, что представляется человеку смертью, есть только для тех людей, которые полагают свою жизнь во времени. Для людей же, понимающих жизнь в том, в чем она действительно заключается, в усилии, совершаемом человеком в настоящем для освобождения себя от всего того, что препятствует его соединению с Богом и другими существами, нет и не может быть смерти» (т. 45, стр. 16).
Но уже в «Войне и мире» есть образы, заключающие в себе тот же смысл, — вспомним видение Пьера после смерти Платона Каратаева: «И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. „Постой”, — сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.
— Вот жизнь, — сказал старичок учитель.
„Как это просто и ясно, — подумал Пьер. — Как я мог не знать этого прежде”.— В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать Его. И растет, и сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он Каратаев, вот разлился и исчез» (т. 12, стр. 158). То, что казалось «просто и ясно» Пьеру и воплощено здесь в зримом образе, — то же по существу лежит и в основе знаменитой «формулы Бога», продиктованной дочери Саше на смертном одре, в Астапове, 31 октября 1910 г., через 40 лет после завершения «Войны и мира» (еще один аргумент в пользу единства Толстого — раннего и позднего): «Бог есть то неограниченное Все, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только Бог. Человек есть проявление Его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется в проявлениях (жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью» (т. 58, стр. 143). Сколько бы мы ни разбирались в подробностях толстовской семейной жизни, сколь ни была бы убедительна вся давно известная картина внутрисемейных разногласий по поводу завещания и по другим подобным практическим поводам, сколько бы ни уверяли нас сегодня в том, что Толстой совершил свой последний поступок в полубезумном состоянии, — метафизика ухода, его духовная составляющая выступает на первый план, если соотносить все происшедшее с любимыми, выношенными мыслями Толстого, с тем, что занимало его в первую очередь и поверх каждодневных обстоятельств. Толстовское настойчивое многолетнее стремление покинуть родовое гнездо и уйти в неизвестность, в никуда, растворить свое конечное Я в бесконечной общей жизни, разлиться и исчезнуть в ней, как Каратаев, выглядит абсолютно логичным в перспективе его внутреннего пути. Поступок, приведший его к смерти и кажущийся безрассудным, был продиктован неистребимой потребностью «творить жизнь» (т. 23, стр. 39) — истинную жизнь, как понимал ее Толстой.
[1] Кораблев В. Граф Лев Николаевич Толстой. — «Правительственный вестник», 1910, № 242, 9 (22) ноября, стр. 3. Пушкинское стихотворение приводим без изъятий и с выверенной пунктуацией.
[2] Мейлах Б. С. Уход и смерть Льва Толстого. Изд. 2-е. М., «Художественная литература», 1979, стр. 26.
[3] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 17-ти томах. Т. 3, кн. 2. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1949, стр. 941.
[4] Письмо С. А. Толстой от 30 — 31 октября 1910 г. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90 тт. Под. общ. ред. В. Г. Черткова. Т. 84. М. — Л., ГИХЛ, 1949, стр. 408. В дальнейшем тексты Толстого приводятся по этому изданию с указанием тома и страницы в скобках после цитаты.
[5] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 17-ти томах. Т. 15, стр. 167.
[6] Маковицкий Д. П. У Толстого. 1904 — 1910. Яснополянские записки. В 5-ти книгах. — «Литературное наследство», т. 90, кн. 4, 1909 (июль — декабрь) — 1910. М., «Наука», 1979, стр. 431.
[7] Об этом см.: Габричевский А. «Странник» Пушкина и его отношение к английскому подлиннику. — «Пушкин и его современники». Вып. XIX — XX. Пг., 1914, стр. 40 — 48; Благой Д. Д. Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой. — «Пушкин. Исследования и материалы», т. IV. М. — Л., Издательство АН СССР, 1962, стр. 53 — 59; ср.: Долинин А. Пушкин и Англия. М., «Новое литературное обозрение», 2007, стр. 26 — 27.
[8] Цитируем по изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах. Т. 3. Изд. 4-е. Л., «Наука», 1977, стр. 310 — 312. В Большом академическом собрании сочинений Пушкина принят другой вариант этого стиха: «Как узник, из тюрьмы замысливший побег» (См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 17-ти томах. Т. 3, кн. 1, стр. 392).
[9] Благой Д. Д. Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой. — «Пушкин. Исследования и материалы». Т. IV, стр. 66 — 70. Впервые об этом он коротко писал в статье «Читатель Тютчева — Лев Толстой» («Урания». Тютчевский альманах. 1803 — 1928. Л., «Прибой», 1928, стр. 250 — 253).
[10] Шестов Лев. На весах Иова. — В кн.: Шестов Лев. Сочинения. В 2-х томах. Т. 2. М., «Наука», 1993, стр. 102.
[11] «Психотерапия», 1913. № 3, стр. 141 — 158. Цит. по: <-ok.ru/lib/osipov/zsnpt.html> .
[12] «…Любой современный врач скажет вам, что это не более чем так называемая паническая атака. Если не ошибаюсь, что-то связанное с сосудами. Такое состояние испытывают многие современные люди, оно снимается известными препаратами, которых в XIX веке не было» — из интервью Павла Басинского «Нарцисс, лишенный самолюбования». — «НГ Ex libris», 2010, 29 сентября <-09-09/2_basinsky.html> .
[13] Маковицкий Д. П. У Толстого. 1904 — 1910. Кн. 1. 1904 — 1905. М., «Наука», 1979, стр. 106.
[14] Бочаров С. Г. Два ухода: Гоголь, Толстой. — «Вопросы литературы», 2011, № 1, стр. 29.
[15] Габричевский А. «Странник» Пушкина и его отношение к английскому подлиннику. — «Пушкин и его современники». Вып. XIX — XX, стр. 45.
[16] Долинин А. А. К вопросу о «Страннике» и его источниках. — «Пушкинские чтения в Тарту». Тезисы докладов научной конференции 13 — 14 ноября 1987 г., Таллин, 1987, стр. 34 — 37 <; .
[17] Маковицкий Д. П. У Толстого, кн. 4, стр. 401.
[18] Розанов В. В. Поездка в Ясную Поляну. — В кн.: Розанов В. В. О писательстве и писателях. М., «Республика», 1995, стр. 322.
[19] Короленко В. Г. 9-е ноября 1910. — В сб.: «Уход и смерть Льва Толстого. Корреспонденции. Статьи. Очерки». СПб., Издательство Пушкинского Дома, 2010, стр. 515; ср. также название мемуаров Короленко о Толстом: «Великий пилигрим» («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». В 2-х томах. Т. 2. М., «Художественная литература», 1978, стр. 239 — 249).
[20] Басинский П. В. Лев Толстой. Бегство из рая. М., АСТ, «Астрель», 2010, стр. 598.
[21] Там же, стр. 333.
[22] Именно это несоответствие «глубокого трагического противоречия между самим Львом Николаевичем и всем, что его окружало», бросилось в глаза такому внимательному посетителю Ясной Поляны, как С. Н. Дурылин. См.: Дурылин С. Н. У Толстого и о Толстом. — «Урал». 2010, № 3, стр. 182.
[23] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 17-ти томах. Т. 3, кн. 2, стр. 941.
[24] Бунин Иван. Освобождение Толстого. Paris, «YMCA-PRESS», 1937, стр. 46.
[25] Басинский П. В. Лев Толстой. Бегство из рая, стр. 12 и др.
[26] Бочаров С. Г. Два ухода: Гоголь и Толстой, стр. 11.
[27] Басинский П. В. Лев Толстой. Бегство из рая, стр. 25 — 26.
[28] Новиков М. П. Из пережитого. М., «Энциклопедия сел и деревень», 2004, стр. 229.
[29] Маковицкий Д. П. У Толстого, кн. 4, стр. 384.
[30] Дурылин С. Н. В своем углу. М., «Молодая гвардия», 2006, стр. 517 — 518, 519.
[31] «Уход и смерть Льва Толстого. Корреспонденции. Статьи. Очерки». СПб., 2010, стр. 31, 32, 36, 37, 45, 46, 73, 213.
[32] «Уход и смерть Льва Толстого. Корреспонденции. Статьи. Очерки». СПб., 2010, стр. 197.
[33] Там же, стр. 250.
[34] Басинский П. В. Лев Толстой. Бегство из рая, стр. 425.
[35] Цит. по: Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 590.
[36] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Т. 30, кн. 1. Л., «Наука», 1988, стр. 166, 168 (письма от 27 мая и 27 — 28 мая 1880 г.).
[37] См. об этом: Сироткина Ирина. Классики и психиатры. Психиатрия в российской культуре конца XIX — начала XX века. М., «Новое литературное обозрение», 2008, стр. 103 — 104.
[38] Шестов Лев. Сочинения, т. 2, стр. 104.
[39] Об этом: Благой Д. Д. Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой, стр. 68 — 69.
[40] Шестов Лев. Умозрение и откровение. Paris, «YMCA-PRESS», 1964, стр. 168.
[41] См.: «Из разговоров с профессором Ломброзо». — «Русские ведомости», 1897. 18 августа, № 227.
[42] Нордау Макс. Вырождение. Современные французы. М., «Республика», 1995, стр. 106 — 124.
[43] Там же, стр. 120 — 121.
[44] Шестов Лев. Разрушающий и созидающий миры (По поводу 80-летнего юбилея Толстого). — «Русская мысль», 1909. Год тридцатый. Кн. I, стр. 55.
[45] Сегалин Г. В. Эвропатология личности и творчества Льва Толстого. — «Клинический архив гениальности». Т. 5. Вып. 3 — 4. Свердловск, 1930.
[46] Сироткина Ирина. Классики и психиатры…, стр. 121. На самом деле в «санитарной колонии Ограновича» находился в это время сын Толстого Лев Львович.
[47] Подробно об этом см.: Сурат И. Вчерашнее солнце. О Пушкине и пушкинистах. М., Изд-во РГГУ, 2009, стр. 318 — 323.
[48] Архангельский А. Н. Александр I. Изд. 2-е. М., «Молодая гвардия», 2006, стр. 381. Цит. по: «Новый мир», 1995, № 11.
[49] Об их роли в замысле поэмы «Анджело» см.: Лотман Ю. М. Идейная структура поэмы Пушкина «Анджело». — В кн.: Лотман Ю. М. Избранные статьи в 3-х томах. Т. 2. Таллинн, «Александра», 1992, стр. 433 — 437. О связи пушкинского «Родрика» с легендой об уходе Александра I см.: Кружков Г. М. Ностальгия обелисков. Литературные мечтания. М., «Новое литературное обозрение», 2001, стр. 103 — 104.
[50] В русской истории был подобный прецедент, но с противоположным знаком — Иван Грозный в 1564 г. покинул временно трон лишь для того, чтобы добиться новых полномочий и учредить по возвращении опричнину.
[51] «Дневник Алексея Сергеевича Суворина». М., Издательство «Независимая Газета», 1999, стр. 417. (Запись от 29 мая 1901 г.)
[52] Зверев А. М., Туниманов В. А. Лев Толстой. М., «Молодая гвардия», 2007, стр. 673 — 674.
[53] См.: Маковицкий Д. П. У Толстого, кн. 4, стр. 401. Впрочем, Толстой и раньше предпочитал передвигаться по России 3-м классом, иногда — 2-м.
[54] Там же, стр. 430, 482.
[55] Так передает слова Толстого М. П. Новиков: Новиков М. П. Из пережитого, стр. 226.
[56] Чертков В. Г. Уход Толстого. М., «Кооперативное издательство»; «Голос Толстого», 1922, стр. 32.
[57] Новиков М. П. Из пережитого, стр. 228.
[58] Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Письма в 12-ти томах. Т. 6. М., «Наука», 1978, стр. 332 (письмо М. О. Меньшикову от 16 апреля 1897 г.).
[59] «Уход и смерть Льва Толстого...», стр. 36.
[60] Там же, стр. 429.
[61] Маковицкий Д. П. У Толстого, кн. 4, стр. 384.
Ответа нет
Дмитрий Быков. Икс. Роман. М., «Эксмо», 2012, 288 стр .
В первой же фразе предисловия к своему новому роману «Икс» Дмитрий Быков предупреждает, что «это повесть не о тайне авторства „Тихого Дона”, но о тайне авторства как такового». На фоне постоянных утверждений, что школьный вопрос «Что в этом произведении хотел сказать автор?» порочен и ведет в никуда, эта попытка сразу же направить читателя по определенному пути озадачивает. Понимание этой ремарки может быть двояким. Первая версия: Быков в свойственной ему манере немного подмигивает своему собеседнику и на самом деле имеет в виду совершенно обратное: обращать внимание надо как раз на тайну авторства шолоховского романа. Второе, и более вероятное: автор понимает, что менее глобальная тема (о «Тихом Доне»), при априорной неоригинальности проблематики, подана очень достойно и даже увлекательно и вкупе с другими сюжетными линиями действительно может заслонить тему тайны авторства как такового. Для полного же понимания книгу необходимо прочитать дважды, на что способен далеко не каждый читатель. А Быкову хочется донести до нас свою основную мысль, вот он сразу и предостерегает: дескать, будьте бдительны, читайте внимательно.
«Икс» вообще нетипичный роман для Быкова. Начиная с названия: после метких «Орфографии», «ЖД», «Эвакуатора» и прочих он нарекает роман малоприметным словом, пусть и очень точно характеризующим всю ситуацию в целом. Далее Быков внезапно доказывает, что умеет писать одновременно интересно и кратко. Ранее получалось только интересно, а кратко не получалось. Но тут же сам себя скорректирую: «интересно» слишком плоское слово для такого произведения, потому что произведение это как раз совершенно не плоское: оно многоплановое, существующее в нескольких измерениях и даже временах.
Книга поделена на 26 непронумерованных разделов, озаглавленных датой и местом действия. «15 апреля 1927, Москва» — с этого дня начинается действие, которое можно разделить на три части. Первая длится вплоть до декабря 1928 года с небольшим отступлением на пару лет назад во второй главе. Следующая часть длится ровно год — с июля 1929-го. После первой и второй мы по велению автора ненадолго оказываемся в 1913-м — этакое интермеццо. Третья часть охватывает период с февраля 1932-го по... А вот тут возникают вопросы. Потому что действие вроде как заканчивается в последний предвоенный сентябрь, а дальше идут четыре эпилога, датированные последовательно 1956, 1965, 1925 и 1942-м. И хотя самое главное, разгадку всего-всего, мы узнаем из предпоследней главы (о последней скажем отдельно), нет никаких сомнений, что именно такая последовательность единственно верная.
Основных сюжетных линий — тоже три. Помимо писательской, мы следим за нетипичной страстью психиатра Дехтерева (прозрачная отсылка к Владимиру Бехтереву) к юной художнице Вере, потерявшей в результате столкновения с автомобилем память, а также за страданиями чрезвычайно симпатичного, но неизлечимого пациента заведения для душевнобольных по фамилии Логинов. Он постоянно «переходит» в загадочную страну Капоэру, где с ним происходят странные события. Обе эти линии, конечно, определенным образом связаны с самим Шелестовым (Шолоховым) и его романом «Пороги», но довольно опосредованно. Между тем именно они и являются ключевыми для понимания «тайны авторства как такового».
Проблема авторства «Тихого Дона» уже столько лет не дает нам покоя не потому, что это единственный спорный случай авторства в истории русско-советско-российской литературы. Просто (хотя, конечно, все вовсе не просто) этот роман — произведение выдающееся и в переносном, и в буквальном смысле: оно резко выдается из общего ряда. Оно не единственное такое, но подобных мало. Дехтерев, исследуя творчество уже больной, но свободной от многих внутренних барьеров и условностей Веры, приходит к выводу: «Творец, столь долго являвший нам свою поденную работу, грубое ремесленное производство, — оказался вдруг художником совсем иного склада, а то, что мы видели, — это тьфу». Вот и получается, что мы не можем оставить в покое «Тихий Дон», поскольку на фоне плодов литературной поденной работы нам было явлено нечто совсем иное, к тому же — содержащее тайну, секрет, неразрешенную загадку.
Любопытно, что в 2004 году Михаил Холмогоров опубликовал повесть с таким же, как и «Икс», неприметным названием — «Необитаемый остров» [1] . Она посвящена той же теме — созданию «Тихого Дона». Но отношение к проблеме у Холмогорова и Быкова разительно отличается.
В «Необитаемом острове» речь идет о литераторах, которых сначала посадили, а потом вернули в Москву ради «великой» цели — создания к 10-летию Октября романа о терском казачестве. За основу чекисты предлагают взять дневники и путаные черновики некоего романа белогвардейца Горюнова, застреленного на румынской границе. И вот совершенно разные — по опыту, по уровню таланта, по убеждениям — авторы, запуганные ОГПУ и содержащиеся под строгим надзором в московском особняке, пытаются создать роман «Хладный Терек» («Вкус тот еще», — замечает о названии главный герой повести и соавтор эпопеи Фелицианов). У них ничего не получилось, но не их в том вина — сработаться литераторы смогли, но возникли другие трудности. А вот что (кто) по-настоящему выглядит странно, так это фигура писателя, назначенного автором романа. В этой роли выступает Гаврила Орясин — бывший казак, и фигура эта однозначно отрицательная. Вот лишь несколько эпитетов титульного создателя «Хладного Терека», которыми одаривают его заключенные писатели: «премерзкий тип», «этот сопляк», «мародер». А Холмогоров от автора припечатывает его еще хлеще, не давая нам усомниться, что за человек перед нами. И то, что мы узнаем о скором расстреле Орясина, не меняет нашего отношения к нему. О судьбе же собственно романа в повести ничего не сообщается, но тут он вторичен.
У Быкова Шелестов фактически предстает человеком без свойств, в нем нет ничего нелитературного (в отличие от Орясина, в котором, наоборот, нет ничего литературного). Он полностью подчинен своему роману. На протяжении всего «Икса» мы видим, как «Пороги» сжигают своего автора, и не важно, что, по Быкову, начало романа было Шелестову подкинуто неизвестно кем (хотя в конце и эта загадка разрешается). Вся работа проведена именно Шелестовым — ведь прочитанное «не сказать, чтоб было очень хорошо». По сути-то он начал писать заново, если не книгу, то самого себя. Мы видим, как молодой бодрый журналист понемногу превращается в угрюмого, замкнутого в себе писателя, для которого нет ничего важнее сочиняемой эпопеи (тут есть переклички с «Мастером и Маргаритой»). И инерция приключившейся с Шелестовым метаморфозы настолько сильна, что даже в 1965 году, когда «Пороги» уже давно дописаны, опубликованы и оценены, ничего в писателе не восстановилось. Неуверенность в себе и интриги коллег по перу, неприятные встречи и редкая радость обретения, семейная жизнь с «Манюней» и однажды приключившееся в Ленинграде любовное безумие с загадочной дончанкой Анной, — все без исключения, что происходило с Шелестовым, шло во благо роману, но во вред его автору.
По этой же причине о биографической достоверности в «Иксе» речь не идет в принципе. Это по-особому занимательно, поскольку Быков известен как неустанный биограф и просветитель: это и книги в серии ЖЗЛ «Пастернак» и «Окуджава», чуть менее известная биография «Был ли Горький?», а кроме того, Быков постоянно выступает с лекциями о Некрасове, Арсении и Андрее Тарковских, Ахматовой, Маяковском, Бунине и многих других. А еще есть бесчисленные статьи — по юбилейным поводам и без. И вот принципиально иной жанр — биография в сочетании с фикшн — симбиоз, отнюдь не чуждый Быкову.
Знатокам известно, что за несколько секунд до смерти Борис Пастернак произнес слово «рад», чему в книге Быкова дано совершенно фантастическое объяснение. По его мнению, в последнее мгновение Пастернак находился одновременно и на этом свете, и на том. За пару минут до этого, попросив прощения у жены и таким образом распрощавшись с земной жизнью, писатель сдержанным, достойным «рад» поприветствовал тех, кто ждал его «там». Этот фрагмент запоминается едва ли не лучше всех прочих — потому что это уже не биография, а собственно фикшн или даже мифотворчество. Отвечая на вопрос, как ему удалось такое придумать, Быков однажды сказал: «Я просто уверен, что все было именно так». Но это — один отдельно взятый эпизод. А тут целая книга таких «рад» — догадок, предположений и мифов, как могла бы развиваться ситуация. (При этом миф Холмогорова о коллективном авторе и истории создания «Хладного Терека» будет, пожалуй, даже покруче быковского.) Маневр очевиден: в «Иксе» Быкову нужна только одна горизонталь «автор — роман», в связи с чем подробности жизни Шолохова ему не просто не нужны — они могут навредить. Шолохов, по Быкову, — уникальный пример трагедии успеха, и чтобы подчеркнуть трагедию, лучше использовать по большей части придуманные обстоятельства. Потому Шолохов и назван Шелестовым — вроде он, но вроде и не он, держим в уме реального человека, но речь будто не о нем. В самом крайнем случае можно сослаться на уже процитированные слова из предисловия... К числу быковских умалчиваний в романе относится и эпизод 1965 года, когда к Шелестову приходит молодой журналист, желающий пообщаться с классиком. Классик ведет себя вроде как гостеприимно — принимает юношу всего через час после звонка с просьбой об интервью, готов угостить его чаем, но вместе с тем выглядит обычным желчным стариком и огорошивает странными речами о якобы планируемой книге. И все — нет ни намека на то, что буквально через четыре месяца желчный старик получит Нобелевскую премию, а еще через год крайне резко выскажется в адрес Синявского и Даниэля во время одного из самых знаменитых судебных процессов в истории СССР. На это нет и намека, потому что это уже совсем другая тема — «художник и власть», «художник и слава», «художник и политика», как угодно, но в любом случае не «автор и роман», а стало быть, всем этим темам нет места в «Иксе».
Не менее любопытно и окружение Шелестова. Люди (и события) 20 — 30-х годов интересуют Быкова ничуть не меньше, чем современность, а иногда кажется, что и гораздо больше. Именно эпохе — ее истокам и последствиям — посвящена «О-трилогия» («Оправдание», «Орфография», «Остромов, или Ученик чародея»), и в том же времени Быков начинает свое новое троекнижие (объявлено, что за «Иксом» последуют еще две книги, названия которых будут также начинаться с буквы «и», и в интервью «Литературной России» даже прозвучало наименование второй — «Истина» [2] ). Иногда он даже бравирует своей любовью к советской эпохе — недаром в одном из своих злободневных политических стихотворений он себя именует «фанат эсесера». И вот, как и в первой трилогии, мы снова видим писательское сообщество тех лет, и снова оно наполнено в том числе персонажами, подобными Шелестову, — с вроде понятными прототипами, но все-таки упомянутыми лукавым экивоком. Таков, к примеру, «длиннолицый иронический драматург Гердман» (Николай Эрдман), а в описании «крестьянского прозаика» Гребенникова можно найти отсылки Быкова к собственной статье о Федоре Панферове. Про Гребенникова читаем: «Повести его получались иногда так плохи, что почти уже хороши». Быков говорит о Панферове: «Я не в состоянии найти человека, который бы добровольно прочел четыре тома „Брусков”. <…> Меж тем напрасно — книга интересная, показательная, местами очень смешная» [3] . А еще в книге есть Воронов — «молодой гений... <которого> не любили коллеги, ругали критики и не считали своим На Самом Верху. При этом все его уважали». Это уже, вероятно, собирательный образ.
Но самое привлекательное в книге — последняя глава, формально никакого отношения к Шолохову-Шелестову не имеющая. Она посвящена несчастному Логинову, который постепенно покидает этот мир, теряя память, речь и разум. Помимо примечательного описания логиновского состояния (на контрасте с известным романом «Мир глазами Гарпа» Джона Ирвинга, где в первой главе мы наблюдаем за угасающим рассудком со стороны, здесь рассказывается о том же, но изнутри), последняя глава содержит главную идею всего романа: бинарная система показала несостоятельность . Икс ведь на самом деле — обозначение неизвестной или переменной, а она может быть какой угодно. Так что однозначного ответа на вопрос, кто автор «Тихого Дона», нет. Однозначного ответа, кто автор любого произведения, нет. Вероятно, однозначных ответов в принципе нет.
Григорий АРОСЕВ
[1] Холмогоров Михаил. «Необитаемый остров». — «Нева», 2004, № 7. Повесть вошла в роман Михаила Холмогорова «Жилец». — М., «Русь», «Олимп», 2005.
[2] «Меня научили правильно выбирать среду…». Интервью Юлии Качалкиной. — «Литературная Россия», № 33-34, 2012, 10.08.
[3] Быков Дмитрий. Календарь. Разговоры о главном. М., «АСТ», «Астрель», 2011, стр. 548 — 549.
Бегемоты и дервиши
Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе.
Как он предан — расстался с суком —
Сумасброд — задохнется в сухом!
Б. Пастернак. «Определение души»
Пауль Шеербарт. Собрание стихотворений. С приложением эссе Йоханнеса Баадера и Вальтера Беньямина. Перевод с немецкого, предисловие и комментарии И. Китупа. М., «Гилея», 2012, 204 стр.
Теодор Крамер. Зеленый дом. Избранные стихотворения. Перевод с немецкого Е. Витковского. М., «Водолей», 2012, 160 стр .
Казалось бы, уже юбилеи справляли, как пал железный занавес советской цен-зуры, есть для переводов все возможности, от работы в архивах страны языка-оригинала до грантов страны этого же самого языка, а какие-то писатели приходят к нам с таким опозданием, будто по московским пробкам в час пик добирались. Но вошли в недавние годы в дом русского языка (привет Хайдеггеру!) Целан [4] , Бенн и Рильке (с непереведенным дотоле), за ними, что особенно радостно, те, кого несколько криво называют «поэтами второй величины» [5] (определение, явно не обладающее астрономической точностью, — кощунствуя, я могу допустить, что стихи Веры Полозковой могут дать больше не чувства, но ощущения поэзии «девочкам, живущим в Сети», чем стихи Пушкина).
Тезка Целана немец Шеербарт (1863 — 1915) — именно из таких, «второрядных». Хотя и не безвестен — выпустил множество книг при жизни, ценился теми, «кто понимает», потом на небольших волнах посмертного признания переиздавался в 60-е и 90-е [6] . У нас, кстати, не переводился совсем. Что странно, потому что Шеербарт как минимум интересен по нескольким показателям. Родившегося в польском Гданьске / немецком Данциге в семье столяра, австро-венгерскими разночинными завихрениями его закидывало в Лейпциг, Мюнхен и Вену, чтобы затем в бисмарковском Берлине ввести в культурно-маргинальную элиту — к тем, кто оказался признан тогда, окажется признан в будущем или только по гамбургскому счету — или же забыт. Мунк, Стриндберг, Кокошка и многие сейчас безвестные — ими он был уважаем в статусе образованного, оригинального и очаровательного пропойцы (заседания их как бы кружка проходили за неизменными и неумеренными шнапсовыми возлияниями). Шеербарт любопытно рисовал (в книге есть несколько репродукций), на полном серьезе изобретал вечный двигатель, генерил идеи направо и налево — чего стоит хотя бы идея издавать газету из исключительно «уточного» контента? Идеи, кстати, его далеко не все развеялись похмельным дымом — дадаисты, сюрреалисты, Жарри и Моргенштерн взяли у него опосредованно, но не мало. Беньямин рецензировал его книги и не скрывал восхищения [7] . Один только сюжет: Шеербарт считал всю обычную архитектуру удушающей и устаревшей и провозглашал архитектуру из стекла. Ладно, не будем вспоминать современные стеклянные офисные и торговые центры, но что-то из идей Шеербарта взял придворный, но тонко чувствовавший Шпеер, Бруно Таут свой стеклянный павильон на кёльнской выставке Немецкого производственного союза посвятил именно Шеербарту, а тот же Беньямин придумал свои «Аркады» о застекленных парижских пассажах XIX века под его влиянием. Шеербарт банально опережал время, не поэтому ли был одержим фантастикой? Первое в мире специализированное издательство фантастической литературы было создано именно им (и успешно прогорело), а он все грезил о космосе с этим обычным для визионеров сочетанием немыслимого допущения (мы воссоздадим праотцов из праха) и одновременной ему прагматичности (надо будет, батенька, запастись специальными совочками и вениками для сбора праха-ДНК). Я не могу найти биографическо-фактических улик, но тот же «Гелиополь» Юнгера — не читал ли германский визионер своего собрата? Если не фантастику, то один из его романов, которые сам Шеербарт именовал «железнодорожными», «хвастливыми», «бегемотными», «дамскими» и т. д.? Ко всему этому разношерстью можно добавить, что умер писатель самым буквальным образом у мусорного бака (то ли инсульт, то ли антимилитаристская голодовка) и да, писал стихи. Жаль, конечно, что до переводов прозы Шеербарта дело еще не дошло, ведь в стихах он чаще всего валял дурака — впрочем, как мы увидим, делал он это, не только ссылаясь на существующую традицию (библейскую, юродства), но и зачиная традицию новую (рокеров-фриков-панков).
И отнюдь не так просты эти вроде бы легкомысленные и небольшие стихи. В них вполне логично сопрягаются ориенталистские темы (много стилизаций вроде «Причитания поэта Сафура», «Надгробная надпись, сочиненная Абу-Нувасом» и т. п.) с гедонистическими («Набить живот, чтоб был он толстый, — / Важнейшее из удовольствий»), а точней, что уж греха таить, бахустическими (самый большой сборник из представленных в книге — «Похмельные стихи»). «С добрым утром, человеческий зверушка! / Хитрожопый уже хлопнул пива кружку» — лирический (ой, столь ли лирический?) герой Шеербарта будто сейчас шагнет если не в пьесу Брехта, то в фильм Каурисмяки или Фассбиндера, а саундтреком к нему будут похмельные эскапады Тома Уэйтса и The Pogues .
Не менее логично для внутреннего развития Шеербарта звучит и его излюбленная космическая тема, поданная иногда то едва ли не в духе голливудской космической стрелялки:
Как это случилось?
В небесах колебались
Огромные и блестящие диски —
На дисках вращались орехи кроваво-червленые,
Но некий злокозненный дух разнес их все вдребезги.
А ангел над этим в сердцах расхохотался
И спрыснул все витриолью —
Не более.
То как заведомое космическое обещание, завет далекой радости:
Ведь лун (на Сатурне. — А. Ч. ) там больше — целых девять штук!
Там каждый радуется за девятерых,
Яйцо варёное там, вероятно,
Вкусней десятикратно…
Герой Шеербарта и со своей космической мечтой, впрочем, обходится по-свойски, придуриваясь, по-бахтински профанируя и по-рок-н-ролльному мечтая обзавестись «длиннющим черным шлейфом» кометы, стать «кометой-фраком». Думается, сценические наряды и образ упавшего с Марса пришельца в изображении Дэвида Боуи пришелся б Паулю Шеербарту по сердцу.
Сравнения с роком могут уже показаться навязчивыми, но они почти неизбежны для современного читателя этой лирики, особенно тогда, когда речь заходит о не самом банальном сочетании тем — тотальной мизантропии и возвышенной натурфилософии. Моральный закон внутри нас, по Шеербарту, настолько девальвировался, что осталось единственное — звездное небо над нами. И эту тему он развертывает с той силой злой негации, что была в поэзии (не говоря о выступлениях!) Егора Летова. Образность уж, во всяком случае, та самая, самого крутого психоделического замеса. Ему видится «невидимая мышь» и «лунный шарик», он, будто со сцены или даже с трибуны, призывает: «Прикончи Европейца! / Прикончь его! / Прикончь его! Прикончь его! / Прикончь его вконец!!» [8] В людях не обнаруживается решительно ничего достойного — «ты <…> навоза полон», «только недочеловеки — / Те, кого бы я поджарил, — / Ежедневно мир мой гробят. / Всё без разницы. До встречи! / Будь свободным, человече!». В общем, люди лишь «гнусно злословят и поносно ругаются», «Земле — позор!», а «миру этому хана — ей-ей!».
Но на смену Летову приходит буквально-таки гетевская натурфилософия, поэзии Шеербарта сообщаются чуть ли не интонации державинских величественных од:
Когда-то был лучом я света
И проницал красоты мира,
Нырял и тут, и там, и где-то
В моря эфира.
Это, конечно, бегство от мира и принятие далекого, эскапистского зова звезд:
Мы кружимся блаженно, обреченно,
Несемся сквозь космическую даль.
Мы весело летим и оживленно,
И нет тоски — нам ничего не жаль…
Моменты прорывающегося пафоса у Шеербарта редки на фоне его обычного скоморошества (Державин в ремиксе Пригова), он быстро спохватывается, кричит кикиморой:
Я кое-где бывал…
В пустыню вот забрел однажды далеко.
Я без рубахи там шагал, а также башмаков.
<…>
А зелень звездная вилась со свистом вкруг
Моих расставленных обеих рук —
Похожая на сдутые воздушные шары.
Ведь Шеербарт шагает этаким юродивым, «бредет сквозь дни, слегка навеселе, / Он пропил как свою, так и чужую боль — / И волен быть блаженным на земле». Он кружится дервишем посреди круговорота планет: «и так всё потерял — кому тебя обидеть?», свободный от всех и всего, включая смерть: «…тебя от пут освободила смерть!» Он «становится, как дети»: «…я тоже хохотал, ребенку вторя эхом, — мы хохотали оба, глядя на голубоватые огни». И тут даже снимается панковская негация [9] , тихо она уходит в сторону, заслышав этот смех: «…смеется лишь малыш без отрицанья». Правду говорят, что пьяный, что малый…
С австрийцем Теодором Крамером (1897 — 1958) ситуация в нашей стране чуть лучше — в Советском Союзе его даже слегка печатали (ненавидевший фашистов, Крамер прославлял победы над ними), в начале 90-х Крамера переводил и популяризовал Евгений Витковский [10] , а на эту книгу мне встретилась даже одна рецензия [11] . Однако, на родине и вообще по большому счету Крамеру повезло гораздо меньше — современники хоть и ставили его в один гордый ряд с Траклем и Рильке, но Крамер до сих пор издан далеко не полностью. Биография отчасти схожа с шеербартовской — родился Крамер в семье простого врача (но еврея, что в те австрийские дни означало понятно что — первую книгу Крамера нацисты приговорили к сожжению еще до ее выхода!), среднее образование получил в Вене, но с образованием и карьерой скоро закончил. Помешали война (его призвали) и стихи. Не война ли на Восточном фронте и военные скитания через всю Австро-Венгрию, кстати, повлияли на то, что Крамер выбрал форму народной баллады, которую обогатил еще какими только ни наречиями его обширной и вскорости сгинувшей родины — он активно использовал хорватский, каринтийский, играл со специфически венской лексикой [12] … Поднабраться диалектов «помогла» его полумаргинальная жизнь — работал то в книжном, то сторожем, то разнорабочим, а то и вовсе бродяжничал. Ему вообще как-то сильно не везло в жизни: когда его с большими хлопотами (вовсю ходатайствовал Томас Манн) удалось утащить из уже почти захлопнувшегося железного нацистского капкана в Англию, там англичане, боясь всех «понаехавших», кинули его в лагерь на остров Мэн… Впрочем, таков был пресс той эпохи, что покончил с собой не только почти сбежавший от немцев Беньямин, но и вполне благополучно в Париже уже два десятилетия спустя после войны существовавший Целан… Вот и Крамер, осев в Англии, три раза оказывался в больнице с черной депрессией… Несмотря на все это, положил себе писать каждый день — поэзия была для него даже не дневником, но формой отчета, оправданием своей жизни, в которой кроме какой-то мимоходной работы и одиночества больше ничего и не было. В Австрии наконец-то вспомнили, что был, есть такой поэт, и что Австрия ему вообще-то задолжала, пригласили в 1957 году, дали бесплатное жилье, пенсию. Крамер вернулся, но, как оказалось, лишь умереть. После смерти (несмотря на то, что Крамера восхваляли не только Томас Манн, но и Канетти с Цвейгом) наступило забвение. Вот разве что уже в наши дни Ханс-Экардт Венцель (тема рок-музыки возникает уже сама) записал два альбома на стихи Крамера…
На первый отечественный взгляд бродяга Крамер («нигде не задержусь я доле, / чем стоит на пожне колосок») моментально прочитывается как такой щемящий певец покинутых деревень («звезды, вестники долгой морозной погоды, / озирали озимых убитые всходы»), австрийский Есенин. Тем более что и винной темы Крамер отнюдь не чужд: «лишь винцо шибает в пятки / хмелем затхлой кислецы»; «сойдется в десять цвет пивнух, / в гортань ползет коньячный дух; / товар панельный в сборе весь»; «бредет домушник и, журча, / течет пьянчужечья моча: / о Боже»; сборник 1946 года с непритязательным названием «Погребок»…
Но тематика Крамера не только разнообразней (его «Трясинами встречала нас Волынь…» и одноименный сборник — почти хрестоматийные стихи о той войне), но имеет как бы два вектора — социальный и экзистенциальный. А Крамер безусловно социален, он поэт городского, да и всяческого дна («нас город не любит, нас гонит село»). Интонации варьируются и здесь, но все они (до боли) знакомы: то чуть ли не шансон («пусть нынче из барака / я вышел бы, однако / с тобою бы не смог / сейчас остаться рядом…»), то Некрасов с Горьким [13] («измотан морозом и долгой ходьбой, / старик огляделся вокруг, / подвинул решетку над сточной трубой / и медленно втиснулся в люк»), то достоевские бедные люди, забритые в солдаты, целуют ноги шлюх, а те утешают и сами платят солдатам («буду ласкать его, семя покорно приму, — / пусть он заплачет и пусть полегчает ему. // к сердцу прижму его, словно бы горя и нету, / тихо заснет он, — а утром уйду я до свету…»).
Однако всеприятие на социальное не распространяется, как и у Шеербарта, мир достоин у Крамера лишь самой смачной диатрибы: «только голод в глазах пламенел, как клеймо; / им никто не помог, — лишь копилось дерьмо»; энтропия тотальна («и гармоника вздохи лила в темноту, / загнивали посевы, и гвозди ржавели»). Утешит, как у Шеербарта, лишь алкоголь (ненадолго):
Сходил в трактир с кувшином — и довольно,
чтоб на часок угомонить хандру:
хлебнешь немного — и вздыхать не больно
сырой осенний воздух ввечеру.
Но «песня в пыль, во мрак / черной кровью хлещет изо рта» (крамеровская образность зачастую поднимается до высокого дурновкусия Бабеля, сражавшегося в своей Первой Конной по другую сторону линии фронта в тех же волынских лесах [14] ) дальше. От отвращения к земной юдоли — принятие, то, которое возвышает. «Чуток будь к земному чуду!» — призывает Крамер, замечая, что «память о добре вчерашнем / дорога равно повсюду / и созвездиям, и пашням», что знаменует взгляд — сверху. Герой Крамера изгнан человечеством, но его приветила Вселенная, где он и укоренен. Земное оставляет, оно лишь повод, служение чему-то более важному:
Порой, уморившись дневной суматохой,
закат разглядев в отворенном окне,
он смешивал известь с коровьей лепехой
и, взяв мастихин, рисовал на стене:
на ней возникали поля, перелески,
песчаная дюна, пригорок, скирда, —
и начисто тут же выскабливал фрески,
стараясь, чтоб не было даже следа
Он сподобился мудрости — «тем кровь моя зрелее, как вино» (натурфилософия возогнана из алкогольного, заметим). «Изначальность приходит к земле», а он идет, наблюдая, сторонний, как дервиш [15] . Ему, в отличие от Шеербарта, уже даже не надо учиться у детей:
Я никогда не ускоряю шаг,
не забредаю дважды никуда;
мне все одно — ребенок и батрак,
кустарник, и булыжник, и звезда.
Про нравственный закон не совсем понятно, но кантовские звезды никто не смог отменить — на них смотрят пропойца и ребенок, единое.
Александр ЧАНЦЕВ
[4] Из совсем недавних переводов можно вспомнить перевод Анны Глазовой: Целан Пауль. Говори и ты. Составление, перевод с немецкого и комментарии Анны Глазовой. New York, «Ailuros Publishing», 2012.
[5] У «Гилеи», издавшей Шеербарта, в этом плане очень хорошие намерения и по отношению к отечественным «неперворядникам»: среди «готовящихся к изданию» упомянуты Илязд, Ю. Марр, Т. Чурилин…
[6] Не совсем забыт он и в наши цифровые дни — сделали же ему довольно информативный и содержательный сайт scheerbart.de.
[7] Стоит только перечитать на этот предмет выходившие у нас беньяминовские «Маски времени».
[8] Доходит даже до текстуальных совпадений — «Скок! Скок! Скок» Шеербарта («Скок! Скок! Скок! Чудесная лошадка! / Скок! Скок! Скок! Куда ты держишь путь? / Махнешь ли ненароком через забор высокий? / Иль что-нибудь другое измыслишь как-нибудь?») — это по сути самый известный зонг Летова и «Гражданской обороны» «Прыг-Скок» в миниатюре.
[9] «Абсолют и есть эта точка самоотождествления. Но, повторю, чтобы она возникла, должна вначале произойти негация. Абсолют возникает как результат, как момент остановки негации, так как должна, в конце концов, появиться точка опоры». Конев В. Дантовы координаты как координаты культурного пространства. — «Топос», № 1, 2011, стр. 102.
[10] Кроме нескольких подборок, выходил целый сборник — «Для тех, кто не споет о себе. Избранные стихотворения» (СПб., «Дидактика Плюс», 1997).
[11] Семенова Е. Ну, щеточник, еще рюмашку тминной! — «НГ Ex libris», 2012, 6 сентября.
[12] Сейчас немецкие издания Крамера сопровождаются даже вокабулярами — не у каждого немца на слуху диалектизмы (венское «трафикант» — «торговец сигаретами»), англицизмами («блэкаут»), профессиональная лексика и прочие нахватанные им в жизни редкости («парадайзер» — сорт помидоров)…
[13] Крамеровские герои «болеют в меблирашках» и додумались даже до того, чтобы сдавать собутыльникам в кабаке зимнее пальто напрокат.
[14] «Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу» («Переход через Збруч»).
[15] «Дервиш», например, в казахском языке изначально и переводился длинно, но точно — «странствующий бедняк, отгоняющий духов».
Эстеты и панки
Д митрий Бобышев. Зима. М., Издательство В. Гоппе, 2012, 12 стр .
Маленькi макарони. Военные стихи. М., Издательство В. Гоппе, 2012, 34 стр .
Обычно в рецензионных материалах мы не указываем тираж. Здесь это, однако, принципиально. Тираж этих изданий — 10 экземпляров.
В каждой его книге есть то, что сейчас называется фишкой, — какой-то тайный замысел, позволяющий по-новому представить творчество поэта. Гоппе выпускал книги на деревянных кубиках и обожженных глиняных табличках, даже книгу-бутылку. Он снабдил издание Осипа Мандельштама светящимися иллюстрациями. Каждую свою новую книгу Гоппе делает центром небольшого художественного мирка. Работая над каждым изданием, он лепит скульптуру автора, причем тот может даже не знать о существовании этой скульптуры. Кроме того, к каждой книге Гоппе изготовляет, как сам называет эту конструкцию, библиостас. Художник так описывает его в интервью «Независимой газете»: «Организованное рабочее пространство художника книги, которым чаще всего является короб, разбивается на секции в виде несимметричной решетки, и в эти секции раскладываются различные предметы, одухотворяющие замысел» [16] . Библиостас — слово, не случайно отсылающее к религиозной традиции. Мне библиостасы Гоппе напоминают скорее не монументальные иконостасы православных храмов, а христианские реликварии, в которых могут бережно храниться самые незамысловатые предметы, освященные культом: скажем, шип из тернового венца или щепка, отколовшаяся от креста, на котором был распят, например, апостол Петр. Чем, например, уникален фарфоровый слоник из библиостаса к книге Осипа Мандельштама? — точно такие же слоники сотнями тысяч продавались в советских магазинах, но, попав в библиостас, он приобщается к миру писателя, освящается культом литературы.
Действительно, отношение Гоппе к литературе можно назвать почти религиозным.
В последние два года Виктор Гоппе издал сразу несколько книг, заслуживающих внимания: это и книга-альбом стихов Всеволода Емелина «Давайте начнем все сначала!!!!!» (2011), совмещенный с «Путаницей» Корнея Чуковского, и книга Александра Вознесенского «Северное сияние», для которой переработал статьи Корнея Чуковского об Уолте Уитмене так, словно бы они были написаны о Вознесенском и о нашем сегодняшнем дне [17] (об этой книге я уже писал для «НГ Еx Libris»)… К Чуковскому у Гоппе вообще особое отношение — недаром его стихи и статьи выступают в качестве иллюстративного ряда, некоего культурного эха.
В 2012 году вышла книга Дмитрия Бобышева «Зима». Напечатанная на обоях советского производства, эта книга — настоящий оммаж русскому кубофутуризму. Интересное решение. Бобышев, — как об этом пишет Дмитрий Кузьмин в аннотации, размещенной на тыльной стороне обложки, — наследник русского футуризма. И поскольку именно кубофутуристы стоят у истоков бук-арта в нашей стране, издание Бобышева стало для Гоппе поводом почтить память великих предшественников. Кажется, со времен футуристических сборников Гоппе первый в России начал использовать для оформления книг обойную бумагу. А выходные данные книги набраны поверх репринта обложки первого в России бук-арт издания — книги-поэмы Хлебникова и Крученых «Игра в аду». Что Гоппе использовал именно старые обои, тоже важно: это позволяет читателю физически, собственными пальцами ощутить течение времени (большая часть сборника составлена из стихов, написанных в 1960-х)…
В пьесе (или фрагменте романа) Леонида Костюкова «Человек или подвиг филолога» главный герой — пронырливый литературовед Лисянский восклицает: «Как, вы не знаете, кто такой Х — он же пил с Бродским!», будто факта совместного с Бродским посещения сосисочной достаточно, чтобы войти в историю литературы. Но если отбросить иронию, нужно признать, что рассматривать поэтов «ахматовской плеяды» вне Бродского сейчас невозможно. Разбирая Бобышева, невольно обращаешься к Бродскому. Читаешь строки первого стихотворения из книги: «…ты, / — не ты ли мне соляной — / в сердце — палочкой стеклянной — / ваву — кислотой вожгла?» И сразу же вспоминаются прославленные сериалом «Секс в большом городе» строки Бродского «И в сердце мне вонзилась грусть, / Как острая, холодная заноза». Cтроки Бродского? — непродолжительный поиск в интернете неумолимо утверждает: таких строк у Бродского не было, а было и есть стихотворение «Шесть лет спустя», в обратном переводе с английского на русский в нем и появляется эта «ледяная заноза», странно перекликающаяся со стеклянной палочкой из стихотворения Бобышева. Посвящено стихотворение Бродского, как мы помним, М. Б.
Поэтические биографии оказываются намертво сцеплены — даже, казалось бы, никак не связанные с Бродским стихи возвращают читателя к зиме 64-го. Стихотворение, написанное Бобышевым тогда же — в 1964 году — в книге тоже есть; формально это посвящение Евгению Рейну, но с не меньшим основанием оно могло бы быть посвящено Найману, или Бродскому… или самому Бобышеву. Образы четырех поэтов легко узнать в обреченно стоящих друг напротив друга, навечно сцепленных скульптурах. Для Бобышева это сцепленье оказалось действительно нерасторжимым. На одной из литографий Гоппе изобразил всех четверых друзей, причем Бродского — в образе быка Юпитера, похищающего Европу — музу, играющую на его рогах, как на лире. Бобышев же кормит быка — Бродского — стихами. На боку у быка, чтобы не оставалось никаких сомнений, красуются две буквы — JO. Двух оставшихся друзей так же несложно идентифицировать: в руках у них тетрадки, на которых можно прочесть два слога — МА и АХ, что даже самого непроницательного читателя заставит вспомнить о благоволившей молодым поэтам Ахматовой.
Виктор Гоппе первоначально не планировал заниматься бук-артом, в книгоиздательство он пришел почти случайно, хотя и по зову сердца: хотел помочь друзьям, книги которых не могли увидеть свет из-за цензуры. Однако это и определило его жизнь: Гоппе долго сотрудничал с поэтами лианозовской группы, его отношения с Игорем Холиным можно назвать поистине уникальными. Виктор издал шесть книг еще при жизни мэтра, причем ни одно стихотворение, изданное Гоппе, Холин не включил ни в одну другую публикацию. Поэт, торговавший антиквариатом, должен был прекрасно понимать, какой подарок он делает художнику…
Изначальная симпатия Гоппе к неподцензурной литературе сохраняется до сих пор. Ему по-прежнему интересны «возмутители спокойствия», выламывающиеся из политических, эстетических и любых других конвенций, нарушающие все мыслимые приличия.
Еще весной прошлого года в интервью «Независимой газете» Гоппе обещал выпустить напечатанный на старых рентгеновских снимках сборник гражданской поэзии «Пушечное мясо».
Революционные настроения обернулись пшиком, а вот сборник состоялся, но он оказался не таким, как планировалось изначально: получилось, так сказать, мясо с гарниром. Да, книга, составленная из рентгеновских снимков, действительно есть, называется она, как и задумывалось, «Пушечное мясо», только это не сборник разных поэтов, а собрание стихотворений одного автора (одного из любимейших авторов Виктора Гоппе) — Евгения Лесина [18] .
Но и замысел сборника не пропал: почти одновременно с роскошным изданием Лесина вышла и небольшая книжечка со стихами десяти разных поэтов и c названием на украинском языке: «Маленькi макарони (военные стихи современных авторов)».
Вначале сам замысел: почему (скажем, в случае Лесина) старые рентгеновские снимки? Рентгеновские снимки делались с сугубо практическими целями — обнаружить те повреждения, те источники боли, от которых страдает человек. Сегодня того человека, чьи кости запечатлены на снимке, может быть, уже нет в живых, а снимок все еще продолжает храниться — он остается свидетельством давно прошедших страданий. И в чем-то поэт, пишущий «на злобу дня», подобен этому рентгеновскому снимку — он, конечно, пишет о том, что тревожит современников здесь и сейчас, но если уж он настоящий поэт, то об этом «здесь и сейчас» он свидетельствует, извините за пафос, перед лицом вечности.
Почти такое же значение имеют старые советские фотографии, использованные для оформления сборника «Маленькi макарони»: жизнь, изображенная на них, осталась в прошлом, но ее мгновения сохраняются запечатленными на этих фотографиях. Источник иллюстративного материала для «Пушечного мяса» и «Маленьких макарон…», возможно, один и тот же — подчеркивающий тем самым родство проектов. Перед нами фактически блокнот в виде книги — или книга в виде блокнота в оранжевой суперобложке (как бы намекающей на «оранжевость» гражданской лирики — на ту же «оранжевость» иронически намекает и «фэйковое» издательство, указанное на обложке — «МЁстетство обороны культуры» — сочетание весьма химерное: «мЁстетство» на самом деле «мистецтво» по-украински означает «искусство»), в выходных данных стоит «ИЗД. ПРОЕКТ В. ГОППЕ. ИЛЛЮСТР. В КНИГЕ ВЫПОЛНЕНЫ В ТЕХН. ЦВ. ЛИТОГРАФИИ И ШЕЛКОГРАФИИ НА ФОТОБУМАГЕ. БЛОК СКРЕПЛЕН МЕТАЛ. ПРУЖИНОЙ И ЗАКЛЮЧЕН В СПЕЦ. СУПЕР».
Предисловие «От издателя», открывающее сборник «Маленькi макарони…», — по сути, манифест Гоппе о предназначении поэта. Гоппе своими словами пересказывает историю гибели Плиния-старшего. Оказавшись рядом с вулканом, он непременно своими глазами хотел «видеть пробуждени Везувия» (предисловие написано с нарочитыми опечатками) и задохнулся вулканическими газами. Гоппе никак не поясняет эту историю, но можно заключить, что, по его мысли, ожидающие пробуждения народных масс поэты должны быть столь же самоотверженны.
Однако иллюстративный ряд оставляет множество намеков на то, что современная социальная активность скорее похожа на созданный Остапом Бендером «союз меча и орала», чем на настоящую борьбу за народные права. На одной из иллюстраций красуется надпись: «Лондон нам поможет». Бендер в оригинале говорит — «Заграница нам поможет». На другой иллюстрации два субъекта несут гроб, раскрашенный в цвета российского флага, под ним надпись — «гробы А. Везенчук». И опять вспоминаются Ильф и Петров и их герой — гробовых дел мастер Безенчук. Заканчивается сборник «Маленькi макарони» литографией с насмешливым призывом «убирайтесь назад къ Гельману въ Пермь!» и фигурой улепетывающего, потерявшего ботинок и штаны поэта.
Впрочем, это не значит, что Гоппе разочаровался в социальной поэзии. Лучше всего его отношение к происходящему в стране отражает все же поэзия — завершающее сборник стихотворение Александра Вознесенского «Чту путч». В нем всякая общественная активность — фарс, а жизнь индивида никак не связана с происходящим вовне: «Приёмник тихо говорит / о ситуации в зоне стихийного / бедствия. / Наклею в дембельский альбом / правительственные приветствия». То, что, по мнению Гоппе, общественную жизнь подменяет фарс, подчеркивается еще одним способом: сборник украшают эротические картинки, подписанные советскими лозунгами: например: «Болтать — врагу помогать!», «Колхозники и колхозницы! Голосуйте за дальнейший подъем сельского хозяйства». Получается забавно.
Издание своей книги Гоппе хотел приурочить к проекту Политтеатра «Двенадцать»: одиннадцать современных поэтов читали свои стихи на социальные темы, Двенадцатым незримо присутствовал Блок (отрывки из его поэмы «12» прочитал Вениамин Смехов). Театр, впрочем, сделал ставку не на социальную направленность творчества, а на известность поэтов. Конечно, был на вечере и вечный бунтовщик-консерватор Всеволод Емелин (в США таких людей называют «South park республиканцами»). Были здесь же и левый радикал, революционер Кирилл Медведев, и певец пролетарского быта и тяжелой жизни люмпен-интеллигенции Андрей Родионов. Но выступал рядом с ними, например, и Дмитрий Воденников, которого с трудом можно назвать поэтом, пишущим на остросоциальные темы. Сотрудничества с театром у Гоппе не получилось. Однако в память о попытке остались иллюстрации, на которых изображены якобы занавесы МХАТа (с парящей чайкой) и театра «Практика» (с пикирующим бомбардировщиком).
Есть в сборнике стихи, написанные совсем недавно, буквально по методу утром в куплете — вечером в газете, например, вариация Андрея Родионова на блоковский текст «Девушки пели в масках в церковном хоре» или стихотворение Евгения Лесина «Широка страна, а не отстой» — эти стихи наследуют той же традиции, что и быковский проект «Гражданин поэт» — политические фельетоны с опорой на знаковые для советской культуры тексты. Разве что помимо классики стихи Родионова, Лесина и Емелина наследуют еще и панк-культуре, чего нельзя сказать о текстах Быкова. (Вообще, пародийный элемент, особенно там, где дело касается «актуальности», довольно силен — скажем, в стихотворении Андрея Родионова «в буфете дома литераторов / пьет пиво революцанер / пьет словно сам он люцифер / не видя даже провокаторов» пародируется соцартовский, сам весьма пародийный «милицанер» Д. А. Пригова).
Есть и стихи, написанные довольно давно, например не лучшее, но входящее в корпус основных текстов Всеволода Емелина стихотворение: «Воскресенье вербное, день рожденья Гитлера». Есть и текст уже четвертьвековой выдержки — «Они» Алины Витухновской. Если верить дате, созданы «Они» в 1986 году, когда поэтесса была еще даже не подростком — ребенком. И для ребенка это очень хорошее стихотворение, мастерство автора обсуждаемо, зато юношеского пафоса и максимализма хватит на десятерых: «Я сжимаю в руках солнца сгусток, / Остатки неба синего с солью. / Они называют это искусство. / Я называю это болью».
Или стихотворение Елены Фанайловой «Сараево поражает в самое сердце»…
Все же, наверное, стоило бы напечатать эти стихи поверх чужих переломов, вывихов и растяжений.
Юрий УГОЛЬНИКОВ
[16] Гоппе Виктор. «Делаю книгу — вижу фигу!» — «НГ Ex libris» (01.03.2012).
[17] Вознесенский Александр. Северное сияние. М., «Издательство В. Гоппе», 2012. — 10 экз. («Вулкан-Осумбез»).
[18] Лесин Джон. Пушечное мясо. М., «Издательство В. Гоппе», 2012. 10 экз.
Вигилии в дремлющем Третьем Риме
Р. А. Гальцева, И. Б. Роднянская. К портретам русских мыслителей. М., «Петроглиф»; Патриаршее подворье храма-домового мц. Татианы при МГУ, 2012, 758 стр. (Российские Пропилеи).
Р. А. Гальцева, И. Б. Роднянская. Summa ideologiae: Торжество «ложного сознания» в новейшие времена. Критико-аналитическое обозрение западной мысли в свете мировых событий. М., «Посев», 2012, 128 стр .
Объемистый том «К портретам русских мыслителей» — это книга‑итог, книга‑отчет, собравшая труды десятилетий во всем том жанровом разнообразии, которым мастерски владеют авторы. Пожалуй, книга не понравится тем, кто любит процесс искания истины (говорю без иронии). Здесь истина уже найдена и исповедуется: без фанатизма, но и без экивоков. Авторам удалось «ударить по пилатовщине» и показать, что твердость в вере не мешает мысли быть гибкой, культурно-утонченной, отзывчивой на сигналы и вызовы современности. Книга построена по принципу пирамиды: в основе лежат большие смысловые блоки, пять великих имен (Пушкин — Достоевский — Соловьев — Бердяев — Булгаков), вокруг которых группируются очерки и исследования, написанные в разное время и по разным поводам. (Последние три раздела в этой цепи имен по сути — три книги; трилогия в томе.) Далее следует вторая ступень из небольших очерков (Шестов — Флоренский — Франк — Федотов — Лосский и Штейнберг — Солженицын). Работы этого уровня менее эпичны, здесь больше характерных контуров и полемики; это скорее графика, чем портреты маслом. Третья ступень — статьи «на злобу дня», в которых авторы не боятся быть колючими и пристрастными. Собственно «портреты» — то, что дано на двух основных ступенях книги, — представляют собой особый жанр. Читателя сейчас не удивить культурными «иконостасами», которые должны возбудить в нас чувство гордости за те деяния, к которым мы, сказать по правде, не имеем никакого отношения. Этот жанр я не стал бы хулить: культурное беспамятство крепчает, и впору уже просто спасать портреты. Набоковский Кончеев по сходному поводу обрисовал картину бегства во время нашествия: «…причем непременно кто-нибудь тащит с собой большой, в раме, портрет давно забытого родственника». Во всяком случае, здесь перед нами другой способ портретирования: дается реконструкция дискуссионного поля эпохи, поля духовной брани; описывается история умственных сражений с профессиональным разбором ошибок и побед великих полководцев; и все это — с непривычным отсутствием фимиама. Авторы строги к великим , иногда кажется, что вот‑вот появится тень «святой инквизиции», но дело спасает то, что пишущие не выбирают привилегированную точку обзора, а включаются в суть дела, в хор спорящих голосов. Казалось бы — дерзость; но на самом деле неоправданно высокомерна как раз обратная попытка раздавать оценки просто потому, что живешь на сто-двести лет позже. А главное, критика в этой книге излучает любовь, которую нельзя имитировать. Я выделил бы особо разделы о Пушкине (Р. Гальцева), Соловьеве (совместно созданный) и Булгакове (И. Роднянская). Статья о Пушкине (собственно, рецензия на книгу А. С. Позова) при всей своей окказиональности дает рельефный портрет поэта-метафизика, философа не в метафорическом смысле, каковыми оказываются в своей интуитивной мудрости все большие поэты, а в буквальном. Точно и без натяжек указывается на стиль и ориентиры мысли Пушкина, на его мышление «миметически ощутимыми эйдосами». Совершенно непонятно, почему в статье утверждается, что нет исследований, которые трактовали бы «философию Пушкина»: их отнюдь не мало, и Р. Гальцева ссылается, скажем, на хрестоматийную работу Франка. Но ее очерк может занять место в ряду лучших хотя бы потому, что автор хорошо понимает, чем мысль отличается от образа и переживания, и почему для Пушкина было важно довести некоторые свои образы до понятийного чекана. Портрет Соловьева примечателен внимательной и сбалансированной реконструкцией его религиозной биографии, причем не в ущерб его целостному жизненному образу, что важно, если мы хотим понять ценность соловьевского наследия. Раздел о Булгакове дает духовную биографию мыслителя, уникальную по своей вдумчивости и решительному нежеланию сглаживать острые углы. Кажется, впервые восстановлена сама драматургия жизни Булгакова и соединена с логикой его духовных поисков. Попутно И. Роднянская развеивает миф об «обыкновенности» Булгакова (так же, как в соответствующем разделе Р. Гальцева блестяще уничтожает пошлый и непрофессиональный топос о «поверхностности» Бердяева).
На последнем «этаже» книги авторы позволяют себе пристрастность и субъективность, но право на это они обосновали в главных разделах книги, доказав свое умение размыкать горизонты личной точки зрения. Не всем в этой части понравится глава о Флоренском: в своем развенчании мыслителя авторы в нашей научной литературе остаются едва ли не в одиночестве. Но если оценки спорны, то сам интеллектуальный портрет Флоренского отнюдь не произволен и заставляет получше «оглядеться». Нашел в книге место и вечный спор о «Вехах»: им посвящены два раздела. Я разделяю позицию авторов, но все же в этом случае не помешали бы дистанцированность от столетней давности события и учет корпуса разного рода «Анти-Вех», которые ведь не всегда были по-ленински глупы и представляли свою глубокую традицию. Не берусь судить, насколько справедлива статья о «православном энергетизме», но, как бы там ни было, мы должны наконец-то научиться правилам внимательной оценки того, что происходит сегодня в религиозной мысли, и такой опыт с точки зрения ортодоксии‑прямостояния тоже очень важен. Замечательна по трезвости и остроте взгляда (чуть не сказал бестактно — вольтеровской) статья о «политическом православии». Если авторам придется когда-нибудь греметь кандалами, то — за нее.
Статьи последнего раздела воинственно критичны. Но они не вызывают раздражения: в них нет агрессии, но есть твердое намерение осуществить «различение д у хов». Мне кажется, что сейчас это искусство нужно как никогда. Сегодняшней культуре не хватает своего рода гироскопа, который фиксировал бы опасные отклонения. Понятно, почему: слишком уж много вокруг самозванных инспекторов. Но наши авторы предъявляют не инвективы, а аргументы. Они — критики в исконном смысле. Слова «критика» и «кризис» восходят к греческому глаголу «крино»: разделять, выбирать. «Критэс» — это тот, кто умеет рассудить и сделать выбор, толкователь, сторонник. И такой критики — по‑прежнему мало.
Теперь о второй книге, созданной в совершенно другом жанре, который сам по себе уже стал достоянием истории и предметом изучения культурологов-советологов: это — жанр информационно-аналитического обзора, предназначенного «для служебного пользования». Таковым и было первое издание данного труда. (У меня на полке стоит этот реферативный сборник 1987 года с тюремно-полосатой обложкой и номером зэк , пардон — экз. 000457 ). Удивительно, что для переиздания ничего менять не пришлось, кроме предисловия, библиографии и нескольких примечаний. Авторы этого «обзора» в оные времена славились дерзким умением вставить в корректную упаковку совершенно невозможное для любого неленивого цензора содержание. Плохо другое: актуальность этого текста также не изменилась, если только не обострилась. Исследование направлено на разгадку одной из «тайн беззакония», на феномен идеологии — этого знаменательного порождения Нового времени, которое во второй половине XX века некоторые политдоктора уже собирались было хоронить, но вскоре поняли, что пациент даже не болел, а только наливался силами. Небольшое по объему, это сочинение все же — настоящая Summa по своей системности и резолютивности. В нем рассмотрена сама природа идеологии как формы духа; ее исторические истоки и социальные субстраты (прежде всего — интеллигенция и «массовидный» человек); поразительная способность идеологий исподволь проникать в подлинную традицию и имитировать преемственность; современная мутация «классических» идеологий в причудливые смеси из несовместимых элементов; наконец — ценностный релятивизм с его вполне абсолютистским диктатом при внешнем плюрализме. Ресурс проанализированных источников впечатляюще велик; теоретики, которые попали в поле зрения наших авторов, по большей части выдержали испытание временем и остались в числе обсуждаемых мыслителей. Читатель, несомненно, почувствует преимущество «реферативного обзора»: мы попадаем в силовое поле темпераментных дискуссий 60 — 80-х, видим весь спектр мнений, по сути — получаем энциклопедию идейных баталий того времени, но не испытываем давления со стороны обозревающего «я» (или «мы»). Но, при всем том, не стоит обманываться реферативной формой работы: это авторская патетичная книга, проникнутая дискуссионным настроением, ни на одной странице на забывающая «злобу дня» и не скрывающая личную позицию своих создателей.
Что же это за монстр — идеология? Я рискну определить ее так: идеология — это идея, которая служит внеидейной силе как ее интеллектуальное оформление и оправдание. Само по себе это дело обычное и нестрашное. Худо, если при этом идеология выдает себя за идеи и занимает их место. Из всех многочисленных бастардов Просвещения этот — среди самых жутких, поскольку он разъедает саму основу цивилизации: способность к разумному целеполаганию. Р. Гальцева и И. Роднянская воспринимают это явление как вызов на смертный бой, и невинный жанр обзора превращается ими в публицистическое контрнаступление: в каждой реплике от имени авторского «я» трубит горн и созываются немалочисленные союзники. Попутно выясняется, что не все «клерки» (если позаимствовать мотто Ж. Бенда) оказались предателями своей миссии. (Самое удивительное при этом, что аналитическая объективность и корректность не приносятся в жертву. Кажется, сегодняшние аналитики так не умеют). В своей работе авторы особенно внимательны к проблеме «кто виноват?» и детально воспроизводят те концепции, которые выявляют истоки идеологической одержимости в европейской истории. Увы, эти патогенные факторы продолжают действовать, и потому ни авторов, ни читателей не будет радовать возрастающая актуальность этого «обзора».
Если том «К портретам…» — эмоциональный, ярко написанный, плотно заполненный мыслями и хорошо оформленный — будет, конечно, иметь читательский успех, то в судьбе малотиражной «Суммы...» я не уверен. Но мне жаль эту блистательную книгу-золушку, которую надо бы раздавать как листовки и которая опять останется непрочитанной.
Александр ДОБРОХОТОВ
КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕКАТЕРИНЫ ДАЙС
Михаил Вайскопф. Влюбленный Демиург. Метафизика и эротика русского романтизма. М., «Новое литературное обозрение», 2012, 696 стр. («Научная библиотека»).
В ожидании Конца Света особенно любопытно читать, как это было в прошлые эпохи. Согласно вычислениям швабского мистика И. А. Бенгеля, «битва Христа с Антихристом» должна была состояться в 1836 г. В ожидании этой даты, по наблюдениям Чижевского и Винницкого [19] , был создан и гоголевский „Ревизор”» — пишет Михаил Вайскопф в своей новой книге.
Этот 700-страничный талмуд — настоящий подарок для всех любителей гностицизма, масонства и русской литературы. Рассматривая русский романтизм с точки зрения масонско-пиетистского дискурса, Вайскопф создает настоящую энциклопедию русского гностицизма XVIII — XIX вв., со всей убедительностью, на обширном и тщательно проработанном материале показывая, что большинство русских писателей и не скрывали своих мистических озарений. «Согласно русским „каменщикам”, поклонникам Я. Беме, Дж. Пордеджа и маркиза Л. К. де Сен-Мартена, человек и вся природа сотворены были светлыми и чистыми, земля была „верной женой своему мужу” — небу. Но грехопадение Адама „изгнало его из рая, погасило в уме его светильник небесной Премудрости и низринуло в нем весь человеческий род в царство болезней, труда и смерти — на землю, покрытую тернием и волчцами”, ибо оно повлекло за собой и падение „всей натуры”: изначальный свет ее был пленен тьмой и материей. Это был тот самый „платонизирующий” (а в сущности, компромиссный либо, если угодно, умеренный) гностицизм <...> который претендовал на исцеление падшего мира, — в отличие от более радикальных гностических или христианско-дуалистических учений, призывающих к бегству отсюда. По своему основному тону он очень близок к каббале — точнее, вобрал в себя ее христианизированную версию».
Книга Вайскопфа насыщена многочисленными весьма полезными ссылками на труды, посвященные масонству в русской культуре. И если следовать правилу, придуманному в юношестве Алистером Кроули — прочитывать все произведения, упомянутые в книге, то перед нами, по сути дела, ветвится универсальная энциклопедия русского текстуального эзотеризма. Эрудиция автора, его неожиданно меткие и хлесткие формулировки не могут не восхищать. Вот, например, несколько из них: «…безнадежно архаичный Карамзин, писавший ее [Историю государства Российского] с оглядкой на Тита Ливия», «заклинания Погодина и Шевырева, гекзаметры Деларю, ритмизованная теургия Гоголя — все это совершенно однородные сигналы элитарно-жреческого сознания. <…> Их „ангел-хранитель”, витающий над изголовьем, — это, в сущности, гибрид Христа с Аполлоном».
Рассматривая как произведения русских писателей-романтиков первого ряда, так и творчество их напрочь забытых современников, Михаил Вайскопф дает такое автометаописание своей книги: «Сюда вовлечены тексты, в том или ином виде прикосновенные к религиозной метафизике и нанизанные на стержень единого эротического сюжета, проходящего, как мне кажется, сквозь всю русскую литературу». На самом же деле эта книга представляет собой нечто большее, совершенно меняющее наши, укоренившиеся и закоснелые, представления о русской религии и культуре.
Татьяна Щербина. Новый Пантеон. М., «Барбарис», 2012, 152 стр.
Татьяна Щербина занимает на русском поэтическом небосклоне особое место. В каком-то смысле она исполняет роль медиатора — между русской и французской культурами, между миром словесного и визуального. Вспомним их с Александром Тягны-Рядно совместный проект «009 — Крещендо нулевых», на презентации которого Татьяна читала стихи на общественно-политические темы под непрерывное слайд-шоу из 1000 фотографий 2009 года, авторства Тягны-Рядно. У Щербины личностное отношение ко времени. Она его бережно хранит и распутывает тончайшие связующие нити между, казалось бы, несхожими событиями, людьми, текстами. Эта работа схожа с нащупыванием синхронистических связей между эпохами. И вот наконец в этом году издательство «Барбарис» выпускает в свет четыре книги — то недостающее звено, которое позволяет объяснить эволюцию Татьяны Щербины от поэта полусалонного-полуподпольного к лирику, тонко чувствующему политику, отмечающему с безжалостностью Радищева типическое и неустранимое в русской культуре, к литературной даме, ведущей за собой, как Свобода Делакруа.
Однако дадим слово издателю, Ирине Тархановой: «Авторские книги Татьяны Щербины созданы в восьмидесятые годы. Тогда мы с Таней и познакомились. Рисованые и машинописные страницы ее стихов и прозы условно назвали „стихографикой” в журнале „Ракурс”, который вместе делали. С тех пор Танина графика для меня скорее всего другое и... другое — увражи с какой-то мерцающей планеты, параллельной цивилизации. Татьяна Щербина для меня так же и не поэт, как впрочем, и публицист, в традиционном понимании. Все что она создает, придумывает и сочиняет — это сплав хрустальной математики, академической философской штудии и страсти самурая. Татьяна Щербина — отдельное мистическое Пространство» [20] .
Книга «Новый Пантеон» — тоже из увлечения Францией, от классицистического парижского Пантеона и одновременно — от оценки автором себя как будущего классика (пантеонами называли литературные сборники, содержавшие лучшие образцы разных видов поэзии). В этой книге, написанной преимущественно от руки, Татьяна Щербина предъявляет читателю три вида текста — стихи, проза и машинопись, становящаяся в современных условиях тоже чем-то вроде ручного текста, древней клинописи, выбитой забытым способом. Статья в «Новой газете» [21] , посвященная выходу в свет этих книг, недаром называется «Четыре шедевра». Это произведения мастера, выдержанные временем и приобретшие новый вкус. Они красивы, просты и пластичны, в них есть столь характерные для Щербины личная интимность и общественное, общечеловеческое значение.
Снежная пустыня, белый сад,
Небо в паутине черных веток,
Меховые звери вместо клеток
В молодых сугробах спят.
Золотые окна у избы,
Дым недвижно всходит из трубы,
По ступенькам жар ползет с порога,
Превратясь в застывший водопад.
Изнутри нет стен, но виден ход,
Глаз, достигший точки, видит много.
Дальше — никакая не дорога:
Пирамида так глядится в свод,
Готика провидит Бога,
Голос, источаясь, так поет.
Эдуард Лимонов. Illuminationes. М., «Ad Marginem», 2012, 224 стр.
Есть некая даже рутина в том, чтобы регулярно обнаруживать, что тот или иной современный русский писатель является тайным гностиком по своим убеждениям или мироощущению. Но случай с Лимоновым особый. В своей последней книге «Illuminationes» писатель открыто выступает в качестве гностического ересиарха, выдвигая оригинальную, на его взгляд, идею о природе и происхождении человека. И заключается она в том, что люди — это биороботы, созданные для того, чтобы служить энергетической пищей высшим существам.
Похожая идея содержится в романе философа Вадима Розина «Вторжение и гибель космогуалов» (2007). Космогуалы — это инопланетные существа, поработившие людей и питающиеся их психоизлучениями, при этом способствуя творческому развитию своих доноров. Космогуалы предпочитают такие психоизлучения, какие «выделяются при реализации властных отношений и коллективных действий. То есть они выбрали обезьян не случайно: и властные отношения и коллективные действия у обезьян хорошо развиты, причем строятся на основе достаточно сложной сигнальной системы... Общая линия воздействия космогуалов была направлена на постоянное возрастание властных и коллективных психоизлучений. Поэтому космогуалы внушали людям прогрессивные идеи, подталкивали к изобретениям, склоняли к сохранению новшеств, то есть заставляли делать все то, что составляет основу культуры. Чтобы предельно замаскировать свое присутствие на земле, космогуалы способствовали развитию прежде всего тех трех феноменов, которые выступали для людей в форме семиозиса, мышления и социальных институтов. За счет этого цивилизация космогуалов внешне полностью сливалась с „телом человечества”».
Мир, который описывает Лимонов, выдержан в лучших традициях гностического универсума: «Во Вселенной нет морали, нет ничего доброго, как и злого. По сути своей Вселенная безжалостна и неумолима… Вселенная бесстрастна… Ее закон — недоброжелательность, холодный интерес, уничтожение одних сил другими». Приводя многочисленные, часто повторяющиеся цитаты из Ветхого Завета и Корана (который автор на арабский манер именует Кураном), писатель выстраивает логичную, со своей точки зрения, историю, пытаясь разрешить противоречия, возникающие при чтении первых глав Бытия (о числе богов и количестве сотворенных перволюдей). Все эти вопросы обычно обсуждаются на первых курсах гуманитарных факультетов, на семинарах по истории религий. Лимонов с восторгом неофита открывает глаза на теологические нестыковки, основное внимание уделяя проблеме теодицеи, или оправдания Бога. И здесь он подходит вплотную к гностической установке на разделение создателей (демиургов) и верховного Божества, благого по своей природе: «Хищные и прожорливые создатели находили уместным тщательно скрываться под личиной Богов — якобы добрых пастырей».
Обильно цитируя «Против ересей» Иринея Лионского, Лимонов предпочитает избранные места из гностика Карпократа, самого себя ставя в тот же ряд, где находятся известные нам гностики: «Безусловно, я сознаю себя ересиархом, записывая все это. Пишу я ручкой, у меня четыре дня назад описали имущество, в том числе лампу и пишущую машинку. Но еще не стемнело, и рука моя в мои 65 лет резва и тверда, как подобает руке ересиарха… Ближе всех к моим взглядам, к моей ереси были гностики. Гностикам казалось, например, что быть творцом такого мира, как наш, постыдно. Поэтому они попробовали создать модель такого Божества, которое не было бы причастно вообще к нашему миру».
Лимонов уделяет внимание и Оригену, «этому великолепному типу», самому талантливому из древнехристианских авторитетов. Кстати, Ориген также присутствует в качестве одного из персонажей в последней книге Андрея Полякова (о ней будет ниже).
В религиозных исканиях Эдуарда Лимонова есть что-то невероятно трогательное, опсиматически-оптимистическое. Есть такие персонажи, которым можно простить все: и чрезмерную экспансивность, и недостаточную образованность, поскольку в них содержится нечто подлинное, необъяснимое обычными критериями.
Гасан Гусейнов. Нулевые на кончике языка. Краткий путеводитель по русскому дискурсу. М., «Дело», 2012, 240 стр.
Гасан Гусейнов — профессор античной литературы, русский либерал и открытый атеист, сделал книгу, которая сразу же всколыхнула образованную часть нашего общества и попала в шорт-лист премии Андрея Белого. Что же в ней такого интересного? В какую болевую точку попал Гасан Гусейнов? Прежде всего о стиле: это стиль дружеских подколок, понятный для людей своего круга, но одновременно и стиль просветителя, не особо рассчитывающего на успех. Вот, например, цитата: «…много лет спустя я сам решился на эксперимент: в длинной статье по мифологии называл главного героя гомеровской „Илиады” то Ахиллесом (в тексте статьи), то Ахиллом (в комментариях). Увы, никто этого мелкого хулиганства не заметил. Даже корректор издательства АН СССР. Приближались времена перестройки, менялись названия городов и государств, тут уж было не до Ахилла-Ахиллеса». Или: «…виночерпием на Олимпе была прекрасная Геба (имя ее, кстати, одного корня с широко употребляемым, но редко анализируемым русским глаголом с общим значением „упражняться в юношеском росте”». И вот таких завуалированных шуток полна эта книга. Однако под маской трикстера-пересмешника зачастую скрывается лицо трагедии.
Какие качества свойственны русскому языку «нулевых»? Какие сдвиги, смещения, метаморфозы произошли или происходят? Прежде всего это катастрофическое упрощение: «Ни одна редакция газеты или журнала не сможет выполнить без ошибок простейшее упражнение для школьников 6 класса». Числительные теперь не только не могут склонять, но даже и единицы летоисчисления произносят и пишут как «двадцать двенадцать» (20/12). Это время милиционеров, различающих, в отличие от филологов, до десяти различных акцентов. Это битва за букву «Ё» — оставлять или не оставлять ее в письменной речи? И эпоха блоггеров — через двойное «г»: «Удвоение буквы в слове остается до поры до времени знаком общественного признания. Или самоуважения».
Гасан Гусейнов и сам блоггер, что естественно для постмодерниста. Нет ничего более похожего на ризому, чем ЖЖ! Место блогов в доблоговой культуре, по Гусейнову, занимали дневники выдающихся людей. «Вчера в поезде начал читать вышедшие в немецком переводе записные книжки Сьюзен Зонтаг 1947 — 1963 годов… Вот она пишет, как сама жадно глотала дневники своих любовниц. Потому что „дневники для того и существуют, чтобы другие их тайком читали”. Она ненавидит тайны. Но пытается разгадывать загадки, которые загадала ей собственная природа. Например, загадку своей гомосексуальности. Зонтаг узнала в себе лесбиянку еще до замужества… Добравшись до дома-до хаты сети, посмотрел, что пишут о Зонтаг в Википедии. В английской, немецкой и им подобных версиях — все как есть. А по-русски — все та же тошнотворная цензурная мразь: конечно, в лучших традициях советской нравственности».
В каком-то смысле взгляд Гусейнова на лингвистические процессы, происходящие в нашем обществе, — это взгляд с Парфенона. На многое, казалось бы сиюминутное, он смотрит через призму античной эстетики и простоты. Лесбиянка Зонтаг, чьи дневники Гусейнов читает в подмосковной электричке, оказывается младшей сестрой жительницы острова Лесбос, поэтессы Сапфо. А хитрость рыночных торговцев, выдающих яблоки сорта «греннисмит» за «симиренко», напоминает о состязании Муз с Пиеридами, передавшими подопечным Аполлона свое имя. Езду же по встречке автор объясняет через философию солипсизма.
Эти «слова нулевых» предельно индивидуальны и одновременно с этим предельно всеобщи. Они объединяют разные социальные страты, людей разного уровня образования и доходов. Собирая слова, Гасан Гусейнов делает то, на что неспособны традиционные инертные словари, в которых невозможно обнаружить живого дыхания жизни. Его истории, подслушанные в электричке по дороге в Переделкино, становятся анекдотами, а статьи о русском языке — жареными филологическими новостями, в которых каждый узнает себя.
Бестиарий в словесности и изобразительном искусстве. Составитель А. Л. Львова. М., «Intrada», 2012, 183 стр.
Уже второй год подряд в «неэффективном» РГГУ проходят конференции, посвященные бестиариям. Бестиариями, как известно, в Средневековье называли сборники «зоологических статей, в которых наряду со сведениями о реальных животных содержалась информация о вымышленных существах (василиске, кентавре, единороге и т. д.). Описания животных зачастую далеки от истины. Они имеют нравоучительно-аллегорический смысл и являются одним из видов мистической зоологии, отразившейся также в изобразительном искусстве, в проповедях и поэзии», — пишет А. В. Скрябина в статье «Странно безобразные образы „Магического бестиария”» Николая Кононова». Трудно перечислить все статьи данного сборника, заслуживающие прочтения. Это и работа «Риторический бестиарий Кантемира» — о незаслуженно забытом русском классике, из которого черпали многие наши поэты, авторства О. Л. Довгий, и статья В. К. Былинина и Д. М. Магомедовой «Из наблюдений над бестиарием Александра Блока: Птицы Гамаюн, Сирин, Алконост и другие». И исследование Бориса Орехова и Марии Рыбиной «Животный мир „Слова о полку Игореве” в переводе Филиппа Супо». Рецепция бестиария древнерусского памятника французским сюрреалистом — воистину захватывающий сюжет! Борис Орехов, кстати, известен как молодой ученый из Уфы, вычленивший из тысяч страниц новостного сайта Lenta.ru ключевые слова последнего десятилетия, среди которых большинство техногенных: «авиакомпания, айпад, айфон, блог, видео, кризис, мега, модернизация, нанотехнология, нацпроект, несогласный, оборотень, откат, перезагрузка, превед, распил, рында, соцсеть, спецоперация и супермен».
Статья Ольги Казмирчук «Образы животных в литературном творчестве детей» затрагивает тему творческого личностного развития. Она посвящена анализу образа кошки — самого распространенного зверя в стихах и прозе воспитанников литературного кружка «Зеленая лампа» при бывшем Дворце пионеров.
Статья О. А. Кулагиной «Языковая репрезентация „чужого” как зверя в эпических текстах старофранцузского периода (IX — XIII вв.)» посвящена анализу образа «львиного сердца» в двух литературных памятниках — одном очень известном, это «Песнь о Роланде», и другом менее известном, но как раз появившимся впервые в русском переводе в 2012 году (причем сразу в двух — в поэтическом и в прозаическом), а именно «Песни об Альбигойском крестовом походе», посвященной взятию и разрушению французского города Альби, центра так называемой ереси катаров. Кулагина отмечает, что лев — как животное амбивалентное — ассоциировался одновременно и со святыми, и с Сатаной, таким образом, львом могли назвать и своего и врага. «И сам граф де Монфор, обладающий львиным сердцем, поселился в Каркассоне».
Хочется отметить также и статью И. В. Пешкова, посвященную поискам настоящего Шекспира, хотя и несколько надуманным, на наш взгляд, ибо какая разница, был ли Гомер женщиной, как считал Роберт Грейвс, а Шекспир — режиссером Эдуардом де Вером (гипотеза Пешкова)? В конечном счете это не имеет никакого значения, ведь тексты, отделяясь от автора в мучительном процессе, сопоставимом с родовыми муками, начинают вести свою собственную, независимую жизнь. Правда, Пешков подкупает своей нетипичной для критика искренностью: «Сколько ни исследуй форму книги, рано или поздно придется заняться содержанием, грубо говоря, прочитать и понять, что там написано. Но подобное „зачитывание” отняло бы у меня слишком много сил, а у читателей слишком много времени, так что здесь я просто предлагаю краткий дайджест этого содержания».
Золотой век GrandTour: путешествие как феномен культуры. Составление и общая редакция В. П. Шестакова. СПб., «Алетейя», 2012, 304 стр. («Золотой век»).
Эта книга — парная к предыдущей. И объединяет два издания незримый образ Игоря Сида, активно вводившего в московскую литературную среду два ключевых в этом плане термина, зачерпнутых им из ноосферы. Я имею в виду понятия «зоософия» и «геопоэтика». Проведя в Москве несколько сотен литературных акций, многие из которых были посвящены геопоэтике, или философии пространства, и зоософии, или философии животных образов (включая знаменитые вечера в Московском зоопарке, где поэты и писатели дискутировали с зоологами-специалистами по тем видам животных, которых они упоминали в своих текстах), Сид воздействовал на культурную и научную жизнь, сделав «зоософию» и «геопоэтику» очевидным трендом. Так, в книге «Золотой век GrandTour» целых два материала плодовитого крымско-московского автора Александра Люсого, регулярно участвующего в акциях Крымского геопоэтического клуба, проводимых Игорем Сидом. Это тексты «Путешествие Екатерины II в Крым как спектакль и проект» и «Лаокоонград, или Стамбул с невидимыми змеями» [22] .
Философ Владимир Кантор предъявляет нам новое прочтение «Путешествия из Петербурга в Москву». В нем Радищев предстает мистическим прорицателем, наподобие пророка Даниила, предрекающим распад империи, ученый сравнивает его слог с риторикой Аввакума. Кантор отрицает традиционное представление о самоубийстве Радищева, считая его смерть несчастным случаем и споря с Григорием Чхартишвили, который провозгласил Радищева первым русским писателем-самоубийцей. «Иногда он просто переносит свое движение в некое вневременное пространство, как бы выходя за пределы земного, своего рода посланник свыше: „Зимой ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. Может быть, и зимою и летом”».
Кантор полагает болезнь Радищева основной движущей силой его путешествия, разоблачающего ужасы царизма. «Достоевский полагал, что болезнь настраивает определенным образом чувства человека, помогая ему постигать болезненные проблемы, даже миры иные. Томас Манн видел в болезни предпосылку творчества». Такой болезнью для Радищева, по мнению Владимира Кантора, стал сифилис, который в то время не лечили. Чувствуя свою вину перед рано умершей женой и больными детьми, Радищев свое раскаяние трансформирует в социально-политический протест, осознавая себя частью помещичьего класса, развращающего чистое, в руссоистском понимании, крестьянство. Таким образом, движение из Петербурга в Москву оказывается путем от дворянско-имперского разврата к чистоте старых московских нравов.
Игорь Кондаков в тексте «Музыкальное путешествие в ХХ веке: из России и обратно» рассматривает произведения двух великих русских композиторов, Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича, через призму путешествий. Последний, правда, путешествовал, в основном, в воображении. А настоящая трагедия Прокофьева заключалась в том, что тот после эмиграции решил вернуться в СССР, социальных и бюрократических механизмов которого до конца не осознавал, и никак не мог понять, почему его произведения не ставят на сцене, хотя контракт уже подписан, а деньги заплачены. Прокофьев, согласно Кондакову, пытался все время примирить разные полюса русской культуры: «Своей шекспировски великой музыкой он звал к национальному примирению российских Монтекки и Капулетти — вчерашних „красных” и „белых”, советских людей и эмигрантов, представителей „нового” и „старого” мира, Советского Союза и Запада, реалистов и модернистов. Это ему не удалось, но в конечном счете, как говорят в наше время, „попытка засчитана”».
Занятная статья Ольги Казниной рассказывает о путешествии Льюиса Кэрролла в Россию, послужившем, по мнению исследовательницы, побудительным мотивом для написания им «Алисы в Зазеркалье». Метафора России как Зазеркалья Запада, на мой взгляд, очень продуктивна. Но хочется добавить еще одну деталь. Когда Льюис Кэрролл посетил Петербург, он услышал церковное пение в Исаакиевском соборе и «отметил, что такого баса, как у дьякона, ему до сих пор не приходилось слышать». Выскажу предположение, что Кэрроллу удалось услышать знаменитого деда московской певицы, поэта и шамана Веры Сажиной. И таким образом от нас до Кэрролла оказывается всего несколько рукопожатий.
Сильвия Зассе. Яд в ухо. Исповедь и признание в русской литературе. Перевод с немецкого Б. Скуратова, И. Чубарова. М., РГГУ, 2012, 400 стр. («Россика / Русистика / Россиеведение»).
Перед нами первая книга в РГГУшной серии «Россика. Русистика. Россиеведение», призванной донести до современного русскоязычного читателя важнейшие достижения мировой славистики. А возможно, и последняя в свете сообщения о признании РГГУ неэффективным вузом. Не исключено, что перед нами — артефакт уходящей культуры, последний осколок издательской программы РГГУ, свежая, только что законченная фреска из Помпеи прямо перед самым извержением вулкана.
Эта книга посвящена анализу двух типов исповеди: светской, во время допроса, и церковной, во время отпущения грехов. Название в русском переводе взято из эссе Павла Пепперштейна «Окошечко для исповеди» и означает тот «повествовательный коитус», который происходит в процессе исповеди. В ухо священника, настаивает Пепперштейн, вливается яд греха, наподобие яда, убившего отца Гамлета. Это отрава культуры, прерывающая довербальное состояние первобытного Рая.
Основной тезис Зассе заключается в следующем: «Исповедание… вплетено в сложную сеть прямых и косвенных обращения, молитвы, взыскания о заступничестве, вопроса, ответа и отпущения грехов… Литературные исповедания и признания, в свою очередь, не только содержательно воспроизводят эти церковные таинства… но и переносят ситуацию коммуникации между исповедующимися и исповедником, сознающимся и судьей еще и на взаимоотношения текста с читателем» [23] .
Книга Сильвии Зассе помогает понять, почему, к примеру, Елена Колядина получила «Русский Букер», но не получила премию «Нонконформизм», хотя, казалось бы, ее словесные эксперименты скорее имеют отношение к нонконформизму, чем к литературному мейнстриму. Широко распространявшийся в Интернете отрывок из романа Колядиной «Цветочный крест» — ключ к пониманию этой коллизии. Начинался он с фразы, ставшей мемом, накормившим многих хохмачей: «В афедрон не давала ли?» А далее идет эпизод с исповедью, стилизованной под старославянский, на котором молодой отец Логгин (нет ли здесь отсылки к логинам в социальных сетях?) беседует с сексапильной Феодосией. Специалисты находят в этом эпизоде много ляпов и грубых ошибок, но здесь дело не в этом.
Послушаем Сильвию Зассе. Ссылаясь на книгу А. И. Алмазова «Тайная исповедь в православной восточной церкви», исследовательница пишет: «наглядность вопросов исповеди зачастую лишь склоняла к греху, так как знакомила исповедующегося с вещами, о которых он до сих пор не имел ни малейшего понятия». Вместе с тем Алмазов подчеркивает, что на практике русскую исповедь, в отличие от греческой, следует характеризовать как «грубую», «если даже не как циничную», так как она гораздо откровеннее и подробнее греческой. Поскольку все каталоги вопросов без исключения относятся к нарушению седьмой заповеди, исповедный диалог необходимо заранее квалифицировать как «чрезвычайно деликатный» [24] .
Вот отсюда и Колядина с ее «афедроном», отразившая не уникальное, нонконформистское, а типическое для русской культуры.
Основы литературной исповеди в европейской культуре были заложены двумя людьми: бывшим манихеем (у нас — Блаженным, а на Западе — Святым) Августином, и Жан-Жаком Руссо, к имени которого отсылает не только райский уголок столичных хипстеров, кафе «Жан-Жак», но и ЖЖ, Живой Журнал. Как и другие социальные сети, ЖЖ заменяет отсутствующий для части образованного класса институт исповеди. Почему отсутствующий? Ответ на этот вопрос мы снова находим у Сильвии Зассе, пишущей о «Духовном регламенте» Феофана Прокоповича, «который санкционировал отмену тайны исповеди и обязал духовных лиц передавать всю возможную информацию, которая могла бы представлять интерес для царского дома». То есть, начиная еще с эпохи Петра I, тайна исповеди в России нарушалась в угоду государственным интересам. Логично предположить, что это повлияло на авторитет церкви. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, и медицинскую роль исповеди в новейшее время стали заменять «статусы» и «посты» в различных социальных сетях. В слове «пост» применительно к русскому языку явно присутствует оттенок религиозного смирения. «Запостить» что-нибудь означает смирить свою гордыню и признаться всему миру (который на самом деле для каждого «постящегося» состоит из значимого для него сообщества, референтной группы) в своих актуальных словах и делах письменно, как это делали монахи, лишенные возможности устной исповеди. Проявить себя, по выражению Мишеля Фуко, в качестве «исповедующегося животного».
Венсан Уаттара. Жизнь в красном. Перевод с французского Марии Павловской. М., «КомпасГид», 2012, 128 стр. («Гражданин Мира»).
Книга Венсана Уаттара с неожиданной стороны показывает историю взросления женщины из Буркина-Фасо — со счастливого детства, внезапно прерванного традиционным для многих африканских племен женским обрезанием. Когда героине, Йели, исполнилось девять лет, в дом «пришла старушка, она еле переставляла ноги, опираясь на палку. Ее звали Самбена». Считается, что женское обрезание снижает либидо и тем самым способствует супружеской верности. В этом есть и рудименты инициации — обряда, помогающего переходу из детской во взрослую жизнь.
Кстати, подобным образом — как инициатический обряд — можно трактовать и повсеместную ежегодную диспансеризацию в российских школах. Массовый медицинский медосмотр объединяет детей одного возраста точно так же, как и девочек в хижине старушки Самбены. Пережитый и преодоленный страх и физический дискомфорт, если не боль, способствуют взрослению ребенка, посвящают его в полный страданий мир взрослых.
«Таковы мы, женщины с заткнутым ртом, подчиненные глупым правилам, уничтожающим нашу жизнь. Потому что общество любит тех, кто подчиняется предписанным правилам и нормам. Потому что каждая из нас должна страдать в глубине души, чтобы сделать счастливыми других и быть для них образцом». Но наша героиня не смирилась. Будучи невестой своего двоюродного брата, она влюбилась в другого юношу, казавшегося ей более красивым и смелым, чем жених. Вроде бы удача оказалась на ее стороне — поехав на заработки, жених пропал без вести. Но дальше все оказалось еще хуже, и она становится второй женой отца своего любимого. Дальше все как в телесериале — с которого, в общем-то, и началось освобождение героини.
Однажды учитель из деревни, где родилась Йели, купил себе телевизор. И очень скоро оказалось, что местные жители узнают из фильмов о европейской любви, обольщении, страсти. «Перед телевизором было весело: скользящие по лицам улыбки, перешептывающиеся голоса, приглушенный смех, доверительные беседы. Прошла реклама: крем для осветления кожи, кубики для приготовления соуса, пляжи для отдыха…» Все как у нас, только вместо автозагара — крем для осветления кожи. Русскому читателю эта книга, возможно, напомнит о «Детстве Люверс» Бориса Пастернака, где особенно ярко выписан эпизод с началом менструации у тринадцатилетней Жени, пытавшейся запудрить кровавое пятно на ночной рубашке и не понимающей, что с ней происходит. «Томящее и измождающее, внушение это было делом организма, который таил смысл всего от девочки и, ведя себя преступником, заставлял ее полагать в этом кровотечении какое-то тошнотворное, гнусное зло».
Главная проблема Йели состояла в том, что она родилась подлинной феминисткой в сельской патриархальной среде, в которой единственным выходом в другой мир был экран телевизора с вечерними сериалами и рекламой. Постоянно разрываясь между двумя демонами (в платоновском смысле этого слова) — Духом подчинения и Духом протеста, — Йели мучается и страдает. Интересно, что автор — франкофонный африканец, создает ситуацию, похожую на классицистический конфликт. В течение всей книги мы видим, как Йели нарушает родовые запреты, преодолевает табу, лишенные всякого обоснования, движимая любовью и любопытством. Как первоматерь Ева, она откусывает от плода Древа познания, и он оказывается сладким.
Сбежав от нелюбимого мужа, она попадает в город. И тут мы понимаем, что беременная Йели неграмотна, — она не может прочесть вывеску. Через несколько месяцев африканка попадает в школу и знакомится с христианством. Ей начинает казаться, что власть традиции в прошлом, но внезапно ворвавшийся во двор бывший муж героини убивает своего сына, ее любимого, ножом. Так сериал в очередной раз оборачивается трагедией.
Но Йели не сдается и сама воспитывает двух детей — мальчика, который становится жандармом, и дочку — учительницу. То есть людей, которые должны стоять на страже Закона и Знания. Ее история переплетается с историями других женщин, пострадавших от домашнего насилия и терпящих невыносимый брак. Саму себя она простодушно уподобляет Иисусу («меня распяли»), но на самом деле является Евой — первой женщиной, послушавшейся Духа протеста и изгнанной за это из патриархального Рая.
Константин Вагинов. Песня слов. Составитель А. Герасимова, редактор М. Амелин. М., «ОГИ», 2012, 368 стр.
Есть поэты, рожденные не вовремя. Вагинов — один из таких. Он окончил гимназию — и началась революция. Он умер в 1934-м. Его творчество пришлось на самые тяжелые годы становления СССР. При этом молодой поэт оказался в плену у античности. Он — нечто среднее между классицистичностью Мандельштама и абсурдом Введенского. В его поэзии лежат истоки лирики Елены Шварц и Андрея Полякова. Существует мнение, что Вагинов — поэт для филологов или поэт для поэтов.
Первая книга Константина Вагинова носит геопоэтическое название «Путешествие в хаос». Составитель сборника Вагинова «Песня слов», рок-музыкант и филолог Анна «Умка» Герасимова пишет о своем герое так: «Вселенская неприкаянность, охота к перемене мест и самоощущение подкидыша, удивительная живучесть при негодных, казалось бы, физических данных и косноязычное, какое-то чужестранское любопытство к слову, к жизни во всех ее проявлениях». Сам он оставил нам такой, жестокий в своей самокритичности, автопортрет: «Я в сермяге поэт. Бритый наголо череп. В Выборгской снежной кумачной стране, в бараке № 9, повернул колесо на античность».
Главным богом для Вагинова становится Аполлон, недаром он пишет манифест «Монастырь Господа нашего Аполлона», который преображается у Елены Шварц в книгу поэм «Труды и дни Лавинии, монахини из ордена обрезания сердца». Эзотерический смысл возвращения к язычеству был в том, чтобы найти опору в тяжелые годы разрушения прежней реальности. Отождествляя себя с античными персонажами, Вагинов искал утешения в уже отработанных мировой классикой сюжетах, в том привычном и набившем оскомину, что становилось спасительной соломинкой в житейских бурях революции и Гражданской войны — «наших Илиады и Одиссеи». «Поэт должен быть <…> Орфеем и спуститься во ад, хотя бы искусственный, зачаровать его и вернуться с Эвридикой — искусством <…> и, как Орфей, он обречен обернуться и увидеть, как милый призрак исчезает», — писал Константин Вагинов в своем романе «Козлиная песнь». А вот и стихи из книги «Путешествие в хаос»:
О, мир весь в нас, мы сами — боги,
В себе построили из камня города
И насадили травы, провели дороги,
И путешествуем в себе мы целые года
<…>
Слава, тебе Аполлон слава!
Тот распятый теперь не придет
Если придет вынесу хлеба и сыра
Слабый такой пусть подкрепится дружок.
<…>
Мой бог гнилой, но юность сохранил,
И мне страшней всего упругий бюст и плечи,
И женское бедро, и кожи женской всхлип,
Впитавший в муках муку страстной ночи.
И вот теперь брожу, как Ориген,
Смотрю закат холодный и просторный.
Не для меня, Мария, сладкий плен
И твой вопрос, встающий в зыби черной.
Но языческие боги, к которым обращался Вагинов в своем бессилии осколка прежнего мира, не спасли его ни от туберкулеза, ни от забвения. Практически никому неизвестный, кроме поэтов, он являет собой образец чистого эскапизма, преданного жреческого служения античности, проглядывающей сквозь разорванное рубище начала XX века.
Андрей Поляков. Письмо. М., «Арт Хаус медиа», 2012, 144 стр. («Библиотека журнала „Современная поэзия”»).
Андрей Поляков — приемный сын поэтического дискурса Вагинова, посвящает ему, а еще Константину Батюшкову, Борису Поплавскому и их родным ученикам свою новую книгу «Письмо». Крымский отшельник, Поляков путешествует не в пространстве, а во времени. Живя в Симферополе, поэт раскапывает древние пласты языка, доходя до античности, становящейся привычной ему средой обитания.
Культурный космос постсоветского Крыма, казалось бы, противоречит археологической привычке Полякова. Но он, так же как Вагинов, отрицает враждебную и в чем-то даже китчевую реальность, живя в каком-то особом, своем времени.
Привет из Крыма! Я уже бессмертен.
Сейчас — не так, а по ночам почти
уверен в этом. Странные заботы
меня одолевают. Как-то все
неправильно. Непрочно.
Сокрушаясь,
я вышел с папироской на балкон.
Над кровлями курортной Фиваиды
воинственные крались облака,
готовые пленить нефелибата.
Безумный Понт витийствовал. И здесь
риторика! Переизбыток Понта.
Переизбыток писем на воде...
Андрей Поляков похож на античного мальчика, на мальчика, вынимающего занозу действительности из своего прекрасного бронзового тела. Кажется, что он никогда не постареет, но всегда будет петь о крымских девах и ласточках одного с ним — десятилетнего — возраста. Поляков как будто бы проживает одновременно несколько параллельных жизней, одну из которых волей случая — в нашей реальности, другую — уже по своему собственному выбору — в античности. Эти две жизни смешиваются, переплетаясь. Но откуда его постоянные эпиграфы к самому себе — не из осознания ли своего параллельного существования, не вмещающегося в рамки одного времени? Как две параллельных прямых в неевклидовом пространстве, Поляков время от времени пересекает самого себя, с удивлением оказываясь лицом к лицу со своим двойником, пишущим эпиграф.
Поляков, как истинный наследник Серебряного века, строит свой собственный миф — миф об Орфее.
Лишь со скоростью тьмы говоря из глагольных сетей,
мировое орфейство молчит, умножая трактаты
с апологией праздных трудов и досужих затей —
неизбежное благо, которым больны меценаты.
Когда Орфей венчается с зарею
над прошлым городом, где созревает сон,
под линотип ложится часть бессмертных —
голодный хор развалин строевых.
Ксюша ли делает мышь, Зоя ли строит ногами,
ли преисполнен Орфей скрипом и свистом своим, —
только мерцают слова, путь выстилая словами,
чтобы, спустившись в себя, вышел опять холостым.
И этот миф для поэта Андрея Полякова весьма органичен. Как-то квартирная хозяйка в Керчи, вернее в отдаленном от города поселке Заветное, сказала мне, что считает Керчь краем мира, последним пределом обитаемой земли, за которым уже неизвестно что. Симферополь Полякова предстает в каком-то смысле местом, где спускаются в ад, открытым порталом, выражаясь языком писателей-фантастов. В каком-то смысле этот симферопольский Питер Пэн, поэт Поляков, охраняет его и не дает закрыться окну в античную культуру, делая всех нас свидетелями своего титанического подвига, своего вневременного орфейства.
[19] Чижевский Д. И. Неизвестный Гоголь. — В кн: Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. М., 1995; Винницкий И. Нечто о привидениях. Истории о русской литературной мифологии XIX века. М., 1998.
[20] <;.
[21] Щербина Татьяна. Четыре шедевра. Стихографика. — «Новая газета», № 113, 05.10.2012. <;.
[22] См.: «Новый мир», 2009, № 12.
[23] Зассе Сильвия. Яд в ухо. Исповедь и признание в русской литературе, стр. 15.
[24] Там же, стр. 36.
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ
«ЗА ХОЛМАМИ»
«За холмами» — новый фильм румынского режиссера Кристиана Мунджиу («4 месяца, 3 недели и 2 дня»), — получивший на прошлом Каннском фестивале приз «За лучший сценарий» и приз «За лучшую женскую роль» (поделенный между актрисами-дебютантками Косминой Стратар и Кристиной Флутур).
Однако, несмотря на все каннские регалии, с просмотром фильма в родных палестинах как-то сразу у меня не заладилось. В кинотеатре «35 мм», где пришлось выложить 250 р. за билет на дневной сеанс в будний день, фильм демонстрировался мало что с DVD, так еще и в чудовищном качестве. Я сидела, смотрела на экран, по которому ползали размытые квадратики, и чувствовала себя полной дурой. Пару недель спустя я решила пересмотреть кино в интернете (в кинотеатрах его уже не давали), но на единственном сайте, предоставлявшем (якобы) такую возможность, с меня потребовали регистрацию и в результате слямзили все деньги с мобильника, а фильм так и не показали. Тут я почувствовала себя полной дурой во второй раз. И в третий раз в умственных способностях мамы усомнилась родная дочь, узнав, что я решила писать про ленту, которой нету даже «Вконтакте» и аудитория которой в нашей стране настолько ничтожна (во всех смыслах), что об нее (аудиторию) можно абсолютно безнаказанно вытирать ноги и грабить ее любыми способами посреди бела дня.
И тем не менее, чувствуя себя трижды дурой, я решила про это кино написать. Потому что, на мой взгляд, — это нечто невероятное. И то, что Провидению вздумалось меня слегка помытарить и напомнить про собственное мое ничтожество, — к лучшему. Ибо речь в картине идет о материях, рассуждать о которых лучше, когда ты «тих, боязлив и ни в чем не уверен» (© «Москва-Петушки»).
Итак… Речь в фильме — о столкновении РПЦ с современным социумом. Картина — румынская, и под аббревиатурой РПЦ следует понимать, естественно, румынскую церковь; однако по части приверженности средневековым традициям вкупе с повышенной социальной активностью она, я так понимаю, не слишком отлична от нашей и потому тоже оказывается время от времени в эпицентре всякого рода скандалов.
История, положенная в основу сценария, имела место в 2005 году, когда некая девушка, приехавшая навестить подружку в монастыре, неожиданно оказалась в морге после проведенного над ней сеанса изгнания бесов. Шум был на всю Европу. Виновников отлучили от церкви. Скандал полыхал почище нашего с «Pussy Riot». Татьяна Никулеску-Брэн — корреспондент BBC в Румынии — написала про это книгу и презентовала ее Мунджиу, который, в свою очередь, сделал из книжки фильм. Я не знаю, присутствовала ли в той, реальной истории лесбийская составляющая, — в фильме она присутствует, и это, понятное дело, добавляет повествованию будоражащей актуальности.
«История лесбиянок в православном румынском монастыре» — из этого можно было соорудить «аццкий трэш», или гневный антиклерикальный памфлет, или даже (при желании) — апологетическую картину в защиту церкви, терпящей несправедливое поношение со стороны погрязшего в грехах социума. Мунджиу не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Он умудрился уйти от позиций клерикализма / антиклерикализма и снять просто христианское кино, что по нашим временам — несказанная редкость. И ведь ничего не предвещало такого поворота! Предыдущий фильм Мунджиу «4 месяца, 3 недели и 2 дня», повествующий о том, как одна подружка, рискуя свободой, разумом и едва ли не жизнью, помогала другой сделать подпольный аборт в социалистической Румынии, поражал разве что гиперреализмом и виртуозностью режиссуры. В новом фильме все это тоже есть: две подружки, одна сильная, другая слабая; эстетика «синема-верите»; подвижная камера (оператор — Олег Муту), позволяющая зрителю раствориться в потоке событий; жесткая режиссерская воля, когда под контролем — каждый миллиметр и каждая секунда экранного пространства и времени… Только конфликт тут уже не между маленьким человеком и государством, лезущим во все дырки, но между подлинной жизнью, свободой, любовью и невротическим обмороком полунебытия, — разворачивающийся на территории и в присутствии Бога.
В первых кадрах перед нами — жутковатая щель меж двумя поездами, по которой напористо течет угрюмая, злая толпа. Платформы нет — зачем? Обойдутся! Против течения сквозь толпу пробирается девушка — кого-то разыскивает; и уже за последним вагоном, там, где тишина, солнце и рыжая трава между рельсами, — встречает подругу. Объятия, слезы… Медовый глоток человечности посреди жестокого, гибельного железа. Приехавшую зовут Алина (Кристина Флутур). Она после детского дома нашла работу в Германии и вернулась, чтобы забрать подругу Войчиту (Космина Стратар) — единственное родное существо на земле. Однако уже через пару минут режиссер позволяет нам ощутить, как тонкий яд предательства разрушает эту бесхитростную, отчаянную любовь.
Алина — мосластая, худая блондинка в спортивном костюме, готовая к борьбе за существование, но измученная психологической изоляцией в чужом мире. Войчита — мягкая, женственная, с правильными чертами, в монашеском черном платье и с пышной черной косой. Она пристроилась в местном монастыре «за холмами», пока Алина покоряла Европу, и сейчас приезд подруги ей совсем не с руки. Да, когда-то в детдоме они жили вместе, спали в одной постели и жесткая Алина специально выучилась карате, чтобы защищать себя и Войчиту от всяческих домогательств. Но теперь это уже не нужно. Войчиту есть кому защитить. У нее есть «Папа» — священник, окормляющий монашек и живущий тут же, в монастыре (Валериу Андриута); добрая мать-настоятельница (Дана Тапалага), сестры и сам Господь Бог. Да, тут нет электричества, печи дымят, воду приходится носить из колодца, и дни, как близнецы, похожи один на другой. Но Войчите не нужна ни цивилизация, ни большой мир. Ей не нужна даже любовь Алины. Единственное, что ей нужно, — ощущение защищенности. Она панически боится, что ее вышвырнут в самостоятельную жизнь, «на мороз», — и лжет, лжет, лжет 24 часа в сутки. Лжет, когда ест, когда ходит, когда работает, когда молится, судорожно цепляясь за маску «хорошей девочки», которая кажется ей единственной гарантией выживания. Лжет себе, Алине, сестрам, настоятельнице, священнику, Богу (вряд ли она сообщила на исповеди, какие отношения связывали ее с Алиной, иначе бы ту и на порог монастыря не пустили). И эта постоянная ложь в опасном пространстве, открытом воздействию высших сил, с математической неизбежностью должна привести к катастрофе. Мина уже заложена. Приезд Алины просто выполняет роль детонатора.
Алина останавливается в монастыре буквально на пару дней. Она ждет, что Войчита соберется и уедет с ней вместе в Германию. Подружка нужна Алине как воздух в чудовищном вакууме чужого мира: родная живая душа, родное, живое тело… Нужно, чтобы было кому обнять, спеть колыбельную на ночь, — а иначе она просто не выдержит! Все готово. Билеты куплены. Обеих ждет работа — официантками на корабле. Потом можно будет, накопив денег, купить дом… Жить вдвоем. Ни от кого не зависеть….
Войчита колеблется. Она вроде и не против поехать, но «Папа» сурово предупреждает, что в монастырь она вернуться не сможет: «У Бога отпусков не бывает». А кто его знает, как сложится там, в Германии? Работу потеряешь, заболеешь — и все, кранты. Алина хорохорится, но она ведь так же, по сути, бесправна и беззащитна. И потом — как быть с Богом? Он ведь не простит, покарает за отступничество. «Папа» учит, что спасение только здесь, а в чужую церковь и войти-то грех. А еще придется ведь спать с Алиной — иначе она не поймет. А это — грех. Содомия. Нет уж, лучше остаться здесь. Тут все гарантировано: спокойная, безгрешная жизнь до смерти и блаженство в потустороннем мире.
Войчита не говорит подруге ни «да» ни «нет». Тянет время, пытается усидеть на двух стульях. Днем едет в город, якобы в приют за дипломом заболевшей Алины; вместо этого тайком получает в полиции загранпаспорт (на всякий случай), но вечером принимается холодно проповедовать подружке, что любит ее теперь иначе, возвышенно-безгрешной любовью, и что еще больше Алины — обязана любить Бога, так что ей, Войчите, лучше, наверное, остаться в монастыре. Услышав это, Алина съезжает с катушек, бежит к колодцу топиться и оказывается в больнице, связанная веревкой от колокола, в состоянии острого психоза, осложненного пневмонией.
В больнице выясняется, что Алина психически нестабильна и склонна к шизофрении. Она слышит голоса, — в частности, голос отца, который повесился, когда ей было шесть лет. В общей палате на пятнадцать человек она лежит, привязанная к койке, и как ее лечить, врачам совершенно неясно. Поэтому, накачав Алину антибиотиками и нейролептиками, они через три дня выпихивают ее из больницы. Войчита уговаривает «Папу» и матушку снова взять ее в монастырь, хотя бы до тех пор, пока бедняжка не поправится.
«Папа» нехотя соглашается. Не выгонишь же на улицу больную сиротку. Не по-христиански как-то… Вообще, монастырь населен порядочными, добрыми людьми. Они просто оказались в ложной ситуации. И не по своей воле. Когда тоталитарное государство ушло из жизни, в обществе возник синдром «бегства от свободы», описанный еще Фроммом. У людей возникла неодолимая потребность вручить кому-нибудь свою совесть, спихнуть на кого-то ответственность за свою и чужую жизнь. И это место заняла церковь. В одном из своих интервью Мунджиу описывает парадоксальную ситуацию, когда образование и медицина в стране в полном загоне, а монастыри и церкви растут как грибы. Спрос рождает предложение. Одни бегут от свободы, другие поддаются соблазну спасать и руководить.
Монастырь в фильме, судя по всему, недавно основанный и абсолютно нищий. Полдюжины сестер, натуральное хозяйство, недостроенные кельи, денег нет даже расписать церковь. При этом монастырь помогает продуктами казенному детскому дому, и попасть сюда после выпуска почитается великой удачей (в столице, чтобы поступить в монастырь, нужно заплатить немалые деньги, а тут можно и забесплатно — если место будет). Никому даже в голову не приходит, что монастырь — это не богадельня и что нельзя в комплекте к общественному призрению прилагать монашеский подвиг.
Войчите — не место в монастыре. Но она успешно мимикрирует. У Алины так не выходит. По всему видно: она чужая. У нее на лице написано, что ее повергает в недоумение список из 464 православных грехов. Монашки ее боятся, жмутся по углам. Им повсюду чудятся плохие приметы: то крест в полене, то куры перестали нестись… Войчита надеется, что Алина приживется в монастыре, но это немыслимо. И в конце концов «Папа» вызывает Алину к себе и ставит вопрос ребром: монастырь не гостиница. Ты должна сделать выбор — раздать имущество, отказаться от денег и земных привязанностей и посвятить себя Богу. Или уйти. Подумай. Но только не здесь. Алине предлагают для раздумий вернуться в приемную семью, из которой она в свое время сбежала в Германию.
Войчита и матушка сопровождают ее. Приемные родители с виду — не монстры. Улыбаются, умильно беседуют, чаем угощают. Войчита и матушка готовы уже вздохнуть с облегчением, спихнув проблему на них, но Алина вдруг выясняет, что места ей в доме нет. Родители уже взяли другую сиротку — должен же кто-то на них бесплатно горбатиться. Семейное устройство понимается тут как узаконенная форма детского рабства.
И тогда, озверев, Алина идет ва-банк! Хватит! Она устала строить из себя «хорошую девочку». Она начинает войну, чтобы любыми средствами выцарапать Войчиту для себя у Бога. Алина велит отдать бедным все свои спортивные штаны и кофты, выдирает из приемных родителей свои сбережения, вручает их настоятельнице и заявляет, что готова поступить в монастырь. Та — в шоке, но условия соблюдены и возразить нечего. В монастыре Алина бунтует, молится, когда все едят, пытается пробраться в алтарь, где у «Папы» якобы хранится чудотворная икона, исполняющая желания. Когда «Папа» выносит икону, Алина в гневе швыряет ее на землю: вы меня обманываете! Ее запирают, она устраивает в келье пожар. Звонит в колокол посреди службы. «Папе» весь этот скандал абсолютно не нужен; он и так у начальства не на лучшем счету. Он жестко приказывает Войчите убираться из монастыря вместе с подругой. На дворе уже — настоящая зима. Снегу по пояс. Идти им некуда. Войчита рыдает. И тут добрая матушка предлагает безумный выход: если нельзя выгнать Алину из монастыря, то можно выгнать беса, поселившегося в Алине.
Собственно, с того момента, как Алина сознательно объявляет войну Господу Богу, действие, развивавшееся в «горизонтальном» пространстве реалистической социально-бытовой драмы, вдруг переходит в «вертикальную» плоскость, где ходом событий управляет уже нездешняя и непостижимая сила. Все, что происходит, кажется совершенно иррациональным и абсолютно неотвратимым. И достигается это только за счет повышенной экзальтации и нагнетания электричества в кадре.
Почему «Папа» — этот полуграмотный харизматик, вроде бы бывший спортсмен, который обратился когда-то «увидев ангела» — соглашается провести обряд экзорцизма? Он что, не понимает, что это как операция без наркоза? Почему сестры, все как одна, забыв о сплетнях, курах и кухне, подхватываются и кидаются в сражение с «бесом»? Непостижимо. Но тем не менее Алину скручивают, привязывают к носилкам из досок; для удобства, ничего не имея в виду, прибивают еще пару досок поперек. В рот засовывают кляп, чтобы она не изрыгала проклятия во время молитвы. И в таком виде ее заполошно таскают почти неделю из часовни в церковь, из церкви — в часовню (на время службы — нельзя же, чтобы люди все это видели). Алина хрипит, мычит, бьется, мочится под себя. Войчита смотрит на все это с нескрываемым ужасом. «Папа» гонит ее — ты не веришь, уйди! Пугает: когда бес выйдет, он может вселиться в кого-то другого, в самого слабого духом. Войчиту уже просто тошнит от всей этой жути. В какой-то момент она не выдерживает, ночью пробирается в церковь и потихоньку отвязывает подругу — мол, иди куда хочешь.
Утром ее зовут: Алина пришла в себя, всех узнает, тебя просит. Войчита подходит к подруге. Алина смотрит на нее долгим-долгим взглядом, исполненным бесконечной любви, — и отрубается. В больницу «скорая» привозит уже ее остывший труп.
Синяки на запястьях и щиколотках, обезвоживание и общее истощение организма. Все признаки насильственной смерти. В монастырь прибывает полиция, допрашивает сестер, те что-то лепечут невразумительное. Полицейский просит принести носилки, к которым привязывали Алину. Сестры приносят крест.
Все ясно. Религиозное изуверство со смертельным исходом. «Папу», настоятельницу и пару сестер, сбивавших носилки, сажают в полицейский фургон. Войчита вызывается ехать с ними. То ли чтобы взять вину на себя, то ли чтобы всех окончательно закопать.
Как она поведет себя дальше — не ясно. Ясно только, что это уже другая Войчита. Она отлично знает ответ на вопрос: из-за чего умерла Алина? Из-за того, что она, Войчита, не решалась ни уехать с ней, ни порвать. Из-за того, что уклонялась всячески от решения, смертельно боясь, что придется самой отвечать за свою жизнь. Из-за того, что ради собственной безопасности упросила подвергнуть подругу мучительной пытке, в спасительность которой абсолютно не верила, и в результате разрушила жизнь всех вокруг, а Алину свела в могилу. Войчита кругом виновата. Но разве она могла вести себя иначе? Разве у нее был выбор? Она была парализована страхом; страхом быть собой, страхом, что, обнаружив свое истинное лицо, в ту же секунду окажешься вышвырнутым на свалку. И нельзя сказать, чтобы этот страх был вовсе не обоснован. Один-то ведь раз ее уже вышвырнули! Как-то ведь оказалась она в детском доме!
До самого финала у Войчиты не было выбора. В финале он появляется. Появляется шанс стать личностью благодаря Алининой смерти. Это — настоящее чудо. Как будто бы молитва всех этих безумных монашек возымела действие. Они просили о том, чтобы душа Алины примирилась с Богом и Бог услышал их, а Алина услышала Бога. Он сказал ей что-то вроде: «Ты хочешь, чтобы Я дал тебе любовь Войчиты? Но Я не в силах тебе помочь. Ее душа наглухо запечатана страхом. Она не может любить. Ты можешь отступиться или спасти ее, если согласишься разделить со Мной Мою муку». И эти крестообразные носилки, на которых Алина умерла в уме и в памяти, с любовью отпустив и простив подругу, — единственный за весь фильм, тщательно реалистически обоснованный и тем более поразительный символ Божественного присутствия.
Что же касается монастырских, то все они получили в меру своих ошибок и прегрешений. Во всяком случае, поглядев этот фильм, можно быть спокойной за Церковь, как за румынскую, так и за нашу. Ясно, что Господь ее не оставит и будет трясти, как грушу, ввергая из скандала в скандал, пока она не вспомнит, наконец, в чем ее предназначение. Потому что если и Церковь забудет про Бога, мир точно не выживет. В финале рация в полицейской машине сообщает, что прокурора на месте нет: он уехал на очередное убийство, — какой-то подросток зарезал родителей и фото выложил в интернет. Этот мир определенно сошел с ума.
Однако фильм этот вовсе не о плюсах и минусах церкви. Самое удивительное в картине — вдруг вырастающий прямо из прозы жизни мистический крест. Я как человек мягкий, покладистый, склонный ко всякому конформизму, все время смотрела на бедную Войчиту со смесью отвращения и стыда, как на собственное отражение в зеркале. И финал треснул меня будто палкой по голове: ну да, — невротический страх перед жизнью, склонность лгать себе и другим, приспосабливаться, не быть собой, — болезнь, существующая в человечестве со времен Адама, распространенная примерно как герпес. И такая обыденная, привычная хворь исцеляется только таким великим и страшным лекарством?
Ну да… В общем-то, собственно, так и есть.
ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ С ПАВЛОМ КРЮЧКОВЫМ
«Азбуки». От амёбы до яка (ч. 2)
И ходят по улицам еженедельно
Каляка отдельно, Маляка отдельно.
Александр Тимофеевский, «Каляка-маляка»
Господа, вы звери, господа.
Фраза из фильма «Раба любви»
Заканчивая в прошлом году [25] первую часть нашего диптиха об азбуках, мы вспомнили об одном из маршаковских слонов, который с 1966 года дремлет себе в «Веселой азбуке про все на свете» («Спит спокойно старый слон — / Стоя спать умеет он»); вспомнили также, что в публикации 1939 года он же, бодрствуя, просил у сторожа, кормившего его свеклой, добавки. Думаю, что жанр поэтических азбук, где за буквы отвечали разнообразные звери, узаконил и сделал той самой «печкой», от которой потом плясали многие, — все-таки Самуил Маршак, несмотря на достаточно знаменитую «Живую азбуку» Саши Черного, который выпустил ее отдельной книжкой накануне Первой мировой войны.
В воспоминаниях о Саше Черном, вошедших в сборник «Современники» (1962), Корней Чуковский писал, в частности, и о своем сотрудничестве с ним как с детским поэтом: оно началось с альманаха под названием «Жар-птица» (сборник вышел в издательстве «Шиповник»).
До этого критик и поэт поссорились (знаменитая «Обстановочка» С. Ч. в первой редакции имела посвящение Чуковскому), но как пишет Корней Иванович, «помирили нас малые дети». Описывая сотрудничество с «Жар-птицей», Чуковский не смог умолчать о том, что ему, как редактору этого издания (а впоследствии и «Елки» 1918 года), работать с Сашей Черным было непросто: «Стихи его не были лишены недостатков, которые в качестве редактора я считал необходимым устранить». Поэт, к своей чести, принимал замечания, высказанные самым деликатным тоном, убирал длинноты и неточности и, конечно, еще не знал своего эмигрантского будущего, в котором он займется детской литературой профессионально. «Едва лишь очутившись на чужбине, — писал Чуковский, — он принялся с увлечением писать для детей и вскоре стал одним из любимейших детских писателей». А дальше, отметив отдельные «превосходные» вещи, Чуковский — к концу своего мемуара — опять заговорил о недостатках: «Мы оказали бы ему дурную услугу, если бы вздумали дать современным читателям полное собрание его детских стихов, ибо наряду с крепкими, отлично сработанными, он нередко создавал скороспелые, рыхлые, порою даже безвкусные опусы». Приведенные примеры доказывали правоту этих слов.
Странно, что Чуковский нигде ничего не сказал о «Живой азбуке». Может, потому, что обнаруживал и в ней немало скороспелой «рыхлости»?
Пчелка трудится весь день,
Петушку ж и клюнуть лень.
И зачем, спрашивается, это «ж», которое и не произнесешь без усилий? И почему петушку лень клевать?
Тигр свирепей всех зверей,
Таракан же всех добрей.
С чего же это он «добрей»-то, граждане, когда от него спасу нет? Видимо, формальная задача была проста и не менялась: вторая строка должна начинаться с той же самой буквы. Ну напиши: «Тигр свирепей всех зверей, а зайчонок всех добрей» — уже веселее.
Если эту азбуку следует читать своему чаду вслух, то учитывая известное положение о том, что дети не терпят недоговоренностей и алогичности (кроме явного бесшабашно-веселого абсурда в духе Хармса и Олейникова) и к тому же чрезвычайно чутки к провалам в звукописи, понять Чуковского я смогу.
Впрочем, на соседней с буквой «Т» странице, на букве «С» красуется мое любимое:
Слон ужасно заболел —
Сливу с косточкою съел.
Это я помню с детства. Но помнить о том, что «Червячок влез на цветок, / Чиж слетел и клюнул в бок» — не желаю. Есть, знаете ли, любимый детский глагол: «проглотил», а эти стыдливые поклевывания в бок давайте оставим записным стихослагателям, которые сегодня пишут по десять стихотворных азбук для малышей кряду.
И вернемся к зверям. Догадаться, что буквы «С» и «Т» давно и прочно заняли слоны и тигры, — несложно. Даже блистательный Александр Шибаев («Озорная азбука», 1966) не обошел очевидного и удобного зверя, хоть и нарочно не назвал его:
Букву Т
Нашли
Газели,
Поиграть с ней
Захотели…
Ближе к концу стихотворения, понятно, говорилось, что игры с этой буквой очень плохи.
Думая о самой первой букве алфавита, мы догадываемся, что даже если бы Борис Заходер не написал своей «Мохнатой азбуки», она бы и так в девяноста случаях из ста начиналась с аиста (извиняюсь за невольную рифму). Может, именно поэтому Заходер решил не красить лошадь в зеленый цвет:
АЗБУКА
Пусть начинается
с АИСТА —
Он,
Как и азбука,
С А начинается!
Но вот в лихом 1992 году вышла «Звериная азбука» Александра Сопровского и Виталия Дмитриева, где эти взрослые лирики, члены легендарного литературного объединения «Московское время», вослед Пастернаку наклонились, вооружившись микроскопом, к самой земле. У них за букву «А» отвечало самое маленькое живое существо на свете:
Нет ни доброты, ни злобы
У животного амебы.
До того она проста,
Что ни шеи, ни хвоста.
Конечно, их «Звериная азбука» предназначалась ребятам постарше (кстати, для своего круга поэты сложили еще и обсценный, ужасно смешной вариант), могущим отозваться на усложненную лексику и почти английский юмор. Между прочим, Слона им удалось как-то не заметить (букву «С» тут представляет скворец), но Тигра обойти они не сумели:
Изо всех веселых игр
Только прятки любит тигр.
Притаится он в засаде —
Так и жди, что прыгнет сзади.
На картинке Сергея Гилярова мимо куста с тигром беспечно шествует, поигрывая ружьишком, молодой человек в пробковом шлеме.
Отложив представление поэтических «звериных азбук», замечу, что специальных исследований популярного и специфического жанра детской литературы у нас — немного. В сети отыскалась работа известного московского методиста-теоретика, автора учебников по литературному чтению и доктора педагогических наук Татьяны Сергеевны Троицкой — « Поэтические азбуки: подвижность и устойчивость жанровой модели». Там, в частности, опираясь на процесс восприятия привычных вещей, описанный в статье Шкловского «Искусство как прием», и говоря о распространенных «азбуках-коллекциях» (строфа, посвященная одной букве), она пишет: «Нередко поэты стремятся „оправдать”, так или иначе мотивировать устройство подобных „коллекций”, прибегая к условному сюжету (как в „Журавлиной книге” Г. Сапгира или „Диете термита” Б. Заходера), а также тематическому или жанровому ограничению („Живые буквы” С. Маршака, „Азбука с именами” Л. Улановой, „Веселая автомобильная азбука” А. Парошина, „Азбука в считалках и скороговорках” Г. Сапгира и др.). Во всех этих азбуках актуализируется первая буква в слове — та буква, с которой начинается слово. Собирая в небольшой по объему строфе (как правило, это 2 — 4 строки) группу слов, начинающихся с одной буквы, и размещая эту строфу в стихе в соответствующем месте (по алфавиту), поэты акцентируют, выделяют общую начальную букву всей группы слов. Начальная буква слова становится своего рода символом, флажком, неким основанием для объединения слов, общим признаком („Что у нас в лесу на букву Ш?/ Это шишка шлепнулась, шурша, / Шмель и шершень шарят в кашке, / Шебуршат в шиповнике букашки...” — М. Яснов „Шумный лес”). Единое и неделимое слово, накрепко связанное в сознании ребенка с предметом, постепенно начинает обнаруживать свою собственную природу, превращаться в самостоятельный объект, расчленяться, а тем самым — остраняться».
…И все-таки лучшие современные поэты, как я вижу, больше заинтересованы не в том, чтобы «оправдаться» своими коллекциями (и даже не в том, чтобы благодаря их азбукам дети научились побыстрее запоминать буквы), но в том, чтобы с детьми поиграть. Причем поиграть — учитывая особенности детской психологии. В своей знаменитой книге «От двух до пяти» Чуковский пишет, что всевозможные путаницы и перевертыши потому-то так нравятся детям, что они обожают мгновенные «разоблачения», прекрасно понимая, что море загореться не может и что мышам никогда не загнать кошку в мышеловку. Продолжая эту древнюю традицию, поэт и переводчик Михаил Яснов создал «Азбуку с превращениями», где необходимость «разоблачения» заложена не только в смысл, но и — что очень важно — в звукопись:
Я утром вышел рано-рано,
Гляжу — пасутся два БАНАНА!
(«Банановое пастбище»)
Конечно, художник тут немного помогает читателю: на картинке два почти михалковских барана разделывают под пальмой бананы.
Работает Яснов виртуозно: то букву отрежет («Среди ветвей туман повис, / В траву слетает рыжий ЛИС»), то — заменит («Я узнал, что носит Ваня / Перочинный НОС в кармане»). Для «полного оправдания» в этих стихах подходят, пожалуй, только названия; первое двустишие называется «Лесная лирика», а второе — «Новость».
Год тому назад в Питере под грифом «Азбука для всех» (издательская фирма «ГРИФ» при участии «ДЕТГИЗа») вышла книга Яснова «Эрдельтерьер и буква „Р”».
Там, в уважительно-взрослом предисловии к своему маленькому читателю, вспоминая старинный проект «День Открытых Зверей», Яснов сообщил, что главным в тех старинных стихах-песнях (музыку писал Григорий Гладков) был совсем не принцип «коллекционности», но нечто другое.
А именно то, «что „звериные” портреты на самом деле становились портретами (зарисовками, этюдами) того, что происходит внутри нашей речи: буквы, фразы, рифмы требовали не меньшего внимания, чем герои стихов».
И дальше — драгоценные для меня слова. «Вот и эта книжка — очередной вклад в нашу общую копилку поэтической игры , того праздника звука и слова, которым, если внимательно вслушаться и всмотреться — может стать любовь к родному языку».
Вот где она, цель-то.
Ну и, конечно, любовь к тем, кого Есенин никогда не бил по голове.
Оно
Стояло около —
И очень громко чмокало.
Хвостом
Стучало по полу —
И очень громко топало.
Потом мне стало так смешно,
Когда оно меня нашло
И прямо из-под стула
В лицо меня лизнуло!
(«Оно»)
Пару лет тому назад издательство «Арт Хаус медиа» запустило книжный проект «Для взрослых и детей». Придумали его три неутомимых борца за детскую литературу — Ирина Арзамасцева, Юрий Ничипоренко и легендарный создатель литературного объединения «Черная курица», поэт, прозаик, драматург и педагог Лев Яковлев. И вот, представляя яковлевский сборник под загадочным названием «В остатке» и его автора, Ничипоренко тоже обратился к теме игры и праздника: «Лев — человек праздничный, цирковой, недаром у него про цирк написана целая азбука, и любимые его канатоходцы и клоуны, кажется, так и скачут, так и дурачатся в его стихах. Это поэзия деятельная, активная, поэзия радостного действия, которое выскакивает из слов, как непоседливый ребенок — из рубашки и штанов».
У Яковлева не только действие выскакивает из слов, оно у него вместе с неправильными буквами хулигански прячется в этих самых словах, словно насмехаясь (нежно, конечно) над всеми учителями русского языка в детсадах и первых классах:
Очень букве «Ы» обидно,
Буква горем сражена:
— Почему меня не видно
В слове «ЦИРК»,
Хоть я слышна?..
Существуют «ПРЫГУНЫ» —
Значит, в цирке буква «Ы»!
Завершая наш беглый обзор поэтических азбук (сегодня он вышел явно с каким-то «зверино-цирковым» уклоном), доложу вам, что их — море. Есть, кстати, и «Морская азбука», и не одна. На сайте на вас обрушится такое количество азбук всех видов, что вам суток не хватит все их прочитать. А все и не надо. Надо — талантливые и поучительные: Андрея Усачева, Инны Гамазковой, Михаила Яснова, — полтора десятка имен у нас, слава богу, есть. И пространство для игры — пока еще — тоже. Как это там говорится у Сергея Белорусца в коротеньком стихотворении с двумя вариантами ударений —
Даже стоя
на голове,
Буква «В» —
Это буква «В».
(«Стоящая буква»)
[25] См.: Детское чтение с Павлом Крючковым. — «Новый мир», 2012, № 11.
Книги
Игорь Богданов. Федоров в кино. М., “Русский Гулливер”, 2012, 52 стр., 300 экз.
Книга стихов известного екатеринбургского поэта, “легенды уральского постмодернизма 89 — 90 годов” — “На кухне у Касимова опять, / В просторных чанах варятся пельмени / И по углам, отбрасывая тени, / Сидят поэты семьями опят. // Сидят их жены, выпятив зады, / Сидит художник пополам с похмельем, / Сидит бутылка с иностранным зельем / И оставляет мокрые следы. // Уж полночь близится — хозяина все нет, / Уже проходят сроки всех гаданий — / Он, верно, спит в одной из дальних Даний / И наблюдает родину в лорнет. // Кто родину любил издалека, / Тот знает смысл корыстных вычислений — / Тот сам уже наполовину Ленин, / И Лениным пребудет на века”.
Игорь Вишневецкий. Ленинград. Повесть. М., “Время”, 2012, 160 стр., 1500 экз.
Роман, ставший лауреатом премии “НОС” за 2011 год; первая публикация — “Новый мир”, 2010, № 8.
Евгений Гагарин. Возвращение корнета. М., “Посев”, 2012, 214 стр., 800 экз.
Две повести русского писателя, эмигрировавшего в Германию в 1935 году, творческое становление которого состоялось за пределами родины, писавшего по-русски и по-немецки, Евгения Андреевича Гагарина (1905 — 1948). Повесть “Поездка на святки” — типичная эмигрантская ностальгическая проза, написана на материале детских воспоминаний о русской провинции последних предреволюционных лет. Сюжет второй повести, “Возвращение корнета”, строится на истории русского дворянина-эмигранта, вернувшегося в родные места в качестве переводчика немецкой армии — “…двадцатилетняя надежда становилась действительностью — корнет Подберезкин возвращался в Россию! Правда возвращался он не так, как представлял себе все эти годы…”, “…несло их не белое русское войско, не под победными знаменами вступал он на русскую землю, а в рядах чужой армии, воевавшей с его родной, хотя и оскверненной страной”.
“Двойной венец”. Эпос и драма латинского Средневековья в переводах М. Л. Гаспарова. Составление и предисловие М. Л. Андреева. М., РГГУ, 2012, 288 стр., 500 экз.
Из огромного переводческого наследия Гаспарова, относящегося к латинской средневековой поэзии, составитель, литературовед-медиевист Михаил Андреев выбрал только эпос и драму — сборник составили поэма Геральда “Вальтарий”, драма Хротсвиты Гандерсгеймской “Пафнутий”, трагедия Альбертино Муссато “Эцеринида” и три анонимных произведения: поэма “Роудлиб” (XI в.), которую принято считать первым рыцарским романом; “Комедия о трех девушках” — французская поэма, представляющая средневековую разработку овидианской эротики (XII в.); религиозная драма “Действо о Страстях Господних” (XIV в.).
Олег Дозморов. Смотреть на бегемота. М., “Воймега”, 2012, 104 стр., 500 экз.
Четвертая, но впервые представляющая так полно творчество поэта книга Олега Дозморова. Ранее вышли книги: Олег Дозморов. Стихи. Предисловие Бориса Рыжего. Екатеринбург, “Банк культурной информации”, 2001, 32 стр., 400 экз.; Олег Дозморов. Восьмистишия. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2004, 36 стр. Тираж не указан. Из новой книги: “Нет интереса? Сочиняй, / воспринимай себя буквально, / метафорой пренебрегай, все прочее не гениально. / Учись и стань совсем другим, / чужим, ненужным и безвестным, / как эти тучи — серым в дым. / Естественным, неинтересным”.
Виктор Ерофеев. Акимуды. М., “Рипол Классик”, 2012, 496 стр., 7000 экз.
Новый роман известного писателя. От издателя: “Россия становится полигоном для мистического испытания, которое приводит к воскрешению мертвецов и к беспощадной войне между мертвыми и живыми. Вопрос: ёЗачем мы живем на этом свете?” решается на протяжении книги в огне революций, безумствах любви, кровожадности, секса, абсурда и святости, на очной ставке современных героев книги и „нового бога” Акимуда”.
Марина Палей. Жора Жирняго. М., “Эксмо”, 2012, 320 стр., 3100 экз.
Новый том в малом Собрании сочинений Марины Палей, предпринятом издательством “Эксмо”, — довольно необычный случай, когда как бы переиздание текста представляет во многом первую публикацию. Текст романа, написанного в не слишком распространенном у нас жанре романа-памфлета и впервые опубликованного в журнале “Урал” (2007, № 2), был значительно переработан для этого книжного издания.
Ирина Поволоцкая. Пумперникель и другие. М., “Б. С. Г.- Пресс”, 2012, 400 стр., 3000 экз.
Сборник повестей и рассказов лауреата Малой премии Аполлона Григорьева (1997) и Пушкинской премии-стипендии фонда Альфреда Тёпфера (2007), постоянного автора “Нового мира” (большая часть текстов этой книги впервые была опубликована в “Новом мире”) — повесть “Разновразие”, “Дядя Саша и Анечка”, “Утка по-пекински”, “Пештик и Плуштик”, “Куда скачут всадники” и другие произведения.
Натали Саррот. Избранные пьесы. Перевод с французского М. Аннинской, Н. Световидовой и И. Кузнецовой. М., “Флюид ФриФлай”, 2012, 208 стр., 3000 экз.
Саррот как драматург — пьесы “Молчание”, “Ложь”, “Она там!”, “Это прекрасно”, “ИССМ”, “Ни с того ни с сего”.
Юрий Трифонов. Все московские повести. М., “Астрель”, 2012, 800 стр., 3000 экз.
Из классики русской литературы ХХ века — повести “Дом на набережной”, “Обмен”, “Предварительные итоги”, “Долгое прощание”, “Другая жизнь”, “Старик”.
Александр Уланов. Способы видеть. Предисловие Б. Дубина. М., “Новое литературное обозрение”, 2012, 216 стр., 500 экз.
Самое удивительное, что написано в этой книге, содержится в аннотации: [автор] переведен “на английский, немецкий, французский, итальянский, китайский, шведский языки” — дело в том, что стихи Уланова непереводимы в принципе. Он предлагает читателю своей язык, точнее, свой принцип обращения с языком — в его стихах, графически оформленных как фрагменты прозы, слово как бы отделяется от привычных для нас связей с обозначаемым предметом. Высвобождая тем самым наши внутренние ассоциативные связи со словом — физиологические, психомоторные, культурные, литературные и т. д., — он создает собственное языковое пространство, то есть читатель имеет дело не с индивидуальным стилем, а как бы с индивидуальными взаимоотношениями с говорением, с речью вообще. И этот процесс освоения слова, освоения речи как бы заново, становится одним из содержательных элементов его поэзии. Ну а далее, разумеется, — присутствие автора, который предлагает свой порядок слов, вернее, слов-образов, свое, прихотливое как бы, интонационное их плетение. Предыдущий опыт обращения с поэтическим словом здесь мешает и одновременно помогает. Цитата: “…улыбаться смотрящей снизу ночи полным тобой и полным другим третьим прошедшим будущим собранным собирающим точки волны запястья зерна возможного открывая стену в соляной кислоте не надеясь не собираясь ожидая взгляда улитки от неясного не отходя”. Об авторе: поэт, прозаик, критик, переводчик (американской поэзии); доктор технических наук, автор четырех поэтических книг (“Направление ветра” (1990), “Сухов свет” (1993), “Волны и лестницы” (1997), “Перемещения+” (2007), книги прозы “Между мы” (2006); лауреат Премии Андрея Белого; живет в Самаре.
Шедевры китайской классической прозы. В переводах академика В. М. Алексеева. Неизданное. М., “Восточная литература”, 2012, 367 стр., 1000 экз.
Памятник не только древне- и средневековой китайской литературы, но и отечественной синологии — книга представляет собой завершение издательского проекта почти столетней давности. В 1914 году Михаил и Сергей Сабашниковы, задумавшие издание книжной серии “Памятники мировой литературы”, обратились к приват-доценту, впоследствии — ведущему советскому синологу и замечательному стилисту, академику — Владимиру Михайловичу Алексееву (1881 — 1951) с предложением перевести и составить антологию образцов классической китайской прозы, и Алексеев предложил им свой вариант антологии, охватывающей тексты от эпохи Хань до эпохи Мин (от II века до новой эры — до середины XVII века). Издание не состоялось, но идея осталась, и в начале сороковых годов, будучи в эвакуации, в Казахстане, Алексеев приступил к работе над переводами для этой антологии. Первым, фрагментарным вариантом публикации ее стало издание части переводов в 1959 году, ну а в полном виде два первых тома вышли в 2006 году ( Шедевры китайской классической прозы (комплект из двух книг). Антология. Перевод с китайского В. Алексеева. Редакторы Александр Мартынов, Игорь Алимов. М., “Восточная литература”, 2006, 976 стр., 1200 экз.); инициатива нынешнего издания, завершающего проект Алексеева, принадлежала одному из последних учеников Алексеева Л. Н. Меньшикову.
Ян Сатуновский. Стихи и проза к стихам. Составление, подготовка текста и комментарии И. А. Ахметьева. М., “Виртуальная галерея”, 2012, 816 стр., 1000 экз.
“Поэт и исследователь русской неподцензурной литературы Иван Ахметьев при участии О. А. Буркова, В. И. Орлова, П. А. Сатуновского и М. А. Сухотина подготовил почти полное (за вычетом газетных стихов довоенного и военного времени и стихов для детей) собрание Яна Сатуновского, больше восьмисот страниц, — и заполнил тем самым очевидное зияние в отечественном поэтическом книгоиздании. Том этот, если учесть масштаб и фигуры автора и его влияния на современную русскую поэзию (пусть часто и опосредованного), должен был выйти давным-давно. Хорошо, что это наконец произошло”, — Станислав Львовский ( Colta.ru ). “Новый мир” намерен более полно осветить эту книгу.
*
Василий Аксенов — одинокий бегун на длинные дистанции. Составление и предисловие В. Есипова. М., “Астрель”, 702 стр., 3000 экз.
Сборник воспоминаний об Аксенове, среди авторов Марк Розовский, Анатолий Гладилин, Анатолий Найман, Белла Ахмадулина, Владимир Войнович, Евгения Гинзбург, Майя Аксенова, Александр Генис, Евгений Попов, Александр Кабаков, Борис Мессерер и другие.
Сергей Беляков. Гумилев сын Гумилева. М., “Астрель”, 2012, 797 стр., 3000 экз.
Биография Льва Николаевича Гумилева. Главы из книги публиковались в “Новом мире” (2012, № 4).
Р. Г. Гагкуев. Белое движение на юге России. Военное строительство, источники комплектования, социальный состав. 1917 — 1920 гг. М., “Посев”, 2012, 704 стр., 1000 экз.
Монография современного историка, специализирующегося на истории Гражданской войны; дающая достаточно объемную картину истории Белого движения в России.
Григорий Кружков. Луна и дискобол. О поэзии и поэтическом переводе. М., РГГУ, 2012, 516 стр., 1000 экз.
“В книге „Луна и дискобол” собраны статьи Кружкова по теории перевода. Кружков любит находить „синхронизм”: лежащее на поверхности сходство между Йейтсом и обэриутами, менее очевидное сходство между Пушкиным и Эмили Дикинсон („пунктуационные вольности” в рукописях как ключ к динамике замысла в эпоху чаемого ускорения транспортного сообщения), еще менее очевидное между Фростом и Буниным — прозаизация быта как поэтизация истории. Во многом читатель книги Кружкова чувствует себя как современный путешественник, листающий гуглкарты и туристические форумы на своем планшетнике в аэропорту, чтобы по приезде не делать банальные фотографии, а заметить то, что не замечают другие. Такое умение замечать — это и развитие чувственности, но чувственности особой. Это не эмпатия, не сочувствие другому, это чувство размаха, ощущение роста, того тока подземных вод, который питает деревья мысли — что любили наблюдать почитаемые Кружковым Блейк или Йейтс”, — А. Марков (“Русский журнал”).
Жорес Медведев, Рой Медведев. Взлет и падение Т. Д. Лысенко. Кто сумасшедший? М., “Время”, 2012, 360 стр., 2000 экз.
Из классики русского самиздата — книга о Лысенко начала распространяться в СССР самиздатом с 1962 года, в 1969 году в доработанном виде вышла на английском языке в США, затем — в странах Западной Европы. “Кто сумасшедший?” представляет собой хронику преследования авторов в СССР, один из первых исторических очерков о применении властями психиатрии в борьбе с инакомыслящими. Впервые была издана в Великобритании в 1971 году.
*
Алексей Бобриков. Другая история русского искусства. М., “Новое литературное обозрение”, 2012, 744 стр., 1500 экз.
Название этой книги не должно ввести читателя в заблуждение — питерский искусствовед отнюдь не предлагает нам другой истории русского изобразительного искусства, поскольку основной корпус упоминаемых картин и художников, из которых складывалась эта “другая история”, вполне традиционный, ориентированный на основу экспозиций, скажем, Третьяковки или Русского музея. Но та история русского искусства, которую они выстраивают в книге Бобрикова, действительно другая — автор предлагает читателю пройтись по основным этапам русской живописи как явлению прежде всего эстетическому, при этом, разумеется, тесно связанному с движением русской истории, со сменой общественных настроений, с возникновением и становлением в России художественного рынка, с различными моделями поведения художника (“артиста”), а также, что необыкновенно важно, “русский сюжет” автор прослеживает в контексте истории европейского искусства. Эффект достигается неожиданный и сильный — читатель вдруг обнаруживает, что у как бы хорошо знакомого ему явления был, ну, скажем помягче, немного другой сюжет. С другим содержанием.
Историю русского искусства Бобриков прослеживает от искусства примитива начала XVIII века до Кустодиева, Бакста, Петрова-Водкина и других художников начала ХХ века. Но особо подробно, как на ключевом для истории русского искусства, останавливается автор на сюжете XIX века.
У большинства из нас в подкорке засела советская (Стасовская) схемка этого сюжета, центральным эпизодом которой стал бунт молодых художников против Императорской академии художеств в 1863 году и возникновение затем Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ). То есть: отринув “мертвечину академизма”, русские художники активно включились в борьбу прогрессивной русской интеллигенции за счастье народное, что и определило перспективу развития русского искусства — от народнического пафоса Перова, Крамского, Репина к победному завершению этого магистрального для русских художников пути произведениями типа “Большевик” Кустодиева и “Булыжник — оружие пролетариата” Шадра; ну а борьба эта, в свою очередь, вдохновлялась чувством гордости за мощь и красоту нашей бескрайней родины (Шишкин и “Золотая осень” Левитана) и исполинскую мощь самого характера русского человека (богатыри Васнецова и “Бурлаки” Репина).
Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что какого-то особого, так сказать, судьбоносного значения для истории русской живописи бунт против Академии не имел (более того, несчастная Академия изо всех сил пыталась найти контакт с новыми поколениями художников, и уже через пару десятилетий началось сотрудничество Академии с отдельными передвижниками, а в девяностые некоторые из них сами стали академиками). И что Товарищество передвижных художественных выставок нелепо рассматривать как явление в первую очередь идейно-художественное. Это было чисто коммерческое начинание, что-то вроде акционерного общества, имевшего отношение прежде всего к формированию нового художественного рынка в России. И потому нет никакого противоречия в том, что многие “передвижники” ориентировались в своем творчестве на охранительные, верноподданнические позиции.
Основной сюжет своей книги Бобриков выстраивает на прослеживании и анализе сложного и исключительно богатого процесса выбраживания эстетики русского изобразительного искусства. Историю русского искусства XIX века автор поделил на несколько эпох, обозначив их именами художников, в творчестве которых эстетические концепции того века оформились с наибольшей полнотой, — эпохи Брюллова, Федотова, Перова, Верещагина, Репина, Левитана. Разумеется, этими именами его повествование не исчерпывается, на страницах книги анализируется творчество огромного количества художников, многие из которых до сих пор остаются “в тени” для сегодняшнего посетителя Третьяковки. И здесь поражает стремительность, с которой обозначенные автором “эпохи” сменяли друг друга, — на каждую из эпох приходилось не более десятилетия, и каждая из них имела еще и свои “эстетические сюжеты”, как, скажем, противостояние Брюллова и Иванова или метаморфозы бидермайера в творчестве передвижников.
Книга Бобрикова, несомненно, событие в нашем искусствоведении. И по масштабности поставленной автором перед собой задачи, и по охвату материала, и по его проработанности. При этом автор — отношу это к несомненным достоинствам книги — не злоупотребляет специальной терминологией, хотя его терминология будет во многом новой для читателя. Впрочем, это не только его терминология, книга Бобрикова еще и своеобразный итог работы, проделанной нашими искусствоведами в последние десятилетия.
Составитель Сергей Костырко
Составитель благодарит книжный магазин “Фаланстер” (Малый Гнездниковский переулок, дом 12/27) за предоставленные для этой колонки книги.
В магазине “Фаланстер” можно приобрести свежие номера журнала “Новый мир”.
Периодика
“Афиша”, “Иерусалимский журнал”, “Коммерсантъ/Weekend”, “Лехаим”, “Литературная газета”, “Литературная Россия”, “Московский книжный журнал/The Moscow Review of Books”, “Московский комсомолец”, “НГ Ex libris”, “Невское время”, “Неприкосновенный запас”, “Новая газета”, “Однако”, “Перемены”, “Питерbook”, “Православие и мир”, “Российская газета”, “Русский Журнал”, “Свободная пресса”, “Свято-Филаретовский православно-христианский институт”, “Социологическое обозрение”, “Colta.ru”, “Interview”
Михаил Агурский. Три рассказа. Публикация Семена Гринберга. — “Иерусалимский журнал”, 2012, № 40 <; .
“Появление конхоидального ружья сразу изменило соотношение сил между Нунатакой и Канадой. 24 июля 1984 года армия Нунатаки вторглась на территорию Канады. Скоростные землеройные машины быстро проделывали ходы к неприятельским позициям, а нунатакские солдаты, вооруженные конхоидальным оружием, молниеносно продвигались к позициям врага. Канадская армия бежала в панике, в то время как коренное эскимосское население с ликованием встречало долгожданных освободителей и толпами вступало в ряды нунатакской армии” (“ Краткая история Северной войны ”).
Максим Артемьев. Махровый вздор. Иосиф Бродский как расист и сексист. — “НГ Ex libris”, 2012, 11 октября <; .
О книге “Иосиф Бродский: Проблемы поэтики. Сборник научных трудов и материалов” (М., “Новое литературное обозрение”, 2012).
“Новая книга материалов о Бродском показалась мне весьма примечательной. Я имею в виду те ее страницы, на которых высказываются иностранные авторы-бродсковеды. <...> Тут уже перед нами предстает Бродский — расист и шовинист, презирающий чуждые ценности европейской культуры. А для современного Запада быть расистом еще хуже, чем сексистом. В свете этого даже удивительны достижения поэта в эмиграции — все эти престижнейшие премии, лауреатство, пребывание в статусе нью-йоркского литературного гуру. Такое впечатление, что западная публика только сейчас прочла его стихи и схватилась за голову: кого же мы почитали?!”
“Бродский в основе своей был чужд либеральным ценностям в их современном истолковании. <...> Но суть заключается в том, что стихи не могут писаться политкорректно и толерантно, — иначе это не поэзия”.
Александр Архангельский. Мы отвели глаза и вместо Христа глядим друг на друга… Беседу вела Ирина Дмитриева. — “Православие и мир”, 2012, 24 октября <; .
“Могу только поделиться своими ощущениями, а не прогнозами. Мне кажется, что нас ждут не самые простые времена. Противоречия, которые накопились между странами в экономиках, в сфере идей таковы, что если бы не ядерное оружие, то мир уже воспроизвел бы ситуацию Первой мировой войны. Мы сейчас находимся в той же точке, что в 1912 — 1913 годах. Сейчас войну мировую никто не начнет, но проблемы не исчезнут, и где-то прорвет плотину. Нам предстоят испытания, в каких формах, не знаю, но к ним надо быть готовыми”.
Текст интервью был опубликован в якутской молодежной газете “Логос”.
Иван Ахметьев. “Конфликты есть, без них невозможно”. Игорь Гулин поговорил с составителем самого полного на сегодняшний день собрания стихотворений Яна Сатуновского. — “ Colta.ru ”, 2012, 23 октября <; .
“Почему я до сих пор отношусь очень примирительно ко всем реформаторам, начиная с Ельцина? Потому что они дали возможность издавать все что хочешь. Конечно, этого далеко не достаточно для полного счастья. А оказалось, что мне — достаточно”.
См. еще одно интервью Ивана Ахметьева : “Я рифмую дождь и плащ... О книге Яна Сатуновского „Стихи и проза к стихам”” (беседу вел Дмитрий Волчек) — “ SvobodaNews.ru ”, 2012, 31 октября <; .
Варвара Бабицкая. Недетский мир. — “ Colta.ru ”, 2012, 9 октября.
“Когда мне было девять лет, одной из моих любимых книг был роман Чернышевского „Что делать?”. Я знала наизусть целые страницы — скажем, пассаж про „все, что может быть предлогом для сливок” или рассуждение о ботинках, которые „на Толкучем рынке такие безобразные, а королевские так удивительно сидят на ноге”. Одна деталь, помнится, меня заинтриговала — не меньше, чем квартирную хозяйку Веры Павловны в первое время ее брака с Лопуховым: „Он встанет, пальто наденет и сидит, ждет, покуда самовар принесешь. Сделает чай, кликнет ее, она тоже уж одета выходит”. Я думала: вот глупость, ведь спит-то он с ней без пальто — а за завтраком такие смешные церемонии! О том, что между супругами, как правило, имеет место секс, я в девять лет уже знала. Но сопряженные с этой областью физиологические тонкости и психологические сложности, описанные Чернышевским, моему детскому пониманию не были доступны, так что я просто сочла Лопухова каким-то лицемерным фриком и больше об этом не думала”.
“Роман „Что делать? ” стал для меня важным литературным переживанием — случайно взяв его с полки, я впервые обнаружила, к своему удивлению, разницу между автором, героем и мной. Не просто язык, которым описывались все эти толкучие ботинки, был дик для меня — мне открылась та истина, что читателю может быть смешно там, где автор предельно серьезен, а героиня, которая автора восхищает, иной раз кажется читателю манерной дурой, и этот эффект разотождествления завораживал. Иными словами, это был первый опыт критического чтения — опыт, по моим наблюдениям, недоступный сегодня многим вполне взрослым читателям”.
Павел Басинский. Где наш дом родной? Замечательному писателю Василию Белову — 80 лет. — “Российская газета” (Федеральный выпуск), 2012, № 244, на сайте газеты — 23 октября <; .
“Василий Белов ведь тоже начинал с комсомольских стихов, в которых звал всех „вперед” (потом это покаянно отзовется его горьким, хотя и не лучшим романом „Все впереди”). И его герой Константин Зорин в „Плотницких рассказах”, в котором есть черты самого автора, уходя из деревни, говорит: „Я всей душой возненавидел все это. Поклялся не возвращаться сюда”. Но вернулся. Как вернулся в деревню Василий Белов”.
“Когда Василий Белов в „Канунах” и „Годе великого перелома” пытается объяснить причины появления этой незатянувшейся раны, его голос становился жестким, интонации уверенными. И враг вроде бы найден. Но все неубедительно, потому что спорно, потому что история всегда будет трактоваться и так, и сяк. Когда в романе „Все впереди” он беспощадно высмеивает столичных жителей (они, они во всем виноваты!), нам не смешно и даже порой неловко. А вот когда в „Ладе” он создает какой-то почти космический миф русской избы, в это верится безоговорочно. „Бухтины вологодские...” и забавны, и смешны, потому что в них ничего не объясняется, в них „поется”. И „Плотницкие рассказы” хороши”.
Сергей Гандлевский. “Я — тот фонтан в ГУМе, у которого вы встретились”. Беседу вел Дмитрий Бак. — “Московский книжный журнал / The Moscow Review of Books ”, 2012, 8 октября <; .
“Были наиболее известные „шестидесятники” ложными фигурами или подлинными героями, или дело обстояло сложнее? Разумеется, сложнее, и чем больше я удаляюсь от того времени, тем с большим почтением отношусь ко всей тогдашней плеяде одаренных поэтов. Тогда наше восприятие было по необходимости несправедливым (мы были молодые, 20 — 25 лет — не самый справедливый возраст). Например, когда рухнула советская власть, я с удивлением увидел, что высотные здания хороши: они перестали быть казенным символом. Надо было, чтобы рухнула советская власть, — и я почувствовал, что Окуджава — замечательный лирик, а вовсе не пресноватый любимец КСП. Поэтому я воспользуюсь сейчас случаем расписаться если не в любви (а ко многим авторам — и в любви), то в культурном поколенческом почтении”.
“Вот я, например, увидел Венецию в 45 лет, ну увидел и увидел — я рад. Но, думаю, если бы увидел ее в 15 лет, со мной бы что-то произошло”.
Линор Горалик. “Я часто думаю о том, что хорошо переношу сакрализацию поэзии и плохо — сакрализацию роли поэта”. Перед премьерным показом “Двенадцати” Линор Горалик и Дмитрий Воденников обсудили место поэзии и поэтов в современном мире. — “ Interview Россия”, 2012, на сайте журнала — 25 октября <; .
“ Л. Г.: Хочется (упрощая, конечно, но все-таки) сказать, что мы, если угодно, в сегодняшней поэзии иногда имеем дело с гендерным неравенством наизнанку: у женщин-поэтов нет тем, которых бы они не касались, а вот у мужчин-поэтов есть темы, для разговора о которых им приходится искать новый язык.
Д. В.: А что мужчины не затрагивают?
Л. Г.: Дети. <...>”.
Игорь Гулин. Великий незаметный. — “Коммерсантъ/ Weekend ”, 2012, № 41, 26 октября <; .
“Когда он [Ян Сатуновский] начинает писать известные нам сейчас стихи, сложный модернистский досталинский мир доживает последние дни, но Сатуновский о нем не знает и потому не оплакивает его. В его ранних стихах вместо погибающей — только что родившаяся реальность простых и страшных вещей, чувств, действий. И у этой реальности абсолютно новый язык. Первое известное стихотворение Сатуновского начинается: „У часового я спросил: / — скажите, можно ходить по плотине? / — Идить! — ответил часовой / и сплюнул за перила”. Поначалу в его текстах бросается в глаза антипоэтичность. Кажется, будто записывая эту дикую речь, он разъедает ею стихи. Но это впечатление — ошибка. Сатуновский одним из первых стал слушать новый советский язык. И, кажется, благодаря напряженному вниманию, которого вроде бы не заслуживала эта речь, она открылась ему в своей предельно оголенной сути. И суть эта была отчетливо поэтической”.
Екатерина Дайс. Библиотекарь из Наг-Хаммади. — “Русский Журнал”, 2012, 25 октября <; .
“Депрессия и гностический взгляд на мир по сути синонимы, просто это слова из разных дискурсов — медицинского и религиеведческого”.
Григорий Дашевский о “Жизни и судьбе” Василия Гроссмана. — “Коммерсантъ/ Weekend ”, 2012, № 39, 12 октября <; .
“Пока не начнешь перечитывать роман, кажется, что там о тоталитарных режимах написано что-то правильное, почти наивное, в традиционной, почти банальной форме — как раз для школьников. На самом деле, форма у романа совершенно оригинальная, но ее оригинальность и красота видны не на уровне словесных сочетаний (которые у Гроссмана точны и ясны, но лишены какой бы то ни было магии), а на уровне построения. Эта форма состоит не из озарений, а из решений, такой красотой может быть прекрасен мост или небоскреб — и этим Гроссман похож на классических античных авторов, которые по типу мышления были ближе к современным архитекторам и инженерам, чем к литераторам”.
“Центральная идея Гроссмана, что высшая ценность в мире — это вспышки человечности, которые случаются вопреки нечеловеческой силе, уничтожающей в людях человеческое, эта его идея — совершенно античная по духу. <...> Вот эту идею современная культурная публика и считает наивной”.
“Европа надоела до чертиков”. Критик Сергей Беляков, автор книги “Гумилев, сын Гумилева” о своем исследовании. Беседу вел Владимир Гуга. — “Свободная пресса”, 2012, 21 октября <; .
Говорит Сергей Беляков: “Значит так: я — самый маститый ученый в гумилевоведении. Если вы мне покажете какого-нибудь другого подобного специалиста по Гумилеву, я буду очень рад. Нет, есть, конечно, ученики Гумилева, которые отлично знают и жизненный путь Льва Николаевича, и его теорию этногенеза. Но никто из них не написал полную биографию этого ученого. Возможно, счастье работать долгие годы с Гумилевым заменило им счастье запечатлеть его жизненный и научный путь на бумаге. Конечно, они будут недовольны этой книгой, потому что она разрушает тот „прекрасный” образ Гумилева, который возник и стойко держится в сознании поклонников”.
“Маленький Лева мать очень любил и скучал, когда она к нему долго не приезжала. Обида, конечно, копилась. Но я не думаю, что неприязнь Гумилева к Западу можно объяснить конфликтом с Ахматовой”.
Жизнь и судьба “Василия Теркина”. 70 лет назад в газете “Красноармейская правда” началась публикация знаменитой поэмы. Беседу вела Елена Новоселова. — “Российская газета” (Федеральный выпуск), 2012, № 248, на сайте газеты — 26 октября.
Говорит Андрей Турков: “Я не могу сказать, что сразу оценил книгу. Первое мое знакомство с ней произошло в 1943 году, я сам только попал на фронт, а первая часть „Теркина” вышла отдельным изданием. Я был еще мал и глуп, да к тому же очень городской житель. Восторг пришел после войны, может быть, под влиянием того, что я сотрудничал в „Новом мире”, слышал Твардовского, видел, как он себя держит в очень сложных ситуациях. Это трагическая книга, в которой сказана очень жестокая правда о войне. По тем временам — очень жесткая”.
“Цензор Эмилия Алексеевна Проскурнина сидела в Китайском проезде, но занималась именно „Новым миром”. Кроме нее надзирали и другие. Эмилия, как интеллигентка, даже сочувствовала Твардовскому, но одновременно и боялась много из того, что читала. К слову, кое-что от нее в „Новом мире” узнавали. Например, про „письмо одиннадцати” она предупредила”.
Сергей Завьялов. Всегда слышать умолкнувшее, всегда видеть очевидное. Беседовал Александр Марков. — “Русский Журнал”, 2012, 11 октября <; .
“Я убежден, что мы живем в эпоху перехода от Нового времени к какой-то принципиально отличной цивилизации. От тотального жестокого диктата современности уже нигде не укрыться. В той новой цивилизации, которая возникает на наших глазах, мутации подвергается все: сам человек, его институты, его рассказ о самом себе (в том числе и словесный). То, что поэзия этой цивилизации будет отличаться от поэзии европейской цивилизации Нового времени по крайней мере так же, как висы скальдов и жесты жонглеров от рифмованного воспевания свобод буржуазной личности, осуждения капиталистической эксплуатации и рассказа о своих, в том числе эротических, неврозах (на чем построена наша поэтическая классика), для меня очевидно. Непонятно только, в какой области человеческих проявлений она зародится. Я же человек прошлой цивилизации и отказываться от нее не могу и не хочу. Рассчитываю я в этом проигрышном деле, пожалуй, лишь на то, что цивилизации умирают не в одночасье. Людей с ценностями, близкими моим, я еще встречаю”.
Максим Кантор. Общее дело. — “Перемены”, 2012, 22 октября <; .
“Лучшим русским романом последнего времени я считаю „Три минуты молчания” Георгия Владимова. <...> Интересна переписка Владимова с Солженицыным по поводу романа. Солженицын начал читать — и бросил. Написал автору (цитирую по памяти): мол, я-то надеялся, что Ваш герой понял, что будущее России на земле. Сушу надо обустраивать, Россия не морская держава! А Вы опять героя в море послали — читать неохота: зачем нам Джек Лондон. Они друг друга не поняли, Солженицын от книги отмахнулся, а Владимов объяснить Солженицыну не сумел. Книга как раз про сушу, на которой ничего сделать нельзя”.
“Роман „Три минуты молчания”, эпопея „Зияющие высоты”, поэма „Москва-Петушки” представляют особое направление русского искусства. К этому направлению отношу песни Высоцкого и Галича, рассказы Шаламова, прозу Кормера, философию Мамардашвили, книги Аверинцева — то есть самое страстное, что было создано между войной и перестройкой. Андрей Платонов писал после войны мало — но надо упомянуть великий „Ноев ковчег”, поскольку именно Платонов и есть первый в этом особом направлении русской литературы. Определить то, что объединяет это направление, — нетрудно; но термин надо объяснить”.
“Экзистенциализм в русской культуре несомненно был — и причем яркий. Просто он существовал не в работах Шестова (еще меньше в работах Бердяева) — а в литературе и в искусстве шестидесятых — семидесятых годов, параллельно со схожими процессами в Европе”.
Кирилл Кобрин. Тихая революция. — “Неприкосновенный запас”, 2012, № 4 (84) <; .
“Что может сделать один человек? Все. Но первым делом он должен поставить под сомнение самого себя как социальный продукт, как политическое животное, как результат культурной и генетической истории, „я” как таковое. Не освободиться, не уйти от этих контекстов (древние греки назвали бы их совокупность „судьбой”), а именно „поставить под сомнение”, посмотреть со стороны, оставаясь одновременно внутри и снаружи так называемого „себя””.
“Оттого невозможно сказать, победил ли такой революционер или потерпел поражение, состоялся ли подрыв основ или они как ни в чем не бывало несут на себе миропорядок”.
“Истинного революционера вообще не распознать; кто знает, может быть, его вообще нет”.
Кому он нужен, этот Пушкин? Беседу вела Елена Светлова. — “Московский комсомолец”, 2012, 30 октября <; .
Говорит Валентин Непомнящий: “Теоретически можно предположить, что вот нашелся бы гений сродного Пушкину полета и масштаба — и перевел бы его. Но за полтора века ничего такого не случилось. Забавный был случай: Иван Сергеевич Тургенев, сам автор очень хороших стихов (вспомним хотя бы „Утро туманное, утро седое”), однажды перевел для Гюстава Флобера несколько стихотворений Пушкина на французский; кажется, там было и „Я вас любил; любовь еще, быть может...”. Флобер прочел, и, знаете, что сказал? „Он плосок, ваш поэт”. Понимаете, Пушкин чудовищно глубок и в то же время невероятно прост, в нем нет никаких затейливых изгибов, он весь открыт, на всю свою невероятную глубину, и перевести эту глубину и эту простоту — выходит плоско”.
Сергей Кузнецов. “Издательства в нынешнем виде — отживающий институт”. Беседу вел Василий Владимирский. — “Питерbook”, 2012, 30 сентября <; .
“Викторианская Англия для англоязычного автора — идеальный мир детства: не только потому, что именно в это время написаны „Мэри Поппинс”, „Алиса в Стране Чудес”, „Книга Джунглей” и множество других книг, но и потому, что викторианцы очень особым образом относились к детям: они их уже замечали (в XVIII веке никаких детей не было), но еще считали невинными (после Фрейда это стало невозможно)”.
“Так называемая „эпоха застоя” конструировала детство таким же образом — как период невинности, которая неизбежно должна закончиться. И точно так же, как викторианская Англия, она породила длинный список классических детских книг — от Крапивина до Успенского. Кроме того, для нескольких поколений англичан это было ностальгическое время „великой Империи”, про которую они уже знают, что она была обречена, — и также многие наши современники воспринимают брежневский период советской истории: как время, подернутое романтическим флером обреченности, время, которое как детство обещало длиться вечно, а потом закончилось. Поэтому я подумал, что современная книжка для детей должна играть с позднесоветским дискурсом также, как Пулман играет с викторианским — при том, что сам я не особо ностальгирую ни по своему детству, ни по советской власти”.
“Лет десять назад я увидел дочку своих друзей-эмигрантов, увлеченно читавшую Крапивина. Сама она толком никогда не жила в России и, кажется, вообще не застала СССР. Я спросил ее, как она читает книжку, которая для меня всегда была построена на столкновении советской реальности и вымысла, — ведь эта реальность ей совсем чужая. Она ответила: „Ну, я же читаю про Шерлока Холмса, и никого не волнует, что я никогда не была в Лондоне XIX века””.
Вячеслав Курицын. Сосредоточенное оцепенение. — “Однако”, 2012, № 30; на сайте журнала — 23 октября <; .
“„Описание города” [Дмитрия Данилова] — это описание духовной практики, которая, как и всякая духовная практика, имеет физическую проекцию на грешную землю. Герой просто ходит по городу. „Если все равно, куда идти, и если при этом можно пойти направо или налево, надо, конечно, идти направо”. Но почему „конечно”? Я тоже всегда стараюсь идти направо, поворачивать направо, обходить кварталы с правой стороны. Я не вкладываю в это религиозного или еще какого-то содержания, нет, просто ноги так несут… и трудно что-то с собой поделать. В Москве, как мне уже рассказали, модно теперь стоять двадцать минут в день босиком на земле… ну или на снегу, если нет земли на улице в соответствующее время года. А еще новый тренд — медленная ходьба, когда поднимаешь-ставишь ногу, как в замедленной съемке, и даже еще медленнее, и даже еще… Оно, наверное, полезно для здоровья, но главная причина — этого просит душа”.
Ирина Лукьянова. Что не читает поколение Вконтакта, и еще 10 вопросов о литературе в школе. Беседу вела Анна Данилова. — “Православие и мир”, 2012, 16 октября <; .
“Мне недавно заказали юбилейную статью о Случевском, которого я читала в юности и совершенно с тех пор забыла. А тут его пришлось перечитать почти полностью. И понимаешь вдруг, что это потрясающая фигура — человек, который всю жизнь был сосредоточен на смерти и с ранней юности до глубокой старости писал практически только о ней… в самых разных ее вариантах: о собственной смерти, о чужой смерти, о загробной жизни, о вечности, об умирании. Полная энциклопедия танатологии! Поразительный автор, абсолютно забытый всеми, кроме специалистов, не попавший ни в школьную, ни в вузовскую историю русской литературы”.
“Мир выглядит совсем пропащим, в том числе и цивилизованный”. Поэт Гандлевский о митингах, Быкове и состоянии русского языка. Беседу вел Лев Данилкин. — “Афиша”, 2012, на сайте — 22 октября <; .
Говорит Сергей Гандлевский: “По-моему, я вам представляюсь большим пуристом и цацей, что ли, чем я есть. Я действительно считаю, что Асадов был хороший мещанский поэт. Ничему дурному он своих читателей — девочек, которые переписывали его, — не учил. Пусть, на мой вкус, это не имеет отношения к поэзии, которая мне нравится. Что с того?”
“Главный смысл всяких студий — в знакомстве молодых пишущих людей. Задача руководителя — поддержание живой атмосферы. Чему я могу научить в буквальном смысле слова? Точной рифмовке? Но я вовсе не уверен, что это прием, годный на все случаи жизни. <...> Я могу давать студентам лишь пустяковые советы, что, скажем, пятистопный анапест — настолько сам по себе красивый размер, что им можно говорить без слов: та-та-та, та-та-та, та-та-тa, та-та-та, та-та-та… И что надо быть настороже, а не соблазняться его безличной красотой”.
“Ждать от поэта какого-то особого, не вполне вменяемого поведения на все случаи жизни — это идет от Серебряного века. Но поэзия не в Серебряном веке началась. И я думаю, что великий — и впрямь великий — культ романтического поведения за два с лишним столетия изжил себя. Декларативная неординарность, биографические художества перестают быть знаком поэтического качества, а когда не перестают, смотрятся провинциально. У меня есть и вовсе прозаическая, но очень дорогая для меня сторона жизни — дачная”.
Сергей Морейно. “Я хотел бы перевоплощаться в авторов”. — “Московский книжный журнал/ The Moscow Review of Books ”, 2012, 19 октября <; .
“Пока ты не раскинул руки-ноги перед наступающим на тебя оригиналом, ты не переводчик. В Советском Союзе многие переводили либо чтобы выжить, либо по каким-то другим соображениям, и это отсекает тех, кто занимался им вынужденно. Если говорить, например, о Пастернаке, то по отношению к тексту он явный андрогин — то мужчина, то женщина. В его переводах, начиная от Рильке и заканчивая Шекспиром, слышится то Рильке и Шекспир, то Пастернак, то есть чаще он был „мужчиной”, поэтому его переводы трудно назвать хорошими, хотя есть в них изумительные места. <...> Там, где он „женщина”, то есть удачен, где на него „ложится” оригинал, ему трудно что-то противопоставить”.
“Что касается польских переводов, то давно понятно, что Галчинский не очень хороший поэт и Самойлов не слишком уж большой поэт, но какие-то вещи не вычеркнешь. Некоторые не пьют молоко, потому что их перепоили им в детстве, по этой же причине не едят гречку и не читают Пушкина, я, наоборот, люблю молоко, гречку и Пушкина, и поэтому люблю переводы Самойлова из Тувима, хотя сейчас утверждают, что их сделал Эппель”.
“Как быть с „Божественной комедией” в переводе Лозинского? Это безумно скучно, но говорить, что он плохой переводчик, еще больший абсурд. Не стану читать „Дон-Жуана” Байрона в переводе Татьяны Гнедич. Ее перевод — блестящий, но бессмысленный, в этом формате Байрон в русском языке не живет”.
На свет рождаемся для любви. Беседу вел Вячеслав Недошивин. — “Российская газета” (Федеральный выпуск), 2012, № 231, на сайте газеты — 8 октября.
Говорит Ирма Кудрова: “Нет, нет. Здесь все неверно. Во-первых, завербовал, привлек к работе на СССР не Родзевич Эфрона, а наоборот: Эфрон — Родзевича. <...> Родзевич и Эфрон дружили еще со времен Праги, где учились в университете, и сказать, кто из них раньше пришел к идее возвращения в Россию, а потом и к прямой работе на ГПУ-НКВД — невозможно. Я встречалась с людьми, по себе знавшими истории вербовки бывших белогвардейцев. Они рассказывали о хитроумных ходах, которые использовали наши спецслужбы. „Играли” на ностальгии, на нищенстве многих эмигрантов, на честолюбии.... И на первых же допросах на Лубянке — я читала их! — Эфрон, отвечая на вопрос, кого он завербовал в Париже, прямо называет Родзевича”.
Отец “Орды”. Юрий Арабов о православном “Аватаре” и опасности младостарчества. Беседу вел Кирилл Маевский. — “Свободная пресса”, 2012, 20 октября <; .
Говорит Юрий Арабов: “Кризис идей переживает не только Голливуд, но кино в целом. Думаю, что эксперимент и поиск уйдут в малозатратное интернет-кино, которое уже создается. Большое кино во главе с Голливудом будет создавать параллельную реальность, где потребуется новый технологический прорыв. Все это будет иметь к художественным идеям косвенное отношение. И что принесет „новая реальность” человеку — сказать не берусь. Однако „традиционный” фильм сохранится как ограниченный художественный сегмент. Как сохранился, например, театр, который существует с времен языческой древности. Он, кстати, живет и процветает. Таким же „отсталым” сегментом будет и традиционное кино, которое сможет конкурировать с „параллельным миром” только на уровне идей. Оно станет менее коммерческим и более творческим”.
“В движении церкви к обществу есть только одна грозная опасность — младостарчество. На нее указывал Священный Синод несколько лет назад. Это опасность значительно серьезнее, на мой взгляд, чем возможный внутрицерковный раскол и состоит в том, что священники, не имеющие духовного опыта и просто качественного образования, говорят за всю церковь и за самого Бога”.
Борис Парамонов. Марина Ивановна Цветаева. Глава из книги “Мои русские”. Предисловие Александра Гениса. — “Новая газета”, 2012, № 113, 5 октября <; .
“Цветаева — самый крупный поэт двадцатого века”.
“Вот простая объясняющая параллель: если Мандельштам — это Солженицын, то Цветаева — Варлам Шаламов. Дело не в том, кто выжил, а кто погиб, а в том, какое длящееся впечатление остается от их творчества”.
“Мандельштам, что ни говори, — это небо. Цветаева — оставь надежду всяк, сюда входящий: ад, онтологический провал. И душа ее из этого ада стремится не на небо, а — в никуда, в ноль бытия”.
“Цветаева похожа на фигуры Микеланджело, которые он поставил на гробнице Медичи: мощные гиганты, почему-то украшенные (но как раз слово „украшенный” и не подходит!) женскими грудями”.
“Ей можно найти параллель в американской литературе — и не в поэзии, а в прозе: Фолкнер, конечно”.
Передела не будет уже. Беседу вел Игорь Касько. — “Литературная Россия”, 2012, № 42, 19 октября <; .
Говорит Мария Ватутина: “Нужно учить [школьников] читать — то есть уметь читать поэзию, сложные классические произведения, учить получать от этого кайф. Но если встанет вопрос выбора: чему отвести имеющиеся 3 часа в неделю, то я бы, конечно, отдала их литературе античной и литературе 18 — 20-го веков, с преобладанием 19-го. Но если жертвовать не надо, то среди поэтов 21 века я бы показала детям в школе Олега Чухонцева, Ирину Ермакову, Светлану Кекову, Бориса Херсонского, детские стихи Алексея Цветкова и Владимира Гандельсмана и др. А в институте — Алексея Цветкова, Бахыта Кенжеева, Сергея Гандлевского, Ивана Жданова, Александра Кабанова, Ирину Евсу, Владимира Гандельсмана, Диму Быкова, Инну Кабыш и др. А пока что я знаю только один случай такого преподавания: известный московский педагог Наталья Попова преподает на курсах повышения квалификации учителям литературы средних школ современную литературу”.
Игумен Петр (Мещеринов). Неужели русская культура недостойна переводов Баха? — “Православие и мир”, 2012, 3 октября <; .
“Для себя я, конечно, мог бы ограничиться чтением по-немецки. Но, впервые познакомившись с упомянутым Вами сайтом -cantatas.com , я увидел там переводы Баха не только на все европейские языки, но и на иврит, и на азиатские, и вообще на все мыслимые языки — а русского перевода не было. Я почувствовал себя уязвленным этим — между прочим, из патриотических соображений (нередко меня упрекают в антипатриотизме; как видите, это вовсе не так): что, русский язык и русская культура недостойны переводов Баха? И я стал подумывать над тем, чтобы восполнить этот недостаток”.
“Западные литургические тексты допускают гораздо более открытое и яркое выражение чувств в отношении к Богу. Переводить на русский язык буквально или близко к тексту поэтому было невозможно. Например, для немецкого языка сказать: „Я люблю Тебя, Господи” — это вполне нормально. По-русски это звучит нестерпимо фамильярно и фальшиво, поэтому приходилось (без изменения смысла, конечно же) искать русский эквивалент — и эквивалент именно литургический, гимнографический, например: „Я стремлюсь к Тебе, Господи”. Сложность представлял, конечно же, и язык XVII — XVIII веков. Здесь мне очень помогло чтение старой неисправленной лютеровской Библии (немцы постоянно редактируют и обновляют язык Священного Писания, поэтому пришлось читать старые издания)”.
Райская природа языка. Поэт Светлана Кекова о символическом реализме, пространстве Заболоцкого и псалмическом мелосе. Беседу вела Дарья Данилова. — “НГ Ex libris”, 2012, 25 октября <; .
Говорит Светлана Кекова: “Да, Николай Заболоцкий и Арсений Тарковский для меня — самые важные имена в русской поэзии ХХ века, и я очень рада, что мы с вами здесь единомышленники. О пантеизме Заболоцкого (здесь имеются в виду, конечно, не „Столбцы”, а стихи и поэмы 30 — 50-х годов) принято говорить в критических и литературоведческих исследованиях, хотя это вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Я действительно этим вопросом занималась углубленно и пришла к выводу, что у Заболоцкого не пантеизм, а, если так можно выразиться, панантропизм. У него не божество растворено в природе, а человек!”
“Я никогда не „боролась” с влияниями любимых поэтов, их поэзия для меня — жизнь. Я бы хотела жить в том пространстве, которое создано, например, в „Первых свиданиях” Тарковского или в „Лесном озере” Заболоцкого. Если все-таки говорить о влияниях, то влияние и Заболоцкого, и Тарковского связано прежде всего с их творческим методом, который можно назвать символическим реализмом. Именно символическим реализмом, а не символизмом”.
Генрих Сапгир: взрослый и детский. На четыре вопроса отвечают: Михаил Гробман, Анатолий Лейкин, Юрий Орлицкий, Виктор Пивоваров. Беседу ведет Афанасий Мамедов. — “Лехаим”, 2012, № 11, ноябрь <; .
Говорит Юрий Орлицкий: “Известно, что в ранней молодости поэты [Бродский и Сапгир] были достаточно близки, ездили друг к другу в гости. Потом их пути разошлись, что тоже понятно: Бродского всегда тянуло к классическому стиху, Сапгир же, наоборот, решительно тяготел к авангарду, который Бродский как раз недолюбливал. Но это не мешало им уважать и ценить друг друга. Так, в аудиоархиве Сапгира сохранилась запись нобелевской речи Бродского, которая передавалась по радио. Но творческое противопоставление поэтов имело, как я уже отметил, принципиальный характер: условно говоря, неоклассик против неоавангардиста. В свое время я написал об этом специальную статью, которая так и называлась: „Два пути современной русской поэзии”. Потому что, с моей точки зрения, они — равновеликие поэты, из числа самых лучших в своем времени. Хотя Сапгир мне ближе…”
Ольга Седакова. “Общество больше не требует творчества”. — “Свято-Филаретовский православно-христианский институт”, 2012, 17 октября <; .
“Например, писать после Мандельштама так, как будто его не было, просто нелепо. Как говорил Томас Стернз Элиот, традиционный — это тот, кто может выдержать суд предшествующей традиции, т. е. нужно представлять себе, что над тобой есть этот суд. Если ты хочешь по-другому, не имея в виду, что Шекспир, Толстой и другие какой-то суд о тебе выносят, то это уже совсем другого рода деятельность, самодеятельность, которая, конечно, никому не запрещена”.
“На дне открытых дверей перед моим поступлением один из профессоров МГУ, филолог сказал: „Если кто-нибудь из вас пишет стихи, то когда вы доучитесь, вы перестанете это делать”. Отчасти это связано с советской идеей, что образованные люди теряют непосредственность, спонтанность, что надо быть таким Иванушкой-дурачком, и тогда у тебя все получится. Но, с другой стороны, филолог действительно сталкивается с серьезным творчеством, хотя бы потому что оно есть в программе, и он может трезво себя оценить. Так что образование — это своего рода аскетическая проверка”.
Андрей Сен-Сеньков. Поэзия вне вагона. Беседовал Александр Марков. — “Русский Журнал”, 2012, 3 октября <; .
“Просто поэзией занимаются два типа людей. Первые — именно, что „поэты”. Люди, движущиеся по проложенным рельсам, они могут быть с уникальным взглядом и талантом, но они не выпрыгивают из вагонов, а выходят только на остановках. Вторые — это artists , то есть те, кто использует поэзию как инструмент для определенного месседжа. В какой-то момент они решают, что нужно писать, в другой момент — фотографировать, в третий — рисовать и т. д. Именно второй тип людей и создает все пограничные состояния текста”.
Александр Скидан. Час прочитываемости. Беседовал Александр Марков. — “Русский Журнал”, 2012, 30 октября.
“Критика машинного лирического производства, его машинальности, имплицитно присутствует уже у обэриутов, главным образом — у Олейникова и, по-другому, у Введенского. Потом были Ян Сатуновский и Всеволод Некрасов, просверлившие в речевых автоматизмах дыры, позволяющие коснуться дословесного вещества, предпосылки всякого языка и всякого сообщения: общности разделяющих телесно-языковой код, коммунальный опыт. Эта общность такова, что люди понимают друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда. Можно говорить шепотом, едва шевеля губами. „Да, я лежу в земле, губами шевеля…” (Мандельштам)”.
“Позднее с этим опытом, но уже как с социокультурными блоками, работал Пригов. Он создал периодическую таблицу поэтических элементов, почти не оставив пустых клеток для заполнения. В статье о нем я попытаюсь показать, что его логико-поэтические машины строятся во многом на принципах эпического театра Брехта, где актеры цитируют и показывают идеологические и социальные жесты и маски, а не перевоплощаются в роль”.
Сергей Шаргунов. Дневник расстрелянного себя. — “Литературная газета”, 2012, № 41, 17 октября <; .
Фрагмент предисловия Сергея Шаргунова к шеститомнику Валентина Катаева. “Но вот нельзя сказать, что Катаев, сочиняя повесть о Ленине, только лишь скрыто с ним полемизировал и пытался его растворить в соусе эстезы, или полностью лицемерил, разведя советскую власть на продолжительную поездку на Капри и в Париж. Мне очевидно, у него был интерес к Ленину”.
“Что бы он сказал о Ленине в перестройку? „Вертер” — первая ласточка демонтажа всего большевизма до основания, „Сухой лиман” — первый проблеск реабилитации религии. А что бы сказал Катаев о Сталине, доживи до ста лет, до 1996 года и кампании „Голосуй или проиграешь”? Неизвестно. Понятно одно: он страшно хотел России славы и силы. И в этом плане сталинистский роман „Время, вперед!” читается и как документ эпохи, и как произведение искусства, щедрое на метафоры, и как призыв делать Россию сильнее”.
Сергей Шаргунов. “Замах на бессмертие — это нормально”. Беседовала Эльвира Дажунц. — “Невское время”, Санкт-Петербург, 2012, на сайте газеты — 30 октября <; .
“У детей священников есть несколько дорог. Один — это богоборческий вариант, отторжение Бога. Чернышевский, например, сын саратовского проповедника. Или Шаламов. Есть вариант династии. А есть третий вариант — мой. У меня своя дорога, но при этом почтительное отношение к отцу, его взглядам и к церкви”.
Карл Шмитт. Глоссарий. Перевел с немецкого Юрий Коринец. — “Социологическое обозрение”, 2012, № 2 <; .
В рубрике “ Schmittiana ” продолжается выборочная публикация дневниковых записей Карла Шмитта “Глоссарий” (1947 — 1958). Начало см.: 2010, № 1; 2011, № 1-2, № 3. Редактор публикации — Александр Филиппов. Номера “Социологического обозрения” можно читать на сайте журнала в формате pdf .
Составитель Андрей Василевский
“Вертикаль. XXI век”, “Вестник русского христианского движения”, “Вышгород”, “Дружба народов”, “Звезда”, “Знамя”, “Иностранная литература”, “История”, “Литературная учеба”, “Октябрь”, “Посев”, “Православие и современность”, “Рубеж”, “Сахалинский альманах”, “Юность”
Владимир Арсеньев. Материалы по изучению древнейшей истории Уссурийского края. — “Рубеж”, Владивосток, 2012, № 12 (874).
Над этими текстами, опубликованными впервые в 1912 году, Арсеньев работал несколько лет, собирая материалы в путешествиях 1903, 1906 и 1907 гг. Здесь, в частности, публикуется и загадочная “Легенда о царе Куань-Юне”. В примечаниях пишут, что “первая „полноформатная” статья Арсеньева представляет большой интерес тем, что документирует особенности его познавательного процесса, несет в себе признаки эволюции от военно-востоковедческой практики к научно-художественному творчеству”.
Тему “крайнего востока России” тут развивает и Владимир Соколов — статьей “Арсеньевская история: онтологическая бдительность в эпоху перемен” (она же открывает и 3-й том только вышедшего в издательстве “Рубеж” Собрания сочинений В. К. Арсеньева). Тему КВЖД (Приморье, русский Шанхай) в альманахе представляет документальная повесть Александра Силина “Таня”.
Дионисио Гарсия. О “феномене” Мамардашвили. — “Вертикаль. XXI век”, Нижний Новгород, 2012, выпуск 37.
Жесткий, если не сказать сильнее, “путеводитель” по высказываниям покойного философа, что-то вроде “развенчания мифа”. Разменявший девятый десяток автор — “русский испанец”, музыкант, иконописец, переводчик, реставратор, философ (так пишут в аннотации). Коротко говоря, Д. Г. считает, что воздействие Мамардашвили на читателей и слушателей сродни непонятному гипнотическому воздействию.
Наталья Громова. Ключ. Архивный роман. — “Знамя”, 2012, № 11 <;.
“Конечно же, почти все знают, что советский человек, а еще более советский писатель был трагически, а порой и комически раздвоен, существовал с двумя, а порой и с несколькими лицами сразу. Слабым утешением была мысль, что в частной жизни он — настоящий, а в общественной — искусственный. Жизнь показывала, что в период общественных катаклизмов все путалось местами, и вчерашние близкие друзья становились врагами, жены предавали мужей, дети — отцов. <…> Никто не стал советским поэтом или писателем сразу, в конце двадцатых все были еще очень разными. Они еще не представляли, что будут на беспрерывных собраниях в конце 30-х призывать бывших товарищей к ответу и предлагать свои услуги в качестве палача. К этому состоянию надо было прийти. Перебирая бумаги в доме Луговского, я столкнулась с ошарашивающими документами. Огромное покаянное письмо поэта Петровского в партком Союза писателей, письма Луговского, исполненные тревоги и нарастающего ужаса.
Я пошла в архив литературы и искусства и стала целенаправленно и сознательно выбирать оттуда бумаги знакомых мне литераторов в границах определенного времени: от середины до конца 30-х годов. Меня стало сшибать ураганным ветром. <…> Я поняла, о чем надо писать книгу — о Превращении”.
Андрей Грохольский. Мои свидетельские показания, или Тридцать лет спустя. О Вампиловском книжном товариществе. — “Рубеж”, Владивосток, 2012, № 12 (874).
Свидетельство о разгроме летом 1982 года литературно-читательского сообщества, душой которого был прозаик Борис Иванович Черных (получивший пять лет лагеря и три года ссылки по 70-й статье УК РСФСР). Среди обвинений — издание под копирку “Литературных тетрадей” (самодельное периодическое издание товарищества), распространение сам- и тамиздата. Имя Вампилова в названии — духовный символ.
“Мы не ставили перед собой определенных политических целей. Самой „политической” можно было назвать идею вампиловцев распределиться всем вместе после окончания университета в одну деревенскую школу или в один район и создать там некую „территорию свободного духа”. Мы были одинаково юны, но не были политически однородны. У каждого были свои — нет, пока еще не убеждения — предпочтения: монархистские, анархистские, социал-демократические, либеральные, национал-патриотические. Если проецировать все это на современное общество, то получается вполне обычный политический спектр. Объединяло нас тогда, пожалуй, одно — неприятие партийно-бюрократической системы и идеологии, которая воцарилась в СССР. Наверное, всех нас можно было назвать антикоммунистами, и, как это ни парадоксально, самым коммунистом тогда среди нас был наш старший товарищ — Борис Черных. По крайней мере, Борис Иванович лучше и глубже всех нас был знаком с работами классиков марксизма-ленинизма, которые он всегда критически примерял к действительности…”
Прозаик и журналист Борис Черных умер в прошлом году. В издательстве “Рубеж” (серия “Архипелаг ДВ”) недавно вышла книга его избранной прозы “Эрька Журо, или Случай из моей жизни”. После освобождения из ссылки рекомендацию в СП ему давал Фазиль Искандер.
Николай Заболоцкий. Лагерные письма. Публикация Н. Н. Заболоцкого. Вступительная статья и примечания И. Лощилова. — “Рубеж”, Владивосток, 2012, № 12 (874).
Полный свод этих писем публикуется впервые. Вместе с архивными фотографиями и некоторыми факсимиле они заняли тут 60 страниц издания.
Из письма от 19 апреля 1941 г. (Заболоцкому 38 лет): “Быстро бегут дни. Работа гонит их вперед с неудержимой силой. Теперь встаю в 7 утра и возвращаюсь в барак в 12 ч. ночи; в час я уже сплю мертвым сном. И не знаю, долго ли это все продлится. Весной возможны всякие перемены. Стал и я стареть. Все явственней обозначается лысина, появились морщины, в коже нет прежней упругости и свежести. Время и лишения делают свое дело. И от жизни так отвыкаю. Милые вы мои! Как вы далеко и как нестерпимо хочется быть вместе с вами. <…> И совсем не представляю себе — во что вы одеваетесь, во что обуваетесь. Твое зимнее пальто уже в 38 г. было старое, — что же носишь ты теперь? Я представляю себе — как хочется тебе иногда купить себе что-нибудь — шляпу, чулки — и не на что. Все это в одно мгновение оказалось отрезанным от меня: из одной жизни я провалился в другую, и смотрю теперь оттуда на вас глазами иного человека, малопонятного для вас и уже многими, вероятно, забытого.
Если бы я мог как следует отдохнуть, отоспаться и передумать много, много мыслей, которые уже давно ждут своей очереди и которыми заниматься некогда. Моя голова еще хочет думать — она еще не утратила этой способности, — и одно это обстоятельство уже радует меня. Не мне одному тяжело в заключении, но мне тяжелее, чем многим другим, потому, что природа одарила меня умом и талантом.
Если бы я мог теперь писать — я бы стал писать о природе. Чем старше я становлюсь, тем ближе мне делается природа. И теперь она стоит передо мной, как огромная тема, и все то, что я писал о природе до сих пор, мне кажется только небольшими и робкими попытками подойти к этой теме. До свидания, родная. Крепко целую и обнимаю тебя и детей, с которыми мысленно я всегда вместе и о которых я так тоскую. Будьте здоровы”.
Ольга Иванова. Лейтмотив. — “Рубеж”, Владивосток, 2012, № 12 (874).
если здешняя жизнь обошла стороной
если даже такой несомненной весной
самый солнечный день — несказанный, сквозной —
будто наглухо запертый шкаф платяной
если здесь и сейчас — никогда, ничего
и по обе — черно, и в округе — мертво
засучи рукава и замри у двери
подопри эту дверь — и сквозь дверь — говори
муку собственной плоти руками обвей,
как смоковницы ствол без листвы и ветвей
как живою водой окропи, оживи,
в конуре нелюбви говоря — о любви
пребывая в её несомненном саду…
в первозданном эдеме, в янтарном меду…
отомри априори! от-ли-те-ра-турь —
и федорино горе, и федрину дурь!
(“Ольге Родионовой”)
Из писем А. И. Солженицына Н. А. Струве о “Вестнике”. — “Вестник русского христианского движения”, Париж — Нью-Йорк — Москва, 2012, № 200.
“Essays Честертона — изумительные! Больше пока ничего не успел, буду ждать своего тонкого, чтобы размечать. <…> Еще пишут: Белов напечатал новый роман (“Кануны”) — удивляются и радуются все. Слава Богу, продвигается все же русская литература. Перехожу на отдельный лист к разговору принципиальному” (из письма 11 июня 1978 года).
“И вот — злополучный Леонтьев. Если бы Вы публиковали все письма Леонтьева или большую подборку их — ну тогда, предположим, напечатали это письмо. А то оно гвоздь, из-за него публикация — а что в нем? Славянская — предательская, изменческая, расслабленная, чуть не вонючая кровь! — и Вы это печатаете не моргнув, в документе, который другого значения не имеет. <…> Вы посмели бы это самое напечатать — не говорю о еврейской „крови”, но — о румынской или занзибарской? Наверняка нашли бы время вникнуть и способ избежать. А ругать русское — никому, никогда не опасно, тут и задумываться не надо.
Меня в отчаяние приводит, что именно (и только) в таких случаях Вам отказывает ухо. В будущем Вы можете сделать ошибку и худшую” (из письма с той же датой, видимо, это и есть “отдельный лист”).
Геннадий Каневский. Странное и откровенное. Стихи. — “Октябрь”, 2012, № 10 <;.
каждое анное — енное:
странное и откровенное.
каждое яное — инное:
пьяное и магазинное.
где угрожают заточками.
где убегают садочками.
где нарастают события
за полчаса до закрытия.
(“энск”)
Сергей Карпов. Элегантность двух “н”. Беседовал Алексей Савельев. — Научно-методический журнал для учителей истории и обществознания “История” (Издательский дом “Первое сентября”), 2012, № 8 <; .
“Есть ещё одна черта вашего издания, которую мне хотелось бы особо отметить: его публикации отличает правильный русский язык. В статьях, которые представлены на страницах журнала, литературная сторона очень хороша. А ведь иногда читаешь публикацию даже в весьма почтенном издании, и там находишь чудовищные ошибки. Ну, например, в слове „Равенна”, где находился центр Римской империи во время её заката, стоит только одно „н”. В журнале „История” такого не бывает”.
В прошлом году журнал отметил 20-летие своей работы. Тема настоящего номера — “Россия и Восток”. Тут интересные материалы о грузинах в Москве (XVII — XIX вв.) и Брусиловском прорыве, а в разделе “Обществознание” — материалы к уроку для 10-х и 11-х классов на тему “Зачем быть интеллигентом?” (автор разработки — преподаватель педагогического колледжа в г. Ангарске Елена Понятовская). В финале реферата читаем: “Интеллигентность определяется не хорошими манерами, красноречием, привлекательной внешностью, а богатством внутреннего духовного мира. Это богатство частично предопределено генетически унаследованными задатками и талантами, но главный духовный капитал приобретается в процессе получения образования (как в учебном заведении, так и вне его) и особенно — самообразования и самовоспитания. Интеллигент — это самоопределившийся, эрудированный, творчески одарённый человек, готовый к осуществлению профессиональной деятельности”.
Игорь Кохановский. До и после “Бабьего лета”. Беседовал Павел Крючков. — “Юность”, 2012, № 12 < ; .
“— Вы как-то обмолвились в разговоре, что в школьные годы у Вас случился роман с учительницей английского языка…
— Причем у нас же была французская школа и почему она именно к нам пришла — не помню. Она была переводчицей трофейных фильмов — например, с Диной Дурбин. И сама была чем-то похожа на артистку Евгению Козыреву, которая играла в фильме ёУбийство на улице Данте”, где, кстати, и первая роль Миши Казакова.
Моей возлюбленной было тогда тридцать с небольшим. А мне, в 1955-м, выпускном году было восемнадцать лет. Я же второгодник, весь четвертый класс пролежал с бронхильной астмой.
— Поэтому Вы с Высоцким и оказались в одном классе?
— Да, он моложе меня — с тридцать восьмого.
…И вот, выпускной вечер, два часа ночи, гуляют выпускники, а я — у нее. Стою у окна, а внизу по улице идут мои друзья, поют песни, мелькают белые платья, смех. Она говорит: „Ты, наверное, хочешь к ним?”. Я говорю: „Нет, совсем нет”.
Эту сцену я почему-то навсегда запомнил”.
…В осенних же номерах “Юности” публикуются очаровательные “Записки дошкольника” Сергея Белорусца. Откуда что берется: гуляли будущие родители будущего детского писателя по Москве в конце 1950-х и думали, как назовут своего ребенка. “…Папа огляделся — и увидел на ближайшем рекламном щите (или тумбе) веселенькую афишу, на которой значилось: гастроли французской эстрады. Серж де Валера.
— Вот, — сказал Папа, — и ответ на вопрос о том, как мы назовем ребенка. Если родится мальчик — он будет зваться Серж. Ну а если девочка — то Валера. В смысле, Валерия…”
Геннадий Лысенко. Зал ожидания. Из неопубликованных стихов. — “Рубеж”, Владивосток, 2012, № 12 (874).
“Еще не считаны цыплята, / но я предвижу, / как итог: / что от других когда-то спрятал, / теперь и сам найти не смог. / Что, в этом смысле, / неизменно / трехмерны в мире свет и мгла, / — есть потолок, / есть пол, / есть стены / и нету пятого угла” (1971).
К 70-летию со дня рождения Г. М. Лысенко (1942 — 1978) в “Рубеже” вышел том его избранной лирики “До красной строки, до упора” (составление и статья Александра Лобычева). Как и другие книги новой издательской серии “Архипелаг ДВ”, этот сборник оформлен работами дальневосточных художников.
К слову, помимо Лысенко, в текущем номере немало эксклюзивных стихотворных подборок: Илья Фаликов, Вечеслав Казакевич, Виктор Куллэ, Олег Дозморов, Ольга Иванова и др. Из архивных поэтических публикаций — т. н. “Пражская тетрадь” Давида Бурлюка (стихи 1907 — 1957 гг.), 18 текстов, из которых ранее публиковался лишь один (публикация Ольги Фиаловой, подготовка текста и предисловие Евгения Деменка).
Борис Любимов. “Вот это мой путь”. С ректором Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина беседовала Наталья Волкова. — “Православие и современность” (Саратовские епархиальные ведомости), Саратов, 2012, № 23 (39) <-saratov.ru> .
“Однажды к нам приехал отец Савва ([Остапенко]; впоследствии схиигумен, великий старец и духовный писатель, отошедший к Господу в 1980-м. — П. К. ) — как я теперь понимаю, он ездил в Абхазию, навещал тайных православных того времени и проездом заехал и к моему отцу (известному переводчику Флобера, Стендаля, Мериме, Рабле и др. — П. К. ). У нас дома была трапеза. Я посидел полчасика и пошел в футбол гонять. А отец Савва, мне отец рассказывал, спросил: „А сын-то вообще верующий?” — „Да, но единственно, — вот что отец мой ответил, — ему во время шестопсалмия в церкви очень скучно”. Действительно, так и было, честно скажу — скучал… Знал ли я, что впоследствии буду в храме Божием читать шестопсалмие и что это будет один из самых моих любимых моментов всенощной?.. А отец Савва сказал тогда: „Ему скучно, а бесам совсем не скучно”. Такое домашнее воспоминание”.
“Бесы веруют тоже — и идут своим путем. Надо к этому быть готовым. К тому морю разливанному, которое сейчас идет из социальных сетей, из Интернета. <…> Сегодня все настолько далеко зашло во взаимном ментальном интернетном эксгибиционизме, что уже несмешно. Все расчесывают свои раны, вместо того, чтобы достойно и молча нести свой крест или пойти на исповедь. <…> Многомиллионным, может быть, уже и многомиллиардным тиражом растиражированы „записки из подполья”, вся гниль человека, все его беды, подлинные и придуманные, — все они растиражированы. Пользователь социальных сетей — это Петр Иванович Бобчинский, который мечтал услышать, чтобы государь император узнал о его существовании”.
Пьер Мишон. “Мне нравится сотрясать смысл и самому трястись от страха его потерять”. Избранные интервью с Пьером Мишоном. Перевод Александры Лешневской. — “Иностранная литература”, 2012, № 11 <;.
“ — О вашем творчестве иногда говорят как о предприятии по восстановлению былого великолепия литературы и возвращению ей той красоты языка и риторики, которые, как считается, были утрачены в ходе авангардистских экспериментов.
— Я не занимаюсь реставрацией: отклонений от нормы в языке бесконечное множество, правила риторики нарушаются постоянно. Мне, безусловно, нравится язык Клоделя, язык Шатобриана и Боссюэ, но мне кажется, что своим творчеством я эти языки ломаю. Странно, что обо мне так говорят. <…> Авангардисты мешали нам писать, и вместе с тем, возможно, они добились того, что после них мы не могли писать абы как. Многим авторам они не позволили расслабиться и вернуться в прошлое. Нельзя о них забывать. Чтение работ авангардистов позволило нам отточить литературный вкус и сохранить уважение к авторитету „высокого стиля”. Обратите внимание на предпочтения этих людей: Арто — это же воплощение высокого стиля. <…> Возможно, к реакционерам меня причисляют потому, что, с моей точки зрения, отживший концепт красоты по-прежнему является мерилом в искусстве”.
Тема этого номера “ИИ” — “Французская литература сегодня: взгляд из Франции”. Книжка журнала открывается романом Мишона двадцатилетней давности — “Рембо сын” (перевод Нины Кулиш).
Юрий Могутин. Ангел бездомных. Стихи. — “Литературная учеба”, 2012, № 5 <; .
В послесловии к публикации прозаик Владимир Личутин пишет о недавнем лауреате Горьковской литературной премии: “В советские времена Юрий Могутин был широко известен лишь как детский поэт, его книги были изданы миллионными тиражами. Но после революции девяносто первого Могутин выпал из литературной жизни, да он и не мог бы ужиться в хаосе нигилизма, полного отрицания Божьего в новом государстве, когда человек человеку вдруг стал не брат, чему учили с младых ногтей, — а волк и вампир. Но Могутин продолжал писать, почти ослепший, в жалкой конуре. И душа не измельчала от раздражения и ненависти к чужому миру, а исполнилась поэзии. Оказалось, что стихи, которые не печатали, которые скапливались в столе, вроде бы никому не нужные, оказались единственной укрепой в жизни, настоящим смыслом бытия”.
Кстати, в ноябрьском номере “Фомы” за прошлый год традиционный гость совместной с нашим журналом рубрики “Строфы” — как раз Юрий Могутин.
Анатолий Найман. Вечер. Выступление в Комарове 23 июня 2012 года по случаю 123-го дня рождения Анны Ахматовой. — “Рубеж”, Владивосток, 2012, № 12 (874).
“Среди причин пинков, атак, развенчаний, наскоков последнего времени на Ахматову на первом месте, конечно, та, что, как всякий поэт такой величины, она „мешает”. Без нее стихотворцы, рассуждатели о поэзии, объявители себя заметной фигурой, просто любители при умеренной одаренности как-то выделиться чувствовали бы себя свободнее. Мешают ее судьба, позиция, величие, наконец, сам характер ее таланта. В советский период Шагинян, Барто, Алигер использовали поднятую против нее политическую травлю затем, чтобы объявить о малости и мелкости ее дарования. Очень возможно, что нынешним женщинам, особенно из тяготеющих к феминизму (а какая из них сейчас так ли сяк ли к нему не тяготеет?), не по душе лирическая героиня Ахматовой, покорная на вид, внутренне же непреклонная. Не по душе и покорность, тихость, и непреклонность, несгибаемость.
Еще одна причина, более понятная, — она жила „давно”. Она умерла 44 года тому назад, она для нынешних начинающих почти то же, что для нас был Фет. А ведь что я любил сказать о Фете, когда был двадцатилетним? Что он норовил на Пасху уезжать из деревни, „чтоб (по его словам) не христосоваться с мужичками”. Но допускаю, что не в последнюю очередь раздражение и враждебность вызывает то, что Ахматова не поддается представлению большинства о новаторстве, об авангардности”.
Это эссе, специально написанное для одной из традиционных встреч, ежегодно организуемых А. П. Жуковым у стен знаменитой “будки”, — публикуется в разделе “Чтобы жить и помнить…”. Вослед за ним идет статья Ефима Бершина о Юрии Левитанском и воспоминания: Виктора Куллэ о Льве Лосеве и Николая Березовского об Анатолии Кобенкове.
Георгий Орлов. Дневник дроздовца. Публикация и вступительная заметка Олега Макаренко. — “Звезда”, 2012, № 11, 12 <;.
“31. 03. 1919. <…> все поле очень густо и часто покрыто воронками, везде валяются осколки, ружейные гильзы, шрапнельные стаканы, еще кое-где лежат неподобранные трупы, по полям бегают раненые собаки и при орудийном выстреле или разрыве с лаем бросаются в стороны. Во время боев и передвижения пехоты по полям как угорелые носятся зайцы в большом количестве. Тут их очень много. Почти на каждом шагу встречаешь подземные норки и их обитателей — сусликов, которые, несомненно, здесь приносят большой вред посевам. Начался перелет уток, гусей, лебедей и дроф. Приятно было бы несколько деньков поохотиться и пострелять по птице вместо ежедневной стрельбы по людям.
В один из последних дней сквозь тучу совершенно ясно было видно два солнечных диска на порядочном расстоянии друг от друга. Я обратил на это внимание наших солдат, после чего один из них сказал: „Ну да так оно и должно быть: одно наше, другое большевистское”. Занятный все-таки народ, эти русские солдаты”.
Выдающийся просветитель, историк Гражданской войны, галлиполиец, талантливый строитель и инженер Георгий Алексеевич Орлов скончался в 1964 году в Швейцарии.
Ольга Седакова. Елена Шварц. Вторая годовщина. — “Вестник русского христианского движения”, Париж — Нью-Йорк — Москва, 2012, № 200.
“Но этой темы — анализа собственно религиозного содержания поэзии Елены Шварц и, в частности, ее горячего влечения-отталкивания с православием — я не собираюсь касаться в этих заметках”.
И тут же — сноска к “Примечаниям”. Приведу целиком.
“Не могу здесь от роли критика-аналитика не перейти к роли свидетеля. К моей великой радости, эта долгая история кончилась самым прекрасным образом. И с чудесами, которых Лена всегда страстно хотела. К дню ее отпевания в городе оказался священник из другого, далекого города, который ее когда-то крестил. Он участвовал в отпевании. Другой священник, из Измайловского собора, который много общался с ней последние годы (и над гробом рассказывал об их постоянных спорах), сказал замечательное слово о Елене, о ее поэзии, о ее даре русскому языку. Я испытывала огромное утешение и „двустороннюю” радость: наша Церковь в лице своего иерея нашла что сказать о прекрасном поэте, не занимаясь мелочным разбором ее „догматики”, — и Лена нашла это укрывающее крыло, которого так искала. Когда ее гроб выносили из собора, на крыльце они встретились с мощами Матроны, привоза которых она ждала последний месяц своей жизни. Но самым чудесным было ее лицо в гробу — это было лицо счастливого подростка, совсем не то, какое мы привыкли видеть в последние годы. „И сердце бьется, сердце рвется счастливым пойманным лещом” — вот что виделось на нем, первый свет еще детского вдохновения”.
Юхан Силласте. Плавильный котел истории. Записки лаборанта перестройки. Перевела с эстонского Лилия Соколинская. — “Вышгород”, Таллинн, 2012, № 5.
В конце 1970-х автор работал членом экспертной комиссии Госплана.
“Один случай дает представление о том, какая обстановка окружала нас. Однажды в госплановском коридоре подошел ко мне молодой человек, лицо которого казалось знакомым. Слегка заикаясь и краснея, он сказал: „Ребята (так тогда называли работников спецслужб) просили передать — когда Вы будете звонить домой, было бы хорошо, чтоб разговор шел по-русски, а то они не знают, на каком языке Вы говорите и где взять переводчика”. До такого безумия все-таки не дошло — с друзьями и семьей мы по-русски по телефону не говорили. А заинтересованным я посоветовал найти в Москве обучающихся в специальных учебных заведениях — комсомольских, партийных или в школе КГБ — приезжих из Эстонии: может быть, среди них найдутся желающие переводить наши разговоры. Еще я выразил удивление — неужели профессионалы, работающие в спецслужбах, не догадались, что люди, звонящие в Таллинн, говорят между собою на эстонском, а не на каком-нибудь африканском диалекте, к примеру, банту”.
Дмитрий Соколов. “Положение мое здесь очень сложное и трудное…”. А. В. Колчак в 1917 году. — “Посев”, 2012, № 9 (1620) <;.
“Фактическое бессилие Временного правительства в борьбе с разложением и анархией, вкупе с фанатичной приверженностью ведущих его деятелей идеалам либерал-демократии (слепое следование которым в условиях ведущейся войны было поистине гибельным) — явились одной из главных причин растущей криминализации общества и распространения левого экстремизма. <…> Распространению левоэкстремистских настроений среди черноморцев способствовало прибытие в конце мая в Севастополь делегации балтийских моряков (многие из которых были попросту переодетыми в матросскую форму партийными функционерами), поведшей активную пропаганду анархических и большевистских идей. Поселились делегаты в хороших гостиницах и явно не знали недостатка в денежных средствах. Начались неподконтрольные властям и командованию ЧФ митинги, балтийцы стали разъезжать по всем кораблям, выступать на улицах, площадях. Агитаторы упрекали моряков: „Товарищи черноморцы, что вы сделали для революции, вами командует прежний командующий флотом, назначенный ещё царем. Вот мы, балтийцы, убили нашего командующего, мы заслужили перед революцией и т. п.””.
Вечером 9 июня Колчаку пришлось уйти. Кстати, когда в те дни ему предложили сдать холодное оружие, он бросил его в море; а в конце месяца, уже в Петрограде, Союз офицеров поднес адмиралу за мужество и патриотизм “Оружие храбрых”, золотой кортик.
На следующее же утро, 10-го, узнав по агентурным каналам об отставке Колчака, немецкий крейсер “Бреслау” провел успешную атаку, высадил десант и с пленными да трофеями вернулся к себе на базу. Боеспособность Черноморского флота упала до нуля. Впрочем, Колчак все равно уже ничего не смог бы сделать.
Владимир Старовойтов. Это моя земля. — “Сахалинский альманах”, Южно-Сахалинск, 2012, № 1.
В. С. — известный дальневосточный художник, родился на Сахалине; его эссе начинается с того, что он получает предложение: начать работу над иллюстрациями к чеховскому “Острову Сахалину” и книге Власа Дорошевича “Сахалин (Каторга)”.
“Я рисую картинки про сахалинскую каторгу. Для всей России Сахалин остаётся за пределом интереса. А ведь это мой рай, моё детское блаженство. Там где-то, в сизых небесах, и бабка, и мама, и батя, и брат. Солдатские и каторжные души. Я думаю о них, и ясная картина, не светлая, но ясная, понятная, перед глазами моего ума встаёт. В простоте, и пестроте, и тонкости, и толщине. В пластах рыжих и белых, черных и красных глин. Там растворяется без следа плоть моих предков. Это моя земля, но мы уже не нужны друг другу.
Антон Павлович, по всей вероятности, не владел основами марксизма-ленинизма — он людей еще жалел. А больше ничего, пожалуй, и не мог. У доктора не было рецепта от нашей дурости, да и от своих болячек у него не было рецепта. Сахалин его угробил, меня породил. Тут большая экзистенциальная разница. Он в тридцать три перестал что-либо понимать и чему-либо радоваться, а только выл и выл во всех своих смешных комедиях. А я в свои 66 окончательно свихнулся и тоже завыл. По чём вою? По гибели Помпей и Геркуланума. Только наш пепел ничего не сохранит. Иссыхает кровь, испаряется тело, каменеет душа. (Бессмысленный высокий стиль. Антон Павлович, бедный, не зря боялся в него впасть. Он чувствовал, как империя погружалась в шлаки. Шлак — человеческий отброс, то, во что превращается жертвенная скотинка.)
Для нас каторга — дом родной. В громадной пустыне России для нас не нашлось и не найдётся другого родного места. Сахалинцы, только они любят этот остров. Всю грязь бараков, каторги мы тянем на себе, не замечая, и детям передаем. Водкой, блевотиной, бессмысленной злобой к ним, чадам своим, к себе, к земле. Вот звонок подруги из Москвы. Пьяным голосом поздравляет с Рождеством, не называя этот день праздником, а просто повторяет: „Я тебя люблю, Старый”. Хлынуло ванинским и сахалинским розливом. Если женщина говорит пьяным голосом — это каторга. Это её голос”.
В новом периодическом издании — материалы к прошедшему юбилею А. П. Чехова (Михаил Высоков, Темур Мироманов, Ирина Ермакова, Юрий Кублановский и др.), музейные, театральные, краеведческие исследования. Прозаик Владимир Семенчик пишет о сахалинских писателях Михаиле Финнове, Анатолии Тоболяке и Олеге Кузнецове (“Мы жили тогда на планете другой”). Главный редактор — А. Колесов.
Стихи без героя? — “Знамя”, 2012, № 11.
В рубрике “Конференц-зал” поэты и критики высказывают свои соображения по проблеме, заданной небольшим эссе Сергея Чупринина (“Неужели же из поэзии ушел (или уходит) и лирический герой — центральный, как все мы знаем, и субъект, и объект стихотворной классики? И кто (или что) приходит ему на смену?”).
Участвуют: Андрей Родионов, Иван Волков, Ирина Роднянская, Алексей Алехин, Бахыт Кенжеев, Алексей Улюкаев, Артем Скворцов, Станислав Львовский, Лев Оборин, Мария Степанова.
“Вместе с „я” (откровенным или скрытым) исчезают накал, страсть, радость и безысходность. Стихи становятся „чуть теплыми”. Вызывают такое же прохладное удовлетворение. В западных странах этот процесс, пожалуй, зашел даже дальше, чем у нас. Глубокомысленные верлибры, украшающие страницы журнала New Yorker, мало что дают сердцу и уму. Но и мы старательно догоняем цивилизованное общество.
Мало кто сегодня готов отвечать за базар . Еще в начале 70-х Кушнер писал о том, что плакать стало стыдно.
Мы стали умными, богатыми и благовоспитанными потребителями.
Удивительное свойство нынешней цивилизации — ее анонимность. Опять же, не готовы отвечать за базар. На сайте стихи.ру каких только не встретишь изысканных псевдонимов. <…> Ясным остается одно: в условиях богатого и открытого общества, затопленного всевозможной информацией, некоторые черты человечества, как биологического вида, проступают яснее. Становится очевидно, что мы в целом предпочитаем макулатуру — серьезной литературе, а тексты шлягеров — хорошей поэзии. Соглашаясь с Сергеем Чуприниным, не исключаю, что уход в тень лирического героя объясняется тем, что авторам не хочется нарушать свой душевный комфорт, и что они стесняются нарушать такой же комфорт других. По принципу „писатель (житель благоустроенного муравейника) пописывает, читатель (если находится) почитывает”.
Хотя, опять же, не уверен, что этот процесс касается наших ведущих поэтов. В лучших стихах, написанных сегодня, неизменно присутствует пресловутый герой — а с ним и горечь, и боль, и восторг перед бытием” (Бахыт Кенжеев).
Пауль Целан. Расшифровывая мир. Стихи. Перевод с немецкого Владимира Летучего. — “Дружба народов”, 2012, № 11 <;.
Стихи Целана — в “немецком” номере “Д.Н.”.
НЕ ВПИСЫВАЙ СЕБЯ
между мирами,
верь следу слезы
и обучайся жить.
Составитель Павел Крючков

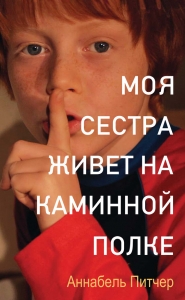





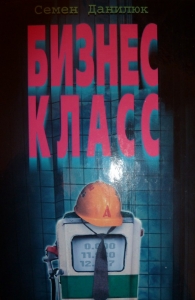


Комментарии к книге «Новый Мир ( № 1 2013)», Журнал «Новый Мир»
Всего 0 комментариев