Посвящается Шону
Моя благодарность
Написание «Гобелена» имеет свою собственную историю, и я должна поблагодарить всех ее участников. Первым делом мне хотелось бы выразить глубокую признательность Крейгу Кронину и Денни Лоуренсу за то, что сподвигли меня на это. Историческая часть «Гобелена» появилась на свет в результате изучения сразу нескольких источников. Их слишком много, чтобы перечислять все, однако следует назвать четыре книги — «Воины золота дракона» Рэя Брайанта, «Тайна гобелена Байе»[1] Дэвида Дж. Бернстайна, «Гобелен Байе» Вольфганга Грейпа. Когда я заканчивала черновой вариант «Гобелена», мне в руки попала книга Яна Мессена «История вышивальщиц гобелена Байе». К счастью, автор книги согласился встретиться со мной и щедро поделился своими обширными познаниями в истории одиннадцатого века и жизни вышивальщиц того времени. Я благодарю редактора Риченду Тодд за поразительное понимание и за то, что помогла мне исправить несколько досадных ошибок. Без напряженной работы и постоянной поддержки моего агента Кейт Хордерн «Гобелен» никогда не стал бы таким, каким получился, и я особенно признательна ей за существование нашего творческого союза. И наконец, для меня огромное значение имел интерес и энтузиазм семейств Фитцпатрик и Анохи. Нине я благодарна за суп, а Джулиану — за то, что слушал и поверил в меня.
~~~
Осина тонкая дрожит, И ветер волны сторожит, Река от острова бежит, Идя по склону в Камелот. Четыре серые стены И башни, память старины, Вздымаясь, видят с вышины Волшебницу Шалот. Седеют ивы над водой, Проходят баржи чередой, Челнок тропою золотой, Скользя, промчится в Камелот. Но с кем беседует она? Быть может, грезит у окна? Быть может, знает вся страна Волшебницу Шалот? Пред нею ткань горит, сквозя, Она прядет, рукой скользя… «Леди Шалот», Альфред Теннисон (Перевод К. Бальмонта)ГЛАВА 1
3 июня 1064 года
Я не писец, мое ремесло — вышивание. В тот день, когда мать впервые привела меня в мастерскую в Кентербери, оказалось, что я вышиваю искуснее, а мои пальцы более ловкие, чему женщин старше меня, которые прокладывали стежки медленно и старательно. Они сказали, что у меня дар от Бога, — не хотели испытывать унижение оттого, что их превзошел ребенок. Когда мне исполнилось двенадцать, я вышила золотой нитью и жемчугом одеяние из персидского шелка для короля Кнуда Великого[2], жестокого датского правителя, носившего в то время саксонскую корону.
За тридцать с лишним лет мне посчастливилось не стать свидетельницей ужасов, которые несло вторжение датчан, хотя рассказчики сочиняют о них страшные истории, словно вторжение — это кусок ткани, который нужно разукрасить разноцветными нитями. Будь я рассказчиком, я бы не стала повествовать о сражениях и смертях в далеких землях — ведь то, что происходит в душах человеческих, гораздо более захватывающе.
Но я не рассказчица, меня зовут Леофгит, и я мастерица-вышивальщица при дворе короля Эдуарда и королевы Эдиты. Я пишу эти строки по поручению монаха Одерикуса, а он говорит — для того чтобы научиться владеть словом, необходимо практиковаться каждый день. По правде говоря, я уже вполне прилично им владею, но это занятие помогает мне скрашивать одиночество. Теперь, когда мой муж Джон отправился с королем в поход, я коротаю время с помощью иглы и пера. Одерикус сказал, что Бог благословил меня дважды, одарив способностью столь же искусно обращаться со словами, как я это делаю с нитками. Но я думаю, он просто-напросто удивлен тем, что женщине есть чем поделиться с другими людьми.
Вестминстерский дворец, где я работаю, находится на западном берегу широкой реки, которая делит Лондон на две части. Его построили по приказу короля Эдуарда, пожелавшего, чтобы резиденция, двор и парламент со всех сторон были окружены водой. Это величественное здание белого камня, с башней, совсем не похожее на деревянные постройки Винчестера и Лондона.
Эдуарда отправили в Нормандию, после того как его отец Этельред[3] лишился трона саксов. Там он пал жертвой изысканных вин, фламандских тканей и белоснежного камня, из которого теперь в Вестминстере строятся аббатство и собор. Норманны, как и римляне, предпочитают строить из камня, а не из дерева или земли. Каменные стены кажутся мне холодными и безмолвными, но они надежны, и Эдуард чувствует себя за ними в безопасности, потому что даже теперь, когда его прежний соперник эрл Годвин[4] мертв, у него осталось достаточно врагов. Кроме того, камень прекрасно защищает от ледяного дыхания зимы, которое обрушивается на тонкие деревянные стены моего маленького домика с такой силой, что они начинают ходить ходуном. Зимой я испытываю великую благодарность к норманнским манерам короля Эдуарда.
Камень для строительства привозят королю на кораблях из Кана, и для того, чтобы перенести одну громадную плиту, требуется шестеро дюжих мужчин. Строительство аббатства привлекло в город множество мастеров и ремесленников, а также купцов в Вестминстер и на Лондонский рынок. Со всей страны и даже с континента съехались камнерезы, чтобы ваять гигантские колонны, похожие на стволы древних деревьев. Они безмолвно трудятся часы напролет, и под их руками бесформенные глыбы приобретают новые очертания. Словно по волшебству, появляется застывший в полете ангел или королевское снаряжение. Неудивительно, что горожане боятся камнерезов, считая их хранителями тайн и колдовства.
В большом зале дворца короля Эдуарда висит гобелен, на котором изображен величайший из саксонских королей, — дар королевы Эдиты своему мужу. Я вышивала короля Альфреда[5] под руководством самой королевы, потому что она точно знала, какие нитки следует использовать, чтобы его образ сиял разноцветными красками. Серебро, сказала она, подойдет для гривы боевого коня Альфреда, золотые уздечки должны быть украшены крошечными жемчужинками, а доспехи гореть кроваво-красными рубинами.
Вышивая шелком великолепнейшую ткань из Фландрии, я спрашивала себя, а что подумал бы король Альфред о своих внуках, унаследовавших его корону. Именно Альфред объединил жившие на острове племена еще до появления объединенного королевства и до того, как Этельред позволил обмануть себя датским королям. Именно Альфред сумел убедить вождей племен в том, что поодиночке они не смогут защитить себя в сражениях с кровожадными северянами, но, если они объединятся, их деревни удастся спасти. С тех пор на свет так и не явился король-воин, который мог бы с гордостью носить доспехи с драконом на груди. Ходят слухи, что дракон саксов спит в темной пещере, дожидаясь, когда его разбудит истинный король.
К тому же король Альфред был образованным человеком, и во времена его правления монахи из монастыря Святого Августина начали писать историю нашего острова. Монахи из Кентербери продолжают «Саксонские хроники» Альфреда, а Одерикус пишет о том, что происходит при дворе короля Эдуарда. Как-то раз в шутку я сказала ему, что приступлю к созданию собственных хроник, так что, если он упустит какие-то детали, я смогу их восполнить. Но мне не удалось прочесть выражение его темных глаз, и я не поняла, порадовали его мои слова или огорчили. По своему обыкновению, монах промолчал.
Теперь древние территории, принадлежавшие Альфреду, превратились в графства, как их называют датские короли, и правят ими не вожди племен, а сыновья эрла Годвина. Клан Годвинсонов управляет всеми землями, кроме тех, которыми владеет король Эдуард. У короля земель гораздо меньше.
Королева Эдита приходится Годвину дочерью, а ее братья Гарольд и Тостиг — самые могущественные среди эрлов. Сейчас непрочная ткань мирной жизни короля Эдуарда вконец истончилась, потому что Годвины враждуют из-за того, кто станет его наследником.
Король ходит так медленно, что кажется, будто он не двигается вовсе, а его плечи поникли, словно несут на себе вселенский груз забот. Голова, осененная короной, часто опущена, будто он погружен в сон, уносящий его разум. Белая и прозрачная, точно летние облака, борода ниспадает на грудь. Древняя династия саксонских королей так же слаба, как и сам король, и ему не суждено дожить до старости, а у королевы нет детей.
Мадлен взглянула на часы и несколько секунд пыталась сосредоточиться на римских цифрах. «X», на которой остановилась часовая стрелка, казалась ей таинственным шифром. Спустя некоторое время она догадалась, что сейчас начало одиннадцатого утра, и поняла, что перевод средневекового латинского текста занял у нее два часа. Самое главное, она катастрофически опаздывала.
— Вот черт, — пробормотала она, вскочила и заметалась в панике, опрокинув высокую стопку непроверенных студенческих работ.
Эти работы явились для нее неприятным напоминанием о вчерашнем вечере. Она проснулась, охваченная пустым раскаянием человека, которому не следовало пить третий бокал паршивого красного шираза (в качестве компенсации за низкое качество эссе) перед тем, как читать наутро лекцию, посвященную распаду империи Карла Великого[6]. Лекция начиналась меньше чем через полчаса.
Мадлен помчалась из кабинета в ванную, изо всех сил пытаясь вернуться мыслями в двадцать первый век. Она ненавидела утреннюю спешку, считая ее признаком варварства.
Меньше чем через десять минут она, застегивая на ходу сапог, доскакала на одной ноге до кабинета, отчаянно оглядываясь по сторонам и пытаясь сообразить, не забыла ли чего-нибудь. Впрочем, без особого результата, потому что в кабинете царил такой же хаос, как и в мыслях, — его заполняло все, что не помещалось в крошечном офисе, который Мадлен делила в университете с коллегой. Теперь у нее вошло в привычку работать дома. Роза постоянно ворчала, что она постепенно превращает квартиру в «антиобщественную зону комфорта»… но Роза вечно на нее нападала, и Мадлен давно перестала обращать на это внимание.
Ее взгляд остановился на рабочем столе, где лежал аккуратно написанный по-латыни текст, полученный с утренней почтой. Мадлен озадаченно нахмурилась. Документ почему-то заставил ее потерять счет времени, и это ее заинтриговало. Письмо от матери, полученное вместе с документом, осталось непрочитанным, и Мадлен сунула его в рюкзак, прежде чем выскочить из квартиры.
Выйдя наконец из дома и решительно зашагав по знакомому маршруту к университету Кана, Мадлен позволила себе вернуться мыслями к причине своего опоздания. Документ был написан не на англо-латыни, как она решила вначале, а на континентальном языке — форме, которой пользовались римские и норманнские священники, съезжавшиеся в Англию в начале прошлого тысячелетия. Однако автором документа был не монах, а женщина, жившая в одиннадцатом веке. А это — уже настоящая загадка. Интересно, откуда Лидия его скопировала? Мать Мадлен не особенно увлекалась чтением художественной литературы, если не считать того, что время от времени по совершенно непонятным причинам совершала вылазки в мир русской литературы. Но гораздо больше Мадлен удивило то, что Лидия переписала документ от руки вместо того, чтобы сделать фотокопию оригинала… несомненно, ее письмо ответит на все вопросы. Может быть, закончив преподавать историю эпохи Тюдоров в Лондоне и уехав жить в Кентербери, мать расширила границы своих исторических исследований?
К тому времени, когда Мадлен вошла в каменное здание исторического факультета, расположенного в западном крыле университета, холодный воздух Нормандии частично разогнал туман в ее голове, но она по-прежнему размышляла о переводе. Ее озадачил тот факт, что белошвейка владела грамотой во времена, когда далеко не все мужчины умели читать и писать. Автор этого произведения, хотя и написал его на безупречной латыни, все же недостаточно тщательно изучил предмет и, видимо, не знал, что жившая в одиннадцатом веке женщина, не будучи ни монахиней, ни аристократкой, никак не могла научиться писать. Это было невероятно. Более того, ее голос звучал уверенно и выразительно — качества, которыми история никогда не наделяла крестьянок.
С другой стороны, этот период в истории Англии был особенно ярким, и Мадлен понимала, почему Лидию заворожил рассказ вышивальщицы при дворе короля Эдуарда. Латынь не была сильным местом Лидии, особенно средневековая латынь, и Мадлен стало интересно, какую именно часть манускрипта смогла понять ее мать, если вообще сумела хоть что-то перевести.
Мадлен бросила еще один взгляд на часы и простонала, сообразив, что ей придется отказаться от похода в кафетерий перед лекцией. Значит, следующие полтора часа придется прожить без кофе. От такой перспективы ее настроение вконец упало. Собственно, Мадлен не любила публичную составляющую своей работы — но ее настроение это обычно не портило. Просто бывали дни, когда она чувствовала себя менее «общественной». Ей придется приложить дополнительные усилия к тому, чтобы прочитать лекцию, и не только из-за того, что она не позавтракала, но еще и потому, что предстояло иметь дело с первокурсниками, чья мотивация была пока еще чрезвычайно низкой.
Мадлен попыталась настроиться на лекцию, напомнив себе, что иногда ей нравится преподавать историю Средних веков — ведь таким образом она получала возможность поговорить о предмете, который не слишком годится для бесед за обеденным столом. Она убрала за ухо выбившийся локон каштановых волос и вошла в аудиторию в виде амфитеатра, похожую на пещеру. Здесь лучше всего было бы преподавать классическую греческую драму, а не историю, и Мадлен часто чувствовала себя актрисой. Аудитория была полупуста — по мере того как семестр подходил к концу, количество студентов постепенно уменьшалось. Мадлен уже привыкла к этой тенденции и не принимала на свой счет тот факт, что значительная часть студентов довольно быстро начинала понимать — степень по истории им не нужна.
Она постаралась не хмуриться, оглядывая лица сидящих, и начала лекцию:
— Ранняя история средневековой Европы написана таким образом, что источники нередко противоречат друг другу. Во время нашего курса вы, без сомнения, не раз столкнетесь с этим.
Студенты смотрели на нее, готовые записывать ее слова, но не уверенные в том, что им понадобятся эти знания. Мадлен улыбнулась самой искренней улыбкой. Юнец в первом ряду похотливо ухмыльнулся в ответ, затем оглядел ее с головы до ног. На мгновение его взгляд задержался на ее груди. Мадлен подождала, пока он поднимет взгляд на ее лицо, а затем посмотрела ему прямо в глаза — стандартная, хотя зачастую бесполезная тактика защиты от сексуально озабоченных первокурсников. Оценивать что-либо, кроме истории, было запрещено, а кроме того, юнцы ее нисколько не интересовали. Энтузиаст выдержал ее взгляд — он был привлекателен, но только внешне. Исходя из собственного опыта, Мадлен давно пришла к выводу, что высокомерие не делает мужчин симпатичнее. Она проигнорировала его нахальную улыбку (заодно поборов искушение подумать о Питере) и обратилась к задним рядам, строгим голосом напомнив студентам, что пора делать записи.
— Сначала «Англосаксонские хроники» отражали события в ретроспективе, начиная с вторжения римлян. Но их продолжали вести и после правления Альфреда Великого, до середины двенадцатого века. Они являются единственным собранием письменных источников, где говорится об истории Англии. Хроники представляют собой беспристрастное перечисление событий и зачастую лишены деталей и подробностей. Но с другой стороны, с какой стати монах, живший в одиннадцатом веке и просиживавший многие часы на деревянной скамье, склонившись над манускриптом в холодной келье, стал бы писать больше того, чем это было необходимо?
Мадлен замолчала и улыбнулась. Студенты, которые вели конспект, тоже остановились, а некоторые из них даже вежливо улыбнулись в ответ. Те же, кто был поумнее — и ничего не писал, — удивленно посматривали на нее. Мадлен потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить — она должна была читать лекцию, посвященную эпохе Карла Великого. А после ланча рассказывать про Англию до завоевания. Видимо, ей так и не удалось отвлечься от саксонских хроник.
Настроение Мадлен немного улучшилось, когда она увидела, что в их общем кабинете нет Филиппа и ей не придется разговаривать с ним, страдая от похмелья. Она покопалась среди бумаг, наваленных на столе, нашла компьютерную клавиатуру и нажала на кнопку «Включить». Пока компьютер тихонько урчал, пробуждаясь к жизни, она принялась рыться в рюкзаке в поисках письма Лидии, рассчитывая, что в нем содержится объяснение таинственному документу на латинском языке.
Дорогая Мадлен, не могла бы ты перевести для меня этот отрывок — я наткнулась на него во время своих поисков, и он меня невероятно заинтриговал. Мы сможем поговорить о нем, когда ты снова приедешь в Кентербери (надеюсь, у тебя ничего не изменилось и ты сможешь быть здесь двадцать шестого января). Я не сомневаюсь, что книга, из которой я его переписала, заинтересует тебя, потому что относится скорее к твоей области компетенции (с исторической точки зрения), чем к моей.
Теперь что касается моего решения как можно больше узнать про поколения моей семьи. Работа продвигается очень медленно — это подтвердит тебе любой, кто поддался глупому желанию проследить собственную генеалогию. Мне повезло, я подружилась с Джоан Дэвидсон, которая работает в Центре изучения генеалогии здесь, в Кентербери. Она невероятно добра и терпелива, к тому же очень скрупулезна. Она начала с изучения приходских метрических книг в Кентербери. Самые ранние из них относятся к шестнадцатому веку, хотя у меня сложилось впечатление, что за прошедшие века многие фамилии значительно изменились. Это из-за отсутствия единого написания, разницы в произношении, принятой в разных районах, а также из-за того, что иностранные имена переделывались на английский манер. Поэтому я часто оказываюсь в тупике. Я думаю, что моим единственным преимуществом является тот факт, что в Англии сохранились самые старые архивы.
Сейчас мой сад напоминает кладбище, и единственное зеленое пятно в нем — это плющ на фасаде дома. Я посадила на клумбе у задней двери фуксии, а между тюльпанами — маки. Надеюсь, в этом году над входной дверью все же зацветет глициния.
На следующей неделе я планирую сходить в Кентерберийский архив, поскольку мне стало известно, что там хранится много древних публикаций. Некоторые из них написаны местными историками. Надеюсь, это поможет мне лучше узнать историю города. Пока я не могу сказать наверняка, что до Маргарет, моей бабки (женщины-купца, о которой, как я смутно припоминаю, мне рассказывала мать), здесь жили наши предки.
Точно знаю, что ты спросишь об этом, поэтому отвечаю — нет, я еще не получила результаты анализа крови, но чувствую себя вполне прилично и продолжаю считать, что ты зря устроила переполох.
Надеюсь, дорогая, что у тебя все хорошо и зимний семестр в университете не кажется тебе слишком длинным. У меня такое ощущение, будто после рождественской лодочной вечеринки прошло сто лет! С нетерпением жду твоего приезда.
С любовью,
ЛидияОт последних слов Лидии у Мадлен потеплело на душе. Многие говорили, что завидуют таким ее отношениям с матерью и тому, что они с удовольствием проводят время вместе. Однако письмо ни в коей мере не объясняло, почему Лидия прислала ей документ на латыни. Мадлен решила вечером позвонить матери и поговорить с ней.
Она повернулась к монитору и набрала пароль для входа в электронную почту. Проигнорировав письма, которые имели отношение к работе, она открыла сообщение от Розы.
Пора положить конец твоему затворничеству. Как насчет ланча?
Мадлен улыбнулась. Ланч с Розой — это как раз то, что нужно для поднятия настроения. Другое письмо было от Питера. Она поколебалась пару мгновений, прежде чем открыть его. Следовало подготовиться к тому, что могло быть в нем написано. Питер писал только тогда, когда собирался отказаться от встречи, — он был слишком труслив, чтобы делать это по телефону.
Мэдди, похоже, мне не удастся сбежать из Байе после выходных, хотя, разумеется, я бы с радостью тебя повидал. Церковное мероприятие в Кане отменилось, но у меня появилось другое дело. Надеюсь, ты не строила планы касательно моего визита — ты ведь знаешь, какая у меня жизнь!
ПитерДа, Мадлен знала, какая у Питера жизнь, — его жизнь как раз и стала причиной того, что они расстались. Это случилось давно, но ее до сих мучила мысль о том, что свою работу он поставил выше их отношений.
Мадлен влюбилась в Питера, когда оба были еще студентами и учились в Париже. Он специализировался в латыни, и это стало главной причиной, по которой она продолжила заниматься основами христианской латыни — единственным предметом, на лекциях по которому они могли встречаться. Студенты сидели полукругом в маленьком классе. Во время самого первого занятия она оторвалась от тетради и посмотрела Питеру прямо в глаза. Они были ясными и серыми, точно подземные озера, чья поверхность всегда остается неподвижной. Считается, что глаза — зеркало души, однако с Питером все обстояло иначе. Его душа, как она узнала позднее, была беспокойной и тревожной. Питер обладал способностью выглядеть внешне совершенно невозмутимым, даже когда в душе бушевала буря, и тогда это казалось Мадлен невероятно привлекательным. В те времена ее юный ум переполняли сомнения и страхи, и она постоянно была возбуждена. Впрочем, со временем мало что изменилось.
За годы, прошедшие после разрыва с Питером, у нее то и дело появлялись потенциальные партнеры. Несколько больше, чем ей хотелось вспоминать, — хотя никому не удалось продраться сквозь шипы к ее сердцу так близко, как это удалось Питеру.
— Говорят, любовь приходит только раз в жизни, — утешила ее Роза, когда последний из краткосрочных друзей Мадлен исчез за горизонтом. Это было больше двух лет назад. Роза, разумеется, была разочарована тем, что Мадлен перестала коллекционировать мужчин, хотя ясно дала ей понять, что не одобряет Питера, навесив на него ярлык типичного француза — без компенсирующего эффекта ловкости в постели.
— Очевидно, я пропустила самую интересную часть твоей жизни, — грустно говорила она. — С тех пор как мы познакомились, ты только и делаешь, что рано ложишься спать и избегаешь вечеринок, на которых присутствует больше трех человек. Надо жить, Мэдди.
Вспомнив слова Розы, Мадлен поняла, что проверка студенческих работ — не самая веская причина для отказа пойти к ней на вечеринку.
Она заставила себя не думать о Питере — устала от эмоциональных испытаний, которыми была полна дружба с ним. Сейчас больше всего на свете ей хотелось кофе.
Шум в университетском кафетерии во время ланча был на несколько децибелов громче, чем в нормальной жизни. Мадлен взяла пару бутербродов и эспрессо и начала пробираться сквозь погруженную в разговоры толпу к столику у одного из длинных окон, выходящих на большой центральный двор. И сразу же увидела Розу, которая, как всегда, опаздывала и быстро шагала по зеленой лужайке, — яркое пятно среди скопления студентов, одетых в серое, черное и хаки. Роза всегда заканчивала свои лекции после звонка и категорически отказывалась замолкнуть, пока не произносила все, что задумала. Так было не только в студенческой аудитории.
Роза была итальянкой и часть своего времени работала в университете — преподавала историю искусств. Остальное время она посвящала моделированию одежды. Если бы вы попросили ее дать определение себе самой, она, скорее всего, произнесла бы только одно слово — «незамужняя». Это было ее принципом. Она считала, что брак хорош ровно столько времени, сколько продолжается свадебная вечеринка. Роза судила по своему личному опыту. Кроме того, она была ходячей палитрой красок. Сегодня, например, она была наряжена в малиновую кружевную блузку (с лифчиком цвета лайма) и красные кожаные джинсы. Роза была миниатюрной и кругленькой, но любила свое тело и нисколько не комплексовала по этому поводу.
Роза считала, что Мадлен угрожает опасность стать Филиппом женского пола среди динозавров, которые водятся на историческом факультете, поэтому задалась целью спасти ее от опасностей одиночества и раннего отхода ко сну. Сегодня она, что было ей совсем не свойственно, довольно философски отнеслась к привычному заявлению Мадлен, что та не сможет прийти к ней на вечеринку. Возможно, причиной тому явился факт, что пару минут назад она закончила читать лекцию, посвященную образам богинь в истории искусства.
— Женщин неминуемо преследуют души их матерей. От этого никуда не денешься. Твоя мать англичанка, а потому не удивительно, что ты такая замкнутая! В этой культуре рождаются люди, которые обожают предаваться размышлениям, тоскливым, как погода на их острове.
Широко распахнутые глаза Розы были полны пламенной страсти, которую пробудила ее собственная речь. Девушка была по-итальянски порывиста. Обычно ей не удавалось одновременно разговаривать по телефону и держать бокал с вином, потому что одной рукой она жестикулировала.
— Посмотри на архетип богини Матери Земли — созидательницы и разрушительницы в одном лице, — продолжала она.
Мадлен пила кофе маленькими глотками и с подозрением поглядывала на Розу.
— Это все притянуто за уши. Тот факт, что меня не интересует канское общество, не имеет никакого отношения к моей матери. Кроме того, далеко не все англичане предаются тоскливым размышлениям — это довольно глупое клише.
Мадлен решила не говорить Розе про средневековое литературное произведение, которое так увлекло ее утром. Она опасалась, что восхищение столь академическим предметом заставит подругу окончательно зачислить ее в разряд пропащих.
Роза ее не слушала — она уже не могла остановиться.
— А тебе известно, что восприятие взрослых отношений основывается на том, что ребенок узнал о мире до того, как ему исполнилось семь лет?
Мадлен быстро подняла голову и, стараясь выглядеть не слишком заинтересованно, как бы между прочим спросила:
— И что же это говорит о твоей матери?
— Она самым бесстыдным образом использовала свою сексуальность, чтобы получить то, что хотела, и я буду вечно благодарна ей за то, что научила меня столь полезному умению! — Роза окинула презрительным взглядом скромный костюм Мадлен. — А вот ты следуешь законам английской скромности, Мэдди.
Она произнесла это так, словно Мадлен совершила преступление против самой Матери Земли.
Мадлен поморщилась и открыла рот, чтобы защитить свою манеру одеваться, но Роза еще не закончила.
— Твоя мать, конечно, англичанка, но ведь ты — француженка. Она живет в Англии, а ты во Франции.
— Знаешь, ты говоришь так мудрено и сложно, что я тебя не понимаю, — нахмурилась Мадлен. — Я знакома с географией… а кроме того, я француженка лишь наполовину.
— Ты француженка больше чем наполовину, ты даже никогда не жила в Англии, хотя, наверное, хотела бы там жить — или в любом другом месте, но только не здесь. Если бы я не знала тебя слишком хорошо, я бы оскорбилась. Попробуй для разнообразия получить удовольствие от места, где ты находишься.
Она сделала глоток капуччино и прищурилась.
— Когда Лидия рассталась с твоим отцом?
— Не знаю, лет девять или десять назад, — Мадлен все помнила, но не хотела выдать своих чувств.
Роза настроилась на лекцию, и ей требовалось сохранять спокойствие и невозмутимость.
— Ты говорила мне, что чувствовала себя брошенной. Ты думала, что виновата в том, что Лидия была здесь несчастлива, поэтому она вернулась в Англию. Хотя мне кажется, можно с полной уверенностью сказать, что во всем виноват Жан.
Ее идеальной формы брови кокетливо приподнялись над карими глазами, опушенными черными ресницами.
Мадлен кивнула.
— У нее были все причины, чтобы уйти. А ты говоришь так, будто я — неисправимая зануда! Чего ты хочешь, Роза?
— Я лишь хочу сказать, что ты взяла на себя ответственность за счастье своей матери, потому что поняла — вероятно, когда тебе было семь, — что она так же тесно связана с тобой, как и ты с ней.
— Чепуха. Я не держусь за ее подол, мы даже видимся редко.
— Но ты счастлива, когда ты с ней, верно? Разумеется, это не означает, что твое общество не доставляет ей удовольствия, — заявила Роза, ухмыляясь. — Но тебе следует больше времени проводить с волками, если ты понимаешь, что я имею в виду.
— Не понимаю.
Мадлен решила, что с нее достаточно. Она прекрасно поняла, что имела в виду Роза, но легче ей от этого не стало. Неужели она превратилась в «синий чулок», который разменял четвертый десяток? Что ж, в жизни случаются вещи и пострашнее…
— Тебе разве не нужно на лекцию?
Роза посмотрела на часы и вполголоса чертыхнулась.
— Нет, на сегодня все. Но через полчаса у меня свидание, надо подготовиться.
Она быстро допила кофе, ущипнула Мадлен за щеку и исчезла, поправляя на ходу короткие черные волосы, подстриженные в стиле «эльф». За ней тянулся шлейф каких-то экзотических духов. Мадлен видела, как несколько молодых людей, сидевших за ближним столом — которые, как она знала, изучали латынь, — оценивающими взглядами проводили ее удаляющуюся попку, обтянутую красной кожей. Мадлен подумала, не взять ли еще чашку кофе, но поняла — ей просто хочется оттянуть неизбежное приближение дневной лекции. В висках снова глухо и ритмично застучало. Придется принять еще одну таблетку аспирина.
Мадлен встала и направилась в женский туалет, гадая, смотрят ли студенты за соседним столиком на нее так же, как на Розу. Вообще-то она в этом сомневалась — утром, опаздывая на занятия, она в спешке надела один из самых бесформенных джемперов.
В туалете Мадлен довольно долго стояла перед горизонтальным зеркалом, расположенным над рядом раковин, и изучала свое отражение. Над головой светили флуоресцентные лампы, которые самым безжалостным образом отнеслись к ее усталому лицу — между бровями пролегли две едва различимые морщины, и Мадлен потерла лоб рукой, чтобы прогнать их. В том, что она так отвратительно выглядит, Мадлен винила Розу. Даже если она действительно унаследовала от Лидии эмоциональную сдержанность, ей нравилось думать, что эта сдержанность разбавлена неугомонной «французскостью» отца. Горячая кровь Жана отчасти стала причиной того, что родители расстались, и Лидия вернулась в Англию.
Мадлен наклонилась ближе к зеркалу. Несколько прядей рыжеватых волос выбилось из-под заколок, которые удерживали их с утра. Как обычно в это время дня, волосы были взъерошенными, будто их наэлектризовали. Карие глаза казались слишком большими, хотя Мадлен не знала наверняка, что тому причиной — игра света или тушь. От кого она получила глаза с золотисто-зелеными пятнышками, было непонятно, потому что глаза Лидии были карими, а Жана — бледно-голубыми. В детстве Мадлен любила придумывать, что ее подкинули эльфы… Впрочем, остальные черты она унаследовала от родителей: каштановые волосы, высокий лоб и стройную фигуру от Лидии, а от Жана — прямой нос и светло-оливковую кожу.
Сейчас было не самое лучшее время, чтобы разглядывать себя в зеркале, — то, что Мадлен увидела, разочаровало ее не меньше, чем вся ее жизнь. Усилием воли она заставила себя прогнать из мыслей непрошеные советы Розы, которые та дала ей во время ланча. Да, она грустит из-за отсутствия матери, но тем не менее она счастлива за Лидию, которая расцвела, уехав из Франции и от культуры, которая всегда казалась ей чужой.
Мадлен опустила глаза и внимательно оглядела свой костюм. Скромный? Да уж, ее женственность он никак не подчеркивает. Охваченная неожиданным возмущением, она сняла бесформенный джемпер и заправила черную блузку в классические серые брюки. Затем вынула из волос заколки, и ее спину окутало облако локонов. Покопавшись в рюкзаке, она нашла темно-красную помаду и, сделав шаг назад, принялась изучать результат своих усилий. Стало гораздо лучше.
Идя назад, она прошла мимо столика, за которым сидели студенты, изучавшие латынь. Мадлен скосила глаза в их сторону, но так, чтобы казалось, будто она смотрит в одно из окон на дальней стене, и заметила повернутые в ее сторону головы. Она позволила себе мимолетно улыбнуться, хотя понимала, что их внимание скорее не комплимент, а неизбежность. Женская фигура притягивает мужчин так же, как собак — запах кролика.
Вернувшись в маленький неопрятный офис, где размещался штаб изучения истории Средних веков, она обнаружила, что Филиппа до сих пор нет, а до следующей лекции остался почти час — случаются ведь в жизни маленькие радости! Впрочем, ей было чем заняться; на столе высились стопки бумаг и книг; следовало проверить работы студентов и ответить на несколько голосовых сообщений. Мадлен села за тихонько гудящий компьютер с твердым намерением заняться чем-нибудь полезным. На мониторе все еще оставалось открытым письмо Питера.
Питер являлся главной причиной ее плохого настроения, и она решила — уже в который раз — перестать ждать от него чего-либо, кроме гадостей. Это всего лишь цена, которую приходилось платить за любовь. Когда Мадлен попросила его жениться на ней, Питер, к счастью, не слишком серьезно отнесся к ее словам, а потому она сделала вид, что пошутила. Ей потребовалось много времени, чтобы смириться с тем, что от сильных чувств первых дней осталась только дружба, и, хотя теперь она понимала это разумом, сердце иногда отказывалось мириться с действительностью. Она знала, что никогда не перестанет любить Питера, но его профессиональный выбор делал невозможными никакие другие отношения, кроме дружбы. Просто у него была иная миссия.
На столе зазвонил телефон, выведя ее из задумчивости. На мгновение Мадлен охватила паника — неужели она забыла про лекцию? Не раз случалось так, что администрация звонила ей, чтобы сообщить — студенты спрашивают, продолжает ли она вести занятия в их группе.
— Мадлен, это Джуди.
Ее опасения подтвердились — звонила одна из секретарей университета.
— О, господи, неужели я снова перепутала расписание?
Джуди негромко рассмеялась.
— Нет, расслабься. Нам позвонила Джоан Дэвидсон из Кентербери, попросила тебя и сказала, что это срочно, но ты же знаешь, мы должны сначала спросить тебя, а потом соединять.
— Да, спасибо, Джуди. Кажется, это подруга моей матери. Пожалуйста, соедини.
Роза вошла в тот самый момент, когда Мадлен пыталась одновременно выключить компьютер и застегнуть пуговицы на пальто.
— Я забыла попросить тебя покормить котов в… Мэдди, что случилось?
— Мне позвонили. Мама… мне нужно в Кентербери.
Компьютер моргнул и выключился. Мадлен выпрямилась и сделала глубокий вдох, затем продолжила:
— Маму увезли в больницу. Только что звонила ее подруга. Мне нужно лететь.
— Я отвезу тебя домой.
Мадлен не стала спорить. Она молча уселась на диван с телефоном в руках, чтобы позвонить в бюро путешествий.
— Как это — на сегодня нет рейсов? Нет, завтра утром будет поздно!
Она едва не плакала. В пепельнице дымилась сигарета, но она держала в руке другую, которую собиралась закурить. Роза мягко забрала незажженную сигарету и протянула ту, что лежала в пепельнице.
Мадлен швырнула трубку.
— Я звоню в агентство авиаперевозок.
Роза открыла рот, собираясь что-то сказать, затем закрыла его и подошла к окну.
Когда Мадлен расплакалась во время разговора с представителем авиалиний, Роза подошла к телефону и проговорила медовым голосом:
— Извините, моя подруга немного расстроена, мы вам перезвоним.
Она повесила трубку и повернулась к Мадлен.
— Каждые два часа из Кале отходит паром. Хочешь, я поеду с тобой? — Она села и обняла Мадлен за плечи; от нее пахло, как в летнем саду. — Я уверена, что с Лидией все будет в порядке. Она настоящая воительница, и ты унаследовала это качество от нее. Успокойся, хватит паниковать.
Мадлен сделала глубокий вдох, икнула и вытерла глаза рукавом джемпера.
— Не нужно быть такой хорошей, мне от этого только хуже. Ты и так из-за меня пропустила свидание.
— Не обижай меня. Сейчас я предпочитаю быть здесь, ты ведь от отчаяния ничего не соображаешь!
Роза не поняла, всхлипнула Мадлен или рассмеялась.
— Я вполне могу поехать одна, правда.
Роза прищурилась и посмотрела на нее оценивающе.
— Да? Ладно. Только обещай мне, что не будешь зря волноваться, хорошо?
— Ясное дело, не буду. Никогда еще не чувствовала себя лучше, — сухо ответила Мадлен.
Когда Роза ушла, она встала у окна и выглянула на улицу. Ее подруга села в сверкающий красный «рено» и умчалась. Мадлен очень надеялась, что волноваться действительно не стоит. А потом представила себе Лидию на больничной кровати в сотнях миль отсюда, тяжело вздохнула и выпустила струйку дыма, которая запуталась в мягких муслиновых занавесках цвета лаванды. Она купила их пять лет назад на распродаже, когда перебралась в квартиру в Кане. Найти подходящую к ним мебель оказалось непосильной задачей, но Мадлен не собиралась менять занавески, потому что благодаря им комнату окутывало успокаивающее аметистовое сияние. Из-за ее помешательства на этом цвете в комнате несколько месяцев вообще не было никакой мебели. В конце концов ей удалось найти уютную софу с велюровой обивкой оттенка тутовых ягод, а чуть позже — вязаный шерстяной ковер цвета индиго и темных роз, который закрыл широкие гладкие деревянные доски пола. Комната получилась просторной, и ей это очень нравилось.
Мадлен остановила взгляд на разбросанной одежде и наполовину собранной сумке, стоящей посреди комнаты. Следовало взять себя в руки и приниматься за дело.
На транспортной развязке, ведущей с автострады в сторону Кале, оказалось полно машин. «Пежо» целых десять минут простоял на второй передаче, и Мадлен снова начала отчаянно нервничать.
Джоан Дэвидсон, подруга Лидии, разговаривала с ней по телефону спокойно и вежливо и, прежде чем сказать о причине звонка, назвала свое имя. Она заверила Мадлен, что состояние Лидии не критическое — на этот счет у докторов нет ни малейших сомнений. Но они попросили ее немедленно связаться с родными Лидии. Джоан сказала, что так полагается. Мадлен не особенно разбиралась в подобных вещах, но если состояние ее матери не критическое, откуда тогда возникло слово «немедленно»? В Кале над серо-зеленым океаном висели темные тучи, а на горизонте, похоже, бушевал шторм. Настроение Мадлен стало еще хуже.
Выстояв очередь на парковку, Мадлен выбралась из машины, и холодный соленый ветер тут же растрепал ее волосы, бросив несколько прядей в лицо. Мадлен потянулась и потерла запястья, которые болели от того, что она изо всех сил сжимала руль. Мадлен прошла через асфальтированную площадку, чтобы взглянуть на расписание, вывешенное на доске, и долго щурилась, рассматривая колонки цифр, означающих время отправления парома. Оно было составлено в двадцатичетырехчасовой системе — самый настоящий, невероятно сложный шифр. Мадлен довольно быстро сдалась и прошла к кассе — маяку, который излучал флуоресцентное сияние посреди окутанной вечерними сумерками парковки.
Внутри было ужасно жарко, но почти безлюдно. Мадлен облегченно вздохнула, но судьба подбросила ей еще одно испытание.
— Два ближайших рейса отменены, — сказал морщинистый кассир. — Плохая погода. Извините, мисс. Следующий паром — в четверть двенадцатого.
Мадлен посмотрела на часы, которые показывали почти шесть часов.
— Через пять часов! — с отчаянием воскликнула она.
Видимо, у нее сделался такой вид, будто она собиралась расплакаться, потому что на лице кассира промелькнуло испуганное выражение. Похоже, прожитые годы не научили его не обращать внимания на женские слезы.
— Я вам не советую оставаться здесь, — быстро проговорил он и кивком седой головы показал на окно, из которого открывался вид на длинный ряд машин. Все они ждали очереди, чтобы пройти паспортный контроль и оказаться за воротами на пристани.
— В Кале регулярно ходят автобусы — все лучше, чем торчать тут.
Наверное, он надеялся хоть немного ее успокоить.
Мадлен купила билет на паром, уходящий в четверть двенадцатого, и вышла из душного, залитого искусственным светом помещения на сырой морской воздух.
Вся территория порта кишела машинами. Их пассажиры ждали очереди, чтобы попасть на паром, или готовились взять приступом гипермаркет, расположенный в дальнем конце громадной парковки. Со всех сторон порт окружал скучный промышленный пейзаж, и нигде не было ни одного симпатичного местечка, чтобы скоротать несколько часов. Даже пляж выглядел холодным и мрачным. Может быть, кассир прав, и ей стоит поискать приюта в Кале.
У Мадлен не было ни желания, ни сил исследовать Кале, и потому она вошла в первый же ресторан, который показался ей более или менее приличным. В нем оказалось достаточно уютно, хотя и немного провинциально — но ей так и хотелось.
Мадлен заказала у бармена легкий ужин и бокал вина, а затем устроилась за угловым столиком.
Она винила Розу за спонтанную лекцию по детской психологии, которая разбудила воспоминания, накатившие на нее, когда она ехала в Кале. Всякий раз, оказываясь у моря, она мысленно возвращалась к выходным, которые их маленькая семья из трех человек провела однажды на берегу моря, выкладывая мозаичные картины из камешков и раковин, собранных там же. Жан хотел сделать самолет, но Мадлен и Лидия победили, и камешки вскоре превратились в замок, окруженный рвом из водорослей, с подъемным мостом из кусочка плавуна.
Когда начался прилив, рисунок из ракушек, украшавший стены замка, сперва засиял разноцветными красками, а затем исчез под водой. Мадлен расплакалась, а Лидия ее утешала, говоря, что, когда все уснут, в замке поселятся русалки и красивые морские существа. Той ночью они приснились Мадлен.
Развод родителей, наверное, был неизбежен. Лидия приехала в Париж, будучи молодой преподавательницей. До этого она читала в Лондоне курс истории Франции времен Тюдоров. В молодости Жан, который был тогда профессором философии, отличался потрясающей красотой. Мадлен могла легко себе представить, как получилось, что сдержанная англичанка Лидия влюбилась в красивого француза.
Принесли заказ, и она принялась без энтузиазма ковырять еду вилкой, жевала, не замечая вкуса. Что ж, по крайней мере, теперь она сможет лично узнать у Лидии про то произведение на латыни. Общий интерес к истории стал одной из причин их близости, обе жили в призрачном мире удивительных королей и героических подвигов. Но ей никак не удавалось объяснить Розе, в чем его притягательность.
Вернувшись в порт, Мадлен пришлось сосредоточиться на том, чтобы заставить старенький «пежо» завестись и тронуться с места, и она с облегчением на некоторое время отвлеклась от беспокойных мыслей. Двигатель остыл, но через несколько минут верная машина ожила. Мадлен с любовью погладила приборную доску — она считала, что машины всегда откликаются на доброе отношение. Это было единственным ее суеверием, приметой, которой она неукоснительно придерживалась. Она медленно продвигалась в потоке машин к воротам, ведущим на пристань.
Поджидая своей очереди, Мадлен не выключала двигатель, завороженно смотрела на полоски серебристого света, который луна проливала на чернильно-черную воду. Когда темные волны ударили в громадный корпус парома, собиравшегося пересечь канал, она снова с беспокойством подумала о Лидии.
Когда Мадлен въезжала в Кентербери по Нью-Дувр-роуд, в городе было уже темно и пусто. У древней средневековой стены она остановилась и проверила смс-сообщения на мобильном телефоне, что делала каждый час с тех пор, как выехала из Кана. На всякий случай она дала Джоан Дэвидсон свой номер. Сообщений не было. Может быть, все в порядке?
ГЛАВА 2
Домик Лидии, выстроенный в викторианском стиле, находился в стороне от проезжей части, в маленьком переулке позади царственного Кентерберийского собора[7]. Шпиль собора высился над узкими улочками и домами времен Тюдоров, а экстравагантные резные украшения из камня делали его похожим на заколдованный дворец, окутанный призрачным ореолом золотистого света.
Мадлен никогда не бывала в доме Лидии в ее отсутствие и, доставая запасной ключ из потайного места под неплотно пригнанным кирпичом в садовой стене, чувствовала себя непрошеной гостьей.
Внутри прохладный воздух был пропитан знакомым ароматом лаванды. Мадлен сделала глубокий вдох, позволив приятному запаху разогнать тревогу, и впервые за весь день поверила, что все будет хорошо. Когда она несла вещи наверх, в спальню для гостей, громадные напольные часы пробили три. Однако, несмотря на столь поздний час, она совсем не хотела спать. Ей захотелось выпить, чтобы расслабиться, но в доме вряд ли было спиртное.
Спустившись вниз, она включила свет в комнате, которая одновременно служила столовой и гостиной, хотя громадный стол с ножками в виде когтистых лап, стоявший у окна, почти никогда не использовался в качестве обеденного. Сейчас он был почти доверху завален книгами и фотокопиями, на одной из которых она заметила открытый блокнот. Сверху лежали очки Лидии, а рядом стояла полупустая чашка с холодным чаем. Казалось, что Лидия только что вышла из комнаты и сейчас вернется. Мадлен раскрыла дверцы громоздкого буфета из дуба и, к своему огромному удивлению, обнаружила там бутылку шерри и хрустальный графин с янтарной жидкостью. Она вытащила стеклянную пробку и понюхала. Благодарение Богу, виски.
Мадлен обычно не курила в доме Лидии. Она вообще старалась не курить в присутствии матери, зная, что ее это беспокоит. Обычно она уходила в сад за домом, где позади выстроившихся в ряд викторианских домов протекал канал. Закурив в комнате, она почувствовала себя бунтаркой и тут же вспомнила, как подростком выдыхала дым в открытую форточку спальни. Много лет спустя Жан рассказал ей, что они с матерью знали о ее тайном пристрастии к сигаретам, но решили, что запрет заставит взрослеющую дочь курить еще больше. Они считали, что, если не обращать на это внимания, она со временем откажется от дурной привычки. Но тактика от противного в данном случае не принесла плодов.
Мадлен налила себе щедрую порцию виски и подошла к столу взглянуть, над чем работала Лидия.
На открытой странице она обнаружила несколько записей, очевидно скопированных по отдельности с разных страниц одной и той же приходской книги:
«Маргарет, дочь Джаспера Петерсона и Мэри, его жены, крещена 3 апреля 1876 года».
«Бродер из Кентербери и Маргарет Петерсон из данного прихода поженились 1 июня 1898 года».
«Бродер, торговец тканями, похоронен здесь 11 сентября 1901 года».
«Элизабет, дочь покойного Эдуарда Бродера и его вдовы Маргарет Бродер, крещена 3 ноября 1901 года».
Элизабет Бродер была матерью Лидии. Мадлен знала, что после смерти матери Элизабет перебралась в Лондон и там все свое время посвящала текстильной промышленности. Интерес Лидии к истории, по-видимому, озадачивал бабку Мадлен, которая надеялась, что дочь продолжит ее дело, поскольку такова была семейная традиция. Подробности истории семьи Бродер всегда невероятно занимали Лидию, но, лишь выйдя на пенсию, она смогла заняться ими со всей страстью.
Лидия взяла девичью фамилию матери — Бродер — в качестве акта протеста против своего отца, который был страшным пьяницей и бабником. Возможно, именно по этой причине она вышла замуж за Жана — если правда то, что женщина всегда ищет в своем потенциальном партнере качества, присущие ее отцу. Жан не пил, но и скромником его назвать было нельзя.
Ее родителей, без сомнения, привлекла друг к другу одинаковая страсть к академическим исследованиям, а также интерес к культурным загадкам их народов. Судя по некоторым обмолвкам, Мадлен поняла, что первая страсть прошла, как только родительские обязательства и быт пришли на смену тому, что воспламеняло молодые тела и умы.
Она снова посмотрела на сделанные Лидией записи в блокноте, посвященные рождениям и смертям ее предков. Бродер умер всего через три года после женитьбы на Маргарет, а мать Лидии Элизабет родилась почти сразу после его смерти. Может быть, их печали помогли вылепить ее собственную личность и судьбу? Возможно ли, чтобы сто лет истории сказались на одном конкретном человеке? А если это так, почему только сто лет, а не больше? Какие ответы она могла бы получить, если бы ей удалось встретиться с кем-нибудь из более далеких предков Лидии? Часы пробили четыре раза, и Мадлен вздрогнула. Неожиданно она почувствовала, как сильно устала после тяжелого дня. Через несколько часов она будет у матери в больнице, и, чтобы суметь держать себя в руках и не волноваться, ей нужно немного поспать.
Мадлен показалось, что телефон зазвонил в тот самый момент, когда она коснулась головой подушки. Спотыкаясь, она с трудом добрела до спальни Лидии, которая располагалась в соседней комнате. Телефон стоял возле кровати. Сначала она решила, что это голос ее матери — тот же тембр и возраст. Но это была Джоан Дэвидсон.
— Мадлен? Мне только что звонили из больницы. Мне очень жаль, дорогая. Твоя мама умерла рано утром. Аневризма аорты.
Голос Джоан звучал спокойно и уверенно, но, даже несмотря на ледяной ужас, сковавший ее, когда она услышала эти страшные слова, Мадлен поняла, что подруга Лидии изо всех сил пытается держать себя в руках.
Все, что было потом, казалось, происходило с кем-то другим. Самыми легкими оказались первые часы, когда шок стал чем-то вроде защитного барьера, который ничего не выпускал наружу и не пропускал внутрь. Именно в таком состоянии Мадлен приехала в больницу. Медсестры закрыли кровать Лидии занавеской, словно не хотели беспокоить ее во сне. Кто-то причесал ее и даже слегка провел помадой по губам, чтобы маска смерти не была слишком страшной. Увидев Лидию, Мадлен испытала нечто вроде облегчения — возможно, потому, что долгий путь по коридору в комнату, где лежала ее мать, подошел к концу. Или же потому, что Лидия совсем не казалась мертвой. Может быть, врачи ошиблись?
Они с Джоан молча стояли возле кровати и смотрели на хрупкое, худое, почти детское тело, завернутое в белые простыни. На столике у кровати Мадлен заметила цветы — желтые, оранжевые и розовые, и ей стало интересно, кто их принес. В тишине ее собственные мысли эхом возвращались к ней, как будто принадлежали кому-то другому.
Джоан приехала к дому Лидии через полчаса после звонка и забрала Мадлен. Она оказалась крупной женщиной с коротко подстриженными серебристыми волосами, которые когда-то были светлыми. Прежде чем уйти, она заставила Мадлен поесть и спросила, не хочет ли она сначала взглянуть на Лидию одна, без посторонних. Мадлен не знала, что ответить, потому что не думала об этом. Потом решила, что не хочет оставаться одна. Идя по коридору к комнате, где лежала Лидия, Джоан взяла ее за руку. Они в первый раз коснулись друг друга, и присутствие Джоан немного успокоило Мадлен.
Руки Лидии лежали на груди поверх простыни, и она была похожа на каменное изваяние мертвой королевы. Но каштановые волосы с седыми прядями блестели, как будто в них еще осталась жизнь.
Наверное, в какой-то момент Джоан ушла, потому что Мадлен вдруг обнаружила, что сидит на стуле рядом с кроватью в одиночестве. Она потянулась к руке Лидии и накрыла ее своей ладонью. Кожа была прохладной. Прошло несколько минут или часов, когда она наконец встала, наклонилась и поцеловала мать в лоб, как целовала ее Лидия, когда Мадлен была маленькой. Затем прошептала: «Сладких тебе снов».
Джоан позаботилась о том, чтобы Мадлен не оставалась одна ни по ночам, ни утром. Она давала ей разные задания, посвятив сперва в особенности своего древнего компьютера.
Мадлен без продыху печатала, Джоан звонила по телефону, ее муж Дон приносил из соседнего кафе чай для Джоан, а Мадлен — эспрессо. Мадлен пришло в голову — в один из редких моментов, когда она позволила себе задуматься, — что смерть создает некую сюрреалистическую обстановку. Она изо всех сил старалась сосредоточиться на порядке проведения службы, на том, какие гимны должны быть исполнены и кто будет читать молитвы. Ей было жизненно необходимо постоянно чем-то заниматься, чтобы не рухнуть в темную пропасть отчаяния.
Следовало отправить письма коллегам и друзьям Лидии с сообщением о ее смерти и о дате похорон. Поздно ночью среди вороха бумаг на обеденном столе в гостиной матери Мадлен нашла записную книжку. Выцветшая обложка, украшенная садовыми розами, пробудила болезненные воспоминания, а аккуратный почерк Лидии, которым были заполнены страницы, на мгновение заворожил ее. Наконец она заставила себя начать листать потрепанные странички, надеясь, что сможет найти там имена людей, о которых рассказывала Лидия. Но ее мысли окутывал туман, словно непроницаемым коконом.
Бродеры были только одни — дальние кузины, живущие где-то в предместье Кентербери. Мадлен их никогда не видела. Кажется, мать тоже не поддерживала с ними связи. Еще была школьная подруга Лидии, с ней Мадлен один раз встречалась, но помнила только имя — Дороти. Впрочем, ей не пришлось долго искать адрес. На букву «Э» была только Дороти Эндрюс, и она жила в Лондоне.
На следующее утро после того, как Мадлен отправила письма, ей позвонила Джоан и сказала, что с ней связалась Маргарет Бродер. Это имя на мгновение всплыло в памяти Мадлен, и она попыталась вспомнить генеалогические записки Лидии. Разве Маргарет Бродер не ее прабабушка?
Поскольку Мадлен медлила с ответом, Джоан объяснила:
— Это кузина твоей мамы, она хотела бы помочь с похоронами.
— Правда? Каким образом?
— Деньгами.
— О, господи, я даже не подумала о том, что за похороны нужно платить, — глупо, да?
— Нет, учитывая обстоятельства, вовсе не глупо. Я уже позаботилась об этом, велела служащим похоронного бюро связываться со мной. Я подумала, что так тебе будет проще, а все вопросы мы можем уладить потом. Но кузина Лидии предлагает надгробие и место на кладбище у деревенской церкви в том месте, где они живут. Она сказала, что там похоронены и другие члены семьи.
— Я уже забыла, где они живут.
Мадлен наморщила лоб, пытаясь вспомнить адрес, который записала вчера.
— Деревня называется Семптинг, примерно в получасе к юго-западу от Кентербери.
— Мне, наверное, нужно с ней поговорить? — вздохнув, сказала Мадлен.
— Боюсь, что да, — мягко ответила Джоан.
Повесив трубку, Мадлен оглядела гостиную Лидии и впервые осознала, какая трудная перед ней стоит задача. Вскоре ей придется разобрать жизнь матери на мелкие части. А также заняться юридическими вопросами и прочими прозаическими делами, о которых она сейчас и думать не могла.
Она расчистила от бумаг угол стола и села туда с чашкой кофе, так и не сняв ночной рубашки. Наполовину раздвинув шторы, она выглянула на улицу. Было начало десятого, но небо затянули тяжелые, черные тучи, и вокруг царил такой мрак, словно солнце еще не встало. На стекле все еще оставались капельки влаги после холодной январской ночи, а от настенной батареи поднималась тонкая струйка пара, указывая на то, что откуда-то сквозит.
Мадлен попыталась собраться с мыслями. Похороны назначены на завтра. Если она собирается принять предложение Маргарет Бродер, нужно действовать, но она невероятно устала, как будто проплакала несколько дней подряд, хотя до сих пор не пролила ни слезинки.
Трубку взяла Мэри, а не Маргарет, и ее голос звучал так, словно она немного не в себе. Впрочем, подумала Мадлен после разговора, ее собственный голос, наверное, звучал так же. Мэри объяснила, что она сестра Маргарет, а затем перешла к пространным соболезнованиям от своего имени и от имени сестры. Она произносила все необходимые слова, но голос звучал придушенно, и в нем не чувствовалось соболезнования. Мадлен решила, что она просто не позволяет человеческим чувствам взять над собой верх.
Затем Мэри перешла к делу, и обе испытали облегчение. Слишком писклявым голосом для женщины ее лет (Мадлен предположила, что она на несколько лет старше Лидии и что ей немного за семьдесят) она объявила, что «наш каменщик сделает надпись, но, разумеется, мы должны решить, какой она будет». Слово «мы» удивило Мадлен, и она подумала, что, возможно, это такое особое английское выражение, которого она до сих пор не слышала. Может быть, Мэри имела в виду, что они с сестрой и Мадлен придумают надпись вместе. Следующие слова кузины прояснили смысл предыдущего заявления.
— Ты, наверное, захочешь написать что-нибудь от себя, дорогая. Не жалей слов, мы можем себе это позволить.
Мадлен промолчала, но это не остановило Мэри.
— После службы гроб можно доставить в церковь Семптинга, и Лидию похоронят на церковном дворе. Мы поговорим с владельцем похоронного бюро. Изготовление надгробия займет немного больше времени. Так ты подумаешь насчет надписи?
Мадлен кивнула, потом сообразила, что она разговаривает по телефону и Мэри ее не видит.
— Я подумаю, — сказала она.
Она не помнила, попрощались ли они, но через минуту сообразила, что продолжает сжимать в руке телефонную трубку, из которой раздаются короткие гудки.
На следующий день она проснулась очень рано, впервые почувствовав, что защитный барьер, возникший благодаря потрясению, разрушен. Возможно, дело было в том, что боль, как ледяной кинжал, вонзилась ей прямо в солнечное сплетение. Она еще не решила, что скажет — и будет ли вообще говорить, — прощаясь с матерью.
Она выбралась из постели, сварила кофе, но одеваться не стала. Похороны состоятся днем. Она стала бродить по дому, разглядывая репродукции картин художников Возрождения, висящие на стенах, и время от времени проводя пальцами по корешкам книг на полках, словно по перекладинам в заборе. В библиотеке Лидии почти не было художественной литературы. В основном она предпочитала книги по истории, охватывающие период с пятнадцатого по семнадцатый век. Она читала лекции именно про этот период. Мадлен рассеянно взяла небольшую книжку с полки, где стояла художественная литература — главным образом, с русскими названиями. Она считала русских писателей печальными и меланхоличными, на грани депрессии. Лидия упорно пыталась убедить ее в обратном, периодически уговаривая почитать Тургенева или Достоевского. Книга, которую Мадлен выбрала, была тонкой, в твердой обложке и называлась «Русская мудрость». Она открыла ее в том месте, где в качестве закладки лежал обрывок бумаги, и прочитала: «Любовь сильнее смерти и сильнее страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь». Иван Тургенев.
Мадлен захлопнула книжку, словно та ее ужалила, и, прежде чем набраться смелости вновь перечитать цитату, некоторое время смотрела на обложку с иконографией изображения святого Георгия, убивающего змия. Если бы она верила, что такое возможно, то подумала бы, что к этой книге ее привела Лидия, специально пометив страницу закладкой.
Она положила книжечку в карман халата и достала с полки другую, со знаменитым портретом Генриха VIII на глянцевой обложке. Жирное высокомерное лицо короля из династии Тюдоров сохранило едва различимые следы молодости — либо художник проявил великодушие, либо опасался гнева короля. В молодости Генрих был поэтом и музыкантом, но позволил, чтобы его самолюбие и либидо взяли верх над чувствительностью юности. Лидию завораживал парадокс этого короля. Повзрослев и став более жестоким, Генрих провел реорганизацию церкви, чтобы иметь возможность регулярно менять жен. А тех, кто выступал против него, убивал. Жестоко.
Мадлен пролистала книгу, почти не глядя на страницы. Она вспомнила, как сияли глаза Лидии, когда та рассказывала о каком-нибудь интригующем эпизоде из истории. Однажды, приехав в Лондон, они отправились в ресторан через Лондонский мост. Летним вечером, когда освещение сменилось и воду в реке окутали тени, Тауэр на противоположном берегу Темзы превратился в темный силуэт. Лидия поежилась и сказала:
— Это здание меня немного пугает. Я знаю, что в городе случилось много жутких смертей не только в Тауэре, но… — Она немного помолчала. — Думаю, дело в камнях. Они очень старые.
Мадлен кивнула в ответ. Она часто чувствовала примерно то же самое в Нормандии. Ее родной Кан был средневековым городом, столицей другого короля, пользовавшегося дурной славой, — Вильгельма Завоевателя.
Она заставила себя вернуться из воспоминаний о летнем дне в Лондоне в холодную комнату, задвинула тяжелые шторы, чтобы хоть немного защититься от сквозняка, и включила свет. Было позднее утро, но при закрытых шторах можно было представить себе любое время суток. В комнате до сих пор сильно ощущалось присутствие Лидии. Мадлен не верила в привидения, но подумала, что, возможно, призраки — всего лишь последние воспоминания об ушедших.
По утрам она обычно не курила — ей нравилось думать, что у нее есть принципы, но сейчас ей отчаянно захотелось закурить. Мадлен с трудом нашла сигареты в громадной сумке, больше похожей на рюкзак. Она часто носила в ней домой работы студентов и учебники. Пачка сигарет спряталась среди разрозненных бумаг. А еще там же обнаружилось письмо Лидии, пришедшее в университет за день до звонка Джоан Дэвидсон. Мадлен положила его на стол, но не стала открывать — не могла заставить себя перечитать его. Она закурила и принялась рассеянно листать блокнот Лидии, чтобы не думать о письме. Неожиданно она замерла, наткнувшись на страницу, заполненную аккуратными строчками на латыни — точно такими же, как те, что получила от матери и переводила, забыв обо всем на свете. Неужели с тех пор прошло всего пять дней? Сначала Мадлен решила, что это еще одна копия того же отрывка, но, внимательно присмотревшись, заметила, что там стоит другая дата.
5 июня 1064 года
Кентербери, родной город моей матери, славится двумя монастырями и огромной библиотекой Святого Августина. Когда я была девушкой, королева Эдита приезжала в Кентербери, чтобы купить в нашей мастерской ткани и посетить библиотеку. Она образованная леди, говорят, что для женщины у нее на редкость острый ум. Конечно же, у женщин не такой ум, как у мужчин, но они не менее одарены природой, если не мешать им развиваться.
Королева может запросто разговаривать с математиками и музыкантами, говорит на языке норманнов, датчан и римлян. Но ее главная любовь — вышивание. В тот день она спроста, не соглашусь ли я поехать в Вестминстер, потому что увидела, что я так же мастерски владею иглой, как и она. Когда королева покидала нашу мастерскую в Кентербери, я стояла у окна и наблюдала за тем, как миледи, которой суждено было стать моей госпожой, едет по улице. Ее вязаный плащ сиял бисером из драгоценных камней, а золотые волосы ниспадали до самого пояса, ниже накидки. Я видела, как старики, дети и нищие останавливались, глядя на королеву и ее свиту, и их лица сияли — настолько она прекрасна. Ее красота вдохновляла менестрелей, посвятивших ей множество песен, а доброта сподвигала бардов на создание стихов. Тогда я подумала, что не каждая леди обладает столькими талантами. В то время я еще не знала, какое проклятие лежит на ней. Теперь знаю.
У ворот библиотеки она спрыгнула с лошади, и к ней подбежала маленькая девочка с белой лилией в руках. Королева приняла подношение и коснулась волос малышки, а потом скрылась за темными железными воротами, за которыми бывали немногие.
Монах Одерикус рассказал мне, что в библиотеке Святого Августина имеется великое множество священных книг, страницы которых братья расписали золотом и яркими красками, сделанными из раздавленных ягод и цветов. Августина отправили в эти земли с наказом вернуть их в лоно христианской церкви. Когда римляне ушли, старые ритуалы стали практиковаться почти в открытую, но король Эдуард — христианин, и нам необходимо соблюдать осторожность, поклоняясь богам, не признанным его церковью.
Братья Святого Августина редко появляются на улицах Кентербери, они писцы и рисовальщики и проводят свою жизнь в уединении. Именно они готовят ткани для наших вышивок при помощи серебряного карандаша каменщиков, который оставляет на ткани такой же след, как и на камне. Помимо того что Одерикус является священником и летописцем короля и королевы, он еще прекрасный рисовальщик. Поэтому он часто бывает во дворце и, несмотря на занятость, все же находит время, чтобы посидеть и поговорить со мной. Мы дружны с ним с тех пор, когда я еще жила в доме матери.
Теперь моим домом стал Вестминстер. Здесь, как и в Кентербери, в мастерских создаются гобелены, вышитые сияющими нитями, они украшают стены и залы состоятельных клиентов с континента. Самым богатым клиентом является церковь. Мы вышиваем парчовые крылья ангелов, одеяния угрюмых святых, плащ Девы Марии, над головой которой сияет сверкающий венец. Я видела вышитые картины запретного сада и диковинных уродливых зверей, словно вышедших из кошмаров монаха, которого подвергли пыткам. С помощью игл мы облекаем в форму людскую ложь, потому что даже святые лгут, если считают, что это придаст больше сияния их Богу.
Каждый год к нам приходят странствующие рассказчики. Они повествуют об одних и тех же сражениях и одних и тех же воинах, но каждый раз оказывается, что наш воин убил в десять раз больше скандинавов или римлян, чем в прошлый раз. В их сказаниях смерть овеяна славой, но нет ничего славного в горе матери, пустой постели жены и боли ребенка, которому не суждено увидеть отца. Как-то раз я поделилась с Одерикусом мыслями о том, что Иисус тоже был странствующим сказочником, и мне показалось, что его оскорбили мои слова. Он утверждает, что цель его рассказов в том, чтобы спасти нас. Когда я спросила его, от кого нас нужно спасать, он ответил, что от самих себя. Монах часто говорит загадками, но мне нравится его слушать. У него ясный и быстрый ум, и, хотя он является пленником своей жестокой веры, он наделен добротой. Могущество церкви заключено не только в ее богатстве, но и в учености священников.
Мадлен закончила, когда большие часы в коридоре пробили два раза. Два часа. Остался всего час до того момента, когда за ней должны заехать. Как и в первый раз, отрывок документа, принадлежащий перу неизвестного автора, заворожил ее, и она, забыв о времени, погрузилась в его мир. Мадлен снова задала себе вопрос, кто мог быть его автором.
Впрочем, пора было подумать о похоронах. Накануне днем Джоан позвонила ей и тактично спросила, решила ли Мадлен, что надеть на службу. Она пока не думала об этом. Джоан предложила ей сходить в магазинчик неподалеку от дома Лидии, и Мадлен купила там костюм — скроенную по диагонали юбку до колена и облегающий пиджак из тонкой шерсти темно-сливового цвета, который любила Лидия.
Она приняла ванну, вымыла голову и аккуратно заколола волосы на затылке, мимолетно подумав о том, что все зря — пройдет совсем немного времени, и прическа рассыплется на пряди, которые завитками окутают лицо. Она оделась и принялась разглядывать себя в зеркало. Мадлен не подходила к нему уже два дня, зная, что призрак, который посмотрит на нее оттуда, лишь напомнит ей о боли. Она не ошиблась — перед ней предстало лицо привидения, а красная помада подчеркнула бледность кожи и яркость рыжих волос. Девушка тяжело вздохнула и, уставившись в зеркало, приказала себе: «Будь сильной. Будь сильной».
Мадлен безмолвно повторяла эти слова и пока ждала Джоан и Дона, которые должны были за ней заехать, и по дороге в церковь, куда ходила Лидия, и пока викарий говорил о ее матери. Когда она подошла к кафедре, чтобы сказать несколько слов, ей показалось, что у нее одеревенели ноги, сердце отчаянно колотилось. Но, прочитав собравшимся друзьям матери слова Ивана Тургенева, она успокоилась, надеясь, что Лидия услышала ее.
Перед похоронами гостей пригласили в дом Джоан выпить чаю. Лишь сейчас Мадлен впервые смогла рассмотреть тех, кто пришел проводить Лидию. Она не знала, кто есть кто, но поняла, что высокая яркая женщина с черными волосами и в черной шляпе — Дороти Эндрюс, а две похожие на воробьев старушки в совершенно одинаковых темных костюмах — сестры Бродер. Еще одна пара, примерно ровесники Лидии, были ее друзья из Лондона — вместе с ними она преподавала в колледже. Викарий тоже был ее другом, и Мадлен показалось, что Лидия вернулась в англиканскую веру. Еще нескольких человек Мадлен смутно помнила и пыталась сообразить, нужно ли подойти к ним. Дон протянул ей чашку с блюдцем. Она ненавидела чай, но он, похоже, был одним из главных ритуалов этой культуры. Она с опаской сделала глоток и, еще до того как обжигающая жидкость коснулась губ, уловила запах бренди. Дон встретился с ней глазами и криво усмехнулся, а Мадлен послала в его адрес безмолвное благословение.
— Мадлен? — обратилась к ней женщина в черной шляпе. — Ты помнишь меня? Я Дороти Эндрюс, мы с твоей мамой вместе учились в школе.
— Привет, Дороти. Да, конечно, я вас помню. — Мадлен не знала, что еще сказать. — Спасибо, что приехали.
— Я так сочувствую твоей утрате, Мадлен. Лидия была настолько закрытой, что я даже не знала про ее болезнь. Это… невыносимо грустно.
Голос Дороти был глубоким и мелодичным. Она изящно пила чай маленькими глотками, но по сильно накрашенным глазам было видно, что она недавно плакала. А теперь она вглядывалась в лицо Мадлен, пытаясь найти там объяснение случившемуся.
Та покачала головой.
— Она недавно делала анализы крови. У нее болела и кружилась голова. Она всегда говорила об этом как о ничего не значащей ерунде…
Мадлен замолчала, потому что боялась, что не сможет говорить дальше.
Дороти взяла ее за руку и тихонько покачала головой, давая понять, что никакие слова не нужны. Они не могли передать и выразить боль, не могли вернуть Лидию.
Мадлен сжала руку Дороти, прежде чем выпустить ее, и почувствовала, что мгновенная связь, возникшая между ними, придала ей сил. Дороти была самой старой подругой Лидии и знала ее гораздо дольше, чем сама Мадлен.
— Когда вы видели ее в последний раз? — спросила она.
Почему-то этот вопрос казался ей очень важным.
— Наверное, месяца три назад. Мы стали меньше общаться, когда она перебралась в Кентербери. Я пригласила ее на выходные, и мы довольно много выпили, а потом вспоминали прошлое. Мы познакомились, когда были подростками, так что не сомневайся, мы вместе участвовали в куче самых разных эскапад.
— Да уж, — улыбнувшись, проговорила Мадлен, которой было трудно представить свою сдержанную мать, участвующую в «эскападах» с утонченной Дороти. — Вы знали ее родителей? — спросила она.
— Да, я хорошо помню мать Лидии. Отца я видела гораздо реже. Думаю, все остальные тоже. Элизабет, твоя бабка, в конце концов вышвырнула его прочь. Просто возмутительно, что она тянула так долго. Элизабет была сильной женщиной. Кое-кто сказал бы, жесткой, но я даже тогда понимала, что ей пришлось такой стать. Многие женщины, которым пришлось содержать свои семьи во время войны, были похожи на нее. Лидия много говорила о тебе в те выходные. Она ужасно тобою гордилась. Мне очень жаль, что нам пришлось встретиться при таких печальных обстоятельствах.
В это мгновение Дороти прервала одна из сестер Бродер, Маргарет или Мэри — она не представилась. У нее за спиной маячила другая сестра, похожая на близнеца-клона.
— Нужно отправляться на похороны, Мадлен, дорогая. Маргарет и я должны быть дома к чаю.
Мадлен снова удивилась настолько, что не нашла подходящего ответа. Похоже, в этой стране самым важным событием было чаепитие. Она принялась отчаянно озираться в поисках Джоан, которая могла бы спасти ее в этой сложной ситуации, но на помощь ей пришла Дороти.
— Возможно, я смогу вам помочь, — сказала она Мэри.
Мадлен сделала глоток чая с бренди и ускользнула, бросив благодарный взгляд на Дороти.
Когда небольшая процессия машин добралась до Семптинга, следуя за катафалком через деревню к старой каменной церкви, зимний пейзаж окутала тонкая паутинка легкого дождя.
«Даже небо плачет», — рассеянно подумала Мадлен.
Могила в углу церковного двора уже была готова — длинная, глубокая яма в земле, глядя на которую Мадлен по необъяснимой причине вдруг вспомнила свой разговор с Розой, произошедший несколько дней назад.
Неужели с тех пор прошло всего несколько дней? Ей казалось, что миновали недели, годы… Роза вспомнила про Мать Землю — созидательницу и разрушительницу. А теперь она заберет то, что ей принадлежит.
Викарий произнес молитву, и небольшая группка людей в темных пальто и под зонтиками стала смотреть, как гроб опускают в могилу. Они бросили на него цветы — розы и лилии, — а потом рабочие принялись лопатами швырять на Лидию мокрую землю.
Люди подходили к Мадлен — люди, которых она едва знала, — целовали ее в обе щеки или сжимали руку, а потом медленно шли к своим машинам и уезжали. Вскоре остались только викарий, Дороти, Джоан и Дон и сестры Бродер. Они стояли в дверях церкви и дожидались, когда кончится дождь. Мэри Бродер подобралась к Мадлен и почти заговорщически проговорила:
— Ты знаешь, что твоя мама занималась изучением истории нашей семьи, дорогая? — Мадлен кивнула и слабо улыбнулась, надеясь, что Мэри не ждет от нее ответа. — Ты должна завтра прийти к нам на чай. Мы хотим кое-что показать тебе.
Маргарет стояла за спиной Мэри и кивала, и Мадлен тоже почувствовала желание кивнуть, словно эти две крошечные женщины заколдовали ее. Когда они ушли, Мадлен решила, что позвонит им утром и придумает какую-нибудь отговорку, чтобы никуда не ходить. Она не сомневалась, что чай с сестрами Бродер вряд ли доставит ей удовольствие.
Джоан предложила поесть в деревенской закусочной, и все согласились, что в данных обстоятельствах так будет лучше всего.
Паб под названием «Ангел» находился в старом кирпичном здании, выкрашенном белой краской, с полосами в стиле Тюдоров под скатом крыши. На цепях над дверью болталась старая вывеска, висевшая косо, словно хорошенько набралась, — летящий ангел, играющий на тоненьком золотом рожке, едва различимом сквозь потрескавшийся лак.
Внутри было очень уютно. На стенах, как и следовало ожидать, висели железные подковы и старые фотографии, а открытые балки под потолком украшали ржавые останки старинных фермерских инструментов. В Кане не было таких пабов, где вас с радостью встретят, даже если вы придете в заляпанном грязью плаще и сядете в уголке, словно вы только что прибыли с планеты немытых фермеров. Появление компании в строгих похоронных костюмах вызвало опасливые взгляды сидевших за столиками любителей эля, но на них сразу же перестали обращать внимание. Они устроились у открытого камина, пили шерри и ждали, когда принесут ужин.
Майкл, викарий, был энергичным мужчиной лет пятидесяти, седым и розовощеким. Именно он поддерживал разговор в их компании. Судя по всему, он нашел свое призвание в жизни, потому что ему удавалось оставаться компанейским и одновременно сочувствующим, он даже дважды погладил Мадлен по руке, когда принялся рассказывать об интересе Лидии к истории церкви в Кентербери.
— Она знала ужасно много всего, — сказал Майкл. — Особенно про то, как Генрих Восьмой распустил монастыри, — мне кажется, она изучала шестнадцатый век.
— Правление Тюдоров занимало ее больше всего остального, — кивнув, подтвердила Мадлен. — Но я не знала, что ее так сильно интересовала история церкви.
Она сделала глоток шерри, почувствовав, как внутри все начало согреваться, и надеясь, что комок, вставший в горле, не помешает ей говорить. Майкл тут же пришел ей на помощь.
— Кентербери представляет невероятный интерес с точки зрения истории — здесь находилось самое сердце церкви Англии. Да и теперь находится.
— Но этот город в прошлом был еще и процветающим центром творческой мысли, — вмешалась Джоан. — Не стану спорить, что во многом культура рождалась в монастырях, но на юге Англии до самой Викторианской эпохи жили выдающиеся ткачи и вышивальщицы. Затем все стало механизироваться, и большинство мастерских закрылось.
В этот момент им принесли заказ, и все замолчали. Еда оказалась горячей, свежей и восхитительно пахнущей, но Мадлен поняла, что не может есть. Процесс поглощения пищи казался ей слишком земным, в то время как ее мысли были далеко.
Когда принесли кофе, Дороти обратилась к викарию:
— Почему же Кентербери стал английским Римом?
— Ах! — вскричал он, и его глаза засверкали от предвкушения. — Именно сюда в пятом веке пришел святой Августин, который решил обратить варварские племена бриттов в христианство. Ему удалось даже наставить на путь истинный Этельберта[8], короля Кента. Впрочем, он женился на христианке, и потому задача Августина не была такой уж сложной.
Дороти захватил его рассказ, и щеки Майкла стали еще розовее. Мадлен была благодарна ему за то, что ей не нужно разговаривать. Кроме того, она получала удовольствие от захватывающего урока истории. Как и Лидия… раньше. Впрочем, это не имело значения, потому что Мадлен никак не могла примириться с фактом ее смерти. Ведь она с ней даже не попрощалась.
— А какой была религия в Англии до этого? — спросила Дороти, у которой глаза сияли, словно темные кристаллы, и Майкл смутился под ее взглядом.
Мадлен подумала, что Дороти пытается кокетничать со священником. По собственному опыту она знала, что этого следует избегать любой ценой.
Затем у нее промелькнула мысль, не прислал ли ей Питер электронное письмо. Она связывалась с ним и с Розой с компьютера Джоан.
Мадлен изо всех сил попыталась сосредоточиться на ответе викария.
— Смесь скандинавских верований, жрецы-друиды. И, наверное, кельтские традиции. Пантеистические представления о мире — боги и богини, представляющие все стихии, все человеческие чувства и желания, плодородие… Очень интересная область для изучения, если вы любите сказки.
По какой-то необъяснимой причине слова Майкла вызвали у Мадлен раздражение. Ей нравилось считать себя атеисткой, но она с уважением относилась к верованиям других людей. В любом случае ей казалось гораздо разумнее поклоняться воде, солнцу и земле, дарующим жизнь, чем одному гипотетическому объекту. К тому же существованию сил, которых боготворили язычники, имеются физические доказательства, их могущество можно почувствовать, и они напрямую влияют на жизнь людей.
Они расстались на средневековой рыночной площади перед закусочной. Майкл отправился навестить своего коллегу в Семптинге, а Дороти поехала обратно в Лондон. Она тепло обняла Мадлен и поцеловала в обе щеки, заставив пообещать, что та скоро навестит ее.
На обратном пути Мадлен смотрела в окно на зимние английские сады и древние каменные стены и дома. Она без труда представила себе, как все здесь выглядело сотни лет назад. Ей казалось, что с тех пор почти ничего не изменилось. Они проехали мимо высоких ворот поместья, и Мадлен заметила фронтоны, относящиеся к позднему Средневековью, и похожий на джунгли сад. Видимо, тут живет местный эксцентричный миллионер, решила она.
Джоан и Дон довезли ее до коттеджа Лидии. Джоан предложила Мадлен переночевать у них, но девушка знала, что должна привыкнуть к присутствию смерти. Она не станет превращать дом матери в место, куда страшно заходить. Мадлен пообещала позвонить, как только соберется уехать из Кентербери. В университете ее отпустили до конца следующей недели.
— Чувствуй себя как дома, — сказал Дон перед тем, как уехать.
Он отличался немногословием и поразительной душевной щедростью. Вообще окружившие ее люди были с ней добры, и благодаря им она чувствовала себя не так одиноко. Но сейчас чувство одиночества вновь захлестнуло ее. Мадлен достала из буфета бутылку виски и села за стол. Раскрытый блокнот Лидии по-прежнему лежал на документе, написанном на латыни. Возможно, книга, из которой Лидия его переписала, прячется где-то в высоких стопках на столе…
Мадлен принялась разглядывать корешки, и ее внимание привлекло название «Opus Anglicanum» — «Английская работа». В двенадцатом веке так стали называть англосаксонскую вышивку.
Она достала книгу из стопки и стала переворачивать гладкие страницы с цветными иллюстрациями, изображавшими древние произведения — шелк и шерсть, покрытые изысканной вышивкой. Некоторые работы совсем обветшали, другие сохранили красоту, несмотря на прошедшие века.
Под иллюстрациями имелись короткие комментарии, но Мадлен довольно быстро поняла, что Лидия скопировала латинский текст не с них.
Она вернулась к первой странице и прочитала вступление.
Лишь одна работа из «Opus Anglicanum» дошла до нашего времени в целости и сохранности — одеяние святого по имени Катберт, которое в десятом веке положил в его гробницу правивший тогда король саксов. Неудивительно, что монашеское одеяние уцелело, в то время как погибло огромное количество средневековых вышивок. Одежда для религиозных ритуалов считалась священной и очень ценной, и к ней относились с почтением. И потому оставалось загадкой, что самой знаменитой работе вышивальщиц, гобелену Байе, насчитывается целых девятьсот лет.
Женщины из средневековых саксонских мастерских вышивали не только одежду, но и гобелены и ковры для дворцов и церквей. Их изысканная работа украшала серебряными и золотыми нитями лен, шелк и шерсть. Они пришивали на платья и плащи рубины, изумруды и жемчуг. Это была одежда и декоративные украшения для богатых, и иметь их могли только аристократы и епископы. Мастерские, огромное количество которых находилось в Кентербери и его окрестностях, получали также заказы от европейских королевских домов: саксонские вышивки славились далеко за пределами Англии.
Ясно, что Лидия заинтересовалась этим аспектом истории Кентербери, — возможно, причиной стал тот факт, что семейство Бродер имело отношение к производству тканей? Джоан также упоминала саксонские вышивки. Мадлен представила себе, как они обсуждают их вместе с Лидией, и ей стало невыносимо грустно оттого, что ей не довелось услышать от матери о ее последних исследованиях.
Визита к сестрам Бродер избежать не удалось. Мэри застала ее врасплох ранним телефонным звонком, сообщив время, когда она должна приехать, и объяснив, как их найти. Ей удалось с легкостью одержать над Мадлен верх — ведь та еще даже не успела выпить кофе.
Подъезжая к Семптингу, она сообразила, что следовало еще вчера выяснить, где находится дом сестер Бродер. С другой стороны, ей хватало других забот, а деревня была совсем крошечной. Мадлен решила, что найти их не составит труда.
Проехав дважды мимо поместья, которое видела накануне, Мадлен остановилась на обочине и перечитала указания Мэри, пытаясь понять, что здесь не так. Другого дома на этом участке дороги просто не было. Она не сомневалась, что территория вокруг замка — судя по всему, относившегося к пятнадцатому веку — огромна. Прошло некоторое время, прежде чем она сообразила, что сестры Бродер живут именно здесь. Мадлен выбралась из машины, подошла к воротам и увидела потемневшую медную табличку, сообщавшую, что перед ней «Сады». Она снова взглянула на листок с адресом. Там тоже было написано «Сады». Она нажала на медную кнопку, но прошла целая вечность, прежде чем появился пожилой мужчина, с трудом приоткрывший ворота ровно настолько, чтобы Мадлен смогла протиснуться внутрь.
— Я на машине, — сказала она. — Я могу въехать?
Мужчина закатил глаза и начал открывать ворота пошире, что явно давалось ему нелегко. Мадлен собралась было ему помочь, но он отмахнулся от нее, словно от назойливого насекомого. Она пожала плечами и вернулась к машине. Когда она припарковалась на заросшей травой круглой площадке перед величественными готическими дверями, мужчина уже куда-то исчез.
Двери были огромными, украшенными по обеим сторонам портиком с каменными колоннами. Широкие истертые ступени вели от подъездной дорожки к громадному нарядному крыльцу. Прежде чем подняться по ним, Мадлен окинула взглядом величественное строение и почувствовала себя Алисой, которая выпила зелье из бутылочки и стала крошечной. Замок украшало гораздо больше фронтонов, чем она могла рассмотреть с дороги. Внешние стены были из некрашеного камня цвета темного песка, и вьющиеся растения покрывали почти все восточное крыло. Большая часть дома пряталась в саду, который, судя по всему, давно уже был предоставлен сам себе. Но, несмотря на окружавшие его джунгли и тот факт, что состояние замка оставляло желать лучшего, жилище сестер Бродер производило сильное впечатление. Невзирая на все изменения, происходившие вокруг, замок упрямо простоял по меньшей мере пять веков. Когда Мадлен добралась до крыльца, одна створка двойной двери распахнулась, и она увидела Мэри и Маргарет Бродер. Они походили на двух кукол, поселившихся в слишком большом для них игрушечном домике. Дверной проем был выше их ровно в два раза.
— Здравствуй, дорогая, — хором проговорили они и провели Мадлен в гостиную, как она подумала.
Она надеялась, что для чаепития не существует никакого особого этикета и ей не придется опозориться перед родственницами. Маргарет вышла из комнаты в одну из многочисленных дверей, а Мэри повернулась к Мадлен. Видимо, главной была именно она. Мэри заговорила о каком-то ботаническом бедствии, случившемся утром, но тут же добавила, что Луи уже с ним справился (Мадлен стало интересно, не он ли является привратником, столь неохотно впустившим ее внутрь). Вскоре она поймала себя на том, что с любопытством разглядывает необычное убранство комнаты.
Стены были отделаны панелями из темного дерева, а несколько висевших на них картин показались ей старинными. Комната представляла собой эклектичную смесь антикварных вещей и дешевой современной мебели, картин и фотографий. Пол от стены до стены покрывал кое-где протершийся ковер темно-красного цвета. В огромном камине вполне поместилась бы целая корова, а пол перед ним был выложен громадными плитками из черного мрамора.
Маргарет вернулась с подносом, на котором стоял серебряный чайник с таким же молочником и сахарницей. Несмотря на то что серебро давно следовало почистить, сервиз в стиле барокко оказался изысканным. Когда Маргарет поставила поднос на большой овальный стол, застеленный кружевной скатертью, Мадлен разглядела выгравированную на посуде букву «Б». Она не ожидала увидеть в «Садах» такое и испытала нечто сродни благоговению.
— Мы хотели рассказать тебе о визитах Лидии, — проговорила Мэри, когда Мадлен сделала первый глоток чая.
Он показался ей пыльным и безвкусным. Неплохо было бы добавить в него бренди.
— Когда она к вам приезжала? Это было несколько раз? — спросила Мадлен, которой эти подробности почему-то казались более важными, нежели причина визитов Лидии.
— О, да, несколько раз, — ответила Мэри. — Ее чрезвычайно интересовала история нашей семьи, и мы получали удовольствие от наших разговоров… — Она произнесла эти слова с таким несчастным видом, словно интерес Лидии к сестрам являлся событием небывалым и потому им его отчаянно не хватало. — В первый раз она приехала пару месяцев назад. Кажется, осенью, Маргарет?
Мадлен впервые услышала голос Маргарет, заговорившей отдельно от сестры. Он был таким же скрипучим, хотя и менее пронзительным.
— Да, осенью. В саду еще были поздние фрукты.
— Осенью, — уверенно подтвердила Мэри, а потом, словно вспомнив, что собиралась еще что-то сказать, добавила: — Во время ее последнего посещения, после Рождества, мы решили показать ей семейный… артефакт.
Слово «артефакт» она произнесла таким же заговорщическим тоном, каким обратилась к ней вчера в церкви.
— Хочешь на него взглянуть? — спросила Маргарет, но уже другим тоном — так ребенок предлагает новому другу посмотреть свою любимую игрушку.
Против воли Мадлен была заинтригована.
— Разумеется. Мне ужасно интересно.
Маргарет тут же встала, но ее строгая сестра велела ей сесть и дождаться окончания чаепития. Мадлен попыталась понять, как подобные отношения могли продержаться в течение стольких лет, и в конце концов решила, что сестры просто ненормальные.
Когда Мэри пришла к выводу, что все выпили достаточно чая, она повела их через вестибюль с выложенным мраморной плиткой полом в такую же огромную, похожую на пещеру комнату в его конце. Оказалось, что это библиотека, и Мадлен замерла на пороге от изумления. В громадной комнате три стены от потолка до пола занимали мощные полки, заставленные рядами книг. Старинных книг — она не заметила здесь ни одного издания в мягкой обложке. Больше в комнате ничего не было, если не считать двух лестниц с деревянными ступеньками, — даже стола. А на высоте, до которой не доставали лестницы, она разглядела сотни кожаных переплетов. Было ясно, что сестры Бродер не особенно интересуются книгами.
Мэри прошла в угол, где стоял застекленный шкаф, достала с полки, находившейся рядом с ним, большой темно-красный том и выудила из специального углубления тяжелый медный ключ. Затем открыла шкаф, вынула несколько книг, переставила их и наконец вернулась к Мадлен и Маргарет. В руках она держала изящную шкатулку из черного гагата.
После этого все втроем вернулись в столовую. Мадлен удивилась, зачем им с Маргарет понадобилось сопровождать Мэри в библиотеку. Она вполне могла сходить туда сама, взять шкатулку и принести сюда. По-видимому, поход в библиотеку являлся частью ритуала.
С кружевной скатерти убрали чайный сервиз, а на его место поставили гагатовую шкатулку. Мадлен, затаив дыхание, ждала, пока Мэри осторожно откроет крышку. Когда она выдохнула, получилось нечто, похожее на стон изумления, потому что внутри лежала невероятно древняя вещь. Книга.
— Что ты думаешь об этом? — спросила Маргарет голосом маленькой девочки, демонстрирующей новую игрушку.
— Твоя мать говорила, что, прежде чем открыть книгу, необходимо надеть перчатки, — с важным видом заявила Мэри. — Принеси перчатки, Маргарет, — велела она сестре.
Маргарет поспешно умчалась выполнять ее приказ, а Мадлен пожалела, что та не сказала: «Принеси сама».
Пока они ждали возвращения Маргарет, Мэри вдруг сладчайшим голосом заговорила с кем-то, кого пока Мадлен не видела, несмотря на то что обернулась и окинула комнату взглядом.
— Привет, Агата, дорогая. Как мило с твоей стороны, что ты решила нас навестить. Ты была в саду, красавица моя?
Наконец-то Мадлен заметила Агату, невероятно толстую старую черную кошку. Агата медленно подошла к камину и не слишком грациозно устроилась на большой вышитой подушке. Кошка мельком взглянула на Мадлен, зевнула и повернулась к камину. Вид у нее был слегка оскорбленный.
— Конечно, милочка, — ласково проворковала Мэри. — Я велю Луи растопить для тебя огонь. Только дай мне закончить с делами.
Агата ничем не показала, что слышит ее.
Вскоре вернулась Маргарет, неся пару лайковых перчаток цвета слоновой кости, и с церемонным видом протянула их Мадлен.
— Теперь ты можешь взять книгу, — сказала она.
Книга, по размеру немногим меньше шкатулки — наверное, пять дюймов на девять — и толщиной в дюйм, была переплетена в толстую грубую кожу коричневого цвета. Обложка стала жесткой от времени, а несколько золотистых точек на темной поверхности указывали на то, что здесь когда-то были буквы, украшенные рисунком.
Когда Мадлен наконец осторожно открыла книгу и увидела слова на континентальной латыни, аккуратно выписанные коричневыми чернилами на пергаменте, а также дату — 3 июня 1064 года, она интуитивно поняла, что отрывок, который ей прислала Лидия, скопирован отсюда. Неужели она настоящая? Конечно же нет…
— Что это такое? — с благоговением прошептала она, надеясь, что Маргарет даст ей ответ, на который она рассчитывает.
— Семейное наследие, — беззаботно заявила Мэри. — На твою мать книга произвела огромное впечатление, и она попросила разрешения скопировать первые страницы. Она сказала, что ты сможешь ее перевести.
Мадлен молчала, и Мэри резко спросила:
— Ты хочешь ее перевести?
— Вы имеете в виду, что я могу взять ее с собой… во Францию?
— Ну конечно, именно это я и хотела сказать. Ты ведь не можешь остаться у нас, правда? — В голосе Мэри прозвучал легкий намек на ужас.
— Но она же очень старая… и хрупкая.
— Ну, ты ведь будешь бережно с ней обращаться, верно?
— Конечно, но…
— Прекрасно, значит, решено. Мы надеемся, что ты сообщишь нам, когда закончишь перевод. Нам кажется, что твоя мать очень этого хотела.
Мадлен прикусила губу. Откуда Мэри знать, чего хотела Лидия? Кроме того, не две безумные старухи, а она сама будет решать, что следует делать в память о матери. Но книга манила ее, и она едва могла сопротивляться ее притягательной силе. Когда Мадлен взглянула на мелкий почерк, кровь начала стучать у нее в висках, и ей захотелось как можно скорее оказаться на свежем воздухе. Пора было уходить. Чем скорее она вернется в дом Лидии, тем быстрее сможет заняться переводом.
Покидая дом сестер Бродер, Мадлен мимоходом подумала о том, на что они живут. Они не производили впечатления работающих. Значит, должно быть какое-то наследство. Однако у нее сложилось ощущение, что, несмотря на очевидную и немалую стоимость собственности, лишних денег у старух не водилось. Возможно, они постепенно распродают то, что получили от своих предков (что-нибудь вроде книги, лежащей в шкатулке, которую она, завернув в мягкую шерстяную шаль с вышивкой, прижимала к груди). Тогда понятно, почему в их доме антикварные и очень ценные предметы соседствуют с безвкусной мебелью и украшениями на стенах. Пока она ждала у ворот, наблюдая в зеркало заднего вида, как их открывает сгорбленный раздраженный Луи, Мадлен увидела сквозь щель в густых зарослях деревьев бесконечные ряды яблонь, которые тянулись до самого горизонта. Может, сестры Бродер продают яблоки?
Вернувшись в коттедж Лидии, Мадлен полностью расчистила стол и положила шкатулку на вышитую шаль, которая сама по себе являлась произведением искусства. Приглядевшись внимательнее, она решила, что темно-рубиновая ткань не может быть чистой шерстью, настолько тонкой она была, — скорее всего, неизвестные мастера вплели в нее шелковые нити. Вышивка была сделана золотом и серебром — в этом Мадлен не сомневалась. Ткань великолепно сохранилась, хотя ей было больше ста лет. Ее поразило, что сестры Бродер удивительно равнодушны к подобным вещам. Возможно, они привыкли жить в окружении старых вещей и те не производят на них впечатления?
Лайковые перчатки лежали в шкатулке рядом с книгой, там, куда Мэри велела Мадлен положить их. Прежде чем надеть, Мадлен принялась их разглядывать, поскольку, увидев крошечные, обтянутые кожей пуговички и тончайшие швы, сделанные вручную, сразу же поняла, что они относятся к Викторианской эпохе. Возможно, перчатки были изготовлены в то же время, что и шаль.
Мадлен снова открыла книгу, осторожно перевернула первые две прочитанные страницы и перешла к третьей записи в дневнике, которому, похоже, было девятьсот лет. И сразу же ее сомнения в подлинности книги уступили нестерпимому желанию узнать, о чем написано дальше.
7 июня 1064 года
У королевы Эдиты бледная кожа и резкие черты лица, столь характерные для датчан, народа ее матери Гиты. Сейчас ей почти сорок, но, как и двадцать лет назад, когда она вышла замуж за короля, королева обладает прославившей ее силой духа.
Я не так молода, поэтому помню празднование бракосочетания Эдуарда и Эдиты. Тогда, как и сейчас, много говорили о том, что семья Годвина наделена в нашем королевстве огромной властью. Когда эрл Годвин выдал свою дочь за короля, это не имело никакого отношения к чувствам, он хотел находиться ближе к короне. Но Годвин умер, а Эдита всегда знала, чего хочет, и часто поступает по-своему. Возможно, у нее имеются собственные планы на корону.
Ее братья, Гарольд и Тостиг, стараются завоевать расположение Эдуарда, потому что король, не имеющий сына, должен назначить наследника. Однако у Эдуарда есть прямой наследник — во всех отношениях, кроме имени. Это Эдгар, сын убитого племянника короля. Эдгар Этелинг еще ребенок, но, если его назовут наследником короны до того, как он станет мужчиной, Эдгар сможет обратиться к братьям королевы, которые являются воинами, и, без сомнения, один из них согласится стать его военным советником.
Джон говорит, что Гарольда любят простые люди, потому что он не гнушается разговорами с крестьянином в грязной одежде, чью речь почти невозможно понять из-за гнилых зубов. Да и про горожан можно сказать то же самое. Гарольд пользуется популярностью, потому что он самый обычный человек, не интересующийся интригами, захватившими континент. В Дании и Фландрии у него сильные союзники, и ни для кого не секрет, что он недавно встречался с королем Франции. Однако эрл Уэссекса пренебрежительно относится к вещам, дорогим сердцу саксов, потомков короля Альфреда и прежних королей Англии, чья кровь течет в жилах Эдгара Этелинга.
Поскольку Гарольда занимает только его собственная слава, он не годится для того, чтобы, как истинный король-воитель, нести знамя саксонского дракона. Гарольд вызывает восторг у тех, кто считает, будто король должен уметь мастерски владеть мечом и произносить храбрые речи, но в его ближайшем окружении к нему относятся с гораздо меньшим расположением. Известно, что король Эдуард презирает Гарольда за высокомерие и за то, что он не пропускает ни одной юбки. Король и королева отдают предпочтение более молодому и спокойному брату — Тостигу.
Наступило время ожидания, хотя мало кто за стенами дворца знает, что здоровье короля Эдуарда пошатнулось. Христиане молятся за него и надеются, что Бог услышит их молитвы, но те из нас, кто придерживается прежних традиций, понимают — одних лишь молитв недостаточно.
Думать о документе одиннадцатого века было гораздо приятнее, чем подводить итог жизни Лидии. Это, а также ощущение того, что ее кости закованы в тяжелый металл, заставило Мадлен в понедельник утром проваляться в постели дольше обычного.
ГЛАВА 3
Голос вышивальщицы Леофгит — настоящей или выдуманной — заинтриговал ее. Королева Эдита, ее брат Гарольд и муж король Эдуард всего через несколько страниц стали для нее реальнее, чем за все годы, что она изучала историю саксов, а потом читала по ней лекции. Накануне вечером она сумела перевести только одну запись, а потом, измученная душевной болью, уснула. Мадлен по-прежнему чувствовала себя усталой, хотя проспала долго и крепко.
Она устроилась за столом в столовой, прихватив с собой чашку кофе, и набралась храбрости взглянуть сквозь занавески на мир за окном — небо несколько дней было темным от туч, а воздух сырым. Но сегодня выдался ясный день, и хвойные деревья, растущие у стены из красного кирпича, заливало зимнее солнце, а не потоки дождя.
Перед ней, немного в стороне от разбросанных на столе книг и бумаг, все так же лежало сложенное письмо Лидии. Мадлен пила кофе, не сводя с него глаз. Потом протянула руку и медленно развернула листок.
Дорогая Мадлен, не могла бы ты перевести для меня этот отрывок — я наткнулась на него во время своих изысканий, и он меня невероятно заинтриговал. Мы сможем поговорить о нем, когда ты снова приедешь в Кентербери (надеюсь, у тебя ничего не изменилось, и ты сможешь быть здесь двадцать шестого января). Я не сомневаюсь, что книга, из которой я его переписала, тебя заинтересует, потому что она относится, скорее, к твоей области компетенции (с точки зрения истории), чем к моей…
Мадлен прочитала про Джоан и сад Лидии и про то, что она собирается сходить в Кентерберийский архив, — скорее всего, мать так и не успела этого сделать. Маргарет Бродер, жившая в эпоху королевы Виктории, скорее всего, была той самой леди, торговавшей тканями, о которой говорилось в отрывке из приходских записей. Лидия не была до конца уверена в том, что ее предки жили в Кентербери до Маргарет Бродер, следовательно, из ее разговоров с сестрами Бродер не вышло ничего путного. В таком случае становилось понятно, почему она продолжала их навещать, потому что Мадлен не сомневалась, что даже ангельское терпение Лидии не выдержало бы их странного поведения. Возможно, она надеялась, что они вспомнят что-нибудь интересное. Настойчивость Лидии принесла свои плоды, потому что она начала нравиться сестрам, которые даже показали ей дневник.
Одна строчка в письме заставила сжаться сердце Мадлен:
Точно знаю, что ты спросишь об этом, поэтому отвечаю — нет, я еще не получила результаты анализа крови, но чувствую себя вполне прилично и продолжаю считать, что ты зря устроила переполох.
Мадлен свернула письмо. Она не плакала все эти дни, слишком глубоким и темным был колодец ее чувств, чтобы рискнуть туда упасть. Но сейчас горе разрушило его стены, и она отчаянно зарыдала, упав в кресло и зарывшись лицом в одну из подушек с цветочным рисунком, выполненным Вильямом Моррисом[9]. От нее пахло лавандой.
Наконец Мадлен подняла голову от промокшей от слез мягкой подушки и взглянула на небо за окном. Солнце продолжало заливать все вокруг своим светом.
К полудню она лишь сумела очистить поверхность стола. Все бумаги с последними исследованиями Лидии были аккуратно сложены в маленькую коробку, которую Мадлен собиралась забрать с собой в Кан и просмотреть позже, когда немного придет в себя.
Она решила первым делом заняться спальней, понимая, что там ей будет труднее всего. Но сначала следовало вспомнить о здравом смысле и поесть. Джинсы уже отвратительно болтались на талии, поскольку в последние несколько дней она не слишком часто вспоминала о еде.
В холодильнике ничего не оказалось. До сих пор Мадлен брала в кафе еду на дом или обходилась хлебом и сыром. Хлеб, лежавший в керамической банке в кладовке, зачерствел, а в холодильнике остался крошечный кусочек сыра, который одиноко торчал на полке, заставленной баночками с приправами.
До центра Кентербери, где рядом с воротами собора расположилось множество маленьких кафе, было совсем недалеко, и она решила пройтись туда пешком.
Прежде чем выйти из дома, она положила в рюкзак письмо Лидии. Оно стало для нее чем-то вроде талисмана — маленькой частичкой матери, которая всегда будет с ней.
Мадлен пошла вдоль восточной стороны территории собора, выбрав наиболее длинную и живописную дорогу до рыночной площади. Справа тянулись каменные укрепления средневекового города, а впереди высились развалины норманнского замка. Слева за зданием университета Крайстчерч виднелись обломки бледно-золотистого камня — все, что осталось от аббатства Святого Августина. В дневнике, который она читала, описывалось, как королева Эдита со свитой останавливалась в 1064 году у ворот этого аббатства.
Проходя мимо, Мадлен попыталась представить себе, как все здесь выглядело до того, как здание было разрушено во времена Генриха VIII, и решила, что непременно выберет время и сходит взглянуть на развалины.
Ресторан, называвшийся «Дом ткача», находился на Хай-стрит, в доме эпохи Тюдоров. В прошлый визит Мадлен они с Лидией приходили сюда на ланч. Сейчас она заказала жареную форель и бокал мерло. Крошечное окошко возле ее стола, с освинцованными стеклами в форме ромбов, выходило на канал, протекающий через центр города. Желтые камыши стелились по его берегам, не в силах противостоять быстрому течению прозрачной зеленой воды.
Мадлен пила вино и думала о дневнике — о монахах Святого Августина, сидевших в скрипториях, о мастерских, где женщины золотыми нитками вышивали огромные гобелены для дворцов и церквей. Она не могла понять, каким образом такая древняя реликвия, созданная вышивальщицей по имени Леофгит, могла сохраниться на протяжении девяти веков. Невозможно было поверить, что она столько поколений оставалась в одной семье. А если так, получается, что Леофгит — ее дальняя родственница? И хотя эта мысль казалась ей романтичной и привлекательной, Мадлен понимала, что такое маловероятно. Ей ужасно хотелось рассказать кому-нибудь о своем переводе — но кому? Сестры Бродер ничего не говорили о том, что она должна хранить в тайне существование дневника, но она чувствовала, что таково было условие, на котором они его ей передали. В конце концов она нехотя решила встретиться с Мэри Бродер еще раз. Сестры должны узнать историю необычного документа.
После ланча, допив вино и выкурив сигарету, Мадлен снова перечитала письмо матери. Она собиралась сходить в Кентерберийский архив, а Джоан наверняка знает, где он находится и что именно собиралась искать там Лидия.
В маленьком книжном магазине Мадлен купила карту улиц старой части города. Центр изучения генеалогии, где работала Джоан, находился рядом с крошечной францисканской церковкой и музеем, в районе, который назывался Западные Ворота.
Секретарша сообщила, что Джоан ушла на ланч, записала, что приходила Мадлен, а затем объяснила, как найти находящийся неподалеку архив.
То и дело заглядывая в карту, Мадлен обошла францисканскую церковь, где любила бывать Лидия. Даже зимой окруженный стенами сад маленькой церковки девятого века был пронизан поразительной безмятежностью. Лидия считала, что молитвы, которые произносили сначала бенедиктинцы, а потом францисканцы, продолжают наполнять церковь и все вокруг нее. Это была действительно священная земля.
Берега канала, который разглядывала Мадлен из окна кафе, поросли здесь дубами и ивами, и вода резво ныряла под маленький, покрытый мхом каменный мостик. Она села на упавший ствол дерева, надеясь, что успокаивающий голос воды и холодный воздух на берегу заглушат звучащий у нее в голове голос Лидии.
Их последний разговор касался Питера. Лидия хотела только одного — чтобы Мадлен без колебаний оставила эту главу своей жизни в прошлом, считая, что привязанность к нему является угрозой ее счастью. Она ей сочувствовала, но твердо стояла на своем, не давала никаких советов, лишь твердила, что даже остатки ее чувства мешают ей жить.
— Он священник, Мадлен. Он избрал Бога. Ты и так потратила на него достаточно времени!
Эхо ее слов — «он избрал Бога» — продолжало преследовать Мадлен. А разве ее мать не выбрала Бога, когда так рано покинула ее?
Прежде чем встать с поваленного дерева, она потерла замерзшие руки и застегнула длинное черное пальто. Затем вытащила из кармана карту и нашла Кентерберийский архив.
Мадлен подумала, что архив — слишком громкое название для узкого, покосившегося викторианского дома, к которому она подошла. За конторкой у входа никого не оказалось, она нажала на кнопку звонка и стала ждать. Никто не выходил так долго, что она принялась бродить по вестибюлю, разглядывая объявления на досках и стойки с брошюрами у входа. Стены были выкрашены в ярко-зеленый цвет, а темно-зеленые виниловые стулья не производили впечатление удобных. Лампы дневного света заливали все вокруг неприятным сиянием, совсем как в кабинете зубного врача.
На досках с объявлениями не оказалось ничего интересного — да ей и терпения не хватило как следует их изучить. Мадлен собралась позвонить еще раз, когда услышала шаги — похоже, кто-то поднимался по лестнице. Через мгновение дверь сбоку от конторки, которую она приняла за дверцу шкафа, открылась и оттуда вышел мужчина, стройный, высокий, немного взъерошенный, в голубых джинсах и темной водолазке. Он был в квадратных очках в черной оправе, с длинными волосами, собранными в хвост. Она заметила в них седые пряди, но определить его возраст не смогла.
— Слушаю вас, — проговорил мужчина, и Мадлен поняла, что разглядывает его уже неприлично долго.
— Вы здесь работаете? — смущенно спросила она.
— Ну да. Наверное, если бы я здесь не работал, я бы не стоял по эту сторону конторки.
— Да, пожалуй, не стояли бы.
Начало получилось не слишком многообещающим.
Мужчина убрал выбившуюся прядь волос с лица, и у него сделался слегка раздраженный вид.
— Послушайте, не хочу показаться грубым, но, похоже, все ушли на ланч. Я не архивариус, я работаю реставратором, так что вряд ли смогу вам помочь.
— Но вы же не знаете, что я ищу, — сказала Мадлен, которая начала злиться.
Мужчина прищурился, словно впервые по-настоящему посмотрел на Мадлен. Она не могла наверняка сказать, понравилось ли ему то, что он увидел.
— Вы совершенно правы, не знаю. И что же вы ищете?
Мадлен поняла, что попалась. Она не имела ни малейшего понятия о том, что ищет. Нужно было срочно найти выход из этой сложной ситуации.
— А что вы реставрируете? — спросила она, чтобы выиграть время.
— Это скорее генеральная уборка, чем реставрация, — ответил он, снял очки и принялся протирать их краем водолазки. Глаза его оказались голубыми. — Это что-то вроде проекта тысячелетия, который слегка вышел за рамки сроков. Там безумно много всего скопилось.
Кивком головы он показал на дверь, через которую вошел.
— Значит, вы не ищете что-то определенное? — подсказал он ей.
— На самом деле… искала моя мать. Она занималась исследованиями, изучала историю семьи…
— В таком случае вам нужно в Центр изучения генеалогии, — перебил он ее.
— Нет, она собиралась сюда. Вот почему я пришла к вам.
— Ну а почему она не пришла сама?
Мадлен поняла, что он снова начал терять терпение, и, недолго думая, ответила:
— Она умерла.
В комнате повисла тишина, и глубокая морщина на лбу реставратора неожиданно исчезла. Он заговорил первым, очень мягко.
— Мне очень жаль. Послушайте, я, честное слово, ничем не смогу вам помочь, но если вы зайдете попозже, то сможете поговорить с кем-нибудь из архивариусов.
Они стояли и молчали. Мужчина смущенно разглядывал лицо Мадлен — может, искал в нем признаки боли?
Она сделала глубокий вдох и сказала:
— Все в порядке. Извините, что побеспокоила вас. По правде говоря, я и сама не знаю, что искала моя мать. Наверное, я просто захотела сюда прийти, потому что она собиралась…
Она замолчала, не зная, что еще сказать.
— Вы француженка?
— Да.
— Откуда?
— Из Нормандии.
— Вы там живете?
— Да.
Разговор не клеился.
— Ладно. Будьте здоровы, — сказал реставратор, махнул рукой на прощание, вышел в дверь и начал спускаться по лестнице.
На обратном пути Мадлен думала о том, какие документы могут храниться в таком старом и жалком здании. Наверняка всякая мелочь, которую музеи и церкви посчитали не стоящими внимания.
Входя в дом Лидии, она услышала, что звонит телефон. Это была Джоан.
— Как жаль, что мы разминулись, Мадлен. Я пришла всего через несколько минут. Что-то случилось?
— Нет, ничего. Просто глупый каприз. На прошлой неделе я получила от мамы письмо. Она собиралась побывать в архиве. Я не особенно внимательно просмотрела ее бумаги и потому не знаю, что она надеялась там найти, но подумала, что схожу…
— И что?
— Боюсь, что ничего. Я почувствовала себя полной дурой. К тому же там никого не оказалось, кроме какого-то мужчины, который что-то делает в подвале. Он не очень-то стремился мне помочь, но, с другой стороны, я не имела ни малейшего представления о том, что мне нужно.
— Это Николас. Я с ним знакома. Очень умный, но немного нелюдимый.
— Да, похоже, это он.
— Думаю, нам нужно встретиться. Тебе будет удобно завтра? Мне кое-что известно про то, над чем работала Лидия. Она попросила меня попытаться найти след некоторых членов вашей семьи, но это занимает массу времени. Сейчас я жду, когда прибудут копии документов из Лондона, из Государственного архива.
— Завтра мне удобно, — сказала Мадлен.
— Значит, договорились. У меня перерыв на ланч между часом и двумя.
Мадлен положила трубку. Она постаралась оттянуть момент, когда ей придется подняться по лестнице в спальню Лидии, решив сварить кофе, затем навести порядок, а потом в качестве последней отговорки посмотреть какую-нибудь дневную передачу по телевизору. Через несколько минут, проведенных с Донахью, она была готова отправиться разбирать вещи матери.
Наступил вечер, а Мадлен все еще продолжала разбирать шкаф с одеждой и ящики комода. Одежда в гардеробной могла бы помочь тому, кто не знал Лидию, составить представление о ее личности. Во-первых, там не было ни одной вещи, купленной просто так, под влиянием момента, или по какой-то другой причине. Все было предельно функционально. Лидия очень часто употребляла слова «полезный» и «хорошего качества», когда речь заходила об одежде. Во-вторых, ее гардероб по большей части состоял из прекрасно сшитых блузок и классических юбок; брюк Лидия не признавала. Все вещи были прекрасного качества и достаточно модные, но сказать, например, что они сексуальные, было нельзя. Ничего легкомысленного — Лидия никогда не приобретала одежду, повинуясь порыву.
В-третьих, все вещи находились в безупречном состоянии — даже те, которым, как знала Мадлен, исполнилось несколько лет. Они аккуратно висели на вешалках, точно только что подверглись химчистке и дожидались, когда их заберут домой.
Теперь же все было упаковано в большие черные мешки, стоящие у стены ванной, словно мусор, который должны увезти. Завтра одежда Лидии отправится в местное благотворительное общество. В гардеробе остался висеть только длинный черно-голубой футляр для костюмов. Такие футляры складываются, превращаясь в дорожную сумку. Мадлен достала его и положила на кровать, расстегнув боковые молнии, чтобы убедиться, что там не осталось ничего из того, что можно спрятать в мешки. В футляре она обнаружила два предмета, которых не видела раньше, — великолепное черное платье из шелка с глубоким вырезом, отделанным крошечными гагатовыми бусинками, без рукавов, до колена, обтягивающее грудь, талию и бедра. Очень красивое. Такие носили в шестидесятых годах, и оно явно было оригинальным, потому что Лидия никогда не покупала вышедшую из моды или подержанную одежду. Оно сохранилось так хорошо, что казалось новым. Надевала ли его Лидия хоть раз? Наверняка. Возможно, в Париже, когда начала встречаться с Жаном.
А еще она обнаружила оливкового цвета бархатное пальто с воротником-стойкой и обтянутыми атласом китайскими пуговками спереди и на манжетах. Пальто было немного длиннее платья. Определить его возраст не представлялось возможным — такой стиль был вне времени.
Мадлен снова закрыла футляр и отложила его в сторону. Она решила, что никому не отдаст эти вещи, а сохранит, чтобы не забывать, что ее мать тоже когда-то носила соблазнительную одежду. Она добавит это знание в свою коллекцию воспоминаний, которую собирала, словно красивые камешки на берегу моря. Они были бесценными, и всякий раз, когда Мадлен что-нибудь вспоминала — разговор или обед с Лидией, она внимательно изучала детали, чтобы не забыть ни одной, даже крошечной мелочи.
Внизу она налила себе бокал вина, которое купила вместе с продуктами по дороге домой. Затем села за стол у окна, где осталась лежать лишь записная книжка Лидии — Мадлен решила, что она может ей пригодиться, — и маленькая кучка вещей из ее собственного рюкзака. Она вытряхнула все это на стол, когда, как обычно, искала среди ключей, ручек и косметики помятую пачку «Житан». Теперь она курила в доме, когда хотела, и все же перед тем, как зажечь сигарету, чувствовала легкий укол вины, словно беспокойство матери за ее здоровье так и осталось в этих комнатах.
Дневник в элегантной шкатулке был заперт в центральном ящике дубового буфета. Мадлен ее не видела, но ощущала присутствие, которое каким-то непостижимым образом было связано с фактом смерти Лидии. Она загасила наполовину выкуренную сигарету и подошла к буфету.
Развернув тонкую шерстяную шаль, защищавшую шкатулку, коснулась пальцами гладкой холодной поверхности черного гагата. Футляр относился к другому времени, чем книга, но Мадлен не слишком разбиралась в подобных вещах, чтобы наверняка определить его возраст.
Она отнесла шкатулку на стол и придвинула к себе настольную лампу. В коричневом кожаном рюкзаке, лежащем на полу у ее ног, остался только большой блокнот в твердой обложке с предыдущими тремя записями дневника на латыни — она скопировала их, когда работала с ним в прошлый раз, — и переводом. Она положила блокнот на стол рядом со шкатулкой и медленно, осторожно открыла украшенную резьбой крышку.
Внутри лежала древняя книга, а рядом — лайковые перчатки цвета слоновой кости. Мадлен подумала, что они обтягивают ее руки, точно вторая кожа. Она начала переворачивать хрупкие странички, которые были заполнены изящными буквами, написанными коричневыми чернилами. У вышивальщицы был очень четкий, аккуратный и мелкий почерк. Похоже, ей приходилось экономить бумагу и чернила.
12 июня 1064 года
В те дни, когда королева Эдита погружается в печали, она находит утешение в вышивании. В этом мы с ней похожи. Королева великолепно владеет иглой. Для церемонии коронации мужа она собственными руками вышила мантию, которую выткали из бород животных, живущих высоко в горах Персии. Ткань очень толстая и мягкая, с белым зимним мехом горностая. Она выкрашена в сочный красный цвет и отделана великим множеством сапфиров и рубинов, расположенных таким образом, что получается изображение веток цветущего дерева. Серебряная нить опутывает ветви, точно виноградная лоза, и они сияют, словно залитые лунным светом. Красоту плаща не описать словами, и король надевает его только на пиры и в тех случаях, когда хочет окружить себя неземным великолепием. Впрочем, сейчас даже его богатство и яркий блеск драгоценных камней не может обмануть людей и заставить их верить в то, что он способен править королевством. Плащ, вышитый королевой, как и прежний дух короля, закрыт на ключ в резном сундуке тисового дерева, стоящем в спальне, где король проводит все дни в молитвах и размышлениях.
Королева приходит в мастерскую, где я работаю, рано утром или поздно вечером, когда я уже ухожу. Я всегда ухожу последней. Когда садится солнце, я отсылаю остальных женщин, чтобы они могли накормить детей и мужей. Я видела, как королева вышивала, обливаясь слезами. Она не знает, что я наблюдаю за ней сквозь щелочку в деревянной двери. Как-то раз я вошла в комнату и обнаружила, что она плачет. Она невероятно смутилась, и теперь, прежде чем войти, я всегда осторожно заглядываю внутрь. Когда сегодня рано утром я пришла во дворец, она уже была в мастерской. И то, что я увидела, осталось со мной до самого вечера, когда я смогла вернуться к своему дневнику, над которым и сижу, хотя уже давно наступила ночь.
Комнатка в башне очень маленькая, с длинными щелями в стенах вместо окон и высоким потолком. Сегодня утром узкий луч белого, утреннего солнца проник в восточное окно, возле которого сидела королева. Ее голова была не покрыта, и волосы сияли, точно золотая мантия. Рядом с ней стояла прялка, там обычно сидят мастерицы и ткут ткани для придворных, чтобы те потом заливали их вином и пачкали едой. Покрывать столы и кровати — это обычай норманнов.
Этим утром солнце, которое проникало сквозь узкую щель в стене, точно золотое покрывало из света, лежало на полу и озаряло деревянную прялку. Дальше свет рассыпался на осколки, и неровная тень падала на большую корзину, стоящую у противоположной стены, окрашивая сложенные в ней ткани в цвет свежего масла. Только тихие горестные звуки, которые издавала королева, нарушали тишину. Я наблюдала за тем, как она встала и подошла к корзине. От слез алый рукав платья потемнел, и я подумала, что красный шелк, оказываясь рядом с белым льном, делается похожим на кровь. Королева взяла кусок ткани и села на деревянную скамью у стены, неподалеку от корзины. Из маленького мешочка на поясе она достала цветную шерсть и тонкую бронзовую иглу. Королева думала, что ее никто не видит. Мне было грустно на нее смотреть, и я ушла.
Я сидела во дворе, куда еще не успело добраться солнце, и потому воздух был холодным. Неподалеку фехтовали юный наследник Эдгар и брат Гарольда Тостиг. Я и раньше видела их рано утром, словно они хотят сохранить свои игры в тайне и стараются найти время, когда обитатели дворца не увидят, что между ними крепнет дружба. Эдгару сейчас четырнадцать, он осиротел в девять лет. Будучи племянником короля, он единственный кровный родственник Эдуарда. У короля и королевы нет своих детей, но Эдгар является сыном, которого не смогла родить Эдита, и служит утешением ее бесплодного брака. Она часто навещает его днем, во время занятий латынью и музыкой, одобряя его стремление к учению.
Она также ухаживает за мужем, потому что король с каждым днем становится все больше похож на ребенка. Ни для кого не секрет, что королева иногда дает Эдуарду советы по вопросам, на которые он сам не может найти ответы, потому что ум его уже не так остр, как прежде.
Эдуард и Эдита — настоящие друзья и спутники жизни, но они никогда не были любовниками. Король и королева начали спать в разных спальнях после свадебного пира. Я знаю об этом, потому что Изабель, компаньонка Эдиты, проклята бессонницей, и она видела, как королева выходила из комнаты своего мужа полностью одетая. А на простынях не было крови — такие вещи не остаются незамеченными, когда в доме столько слуг. Королева наверняка слышала разговоры о том, что она бесплодна, что король не способен зачать наследника, что он выбрал целомудрие, словно священник, что своей жене он предпочитает других женщин. Мне кажется, она давно перестала горевать о том, что муж не находит радости в обладании ее телом, так и не ставшим телом женщины, несмотря на ее годы. Слухи больше не печалят ее. Изабель говорит, что она похудела, а ее волосы стали бледнее, — когда она была молода, они сияли, как солнце, а сейчас больше напоминают луну. И все-таки она прекраснее всех женщин, каких мне доводилось встречать. Ее красота рождается внутри, она подобна колодцу с прозрачной водой, хотя ее тело живет с уверенностью, что ее кровному сыну не суждено появиться на свет и стать королем.
Я вернулась в мастерскую чуть позже, когда королеву позвали к мужу. Кусок ткани, который она вышивала, лежал под скамейкой, куда упал, когда она встала. Я наклонилась, чтобы взглянуть на длинный вышитый край ткани, еще не отрезанной от большого рулона, по-прежнему остававшегося в корзине, и увидела крошечные стежки, сделанные шерстяной ниткой золотистого цвета. Я смотрела на работу королевы и находила ее безупречной, хотя и не понимала, почему она решила сделать рисунок из шерсти на ткани, которую выткали для того, чтобы потом отправить на кухню и в спальни. Миледи привыкла к более изысканным тканям и шелковым ниткам.
На следующий день в час дня Мадлен встретилась с Джоан перед Центром изучения генеалогии. Она предложила купить бутерброды и пообедать на развалинах аббатства Святого Августина.
Войти на его территорию можно было через маленькую лавку и музей, где были выставлены кое-какие археологические находки, сделанные в развалинах за прошедшие века. Когда им предложили наушники и кассету с экскурсией, Джоан вежливо отказалась, сказав, что справится с этой задачей не хуже.
По большей части экспозицию составляла работа каменщиков — смесь кельтской, римской и норманнской архитектуры. Джоан объяснила Мадлен, чем отличаются друг от друга стили, сообщив, что аббатство и церковь достраивали и расширяли в четвертом, восьмом и четырнадцатом веках, прежде чем разрушить в тысяча пятьсот сороковом году.
Выйдя из музея, они оказались на широком зеленом поле размером с полдюжины футбольных стадионов. Каменные руины лишь отдаленно указывали на первоначальное расположение когда-то находившихся здесь монументальных строений. Однако это место обладало удивительной красотой и изяществом и, как и маленькая францисканская церковь, было пронизано ощущением благодати.
— Ты что-нибудь знаешь про ликвидацию монастырей?[10] — спросила Джоан, когда они уселись перекусить на каменных ступенях, которые когда-то вели на хоры.
— Честно говоря, я не занималась этим периодом. Мне гораздо больше известно о том, что происходило раньше. Насколько я понимаю, здесь была выдающаяся библиотека.
Мадлен не стала говорить, что про библиотеку аббатства Святого Августина она прочитала в записках вышивальщицы, жившей в одиннадцатом веке.
— Да, и она вся уничтожена — вероятно, ее сожгли, — Джоан печально вздохнула.
— Но неужели ничего из сокровищ не вывезли? Потерять огромный кусок истории в документах — настоящая трагедия.
— Мне кажется, несколько книг вошли в королевскую коллекцию, но исключительно из-за антикварной ценности, а не за великие знания, которые в них содержались. Позже эта коллекция положила начало комнате манускриптов Британской библиотеки. Хочешь верь, хочешь нет, но большую часть монастырских архивов продали из-за пергамента, его использовали для починки изделий из кожи. Только представь себе, как дыру в фургоне заделывают пергаментом, исписанным каллиграфическим почерком!
Мадлен покачала головой и улыбнулась.
— Существует много историй о том, как монахи тайно выносили из аббатства не только книги, но также золото и великолепные ткани, а затем прятали в деревенских церквях, — продолжала Джоан. — Ты совершенно права, в легендах наверняка есть доля правды. На самом деле среди пропавших сокровищ числятся останки самого святого Августина. Его кости, очевидно, находились в трех изысканно украшенных ковчегах и, разумеется, считались священными.
Мадлен прикусила губу, неожиданно подумав о том, что Лидия наверняка обожала слушать подобные истории. Словно прочитав ее мысли, Джоан сказала:
— Мы с твоей матерью много разговаривали об истории Кентербери. Городок ей очень нравился, она говорила, что чувствует себя здесь дома гораздо в большей степени, чем в Лондоне или Париже. Тебе наверняка известно, Мадлен, что она занялась изучением связей ее семьи с этим районом Англии. Твоей семьи, — поправилась она.
— Она не говорила мне про кузин, сестер Бродер, — нахмурившись, ответила Мадлен. — Неужели она только сейчас узнала об их существовании? Довольно странно.
— Да, пожалуй. Но такое нередко случается в семьях. В особенности если в прошлом существовала некоторая… отчужденность.
— Наверное, по работе вы часто имеете дело с подобными вещами, — сказала Мадлен и вопросительно посмотрела на нее.
Джоан рассмеялась.
— Да уж, тут ты права. И все же меня чрезвычайно интересует эта область исследований.
— А что она искала в архиве? — спросила Мадлен.
— Насколько мне известно, ничего определенного. Удалось установить, что Бродеры были купцами во времена королевы Виктории, хотя в основном твоя мать знала об этом по рассказам твоей бабки. Я думаю, она пыталась найти какие-нибудь книги, касающиеся развития основных отраслей промышленности в Кентербери на рубеже столетий, хотя особой надежды у нее не было. Когда я получу ответ из Центрального архива в Лондоне, сразу же свяжусь с тобой, договорились?
Мадлен с благодарностью улыбнулась.
— Вы меня очень поддержали, Джоан. Сомневаюсь, что я смогла бы пережить эти несколько дней без вас.
— А я — без тебя, дорогая.
Джоан отвернулась, глядя на развалины сбоку.
— Думаю, мы обе неплохо справились, — сказала она, с трудом сдерживая охватившие ее чувства. Через несколько секунд она взяла себя в руки и повернулась к Мадлен. — Я хотела тебе кое-что сказать… хотя это очень трудно, потому что я не знаю, какие отношения связывали вас с Лидией. Когда умерла моя мать, многие годы после ее смерти меня переполняли противоречивые чувства, мне казалось, что она меня бросила, меня преследовали слова, которые я так и не успела ей сказать, и множество других печальных мыслей. Но в конце концов я поняла, что ее жизнь и смерть — это события, не связанные со мной, и я была не в силах их контролировать. Я нашла способ общаться с ней… сердцем. У каждого из нас это происходит по-своему, но, возможно, что-то общее все-таки тоже есть.
В среду Мадлен решила, что поедет в Кан в субботу. Ее отпустили из университета без обязательств вернуться к определенной дате, но мысли о работе помогали отвлечься от печальной реальности. Ей стало ясно, что до конца недели она не успеет все сделать и закрыть коттедж. Нужно было еще прочитать завещание, которое Лидия предусмотрительно составила, и Мадлен уже связалась с адвокатом, сообщив ему, что сможет приехать во время зимних каникул. Секретарша сказала, что ей пришлют письмо с указанием времени встречи.
Приняв это решение, Мадлен оставила в покое ящики и шкаф с картотекой в гостиной. На полу уже и без того повсюду валялись стопки папок, листки с записями и вырезки. Вместо того чтобы и дальше предаваться медленному и чрезвычайно непростому изучению многолетних трудов Лидии, она провела четверг, гуляя по Кентербери. Карту с собой она на этот раз не взяла.
Бродя по боковым улочкам, мимо закрытых магазинов, пристроившихся среди бесконечных рядов плоских террас из серого кирпича, Мадлен пыталась представить себе Кентербери, каким его знала Леофгит. Мастерская вышивальщиц, из окна которой она наблюдала за жизнью аббатства Святого Августина, должна была находиться неподалеку от коттеджа Лидии. Женщина, написавшая дневник, наверное, ходила по тем же улицам, что и Мадлен. В те времена они были немощеными, дома строили из прутьев и глины, с дымящими трубами, а на улицах играли оборванные дети.
По дороге домой Мадлен остановилась около величественных ворот Кентерберийского собора. С того места, где она стояла, была видна лишь его часть, но тем не менее сразу становилось ясно, что он достоин своей репутации одного из величайших творений норманнской архитектуры. Мадлен помедлила у входа — с одной стороны, ее притягивала святость этого места, а с другой — ужасно не хотелось звонить Мэри Бродер.
Мадлен шагнула за ворота и подумала, что практически невозможно представить себе когда-то стоявшую здесь деревянную церковь. Когда церковь саксов сожгли, Ланфранк, ставший архиепископом Вильгельма Завоевателя, приказал построить на ее месте великолепный собор, и сейчас Мадлен смотрела на доказательство феноменального богатства церкви одиннадцатого века. Территория вокруг собора находилась в идеальном порядке и в отличие от аббатства Святого Августина, представлявшего собой жалкое зрелище, поражала воображение количеством декоративных растений. На аккуратно подстриженной траве, под высокими тенистыми деревьями тут и там стояли гладко отполированные деревянные и кованые железные скамейки. На скамейках имелись таблички, сообщавшие имя дарителя, а на некоторых из них сидели парочки. Даже в холодный январский день здесь было много туристов и посетителей, которые фотографировали или разглядывали каменные изваяния королей и ангелов, служивших колоннами и башенками собора.
Внутри собор с коринфскими колоннами и высоким куполом являл собой громадный, экстравагантный храм, посвященный умершим епископам, а также служивший напоминанием о том, что люди ничтожны перед славой Господа. В нем была необъяснимая красота. Мадлен медленно шла вдоль стен похожего на пещеру нефа, то и дело останавливаясь, чтобы получше рассмотреть молельни и альковы. Там находились роскошные гробницы, а грациозные позы статуй, установленных над ними, подчеркивал свет, направленный, словно в театре, на раскрашенные складки каменных одеяний.
Мадлен испытала нечто вроде облегчения, когда, оставив за спиной навязчивое величие собора, почувствовала на лице холодный зимний воздух. Впрочем, она тут же вспомнила, что должна подумать, о чем расскажет Мэри Бродер.
Мэри решила, что Мадлен следует заехать в «Сады» в субботу утром, по пути к парому на Дувр. Семптинг находился не совсем по дороге, но она смирилась с тем, что ей придется сделать крюк.
Подъехав к неухоженному величественному дому кузин, она решила оставить машину на обочине дороги и дойти до ворот пешком, чтобы не навлечь на себя гнев Луи. И снова сгорбленному хранителю ворот потребовалось ужасно много времени, чтобы к ним подойти, а потом открыть.
Мадлен одарила его самой обаятельной улыбкой и поздоровалась, но на мрачного Луи ее чары не произвели никакого впечатления. Она предоставила ему сражаться с воротами в одиночку, а сама зашагала по усыпанной гравием дорожке к римским колоннам у входной двери.
Дверь была открыта, за ней виднелся выложенный мраморной плиткой вестибюль. За дверью не наблюдалось никаких признаков жизни, а потому Мадлен вошла и позвала хозяек. Ей никто не ответил.
Она робко прошла чуть дальше в дом. Ей было не по себе от того, что вошла без предупреждения. Наверное, когда-то здесь имелся дворецкий — как необходимость. Словно в ответ на ее мысли, вошел Луи, но не через переднюю, а через одну из множества дверей, которые она заметила в темном холле.
Он кивком показал в сторону длинного коридора, ведущего в заднюю часть дома.
— Леди в сарае, в саду.
Это были первые слова, которые она услышала от Луи. Его голос оказался приятным, глубоким и наделенным силой, разрушившей ее прежнее представление о нем. Луи тут же скрылся за дверью, словно кролик в норе. И снова легкость его движений поразила Мадлен. Возможно, его возня с воротами — всего лишь фарс, акт протеста?
Коридор был похож на пещеру с бесчисленными дверями, и Мадлен, шагая в полумраке, снова вспомнила про Алису в Стране чудес — когда та упала в кроличью нору.
Когда коридор закончился, она вошла в кухню размером с ее квартиру в Кане. За последние сто лет кухню модернизировали, и она напоминала фабрику своими стальными поверхностями и глубокими фарфоровыми раковинами. Вдоль одной из стен стояли крепкие деревянные скамейки с несколькими дюжинами маленьких дубовых бочонков. Витавший в воздухе запах подсказал Мадлен, что в них бродят яблоки.
Единственным источником естественного света являлась слегка открытая дверь в одном из углов. Она вела прямо в сад за домом. Или, точнее, в сады.
Мадлен не пришлось искать сестер Бродер «в сарае, в саду», потому что, как только она вышла из кухни, выяснилось, что они, в одинаковых синих полиэтиленовых передниках и красных резиновых сапогах, копаются в большом, беспорядочном огороде прямо за дверью.
— Доброе утро, Мадлен. Ты пришла раньше на семь минут, — заявила Мэри, взглянув на древние часы.
Затем, словно это служило для них достаточным оправданием для того, чтобы продолжить свое занятие, обе вернулись к уходу за садом — точнее, они копались в черной земле, как будто что-то искали. Мадлен не слишком разбиралась в подобных вещах, но ей стало интересно, что эта парочка, похожая в своих синих передниках и красных сапогах на садовых гномов, могла столь старательно делать в огороде в такое время года. Как бы в ответ на ее мысли, Маргарет радостно завизжала:
— Нашла, я нашла!
Она подняла вверх крошечный, весь в земле предмет с торчащими во все стороны грязными щупальцами. Мадлен решила, что это какой-то овощ.
— Положи назад, Маргарет, это не савой, — рявкнула Мэри, и Маргарет с несчастным видом вернула находку обратно в землю.
— Что вы ищете? — осмелилась задать вопрос Мадлен.
— Зимнюю картошку, — печально ответила Маргарет, снова принимаясь копаться в земле.
Мадлен поняла, что это может продолжаться довольно долго, и потому решила сразу заговорить о дневнике. К тому же, подумала она, в этом случае ей, возможно, удастся избежать обязательного чаепития с сестрами.
— Я занимаюсь переводом книги, которую вы мне дали, — сказала она.
Ее ожидания оправдались, потому что Мэри отвлеклась от своего занятия, выпрямилась, держа в руке лопатку, и наградила Мадлен вопросительным взглядом. По крайней мере, Мадлен решила, что именно таково значение выражения, появившегося у нее на лице. На самом же деле у нее сделался такой вид, будто она только что проглотила какую-то гадость, — так сильно она втянула щеки и поджала губы.
— Я бы хотела выяснить… — Мадлен не договорила, не зная, что лучше сказать, чтобы добиться благосклонности Мэри. Она начала снова: — Не могли бы вы немного рассказать мне о ней? Вам известно, как давно она попала в семью?
— Несколько веков назад, — радостно объявила Маргарет, не обращая внимания на предупреждающий взгляд Мэри, искоса брошенный на нее. — Но это единственная вещь, которую нам запрещено продавать, правда, Мэри?
Мэри от возмущения поджала губы еще сильнее, но Маргарет, похоже, ничего не заметила. Мадлен решила, что Мэри не нравится, когда сестра становится центром внимания, которое, по ее представлениям, причитается только ей.
— Кому продавать? — спросила Мадлен, воспользовавшись откровенностью Маргарет.
— Разумеется, покупателю! Мы продали ему мебель и картины, но книгу нам трогать запрещено. Она особенная.
— Хватит, Маргарет, — рявкнула Мэри и сурово посмотрела на Мадлен. — Наша мать — она была сестрой твоей бабушки — заставила нас пообещать, что мы будем ее беречь, вот и все. Мне кажется, она находится здесь (Мэри махнула рукой в сторону дома у себя за спиной) с шестнадцатого века… или около того. Мы не стали бы ее переводить, если бы Лидия не предложила это сделать.
Мэри снова посмотрела на часы, и у Мадлен сложилось впечатление, что она говорит не всю правду. Но, опасаясь, что приближается время чая, она решила не задавать больше вопросов. Это был единственный шанс сбежать.
— Мне нужно идти, иначе я опоздаю на паром, — быстро проговорила она.
— Но ты не рассказала про перевод! — с негодованием заявила Мэри.
— А мне нечего рассказывать… в самом деле, я пока не нашла ничего интересного. Может быть, мне стоит перевести побольше, а потом мы поговорим.
Мэри метнула в нее взгляд, но, похоже, приняла ее слова.
— Хорошо. Ты найдешь дорогу назад. — Это было утверждение, а не вопрос.
— Конечно. До свидания.
— До свидания, — дружно ответили сестры и тут же вернулись к охоте на савойский картофель.
Но, прежде чем войти в дом, Мадлен напряглась, услышав писклявый голос Маргарет, которая звала ее. Она остановилась, не оборачиваясь.
— Помни, Мадлен, — это тайна!
Маргарет захихикала, а Мэри принялась ее отчитывать.
Проходя через мрачную кухню, Мадлен остановилась, чтобы рассмотреть этикетки на стоявших в ряд на скамейке маленьких зеленых бутылках. Они были розовыми с зеленой надписью и изображением розовощекой девушки с цветками яблони в волосах. «Яблочное бренди „Садовница“», — прочитала она, улыбнулась и покачала головой. Вот и объяснение содержимому деревянных бочонков, а также словам Луи о том, где находятся сестры. В сарае они, наверное, его очищают.
ГЛАВА 4
Когда Мадлен закрыла за собой дверь квартиры в Кане, солнце уже село. Сумку она бросила на пол у входа, но продолжала прижимать к груди рюкзак, наслаждаясь тем, что после непрерывного движения парома и машины вновь оказалась на твердой земле.
Спустя несколько секунд она отнесла рюкзак, в котором лежала шкатулка с дневником, в комнату и аккуратно положила на диван. Она ощущала его присутствие в течение всего путешествия — особенно проезжая через контрольно-пропускной пункт Дувра. Стук в окно, когда она ждала своей очереди, чтобы заехать на паром, заставил ее вздрогнуть — и в голове прозвенел предупреждающий сигнал. Бойкий молодой таможенник ждал, когда она опустит стекло, поэтому она заставила себя улыбнуться и открыла его ровно настолько, чтобы с ним поговорить.
— Паспорт и билет, пожалуйста. Вы ведь не провозите через канал ничего недозволенного, мадам?
Разумеется, он не мог ничего знать, просто она стала жертвой паранойи. Улыбка Мадлен превратилась в подобие гримасы. Она не осмелилась произнести ни слова, поэтому просто покачала головой. Возле пассажирского сиденья на полу лежал рюкзак, который, как ей казалось, отчаянно сигналил, сообщая, что Мадлен — контрабандистка, перевозящая антиквариат. Молодой человек мельком оглядел внутренность машины, со скучающим видом проверил документы и махнул рукой, чтобы она проезжала. Оставшаяся дорога домой прошла без приключений, только показалась Мадлен невероятно длинной.
Некоторое время она стояла, нерешительно глядя на рюкзак. Было уже довольно поздно. Завтра воскресенье — единственный свободный день между ее возвращением домой и выходом на работу в понедельник. Если она займется переводом, то снова просидит до утра. Мадлен понимала, что должна взять себя в руки.
Она села на диван и закурила. Ее мысли тут же унеслись в тот день и час, когда она сидела здесь, зачарованная аметистовым сиянием лампы, падающим на муслиновые занавески, — как много всего произошло с тех пор.
Теперь все изменилось. Она наполовину сирота. Но Мадлен никогда не была близка с Жаном так, как с Лидией, особенно после их развода. Однако в самое ближайшее время ей придется позвонить ему и съездить в Париж. Она написала отцу, сообщив о смерти Лидии, и послала уведомление о похоронах. Мадлен знала, что он предпочитает именно такой способ связи. Жан, как правило, игнорировал телефон, и общение отца с дочерью происходило через автоответчик, если не считать редких случаев, когда Мадлен его навещала. После развода, случившегося десять лет назад, Жан и Лидия практически не поддерживали отношений друг с другом. Однако смерть человека, с которым когда-то был близок и вместе растил ребенка, наверняка должна затронуть душевные струны отца.
Мадлен добавила «позвонить в Париж» к списку дел, назначенных на воскресенье, помимо звонков Питеру и Розе. Потом решила, что ей необходимо поспать, если она хочет провести следующий день с пользой. Но сперва нужно было решить, куда спрятать дневник.
Она принялась осматривать кабинет в надежде, что ее посетит озарение. Работы второкурсников по-прежнему лежали на столе, рядом стоял бокал с остатками красного вина, которое она пила… как же много времени прошло с тех пор! Мадлен поднесла бокал к носу и подумала, что это была последняя ночь Лидии на земле. Вино высохло и не имело запаха.
Она положила рюкзак на вращающийся стул из массивного хрома и потрескавшейся черной кожи. Когда-то он принадлежал Жану. Ее отец собирался убрать стул на чердак. Мадлен возмутилась, заявив, что это настоящая классика, и, если он не в состоянии его оценить, значит, стул должен принадлежать ей. Жан был счастлив, когда она засунула его на заднее сиденье «пежо» и увезла. Иногда, глядя на него, она вспоминала отца, каким он был в те далекие времена, — сидит за огромным письменным столом и печатает работы по творчеству Данте и Галилея. Детский ум Мадлен завораживали интеллектуальные занятия родителей. В пять-шесть лет она еще не понимала миров, которые исследовали Жан и Лидия, но уже тогда ее пленяла их загадочность.
Мадлен достала из рюкзака драгоценный сверток и развернула изысканную шаль, решив, что надо завернуть шкатулку во что-нибудь другое — шаль была слишком тонкой и красивой. Рисунок, вышитый по краю шелковистой шерсти, вне всякого сомнения, родился из викторианской любви к восточной экзотике и представлял собой изысканно изогнутый серебристый стебель какого-то растения, усыпанный золотыми ягодами. Он ослепительно сиял на фоне кроваво-красной ткани.
Мадлен осторожно повесила его на спинку стула и положила на стол шкатулку, которая манила ее, словно ящик Пандоры.
Она медленно приподняла крышку и, увидев дневник, почувствовала, как по спине побежали мурашки.
13 июня 1064 года
Когда в башне собираются за вышиванием шесть или семь женщин, погруженных в собственные мысли, там царит тишина. Их головы заняты размышлениями не меньше пальцев, украшающих рисунком манжеты или воротник платья. Если необходимо вышить гобелен или ковер, который закроет зимой холодный камень, нам требуется больше рук, и я отправляюсь в Винчестерские мастерские. Путешествие туда и обратно занимает несколько дней, но моя госпожа посылает со мной кого-нибудь из своей стражи, а также дает кошелек с деньгами, чтобы я могла оплатить ночлег. Мастерские в Кентербери по-прежнему считаются самыми знаменитыми в королевстве и на континенте, но монахини и мастерицы Винчестера не менее искусны.
Мастерские по величине равны королевскому залу, только они выстроены из дерева, а не из камня. Зимой в углу комнаты горит огонь, но он не согревает помещение, даже когда на скамьях за длинным столом сидят тридцать женщин. Их пальцы двигаются очень быстро, и они ни на мгновение не отводят глаз от драгоценной ткани. В мастерских, которые находятся не в монастырях, кто-нибудь запевает, а остальные тут же подхватывают. Все мы знаем старые песни, которые пели наши матери, когда мы были детьми. Благодаря им время бежит быстрее, а дух укрепляется, особенно в зимние дни, когда пальцы замерзают так, что если нечаянно проколоть один из них иголкой, то не чувствуешь боли.
Больше всего я люблю балладу про ткачиху Рагнель-уродину. Она плетет ткань снов и защищает свободу женщин. Мать рассказывала мне историю про Рагнель-уродину, которая стала женой храброго рыцаря. Только так можно было спасти королевство. В первую брачную ночь, когда супруги остались наедине, уродина превратилась в прекрасную девушку и предложила мужу решить, когда она будет красивой — ночью или днем. Он должен был либо смотреть на уродину днем и терпеть насмешки окружающих, либо ложиться в постель со старухой. Он не знал, что делать, и потому предоставил ей право выбора. Его слова разрушили чары, и она стала прекрасна днем и ночью — всегда.
Римская церковь учит нас, что существует только один верховный Бог, но он не защищает женщин. Некоторые вышивальщицы во время работы поют христианские гимны, но среди нас имеются и такие, кто их не знает или не захотел выучить. В деревнях, где есть церкви, христиан больше, чем нас, хранящих старые традиции, но в лесах и полях стоят каменные круги, где мы делаем подношения богам и богиням. Они не нуждаются в церквях и роскоши, чтобы знать, что мы их чтим.
В мастерских — каменные полы, их каждый день старательно скребут и моют, чтобы тончайшие шелка не запачкались, если упадут. Мастерицы очень бережно обращаются с тканями, этого требует их гордость, а также боязнь гнева богатого клиента. Наша работа пользуется большим спросом, и к нам с Лондонского рынка приезжают иностранные купцы. Сейчас на рынке появилось огромное количество вещей с континента, но наши вышивки — это немногое, что осталось от древних ремесел, которые хранят дух саксов. Когда мы вышиваем и ткем, ткачиха Рагнель нами довольна.
Гобелены для дворца короля Эдуарда заказала королева, и они доставляют ей величайшее удовольствие. У нее есть множество великолепных платьев и драгоценностей, а также золотая чаша, из которой она пьет, но больше всего королева любит гобелены, считая их окнами в тайные земли фантазии.
Многие из новых гобеленов, висящих во дворце, сделаны по рисункам Одерикуса. Я видела его за работой, видела, как он сидит, склонившись над куском льна или шерсти, словно в мире нет ничего, кроме карандаша и ткани. Определить его возраст трудно, он высок и движется с грацией придворного. Кожа у него цвета каштана. Кажется, будто он проводит много времени на солнце, хотя монах редко видит свет дня. А еще у него длинные пальцы с гладкой кожей. Это руки человека, никогда не работавшего в поле. Его мягкая белая плоть говорит о его призвании и о том, что он не держал в руках ничего, кроме пера и карандаша — инструментов писца и рисовальщика. Одерикус наделен острым умом и кротким нравом, но его карие глаза выдают пленника, оказавшегося заточенным в тюрьме его тела. Тело, которое никогда не любило, должно быть чужим его душе.
Когда я была моложе, то впервые попросила Одерикуса научить меня искусству писца. Мне хватило ума добавить: «Я хочу познать Божье слово». Он ответил, что слово Божье так же ясно написано в моих вышивках, какие творениях писцов. Он смотрел на меня, а я внимательно взглянула на свои стежки, а потом сказала, что не могу прочитать в них слова, написанные его Богом. И тогда, к моему удовольствию, монах улыбнулся. Он любит говорить загадками, а мне нравится видеть, как он улыбается, а теперь мы оба привыкли друг к другу. Когда мы встретились в следующий раз, Одерикус вытащил из широкого рукава монашеского одеяния свиток пергамента, гусиное перо и чернильницу, аккуратно завернутые в тряпицу для хлеба. Это произошло много лет назад, когда я боялась, что, если не придам форму своим мыслям, мой разум перекипит, точно котелок с жарким, слишком долго простоявший на огне.
Одерикус и его писцы записывают далеко не все, потому что, в отличие от меня, бывают во дворце не каждый день. Я отдала свои первые упражнения монаху, чтобы он увидел, как его ученица умеет обращаться со словами. Мы встретились в дворцовом саду после заката солнца, потому что нам следует обмениваться документами втайне от остальных. Женщины, занимающие мое положение, как правило, не интересуются грамотой, а некоторые из них настолько глупы, что могут доставить мне неприятности. Многие мужчины не любят женщин, способных думать. Ведь такая женщина может задать вопрос, почему она должна работать в доме и поле, выполнять все, что приказывает муж, рожать детей — или же умереть во время родов.
Мой муж Джон не таков. Он здоровый, спокойный мужчина, его не злят мои вопросы, и он не завидует моему уму. Если я спрашиваю его о сражении или охоте, он рассказывает какую-нибудь историю, хотя в них гораздо больше кровавых подробностей, чем я хотела бы услышать. Именно его уважение к моему любопытству заставило меня полюбить его, и я продолжаю его любить и по сей день.
Мы познакомились в Кентербери, когда я была немногим старше нашей Мэри, а Джон — молодым солдатом, которого только что наняли в королевскую стражу и который невероятно гордился своим голубым мундиром. Он впервые выехал в рядах стражи, когда королева Эдита совершала один из своих первых визитов в библиотеку. В то время как миледи целый день оставалась со своими книгами, солдаты веселились в пабах Кентербери. Джон был еще слишком молод, чтобы взрослые мужчины пригласили его с собой, поэтому бродил по улицам городка и в поисках подарка матери случайно набрел на нашу мастерскую. Я его пожалела, потому что из своих жалких заработков он не мог купить ничего хорошего, и нашла для него широкие остатки ткани. Получилась очень красивая шаль.
Сначала я посчитала его простаком, потому что, появившись снова, он молча пошел вслед за мной, когда я отправилась на ручей, чтобы постирать ткань. В те времена он походил на майский шест и был вовсе не таким широкоплечим и сильным, как сейчас. Потом мы вместе сели поесть хлеба на берегу, услышали непристойный разговор двух прачек и убежали, чтобы те не обиделись на наш смех.
Джон говорит, что я, как птичка, собираю блестящие предметы, потому что я всегда внимательно ко всему прислушиваюсь. Это правда, но я только слушаю и избегаю любителей сплетен, которые напоминают мне гнездо гадюк, готовых ужалить, как только раскрывают рты. Поразительно, сколько всего знают про жизнь во дворце повариха, молочница и прачка, но все равно мне известно больше.
Королева Эдита разговаривает в своих покоях с леди Изабель, сидя с шелком и цветными нитками, и иногда призывает меня, советуясь, как лучше сшить платье из какой-нибудь ткани, привезенной из Фландрии или с южного континента. Порой мне кажется, что они забывают о моем присутствии и о том, что у меня тоже есть уши.
В понедельник Мадлен встала рано, как только зазвонил будильник. Лишь на одно короткое мгновение она забыла о том, что произошло, а потом, как и каждое утро в течение прошедших двух недель, подумала о матери. Сначала она надеялась, что утренние напоминания о смерти являются всего лишь шлейфом, который тянется из дурного сна, но постепенно начала принимать реальность.
Самым свежим событием этой реальности было ее возвращение на работу. Соответственно, первая утренняя лекция посвящалась Европе до периода норманнского завоевания — тому самому времени, когда был написан дневник.
Лежа в постели и глядя в потолок, декорированный в стиле модерн, Мадлен размышляла о своем тайном переводе. Пока только она и сестры Бродер знали о существовании дневника. И еще Лидия. Как сказала Маргарет Бродер, даже «покупателю» (очевидно, постоянному) не было известно о его содержании, поэтому получалось, что Мадлен оставалась единственной защитницей его неприкосновенности. С одной стороны, ей отчаянно хотелось поделиться с кем-нибудь своим секретом, а с другой — оставить его себе. Если она и расскажет кому-нибудь о дневнике, то это будет Роза. А Питер? Он ведь специализировался в латыни и мог бы ей помочь.
Мадлен говорила с ним в воскресенье, но очень коротко. Она забыла, что воскресенье для католического священника самый напряженный день. Питер спешил на службу и пообещал позвонить ей на неделе. Как обычно, режим его жизни вызвал у Мадлен раздражение. Гораздо больше, чем обычно. Питер ни словом не упомянул про Лидию и поездку Мадлен в Англию. Справедливости ради ей пришлось признать, что в его голосе прозвучал намек на раскаяние из-за того, что не смог уделить ей время. Кроме того, ее утешил тот факт, что ей не нужно решать прямо сейчас, стоит ли рассказывать ему про дневник. Она могла только представить себе выражение его лица, когда он увидит ее сокровище… ее сокровище.
Мадлен спустила ноги с большой кованой кровати, оставив разбросанные в беспорядке одеяла и подушки.
Она решила, что должна перевести побольше, прежде чем рассказать кому-нибудь о дневнике, если она вообще решит поделиться этой тайной.
Прежде чем уйти из дома, Мадлен бросила взгляд на большой блокнот, куда записывала перевод вечером в субботу и в воскресенье. Получилось всего шесть страниц неровным почерком — вычеркнутые слова, заметки, вопросительные знаки и закорючки. Неожиданно ей стало неловко оттого, что наделила вышивальщицу голосом двадцатого века, превратив аккуратную латынь Леофгит в язык, который та не смогла бы понять.
Ее записи отличались от других, невероятно редких творений средневековых женщин. Во времена, когда у женщины практически не было права голоса, любое произведение, вышедшее из-под ее пера, почти всегда относилось к области мистики. Это Элоиза[11], аббатиса, чьи письма к ее любимому Абеляру пережили почти тысячу лет; Кристина из Маркиата[12], отшельница; Хильдегарда Бигенская[13] — монахиня, жившая в двенадцатом веке, композитор, поэтесса и ученый… Среди грамотных средневековых женщин не значилось служанок, а архивные записи в основном делали составители «Англосаксонских хроник». Кроме того, имелись туманные и противоречивые биографии, рассказывающие о добрых делах королей и лордов. Их главным образом заказывали сами короли и лорды, и потому к ним следовало относиться не слишком серьезно.
Гобелен Байе… Лидия упоминала о нем в книге, посвященной «английской работе», единственном реальном труде о периоде, когда Леофгит писала свой дневник, хотя по большей части это было иллюстрированное повествование. На самом деле гобелен представлял собой вышивку длиной в 230 футов, изображающую события 1064–1066 годов. Он находился в музее в Байе, где его в начале девятнадцатого века нашли в склепе собора. Мадлен вместе с Питером, жившим в Байе, была в музее, где выставлялись и другие вышивки.
Через час Мадлен сидела за столом в офисе, где, как обычно, царил хаос. Филипп, старший преподаватель средневековой истории, еще не появлялся. Она мрачно просматривала скопившуюся за две недели почту, университетские циркуляры и прочую чепуху, которая потребует ее внимания в самое ближайшее время, и широко зевнула как раз тогда, когда в офис шаркающей походкой вошел Филипп. Он так ходил вовсе не потому, что был стар — ему еще не было и шестидесяти, просто связь между мозгом и телом была нарушена. Мадлен взглянула на его повседневные серые вельветовые брюки и серый джемпер, отлично сочетавшиеся с жалкой бородкой и очками в серебряной оправе. У Филиппа пепельного цвета было все, даже кожа, оживляемая лишь тонкими красными прожилками на длинном носу.
Мадлен всегда заговаривала с ним первой.
— Здравствуйте, Филипп. Хорошо провели выходные?
— Ну, обычная внутрисемейная катастрофа — слишком резвые внуки и слишком много хорошего вина.
Филипп бесцельно перекладывал бумаги на своем столе, стараясь не смотреть ей в глаза. Двухнедельное отсутствие Мадлен в их крошечном офисе повисло в воздухе между ними. Для Филиппа выразить сочувствие было так же мучительно, как дать разрешение на то, чтобы ему вырвали зуб. Он передвинул еще какие-то бумаги, прежде чем попытаться что-то сказать.
— Я был очень огорчен, когда услышал о твоем горе, Мадлен, — откашлявшись, проговорил он. — Очень огорчен.
Мадлен спасла его — и себя.
— Все нормально, Филипп. Я в порядке. Почти. Спасибо.
В этот момент на его столе зазвонил телефон, и Мадлен облегченно вздохнула, радуясь его вмешательству не меньше самого Филиппа. Он был почтенным ученым, обладавшим обширнейшими знаниями о последнем тысячелетии европейской истории, однако его умение общаться с людьми оставляло желать лучшего. Единственной известной страстью Филиппа было средневековое военное дело, Мадлен однажды побывала на его лекции, посвященной битве при Азенкуре[14], и видела, как из безумного профессора он превратился в эмоционального оратора.
Она взглянула на часы. Оставалось всего десять минут на то, чтобы подготовиться к утренней лекции, а записи находились где-то среди вороха бумаг и груды книг. Пока Мадлен не было, все свободные поверхности стола успели заполонить груды документов. Пришлось приступить к раскопкам.
— Скорее всего, именно в тысяча шестьдесят четвертом году брат королевы Эдиты Гарольд Годвинсон нанес свой знаменитый и загадочный визит герцогу Вильгельму Нормандскому.
Мадлен не принимала специального решения обойтись без привычной, разговорной преамбулы и сразу же приступить к лекции. Студентов, собравшихся в аудитории, такое начало застало врасплох, и они быстро открыли тетради, чтобы начать записывать.
Как только Мадлен решила, что все готовы, она продолжила:
— Поражает то, что в «Англосаксонских хрониках» не описаны всего лишь четыре года одиннадцатого века, и умолчание о событиях тысяча шестьдесят четвертого года придает последним дням саксонской Англии налет таинственности. Разумеется, именно из-за отсутствия в «Хрониках» эти годы вызвали невероятный интерес и множество самых разных теорий и предположений. Визит Гарольда в Нормандию, а также сделка, которую он заключил с Вильгельмом на предмет наследования трона, до сих пор, даже спустя девятьсот лет, вызывают споры и сомнения.
Студенты продолжали писать. Мадлен остановилась, чтобы перевести дух. Период между тысяча шестьдесят четвертым годом и норманнским завоеванием в тысяча шестьдесят шестом, наполненный интригами и драматическими событиями, представлял собой идеальный материал для лекции. Ей стало интересно, найдет ли она описание этих событий в дневнике вышивальщицы… Неожиданно Мадлен сообразила, что студенты ждут продолжения лекции, видя, что она отвлеклась. Знают ли они, почему ее не было две недели? Университет с уважением и сдержанностью относился к личным делам своих сотрудников, но дурные вести имеют обыкновение разноситься по воздуху. Мадлен быстро улыбнулась.
— Ставки тогда были очень высоки, и, возможно, первая встреча Гарольда и Вильгельма на норманнской земле решила судьбу Европы. Впрочем, это весьма сомнительные сведения, и не только потому, что нет никаких надежных источников, сообщающих о том, что эта встреча имела место, но еще и потому, что неизвестно, что именно произошло между ними. Король Эдуард отправил Гарольда в Нормандию в качестве своего посланника, чтобы предложить Вильгельму корону после своей смерти. Существует мнение, что пока он находился там, то поклялся на священной реликвии стать союзником Вильгельма. Саксонская версия этой истории гласит, что Гарольда обманом заставили дать такую клятву. Вторая — и последняя — встреча двух амбициозных деятелей произошла на английской земле, во время битвы при Гастингсе[15].
Неожиданно в голову Мадлен пришла мысль: а вдруг вышивальщица что-то знала о визите Гарольда в Нормандию? Если так, то дневник представляет собой потенциально важный исторический документ. У нее отчаянно забилось сердце, когда она осознала огромное значение возложенной на нее задачи. Она была историком и такую информацию скрыть не могла.
— Известно, что самым важным вопросом в Европе до периода норманнского завоевания являлся вопрос наследования английского трона. Англия занимала солидное положение в Европе одиннадцатого века, потому что западносаксонские короли, и в первую очередь Альфред Великий, создали экономику и культуру, благодаря которым Англия стала самой богатой страной в Европе. Поскольку Альфред в буквальном смысле объединил королевство, остров являлся еще и самым защищенным государством. Точнее, так было до Этельреда, который правил до вторжения викингов. Надеюсь, вы помните, что король Этельред был отцом Эдуарда Исповедника.
Лекция, посвященная началу одиннадцатого века, была последней перед ее отъездом в Англию, и она хотела освежить ее в памяти студентов.
— Именно Этельред позволил скандинавским викингам разбавить кровь королевской династии, которая оставалась нетронутой в течение пяти веков. Вот почему вопрос наследования трона, который занимал Эдуард Исповедник, сын Этельреда, стал таким важным в тысяча шестьдесят четвертом году. Тот факт, что брак Эдуарда и Эдиты был бездетным, означал, что трон Англии освободится после его смерти. Естественно, что на него имелось множество претендентов, включая Вильгельма Нормандского и Харальда Сурового, короля Норвегии. Нет никаких свидетельств, подтверждающих, что Гарольд Годвинсон, самый могущественный человек при дворе Эдуарда, тоже имел виды на корону.
Когда Мадлен привычно заговорила о политике при дворе Эдуарда, ей захотелось сказать, что хотя и нет никаких доказательств того, что Гарольд мечтал получить трон Эдуарда, но у нее есть все основания считать, что такое было возможно. Однако она понимала, что не следует делать заявлений, не подтвержденных надежными данными.
Невероятным усилием она заставила себя сосредоточиться на окончании лекции и испытала облегчение, произнеся последнюю фразу:
— Однако один законный наследник у саксонского трона имелся. Это был Эдгар Этелинг, сын другого Этелинга — убитого племянника Эдуарда Исповедника. В те времена кровные наследники трона нередко умирали при загадочных обстоятельствах. Думаю, вы помните, что титул «Этелинг» присваивали тому, кто имел право занять трон. Отравление было самым популярным способом устранения претендентов. Эдгар избежал такой судьбы, возможно, потому, что его посчитали слишком юным и не представляющим опасности.
Мадлен возвращалась домой ранним вечером. Ее мысли снова вернулись к дневнику, и в крови забурлил адреналин. Тоненький голосок в сознании твердил, что, стараясь скорее продолжить перевод, она отбрасывает сомнения в истинности документа — причем на неопределенный срок. Однако бесспорным фактом являлось то, что у нее не было никаких доказательств подлинности дневника, хотя часть ее существа отчаянно хотела, чтобы он оказался настоящим. Но если она решит удостовериться в том, что он действительно написан в одиннадцатом веке, ей придется открыть его тайну. Однако, несмотря на растущее чувство вины, Мадлен пока не была к этому готова.
С другой стороны, в реальной жизни в руки нечасто попадают манускрипты, написанные на латинском языке одиннадцатого века, да еще в идеальном состоянии. Разумеется, кое-кто с ней не согласится — дети и прочие мечтатели, которые верят в то, что в жизни возможно все.
Мадлен тяжело вздохнула. Когда-то она тоже верила, что в жизни возможно все. Что же изменилось? Она изучала древность и познала логику. Отчасти дело в этом, но изменилось и что-то еще. Она чувствовала, что потеряла часть себя. Еще сильнее это чувство стало с тех пор, когда умерла Лидия. Прежде она думала, что у нее есть прекрасная возможность заполнить пустоту и вернуть себе то, что потеряно. С Питером ей казалось, что она получила шанс вернуть потерянную частицу себя, но в реальности он никогда ей ничего не предлагал, кроме дружбы в его весьма диковинном понимании. Мадлен постепенно начала осознавать, что должна стать цельной самостоятельно.
Было еще светло, но значительно похолодало, когда она привычной дорогой возвращалась домой. Узкая улочка с многочисленными кафе по обеим сторонам соединяла огромную территорию с удобно устроившимися на ней каменными зданиями университета и более скромный район, в котором она жила. Ее мысли, точно сбежавшая кошка, бродили где-то далеко, и она едва замечала сидевших за столиками кафе с чашками эспрессо людей, которые зашли туда после работы и разглядывали теперь прохожих в окна.
Интересно, что Лидия думала о дневнике? Она обожала тайны и загадки. История была полна и того и другого. Мадлен не следовало удивляться тому, что ее мать хотела держать дневник у себя как можно дольше. И разве сама она не думает о том же? Может быть, именно по этой причине она молчит о нем, как и Лидия? Ее мать уехала из Парижа спонтанно, словно уже знала, что это произойдет, и ждала подходящего момента. Мадлен тогда было двадцать пять — возможно, Лидия решила, что она уже достаточно взрослая, чтобы стать самостоятельной? К тому времени их отношения с Жаном себя исчерпали, хотя они и продолжали жить вместе, как будто считали, что легче продолжать поддерживать видимость семьи, чем взглянуть в глаза правде.
Дом, где жила Мадлен, виднелся на противоположной стороне улицы. Она шла, полностью погрузившись в свои мысли. Дико заверещал гудок машины, когда Мадлен шагнула на дорогу, собираясь ее перейти, забыв о сумасшедшем движении часа пик. Ей следовало быть повнимательнее — ведь она ходила по этому маршруту в это время почти каждый день. Она быстро отскочила назад, резко вернувшись в реальность. В детстве ей множество раз говорили, что не следует думать на ходу. «Сосредоточься, Мадлен. СОСРЕДОТОЧЬСЯ», — часто повторял Жан, хватая ее за руку в тот самый момент, когда она собиралась выйти на дорогу, по которой мчались машины. Он по-прежнему нервничал, когда им приходилось вместе переходить улицу.
Ее дом находился примерно в миле от университета, в районе, которому через пару лет предстояло стать фешенебельным. Она решила, что снимет в нем квартиру, еще до того, как увидела ее, потому что окна выходили не на дорогу, а на старую музыкальную школу, расположенную позади дома.
Блочный дом из красного кирпича построили в двадцатых годах, а затем на площадке второго этажа вдоль длинного коридора установили светильники в стиле модерн. В остальном же дом был весьма потрепанным, хотя черно-белая плитка в вестибюле и резные деревянные перила центральной лестницы говорили о былой элегантности. Мадлен начала подниматься наверх, одновременно роясь в рюкзаке в поисках ключа, погребенного в царившем там беспорядке.
Неожиданно дом наполнила громкая музыка — кто-то играл на пианино, но это были не неуверенные, звенящие гаммы, иногда доносившиеся из соседнего здания, а концерт Баха. Звуки доносились с первого этажа. Когда Мадлен уезжала в Англию, квартира там сдавалась, но теперь, очевидно, в нее кто-то въехал.
Она добралась до площадки третьего этажа и увидела уголок белого листка, засунутого под ее дверь. Оказалось, что это приглашение, написанное цветистым почерком.
Приходите, пожалуйста, в пятницу вечером к нам на новоселье. Надеемся, что Вы сможете зайти, потому что нам не хочется чувствовать свою вину из-за того, что Вас разбудит музыка или же она будет звучать слишком поздно. В любом случае мы будем рады познакомиться с Вами. Если хотите, приводите с собой друга.
Тобиас и ЛуизаМадлен прикрепила свидетельство появления новых жильцов к холодильнику магнитом в форме сердца. Магнит подарил бывший бойфренд, недавно разведенный архитектор, с которым ее познакомила Роза. Его полезные функции довольно быстро заменили остатки сентиментальных чувств, когда бывшая жена архитектора оказалась беременной от него.
Мадлен перечитала приглашение. Она ненавидела вечеринки, особенно те, где никого не знала. Роза тысячу раз говорила, что она слишком нелюдимая. Мадлен налила в стакан воды, затем выплеснула ее в раковину, решив, что лучше выпить водки.
Она могла позвонить Розе, поскольку ее мучила совесть, что она ничего не рассказала о дневнике ни ей, ни Питеру. При этом Мадлен знала, что может доверять им целиком и полностью. Просто ей нравилось иметь собственную тайну.
Войдя в спальню, Мадлен стащила с себя черные ботинки, черные брюки и черную водолазку. В последние дни она предпочитала черный цвет, и даже не потому, что так принято во время траура, просто он представлялся ей непроницаемым, что соответствовало ее состоянию души. Неужели смерть всегда приносит с собой оцепенение и ощущение того, что радость и непосредственность жизни тоже умерли? Мадлен переоделась в старые джинсы и черный джемпер.
Пробило семь часов, скоро ночь опустит черный занавес и скроет за ним мир, словно за театральными кулисами. После наступления темноты все вокруг обретало анонимность, которая помогала забыть прячущийся за кулисами пронизанный светом день. Только тогда она откроет шкатулку — и ни минутой раньше.
Мадлен пила водку и смотрела в окно кабинета. За ним открывался знакомый, так завораживающий ее вид. Зимой музыкальная школа была видна лучше — ее загораживали лишь голые ветви растущих вокруг деревьев. Летом, когда дни были длинными и она видела в окно лишь заднюю стену школы, позолоченную вечерним солнцем, ей отчаянно хотелось понежиться в его последних ласкающих лучах. Она видела, как это делают соседские коты, и соглашалась с Розой, утверждавшей, будто жизнь кошек представляет собой более высокую эволюционную ступень. Два кота Розы, которых Мадлен нередко кормила, без конца дремали или крепко спали, удобно устроившись на согретых солнцем поверхностях. Их хозяйку, как правило, возмущало такое поведение, поскольку Роза ставила активный образ жизни превыше всего.
Мадлен не хватило терпения дождаться наступления полной темноты, и она аккуратно достала из ящика картотечного шкафа шкатулку, завернутую в мягкий шарф из овечьей шерсти. В ее кабинете это было единственное место, которое имело замок и закрывалось на ключ. По правде говоря, она потратила немало времени на то, чтобы его отыскать.
Открыв дневник на следующей странице, она принялась внимательно изучать тонкие, но аккуратные буквы, выведенные вышивальщицей по имени Леофгит. На древнеанглийском языке одиннадцатого века ее имя произносилось Лей-о-хиит, где «х» являлся одним из наиболее трудных звуков языков Северной Европы, который произносился где-то в самой глубине горла.
Листы пергамента цвета слоновой кости казались хрупкими на ощупь, но в Средних веках его делали из кожи телят или коз, которую дубили, пока она не становилась очень тонкой. Мадлен понимала, что такой пергамент вполне может пережить еще тысячу лет. Изящные, невероятно аккуратные крошечные стежки соединяли две части странички — три четверти и четверть. Шелковая нить устояла перед натиском времени не хуже самого пергамента. Неужели дневнику действительно девятьсот лет?
21 июня 1064 года
От монаха Одерикуса я узнала про племена и королей, живших на наших землях и исчезнувших с них. Одерикус не сакс, его отец был римским чиновником, а мать — норманнской леди. Его привезли сюда из монастыря Святого Михаила, что в Нормандии, когда короновали Эдуарда. Король хотел окружить себя норманнскими священниками и аристократами, чтобы его сторонники превосходили числом датских и саксонских союзников эрла Годвина.
Монах знает множество историй про римлян, западносаксонских королей, а также про северный и южный континенты. Он проводит долгие часы, склонившись над книгами в библиотеке Кентербери, где, как он говорит, имеются библейские тексты на древнееврейском языке. Еще там есть хроники, созданные братьями, которые стали свидетелями великих походов, совершавшихся во времена последнего саксонского короля Этельреда. Одерикус со страстью истинного рассказчика повествует о том, как опустошительные набеги, точно океанская волна, домчались от южного побережья до самого Лондона, который был сожжен, и о том, как они прекратились, когда саксы потерпели поражение в сражении при Малдоне[16] в Эссексе.
Королю Этельреду пришлось заплатить выкуп за заключение мира. Он отдал захватчикам золото, которое они потребовали, но они год за годом продолжали возвращаться за новыми сокровищами, пока король Этельред не совершил еще одну ошибку. Он отомстил, убив сотни поселенцев-датчан, и тогда на нашу землю пал гнев короля Дании. И, хотя я прожила уже тридцать пять лет, я все же слишком молода, чтобы помнить огромные черные галеры викингов, которые, точно свирепые морские чудовища, атаковали наши берега с моря. За время жизни моей матери нашими землями правили два поколения датских королей, положившие конец существованию династии западносаксонских монархов. До той поры иностранцы никогда не управляли нашим королевством. Теперь же северяне вернулись в свои замерзшие земли, король, который в большей степени скандинав, чем сакс, сидит на троне, хотя королевская кровь датчан сохраняется в браке Эдуарда и Эдиты.
Норманнские обычаи, столь любимые королем Эдуардом, и его бездетный брак с дочерью эрла Годвина заставляют кое-кого шептаться о том, что таким способом король бросает вызов семье Годвина. Когда Эдуард взошел на трон, Годвин, будучи эрлом Уэссекса, занимал самое высокое положение в королевстве, которое получил, заслужив расположение датских королей. К тому же он изо всех сил стремился завоевать благосклонность церкви. Кроме того, он совершил мудрый шаг, когда женился на представительнице датской королевской династии, чтобы укрепить свой союз с севером. Король Эдуард попытался подорвать его власть, заменив высших чиновников церкви, которые пользовались покровительством Годвина, норманнскими аббатами и епископами. Однако семья продолжала процветать, поскольку их земли и военное могущество как минимум равны тому, чем владеет корона.
Я помню Годвина, он часто посещал Кентербери, чтобы купить подарки аристократам, чьи симпатии хотел завоевать, или ткани для своей леди. Кроме того, эрл является покровителем монастыря Святого Августина, и именно поэтому Одерикус столько знает о нем. Монах говорит, что его называют «делателем королей» за талант, который он показал, помогая датским королям взойти на трон. Теперь же, когда он умер, из всех братьев клана Годвина больше всех на него похож его сын Гарольд, эрл Уэссекса.
Не вызывает сомнений, что он собирается выступать от имени короля. Я вижу эрла Годвина редко, и он ни разу не делал мне заказов, потому что он военный командир и государственный деятель, а не человек, восхищающийся изысканной работой портних и вышивальщиц. Но мой Джон часто отправляется в сражения в рядах его войска, он говорит, что Гарольд — тот самый вождь, который нужен нашей стране. Джон судит мужчин по воинской доблести, и, по его словам, Гарольд великий человек. Он может два дня проскакать верхом без еды и сна, а затем повести за собой людей в сражение. Гарольд силен и кажется высоким, хотя на самом деле он среднего роста. У него темные волосы, совсем как черные драконы, вытатуированные на его запястьях, а глаза — такие же бледно-голубые, как у сестры, хотя темнеют, когда он сердится.
Я видела это только один раз, когда меня позвали в покои королевы Эдиты обсудить гобелен, который мы должны были вышить по ее желанию. Он слишком большой, чтобы работать над ним в башне, и я должна была позаботиться о том, чтобы хозяйка мастерской в Винчестере поняла, чего желает миледи. Королева показала мне свои рисунки всадников в плащах, скачущих по лесной поляне, и, когда я принялась восхищаться ее искусством рисовальщицы, в комнату без объявления ворвался Гарольд. За ним по пятам мчалась Изабель, сидевшая за вышиванием в маленькой соседней комнатке. Ей не удалось его остановить, в такой он был ярости. Кровь викингов, полученная им от матери, превращается в прозрачную воду, когда он гневается, а его ярость, граничившая с безумием, напугала меня так, что мне хотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Однако его сестра не испугалась. Она неторопливо поднялась со стула, стоявшего у стола, и так же неторопливо накрыла рисунок листом пергамента. Я поняла, что она не хочет, чтобы Гарольд его увидел. Мне известно только, что дело каким-то образом касалось их младшего брата Тостига, которого королева страстно защищает, хотя его поведение часто не нравится Гарольду. Он принялся поносить ее за какой-то разговор, состоявшийся между ней и Тостигом без него. Затем он заметил меня и приказал мне покинуть комнату. На мгновение мне показалось, что миледи собралась возразить, но затем она, видимо, тоже решила, что так будет лучше, и потому я ушла.
Гарольд, как и отец, очень хотел, чтобы его сестра вышла замуж за короля, стремясь к тому, чтобы их семья стала еще могущественнее. Но теперь, возможно, он опасается, что королева представляет опасность для его устремлений. Бездетный брак Эдиты приближает Гарольда к короне, но также дает миледи все основания сделать приемным сыном и наследником Эдгара Этелинга.
Эдгар еще очень молод, но Эдита и Тостиг готовят его к трону, чтобы, когда умрет Эдуард, ни у кого не возникло сомнений, что Эдгар сможет вынести груз обязательств, накладываемых короной. Те из нас, кто поддерживает Этелинга, поддерживают и королеву Эдиту, а через нее династию истинных саксонских королей. Дракон все еще спит.
На следующий вечер, сидя в тапас-баре, Мадлен рассказала Розе про дневник. Они почти допили второй кувшин сангрии, и признание получилось спонтанным.
— Сестры Бродер отдали его тебе?! — Роза, державшая кувшин над бокалом Мадлен, замерла, а на лице у нее появилось комичное выражение недоверия. — Не могу поверить, что ты мне раньше про него не рассказала, Мэдди. И где же оно, это средневековое сокровище?
— У меня дома. Ты будешь наливать?
Роза напоминала натюрморт — девушка с кувшином. Их бокалы так и остались пустыми. Роза не шевелилась, поэтому Мадлен забрала у нее кувшин с вином и, наполнив бокалы, отхлебнула из своего. Ей было не по себе, но зато появилось ощущение, что она очистилась от греха.
Роза сделала большой глоток.
— Допивай, мы идем к тебе.
На улице дул ледяной ветер, и они быстрым шагом прошли короткое расстояние до дома Мадлен. Когда они подходили, из квартиры на первом этаже звучало то же произведение Баха, которое Мадлен слышала накануне. Входная дверь с грохотом захлопнулась у них за спиной, музыка на мгновение стихла, а затем с новой силой заиграла снова.
Пока Мадлен доставала дневник, Роза обследовала кухню в поисках спиртного и была разочарована, обнаружив лишь водку и старую бутылку с можжевеловым ликером. Добравшись до холодильника в надежде найти там что-нибудь поинтереснее, она обнаружила приглашение на вечеринку Тобиаса и Луизы.
— Надеюсь, ты не собиралась проигнорировать вечеринку в пятницу, Мэдди? — крикнула она. — Или, того хуже, скрыть ее от меня?
Мадлен вошла, держа в руках шкатулку, завернутую в овечью шерсть, и сделала вид, что ничего не слышала. Она знала, что скоро Роза забудет про вечеринку.
Они уселись на диван и положили шкатулку на кофейный столик, стоявший между ними. Мадлен почувствовала укол раскаяния, что так легко раскрыла свою тайну. Но, когда Роза благоговейно открыла резную крышку, она с нетерпением впилась взглядом в лицо подруги, совсем как Маргарет Бродер, которая торопилась похвастаться своим средневековым сокровищем.
— Это та же форма латыни, на которой кентерберийские писцы записывали историю монастырей и делали подписи под иллюстрациями в книгах, — пояснила она, пока Роза переводила взгляд с поблекших коричневых строчек, покрывавших хрупкий пергамент, на перевод в блокноте Мадлен. — Большинство документов написано на древнеанглийском или англо-норманнском, но эту женщину учил грамоте монах, что объясняет использование латыни.
Роза сидела так неподвижно, что казалось на пурпурном диване разложили образцы ярко-синей замши и мохера цвета фуксии.
Позже, после водки, можжевелового ликера и обстоятельной дискуссии на тему, была ли Леофгит влюблена в монаха Одерикуса, Роза сказала:
— Надеюсь, ты не собираешься оставить дневник себе, Мэдди. Ты не думаешь, что это не слишком этично?
Мадлен начал охватывать гнев, и это чувство застало ее врасплох. Она — хранительница дневника, и никто не будет указывать ей, что с ним делать!
Но Роза бывала невыносимо назойливой, когда перебирала спиртного.
— О чем ты только думаешь, Мадлен? Ты не должна хранить такую вещь в секрете — в дневнике могут обнаружиться важные исторические сведения! — Роза махнула рукой в сторону кофейного столика.
Мадлен знала, что в ее словах содержится правда, от которой не скрыться, и это возмущало ее еще больше.
— Я собираюсь закончить перевод, — сказала она решительно. — Уже поздно, и нам обеим завтра на работу.
Роза пожала плечами.
— Мне завтра не нужно на работу. Но если ты решила вышвырнуть меня вон, что ж, ладно.
Они попрощались без обычной теплоты.
ГЛАВА 5
23 июня 1064 года
Наступил рассвет, и мне достаточно света, проникающего в открытую дверь, чтобы писать, не зажигая свечи. Малыш сейчас крепко спит рядом на шали, хотя и разбудил меня, вырвав из грез. Сегодня — канун дня летнего солнцестояния, и в это время из своих укрытий появляется волшебный народец. Так рассказывала мне мать. Со своего места у двери я вижу поля со спелыми колосьями золотой пшеницы, а за ними небо, словно пылающее огнем.
Когда я открыла дверь, чтобы впустить в дом новый день, мимо прошла повитуха Мирра с корзинкой. Она направлялась в лес. Сегодня она соберет много лечебных трав, потому что летнее солнцестояние — время, когда растения набирают силу, помогающую бороться с болезнями и облегчать роды.
Позже на улицах разведут костры, и соседи станут угощать друг друга. Я испекла медовый хлеб и пироги с черникой, которую собрали Мэри и маленький Джон. Сегодня я не пойду во дворец, а останусь с детьми, и мы будем готовиться к празднику. Мы сплетем гирлянды из березовых веток, фенхеля и белых цветов.
Этот обряд относится к древнему верованию и не имеет отношения к христианам, но они назвали этот праздник днем Святого Иоанна, чтобы тоже иметь возможность повеселиться. Мы с Джоном шутим, что праздник носит его имя, потому что именно в канун дня летнего солнцестояния мы впервые поцеловались. Я не видела его несколько недель с тех пор, как мы ужинали на берегу ручья, — он отправился с эрлом Гарольдом на охоту. Его впервые включили в отряд воинов, которых Гарольд выбрал из хускерлов[17] короля и взял с собой в лес, принадлежавший его брату Гирту и расположенный рядом с Кентербери. Гарольд обратил внимание на острый глаз Джона и его великолепное умение стрелять из лука.
Получилось так, что Гарольд с отрядом проехал через Кентербери накануне дня летнего солнцестояния, и Джон снова пришел меня повидать. Мы выпили больше эля, чем следовало, и сбежали от костров на рыночной площади на поле за церковью. И там танцевали под музыку рожков и барабанов, пока не повалились на землю. Ну а поскольку мы легли рядышком, слишком пьяные, чтобы держаться на ногах, нам показалось совершенно естественным поцеловаться. А потом Джон захотел большего, чем поцелуи, и его рука пробралась под кружева моей кофты, но я была не настолько глупа и пьяна, чтобы так легко расстаться с невинностью.
Теперь канун дня летнего солнцестояния — наш общий праздник. Когда Джон дома, мы танцуем и целуемся, совсем как той ночью, и, если удается найти уединенное и темное местечко, я позволяю его рукам отыскивать все, что он пожелает. Но в этом году моего мужа нет в Вестминстере в праздник, потому что теперь лорд Гарольд никуда не отправляется без своего первого лучника.
На следующий день Мадлен не видела Розу. После внезапного ухода подруги она до глубокой ночи работала над переводом следующего отрывка дневника, страшно устала и весь день пребывала в ужасном настроении. И даже не из-за того, что ей не удалось выспаться, а потому, что приходилось заниматься рутиной. Пропасть между вечерними переводами и каждодневной, привычной жизнью становилась все шире. Днем она постоянно думала о смерти матери, вечером забывала об этом.
В четверг вечером ей позвонила Джоан Дэвидсон. Мадлен обрадовалась, услышав ее голос, и поняла, как ей не хватало утешительного спокойствия и дружеского отношения Джоан. Пережитое горе сблизило их.
— Привет, Мадлен. Не помешала? Я занялась кое-какими исследованиями, и мне удалось немного разузнать про семейство Бродер. Я подумала, что тебе это может быть интересно.
— Джоан, как я рада, что вы позвонили!
Больше не надо было ничего говорить. Джоан обладала эмоциональной сдержанностью, которая, как поняла Мадлен, являлась характерной чертой всех британцев. Они придерживались мнения, что некоторые вещи лучше оставлять несказанными. Это качество Лидии одновременно вызывало у Мадлен уважение и огорчало ее.
— Конечно интересно! Я не перестаю думать о моих предках, это безумно интересно!
— Похоже, у тебя для этого есть все основания. Ты, наверное, знаешь, что в Лондоне имеются геральдические и генеалогические архивы, где содержатся сведения начиная с тысяча пятьсот тридцать восьмого года. Мне думается, что именно в этом году архиепископ Кентерберийский приказал осуществлять цензуру.
— Томас Кранмер[18]. Да, что-то припоминаю…
Мадлен почувствовала предвкушение. В голосе Джоан чувствовалась приподнятость. Видимо, для нее это было все равно что радостно смеяться.
— С тысяча пятьсот тридцать восьмого года имя Бродер менялось дважды, но его корни — в саксонском слове «borda» — «вышивка». Особенно интересно то, что в тысяча пятьсот шестьдесят первом году королева Елизавета даровала компании Бродье патент. Бродье были очень известными вышивальщиками. В Государственном архиве имеется документ, подтверждающий это.
— И вы считаете, что Бродье позже стали Бродерами…
Мадлен изо всех сил старалась сдержать возбуждение. Джоан не знала про дневник, написанный вышивальщицей, и Мадлен было не по себе оттого, что умолчала о нем.
— Я в этом почти уверена. В тринадцатом и четырнадцатом веках фамилии стали передаваться по наследству. Дело в том, что в девятнадцатом веке было проведено исследование истории семейства Бродер. Одна из твоих родственниц поручила это архивариусу. Богатые представители Викторианской эпохи нередко так поступали. То время характеризуется возрождением интереса к далеким и не очень предкам — думаю, главным образом из-за жажды титулов. Впрочем, у меня сложилось впечатление, что твоей родственнице не требовалось изобретать семейный титул…
— В каком смысле? — сдавленно проговорила Мадлен, затем быстро откашлялась, чтобы подобные звуки больше не слетали с ее губ.
— Титулы баронов появились во времена Вильгельма Завоевателя. Ты ведь читаешь лекции именно по этому периоду истории, я не ошибаюсь?
— Да, вы правы, — Мадлен запуталась в переполнявших ее мыслях, с бешеной скоростью сменявших одна другую. Но голос ее звучал нормально. — Вы хотите сказать, что имя Бродер — Бродье — можно проследить до периода завоевания?
— Я хочу сказать, дорогая, что это вполне вероятно. Но нам с тобой известно, что документов, касающихся событий до тысяча пятьсот тридцать восьмого года, практически нет. Правда, я еще не проверяла «Книгу Страшного суда»[19]. Хочешь, я это сделаю? Тебе интересно?
— Думаю, да.
— Мадлен, мой замечательный муж только что вручил мне стакан бренди. Он передает тебе привет. Да, кстати, тебе придется приехать, чтобы присутствовать на чтении завещания Лидии. Надеюсь, мы увидимся, когда ты будешь в Кентербери?
— Конечно. Мне бы очень этого хотелось.
Повесив трубку, Мадлен осталась сидеть у телефона, восстанавливая в памяти сообщение Джоан. Неужели семейное состояние, которое сестры Бродер постепенно распродают, пришло из шестнадцатого века… возможно, даже раньше? Мать Лидии, Элизабет, перебралась в Лондон, чтобы заняться текстильной промышленностью, очевидно стараясь возродить семейную традицию. О бабке Элизабет, Маргарет, в приходских книгах написано, что она «леди, торговавшая тканями»… Поразительно! Но что в таком случае связывает — если вообще связывает — семейное дело (вышивание) и дневник Леофгит?
В пятницу утром Мадлен наткнулась на Розу в университетском кафе, у автомата с эспрессо. Ее подруга выглядела ужасно. Но когда Мадлен сказала ей об этом, Роза только нахмурилась.
— Ты тоже не сказочно хороша. По крайней мере, я вчера вечером классно повеселилась, а не переводила тексты с латыни, как ученая зануда.
Мадлен всегда веселила любовь Розы к детским разборкам, и сегодняшнее утро не стало исключением. Она фыркнула, Роза какое-то мгновение пыталась сдерживаться, но потом ухмыльнулась, хотя и неохотно.
— Заткнись, — велела она в ответ на хихиканье Мадлен.
Но вскоре сдалась и тоже расхохоталась, вызвав удивленные взгляды студентов, выстроившихся за ними в очередь у кофейного автомата.
Роза подбоченилась.
— Знаешь, Мэдди, от похмелья есть только одно лекарство — алкоголь. Кажется, в твоем доме сегодня вечеринка?
— Даже не думай!
— Не будь такой отвратительной занудой.
Роза взглянула на часы, глотнула кофе и, извиваясь в узкой юбке, направилась к выходу, сказав напоследок:
— Я совершенно серьезно, и на этот раз ты пойдешь со мной! Я позвоню.
В кабинете преподавателей средневековой истории Филипп склонился над кучей бумаг, которыми был завален его стол. Перебирая их, он что-то бормотал себе под нос. На вошедшую Мадлен он не обратил никакого внимания, но все-таки вяло махнул рукой, когда она с ним поздоровалась. Ей не хотелось молчать, хотя Филипп наверняка больше всего на свете желал, чтобы его освободили от необходимости признать существование других людей и дали возможность полностью погрузиться в чтение лекций и написание диссертации. По-видимому, сейчас он как раз занимался именно диссертацией.
— Что вы делаете, Филипп?
— Хмм? О, доброе утро, Мадлен.
— Пишете статью?
— Да, да. Нет, к сожалению, пока не пишу. Занимаюсь исследованиями. Должен представить их на следующей неделе — до публикации.
Филипп так и не поднял головы, но Мадлен уже привыкла к его дурным манерам.
— Какая тема?
— Язык и литература.
Мадлен приподняла брови.
— О, как интересно. А какой период?
— От возрождения монастырей. Король Альфред. Временные рамки от девятого века до конца тринадцатого.
— То есть церковные трактаты, написанные мужчинами про мужчин? — гораздо резче, чем намеревалась, спросила Мадлен. Почему-то мужской подход Филиппа к истории внезапно вызвал в ней раздражение.
Филипп удивленно заморгал и снял очки в металлической оправе.
— Если вы имеете в виду, что ученые мужи не интересуются мнением женщин, вас приятно удивит тот факт, что я намереваюсь упомянуть работы Элоизы и Хильдегарды Бингенской.
— Но они были приверженцами мистических течений, а не писательницами, которых ценили за ум или оригинальное восприятие мира.
На бесцветных скулах Филиппа появились розовые пятна. Он понял, что Мадлен бросает ему вызов. Такого поведения от коллеги он не ожидал.
— Разумеется, в средневековой литературе есть женщины-писатели, и довольно известные, но их произведения были совершенно иного характера, чем те, что создавали писцы и хроникеры. В них гораздо больше… рассуждений. Вы ведь знаете, меня интересуют политика и военное дело.
— Конечно, — кивнула Мадлен. — И я уверена, что вы непременно напишете о том, что Элоиза и Хильдегарда Бингенская смогли заняться литературой благодаря политике церкви, которая заключила обеих в монастырь. А как насчет Кристины Пизанской?[20] Она самостоятельно изучила историю, науку и поэзию и зарабатывала на жизнь письменными трудами. Будь она мужчиной, ее творения не игнорировались бы на протяжении нескольких веков…
Филипп раздраженно вздохнул.
— Дорогая Мадлен, нам с вами известно, что занятия Кристины Пизанской были в высшей степени нехарактерны для женщин ее времени. Я согласен, что качество ее трудов равняется качеству произведений ее современников-мужчин, а в некоторых случаях они даже лучше. Я не хочу сказать, что грамотность является следствием ума. Образованность — это вопрос культуры, а также возможностей и экономики. Даже в наши дни есть страны, где женщины по большей части неграмотны, однако управляют бизнесом и содержат свои семьи. Я ни в коей мере не стану утверждать, что женщины Средневековья — да и любого другого исторического периода — были менее способны в интеллектуальном плане, чем мужчины, и, разумеется, готов признать, что существовал патриархальный — и папский — заговор касательно их положения в обществе. Кстати, Кристина Пизанская жила в четырнадцатом веке. Это время меня не интересует.
Мадлен пожала плечами, неожиданно потеряв интерес к спору и чувствуя себя довольно глупо. Она села за свой стол, решив просмотреть почту. Ее не меньше Филиппа удивила собственная неожиданная вспышка феминизма, но она понимала ее причину. Мадлен просто впустила дневник и Леофгит в свой обыденный мир. Филипп с озадаченным видом вернулся к бумагам.
Зазвонил телефон, и его вопль вонзился в череп, точно дрель. Мадлен смотрела на монитор компьютера, положив подбородок на руку, и не могла оторваться от заставки на экране, завороженная яркими цветами концентрических кругов, которые постепенно увеличивались в размерах, исчезали и возникали снова… Голова ее клонилась все ниже, пока не оказалась в дюйме от телефона, так что, если бы не раздался звонок, она бы наверняка уснула. Мадлен подскочила на месте и схватила трубку, пока он не зазвонил снова. Это была Джуди — секретарь факультета.
— Привет, Мадлен. Тебе звонили — немолодой мужчина, но он не назвался. Мне показалось, что у него какой-то необычный акцент… Я знаю, это звучит не слишком вразумительно, но я решила сообщить тебе о звонке на случай, если это важно.
— Спасибо, Джуди. Наверное, это мой отец, хотя он обычно не звонит мне на работу… он не слишком любит телефоны, а еще временами разговаривает странно — он профессор философии.
— Тогда все в порядке.
Джуди повесила трубку.
Мадлен набрала парижский номер Жана и, как обычно, поговорила с автоответчиком.
— Это я, Мадлен. Я попытаюсь позвонить тебе сегодня вечером, и мы договоримся, когда я приеду. Что же… надеюсь, у тебя все хорошо…
Она положила трубку и, покачивая головой, представила себе Жана. Скорее всего, он даже не услышал звонка, сидя за громадным письменным столом и погрузившись в какие-нибудь эзотерические теории.
Мадлен снова сняла трубку и попыталась дозвониться до Розы. Она хотела как можно быстрее решить вопрос с вечеринкой — окончательно и бесповоротно. Впрочем, «окончательно и бесповоротно» всегда являлось проблемой в спорах с Розой, которая терпеть не могла, если что-нибудь мешало ее планам. Но поговорить с подругой ей не удалось. Секретарь факультета изящных искусств сказала, что Роза ушла пораньше, сославшись на головную боль.
Подруга позвонила в тот самый момент, когда Мадлен вошла в квартиру, и спросила, в котором часу они пойдут на вечеринку. Вопрос, хочет Мадлен туда идти или нет, ее не интересовал. Сопротивляться было бесполезно.
Она явилась через час с бутылкой шампанского, которое, по ее мнению, являлось отличным средством для создания настроения, подходящего для вечеринки. Девушки сели на пол, чокнулись бокалами, и Роза прищурилась, а в ее глазах загорелся заговорщический огонек. Сегодня она выбрала голубую тушь, и ее глаза стали похожи на африканские самоцветы.
— Итак, преступница, как продвигается перевод?
— Прекрасно, просто отлично.
Мадлен пыталась не смотреть в глаза-самоцветы.
— Можно мне взглянуть на него еще раз?
Мадлен с подозрением посмотрела на нее.
— Ну, Мадлен… пожалуйста. Слушай, я ведь никуда не убегу с дневником!
Мадлен неохотно поднялась, закатив глаза, а Роза захлопала в ладоши, словно пятилетняя девочка.
Мадлен принесла из кабинета шкатулку, и они снова уселись на пол, попивая шампанское и с благоговением взирая на дневник. Он оставался в шкатулке, но крышку открыли, и было видно грубую кожаную обложку и едва различимое золотое сияние обреза. Мадлен не позволила Розе прикасаться к шкатулке, пока та не оставит бокал в другом конце комнаты, и она предпочла с ним не расставаться.
Мадлен прикусила губу, помолчала немного, а потом сказала:
— Я знаю, мне не надо предупреждать тебя, но это БОЛЬШАЯ тайна…
— Да, Мэдди, тебе не надо предупреждать меня, но я не стану обижаться на твои слова. Я понимаю, ты страшно беспокоишься о нем. Разумеется, дурочка, я не стану распространяться о дневнике, к тому же ты знаешь, что я умею хранить тайны. Я ведь до сих пор никому не проболталась о том, что Филипп приставал к тебе на рождественской вечеринке. Видишь, какая я классная подруга!
Тут Роза склонила голову набок и прислушалась.
— Кажется, внизу что-то происходит.
Они услышали музыку, которая делалась все громче.
Роза подбоченилась и заявила:
— Ты должна хорошенько напиться.
— Я уже напилась, — сказала Мадлен, с решительным видом усаживаясь на диван. — Знаешь, мне сегодня совсем не хочется…
Прежде чем она успела закончить предложение, Роза выдернула ее из уютных велюровых подушек и потащила в сторону спальни. Втолкнув ее внутрь, она закрыла дверь и сказала:
— Не выйдешь оттуда, пока не наденешь что-нибудь соблазнительное.
Мадлен открыла дверь спальни.
— Тебе хорошо говорить, пьянчужка, в твоем гардеробе все соблазнительное.
Но Роза снова занялась шампанским, демонстративно игнорируя ее и не сводя глаз с дневника.
Через пятнадцать минут Мадлен стояла посреди комнаты, глядя на груды одежды, которую сняла с вешалок и после тщательного изучения побросала на пол. Она решила, что должна кардинально поменять гардероб. Просто позор, что ей нечего надеть на вечеринку. Она не примерила только одно платье — красное, шифоновое, которое купила, когда они с Розой ходили по магазинам в Париже. Роза заявила, что Мадлен просто обязана купить его, добавив, что она выглядит в нем «шикарно и сексуально», в отличие от обычного «скучно удобного» вида.
Мадлен натянула платье через голову и принялась вертеться перед зеркалом. Оно было очень элегантным — чуть выше колена, с широким воротом и прозрачными рукавами до локтей. Красивое платье, но в нем Мадлен чувствовала себя слишком бросающейся в глаза, слишком заметной. Розе понравится. Она надела туфли на самом высоком каблуке и начала пробираться между кучами одежды на полу в сторону гостиной.
Когда она вышла, Роза тихонько присвистнула.
— Похоже, ты перемерила весь гардероб! А про это платье я и забыла. Кощунство прятать такое роскошное тело под джемперами и брюками, Мэдди. Натуральные ткани — это настоящий шик, а в красном шифоне ты выглядишь просто потрясающе!
Мадлен смущенно рассмеялась и погладила гладкую ткань на бедрах.
— Тебе нравится?
— Мне нравится. И я совершенно уверена, что понравится всем до единого мужикам на вечеринке. А теперь последнее — прошло больше двух лет с тех пор, как этот-как-его-зовут обрюхатил собственную жену. А ты молода — относительно, конечно, и выглядишь ослепительно.
Мадлен неожиданно охватил ужас.
— Знаешь, Роза, на самом деле, я… я не знаю, готова ли…
— Довольно. Тебе это полезно. И это — развлечение. Ты еще помнишь, что значит веселиться и развлекаться? Идем.
Роза крепко взяла ее за руку и потащила вниз по лестнице на первый этаж, туда, где гремела музыка.
Дверь в квартиру была не заперта, и, поскольку стучать не имело никакого смысла, потому что музыка заглушила бы даже пистолетный выстрел, они просто вошли. Квартира была больше той, в которой жила Мадлен, и обставлена стильно, хоть и по-спартански. Около сорока человек пили, танцевали и разговаривали, а над ними висело облако сигаретного дыма. Стоял непрекращающийся гул. Из облака дыма выплыл высокий худой мужчина с рыжими вьющимися волосами, в малиновом бархатном смокинге и психоделической нейлоновой рубашке. В одной руке он держал бокал мартини, а в другой — длинный, безупречно свернутый косяк с марихуаной, вставленный в мундштук.
— Соседи, друзья друзей или незваные гости?
Он сунул мундштук в рот и протянул руку.
— Тобиас. Луиза где-то здесь.
Махнув рукой в сторону толпы гостей, он спросил:
— Хотите выпить?
Мадлен решила, что ему совершенно все равно, к какой категории они относятся, и собралась пожать протянутую руку, но Тобиас ее поцеловал.
— Я Мадлен, живу на третьем этаже, а это Роза.
— Я очарован, — выдохнул Тобиас и тоже поцеловал Розе руку, а затем жестом пригласил их следовать за собой.
Он начал пробираться сквозь толпу, налетел на какую-то женщину и, наклонившись, в качестве извинения поцеловал ее в грудь. Мадлен решила, что это и есть Луиза.
— Извини, Моник, дорогая, я немного пьян.
Тобиас улыбнулся и пожал плечами.
Он был из редкой и вызывающей зависть породы людей, которые, даже напившись, в состоянии внятно выражать свои мысли.
Наконец Тобиас привел их в маленькую кухню, где собралось еще около дюжины человек. Все они пили и разговаривали. Тобиас театральным жестом показал на скамейку, превращенную в бар, где имелась выпивка на любой вкус. Затем его увлекла за собой женщина с копной крашеных светлых волос, и он напрочь забыл о новых гостьях.
— Бьюсь об заклад, что это тоже не Луиза, — шепнула Роза, взяла бутылку водки и вопросительно взглянула на Мадлен. Та кивнула и принялась изучать комнату.
Гостям по большей части было около тридцати, хотя Тобиас выглядел старше. На глаза то и дело попадались седые виски, но в основном на кухне собрались молодые, неприятно модные профессионалы. Они выглядели как масса черных пятен — скорее всего, это были журналисты. Мадлен в красном платье почувствовала себя пожарной машиной, затесавшейся в похоронную процессию, но на нее никто не обращал внимания. Роза почти сразу же заговорила с молодым красавчиком готом с длинными черными волосами и бакенбардами, и Мадлен принялась оглядываться по сторонам в поисках кусочка стены, с которым могла бы слиться. Она решила, что лучше всего просто наблюдать за происходящим. Мадлен страстно ненавидела находиться среди большого скопления незнакомых людей и пришла к выводу, что водка ей поможет. Она начала пробираться в тускло освещенный и почти пустой уголок кухни. Роза ничего не замечала, упоенно беседуя с юношей готом в бакенбардах.
Тобиас ушел из кухни, продолжая дымить роскошной сигаретой. Через мгновение он вернулся, возбужденно беседуя со светловолосым мужчиной, который выглядел в этой толпе не слишком органично. Похоже, ему было уже за сорок. Черты его лица, удивительно резкие, делали его то ли невероятно уродливым, то ли исключительно красивым, — Мадлен так и не смогла определить. У него была загорелая кожа в легких оспинках. Она сделала большой глоток водки и уставилась на мужчину. Ей показалось или Тобиас махнул в ее сторону?
Неожиданно она пожалела, что не надела что-нибудь черное вместо вызывающего красного платья. Она не хотела, чтобы этот мужчина обратил на нее внимание, но ее надеждам не суждено было сбыться. Неужели Тобиас занимается банальным сводничеством?
Незнакомец наливал себе в стакан спиртное и слушал болтовню Тобиаса, но его умные глаза оглядывали комнату. Скользнув мимо Мадлен, они двинулись дальше, затем на мгновение остановились и вернулись к ней. Он знал, что она наблюдает за ним, — неужели этот фокус был проделан сознательно? Мадлен уставилась на свой стакан так, будто ничего интереснее в жизни не видела.
— Вы курите?
Незнакомец стоял перед ней, протягивая мягкую пачку «Житан», из которой торчала одна сигарета, чтобы она могла ее взять.
— Спасибо.
Мадлен взяла сигарету и стала ждать, пока он даст ей прикурить.
— Меня зовут Карл. Мюллер.
Он назвал свою фамилию так, словно ему пришло в голову сделать это в самый последний момент.
Мадлен представилась.
— Значит, вы подруга Тобиаса? — спросил он и мягко улыбнулся.
Нежный голос. И никаких признаков дешевки. Мадлен улыбнулась ему в ответ — нет смысла быть холодной и сдержанной, когда ты в красном.
— Соседка.
— Вы работаете в Кане?
Мадлен уловила легкий акцент и подумала, что, возможно, он немец, хотя его французский был безупречным.
— Читаю лекции в университете.
— А, понятно. И по какому предмету?
— История. Средние века.
Мадлен сделала глоток водки, раздумывая, не начать ли лекцию про монархию в Аквитании. Это был отличный способ отделаться от людей, с которыми она не хотела разговаривать. Но с другой стороны, почему бы не поболтать с ним? Он совсем не противный и даже может оказаться интересным.
— Преподаватель истории — не лучшая профессия для светской беседы, — сказала она.
Карл сочувственно кивнул.
— Разговор должен быть серьезным — иначе зачем тратить силы?
Может быть, его интересует Аквитания…
— А вы чем занимаетесь? — осмелев, спросила она.
— О, можно сказать, что я занимаюсь финансами, — ответил он и весело улыбнулся.
Мадлен невольно поморщилась.
— Я почти ничего не знаю про финансы… разве что чем больше нулей, тем лучше.
— А про них и не нужно ничего особенного знать. Это всего лишь игра в цифры.
— Но во всех играх есть правила.
Карл, прищурившись, посмотрел на нее; словно пытался понять, есть ли какой-то подтекст в ее словах. Она и сама этого не знала, но почувствовала, как от выпитой водки по телу разлилось тепло и победило все волнения и тревоги. Карл взглянул на ее пустой стакан.
— Что вы пьете?
Он ушел и вернулся со стаканом с тройной порцией водки — так решила Мадлен. Но, поскольку предыдущая была двойной, она могла и ошибиться.
Карл прикурил.
— Расскажите мне про средневековый Кан — с ним наверняка связана целая куча поразительных исторических фактов. Это ведь город Вильгельма Завоевателя?
Мадлен кивнула. Ей показалось, что он задал вопрос совершенно искренне, а его глаза ни разу не опустились на ее грудь. Вот это она и любила в мужчинах, которые родились не во Франции. Они так хорошо воспитаны.
— А вы откуда? — спросила она.
— Из Дании.
— О, викинг. Викинги были здесь задолго до Вильгельма.
— Да, но я не могу отвечать за плохое поведение моих предков.
Мадлен приподняла бровь. Карл невольно затронул ее любимую тему. Она бросилась в наступление.
— История — всего лишь учет повторяющихся, практически одинаковых преступлений против человечества. Все мы должны отвечать за них, иначе цикл будет продолжаться и ничего не изменится.
Она вздохнула, поражаясь тому, что ей удалось произнести столько слов четко и без запинки — все-таки она пила водку. Ей показалось, что на Карла ее речь произвела впечатление.
— Но у нас всех есть собственные проблемы, — сказал он, — и мы должны решить их, прежде чем сможем изменить мир, согласны?
Мадлен тяжело вздохнула:
— Да, но, возможно, решая собственные проблемы, мы меняем мир… или что-то в нем.
— Вы грустите.
Карл переступил черту, он стал сочувствующим и внимательным, в то время как ей требовался лишь ничего не значащий разговор с мужчиной, которого она больше никогда не увидит. Кроме того, это не ее тип. Неожиданно Мадлен поняла, что пришла к этому выводу чисто автоматически. А ей следовало как минимум дать ему шанс произвести впечатление. Пока ему это удавалось совсем неплохо.
Карл снова наполнил ее стакан, и неожиданно Мадлен обнаружила, что рассказывает ему о смерти матери, о поездке в Англию, о последнем романе и чужой жене, а также о своих фантазиях, в которых она превращается в кошку. Она продолжала говорить, но через несколько секунд после того, как слова слетали с ее губ, уже не помнила, о чем шла речь. Сообразив, что уже достаточно пьяна и думает только о том, чтобы пригласить Карла к себе выпить по стаканчику, она решила, что пора домой. Розы нигде не было видно, поэтому Мадлен извинилась, сказав, что ей кажется, будто она оставила включенным утюг, и отправилась на поиски подруги.
Роза сидела на полу в гостиной и громко хохотала над словами юного гота. Она встретилась с Мадлен глазами и покачала головой, видимо решив остаться здесь на ночь.
Мадлен осторожно пробралась между телами, заполнявшими комнату, — некоторые из них шевелились, другие — нет, — и вышла из квартиры. В вестибюле она села на нижнюю ступеньку и сняла туфли, решив, что это совершенно необходимое действие перед восхождением по лестнице. Когда она сидела босиком, прислонившись головой к перилам, дверь в квартиру Тобиаса открылась и оттуда вышел Карл. Он сунул руку в карман длинного черного пальто из кожи и достал блестящий мобильный телефон размером с кредитку. Он не сразу заметил Мадлен, потому что набирал номер, стоя к ней спиной. Она не слышала, о чем он говорил, — а может, слышала, но ее пропитанный алкоголем мозг не справился с этой информацией. Через мгновение она поняла, что он разговаривает на датском.
Эта интерлюдия позволила Мадлен оторвать голову от перил, хотя встать и выпрямиться за такое короткое время было совершенно нереально. Карл повернулся, убирая телефон в карман, и заметил ее. Он замер, очевидно удивившись тому, что она сидит на лестнице, хотя должна была уже проверять, не сжег ли утюг ее квартиру дотла.
Он медленно направился к ней.
— Вы в порядке, Мадлен?
— О да, просто я решила немного отдохнуть. Я пока не в лучшем состоянии, чтобы справиться со ступеньками, но рано или поздно мне придется… скорее всего, поздно.
Карл наклонился, поднял ее туфли на высоких каблуках, а затем подал ей руку.
— Я вам помогу.
Мадлен некоторое время колебалась, но потом подумала, что, раз уж она собиралась провести ночь на лестнице, ей следует как можно интеллигентнее принять его предложение. Она не станет приглашать Карла к себе. Вежливо, но твердо попрощается с ним у двери и поблагодарит за то, что проводил. Понимает ли он, что она пьяна? Наверняка. Трезвым людям не требуется помощь, чтобы подняться по лестнице. А где ключи? Неужели она вышла из квартиры без них? Нет, она смутно помнила, что они лежали в сумке вместе с сигаретами. Когда они добрались до ее площадки, Мадлен собралась открыть замок, сумка упала на пол, и к ногам Карла вывались ключи и пачка сигарет. К счастью, ничего более интимного, чем заколка для волос и помада, там не было. Мадлен с отвращением уставилась на кучку вещей на полу, понимая, что ей придется наклониться, а потом снова выпрямиться. Карл выпустил ее руку, и она слегка покачнулась, но устояла на ногах, успев опереться о стену. Он сложил в крошечную сумочку все, что оттуда выпало, оставив только ключи.
— Какой из них от двери?
— Медный… я могу…
— Я сам.
Карл с ловкостью, впечатлившей Мадлен, открыл дверь и сделал шаг назад, пропуская ее вперед. Теперь она не могла его прогнать, потому что это было бы невежливо. С другой стороны, она совсем ничего про него не знает… но ведь за весь вечер он не сделал ничего неприличного, значит, он честный человек.
— Хотите кофе? — спросила она.
Карл прищурился, словно оценивая что-то. Такого выражения у него на лице она прежде не видела.
— Если вы сварите кофе, я с удовольствием выпью чашечку.
— Я всегда варю кофе. Моя английская половина чувствует себя самозванкой, когда речь заходит про чай. Его запах ужасно напоминает средство для мытья посуды, если только не добавить туда бренди. Я попробовала его в таком виде перед похоронами…
Мадлен не договорила, сообразив, что сейчас икнет, а это, без сомнения, будет исключительно непристойно. И не потому, что собиралась произвести на Карла хорошее впечатление. Просто уже было ясно, что он — не случайный человек в ее жизни.
Кухню от гостиной отделяла барная стойка, и Мадлен с ужасом увидела, что Карл разгуливает по комнате. Он взглянул на репродукцию картины прерафаэлитов, взял CD-диск, почти дошел до кофейного столика, на котором стояла открытая шкатулка с дневником, оставшимся на виду. Кровь отлила от лица Мадлен, и она неожиданно протрезвела. Она не собиралась никого приглашать в гости, но это слабое оправдание легкомыслию. Она замерла на месте, понимая, что если бросится сейчас в комнату и схватит шкатулку, то выдаст себя с головой. Карл, прищурившись, разглядывал дневник. Блокнот с переводом лежал рядом на столике, но, к счастью, был закрыт. Карл наклонился и слегка коснулся рукой обложки дневника. Мадлен задержала дыхание, безмолвно повторяя: «Не открывай его, не открывай». Он медленно приподнял обложку и тихонько присвистнул. Мадлен отчаянно пыталась придумать правдоподобную историю, объясняющую присутствие дневника в ее квартире. Любую историю.
— Она действительно такая старая, какой кажется? — спросил он после благоговейной паузы.
— О нет, она совсем не старая. Это… подделка. Моя подруга Роза, она тоже была на вечеринке, делает разные вещи… для кино. У нее это здорово получается. Книга выглядит совсем как настоящая, верно?
Карл, прищурившись, взглянул на Мадлен.
— Да, у нее здорово получается, — сказал он. — Просто великолепно.
На следующий день, когда Мадлен принимала ванну, зазвонил телефон. Это была во всем повинная Роза — и в том, что у нее отчаянно болела голова (Мадлен ненавидела похмелье еще больше, чем вечеринки), и в том, что Карл увидел дневник.
— Ты должна была заставить меня уйти вместе с тобой, — хныкала Роза по телефону. — Ты такая добродетельная — рано ложишься спать, никогда не пьешь слишком много…
— Я слишком много выпила вчера вечером, Роза, — перебила ее Мадлен. — И привела к себе почти незнакомого мужчину. Если честно, это он отвел меня домой… ко мне.
Роза была потрясена.
— Мэдди! Ты еще не окончательно потеряна для общества!
— Ладно тебе, ничего не случилось. Нет, на самом деле случилось — он увидел дневник, Роза. Мы забыли его убрать.
— Вот дерьмо.
— Точно. Может быть, ничего страшного не случилось — я сказала, что это бутафория, что ты делаешь разные штуки для кино. Я не уверена, поверил ли он, но, с другой стороны, он не специалист по средневековым артефактам.
— А чем он занимается?
Мадлен пожала плечами.
— Финансами. Слушай, а сколько лет твоему вчерашнему юному спутнику?
— Не твое дело. Он просто великолепен. На следующие выходные мы с ним едем в Рим.
Скорость и ловкость, с которой Роза заводила любовников, до сих пор изумляли Мадлен, хотя она уже давно должна была к этому привыкнуть.
Она предоставила Розе готовить напитки для бывшего студента факультета изящных искусств, а сама снова отправилась в ванную.
Карл не стал продолжать разговор про дневник и очень мило вел себя, пока они пили кофе. К тому же он ушел в правильное время. Само по себе такое поведение могло бы вызвать подозрение, но Мадлен предпочла думать, что он принял ее ложь. Кроме того, она решила, что Карл — настоящий джентльмен, и потому разрешила ему позвонить, когда он в следующий раз будет во Франции.
Лежа в ванне и наслаждаясь успокаивающим действием розовой воды, Мадлен улыбнулась собственным мыслям. Скоро она откроет дневник.
24 июня 1064 года
Праздник летнего солнцестояния дарит следующему за ним дню покой и медлительность, и я отправилась во дворец рано утром, надеясь поработать в полном одиночестве, восполнив свое вчерашнее отсутствие. Я оставила Мэри, велев ей приготовить кашу и присматривать за малышом, хотя она не совсем хорошо чувствует себя после сидра, который пила вчера вместе с сыном каменщика.
Войдя в широкий коридор, который ведет к лестнице в башню, я увидела Эдгара Этелинга. Он сидел на каменном уступе у окна, сквозь которое вливались лучи восходящего солнца. Эдгар читал маленькую книжечку и был так погружен в свое занятие, что заметил меня только тогда, когда я поравнялась с ним. Он вздрогнул и поднял голову, а потом так тепло мне улыбнулся, что я осмелилась спросить, что он читает. Эдгар удивился, что я проявляю интерес к книге, но я изумилась еще больше, когда он показал мне записки короля Альфреда. Альфред научился читать и писать, когда стал королем. Он считал, что знания и правда важны не менее, чем девять сражений с датчанами во время первого года его правления. Эдгар великодушно рассказал мне о книге, потому что думал, будто я не умею читать. Когда я спросила, что он узнал о великом короле Альфреде, в его ответе прозвучала такая мудрость, что я на мгновение забыла о его молодости. «Он был воином и одновременно ученым мужем. Он верил, что мы должны учиться у прошлого, чтобы знать, какие ошибки совершали люди, и сражаться за наше будущее».
Я оставила Эдгара, и он вернулся к чтению, а я поняла, что увидела в нем задатки настоящего короля.
Однако здоровье Эдуарда слабеет, а вместе с ним слабеет уверенность, что Эдгар станет его наследником, хотя и является последним принцем, в чьих жилах течет кровь западносаксонских королей. Эдгар родился в Венгрии, где его семья жила в ссылке, так же как Эдуард и его брат Альфред жили в Нормандии. Все кровные родственники короля Этельреда были изгнаны из страны скандинавскими захватчиками, чтобы никто из Этелингов саксонской династии не смог потребовать назад корону. Когда отца Эдгара убили, он и две его сестры вернулись во дворец. Вот как получилось, что они стали детьми бездетных короля и королевы.
На рыночной площади, где перемешаны ложь и правда, поговаривают, что головорезы эрла Годвина убили отца Эдгара и брата Эдуарда — Альфреда. Много лет назад король обвинил эрла Годвина в смерти своего брата, вернувшегося из ссылки прежде Эдуарда, чтобы потребовать корону своего отца. Его схватили, ослепили под страшными пытками, и он умер от ужасных ран.
Годвина обвинили в убийстве из-за его союза с датскими королями, хотя он с самого начала твердил, что не имеет никакого отношения к гибели Альфреда. Больше десяти лет назад всю его семью выслали в Ирландию, лишив титулов и земель, — так сильно Эдуард боялся их. Даже королеву Эдиту отправили в монастырь в Уилтоне. Эдуард говорил, что это делается ради ее безопасности, пока все не успокоится. Но, скорее всего, он не знал наверняка, кому верна его жена — мужу или братьям и отцу. Двенадцать месяцев спустя Годвины вернулись и привели с собой флот союзников — датчан и саксов. Так как король не смог собрать достаточно большую армию, чтобы сразиться с ними, он мудро согласился на мир. Им вернули земли и титулы, а Эдиту привезли из монастыря.
Поговаривают, что смерть Годвина почти сразу после этих событий доказывает его вину в убийстве брата Эдуарда. Эрл сидел за королевским столом, выпил слишком много эля и громко хвастался своими победами. Эдуард выразил свое недовольство по поводу совершенных им убийств, а Годвин, решив, что его снова обвиняют в смерти Альфреда, поклялся в своей невиновности и заявил, что если он и правда убийца, то подавится куском мяса, которое ест, и умрет. Как только он произнес это, в тот же миг подавился косточкой от жареного голубя и умер. Эта история может быть правдой, а может содержать в себе не больше истины, чем легенды про чудовищ и героев, вышитых на гобеленах.
Только когда Годвин умер, Эдуард ошибочно решил, что можно послать в Венгрию за отцом Эдгара, после убийства которого Этелинг остался единственным наследником трона в Вестминстере. Король может прожить до тех пор, пока мальчик не достигнет подходящего возраста, чтобы надеть корону, но сейчас о наследовании говорят все до единого купцы на рынке и все хускерлы.
Даже женщины, которые шьют и вышивают в башне, рассуждают про трон Эдуарда, не имеющий наследника, хотя обычно они отмахиваются от таких проблем, считая, что это дело мужчин. Я на них не похожа и никогда не считала, что заботиться о нашей стране должны только мужчины. Ни тело мое, ни умения не годятся для сражений, но ум обладает такой же остротой, как и ум любого воина, — так сказала миледи, когда я виделась с ней в прошлый раз.
Большую часть времени я провожу в дворцовой башне, но иногда королева призывает меня к себе. Накануне праздника солнцестояния она прислала за мной Изабель, и я думала, что меня зовут в покои королевы. Но вместо этого меня привели к королю. До того момента я лишь однажды побывала в покоях Эдуарда, и в этот раз их роскошь снова вызвала у меня благоговейный восторг. В комнате, куда я вошла вместе с Изабель, король принимает посетителей, когда недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы быть при дворе. Стены увешаны тяжелыми ткаными гобеленами из персидской шерсти и шелка, а в изображенных на них сценах из Священного Писания я узнала руку монаха Одерикуса. В комнате почти нет мебели, только стол под окном почти во всю ширину комнаты, а вокруг него — двенадцать стульев из блестящего темного дерева.
В центре комнаты в каменном очаге пылал огонь, а рядом, за низеньким столиком с резными ножками в виде лап льва, инкрустированным квадратиками из слоновой кости и черного дерева, сидели король и королева. Они играли в шахматы. Я не раз наблюдала за состязаниями в шахматы на рынке, и меня так увлекла эта игра, что я иногда провожу за ней по целому часу, не замечая, как бежит время. Миледи позвала меня, чтобы поговорить о новом платье. Она описывала мне его, а ее муж в это время сделал ход одной из золотых фигур. Я слушала королеву не слишком внимательно, потому что увидела, как король поставил свою фигуру на позицию, где королева Эдита могла легко ее захватить. Она, видимо, поняла по моему лицу, что я заметила его ошибку, и позже, когда Эдуард заснул в кресле, спросила, каким, по моему мнению, должен быть его следующий ход. Я взглянула на доску, про которую Джон говорит, что на ней нужно играть так, словно ты находишься на поле боя, и показала миледи, как он мог бы отомстить ей с помощью ферзя. Она не хуже меня знает, что ум ее мужа не создан для военной стратегии, но пришла в восторг, когда увидела, что я разбираюсь в этой игре. Поскольку теперь была ее очередь делать ход, она убрала свою фигуру на безопасную позицию, заметив, что никогда не допустит, чтобы ферзь захватил королеву.
Миледи не часто призывает меня к себе, потому что не кичится своим положением. Она нередко сама приходит ко мне в башню. Мне кажется, ей нравится маленькая комнатка, которая расположена высоко над землей. Из западного окна виден лес позади Вестминстера и дорога, построенная римлянами. Она ведет в Бристоль, где находится двор Гарольда Годвинсона. А через восточное окно открывается вид на Лондон.
Королева Эдита любит сидеть возле этого окна, склонившись над вышиванием в первых лучах зари, или вечером, когда солнце прячется в лесу. Ее окутывает одиночество, которое лучше всяких слов говорит о печали на ее сердце. Правда, с тех пор, как приехал мальчик Эдгар, она стала меньше грустить. Как и у Одерикуса, ее тело не познало плотских утех, но, в отличие от монаха, она не давала клятвы воздержания.
Когда ее отправили в монастырь в Уилтоне, она провела в нем год и научилась ловко обращаться с иглой, потому что монахини этого монастыря шьют епископские облачения. Королева и без того прекрасно умела шить, но там проводила за вышиванием целые дни — ведь других развлечений в монастыре нет, и ее рука стала еще увереннее. Женщин учат обращаться с иглой вне зависимости от их происхождения, но благородные дамы шьют для удовольствия, а не от необходимости латать старую одежду, чтобы сэкономить несколько пенни. Мэри уже тринадцать лет, и она приходит со мной во дворец, если нужно пришить драгоценные камни или жемчуг. Пока ее стежки не настолько ровные, чтобы доверить ей шелковую нить. К тому же она далеко не так старательно обращается с иглой, как наводит красоту, когда отправляется на рынок в надежде, что ее заметит сын каменщика. А он ее заметил, потому что он сам и его фляга с сидром заставили ее громко смеяться у праздничного костра. Мэри очень хорошенькая, с длинными стройными ногами и руками, как ее отец. Джон говорит, что волосы у нее мои, каштановые с золотистыми искорками, и карие глаза тоже от меня. Характер у нее отцовский — такой же мягкий. Она любит мечтать.
ГЛАВА 6
В воскресенье Мадлен лежала в постели и наблюдала за дождем сквозь тонкую ткань штор в спальне. Он шел всю ночь и придал утру налет полусвета, в котором было легко парить между двумя мирами, где она теперь жила.
Записи Леофгит постепенно проливали свет на события, по поводу которых в течение сотен лет выдвигались самые разные предположения. Последние дни саксонской Англии были драматичны, однако оставались окутанными завесой тайны, поскольку надежных письменных источников не сохранилось. Мадлен вспомнила все, что знала. До сих пор она считала, что это — ее конек, и она уверенно рассказывала студентам общепринятые исторические истины. В шестидесятых годах одиннадцатого века клан Годвина владел почти всеми графствами королевства. Гирт и Леофвин были эрлами Восточной Англии и Суссекса, Гарольд — Уэссекса, а Тостиг правил Нортумбрией[21]. Сильное положение Годвинов, а также соперничество Тостига с братом Гарольдом стало легендой, и это длилось до тысяча шестьдесят шестого года, кульминацией которого стало сражение при Гастингсе. Самой Эдите принадлежало много земли, хотя она, будучи женщиной, не правила ими, в отличие от братьев.
Неизвестным, нигде не записанным являлся тот факт, что Эдита и Тостиг поддерживали Этелинга Эдгара и что Эдуард Исповедник заболел уже в тысяча шестьдесят четвертом году. Было принято считать, что он слег через год, примерно в тысяча шестьдесят пятом. Это означало, что тайные интриги касательно наследования трона могли начаться раньше, чем считали историки. По крайней мере, об этом говорилось в дневнике Леофгит.
Мадлен невольно вздрогнула, вспомнив, что в «Англосаксонских хрониках» нет упоминания о тысяча шестьдесят четвертом годе. Она завернулась в одеяло, встала с кровати и отправилась в своем теплом коконе за висевшим за дверью фиолетовым фланелевым халатом. Было холодно — таймер на батарее центрального отопления был установлен на утро и вечер и, очевидно, выключился.
В кухне она сварила кофе, все еще раздумывая об отсутствии в «Хрониках» тысяча шестьдесят четвертого года. Кое-кто из историков считал это необычным, учитывая, что пропущено было всего несколько лет. Средневековые летописцы обычно выполняли приказы дворца, но, возможно, болезнь не позволила Эдуарду заказать описание тысяча шестьдесят четвертого года. В первых главах дневника Леофгит назвала норманнско-итальянского монаха Одерикуса летописцем правления Эдуарда. Это было вполне разумно, учитывая, какое недоверие испытывал король к придворным саксонским аристократам. Похоже, Одерикусу хватало работы в качестве рисовальщика и ученого, без дополнительных обязанностей летописца, — но объясняет ли это то, что в «Хрониках» нет упоминания целого года? И имеет ли значение тот факт, что Леофгит начала собственную хронику в тот самый год, который не задокументировал монах? Вышивальщица намекнула на то, что Одерикус сделал ее своей ученицей, но Мадлен решила, что это всего лишь оправдание ведению дневника.
Утверждение Леофгит о том, что положение юного Эдгара Этелинга в роли естественного наследника трона находилось под угрозой из-за его молодости, указывало на то, что в тысяча шестьдесят четвертом году жизнь Эдгара была в опасности.
Отопление снова включилось, но пока Мадлен ждала, когда сварится кофе, по ее шее и плечам побежали мурашки, а руки покрылись гусиной кожей. Она вспомнила свой спор с Филиппом, когда в качестве примера умной и образованной женщины, жившей в Средневековье, привела Кристину Пизанскую. Как и Леофгит, Кристина писала собственную автобиографию и одновременно рассказывала о политике и нравах, царящих при дворе. Считалось, что она была первой, кто рассказал о жизни женщин. Но сейчас Мадлен переводила слова женщины, которая вела дневник на триста лет раньше и писала в нем о королеве, чью историю практически полностью игнорировали. Почти во всех трудах, посвященных позднему периоду саксонской Англии и норманнскому завоеванию, о ней упоминалось вскользь и весьма невнятно. Все знали, что в тысяча шестьдесят шестом году за корону Англии сражались и погибли несколько претендентов на трон, но неужели есть еще какие-то факты?
К тому времени, когда она позавтракала слоеной булочкой с шоколадом, оставшейся со вчерашнего дня, дождь прекратился, хотя, судя по небу, на ясный зимний день вряд ли приходилось рассчитывать.
Соблазн вернуться к дневнику был невероятно силен, но и повидать Питера хотелось не меньше. На днях он оставил Мадлен сообщение, на которое она не ответила. Он писал, что должен присутствовать только на утренней воскресной службе и, скорее всего, днем будет свободен. Если она выйдет из дома в ближайшее время, то, возможно, попадет в Байе как раз тогда, когда Питер будет возвращаться из церкви.
Прежде чем уйти из дома, Мадлен некоторое время стояла в своем кабинете и смотрела на ящик в шкафу, где лежал дневник. Роза уже знала о его тайном содержании, поэтому не страшно, если она расскажет о нем и Питеру.
Примерно к полудню Мадлен оказалась на автотрассе с рюкзаком, в котором лежал большой, в твердом переплете блокнот с переводом. Временами она бросала взгляд на рюкзак, стараясь не смотреть на торчащий оттуда угол блокнота.
На дороге было полно машин, спешивших на побережье, хотя температура воздуха совсем не радовала, а небо оставалось серого цвета. Неподходящий день для прогулок по берегу, но это шоссе вело еще и в Шербур, откуда уходили паромы в Англию и на Гернси[22].
Мадлен попала в симпатичный центр Байе в середине дня. Сейчас здесь было пустынно, и без сезонных толп туристов это место нравилось ей гораздо больше. Она сразу же направилась к маленькому зданию, стоящему в стороне от дома священника, где находился офис Питера. Он жил с тремя другими священниками, и к одиноким посетительницам здесь относились без энтузиазма. Такое поведение всегда казалось Мадлен несколько оскорбительным, и она подозревала, что Питер предпочитает хранить дружбу с ней в секрете.
К двери офиса, который на самом деле размещался в перестроенном гараже, была прикреплена записка, обращенная ко всем посетителям (здесь располагался открытый центр для молодежи, которым руководил Питер). В ней сообщалось, что Питера вызвали по срочному делу и что он вернется немного погодя. Мадлен нацарапала на записке Питера приветствие, попросив его позвонить ей на мобильный телефон, и отправилась в поисках какого-нибудь местечка, чтобы перекусить.
К сожалению, большинство ресторанов и магазинов, располагавшихся на симпатичных кривых улочках старого города, было закрыто. Она смутно помнила, что Питер как-то приглашал ее в маленькое кафе со столиками, накрытыми скатертями в красно-белую клетку. Оно находилось где-то среди переплетения выложенных булыжником боковых переулков. Кормили там великолепно, и Мадлен тогда подумала, что крошечное, потрепанное заведение наверняка полностью зависит от постоянных клиентов, поскольку расположено в стороне от магазинов и офисов. Питер сказал ей, что, если все остальное в Байе будет закрыто, здесь все равно будут рады принять посетителей. Мадлен была почти уверена, что кафе называлось «У Евы» — или «У Эдиты»? Нет, Эдита тут явно ни при чем — она ведь была королевой и женой Эдуарда…
Мадлен тряхнула головой, словно пытаясь очистить от посторонних мыслей ту часть мозга, где поселились события почти тысячелетней давности. Она шагала по узким, пустынным улочкам Байе, и рюкзак с лежащим в нем блокнотом приятно оттягивал ее плечи.
Когда волосы и одежду покрыла легкая морось от мелкого дождя, Мадлен наконец свернула в тупик, показавшийся ей знакомым. Выцветший навес над входом прикрывал несколько дверей. На окне было написано «У Евы», а потрепанная вывеска на двери сообщала, что кафе открыто.
Когда она перешла дорогу, дверь распахнулась. Оттуда вышел крошечный человечек, похожий на постаревшего Тинтина[23], и закурил сигарету. У него были совершенно седые волосы, которые горизонтально торчали спереди и были гладко причесаны сзади. Одет он был в нечто, напоминающее шаровары, заправленные в высокие носки, вязаный жилет, надетый на рубашку, и галстук. Мадлен бы нисколько не удивилась, если бы следом за ним появилась маленькая белая собачка. Человечек кивнул ей, и она кивнула в ответ, вошла в кафе и оказалась в пустом, но уютном зале.
Тинтин не торопился вернуться назад, и она решила, что хозяин заведения — кто-нибудь другой. Мадлен уже собиралась крикнуть, чтобы привлечь к себе внимание, когда из-за радужной пластиковой занавески, разрезанной на полосы и находящейся за стойкой, появилась сначала голова в желтом тюрбане, а затем и вся женщина в яркой оранжево-розовой тунике, надетой поверх черного тренировочного костюма из нейлона. Тонкие щиколотки торчали над шлепанцами, напоминавшими оперенье Большой Птицы[24]. Одновременно с этим диковинным явлением открылась дверь, и со смущенным выражением на лице вошел Тинтин. Женщина шикнула на него и, закатив глаза, посмотрела на Мадлен.
— Мне от него ну совсем никакой пользы. Стоит уйти на минутку, как он тут же отправляется курить, словно делать капуччино ниже его достоинства.
Тинтин тут же выскочил на улицу, закурил и принялся разглядывать пустынный тупик, словно там происходило нечто невероятно интересное.
Мадлен решила, что существо в кричащем костюме и с пронизывающим взглядом и есть Ева.
— У тебя голодный вид, но в такой час у меня ограниченное меню. Если бы ты пришла в правильное для ланча время, я бы предложила самый лучший в Нормандии — или даже во всей Франции — гуляш. Впрочем, у меня есть пирог — сладкий картофель, базилик и козий сыр. Тебе понравится.
Мадлен, чувствуя свою полную беспомощность, кивнула. Она бы не осмелилась отказаться от пирога Евы, даже если бы у нее была аллергия на все ингредиенты, но на слух пирог показался ей восхитительным, а она ужасно проголодалась.
— Двойной эспрессо?
Мадлен снова кивнула, и ей стало интересно, как часто хозяйка кафе угадывает, что будут пить посетители. Она взяла со стойки у бара старый журнал и уселась около выложенной плиткой стены, откуда могла присматривать за Тинтином и быть готовой к появлению маленькой белой собачки.
Хозяйка принесла пирог, ради которого стоило ехать сюда из Кана, — он даже помог ей смириться с противной запиской на двери Питера. В тот момент, когда Мадлен прожевала последний кусок тающей во рту начинки, Ева принесла не один, а два эспрессо и уселась напротив. Мадлен пила кофе и разглядывала клетки на скатерти. Ей почему-то было ужасно неловко. Когда она подняла глаза, оказалось, что Ева смотрит не на нее, а на блокнот, лежащий на столе.
— Когда закончишь, могу дать тебе совет, — махнула она тюрбаном в сторону блокнота.
Горло у Мадлен перехватило, словно кто-то сжал ей голосовые связки жесткими пальцами. Что могла Ева знать про перевод?
— В каком смысле? — Собственный голос показался ей тонким и каким-то далеким.
Ева едва заметно прищурилась, и подозрения Мадлен еще сильнее укрепились. У хозяйки кафе сделался заговорщический вид.
— Я имею в виду, когда ты закончишь свою работу, я могу ее почитать. Тебе ведь нужно сделать работу?
Ева снова взглянула на блокнот:
— Да, моя работа… Мне действительно нужно ее сделать… В каком смысле почитать?
— Я читаю руны. — Тон Евы изменился, превратившись из покровительственного в примирительный. — Я это хорошо умею, ты останешься довольна. Но сначала тебе надо закончить работу.
Она встала и бросила последний взгляд на блокнот, предоставив Мадлен раздумывать о том, что, судя по всему, ее паранойя уже бросается всем в глаза. Эта морщинистая старая хиппи никак не могла знать про дневник. Мадлен отчаянно захотелось рассмеяться, но она вовремя сообразила, что смех может оскорбить хозяйку кафе, поэтому постаралась сделать непроницаемое лицо и сказала:
— Меня не интересуют предсказания судьбы, мадам… и с чего вы взяли, что мне это… нужно?
Она надеялась, что ее лицо оставалось непроницаемым и что Ева не настолько хороший психолог, чтобы почувствовать, как сильно бьется ее сердце.
Ева пожала плечами:
— Я тебе скажу за двести франков, включая стоимость ланча.
Она забрала тарелки и ушла. Мадлен не поняла ни слова.
Мегера в тюрбане скрылась за пластиковой занавеской, и она открыла блокнот. Накануне вечером у нее слипались глаза, и Мадлен не смогла перечитать перевод последней записи.
7 августа 1064 года
Урожай собран, и теперь у меня достаточно муки на зиму. Я почувствовала себя спокойнее — ведь зерно смолото и убрано на хранение, и я могу взять дополнительные заказы на вышивки, потому что маленькому Джону стали малы прошлогодние зимние башмаки.
Изабель говорит мне, когда при дворе появляются дамы, которые хотят заказать у нас вышивки, — ведь наша работа славится на континенте, и мы считаемся самыми умелыми мастерицами. Она знает, что я готова взять больше работы. Недавно я пришивала жемчужины и бусинки из римского стекла к платьям Джудит, жены Тостига, а также племянницы короля Эдуарда Лидии, которая вышла замуж за шотландского принца. Обе дамы прибыли ко двору, чтобы проявить сочувствие — ведь всем известно, что королева ухаживает за больным мужем.
В последние недели она постоянно находится в покоях Эдуарда, а на кухне и в конюшнях прошел слух, что король лишился рассудка. Комната, где я работаю, находится далеко от его спальни, но иногда слышно, как в каменных залах разгуливает эхо безрадостного смеха.
Король в своих привычках больше норманн, чем сакс. Он пьет вино, а не эль и настаивает на том, чтобы столы накрывали чистыми некрашеными тканями. В последнее время он просто помешан на чистоте, и, если скатерть не белая, как молоко, а его серебряная чаша не блестит так, что в ней можно видеть отражение его худого лица, король ужасно расстраивается. Прачки ненавидят скатерти, потому что, как ни старайся, на них все равно остаются следы от вина и мяса и король огорчается, что скатерти не безупречны. Повариха, у которой характер как у жены Тора[25], вечно поносит прачек, которые прячут лица в кучи грязного белья. Их мучительница думает, будто они стыдятся своей плохой работы, но на самом деле белье пахнет лучше, чем ее пропитанное луком дыхание, и прачки прячут носы и свой смех.
Королева опять вернулась к вышивке, которую начала, когда я потихоньку подглядывала за ней. Когда я ходила в башню, то заметила, что тот самый кусок ткани по-прежнему не разрезан. Там, где по кромке вьется плющ, появились новые детали, вышитые трехцветной шерстью. Кое-где золотые стебли опутаны голубыми, зелеными и желтыми нитями, они идут вдоль длинного ровного края и увенчаны ответвлениями, похожими на оленьи рога. Но самой удивительной мне показалась арка, под которой сидит человек.
Я видела рисунки королевы, но она никогда не делала их для собственных вышивок. Множество ковров и гобеленов во дворце, изображающих святых, королей и героев, выполнены по заказу миледи братом из монастыря Святого Августина. Картина, которую вышивает королева, нарисована в стиле, присущем монахам, но она мягче и нежнее. Под аркой сидит король — я в этом уверена, несмотря на то что миледи вышила желтой шерстью только часть его короны. Лицо Эдуарда кажется более круглым и молодым, таким оно было до болезни. Эта картина служит доказательством любви королевы к мужу, но не любви женщины к мужчине, а скорее дочери — к отцу. Я думаю, что она отдает королю дань в своей работе, так как еще помнит его здоровым и полным сил.
Мадлен подняла глаза от перевода и заметила сквозь грязное стекло окна, что Тинтин продолжает курить одну сигарету за другой — видимо, чтобы не заходить внутрь. Ева так и не вышла, и Мадлен улыбнулась, представив себе, как она за пластиковой занавеской помешивает что-нибудь в кастрюле.
Руны, с которыми Ева предложила ей посоветоваться, являлись древними скандинавскими символами для предсказаний. Но они были еще и алфавитом, которым пользовались в Британии до римского вторжения. Затем латынь постепенно вытеснила рунические тексты и стала официальным письменным языком. Мадлен неожиданно захотелось узнать, что откроют ей руны. Она не осмеливалась признаться самой себе, что смерть матери пробудила в ней новый интерес к нематериальным мирам. Да и что она потеряет, кроме двухсот франков? К тому же ей было страшно любопытно. Ева снова появилась из-за занавески, подошла к двери и что-то рявкнула Тинтину, который неохотно затушил недокуренную сигарету и с мрачным видом, опустив голову, проследовал за ней. Проходя мимо столика Мадлен, Ева поманила ее за собой — словно с самого начала знала, что та не откажется от ее предложения.
Комната за радужной занавеской — если не считать изъеденных молью розовато-лиловых бархатных штор на окне — представляла собой музей китча. Мадлен принялась разглядывать предметы в комнате, а Ева тем временем копалась в ящике обшитого фанерой буфета, очевидно, в поисках набора для предсказания судьбы. В углу находился огромный телевизор в коробке из искусственного дерева, который показывал американскую мыльную оперу, и стоял газовый обогреватель с мерцающим язычком пламени, а там, где когда-то был камин, лежали фальшивые дрова. На каминной полке стояли фарфоровые котята и пастушки из тех, что заказывают по почте, а еще маленькие стеклянные слоники самых разных ярчайших расцветок. Диван и два стула были обиты коричневым и горчичным велюром с геометрическим рисунком, а ковер на полу представлял собой грязно-зеленую лохматую тряпку.
Ева победоносно вскрикнула и достала из ящика мешочек, который, похоже, был сшит из остатков шторы. Она улыбнулась Мадлен, и во рту сверкнул золотой зуб.
— Ты знаешь про руны?
Мадлен кивнула, хотя знала только о том, что в руническом алфавите двадцать четыре знака и что каждый символ имеет еще и более глубокое, эзотерическое значение. Знаки, похожие на веточки разной формы, традиционно вырезали на кусочках дерева или кости. Их толковали прорицатели. Известно, что, прежде чем отправиться в набег на Европу, викинги советовались с похожими на ведьм прорицательницами.
— Тебе уже читали руны прежде? — удивленно спросила Ева, словно Мадлен была последним на земле человеком, кто мог, по ее представлениям, иметь подобный опыт.
— Нет. Я преподаю историю, — с обиженным видом сказала Мадлен.
Ева с умным видом кивнула.
— Значит, ты приехала сюда, чтобы взглянуть на гобелен королевы Матильды?
Французы по-прежнему называли гобелен Байе «гобеленом королевы Матильды», считая, что загадочный гобелен, повествующий об исторических событиях и прославивший городок Байе, заказала жена Вильгельма Матильда.
— Вообще-то я приехала, чтобы повидать друга, — ответила Мадлен, почувствовав облегчение оттого, что Ева, очевидно, не все про нее знает. — Я видела знаменитую вышивку много раз.
Ева кивнула и протянула Мадлен мешочек.
— Ага. Давай-ка посмотрим, что получится.
Через полчаса Мадлен вышла из кафе, поглядывая на знаки, нацарапанные на обрывке бумаги. На первой маленькой табличке из дерева, которую она вытащила из бархатного мешочка Евы, был вырезан символ Эйваз, похожий на прямую молнию. Ева сказала, что он означает тисовое дерево и считается одним из самых могущественных знаков. Будучи первой выбранной руной, он указывает на скрытое значение трактовки рун. Ева полуприкрыла накрашенные бледно-зелеными тенями веки почти без ресниц и, казалось, смотрела куда-то поверх головы Мадлен.
— Эйваз содержит в себе жизнь и смерть. Тисовое дерево ядовито и может убить, но живет дольше остальных деревьев.
Вердикт был произнесен почти мелодраматично, и Мадлен снова с трудом сдержала смех, хотя на сей раз он был нервным. Ведь ее действительно привлекла к рунам смерть — ее яд и ее притягательность. Ева продолжала говорить, объясняя Мадлен, что послание руны Эйваз трактуется совершенно однозначно. Она означает путь в «мир иной». Услышав это, Мадлен с шумом втянула в себя воздух и смогла только кивнуть, когда взгляд Евы стал более сосредоточенным и она спросила:
— Кто-то умер?
Мадлен нахмурилась, глядя на руну и пытаясь понять, не стала ли она жертвой мошенничества. Наверняка по ее реакции было видно, что ее коснулась смерть. Она снова посмотрела на листок и вторую руну из выбранных ею трех. Этот символ — Совило — означал солнце, хотя внешне был похож на угловатую букву S. В скандинавской мифологии солнце всегда уничтожало зло и одерживало победу. Поклонение солнцу в Англии, видимо, было естественным явлением, учитывая неблагоприятный климат, и это могло служить объяснением тому, что саксы с радостью приняли скандинавское язычество. Ева объяснила присутствие Совило как победу света над тьмой и жизни над смертью. Поскольку эта руна стала второй, она рассказала о том, что могло произойти, чтобы изменить ситуацию, хотя четкого определения ситуации она не дала.
— Могущественный целитель, — проквакала Ева. — Когда солнце вернется, все станет гораздо лучше.
Мадлен с испугом взглянула на нее, подумав, что Ева сейчас превратится в жабу.
Она глубоко вздохнула и посмотрела на магические символы, нарисованные на листке бумаги. Руны указывали на то, что в скрытом мире подсознания идет борьба, хотя она и отказывается признавать его существование, особенно если подсознание представляет нечто ненаучное, вроде мистического алфавита.
Третий, и последний, символ, который Мадлен вытащила из мешочка, походил на наконечник стрелы. Это была руна Феху — знак стихии огня. Ева со знанием дела кивнула, увидев руну, и широко улыбнулась, продемонстрировав второй золотой зуб.
— Хорошее предзнаменование. В древние времена огонь превращал грубый металл в сверкающий металл, так что благодаря огню воины получали магическое оружие. Эта руна означает превращение. Понимаешь?
Мадлен собралась отрицательно покачать головой, но ей ужасно хотелось уйти, поэтому она кивнула в надежде, что Ева ее отпустит. Ей не хватало свежего воздуха и сигареты. К ее облегчению, Ева вернулась к рунам, лежащим в мешке.
— Так устроена вирт — руническая паутина, соединяющая все в мире. Смерть — ничто. Все существует за пределами времени, к которому мы относим предметы и явления. Представь себе паутину, похожую на гобелен, — все нити сплетены в единое целое. Возможно, если ты снова на него посмотришь, ты поймешь лучше.
Мадлен продолжала шагать вперед, глубоко погрузившись в свои мысли. Ева говорила про паутину вирт. В скандинавской мифологии вирт — общее имя для трех норн — богинь, которые правили прошлым, настоящим и будущим. Их царство — это судьба, неизбежная и неминуемая. Возможно, паутина судьбы соединяет и века и дневник Леофгит не просто так попал к ней в руки! Подумав об этом, Мадлен с отвращением тряхнула головой, возмущенная собственной глупостью. Что с ней творится, если она уже верит в предсказания женщины, которая красит веки ярко-зелеными тенями? Она решила, что Ева чрезвычайно ловко заработала двести франков.
Было уже почти четыре часа, когда Мадлен снова увидела крыши Байе. Она шла, почти не разбирая пути, пока не оказалась на зеленой поляне над городом. Мелкий дождик падал на город, и шпиль собора окутывал прозрачный ореол. Из задумчивости ее вывел громкий вопль мобильного телефона, лежащего где-то на дне рюкзака. Звонил Питер.
— Привет, Мэдди, это я. Ты где?
— В смысле… а ты где?
— В келье для размышлений. Встретимся?
Так Питер называл свой офис. Он говорил, что там ему думается лучше всего, хотя, с точки зрения Мадлен, главным в этом сочетании было слово «келья».
— Встретимся в соборе через пятнадцать минут, — сказала она и выключила телефон.
Она решила, что сумеет найти собор, если будет постоянно видеть его шпиль.
Пока она шла, как ей казалось, к центру Байе, ее мысли снова вернулись к далекому прошлому. Собор Байе построили примерно в то самое время, когда Леофгит писала свой дневник. Его освятил во время вторжения Вильгельма в Англию его сводный брат Одо, епископ Байе. По имеющимся сведениям, Одо был амбициозным и жестоким человеком. Существовала теория, что именно Одо (а не жена Вильгельма Матильда) заказал гобелен Байе, чтобы повесить его в нефе нового собора. Там он стал бы напоминать прихожанам, что в сражении при Гастингсе Бог стоял на стороне норманнов.
Мадлен добралась до норманнского собора на несколько минут раньше назначенного времени и прошла по центральному проходу нефа. Здесь новые блестящие камни превратили алтарь в театральные подмостки — диковинный гибрид Средневековья и сводчатого стиля семидесятых. Справа от алтаря находилась часовня Богоматери, где стояла статуя Марии в золотой короне и традиционной голубой мантии. Мадлен села на гладко отполированную скамейку в маленькой часовне и стала смотреть на статую, пытаясь вспомнить все, что знала про культ непорочности, который был так силен в средневековой церкви королевы Эдиты. Поскольку Небесная Царица родила Сына, Который должен был спасти земное царство, средневековые королевы считали, что они выполняют свое священное призвание и что их сыновья должны стать королями-избавителями. Бездетная Эдита вполне отвечала этим требованиям, поскольку страстно стремилась помочь своему суррогатному сыну Эдгару получить корону.
Питер вырвал ее из необычных размышлений, похлопав по плечу. Он выглядел измученным — круги под глазами стали темнее, а глаза еще больше запали по сравнению с прошлым разом, когда она видела его. Он сел рядом на скамейку и на мгновение прикрыл глаза. Никто из них не произнес ни слова. Мадлен не знала, почему он закрыл глаза — в безмолвной молитве или чтобы отдохнуть.
Она воспользовалась этой возможностью, чтобы рассмотреть его лицо. Когда-то красивые, мальчишеские черты с годами заострились, но непослушные вьющиеся волосы оставались густыми, и их глубокий каштановый цвет почти не тронула седина. Очки тоже остались прежними — Питер продолжал, как и в университете, носить круглые тонкие оправы.
Неожиданно Питер открыл глаза и посмотрел прямо на Мадлен. Он заметил, что она его разглядывает. Мгновение они не сводили глаз друг с друга. Питер отвернулся первым.
— Как ты, Мэдди?
Беспокойство в его голосе чуть не заставило ее забыть, что его сочувствие может быть опасным — ей захочется отдаться горю, которое она с трудом сдерживала, глядя на статую Девы Марии, и она расплачется у него на груди.
— Я в порядке, — ответила она не слишком убедительно.
Он кивнул и, повернувшись, снова посмотрел ей в лицо.
— Как насчет выпить?
— Знаешь, я бы хотела взглянуть на гобелен.
У Питера сделался озадаченный вид. Он знал, что Мадлен уже множество раз видела гобелен. Она и сама немного удивилась, но сейчас у нее появился новый интерес к одной из самых знаменитых в мире вышивок.
Питер пожал плечами, но спорить не стал и, взглянув на часы, сказал, что надо поторопиться — в воскресенье музей закрывается рано.
Когда они подошли к каменному зданию музея Вильгельма Завоевателя, оттуда как раз выходила группа школьников. В музее были выставлены артефакты одиннадцатого века, но главным экспонатом являлся гобелен Байе, которому исполнилось девятьсот лет. Школьники болтали и шутили по-испански, а молодая измученная учительница пыталась собрать их вместе, но у Мадлен сложилось впечатление, что ей пригодилась бы парочка овчарок. Встретившись с ней глазами, Мадлен с сочувствием улыбнулась и тихо порадовалась тому, что решила работать в университете.
Внутри они с Питером дружно отказались от записанной на магнитофонную пленку экскурсии, в которой рассказывалась история гобелена. Мадлен слышала ее много раз — подробное описание событий, изображенных на нем, различные теории касательно того, где и зачем его сделали. С тех пор, как в восемнадцатом веке гобелен обнаружили в соборе Байе, эпическое полотно было подвергнуто самым разным многочисленным анализам. Кроме того, по его поводу возникло огромное количество споров, и оно привлекло к себе пристальное внимание, став темой множества книг и теорий, какого не удостоилось ни одно произведение текстильного искусства — за исключением разве что Туринской плащаницы[26].
Мадлен прошла впереди Питера по темному коридору и посмотрела на знакомую узкую полосу ткани, освещенную тусклыми лампочками и спрятанную под толстым стеклом, которое защищало ее от вспышек фотоаппаратов. Посетителей было совсем мало, и они не мешали ей разглядывать необычную реликвию.
Вышивка тянулась вдоль всего коридора, потом сворачивала в другой. Ее длина составляла 230 футов. Кое-где древняя ткань порвалась, в других местах протерлась, но все равно на удивление хорошо сохранилась для своего возраста и несмотря на все опасности, которым подверглась за свою историю. Теперь же она гордо висела на стене музея, хотя и казалась диковинно чужеродной в современном окружении, — словно гобелен мужественно сражался за жизнь, чтобы обрести эту честь. Великолепные цвета шерсти, окрашенной растительными красками, все еще оставались яркими, а изображения королей, церквей, лошадей и сражений, как всегда, заворожили Мадлен.
Дойдя до конца, туда, где солдаты Вильгельма Завоевателя с победой покидают кровавую бойню, устроенную ими в битве при Гастингсе, Мадлен впервые за много лет почувствовала физическое напряжение в присутствии Питера. Она испугалась — а вдруг это сексуальное желание? Она не сомневалась, что давно сумела погасить это пламя. Сначала, когда Питер отказался с ней спать (до того, как поступил в семинарию), она испытывала почти невыносимую боль. Даже любовники, появлявшиеся и вскоре исчезавшие, не помогали с ней справиться — она не могла забыть прикосновений Питера. Но все уже прошло, и она даже гордилась тем, что смогла одержать победу над желанием. А вот для Питера целомудрие казалось естественным состоянием — он сумел привыкнуть к нему гораздо легче. Ему помогла в этом жесткая и столь характерная для него самодисциплина.
Нет, решила Мадлен, напряжение, которое ее захватило, скорее всего, рождено диковинным эротизмом церквей и музеев — кажется, что царящая в них тишина заряжена страстями и чувствами, давшими жизнь реликвиям, которые хранятся в них.
Мадлен чувствовала на себе взгляд пронзительных серых глаз Питера. Они вернулись к началу вышивки, и, чтобы на чем-то сосредоточиться, Мадлен, почти прижавшись носом к стеклу, стала вглядываться в первую картинку. Король Эдуард, сидящий на троне, казалось, смотрит прямо на нее. Над ним изгибалась великолепная арка, голову украшала изысканно вышитая корона из желтой шерсти, придававшая ему царственный вид. Неожиданно Мадлен громко вскрикнула, почувствовав, что у нее подкашиваются ноги, и ухватилась за один из столбиков, на которые была натянута заградительная веревка. Она так резко вдохнула в себя воздух, что получилось что-то вроде громкого стона. Питер с беспокойством посмотрел на нее.
Корона из желтой шерсти! Этого не может быть!
— Что с тобой, Мэдди? — с искренним беспокойством спросил Питер. — Похоже, ты увидела призрак.
— Да. Нет, все в порядке. — Мадлен быстро взяла себя в руки. — Гобелен всегда… сильно меня волнует. Ты ведь помнишь, что я читаю лекции именно по этому периоду истории?
Даже ей самой такое объяснение показалось не слишком правдоподобным, да и Питера оно не убедило, но он, видимо, решил, что причиной ее странного поведения является пережитое горе, и потому промолчал.
Мадлен быстро пошла вдоль застекленной витрины, оставив озадаченного Питера стоять на месте и смотреть ей вслед. Она принялась разглядывать гобелен, словно видела его в первый раз, — Гарольд вместе со своими людьми скачет на побережье, где они переберутся через канал в Нормандию. Переправа, захват слугами графа Ги де Понтье, на чей берег они высадились. Затем их спасение Вильгельмом Завоевателем, встреча Гарольда и Вильгельма…
Мадлен пошла медленнее, переводя глаза с одной картины на другую, пытаясь отыскать указание на то, что события на гобелене изображены последовательно. Она увидела, что повсюду использован один и тот же фантастический рисунок, а стиль скрученных завитков (неужели это то самое, что Леофгит назвала «оленьими рогами»?) на следующих картинках слегка изменен, в результате чего возникли изящные деревья, время от времени отделявшие одну сцену от другой. Каждое дерево слегка отличалось от своего соседа, а их ветви переплетались цветными полосами, точно распускающиеся кельтские узлы[27].
Она остановилась перед самым загадочным эпизодом вышивки, который всегда волновал ее. Здесь, между двумя колоннами, увенчанными головами драконов, которые соединялись в арку, стояла таинственная леди по имени Эльфгифа. По другую сторону арки находился мужчина, который гладил ее по голове. Несомненно, это был монах — венчик волос вокруг голого черепа явно говорил о монашеском статусе.
Эта картина была особенно загадочна, потому что имя Эльфгифа в одиннадцатом веке встречалось довольно часто и на гобелене могла быть изображена любая из аристократок, живших в то время. Существовала довольно популярная теория о том, что Эльфгифа на гобелене Байе сознательно изображена нечетко — мастерица, создавшая картину, специально сохранила ее анонимность. Но это было всего лишь одной из загадок гобелена. Мадлен всегда чувствовала родство с таинственной Эльфгифой — ведь она тоже совершила ошибку, позволив прикоснуться к себе священнику.
Среди других загадок гобелена были поля — узкие полоски над центральными картинками и под ними, украшенные сельскими пейзажами и сказочными зверями. Некоторые историки считали, что в них содержится зашифрованное послание. Поля везде были одинаковыми, кроме сценки, изображавшей Эльфгифу. Там на полях была вышита фигура обнаженного мужчины, вынимающего (или, наоборот, вонзающего) топор в шкатулку. У Мадлен закружилась голова от быстро сменяющих друг друга мыслей, которые, не успев как следует сформироваться, тут же уступали место новым предположениям.
Неужели возможно, что вышивка, которую она разглядывает, легендарный гобелен Байе, и есть та необычная работа королевы Эдиты, которую увидела и описала в своем дневнике вышивальщица Леофгит? Мадлен надеялась, что Питер сейчас на нее не смотрит, поскольку она с трудом контролировала выражение лица. В дневнике говорилось о вышивке, невероятно похожей на эту, и не более. Хотя… если возможно существование манускрипта девятисотлетней давности, почему в нем не может говориться о знаменитом древнем гобелене? Если Эдита действительно его вышивала, значит, он, вне всякого сомнения, не заказан норманнами — ни женой Вильгельма Матильдой, ни ее кузеном Одо из Байе. К тому же он вышит не в десятилетие после норманнского завоевания, как принято считать. Возможно ли, что работа над ним началась до событий, показанных в его последней части?
Гобелен часто называют пьесой в двух актах. В таком случае почему первая часть, рассказывающая историю саксов, не могла быть начата именно тогда, когда происходили описанные там события? Мысли Мадлен принялись бешено кружиться, когда она осознала величие загадки, с которой столкнулась. Такое просто невозможно — она наверняка ошибается. И тем не менее в дневнике рассказывалось про Эдуарда, сидящего под аркой, а также про то, что Эдита вышивала шерстью на некрашеном полотне. Само по себе это уже необычно для королевы, потому что если бы та пожелала, то могла бы вышивать золотой нитью и драгоценными камнями. Возможно ли, что арка между двумя башнями и сидящий под ней Эдуард в короне, вышитой желтой шерстью, всего лишь совпадение? Возможно, существует еще одна вышивка, повторяющая первую сцену, изображенную на гобелене Байе. Самым важным возражением против такой теории является тот факт, что 230 футов полотна в одиночку вышить невозможно — на это ушла бы целая жизнь.
Мадлен продолжала смотреть на текст над сценкой с Эльфгифой — «Леди Эльфгифа и священник». Больше ни слова, как будто то, что делают леди и священник, запрещено обсуждать. Простая латинская надпись по всей длине гобелена имела явно норманнский уклон, до норманнского вторжения в Англию, и представляла собой еще одну загадку. Если бы Эдита следила за работой, разве текст не был бы наполнен симпатией к саксонскому королевскому дому?
Питер остановился около Мадлен и заметил, что она рассматривает эпизод с Эльфгифой.
— Ты в порядке?
Он пристально посмотрел на нее, и Мадлен смогла лишь кивнуть.
— Мне кажется, музей сейчас закроется, — добавил Питер, махнув рукой в сторону одного из охранников.
Они решили вернуться в офис, чтобы выпить там что-нибудь, поскольку (как подумала Мадлен) поблизости не было ни одного паба, где Питер пожелал бы появиться вместе с ней.
В офисе Питер снял темно-синий плащ, и пасторский воротник окутали его длинные вьющиеся волосы. Худое усталое лицо в электрическом свете, льющемся с потолка, показалось ей еще более бледным. Он смешал водку с брусничным соком — привычка студенческих времен, — достав все ингредиенты из бара, ловко спрятанного позади ряда устрашающих на вид исторических фолиантов.
Офис — бывший гараж — находился за домом священника, от которого его отделял ухоженный сад, и имел отдельный вход. Здесь всегда было прохладно, поскольку тепло давал только маленький обогреватель. Мадлен постаралась сесть как можно ближе к нему, но так, чтобы не поджечь одежду. В комнате почти ничего не было, кроме письменного стола, старого диванчика и кучи книг. Членам священной лиги (так Мадлен называла коллег Питера), не одобрявшим его необычное стремление к уединению, он объяснял, что наставляет здесь своих юных учеников. А музыка, по его словам, нужна затем, чтобы помочь им почувствовать себя комфортнее. Впрочем, музыка, которая имелась у Питера, вряд ли могла заинтересовать подростков, не достигших того возраста, когда виниловые пластинки шестидесятых — семидесятых годов считаются «крутыми».
Это была келья для его ума, потому что именно в ловушку собственного сознания и попал Питер. Разве не так вышивальщица описывала своего друга-монаха? И снова Мадлен представила себе призрачную нить, соединившую ее и женщину, написавшую дневник. Может быть, это и правда нить из рунической паутины Евы… Мадлен вспомнила еще кое-что, сказанное Евой: «Возможно, если ты снова посмотришь на гобелен, ты поймешь лучше». Она инстинктивно взглянула на лежащий у ног рюкзак, где находился блокнот с переводом. Неужели Ева наделена еще и рентгеновским зрением? Но ведь она никак не могла знать о связи между гобеленом Байе и записями в блокноте Мадлен.
— Расскажи мне про Англию, — тихо, с сочувствием проговорил Питер, который наблюдал за ней.
Мадлен моргнула и сделала большой глоток водки. Как она откроет свой секрет Питеру — и нужно ли его открывать? Начать рассказ с двух недель, проведенных в Англии, а потом перейти к чаепитию с сестрами Бродер? Она чувствовала, как внутри растет протест. Речь шла вовсе не о ее доверии, потому что Питер был его достоин.
— Это было немного сюрреалистично… Мне скоро придется вернуться туда и закончить собирать вещи…
Знакомый комок в горле помешал Мадлен договорить слова, касающиеся Лидии. Питер заметил это и тактично сменил тему.
— Чем ты занималась полдня?
— Да ничем особенным. По правде говоря, я встретилась с предсказательницей. Она читает руны. Помнишь маленькое кафе, куда ты водил меня в прошлом году есть восхитительное жаркое из кролика?
— Хм. Мне казалось, ты в это не веришь.
— Мне стало любопытно.
— И что тебе стало любопытно — будущее? Я хорошо помню, как ты говорила: «Лучше ничего не знать». Кажется, это относилось к одной мимолетной связи… Дело в твоем новом увлечении, и ты заинтересовалась тем, что тебя ждет?
В голосе Питера появилась резкость, непонятная Мадлен. Ревность или неодобрение? Или просто дело в усталости и разочаровании?
— Нет. Смерть матери.
Горечь в ее голосе была непроизвольной, но заметной, и Питер смутился. Мадлен решила не обращать на это внимания, а выставить свой визит к Еве как нечто несерьезное.
— Не нужно строить из себя святошу, Питер. Мне казалось, что подозрительность церкви, касающаяся языческих ритуалов, относится только к колдовству. Предсказания судьбы совершенно безобидны!
— Я не согласен — они опасны. Я понимаю, что тебе сейчас нужна… поддержка, Мэдди, но ведь ты очень уязвима.
— Думаю, я справлюсь со своими проблемами. В любом случае спасибо тебе.
В ее голосе вновь прозвучала горечь. Впрочем, уже было пора возвращаться, не то она снова начнет критиковать Питера и то, что с ним сотворило его призвание. Мадлен так и не упомянула про дневник. Она решила, что сейчас для этого не самое подходящее время.
Когда Мадлен ехала в спускающихся сумерках в сторону Кана, она наконец поняла, что слишком долго цеплялась за воспоминания о прежних отношениях с Питером, о том, кем они были друг для друга, и эти воспоминания ее ослепляли. Теперь же она вдруг прозрела. На место близости не пришла «дружба», как она постоянно себе твердила. Наоборот, их разделила пропасть идеалов, вступивших в противоречие друг с другом. Питер никогда не изменится, он будет продолжать заглушать свою собственную боль и смятение спасением чужих душ. Он выбрал благородный путь, но Мадлен больше не могла делать вид, что поддерживает его.
Ее мысли постепенно вернулись к гобелену. Она вспомнила книгу о средневековой вышивке, которую нашла в доме Лидии. Мадлен прочла всего пару страниц, но успела понять, что королева Эдита и жена Вильгельма Завоевателя Матильда славились своим искусством вышивания. Но никто не знал того, что Эдита была к тому же умелой рисовальщицей. По правде говоря, этот факт поднимет настоящую бурю среди историков. Мадлен некоторое время раздумывала, не сообщить ли Розе о своем открытии. Как преподаватель истории искусств, временами феминистка и фанатичная поклонница самых разных тканей, Роза наверняка сможет сказать что-нибудь разумное. Кроме того, у нее по любому поводу всегда имелось собственное мнение.
Неожиданно у Мадлен все внутри сжалось от паники. Она не имеет никакого права молчать про дневник — ведь то, о чем писала Леофгит, является исторической терра инкогнита. Может ли она хранить в тайне существование документа, проливающего новый свет на поворотный момент в истории Европы? Потом, это и правда неэтично, как сказала Роза. Ее нежелание рассказывать про дневник вступило в противоречие с профессиональными принципами. Ее наняли, чтобы она поделилась своими знаниями о прошлом. Однако мгновения сомнений тут же сменило чувство собственницы — дневник принадлежит ей, и она ни при каких обстоятельствах и никому больше о нем не расскажет. Пока.
Чтобы не мучиться чувством вины, Мадлен решила, что кусок ткани, который вышивала королева Эдита, когда за ней подсматривала Леофгит, не мог быть гобеленом Байе. Вышивка Эдиты, вне всякого сомнения, погибла вместе с другими произведениями, о которых рассказала Леофгит, — коронационным облачением Эдуарда, изысканно вышитым гобеленом, изображавшим Альфреда Великого на боевом коне, а также великолепными коврами, висевшими на стенах дворца и Кентерберийской библиотеки… В конце концов, ткани, к сожалению, относятся к историческим реликвиям, которые гибнут первыми.
Обратная дорога в Кан, казалось, вообще не заняла времени, настолько Мадлен была погружена в свои мысли. Она опомнилась, лишь оказавшись в вестибюле своего дома. Мадлен вспомнила, что не проверила субботнюю почту, и обнаружила письмо, отправленное из Кентербери. Вскрыв его, она стала подниматься по лестнице. Как и ожидалось, письмо было от адвоката Лидии и касалось чтения завещания. Назначенный день выпадал на каникулы между семестрами, как она и просила.
На автоответчике было два сообщения. Первое — от Жана. Она не перезвонила ему, хоть и обещала. Их обычная практика оставлять друг другу сообщения продолжалась. Иногда они месяцами не разговаривали по-настоящему. Мадлен не могла понять, зачем Жану вообще нужен телефон, ведь он так сильно его не любил.
Второе сообщение оставил Карл Мюллер, чей мягкий голос неожиданно сильно взволновал Мадлен. Он сказал, что через пару недель будет в Париже, и спросил, не согласится ли она с ним пообедать. Мадлен улыбнулась и прокрутила сообщение назад, чтобы еще раз услышать медовый голос и слова о том, что он хочет ее видеть.
Карл не оставил номера телефона, пообещав позвонить ближе к тому моменту, когда он соберется во Францию.
Покончив с делами, Мадлен почувствовала, что ее тянет взять в руки дневник. По мере того как его откровения становились более интригующими, Мадлен все глубже погружалась в состояние предвкушения и все сильнее хотела читать дальше.
10 августа 1064 года
На рынке твердят, что король безумен, хотя многие утверждают, будто он обезумел еще десять лет назад, когда приказал эрлу Годвину поднять своего брата Альфреда из мертвых. Но теперь король уже много дней не покидает своих покоев и плачет во сне. Целитель из Персии говорит, что у него не осталось воли к жизни. Король уже дважды отсутствовал на совете старейшин, епископов, эрлов и аристократов, где обсуждались вопросы управления государством.
Уже ни для кого не является секретом тот факт, что совет старейшин был прерван из-за споров, поскольку Гарольд в ярости выскочил из Большого зала и отвесил затрещину мальчишке-конюху, который замешкался, выводя во двор его жеребца. Гарольд галопом ускакал из дворца без своей стражи, а женщины в башне бросились к западному окну, чтобы посмотреть, как его жеребец поднимает пыль на Бристольской дороге.
После шахматной партии в покоях Эдуарда королева Эдита стала открыто говорить с Изабель в моем присутствии. Именно от нее я и услышала рассказ о том совете.
Гарольд поспорил с Тостигом по поводу управления Нортумбрией, эрлом которой он является. Все чаще Эдуард призывает Тостига в свои покои, и любовь короля к младшему брату королевы Эдиты ни для кого не является секретом. Но в отсутствие Тостига в северном графстве вновь воцарились беззаконие и коррупция. Как и ее муж, Эдита высоко ценит Тостига, и он стал эрлом благодаря ее усилиям. Перед встречей старейшин в Вестминстере стало известно об убийстве в Нортумбрии аристократов Гэмела и Ульфа, и главы кланов обвинили в этом сторонников Тостига. Оба убитых являлись приверженцами Госпатрика[28], которого многие жители Нортумбрии считают своим истинным эрлом. Сейчас главы кланов нападают на путешественников и берут с них выкуп, а представители церкви требуют снижения налогов. Гарольд стал спрашивать об этом Тостига, требуя, чтобы брат вернулся в Нортумбрию и разрешил конфликт. Однако Тостиг такой же волевой и упрямый, как Гарольд, и не выносит давления. Он спокойно ответил, что северное графство находится под его управлением и он отвечает только перед своим королем, а потом заявил, что его брат сам является сторонником Госпатрика. После этого объятый яростью Гарольд покинул совет и дворец.
В Нортумбрии живут разные народы — датчане и англы, и, хотя Тостиг говорит на языке своей матери-датчанки, в глазах аристократии Нортумбрии он остается западным саксом. Кровная месть на севере началась с тех пор, как между племенами стали заключаться смешанные браки, но до сих пор под управлением Тостига серьезных неприятностей не возникало.
С того дня Гарольда никто не видел, хотя перед днем летнего солнцестояния он послал за королевской стражей. Среди них был и мой муж. Король отказался двинуться севернее Шропшира, и теперь хускерлы рады, что у них появился повод отправиться за границу. Покидая дворец вместе с пятьюдесятью другими всадниками, Джон не знал, куда и зачем они направляются. Кое-кто утверждал, будто они едут на охоту во Фландрию, другие говорили, что Гарольд хочет навестить своих союзников на континенте, чтобы выяснить, кто готов поддержать его в качестве короля саксов. Однако слухам верить не следует, и правду мы узнаем только после их возвращения.
14 августа 1064 года
Теперь Мэри знает о моих упражнениях, поскольку, как и я, часто не спит по ночам, слушая храп братьев. Она будет надежно хранить мою тайну, поскольку сама хочет научиться грамоте. Мэри работает по субботам, моет пол у кожевника за полпенни и приносит мне оттуда обрывки шкур, которые я отмачиваю в кипящей воде, отскребаю старым хлебным ножом, а потом сильно растягиваю. Получается грубый материал для письма. У меня нет времени и инструментов, чтобы сделать пергамент высокого качества, к тому же мне приходится сшивать отдельные кусочки шкур, поскольку они бывают совсем маленькими.
На Мэри положил глаз Эд, сын каменщика. Эду шестнадцать, но он уже выше ростом, чем его отец. Он симпатичный юноша, улыбка которого становится нежной, когда он смотрит на мою дочь. Однако я не позволю ей выйти замуж до тех пор, пока ей не исполнится пятнадцать. К тому же я не могу без нее обходиться, хотя она и говорит о том, что надо найти дополнительную работу и зарабатывать побольше.
Среди женщин моего сословия есть не только прядильщицы и кухарки, но и представительницы профессий, которыми обычно занимаются мужчины. Вдовам кузнецов и ювелиров, погибших в сражениях, нужно кормить детей. Однако писцов среди них нет, поскольку женщина, проявляющая интерес к словам, вызывает неодобрение и подозрения, если только она не намерена читать Библию.
Прошло много лет с того момента, как Одерикус дал мне первые уроки письма, хотя вопросами я начала его засыпать гораздо раньше. Мы познакомились, когда я была еще ребенком. Мое умение владеть иглой привлекло ко мне его внимание, когда мать отвела меня в мастерскую, где работали вышивальщицы. Монах был в то время еще юношей, незадолго до того приехавшим в Кентербери из Нормандии, и сам лишь недавно стал переписчиком рукописей в аббатстве. Он пришел в мастерскую вместе с одним из братьев-рисовальщиков недавно взошедшей на престол королевы. Пока хозяйка мастерской обсуждала с ним портьеры для дворца, Одерикус расхаживал по комнате и изучал ее работу. Он остановился и стал с любопытством разглядывать меня, — ведь я была самой младшей из мастериц, и похвалил мои быстрые пальцы и маленькие стежки. Сначала я смутилась, но вскоре Одерикус меня разговорил, и я принялась задавать ему вопросы о библиотеке и переписчиках аббатства. Он охотно на них отвечал, а когда посетил мастерскую в следующий раз, вновь отыскал меня, чтобы попрактиковаться в языке — во всяком случае, он так сказал. На самом деле ему было одиноко, и очень скоро мы стали друзьями.
Я много раз просила Одерикуса научить меня писать, но он отказывался, поскольку это запрещено. Правда, когда я спросила, кем именно запрещено, он ничего не смог ответить.
Когда во время своей первой беременности я болела и могла лишь одиноко сидеть возле камина с шитьем в руках, монах навестил меня и принес подарок. Он смотрел, как я открыла кожаный футляр и радостно вскрикнула, увидев страницы пергамента, гусиное перо и бутылочку маслянистых черных чернил, которые братья делают из грибов. Я расплакалась, чувствуя себя ужасно глупо, но повитуха Мирра сказала, что беременные часто плачут без особых причин.
Теперь я сама делаю чернила, бросая в кипящую воду ядовитые грибы. Еще я стараюсь беречь хороший пергамент, чтобы его хватило до того момента, когда Одерикус принесет еще. Перья я беру из оперения лесных хищных птиц и затачиваю их острым охотничьим ножом Джона. Мой муж расстается с ним, только когда ложится в постель, а в остальное время нож висит у него на поясе. Когда он начинает похрапывать, я беру нож осторожно, как воровка. Когда Джон спит, я представляю его мальчиком, каким он был, когда мы познакомились. Его плечи тогда не были такими широкими, и на них не лежало столько забот. Сейчас он мечтает только о том, чтобы проявить себя в сражении, получить похвалу от Гарольда и стать таном, который владеет землей. Если мечты Джона сбудутся, ему больше не придется так тяжко трудиться, но он станет вассалом, который принес клятву верности. Мне кажется, это будет достойная жизнь, и он хочет ее не только для себя, но и для меня, и для наших детей. Я буду рада, если в нашем доме станет тепло, не будет недостатка в еде и одежде, а работать можно будет меньше, но мне совсем не хочется, чтобы Джон стал вассалом Гарольда Годвинсона.
Огонь в камине догорает, и мне нельзя больше расходовать дрова. Сейчас лето, и по ночам нехолодно, но огонь в очаге — мой спутник, когда постель пуста. Как всегда, когда я сплю одна, я думаю о том, почувствую ли я когда-нибудь теплое дыхание Джона на своей спине, уловлю ли еще раз запах его пота и земли.
На сей раз вместе с Гарольдом уехал Одерикус, и я осталась и без мужа, и без друга. Странно, что Гарольд пожелал, чтобы его сопровождал католический священник. Гарольд богобоязненный человек, но не испытывает особого уважения к церкви, и Джон утверждает, что вера Гарольда проявляется в виде золотых монет, которыми он покупает благоволение епископа. Однако он останавливается возле церквей, чтобы помолиться, — ведь воины, в отличие от него, верят, что молитвы их защитят, а это придает им храбрости. Гарольд платит подати Риму только тогда, когда это помогает ему удовлетворять свои амбиции, — ведь он и его братья не пользуются особой любовью церкви, поскольку их симпатии связаны с христианством острова кельтов. Как и я, мой муж с большим удовольствием станет беседовать с духами леса, чем с суровым христианским Богом, однако он считает взгляды Гарольда необходимыми и мудрыми. Джон никогда не выступит против Гарольда Годвинсона.
Мне не хватает его успокаивающего храпа в нашей постели, хотя из другого угла доносится тихое посапывание маленького Джона, который спит, положив голову на руку Мэри. Муж никогда не просыпается, даже если малыш плачет ночами. Иногда я ему завидую, ведь зимними ночами я чувствую себя такой усталой, а пальцы и запястья так сильно болят после долгих часов работы с иглой, что мне бывает очень трудно встать в ранний утренний час и подойти к ребенку, который просит молока. Но потом, обнажив в холодном ночном воздухе теплую грудь, я думаю — хорошо, что я сплю меньше, чем остальные, ведь только ночные часы безраздельно принадлежат мне одной.
Для меня большим облегчением стало согласие Мэри присматривать за малышом днем, когда я ухожу во дворец. Я воистину благословенна — моя соседка добра, и у нее хватает молока, чтобы кормить еще и моего малыша. Маленький Джон уже настолько вырос, что может сам приносить воду и дрова, собирать яйца в курятнике, помогать стричь овец и участвовать в сборе урожая. Эти работы, когда наступает сезон, выполняют дети и старики, хотя большая часть урожая достается королю. Все подданные короля, как и подданные танов, платят ренту. Из совместных трудов нашей семьи и соседей королевский шериф собирает каждый год десять бочек меда, триста караваев хлеба, сорок два бочонка эля, десять овец, десять гусей, двадцать кур, десять головок сыра, один бочонок масла, пять лососей, сто угрей и двадцать фунтов корма для скота.
Мой дом стоит на опушке леса, где протекает ручей, и у нас достаточно дров и воды. Маленький Джон уже может подбить птицу из пращи или камнем. Часто удается добыть кабана — мой муж никогда не промахивается, когда стреляет из лука. Приближается конец лета, но дни пока длинные, и пшеница продолжает расти под теплым солнцем. С наступлением зимы мне придется покидать дом с восходом солнца, когда белый иней покрывает темный лес, а возвращаться под черным покровом ночи. Мне надо пройти около двух миль, чтобы добраться до дворца, но иногда Джон берет лошадь из королевских конюшен, я сажусь у него за спиной, и мы едем во дворец вместе.
Когда я вхожу во дворец, то стараюсь ступать очень осторожно, чтобы каменный пол не выдал моего появления. Я прихожу и ухожу тихо, ведь солдатам, стоящим на страже, часто становится скучно. В дни, когда идет сильный дождь, они стараются увидеть меня издалека, рассчитывая, что я подниму юбки, чтобы они не волочились по грязи, и открою напоказ лодыжки. Иногда я жалею их и заставляю улыбнуться, но я жена лучника Джона, и они называют моего мужа Большой Джон и Джон Великан — возможно, он не так прост и безобиден, как мне кажется.
ГЛАВА 7
В доме Лидии царили мрак и холод. Мадлен медленно переходила из комнаты в комнату. Все было в том виде, в каком она его оставила, — шторы опущены, коробки наполовину упакованы, а стол посреди комнаты завален папками и документами. Однако на столе стояли свежие цветы, и ни на одной поверхности Мадлен не заметила пыли.
Запасные ключи были только у Джоан. Должно быть, она заходила, чтобы навести в доме порядок. Мадлен почувствовала теплую волну благодарности. Она пыталась подготовиться к тому, что вновь почувствует в доме матери почти невыносимую боль, — ведь возвращение сюда делало это неизбежным, — и тем не менее боль захватила ее врасплох. И дело было не только в заботе Джоан, заставившей Мадлен расплакаться. На нее давила пустота в доме, а пустота в душе отзывалась звучным эхом. Во Франции ей удавалось сдерживать скорбь — там она находилась далеко от вещей Лидии, которые окружали ее здесь.
Мадлен медленно спустилась по лестнице в спальню для гостей. Здесь постель была застлана свежим бельем, а сверху лежал конверт с ее именем. Внутри находился красивый листок бледно-голубой бумаги.
Добро пожаловать в Кентербери. Пожалуйста, дай знать, если мы можем чем-то помочь.
Хотелось бы увидеться, когда ты закончить с делами.
Сердечный привет,
ДжоанЕще одно небольшое, но трогательное проявление заботы.
Мадлен тяжело опустилась на постель. Она была измучена. Две последние недели перед каникулами получились очень напряженными. Она полностью сосредоточилась на работе в университете и на переводе. Кроме того, ей пришлось проверить множество студенческих работ, не говоря уже о тех, что скопились за время ее отсутствия. Никогда прежде преподавательская работа не утомляла ее настолько. Но теперь, когда в блокноте был записан перевод, сделанный за последние две недели, у Мадлен появилась свободная неделя, когда она сможет его перечитать и подумать над его откровениями.
Наступил полдень субботы. Оглашение завещания Лидии было назначено на понедельник.
Внизу Мадлен сняла трубку, позабыв о том, что сама отключила телефон несколько недель назад. Разумеется, она не услышала гудка, и это еще сильнее испортило ей настроение. Она порылась в сумочке и вытащила сотовый телефон, чтобы позвонить Джоан.
Трубку взял Дон, который обрадовался, услышав ее голос. Он позвал Джоан, и Мадлен мысленно увидела, как та спешит к телефону.
— Мадлен! Я рада, что ты приехала.
— Привет, Джоан. Спасибо за все. Мне было трудно возвращаться сюда… а ваша забота очень помогла… — Ее голос дрогнул, и она замолчала.
— Это все мелочи, — небрежно ответила Джоан. — Наверное, ты только что приехала и очень устала, поэтому я просто скажу «нет», если ты не хочешь, но сегодня будет некое действо…
— Какого рода действо? — Мадлен внутренне сжалась, подумав о необходимости общаться с чужими людьми.
— Ничего формального — выпивка и закуска в одном из отелей. Дважды в год у нас проходит встреча местного Исторического общества. Я подумала, что ты могла бы пойти, чтобы немного отвлечься…
Она была права. Мадлен решила быть храброй.
— Звучит неплохо, — солгала она.
Джоан пообещала заехать за ней вечером.
Собрание Исторического общества проходило в маленьком отеле в георгианском[29] стиле, который назывался «Белый единорог». На втором этаже находился просторный зал с высоким потолком и несколькими рядами обитых розовой тканью стульев, расставленных вокруг невысокого помоста. Вдоль стены, перед зубчатыми оранжево-розовыми драпировками, стояли два стола. На одном гордо красовались графины с красным и белым вином, бокалы, чашки и огромный чайник. На другом стояли тарелки со свежими сэндвичами и ломтиками поджаренного хлеба с разными закусками.
Зал был заполнен группками людей, которые беседовали друг с другом.
Мадлен рассчитывала, как обычно, занять местечко где-нибудь с краю, но сообразила, что только привлечет к себе ненужное внимание, если станет одиноко жаться к стенке. В зале яблоку некуда было упасть от обилия членов Исторического общества. Не было даже доски для объявлений, возле которой Мадлен могла бы постоять.
Она осталась с Джоан и взяла бокал красного вина. Вдвоем они пробились к центру зала, и вскоре к ним подошел мужчина, одетый во все бежевое. Бежевыми были даже парусиновые туфли и широкий галстук. Он был в очках, напоминающих защитные, которые увеличивали глаза до невероятных размеров. Пряди бело-желтых волос обрамляли сияющую лысину и доходили почти до воротника.
— Добрый вечер, профессор Торн, — вежливо сказала Джоан, но Мадлен показалось, что она едва заметно поморщилась. — Это Мадлен Л’Эглиз — дочь Лидии Бродер.
Профессор сжал влажной ладонью руку Мадлен и принялся энергично ее трясти.
— Рад с вами познакомиться, Мадлен. Невероятно рад. Должен сказать, что я ужасно сожалею о смерти вашей матери. Замечательная леди. Поразительный ум. Исключительно печально.
— Профессор Торн — главный в Кентербери специалист по изучению эпохи Возрождения, — пояснила Джоан и обратилась к бежевому мужчине: — Мадлен преподает историю Средневековья в Нормандии.
Увеличенные глаза Торна загорелись, словно фары, но не успел он разразиться восторженной речью, как Джоан решительно взяла Мадлен за руку и увлекла ее за собой.
— Прошу нас простить, профессор Торн, но я хочу познакомить Мадлен с одним человеком, который может уйти.
С этим словами Джоан потянула Мадлен в толпу, подальше от разочарованного профессора Торна.
— Так лучше, поверь, — прошептала Джоан с озорной улыбкой. — Идем, я познакомлю тебя с Николасом.
— А кто такой Николас? — прошептала в ответ Мадлен, которая уже начала жалеть, что согласилась прийти сюда.
Они вновь оказались возле импровизированного бара, где высокий темноволосый мужчина поставил на стол пустой бокал и принялся застегивать черную кожаную куртку. Он уже собирался уходить, когда заметил Джоан и Мадлен.
— О, привет, Джоан, — с явным облегчением сказал он. — Я не знал, что вы придете…
— Николас, это Мадлен Л’Эглиз. Мадлен — Николас Флетчер.
Николас протянул руку, и в его глазах промелькнуло узнавание, а Мадлен поняла, что именно с ним разговаривала в архиве во время своего предыдущего визита. Она пожала ему руку, чувствуя некоторую неловкость.
Когда Джоан извинилась, сказав, что ей нужно перекинуться парой слов с коллегой, Мадлен почувствовала, как ее охватывает паника. Она не знала, о чем говорить с Николасом. А тот, если и испытывал смущение, вида не показывал.
— Как долго вы намерены оставаться в Кентербери, Мадлен? — спокойно спросил он.
— До конца недели. У меня тут дела… завещание матери…
Повисла неловкая пауза. Мадлен поднесла к губам бокал с вином, чтобы сглотнуть комок в горле. Николас слегка нахмурился — возможно, вспомнил их предыдущую встречу.
— Должно быть, вам сейчас нелегко, — заметил он и после небольшой паузы добавил: — Боюсь, я был не слишком любезен во время нашей встречи в архиве. Приношу свои извинения. Могу я предложить вам вина, чтобы загладить свою оплошность?
Его голубые глаза — даже очки в прямоугольной оправе не делали их менее проницательными — вдруг заискрились смехом, и он посмотрел на графины с бесплатным вином.
Мадлен улыбнулась и кивнула.
— Кажется, вы собирались уходить? Наверное, мне не стоит вас задерживать… — небрежно сказала Мадлен, которой вдруг захотелось, чтобы он ушел, поскольку в его присутствии она чувствовала необычную неловкость.
От Николаса исходило легкое высокомерие — или нечто похожее. Мадлен никак не могла решить, нравится ей это или нет. Он вел себя совершенно непринужденно, словно неизменная отстраненная вежливость англичан была ему несвойственна. Впрочем, его небрежность выглядела слишком нарочитой. Ей показалось, что ее изучают, словно собираются провести исследование.
Она взяла бокал, который наполнил Николас, и решила, что постарается получить у него информацию — иными словами, проведет собственное расследование. В конце концов, он ведь архивариус… нет, он называл себя реставратором. Кажется, Джоан говорила, что он систематически занимается городским архивом.
— И как продвигается ваша работа — удалось найти что-нибудь… спорное?
— Да, удалось. Но все это строго засекречено. Я бы не хотел подвергать вас опасности, ознакомив с содержимым сейфов и подвалов Кентербери.
В его глазах цвета индиго танцевала насмешка, скрывающая истинную суть слов.
— О, так вы открыли тайну гробницы святого Августина? — пошутила Мадлен.
Она вспомнила, что Джоан рассказывала ей о пропавших реликвиях в тот день, когда они посетили руины аббатства. Казалось, слова Мадлен произвели на Николаса впечатление.
— Значит, вам кое-что известно о местной истории? Да, верно, теперь я припоминаю, вы говорили, что ваша мать занималась каким-то расследованием.
Он совершенно спокойно упомянул об их встрече, и внезапно Мадлен поняла, что ее перестали раздражать его необычные манеры.
— Еще я преподаю историю, — сказала Мадлен.
В синих глазах мелькнуло что-то похожее на интерес.
— Значит, вы пришли сюда… — он указал на членов Исторического общества, — для участия в интереснейших дискуссиях?
Мадлен рассмеялась:
— Очевидно. Кстати, у вас неплохо получается.
Николас усмехнулся, показав кривоватые, но удивительно белые зубы.
— Слушайте, мне ужасно хочется курить. На нижнем этаже есть бар — а здесь, похоже, не курят. Кроме того, у меня складывается впечатление, что Торн намерен произнести очередную скучную речь. Вы, случайно, не курите?
Она кивнула.
— Я бы с удовольствием покурила.
Мадлен оглядела зал в поисках Джоан и обнаружила ее в обществе профессора Торна. Похоже, она успеет выкурить сигарету прежде, чем Джоан вырвется на свободу.
В камине бара «Белого единорога» полыхало яркое пламя. К тому же здесь были очень удобные кресла. Неяркий свет создавал уютную атмосферу — безопасная гавань после ярко освещенного огромного зала на втором этаже.
— Разрешите угостить вас нормальной выпивкой. Что вы предпочитаете?
Мадлен уселась в кресло и закурила сигарету, наблюдая за отошедшим к стойке бара Николасом. Он был выше шести футов ростом, стройный до худобы, но широкоплечий, иссиня-черные волосы завязаны в хвост, как и во время их первой встречи.
Он вернулся с двумя бокалами солодового виски.
— Надеюсь, вам понравится — это мой любимый напиток. Теперь я уже не могу вернуться к чему-то более дешевому.
Виски понравилось Мадлен, оно пилось легко и обладало приятным дымным вкусом.
Николас вытащил из кармана мягкую пачку «Кэмел» и потертую латунную зажигалку. У него были длинные белые пальцы — такие руки должны замирать над клавишами рояля.
— Кстати, существует только один исчезнувший ковчег.
Его слова застали Мадлен врасплох — она наблюдала за его руками.
— Что? — сказала она, надеясь, что ее реакция не выглядела глупой.
— Мощи святого Августина. Обнаружены сразу два захоронения, что мгновенно вызывает сомнения. Любые пропавшие сокровища можно мифологизировать.
— И кто их обнаружил?
Теперь Мадлен слушала его внимательно.
— Местные прихожане. Как вы знаете, ликвидация монастырей заняла несколько лет, так что у монахов было достаточно времени, чтобы вынести кое-что из аббатства — до того, как представители новой церкви успели довести дело до конца.
Николас сделал глоток виски и откинулся на спинку кресла.
Положив одну длинную ногу на другую, он посмотрел в потолок, как будто размышляя над интересным вопросом.
— И что дальше?
Мадлен овладело нетерпение. К чему он клонит?
— Да ничего. Всего лишь слухи. — Николас сел и пронзительно взглянул на Мадлен. — Вы знаете, что архивы забиты документами — разлагающимися свидетельствами бог знает каких событий, забытыми хартиями, завещаниями времен правления короля Якова I…[30] Но периодически я нахожу то, что меня озадачивает. И это мне нравится в моей работе. Поймите правильно, составление описей — не совсем моя область деятельности. Моя истинная страсть — если об этом вообще можно говорить — реставрация и хранение. Я иногда работаю в зале манускриптов Британской библиотеки. У них собрана впечатляющая коллекция.
— И как, удалось найти что-нибудь, что вас «озадачивает»?
— О, меня легко озадачить — особенно шифрами. Звучит, конечно, интригующе. Существует множество причин, по которым определенные документы засекречиваются. Особенно часто так делали во времена ликвидации монастырей. Однако это отдельный вид исследований. У меня есть друг в Лондоне, который целые дни напролет расшифровывает манускрипты для музеев и библиотек. Ему нравится. Есть люди, которые просто обожают забивать себе голову всяческими загадками.
— Полагаю, довольно часто речь идет о рунах, — сказала Мадлен, вспомнив свое недавнее знакомство с загадочным алфавитом в Байе.
Николас вопросительно посмотрел на Мадлен.
— На каком периоде вы специализируетесь?
— Средние века.
Он кивнул, словно это все объясняло.
— Замечательно. Интересное время. А чем занималась ваша мать?
И вновь он сумел ненавязчиво упомянуть Лидию — казалось, он сознательно пытался заставить Мадлен говорить о ней.
— Честно говоря, я не очень хорошо себе это представляю. На данный момент мне лишь удалось познакомиться с моими сумасшедшими кузинами. Да, и еще Джоан утверждает, что Лидия могла интересоваться нашим старым семейным бизнесом — вышиванием.
Интересно, что сказал бы о дневнике Николас. Ведь древние манускрипты — его область.
Он пронизывающе смотрел на нее.
— Вам стоит еще раз побывать в архиве. Исследователи могли бы вам помочь. Уверен, что кого-нибудь из них заинтересуют ваши проблемы. Если зайдете туда, попросите их позвонить мне, и я поднимусь. Я всегда рад возможности подышать свежим воздухом. Не исключено, что я сумею провести вас в «святая святых» в подвале, чтобы вы продолжили свои поиски там. Впрочем, должен предупредить — не моя вина, если вам станет скучно.
— Хорошо, возможно, так и сделаем. Посмотрим, как пойдут дела на этой неделе, — нужно разобрать кучу бумаг, сложить вещи в доме матери…
Мадлен посмотрела на часы. Пора было возвращаться и знакомиться с другими членами Исторического общества.
Николас допил виски и встал.
— Рад был познакомиться с вами по-настоящему, Мадлен. Надеюсь, следующая неделя не будет слишком напряженной.
Он вышел, на ходу застегивая куртку и поднимая воротник, на холодный февральский воздух.
Мадлен без воодушевления поднялась обратно на второй этаж, но профессор Торн успел закончить свое выступление об архитектуре римского Возрождения, к тому же она обнаружила, что Джоан собирается уходить. Джоан ничего не спросила про Николаса, и у Мадлен возникло подозрение, что она познакомила их сознательно, рассчитывая на то, что между ними завяжутся отношения. Но, хотя Николас заинтересовал Мадлен, ей показалось, что он не особенно нуждается в контактах с внешним миром и не склонен к общению. Уж если он сам называет себя не слишком привлекательным человеком, значит, он не склонен к дружбе. И Мадлен с легкостью выбросила его из головы.
Вернувшись в дом Лидии, Мадлен поблагодарила Джоан за то, что ей не пришлось провести первый вечер в одиночестве. На лице Джоан застыло тревожное выражение, поэтому Мадлен постаралась быть непринужденной.
Оставшись одна, Мадлен поставила обогреватель поближе к столу и сдвинула в сторону бумаги, освободив место для блокнота. Она ждала этого мгновения с того самого момента, как уехала из Кана, — у нее наконец появилась возможность перечитать перевод, не тревожась о том, что не уделяет необходимого времени студентам.
19 сентября 1064 года
Сегодня я решила пойти на Лондонский рынок, чтобы купить синее льняное полотно для платья Изабель, а также шелковые кружева. Повариха услышала, куда я собралась, и сразу же надавала мне заданий. Поэтому мне предстояло отыскать гвоздику и имбирь для пряников, а еще головку сыра, поскольку молоденькая девушка с маслобойни испортила все запасы. Повариха не призналась, что именно она напугала девушку, громко закричав на нее, и та уронила сыр в бочку с сидром.
Я сделала список необходимых покупок серебряным карандашом на маленьком обрезке холста, а потом спрятала его в рукав. Я стараюсь скрывать свое умение писать и читать. Теперь я даже получаю удовольствие от жизни в легком ореоле тайны.
Лондонский рынок располагается на шумной площади, где всегда полно народу. Восточные купцы с миндалевидными глазами продают пряности, шелка и резные шахматные фигурки, а темнокожие мавританцы покупают нашу шерсть и вышитый лен. Здесь также есть прилавки, где торгуют одеждой. Мне захотелось купить шерсть, окрашенную соком васильков. Мягкая ткань была цвета летнего ночного неба, из нее получилось бы отличное новое платье для Мэри. Но она стоила полпенни за элл[31], а Мэри очень быстро растет. Понадобится не меньше трех ярдов, чтобы сшить ей платье, которое она могла бы носить еще и следующей зимой. Придется взять ткань, которую я тку сама, а весной, когда появятся цветы, я покажу Мэри, как ее нужно красить, и она сама выберет себе цвет.
В конце концов я купила маленькому Джону кожаные башмаки, ведь зима уже не за горами, а его старые башмаки совсем прохудились. А еще купила темно-зеленую ткань для Джона — у него остались только одни штаны, да и те совсем потрепанные. Он просил, чтобы штаны были зелеными, потому что тогда его одежда становится такого же цвета, что и лес, а значит, кабан может перепутать ноги Джона со стволом дерева, поросшим мхом. Я до сих пор не получила весточки от мужа, и страх не отпускает меня, хоть я и смирилась с ним.
Я прошла по рынку мимо прилавков, где продавали фазанов и сыр, упряжь и кожу. Среди всех особенно выделялись торговцы чесноком. В воздухе витали запахи гниющих овощей и рыбы, сладких специй и свежего хлеба. Стучали молотками сапожники, со всех сторон доносились тяжелые удары кузнечных молотов, купцы что-то кричали друг другу — поначалу этот шум увлекает, но быстро надоедает.
Иногда во время походов на рынок мною овладевает желание купить красивые шелковые ленты и другие изящные вещи, но стоит мне уйти, и я о них забываю. Мне повезло, что я владею ремеслом и могу заработать денег на башмаки или теплый шерстяной плащ на зиму для детей. Бедняки мечтают о толстом кошельке не только из-за товаров заморских купцов, часто они не могут позволить себе даже новую корзинку, чтобы собирать яйца или овощи, или кастрюлю для похлебки взамен прохудившейся старой.
Я заметила повитуху Мирру в палатке, сделанной из шкур и украшенной квадратиками цветного шелка. С потолка свисали сухие лекарственные травы, а небольшой столик был уставлен горшочками с мазями и настойками. Я не стала останавливаться, чтобы поболтать с ней, поскольку она разговаривала с целителем из Персии, которого я видела во дворце, когда он приходил к королю Эдуарду. Целитель привез с Востока новые лекарственные травы, рассчитывая поменять их на растения, которые собирают в монастырских садах. Мирра не общается с монахами, хотя они могли бы многому у нее научиться. Она презирает Бога, веру в которого принесли с собой римляне, и поклоняется лишь хранителям лесов, воды, солнца и луны. Существуют силы, позволяющие нам жить или умереть, и они намного могущественнее невидимого и неумолимого Бога римлян.
Некоторые христианки считают, что Мирра обладает колдовской силой и способна их сглазить, ведь она живет, не опасаясь Страшного суда. Она не ест мяса и красит свою одежду соком ноготков и мака, а не луковой кожурой. Но если заболевает ребенок или возникают проблемы с зачатием, они бегут к ней за настойкой или заклинанием. Меня Мирра не пугает, я и сама обращаюсь к ней за советами.
23 сентября 1064 года
Около полуночи я услышала цокот копыт, но не обратила на это особого внимания, поскольку дорога возле нашего дома ведет через лес на юг, в Винчестер. Однако шум стих возле дверей, и я схватилась за шитье, полная дурных предчувствий. Я не хотела, чтобы возле дверей появился посланец. Моя соседка вдова, ее муж был хускерлом. Из дворца к ней прислали всадника, чтобы сообщить о его смерти во время сражения на границе с Уэльсом.
Дети не проснулись, и прошло довольно много времени, прежде чем я услышала шум перед дверью, которая медленно открылась, и на пороге появился мой муж. Он негромко перебросился несколькими словами с всадником, который довез его до дома, и тот ускакал прочь. Я уронила шитье в корзинку и бросилась в объятия мужа, прижавшись к грубой шерсти его синего плаща стражника. Джон оторвал меня от пола и так крепко обнял, что едва не сломал мне кости. Он кружил меня, и мы оба молчали, чтобы не разбудить детей.
Затем мы уселись у огня, и муж покрыл мое лицо поцелуями, которые я потребовала взамен тех, которых была лишена целое лето. Он поел хлеба, запивая элем. Потом Джон забрался в постель, даже не сняв сырой одежды, — так он устал. В его штанах оказалась длинная дыра, нога была ранена. Хорошо, что я сшила ему новые зеленые штаны. Завтра он расскажет о своих приключениях.
К полудню воскресенья Мадлен успела частично разобраться с бумагами Лидии, и ей почти удалось расчистить поверхность стола. Под горами различных документов лежал блокнот, который она увидела в день, когда впервые вошла в пустой материнский дом. Именно сюда Лидия скопировала второй отрывок из дневника. Вероятно, в блокнот Лидия записывала наиболее существенные факты, полученные ею при расследовании, которое так ее занимало.
Мадлен взяла блокнот, села в кресло и принялась его перелистывать.
Многое из того, что Лидия посчитала нужным записать в блокнот, не имело прямого отношения к генеалогии семьи Бродер — скорее это были замечания общего характера; главным образом снабженный комментариями каталог вопросов середины шестнадцатого века — времени ликвидации монастырей, проведенной по приказу Генриха VIII. Здесь были заметки такого рода:
«Генрих Восьмой желал заполучить земли лишенной собственности церкви не меньше, чем развода с Катериной Арагонской, чтобы жениться на Анне Болейн. Казалось, он не придавал значения другим богатствам, собранным в монастырях — реликвиям, манускриптам, дорогим тканям, — так ему хотелось присвоить себе монастырские угодья.
Камни, собранные на развалинах аббатства Святого Августина, использовали для восстановления небольших церквей в той же местности — быть может, именно в них спрятаны сокровища аббатства?
Во время ликвидации на улицу выбрасывали не только монахов, которым оставалось просить милостыню или искать новые источники пропитания (иногда их брали к себе богатые семьи), но и монахинь в Кентербери и Винчестере.
Реликвии — останки тех, кто добровольно стал сосудом милости Божьей, объекты поклонения. (Объективная реальность благословения?) Физический мир принимает мистицизм потустороннего мира через реликвии посланцев Бога на земле…»
Мадлен нахмурилась, пытаясь понять мысли Лидии. Складывалось впечатление, что ее мать искала нить, связывающую эти разрозненные сведения. Быть может, ее заинтересовали артефакты, изъятые из аббатства Святого Августина? И Джоан, и викарий сказали, что перед смертью Лидия увлеклась историей церкви. Это вызывало у Мадлен недоумение.
Ответ на свой вопрос она нашла, перевернув еще несколько страниц. В блокноте обнаружился сложенный листок бумаги — фотокопия письма или показаний, записанных изысканным почерком.
Остается сказать еще об одной вещи, о чем я и собираюсь написать.
В начале зимы тысяча пятьсот тридцать девятого года наш дом посетила Тереса, монахиня из Винчестера. Она — посланница аббатисы монастыря, куда мы отправляем наши ткани для вышивки.
— Это книга святой Эдиты, — прошептала она, словно не решалась произнести эту фразу вслух даже в моей гостиной. — Такую книгу аббатисе хранить опасно.
Монахини из Винчестера покидают монастыри. Некоторые возвращаются в свои семьи, а тем, у кого семьи нет, приходится искать себе пристанище. Тереса с горечью поведала нам о бегстве сестер. Она говорила о том, что аббатиса боялась посылать эту книгу и доверилась только монахине, принявшей сан, потому что повсюду рыщут слуги короля.
Монахиня больше ничего не смогла рассказать о книге, которую привезла из Винчестера в Семптинг, и отказалась задержаться после ужина, куда мне все же удалось ее зазвать.
Поэтому я решила провести собственное расследование, навестив вскоре после этого мою подругу, кроткую аббатису винчестерских монастырей. Мы беседовали до поздней ночи, пока усталость не заставила нас закончить разговор. Мы вместе скорбели о несчастных судьбах людей в эти трудные времена, и я спросила, не пострадает ли наша работа. Аббатиса мудрая женщина и полагает, что нам ничего не угрожает. Ведь король не перестал покупать шелковые ткани и вышивку. Церковь в Кентербери сократила заказы на облачение и напрестольные пелены, которые мы так долго им поставляли, но когда король назначит новых епископов, нас снова завалят заказами. Дом Бродье знаменит на всем континенте, и у нас до сих пор много клиентов, которые восторгаются мастерством наших прях и вышивальщиц.
Когда я спросила о книге святой Эдиты, аббатиса ответила, что монастырь хранит ее с незапамятных времен и что швейная мастерская — не единственное, что связывает монастырь с нашей семьей. Перейдя на шепот, как и Тереса, она сказала, что мой предок передал книгу на хранение в монастырь, когда наша земля потерпела очередное поражение и перешла от саксов к норманнам. Она добавила, что это очень опасная вещь — в ней содержится тайное знание патронессы ее монастыря королевы Эдиты. В книге также говорится об истинной природе священной реликвии, которую наверняка продолжает разыскивать Римско-католическая церковь, в особенности теперь, когда все монастыри разграблены.
Аббатиса просила меня хранить книгу, как родное дитя, и доверять ее тайну только женщинам. Она сказала, что ее защищает милость Царицы Небесной.
Я рассказала о том, что выполнила свою клятву, и теперь вы понимаете, каким образом эта книга оказалась в семье Бродье.
Элизабет БродьеМадлен глубоко вздохнула и перечитала страницу. Ей показалось, что до ее плеч и спины дотронулись чьи-то ледяные пальцы. Это было подобно присутствию призрака, и она ощутила это уже не в первый раз.
ГЛАВА 8
В понедельник утром Мадлен надела пальто поверх своего самого приличного костюма — классического черного шерстяного пиджака и брюк. Запирая входную дверь, она увидела, что трава в саду покрыта инеем. Февральское небо с розоватыми клочками холодных облаков было ясным, изумрудно-голубым. Утренний свет казался серебристым, словно иней добрался и до него.
Встреча с адвокатом Лидии была назначена на девять часов, и Мадлен успевала позавтракать.
В старом квартале был открыт только «Старбакс», расположенный на стыке культур двадцать первого века и Средневековья, — рядом находились готические ворота Кентерберийского собора.
Мадлен села в баре у окна, пила кофе эспрессо и без особого аппетита ела пирожное, наблюдая, как мимо неустанно течет утренняя толпа. Все ее мысли по-прежнему были заняты фотокопией документа, который она прочла вчера вечером.
Элизабет Бродье возглавляла компанию «Бродье» в шестнадцатом веке. Если она действительно являлась предком сестер Бродер, а Леофгит, в свою очередь, ее предком, а книга была дневником, то получалось, что именно его прятали целых девятьсот лет, причем половину этого времени — в тайнике монастыря в Винчестере.
Возможно ли это? Если Леофгит была предком Бродье, живших в шестнадцатом веке, следует ли из этого, что Мадлен — ее потомок? Это казалось совершенно невероятным.
А что касается дневника, который называют «книгой святой Эдиты», — тут имелся в виду не слишком известный культ, созданный одним из биографов средневековой Европы. В нем король Эдуард Исповедник и целомудренная королева Эдита провозглашались святыми. Возможно, монастырь неофициально канонизировал свою патронессу.
Документ объяснял, как дневник попал в Семптинг. Жила ли глава компании Бродье, которая писала о том, как дневник попал к ней, в том самом особняке, в котором сейчас обитают сестры Бродер? Это казалось столь же вероятным, как и сама поразительная история.
Наконец, где находится оригинал документа, написанный предположительно в шестнадцатом веке? Знают ли о нем сестры Бродер? Похоже, знают, ведь именно они должны были передать его Лидии. Лидию наверняка очень взволновала эта история, с грустью подумала Мадлен. Интересно, собиралась ли ее мать рассказать ей при встрече о своем открытии и о дневнике? Жаль, что этого так и не случилось.
Мадлен допила кофе и посмотрела на часы. Кабинет адвоката находился на соседней улице, но ей не хотелось опаздывать. До сих пор Мадлен совсем не думала о материнском завещании и сейчас ощутила страх при мысли о предстоящем разговоре — неизбежном напоминании о смерти Лидии.
Кабинет находился на серой террасе с плоским фасадом, в самом начале улицы. Возле двери имелось переговорное устройство. Мадлен нажала на кнопку, и в динамике послышался молодой женский голос.
Голос принадлежал секретарше. Когда Мадлен поднялась по застеленной ковром лестнице, оказалось, что кабинеты на втором этаже выглядят куда более современно, чем само здание. Светловолосая секретарша взяла пальто Мадлен и пригласила ее присесть на кожаный диван.
Мадлен оглядела небольшую приемную, чистые стены, украшенные акварелями, и неожиданно успокоилась. Блондинка повесила пальто Мадлен и улыбнулась, извинившись за Чарльза, который задержался в пробке. Она добавила, что он опоздает совсем немного, и Мадлен тут же услышала звон ключей. Входная дверь распахнулась и с шумом захлопнулась, затем до Мадлен донеслись шаги — кто-то поднимался по лестнице.
Чарльз оказался крупным румяным мужчиной средних лет с живыми манерами, и Мадлен сразу почувствовала себя рядом с ним непринужденно. Его присутствие наполняло комнату веселой энергией — она же ожидала чего-то другого. Отсутствие мрачности и серьезности стало для нее большим облегчением.
— Заходите, заходите, Мадлен. Прошу меня простить — проклятые дорожные работы.
Он распахнул дверь кабинета и последовал за Мадлен, потом закрыл дверь.
— Садитесь, — предложил адвокат, указывая на круглый стол красного дерева, вокруг которого стояло несколько мягких изящных кресел.
На столе были одинокая папка, большая стеклянная пепельница, графин с водой, два стакана и две ручки.
Мадлен села и выглянула в окно, пока Чарльз продолжал последними словами ругать людей, которые начинают дорожные работы в час пик.
Он снял пальто и бросил его на одно из свободных кресел, потом принялся искать очки.
Мадлен продолжала смотреть из окна на улицу, где по тротуару медленно шла сгорбленная старая женщина. Она опиралась на палочку, такую же изогнутую, как ее спина. Женщина остановилась, чтобы потуже завязать под подбородком разноцветный платок, подняла глаза и посмотрела в окно, прямо на Мадлен. Их глаза встретились, женщина безмятежно улыбнулась и приветственно поклонилась, после чего пошла дальше.
Мадлен вдруг ощутила прилив сил и повернулась к Чарльзу, которому наконец удалось найти очки. Он уселся за стол напротив Мадлен.
— Итак, вы готовы? — спросил он, направив на нее поблескивающие половинки очков, а в его глазах заплясали искорки.
Мадлен сглотнула и кивнула.
— Да, я готова, — ответила она.
Когда Мадлен опомнилась и снова смогла воспринимать окружающий мир, оказалось, что она находится рядом с входом в аббатство Святого Августина. Она шла пешком уже почти полчаса.
Если бы Мадлен немного подумала, она бы сообразила, что других наследников у Лидии нет. Таким образом, коттедж, его содержимое и скромная сумма в ценных бумагах были завещаны ей. Лидия являлась единоличной владелицей коттеджа — условия ее развода с Жаном были справедливыми. К тому же она всегда разумно распоряжалась деньгами.
Мадлен ощущала в сумке тяжесть блокнота. Вчера вечером она положила в блокнот копию документа, написанного Элизабет Бродье, и теперь все свидетельства были собраны вместе. Мадлен решила, что не должна с ними расставаться ни при каких обстоятельствах.
Она подошла к руинам аббатства.
Заплатив за вход, Мадлен быстро прошла через небольшой музей на территорию аббатства. Здесь никого не было, и, хотя утро уже подходило к концу, воздух оставался холодным, а свет был призрачно-серым, как будто зелень накрыло пеленой.
Мадлен, словно в трансе, бродила между разрушенными стенами и колоннами, как будто надеялась, что руины когда-то великолепного здания расскажут ей о том, что здесь происходило во времена ликвидации монастырей. Мадлен знала, что аббатство Святого Августина не входило в список аббатств, оказавших сопротивление Генриху, и не было занято силой. Однако руины продолжали возносить небесам безмолвную жалобу. Унесли ли слуги короля все сокровища, в том числе и священную реликвию, о которой упоминала Элизабет Бродье? Была ли та реликвия тем, за чем охотится Ватикан, — дневником, написанным Леофгит?
Мадлен спустилась по разбитым ступеням в пустой склеп и уселась на холодный камень, покрытый мхом.
Не отдавая отчета в собственных действиях, она вытащила из рюкзака блокнот, потерла руки в перчатках, чтобы согреть их, и открыла его.
20 сентября 1064 года
Джон рассказал мне о самой необычной охоте, с которой благополучно вернулись он, Одерикус и другие люди Гарольда. В конце лета они покинули Вестминстер и отправились на юго-запад в Гилфорд, в Суссекс, которым правит эрл Леофвин, другой брат Годвина. Там они провели ночь как гости эрла, чьи владения и земли, по словам Джона, столь же обширны, как и у короля Эдуарда. На второй день они поскакали в Бошам, где Одерикус провел мессу. Люди молились о хорошей погоде и о западном ветре, чтобы благополучно доплыть до Булони во Фландрии. Семья жены Тостига, Джудит, владеет огромными лесами во Фландрии, куда Гарольд любит ездить на соколиную охоту и где гончие травят лисиц и кроликов.
В Бошаме люди Гарольда отдыхали и ждали попутного ветра. На четвертый день ветер переменился на северо-западный. Гарольд заявил, что это знак небес, и приказал своим людям поднять паруса. Никто не осмеливался возражать Гарольду Годвинсону, хотя люди не понимали, почему он собрался плыть на юг, в сторону Нормандии.
Как только земля скрылась из вида, ветер стих, и им пришлось грести, чтобы добраться до ближайшего берега — Понтье, между Фландрией и Нормандией. Вскоре они встретились с людьми графа Ги, хозяина Понтье, после чего их под конвоем отвели в замок графа в Борене. Джон говорил, что граф Понтье — толстый, вероломный мужчина с жирными волосами и маленькими черными глазками, как у вороны. Он начал спрашивать, зачем они приплыли в его владения. Гарольд ответил, что не собирался в Понтье, а на берег высадился случайно, когда стих ветер. Граф улыбнулся, но его вороньи глаза оставались холодными. Он сообщил Гарольду, что по закону короля Филиппа Французского имеет право потребовать выкуп у любого, кто окажется в его землях.
Я спросила у Джона, на каком языке разговаривали граф Понтье и Гарольд — ведь Гарольд знает только английский. Джон ответил, что граф Ги не знает английского, а потому им пришлось воспользоваться услугами Одерикуса — единственного человека в двух отрядах, владеющего двумя языками.
Джон не знал, какой выкуп потребовал за освобождение граф, но, судя по мрачному настроению Гарольда, сумма была значительной, и Гарольд отказался ее платить. Тогда граф Ги задержал у себя Гарольда и его людей.
Через три дня за стенами замка послышался шум, и знаменосец Гарольда сообщил пленникам, что с запада прискакали всадники и потребовали встречи с графом Ги от имени герцога Вильгельма Нормандского. Граф выехал к ним в окружении своей стражи. Всадники сидели на могучих взмыленных лошадях. Они не были вооружены. Их господин, герцог Нормандии, потребовал освободить Гарольда Годвинсона, эрла Уэссекса, а также всех его людей. Жадный граф Ги де Понтье не был готов спорить с Вильгельмом и с мрачным видом приказал отпустить пленников.
Джон сказал, что им дали свежих лошадей, и в сопровождении двух норманнских всадников они отправились в город Эврё в Нормандии, где их ждал сам герцог. Вильгельм — большой человек, и в смысле размеров, и по манере держаться. Он сразу же заявил, что давно ждет встречи с Гарольдом Годвинсоном. Одерикус скакал рядом с Гарольдом, хотя здесь его умения переводчика не требовались, поскольку Вильгельм хорошо говорит по-английски. Джон сказал, что позже видел Одерикуса и Вильгельма, которые дружески о чем-то беседовали и часто смеялись. И, хотя он не понимал, о чем они разговаривали, было очевидно, что они встречались раньше.
Я начала догадываться, зачем Гарольд взял с собой монаха. Одерикус часто встречается с королем и королевой, поскольку король уважает его норманнские корни, а кроме того, он — королевский писец и священник. Возможно, то, что Гарольд посетил Нормандию, указывает на его намерение сблизиться с людьми короля.
Мадлен закрыла блокнот. Читать больше было нельзя, холодный ветер обжигал лицо, и она не чувствовала ни рук ни ног.
Мадлен поспешно поднялась по каменным ступенькам и вошла в музей, где было тепло. Она наслаждалась, чувствуя, как отогревается тело, и совсем не обращала внимания на экспонаты.
Она немного постояла возле стойки с сувенирами, отогревая пальцы и размышляя, что будет дальше. Мысль о том, чтобы провести остаток дня в окружении своего только что обретенного имущества, показалась Мадлен не слишком привлекательной, но и разгуливать по холодным улицам Кентербери ей совсем не хотелось.
Она подошла к кирпичному зданию, где располагался городской архив, так и не решив окончательно, что делать дальше. Работники архива должны быть на месте, прикинула Мадлен, переводя взгляд от двери с облупившейся краской на часы. Полдень еще не наступил, а ланч у англичан начинался не раньше часа.
В приемной Мадлен снова вспомнила о дантистах, но сейчас за столиком сидела серьезная молодая брюнетка, которая посмотрела на посетительницу, оторвавшись от монитора компьютера.
— Добрый день, — вежливо сказала брюнетка. — Я могу вам помочь?
— Да, надеюсь, можете, — сказала Мадлен, не зная, с чего лучше начать. — Меня интересуют артефакты, находившиеся в аббатстве Святого Августина и… — Она замолчала, затем собралась с духом и продолжила: — Любая информация… список или документы, которые как-то с этим связаны… Я занимаюсь исследованиями, — неуверенно закончила Мадлен.
Выражение вежливого интереса на лице молодой женщины не изменилось, но, когда она заговорила, Мадлен показалось, что в ее голосе появились покровительственные нотки.
— Боюсь, что подобных списков не существует. Дело в том, что библиотека аббатства была сожжена и вместе с ней погибли многие реликвии. Мы можем лишь догадываться о сотнях манускриптов или сокровищах, сгоревших в огне.
— Однако существует теория о том, что многие предметы были незаметно переправлены в церкви или даже частные дома.
Брюнетка фыркнула, стараясь сохранять вежливость.
— Да, подобные слухи существуют. Но никаких доказательств у нас нет. Сожалею, но я не могу вам помочь.
У Мадлен сложилось впечатление, что она совсем об этом не сожалеет, поскольку ее глаза не раз вновь обращались к монитору. Она почувствовала легкое раздражение.
— На самом деле вы все-таки можете мне помочь, — сказала Мадлен, стараясь, чтобы ее улыбка получилась доброжелательной.
— Да? — Брюнетка напряженно улыбнулась.
— Может быть, Николас сейчас на месте? Он просил меня зайти к нему, если я буду в архиве.
Брови брюнетки поползли вверх.
— Вы друг Николаса? Могу я узнать, как вас зовут?
— Мадлен.
Она встала, бросила прощальный взгляд на монитор и нажала на кнопку интеркома рядом с дверью, из-за которой вышел Николас во время первого визита Мадлен в архив.
— Ник, вас хочет видеть Мадлен.
Тон брюнетки заметно смягчился, когда она обратилась к Николасу, и Мадлен позволила себе улыбнуться.
Наверное, у брюнетки был к нему свой интерес.
Вскоре послышались шаги, и появился Николас. Его иссиня-черные вьющиеся волосы были распущены. Одет он был в выцветшую голубую рубашку, делавшую его голубые глаза еще светлее.
— Привет, Мадлен. Я вижу, вы набрались мужества и готовы взглянуть на изнанку Кентербери. Идемте.
Он повернулся к двери, кивнув брюнетке, которая одарила его нежной улыбкой. Мадлен последовала за ним, попрощавшись с брюнеткой, чья улыбка стала куда менее искренней.
Воздух на лестнице, окруженной каменными стенами, оказался холодным и влажным, к тому же слегка отдавал плесенью. Освещение было довольно слабым, и Мадлен заметно отстала от Николаса, который уверенно шагал по знакомым ступеням.
— Добро пожаловать в мой офис, — сказал он, обводя рукой тускло освещенную комнату с низким потолком.
Размер помещения было довольно трудно оценить, поскольку углы оставались темными, и Мадлен не знала, стоят ли там полки, которые тянулись от пола до потолка на тех участках стены, куда доставал свет.
На освещенной части пола стояли три грубо сколоченных стола, потрескивающих под тяжестью хрупких пожелтевших документов — многие из них были защищены от внешнего мира пластиковыми футлярами. Лежали здесь и книги, — некоторые были переплетены вручную, часть уже покрылась плесенью. Среди них попадались почти такие же толстые, как и современные исторические книги.
— Как видите, мне не приходится особенно настаивать на том, чтобы мне продлили контракт, — сухо сказал Николас, проследив за взглядом Мадлен.
Он отошел в угол комнаты, где стояла скамья и все необходимое для приготовления чая и кофе.
— Кофе? — предложил Николас. — Настоящий, не растворимый, не беспокойтесь, — добавил он, увидев, что Мадлен колеблется. — Я не стал бы оскорблять нормандку, предлагая ненатуральный продукт.
Мадлен кивнула, и он принялся насыпать кофе в автомат, а потом включил кипятильник.
— Пожалуй, тут слишком много всего, — сказала она, указывая на столы с грудами книг и документов и бесконечные ряды полок.
Николас пожал плечами.
— Да, наверное. Но я уже привык.
Он залил кипящую воду в кофеварку и подошел к одному из столов.
— Я вам сейчас кое-что покажу.
Он взял один из пластиковых футляров и вернулся к Мадлен.
Затем вытащил из кармана пару хлопчатобумажных перчаток и натянул их. Пергамент, который он аккуратно достал из футляра, был исписан руническими значками.
— Вчера вы упоминали рунический алфавит, и я подумал, что вам будет интересно взглянуть на это. Для меня текст остается полнейшей тайной, хотя я знаю некоторые руны. Как вам, вероятно, известно, в те времена создать шифр не составляло никакого труда — ведь грамотными были очень немногие. Я сумел лишь понять, что здесь есть стихотворение, в котором упоминается тисовое дерево. Тис считался наиболее священным деревом… Этот манускрипт отправится к одному типу в Лондон — он даже в туалете разгадывает кроссворды.
Мадлен посмотрела на страницу, которую Николас осторожно держал затянутыми в перчатки руками, — он привык обращаться с древними пергаментами.
— Вы знаете, когда это было написано?
— Скорее всего, в шестнадцатом веке. Этот документ относится к самым ранним записям, сделанным в Восточном Суссексе, значит, принадлежит к периоду от тысяча пятьсот тридцать восьмого до тысяча пятьсот пятидесятого года.
— И это близко к Кенту, верно?
Николас кивнул.
— В Восточном Суссексе находится одно из моих самых любимых мест. Там, в деревне с названием Йартон, есть маленькая церковь, известная благодаря своим средневековым настенным росписям. Сейчас на стенах церквей осталось совсем мало фресок. Очень печально.
Слова Николаса вызвали у Мадлен воспоминания. Однажды летом Лидия возила ее в такое место — посмотреть красивые фрески в старой церкви.
— По большей части они уничтожены, — продолжал Николас, — или закрашены во время Реформации. Еще одна смехотворная святая война, которая ничему нас не научила, — неожиданно страстно завершил он свои спокойные комментарии.
Мадлен удивленно приподняла брови, что не укрылось от внимания Николаса.
— Да, я знаю, мне платят вовсе не за то, чтобы я высказывал свое мнение о причудах истории!
Мадлен рассмеялась:
— Вы неправильно меня поняли. Я лишь подумала о том, что до сих пор не видела, чтобы вы высказывали свое мнение так… экспрессивно.
— Да, большую часть времени я веду себя как циничный ублюдок.
Он усмехнулся. Мадлен видела, что Николас и не думает обижаться.
— Ну а как ваши дела? — спросил он, застав Мадлен врасплох.
— О, все хорошо. Ну, может, не так быстро, как мне бы хотелось. Мне следовало быть…
— Вовсе нет, ведь вы же приехали сюда. Скажите, а у нас в архиве вам что-нибудь понравилось? — Николас качнул головой в сторону лестницы.
— Не совсем. Кажется, вы хвалили здешних работников!
Он громко рассмеялся. Очевидно, слова Мадлен его изрядно позабавили.
— Вам не повезло — сегодня дежурит Пенелопа. Она иногда бывает… суровой. Выпускница Оксфорда, — добавил он, словно это все объясняло.
— Но с вами она не особенно сурова!
Мадлен заметила, что ведет себя так, словно они с Николасом знакомы уже очень давно.
Не слишком ли я фамильярна, подумала она. Однако Николас, как ей показалось, с удовольствием продолжил разговор в таком же тоне.
— Неужели вы думаете, что она в меня влюблена?
Мадлен кивнула, и оба рассмеялись.
Тут она вспомнила, что Николас может ей кое в чем помочь.
— Вчера вечером я говорила, что моя мать интересовалась нашим семейным бизнесом — похоже, наши предки серьезно занимались вышивкой.
Он кивнул:
— Да, я помню. Если найду что-нибудь стоящее, то добровольно прерву кодекс молчания. Как называлась компания?
— «Бродье». Позднее — «Бродер».
— Хорошо. Но я ничего не обещаю, потому что погряз в бумажной работе. Вы ведь останетесь здесь до конца недели?
Она кивнула. Наступило неловкое молчание.
Николас вернул покрытый рунами пергамент обратно в пластиковый футляр и заговорил с Мадлен, не поднимая на нее глаз.
— Я собираюсь взять на неделе выходной. Хотите поехать со мной за город — например, в Йартон? Быть может, вам стоит сменить обстановку, а для меня подобные поездки — любимое времяпрепровождение.
Вернувшись в дом Лидии, Мадлен пришла к выводу, что Николас прав и надо немного отвлечься. Ей не хотелось продолжать собирать материнские вещи. К тому же она довольно далеко продвинулась — теперь коттедж гораздо в меньшей степени напоминал о Лидии.
С этими мыслями она уселась в большое кресло, стоящее у обогревателя, чтобы прочесть оставшуюся часть перевода. В записях Леофгит о том, как Джон и Одерикус вернулись в Англию после путешествия в Нормандию с Гарольдом Годвинсоном, чувствовались напряжение и скрытая интрига. Однако до сих пор описания самого путешествия не было. В своей последней лекции, посвященной данному вопросу, Мадлен, как всегда, подробно изложила точку зрения саксов и норманнов. Сама она не испытывала особой симпатии ни к Вильгельму, ни к Гарольду. Несмотря на их воинские успехи, оба явно страдали от отсутствия гуманистических идеалов. Она ни разу не слышала и не читала о встрече в Нормандии, но в изложении Леофгит такая встреча показалась ей весьма правдоподобной. Возможно, в ней заговорила смешанная кровь.
2 октября 1064 года
После возвращения Гарольда между ним и Тостигом вновь возникла враждебность. Дело в том, что Гарольд узнал, что младший брат остается в Вестминстере. Джон сказал, что Гарольд должен действовать, отсутствие Тостига в Нортумбрии ставит под сомнение способность Годвинов быть достойными вождями. Однако мне известно, что Тостиг находился в покоях короля или же советовался с его сестрой, а не участвовал в турнирах и охоте и не предавался другим удовольствиям, которые могли бы навредить его репутации.
Еще мне кажется, что гнев Гарольда вызван тем, что, пока он плавал или находился в Бристоле, его брат и сестра занимались делами, не советуясь с ним.
Ухудшение отношений между братьями вызывает удивление, ведь прежде они очень любили друг друга. Еще совсем недавно Тостиг выступал вместе с Гарольдом против короля Грифида[32], и они разделили между собой славу победы. Это сражение поселило страх в сердца многих жен, ведь, несмотря на небольшой рост, валлийцы — яростные воины, и после набегов на Уэльс осталось много вдов. Когда Джон вернулся, получив лишь небольшую рану на бедре, оставленную наконечником стрелы, которую выпустил один из лучников Грифида, я так обрадовалась, увидев его живым, что позволила ему рассказать несколько кровавых историй.
Я узнала о том, как Тостиг приехал с севера со своими людьми, а Гарольд отплыл из Бристоля на южное побережье Уэльса и вместе они одержали столько побед над валлийскими дворянами, что оставшиеся начали сдаваться. Король Грифид бежал в лес на север и пал от рук собственных вассалов. Они привезли Гарольду его голову.
Когда Гарольд взял в жены вдову Грифида Алдиту, Тостиг участвовал в свадебных торжествах, а в Вестминстере пировали два дня. Брак носит формальный характер, да и праздники не порадовали ни новую жену Гарольда, ни его любовницу, Эдит Лебединую Шею.
5 октября 1064 года
Сегодня утром в мою комнату в башне приходила королева Эдита. Она принесла кусок темно-желтого шелка из Персии. Мне очень понравился цвет — более сочный и золотистый, чем тот желтый, который мы получаем из коры дикой яблони. Королева рассказала, что такой цвет в Персии добывают из шафрана. Королева хочет, чтобы я сшила платье для Алдиты, жены Гарольда, которая должна вскоре прибыть из Бристоля. Платье следует скроить в норманнском стиле, чтобы оно облегало талию и бедра, без пояса и шнуровки. Корсаж и рукава будут украшать золотое шитье и янтарь. Меня удивило, что королева хочет подарить такое чудесное платье своей новой родственнице, но тогда я не знала, что они близкие подруги. Платье должно быть готово до того, как Алдита прибудет в Вестминстер на следующей неделе.
Я работала до позднего вечера, кроя желтый шелк и стараясь его не испортить. Я взяла на время платье Изабель из Фландрии, где леди носят похожую одежду. Изабель говорит, что у Алдиты такой же размер, как у нее, но, если понадобится, я смогу изменить кое-что уже после ее приезда. Вечером королева Эдита вернулась в мою комнату, чтобы заняться вышивкой, и я попросила разрешения взглянуть на нее. Она внимательно наблюдала за мной, пока я изучала ее работу, но вышивка так прекрасна, что я не могла сказать ни слова. Мои пальцы прикасались к шерстяной ткани, гладили очертания башен, и я улыбалась, чтобы королева Эдита поняла, что я одобряю ее работу.
Закончив кроить ткань для платья Алдиты, я почувствовала, что королева смотрит на меня, будто хочет что-то сказать. Я подняла голову и заглянула в ее глаза, потемневшие от бессонных ночей, когда она ухаживала за мужем. Она спросила про моих детей, поинтересовалась их возрастом, именами и здоровьем. Я стала рассказывать о Мэри, маленьком Джоне и малютке Джеймсе, а королева молча слушала меня.
Сейчас дети спят, а я пишу о ней. О леди, чьи братья управляют большей частью Британии, чьим мужем является король и которая владеет землей, самоцветами и шелковыми платьями, но у которой нет ни возлюбленного, ни ребенка. Я начинаю понимать, что в отсутствии истинного короля, рыцаря и повелителя, у миледи есть лишь одна страсть — она мечтает короновать Эдгара Этелинга. Он последний принц, в жилах которого течет кровь дракона, единственный, кто может спасти королевство. Когда Эдгар Этелинг будет коронован, Эдита исполнит свой долг королевы, дав королевству спасителя.
10 октября 1064 года
Я почти закончила шить платье для Алдиты. Ворот и рукава я вышила золотыми крестиками и теперь прикрепляю к центру каждого янтарную бусинку. Я закончу завтра, до прибытия жены Гарольда в Вестминстер.
Брак между Алдитой и Гарольдом — это политический союз, ведь Гарольд полководец, и если он способен укрепить армию при помощи брака, то так тому и быть. Гарольд сделал вдову короля Уэльса своей женой не только из-за ее союзников в Уэльсе, но и потому, что она приходится сестрой эрлу Эдвину. Эдвин владеет Мерсией, крупнейшим графством, единственной территорией, которой правят не братья Годвины. Моркар, другой брат Алдиты, всегда поддерживает Эдвина, и если у одного из братьев есть враг, то он сразу становится врагом другого.
Говорят, что после свадьбы Алдита покидает форт Гарольда в Бристоле, только чтобы погулять среди утесов, меж которыми несет свои воды к морю река Эйвон. Там она стоит и смотрит на запад, в сторону Уэльса. О жене Гарольда мало что известно, но Изабель говорит, что это тихая леди, которая любит читать стихи и прекрасно играет на арфе. Должно быть, Алдита чувствует себя одиноко в Бристоле — интересно, знает ли она, что отлучки ее мужа далеко не всегда связаны с военными походами. Эдит Лебединая Шея уже подарила Гарольду двоих детей. Именно ей принадлежит его сердце, хотя всем известно, что он большой любитель женщин. Любовницу Гарольда так называют из-за тонкой белой шеи, которая является признаком удивительной красоты среди тех, чья кожа никогда не темнеет от работы в полях. Гарольд и Эдит остаются любовниками, хотя церковь, а значит, король никогда не одобрит их союза. В качестве наследников Гарольда Рим признает лишь сыновей от его брака с Алдитой.
На кухне идут приготовления к пиршеству в честь жены Гарольда. Поварихе пришлось до поздней ночи печь медовые пряники, пироги с фазанами, и весь день дворец был наполнен ароматом жарящегося мяса. Горожане Вестминстера приглашены на пир, словно это день святых или праздник. Будут петь менестрели.
Я видела Эдгара Этелинга и двух его сестер во дворе, где они ели горячие пряники. Эдгар обладает природным обаянием, ему даже удалось уговорить повариху расстаться с несколькими караваями свежего хлеба. Сладкие ароматы отвлекли сестер от вышивки, и наш щеках играет румянец в предвкушении праздника. Эдгар не слишком крепкого телосложения, руки и ноги торчат, как прутья молодой ивы, и он так же бледен, как его дядя король. Но в отличие от Эдуарда в его движениях есть уверенность, он держится совсем не как юноша своих лет и умен не по годам. И, хотя у него тонкие руки, в них чувствуется сила из-за постоянных упражнений в стрельбе из лука и фехтовании.
Во время одного из моих визитов в покои королевы Эдита призналась Изабель, что Гарольд считает, будто Эдгару больше подходит карьера ученого, чем полководца. Миледи сказала, обращаясь скорее к себе, чем к Изабель, что смелость еще не делает королем, и, если Тостиг станет военным советником Эдгара, ничто не помешает юноше стать наследником Эдуарда. Эдгар Этелинг быстро расстался с детством, ведь королева постоянно напоминает ему, что однажды наступит день, когда ему предстоит ощутить на себе тяжесть короны. А больше всего на свете она мечтает о том, чтобы он стал королем, — ничего другого ей в жизни не нужно.
12 октября 1064 года
Вчера вечером дворец был полон гостей, которые пришли на пир в честь Алдиты. Горожане сидели за длинными столами в задней части зала и жадно ели мясо, яйца и маленькие горячие пирожки, которые приносили из кухни мальчики-слуги. Загорелые лица сияли от удовольствия, в зале было тепло, всем хватало эля. А под столами охотничьи собаки сражались за кости, да и дети о них не забывали. Во время таких пиров каждый старается съесть и выпить как можно больше, а также спрятать еду в складках одежды. В нашем графстве на рынке идет бойкая торговля и строится собор. Работы всем хватает, и лишь немногие страдают от голода, но во время пира люди всегда стараются есть до отвала.
Мы с семьей устроились возле одной из боковых стен, вместе с нами пировали другие солдаты с семьями. За соседними столами сидели землевладельцы и купцы, а ближе к королевскому столу — придворные лорды и леди, священники и рыцари. Там было не так весело, как за дальними столами. Аристократы негромко беседовали между собой, потягивая вино из оловянных кубков. Еда и питье — не повод для радости для аристократов, это их привилегия.
В верхнем конце зала стоял королевский стол, хотя сам Эдуард к началу пира не явился. Королева сидела слева от его резного кресла, ее блестящие волосы прятались под голубой накидкой. Сверху она надела золотую цепь, покрытую крошечными разноцветными драгоценными камнями, блестящими в свете свечей. В лунных камнях, вшитых в ворот ее темно-синего платья, также отражалось пламя свечей, и они сияли, словно маленькие звезды на темном небе. Место рядом с королевой было отдано жене Гарольда Алдите, одетой в оранжево-желтое платье, которое я закончила сегодня днем. Платье прекрасно сидело на ее хрупком теле. Она осталась довольна моей работой и была тронута подарком королевы. Большую часть вечера Алдита и королева Эдита о чем-то негромко разговаривали, и все понимали, что их беседа не предназначена для чужих ушей.
Гарольд сидел слева от Алдиты, но постарался отодвинуться от нее подальше. Он почти все время беседовал с Одерикусом, занявшим место слева от него. Гарольд не сказал жене ни слова и даже не посмотрел в ее сторону. Справа от пустого королевского кресла восседал епископ Стиганд, а еще дальше братья Гарольда, Гирт и Леофвин, эрлы Восточной Англии и Суссекса. Эрлы Эдвин и Моркар, братья Алдиты из Мерсии, занимали места в конце королевского стола. Эрла Тостига на пиру пока не было.
Наблюдая за странным гобеленом, состоящим из оборванных горожан, детей, животных, аристократов, солдат и монахов, я видела самые разные миры. Здесь собрались богачи и нищие. И различия виделись мне не только в одежде или белизне кожи, но и в душевном состоянии. Ни один из лордов не получал удовольствия от еды и не смеялся громко, никто из них не выказывал любви к своей леди. И я не заметила, чтобы хотя бы одна из них чувствовала себя непринужденно в компании тех, с кем сидела.
Поглядывая в сторону королевского стола, я заметила, что Одерикус не слушает Гарольда, хотя его поза показывала, что он весь превратился в слух. Монах наблюдал за королевой. Его взгляд вновь и вновь возвращался к ней. Казалось, ему больше некуда смотреть. Одерикус пытался услышать, о чем она говорит с женой брата. Я почувствовала, что мое сердце забилось сильнее, и отвела глаза в сторону.
Король Эдуард появился значительно позднее, Тостиг поддерживал его под локоть. Король шел, с трудом передвигая ноги, и выглядел заметно постаревшим, хотя прошло всего две недели с того момента, как он в последний раз покидал свои покои. Когда король занял место рядом с женой, в зале стало тихо, но едва он повернулся к епископу Стиганду и обменялся с ним несколькими негромкими фразами, все снова заговорили. Тостиг занял свое место между братьями Гиртом и Леофвином.
Тостиг самый красивый из братьев. Только он да Эдита унаследовали золотые волосы своей матери. Они все высокие, в отца. Кроме того, Тостиг наименее суровый из всех братьев, поэтому многие считают, что он не должен быть правителем.
Пока он не женился на Джудит из Фландрии, многие леди мечтали стать его женой. От Изабель я слышала, что Гарольд не пропускает мимо ни одной юбки, в то время как эрл Нортумбрии посвящает все время лишь королю.
Эдуард всегда охотно окружал себя роскошью и людьми, обладающими изысканным вкусом, и нашел в Тостиге достойного соратника. Эдуард провел юность в праздности, много охотился и развлекался при норманнском дворе. Поэтому он оказался плохо подготовлен к событиям, в результате которых стал королем саксов. Я смотрела на него и видела болезнь. Тогда я подумала, что его безумие — не более чем терзающий его страх. Эдуард знал, что в королевство со всех сторон готовы вторгнуться претенденты на трон. А сам он не сможет отдавать приказы даже военачальникам, если придется вступить в сражение. Но пока король жив, такого не будет — они ждут его смерти. Возможно, страх короля объясняется тем, что он уверен — после смерти Бог его не примет. Больше всех других королей этих земель Эдуард пытался очаровать Бога римлян. Если римскому Богу не нравится огромная церковь в Вестминстере, похожая на дворец, то такому Богу очень трудно угодить.
Когда все было съедено и припрятано, тарелки унесли. Слуги поставили на столы новые кувшины эля и вина. Появились акробаты и жонглеры, раздались звуки одинокой флейты и барабана. Все артисты были одеты в красное и зеленое, и у каждого были штанины разного цвета. На сапогах звенели маленькие колокольчики, а шляпы были похожи на грибы и тыквы. Они давали представление в центре зала — жонглировали, балансировали мечами на носах и подбородках, стояли на руках. Одним из исполнителей труппы был мускулистый карлик, который вытаскивал из шляп своих товарищей куски желтой материи, цветы и мышей. Дети старались подобраться поближе к актерам и сидели на полу, глядя на них широко раскрытыми глазами. Они громче всех смеялись и искренне наслаждались представлением.
Место акробатов и жонглеров занял бард — странствующий рассказчик, которого мы уже видели раньше. Все называли его Хорьком из-за худощавого, покрытого оспинами лица и длинного носа. Хорек уселся на стул возле огня, напротив стены, где сидела моя семья.
Он принялся умело рассказывать историю воина викинга Беовульфа, которую все слышали много раз. Но Хорек умел управлять слушателями, заставляя их замирать, с нетерпением ожидая продолжения. Когда он говорил, замолкали даже маленькие дети.
Когда он закончил рассказ, матери взяли на руки спящих детей, и горожане начали покидать зал, надевая плащи и прощаясь друг с другом. Большинство были слишком пьяны, чтобы заметить, что король заснул в кресле. Эдита и Тостиг осторожно разбудили его и помогли подняться на ноги. Гарольд перешел к другому концу стола, чтобы поговорить с братьями Гиртом и Леофвином, полностью игнорируя Тостига. Мне показалось, что Одерикус ушел, но потом я заметила его возле камина. Он стоял и смотрел на огонь. Джон положил на плечо спящего маленького Джона, словно мешок с мукой, а я отдала Мэри малыша Джеймса и пообещала, что скоро приду.
Монах погрузился в глубокие размышления. Я остановилась неподалеку — быть может, не следует его тревожить, подумала я. Однако он почувствовал мое присутствие, повернулся ко мне и улыбнулся. Я отчетливо помню наш разговор.
— Леофгит, друг мой. Подойди, постой со мной у огня. Я надеялся, что мы сумеем сегодня поговорить.
Я стояла рядом и смотрела, как горит и обугливается ствол деревца. Люди, которые могли бы нас увидеть, нисколько не удивились бы, поскольку я часто беседую с монахами относительно церковных облачений и драпировок. Наша дружба продолжается уже много лет, хотя никто не знает почему — ведь наши боги носят разные имена. Давным-давно, тогда я была еще молоденькой девушкой, мне казалось, что Одерикус должен знать о мире духа столько же, сколько знает о народах, живущих на континенте. Но его знания почерпнуты из священных книг, написанных людьми. Я уважаю огромные познания монаха и его доброе сердце, хотя он и заблуждается в своей вере. Однако Одерикус — один из немногих, кто действительно верит и живет по своей вере. Мне неизвестно, что заставило Одерикуса искать моей дружбы, когда много лет назад он пришел в мастерскую в Кентербери, но мне кажется, что его интересует моя вера — ведь и мне интересно, как верит он. И я не раз видела, что его удивляет мое нежелание искать ответы на многие вопросы в законах церкви, чтобы правильно прожить свою жизнь.
Он понизил голос и снова заговорил:
— Я хочу кое о чем попросить тебя.
Он взглянул на группу лондонских купцов, которые сидели на скамейке возле камина. Купцы обсуждали цены на шерсть из Сарума и не обращали на нас внимания.
— Эрл Гарольд просил меня хранить молчание о природе его… встречи с Вильгельмом из Нормандии и проследить за тем, чтобы ни один писец не стал об этом писать. Как летописец двора и церкви, я не могу пренебречь своим долгом, но и ослушаться эрла Гарольда не имею права. Но, поскольку ты не раз доказывала, что достойна быть писцом, у меня появилась идея. Ты меня понимаешь?
Я кивнула.
— Хорошо. Я скоро приду в башню. А теперь расскажи, как твои дела.
Я немного посидела с Одерикусом возле огня и рассказала о том, как продвигается работа над занавесью для библиотеки Святого Августина. Он внимательно меня слушал, но я заметила, что он отвлекся, когда королева, проводив мужа в покои, вернулась в зал. Глаза Одерикуса следили за королевой, пока она не заняла свое место и не возобновила беседу с леди Алдитой.
Николас позвонил в пятницу утром и предложил Мадлен «посачковать». Когда он уточнил, что имеется в виду (Лидия никогда бы не воспользовалась таким выражением), Мадлен тут же решила, что это полезное новое слово для ее английского лексикона, и согласилась составить ему компанию.
Она сидела за столом возле окна. Николас подъехал на бутылочно-зеленом «фольксвагене», довольно старом, но ухоженном.
Мадлен смотрела на его стройное тело, на то, как он выбирается из машины, а над его головой поднимается облачко пара от дыхания. Он открыл ворота и оценивающе оглядел коттедж. Мадлен быстро отошла от окна, прежде чем Николас успел заметить, что за ним наблюдают. Она подождала, когда зазвонит звонок, и только после этого направилась к двери.
— Симпатичное место, — сказал он, оглядывая комнату, пока Мадлен искала перчатки и шарф.
— Да, вы правы. Однако я не знаю, что мне с ним делать. Вероятно, нет особого смысла сохранять дом — ведь я не собираюсь здесь жить.
— Вы можете его сдать.
Она пожала плечами.
— Конечно. Трудно сказать…
— Тогда ничего не предпринимайте пока. — Он посмотрел на нее и улыбнулся, словно все было очень просто. — Готовы?
Она кивнула.
Местность между Кентербери и Йартоном была полна развалин каменных строений, деревень, которые казались брошенными, но содержались в полном порядке, с зимними садами и дымящими трубами. Изредка попадались фермы, иногда сараи, доверху заполненные сеном.
«Фольксвагену» часто приходилось ползти на первой передаче вслед за огромными, покрытыми грязью колесами трактора, но Николас всегда дожидался, когда фермер заметит, что его догнал автомобиль, чтобы не сигналить. Однажды он наклонился так близко, что Мадлен смогла уловить аромат его одеколона, и протянул руку к заднему сиденью. Взяв коробку, набитую кассетами, он поставил ее на колени Мадлен.
— Может быть, послушаем музыку? Выбирайте.
В его коллекции оказалось много незнакомых названий, но Мадлен нашла несколько своих любимых мелодий. До Йартона они ехали в сопровождении меланхоличного воркования Ника Кейва — «Зов лодочника». Стихи пробудили в Мадлен грусть, и ей пришлось отвернуться к окну, чтобы скрыть набежавшие слезы.
«Я не верю в существование ангелов, но, глядя на тебя, начинаю в этом сомневаться. Я бы позвал их сюда, чтобы попросить присматривать за тобой…»
Пальцы Николаса отбивали ритм на руле. Казалось, он не заметил ее внезапной грусти, но когда Мадлен повернулась к нему, то увидела, что Николас не сводит с нее глаз.
— Может быть, это слишком грустная музыка?
Она покачала головой.
— Нет, иногда мне нравится чувствовать печаль — можно сказать, это такой способ укрыться от внешнего мира. Вероятно, мои слова звучат мрачновато…
— Нет, думаю, я понимаю, о чем вы говорите. Вы можете быть печальной, не впадая в мрачность. В любом случае меня это не пугает, а что до «существования ангелов», то нам нужно не опоздать на встречу!
Мадлен вопросительно посмотрела на него, а он усмехнулся:
— Вы все увидите сами.
Йартон был ничуть не больше других сонных деревушек, мимо которых они проехали, но церковь саксов придавала ему значимость. У въезда красовался плакат, приглашающий посетить место «древнейших сохранившихся средневековых фресок английской церкви». У Мадлен зашевелились воспоминания. Она неосознанно приложила руку к губам, однако Николас заметил ее реакцию.
— С вами действительно все в порядке?
— Я уже была здесь когда-то.
— С матерью?
Мадлен кивнула:
— Да. В церкви.
Церковный двор был полон покосившимися и разбитыми могильными плитами. Многие из них были покрыты мхом, со стершимися надписями. В заросшем углу стояло тисовое дерево, окруженное деревянной оградой.
— Похоже, оно такое же старое, как церковь, — сказал Николас, когда Мадлен остановилась, чтобы посмотреть на дерево, как и тогда, когда приезжала сюда с Лидией. — Их сажали во дворах церквей, так как они считались бессмертными — как только старое дерево начинало умирать, внутри ствола появлялся новый росток. Языческая магия часто связана с тисовыми деревьями. Кроме того, они ядовиты, а из их древесины делали луки.
Мадлен слушала Николаса не слишком внимательно. Она старалась вспомнить свое прошлое посещение церкви. Но ее сознание туманили эмоции.
Сама церковь являлась памятником архитектуры саксов и норманнов. Южная стена состояла из почерневших и гниющих дубовых стволов, укрепленных кирпичами. Башня и колокольня были построены из камня, с узкими треугольными окнами-бойницами.
— Эта церквушка видела лучшие дни, — вздохнул Николас, когда они обходили по периметру древнее здание. — Все приложили к ней руку, от саксов до викторианцев. И на этом не остановились — сейчас ведутся раскопки склепа. Давайте зайдем внутрь.
Внутри тоже наблюдалось смешение разных архитектурных стилей — потемневшие деревянные своды, мозаичный пол периода позднего Возрождения, готическая кладка, простые каменные стены времен саксов.
Фрески прятались в помещении, где находился неф, это Мадлен запомнила. И хотя освещение здесь было слабым, великолепие фресок заставило ее затаить дыхание. Картины произвели на нее такое же сильное впечатление, как и во время визита с Лидией. Тогда Лидии понравилось восхищение дочери, да и теперь Николас был доволен произведенным эффектом.
— Поразительно, — прошептал он. — Их закрасили монахи в семнадцатом веке, чтобы защитить от реформаторов — пуритан Кромвеля. Иконы и пышное убранство церквей — истинные происки дьявола! Фрески обнаружили только в середине девятнадцатого столетия — викторианцы были очень старательными реставраторами.
Они медленно шагали по узкому каменному коридору, освещенному тусклым светом, льющимся из двух узких окон в разных его концах. Фрески были изысканными — яркие краски полностью сохранились. Изящные византийские образы библейских сцен, начиная от ангела Благовещения, явившегося Марии, до путешествия волхвов — троих мудрецов, которые несут дары и следуют за сияющей золотой звездой. У этой стены Николас остановился.
— Любопытно. Почему-то эта сцена была изменена примерно за сто лет до Реформации. Видите волхва с ларцом?
Мадлен кивнула.
— Здесь было какое-то повреждение: может быть, вода промыла — трудно утверждать что-то определенное. Так или иначе, но шкатулка и башня отреставрированы.
Он показал на изысканно красивый дворец — очевидно, он изображал земную обитель Сына Бога. Именно к нему шли трое волхвов. Краска на шкатулке и на башне была разного качества — немного ярче, чем на всей фреске.
— Вот вам и кормушка, — сухо сказал Николас. — Новая работа вдохновлялась церковной архитектурой.
Мадлен более внимательно посмотрела на восстановленные части фрески. Лидия наверняка обращала внимание на такие вещи, она знала свое дело. Шкатулка и дворец явно подверглись реставрации, а башня действительно напоминала здание церкви. Золотую шкатулку украшали сверкающие самоцветы, а в ее основании виднелся загадочный узор.
На последней фреске было изображено собрание ангелов — их сияющие крылья и нимбы украшала золотая фольга. Мадлен вспомнила, что это любимая фреска Лидии, почувствовала, как подступают слезы, и прикусила губу.
— Существование ангелов, — негромко произнес Николас.
ГЛАВА 9
15 октября 1064 года
Уже поздно, и в доме холодно. Огонь в камине погас, но я не осмеливаюсь подбросить еще дров. Несмотря на большие запасы, их нужно беречь, чтобы хватило на всю зиму. Пальцы онемели от холода, но я продолжаю писать. Мое тело мечтает присоединиться к Джону на теплой соломе, но я знаю, что буду лежать без сна, а мой разум будет снова и снова возвращаться к событиям, которые произошли после того самого вечера в королевском зале.
На следующий день после пира Одерикус, как и обещал, пришел навестить меня в комнату в башне. Он вытащил из рукава кипу листов пергамента, перевязанную кусочком шерсти, протянул их мне, и тут в комнату вошла королева. Она увидела пергамент и, должно быть, поняла, что наша встреча с Одерикусом была тайной. Королева остановилась, а я опустила глаза и не заметила, какими взглядами она обменялась с Одерикусом. Потом она молча вышла из комнаты. Я подняла взгляд на монаха — он смотрел вслед королеве.
Одерикус подошел к западному окну и некоторое время молча смотрел в него. Когда он вновь повернулся ко мне, его взгляд упал на ее вышивку, лежащую в корзинке с полотном. Вышивка была сложена, но часть ее осталась на виду. Монах похвалил аккуратные стежки и взял в руки ткань, чтобы рассмотреть ее более внимательно. Он спросил, чья это работа. Я ответила, что это рука королевы. Пораженный ее мастерством, Одерикус очень внимательно изучал ткань. Вышитый угол занимал лишь несколько дюймов узкой длинной полосы, вышивка была сделана простой шерстью — фигура короля, сидящего на троне, украшенном головой льва. Шерстяной плащ Эдуарда был двух цветов — зеленой полыни и коричневого, для его получения использовалась луковая шелуха. Стены дворца, изображенные королевой, украшали цветные квадратики, похожие на керамику, которую продают мавры на Лондонском рынке.
Монах сложил ткань и аккуратно вернул в корзину. Он казался озабоченным, но я не знала, что его удивило больше — неожиданное появление королевы или ее замечательная вышивка. Одерикус посмотрел на меня и улыбнулся, и я увидела, что в его глазах больше нет тревоги.
— Миледи обладает мастерством рисовальщика, — сказал он, а потом предложил прогуляться по дворцовому саду, где можно спокойно поговорить.
Очевидно, Одерикус прочитал в моем взгляде озабоченность из-за большого количества работы, потому что обещал не задерживать меня надолго.
В саду пахло приближением зимы, землю устилала палая листва, но мы прогуливались по роще фиговых деревьев, все еще сохранивших большую часть листьев, а потому любопытные глаза едва ли могли заметить нас. Потом мы присели на каменную скамью, слегка нагретую слабыми лучами солнца. Когда монах рассказывал о том, что произошло между Вильгельмом и Гарольдом в Нормандии, чему он, как переводчик, стал свидетелем, его лицо посерело.
Гарольд Годвинсон поведал герцогу Вильгельму, что его сестра Эдита стоит на пути у многих амбициозных мужчин, желающих занять английский трон. Он сказал, что она очень симпатизирует Эдгару Этелингу и не хочет, чтобы после смерти мужа королем стал Гарольд или Вильгельм, герцог Нормандии. В ответ Вильгельм спросил, хочет ли Гарольд носить корону Эдуарда, и тот заявил, что они могут прийти к соглашению, которое устроит их обоих, ведь Гарольд должен защищать интересы своей семьи.
Внезапно я почувствовала холод. Туча закрыла солнце, хотя все остальное небо оставалось безоблачным. Я не могла поверить, что Гарольд Годвинсон мог произнести такие слова в беседе с герцогом Нормандии. Я посмотрела на монаха, чтобы проверить, не шутит ли он. Но нет, он говорил серьезно.
Одерикус невидящим взглядом смотрел на резной камень скамейки, продолжая рассказывать свою историю. Руками он обхватил голову с выбритой тонзурой. Он поведал, как долго молчал Вильгельм, когда Гарольд сформулировал свои условия — после смерти короля Гарольд поможет герцогу Нормандии получить корону, но он сам и его братья сохранят свои земли и титулы. Вильгельм должен будет использовать влияние Рима, чтобы церковь не захватила слишком много и ее власть не стала выше власти семьи Годвинсонов. Наконец он взглянул на монаха и спросил, чему тот хранит верность — своей норманнской крови, законам своего Бога или королю, — ведь то, что ему предстоит услышать, заставит его нарушить верность кому-то из них. Одерикус ответил, что римская церковь есть наместник Бога на земле ионе первую очередь склоняет голову перед ее законами. Гарольда его слова удовлетворили, и он сказал, что Рим хочет иметь христианского короля, а не ребенка, в чьих жилах течет кровь тех, кто почитает фальшивых богов.
Голос Одерикуса дрожал, когда он рассказывал о планах Гарольда. Вильгельм найдет убийцу, ведь норманны славятся этим умением. Убийца должен будет убрать сестру Гарольда Эдиту сразу после того, как король испустит последний вздох, и в панике и суматохе, которая последует за этим, Эдгар Этелинг не сможет стать королем.
Я ахнула, и мои рука вцепились в камень скамейки, на которой мы сидели. Это не может быть правдой! Голова монаха опустилась еще ниже, а я не могла его утешить, словно окаменела. Еще я опасалась, что нас могут увидеть и это вызовет любопытство — ведь мы прятались в фиговой роще, — и побледнела от страха. Я сказала об этом монаху, стараясь смягчить смысл своих слов и чувствуя, как страшная боль терзает душу. Однако Одерикус сказал, что еще не закончил, и мои руки прижались к животу, хотели защитить его от зла.
И Одерикус рассказал, как два предателя скрепили свое соглашение. Вильгельм предложил дать клятву над чем-нибудь священным. Он принес шкатулку, которую, по его словам, подарил ему отец, герцог Роберт, когда отправился в паломничество в Иерусалим. Шкатулка была даром святого римского императора, но изначально принадлежала королю Дании Кнуду. В шкатулке, по словам Одерикуса, лежит поэма, написанная датскими рунами, буквы сделаны из золота и крошечных самоцветов лучшими мастерами тех земель. На крышке шкатулки вырезано восходящее солнце, сияющее от рубинов и янтаря. С двух сторон шкатулку украшает христианское распятие из золота и серебра.
Монах сказал, что шкатулку, где хранятся мощи святого Августина, оставили ему. Вильгельм попросил Одерикуса благословить ее и подготовить для клятвы, которую они дадут после обеда. Однако вместо этого Одерикус вытащил кости, хранившиеся в шкатулке, и спрятал их в своем плаще, чтобы ни один человек, коснувшийся инкрустированной самоцветами крышки, не смог принести священной клятвы.
После церемонии Вильгельм вернул шкатулку в часовню, но в ней не было костей, которые вынул Одерикус. Поэтому перед тем, как покинуть замок, Одерикус попросил разрешения еще раз взять шкатулку в руки, чтобы получить благословение для их путешествия домой, рассчитывая, что сумеет положить кости наместо. Но, вернувшись в свою комнату в замке, он обнаружил, что служанка, приводившая в порядок его одежду, вытряхнула плащ в окно, чтобы избавиться от дорожной пыли. Если она и заметила кости в складках плаща, то, скорее всего, решила, что это остатки трапезы, сохраненные для какого-то неизвестного ритуала.
В этот момент Одерикус поднял голову и посмотрел мне в глаза, и я спросила, как он поступил. Мне ужасно хотелось узнать, как он выпутался из столь трудного положения. Опустив глаза, Одерикус ответил, что он взял шкатулку, а Вильгельму сообщил, что ее украли. Вильгельм пришел в ярость и завопил, что его двор полон воров-викингов, которые хватают все, что блестит, и что это у них в крови.
Тогда я спросила: а разве в жилах самого герцога Вильгельма не течет кровь викингов? Однако монах не услышал меня, с головой погрузившись в воспоминания.
Завершив историю, Одерикус поведал о том, как прятал шкатулку среди своих пожитков, никому не доверяя их во время обратного путешествия. О том, как из-за ее веса седельная сумка не выдержала и упала на землю. Он снова посмотрел мне в глаза. Я поняла, что он хочет, чтобы я помогла ему защитить королеву, даже если сама подвергнусь опасности. Я сказала, что буду наблюдать и слушать, поскольку ничего другого сделать не смогу.
Пергамент, который подарил мне монах, я использую для записей, а остальные куски спрятала в яме под очагом вместе с перьями и исписанными листами, завернув в кожаный футляр и связав шелковой лентой, чтобы сырость и насекомые не могли до них добраться.
На следующий день я поздно пришла в комнату в башне. Не успев войти, я услышала голоса. Я заглянула в замочную скважину и увидела, что Одерикус что-то говорит королеве, но не сумела разобрать слов. Он стоял ко мне спиной, но я могла видеть лицо королевы. Она слушала Одерикуса очень внимательного у нее не было уверенности, можно ли ему доверять. Потом королева сказала, что теперь уверена — Гарольд не будет поддерживать Эдгара Этелинга в качестве будущего короля и что она поняла, почему ее брат, вернувшись из Нормандии, сразу же потребовал аудиенции у Эдуарда. Позднее король рассказал ей, что Гарольд попросил для себя крупное владение в Восточном Уэссексе, которое было недавно отобрано у церкви. Его жажда власти и богатства стала еще сильнее. Опасалась ли королева за свою жизнь? По миледи этого не было видно. По-видимому, Одерикус не все ей рассказал.
Я стояла на месте, не в силах пошевелиться, понимая, что этот разговор не предназначен для моих ушей. То, о чем королева сказала монаху, я уже отчасти слыхала и раньше. Королева надеялась, что ее поддержит Алдита, эрлы Эдвин и Моркар встанут на ее сторону и не будут заключать союз с Гарольдом. Алдита не любит нового мужа, который отрубил голову королю Грифиду. Ей пришлось хоронить обезглавленное тело любимого. Казалось, у Алдиты кроткий нрав, но ее матерью была леди Годива, которая протестовала против высоких налогов мужа, разъезжая обнаженной по улицам Ковентри. Смуглые бритты из Уэльса ждали, что выйдет из брака Алдиты, своей бывшей королевы, и Гарольда Годвинсона. Ветер с запада приносил слухи о том, что Уэльс скорбит о своей украденной королеве не меньше, чем об убитом короле, и это могло помочь Эдите заключить с ними союз. Я начала понимать, почему жена Гарольда дружит с его сестрой — ведь обе женщины были заинтересованы в том, кто именно наденет корону, и у обеих имелись союзники в приграничных королевствах.
На севере шотландский король Малкольм, друг Тостига, считает, что только будущий король-сакс способен объединить острова королевства. Это позволит ему мирно править Шотландией. Шотландцы и валлийцы верят, что лишь потомки великого короля Альфреда достойны унаследовать его корону. Я и сама так считаю. Наш остров населен многими племенами, но, с тех пор как ушли римские солдаты, лишь западные короли саксов сумели добиться единства. Джон вместе с другими солдатами часто пересекает границу. Он говорит, что даже в нынешние мирные времена совершенно ясно — лишь общая армия способна защитить наши берега от вторжения. Мы слышали, что Харальд Хардраад[33], последний из северных королей-воинов, точит топор в ожидании смерти короля Эдуарда. На континенте полно претендентов, мечтающих занять трон Эдуарда. Они ждут его смерти, поистине как стервятники. Не случайно, что викинги делают на запястьях татуировки этой птицы.
Сквозь дверную щелку я видела, как погрузившийся в глубокие размышления Одерикус подошел к западному окну, как и тогда, когда беседовал со мной. Он долго молча стоял у окна, и я подумала, что он молится. Затем он обернулся к королеве, я увидела его лицо. Оно внезапно помолодело, как и в тот вечер в королевском зале, когда он не сводил с нее глаз. Я слушала, хотя мои руки и ноги занемели. Эдита сделала монаха своим исповедником. Взамен на его откровенность она тоже доверила ему опасные сведения. Королева рассказала, что ее братья, эрлы Гирт и Леофвин, чьи земельные владения находятся совсем рядом с Вестминстером, почти наверняка поддержат Гарольда. Но если она сумеет заключить союз с Моркаром и Эдвином в Мерсии, то у нее будет поддержка севера, от графства Тостига в Нортумбрии, вплоть до Шотландии, если к ним присоединится Малкольм. Она рассказала Одерикусу, что встречалась с женой Тостига Юдит из Фландрии и с женщиной из шотландской аристократии — кузиной Эдгара Этелинга. У королевы много друзей среди придворных дам и принцесс, которые делят постель и тайны с могущественными мужчинами, и теперь я припоминаю множество случаев, когда мне доводилось вышивать платья для приезжих леди, навещавших королеву.
Я понимала, что мне следовало либо войти в комнату, либо покинуть башню, ведь, если Одерикус или Эдита захотят выйти наружу, меня могут увидеть. Я закашлялась и распахнула дверь. Оба повернулись ко мне. На полу лежало то, чего я не заметила, заглянув в замочную скважину. От одной стены до другой в углу была расстелена длинная узкая полоса ткани с вышивкой Эдиты. Монах поприветствовал меня и сообщил, что пытается убедить миледи продолжить работу, хотя она хотела лишь вышить портрет мужа и еще не успела отрезать нужный кусок ткани. Он предлагал расположить рядом с королем еще одну фигуру или даже две. Может, эрла Гарольда, докладывающего Эдуарду о том, что собирается в дальнее путешествие. Тогда вышивку королевы можно продолжить; получится история, рассказанная при помощи рисунка и вышивки.
Казалось, разговор о вышивке взволновал его, а Эдита выглядела заинтригованной мыслями о гобелене, похожем на длинный свиток пергамента, только история будет рассказана не словами, а картинками. Одерикус предложил вышить путешествие Гарольда со свитой в Бошам, когда священник проводит мессу перед отплытием на континент. Эдита бросила на Одерикуса пристальный взгляд, словно лишь теперь сообразив, что он имеет в виду. Тут уж и я поняла его планы. Он хотел, чтобы события, участником которых он стал, были каким-то образом занесены в хроники.
Вышивка такого гобелена была опасным замыслом, его следовало планировать втайне. Никогда прежде я не слышала о подобной летописи, но меня сразу охватило возбуждение — замечательно, если мы сумеем сделать это.
Эдита некоторое время размышляла над предложением монаха, хмуро глядя на чистую ткань, словно пытаясь представить, как именно будет выглядеть гобелен. Наконец она сказала, что не настолько хорошо владеет иглой, чтобы создать подобную вышивку в одиночку. Одерикус улыбнулся и повернулся ко мне, словно предлагая мне поучаствовать в этом.
— Вы не будете одиноки, миледи, ведь у вас есть верность и любовь одной из лучших вышивальщиц королевства. А еще у вас есть я. Вместе мы сумеем создать гобелен.
Эдита колебалась еще несколько мгновений, а затем ее лицо просветлело. Она сказала — надо позаботиться о том, чтобы никто не увидел гобелен и не услышал о нем. Нам предстоит очень много работы после того, как будет готов рисунок, поэтому нужно все упростить, в том числе и цвет ниток, ведь гобелен станет документом, а не украшением.
Мадлен сидела очень долго. Она взяла сигарету, но затянулась лишь раз, а потом положила ее в пепельницу и забыла. Пришлось закурить следующую. Она смотрела на отраженный свет заходящего солнца, освещающего боковую стену музыкальной школы, и пыталась представить себе эти сцены — Гарольд и Вильгельм строят планы убийства Эдиты; кости святого Августина выпадают из пыльного плаща Одерикуса из окна замка Вильгельма; на каменном полу лежит длинная узкая ткань, а монах, королева и вышивальщица планируют создание гобелена Байе. Теперь Мадлен больше не сомневалась, что именно его Эдита начала вышивать в октябре тысяча шестьдесят четвертого года.
Эти откровения окончательно выбили Мадлен из колеи; она даже не смела надеяться на то, что дневник окажется подлинным, и сейчас пребывала в самом настоящем шоке. Даже если бы она прочла об этой истории в учебнике, то взволновалась бы; но записи Леофгит, живой свидетельницы, создавали иллюзию, будто Мадлен и сама участвует в заговорах и интригах. Судьба Леофгит тревожила ее гораздо больше, чем будущее Эдиты, — Мадлен отчасти была известна история королевы.
Она переводила целый день, но только сейчас почувствовала, как болит шея и режет глаза. Мадлен бережно закрыла дневник и убрала его в черную шкатулку. Шкатулка с изящной резьбой по черному гагату сама по себе была ценным антикварным предметом. Быть может, она принадлежала Элизабет Бродье и в ней когда-то хранились драгоценности или же шелковые нитки для вышивания и серебряные иголки. Мадлен подумала об участии Леофгит в создании гобелена Байе и внезапно поняла, что фамильный бизнес мог родиться девятьсот лет назад. Такой временной промежуток производил ошеломляющее впечатление, и она решила пока не думать об этом.
Она встала и потянулась, чувствуя напряжение в спине и плечах. Завтра ей предстояло вернуться на работу — ей было трудно представить себя стоящей перед сотней студентов и читающей лекцию. Неужели она потеряла уверенность в себе? Разве еще совсем недавно ей не нравилась ее работа? Раньше она совсем об этом не думала, поняла Мадлен, просто преподавала, и все.
Когда Мадлен была ребенком, ей хотелось стать парикмахером. Она вспомнила, как наблюдала за Лидией, молодой и хорошенькой, которая ловко сплетала в изящное кольцо свои длинные медно-красные волосы. Мадлен мечтала войти в мир, где женщины умели делать такие вещи. Тогда ей казалось, что работа парикмахера — одна из самых важных. Наверное, надо было более серьезно подумать об этой профессии, с иронией сказала она себе.
Прошлый вечер теперь казался застывшим во временной рамке, которая грозила исчезнуть. Она, в буквальном смысле спотыкаясь, вошла в квартиру и без сил упала на кровать. Вспомнив, что до сих пор не разобрала вещи, Мадлен скорчила недовольную гримасу. Казалось, что она до сих пор находилась в мире Леофгит. Даже утренняя прогулка в воскресенье и завтрак (разве она завтракала?) перед тем, как открыть дневник, превратились в смутные воспоминания.
Мадлен бродила по квартире, курила и смотрела по сторонам, словно пытаясь припомнить, куда делись последние двадцать четыре часа. Отчетливее всего она помнила, как Николас довез ее до коттеджа Лидии. Он тревожился, что посещение Йартона всколыхнуло у Мадлен грустные воспоминания. Ее удивило такое проявление сочувствия, и она заверила Николаса, что воспоминания были счастливыми. Позднее она задумалась о восприимчивости Николаса. Мадлен никак не ожидала, что мужчина окажется на такое способен.
На полу в спальне стоял ее чемоданчик — она даже не открыла его после приезда. Постель была смята — по-видимому, она забыла ее убрать.
Пока Мадлен безуспешно искала на кухне что-нибудь съестное, она вспомнила, что после возвращения из Англии так и не прослушала сообщения на автоответчике и не просмотрела почту.
В вестибюле оказалось темно и холодно, а ее письма были собраны и аккуратно сложены в деревянный ящик на стене с номером ее квартиры. Наверняка дело рук Тобиаса. Когда Мадлен уходила на работу, она несколько раз видела, как он с преувеличенной тщательностью разбирает почту. Однако Тобиас вел себя доброжелательно и всегда охотно приветствовал Мадлен, которая относилась к нему с симпатией.
Воскресная газета так и осталась лежать на полу. Обычно газеты доставляли Тобиасу. Возможно, он уехал на выходные. Мадлен забрала почту, торчавшую из ящика, и прихватила газету, но, прежде чем успела отнести ее к себе, дверь распахнулась и на пороге квартиры появился Тобиас. Увидев Мадлен, он низко поклонился, и его почти прозрачное белое кимоно распахнулось. Мадлен отвела взгляд, а ее губы дрогнули.
— Мадлен, как вы добры! Принесли мою газету. Прошу прощения за свой наряд, я не ожидал, что встречу кого-нибудь в коридоре. Я стал ужасно ленив — обычно в это время по воскресеньям я уже встаю, но вчера очень поздно лег.
Он зевнул и изящно прикрыл рот длинными ухоженными пальцами.
Затем он сонно поморгал, завязывая пояс кимоно. Под кимоно на Тобиасе ничего не было. Мадлен перевела глаза на его лицо. Тобиас непринужденно улыбнулся.
— Кофе?
— Ну, если вы… Я хочу сказать…
— Ах, перестаньте. Не нужно соблюдать этикет. Луиза совершает пробежку или занимается чем-то столь же непристойным. Эта женщина одержима.
— Я бы хотела быть одержима идеями фитнеса… — начала Мадлен.
— Да нет, речь не о фитнесе — она просто выставляет напоказ свое тело, надев минимум спортивной одежды.
Тобиас провел ее через просторную гостиную, которая перестала походить на притон. Возле высоких окон, закрытых шелковыми занавесками цвета слоновой кости, стоял рояль темного полированного дерева.
На кухне Тобиас предложил ей присесть на один из желтых металлических стульев с хромированными ножками. Стулья были изысканными, но ужасно неудобными. Она молча наблюдала, как он возится с кофейным автоматом из нержавеющей стали, насыпая в него молотый кофе.
— По утрам я пью крепкий кофе. Надеюсь, у вас хорошее сердце.
Мадлен расслабилась, несмотря на холодный металл стула. Оказалось, что у них с Тобиасом есть нечто общее. Она улыбнулась, когда он сказал «утро» — на улице уже начинало темнеть.
— Я только что вернулась из Англии, поэтому отвыкла относиться к хорошему кофе как к чему-то естественному.
— Это правда, англичане понятия не имеют, как варить кофе. У вас был отпуск?
— Моя мать умерла. Она была англичанкой.
— О, дорогая, извините. Я не знал. Но теперь мне кое-что понятно…
— Что именно?
— Аура трагедии. С вашими скорбными глазами и великолепными рыжими волосами вы похожи на «Леди из Шалот»[34]. Ваша мать болела?
Мадлен пожала плечами.
— Мы ничего не знали, хотя она страдала от ужасных мигреней. Она умерла от аневризмы — так говорят врачи. Мама давно рассталась с моим отцом и уехала, чтобы преподавать в Лондоне, где она выросла. Три года назад она ушла на пенсию и перебралась в Кентербери.
Тобиас сочувственно кивнул.
— А теперь вы чувствуете вину из-за того, что вас не было рядом, когда она умерла? Но, дорогая, смерть — это очень личное переживание. Оно принадлежит лишь тому, кто умирает, хотя живым всегда кажется, что это не так. У меня имеется некоторый опыт.
На мгновение лицо Тобиаса опечалилось, а его взгляд обратился к фотографиям, висевшим на холодильнике.
— Теперь я считаю, что эго заставляет нас думать, будто смерть близкого человека имеет к нам отношение. Эго — это проклятие человечества, но оно спасает нас от посредственности…
Тобиас быстро вышел из кухни, а Мадлен посмотрела на холодильник, на дверце которого было множество фотографий Тобиаса с друзьями — многие из них были совсем юными. На двух из них Тобиас целовался с мужчинами в губы. Должно быть, подумала Мадлен, он голубой. Луиза, скорее всего, лишь друг. Затем она вспомнила, что во всех квартирах дома всего по одной спальне, а еще сообразила, что ни разу не видела Луизу. Возможно, ее попросту не существует. И писем, адресованных не Тобиасу, она не видела.
Тобиас вернулся с керамической чашей и поставил ее на стол. В чаше была марихуана и принадлежности для ее курения. Он уселся на стул. Интересно, подумала Мадлен, как он может сидеть на металлическом стуле в кимоно? Однако Тобиаса совершенно не смущал прозрачный халат. Пожалуй, эксгибиционистом был он сам, а не Луиза. Мадлен вновь отвела глаза.
Тобиас зевнул и принялся сворачивать сигарету с марихуаной.
— Я так понимаю, вы целыми днями сидите взаперти в своей мансарде и читаете о средневековой принцессе?
Он зажег сигарету и глубоко затянулся.
Тобиас предложил сделать затяжку и ей, но Мадлен отказалась. Конечно, ей хотелось хотя бы на время отрешиться от проблем, но сейчас ей требовались все клеточки ее серого вещества. Мадлен решила, что упоминание Тобиаса о средневековой принцессе носило скорее общий, чем определенный, характер и у нее нет оснований для подозрений.
— Мне понравился ваш приятель, — продолжил Тобиас, делая очередную затяжку. — Я видел его на прошлой неделе на концерте в Париже. Мы не разговаривали, я просто заметил его издалека. Трудно пропустить эти нордические широкие скулы! К тому же он вращается в нужных кругах.
— Он вовсе не мой приятель… я его едва знаю.
— В таком случае нет смысла ничего утаивать — он был с роскошной блондинкой.
Мадлен скрыла свое разочарование, спросив:
— А что значит — вращается в нужных кругах?
— Он был с Рене Девро — крупным коллекционером антиквариата. Говорят, что в списке его клиентов значится Ватикан…
Громко зашумел кофе в автомате, имеющем форму пули, и Тобиас встал, чтобы разлить его по чашкам. При этом его кимоно вновь распахнулось, обнажив белые стройные ноги и бедра, как будто созданные для шелковых чулок. Без тени смущения Тобиас снова завязал пояс и налил кипящую черную жидкость в две треугольные чашки из нержавеющей стали.
— Молоко? Сахар?
Мадлен отвлеклась. Связь Карла с Рене Девро встревожила ее.
— Нет, черный, пожалуйста.
Все дело в том, что он случайно видел дневник, сказала она себе. Из того, что Карл знаком с одним из самых знаменитых коллекционеров Франции, еще не следует, что он разбирается в антиквариате. Однако тревога не проходила, и она едва слушала Тобиаса, который описывал собрание «красивых людей» на парижском концерте.
Вернувшись к себе, Мадлен почувствовала, как забилось сердце — то ли из-за крепкого кофе, сваренного Тобиасом, то ли из-за его откровений о Карле. Возможно, сердцебиение было вызвано обеими причинами.
На автоответчике было несколько сообщений, в том числе два от Питера, который напрочь забыл, что она уехала в Кентербери. Впрочем, этого следовало ожидать — Мадлен привыкла, что она не является значительным фактором в его занятой жизни. Это, а также заявление Тобиаса о том, что он видел Карла с роскошной блондинкой, окончательно испортило ей настроение. Если он действительно связан с миром антиквариата, то его телефонный звонок с предложением встретиться был исключительно профессиональным интересом.
Жан позвонил, чтобы пригласить Мадлен на ужин в Париже в среду вечером. Это было неудобно, но Мадлен ничего другого и не ожидала. Она вздохнула. Есть скорый поезд, а в четверг первая лекция у нее начинается довольно поздно… Мадлен оставила ему сообщение о своем согласии. Может, отец завел новую любовницу? Этим объяснялось бы его желание заранее договориться о встрече. Ей постоянно напоминали, что лишь она не способна вступить в успешные отношения с мужчиной.
Мадлен тряхнула головой, стараясь избавиться от глупых мыслей. Хватит себя жалеть! В крови бурлил кофеин, и она решила, что можно вернуться к переводу. Она завтра подумает о том, как построить отношения с Карлом. Роза поможет — ей это всегда удавалось.
2 ноября 1064 года
Целых две недели Одерикус почти ежедневно приходит в башню, чтобы встретиться с королевой. Под западным окном поставили стол для разрезания ткани, на котором разложили холст. Как предложил Одерикус, Эдита начала рисовать на холсте брата и его свиту, покидающих дворец, и короля Эдуарда. Миледи рисовала фигуры твердой умелой рукой, и история о посещении Гарольдом Годвинсоном Нормандии, о которой монаху запретили рассказывать, постепенно начала превращаться в гобелен.
Теперь к исходному изображению Эдуарда, сидящего на троне под аркой, прибавились две новые фигуры, расположенные слева от короля, где прежде был пустой холст. Одна из фигур была Гарольдом, поскольку у эрла Уэссекса были длинные черные усы, что позволяло легко его узнать. Гарольд сообщал королю, что у него есть важное дело за границей. Эти фигуры были нарисованы на ткани серебряным карандашом каменщика, и я начала вышивать их желтой и коричневой шерстью. У меня была и другая работа, но миледи предложила отсылать ее в лондонскую мастерскую. Кроме того, она попросила меня найти причину не пускать в комнату в башне других женщин, пока не будет закончена работа над гобеленом.
Это было нетрудно, поскольку женщины приходили помогать мне только тогда, когда это было нужно. Большинство из них жили в Лондоне, где легко могли найти другую работу.
Одерикус сказал, что рисунки Эдиты столь же хороши, как и в книгах псалмов из библиотеки Святого Августина. Она ответила, что именно в библиотеке видела изображение сидящего на троне святого Бенедикта, которое ей очень понравилось. После этого она и задумала изобразить Эдуарда на троне в такой же позе. Одерикус бросил на нее странный взгляд и спросил, в каком именно псалтыре она видела изображение святого Бенедикта. Когда она назвала манускрипт, монах сказал, что эту картину рисовал он.
Королева Эдита изучала грамоту в Уилтоне. Кроме того, как и многих благородных дам, ее обучали изящным искусствам. Но рука, способная рисовать, — это редкий дар даже среди братьев монастыря Святого Августина. Я видела, с каким уважением Одерикус смотрит на королеву. Золотые волосы, белая кожа и прекрасное телосложение, доставшиеся ей от скандинавских предков, оказались далеко не главными ее достоинствами, и монах стал не первым мужчиной, покоренным ее очарованием. Но ни один человек не осмеливается искать любви жены короля, да и саму миледи не интересуют мужские объятия, губы и так далее.
5 ноября 1064 года
Сегодня Эдита нарисовала черные контуры лошадей с всадниками, которых ведет за собой ее черноусый брат. На запястье у Гарольда сидит охотничий сокол. Впереди бегут пять охотничьих псов, ведущих отряд от дворца к побережью. У церкви в Бошаме Гарольд молится на коленях, и я знаю, что не только меня интересует, о чем он просил тогда Господа. Затем пир.
Одерикус склонился над холстом, наблюдая, как рисует миледи, прядь ее золотых волос спустилась на стол. Я видела, как дрожит рука Одерикуса, давшего обет целомудрия, когда он протянул ее, чтобы нежно убрать эту прядь с ее лица. Миледи ничего не сказала, даже не посмотрела в сторону монаха, продолжая рисовать распятие над крышей церкви в Бошаме.
Между всадниками, собаками и зданием церкви находится дерево, которое останавливает рассказ так же резко, как и перевернутая страница. Ветви дерева переплелись, словно прутья корзины, но они такие же тонкие, как виноградная лоза, идущая по краю. В композиции можно уловить датское происхождение миледи. Скандинавские символы часто используют каменщики в каменной кладке и писцы в рукописях. Ее рисунки церкви в Бошаме, залы, где проходила трапеза, получились не слишком нарядными, однако в них чувствуется изящество женской руки и любовь к деталям.
Вскоре стало ясно, что Одерикус не сможет изложить всю историю путешествия Гарольда в Нормандию на одном гобелене. Потребуется еще один, который будет в два раза длиннее, чем первый. С такой большой вышивкой мне одной не справиться. Когда сделан рисунок для гобелена, который должен закрыть всю стену, за работу иногда берутся сразу двадцать женщин. Но этот гобелен в мастерскую отправить мы не могли.
Для гобелена мы выбрали необычную форму. Высота холста составляла лишь полтора фута, а длина — целых двадцать. Полтора фута ткани нужно, чтобы сделать корсаж платья, например, или рукав. Пользы от такого гобелена будет немного — ведь он не сможет покрыть всю стену, чтобы сохранять в комнате тепло. Но цель у Эдиты совсем другая. Одерикус нашел способ продолжать свою летопись, не делая записей. Если ткань будет обнаружена, Гарольд почти наверняка постарается ее уничтожить. А если Гарольд узнает, что сестра и священник занимались этой работой вместе, то может расправиться с обоими.
Между тем в королевской семье продолжает нарастать напряжение. Тостиг остался при дворе короля и постоянно вступал в споры с Гарольдом. На этот раз они разошлись во мнениях из-за слишком маленьких налогов, которые установил младший брат. Хорошо известно, что налоги северного графства намного ниже, чем в остальных частях королевства. Именно по этой причине многие отправлялись в долгое путешествие на север, чтобы поселиться там. Гарольд потребовал, чтобы налоги в Нортумбрии не отличались от налогов на юге. Тостиг отказался, заявив, что это приведет к тому, что очень многие люди его покинут, а на севере беспокойно и без увеличения налогов. Братья, переставшие быть друзьями или соратниками, больше не разговаривают друг с другом. Теперь Гарольд проводит гораздо больше времени с двумя другими братьями, Гиртом и Леофвином, и открытая рана семейного раздора гноится все сильнее.
Будучи в Вестминстере, Тостиг постоянно сопровождает Эдгара Этелинга, продолжая учить его стрельбе из лука и фехтованию, и их часто видят вместе. Даже Джон признает, что Эдгар стреляет из лука ничуть не хуже любого опытного лучника, хотя еще не полностью вошел в силу. А для Гарольда это еще одна из причин ненавидеть брата.
20 ноября 1064 года
Эскиз закончен. Должна признать, что никогда прежде я не видела подобного гобелена. История Одерикуса показана в картинках, начиная от встречи с королем Эдуардом и высадки отряда Гарольда на земле Нормандии вплоть до его пленения графом Ги де Понтье и освобождения Вильгельмом Нормандским. Потом следовали переговоры Гарольда с Вильгельмом, а даже было нечто невразумительное, хотя теперь я все поняла.
В ночь, когда Одерикус и королева Эдита закончили рисовать эскиз гобелена, я допоздна не ложилась спать, вышивая лошадей отряда Гарольда. Я едва успела закончить двух скакунов. Работа продвигалась медленно, а с наступлением ночи, когда единственным источником света становились свечи, приходилось напрягать глаза.
Я покинула башню, пожелав спокойной ночи королеве и монаху, которые продолжали обсуждать работу. Выйдя из ворот дворца, я вспомнила, что оставила в башне платье, которое шила для Мэри. Назавтра у нее был день рождения, и я решила вернуться.
Я подошла к комнате. За дверью царила тишина, и я подумала, что никого нет. И все же, прежде чем войти, я по привычке заглянула внутрь. Королева смотрела на дверь, и в мерцающем свете свечи я увидела ее накидку, лежащую на полу. Волосы королевы были распущены, и я увидела, как Одерикус потянул ленту, которой спереди завязывалось ее платье. Движения его рук были неловкими, но нежными, как будто королева — тонкая фарфоровая статуэтка, которую он боялся разбить. Ее руки гораздо быстрее справились с веревкой, опоясывающей грубую монашескую рясу. Я быстро отвернулась.
Покинув дворец, я зашагала к дому, чувствуя себя виноватой в том, что видела их вместе. Я страстно жалела, что стала свидетельницей этой сцены, и с радостью вернулась домой, где меня встретили крики маленького Джона и жалобы старшего Джона, позволившие мне на время забыть о королеве и монахе. Мэри разожгла огонь в камине и приготовила ужин — хлеб и похлебку. Она стала уже взрослой девушкой, с которой я могу разговаривать и на которую могу положиться, но увиденное сегодня вечером я не доверю ни одной живой душе.
Теперь мне понятна та часть гобелена, где изображена леди под аркой, украшенной двумя головами драконов-саксов. У входа в арку стоит священник и протягивает руку, чтобы коснуться лица леди. Это знак того, что они стали любовниками. На предыдущем рисунке Гарольд и Вильгельм ведут переговоры, а рука Гарольда указывает в сторону леди и священника. Мужчины обсуждают нечто тайное, но королева Эдита нарисовала другую руку Гарольда так, будто он прикрывает ею рот, когда рассказывает о том, что сестра угрожает их планам. И то, что Одерикус стоит перед стенами, за которыми скрывается Эдита, и протягивает к ней руку, ясно открывает то, что происходит между ними. Их разделяют многие стены, среди них и то, что в жилах монаха не течет ни капли саксонской крови — а значит, он предан лишь королеве.
В среду днем движение в районе железнодорожного вокзала в Кане было довольно напряженным. Роза была за рулем маленького красного «рено», и ей пришлось отчаянно сигналить, чтобы не раздавить подростка на мотороллере.
Мадлен подождала, когда Роза опустит стекла, чтобы наградить водителя мотороллера отборной бранью, после чего поведала подруге о том, что Тобиас видел Карла с Рене Девро.
Роза нахмурилась.
— Пожалуй, это делает твое объяснение о реквизите для фильма не слишком убедительным.
Мадлен покачала головой.
— Даже не знаю. Я до сих пор не могу поверить, что оставила дневник на кофейном столике…
— Вряд ли он понял, что именно увидел, — даже если дружит с Рене. Перестань тревожиться, постарайся расслабиться и провести приятный вечер с отцом. — Роза искоса посмотрела на Мадлен, покусывающую нижнюю губу. — Сколько же губной помады ты съела, Мэдди! Послушай, предоставь это мне, хорошо? Я найду способ выследить мерзкого типа! У меня есть друзья, которые запросто смогут узнать, чем он занимается.
«Рено» остановился возле вокзала, Роза быстро обняла Мадлен и умчалась, помахав на прощание рукой.
Неясные образы деревьев и городов, церковных шпилей и электрических проводов между Каном и Парижем в окне скорого поезда отражали скачущие мысли Мадлен. В какой-то момент у нее в памяти всплыла статья про гобелен Байе, прочитанная ею в археологическом журнале. Там упоминалась женщина по имени Эльфгифа и излагались различные теории о том, кем могла быть эта женщина и почему священник протягивает руку к арке и касается ее лица. Имя было довольно распространенным для того времени, и предположений получилось много. Однако имя королевы Эдиты не называлось ни разу. И если эта женщина была королевой Эдитой, тогда почему она получила другое имя?
Когда поезд прибыл на Gare du Nord[35], Мадлен облегченно вздохнула — теперь можно было отвлечься от своего утомительного анализа и подумать об отце.
Они договорились встретиться в Итальянском квартале, в ресторане, который пользовался популярностью еще в те времена, когда Мадлен училась в университете.
Она шла по знакомым улицам. Теперь изысканные француженки потягивали кальвадос и эспрессо в стильных кафе, которые в прежние времена были более дешевыми и имели далеко не безупречную репутацию. Но хотя прошло десять лет после того, как она в последний раз была в этой части города и здесь появилось множество новых баров и ресторанов, Мадлен по-прежнему уверенно тут ориентировалась.
На улицах было много народу. Париж жил ночной жизнью, стараясь удовлетворить любые желания горожан. Мадлен вдруг поняла, что больше не чувствует себя уютно даже в знакомых кварталах города, хотя именно здесь она родилась, а Париж продолжал поражать своим изяществом и магией, оставаясь магнитом, влекущим сюда туристов со всего мира. Мадлен поймала себя на том, что размышляет о коттедже Лидии и том умиротворении, которое испытала, когда объезжала с Николасом пригороды Кентербери. Вероятно, Лидия чувствовала нечто похожее, вернувшись в Англию. Эта мысль заставила Мадлен остановиться, и человек, шагавший позади, налетел на нее. Извинившись, он бросил на нее удивленный взгляд и пошел дальше. Очевидно, Лидию сильно тянуло домой, но только теперь Мадлен сумела понять ее.
Она сообразила, что стоит посреди тротуара, словно остров в море, и людям приходится ее обходить. Мадлен снова зашагала вперед и вскоре наткнулась на толпу, собравшуюся вокруг мускулистого уличного артиста. Одетый лишь в узкие стринги, он возвышался над всеми на велосипеде с одним колесом и жонглировал пылающими мечами. Мадлен смотрела на то, как он выступает, пока горечь не отступила. Наконец, бросив последний взгляд на обнаженный торс, она застегнула верхнюю пуговицу куртки, защищаясь от холодного февральского воздуха. В следующий раз, когда начну жалеть о выборе профессии, нужно будет напомнить себе, что существуют куда более трудные способы зарабатывать на жизнь, подумала Мадлен.
В Итальянском квартале воздух был наполнен звоном бокалов и постукиванием столовых приборов, которые доносились из ресторанчиков, мимо которых проходила Мадлен. Ароматы чеснока, помидоров и свежего базилика заставили ее вспомнить, что она голодна.
В ресторане, где они с отцом должны были встретиться, жаровни стояли на тротуарах, а накрахмаленные скатерти на столах сияли белизной. Мадлен заказала бутылку мерло и хлеб и стала наблюдать за прохожими.
Когда появился Жан, она вгляделась ему в лицо, опасаясь увидеть след запущенной болезни. Однако он хорошо выглядел, и Мадлен испытала облегчение. Она боялась, что смерть Лидии окажется для него серьезным ударом.
Жан сохранял прежнюю уверенность невероятно красивого человека. Она присутствовала в посадке его головы и взгляде. Хотя жесткая линия волевого подбородка слегка смягчилась, а кожа на лице потеряла прежнюю безупречность, он оставался красивым мужчиной и вел себя соответствующим образом.
Он наклонился, чтобы расцеловать дочь в обе щеки, и Мадлен сразу же поняла, что у него появилась новая любовница. Для встречи со старыми любовницами — и с дочерью — он не стал бы пользоваться одеколоном.
— Как ты, Мэдди? Как все… прошло?
Не глядя на нее, Жан подлил вина в ее бокал, потом налил себе.
Прежде они никогда не говорили о Лидии. Иногда Жан спрашивал о ней, но подробности его не интересовали. Между отцом и дочерью существовала молчаливая договоренность.
Мадлен глубоко вздохнула и коротко рассказала о похоронах. Жан откинулся на спинку стула и сделал глоток вина.
— Ты ничего не должна мне рассказывать прямо сейчас, если не хочешь. Я уверен, что все это тебе очень… трудно. Я не стану на тебя давить.
В этих словах прозвучало очень многое. Мадлен достаточно хорошо знала отца, чтобы понять — сейчас он хотел услышать все, что она могла ему сказать. Смерть меняет людей, открывая новые изменения не только для умерших, но и для живых. Стал ли Жан чувствовать себя ближе к Лидии после ее смерти, чем в последние годы их брака? И вновь Мадлен ощутила давление непролитых слез. Но сейчас не время плакать — от беспомощности Жана ей станет еще труднее.
Она вздохнула и сделала еще глоток вина, понимая, что отец хочет услышать, как все произошло.
— Она жила в очень милом викторианском коттедже с садом, выходящим на канал… Постоянно была занята. Мне кажется, она была счастлива.
— Во всяком случае, счастливее, чем когда мы жили вместе, — кивнув, сказал Жан. — Я не смог сделать ее счастливой.
Он провел рукой по гриве густых каштановых волос, в которых проглядывала седина.
Мадлен не нашлась что сказать. Это была правда. Жан пожал плечами.
— Я плохо понимаю женское подсознание, Мадлен. Твоя мать сказала однажды, что я людям предпочитаю тайны галактик, а я ответил, что действительно больше люблю иметь дело с наукой. Наука не подвержена влиянию эмоций, она подчиняется универсальным законам пространства и времени…
Прежде чем Жан успел погрузиться в философию физики, Мадлен положила ладонь на руку отца и сжала ее. Он посмотрел на нее и слабо улыбнулся. Иногда ей нравилось обсуждать с ним его «великие» идеи — как он когда-то делал это с Лидией, — но только не сегодня.
Хорошенькая юная официантка приняла у них заказ, и Жан оживился, вернувшись к более знакомому образу стареющего Казановы.
Официантка ушла, и он принялся задумчиво вертеть в руке ножку бокала.
— Когда мы с твоей матерью были молоды и вместе отправились в Англию, мне подумалось, что Лидия поступила правильно, оставив там свою душу. У меня это вызывало клаустрофобию — всем все известно, вплоть до размера твоей обуви. Но теперь я понимаю, что Лидии этого не хватало. Там был ее дом.
— Очень красивый дом, — добавила Мадлен.
— Но не такой красивый, как все это! — воскликнул Жан, показывая на блистающие улицы Парижа.
— Да, там все иначе, — ответила Мадлен.
Жан задумчиво кивнул, словно только теперь начал понимать.
ГЛАВА 10
— Доброе утро, Филипп.
Филипп, пытаясь стать как можно незаметнее, делал вид, что углубился в толстый том «Истории военного дела Средних веков».
— Думаю, вы можете мне помочь. Меня интересуют кое-какие сведения о вторжении в Британию Вильгельма Нормандского в тысяча шестьдесят четвертом году. — Мадлен была неумолима.
Он зашевелился. Упоминание даже о незначительном сражении, происходившем более чем четыреста лет назад, гарантировало внимание Филиппа.
— Доброе утро, Мадлен, я не слышал, как вы вошли. Говорите, тысяча шестьдесят четвертый год?
Он снял очки и принялся тщательно протирать их рукавом серого кардигана, потом откашлялся, переложил с места на место какие-то бумаги и вновь надел очки.
Мадлен повернулась к своему компьютеру и начала доставать вещи из сумки, чтобы сделать вид, что все это ее не слишком занимает.
— Да, меня всегда завораживал гобелен Байе — он ведь вам хорошо известен?
Мадлен хотела говорить с Филиппом на его языке и была уверена, что не обманется в своих ожиданиях.
Глаза Филиппа засияли.
— Да, Вильгельм и Гарольд неожиданно объединили силы, чтобы атаковать графа Конана, но ведь гобелен Байе знаменит вовсе не описанием вторжения в Бретань. Превосходное изложение битвы при Гастингсе, просто превосходное, хотя и не хватает технических деталей. Встает вопрос о саксонских лучниках. Просто завораживает. Всего один лучник-сакс, если верить гобелену, — мне это всегда казалось странным. Конечно, это просто символика. И все же нет оснований считать, что в битве при Гастингсе были лучники, во всяком случае, у саксов… Двадцать девять норманнских лучников на всем гобелене — шесть в главной его части и двадцать три внизу. Мне кажется особенно странным, что художник изобразил стрелу относительно лука с неправильной стороны. Ошибка, невозможная для мужчины. Нужно отдать должное саксам (Филипп продолжал называть англичан «саксами») за их стойкость при обороне, хотя…
— Что вы хотите сказать, Филипп?
— Ну, если учесть соотношение сил — норманны, естественно, сражались верхом — оборона саксов…
Мадлен вновь быстро его перебила:
— Я имела в виду художника.
— Да, он не мог быть мужчиной. Даже монахи знали, что такое лук и стрелы. Когда дело доходило до сражений, в них участвовали все, от последнего свинопаса до священника. А тот, кто делал эскиз для гобелена, не имел о сражениях ни малейшего представления.
Мадлен с трудом скрыла торжествующую улыбку. Она не рассчитывала на такую удачу.
— Однако я нигде не встречала упоминаний о том, что художник присутствовал во время битвы при Гастингсе или при других событиях, изображенных на гобелене, — сказала она, провоцируя Филиппа.
— Ну конечно, ведь художник не мог быть свидетелем всех событий, изображенных на гобелене Байе. К тому же гобелен создан через несколько лет после них.
Мадлен почувствовала, как по спине побежали мурашки, когда Филипп повторил общепринятое мнение, что работа над гобеленом началась не менее чем через десять лет после вторжения норманнов. Неужели в ее распоряжении оказались доказательства того, что гобелен появился на свет до знаменитых событий, которые иллюстрирует? Считалось, что его последняя часть вышита много позднее, но Мадлен до сих пор не знала этого наверняка. Она должна была закончить перевод дневника Леофгит, чтобы понять, когда была закончена вышивка.
— Но это лишь теория, — сказала она. — Никто не знает, когда именно завершилась работа над гобеленом.
— Насколько мне известно, существовали второстепенные исторические фигуры, которые не пользовались благосклонностью двора целых десять лет после вторжения. Однако они появляются на гобелене, что было бы невозможно, если бы работа над гобеленом началась раньше.
— Если гобелен сделан по заказу норманнов, — заметила Мадлен и тут же пожалела, что так далеко зашла в споре.
Не стоило вызывать у Филиппа подозрений, однако она сразу поняла, что можно не волноваться.
— В последнее время вы постоянно спорите, Мадлен, — заявил Филипп и вновь уткнулся в книгу, однако через мгновение поднял взгляд. — Я не эксперт по гобелену Байе, но уверен, что вам известно — в то время гобелены были главным товаром, который саксы экспортировали в Европу, а вышивкой занимались женщины.
Мадлен улыбнулась. Филипп привел разумный довод после того, как она в запале раскритиковала его из-за статьи о средневековой литературе.
Мадлен не успела убрать заставку с монитора (она ее недавно поменяла — концентрические круги всякий раз ухудшали ее состояние после похмелья), как вошла Роза, которая в кожаном костюме, обтягивающем грудь и бедра, и высоких сапогах была похожа на мадам Лаш[36]. Роза заявила, что им нужно выпить кофе и обсудить предстоящий допрос Карла. Она не сразу увидела Филиппа, склонившегося над работой. Однако Мадлен отметила, что Розе удалось произвести на него впечатление — очевидно, он представил себе, как Роза будет вести допрос. Его голова осталась опущенной, и могло показаться, что Филипп продолжает читать, но Мадлен видела, что поверх очков в стальной оправе Филипп изучает затянутые в кожу прелести Розы, а на его щеках появились красные пятна.
Роза примостилась на краю стола Мадлен и наклонилась, чтобы поправить чулок, выставив на всеобщее обозрение часть бедра и грудь под обтягивающей кожей пиджака. Роза подняла взгляд, посмотрела Филиппу в глаза и одарила его ослепительной улыбкой. Филипп так смутился, что резко поднялся на ноги, опрокинув стул, и спрятался за дверцей шкафа, оставаясь там, пока Мадлен и Роза не покинули кабинет.
Как только дверь за ними закрылась, Мадлен, с трудом сдерживая смех, отругала Розу за нахальное поведение.
— Но я даже не заметила, что там сидит этот хорек! — запротестовала Роза. — К тому же он получил удовольствие.
Временами Мадлен не понимала, что заставляет Розу дружить с ней. Так или иначе, но именно страх показаться подруге слишком скучной и занудной мешал Мадлен окончательно погрузиться в пучину академической карьеры. Она пыталась и не могла найти объяснение тому, как Розе удается постоянно находиться в таком заряженном состоянии. Порой Мадлен восхищалась подругой, иногда испытывала возмущение.
По дороге в кафе, находившееся рядом с университетом, Роза принялась рассказывать о своем путешествии в Рим со своим готом, сообщив, что кульминацией поездки стало посещение Ватикана.
— Ты знаешь, сколько стоило построить новые ворота в музей? Двадцать два миллиона долларов! Там все охраняют наемные солдаты-швейцарцы, а на улице возле ворот бегают грязные дети-оборванцы и просят милостыню, пока в базилике Святого Петра идет месса. Конечно, нам известно о лицемерии римской империи, но когда видишь невероятное богатство, запертое в надежных сейфах, и неприкрытую нищету на их пороге — это отвращает.
Мадлен кивнула. Она и сама видела сцены, которые описывала Роза, и на мгновение встревожилась, что так быстро забыла столь яркие образы. Мадлен вспомнила пир, описанный Леофгит, — крестьяне, ворующие еду со столов. За девятьсот лет мало что изменилось.
В кафе было полно студентов — они пока не тревожились по поводу все более длинных списков литературы, которую им следовало прочитать во второй половине зимнего семестра. Острый аромат свежего кофе мешался с дымом сигарет и запахами пирожных. Над столиками плыл голос Эдит Пиаф.
— Ты выглядишь отвратительно, Мэдди, — заявила Роза, пока они ждали кофе. — Почему бы тебе не отдохнуть несколько дней? Ты исхудала, жуткие круги под глазами. У меня есть фантастический крем, завтра принесу. «Эсте Лаудер».
Мадлен кивнула, рассеянно слушая Розу.
— Ладно, — сказала подруга, сообразив, что Мадлен может говорить только на одну тему. — Расскажи про Жана.
Мадлен вновь неожиданно захлестнула сильная волна эмоций, и Роза сжала ей пальцы.
— Все в порядке. Я знаю, что тебе больно, хотя никто не в силах понять чужих страданий. Я бы очень хотела найти способ избавить тебя от них, честное слово…
Мадлен пожала в ответ пальцы Розы, глядя на ее безупречные ногти, покрытые красным лаком.
— Именно так я себя чувствовала вчера вечером. Жан казался ужасно грустным.
— Тебе сначала надо разобраться со своим горем, — сказала Роза. — С Жаном все будет в порядке.
Она взглянула на Мадлен и сменила тему.
— Твой кузины не собираются продавать дневник?
Мадлен покачала головой.
— Они продают другие вещи — особенно в годы, когда выдается неудачный сезон для яблочного бренди… у них есть перекупщик.
— Ну, Карл не знает, откуда у тебя дневник. К тому же он не может купить то, что не продается. Все очень просто, — спокойно пояснила Роза.
— Верно, но если он способен оценить стоимость дневника и его возраст, то вполне может рассказать о нем.
— Не думаю, что ему от этого будет польза. У тебя паранойя.
Роза прищурилась и изучающе посмотрела на Мадлен.
— Что-то еще? Тебя смущает содержание дневника?
Мадлен кивнула.
— Там столько всего… неожиданного. Я перевела уже больше половины. Роза, по-моему, в нем описывается создание гобелена Байе.
Мадлен заговорила шепотом и с трудом удержалась, чтобы не оглянуться — не подслушивает ли их кто-нибудь.
Роза присвистнула.
— Да ну, это невозможно. Гобелен Байе сделан через много лет после норманнского завоевания!
— Леофгит тому свидетельница. Ее друг монах был любовником королевы и состоял в отряде Гарольда, когда тот был в Нормандии.
Роза покачала головой — она не верила.
— Понимаю, звучит неправдоподобно, — пылко продолжала Мадлен, — но ты ведь не консерватор, Роза! Если я не могу рассчитывать на твою объективность и непредвзятость, то к кому мне еще обратиться? Именно ты постоянно говоришь о могуществе богини! Мы обе знаем, что женское воображение развилось не за последние пятьсот лет — вспомни хотя бы гречанку Сафо!
Роза снова покачала головой.
— Ты хочешь сказать, что гобелен начали вышивать до вторжения, в то время как все теории утверждают, что он создан не ранее тысяча семьдесят седьмого года. Подумай сама, это совершенно невозможно.
Мадлен успокоилась.
— Это возможно, — тихо проговорила она. — Хотя я сама с трудом верю в это. Слушай, Гарольд и Вильгельм договаривались убить Эдиту, как только умрет Эдуард Исповедник… это потрясающий материал.
— Правда? — Роза стала похожа на встревоженного врача, готового прописать пациенту успокаивающие таблетки. — Думаю, тебе надо выпить.
Мадлен не обратила внимания на ее слова. Она почти шептала:
— Когда я была в Кентербери, мне удалось еще кое-что узнать. Существует история о том, как во время ликвидации монастырей из аббатства Святого Августина были изъяты реликвии. Вероятно, речь идет о мощах святого Августина. Их до сих пор не удалось отыскать.
— Хочешь сказать, что в дневнике говорится о том, как их найти?
Мадлен кивнула.
— Если хочешь, можешь сама прочитать перевод. Знаю, о чем ты хочешь спросить, поэтому говорю сразу — да, я уверена, что дневник подлинный. Я не зря изучала в университете средневековую латынь.
— Ну, мы-то знаем, что ты изучала ее из-за Питера! Уверена, что ты до сих пор увлечена этим неудачником.
Питер Розе никогда не нравился.
— Он никогда не был неудачником!
— Ты вкладываешь в эти слова слишком много страсти. Я остаюсь при своем мнении.
Мадлен, задумавшись, вошла в лекционный зал и некоторое время стояла за кафедрой, бессмысленно глядя в записи. Она даже не заметила, что в аудитории стало тихо. Студенты ждали начала лекции. Тишина заставила Мадлен отвлечься от собственных мыслей, и она посмотрела прямо в глаза студенту, который несколько недель назад проявлял интерес к ее телу. Выражение его лица оставалось столь же агрессивным. Она вздохнула, сожалея, что испытывает раздражение, а не удовлетворение. Мадлен начала говорить, не спуская с нахального студента глаз.
— В средневековой Англии имелся закон, введенный королем Альфредом, в котором едва ли не впервые шла речь о сексуальных домогательствах. В его основе лежала идея о штрафе за провокационное внимание к женщине — чем более серьезным был вред, нанесенный женщине, тем больше было наказание. За самые серьезные преступления полагалось следующее: человек должен был взять в руки раскаленное на огне железо и пройти с ним девять шагов. Затем раны на неделю перевязывали. Если спустя неделю они начинали гноиться, человек признавался виновным и его ждала виселица.
Студент отвел глаза, его пыл погас. Мадлен победно улыбнулась и продолжила:
— Сегодня мы поговорим о наших предках норманнах. Больше всего власти беспокоила анархия. В начале сороковых годов одиннадцатого века герцогство Вильгельма и церковь заключили «договор с Богом». Вильгельм угрожал отлучением от церкви всякому, кто нарушал договор, запрещавший во время религиозных празднеств любые драки между закатом среды и утром понедельника. А поскольку в те дни религиозные праздники случались довольно часто, Вильгельм существенно уменьшил количество дней, когда можно было драться, — и Бог стоял на его стороне. Скорее всего, это действие в основном было направлено на то, чтобы успокоить солидную скандинавскую часть его двора — викинги часто пытались немедленно получить то, что считали своим. Не забывайте, викинги являлись первыми поселенцами в Нормандии.
Мадлен сделала паузу и оглядела аудиторию. Она не заметила очевидных признаков интереса или скуки. Ромео по-прежнему избегал ее взгляда.
— Отношения между церковью и амбициозными лидерами вроде Вильгельма Нормандского и Гарольда Годвинсона основывались целиком и полностью на покупке одолжений. Папа Лев IX был недоволен компромиссами, которые представлял собой Вильгельм, — он являлся внебрачным сыном и женился на Матильде из Фландрии. Этот союз церковь не одобрила, поскольку Вильгельм и Матильда являлись дальними родственниками, но их не разделяли семь ступеней кровного родства. Жениться на таких родственниках запрещалось, но Вильгельм презрел запрет Папы, заплатив за разрешение золотом. Так получилось, что брак с Матильдой оказался единственным длительным и надежным союзом в его жизни. В разное время против него обратились его подданные, придворные и даже сын, но не жена.
Отцом Матильды был граф Болдуин из Фландрии, известный как Болдуин Галантный, а сестрой — Джудит, жена Тостига Годвинсона. Кровные узы между европейской аристократией были сложными и многочисленными, что не мешало родственникам воевать друг с другом, но позволяло получать одолжения. Двор Болдуина в Лилле славился гостеприимством по отношению к английской знати, а потому женитьба на Матильде стала для Вильгельма политически разумным шагом. Фландрия занимала обширную территорию, а граф Болдуин считался могущественным союзником, в том числе и потому, что являлся рыцарем Священной Римской империи.
Мадлен замолчала, увидев, что одна из студенток неуверенно подняла руку. Мадлен кивнула.
— Гобелен Байе заказала Матильда? — спросила студентка.
Мадлен довольно долго не произносила ни слова.
— Это одна из гипотез, — наконец ответила она.
Когда ранним вечером Мадлен вошла в дом, Тобиас играл на рояле. Или это была Луиза? Мадлен все больше склонялась к тому, что Тобиас и Луиза — одно и то же лицо. Это было довольно странно, но она больше ничего не могла придумать.
Мадлен устало поднималась по лестнице, понимая, что Роза права, — постоянная вечерняя работа над переводом требует концентрации, начала накапливаться усталость. Пожалуй, стоит краситься поярче.
На мгновение Мадлен представила себе, как приятно было бы вернуться домой, где ее ждет мужчина, готовый обнять ее, поцеловать в макушку, прошептать, что она не одинока и все будет хорошо. Наверное, Роза была права, утверждая, что она скучает по Питеру. Мадлен вспомнила про их совместную жизнь в Париже. Она заканчивала писать диссертацию, а он целыми днями оставался дома, работая над статьей о явлении Христа — «Можно ли верить в то, что Христос не был Сыном Божьим, и называть себя христианином?». Разумеется, Питер считал, что ответ очевиден — нельзя. Ей следовало догадаться, что он свяжет жизнь с церковью.
Они жили на верхнем этаже старинного дома, и теперь, поднимаясь вечером по лестнице, Мадлен часто вспоминала те дни. Правда, тогда у нее не было ощущения, что подошвы туфель сделаны из свинца. Ведь она знала, что ее ждет Питер. Иногда он даже готовил ужин, хотя они чаще тратили скромные доходы на водку, а не на еду. Они проводили целые вечера, сидя в разных углах старого дивана и читая, — Питер в маленьких круглых очках на кончике носа. Его длинные вьющиеся волосы неаккуратными прядями спадали до плеч.
Этот мирный период продолжался почти три года и неожиданно подошел к концу, когда Питер закончил писать диссертацию. Мадлен чувствовала, что в нем что-то изменилось, словно в его душе неизгладимый след оставили поиски объяснения мирового зла и скорби. Он стал замкнут, а когда Мадлен возвращалась домой после работы ассистентом куратора в небольшом парижском музее, он даже не отрывался от книги, которую читал.
Угнетенное состояние Питера давило на обоих. Постепенно Мадлен перестала пытаться ему помочь — она больше не говорила, что ему пора найти работу, начать встречаться с новыми людьми. Она поняла, что Питер ее не слышит — хотя он слушал. Питер понимал — что-то предпринять необходимо, но он потерялся в этой жизни. Сердце Мадлен разрывалось, она видела, как он бесцельно блуждает во тьме, но была не в силах ему помочь.
Однажды вечером Мадлен возвращалась домой, и еще на лестнице ее охватила тоска. Одна лишь мысль о том, что сейчас увидит Питера, вызвала у нее ужас. Она шла очень медленно, начиная понимать, как много сил уходит на то, чтобы продолжать радоваться жизни после возвращения домой. Она знала — очень скоро что-то должно измениться. Открыв дверь в крошечную квартиру, Мадлен сразу же поняла — изменения уже произошли. Питер ушел.
Разумеется, он не исчез бесследно. Питер написал, что уезжает в Тэзе — христианскую общину, которая находилась к югу от Парижа, и что ему нужно подумать о будущем. И ни слова о том, что ему нужно подумать о будущем с Мадлен. В последующие недели она поняла, что у Питера никогда не было желания строить планы на их общее будущее. А она совершила глупость и жила сегодняшним днем, потому что любила его и мирилась со всеми странностями. Она не хотела признавать, что Питер не собирается связывать свою жизнь с ней.
Она не видела его два года, с того момента, как решила начать преподавать в Кане. Питер вернулся в Париж, чтобы поступить в семинарию, и это подтолкнуло Мадлен начать вести курс по истории Средневековья.
Решение Питера стать священником неожиданно сильно потрясло Мадлен. Она поняла, что рассчитывала на его возвращение, надеялась, что он сумеет справиться со своими проблемами и вернется к ней. Ей казалось, что ее предали.
Мадлен расхаживала по квартире с бокалом кларета, бросив одежду на пол и включив Ника Кейва, и думала, что у одиночества есть свои преимущества. И хотя иногда ей казалось, что жить с кем-то — не так уж плохо, сейчас она делала все, что хотела, — например, отправлялась на сотни лет в прошлое. А если бы она жила не одна, это было бы сделать не так просто.
Зазвонил телефон.
— Мэдди, фамилия Карла — Мюллер или Моллер?
— Мюллер. Зачем тебе?
— Провожу небольшое расследование, — весело сообщила Роза и повесила трубку.
Мадлен покачала головой. Однако сейчас она не могла думать о Карле, ее неудержимо влекло к дневнику. Она почувствовала воодушевление, взяла бокал вина и отправилась в кабинет.
14 января 1065 года
Под Рождество в Вестминстере, во дворце, убили Госпатрика, сына Утрехта, прежнего эрла Нортумбрии. Если королева Эдита приказала убить Госпатрика, как утверждают некоторые, значит, она могла быть ответственной и за смерть Гамела и Ульфа, которых убили в прошлом году в Нортумбрии во время отсутствия Тостига. Возможно, она совершила серьезную ошибку, поскольку север поддерживал Госпатрика, и, хотя его популярность угрожала Тостигу, его смерть давала повод повстанцам Нортумбрии искать мести. В прежние времена я не поверила бы, что наша добрая королева могла совершить такой ужасный поступок. Но теперь я догадалась — она пытается показать своему брату Гарольду, что способна достойно ответить на его предательство. Меня ужасает мысль о том, что миледи вошла в мир мужчин, где подобные деяния являются обычным делом, хотя я понимаю — ей не остается ничего другого, если она хочет короновать короля саксов.
Немного раньше, этой зимой, когда мороз еще не сковал землю, миледи спросила, умею ли я ездить верхом. Я умела, поскольку мой отец тоже был воином, погибшим в битве возле Дувра, когда много лет назад войска короля Эдуарда сражались с армией эрла Годвина. Когда я была еще ребенком, отец сажал меня к себе на лошадь, а когда стала постарше, разрешал ездить верхом самостоятельно. Королева выслушала меня с интересом, не прерывая, как всегда, когда я говорила. Мне кажется, ей было интересно узнавать больше о моей жизни вне каменных стен и башен. Она попросила меня сопровождать ее в путешествии на юго-запад, в Соммерсет. Обычно миледи брала с собой Изабель, но у той пришли месячные, а она их обычно тяжело переносит. Однажды я сказала ей, что Мирра может сварить крепкий отвар, облегчающий боль, но Изабель боится амулетов и заклинаний и считает Мирру колдуньей.
Прежде мне не доводилось бывать в Соммерсете, но я не раз слышала рассказы о происходящих там чудесах — многие тамошние жители продолжают верить в старых богов. Говорят, там есть внутреннее море, а на священном острове обитают жрицы.
В тот вечер, когда мы должны были отправиться в путешествие, я встретилась с миледи возле ворот дворца. Она достала из седельной сумки плащ темно-зеленой шерсти, подбитый кроличьим мехом, с красивой серебряной застежкой, и сказала, чтобы я его надела, с неодобрением глядя на мой тонкий поношенный шерстяной плащ. Большую часть времени мы скакали через лес, а не по дороге, но наш путь освещала луна. Когда перед рассветом небо побледнело, стало холоднее, и я почувствовала благодарность за мех и мягкую шерсть плаща миледи и за ее заботу о том, чтобы я не мерзла.
Перед восходом солнца мы выехали на поляну, и она шепотом велела мне остаться среди деревьев и внимательно поглядывать по сторонам, а если услышу, что кто-то приближается с той стороны, откуда мы приехали, то должна сразу же сообщить ей об этом. Больше миледи ничего не сказала, поэтому я осталась в седле на широкой спине моей гнедой красавицы, которая так легко несла меня через ночь. Белая кобыла королевы беззвучно переставляла в тумане стройные ноги, а сама королева в черном меховом плаще, разметавшемся за ее плечами, словно крылья, походила на темного ангела. Королева выехала на поляну и остановила лошадь. Тишину нарушало лишь тяжелое дыхание наших скакунов, и, когда заухала сова, я едва не закричала от страха.
Затем с запада послышался приглушенный стук копыт по павшей листве. Появился всадник, закутанный в плащ, а за ним другие — двое с юга, двое с запада и трое с севера.
Вскоре на поляне стояли восемь лошадей. Всадники молча ждали, когда рассеется туман и бледный свет зимнего солнца покажет богатые цвета их плащей. Я не понимала, почему они молчат, хотя собрались здесь для встречи. И еще я размышляла о том, кем могли быть закутанные в плащи всадники и надо ли мне отвернуться, если они откроют лица. Однако королева не дала мне никаких указаний, а мое любопытство было слишком велико. Между тем всадники продолжали молча сидеть в седлах.
Солнце поднялось выше, мое тело сковывал холод, глаза слипались после ночи, проведенной в седле. Однако всадники продолжали терпеливо чего-то ждать.
Наконец с севера послышался быстро приближающийся стук копыт еще одной лошади. Через лес к поляне подскакал огромный взмыленный черный жеребец. На спине всадника развевался красный плащ. Он спешился и опустил алый капюшон, подбитый мехом неизвестного мне зверя. По спине рассыпались волосы, загоревшись оранжевыми всполохами в косых лучах восходящего солнца. Я поняла — это женщина. И почти сразу же у знала леди Лидию, родственницу короля Эдуарда, которая вышла замуж за шотландца и оказалась в семье Макбета и Малкольма. Королева Эдита бережно поддерживала дружбу с теми, кто был готов ей помочь и у кого имелись причины желать возвращения саксов на трон. Лидия была племянницей Эдиты по мужу. Она потеряла всех мужчин семьи Этельреда — отца, братьев и дядей. Все они были убиты как возможные претенденты на английский трон. Датские короли не оставили в живых ни одного из Этелингов.
Лидия сказала — если она будет недовольна правлением мужа, то последует примеру леди Годивы, только не станет делать это зимой. Она славилась своим умом, и ее не интересовали изящные манеры, принятые при дворе норманнов. Она говорила что хотела и когда хотела.
Остальные всадники также спешились и расстелили плащи на земле. Все они сняли капюшоны, и я увидела, что здесь одни только женщины. Среди них была жена Тостига, Джудит из Фландрии, и жена Гарольда, Алдита из Уэльса. Были и другие леди, которых я прежде не встречала, но дорогая одежда свидетельствовала о богатстве и влиянии — возможно, они являлись женами или любовницами аристократов. Драгоценности и одежда говорили о высоком статусе каждой.
Последней спешилась королева и, постелив на землю свой плащ, обратилась к собравшимся. Она говорила негромко, но в ее голосе чувствовалась страсть. Речь шла о том, что она хочет передать корону своего мужа Эдгару Этелингу, наследнику саксов, хотя даже среди ее окружения считается, что на корону претендует ее брат Гарольд. Эдита спросила, всели присутствующие по-прежнему готовы поддержать юного наследника Эдгара, ведь тогда они становятся на пути Гарольда Годвинсона.
Джудит из Фландрии, черноволосая леди, похожая на темную цаплю, заговорила первой. Она напомнила королеве, что ее муж Тостиг сохраняет верность королю-мальчику, но опасается возможного тайного союза Гарольда с Вильгельмом Нормандским — это было бы дурным знаком. Эдита не стала говорить о том, что ей известно о таком союзе, — возможно, считала, что такая новость ослабит желание ее сторонников следовать за ней.
Алдита, жена Гарольда, сообщила, что ее брат Эдвин, эрл Мерсии, все еще не принял решения, кого ему следует поддерживать, а потому колеблется и его брат Моркар. Алдита добавила, что при валлийском дворе считают — Эдгар еще недостаточно взрослый для короны.
Наконец Эдита повернулась к Лидии, своей шотландской родственнице, до сих пор хранившей молчание. Лишь она одна из собравшихся имела кровные узы с саксами. Лидия могла быть древней богиней огня — так ослепительно сияли в лучах утреннего солнца ее блестящие волосы. Она заговорила, тщательно подбирая слова, с трудом сдерживая рвущуюся энергию. По ее словам, Малкольм Шотландский будет хранить верность Тостигу, его войска без колебаний последуют за знаменем эрла Нортумбрии. Кроме того, она предложила убежище для своего родственника Эдгара, если ему придется бежать из Вестминстера. Эдита улыбнулась, услышав, что отважные армии кельтов по-прежнему остаются ее союзниками.
Я сказала родным, что отправляюсь в монастырь в Винчестере, чтобы посмотреть на гобелен, который монахини вышили для нового Вестминстерского аббатства. На обратном пути я почти засыпала в седле, и королева отослала меня домой. Мэри встревоженно посмотрела на меня, когда я устроилась у огня и накрылась шалью, — она никогда не видела, чтобы я спала днем.
Перед тем как уснуть, я вспомнила, как Эдита рисовала встречу, подобную той, что я наблюдала вчера ночью, — всадники на лесной поляне с лицами, скрытыми капюшонами. Именно этот рисунок она спрятала, когда Гарольд без предупреждения ворвался в ее покои.
Мадлен отложила ручку и закурила. Она перешла в гостиную, представляя, как девять женщин в богатых одеяниях, украшенных драгоценностями, сидят на плащах в лесу, обсуждая будущее Англии. Какой материал для феминисток!
Из окна гостиной она выглянула на улицу, где запоздавшие пешеходы спешили домой, потом посмотрела на часы, висевшие на стене в кухне, — их было видно с того места, где она стояла. Почти полночь, а у нее до сих пор крошки во рту не было. В холодильник можно было не заглядывать — она знала, что там не осталось даже оливок и шоколада. Вчера вечером ей пришлось довольствоваться сухим батоном. Всякий раз, когда ей хотелось есть, Мадлен вспоминала, что так ничего и не купила, а потом напрочь забывала обо всем, вспоминая о еде только после очередного приступа голода. К счастью, в университете есть кафе — кормили там не особенно вкусно, но поесть можно было без особых усилий.
При определенных обстоятельствах Мадлен была бы недовольна своей одержимостью. Обычно она так себя не вела — в особенности когда речь шла о еде. Она всегда любила поесть. Можно было отправиться в магазин прямо сейчас — слава богу, теперь появились круглосуточные супермаркеты. К тому же у нее кончались сигареты.
Воздух на улице оказался таким холодным, что Мадлен несколько раз обернула шею шерстяным шарфом. Было начало марта, но приближения весны совсем не чувствовалось.
Мадлен вдруг поймала себя на том, что вспоминает вид, который открывается из коттеджа Лидии, — интересно, как там будет весной. И еще она подумала о Николасе.
Их расставание получилось немного грустным. Нет, печали Мадлен не испытывала, но в тот день, когда они ездили в Йартон, между ними возникла непринужденность. Однако вслух ничего сказано не было, они даже не обменялись телефонами и не обещали поддерживать друг с другом связь. Возможно, они еще встретятся, а может, и нет. Николас намекнул, что будет «выполнять свой долг в архиве» до конца лета. Когда же Мадлен спросила: «А потом?» — Николас лишь пожал плечами. По-видимому, хотел сказать, что обязательно что-нибудь подвернется. Еще один мужчина, не склонный строить планы на будущее. А какие планы у самой Мадлен? Она всегда может вернуться к работе куратором, если ей надоест преподавать. Или стать парикмахером.
Туманный ландшафт Южной Англии отпечатался в ее сознании, и, шагая по улицам Кана, Мадлен вспоминала его очертания, каменные стены и высохшие деревья.
Войдя в магазин, Мадлен сосредоточилась на покупках. В ярком искусственном свете продукты, упакованные в пластик, выглядели настолько угрожающе, что она сумела заставить себя купить только хлеб и сыр, добавив к ним бутылку вина. Она понимала, что не ляжет спать до тех пор, пока не переведет хотя бы еще одну страницу, потому что присутствие Леофгит действовало на нее магически — тихий голос, доносящийся из глубины времен.
У кассы Мадлен огляделась по сторонам и увидела знакомую копну вьющихся рыжих волос. Тобиас склонился над большим холодильником с дорогими сортами мороженого, увлеченно выбирая. Мадлен улыбнулась, когда он наконец взял пралине с ликером. Он заметил Мадлен, оглядывая кассы, чтобы встать туда, где меньше очередь. Под дорогой зимней курткой на нем был элегантный вечерний костюм.
— Вы выглядите так, словно возвращаетесь из оперы, — заметила Мадлен, когда он подошел к ней.
— Привет, красотка. Вы сегодня поздно. Насколько мне известно, композитор, чей концерт для фортепьяно я играл сегодня, не писал опер. А вы сегодня ходили куда-нибудь или по-прежнему весь вечер провели взаперти в своей башне? «Пред нею ткань горит, сквозя, она прядет, рукой скользя…» Леди Шалот в башне, обреченная смотреть на мир через волшебное зеркало. А потом из зеркала появился сэр Ланселот!.. Зачем вам это? Вы же знаете, душа не должна проводить слишком много времени в одиночестве. Идемте ко мне есть мороженое? Обещаю не пытаться соблазнить вас — не дай бог, Луиза узнает. Впрочем, вы ей нравитесь. Кроме того, если я и попытаюсь кого-нибудь соблазнить, то это будет странное существо, с которым ушла ваша подруга.
— Вы имеете в виду юношу гота?
— Вы его так называете? Хмм.
— У нее сегодня с ним свидание — я не уверена, что у вас есть шансы.
— О, я просто шучу, дорогая, я получаю не меньше удовольствия, наблюдая. Конечно, я люблю секс, но просто смотреть иногда вполне достаточно, чтобы ощутить приятное возбуждение. Вы не согласны?
Мадлен с трудом подавила смех. Тобиас говорил довольно громко, и за ними уже собралась небольшая очередь, привлеченная цитатами из Теннисона.
— Говорите тише, — прошипела Мадлен, из последних сил сдерживая смех, опасаясь, что у нее начнется истерика. — Я бы приняла ваше предложение, Тобиас, но мне сначала нужно поесть. Я зашла сюда, чтобы купить что-нибудь на ужин.
Тобиас бросил презрительный взгляд на содержимое ее корзинки.
— И вы называете это едой? Нет, мы сейчас же идем ко мне, и я приготовлю настоящий ужин. Судя по вашему виду, вам не помешает как следует подкрепиться.
Она открыла рот, чтобы возразить, но не сумела придумать причин для отказа. Тобиас выразительно взмахнул рукой — не хочу ничего слушать, и Мадлен капитулировала. Пожалуй, ей действительно не стоит столько времени проводить в одиночестве.
Войдя в квартиру, Тобиас снял пиджак и надел мохеровый джемпер, затем разлил в два низких стакана ирландское виски. Мадлен уселась на холодный хромированный стул, а Тобиас жарил грибы и болтал о концерте, который исполнял сегодня. Несколько раз внимание Мадлен рассеивалось, и она вдруг поняла, каким далеким стал для нее мир, который описывал Тобиас. До сих пор она не считала, что ее нынешнее состояние связано со смертью Лидии или с дневником, просто так получилось… или она всегда была такой?
Тобиас приготовил превосходное грибное ризотто. Они пили, ели и беседовали о Париже. Тобиас прожил в Париже большую часть жизни и лишь недавно переехал в Кан, чтобы избавиться от некоторых «привычек». Его вполне устраивал маленький городок, но он начал испытывать беспокойство, ему хотелось некоторое время пожить за границей. Возможно, в Токио. После ужина Тобиас отвел ее в гостиную, где безупречно новый диван, обитый парчой цвета слоновой кости, внушал священный трепет при мысли о том, что на него придется сесть. В конце концов Мадлен уселась на пол, опершись спиной о диван, а Тобиас свернул длинную толстую сигарету с марихуаной и принялся курить ее так, словно там был обычный табак. Он предложил Мадлен затянуться, и она заколебалась. Трава делала ее мечтательной, а сейчас она совсем не хотела терять связь с реальностью. Кроме того, сегодня ей еще предстояло поработать…
— Вы что, вообще не курите? — спросил Тобиас, когда она отказалась. Мадлен улыбнулась.
— Курю, но сегодня мне еще нужно поработать — для университета.
У нее плохо получалось лгать.
Тобиас пожал плечами.
— Это превосходная трава, я иногда курю ее даже перед выступлениями. Обретаешь легкость.
Именно легкости Мадлен сейчас и не хватало. Она взяла сигарету и затянулась, а Тобиас налил в бокалы еще виски и включил Шопена. Когда он вернулся, Мадлен тихонько подпевала, мечтательно глядя в потолок.
Он поставил перед ней бокал с виски, и Мадлен принялась рассматривать янтарный напиток, который из-за стоящей позади него свечи напоминал расплавленное золото.
Тобиас сел.
— Хочу дать вам совет. Разумеется, вы можете меня послать и забыть о нем.
Мадлен вернулась в реальность из волшебной долины, где протекал золотой искрящийся ручей. Ей следовало почаще расслабляться.
— Слушаю.
— Сегодня я разговаривал с подругой, которая была на моей вечеринке. Она узнала Карла и сказала, что он большой любитель женщин. Она видела его на показе мод в Париже — там он ухлестывал за несколькими топ-моделями. И он отвратительно богат. Получает все, что хочет. Обычно невероятно обаятелен. Я знаю, что вы продемонстрировали равнодушие, но у меня сложилось впечатление, что он вами заинтересовался в тот вечер… однако он совсем не Ланселот.
На губах Мадлен появилась слабая улыбка — интересно, что Тобиас имел в виду, когда сказал, что Карл заинтересовался ею.
— Не стоит тревожиться из-за меня, Тобиас, я ведь говорила — он вовсе не мой любовник. К тому же у меня выработался иммунитет. После многократного отрицательного опыта становишься мудрее.
— Какой ужасный цинизм для столь юной и прелестной леди! Вам должно быть стыдно. Нужно подыскать для вас настоящего победителя драконов.
Для союза королевы Эдиты требовался человек, который воскресит дракона, думала Мадлен, когда поднималась по лестнице к себе в квартиру. Спит ли до сих пор дракон саксов, или на нее так действует марихуана Тобиаса? Ей ясно представилась мистическая Англия времен Леофгит, когда она скакала на коне к лесной поляне. «Наверное, все дело в зове крови», — решила Мадлен.
17 января 1065 года
После убийства Госпатрика солдаты королевской гвардии обыскали дворец, но я так и не поняла, что они хотели найти — оружие или самого убийцу. Возможно, поиски проводились для вида, ведь присутствие гвардии на празднествах Михайлова дня не помешало убийству.
Когда они пришли в башню, я была там одна. Мне удалось спрятать будущий гобелен в корзине среди других холстов, но гвардейцев не интересовала вышивка. Как только они поняли, что в такой маленькой комнатке негде спрятаться мужчине, то сразу же ушли, оставив после себя запах немытых тел и грязь на полу.
После этого гобелен пришлось унести из дворца — слишком велика была опасность, что его кто-нибудь увидит. К тому же всего три женщины — королева, Изабель и я — вряд ли справились бы с работой над ним. Было решено, что ткань следует отправить в одну из монастырских мастерских.
Теперь гобелен спрятан в Нанноминстере, монастыре Винчестера, аббатиса которого является давним другом Эдиты.
Королева Эдита является патронессой монастыря. А для монахинь Винчестера переданный им гобелен ничем не отличается от множества других, которые заказывала у них королева. Сестры очень скромны и проводят дни в молчании и молитвах, редко покидая монастырь.
Королева объяснила монахиням, какими цветами следует пользоваться, и они вышивают синей, зеленой, коричневой, желтой и красной шерстью. На гобелене не будет никаких украшений, которые отвлекали бы от сути истории.
Изабель рассказывает мне о том, как продвигается работа, — сейчас они вышивают встречу Гарольда и Вильгельма, откуда они направились во дворец герцога в Руане.
Мы покупаем краски в Лондоне, но красят шерсть в монастыре. Поскольку монахини обычно пользуются именно такими красками, их удается покупать у красильщиков. Одерикус отправляет ее с путешествующими монахами, но его посланцам известно лишь, что вышивку делают монахини, и это ни у кого не вызывает удивления. До сих пор нам у дается хранить нашу тайну.
3 февраля 1065 года
Мне довольно трудно находить пергамент для записей. Мэри в Рождество поссорилась с женой кожевника и с того дня ни разу не была в мастерской. С тех пор как я сделала последнюю запись, мне пришлось отправиться в Винчестер, чтобы доставить послание Эдиты сестрам. Там я наблюдала, как они вышивают цветными нитками прямо по ткани. Пять больших кусков сшили вместе, и в результате гобелен получился слишком длинным даже для самого большого и узкого стола в мастерской монастыря. Один его конец приходится постоянно скатывать.
Теперь гобелен повествует о том, как Гарольд с Вильгельмом отправились сражаться с графом Конаном из Динана. На гобелене изображены четыре здания, аккуратно нарисованные твердой рукой миледи. На вершине горы в Монте, словно огромная птица, примостилась церковь Святого Михаила. Дальше расположены дворцы в Доле, Ренне и Динане, которые описал Одерикус. Монах немало путешествовал по континенту и видел и эти знаменитые строения, и многие другие. Быть может, он вспомнил про аббатство Святого Михаила потому, что был послушником именно там и лишь позже перебрался в Кентербери.
Один и тот же человек не всегда появляется на гобелене в плаще или штанах одинакового цвета, поскольку у монахинь далеко не всегда есть шерсть всех цветов. Часто какой-то цвет заканчивается раньше, чем привозят нужные краски. И хотя одежда Гарольда отличается в разных частях гобелена, его легко узнать по длинным усам и коротко подстриженным волосам — норманны стригут их так, что видна шея.
Я наблюдала за молчаливо вышивающими монахинями — вокруг горят сотни свечей, чтобы дать достаточное количество света для работы. Они сидят на скамьях, ткань натянута на узком столе из грубо обтесанного дерева. Монахини никогда не поднимают головы, чтобы посмотреть, кто пришел. В помещениях монастыря, где они работают, нет окон, через которые они могли бы видеть мир за стенами обители. Впрочем, для них этого мира не существует, в мастерской не разговаривают между собой и не поют. Мне их существование кажется темным и пустым, а монастырь больше напоминает тюрьму, чем дом Бога, однако их вышивки искрятся цветом и движением. Монахини дают жизнь гобелену, хотя их собственная остается безмолвной и холодной.
5 февраля 1065 года
Теперь я соблюдаю осторожность, когда прихожу в башню, и смотрю в дверную щель, прежде чем войти. Только однажды утром я видела их вместе. Тогда у меня скопилось много работы. Я рано пришла во дворец, чтобы закончить ризу архиепископа Стиганда. Маленькие золотые бусины, которые нужно было пришить к скользкому шелку, закреплялись с большим трудом, и я рассчитывала, что смогу утром поработать. Сначала мне показалось, что в комнате никого нет, но потом мой взгляд скользнул по полу — они лежали там.
Черный зимний плащ королевы был разложен на холодном камне, медвежья шкура служила им мягкой постелью. Она лежала спиной к двери, опираясь на локоть, а ее обнаженное тело скрывало Одерикуса. Распущенные волосы волнами спадали на спину, словно золотой прибой на прибрежный белый песок. Я смотрела, как она встала и протянула любовнику руку. Он не сразу взял ее, продолжая лежать и смотреть на стройное белое тело. Никогда прежде не видела я лицо монаха таким — любовь заставила его помолодеть и стать красивым.
Я много думала о том, как Одерикус сохраняет верность королеве саксов. Любовь к Эдите заставила его отречься от собственной крови, а потом и от клятвы целомудрия. Повитуха Мирра говорит, что Рим запрещает священникам жениться, чтобы их жены не могли претендовать на имущество церкви.
Я счастлива за них — им удалось найти тайную радость друг в друге, но их любовь очень опасна, и кровь леденеет у меня в жилах, когда я думаю о том, к чему она может привести. Я помню, Одерикус сказал однажды, что хранит верность только истинному королю — своему небесному повелителю, и боюсь, что со временем он пожалеет о своем предательстве. Мне удалось найти кусочек дерева, который отлично входит в дверную щель, и теперь он скрывает их преступление.
7 февраля 1065 года
Я попросила у Одерикуса пергамент, и он изрядно удивился, когда понял, что я израсходовала все запасы. Процесс приготовления пергамента из куска шкуры занимает много времени — его нужно вымочить в растворе извести, чтобы сошло мясо, а потом долго скрести ножом в форме полумесяца. Шкуру растягивают на деревянной раме, где она сохнет и разглаживается, после чего ее разрезают на куски. Мне же приходится использовать маленькие рамки для вышивания, когда я готовлю свои грубые листы для письма.
Мэри сказала, что помирится с женой кожевника, чтобы я снова могла получать кусочки кожи, и я понимаю, что она хочет, чтобы я считала ее щедрой. Но я вижу, как ей не хватает монеток, которые она там зарабатывала. Мэри видела в Лондоне темно-красную шерсть и очень хотела бы купить ее перед белтейном[37], а это возможно, только если она снова начнет работать на свою сварливую хозяйку. Я сказала, что будет обидно, если она подпалит новое платье на огне белтейна — ведь девушки прыгают через костер, чтобы удачно выйти замуж. Впрочем, Мэри вряд ли станет слушать мои советы по этому поводу.
Существует много способов добыть удачу и защиту у костров, зажженных в честь наступления мая, — от успешного путешествия до благополучного рождения ребенка. Еще до того, как костер догорит, многие набирают полный горшок углей, чтобы разжечь в очаге новый огонь и благословить свой дом. А когда пепел остынет, его разбросают по полям, чтобы боги послали хороший урожай.
ГЛАВА 11
Мадлен с тоской смотрела на две стопки студенческих работ, громоздящихся на столе. Это означало, что почти три недели она не сможет работать над переводом дневника. Ей пришлось взяться за проверку работ — студенты начали посматривать на нее с недоумением, когда она в очередной раз пообещала принести их работы на следующей неделе. Ей ничего не оставалось, как вернуться к исполнению обязанностей преподавателя.
Но теперь все эссе были проверены, оценки выставлены, и Мадлен с нетерпением дожидалась пасхальных каникул — у нее даже исчезло чувство вины, которое охватывало ее всякий раз, когда она закрывала дневник, уже не в силах взяться за другую работу.
На одной из стопок эссе лежал листок бумаги с копией статьи. Вероятно, Филипп незаметно положил его на стол Мадлен, чтобы избежать разговора.
Мне показалось, что это может вас заинтересовать.
ФилиппВ 1792 году уважаемый адвокат и член городского совета Байе обнаружил толпу изменников, готовящихся покинуть город. Такие вещи часто случались в те времена, в начале Французской революции.
Перед тем как покинуть лагерь, солдаты в гражданской одежде набивали фургоны различными вещами. Фургоны покрывали парусиной, но хватало не всем, и кто-то предприимчивый вспомнил о длинном куске вышитой ткани, хранящемся в соборе.
Адвокат, месье Леонар-Лефорестье, наткнулся на вандалов, когда они пытались накрыть один из фургонов древним куском ткани, который теперь носит название «гобелен Байе». Адвокат пришел в ужас и потребовал, чтобы они не трогали гобелен, а использовали для своих целей мешковину. В конце концов ему удалось убедить революционеров, что это национальное сокровище, представляющее величайшую победу французов, и гобелен необходимо сохранить. Они согласились, и Леонар-Лефорестье забрал гобелен в свой кабинет на хранение. Позднее он передал его в мэрию.
В 1803 году Наполеон решил, что должен посмотреть на гобелен, изображающий знаменитое поражение англичан, и мэрия весьма неохотно согласилась доставить его в Париж. Гобелен выставили в столичном музее, где Наполеон с особой тщательностью изучил его — возможно, рассчитывал обнаружить скрытую стратегию, которая поможет ему во время очередной войны. Но потом он вернул древний гобелен в Байе.
В начале Второй мировой войны, в 1939 году, гобелен Байе вновь покинул свое хранилище. На сей раз он отправился в бомбоубежище. Когда немецкие войска оккупировали Францию, длинный вышитый кусок ткани стал вдохновляющим документом — ведь на нем изображалось последнее успешное вторжение в Англию. Гитлер осмотрел картины, иллюстрирующие приготовления Вильгельма Завоевателя к пересечению Английского канала[38], а также картины битвы при Гастингсе. И вновь гобелен отказался открыть свои тайны, более того, английское вторжение привело к поражению Германии.
В 1944 году гобелен перевезли в Париж, в подвал Лувра. Британская высадка в Нормандии положила конец немецкой оккупации, а вместе с ней исчезла последняя угроза девятисотлетнему гобелену. Он вернулся в Байе.
Мадлен сунула копию статьи парижского ученого в блокнот и присела на край стола, бессмысленно уставившись на стопки эссе.
Для Филиппа гобелен Байе являлся достоверным документом, описывающим сражения и войны, и Мадлен действительно было интересно узнать, что с ним происходило за последние двести лет. Однако настоящая тайна гобелена крылась в истории. Самое древнее упоминание о гобелене Байе (дневник являл собой исключение; он не был документом, известным науке) содержалось в описи содержимого архива собора в Байе в пятнадцатом веке — в ней говорилось о длинном куске вышитой ткани, который раз в год вывешивали в нефе собора Байе во время Праздника реликвий. Но где гобелен находился первые пятьсот лет, оставалось одной из его многочисленных загадок. Может быть, всеми забытый, он пролежал где-то в хранилище собора.
Мадлен вновь попыталась вспомнить все, что знала о гобелене. Величайший парадокс — даже французы это признавали — состоял в том, что гобелен был создан английскими мастерицами. Что ж, это вполне соответствует тому, что написано в дневнике, подумала Мадлен. Вне всякого сомнения, английские женщины-саксонки являлись лучшими вышивальщицами средневековой Европы. Позднее даже появился специальный термин «английская работа». В результате после почти двухсотлетних дискуссий эксперты пришли к выводу (он предлагался всякому, кто был готов послушать лекцию при помощи наушников, которые выдавал музей Байе), что гобелен вышит саксами, получившими заказ от норманнов.
Мадлен прикусила губу. Оставалось еще сто футов гобелена, не описанных (пока) в дневнике Леофгит, — и в них события были изложены с точки зрения норманнов. Существовал предатель — он пересек море, чтобы известить Вильгельма о коварстве Гарольда, а затем начинались приготовления к вторжению в Англию, и все это с мельчайшими подробностями было изображено женщинами, работавшими над более поздними частями гобелена. Далее норманны вместе с лошадьми пересекают канал на длинных лодках; и наконец, легендарная победа в битве при Гастингсе.
Эти сцены из второй части знаменитого гобелена, висящего ныне в Байе, не соответствовали тому, что знала Мадлен о рисунках Эдиты. Разгадать загадку было невозможно. Она разочарованно вздохнула. Желание вернуться к переводу было очень сильным, хотя и не таким мучительным, как тоска по матери. Оно заполняло пустоту, вдруг поняла Мадлен. Когда она читала латынь, написанную аккуратным почерком Леофгит, то переносилась в другое время. Мадлен просто боялась того момента, когда перевод будет закончен, — ведь после этого она вновь останется одна. Без Лидии.
Ну а если относиться к дневнику Леофгит как к подробному описанию изготовления гобелена Байе, оставалось лишь надеяться, что Леофгит и в дальнейшем являлась свидетельницей работы над тайным проектом Эдиты. И еще Мадлен хотелось получить ответы на множество других вопросов, которые ее занимали.
Она отодвинула в сторону копию статьи и оперлась подбородком на руку, продолжая смотреть на заставку монитора — летающие тосты, чьи крылья так отчаянно трепетали, словно пытались вырваться из компьютерного плена. Абсурдная идея. Мадлен посмотрела на часы. У нее еще оставалось время, чтобы выкурить сигарету перед началом лекции.
Из-под груды эссе зазвонил телефон. Да, сказала она Джуди, пусть ее соединят с Николасом Флетчером, который звонит из Кентербери.
— Привет, Мадлен. Пожалуй, теперь пришла моя очередь отрывать вас от работы. Надеюсь, вы не находитесь на грани величайшего открытия?
Мадлен посмотрела на часы. До лекции оставалось пять минут.
— Я собиралась покурить перед лекцией, но это может подождать.
— Очень лестно. Вы помните пергамент с рунами, который я вам показывал?
— Кажется, да.
— Ну так вот, мне удалось кое-что расшифровать. Что вам известно о руническом алфавите?
— Немногое. Я знаю, что с его помощью писали церковные манускрипты и поэмы.
— А вы можете его читать?
— Господи, нет, конечно. А вы?
— Если очень постараться… впрочем, мне повезло. Я провел две ночи над этим манускриптом. Я и сам не понимаю, почему решил им заняться — сначала собирался отправить его в Лондон вместе с другими документами. Так или иначе, но вчера я сходил в библиотеку и взял там пару книг, чтобы убедиться, что стою на правильном пути.
Мадлен почувствовала, как ее начинает охватывать возбуждение. В голосе Николаса сквозило волнение, и ей захотелось узнать, что нарушило его привычное спокойствие.
— И? — едва слышно спросила она.
— И я не намерен ничего вам рассказывать до тех пор, пока не продвинусь еще немного вперед. Возможно, я очень сильно ошибаюсь. Мне ужасно хочется продолжить работу днем, пока я в подвале, но это не совсем правильно. Видит бог, у меня и без того полно забот, чтобы возиться столько времени с одним манускриптом.
— Я понимаю ваши чувства.
Мадлен пришлось взять себя в руки. Сейчас был самый подходящий момент рассказать Николасу о дневнике. Ей ужасно этого хотелось. К тому же он оказал доверие ей.
— В самом деле?
Наступила многозначительная пауза. Николас явно ждал, что Мадлен продолжит.
— В последнее время мне пришлось проверить очень много студенческих работ, — быстро добавила она.
Искушение отступило. Конечно, она не станет ничего ему рассказывать. Кроме того, сестры Бродер потребовали, чтобы она хранила существование дневника в тайне. А она уже нарушила их доверие и проболталась о дневнике Розе.
— Наверное, это скучное занятие — я бы предпочел расшифровку рунических посланий.
— Я тоже! — рассмеялась Мадлен.
— Кстати, теперь я могу сказать о второй причине моего звонка. Как вы смотрите на то, чтобы провести пасхальные каникулы в Кентербери? У вас ведь тоже будут праздники. Мне бы очень хотелось показать вам манускрипт. — Голос Николаса зазвучал таинственно. — Я знаю, вам придется преодолеть значительное расстояние, да и стоить это будет немало, но я могу встретить вас в Гатвике[39]. До него всего час езды. В любом случае подумайте о такой возможности.
Мадлен сразу приняла решение.
— Я бы с удовольствием посмотрела на этот документ.
Пока не стоит говорить о том, что ей хочется с ним встретиться.
— И я бы хотел вам его показать. И кроме того, я с радостью повидаюсь с вами, — ответил Николас.
Сердце Мадлен дрогнуло. Людям не следовало так разговаривать с ней сейчас. Ей ужасно захотелось заплакать. Она посмотрела на часы и поняла, что сильно опаздывает на лекцию.
— Мне нужно идти, пока никто из моих студентов не обратился в администрацию, чтобы выяснить, продолжаю ли я оставаться их преподавателем. Такое уже случалось.
— Хорошо. Мне бы не хотелось, чтобы вы потеряли работу.
— Сейчас это было бы не так уж и плохо.
— Боюсь, вы преувеличиваете, — сухо заметил он. — Позвоните мне, когда будет ясность с билетами.
Мадлен положила трубку, подхватила рюкзак и помчалась на лекцию. Она опаздывала.
Когда она шла через двор к аудитории, в голове у нее мешались самые разные мысли. О каком таинственном документе говорил Николас? К тому же она не знала, чего ей больше хочется — увидеть руны или Николаса? Все только потому, что ей приятно проводить время в его обществе, напомнила она себе. Было бы глупо влюбиться в такого человека — ведь он типичный одиночка. Питер был таким же, и это принесло ей множество страданий. Кроме того, Николас ей не слишком нравился — ее привлекал лишь образ его мышления.
Она не заметила Розу, которая поспешно шагала к ней через лужайку, пока не столкнулась с ней. Роза была одета в вишнево-красную шерстяную куртку с меховым воротником, а помада на поджатых губах по цвету полностью соответствовала куртке.
— Где ты была, черт побери?
— Я ужасно опаздываю, Роза, позвоню вечером!
Но Розу было не так легко сбить с толку.
— Я сама тебе позвоню. Ты забудешь. Мне надо кое о чем поговорить с тобой.
— Ладно, теперь я могу идти?
Роза отступила в сторону.
И только после того, как Мадлен открыла дверь аудитории, она вспомнила, что забыла эссе на столе.
Сумерки еще не успели сгуститься, когда Мадлен вошла в квартиру. И сразу же зазвонил телефон. Но это была не Роза, а Джоан Дэвидсон.
— Привет, Мадлен, рада, что удалось застать тебя. Никак не могу привыкнуть разговаривать с автоответчиком. Как дела?
— Все в порядке. Ну… бывает по-всякому.
— Конечно. Так всегда, когда у тебя горе, — иногда думаешь, что умрешь от страшной боли, а порой кажется, что онемело все. Даже не знаю, что хуже.
— Я тоже.
— Мадлен, боюсь, мне не удалось добиться серьезных успехов в архиве, хотя твоя мать побывала в Кью и заказала исследование несколько месяцев назад. Могу лишь сказать, что компания Бродье действительно существовала до Елизаветинской хартии и что Лидия нашла соответствующие записи в церковном приходе. В описи имущества богатых семей в четырнадцатом и пятнадцатом веках упоминаются несколько вышивок с торговой маркой компании. В какое-то время, между тринадцатым и четырнадцатым веком, декоративная вышивка пришла в упадок — «черная смерть»[40], множество войн в Европе… Тюдоры оживили торговлю в Англии — им нравились богато украшенные ткани. Сохранилась опись тысяча пятьсот тридцатого года, в которой перечислены вещи из будуара Катерины Арагонской — подушки и гобелены из вышитого шелка, бархат, украшенный серебряной нитью. И все эти вещи были заказаны у компании Бродье!
Мадлен слушала не слишком внимательно.
— Вы сказали, что моя мать посещала Государственный архив?
— Верно. В Кью, в Лондоне.
Поблагодарив Джоан и повесив трубку, Мадлен присела на диван. Она сняла сапоги на высоких каблуках, и это заняло гораздо больше времени, чем если бы она делала это стоя. Однако она слишком устала. Мадлен уже и не помнила, когда она чувствовала себя столь же измученной. Казалось, ее ноги и руки налились свинцом.
Значит, Лидия побывала в Кью. Похоже, именно там она видела завещание Элизабет Бродье. Мадлен долго неподвижно сидела на диване, пока вновь не зазвонил телефон, но она не стала поднимать трубку. Включился автоответчик, и Мадлен услышала настойчивый голос Розы.
— Возьми трубку, Мэдди! Я знаю, что ты дома.
Однако Мадлен не могла даже пошевелиться.
— Если ты не возьмешь трубку, то я приду прямо сейчас и напомню, что ты находишься среди живых людей!
Мадлен простонала и протянула руку к трубке. Сопротивляться Розе не было ни малейшего смысла.
— Привет, Роза. Я не прячусь — просто у меня нет сил…
Роза не дала ей закончить фразу.
— Возьми себя в руки. Тебе нужно отдохнуть. Ты закончила перевод?
— Нет. Осталось совсем немного. Я решила слетать в Кентербери на пасхальные каникулы.
— Ты думаешь, это хорошая мысль? Ты намерена вернуть дневник?
Мадлен ответила не сразу. Ей почему-то не хотелось говорить Розе о Николасе. Легче было отделаться полуправдой.
— Мне нужно кое-что сделать в доме. Кроме того, я хочу сходить в Государственный архив в Лондоне. Надо закончить изучение нашего генеалогического дерева, которое начала моя мать.
Как только Мадлен произнесла эти слова, она поняла, что именно так и должна поступить.
— Только не слишком напрягайся. И если в доме тебе… станет не по себе, сними номер в отеле. Ладно?
— Нет, дело не в этом, Роза. Так было сначала, но теперь мне нравится там находиться. В доме царит умиротворение… я не могу объяснить.
— Не нужно ничего объяснять, — уже спокойно сказала Роза. — Я рада, что тебе там хорошо. И одобряю твою поездку.
— Ну и слава богу. Иначе мне пришлось бы остаться!
Роза рассмеялась.
— Так ты хочешь услышать о моем расследовании?
— О каком расследовании?
— Ну ты даешь! О Карле, конечно!
Мадлен успела почти забыть о нем. Со дня их встречи прошел уже месяц.
— Он крупный игрок на рынке антиквариата, Мэдди. Карл работает в Риме и Копенгагене — специализируется на скандинавском антиквариате, но иногда покупает вещи во Франции. Вероятно, для него это лишь развлечение, или он рассчитывает сделать особенно удачную покупку. В любом случае я бы постаралась, чтобы он не узнал о твоих кузинах!
— Значит, он понял, что перед ним, когда увидел дневник после вечеринки у Тобиаса.
— Да, боюсь, что так. Но что он может сделать? Я бы не стала беспокоиться, но если он позвонит, будь с ним холодна.
— Такие вещи у меня всегда плохо получаются. Ты ведь сама мне об этом говорила.
— Вот теперь вижу, что к тебе возвращается чувство юмора. Кстати, хочу заметить, что если бы я не считала тебя клёвой, то не проводила бы с тобой столько времени!
Роза довольно рассмеялась и повесила трубку.
Мадлен встала, опасаясь, что не сможет удержаться на ногах. Новость про Карла неприятно поразила ее. Ей вдруг показалось, что он находится в ее квартире. Впрочем, Мадлен понимала, что это невозможно, — просто мания преследования из-за волнений, связанных с дневником. Однако неприятные ощущения моментально исчезли, когда она направилась в кабинет, где ее поджидали записи Леофгит. До начала каникул оставалось всего несколько дней. Со сном можно и подождать, решила она.
15 марта 1065 года
Мэри помирилась с женой кожевника и теперь снова приносит мне куски шкур и эль, сваренный ее хозяйкой. Зима тянется слишком долго, и плохо спится, когда по ночам холод просачивается из всех щелей в стенах. Последняя летняя стрижка ягнят дала достаточно шерсти, чтобы обеспечить всю семью теплой одеждой, хватило даже на шаль, в которую я кутаюсь, когда сажусь возле огня по вечерам. Шерсть ягнят мягче, чем шерсть взрослых овец, и я прокипятила ее с полынью, чтобы сделать более плотной. Она получилась светло-зеленого цвета. Шаль покрывает мою голову и плечи, она настолько длинная и тонкая, что мне удается спрятать в нее даже руки, когда я пишу. А еще она немного пахнет полынью.
После Рождества короля никто не видел. Над дворцом и городом нависла тень. Даже сплетники на Лондонском рынке притихли. Над всеми повисла тяжелая туча ожидания. Страх, словно запах, просачивается всюду. Всем известно, что Эдуард болен, а у королевства нет наследника. Многие уверены, что еще до коронации нового короля прольется кровь.
Хускерлы и таны считают, что королем должен стать Гарольд, хотя в его жилах нет королевской крови. Гарольд Годвинсон хороший полководец и умный оратор. Я слышала, как землевладельцы говорили, что он доказал свою способность быть королем, когда согласился на мир, в то время как сражение сулило ему большую выгоду как в Уэльсе, так и в Нортумбрии. Но купцы утверждают, что Гарольда интересует только власть и богатство, что налоги будут увеличены, что он не был рожден, чтобы стать королем. Для людей, не имеющих земли и не занимающихся торговлей, это не имеет особого значения, пока они уверены, что их король — достойный человек, который не станет забирать слишком много, и они смогут кормить свои семьи, а в стране воцарится мир, чтобы сыновья и мужья оставались в живых. Джон утверждает, что острову необходим король-воин, который сможет повести за собой людей, и что сражения лучше устраивать подальше от наших полей.
Много говорят об Эдгаре Этелинге, и у людей возникает много вопросов. Сможет ли столь юный король защитить нашу землю от врагов? В Дании король-викинг Хардраад ждет смерти короля Эдуарда, а в Нормандии дожидается своего часа Вильгельм. Однако Гарольд по-прежнему не выказывает никакого интереса к Эдгару, хотя и знает, что у юноши есть союзники. Сейчас эрл Уэссекса путешествует по острову, пытаясь увеличить число своих сторонников. Те, кто настроен против него, утверждают, что он старается чаще бывать среди простых людей, чтобы они изменили мнение о нем в лучшую сторону.
Эдита не говорит о том, что не намерена хранить верность брату. Она публично поддерживает Эдгара Этелинга, словно мать — приемного сына. Эдита ведет себя мудро, и мы, ее союзники, надежно храним ее тайну. И хотя ей известны намерения Гарольда, Эдита смелая женщина и продолжает участвовать во встречах, на которых обсуждаются планы поддержки Этелинга.
Сегодня я по дороге во дворец встретила Одерикуса, но поначалу он казался смущенным и избегал смотреть мне в глаза и почти не улыбался своей обаятельной улыбкой. Он потерял невинность. Я сожалею, что не могу поведать ему о том, что мне известен источник его страданий, а еще мне хотелось сказать Одерикусу, что он человек из плоти и крови и состоит не только из души, не имеющей связей с землей. Я не сумела найти слов, которые принесли бы ему утешение, а потому спросила, как ему удалось спрятать шкатулку с мощами святого Августина. Он взял меня под руку, и мы вместе пошли по тропинке, подальше от женщин, пришедших за водой к ручью, и детей, играющих на его берегах.
Отойдя в сторону, Одерикус поведал мне, что отдал шкатулку на хранение аббату монастыря Святого Августина в Кентербери.
— Известно ли аббату, что в шкатулке больше нет мощей святого? — спросила я.
В ответ монах склонил голову, и капюшон закрыл его лицо. Довольно долго он молчал, а потом заговорил так тихо, что я с трудом различала слова его исповеди. Он положил туда кости животного. Одерикус сказал, что не смог признаться в предательстве и никому не рассказал, что вынул из шкатулки мощи святого.
Я всячески уговаривала его продолжить рассказ, так мне хотелось узнать то, что оставалось тайной для всех. Я стала исповедницей монаха. И он признался, что солгал аббату, утверждая, будто забрал шкатулку из часовни Вильгельма, поскольку считал, что совершает праведный поступок. Он поклялся аббату, что мощи использовались неправильно, что Вильгельм ценил лишь саму шкатулку, инкрустированную самоцветами и золотом, а вовсе не ее содержимое. Одерикус убедил аббата, что шкатулка и мощи должны находиться в стенах, которые благословлены самим святым.
Одерикус не стал говорить о том, что мне было и так известно, — церковь собирает богатства с таким же энтузиазмом, как любой герцог или король.
Поэтому я спросила, кто еще, кроме меня, королевы и Одерикуса, знает о договоре между Гарольдом и Вильгельмом? В ответ монах отрицательно покачал бритой головой.
Я молча смотрела на ручей, вдоль которого мы шли. Вода потемнела от холода, и я ощущала ледяной туман, висевший в воздухе. Собравшись с духом, я осмелилась спросить о гобелене, поскольку уже довольно давно не ездила в Винчестер и не навещала монахинь.
Одерикус ответил, что монахини работают быстро и молча и что они превосходно владеют иглой. Они уже почти завершили историю, остается лишь ее последняя часть. Это будет встреча Эдуарда и Гарольда после возвращения эрла из Нормандии.
Получается, что гобелен утверждает, спросила я, будто визит Гарольда в Нормандию согласован с королем?
Монах ответил, что Эдита настояла, чтобы последняя часть гобелена была именно такой. По ее мнению, это защитит их, если гобелен будет обнаружен.
Мадлен прилетела в аэропорт Гатвик во вторник, в девять часов вечера. У нее не оставалось особого выбора: все билеты на Страстную пятницу[41] были проданы.
Николас спокойно отнесся к тому, что самолет прилетает так поздно, а когда Мадлен сказала, что может доехать до Кентербери на поезде, велел ей не говорить глупостей.
— Когда вы прилетите, все бары еще будут открыты, — укоризненно сказал он.
Он ждал в зале прибытия, его черные волосы сливались с черной кожей куртки. Рост позволял увидеть его издалека.
Николас также сразу ее заметил, решительно направился навстречу, забрал сумку и поцеловал в обе щеки. От него пахло знакомым одеколоном.
— Это все ваши вещи? — спросил Николас, указывая на сумку, которую она брала с собой в самолет.
Мадлен кивнула.
— Я не люблю ждать багаж.
Николас посмотрел на часы.
— Если сумеем быстро отсюда выбраться, то еще успеем сделать заказ. По пути сюда дорога была забита. Нам лучше поторопиться.
Когда они выехали на автостраду, Николас вытащил из кармана пачку «Кэмела» и предложил Мадлен закурить. Она согласилась, и он вытряхнул из пачки сигарету для себя и нажал на хромированную кнопку прикуривателя на приборной панели. Мадлен вынула сработавшую зажигалку и поднесла ее к концу его сигареты.
— Вам удалось расшифровать руны, о которых вы рассказывали? — первой заговорила Мадлен. — Мне не терпится узнать!
— Я продвинулся совсем немного. Дайте мне время — после нашего разговора прошло всего три дня. А как ваши дела?
Он искоса посмотрел на Мадлен, и она перехватила его взгляд.
— Нормально. Я рада вернуться сюда.
— Значит, вас тянет на родину? Но ведь вы француженка!
— Я наполовину англичанка!
Николас оценивающе посмотрел на нее, и Мадлен больше ничего не сказала, неожиданно смутившись.
— Вы похожи на норманнов чертами лица и кожей, — продолжал Николас, — но волосы как у кельтов. Это все проклятые викинги — разбросали свои хромосомы по всей Европе.
Мадлен рассмеялась, втайне наслаждаясь его вниманием.
— А вы? От кого вы получили свои гены?
— От валлийцев, итальянцев и бриттов, насколько удалось выяснить. Мои родители из Уэльса. Мы до сих пор не слишком популярны среди англичан.
— Но разве король Артур не произошел от римлян и валлийцев? — поддразнила его Мадлен.
— Ну да, раз уж вы об этом вспомнили — теперь я понимаю, что между мной и Артуром должна существовать связь. Вы проницательны!
Они продолжали болтать, пока «фольксваген» не сбавил скорость перед тем, как свернуть с автострады к Кентербери. Николас снова посмотрел на часы.
— Мы быстро доехали. У нас есть полчаса. Могу я пригласить вас в мой любимый бар?
— Почему бы нет?
Дорога, ведущая в Кентербери, была пустынна, а легкая вуаль дождя придавала желтым фонарям призрачное сияние.
Николас обогнул средневековую городскую стену и въехал в старый город через Северные ворота. Они оказались в той части города, которую Мадлен знала совсем плохо, и она искала хоть какой-нибудь ориентир. В основном здесь были каменные коттеджи, но изредка попадались здания, построенные из викторианского кирпича.
— Здесь я живу, — сказал Николас, показывая на одно из таких зданий. — Раньше тут находилось старое пожарное депо, потом его перестроили. В доме много места. Я страдаю клаустрофобией в стандартных постройках — кажется, что нахожусь в кукольном домике.
Он остановил машину возле паба, который занимал угловую часть обветшалого строения. Паб назывался «Революция».
— Это независимый паб[42], его владельцы называют себя коммунистами, — заметил Николас, когда увидел, что Мадлен разглядывает название, написанное на деревянной вывеске.
Они вошли в небольшой, тускло освещенный зал. Почти все посетители были стариками. Несколько седых голов кивнули Николасу, когда он заказывал виски для Мадлен и безалкогольное пиво для себя. Один из них, с морщинистым лицом и в фуражке, с некоторым любопытством посмотрел на Мадлен, перевел взгляд на Николаса и улыбнулся своим мыслям. Зубов у него почти не осталось.
Они сели за один из пустых столиков — все посетители устроились за барной стойкой.
Мадлен подняла стакан и указала в сторону стойки.
— Странные посетители для паба с названием «Революция». Что-то я не вижу никаких признаков инакомыслия.
— Пятидесятые давно прошли.
— Значит, не хотите рассказать о документе, который нашли? Это жестоко.
— Ну хорошо, я скажу кое-что. Его автор — монах, покинувший монастырь Святого Августина в период ликвидации. Документ датирован тысяча пятьсот сороковым годом. Монастырь был распущен в тысяча пятьсот сороковом.
— Но собор не тронули?
— Нет, Генрих Восьмой сохранил несколько самых крупных соборов. Естественно, они отошли к Англиканской церкви. Аббатства и монастыри были разрушены и разворованы — камень за камнем.
— Вы хотите сказать, что монах описывает уничтожение монастырей?
— Я не уверен относительно подробностей. Но рассчитываю, что к концу недели мы сможем посмотреть документ. Две головы лучше, чем одна. Все не так уж и сложно — просто процесс расшифровки идет медленно, приходится искать значение каждой руны, в результате осмысленная фраза получается далеко не сразу.
Вскоре раздался звон медного колокольчика, возвещающего о закрытии «Революции». Мадлен больше не успела задать ни одного вопроса, и ей пришлось залпом допить остатки виски.
Николас отвез ее к дому Лидии и проводил до двери. После того как она нашла в сумочке ключи и открыла дверь, он клюнул ее в обе щеки и обещал позвонить на мобильный телефон в субботу. Он сказал, что завтра работает в архиве, но там никого не должно быть, и он не сомневается — Иисус поймет, что ему необходимо время спокойно подумать. Потом Николас уехал.
Мадлен шла по коттеджу и всюду зажигала свет, вспоминая о том, что сказала Розе — дом оказывает на нее умиротворяющее действие. Так оно и было, но теперь он казался пустым. Лидия окончательно покинула его.
В пятницу Мадлен проспала почти до полудня, а когда проснулась, отчетливо вспомнила свой сон. Ей приснилось, что принц Уильям[43] стал Эдгаром Этелингом — наследником трона в тысяча шестьдесят шестом году. Уильям-Эдгар, одетый в гетры из лайкры, выступал с кафедры Мадлен в аудитории университета в Кане. Он решил отречься от престола, заявил Уильям-Эдгар, поскольку пришел к выводу, что Виндзоры не являются истинными наследниками короны саксов. И добавил, что отправляется в Австралию, чтобы заняться серфингом.
Весь день Мадлен разбирала книги в гостиной, мучительно раздумывая над каждой — сохранить для себя или отдать на благотворительные цели. Закончив, она увидела, что стопка, отобранная для благотворительности, оказалась совсем маленькой. Что же делать с книгами, с которыми она не в силах расстаться? Конечно, можно отправить их в Кан… но Мадлен не была уверена, что хочет иметь их в своей квартире, к тому же там вряд ли хватит места. Она медленно вернула книги на полки, отложив в стопку еще одну. Единственная книга, которую Мадлен взяла себе, — тонкий томик в твердой обложке, который она открывала в день похорон Лидии, «Русская мудрость».
Мебель, хозяйственные принадлежности, гравюры и картины на стенах представляли аналогичную проблему. Мадлен пришла к выводу, что отдавать эти вещи неправильно — ведь они единственное, что осталось у нее от Лидии.
Мадлен прошлась по комнате, взяла в руки серебряный подсвечник, погладила длинные уши изящного бронзового зайца, стоявшего на каминной полке. Ее мать любила бронзу.
Затем она уселась за стол и закурила. Мадлен вспомнила, что говорил Николас, когда заходил в коттедж в день, когда они ездили в Йартон. «Тогда ничего не предпринимайте — пока». Но сколько еще можно ждать? Содержание коттеджа будет стоить ей не так дорого, да и деньги не играют особой роли. Так в чем же дело? Неужели решение судьбы коттеджа поможет ей избавиться от мучительных воспоминаний о Лидии? Нет, здесь не все так просто.
Она затушила сигарету, и в этот момент зазвонил сотовый телефон. Это был Николас.
— Привет. На сегодня с меня довольно — в подвале не работает отопление, и я уже не чувствую пальцев. Вы не против, если я заеду за вами через час? Можно поехать ко мне, и я покажу вам рунический документ. Вы не заняты?
— Нет, я уже успела неплохо поработать. Сняла все книги с полок, а потом поставила обратно.
— В таком случае вам следует побыстрее покинуть дом. Скоро увидимся.
Николас приехал меньше чем через час. Он бросил взгляд на Мадлен и сказал:
— Довольно думать. Это ничего не изменит. Поехали.
Он ведет машину с той же неторопливой небрежностью, с которой делает все остальное, подумала Мадлен, когда они ехали по узким улицам к Северным воротам. Николас не стремился заполнить молчание беседой.
Он припарковал «фольксваген» возле старого пожарного депо и заговорил, чтобы обратить внимание Мадлен на необычное явление.
— Здесь четыре квартиры, — объяснял он, пока вел Мадлен по широкому коридору с кирпичными стенами и металлической лестнице на второй этаж.
Его квартира занимала половину второго этажа — похожая на пещеру комната с кухней в одном конце и мезонин в другом. Туда можно было подняться по крутым деревянным ступенькам. Из окон открывался превосходный вид на город.
Полы были деревянными, из широких планок, напоминающих дуб, мебель самая обычная, но подобрана со вкусом. Низкий кофейный столик из мексиканской сосны и старый персидский ковер. Возле одной из стен стояли полки из той же мексиканской сосны, а на них современная стереосистема с двумя большими колонками и многочисленными рядами компакт-дисков.
Комната была залита бледным солнечным светом, проникающим сквозь длинные окна южной стены.
Николас сбросил кожаную куртку и протянул руку, чтобы взять длинное пальто Мадлен. Он положил его на спинку стула и сразу же направился к полкам. Мадлен последовала за ним, чтобы рассмотреть стереосистему, устроившуюся на них, как на троне. Это была изящная блестящая коробка — бледное золото с серебром, вдоль основания шла надпись: «Бэнг энд Олуфсен».
— Серьезный аппарат, — с благоговением сказала Мадлен.
— Необходимость.
Николас без колебаний достал компакт-диск «Зов лодочника». Он знал, что искать.
— Хотите пива? Или у меня есть кое-что получше — «Обан»[44]. Чистый солод. А может, водки?
Он пересек комнату и остановился перед светлым шкафом, стоящим возле кирпичной кухонной стены.
Мадлен выбрала виски, хотя давно уже предпочитала водку, поскольку в ее сознании она ассоциировалась с Питером. Пора было что-то менять.
— Вы владелец этой квартиры? — спросила Мадлен.
— Я собираюсь ее купить, потому что решил остаться в Кентербери. Я сыт Лондоном по горло.
— А вам удастся найти здесь постоянную работу?
Николас пожал плечами.
— Я могу путешествовать. У меня есть убежище в Северном Лондоне. Можно остановиться у друга.
У женщины, сразу же подумала Мадлен.
— Так вы хотите увидеть документ? — спросил Николас, направляясь к низенькому антикварному серванту, заполненному книгами и бумагами.
Он взял плоскую картонную коробку и аккуратно вынул оттуда пластиковый футляр с документом. Прихватив пару учебников, он перенес это все на кофейный столик.
Мадлен уселась на пол, положив локти на столик. Она молча смотрела, как тонкие пальцы Николаса разглаживают на столе пергамент.
— Мне не следовало уносить его домой. Я нарушаю закон, забирая из архива документы. Но я решил, что как исследователь имею на это право.
Пока Мадлен разглядывала пергамент, он открыл один из учебников.
Пергамент был исписан красивым почерком, но не каллиграфической латынью, которую монахи использовали для летописей. Руны были одинакового размера и располагались так близко друг от друга, что ей с трудом удавалось отличить одну от другой. Наверху и внизу страницы была нарисована одна и та же руна, но Мадлен не сумела ее понять. Больше никаких украшений на документе не было.
Верхняя половина страницы была плотно заполнена рунами, а ниже шли стихи. Диковинные строки могли быть написаны существами с другой планеты, настолько непонятными они были.
Сами руны были простыми угловатыми символами — тот же мистический алфавит, который использовали для украшения оригинальной обложки «Властелина колец». Очевидно, Толкиен относился к темным силам со всей серьезностью.
Мадлен узнала несколько рун, знакомых ей благодаря разговору с Евой, но не сумела понять их смысл в данном контексте тайного языка.
Тем временем Николас открыл второй учебник, также положив его на кофейный столик.
Он поднял взгляд и указал на строку рун в середине пергамента.
— Я сумел добраться до этого места.
Он вытащил из учебника лист бумаги и положил его перед Мадлен.
У Николаса оказался косой узкий почерк. Графолог сказал бы, что в его характере присутствует анархия.
В год тысяча пятьсот сороковой от Рождества Господа нашего люди короля Генриха потребовали сдать аббатство Святого Августина.
Мы, братья Кентербери, бессильно наблюдали, как другие монастыри либо сдаются на милость короля, либо монахов изгоняют из них силой оружия. Люди из Гластонбери рассказывали, что тамошнее аббатство было разрушено, потому что монахи отказались подчиниться приказу Генриха. Многие из моих братьев бежали, не желая становиться подданными короля, они хотели подчиняться лишь Папе.
И я не отрекаюсь от своего Бога из-за тех, кто стремится к власти. Разве Сын Божий не простил торговцев в храме? И все же, когда в Кентерберийском соборе была уничтожена усыпальница Томаса Беккета, я молился о прощении тех, кто совершил сей страшный грех осквернения. В освященных останках, избранных Богом, проявляется Его Дух, и, как Его священник, я клянусь защищать все святое.
С болью в сердце наблюдал я за уничтожением священных построек аббатства Святого Августина, видел, как горят деревянные потолки в огромных кострах, так похожих на адово пламя. Длинные огненные языки лизали железные котлы, шипел плавящийся свинец в помещении, где мы переписывали рукописи, и в часовне — металл плавили, чтобы потом продать. Эти здания будут разрушены, а утварью, мебелью и одеждой из аббатства уже торгуют, как на рынке. Люди покупают кастрюли из нашей кухни и ткани, вышитые в нашей мастерской. Король Генрих обменивает имущество церкви на золото, необходимое для ведения войны за новые земли.
Закончив читать, Мадлен сияющими глазами взглянула на Николаса. Некоторое время она ничего не могла сказать.
— Я испытал похожие чувства. И сейчас испытываю, — сказал он, широко улыбаясь. — Вероятно, существуют и другие такие же документы. Мне и раньше попадались рунические записи, но никогда не возникало желания проводить столько времени, пытаясь их расшифровать. Сначала я зашел в тупик, поскольку взял не ту книгу, и мне никак не удавалось понять, почему некоторых символов нет в том алфавите, которым я пользовался. Теперь выяснилось, что это алфавит саксов — в нем есть несколько лишних букв по сравнению с оригинальным немецким. Но я не стану утомлять вас подробностями. Так или иначе, но нам предстоит долгая работа.
Николас расшифровал более половины рунического текста, не считая стихов — если это были стихи.
На расшифровку последней части коротких хроник кентерберийского монаха ушел остаток дня, большая часть вечера и полбутылки «Обана». Им очень хорошо работалось вместе — оба молчали, полностью погрузившись в перевод, по очереди работая с учебником и очередной строкой рун.
Но последние несколько строк привели обоих в недоумение. Если это были стихи, то их записали с использованием какого-то шифра или же автор был пьян. Выглядело это полнейшей абракадаброй — набор непонятных и непроизносимых слов.
Однако вторая половина переведенного текста имела вполне определенный смысл:
Я согласился занять пост главного представителя короля Генриха в маленьком приходе, где церковь не уничтожили. Я не могу отказаться от сутаны и не стану стыдиться бритой головы. И приму условия новой церкви, когда они будут объявлены.
Когда рушился мой дом — Кентерберийское аббатство, я пытался не предаваться печали и не считать разборку камней и дерева осквернением святынь — ведь это всего лишь здание.
Многие сокровища аббатства Святого Августина находились в хранилищах собора. Именно туда сразу же направились люди Генриха. Они потребовали опись, чтобы король, когда приедет взвешивать золото, мог быть уверен, что получил все.
Однако наш аббат обладает быстрым умом, и он придумал, как сохранить немногие сокровища, не попавшие в опись. Отправляясь в свою новую церковь, я незаметно увез с собой величайшее из них. То, что никогда не должно быть расплавлено для получения денег, которые будут потрачены на войну.
Затем шла подпись: Иоганнес Корбет.
Они довольно долго сидели молча.
Потом Николас взял бутылку с «Обаном» и посмотрел на Мадлен, вопросительно приподняв бровь. Она кивнула, и он налил виски в пустой стакан.
— Интересно знать, что же это такое — «То, что никогда не должно быть расплавлено для получения денег, которые будут потрачены на войну»? Вероятно, нечто чертовски священное.
Мадлен рассмеялась.
— Звучит кощунственно.
— Нельзя совершить кощунство, если не веришь в святость предметов или человеческих останков, — мгновенно последовал ответ.
— Согласна. Но средневековая церковь относилась к этому очень серьезно. Святые являлись сосудами божественной благодати. Так что их останки становились носителями святости в физическом мире. Именем таких мощей приносились клятвы.
Мадлен не стала упоминать о клятве Гарольда и Вильгельма, изображенной на гобелене Байе. Ей хотелось еще раз взглянуть на него и более тщательно изучить после перевода описания встречи Леофгит с Одерикусом.
Николас бросил на нее странный взгляд, и Мадлен испугалась, что могла произнести последнюю фразу вслух, не отдавая себе в этом отчета.
— Так вот как вы себя ведете на лекциях? — спросил Николас, и в его глазах появился хитрый блеск.
— Извините, иногда я обо всем забываю.
— Продолжайте в том же духе! — Он поднял бокал. — Это поможет. Когда вам нужно вернуться в Кан?
— В среду. Я взяла дополнительный выходной. Хочу съездить в Лондон.
— Есть причина?
Мадлен охватили сомнения.
— Вы не должны отвечать, — спокойно сказал Николас.
— Ничего личного. Я намерена зайти в Государственный архив в Кью. Меня интересует оригинал завещания. Помните, я рассказывала вам об исследовании моей матери?
Он кивнул.
— Она побывала в архиве и сделала копию завещания семнадцатого века. Я бы хотела увидеть оригинал.
— Фамильная история?
— Да.
И вновь Мадлен захотелось поведать Николасу о дневнике. Она уже открыла рот, собираясь рассказать о нем, но в последний момент передумала. Какой-то невидимый страж охранял дневник, и он вновь помешал ей заговорить, хотя ужасно хотелось. Николас заметил ее колебания.
— Вы хотите что-то сказать?
— Ничего особенного. Можно мне сделать копию предполагаемого стихотворения? Думаю, если займусь им более плотно, то увижу какой-нибудь смысл.
— Не возражаю. Но помните, что это секретные материалы!
Мадлен улыбнулась и кивнула, но не сумела сдержать зевок. Николас встал и потянулся. Потом он снял очки и рассеянно провел ладонями по густым черным волосам, глядя в окно.
— Вы только посмотрите, какая луна!
Николас надел очки. Мадлен проследила за его взглядом.
Золотой серп луны поднялся над силуэтом города — прямо над шпилем собора. Луна испускала призрачный свет, и черный шпиль собора протыкал бледный нимб.
Этот памятник уже стоял, когда в семнадцатом столетии монах писал свои рунические хроники, — его построили в одиннадцатом веке. Дети Леофгит могли быть свидетелями строительства Вестминстерского аббатства. И его шпиль до сих пор возвышался над Кентербери.
Николас подошел к окну, Мадлен последовала за ним.
Встав рядом, она посмотрела на луну, чувствуя, что близость его тела и запах начинают туманить ей мысли. «Кажется, такого со мной еще не было», — подумала Мадлен. Когда пьешь много хорошего виски, единственная проблема — опьянение. Оно не было неприятным, но Мадлен старалась помнить, что именно алкоголь оказывает на нее такое действие, а вовсе не близость тела Николаса. Она вдруг представила себе, как протягивает руку и касается его кожи — в том месте, где голубой хлопок рубашки выбивался из-под ремня темных джинсов.
Он посмотрел на нее, но Мадлен не сводила глаз с луны.
— Хотите есть?
Мадлен кивнула. Упоминание о еде заставило ее почувствовать, что она ужасно проголодалась.
— Купим что-нибудь готовое?
Николас покачал головой.
— Нет, я хочу приготовить для вас ужин.
Он перешел в кухню, а Мадлен устроилась на старом диване с учебником о рунах в руках.
— Здесь написано, что существовало несколько магических шифров, при помощи которых авторы старались скрыть смысл рунических текстов. Обычно одну руну заменяли другой, но иногда использовали целую группу символов. — Мадлен немного помолчала. — Похоже, количество возможных комбинаций бесконечно.
Николас рассмеялся.
— Пусть это вас не останавливает! — Он подошел к Мадлен с тарелками и столовыми приборами в руках и поставил их на кофейный столик. — Я приготовлю спагетти, надеюсь, у меня получится.
Спагетти Николаса оказались превосходными — много оливок, чеснока и средиземноморских овощей, а еще он добавил пармезан.
После ужина Николас сварил кофе и включил музыку — это была женская оперная ария. Мадлен вновь удобно устроилась на диване и закрыла глаза, полностью погрузившись в музыку. Открыв их, она обнаружила, что Николас смотрит на нее.
— Вы очень устали, Мадлен. Мне кажется, вы слишком много работаете. Вызвать такси?
На нее внезапно навалилась усталость, и она кивнула.
ГЛАВА 12
Поездка на поезде из Лондона в Кентербери заняла меньше часа. К счастью, по случаю первого понедельника после Пасхи[45] рейс не отменили. Николас предупредил ее относительно английской железнодорожной системы — точнее, полного ее отсутствия.
Путешествие получилось совсем коротким, но Мадлен успела вспомнить события проведенных в Кентербери выходных.
Рунический документ, который они перевели вместе с Николасом, и та его часть, которую Николас перевел сам, преследовали Мадлен. Она представляла себе, как разрушали огромное средневековое аббатство; монахи бежали или меняли коричневые сутаны на обычную одежду. А некоторые, как Иоганнес Корбет, перешли в англиканскую веру.
Мадлен тряхнула головой, отгоняя эти видения, а потом задумалась о Николасе. Когда она, засыпая на ходу, садилась в такси, ни один из них не упомянул о следующей встрече.
В воскресенье она спала, курила, пила кофе и читала газеты. Солнце успело сесть, но Мадлен даже в голову не пришло снять халат. А потом в дверь позвонили — на пороге с пакетом в руке стоял Николас.
В первое мгновение Мадлен ужасно смутилась, вспомнив, что она совершенно голая под пурпурной тонкой фланелевой тканью.
— Вам идет этот цвет, — сказал он, и его взгляд скользнул по халату.
— Вы застали меня не в самом лучшем виде. Заходите, а я переоденусь.
Николас молча прошел в гостиную, но Мадлен показалось, что она заметила, как по его губам промелькнула озорная улыбка.
Мадлен оставила его на первом этаже, а сама принялась искать в своем маленьком чемоданчике что-нибудь приличное. Она остановилась на черных брюках и коричневом свитере с высоким воротом.
Когда она спустилась, Николас листал один из тяжелых томов истории Тюдоров из библиотеки Лидии.
— Я искал что-нибудь о ликвидации монастырей, — сказал он.
— Я уже это делала.
— Ничего нет?
— Кое-что нашла, но совсем немного.
Он кивнул, а потом поднял пакет, который принес с собой. Там были булочки с изображением креста[46] и плитка бельгийского шоколада.
— Сегодня Пасха, — сказал он. — Выходит, я пасхальный заяц.
Они разговаривали, пили кофе и ели шоколад. Николас расспрашивал про Лидию, и Мадлен, неожиданно для себя самой, заговорила о матери, не чувствуя мучительных спазмов в горле. Боль стала слабее, поняла она.
Мадлен попросила Николаса рассказать о своей семье. У него есть сестра, ответил он. Именно у ее любовника он останавливается, когда приезжает в Лондон. Сестра и ее любовник живут отдельно, объяснил Николас, — у сестры крошечная квартирка на Рассел-сквер, где для него попросту нет места.
— А вам необходимо много места, как в амбаре? — с усмешкой осведомилась Мадлен.
— У нее кукольный домик, а не квартира, — ответил Николас.
Значит, в Лондоне Николас останавливается не у женщины! Ни о чем другом Мадлен думать не могла.
Его родители живут в Северном Уэльсе, на маленькой ферме. Иногда он их навещает — когда заканчивается одна работа, а другая еще не началась.
Николас ушел довольно рано.
— Завтра на работу, — объяснил он, надевая куртку.
Мягкая кожа хорошо сидела на его широких плечах.
— Вероятно, мы не увидимся до вашего отъезда в Лондон. Не будем терять связи, ладно?
А потом он ее поцеловал — на этот раз в губы — и коснулся пальцем лба в прощальном салюте.
Все произошло очень быстро.
Мадлен стояла в дверях и смотрела, как Николас отпирает дверь своего маленького автомобильчика. Перед тем как сесть в машину, он посмотрел на нее и улыбнулся.
— Черное вам тоже к лицу.
«Если бы Николас был французом, — подумала Мадлен, закрывая дверь, — он наверняка попытался бы затащить меня в постель». Интересно, как бы она отнеслась к его попытке? По крайней мере, раздражения она бы у нее не вызвала.
После того как Николас уехал, Мадлен позвонила Дороти Эндрюс — школьной подруге Лидии, жившей в Лондоне. Дороти обрадовалась, что Мадлен приедет в Лондон, и спросила, где та намерена остановиться. Мадлен собиралась снять на ночь номер с завтраком в каком-нибудь маленьком отеле в центре — в Кан ей предстояло возвращаться во вторник вечером. Дороти даже слышать об этом не хотела и уговорила Мадлен переночевать у нее. Они договорились встретиться на вокзале Паддингтон.
Когда поезд подходил к платформе, Мадлен посмотрела в окно и сразу же узнала изящную фигуру Дороти, чьи ухоженные черные волосы украшала белая меховая шапочка, хотя было не так уж холодно.
Когда Мадлен вышла из вагона, Дороти поспешила к ней, и они обнялись, как старые друзья. От Дороти пахло дорогими духами, а шерстяное пальто, похоже, было из кашемира.
— Мадлен! Как я рада тебя видеть! Чего ты хочешь — выпить чаю или сначала отвезем твои вещи? Потом мы можем поужинать. Да, пожалуй, так и сделаем. Ты выглядишь немного усталой.
Голос Дороти звучал успокаивающе — низкий, немного хрипловатый и уверенный, и Мадлен вдруг почувствовала облегчение. Она позволила отвести себя к стоянке такси.
Такси привезло их в Челси, к дому в георгианском стиле неподалеку от популярного торгового района на Кингз-роуд. Мадлен попыталась заплатить за такси, но Дороти решительно отодвинула ее в сторону и щедро дала водителю на чай.
Вероятно, она может себе это позволить, подумала Мадлен, стоя на крыльце, пока Дороти открывала белую дверь, украшенную блестящей медью.
Дом поражал прекрасным интерьером. Впрочем, стиль показался Мадлен слишком выдержанным и строгим. Все цвета были кремовыми, бежевыми и золотыми, начиная от ковров и обивки и кончая шелковыми абажурами светильников. Интересно, откуда они у Дороти, промелькнуло в сознании Мадлен.
Комната для гостей больше напоминала номер в дорогом отеле — здесь даже имелась роскошная ванна, украшенная золотыми дельфинами.
Дороти перехватила мечтательный взгляд Мадлен, направленный в сторону ванны.
— Может, хочешь немного расслабиться, Мадлен? Почему бы тебе не принять ванну? У меня есть чудесная розовая пена для ванны. Спустишься вниз, когда закончишь.
Она ушла, и Мадлен оглядела комнату. Кровать была огромной — полированное красное дерево, безупречно белое покрывало. Окно выходило в длинный узкий садик — нечто вроде миниатюрного Версаля с живой изгородью и ухоженными лужайками, вокруг небольшого пруда копии статуй эпохи Возрождения. Летом сад наверняка выглядел восхитительно.
Когда Мадлен вышла из ванной, завернувшись в одно из мягких полотенец Дороти, то чувствовала себя превосходно. От ее тела исходил сильный запах роз. Мадлен надела черные брюки, сапоги и темно-зеленую шелковую рубашку, которую взяла с собой на всякий случай — вдруг ей нужно будет выглядеть прилично. Теперь она могла вздохнуть с облегчением — ей трудно было представить себя небрежно одетой рядом с Дороти.
Хозяйка дожидалась Мадлен, сидя на кожаном диване песочного цвета. В руке она держала бокал. Мадлен решила, что Дороти пьет джин с тоником. Она сняла роскошное пальто — оказалось, что на ней надет чудесный темно-бордовый костюм. На нейтральном фоне дивана Дороти напоминала экзотическое существо посреди пустыни.
Мадлен вошла, и Дороти подняла голову.
— Тебе очень идет этот цвет. Знаешь, ты так похожа на Лидию, какой она была перед тем, как отправилась в Париж и познакомилась с Жаном. Конечно, тогда она была моложе, чем ты сейчас. — Дороти вздохнула. — Я до сих пор не могу поверить… должно быть, тебе сейчас очень трудно.
Она улыбнулась и с преувеличенным оживлением сказала:
— Ну что, теперь поужинаем?
Дороти не сомневалась в том, что Мадлен согласится, поэтому предложила поесть в маленьком ресторанчике на Кингз-роуд.
В ресторан они отправились пешком. Они вошли в изысканное заведение, отделанное светлым деревом и хромом, и посетители ресторана, даже несмотря на праздничный день, показались Мадлен довольно состоятельными людьми. За ужином они говорили о Лидии — о ее жизни, а не о смерти, естественно. Мадлен задавала вопросы, и Дороти охотно делилась воспоминаниями. По обоюдному молчаливому согласию они посвятили этот вечер ей. Мадлен интересовалась жизнью юной Лидии, какой ее знала Дороти после того, как они закончили школу и обосновались в Лондоне.
— Для нас шестидесятые годы были полны приключений. Конечно, в большей степени для меня, чем для Лидии, — с улыбкой сказала Дороти и сделала пару глотков шардонне из высокого бокала. — У меня было много поклонников, но твоя мать не интересовалась вечеринками и танцами так, как я. И дело вовсе не в том, что у нее был недостаток в кавалерах: Лидия была очень красивой, волосы как на картинах прерафаэлитов — они перешли к тебе по наследству — и некоторая… отстраненность.
Лицо Дороти смягчилось, когда она вспомнила молодую Лидию, и сквозь маску дорогого макияжа Мадлен увидела глубокую печаль.
— Это нравилось мужчинам, но Лидия не пыталась быть таинственной, просто она вела себя естественно. Я пыталась пристрастить ее к курению марихуаны, уговорить остаться у меня на ночь, но она предпочитала спать в своей маленькой комнатке. Слушать Боба Дилана и читать книги. Почему ты улыбаешься?
— Потому что у меня есть подруга в Кане, которая почти наверняка описала бы меня так же, как вы — мою мать, хотя я нечасто слушаю Дилана.
— О да. Она знала, что ты на нее похожа. И тревожилась из-за тебя. Ты помнишь, что она навещала меня несколько месяцев назад? Мы прекрасно провели пару дней, болтали о старых добрых временах. Но Лидия говорила и о тебе. Она очень хотела, чтобы ты была счастлива.
— А она… как вы думаете, она знала, что я…
Мадлен не могла произнести свой вопрос вслух. Он был глупым и неуместным. От вина у нее слегка кружилась голова.
Дороти посмотрела на нее, и в ее накрашенных глазах Мадлен увидела сочувствие.
— Моя дорогая, мать всегда знает, что ребенок ее любит. — Она наклонилась над столом, словно старалась подчеркнуть важность своих слов. — Как и ты знаешь — несмотря на все свое горе, — что она тебя любила. Очень сильно любила, Мадлен. У меня нет детей. И я не особенно об этом жалею — моя жизнь была полна событиями, а богатый бывший муж оплачивает мои счета. Я сама выбрала свою судьбу, но я восхищалась Лидией, сделавшей другой выбор. Я знала, что она покинет Англию — она думала об этом еще тогда, когда мы учились в школе. Как говорится, она слышала бой другого барабана.
— А она упоминала об отце во время вашей последней встречи?
— Да, сказала пару слов. Она видела свой брак таким, каким он и был, — попыткой спасения. Как многие женщины нашего поколения, мы с Лидией полагали, что только мужчина может сделать жизнь полной. Для нее имела значение эмоциональная сторона, для меня материальная. Она была романтиком. А ты?
Вопрос Дороти застиг Мадлен врасплох. Могла ли она считать себя романтиком? Да, так было прежде, когда она надеялась, что кто-то сможет предложить ей близость, дружбу и понимание. Но сейчас она думала иначе. Точнее, больше не стремилась к этому. У нее промелькнула мысль о Николасе, и Мадлен слегка вздрогнула. У их отношений не могло быть будущего. Они жили на разных континентах, более того, в разных мирах. Но так ли это? В культурном отношении — да, но она ощущала понимание со стороны Николаса, кроме того, он был ей близок. Может, это и есть духовное родство? Она тряхнула головой, стараясь избавиться от этих мыслей.
Дороти посмотрела на Мадлен, положила суповую ложку, взяла бокал и поднесла к губам, не сводя глаз с ее лица.
— У тебя есть любовник? Надеюсь, тебя не смущает столь личный вопрос?
Мадлен рассмеялась.
— Вовсе нет. Я с удовольствием с вами разговариваю, правда. У меня нет любовника. — И, к собственному удивлению, добавила: — Я познакомилась с одним человеком… в Кентербери, но нас не связывают… романтические отношения. По-моему.
Она покраснела и посмотрела на нетронутую тарелку с супом.
Дороти протянула руку и слегка коснулась волос Мадлен.
— Если этому суждено случиться, значит, так тому и быть. Живи свою жизнь — так я часто говорю себе. Наслаждайся жизнью, Мадлен. Вот чему может научить нас обеих смерть Лидии — она жила полной жизнью, именно такой жизни хотела и для тебя.
Дороти подняла бокал, и они с Мадлен чокнулись.
— За Лидию, — сказала Дороти. Мадлен ничего не смогла ответить.
Во вторник утром Мадлен ушла еще до завтрака в Сохо, на который собиралась Дороти, чтобы с кем-то встретиться там. На прощание Мадлен обещала, что обязательно навестит Дороти, когда в следующий раз будет в Англии.
Перед тем как сесть в такси, Мадлен оглянулась, чтобы в последний раз взглянуть на изящный дом в георгианском стиле. Дороти стояла в дверях, ее макияж, как обычно, был безупречен. Шерстяной костюм цвета слоновой кости выгодно подчеркивал превосходную фигуру. Она послала воздушный поцелуй, и Мадлен помахала рукой в ответ.
Дороти не советовала ей пользоваться метро или поездом, который останавливался в Кью-Гардене, где находился Государственный архив.
Мадлен смотрела в окно, когда они проезжали по пригородам, а потом по улицам центральной части Лондона. Она понимала, почему Николас не хочет жить в этом городе — завораживающем и живом, но слишком шумном и грязном.
В Кью было красиво — небольшие дома и необычные сады, в отличие от слишком консервативных и ухоженных садов в Челси, но над головой постоянно летали самолеты, приземляющиеся в Хитроу. Мадлен успела увидеть три низко летящих пассажирских лайнера, прежде чем водитель остановил такси перед большим роскошным викторианским зданием. Его с двух сторон окружали уродливые цементные строения нового торгового центра. Плата за такси оказалась огромной, но приятное путешествие того стоило.
— Это ИКВН[47],— сказал водитель, кивая в сторону здания. — Контроль за налогами.
Его передернуло от отвращения.
— Вам туда не надо. Архив находится за этим зданием. Не могу подъехать, извините. Удачи, милая.
И он уехал.
Мадлен подошла к зданию ИКВН в поисках знака, который направил бы ее в сторону архива. Может быть, это небольшое здание, которое скрывается за монстром, похожим на плетеную корзину, который построил человек с большим количеством денег и полным отсутствием вкуса.
Мадлен нашла лишь две надписи — «Погрузка» (интересно, что они грузят — налоговые декларации?) и «Администрация». Она посмотрела налево и только теперь заметила проход и маленький белый плакат со стрелкой, направленной в сторону задней части ИКВН, — ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ.
Она едва не рассмеялась, когда увидела здание, в котором находился национальный архив. Монолит постройки семидесятых годов двадцатого века — коричневый бетон и затемненные стекла. Мадлен показалось абсурдным, что в архиве могут быть такие стекла.
Перед комплексом находилось искусственное озеро, по которому скользили три огромных белых лебедя. Дорогие стеклянные двери главного входа венчал ряд панелей из витражного стекла; абстрактный яркий рисунок плохо сочетался с тусклыми окружающими красками.
Приемная напоминала собор — небольшой ряд письменных столов с компьютерами казался крошечным из-за высоченных потолков. Каблуки Мадлен звонко застучали по полированному полу, когда она подходила к столам, и этот звук прокатился по всей комнате.
За компьютерами сидели пожилой мужчина и молодая хорошенькая девушка. Мадлен подошла к ней, и девушка подняла на нее взгляд.
— Я не бывала здесь прежде и не совсем уверена, как…
— Вы ищете что-то определенное? — прервала ее девушка, всем своим видом показывая, что происходящее ей смертельно наскучило.
Что происходит с английскими женщинами, которые работают в архивах? Неужели никто не затаскивает их в постель?
— Да, я ищу завещание. Дело в том, что я…
— У вас есть какие-нибудь документы? Сначала вам нужно получить пропуск в архив. Затем можно принять участие в ознакомительном туре. Он начнется через пятнадцать минут. Вам придется сесть за компьютер и заполнить необходимые анкеты, а потом возвращайтесь, пожалуйста, сюда.
Она вновь обратилась к прежней работе, а обиженная Мадлен направилась к свободному компьютеру.
Ознакомительный тур, как она очень скоро поняла, был просто необходим. Вместе с небольшой группой других посетителей ее провели мимо интернет-кафе, ресторана, магазина и центра посетителей, а затем мимо охранника наверх, на второй уровень.
Мадлен показалось, что гид заговорил на иностранном языке, когда принялся рассказывать, как следует проводить исследования, начиная с «Группы алфавитных каталогов», затем шли «Отдел научных запросов», «Комната для просмотра микрофильмов», «Комната для чтения документов», «Комната карт» и «Место сбора документов». Все было проиндексировано, пронумеровано, отмечено буквами в каталоге. И правильно, ведь здесь хранились документы, охватывающие тысячелетний исторический период, — рождения, смерти, браки, военные архивы, деловые и личные документы, завещания, сведения об образовании… объем информации был поистине огромен.
Мадлен решила не пользоваться полученными инструкциями, а сразу же направилась в отдел научных запросов. Она всегда могла сделать вид, что ее английский оставляет желать лучшего. Ей не хотелось провести здесь целый день — архив напоминал мавзолей. В некотором роде так оно и есть, подумала она.
Здесь к ней проявили гораздо больше интереса, чем на входе, хотя поведение дергающегося молодого человека в пурпурном галстуке и совершенно не подходящем к нему пестром жилете, застегнутом на все пуговицы, походило на поведение дикого животного, попавшего в свет автомобильных фар. Довольно смелое одеяние для человека, который с трудом подавил желание спрятаться за письменным столом, завидев вошедшую женщину. Казалось, Мадлен, не успев раскрыть рта, уже заставила его ужасно нервничать.
— Мне нужно найти семейное завещание, — сказала Мадлен.
— Так, — сказал он с фальшивой бравадой. — До тысяча восемьсот пятьдесят девятого года или после?
— До. Полагаю, оно датировано серединой шестнадцатого века, хотя я видела только одну страницу, а потому не знаю точной даты.
— Вы уже его видели?
— Я видела копию.
— Так. Вот что вам нужно сделать — пройти туда, через индекс…
Мадлен перебила его, специально спотыкаясь на некоторых словах.
— Проблема в том, что у меня жуткий английский и читаю я совсем плохо. Нельзя ли сделать это как-нибудь побыстрее?
Она широко распахнула глаза, делая вид, что ужасно расстроена.
— Так. Середина шестнадцатого века — до официального утверждения завещания еще далеко, тогда завещаниями занимались церковные суды.
Он забормотал что-то о занесенных в каталог завещаниях, правилах утверждения и все это время отчаянно крутил в руках ручку.
Сначала Мадлен решила, что он пытается произвести на нее впечатление, а потом поняла, что он просто рассуждает вслух.
— В каком суде было признано завещание? — наконец спросил он, глядя на нее широко раскрытыми глазами.
— Что? — Мадлен не пришлось особенно прикидываться, чтобы продемонстрировать полное непонимание.
— Где было составлено завещание — давайте начнем с этого.
— В Кенте.
— То есть в Прерогативном суде Кентербери. Естественно, оно было на латыни — тогда большинство завещаний писали так.
— Нет, я видела фотокопии оригинала — завещание написано на английском языке времен королевы Елизаветы.
— О, значит, ваш предок был грамотным?
— Она.
— Она? Это необычно, поскольку они — я хотел сказать, женщины — в шестнадцатом веке редко умели читать и писать.
Мадлен улыбнулась. Ей хотелось сказать этому стеснительному юноше, что среди ее предков была женщина, которая жила еще на пятьсот лет раньше и знала грамоту, но промолчала.
— Оригинал завещания должен находиться на хранении в Хайесе. Только на оригинале есть подпись, и у нас уйдет три дня на то, чтобы получить для вас завещание. Но мы можем сделать копию.
— Женщина, написавшая завещание, управляла компанией.
— Документы компании не являются достоянием граждан. Как звали вашего предка?
— Элизабет Бродье.
— Я позабочусь, чтобы ваш запрос был зафиксирован.
Он встал из-за стола, нечаянно сбросив на пол кипу бумаг, и принялся их собирать, а Мадлен сделала вид, что ужасно заинтересовалась стоящими на полках документами и не заметила его неловкости.
Мадлен пришлось довольно долго ждать возвращения архивариуса, но ее ожидание было вознаграждено — в руках он нес плоскую коробку из жесткого картона.
Он вытащил из коробки такой же хрупкий пергамент, как и тот, что она совсем недавно изучала в квартире Николаса.
— Видимо, было сделано несколько копий. Такое впечатление, что у нас не одна, — сказал архивариус, ловко, но осторожно вынимая один из листов пергамента и выкладывая его перед Мадлен на крышку коробки.
Документ был написан по-латыни аккуратным каллиграфическим почерком, но не рукой Элизабет Бродье. Перед Мадлен лежала опись — какие-то предметы домашнего обихода: гобелены, столовое серебро, мебель.
Каждая страница была в трех экземплярах.
Мадлен просмотрела один лист за другим — списки самоцветов и платьев, лошадей, карет и домов. Несомненно, речь шла об имуществе очень богатой женщины. Но если все завещание было скопировано на латинском языке, то должна быть и заключительная часть, которую постарались не показывать любопытным судебным писцам. По мере того как содержимое коробки подходило к концу, надежды Мадлен таяли.
Архивариус принял близко к сердцу огорчение Мадлен и пытался придумать, что сказать, чтобы хоть как-то ее утешить.
— Вы сказали, что видели фотокопию?..
Мадлен кивнула.
— Сюда приходила моя мать. Может быть, она просила показать ей оригинал завещания…
Архивариус нахмурился и принялся крутить свою ручку.
— Как давно она приходила?
— Точно не знаю. Дело в том, что она недавно умерла.
Архивариус снова встал. Казалось, он был на все готов, чтобы помочь Мадлен. Его угловатая фигура не слишком подходила для роли спасителя, но он был полон решимости.
— Подождите минутку, — пробормотал он и быстро ушел.
Словно рыцарь в блистающей броне, он вернулся с другой коробкой, очень похожей на первую, и поставил ее перед Мадлен.
— Оригинал. Его еще не отослали обратно. Такое иногда случается, — радостно заявил он.
Мадлен подняла крышку плоской картонной коробки и сразу же поняла, что видит почерк Элизабет Бродье. Первые страницы содержали ту же опись, а на дне коробки лежал еще один лист пергамента. Он начинался с описания посещения Семптинга монахиней Тересой из Винчестера.
Лидия читала это, подумала Мадлен, глядя невидящими глазами на бесконечные ряды папок с документами, выстроившихся за спиной архивариуса. Лидия запросила оригинал завещания из Хайеса и сделала с него копию.
Архивариус вежливо кашлянул.
— Вы именно это искали?
Мадлен заморгала.
— Да.
Она с улыбкой поблагодарила архивариуса и встала, а он радостно и смущенно заулыбался в ответ.
Когда Мадлен возвращалась обратно через лабиринт бесконечных полок с документами туда, где еще оставались признаки жизни, ей стало интересно: обращался ли за пятьсот лет кто-нибудь, кроме нее самой и Лидии, с просьбой посмотреть завещание? Быть может, таких людей вовсе не существовало и завещание лежало в хранилище прихода среди других документов до тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года, когда викторианская администрация решила навести порядок и создать центральный архив британских документов? Рунический шифр избежал такой участи, как и множество других запыленных манускриптов, таящихся в местных архивах. Сколько забытых и потерянных документов прячут секреты прошлого? Должно быть, это здание таит множество таких тайн.
Погрузившись в размышления, Мадлен спустилась в центр для посетителей на первом этаже и попала в небольшой музей манускриптов, хранящихся под застекленными витринами. Здесь находился оригинальный судовой журнал мятежа на «Баунти», а также целая витрина, за которой была выставлена копия завещания Шекспира. «Самое знаменитое завещание» — гласила надпись над ним.
К центральному залу примыкало небольшое, тускло освещенное помещение, где стоял огромный шкаф. На одной из стен висела знакомая картина — одна из частей гобелена Байе. Но это была лишь копия, указывающая на то, что здесь хранится очень древний документ. На полках шкафа лежали четыре массивных открытых тома — оригинал «Книги Страшного суда». В ней Вильгельм Завоеватель перечислил свои новые владения в Англии. Мадлен вспомнила совет Джоан — проверить, нет ли в «Книге Страшного суда» сведений о семейных связях, которые могли уходить корнями в далекое прошлое. Быть может, семья Леофгит попала в список? Книга была написана в восьмидесятых годах одиннадцатого века. Однако новый король был заинтересован в обретении земель, а Леофгит и Джон не являлись землевладельцами. Она пообещала себе проверить это, но надежды на успех было мало.
Выйдя на улицу, Мадлен вдохнула свежий воздух раннего апреля и уселась на деревянную скамейку возле озера, наблюдая за лебедями, скользящими по гладкой поверхности воды. В небольших бетонных коробках, расставленных вдоль искусственных берегов, росли белые нарциссы. Странное окружение для здания, где хранятся древние манускрипты.
В центре для посетителей Мадлен прочитала некоторые пояснения, написанные под витринами. Теперь она перебирала новые факты — к примеру, короли в Средние века относились к летописям как к сокровищам и тщательно прятали их в специальных ларцах. Эта традиция не умерла, хотя некоторые приходы хранили разные документы и завещания в специальных коробках. В памяти Мадлен остались и другие обрывки информации — фамилии, которые стали передаваться из поколения в поколение начиная с тринадцатого века и то, что богатые люди оставляли о себе больше упоминаний, поскольку часто владели грамотой и писали завещания.
Мадлен посмотрела на часы. Самолет улетал ранним вечером, поэтому ей следовало добраться до Гатвика к трем часам. Может, пройтись по магазинам? Она точно знала, куда хотела пойти.
Она рискнула доехать на метро до Оксфорд-серкус и оказалась в месте, которому весьма подходило его название «цирк». На пересечении Риджент-стрит и Оксфорд-стрит находился перекресток, где всегда было полно пешеходов, — очень похоже на муравейник. Красные двухэтажные автобусы выстраивались в очередь рядом с черными лондонскими такси и усталыми мотоциклистами. Повсюду были люди. Небольшой участок возле метро напомнил ей офис брокеров на бирже — каждый второй разговаривал по сотовому телефону. Мадлен тут же оказалась в окружении покупателей и спешащих по делам клерков, пробивающихся сквозь толпу.
Мадлен сделала глубокий вдох и решительно вошла в толпу. Она смутно помнила, как добраться до «Либерти». Несколько лет назад ее водила туда Лидия.
Здание, в котором располагался старый универсальный магазин, оказалось таким же красивым, каким она его помнила, — стиль Тюдоров, полированные двери красного дерева, украшенные бронзой.
Оказавшись внутри, Мадлен направилась к ювелирному отделу, где продавцы были одеты столь же безупречно, как и покупатели.
В соседнем зале, где продавались эксклюзивные вещи, были выставлены удивительные предметы — расшитые блестками шарфы из тончайшей шерсти, ярких, сочных цветов; сумки, украшенные бусинами и лентами; перчатки из удивительно мягкой кожи всех цветов, напоминающей шелк.
Здесь было на что посмотреть и чем восхититься, посетители разговаривали шепотом, словно испытывая благоговение перед сверкающими предметами.
Мадлен с некоторым трепетом вошла в отдел женской одежды. Ей пришлось напомнить себе, что она зашла только посмотреть. На мгновение сердце сжалось от воспоминаний о матери. Они покупали здесь вещи на январских распродажах. Кажется, это было четыре года назад. Через год Лидия уехала из Лондона, значит, это было… Мадлен с трудом оторвалась от воспоминаний.
Однако сейчас никаких распродаж не намечалось. На вешалках висели льняные и шелковые летние платья. Взгляд Мадлен остановился на широкополых шляпах из блестящей соломки, украшенных разноцветными лентами.
К ней подошла экзотического вида продавщица.
— Могу я вам чем-нибудь помочь, мадам?
— О, я всего лишь осматриваюсь, благодарю вас, — с вежливой улыбкой ответила Мадлен.
Она сняла платье с плечиков, чтобы проиллюстрировать свои слова. Платье было темно-красного цвета, из тяжелой скользкой ткани.
— Что это за ткань? — спросила Мадлен у продавщицы, не отходившей от нее.
— Смесь шелка и льна. Красивая, правда? На вас это платье будет превосходно смотреться — с вашей кожей и волосами. Хотите примерить?
Мадлен рассмеялась.
— Почему бы и нет? — спросила продавщица. — Я не стану вас заставлять покупать платье, но хотела бы посмотреть, как оно на вас сидит!
Мадлен пожала плечами. Почему бы и нет?
Платье сидело так, словно было сшито специально для нее. Корсаж плотно облегал грудь и талию, тонкие шелковые лямки сияли на плечах. Пышная юбка доходила до колен, а подол был отделан более темным шелком.
Когда Мадлен вышла в новом платье, сняв черные сапоги, продавщица воскликнула:
— Оно вам невероятно идет!
— Вы правы, — согласилась Мадлен, глядя на свое отражение в высоком зеркале.
Она действительно выглядела элегантно в этом платье. Что сказала бы Лидия? Если бы она поняла, что Мадлен платье понравилось, она бы обязательно уговорила дочь его купить.
— Я его покупаю, — заявила Мадлен, и продавщица засияла.
Когда Мадлен шла обратно по Риджент-стрит в поисках кафе, которое не походило бы на банку сардин, она остановилась, чтобы взглянуть на витрину магазина, где продавали очень дорогую обувь. С витрины на Мадлен призывно смотрело множество туфель самого разного цвета и фасона. У нее не было обуви, подходящей к новому платью, и Мадлен посчитала это достаточным основанием, чтобы переступить порог магазина.
Еще на витрине она присмотрела открытые туфли, а примерив их, сразу поняла, что они идеально ей подходят. Пурпурные, с низким, но изящным каблучком. И вовсе не на девочку, а на зрелую женщину, с удовлетворением подумала она, выходя из магазина. Теперь нужно лишь найти человека, на которого можно было бы произвести впечатление.
У нее оставался еще час до того, как сесть в поезд метро, идущий в Гатвик, и Мадлен нашла маленькое кафе, в котором оказалось мало посетителей.
Она заказала кофе и итальянский сэндвич, наблюдая в окно за лихорадочным движением на лондонских улицах. Доев сэндвич, она вытащила из сумки блокнот и листок, куда с разрешения Николаса скопировала диковинный рунический шифр.
Она смотрела на листок, но не видела в значках ни малейшего смысла. После перевода, сделанного совместно с Николасом, она запомнила, что означают многие символы. Однако они никак не складывались в нечто осмысленное.
Пока Мадлен копировала шифр, ей в голову пришла мысль, хотя она понимала, что надежд на успех слишком мало. Насколько хорошо Ева разбирается в рунах? Является ли она обычной колдуньей-хиппи или обладает способностями расшифровки текста? Под зелеными веками Евы Мадлен разглядела умные глаза — тут сомнений не было. Что ж, пожалуй, стоит попытаться. К тому же она все равно собиралась съездить в Байе, чтобы еще раз посмотреть на гобелен и внимательно изучить эпизод, где Вильгельм и Гарольд дают клятву. Она была уверена, что в этой части гобелена вышиты две шкатулки с мощами, но хотела знать наверняка. Конечно, всегда можно взять репродукцию, но Мадлен хотела увидеть подлинный гобелен.
Ищет ли она улику? Да нет, просто глупая прихоть. Гобелен Байе самым пристальным образом изучали при помощи микроскопов в течение двух столетий; едва ли она сумеет найти что-нибудь новое.
ГЛАВА 13
13 мая 1065 года
А во дворце поварихе приходится готовить все более старательно, чтобы заставить короля поесть. Каждый день это китовое мясо и мясо дельфинов, которое добывают королевские рыбаки, а охотники приносят диких уток и оленину. Есть еще маринованный лосось, подарок короля Малкольма из Шотландии, и ореховые пирожные из Персии. Но ни нежное мясо, ни мягкие сыры, ни сладкие пирожные не вызывают у Эдуарда аппетита. Королева остается рядом с ним до ночи, а потом потихоньку покидает королевские покои, чтобы встретиться с любовником. После окончания зимы королева не выезжала за границу.
С того самого момента в начале лета, когда я забыла заглянуть в комнату, прежде чем войти, королева стала больше разговаривать со мной. В тот день я вернулась, чтобы забрать ткань, забытую в комнате. Когда я уходила, там никого не было. Я распахнула дверь и увидела, что они обнимаются, стоя у западного окна и наблюдая, как солнце покрывает темный лес вечерним ореолом. Я не могла притвориться, что ничего не заметила, и несколько ужасных мгновений все молчали.
Я шагнула в комнату, поскольку кто-то должен был сдвинуться с места, и подошла к столу, чтобы взять ткань, за которой вернулась. Я молчала — говорить было нечего. Тишину нарушила Эдита. Она спокойно спросила, буду ли я хранить их тайну. Я ответила, что храню их тайну уже год и буду хранить всегда. Она спросила, не осуждаю ли я их, а я сказала, что сердце не подчиняется законам церкви или короля, это территория, которой правит любовь. Мне показалось, что Одерикусу стало стыдно, когда он понял, что я знаю о том, что он нарушил обет. Он молча отвернулся и принялся смотреть в окно.
18 июля 1065 года
По настоятельной просьбе сестры Тостиг вернулся из Нортумбрии ко двору. Эдита считает, что только он, как любимец короля, может утешить угнетенный дух Эдуарда. Гарольд находится в Мерсии у Эдвина, где пытается, как и его сестра, добиться расположения эрла. Эдвин — брат жены Гарольда, но я молюсь, чтобы он оставался верным своей сестре и королеве. Но Эдвин и его брат Моркар будут помогать сильнейшему, их волнуют лишь собственные интересы. Мерсия велика и богата и может либо встать на пути вторжения со стороны континента, либо же его поддержать. Если король умрет, а его земли не будут едины, наша слабость станет очевидна не только Вильгельму из Нормандии, мечтающему о короне саксов, но и Харольду Хардрааду, северному королю-воину. Еще один стервятник, который хочет стать королем.
Страх подобен запаху, который все чувствуют. Старухи вспоминают битвы и реки крови, пролитые до того, как Эдуард стал королем, — их мужья погибли тогда под ударами топоров викингов. Им страшно гораздо больше, чем остальным.
20 августа 1065 года
Королева Эдита попросила меня купить в Винчестере шерсть и краску и отнести в монастырь. Я думала, что вышивка гобелена завершена, однако королева чем-то встревожена, и я не стала ничего спрашивать. Из-за новых неприятностей она плохо спит, у нее остается мало времени. Теперь Эдита не может навещать сестер и наблюдать за вышивкой гобелена.
Я шла через лес и один раз остановилась, чтобы рассмотреть между деревьями прячущуюся там лису. Мне показалось, что и она меня разглядывает.
Улица за рыночной площадью была тихой и пустынной, и, вопреки обыкновению, я нигде не увидела детей и нищих. Но в мастерской, где делали краски и чернила, как всегда, кипела работа. Хозяин мастерской — хитрый маленький человечек без подбородка, с темной кожей, потрескавшейся, как кора оливы. Порошок делают его жена и дочь, но деньгами распоряжается он. Пока он пересчитывал пенни, я проверила, хорошо ли он заткнул горшки с краской. В прошлый раз он плохо залил крышку воском, и корзинка испачкалась. На сей раз горшки были закрыты надежно, каждый завернут в ткань соответствующего цвета. Зеленый цвет получали из цветов ириса, желтый — из коры дикой яблони, красно-коричневый — из корней марены.
Купец так долго считал монетки, что я забеспокоилась и мне захотелось поскорее уйти. Я наблюдала, как работают его жена и дочь — молчаливая пара была настолько поглощена своим занятием, что не обращала на меня ни малейшего внимания. Казалось, стены комнаты охвачены пламенем — так ярко горел огонь в очагах. Над каждым висел котел, в котором кипятились жидкости всех оттенков зеленого и коричневого цветов. Пол в мастерской земляной, но на нем столько пятен краски, что он больше походит на спутанную цветную пряжу. Воздух наполняли тошнотворные ароматы дыма и растений. Я смотрела, как дочь торговца смешивает темно-синий порошок ляпис-лазури с яичными белками, чтобы получившаяся паста держалась на пергаменте. Я уже видела эти темно-синие камни на рынке, где купцы с Востока продают застежки для плащей и рукояти кинжалов из серебра и лазурита. У леди Изабель много таких бусин, и она хочет, чтобы я украсила ими ее платье.
Жена хозяина лавки толкла пестиком на деревянном столе крылья насекомых, но я не смогла определить, каких именно. Порошок получался красным, темнее крови.
Из лавки красильщика я отправилась на рынок, где шерсть стоит дешевле. Там оказалось неожиданно много народу, а посреди площади собралась толпа. Я подошла поближе и увидела, что все наблюдают за танцующим медведем. Хозяином несчастного животного был один из темнокожих путешественников с южного континента, худой человек в поношенной одежде. Я не могла понять, как люди могут смеяться, глядя на то, как огромное животное с печальными глазами и грязным мехом с трудом поднимает толстые лапы, подчиняясь звукам маленькой флейты, на которой играет его хозяин.
Я купила некрашеной шерсти и поспешно зашагала прочь, стараясь не смотреть на жестокую забаву. Я прошла мимо палатки Мирры, не заметив ее, но она меня позвала и предложила выпить чашку крапивного чая. Возраст Мирры определить невозможно. По ее лицу видно, что она датчанка. У нее серебряные волосы, а кожа темно-коричневая. Такой она была всегда, с тех самых пор, как я ее помню. Она налила мне чашку чая и предложила присесть на стул. В отличие от остальных Мирра никогда не спрашивает меня о новостях во дворце, выказывая свое уважение.
Именно оттого, что Мирра не любит сплетничать и вести пустые разговоры, я иногда делюсь с ней своими тревогами, и она внимательно слушает, но высказывает свое мнение и дает советы только тогда, когда я ее прошу. Иногда она лишь кивает и похлопывает меня поруке, но я всегда чувствую, что после бесед с ней в голове у меня проясняется. Сегодня она долго смотрела на меня своими глазами цвета моря и молчала, а я тихо сидела рядом. Когда я допила чай, она засунула руку под прилавок и вытащила кожаный мешочек, завязанный шнурком из разноцветной шерсти.
Я оглянулась, чтобы проверить, не наблюдает ли за нами кто-нибудь. Предсказания запрещены королем, который считает оракулов-северян варварами и твердит, что они поклоняются фальшивым богам. Однако на рунах гадают с тех самых пор, как захватчики впервые появились на острове, и многие и по сей день обращаются к ним за советом. Мирра посмотрела на меня, молчаливо задавая вопрос и продолжая держать мешочек в руке. Я кивнула, и она высыпала на скамью гладкие кусочки тисового дерева. Некоторые из них упали резной стороной вверх, и Мирра собрала их. Затем я выбрала один из упавших картинкой вниз — это оказался Ансуз, символизирующий знание и обучение и указывающий будущее. Мирра долго смотрела мне в глаза, словно пыталась заглянуть в самое сердце, но я чувствовала себя спокойно. Потом она заговорила, очень тихо, но ее голос стал низким, как у мужчины, и я слышала каждое слово.
— Значит, ты посланец, девушка? Тогда используй свой дар правильно, поскольку три богини понесут твои слова через пространство и время. И никогда не забывай, что ты всего лишь сосуд, как и все мы, а сосуд можно заполнить либо любовью, либо страхом.
Я покинула палатку Мирры в тягостном настроении, ведь я вышивальщица, а не писец. Но после того как шум и запахи рынка остались у меня за спиной и я зашагала через лес к Вестминстеру, ко мне вернулись силы и уверенность. Бледное солнце танцевало среди золотых листьев, разбрасывая разноцветные блики света мне под ноги. Я подняла глаза от тропы и увидела лося, застывшего в полнейшей неподвижности, словно статуя. Лось — это хорошее знамение, знак защиты. В моей корзинке лежали шерсть и краски для Винчестера, необходимые для продолжения работы над тайным гобеленом, который вышивают монахини.
Мадлен лежала в кровати и смотрела сквозь прозрачные белые шторы на уличный фонарь за окном. С приближением рассвета небо постепенно становилось цвета индиго — знак того, что вскоре взойдет солнце. Дни становились длиннее, скоро наступит май. Утренний шум не даст ей заснуть, как не давали спать голоса, звучавшие в ее сознании после того, как несколько часов назад она закончила перевод.
Леофгит обратилась за помощью к рунам. Почему это произвело на нее такое впечатление? Мадлен знала, что руны являлись частью мира саксов. Это невероятно древние символы, древние даже для средневековой Англии. Однако они действовали на нее так, словно были соединены с ней серебряной нитью.
Валяться в постели не имело смысла — до каникул оставался всего один рабочий день. Однако она перевернулась на другой бок и мгновенно заснула.
Зазвонил телефон, а Мадлен спала, и ей снилось, будто ей предстоит прочесть сразу три лекции. Она стояла перед кабинетом, пытаясь решить, какая из них самая важная. Наконец она пришла к выводу, что будет читать лекцию об Англии и Европе перед завоеванием, и проснулась. Телефон продолжал звонить. Мадлен, спотыкаясь, вышла из спальни, отметив, что солнце уже взошло, хотя она не могла понять когда. Она уселась на диван и схватила телефонную трубку.
— Мадлен? Ты заболела?
— Нет, я так не думаю… дерьмо. О, Джуди, мне так жаль — я пропустила лекцию? Сколько сейчас времени?
— Ты пропустила сразу две лекции. Уже час дня. Филипп тебя заменил, не беспокойся. Ты в порядке? Сможешь прийти к трем часам?
— Да, конечно. Господи, мне так стыдно…
— Послушай, Мадлен, это не мое дело, но тебе не кажется, что пора немного отдохнуть? Всегда можно взять отпуск по семейным обстоятельствам, тебе вовсе не обязательно увольняться. В любом случае подумай над моими словами.
Мадлен сидела на диване, закрыв лицо руками. Она поступила непрофессионально и непростительно. Дневник Леофгит полностью заменил реальность, ей казалось, что она должна закончить перевод в самое ближайшее время. Она сделает это, но сперва купит новый будильник.
Когда Мадлен через час вошла в офис, там был Филипп. Стоя к ней спиной, он рылся в одном из высоких деревянных шкафов у дальней стены. Услышав ее, он обернулся, что было на него совсем не похоже.
— Доброе утро, Мадлен, — сказал Филипп с легкой улыбкой.
Однако он не выглядел раздраженным, и это порадовало Мадлен.
— Извините, Филипп. Я очень поздно легла и не слышала будильник. Спасибо, что заменили меня.
Объяснение прозвучало не слишком убедительно.
— Ничего страшного. Однако начало Средневековья — довольно скучный период.
Мадлен слабо улыбнулась. Теперь она знала, что не виновата в равнодушном отношении первокурсников к ее лекциям — лекции Филиппа никто не назвал бы скучными. Особенно он любил описывать стратегию сражений. Его глаза загорались, и даже если предмет, о котором он рассказывал, был не столь интересен, его ораторское искусство завораживало подобно безумию.
— Вы сейчас преподаете историю шестнадцатого века? — спросила она, сообразив, что может воспользоваться солидными знаниями Филиппа.
Тот фыркнул, и Мадлен сочла это за утверждение.
— На Пасху я была в Кентербери и там побывала на руинах аббатства Святого Августина.
Филипп фыркнул еще раз, но теперь, кажется, заинтересованно.
— Поразительная история, — продолжала Мадлен. — Генрих Восьмой присвоил имущество церкви!
— Чрезвычайно интересное время, — согласился Филипп, и Мадлен заметила, что на его щеках появились розовые пятна — верный знак того, что включился его поразительный ум.
— Ведь там хранились потрясающие вещи, — продолжала она. — Насколько я поняла, в аббатстве имелась превосходная библиотека, да и само оно славилось сокровищами.
Филипп больше не мог сдерживаться.
— Да-да, множество сокровищ — невероятное богатство. Существуют разные источники — например, можно почитать Генри из Монмаута и Вильяма из Малмсбери. Повсюду осталось множество указаний…
Филипп погрузился в размышления, бессмысленно перекладывая с места на место бумаги на столе.
— Что значит указания?
Филипп ухмыльнулся, и в его глазах заплясали безумные огоньки.
— Так ведь не все сокровища попали в описи. Генрих не мог знать, какая часть церковных богатств уплыла из его рук. Есть ведь еще легенда о мощах святого Августина.
— В самом деле? — выдохнула Мадлен, невольно сделав шаг к Филиппу, который ничего не заметил.
— Да-да. Эти предметы исчезли в тумане времени. Но Ватикан держит руку на пульсе. Периодически появляются сокровища церкви, например во время раскопок или в каком-нибудь тщательно спрятанном склепе, — такое часто случалось во время Реформации.
— А как обстоит дело с мощами святого Августина?
— Я полагаю, что мощи сами по себе уже были легендой. Эта легенда имеет скандинавское происхождение и появляется в документах, связанных с королем Кнудом. Существует прелестная история об их исчезновении после того, как они побывали при норманнском дворе, — насколько я помню, их передали на хранение королеве Эмме. Как вы знаете, Кнуд был женат на Эмме-норманнке, матери Эдуарда Исповедника. Считается, что Кнуд подарил шкатулку с мощами Эмме на свадьбу.
Мысли Мадлен путались, сердце отчаянно стучало.
— А почему она так знаменита?
— Шкатулка была из золота и щедро украшена самоцветами, не говоря уже о том, что внутри находились мощи святого Августина. Королевский двор использовал шкатулку для церемоний принесения клятв на верность королям и так далее. Полагаю, что Эмма сделала на ней надпись. Церковь была готова пойти на все, чтобы заполучить этот ковчег с мощами.
— То есть вы хотите сказать, что, после того как ковчег исчез из норманнского двора, он вернулся в аббатство Святого Августина?
— Так считают многие, и я к ним присоединяюсь. Признаюсь, я неравнодушен к историям вроде священного Грааля. Мне нравится думать, что еще многое удастся обнаружить. Так история остается живой.
С этими словами Филипп снял очки и потер глаза, словно только что проснулся.
Он что-то пробормотал себе под нос относительно книги, затерявшейся на его столе, и вновь стал прежним рассеянным Филиппом.
Мадлен просмотрела записи к своей первой и теперь единственной лекции на сегодня, в последний момент вспомнив, что речь в ней пойдет о Ричарде Львиное Сердце и Крестовых походах, а не о Вильгельме Завоевателе или Генрихе Восьмом. Она совсем не думала о Крестовых походах. Все ее мысли были заняты тем, что же вынес из аббатства Святого Августина священник Иоганнес Корбет.
Когда Филипп собрался уходить, а Мадлен — проверить электронную почту, в офис влетела Роза.
Филипп выскользнул в дверь мимо нее. Она слегка повернулась, давая ему пройти, и его взгляд на мгновение задержался на груди, затянутой в кожу. Красная рубашка из мягкой замши была непристойно расстегнута до самой ложбинки между грудей, и Филипп не успел вовремя отвести глаза.
Роза ухмыльнулась ему вслед, покачала головой, а потом повернулась к Мадлен.
— Наконец-то мне удалось выманить отшельника из норы.
— Из пещеры. Отшельники живут в пещерах, а в норах — кролики.
— Нет, я имела в виду именно нору. Иногда ты становишься похожей на кролика — у тебя делается такой испуганный взгляд, когда считаешь, что кто-то собирается вытащить тебя в бар. Так что знай об этом.
— Я не пойду пить. У меня работа.
— Нет, Мэдди. Сегодня пятница, и ты пойдешь в бар вместе со мной. Надо поговорить.
— О чем?
Роза вздернула брови с видом «я буду нема, пока ты не согласишься сделать то, что мне нужно». По ее виду Мадлен не сумела понять, действительно ли ей есть что сказать или она лишь пытается заманить ее в бар.
— Хорошо, но если твоя история окажется никчемной…
Только после того, как они уселись в тапас-баре и заказали сангрию, Роза открыла большую сумку леопардовой расцветки и положила на стол перед Мадлен страницу.
— Что это?
— Читай, — скомандовала Роза, делая глоток сангрии и бросая внимательный взгляд за стойку бара, где два молодых официанта-испанца мыли стаканы.
— Они почти наверняка голубые, — заметила Мадлен, прежде чем взглянуть на лежащую перед ней страницу.
Возможно, что рисунки на гобелене Байе сделаны под прямым влиянием иллюстрированных текстов Кентербери — работы итальянских монахов, которые прибыли в Англию, когда стало распространяться христианство. Историки-искусствоведы полагают, что художник, создавший рисунки для вышивки, был монахом, жившим в Кентербери — центре художественной и интеллектуальной жизни средневековой Англии. Но рисовальщиком мог быть человек, не имеющий духовного сана, на чью работу оказала влияние художественная мода того времени.
Многое удалось установить благодаря реализму картин, изображенных на гобелене. Речь не идет о реализме в современном понимании. Скорее имеется в виду интерес к деталям повседневной жизни — к одежде, прическам, кулинарии и, конечно, искусству верховой езды и способах ведения военных действий. В последовательных сценах рисовальщику удалось оживить события, которые определяют два знаменитых года европейской истории — 1064-й и 1066-й. Именно внимание к мелочам позволяет предположить, что рисовальщик был мужчиной, хорошо знающим оружие, кораблестроение и боевых лошадей.
Однако на гобелене есть еще один элемент, не имеющий отношения к реализму или физическому миру мужчин, — очевидная любовь рисовальщика к декоративным узорам, характерным для английской вышивки того времени. На гобелене Байе узоры появляются на одежде, деревьях с их переплетающимися ветвями, в парусах и носовых украшениях кораблей, но еще заметнее они в фантастической структуре повествования.
Считается, что художник, создававший образы для гобелена, обычно включал туда собственное изображение — мужское или женское. Так он как бы подписывал свою работу. Все историки древности согласны с тем, что большинство художников Средневековья были мужчинами — факт оскорбительный для создателей гобеленов и вышивальщиц, среди которых доминировали женщины.
На гобелене Байе изображены всего три женщины. Самая знаменитая из них — таинственная Эльфгифа. Две другие — это королева Эдита, изображенная у смертного ложа своего супруга короля Эдуарда Исповедника, и еще одна неизвестная фигура — женщина, которая спасается из горящего дома во время набега Вильгельма. Возможно ли, что одна из них являлась создательницей гобелена Байе? Что рисовальщиком была женщина, оставившая свою подпись таким образом? О женщинах того периода известно очень немногое, поскольку среди них не было воинов, политиков или служительниц церкви, а потому их успехи не привлекали к себе внимания. Впрочем, во времена раннего Средневековья в Англии встречались образованные и могущественные женщины, однако ученые мужчины не обращали на них внимания. Их интересовала лишь сомнительная слава сражений и завоеваний.
Почти все, что нам известно о гобелене Байе, носит гипотетический характер. Не имея точной даты его создания, не зная о целях, не представляя себе, кто являлся его автором или где его сделали, нам остается лишь гадать, отвечая на поставленные вопросы.
Ответы можно отыскать лишь в самой древней вышивке — не обязательно в основном повествовании, а, например, в декоративных украшениях на границах сверху и снизу от действия. Именно здесь власть вышивальщиц, создававших эпическое произведение, была наиболее полной. На границах можно найти немало диковинок, в том числе и обнаженного мужчину в непристойной позе под изображением Эльфгифы! Быть может, это была единственная возможность для женщин высказать свое мнение об описываемых событиях и намекнуть, что все было вовсе не так, как нам кажется.
Летопись исторических событий — это процесс выборочный и творческий, поэтому голоса женщин вместе с их достижениями редко доходят до наших дней. Гобелен Байе — лишь один из ярких примеров, указывающих на существенное и всячески замалчиваемое присутствие женщин в прошлых веках, особенно в искусстве.
Мадлен почувствовала, как по спине побежали мурашки — довольно привычное состояние в последнее время. Казалось, открыв дневник, она распахнула дверь, откуда на нее полилась информация. Или время и информация, как описывала их Ева, являлись паутиной, соединяющей все на свете?
Роза не сводила с нее глаз.
— Ты читала это раньше?
— Нет. А где ты отыскала этот текст?
— Скопировала из одного из феминистских обзоров истории искусств. Я подумала, что должна тебе его показать, поскольку очень сомневалась в твоих словах о том, что автором гобелена Байе является королева Эдита.
— Теперь это не просто теория.
Роза приподняла бровь.
— Ты перевела дальше?
Мадлен кивнула.
— Тогда я хочу знать подробности! Кроме того, ты ничего не рассказала мне о том, как провела пасхальные каникулы, потому что пряталась в своей норе с тех пор, как вернулась.
— Хорошо.
— Почему ты улыбаешься? Неужели тебе удалось познакомиться в Государственном архиве с замечательным грустным академиком?
— Нет, не в архиве, — улыбнулась Мадлен, вспомнив о патологической стеснительности архивариуса.
— Но ты с кем-то познакомилась?
Мадлен посмотрела в бокал с сангрией.
— Не пытайся изображать скромницу и ничего от меня не скрывай, Мэдди! Расскажи мне все!
И она рассказала Розе почти все. Про день, проведенный в квартире Николаса, она промолчала. И не только из-за тайны рунического документа — ей не хотелось говорить о таких интимных вещах. Она еще не была готова обсуждать свои отношения с Николасом.
— Он производит впечатление. Вот только живет в Англии. Надеюсь, ты не думаешь о том, чтобы туда переехать?
— Не говори глупости. Я его едва знаю. Интересная встреча, но не более того.
Роза с сомнением посмотрела на нее и заказала еще сангрии — обе знали, что это настоящая «сыворотка правды».
— До тех пор, пока ты с ним не переспала, нельзя говорить, что встреча была интересной! Ну?
Мадлен закатила глаза.
— Нет.
— Жаль. С другой стороны, ты бы сразу в него влюбилась — я ведь знаю твой характер. Короче говоря, делай что хочешь, только не влюбляйся — ладно? Нам обеим известно, что положительные моменты этого чувства сильно преувеличены.
Им принесли еще один графин сангрии, и Роза призывно улыбнулась официанту. Но тот сделал вид, что ничего не заметил.
— Я же говорила, что он голубой, — самодовольно заметила Мадлен, когда официант вновь принялся полировать и без того чистые стаканы, не глядя в их сторону.
Роза пожала плечами и наполнила бокалы.
— Выпей и расскажи про Николаса.
Мадлен поняла, что ей не следовало соглашаться на второй графин сангрии еще до того, как рассталась с Розой, которая позвонила своему юноше готу и договорилась о встрече в клубе.
«Завтра я буду ненавидеть весь мир», — подумала Мадлен, когда шла домой, но пока она чувствовала себя превосходно. Теплый воздух был полон весенними ароматами.
Мадлен решила вести себя как паинька — никаких вечерних переводов. Она сразу ляжет спать, чтобы утром, на свежую голову, отправиться в Байе.
Но, пройдя еще несколько шагов, она поняла, что ее благим намерениям не суждено сбыться. Она знала, что, как только войдет в квартиру, руки сами потянутся к лежащему в тайнике дневнику.
Сначала Мадлен подошла к телефону, чтобы прослушать сообщения на автоответчике, которых было всего два. После первого послышался лишь гудок — звонивший просто повесил трубку. Второе сообщение началось таинственно. Сначала возникла пауза, а потом послышался возбужденный голос. Почти сразу же Мадлен узнана голос Маргарет Бродер:
«Мадлен, это ты? А, так я говорю с автоответчиком. Просто я хотела сказать… мне немного стыдно… Я рассказала нашему покупателю о книге, дорогая. Я не осмелилась признаться Мэри, но ты должна знать. Это было довольно давно… Я точно не помню, когда…»
Послышался щелчок, и наступила тишина.
Мадлен покачала головой. Очевидно, Маргарет выпила перед сном слишком много яблочного бренди.
23 октября 1065 года
Случилось то, чего мы так долго боялись. Пока Тостиг находился в Вестминстере, его враги в Нортумбрии объединились и объявили его вне закона. Саксов и датчан, сохранивших верность своему отсутствующему эрлу, убили, и повстанцы Нортумбрии послали за Моркаром, братом эрла Эдвина из Мерсии. Они потребовали, чтобы он стал их новым эрлом и забрал золото из сокровищницы Нортумбрии, поскольку считали, что это их деньги, собранные при помощи незаконных налогов эрла Тостига.
Они пошли маршем на юг, собирая войска в Ноттингемшире, Дербишире и Линкольншире. В Нортгемптоне их встретили Эдвин и Моркар. Теперь братья Алдиты стоят во главе многотысячного войска, в которое входят солдаты из Мерсии, Нортумбрии и Уэльса. Они потребовали аудиенции у короля. Но Эдуард слишком болен, чтобы путешествовать, и его место занял Гарольд. Ночью Гарольд Годвинсон покинул дворец и поехал на север. Дурное предзнаменование для королевы Эдиты. Без Тостига и его союзника короля Малкольма из Шотландии или братьев Алдиты золотые крылья и огненное дыхание дракона саксов уже не будут украшать боевые знамена Этелинга.
1 ноября 1065 года
Гарольд вернулся из Нортгемптона и в течение двух дней не выходил из покоев Эдуарда, где они находились вместе с Эдитой и монахом Одерикусом. Одерикус снова говорит со мной — он убедился, что я способна хранить его тайну. Возможно, он понял, что его земная страсть не изменила моего отношения к нему. Он для меня как брат, и не мне его судить.
Монах рассказал, что они спорили о ссылке Тостига, а больной Эдуард лежал в постели.
Гарольд сказал брату, что если он осмелится вернуться в свои земли, то его ждет неминуемая смерть. Войска Нортумбрии и Мерсии грозили набегами, если Тостиг не будет изгнан, Моркара объявили эрлом Нортумбрии, и Гарольд дал понять, что может начаться большая война между севером и югом, если он ответит отказом.
Одерикус сказал, что Эдуард слишком серьезно болен, чтобы понимать происходящее. Он постоянно просит, чтобы к нему прислали его любимца Тостига. Эдита требовала, чтобы их брата вернули, и твердила, что его отсутствие отрицательно сказывается на здоровье короля, но Гарольд не желает ее слушать.
Тостиг находится во Фландрии вместе с семьей своей жены Джудит. Без него интерес Эдуарда к делам королевства угасает, как заходящее солнце. Эдита не отходит от короля ни днем ни ночью. Теперь она редко его покидает, даже когда королю удается заснуть. Но все же поздно ночью она встречается с монахом в лесу между Вестминстером и Лондоном. В таких случаях я остаюсь в башне и до поздней ночи занимаюсь шитьем — ведь если королева понадобится Эдуарду и ее не окажется в собственных покоях, ее будут искать именно здесь. Тогда я скажу посланцу, что королева больна, отдыхает вместе с леди Изабель и ее не следует тревожить. Потом я поскачу в лес, чтобы предупредить их. Я молюсь о том, чтобы до этого не дошло.
11 ноября 1065 года
С бескровных губ короля Эдуарда так и не сорвалось слов о наследнике, и у нас почти не остается надежды, что он назовет его имя перед смертью. При дворе стало известно, что в Норвегии собирается армия и что там ждут смерти Эдуарда, чтобы выйти в море. Северные армии поведет Харальд Хардраад, самый опасный из всех королей викингов. На южном континенте за происходящим внимательно наблюдает Вильгельм Нормандский. Ходят слухи, что при нашем дворе находятся норманнские шпионы, которые отправляют Вильгельму донесения. У Вильгельма имеются серьезные основания для подозрений и опасений, поскольку все христианские короли давно с интересом поглядывают на земли нашего плодородного острова.
После того как Гарольд сделал Моркара эрлом Нортумбрии, он и его брат из Мерсии охотнее прислушиваются к мнению Гарольда, чем к королеве Эдите. Поддержка Этелинга слабеет.
Эдгар вырос высоким и молчаливым, ему, как и всем нам, тяжело дается ожидание. Королева любит его, как мать, и всегда готова дать ему мудрый совет. Именно от нее он слышал легенды о королях Эссекса — Седрике и Альфреде, а также о своем великом деде Этельреде, который выплатил огромные суммы датским захватчикам, чтобы они оставили страну в покое. Но те возвращались за золотом вновь и вновь. Хотя Гарольд и очень близок к трону, но, если король сам не сделает соответствующего заявления, Эдгар Этелинг станет первым претендентом на трон.
Приближается Рождество, соберутся члены Витана[48] — пять эрлов королевства, аристократы, епископы и аббаты. Именно их поддержкой постараются заручиться королева Эдита и Гарольд, ведь Витан имеет право назначить наследника, если король умрет, не выразив своей воли.
Теперь уже всем известно, что Гарольд ищет союзников для себя, а Эдита — для Эдгара.
Приближающееся Рождество ни у кого не вызывает праздничного настроения. Джон постоянно сопровождает Гарольда. Возвращаясь домой, он иногда рассказывает мне о местах, где они побывали, и о настроениях в народе, но чаще настолько устает от верховой езды, что у него остаются силы только на еду и сон.
В маленьком городке Байе на этот раз было гораздо больше народа, чем в прошлый раз. Бледное весеннее солнце оживляло симпатичные мощенные булыжником улочки, а кафе и кондитерские были полны туристов.
Мадлен пока не решила, стоит ли встречаться с Питером. Ей пришлось напомнить себе, что она приехала в Байе совсем с другой целью. Кроме того, он почти наверняка занят какими-нибудь дурацкими делами — отвлекает себя от самого себя.
Она припарковала «пежо» на одной из узких улочек и прошла пешком несколько кварталов до центра Вильгельма Завоевателя, следуя за указателями «К гобелену королевы Матильды», думая о том, что надпись должна выглядеть так: «К гобелену королевы Эдиты».
В музее было так же много народу, как и везде в Байе, и это ее немного разочаровало. Мадлен заплатила за вход и медленно пошла по плохо освещенным коридорам мимо толп людей, с благоговением разглядывающих гобелен, созданный девятьсот лет назад. Тишина, толстое стекло, защищающее ярко освещенный гобелен, блестящие шнуры барьеров, не позволяющих подойти к нему вплотную, — все вместе создавало атмосферу удивления и восторга.
«Интересно, — подумала Мадлен, идя мимо спрятанных за толстым стеклом полотнищ гобелена, — все ли люди, которые идут рядом и внимательно слушают лекцию через наушники, так же сильно хотят прикоснуться к холсту цвета сепии и провести пальцами по выкрашенной растительными красками пряже, как желаю этого я».
Панель, изображающая принесение клятвы, находилась в середине первого коридора. Мадлен подождала, когда стоявшая перед ней пара пройдет вперед, а потом приблизилась к месту, где был изображен Гарольд, чьи руки касались двух ковчегов с мощами.
У Мадлен не было сомнений в том, что, рассказывая Леофгит о принесении клятвы, Одерикус не упоминал о втором ковчеге. Тогда почему их два?
Мадлен наклонилась так близко, насколько это позволяли стекло и шнур. Ковчег слева был более изысканным и находился на укрытых покрывалом носилках. Гарольд стоял лицом к нему, но скорее указывал на него, чем прикасался рукой. С каждой стороны ковчега имелось распятие, а переднюю его часть украшали золотые арки. Вдоль куполообразной крышки шел ряд дырочек. Возможно, драгоценные камни?
Второй ковчег, на который Гарольд не смотрел, но положил руку, был меньшего размера и не казался столь же изысканным.
Слева сидел Вильгельм, который показывал на ковчег побольше. Это был центр картины. Внизу имелась надпись на латыни, гласившая: «Здесь Гарольд приносит священную клятву. Гарольд и Вильгельм».
Однако клятву принесли оба, если верить Одерикусу, и в данном случае дневник выдвигал спорное утверждение. Всегда считалось, что клятву дал только Гарольд, обещавший служить Вильгельму. Однако Мадлен знала, что соглашение достигнуто перед клятвой — Гарольд и Вильгельм стали заговорщиками и союзниками. Они вместе намеревались избавиться от угрозы со стороны «чистокровного» короля саксов и планировали убить Эдиту. Пугающая мысль — во-первых, в распоряжении Мадлен имелась эксклюзивная историческая информация, во-вторых, ее страшили средневековые заговоры. Тем не менее можно ли утверждать, что за тысячу лет политика так уж сильно изменилась? Конечно, теперь политические враги в Европе не убивают друг друга, но делают все, что в их силах, чтобы уничтожить противников.
Теперь по бокам Мадлен стояли люди. Возможно, их привлекло то, что она так надолго здесь задержалась. Сколько времени она не могла оторвать взгляда от вышитых фигур?
Мадлен боком отошла в сторону. Ей хотелось еще раз взглянуть на картинку, изображавшую Эльфгифу, хотя и раздражали столпившиеся рядом люди.
Здесь все было таким, как помнила Мадлен. Гарольд разговаривает с Вильгельмом — это еще до принесения клятвы. Гарольд указывает на следующую панель — арку, украшенную двумя драконьими головами. Под аркой стоит женщина в мантии, а за ней — мужчина в одеянии священника, который протягивает руку, чтобы коснуться головы женщины. Надпись внизу гласит: «Эльфгифа и священник».
Неужели Гарольд указывает на эту пару? Его другая рука поднята, как будто то, о чем он говорит Вильгельму, является секретом.
Выйдя из музея, Мадлен погрузилась в глубокие размышления, пытаясь понять, что могли значить виденные ею изображения. Как утверждалось в феминистской статье, найденной Розой, края гобелена под панелью, где изображены Эльфгифа и священник, указывают на наличие развитого воображения. Однако то же самое можно сказать и о краях гобелена, на котором Гарольд сообщает Вильгельму какой-то секрет. На полях панели с Эльфгифой вышит обнаженный мужчина с эрегированным пенисом. Под Гарольдом — фигура с топором. В одиннадцатом веке топор использовали не только для рубки деревьев. К тому же деревьев поблизости не видно. Быть может, это указание на то, что Гарольд и Вильгельм намерены причинить вред женщине, стоящей под аркой?
Сначала эта картинка вызвала у Леофгит недоумение, но потом она поняла, что фигуры леди и священника появились в той части рисунка, который вышит Эдитой. Эдита и Одерикус подписали свою работу, включив в нее собственные изображения. Но кто делал рисунки для полей гобелена?
Постепенно концы начали сходиться с концами, но еще многие вопросы оставались без ответа. И Мадлен никак не удавалось распутать оставшиеся узлы. Неожиданно ей стало нехорошо — наверное, не стоило пить четвертый бокал сангрии. Следующий шаг — Ева и рунический шифр. Мадлен вздохнула. Может, сделать перерыв? Поискать Питера в его келье для размышлений? Почему бы просто не проверить?
В саду перед домом, где жили священники, росли яркие цветы. Питер рассказывал, что за садом ухаживает один из пожилых священников. Размышляет ли он о жизни, потраченной на служение Богу, занимаясь цветами?
Мадлен постучала в дверь офиса Питера. Ей показалось, что она слышит внутри какие-то звуки, но прошло некоторое время, прежде чем дверь открылась.
Питер выглядел так, словно только что проснулся. Мадлен показалось, что за месяц, который прошел после их последней встречи, его волосы заметно поседели. Из-под круглых очков на нее смотрели потускневшие глаза, которые широко раскрылись, когда он увидел ее.
— Мэдди? Привет! Вот уж не ожидал… проходи.
Он отступил в сторону, и Мадлен вошла.
Комната выглядела так, словно кто-то провел в ней обыск. Книги, бумаги, связки документов и одежда валялись на полу и на всех поверхностях. На большой упаковочной коробке, служившей кофейным столиком, стояла полупустая бутылка водки.
Питер увидел, что глаза Мадлен остановились на бутылке.
— Не волнуйся, я не начал пить. Просто вчера заснул за работой.
Мадлен отметила, что старый диван выглядит более грязным, чем обычно, а смятый ковер почти соскользнул с него на пол.
— Ты занят? — зачем-то спросила она, хотя было очевидно, что так оно и есть.
— Нет, — не слишком убедительно возразил Питер. — Для тебя у меня всегда найдется время, Мэдди.
Очередная ложь. Она прикусила язык. Почему она чувствует себя обиженной?
— Я надолго тебя не задержу. Просто оказалась неподалеку.
— Опять предсказания судьбы? — Питер не сумел скрыть презрения.
— Это не твое дело, — резко ответила она, удивленная горечью, которую ощутила от его насмешки.
— Что с тобой происходит в последнее время, Мадлен? Я всего лишь задал вопрос!
— Нет, не просто вопрос. Это было почти оскорбление. Что со мной случилось? Моя мать умерла, помнишь? Вот что случилось.
Мадлен едва не заплакала и поняла, что время молчаливого принятия прошло. Она всегда оберегала Питера от своих желаний и разочарований, говорила себе, что он не виноват в том, что она его любит, или что его слишком влечет к церкви. А теперь ей было все равно, кто виноват.
Питер выглядел ошеломленным, но это лишь еще сильнее вывело Мадлен из себя. Она ощутила кипящие эмоции, которые так долго ждали возможности вырваться наружу, попыталась сделать глубокий вдох, но ее дыхание пресеклось.
— Знаешь, Питер, у тебя никогда не находилось для меня времени. Так что не делай вид, что ты остаешься моим близким другом, которого тревожит моя жизнь. Я не знаю, почему я так долго в это верила, почему надеялась, что ты испытываешь ко мне нечто вроде любви. Ты неспособен на это, поскольку не любишь себя самого. Посмотри на себя! Ты работаешь до изнеможения ради потерянных душ, но ты сам потерялся в большей степени, чем любой из них. Ты полагаешь, что делаешь «Божью работу», но разве Бог велит человеку лишить себя радости и повернуться спиной к любви? — Теперь по ее щекам катились слезы. — Знаешь, ведь ты поступил именно так — повернулся спиной к моей любви. Так что теперь ты знаешь, как я себя чувствую и что со мной случилось.
Она повернулась и, не оборачиваясь, пошла прочь. Мадлен знала, что Питер стоит у двери и смотрит, как она, рыдая, торопливо уходит по ухоженной лужайке. Она могла представить себе выражение его лица — недоверие, возможно, тревогу. Он подумает, что Мадлен одолело горе, что все это не имеет к нему никакого отношения. Ей было все равно.
Она успела успокоиться, когда подошла к кафе Евы. На тротуаре стоял Тинтин и курил. Он даже не взглянул в ее сторону.
Внутри было тепло и пахло свежей выпечкой, Ева стояла за кофейным автоматом, над которым поднимался пар. Три или четыре столика были заняты, и Ева в зеленом тюрбане и блестящих розовых тенях выглядела особенно свирепой.
Мадлен немного постояла возле стойки, дожидаясь, когда на нее обратят внимание, а потом решила сесть за столик — пусть Ева подойдет, чтобы ее обслужить. Она видела, как зеленый тюрбан дважды исчезал за пластиковой занавеской, а потом появлялся вновь. Мадлен постаралась взять себя в руки и думать о чем угодно, кроме смерти и несчастной любви. Она пыталась вспомнить, кто она такая, не чувствуя обжигающей боли в сердце.
Наконец, когда посетители, сидевшие за одним из столиков, удалились, а двое других получили заказанный кофе, Ева подошла к Мадлен.
— Предлагаю гуляш, — сказала она.
Мадлен кивнула.
— У тебя тушь размазалась, — сказала Ева, показывая морщинистым пальцем на место у себя под глазом.
Она вытащила салфетку из подставки, протянула ее Мадлен, повернулась и ушла.
Только после того, как освободился еще один стол, Ева подошла к Мадлен с огромной миской густой овощной похлебки с помидорами и ломтем свежего хлеба.
— Здесь много специй, — сказала Ева. — Как раз то, что тебе нужно.
Затем она стремительно вышла на улицу через входную дверь.
Мадлен ела гуляш и смотрела, как Тинтин, опустив голову, слушает упреки Евы. Но как только она повернулась к нему спиной, чтобы вернуться в кафе, он закурил новую сигарету и занял прежнее место, откуда продолжал смотреть в дальний конец улицы.
Закончив есть, Мадлен вытащила из сумки листок с рунами и подошла к стойке. Ева вытирала чашки и ставила их на кофейный автомат, свирепо поглядывая через окно на Тинтина.
— Хочешь кофе? — спросила она, не отводя глаз от лентяя Тинтина.
— Да. Спасибо. Я уже была здесь раньше…
— Я помню. Ты преподаешь историю.
Мадлен кивнула.
— Я хочу кое-что вам показать и кое о чем спросить…
— Хмм, — пробормотала Ева, все еще глядя на свою жертву.
Мадлен положила листок на стойку, а Ева наконец отвела глаза от Тинтина и посмотрела на руны. Выражение ее лица не изменилось, но она перестала вытирать чашки и отложила полотенце в сторону.
— Ты меня проверяешь? — через некоторое время спросила Ева. Казалось, ситуация ее забавляет.
— Ни в коем случае. Я надеялась, что вы поможете мне это перевести.
Ева рассмеялась, продолжая смотреть на листок.
— Руны венедов, — сказала она. — Довольно просто, но только тогда, если знаешь. Похоже на жизнь. Нужно знать.
Мадлен не совсем поняла, что Ева имеет в виду, но не стала спрашивать, поскольку руки Евы с сильно проступающими венами и фальшивыми розовыми ногтями принялись за работу, переписывая руны в другом порядке.
— Все просто, — сказала Ева. — Чтобы помешать чужакам понять их письмо, венеды записывали руны в обратном порядке, вот и все!
Она положила карандаш и подтолкнула листок к Мадлен. При этом она так близко наклонилась к ней, что Мадлен увидела следы розовых теней на веках.
— Три богини, надзирающие за рунами, не позволяют путешествовать по своей паутине всем подряд. Когда твои намерения чисты, они открывают перед тобой все двери. Они пропускают посланцев и детей. Есть три парки — прошлое, настоящее и будущее. Все они единое целое. Это просто, когда знаешь.
Ева подмигнула Мадлен.
— Двойной эспрессо?
Когда Мадлен поздно вечером вернулась домой, у нее было всего одно желание, на сей раз не связанное с дневником. Она вытащила из сумки блокнот, куда был скопирован рунический алфавит из одного из учебников Николаса, и направилась в кабинет.
Она устроилась за письменным столом с алфавитом и страницей, которую показала Еве, надеясь, что руны переписаны в правильном порядке. Заметив, что так и не сняла пальто и кожаные перчатки, она быстро разделась.
Теперь перевод давался ей быстрее — руны перестали быть незнакомыми символами. У нее ушло меньше часа на то, чтобы расшифровать переписанные карандашом руны венедов. Это слово было ей смутно знакомо. Вероятно, она читала в одной из книг Николаса о такой форме криптографии; Мадлен вспомнила, что записи сознательно искажались, чтобы помешать другим понять их смысл. В данном случае их просто написали в обратном порядке. Ева права — все очень просто.
Переведенный отрывок оказался стихотворением, как и предполагал Николас:
Здесь Посланец нового королевства, Который пришел, когда эта земля была нечестивой, И построил империю Бога В камне и в поклонении людей. Пусть все, кто прикасается к этому ковчегу, говорят правду.Мадлен перечитала стихотворение. Она постаралась вспомнить, о чем говорил Филипп: королева Эмма, которой подарил ковчег ее датский консорт — король Кнуд, сделала на шкатулке надпись, когда в нее положили мощи святого Августина. Похоже на то, что в стихотворении идет речь о содержимом ковчега.
Посланец нового королевства и империя Бога — эти слова подразумевали святого Августина, который принес христианство в Англию. Значит, Иоганнес Корбет унес из собора в Кентербери ковчег с мощами святого Августина! Мадлен выдохнула, сообразив, что сидит, затаив дыхание. По всей видимости, в ковчеге до сих пор находятся кости мелкого животного — ведь служанка во дворце Вильгельма случайно выбросила останки Августина в окно.
Мадлен включила компьютер, нашла в блокноте электронный адрес Николаса и начала быстро печатать — письмо отразило ее возбужденное состояние:
Привет!
Похоже, мне удалось кое-что обнаружить. Я показала переписанные мной руны одному человеку — не важно кому. Мне интересно ваше мнение. Не кажется ли вам, что это связано со святым Августином?!
Коллега из университета рассказал мне, что существует легенда об исчезновении ковчега.
Мадлен скопировала переведенное ею стихотворение в письмо и отправила его Николасу.
Затем вошла на сайт университета, вспомнив, что не проверяла свою электронную почту с самой Пасхи.
Большую часть писем составляли скучные циркуляры от администрации университета. Кроме того, она нашла пять посланий от Розы — все они были отправлены несколько дней назад. В них содержались угрозы отлучения от церкви, если Мадлен ей не позвонит или не ответит в самое ближайшее время.
Было одно послание от Питера недельной давности. Оно гласило:
Надеюсь, с тобой все в порядке.
Кроме того, имелось еще одно письмо — от Мюллера.
Мадлен открыла его.
Дорогая Мадлен!
Прошу прощения за то, что так долго не писал. Мою поездку в Париж пришлось отменить, и я был очень занят.
Причина, по которой я вхожу с вами в контакт, вероятно, вас не удивит, ведь вы уже поняли, каким образом я связан с вашими кузинами.
Должен признаться, что мне известно о том, что вы стали хранительницей их наследства, хотя обстоятельства, при которых это произошло, не делают мне чести. Впрочем, вы сами пригласили меня в гости! Согласитесь, что я вел себя превосходно, если не считать некоторого любопытства. Вы очень привлекательная женщина.
Как только я осмотрел книгу, то сразу понял, что она подлинная и чрезвычайно ценная. Насколько я понимаю, вы обладаете редким сокровищем.
Мадлен, я немного поразмыслил и после беседы с вашей кузиной Маргарет (о чем Мэри, естественно, ничего не знает) понял, что вы являетесь переводчиком с древней латыни.
Манускрипт одиннадцатого века может вызвать огромный интерес в мире коллекционеров.
Полагаю, что вы обладаете некоторым влиянием на кузин. Манускрипт такого качества не может оставаться в тайниках умирающего особняка, Мадлен. Его необходимо передать в руки экспертов.
Пожалуйста, дайте мне знать, не хотите ли вы заключить со мной соглашение.
Мне не хотелось бы выглядеть навязчивым или даже грубым, но я добавлю, что речь идет о финансовом соглашении.
Карл МюллерМадлен откинулась на спинку стула. Признание Карла ее ошеломило. Все, что ей было о нем известно, промелькнуло у нее в сознании, словно серия ослепительных вспышек. Он ее искал на вечеринке — и Тобиас указал на нее. Он специально приехал в Кан, чтобы найти ее. Мадлен вспомнила телефонный звонок от мужчины с акцентом, на который ответила Джуди в день вечеринки у Тобиаса. Жан никогда не звонил ей на работу, ей следовало сразу же насторожиться. Мадлен ударила ладонью по столу, так что задребезжала клавиатура. Карл может отправляться ко всем чертям. Она не станет ему отвечать — пока.
ГЛАВА 14
8 января 1066 года
Сначала в церкви должны были состояться похороны Эдуарда — в здании, которое свидетельствовало о его богатстве и, как ему казалось, прославляло его Бога. Быть может, теперь Бог улыбнется Эдуарду в его загробной жизни, получив столь яркий знак обожания, хотя мне и неизвестно, насколько тщеславен христианский Бог. Эдуарда уже называют святым королем, Исповедником, чья огромная церковь стала его гробницей.
Гарольда короновал Элдред, архиепископ Йоркский, а не Стиганд, архиепископ Кентерберийский. Ведь Стиганд назначен королем Эдуардом, а Элдред — Римом. Таким образом, коронация Гарольда стала настоящей христианской церемонией. Гарольд продемонстрировал уважение римской церкви, более могущественной, чем любой король.
Монахи у алтаря смотрели, как Элдред возлагает тяжелую золотую корону на голову Гарольда, но Одерикуса, священника Гарольда, среди них не было. В соборе воцарилась тишина, все замерли, но криков радости не было, как не было пира.
Одерикус исчез. Даже братья в Кентербери не знают, где его искать. Эдита перестала быть королевой. Перемены произошли так быстро, что застали всех врасплох, поэтому стало трудно завершить даже самое простое дело. Я продолжаю ходить во дворец и работать — ведь мне не сказали, что ее следует прекратить. Однако после смерти мужа мою госпожу никто не видел, и она не присутствовала на коронации брата. Нет сомнений, что ее жизнь все еще в опасности, хотя Гарольд и не выполнил клятву, данную Вильгельму. Они не договаривались, что Гарольд станет королем.
Если Эдита и монах сбежали вместе, значит, их сопровождают союзники.
Должно быть, они покинули дворец ночью, в день смерти Эдуарда.
Мне известно, что Эдита, Эдгар и Одерикус находились с умирающим королем. Гарольд вошел в покои Эдуарда только после его смерти. Об этом мне рассказала Изабель, поскольку она сопровождала миледи, когда та выходила от короля. Это означает, что перед смертью Эдуард не предлагал Гарольду принять корону. Однако Витан поверил Гарольду, а Эдита не осмелилась заявить, что он лжет.
Мы не можем знать, что произошло за каменными стенами покоев короля, но Эдгар Этелинг остался без короны.
Уже несколько дней я почти не ем и не сплю. Не могла я и взяться за перо, чтобы облегчить душу на пергаменте. Меня все еще пугает обещание Гарольда убить сестру, но теперь, когда он стал королем, ему больше не нужно бояться ее соперничества. Теперь все графства поддерживают Гарольда, а без Тостига Шотландия будет оставаться в стороне. Однако страх продолжает меня преследовать, словно тень, от которой не спастись.
Сегодня утром, когда я толкла пестиком в ступке зерна для муки, пришла Мэри. Я уже давно растерла зерна в порошок, но никак не могла остановиться. Мэри забрала у меня пестик и высыпала муку из ступки в коробку. Потом она села рядом со мной у огня и взяла мою руку в свои ладони. Когда Мэри заговорила, мой страх вспыхнул с новой силой. Она попросила научить ее грамоте — ведь она видела, как я пишу. Конечно, я не могла ей отказать, я бы научила всех своих детей, если бы знала, что это поможет им в жизни. Но это умение не пригодится тем, кто служит землевладельцам, а в душах христиан и без того полно страха перед колдовством и магией, поэтому нам не следует показывать, что мы отличаемся от других.
13 февраля 1066 года
Эдита прислала мне письмо из Винчестера, в котором сообщила, что живет на попечении аббатисы. Она попросила меня отправить ей шерсти и красок, а кроме того, сообщить Одерикусу о том, где она находится, и что она возобновила работу над гобеленом. Я думала, что они вместе, но на сердце у меня полегчало после того, как пришла весточка от миледи. Теперь я знаю, что ее исчезновение не было ужасным предзнаменованием.
Эрл Эдвин посетил Вестминстер. Джон говорит, что его тревожит мысль о том, что Гарольд вернет Тостигу титул эрла Нортумбрии, где сейчас находится брат Эдвина Моркар. На рассвете Гарольд вместе со своими хускерлами поскакал на север, чтобы сообщить Моркару и жителям Нортумбрии, что Тостиг никогда не вернется. Джон уехал вместе с ним, ведь теперь он воин короля.
Я привыкла к тому, что мой муж сопровождает Гарольда во время многочисленных поездок в Бристоль, когда тот берет с собой королевскую гвардию. Но сейчас тревожное время, и я не могу чувствовать себя спокойной, когда Джона нет дома. И я беспокоюсь еще сильнее, поскольку знаю, что Джон готов рисковать, чтобы показать новому королю свою отвагу и верность в надежде получить землю и титул. Но всем сокровищам королевства я предпочитаю живого мужа в моей постели.
Во дворце холодно и тихо. Жена Гарольда, королева Алдита, остается в своих покоях, и о ее присутствии можно судить лишь по печальным песням арфы, которые слышны в тишине ночи. После Рождества мы перестали получать из Кентербери заказы на гобелены и на вышивку платьев, и я остаюсь дома, дожидаясь вестей с севера, которые очень медленно доходят до нас. Мне трудно много писать, когда на сердце лежит тяжесть, а без Одерикуса приходится экономить куски кожи, которые приносит Мэри. Я молюсь о благополучии монаха, хотя он уехал, даже не попрощавшись со мной.
3 апреля 1066 года
Ночь за ночью в черных небесах над страной пламенеет меч. Люди пребывают в ужасе, полагая, что огонь в небе есть знак того, что Бог гневается на нового короля, который взял корону, и своим пылающим мечом будет мстить и сеять среди нас смерть за преступление Гарольда.
От Одерикуса по-прежнему никаких вестей. Я боюсь, что Гарольд узнал о его предательстве и изгнал священника. Я хорошо помню Одерикуса, о чем не осмеливалась писать прежде. Сама не знаю, почему так получилось, ведь многое из написанного мной очень опасно. Быть может, дело в том, что Мирра называет меня посланцем и просит мудро использовать мое умение. Уж не знаю, мудро ли я поступаю, когда пишу все это, но сердце подсказывает мне, что я все делаю правильно.
Прошлым летом, когда солнце еще стояло высоко в небе, я шла по тропинке мимо ручья из дворца домой, и мне довелось встретить Одерикуса. Мы и раньше встречались в месте, где на берегу растут ивы. Он любил там сидеть, возможно, молился.
Некоторое время мы шли бок о бок, но мне показалось, что его что-то смущает. Я знала — на сердце Одерикуса лежит тяжесть, и спросила, не хочет ли он поведать о своих печалях.
Все дело в ковчеге, сказал монах. Он чувствует, что предал свой сан, когда вынул из него мощи. Я спросила, предал ли он свой сан или своего Бога, ведь мне казалось, что для него христианская вера, владеющая его душой, не совпадает с предметом его поклонения. Однако Одерикус считал, что эти вещи нельзя разделить. Тогда я спросила, можно ли сравнить любовь, которую он испытывает к королеве, с любовью к Богу? Разве это не любовь к Богу на земле? Он в ответ лишь покачал головой, словно подобные мысли не имели отношения к его странной вере.
Я видела ковчег, поскольку он однажды тайно приносил его во дворец, чтобы показать Эдите. Она сказала, что должна посмотреть на него, прежде чем сделать рисунок для гобелена. Одерикусу было легко это сделать — ведь про тайник в Кентербери знали только он и аббат. Он принес его в башню, завернув в тонкую ткань, и ковчег видели только королева Эдита и я.
Мне никогда прежде не доводилось видеть подобной работы — ни в покоях королевы, ни в дворцовой часовне. Это золотое хранилище сделано в других землях, викингами. Лишь они умеют ковать золото так, словно выполняют работу для жилища богов.
Когда Одерикус достал ковчег, не только я, но и миледи лишились дара речи. Ковчег стоял на мягкой ткани шерстяной мантии, и в его инкрустированной самоцветами крышке отражался свет горящих свечей.
Ковчег совсем небольшой, размером с два каравая хлеба, и его крышка изогнута, как у бельевого сундука. На крышке с каждой стороны изображены золотые кресты, а между ними — сотни блистающих самоцветов. Я узнала янтарь из северных гор, рубины, жемчуг и сапфиры. Самоцветы создают изящные узоры, подобно богато вышитой ткани.
У основания ковчега имеется надпись — руны, которые я не смогла прочитать. Каждая руна сделана из осколков разных самоцветов.
Королева Эдита прочла для меня надпись — ведь она знает много разных языков.
Здесь Посланец нового королевства, Который пришел, когда эта земля была нечестивой, И построил империю Бога В камне и в поклонении людей. Пусть все, кто прикасается к этому ковчегу, говорят правду.* * *
26 апреля 1066 года
Стало известно, что Тостиг отплыл по северной реке Хамбер с флотом из шестидесяти кораблей, угрожая землям Эдвина из Мерсии. На севере люди очень сильно настроены против королевского брата, и эрл Эдвин сумел собрать тысячи воинов из каждого графства, чтобы остановить его вторжение. Простые люди винят во всем Гарольда — какой же он король, если не способен подчинить себе собственного брата? После смерти Эдуарда из Фландрии доходят слухи о бесчинствах Тостига и разрушениях. Он готов на все, чтобы отомстить брату за изгнание и кражу короны, которая по праву принадлежала Этелингу.
Должно быть, Тостиг сильно переживает из-за смерти Эдуарда, ведь ему не позволили находиться рядом с королем в последние часы его жизни. Теперь, будучи противником короля Гарольда, Тостиг может легко объединиться с другими врагами короны, а их немало. Следует ожидать, что Тостиг предложит союз Вильгельму Нормандскому, чья жена Матильда является сестрой его жены Джудит. Пока нам ничего не известно о том, как отреагировал Вильгельм на коронацию Гарольда и что стало с клятвой, которую дали Гарольд и Вильгельм, а также как Гарольд осмелился надеть корону, зная, что станет врагом сразу двух самых яростных воинов континента — Вильгельма Нормандского и Харольда Хардраада из Норвегии.
Эдгар Этелинг, лишившийся своих защитников — Тостига и миледи, — словно призрак, бродит по каменным коридорам. Кажется, он остается на границе миров ребенка и мужчины — тоскует по ласке матери и мечтает о теле взрослого воина. Я видела его снова, когда он рано утром сидел у окна на каменной лестнице. Он вспомнил нашу предыдущую встречу и кивнул мне. Мне хотелось обнять его и сказать, что все будет хорошо, но не мне быть фамильярной с принцем, да и не могу я произносить то, во что сама не верю.
23 июня 1066 года
Большого праздника по случаю летнего солнцестояния не было, и мы с Джоном вновь оказались в разлуке в наш день — а ведь прошло двадцать лет с тех пор, как мы впервые поцеловались. Однако мой муж ускакал на север вместе с гвардией короля Гарольда. В канун летнего солнцестояния я оставила Джеймса и маленького Джона с Мэри, решив, что им будет лучше праздновать без меня и моих горестей, и отправилась в лес, намереваясь посидеть в ореховой роще, где мы теперь так редко бываем с Джоном. Я не могла понять, почему так тяжело на сердце, ведь нам и прежде грозила опасность. Я могу перенести мысли о любых трудностях, но мне страшно даже подумать о том, чтобы жить без мужа. Конечно, глупо тревожиться заранее и портить страхами и тревогами даже одну минуту в день.
Погода стоит чудесная. Наконец-то наступило настоящее лето, дни стали длинными, и дети ложатся спать поздно.
Не успела я зайти подальше в лес, как услышала голоса, и тут же стала двигаться бесшумно, как учил меня Джон на случай встречи с диким зверем. Конечно, я не хожу в лес охотиться, как это делают мужчины. Мне нравится наблюдать за живыми существами, пока они меня не заметят и не убегут. Мне доводилось видеть оленей, кабанов и зайцев, диких лошадей и даже медведя.
Голоса доносились из зарослей можжевельника, и, подойдя поближе, я понят, что слышу вовсе не клятвы любовников, как мне подумалось поначалу, беседу вели монах и человек в дорогом плаще — аристократ или богатый купец. Я подошла еще ближе, стараясь не привлекать к себе внимания, и узнала Одерикуса, а его собеседником был один из советников Гарольда. Сначала я почувствовала огромное облегчение, увидев моего друга, и мне даже в голову не пришло спросить себя, что он делает в лесу, тайно встречаясь с придворным. С того места, где я остановилась, мне был хорошо слышен их разговор, но я не понимала ни слова, поскольку они говорили на языке норманнов.
Я осторожно зашагала прочь и вскоре вернулась к кострам, где выпила вина со специями, которым Винтер щедро угощал соседей, и попыталась забыть о том, что видела. Я выпила больше сладкого напитка, чем следовало, стараясь забыть не только встречу в лесу, но и тревоги, грузом лежавшие у меня на сердце.
26 июня 1066 года
Джон вернулся из Нортумбрии, но вскоре вновь уехал на остров Уайт, где расположился король Гарольд, дожидаясь прибытия флота Вильгельма Нормандского, — все были уверены, что вскоре он появится у наших берегов. Джон был в отличном настроении, поскольку чувствовал, что настало время, когда он сможет проявить себя перед королем. Я не могла ничего ему сказать, ведь он именно об этом давно мечтает. Если я позволю ему заметить свой страх, то наше расставание будет не таким нежным и теплым. Надо пользоваться временем, пока Джон здесь, ведь очень скоро он нас покинет.
Я попросила его пойти со мной в лес в ночь полнолуния. Мы шли рука об руку, веселые, как юные любовники, и я не хотела слушать истории о сражениях и смерти. Мы пришли к кругу камней в ореховой роще. Было так тепло, что мы с Джоном обнаженными искупались в реке. Тело Джона загорелое и стройное от постоянных путешествий, и в лунном свете мне показалось, что он похож на лесного духа. Я так ему и сказала, а он ответил, что я лесная нимфа. Джон притянул меня к себе и любил прямо в воде, пока мы оба не достигли вершин блаженства. Потом мы лежали на берегу и смотрели друг на друга, как когда-то в юности.
23 августа 1066 года
Флот короля увеличился — к нему присоединились силы из каждого графства. На севере Тостига преследуют неудачи, и многие солдаты дезертировали, рассчитывая найти убежище у его друга короля Малкольма Шотландского. Однако Малкольм не собирается выступать против Гарольда — он вовсе не глуп.
Я побывала в Винчестере, куда по просьбе Эдиты доставила краски. В день моего возвращения я видела Одерикуса, который разговаривал во дворце с епископом Стигандом. Монах не показывался в Вестминстере с зимы, а когда заметил меня, отвел глаза. Он не мог знать, что я видела его в лесу, но стыдился передо мной за какой-то поступок. Позднее он пришел ко мне в башню и сказал, что один из гобеленов в библиотеке Кентербери отсырел и его необходимо починить. Я ответила, что недавно видела миледи и та просила, чтобы он послал ей весточку, но его глаза потемнели — вмешался какой-то демонический дух, — и он меня не услышал. С прошлой зимы его черные волосы поседели, и он больше не откровенен со мной, как раньше.
Одерикус не поехал с Гарольдом, объяснив свой отказ болезнью. Он сказал, что отдохнет с братьями, которые выращивают лекарственные растения в далеком монастыре. Одерикус что-то скрывает, его болезнь — страх.
В Винчестере миледи сидела в саду, окруженном каменными стенами монастыря. Она стройна и бледна, как новая луна. Когда я приблизилась к ней, то увидела, что она держит в руках пергамент. Эдита делала новый рисунок для вышивки. Теперь картинки возвращения Гарольда из Нормандии и его аудиенции у Эдуарда не будут концом истории, изложенной в вышивках гобелена. Нужно сказать, что рисунки Эдиты так же хороши, как и в самом начале, когда работа над гобеленом только началась.
Она отвела меня в комнату, где работали сестры, и там я увидела гобелен, растянутый на четырех длинных столах, сдвинутых вместе, — и все равно он не помещался полностью. В комнате находились аббатиса и юная сестра. Аббатиса сразу же отпустила ее и приветствовала меня легким поклоном. Говорила она мало.
Я внимательно посмотрела на новые рисунки миледи и увидела погребальную процессию Эдуарда в Вестминстере, а потом смертное ложе короля Эдуарда, возле которого стоят миледи, какой-то мужчина и священник. Я спросила, почему она решила изложить историю в таком порядке, а она ответила, что смерть короля была отпразднована еще до того, как он умер, и Гарольд уже знал, что украдет корону саксов.
Она рассказала мне о том, что произошло в тот день, и мне показалось, будто я сама находилась в покоях Эдуарда — так подробно миледи Эдита все описала. Я видела тяжелые занавеси вокруг его постели, расшитые символами христианства, и короля, и его лицо, белое, как льняная простыня.
Король Эдуард испустил последний вздох в присутствии королевы, Одерикуса и Эдгара Этелинга. Глаза миледи блестели, точно римское стекло, но она не пролила ни единой слезы, вспоминая о смерти мужа. Она сказала, что Эдуард не испытывал боли, усталость исчезла, он стал похож на юношу. И добавила, что король находился в здравом уме и твердой памяти, когда передавал королевство и корону Эдгару.
Гарольд солгал, утверждая, что находился рядом с королем в час его смерти и что Эдуард передал королевство именно ему. Когда Гарольд вошел в королевские покои, Эдуард был уже мертв. Ложь Гарольда поддержал Одерикус, который согласился подтвердить слова Гарольда в обмен на обещание сохранить жизнь Эдиты.
Я не знала, насколько глубока любовь Эдиты к монаху и любит ли она его теперь. Вероятно, она поняла, какую совершила ошибку, доверив свое сердце человеку, который служил стольким повелителям. Миледи Эдита видела его сомнения и теперь знает, что вовсе не к ней обратил Одерикус свои взоры.
Ныне я понимаю, отчего возник мрак в глазах Одерикуса, почему посерела его кожа, поседели волосы и изменилась походка. И еще я вспомнила, что он чужой в доме саксов — в его жилах течет кровь римлян и норманнов.
Я больше не могу об этом думать, мне страшно, когда я представляю, что нас ждет впереди.
Перед тем как покинуть монастырь, мне довелось увидеть гобелен, лежащий на длинном столе мастерской. Только аббатиса и миледи Эдита находились в мастерской, когда королева рассказывала о смерти мужа, а она знает, что я буду хранить ее тайну, как дракон — пещеру, полную золота.
На ее рисунках был изображен Гарольд как коронованный король, сидящий на троне. На гобелене, вышитом простой шерстью, спрятана правда.
Гарольд изображен как король Англии, он рассказывает, как король Эдуард говорит с ним со своего смертного ложа, и что свидетель тому — Одерикус. Он рассказывает, как Эдуард просит Гарольда взять на себя заботы о королевстве. Одерикус не возражает, а у Эдгара Этелинга не оказалось достаточно храбрых союзников, которые смогли бы выступить против короля. Все они испытывали страх, ведь Гарольд — из рода Годвина, а его отец был знаменит тем, что убивал своих врагов. Но на гобелене Эдиты человек у постели Эдуарда не носит черных усов, которые есть у Гарольда во всех других частях этой истории.
Тем, кто интересовался причинами отъезда его сестры из дворика, Гарольд отвечал, что отправил ее охранять сокровища, хранящиеся в Винчестере.
В последние мгновения своей жизни король Эдуард открыл глаза и посмотрел на Этелинга — именно ему, Эдгару, он завещал свою корону. Эдуард протянул руку жене, улыбнулся ей, попросил Эдгара о ней позаботиться, а потом за ним пришли ангелы.
2 сентября 1066 года
Тостиг объединился с Хардраадом, королем Норвегии, и Джон вновь покинул меня, пробыв дома всего три ночи. Он присоединится к людям Гарольда, которые готовятся к маршу на север, в Йорк. Джон сказал, что шпионы Гарольда на севере считают, что Тостиг поведет войска на Лондон и Вестминстер, и теперь Лондонский рынок похож на растревоженный улей, гудящий о том, что братья Годвины, когда-то друзья и соратники, теперь встретятся на поле боя, чтобы сражаться друг с другом до тех пор, пока один из них не погибнет.
Велик гнев Тостига против своего брата короля, и я думаю, что не только изгнание и уязвленная гордость ведут его, но еще и дело, в которое они верили вместе с сестрой. Прошло совсем немного времени после смерти Эдуарда, Тостиг все еще скорбит по своему королю, и скорбь питает его ненависть.
Однако объединиться с северянами против семьи и королевства — отчаянный шаг, и только месть может служить тому объяснением.
В деревне женщины занимаются обычными делами, а дни становятся холоднее и короче. Как и я, они думают о том, что на сей раз их мужья могут не вернуться домой.
Хотя после возвращения монаха я дважды побывала в Винчестере, он так и не послал весточку своей леди. Я не могла сказать ей о том, что видела Одерикуса, это было бы слишком жестоко. Сама я редко его встречаю, он больше не получает удовольствия от разговоров со мной. Поэтому я удивилась, когда однажды вечером он пришел навестить меня. Накануне мы с ним случайно встретились в мастерской красильщика. Монах терпеливо ждал, пока красильщик пересчитает его монеты. Он спросил меня о детях, но мне показалось, что он не слушает мой ответ, поэтому сказала всего пару слов. Когда хозяин мастерской закончил подсчеты, Одерикус склонил голову и быстро вышел.
Однако на следующий вечер он подъехал к двери моего дома. Одерикус был в плаще, а его бритую голову скрывал капюшон. Я предложила ему войти и присесть у огня, и он вошел, с тревогой оглядываясь по сторонам, словно опасался найти здесь врагов. Но Мэри и маленький Джон ушли к соседям, и только малыш посматривал на него, играя у очага с пряжей и веретеном.
Одерикус спросил меня о моих записях. Его интересовало, описала ли я все известные мне события. Если да, то в таком случае их следует уничтожить, сказал он. Монах заявил, что запятнал свою душу, предав короля и его близких, и теперь боится, что женщина, которую он научил писать, расскажет о его грехах. Я напомнила ему, что он приблизил меня к себе из-за того, что я наблюдала и слушала, и добавила, что он сам принимал участие в пересказе этой истории в гобелене. И я ему отказала.
Тогда Одерикус заплакал. Я сказала ему, что он поддержал ложь Гарольда для того, чтобы, спасти жизнь любимой женщины, но не знаю, говорил ли он Гарольду или Вильгельму, что данная ими клятва была фальшивой. Он ответил, что не открыл им правды, ведь тогда он моментально стал бы изгнанником. Одерикус произносил эти слова, не глядя на меня, настолько он стыдился своего страха, который управлял его поступками. Тогда я спросила, почему он сообщил Вильгельму о предательстве Гарольда, укравшего корону. Не сводя глаз с малютки Джеймса, жующего веретено, Одерикус ответил, что он верит Риму. Значит, Бог сделал свой выбор, к тому же в его жилах течет кровь римлян и норманнов. Получается, что он только делал вид, что поддерживал саксов, спросила я. Тогда монах заглянул мне в глаза и поклялся, что это не так. Ему хотелось лишь угодить королеве, и его соблазнили ее любовь к собственному народу, а также ее красота и мужество. Перед уходом Одерикус сказал, что будет поминать нас в своих молитвах.
10 октября 1066 года
Стало известно, что между братьями Гарольдом и Тостигом произошло сражение возле Стэмфорд-Бридж в графстве Йорк. Войска расположились на противоположных берегах реки Деруэнт, и братья провели переговоры. Гарольд, закованный в броню и одетый, как парламентер, прокричал через мост своему брату, что если тот вернется к своей семье, то получит третью часть всей Англии. Когда Тостиг спросил, что произойдет с Харольдом Хардраадом, его брат ответил, что выделит ему семь футов земли, поскольку он выше остальных. Тостиг ответил, что никто не посмеет про него сказать, что он привел короля Норвегии в Англию для того, чтобы его предать, повернулся и уехал прочь.
Когда Хардраад спросил у Тостига, с кем он вел переговоры, Тостиг ответил, что это был его брат Гарольд. Викинг ответил — если бы он знал об этом, то убил бы его. Однако Тостиг не убил брата, который когда-то был его верным другом, и заявил, что если брату суждено убить брата, то пусть уж лучше Гарольд убьет его.
Норвежцы, датчане и воины Фландрии пошли в атаку через мост, а наши войска, если верить словам посланца с севера, сражались храбро и стойко. Король викингов погиб с песней, посвященной Валькирии — богине воинов северных племен. Тогда Тостиг взял на себя командование армией, но северяне, лишившись своего могучего короля, уже не выказывали прежнего мужества, и многие из них погибли. Вместе с ними был убит и Тостиг. Я уже знаю, что брат погиб от руки брата, но истории обычно обрастают невероятными деталями по мере того, как их бесконечно повторяют.
После долгого марша на север и сражения в Йорке нашим войскам не удалось отдохнуть, поскольку Вильгельм Нормандский высадился в Пивенси и разбил там лагерь. Нам рассказали, что армия Гарольда, уставшая, но радостная после одержанной победы, вновь двинулась на юг, чтобы встретить там норманнскую конницу. Надеюсь, что монах не забудет помянуть нас в своих молитвах.
12 октября 1066 года
Джон вернулся домой, но только на одну ночь. Он улыбался, как юноша, с которым я танцевала на рыночной площади Кентербери, хотя его лицо потемнело от пыли и пота, а на руке кровоточила рана. Глаза Джона горели, словно серебряные бусины, когда он рассказывал, как Гарольд хвалил лучников. Джон стал капитаном королевских лучников и ждал такой похвалы уже много месяцев.
В ту ночь мы не спали до самого восхода — солнце проникало в наш дом сквозь дыры в стенах, и я прижималась к Джону, чтобы он не оставил меня наедине с моими страхами и ужасными предчувствиями. Когда он ускакал прочь, я стояла вместе с другими женщинами и махала ему рукой, и, хотя ни одна из нас не пролила ни слезинки, пока мужчины выезжали за городские стены, многие разрыдались, как только последняя лошадь исчезла в лесу.
20 октября 1066 года
Второе сражение состоялось там, где растут древние яблони, возле Колдбек-Хилл. Герольд из Гастингса рассказал, как храбро наши воины сражались в Колдбеке, даже несмотря на то что знаменосец Вильгельма поднял знамя Римско-католической церкви.
Мой муж Джон не вернулся из сражения возле древних яблоневых деревьев, он погиб, как и хотел, на поле битвы, защищая своего короля. Теперь мне кажется, что я всегда знала о том, что буду стареть без Джона, хотя в мирные времена женщины мечтают о спутнике на склоне лет. Дни мира завершились, когда Гарольд встретился в Нормандии с Вильгельмом, а члены семьи Годвинов пошли друг на друга.
Герольд рассказал, что весь долгий кровавый день армия саксов удерживала захватчиков, отбивая одну атаку за другой. Наконец норманны отступили, делая вид, что слишком устали, и саксы позволили себе немного отдохнуть. Но норманнские лучники лишь дожидались, когда королевская гвардия перестанет держать строй, и тут же обрушили на них черный дождь своих стрел, пока королевская гвардия не ослабела, оставив короля без защиты. Этого момента и ждали всадники Вильгельма, они смяли дрогнувшую оборону саксов. Короля Гарольда сбили с боевого коня и зарубили на месте, как и обоих его братьев. Тостиг и Гарольд, а также их братья Гирт и Леофвин погибли, сражаясь за корону, которая никогда им не принадлежала.
22 октября 1066 года
Вильгельм Нормандский ждал в Гастингсе проявления покорности со стороны Эдвина и Моркара, эрлов Нортумбрии и Мерсии. Братья Алдиты не стали посылать войска под знамена Гарольда, они выжидали, кто после окончания сражения станет королем. Теперь, когда все эрлы Годвины мертвы, Вильгельм заберет их земли еще до того, как их тела будут преданы земле, на которой они построили свои замки.
Вильгельм потребовал отречения архиепископа Элдреда и сдачи Эдгара Этелинга. Он угрожал послать солдат, которые будут грабить и жечь, если им окажут малейшее сопротивление. Когда известие о смерти Гарольда достигло Вестминстера, Витан начал готовить немедленную коронацию Эдгара Этелинга, но было слишком поздно, и Эдгару пришлось бежать, чтобы спастись от гибели.
Сразу же поползли зловещие слухи. Люди говорили, что поражение у Колдбек-Хилл стало наказанием за коронацию человека, который был воином, а не принцем. Теперь они твердят, что Гарольду не следовало становиться королем. Вильгельм не позволил похоронить Гарольда по христианским обычаям, запретив даже его матери Гите искать на поле битвы его изуродованное тело. И только просьбы Эдит Лебединой Шеи заставили Вильгельма изменить свое решение. Он позволил любовнице Гарольда забрать его тело с пропитанного кровью склона горы. Только она смогла узнать Гарольда, чье тело было рассечено ударами меча и пронзено стрелами. Она отвезла его в церковь в Бошаме, где покоится тело его отца, эрла Годвина, но не осмелилась построить для него усыпальницу или попросить благословения у священника.
Вильгельм Нормандский рассказал несчастным пленникам о том, как Гарольд клялся на священных реликвиях, что поможет ему стать королем Англии после того, как умрет Эдуард. Но вместо этого он сам захватил корону и теперь, как утверждает Вильгельм, будет гореть в аду, поскольку Бог его никогда не простит.
20 ноября 1066 года
Каждый день мы слышим о новых набегах норманнских солдат — они приближаются к Вестминстеру. К Вильгельму присоединилась его жена Матильда, и они вместе едут в Винчестер, где Эдита охраняет сокровища короны. Она будет вынуждена их отдать, у нее нет выбора. Я надеюсь, что она сумеет спрятать гобелен. Наверное, миледи чувствует себя одинокой. Эдгар по ее совету бежал в Шотландию — король Малкольм все еще остается нашим другом. Одерикус также скрылся, но куда и по какой причине, остается тайной.
Мать миледи, Гита, вернулась в Данию вместе с Эдит Лебединой Шеей и сыновьями Гарольда, но Эдита не покинет Англию. Теперь она действительно осталась одна, без родственников и друзей, за исключением аббатисы и молчаливых сестер аббатства. Мои визиты к ней стали слишком опасными, но монахини уже заканчивают вышивку, которую венчает история коронации Гарольда.
Мэри уже научилась писать буквы и слова, наблюдая за моей работой и задавая бесчисленные вопросы. Меня пугает и одновременно радует, что она может заинтересоваться этим ремеслом, — ведь перо становится другом, который смягчает тяготы нашего мира.
10 февраля 1067 года
Именно Мэри уговорила меня продолжать писать, хотя до сих пор я не могла заставить себя сделать это и уже забыла, когда в последний раз опускала перо в чернила. Перо, так долго остававшееся моим другом, превратилось во врага, а силы, которые оно мне давало, чтобы писать дальше, неожиданно покинули меня, как только прошла боль, вызванная смертью Джона. Тогда все вокруг меня стало скорбью и тенью, а сердце не могло найти радости ни в зимнем солнце, ни в первых словах малыша Джеймса. Но история еще не рассказана до конца, и я должна завершить начатое.
Когда Матильда прибыла во дворец и стала нашей новой королевой, она призвала меня, поскольку ей рассказали, что я мастерица вышивки. Матильда старше меня, но сложена, как ребенок. Она проницательна, и я не могу сказать, что несправедлива.
Королева Матильда показала гобелен, найденный солдатами ее мужа в сокровищнице саксов в Винчестере. Вышивка Эдиты была спрятана в огромном ларе. Однако я уже знала, что гобелен обнаружили, поскольку миледи послала за мной, когда узнала, что мой дом сожгли солдаты Вильгельма. Я сказала ей, что мои дети в безопасности и что нам есть где спать, поскольку наши соседи добрые люди. Мэри спасла мои дневники, при этом сильно обожгла руку, прикоснувшись к горящей стене.
Вышивка миледи удостоилась высоких похвал королевы Матильды, к тому же она была взволнована тем, что считала работу над гобеленом незаконченной. Она сказала мне, что беседовала со священником мужа, монахом по имени Одерикус, который обещал сделать завершающие рисунки в соответствии с ее указаниями. Еще она добавила, что о моем искусстве в обращении с иглой ей поведал тот же Одерикус.
Теперь мы вновь работаем с Одерикусом в башне над несчастным гобеленом, и монах уже успел сделать рисунки для двух картин. На первом изображена лодка, пересекающая водную гладь, несущая Вильгельму сообщение о том, что Гарольд стал королем Англии. Монаху не пришлось рассказывать мне, что в этой лодке плыл он, ведь я уже знала о его предательстве.
Мы работаем молча, хотя я не могу сказать, что ненавижу Одерикуса за его слабость. Просто у меня нет слов, которые я могла бы к нему обратить. Он позволил страху стать своим господином — ведь именно Одерикус оказался шпионом Вильгельма при дворе саксов. Он верит, что Бог выбрал его короля, но не может понять, что единственный бог Рима — сам Рим, ведь святые отцы не слышат криков несчастных душ. Я не сомневаюсь, что он действительно любит королеву, но монах верит, что совершил преступление против Бога на небесах.
На второй картине изображены приготовления к норманнскому вторжению, строятся лодки, работают оружейники, повсюду видны готовящиеся к сражению солдаты. Эти сцены сделаны с большим количеством деталей, чем другие, нарисованные монахом. Понятно, что Одерикус наблюдал за этими приготовлениями собственными глазами, а вовсе не находился в отдаленном монастыре, как он утверждал. А потом — сама битва. Одерикус изобразил в армии саксов лишь одного лучника. Это мой Джон.
Мне предоставлено самой решить, как будет украшено свободное пространство выше и ниже основного изображения, и у меня появились кое-какие идеи.
Королева Матильда приходила посмотреть на нашу работу и осталась довольна. Она ничего не сказала о втором ковчеге, появившемся в том месте, где ее муж Вильгельм и Гарольд приносят клятву. Но я знаю, что именно здесь монах признается в своем преступлении, поскольку в ковчеге, которого касается Гарольд, нет священных мощей и клятва Гарольда оказывается ложной. Ко второму ковчегу, нарисованному Эдитой так, что он похож на настоящий, Гарольд не притрагивается. Довольно странный способ запечатлеть это событие, но так монах пытается облегчить страдания своей измученной души, а у всех, кроме тех, кто знает, что произошло на самом деле, сцена не вызывает ни малейших подозрений. Кому, кроме нас, известно, что тогда были принесены не только клятвы верности?
Под картиной, изображающей Гарольда и Вильгельма, я вышила мужчину с топором, чтобы показать, что здесь свершается предательство. Под следующей частью гобелена вышита другая фигура, говорящая о запретной любви. Одерикус сделал вид, что ничего не заметил. Он оценил мою верность и не только нарисовал всего одного лучника саксов — Джона, но и сделал рисунок по воспоминаниям, которыми я с ним поделилась. Он изобразил женщину, выбегающую из дома, который подожгли солдаты Вильгельма. Эта женщина — я.
Королева Матильда сказала, что Одерикус должен по ее указаниям сделать над рисунками надписи на латыни, которые объясняли бы, что происходит. Тут не может быть никаких сомнений, сказала королева, всем должно быть понятно, что гобелен повествует о победе Вильгельма Нормандского.
ГЛАВА 15
Покидая здание исторического факультета, Мадлен ощущала удивительную легкость, какую не помнила уже очень давно. Пожалуй, в последний раз это было еще до смерти Лидии.
Трудно поверить, что с тех пор прошло полгода. Однако приближался конец мая, и все в университете с нетерпением ждали наступления лета. Цветы в небольшой грушевой роще превратились в зеленые завязи.
Мадлен привыкла к отсутствию Лидии и больше не ощущала рядом с собой призрака матери. Если раньше ей часто казалось, что она видит на улице женщин, похожих на мать, то теперь такое случалось все реже — да и на глазах больше не появлялись слезы. Горечь недавней утраты смягчилась. Мучительной была не только сама утрата, поняла Мадлен, но и напоминание о неизбежности смерти. Временами ее все еще переполняла печаль, но боль потеряла прежнюю остроту. Тем не менее желание увидеть Лидию не проходило, и порой Мадлен думала, что оно останется с ней надолго.
Теперь, когда до каникул оставалась всего неделя, Николас пригласил ее в Кентербери. Это было не столько приглашение, сколько совет, который он ей дал в процессе их переписки, признавала Мадлен. После того как Мадлен отослала Николасу перевод рунического стихотворения, они стали регулярно обмениваться письмами. Сначала они несколько дней обсуждали руны и пришли к выводу, что в стихотворении речь шла о ковчеге с мощами святого Августина. Они вернулись к заявлению Иоганнеса Корбета, который предположительно вынес из собора нечто ценное и написал:
«Я незаметно увез с собой величайшее из сокровищ. То, что никогда не должно быть расплавлено для получения денег, которые будут потрачены на войну».
После этого переписка на некоторое время прекратилась, пока три недели назад Николас не прислал ей письмо, в котором спрашивал о планах на лето. Он напомнил Мадлен, что ей следует проверить, в каком состоянии находится ее «вторая резиденция», иначе она может стать холодной и негостеприимной. Он добавил, что подрезал розовые кусты в саду Лидии — просто однажды, проезжая мимо, пожалел их.
Мадлен ответила не сразу, лишь поблагодарила его за заботу о розах. И дело было не только в том, что она хотела заставить Николаса ждать, — Роза постоянно обсуждала с ней поездку в Кентербери.
Во время одного из вечеров, освященных сангрией, Роза заставила Мадлен рассказать обо всем. Естественно, обнаружив, что все достаточно серьезно, она уже не собиралась разжимать зубы, напоминая терьера, вцепившегося в добычу.
Мадлен до сих пор помнила их последний разговор в тапас-баре:
— Развлечения — это хорошо, Мадлен, секс — просто замечательно, но как только в дело вступает сердце, тебе конец.
— Послушай, Роза, здесь невозможен феминистский подход. Я не такая, как ты, и не намерена до конца жизни спать с красивыми юношами.
— Господи, а почему нет? — Роза говорила совершенно серьезно. — У тебя смехотворные иллюзии о любви, Мэдди. Он живет в другой стране. Ты не можешь поехать за мужчиной в Англию и принять его культуру. Из подобных вещей никогда ничего не получается, — (Именно по этой причине Роза перебралась из Италии во Францию.) — В любом случае я была намного моложе тебя. Ты слишком стара для подобного.
— Мне всего тридцать пять.
— Вот именно. Именно с этого момента начинаются проблемы с мужчинами. Они либо разведены — и надо обязательно выяснить почему, — или ни к чему не пригодны. Или гоняются за каждой юбкой. При этом стоит рассматривать только последних. Тебе нужно немного развлечься, не более.
— А ты сейчас развлекаешься? — сухо спросила Мадлен. — Тогда скажи мне об этом.
На этот вопрос Роза отвечать не стала, а заказала новый кувшинчик вина.
По дороге домой Мадлен вздохнула, размышляя об отношении Розы к романтической любви, отметив, что появление вечернего солнца заметно увеличило число посетителей кафе. Люди пили пиво за столиками, выставленными на тротуар, в глаза бросались футболки и темные очки.
Мадлен вошла в вестибюль, когда Тобиас выходил из своей квартиры. Он был в темных очках и обтягивающей рубашке с ярким гавайским рисунком.
— Привет, красотка. Надеюсь, ты не намерена провести сегодняшний вечер дома — на улице отличная погода. — Тобиас сделал широкий жест рукой. — Я отправляюсь в парк на концерт. Хочешь со мной?
— Не знаю, Тобиас. В любом случае спасибо. Может быть, я выйду погулять попозже.
— Я считаю, что ты просто обязана это сделать. Хочу посмотреть, как ты танцуешь!
С этими словами Тобиас проделал перед дверью несколько па, послал Мадлен воздушный поцелуй и ушел.
Она вошла в квартиру. Гостиную заливал солнечный свет. Теперь дни стали длиннее, и после возвращения домой она могла посидеть на диване, греясь в солнечных лучах. Она так и делала в последние недели, а как только солнце опускалось и его лучи уже не доставали до дивана, отправлялась в кабинет, откуда смотрела, как стена музыкальной школы становится золотой, а в теплых солнечных лучах нежатся кошки. Лишь после этого она открывала дневник.
Оставалось перевести самую последнюю запись.
Мадлен думала, что дневник закончен — Леофгит перестала писать без всякого предупреждения. После февраля тысяча шестьдесят седьмого года осталось несколько пустых страниц, а последней записью было описание завершения работ с гобеленом. Так была разгадана одна из его тайн — вышивку продолжили по приказу королевы Матильды, которая увидела возможность прославить норманнское вторжение и победу мужа над саксами. Очевидно, новую королеву не смущали некоторые несоответствия в основной части гобелена. Возможно, она посчитала, что добавленный текст, в некоторых случаях придававший другой смысл вышитым картинам, позволит устранить все сомнения.
Мадлен получила даже больше, чем рассчитывала. В ее руках были хроники создания двухсоттридцатифутового гобелена, висящего в Байе. Она до сих пор испытывала волнение, ведь дневник был гораздо более важным историческим документом, чем предполагал Карл. Не существовало никаких других источников, в которых упоминалось бы происхождение гобелена Байе.
Однако откровения Леофгит об участии Матильды в завершении работы над гобеленом оказались не последними записями в дневнике, поскольку после нескольких пустых листов имелась еще одна страница, заполненная коричневыми паукообразными буквами. Мадлен не могла заставить себя прочитать эту запись. Она не прикасалась к дневнику несколько дней. Так прошла неделя. Она решила, что прочтет заключительную запись, когда будет в Англии, перед тем как вернуть дневник сестрам Бродер. Мадлен боялась, что после этого в ее жизни возникнет ничем не заполненная пустота. Она не знала, готова ли к этому.
Нужно было заранее договориться с сестрами Бродер о встрече, но Мадлен решила, что свяжется с ними, когда приедет в Кентербери. Если их не окажется в городе — что ж, ведь она пыталась вернуть дневник. Наверное, Мадлен надеялась, что каким-то образом сумеет его сохранить. Приятная иллюзия. Впрочем, сестры почти наверняка не покидают Семптинг. Куда им ехать? К тому же, если перейти в соседнее помещение их диковинных владений, можно считать, что уже попал в другое место.
После того как Мадлен довольно резко ответила Карлу в апреле, он больше не возникал на ее горизонте. Мадлен сочинила несколько вариантов ответа, но ни один из них ее не удовлетворил. В конце концов она решила, что наиболее оскорбительным из них будет самый короткий — «Спасибо, нет». Так она и написала. Очевидно, он понял, что Мадлен не интересуют его махинации. Мысль об этом по-прежнему приводила ее в ярость, особенно когда она поняла, что ей польстило его внимание. Тем не менее она испытывала некоторое удовлетворение — Карл не знал, насколько ценным на самом деле является дневник, который он увидел на ее кофейном столике.
Потом ей пришло в голову, что Карл может знать о существовании ковчега с мощами святого Августина. Не следовало забывать, что он считался экспертом по Скандинавии, а ковчег с рунической надписью принадлежал датскому королю Кнуду. Руны появились именно в этой части Европы. Если Карл связан с людьми вроде Рене Девро — скупщиком антиквариата, работавшим на Ватикан, — тот должен быть в курсе легенд об утерянных церковных реликвиях. Мадлен даже хотела задать ему об этом вопрос, но не собиралась снова привлекать к себе его внимание. Так или иначе, но ковчег, по словам Филиппа, был священным Граалем.
Николас вернул в архив рунические записи Иоганнеса Корбета и сказал, что их следует отправить в Лондон с несколькими другими документами, которые он посчитал интересными для Британской библиотеки[49]. И вновь Мадлен пришла в голову мысль — сколько еще подобных всеми забытых документов лежит в хранилищах и архивах и о каких событиях они могут поведать.
Когда солнце переместилось с дивана, Мадлен взяла телефон и позвонила Розе. Теперь, когда она перестала работать над переводом, у нее не было поводов сидеть дома, и она решила, что будет правильно последовать совету Тобиаса и отправиться на концерт в парк. Роза будет потрясена, а Мадлен хотелось прогуляться.
Мадлен решила послушать совета Джуди и взять несколько дополнительных выходных к предстоящему французскому празднику Вознесения. Он пришелся на четверг, и пятница также стала выходным днем. На следующую половину недели она попросила предоставить ей отпуск по семейным обстоятельствам.
Предпраздничные дни прошли быстро — ей предстояло проверить последние студенческие работы, а потом привести в порядок письменный стол. Закончив работу, которую Мадлен откладывала уже несколько месяцев, она почувствовала себя свободной. Филипп озадаченно наблюдал за напевающей себе под нос Мадлен, которая быстро наполняла большой пластиковый мешок многочисленными циркулярами, непрочитанными историческими журналами и листами с какими-то заметками, прежде казавшимися ей нужными.
В конце недели Роза почти умоляла ее пойти с ней на вечеринку факультета изящных искусств. Это было совсем не похоже на Розу — она никогда не нуждалась в спутнице, когда речь шла о посещении мероприятий с коллегами. Мадлен отказалась, пообещав встретиться с ней после работы и слегка перекусить (а заодно выяснить, в чем дело).
Она вошла в кафе и сразу заметила зеленую обтягивающую майку Розы и желтую вельветовую мини-юбку. Довольно дерзкий наряд для Кана, где никто и не слыхивал о модной одежде из вельвета. Дополняли наряд сапоги до колена на высоченных каблуках. Это было уже слишком, но Роза всегда любила выделяться из толпы.
Она сидела в углу и читала журнал, совершенно не обращая внимания — удивительное дело! — на официанта с мощным торсом и в обтягивающей футболке.
Мадлен опустилась на свободное место.
Роза, прищурившись, разглядывала подругу.
— Что ж, на бледную немочь ты больше не похожа, но все еще напоминаешь вешалку.
Она взяла меню.
— Предлагаю взять сырное суфле с тройным шоколадом.
Мадлен равнодушным взглядом пробежала по строкам меню. Она незаметно наблюдала за Розой, которая подозвала официанта и сделала заказ, не обращая ни малейшего внимания на его мощные мышцы. Когда он ушел, Мадлен скрестила руки на груди и пристально посмотрела на подругу:
— Так, а теперь рассказывай, в чем дело.
— Ты про что? — Роза широко раскрыла глаза, безуспешно пытаясь изобразить невинное выражение.
— Перестань! Ты даже не обратила внимания на официанта! Мало того, ты хочешь, чтобы я с тобой за ручку пошла на вечеринку. И мы обе знаем, что на тебя это не похоже. Короче, в чем дело?
Роза вздохнула.
— Нервы.
— У тебя нет нервов. Нервы — это моя ипостась.
— Появился новый профессор. Он начнет работать после каникул.
— И?..
— Я уже работала с ним. У нас кое-что было. И сегодня его пригласили на вечеринку.
— Я не поняла. Ты что же, до сих пор влюблена в него?
Роза фыркнула.
— Я же говорила тебе, я больше не влюбляюсь! На самом деле он был последним мужчиной, в которого я влюбилась.
— И что было дальше?
— Он был женат.
— И женат до сих пор?
— Нет.
— Ах, вот оно что. В таком случае советую тебе заехать домой и надеть маленькое черное платье, прежде чем отправляться на встречу с ним!
На лице Розы отразились сомнения, но потом на губах расцвела озорная улыбка.
— Предлагаю тост, — сказала Мадлен, поднимая бокал. — За лето.
— За лето, — согласилась Роза.
Мадлен в полной мере ощутила волнение, только сойдя с парома в Дувре. До этого момента она старалась ни о чем не думать, хотя последнее письмо, полученное от Николаса по электронной почте, вызывало в ней противоречивые чувства.
Он по-прежнему работает в архиве Кентербери, писал Николас, но ему предстоит двухнедельный отпуск. Как он и предполагал, его контракт будет возобновлен. Более того, идут разговоры о том, что в его распоряжение предоставят ассистента, поскольку все, в том числе и он сам, недооценили объем работ, связанных с разбором документов в подвале.
В письмах Николаса не содержалось ни малейшего намека на чувства, что озадачивало Мадлен и вызывало у нее некоторые сомнения. Но она уже не могла прогнать возбуждение при мысли о том, что вновь увидит Николаса.
Вместо того чтобы поехать в Кентербери по автостраде — самой короткой, но наименее живописной дороге, Мадлен разложила на соседнем сиденье атлас и выбрала кружной путь.
Она специально выехала из Кана на рассвете, чтобы проделать последнюю часть путешествия при свете дня. Узкая дорога петляла по заросшим лесом холмам. Временами она становилась невероятно узкой, и Мадлен беспокоилась, что ей будет трудно разъехаться со встречной машиной. Сквозь густую листву, словно через зеленый абажур, просачивался мерцающий свет.
Мадлен съехала на обочину, чтобы не мешать другим машинам, и остановилась. Теперь, когда двигатель «пежо» смолк, она услышала пение лесных птиц и вышла из машины, потому что ей вдруг захотелось подышать насыщенным кислородом воздухом. Она сделала несколько глубоких вдохов, чувствуя, как свежесть утра приятно холодит горло.
Когда Мадлен собралась сесть обратно в машину, то уловила движение между деревьев и замерла. На нее огромными глазами смотрел маленький олень с белыми пятнышками на шее. Они долго не могли отвести друг от друга глаз. Наконец животное грациозно умчалось прочь, заставив Мадлен вспомнить встречу Леофгит с лосем, когда та решила, что это хорошее предзнаменование.
Здесь все так же, как во времена Леофгит, подумала Мадлен, садясь за руль и трогаясь с места. Раньше почти вся Англия была покрыта лесами, но за прошедшие столетия нужды сельского хозяйства заставили жителей острова вырубить леса на значительных пространствах.
Постепенно на смену лесам пришли поля и пастбища, затем появились симпатичные деревни в стиле Тюдоров, а в нескольких милях от Кентербери Мадлен выехала на автостраду.
Когда она проезжала мимо средневековых стен города, у нее вдруг возникло ощущение, что она возвращается домой. Она с тревогой ожидала момента, когда окажется возле дома Лидии, но, увидев наконец викторианский кирпичный коттедж, она обрадовалась, а не опечалилась.
Сад перед домом зарос, если не считать подрезанных розовых кустов. Мадлен решила, что не будет делать никаких выводов из поступка Николаса, — к тому же он ясно дал ей понять, что думал о розах, а не о ней.
Возле входной двери Мадлен обнаружила конверт. Наверное, заезжала Джоан. Мадлен писала ей, что собирается приехать в Кентербери. Однако это была записка от Николаса — она сразу узнала его косой почерк.
Добро пожаловать домой. Позвони мне.
Н.Мадлен позволила себе улыбнуться, затем отнесла сумки наверх и прошлась по всем комнатам, словно хотела проверить, нет ли там призраков. Однако в коттедже обитали лишь собравшаяся за несколько месяцев пыль и тишина.
Мадлен отперла дверь, ведущую из кухни в заднюю часть сада, и попала в буйство красок. Маленькая лужайка, выходящая к каналу, почти вся заросла маргаритками и сорняками, на клумбах и в терракотовых горшках алели маки и тюльпаны. На двух больших кустах камелий раскрылись красные и розовые бутоны.
Возле канала стояла простая скамья, сделанная из доски, прибитой к двум поленьям. Именно здесь Мадлен курила, когда навещала Лидию. Она села и закурила сигарету, наблюдая, как быстрая зеленая вода уносит прочь листья и веточки.
Мадлен заворожили потоки света, отражающегося от поверхности воды, и мерный шум течения. Ей вдруг показалось, что откуда-то доносится смех Лидии. Непостижимым образом он стал частью материнского сада, канала и легкого ветерка, шевелившего ее волосы.
Когда Мадлен встала со скамьи и прошлась по лужайке, то заметила, что над дверью расцвела глициния, оправдав ожидания Лидии. Мадлен почувствовала, как ее охватывает удивительное умиротворение и она становится единым целым со временем и местом, словно оно впитало прошлое и каким-то непостижимым образом благословило будущее. Мадлен боялась дышать, чтобы не спугнуть его присутствие.
У задней двери она сняла босоножки, испачканные мягкой землей с берега канала, и вошла внутрь, ощущая босыми ногами прохладу плиток пола на кухне. Она открыла окна, словно приглашая в дом появившихся в саду духов.
Воздух все еще сохранял прохладу, хотя было уже почти четыре, и долгие часы, проведенные за рулем, давали о себе знать. Ей хотелось принять ванну и переодеться.
Но прежде всего необходимо было спрятать дневник. Когда Мадлен ехала в Англию, она не испытывала особого волнения, но постоянно помнила о своем бесценном грузе.
Пока ванна наполнялась, Мадлен вытащила шкатулку из сумки, где она лежала между маленькими подушечками, завернутая в ту самую шаль, которую ей дала Мэри Бродер. Мадлен отнесла шкатулку вниз и заперла ее в буфете, стоявшем в гостиной.
Лежа в ванне, куда она добавила лавандовую пену Лидии, Мадлен с облегчением поняла, что до сих пор испытывает удивительное ощущение, посетившее ее в саду. Хотя теперь оно стало уже знакомым, словно именно так она и должна была себя чувствовать. Ее обычная отстраненность куда-то исчезла. Быть может, все дело в том, что ей удалось разорвать невидимую нить, которая связывала ее с Питером, или то было эхо смеха Лидии? Или она наконец почувствовала всю полноту жизни?
Мадлен вышла из ванны, надела старые выцветшие джинсы и блузку без рукавов и позвонила Николасу.
Она услышала голос автоответчика:
— Привет, это Николас. Оставьте сообщение.
Мадлен испытала разочарование и облегчение одновременно. Наверное, так даже лучше.
— Это Мадлен. Спасибо за записку. Скоро поговорим.
Ее голос звучал спокойно, но она почувствовала возбуждение. Мадлен понимала, что это полнейшее безрассудство, а потому принялась себя ругать, пряча мобильный телефон. Возможно, ей следует относиться к жизни, как Роза, — если ничего не ждешь, то и не разочаруешься. Однако Роза призналась, что и в ее доспехах существует брешь. Оказывается, она до сих пор влюблена в профессора изящных искусств. Мадлен глубоко вздохнула, чувствуя, как понемногу начинает успокаиваться. Очевидно, нет неуязвимых людей, а потому нет ни малейшего смысла воздвигать стены — это только помешает близкому общению. В теории все казалось просто.
Мадлен подумала о Лидии и оглядела гостиную, где еще оставались вещи, которые она не убрала. Бронзовый заяц на каминной полке, три красивые акварели с сельскими пейзажами, стопка книг на полу возле полок. Прежде в комнате было слишком много вещей, теперь она стала свободной и какой-то другой.
Пыталась ли Лидия избегать близости с другими людьми? Мадлен не знала. Во время их последней встречи у нее не сложилось впечатления, что у матери возникли какие-то трудности, с которыми она борется. Пожалуй, Лидия стремилась наполнить свою жизнь любимой работой, а также общением с людьми. На похоронах и на собрании Исторического общества многие с любовью говорили о Лидии.
Когда Мадлен возвращалась из магазина, начало темнеть. И тут зазвонил ее мобильный телефон.
— Послушай, тебе нравится марокканская кухня? — Николас говорил небрежно, словно они виделись всего несколько дней назад.
— Я ем почти все, — ответила Мадлен, которая сразу напряглась, услышав Николаса.
— Отлично. Я ужасно проголодался. Ты не против, если я за тобой заеду — скажем, через полчаса?
— Хорошо.
Мадлен сразу же пошла наверх, в спальню, распаковала вещи и повесила на плечики платье, купленное в «Либерти». К счастью, материал не нуждался в глажке. Новые туфли лежали на самом дне чемодана.
Когда пришел Николас, она все еще не могла решить, какую сделать прическу. Мадлен уже дважды собирала волосы в пучок, а потом снова распускала. Да, пусть они останутся распущенными. Она бросила последний взгляд в большое зеркало. Платье сидело идеально, складки удивительно гладкой ткани элегантно окутывали талию и колени. Туфли прекрасно подходили по цвету к отделке ее шелкового платья.
Николас несколько мгновений ошеломленно стоял на крыльце, когда Мадлен распахнула дверь.
— Ты чудесно выглядишь, — сказал он, не успев войти в дом.
В холле он бросил на Мадлен еще один долгий взгляд, который ее слегка смутил. Может быть, платье слишком облегающее?
— Ты как-то изменилась, — наконец сказал он. — И дело не только в том, что на твоей коже превосходно смотрятся солнечные лучи.
Взгляд Николаса зарядил Мадлен такой энергией, что она не могла усидеть на месте. Она перешла в гостиную.
— Я взял такси, но можно дойти до ресторана пешком, — сказал он, последовав за Мадлен.
Он огляделся по сторонам, пока Мадлен тушила свет и накидывала на плечи легкую шаль.
— Да и дом сегодня выглядит иначе, — задумчиво добавил Николас. — Я бы сказал, что она его покинула. А ты как думаешь?
Мадлен застыла на месте. Да, у нее возникло такое же ощущение, но услышать это от человека, который никогда не видел Лидии, было шокирующим.
— Я понимаю, о чем ты говоришь, — тихо ответила она. — Здесь действительно что-то изменилось.
— И изменилось к лучшему, — заметил Николас, не сводя взгляда с Мадлен, но теперь в его глазах появилось что-то новое.
Сопереживание, подумала Мадлен. Она вдруг ощутила благодарность к Николасу и его умению чувствовать такие тонкие вещи. Странное дело — его физическое присутствие не имело к этому непосредственного отношения.
Маленький ресторан, в который они вошли, находился на узкой, мощенной булыжником улочке с домами, характерными для позднего Средневековья. А внутри все выглядело так, как, наверное, было при маврах, когда здание только что построили. Тогда купцы с юга вели торговлю с чайными домами, где стены были увешаны коврами, повсюду стояли низкие столики и лежали расшитые подушки.
Темнокожий официант отвел их в угол, отгороженный тонкими плетеными занавесками. Когда занавеска задевала за белые стены, раздавались негромкие мелодичные звуки. Низкий стол окружали разноцветные шерстяные подушки. В центре стола горела свеча.
— Вы предпочитаете сидеть на подушках или повыше? — спросил официант, показывая на соседний маленький зал, где стояли обычные столы и стулья.
Николас посмотрел на Мадлен, показывая, что выбор за ней.
— Мне нравится здесь, — сказала Мадлен, улыбнувшись официанту.
Он слегка поклонился и удалился, но почти сразу же вернулся с бутылкой красного вина.
Усевшись на подушку, Мадлен вдруг сообразила, что ее загорелые ноги обнажились почти целиком и что Николас также обратил на это внимание. Когда он увидел, что Мадлен перехватила его взгляд, он нисколько не смутился, а улыбнулся и предложил ей сигарету.
— Ты бывала в Марокко? — спросил он.
Мадлен покачала головой.
— Это одно из тех мест, куда мне всегда хотелось поехать. А тебе?
— Нет. Но я обдумываю возможность путешествия. — Он усмехнулся. — Когда закончится контракт.
— У тебя еще много работы?
— Если будет помощник, то где-то на два месяца. Скажем, до августа. А теперь расскажи мне, как твои лекции в Кане.
— Ну, это слишком общий вопрос. Могу рассказать, какая тоска работать с первокурсниками, или перечислить даты сражений и годы жизни разных королей, но это будет скучно не только тебе, но и мне.
— Но в твоей работе есть и что-то другое, — заметил Николас. В его словах не было вопроса, но он с интересом смотрел на Мадлен.
Она вздохнула.
— Я люблю историю. Но не уверена, что хочу всю жизнь преподавать ее.
— Однако существует множество смежных профессий. А ты никогда не думала о том, чтобы изменить направление приложения сил? Можно продолжать заниматься давно забытым прошлым, но при этом вовсе не обязательно каждый день стоять перед аудиторией, полной студентов.
— Ну… — Мадлен кивнула, потягивая вино.
Прядь волос упала ей на глаза, и она убрала ее, задумавшись над словами Николаса.
Он продолжал внимательно наблюдать за ней. На губах Мадлен мелькнула быстрая улыбка.
— А ты? Тебе нравится проводить столько времени среди пыльных выцветших документов?
Николас рассмеялся, и в уголках его глаз появились морщинки. С тех пор как Мадлен встретила его в первый раз, лицо Николаса заметно изменилось. Тогда он казался более жестким и отстраненным. Кроме того, он загорел, и его кожа перестала быть бледной. Глаза казались более голубыми, хотя вместо обычной синей рубашки он надел черную.
— Я работаю не только с бумагами, но и с людьми, — ответил он. — Мне необходимы и те и другие. Если я слишком много времени провожу с творениями давно умерших людей, то становлюсь слишком мрачным. Тогда я беру выходной и куда-нибудь уезжаю. В ближайшее время я так и собираюсь поступить, поскольку в две ближайшие недели у меня отпуск.
Им принесли заказ, и они принялись за пресный хлеб и какое-то непонятное, сильно прожаренное мясо с пряностями, перчеными овощами и кускусом[50].
Потом им принесли еще одну бутылку вина. Беседа текла все так же легко и непринужденно.
Мадлен казалось, что она ведет себя слишком эксцентрично, но не знала, как это скрыть. Николас так задавал вопросы, что она охотно и откровенно на них отвечала. Она уже призналась, что история привлекает ее обещанием приключений и воображаемыми мирами, которые создает.
— Я немного завидую твоему романтическому подходу, — сказал Николас, удивив Мадлен.
Она всегда считала, что склонность к романтике является слабостью.
— Я не уверена, что этому стоит завидовать! — со смехом ответила она. — Реальность обычно оказывается более разумной.
— Разумной-благоразумной. Проблема в том, что сначала нужно столкнуться с романтикой, чтобы иметь право стать реалистом.
Мадлен нахмурилась.
— Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь.
— Смотри, — сказал Николас, закуривая сигарету, — Вирджиния Вульф была реалистом, хотя жила среди романтиков. Она покончила с собой. А это поступок романтика, но не реалиста.
Именно в этот момент Мадлен решила, что ей больше не стоит пить. Она не согласилась с не совсем понятными ей доводами Николаса, предложив вернуться к этому вопросу, когда будет мыслить яснее.
Пока они ждали такси возле ресторана, чтобы разъехаться по домам, Мадлен слегка дрожала в тонком платье и шали, едва прикрывающей плечи. Стало прохладно.
— Замерзла? Возьми.
Николас накинул ей на плечи легкий пиджак, который держал в руках.
Он настоял, чтобы она первой взяла такси, потом положил руки ей на плечи и быстро поцеловал в губы, как уже делал однажды. Поцелуй получился совсем коротким, но пока Мадлен ехала домой, она все еще ощущала его губы и прикосновение рук. От пиджака едва заметно пахло его одеколоном.
Они не договорились о следующей встрече, но Мадлен до сих пор пребывала в легкой эйфории, которую впервые ощутила в саду. Казалось, ею завладела уверенность, что теперь все будет хорошо и прошлое перестанет оказывать негативное влияние на ее жизнь.
Весь следующий день Мадлен работала в саду. Погода была великолепной, и к вечеру она чувствовала себя прекрасно — она погрелась на солнце, мышцы приятно гудели от физической работы.
Сад теперь выглядит прелестно, заметила Джоан, когда навестила ее вечером. Они сидели за столиком в саду возле задней двери и пили чай со льдом.
Джоан с очевидным удовольствием оглядела работу Мадлен. Отсюда был виден канал — сорняки и высокая трава не портили вида.
— Здесь очень красиво. Что ты намерена делать с домом, Мадлен?
— Я и сама уже давно об этом думаю. Мне здесь нравится. Трудно представить, что я продам дом или даже сдам его в аренду.
Джоан кивнула.
— Конечно, мы все были бы рады, если бы ты сохранила дом, но тогда тебе придется здесь жить. Тебе бы этого хотелось?
Джоан сформулировала вопрос, который не осмеливалась задать себе Мадлен.
— Это нелегкое решение. У меня есть обязательства в Кане.
— Разумеется, — согласилась Джоан. — К тому же правильное решение обычно приходит само, ты согласна?
— Я полагаю, что это замечательная философия.
Джоан хватило такта не спрашивать про Николаса, хотя она знала, что они встречаются. Вместо этого она задала вопрос о Государственном архиве и завещании Элизабет Бродье.
Они немного поговорили о торговле вышивками в Англии саксов, которая брала свое начало во времена еще более древние, чем годы жизни Леофгит. Джоан описала самую древнюю сохранившуюся ткань с вышивкой — религиозное одеяние начала десятого века, выставленное в соборе Дирхем на севере Англии. Изощренная работа говорила о том, что искусство англосаксонских вышивальщиц уже тогда не имело равных в Европе.
— Норманны, — продолжала Джоан, — в полной мере пользовались умениями английских вышивальщиц. Они всячески поддерживали его и внесли собственное чувство стиля.
Мадлен внимательно слушала, ее завораживала история древнего искусства.
— Складывается впечатление, что в моей семье с древних времен занимались вышивкой, — задумчиво проговорила она. — Я хочу по вашему совету заглянуть в «Книгу Страшного суда».
— Да, так и сделай. Даже если ты не найдешь там упоминаний о своей семье, книгу все равно стоит прочитать. Сейчас она есть во всех регионах, и в библиотеке ты легко сможешь получить на руки экземпляр. Вот только во Францию его увезти будет нельзя.
Когда Джоан ушла, Мадлен решила, что не станет ждать звонка Николаса. Это было бы проявлением трусости. Она нашла его номер в сотовом телефоне и нажала на кнопку вызова.
Мадлен вновь услышала автоответчик, но, когда она заговорила, чтобы оставить сообщение, Николас взял трубку.
Он сказал, что недавно вернулся из Лондона и собирался ей позвонить. Завтра он планирует поехать за город, если погода будет хорошей.
Когда на следующее утро «фольксваген» Николаса подъехал к дому, Мадлен была в передней части сада и пропалывала розовые кусты. Она старалась не испачкаться, но на коленках джинсов остались следы земли, а волосы выбились из-под яркого шарфа, которым она повязала их.
Николас пересек лужайку, чтобы взглянуть на ее работу.
— Мне кажется, сейчас розовые кусты счастливы, — сказала она.
— По крайней мере, они выглядят счастливыми, — согласился Николас. — Пора ехать, — добавил он, посмотрев на небо. — Тучи с той стороны могут все испортить. Однако мы убежим от них, если поедем в противоположном направлении.
Мадлен кивнула.
— Заходи. Я сейчас переоденусь.
Она оставила Николаса побродить возле канала, а потом увидела из окна второго этажа, что он устроился на скамейке, курит сигарету и смотрит на воду. Совсем как она, когда приехала сюда.
Мадлен привезла с собой еще одно платье, кроме того, что купила в «Либерти», — бирюзовое, из индийского хлопка. Оно было длинным и элегантным, с квадратным вырезом и рукавами в три четверти. Мадлен быстро оделась, провела щеткой по волосам, а потом заколола их шпильками.
Мадлен не стала спрашивать, куда они едут, до тех пор, пока машина не выбралась из Кентербери и не покатила по старой дороге. С одной стороны тянулась разбитая, покрывшаяся мхом каменная стена, за которой находился старый сад. Ветви деревьев стали узловатыми и изогнутыми — долгие годы они приносили плоды, раз за разом сбрасывали листву.
— Обычно у меня нет заранее составленного плана, если не считать того, что я стремлюсь покинуть город, — признался Николас. — Ты не против, если мы просто поедем и посмотрим, куда нас приведет дорога? Если тучи будут и дальше нас преследовать, мы окажемся на побережье.
— Я не возражаю. Может, надо было захватить купальник?
— Не думаю. Пляжи здесь выглядят мрачновато, но англичане ничего не имеют против гальки. Они умеют извлекать лучшее из того, что имеют.
— А в Уэльсе пляжи лучше?
— Пожалуй, да. Когда мы были мальчишками, то часто отправлялись летом в Южный Уэльс, в маленький рыбацкий городок под названием Тенби. Он очень колоритный, там полно безумных валлийцев. Одно из таких мест одарило вдохновением Дилана Томаса. Как-нибудь съездим туда.
Николас в первый раз заговорил о том, что у их дружбы может быть продолжение. Казалось, он не придает своим словам особого значения, но Мадлен сразу обратила на это внимание.
Она предложила поставить музыку и нашла запись «Мэдди Уотерс» — старые блюзы, которые соответствовали их настроению и сонным плодородным долинам вокруг.
Примерно через полчаса Николас свернул на Гастингс, и Мадлен оживилась. Он это заметил.
— Здесь начинаются серьезные исторические места, — сказал Николас. — Полагаю, благодаря твоей профессии и крови ты знаешь все о норманнском вторжении.
Если бы он только знал, как много ей известно.
— Да, это одна из тем моих лекций, — согласилась Мадлен, ненавидя себя за то, что продолжает хранить тайну.
А почему бы ей не рассказать Николасу о дневнике? Наверное, он будет обижен, когда узнает, что она так долго скрывала от него его существование, — в особенности после того, как они вместе переводили руны. Дневник проливал свет на происхождение ковчега с мощами святого Августина, и ей отчаянно захотелось поделиться своим новым знанием с Николасом и поговорить с ним о Леофгит.
Гастингс находился немного в стороне от того места, где произошла битва, — на побережье, недалеко от Пивенси, где в тысяча шестьдесят шестом году высадился Вильгельм.
Несмотря на свое знаменитое имя, город не производил особого впечатления. Вдоль дороги, тянувшейся мимо пляжа, выстроились большие обветшалые викторианские дома. Они выглядели печальными, словно мечтали увидеть что-нибудь более веселое, чем черные волны, раз за разом накатывающие на серый песок.
И все же находились храбрые туристы, которые заходили в пенную полосу прибоя, закатав брюки до колен. На пляже играли дети, хотя затянутое тучами небо приобретало угрожающий цвет.
Мадлен невольно содрогнулась.
Николас усмехнулся.
— Они хотят использовать выходные на всю катушку, — сказал он, качая головой. — Давай не будем останавливаться здесь, слишком мрачно. Я знаю, куда нам нужно.
Больше он ничего не сказал, и они молча поехали в ближайшее поселение, рядом с местом знаменитой битвы.
В зеленоватом свете приближающейся бури место битвы при Гастингсе производило гнетущее впечатление. Вдоль Хай-стрит шли древние строения — казалось, они подталкивают друг друга и стоят под разными углами. На улице почти не было людей, а хозяин магазина затаскивал внутрь рекламный плакат, полагая, что скоро начнется ливень.
Николас доехал до конца улицы, где полуразрушенная арка из песчаника выводила на заросший зеленой травой склон холма. Мадлен увидела каменные развалины.
— Аббатство Битвы, — сказал Николас. — Предполагают, что его построил Вильгельм в том месте, где умер Гарольд. Но если мы отправимся туда прямо сейчас, то наверняка промокнем. Давай попытаемся убежать от туч?
Мадлен кивнула. Она не хотела ступать на землю, где Вильгельм победил саксов. Мадлен была потомком норманнов, а потому должна была ощущать прилив патриотических чувств, но ее охватила тоска. Конечно, она знала, чем все закончится, хотя перевод дневника был готов не до конца. Стремление Леофгит к тому, чтобы король саксов сохранил трон, печалило Мадлен, когда она читала о надеждах на царствование Эдгара Этелинга. Альянс королевы Эдиты был близок к достижению этой цели, но она не знала о коварстве врага.
Время ланча прошло, когда они приехали в Йартон — по словам Николаса, самое лучшее место, чтобы переждать бурю.
Паб в центре городка был вполне деревенским. За стойкой сидели веселые фермеры, обстановка казалась простой и дружелюбной. Они заказали «завтрак пахаря»[51] — половину длинного французского батона со свежим салатом и набором английских сыров.
Покончив с едой, Николас посмотрел на небо в небольшое окно с деревянной рамой.
— Пожалуй, если поторопимся, то успеем добраться до церкви. Не можем ведь мы уехать отсюда, не взглянув на фрески? Ты не против?
— Конечно нет! Я бы хотела увидеть их еще раз.
Они быстро зашагали к церкви. Когда Мадлен и Николас пересекали жутковато освещенный церковный дворик, по камням застучали первые капли дождя. Мадлен успела заметить, как поднявшийся ветер раскачивает ветви двух тисовых деревьев. Таким образом, в церковном дворе она насчитала три священных дерева, включая древний тис, окруженный оградой, на который Николас обратил ее внимание во время их первого посещения церкви.
В маленькой церкви было пусто и тихо. Как только они вошли и за ними закрылась тяжелая дубовая дверь, шум ветра и дождя стих.
Они медленно обошли неф, не торопясь перейти в соседнее помещение.
Мадлен посмотрела на потемневшую от времени бронзовую табличку, где перечислялись имена священников, служивших в церкви за последние пятьсот лет. Вдоль стен стояли деревянные кресты со следами дождевых потеков. Дубовые скамьи стали хрупкими от возраста, а красные бархатные подушечки выглядели сильно вытертыми от соприкосновения с бесчисленными коленями молящихся.
Несколько каменных ступеней вели вниз, к фрескам. Ступени также были отполированы за тысячелетие, которое прошло со дня постройки церкви. Интересно, подумала Мадлен, сколько ног должно было пройти по лестнице, чтобы в ступенях остались такие глубокие вмятины.
В противоположных концах коридора были узкие готические окна, но из-за сгустившихся туч в нем царил полумрак. Искусственному свету не дозволялось касаться древних красок.
Они замерли напротив фресок, опираясь спинами о противоположную каменную стену. Даже в тусклом свете, сочившемся из узких окон, на крыльях ангела сияла позолота. Мадлен ощущала жар от обнаженной руки Николаса, так близко друг к другу они стояли. Она не осмеливалась пошевелиться — вдруг она к нему прикоснется, или он отодвинется в сторону. Чувствует ли он с такой же остротой ее близость? Молчание между ними больше не казалось ей естественным — в нем появилось напряжение. Неужели он этого не чувствует?
Первым пошевелился Николас. Он пошел вдоль узкого каменного коридора, глядя на фрески так, словно встретился со старыми друзьями.
Мадлен привалилась к стене, надеясь, что он не заметил ее временного паралича.
А потом к ней вернулись воспоминания о прошлом посещении Йартона — казалось, ее окутало призрачное облако. Она вдруг ощутила присутствие Лидии, с благоговением глядящей на великолепные картины.
Тогда они с Лидией говорили о происхождении фресок — представляли себе средневековых художников, окруженных горящими свечами, их кисти и тщательно приготовленные краски.
Мадлен почувствовала отчаянное желание увидеть Лидию, поговорить с ней о дневнике. Много ли знала ее мать? Скорее всего, почти ничего. Лидия прислала ей листок для перевода, еще не понимая, что и он, и вся книга рассказывают историю, которой более девятисот лет.
Николас вернулся к ней, и Мадлен заговорила, уже не колеблясь.
— Я хочу тебе рассказать кое о чем.
— Хорошо.
Он прислонился к стене рядом с ней, но теперь их разделяло небольшое расстояние.
И она поведала ему о дневнике, начиная с того момента, как сестры Бродер передали его ей, а также обо всем, что ей было известно о ковчеге. Это заняло некоторое время, но Николас ее ни разу не прервал.
Когда Мадлен закончила, он довольно долго ничего не говорил, а лишь качал головой, словно не мог прийти в себя от потрясения.
Мадлен и сама не знала, какой реакции ожидала, но чем дольше он молчал, тем тревожнее становилось у нее на душе. Она ощущала, что Николас не просто потрясен самим фактом существования дневника — он с трудом скрывает обиду. Мадлен почувствовала острое раскаяние, поняв, что ей не следовало держать это в тайне от Николаса. Она пыталась найти слова, которые не прозвучали бы банально.
— Я… хотела рассказать тебе раньше, но…
Она замолчала.
Николас пожал плечами.
— Все в порядке. Дело не в том… я знал, что ты темная лошадка — это часть интриги, которая в тебе заключена. Просто я не знаю, что сказать. Я немного ошеломлен. Это огромно, ты же понимаешь…
Мадлен кивнула.
— Да, я знаю.
Казалось, Николас тщательно подбирает слова — он все еще не осознал до конца поразительные вещи, которые ему рассказала Мадлен. И он смотрел на нее с благоговением.
— Ты удивительный человек, Мадлен. В последнее время ты столько перенесла, тем не менее ты продолжала преподавать и одновременно переводила древнюю латынь… я впечатлен. Господи, наверное, ты ужасно устала. Невероятно.
Николас потряс головой, а потом улыбнулся, но Мадлен показалось, что из его улыбки исчезла непринужденность.
— И где же этот дневник девятисотлетней давности — могу я на него взглянуть?
Он был возбужден и чувствовал некоторую неловкость, не совсем понимая, как ему себя вести.
Мадлен колебалась, и он это заметил.
— Я понимаю твои чувства… — Он слегка нахмурился и отвернулся, и сердце Мадлен сжалось.
Ее рассказ ранил Николаса — она слышала это в его голосе, видела в появившихся на лице морщинах. Сейчас Николас выглядел так, как во время их первой встречи, — отстраненным и погруженным в собственные мысли.
— Конечно, ты можешь на него взглянуть, — быстро сказала она, надеясь, что ей удалось изгнать из своего голоса сомнения. Она хотела, чтобы он увидел дневник, но что-то мешало.
Николас вновь улыбнулся, казалось, он ищет на ее лице ответы на какие-то вопросы.
— Пойду проверю, как там погода, — прогуляюсь по церковному двору.
И он ушел.
Мадлен стояла и смотрела ему вслед; как только он ушел, возникшая между ними близость исчезла. Ей вдруг стало холодно в каменном коридоре. Она провела пальцами по волосам и вновь прислонилась к стене.
Фрески начали расплываться, и она заморгала, сообразив, что в глазах стоят слезы. Что за ерунда? Однако слезы уже катились по щекам; казалось, они медленно наполняют пустой колодец ее страданий. Прошло некоторое время, она все еще не понимала, почему плачет, но не могла прекратить рыданий.
Какой-то частью сознания Мадлен понимала, что взрыв ее эмоций вызван не только реакцией Николаса. Чувства переполняли ее, тело все еще содрогалось от плача, однако она ощущала странную отстраненность. Все это было связано с Лидией, дневником и Питером… всему причиной пустота ее жизни.
Она ошибочно позволила себе представить, что прошлое отступило, что будущее может… обещать что-то. Но о каком «что-то» может идти речь? Было ли это ее призраком — или демоном?
Она стояла возле стены, приняв решение больше не реагировать так на близость Николаса, когда он вернется, и терпеливо дожидалась, пока схлынут волны эмоций. Она понимала, что ощущение, будто все ее существо одержимо какой-то могучей силой, скоро должно ее отпустить. Мадлен чувствовала, как слабеют рыдания, и вдруг поняла, что все это время не сводила взгляд с трех волхвов, пришедших поклониться новорожденному Иисусу.
Когда вернулся Николас, ее глаза почти успели высохнуть. Понял ли он, что она плакала? Едва ли, если до них не доносился шум непогоды снаружи, значит, и Николас не мог ничего слышать.
Она отвернулась, пряча следы слез, и ее взгляд остановился на инкрустированном самоцветами ларце, который держал в руках один из волхвов. Мадлен не знала, куда смотрит Николас — на нее или на фреску.
— Ты в порядке? — небрежно спросил он.
Однако ей показалось, что в его голосе прозвучала тревога.
— Да, — пробормотала Мадлен, не уверенная в том, что голос ее не выдаст.
Ей не хотелось, чтобы он увидел ее слабость. Она уже разочаровала Николаса — нет нужды опускаться в его глазах еще ниже.
— Я по-прежнему под впечатлением от твоих достижений — никак не могу прийти в себя, — сказал он, словно прочел ее мысли. — Хочу сказать, что ты оказалась в очень непростом положении. Я восхищен твоим мужеством.
Мадлен не могла говорить. Пытался ли он сказать, что уязвимость заставила ее ошибочно подумать, будто между ними что-то есть? Это он темная лошадка, а не она! Ее взгляд вновь остановился на инкрустированном самоцветами золотом ларце, словно она увидела его в первый раз. В нем было что-то знакомое, и Мадлен ощутила тревогу.
Николас вновь стоял совсем рядом с ней, и рукав его рубашки касался ее руки. Если она повернется, ее лицо окажется всего в нескольких дюймах от его шеи, где расстегнуты верхние пуговицы рубашки.
Однако физическая близость Николаса вдруг стала для нее вторичной. Мадлен наклонилась совсем близко к светящейся золотой краске, которая, словно лампа, излучала свет вокруг ларца, — она поняла!
— Кажется, ты говорил, что фреску восстанавливали в шестнадцатом веке, — тихо сказала она.
Она вновь ощутила близость Николаса, шагнувшего к фреске.
— Да, я помню этот разговор. А почему ты спрашиваешь?
Он заметно оживился, понимая, что в голове у Мадлен идет напряженная работа.
— Как ты думаешь, ты узнаешь руны из того стихотворения, если увидишь их снова?
— Пожалуй, да, ведь я столько времени их изучал.
— Посмотри сюда.
Она отступила в сторону, чтобы Николас мог подойти к фреске.
— Так, так, так, — проговорил он.
Ларец в руках персиянина в экзотических одеждах имел по золотому распятию с обеих сторон куполообразной крышки. На передней стенке была изображена золотая арка, вдоль основания которой шел ряд самоцветов. Более подробная версия ковчега с гобелена Байе. Мадлен тяжело дышала, чувствуя, как ее руки покрываются гусиной кожей.
Но главной деталью была изящная надпись, которая шла вдоль основания ларца, и Николас ее увидел. Знаки были такими мелкими, что глаз их с трудом различал, но если смотреть совсем с небольшого расстояния, то становилось ясно, что это руны.
— Здесь посланец нового королевства, — прочитал Николас.
— Если не ошибаюсь, башню также восстановили, — прошептала Мадлен.
Он кивнул.
— Не столько восстановили, сколько перестроили. Три волхва идут к башне, а башня дворца похожа на башню этой церкви.
Оба замолчали, думая об одном и том же. Потом вместе повернулись и поспешно зашагали к нефу. Стук их каблуков эхом отражался от каменных стен, словно поторапливая их. Мадлен чувствовала, что Николасу, как и ей самой, хочется побыстрее оказаться в башне. Попасть в нее можно было только через узкую готическую дверь, расположенную к западу от нефа. Дверь была закрыта, но не заперта.
Круглая комната, в которой они оказались, устремлялась ввысь и заканчивалась деревянной платформой для колокола.
Они стояли посреди открытого пространства и оглядывались по сторонам. Если здесь что-то и спрятано, то только в стене, подумала Мадлен. Николасу пришло в голову то же самое.
— Эти стены никак не меньше четырех футов в толщину, — сказал он. — Обычно стены саксонских башен строились из песчаника, скрепленного известковым раствором. Церковные башни с самого начала возводили как крепости. Но этот камень гораздо новее.
Нахмурившись, Николас изучал стены.
Мадлен понимала, о чем он думает. Внешняя часть здания и стены церковной башни были построены из хрупкого камня саксов, но внутри был использован светлый гладкий камень. Внутренняя стена башни была укрепленной, но могла маскировать тайник.
— Я бы сказал, что внутренняя стена построена в шестнадцатом веке, — сказал Николас, вновь повторяя ход мысли Мадлен. — Скорее всего, между новой и старой стеной остались бреши.
Некоторое время они стояли рядом, размышляя о разных возможностях.
Когда Николас заговорил снова, он с трудом сдерживал возбуждение.
— Ты знаешь, очень может быть, что мы стоим возле ковчега святого Августина.
— Где нет человеческих останков, — добавила Мадлен.
— Наверное, они и не были мерилом святости, — усмехнулся Николас.
Наступившая благоговейная тишина была наполнена пульсирующей энергией, Мадлен чувствовала, что Николас не сводит с нее глаз. Если он хотел прикоснуться к ней, то сейчас для этого было самое лучшее время. Николас протянул руку, и Мадлен с трудом заставила себя не дернуться, когда его ладонь легла на ее плечо.
Сквозь тонкую ткань платья она ощущала тепло. Жест получился интимным, и ей захотелось коснуться его руки. Она колебалась, и Николас убрал руку.
— Мадлен, я предлагаю сделать дневник достоянием публики прямо сейчас. Во-первых, без него никто не поверит в рисунок в старой церкви и страницу с рунами, указывающую дорогу к ковчегу святого Августина. Доказательства, которые содержит дневник, носят критический характер.
Мадлен чувствовала, как постепенно отступает возбуждение, но Николас лишь произнес вслух то, что она понимала с самого начала. Она не хотела, чтобы о дневнике узнали все, не хотела, чтобы еще кто-то прочитал слова, написанные Леофгит. Однако теперь она больше не имела права сама принимать решения. Прикосновение Николаса по-прежнему жгло ей плечо, она чувствовала, как сильно напряжена. И сама не могла объяснить, в чем причина — то ли в отсутствии телесного контакта, то ли в его словах.
Николас ей сочувствовал, и от этого становилось еще тяжелее. Он был восприимчивым и проницательным, что только усиливало ее напрасную тягу к нему.
— Послушай, я понимаю, что ты чувствуешь связь с дневником, но его следует передать в Британскую библиотеку. Дневнику не место в каком-нибудь жалком музее. Подумай о том, что он тебе дал. Неужели ты не понимаешь, что тебе необходимо разделить с другими свое знание?
Мадлен вздохнула.
— Это не мое решение. Дневник принадлежит моим кузинам… — сказала она, понимая, что ее сопротивление носит символический характер.
Николас рассмеялся.
— Они наверняка не знают, насколько он древний. К тому же ты сама говорила, что они помешанные!
Мадлен не сумела сдержать улыбки. Это была правда. Потом она подумала, как будет страдать Карл, когда под самым его носом найдут ковчег. В первый раз Мадлен позволила себе признаться в том, что действительно сделала серьезное дело. И похвала Николаса вдруг показалась ей особенно приятной.
— У меня есть коллега в Британской библиотеке, — серьезно заговорил Николас, — он эксперт по средневековым рукописям. Я могу связаться с ним, если ты не возражаешь.
— Да, конечно. Я бы хотела, чтобы сначала дневник увидел ты — сестры Бродер просили меня быть очень осторожной.
Он кивнул.
— Похоже, дождь кончился.
Больше Николас не произнес ни слова.
Они вернулись к нефу и в последний раз осмотрели церковь. Взгляд Мадлен остановился на табличке возле алтаря, на которой были написаны имена священников Йартона. Повинуясь импульсу, она подошла к табличке.
Несколько колонок фамилий и дат, надписи с трудом читались на потемневшей бронзе. Посреди второй колонки Мадлен нашла то, что искала. Она повернулась к Николасу и сказала:
— Иоганнес Корбет — тысяча пятьсот сороковой год.
Он задумчиво улыбнулся и покачал головой.
— Прямо под носом.
На церковном дворе Мадлен заметила четвертое тисовое дерево и замерла на месте.
Она подняла с земли палку и протянула Николасу.
— В чем дело?
По его тону стало ясно, что он подумал, будто Мадлен столь же безумна, как и ее кузины.
— Нарисуй рунический символ для «Y», — задыхаясь, проговорила Мадлен, показывая на влажную землю. — Это ведь ветка тисового дерева?
Николас кивнул, но в его взгляде все еще читались сомнения в ее здравом уме. Он изобразил на влажной земле знак молнии.
— Во дворе четыре тисовых дерева, — продолжала Мадлен.
Николасу потребовалось всего несколько мгновений, чтобы понять, в чем дело. Его лицо вновь просветлело.
— И эта руна появляется четыре раза на странице, написанной Иоганнесом Корбетом! — Он посмотрел на высокие вечнозеленые деревья, стоявшие на страже вокруг маленькой церкви. — Остальные три тиса значительно моложе. Меня бы не удивило, если бы выяснилось, что их посадили одновременно с постройкой внутренней стены башни. Деревья выполняют роль стражей — возможно, Иоганнес хотел обеспечить ковчегу дополнительную защиту.
На обратном пути Николас включил радио в машине и погрузился в размышления. Мадлен и сама глубоко задумалась, ее взгляд рассеянно скользил по окружающему пейзажу, испускающему легкое сияние после дождя. Она явно совершила ошибку, приняв его сочувствие и дружбу за нечто большее, и теперь чувствовала себя глупо.
Когда они въехали в Кентербери, Николас выключил радио, и они принялись болтать о пустяках. Он держался вежливо, но отстраненно.
Пальцы Мадлен дрожали, когда она открывала дверь коттеджа. Она чувствовала себя усталой и разочарованной, несмотря на удачно проведенное расследование.
Когда они вошли, Николас молча наблюдал, как Мадлен возится с замком буфета и вынимает шкатулку. Ему очень хотелось, чтобы она не воспринимала его близость так остро. Она отнесла шкатулку на стол, и он молча последовал за ней.
Когда Мадлен откинула гладкую крышку шкатулки, он негромко присвистнул, но так и не прикоснулся к дневнику. Николас подождал, пока Мадлен наденет тонкие перчатки и вытащит дневник.
Когда она его открыла, Николас наклонился поближе к пергаментной странице и быстро оглядел ее опытным взглядом. Затем тряхнул головой и выпрямился.
— Ты знаешь, я видел множество пергаментов, которым было немало столетий, но мне не доводилось сталкиваться с вещами такого качества, написанными женщинами. Наверное, ты испытываешь гордость после кропотливого перевода столь удивительного текста. Нет сомнений, что это ключевой документ с точки зрения истории.
Мадлен не испытывала особой гордости, она ощущала себя ужасно одинокой. Однако то, что Николас признал ее работу важной, доставило ей удовольствие. Ей хотелось, чтобы он хотя бы уважал ее интеллект, если уж ему не захотелось ее поцеловать. Лучше так, чем совсем никак.
— В ближайшее время я поговорю с сестрами Бродер. И обязательно сообщу тебе об их решении.
Николас надел пальто, слегка коснулся ее щеки и перед уходом улыбнулся возмутительно доброй улыбкой.
Мадлен рухнула в кресло, вытащила из сумочки сигареты и посмотрела на стену, которая ничем не могла ее утешить. Ее тело, остававшееся напряженным весь день в присутствии Николаса, вдруг стало вялым.
Через некоторое время Мадлен встала и спустилась к воде, чтобы посидеть на скамейке возле канала. В Кентербери также прошел дождь, но было достаточно светло, чтобы видеть воду и пару ласточек, порхавших над ней.
Мадлен решила, что все к лучшему — она избавилась от ложных иллюзий. Все очень просто, как наверняка сказала бы Ева.
Она слушала, как журчит вода в канале, и размышляла о том положении, в которое ее поставил дневник. В первый раз она испытала сочувствие к Одерикусу, а не только к Леофгит и Эдите. Он старался оставаться верным своим принципам, но потом все пошло прахом.
ГЛАВА 16
За день до того, как позвонить сестрам Бродер, Мадлен скопировала в блокнот последнюю страницу дневника. Она никак не могла заставить себя взяться за перевод. Мадлен тщательно переписывала латинские слова, не пытаясь вникнуть в смысл. Она займется последней страницей, но не сейчас. Ей показалось, что почерк немного изменился. Возможно, все дело в том, что между записями прошло много времени и Леофгит постарела?
Она набрала номер кузин и приготовилась к трудному разговору. Трубку, как всегда, взяла Мэри.
— О, Мадлен. Мы уже начали беспокоиться, ты так давно не появлялась. Надгробие готово.
— Надгробие?
— Для могилы Лидии, дорогая. Надо составить надпись. Когда ты приедешь? Думаю, завтра будет удобно. Приходи к нам на чай. В три часа.
Мэри повесила трубку.
Весь разговор прошел практически без участия Мадлен.
Мадлен повесила трубку и состроила гримасу, решив, что ей ничего не остается, как подчиниться и нанести визит старухам кузинам.
На следующее утро по дороге в Семптинг она повторяла свою стратегию — надо поговорить о том, что дневник следует показать историкам. Она решила, что не признается в том, что тайна уже раскрыта, если только ее не вынудят к этому. Конечно, Мэри Бродер выжила из ума, но в проницательности ей не откажешь. Мадлен не хотелось вступать в споры по поводу дневника, но ей требовалось убедить сестер в его важности для исторической науки.
Ворота были закрыты, и прошла целая вечность, прежде чем появился Луи, чтобы открыть их. Мадлен кивнула ему и въехала внутрь. Она запретила себе смущаться из-за его нахальства.
Поставив машину возле покосившегося крыльца, Мадлен посмотрела на часы. Было начало четвертого, но она решила, что ничего страшного не произошло.
Но Мэри Бродер так не считала.
— Ты опоздала на двенадцать минут, — заявила она, увидев Мадлен.
— Да. Ваши ворота пора смазать.
Мэри приподняла брови, а Маргарет захихикала.
Мадлен последовала за ними в гостиную, держа в руках завернутую в шаль шкатулку с дневником. Она облегченно вздохнула, не увидев кошку Агату. Это животное заставляло ее нервничать.
Чай принесли на серебряном подносе. К чаю подали печеньица, жесткие даже на вид.
Мадлен положила сверток на маленький столик, и несколько мгновений все смотрели на него.
Маргарет глубоко вздохнула и заговорила первой.
— Приятно, что он вернулся. Нам его не хватало, правда, Мэри?
Мэри не обратила на слова сестры никакого внимания, продолжая смотреть на Мадлен.
— Значит, ты закончила, — сухо сказала Мэри.
Мадлен нахмурилась.
— Полагаю, вы хотите узнать, что написано в дневн… в книге.
— Это интересно или нет? — резко спросила Мэри, жестом предлагая Маргарет разливать чай.
— Ну, да, интересно. С исторической точки зрения.
Но Мэри ее не слушала, поскольку в гостиную вошла Агата, стуча когтями по старому паркету и требуя к себе внимания.
— Привет, дорогая, — сказала Мэри сладким голосом, повернувшись к Мадлен спиной и поглаживая Агату по черной спине.
— У меня есть предложение. Относительно книги.
Мэри ничего не ответила, продолжая гладить кошку.
Маргарет рассеянно улыбнулась и сказала:
— О чем ты, дорогая?
— Я считаю, что будет… правильно… показать книгу кое-кому в Лондоне.
Ответом ей было долгое молчание.
Мэри оторвалась от Агаты, которая бросила свирепый взгляд на Мадлен, лишившую ее внимания хозяйки.
— Человеку, которого ты знаешь? — спросила она. Ее взгляд снова стал проницательным.
— Не совсем так. Манускрипт очень старый и ценный. Мне представляется, что не слишком разумно оставлять его без должной заботы… ему требуется специальное хранение.
Мадлен сразу поняла, какую реакцию встретит ее предложение.
Мэри фыркнула.
— Книгу и без того хранили со всей тщательностью, юная леди.
Мадлен старалась вести себя дипломатично.
— Да, я знаю. Я имела в виду нечто другое. Я хотела сказать, что книга представляет исторический интерес для… экспертов.
— Каких экспертов?
— Британская библиотека в Лондоне имеет коллекцию древних манускриптов. Они смогу оценить возраст и… ценность.
Когда Мадлен произнесла слово «ценность», выражение лица Мэри изменилось. Сестры переглянулись, и Мадлен поняла, что они не так простодушны, когда речь идет о возможной цене манускрипта. Быть может, они просто играли с ней, дожидаясь, пока Мадлен закончит перевод? Правды ей было уже не узнать. Когда Мэри сразу же согласилась, чтобы их посетил «кто-нибудь из библиотеки в Лондоне», Мадлен подумала, что ее капитуляция была обдумана заранее. Ей захотелось посмеяться над своей доверчивостью. Лидия наверняка объяснила им, насколько редким и ценным является их артефакт. Однако Мадлен облегченно вздохнула и не стала поправлять Мэри, указывая на то, что речь идет о Британской библиотеке. Она автоматически сделала глоток чая и тут же поставила чашу на стол, стараясь не скривиться. Ей ужасно хотелось сбежать отсюда, но надо было решить еще кое-что.
— Вам что-нибудь известно о шкатулке из гагата и вышитой шали?
На ее вопрос ответила Маргарет, довольная тем, что у нее появилась возможность что-то сказать.
— Шкатулка принадлежала Элизабет Бродье. Раньше наша фамилия звучала «Бродье», дорогая. Правда, странно?
Мадлен слабо улыбнулась и кивнула.
— Она была знакома с королем Генрихом Девятым.
— Восьмым! — проворчала Мэри.
— В шкатулке она держала свои вышивки. Красивая, правда? Мы продали еще две такие же, ты знаешь кому.
Маргарет подмигнула Мадлен.
Она хотела сказать еще что-то, но Мэри прервала ее.
— Шаль — одна из последних вещей компании Бродер, потом она прекратила свое существование. Индустриализация — ну, ты понимаешь, — с важным видом продолжала Мэри, словно хотела, чтобы Мадлен знала, что ей известно о таких вещах. — Твоей матери она очень понравилась. Мы собирались отдать шаль ей.
Неожиданно лицо Маргарет озарилось радостью.
— Но теперь ее должна взять ты!
Она с благоговением сняла шаль со шкатулки и протянула ее Мадлен, которая не осмелилась взглянуть на Мэри, чтобы убедиться, что та одобряет поступок сестры.
Мадлен едва не превысила разрешенную скорость, когда выезжала из Семптинга, — так ей хотелось побыстрее покинуть дом сестер Бродер. Она ничего не сказала толком про надпись на надгробии Лидии, но обещала прислать текст по почте. Мадлен бросила взгляд на кроваво-красную вышитую шаль, лежащую на сиденье рядом. В свете, льющемся в окно машины, золотые нити казались медовыми.
Хотя теперь Мадлен уже неплохо знала дорогу между Кентербери и Семптингом, она с удовольствием посматривала по сторонам. Сельский пейзаж продолжал ее восхищать. До сих пор летняя погода оставалась безупречной — никакого мелкого серого дождика, которым славились эти места. Впрочем, частые дожди приводили к тому, что все оставалось зеленым, значит, они шли не зря.
Проезжая через небольшую деревушку, Мадлен притормозила и закурила.
Она вдруг поняла, что с удовольствием вернется домой, несмотря на очарование сельских районов Англии. На нее вновь накатила волна сожалений — далеко не в первый раз после посещения Йартона вместе с Николасом. Чем скорее она окажется в Кане, тем легче ей будет забыть о своей ошибке. Она скажет Николасу, чтобы он попросил своего знакомого из Британской библиотеки посетить сестер Бродер. Если он захочет с ней связаться, Николас может дать ему адрес ее электронной почты. И тогда ее это больше не будет касаться. У нее остается только одно дело — посмотреть «Книгу Страшного суда».
В центральной библиотеке Кентербери действительно имелась копия «Книги Страшного суда» — так сказали Мадлен по телефону. Средневековая опись была опубликована в нескольких томах. Ее спросили, какое графство ее интересует. Когда Мадлен сказала, что речь идет о Вестминстере в Лондоне, ее собеседник некоторое время молчал. Очевидно, такого графства не существовало. Быть может, будет лучше, доброжелательно предложил библиотекарь, если она придет и потратит день или два на поиски, поскольку составление официальной описи стоит дорого — у большинства людей это обычно вызывает удивление.
Мадлен не хотелось даже думать об этом, она с трудом могла сосредоточиться на чтении газеты — куда уж тут разбираться в записях одиннадцатого века. Кроме того, у нее не осталось времени, да и шанс найти какие-то упоминания о Леофгит представлялся ей весьма сомнительным.
Поэтому до конца своего пребывания в доме Лидии Мадлен занималась тем, что мыла деревянные полы и окна, чтобы дом выглядел безупречно чистым внутри и снаружи. Она даже разобрала несколько оставшихся без внимания шкафов и ящиков.
Узнав, что Мадлен вскоре уедет в Кан, позвонила Джоан и пригласила ее на ужин. Потом перезвонила и добавила, что пригласила еще и Николаса. Очевидно, Джоан решила, что это порадует Мадлен, у которой не хватило мужества сказать правду.
После визита к сестрам Бродер Мадлен оставила Николасу сообщение на автоответчике. Она сказала, что сестры согласились принять у себя его коллегу из Британской библиотеки и показать ему дневник. После поездки в Йартон они больше не общались.
День начал клониться к вечеру, и Мадлен стала нервничать, обнаружив, что все дела по дому сделаны. Когда пришло время собираться, она села на кровать и посмотрела на висящую в шкафу одежду. Стоит ли принарядиться или это уже не имеет значения? В конце концов она решила, что будет чувствовать себя лучше, если позаботится о своей внешности. Однако ей не хотелось надевать платье из «Либерти», поскольку оно напоминало о вечере в марокканском ресторане.
Она встала и зашла в спальню Лидии. В шкафу одиноко висело черное платье — то самое, которое Мадлен нашла, когда разбирала материнские вещи. Она разложила его на кровати и расстегнула молнию.
Платье прекрасно подошло ей. Оно было элегантным и превосходно скроенным. Взглянув на себя в зеркало, Мадлен вдруг ощутила уверенность. Черный шелк зашуршал, когда она несколько раз повернулась, словно одобряя свою новую хозяйку. Крошечные бусины из черного гагата у глубокого выреза заблестели в отраженном свете. Быть может, в платье Лидии этот вечер окажется не таким уж трудным.
Она особенно тщательно накрасилась и причесалась, а когда бросила последний взгляд в зеркало, ей на глаза попалась шаль, подаренная сестрами Бродер. Мадлен накинула ее на плечи. Смесь шерсти и шелка была удивительно мягкой, и, снова взглянув на себя в зеркало, Мадлен поняла, что готова к новой встрече с Николасом.
Когда Мадлен добралась до кирпичного дома в центральной части Кентербери, дверь открыл Дон.
— Мадлен! Ты очаровательна!
Он провел ее в гостиную.
Николас стоял рядом с Джоан, и они о чем-то беседовали, когда вошли Мадлен и Дон.
— Выглядишь прелестно, дорогая, — сказала Джоан, целуя ее.
Николас тоже поцеловал ее, и она отметила, что его глаза одобрительно оглядели ее с ног до головы. Это ничего не значит, сказала себе Мадлен. Волк и ягненок.
Во время ужина Джоан спросила, успела ли Мадлен посетить библиотеку, чтобы выяснить что-нибудь о Бродье. Мадлен показалось, что глаза Джоан заблестели, когда она сказала, что так и не нашла времени зайти в библиотеку.
— Честно говоря, я взяла на себя смелость, — начала Джоан. — Но сначала давайте закончим ужин.
Николас вел себя за ужином весьма учтиво — можно даже сказать, что он был очарователен, но выглядел по-прежнему немного отстраненным, решила Мадлен. Или все дело в том, что она до сих пор ждет его внимания? Николас перехватил ее взгляд, когда Джоан задала вопрос о библиотеке, и приподнял бровь, безмолвно спрашивая, известно ли Джоан и Дону о дневнике. Мадлен слегка покачала головой и принялась за еду. Что ж, теперь он знает, что она скрывала эту тайну не только от него. Вообще она собиралась рассказать им о дневнике сегодня вечером, но присутствие Николаса ее смущало.
Когда они перешли в гостиную и расселись там с чашками кофе и бокалами портвейна, Джоан вышла из комнаты, но вскоре вернулась с двумя книгами в твердых красных переплетах.
— Копия «Книги Страшного суда» Бакингемшира и Уилтшира, — сказала она, усаживаясь на диван рядом с Мадлен. — Моя коллега из Центра изучения генеалогии — эксперт по «Книге Страшного суда». Она показала мне несколько отрывков, в которых говорится о женщинах, занимавшихся торговлей вышивками.
Она открыла том Бэкингемшира на заложенной странице и протянула его Мадлен.
В отрывке, на который указала Джоан, шла речь о женщине по имени Элвид. По распоряжению шерифа она получила землю в благодарность за то, что научила его дочь искусству вышивания.
— Получение земли было первым шагом к получению семейной фамилии, — сказала Джоан. — Как мы уже говорили, вышивка на языке саксов звучит как «борда». Бродье и Бродер являются производными от этого слова.
Мадлен открыла второй том на странице, помеченной Джоан, и сразу же увидела имя Леофгит. Она затаила дыхание. Женщина по имени Леофгит владела землей в деревне под названием Нук в Уилтшире. Мадлен не могла оторвать взгляда от строки, где было написано: «Леофгит делала и делает золотую вышивку для короля и королевы».
— Имеется в виду самая сложная вышивка золотом для королевских и церковных одеяний, — пояснила Джоан. — Такие дорогие материалы доверяли только самым искусным вышивальщицам.
— Королевская паутина, — сказал Николас. — Так на языке англосаксов называлась тонкая ткань.
— Королевская паутина, — повторила Мадлен, думая о том, что это слово прекрасно описывает то, чем она была так сильно очарована. Словно ее путешествие, как сказала Ева, проходило по мистической и невероятно сложной паутине.
— Я думаю, что Леофгит — мой предок, — просто сказала Мадлен. А потом объяснила, почему она так думает.
Реакция Джоан была более впечатляющей, чем реакция Николаса, — она совершенно не обиделась на Мадлен за то, что та так долго скрывала от нее тайну дневника. Более того, Джоан все поняла правильно.
— Замечательно, Мадлен! Знаешь, дневник появился очень вовремя — тебе было на чем сосредоточиться в последние несколько месяцев. Такое впечатление, что это подарок специально для тебя. Я ужасно рада!
Мадлен нахмурилась, пытаясь связать последние узелки паутины. Если Леофгит владела землей в Нуке, то когда она покинула Вестминстер? То, что Бродье — а потом Бродеры — оказались в Семптинге, не вызывало особых сомнений, ведь Кентербери являлся центром искусств и литературы в средневековой Англии, что и привело семью сюда. Кроме того, родственники Леофгит были выходцами из Кентербери — именно там она встретилась с Джоном и Одерикусом, там впервые увидела королеву Эдиту.
Джоан принялась задавать многочисленные вопросы о Леофгит. Казалось, ее куда больше заинтересовала судьба вышивальщицы, научившейся письму, чем политические интриги, о которых она писала.
— Весьма необычно — да ты и сама это понимаешь, Мадлен, — чтобы женщина такого статуса, как Леофгит, сумела добиться столь поразительных результатов. И я вдвойне рада, что ее дневник попал в руки женщины, а не одного из ученых мужей, которые будут теперь исследовать его с особым рвением.
— Мне стоит посчитать ваши слова оскорблением! — рассмеялся Николас. — Мои коллеги непредвзято относятся к полу исторических фигур. В академическом смысле, естественно.
Они беседовали до тех пор, пока Дон не начал зевать — он единственный во всей компании не был историком — и, извинившись, заявил, что ему пора спать.
Николас предложил проводить Мадлен домой. Когда они прощались, Джоан поцеловала ее, и Мадлен прочитала в ее глазах надежду на то, что она вернется в Кентербери. Вероятно, в сознании Джоан это было как-то связано с Николасом, и Мадлен ощутила глубокую печаль.
— Я буду поддерживать с вами связь, — сказала она, сжимая руку Джоан.
Они шли по центру Кентербери, мимо собора с высоким золоченым шпилем. Николас казался погруженным в глубокие размышления. Мадлен искала какую-нибудь тему для беседы, но печаль не отпускала ее, сжимая горло и затуманивая разум.
— Ты сказала, что тебе осталось перевести последнюю запись в дневнике и что ты ее скопировала, верно? — наконец спросил Николас.
— Да. Я не сумела тогда… наверное, я сделаю перевод, когда вернусь домой.
— Ты боишься закончить работу над дневником?
— Да, пожалуй.
Проницательность Николаса ее не удивила — это его качество особенно привлекало Мадлен.
— Хм.
«И что это значит?» — подумала Мадлен.
— Ты уже связался со своим другом из Британской библиотеки? — спросила она.
Николас не упоминал об этом вплоть до своей шутки о непредвзятости у Джоан.
— Да. Он очень заинтересовался и рассказал мне об открытии, сделанном в конце девятнадцатого века в церкви Фолкстоуна, неподалеку от Кентербери. Во время Реформации в северную стену алтаря был замурован гроб — в нем находились останки принцессы саксов. Известно много подобных историй — как ты знаешь, существовал средневековый культ мощей. Любая церковь, объявлявшая о том, что в ней имеются мощи святого, получала покровительство пилигримов.
— Однако мотивы Иоганнеса Корбета были иными — ведь никто не знал о том, что он сделал.
— Трудно сказать. Ведь он оставил немало подсказок. Может быть, он ждал, когда беспорядки прекратятся, после чего можно будет использовать мощи святого Августина для привлечения путешественников. Однако протестанты быстро положили бы этому конец! Существует история о монахах Или[52], которых в десятом веке обвинили в краже мощей святой Уитберги. Она в седьмом веке основала женский монастырь и была похоронена во дворе церкви. Позднее монахини перенесли ее мощи в часовню монастыря. На ее могиле забил источник святой воды. Его называют колодцем Святой Уитберги. Туда до сих пор ходят пилигримы.
Когда они подошли к коттеджу Лидии, Мадлен пригласила Николаса войти, чтобы вызвать такси.
После некоторых колебаний она предложила ему чего-нибудь выпить, и он сразу же согласился. В хрустальном графинчике остался виски Лидии.
Когда Мадлен вернулась в гостиную со стаканами, Николас сидел на диване, и ей показалось, что он вновь погрузился в размышления.
— Я почитал кое-какую литературу о гобелене Байе, — сказал он, сделав глоток.
Мадлен ждала, когда он продолжит, стараясь не поддаться его обаянию. Она даже сделала большой глоток виски, чтобы утвердиться в своей решимости сохранять хладнокровие.
— Не хочешь присесть? — Николас вопросительно посмотрел на Мадлен.
— Нет, лучше постою… у меня побаливают ноги… сегодня я слишком много работала в саду.
Похоже, Николас ей не поверил, но промолчал.
— В восьмидесятых годах французское правительство провело тщательное исследование ткани гобелена — ты знаешь об этом?
Мадлен кивнула.
— Для научного анализа. Они пришли к выводу, что рисовальщик был один, но работу выполняли в разных мастерских. Было также обнаружено несоответствие в стилях работы вышивальщиц. Но если гобелен вышит с небольшими перерывами — между тысяча шестьдесят четвертым и тысяча шестьдесят шестым, — это все объясняет. Считалось, что над гобеленом работали разные монахини, хотя и в одном монастыре.
— Но ведь вывод об одном и том же рисовальщике неправилен. Ты говорила, что рисунки делали Эдита и монах Одерикус.
— Этому есть объяснение в самом начале дневника. Эдита регулярно посещала библиотеку аббатства Святого Августина и видела иллюстрированные манускрипты монахов. На нее оказал влияние стиль священнослужителей. Первая картина гобелена, с Эдуардом — поначалу он должен был стоять в одиночестве, — полностью посвящалась ее больному мужу. Однако она не обрезала ткань до нужного размера, когда Одерикус в первый раз увидел ее работу. Он представил Эдуарда, сидящего на троне, — это была лишь часть ткани, вышитой Эдитой, — как первую главу истории посещения Гарольдом Нормандии. Одерикус понял, что Эдита сделала рисунок фигуры Эдуарда под влиянием его иллюстраций, виденных ею в библиотеке аббатства.
— То есть у них была похожая манера рисовать, — закончил ее мысль Николас.
— Да. Думаю, что позже, уже после битвы при Гастингсе, когда Одерикусу пришлось заканчивать рисунки по заказу королевы Матильды, он старался придерживаться стиля Эдиты. Мне бы хотелось думать, что он поступил так в ее честь.
Николас усмехнулся.
— Романтик до конца.
— В этом я уже не уверена, — выпалила Мадлен.
Николас пристально взглянул на нее.
— Сядь сюда, — сказал он, похлопав ладонью по дивану. — Иначе мне придется встать, чтобы вести нормальный разговор, а мне здесь так удобно, что не хочется шевелиться.
Мадлен колебалась, но потом сообразила, что отказ будет выглядеть банально. Она села на диван, но на безопасном расстоянии от Николаса.
Он все еще о чем-то напряженно размышлял.
— В книге, которую я прочитал, говорится, что гобелен Байе состоит из двух отдельных частей. Первая заканчивается в момент коронации Гарольда, а вторая начинается с момента сообщения Вильгельму о коронации. Таким образом, действие переносится из Англии в Нормандию.
— Все сходится, — проговорила Мадлен. — Когда Одерикус работал для Матильды, гобелен Эдиты был закончен. Коронация ее брата стала последней картинкой, которую рисовала она. Тем самым был положен конец ее надеждам возвести на трон истинного короля саксов. Матильда же хотела лишь показать победу норманнов, и ее вполне устраивало, чтобы все узнали о предательстве Гарольда. На гобелене Вильгельм советуется со священником перед тем, как отдать приказ о вторжении в Англию, и я считаю, что этот священник — Одерикус. Леофгит поняла, что он был шпионом Вильгельма при дворе Эдуарда — именно Одерикус сообщил норманнам о коронации Гарольда. В тексте, который добавили по желанию Матильды, Одерикус говорит, что священник — это епископ Одо, кузен Вильгельма. Возможно, он начал писать свое имя, а потом передумал!
— Или выбрал Одо, поскольку его имя напоминает имя «Одерикус», — еще один эффектный обман. — Николас замолчал и нахмурился. — На самом деле именно Одо являлся заказчиком окончания работ над гобеленом, если верить документам, которые я изучал.
Мадлен кивнула.
— Это одна из распространенных теорий. Одо тогда был епископом Байе. Когда в восемнадцатом веке гобелен обнаружили, он оказался в хранилище собора в Байе.
— Вот история для тебя — в ней полно белых пятен, которые ты сможешь заполнить.
— Я до сих пор не понимаю, почему на картине, где изображены Одерикус и Эдита, она носит имя Эльфгифы, — хмурясь, сказала Мадлен.
— Тут я могу помочь. Эльфгифа на языке саксов — «принцесса» или «дворянка». Титул и женское имя одновременно!
Мадлен задумчиво кивнула и улыбнулась. Еще один узелок завязан. Николас допил виски, и она решила, что пора прощаться.
— Вызвать тебе такси?
— Подожди немного, Мадлен. Я хочу поговорить с тобой еще кое о чем.
— О чем же?
Николас еще некоторое время молчал, казалось, он хочет понять что-то по ее лицу. Когда их взгляды встретились, у нее перехватило дыхание, и она не сумела отвести глаз. Он протянул к ней руки, коснулся груди, и ее решимость сохранять спокойствие мгновенно испарилась. Его рука скользнула по волосам Мадлен и остановилась на затылке. Потом он привлек ее к себе.
— Вот, — сказал он перед тем, как поцеловать ее.
Все сомнения Мадлен тут же улетучились.
После долгого поцелуя, который подтвердил, что Николас разделяет как минимум часть мечтаний и желаний Мадлен, они слегка отодвинулись, чтобы посмотреть друг на друга.
Николас тряхнул головой. Казалось, он был удивлен.
— Я давно хотел это сделать. Но мне казалось, что это будет неуместно, учитывая… А сейчас уместно, как ты считаешь?
Мадлен блаженно улыбнулась. Свинцовая тяжесть на сердце сменилась после поцелуя удивительной легкостью.
— Думаю, да. Я считала… я не понимала…
Но Николас снова начал целовать ее, и последние сомнения Мадлен прекратили свое существование.
На следующий день, перед тем как покинуть коттедж, Мадлен прошлась по комнатам и проверила, заперты ли окна, молчаливо прощаясь с домом. Когда теперь она вернется сюда?
Накануне вечером она все же вызвала такси для Николаса. Возможно, оба чувствовали, что проведенная вместе ночь будет иметь слишком серьезные последствия для их жизни на разных континентах. Им предстояло принять очень серьезное решение — Роза была бы возмущена.
Николас ушел, заставив такси ждать так долго, что оно едва не уехало без него. Ни один из них не стал говорить о следующей встрече. Теперь, когда Мадлен стояла посреди гостиной, собираясь покинуть коттедж, она вздрогнула, вспомнив их последнее объятие перед дверью. Когда руки Николаса обнимали ее плечи, она ощущала полную гармонию с миром. Их расставание было одновременно сладостным и грустным, и они оторвались друг от друга только тогда, когда засигналило такси.
Мадлен в последний раз огляделась, вышла из дома и заперла входную дверь. Прежде чем покинуть Англию, надо было завершить еще одно дело, и она решила, что сделает это по дороге к парому в Дувр.
Выезжая из Кентербери, Мадлен остановилась возле маленького цветочного магазина и купила букет красных роз. Она собиралась купить лилии, но розы напоминали ей сад Лидии.
После похорон Мадлен не была на могиле матери. Не хотела.
Надгробный камень еще не был установлен — каменщики ждали, когда она сообщит им текст надписи. Она до сих пор не приняла решения. Что же, это может подождать.
Церковное кладбище Семптинга было залито утренним солнцем, и на свежей земле выделялись яркие пятна еще не увядших цветов. Скорбь других людей дала возможность Мадлен чувствовать себя не такой одинокой, пока она искала могилу Лидии. На ней уже выросла трава — знак неистребимости жизни.
Мадлен стояла и смотрела на холмик земли, но никак не могла соотнести его с жизнью Лидии. Это всего лишь символ, сказала она себе, заставляя свой разум сосредоточиться на любви, которую она продолжала чувствовать, а не на своей потере. И бутоны красных роз подходили сюда лучше всего.
Она положила букет на новые стебли зеленой травы и немного посидела рядом с могилой, глядя в небо. Ей показалось, что облака сложились в летящего ангела.
ГЛАВА 17
14 июня
Дорогая Мадлен!
Спасибо за перевод, который ты послала ребятам в Лондон, — он сэкономил им уйму времени. Они поговаривают о публикации, но эту проблему пусть решают с тобой!
Сейчас их в первую очередь интересует все, что связано с ковчегом, — и это естественно! Идут подготовительные мероприятия. Сам дневник находится в отделе Средневековья Британской библиотеки. Полагаю, они свяжутся с тобой в самое ближайшее время.
Вчера мне позвонил Уилл, коллега из отдела рукописей, и сказал, что создается команда, которая отправится в Йартон. Они смогут получить от церкви «зеленый свет» быстрее, чем кто-либо другой.
Мы с тобой тоже приглашены. Это хорошо, поскольку я сказал Уиллу, что им не удастся оттеснить нас в сторону. Я им объяснил, что расследование — это твоя заслуга, и предположил, что ты захочешь в этом участвовать.
Я знаю, что тебе будет не просто получить отпуск в университете, поэтому попросил собраться на следующих выходных. Если все пойдет гладко, Уилл полагает, что двух дней вполне хватит. Не думаю, что у нас уйдет много времени на то, чтобы определить, в какой именно части башни имеются полости в камне, — у ребят есть мощные металлодетекторы и другие устройства, принципы работы которых мне неизвестны. В любом случае дай мне знать, устраивает ли тебя это время. Я рассчитываю, что в тебе достаточно сильна тяга к приключениям, чтобы вновь заманить тебя в Кентербери!
НиколасМадлен перечитала электронное послание Николаса во второй раз. Потом в третий.
Она всю неделю проверяла электронную почту дважды в день, надеясь получить от него письмо. Если бы у нее была привычка грызть ногти, она сгрызла бы их под корень. Нервы были напряжены до предела. Конечно, разумнее было просто ждать новостей о дневнике и ковчеге святого Августина, нежели пускаться в личную переписку с Николасом. Возможно, он думал точно так же.
Она не смогла написать ответ сразу, поэтому выключила компьютер.
Мадлен перешла в гостиную, села на пол в луче солнечного света и закурила. Она привыкла проводить выходные дома. На ковре лежали газеты и диски — обычные свидетельства предстоящего тихого воскресенья — и стоял остывший кофейник.
Она ощущала тревогу с того самого дня, как неделю назад вернулась домой. Университет казался ей чужим и холодным. Филипп и первокурсники начали ее раздражать. Роза все чаще отсутствовала, но так и не призналась, что до сих пор без ума от профессора изящных искусств. Никогда прежде Мадлен не видела, чтобы ее полигамная подруга интересовалась только одним человеком.
Мадлен заставила себя не думать об этом. В последнее время она слишком часто погружалась в подобные размышления. Но прошло совсем немного времени, и она поймала себя на том, что смотрит в окно, вспоминая объятия Николаса.
Снизу донеслись звуки рояля Тобиаса. Мадлен решила, что общество Тобиаса направит ее мысли в другую сторону, и спустилась к нему.
Тобиас открыл дверь. У него был взгляд безумного композитора. Одет он был в элегантный светлый льняной костюм, и Мадлен почувствовала себя неуютно в выцветших джинсах и простой белой блузке.
— Мадлен! — Тобиас широко распахнул дверь. — Сыграть тебе что-нибудь? — спросил он, метнувшись к кабинетному роялю. Казалось, он движется в такт звучащей в нем музыке.
Мадлен села на пол, прислонившись спиной к атласной парче дивана, и стала молча смотреть на маэстро.
Тобиас начал играть. Это был не Бах — Мадлен узнала музыку к песне Ника Кейва «В моих объятиях», которую они с Николасом слушали в машине, когда в первый раз ездили в Йартон. Потом он ставил ее в своей квартире. Мадлен вздрогнула. Ей показалось, что слова песни преследуют ее — они зазвучали в ее сознании, когда Тобиас заиграл:
Я не верю в существование ангелов, но, глядя на тебя, начинаю в этом сомневаться. Я бы позвал их сюда, чтобы попросить присматривать за тобой…Закончив играть, Тобиас подошел к дивану и сел, скрестив ноги и тщательно разгладив льняные брюки.
— Ну, что нового в жизни самой красивой женщины этого дома?
— Я единственная женщина в этом доме.
— Так оно и есть! — весело рассмеялся Тобиас.
— Кроме Луизы, конечно, — добавила Мадлен, внимательно наблюдая за выражением лица Тобиаса.
В ответ он лишь кивнул.
— Сейчас Луизы здесь нет — она приходит и уходит. Расскажи какие-нибудь сплетни. Мне наскучило стучать по клавишам.
— Но ты стучишь по ним, как настоящий мастер!
— Именно это я и хотел услышать!
— Боюсь, что не знаю никаких сплетен, — призналась Мадлен.
Ей не хотелось рассказывать про дневник, хотя теперь она имела на это полное право. Но, честно говоря, она предпочла бы забыть о нем. Однако не могла, поскольку все время помнила о том, что ей осталось перевести еще одну страницу.
— Расскажи про Англию. Я был там всего один раз, в Лондоне. Ты знаешь, я бы наверняка смог жить в Лондоне!
— Не могу себе представить ничего хуже, чем жизнь в Лондоне! Дом моей матери… теперь это мой дом, и это странно. В любом случае он находится в Кентербери. Это небольшой средневековый город.
— И тебе там нравится.
— Откуда ты знаешь?
— Это написано у тебя на лице. Почему бы тебе не пожить там немного? Это будет настоящим приключением! И тогда я смог бы навестить тебя в Англии, где все пьют чай. Обожаю чаепития!
Мадлен рассмеялась.
— Это называется чаепитием только тогда, когда происходит в три часа дня. Это важно знать, Тобиас. Я уже прошла инициацию. Но я не могу жить в Кентербери.
— Не стоит быть такой занудой. Совершенно очевидно, что тебе надоело заниматься преподаванием. Если не рискнешь, то закончишь, как леди Шалот.
— Это очень поэтично, Тобиас. Я бы даже сказала, мелодраматично.
— И ты просто сидишь в своей башне, не так ли? Смотришь на жизнь сквозь магическое зеркало! Полагаю, что в Кентербери живет Ланселот?
Мадлен закурила, стараясь не смотреть на Тобиаса.
— Я не ошибся?
Мадлен кивнула.
— Тогда, дорогая, тебе осталось решить, сможешь ли ты там жить без Ланселота. Если вдруг с Ланселотом не получится, то у тебя будут пути к отступлению!
Это был очень практичный совет. Мадлен пожалела, что не умеет мыслить такими простыми категориями.
— Если не пытаться, то как узнаешь ответ?
С этими словами Тобиас вернулся к роялю и погрузился в музыку.
Мадлен неслышно выскользнула из его квартиры и вернулась к себе.
Затем включила компьютер, чтобы написать ответ Николасу, но сперва прочла очередное письмо от Карла Мюллера.
Мадлен!
Поздравляю вас, хотя и с некоторым сожалением. Внутренний рынок полон слухов о том, что найден ковчег святого Августина.
Как вы догадываетесь, я разочарован тем способом, который вы выбрали, чтобы доложить о своих открытиях.
Должен сказать, что во время нашей первой встречи я сразу подумал, что вы «темная лошадка» — вы произвели на меня впечатление!
Увы, мы упустили шанс поработать вместе, а также весьма солидные комиссионные.
Кстати, я рассчитываю поговорить с вашими кузинами относительно шкатулки из гагата, поскольку у меня уже образовалась небольшая коллекция.
Быть может, мы когда-нибудь встретимся. Вы знаете, я часто бываю в Париже.
КарлВкрадчивое высокомерие Карла теперь вызывало у Мадлен лишь слабое раздражение — она заметила, что улыбается. Перехитрить Карла и таких, как Рене Девро, было значительной победой, и это порадовало Мадлен. А еще она с удовлетворением отметила, что ее совершенно не заинтересовало предложение Карла о встрече.
А вот его слова относительно «темной лошадки» вызвали неприятные ассоциации. Мадлен уже так называли.
Она решила, что не будет отвечать Карлу — ей предстояло написать куда более важное письмо.
Дорогой Николас!
Я принимаю приглашение поучаствовать в приключениях! В субботу утром есть ранний рейс в Гатвик. Сможешь меня встретить?
Она остановилась и задумалась. Добавить еще что-нибудь? Нет, чем проще, тем лучше. Как подписать письмо? С любовью? С уважением? Она испытывала оба этих чувства, но решила, что лучше держать их при себе.
Пока.
МадленМадлен не звонила Розе после того, как самым подробным образом описала ей поездку в Кентербери в первый же день своего возвращения в университет, в кафе. Она знала, что Роза вовлечет ее в обсуждение того, что они теперь называли «английским делом».
Однако Роза сама позвонила Мадлен. Наверное, она торопилась на ланч — вероятно, с профессором, а потому, слегка задыхаясь, сказала:
— Сангрия, восемь часов, сегодня вечером — договорились?
В тапас-баре оказалось много народу, и они сели во внутреннем дворике, в задней части здания, которую зимой закрывали. Кирпичные стены украшали виноградные лозы, воздух наполнял аромат жасмина, высаженного в горшки, которые были расставлены во дворике.
Мадлен не стала рассказывать о содержании письма Николаса до тех пор, пока они не управились с первым кувшинчиком сангрии.
Реакция Розы оказалась совершенно неожиданной. После того как улеглось ее возбуждение по поводу археологической экспедиции, она почти сурово посмотрела на Мадлен.
— Тебе, наверное, известно, что большая часть моих возражений против поездок в Кентербери носила эгоистический характер. Я не хочу тебя терять.
— Не будь смешной — этого никогда не произойдет! И даже если я действительно поживу там — совсем недолго! — нас будут разделять всего несколько часов на машине.
— И вода, а это для меня проблема, — сказала Роза.
Тем не менее она выглядит совершенно довольной жизнью, подумала Мадлен. Ее оливковая кожа сияла, став золотисто-коричневой. Она отрастила волосы, и теперь от сексуальных локонов трудно было оторвать взгляд, а простое летнее платье делало ее более привлекательной, чем прежние костюмы в стиле женщины-вамп.
Мадлен задумчиво потягивала сангрию.
— В любом случае мне придется съездить туда еще несколько раз. Надо встретиться с историком, который изучает дневник.
— Ты хочешь сказать, что тебе надо встретиться с Николасом, — уверенно сказала Роза. — И конечно, цель сугубо профессиональная!
Мадлен ловко сменила тему.
— А как насчет мистера Изящные Искусства?
— О, наше общение также носит исключительно профессиональный характер! — Роза откинулась на спинку стула и стала похожа на греющуюся на солнышке кошку. — Я еще не решила, стоит ли в него влюбляться.
— Естественно, ты полностью контролируешь ситуацию?
На мгновение Роза стала совершенно серьезной.
— Разумеется. — Она пожала плечами. — Мы просто получаем удовольствие, проводя время вместе. — Она перехватила взгляд Мадлен, и обе рассмеялись.
— Врушка! — сказала Мадлен.
Роза кивнула.
Во время полета из Кана в Гатвик Мадлен пыталась отвлечься от мыслей о замурованном сокровище и о Николасе, сортируя старые квитанции, списки покупок и другие листочки, скопившиеся на дне сумки.
Среди прочего она нашла вырванный из блокнота листок с тремя рунами и их значением — результат ее первого визита к Еве. Первая руна, которую она вытащила из мешочка Евы, была Эйваз, тисовое дерево. Она представляла тайну смерти. Мадлен почувствовала, как перехватило горло, а ее сосед, бизнесмен средних лет, с опаской посмотрел в ее сторону. Мадлен сложила листок и отвернулась. К счастью, он продолжил читать газету.
Теперь Мадлен развернула листок так, чтобы видеть его могла только она. Второй символ, Совило, руна исцеления, олицетворял победу жизни над смертью.
«Когда солнце вернется, все станет лучше», — сказала Ева. Третья, и последняя, руна — руна огня, Феху. Мадлен вспомнила объяснение Евы — огонь есть средство изменения, с помощью огня воины получали магическое оружие. Теперь значение этих символов перестало быть для Мадлен тайной. В каком-то смысле они отобразили ее жизнь после смерти Лидии. А теперь наступило лето, и солнце вернулось.
Николас ждал ее в зале прибытия. Как только Мадлен увидела его, ее сердце подпрыгнуло, но внешне, как она надеялась, ей удалось сохранить спокойствие. Он тепло обнял ее и поцеловал в губы, потом забрал сумку и повел к выходу из аэропорта.
— Если не возражаешь, мы сразу же отправимся в Йартон, — предложил он, выехав на шоссе. — Парни из Лондона там со вчерашнего дня. Я встретился с ними и рассказал об Иоганнесе Корбете и волхвах с ларцом. На них это произвело впечатление. Думаю, им не терпится встретиться с тобой! Могу лишь сказать, что со своими электронными приспособлениями они похожи на отряд ФБР.
— Господи! Надеюсь, они найдут ковчег!
— Не беспокойся — что-то металлическое там есть.
Мадлен почувствовала, как ее охватывает возбуждение, а Николас искоса посмотрел на нее и улыбнулся.
— Они довольно быстро обнаружили полость в камне в одной из стен башни. А уже через десять минут металлодетектор завыл, как пожарная сирена.
К тому моменту, как «фольксваген» заехал во двор церкви в Йартоне, Мадлен чувствовала себя в компании Николаса непринужденно. Он оказывал на нее успокаивающее действие до тех пор, пока не касался ее тела. Тогда воздействие получалось прямо противоположным.
Внутри церкви уже работала команда — бледный геолог из Британского музея и двое хмурых экспертов из крупной лондонской археологической фирмы, специализирующейся на раскопках. Друг Николаса по имени Уилл оказался бородатым мужчиной лет пятидесяти, в очках, чем-то неуловимо похожим на Филиппа. Впрочем, очень скоро Мадлен поняла, что Уилл гораздо более яркий человек, чем Филипп.
— Отлично, — сказал Уилл, с искренним уважением пожимая руку Мадлен. Он похвалил ее за качество проведенного расследования. — Мы уже отметили нужную точку. Идемте.
Один из сотрудников археологической фирмы уже начал сверлить небольшое отверстие в стене, где была сделана отметка мелом. Если не считать воющего сверла, которое напоминало неприятное гудение в кабинете дантиста, вокруг царила тишина. Мадлен прижала руку к губам и с беспокойством посмотрела на Николаса, который широко улыбался.
Когда отверстие было готово, дрель вытащили и вставили внутрь длинный тонкий прут, на конце которого находилось нечто, напоминающее шаровую опору.
— Что это? — спросила Мадлен.
— Миниатюрная камера, нечто среднее между эндоскопом и перископом, — ответил Уилл, который сидел на корточках на полу рядом с ученым, чьи глаза уставились в монитор тонкого портативного компьютера. Мадлен и Николас встали так, чтобы видеть монитор. В это время камера начала снимать щель в стене и на мониторе появились тени.
— Поразительная технология, — пробормотал Николас.
Камера передавала черно-белое изображение, и вскоре все увидели на мониторе темный объект.
— Вот он! — сказал Уилл, и на его грубоватом лице появилась улыбка Чеширского кота. — Следующая часть будет более трудоемкой — из стены придется вынуть несколько камней. Если не хотите зря терять время, я советую вам вернуться… — он посмотрел на часы, — около семи вечера. Ну а если что-нибудь интересное произойдет раньше, я позвоню. У вас есть сотовый телефон?
Мадлен кивнула.
После сумрака лишенной окон башни солнце под открытым небом казалось ослепительным. Мадлен и Николас одновременно остановились возле тисового дерева в церковном дворе и некоторое время стояли под его древними ветвями, отдавая дань молчаливого уважения.
— Пожалуй, дерево сделало свое дело и помогло сохранить сокровище Иоганнеса, — сказала Мадлен.
— Похвальное деяние, — согласился Николас. — Давай я отвезу тебя в коттедж, а потом поедим где-нибудь.
— И будем ждать телефонного звонка, — сказала Мадлен.
— Ну да. Надо заняться чем-нибудь, чтобы отвлечься.
Николас произнес эти слова довольно сухо, но когда Мадлен рискнула посмотреть на него, то увидела, что на его губах играет улыбка.
Уилл позвонил в половине седьмого, когда они ехали обратно в Йартон. Они прервали спор у канала о том, могла ли Вирджиния Вульф быть реалистом и романтиком одновременно, чтобы на всякий случай приехать к башне пораньше.
Николас едва не превысил скорость перед тем, как подъехать к церкви.
Солнце уже клонилось к горизонту, в церковном дворе лежали длинные тени, и Мадлен надеялась, что к тому моменту, когда солнце зайдет окончательно, они уедут отсюда.
Когда Николас и Мадлен вошли, то увидели стоявшие на полу башни несколько массивных древних камней. Один из археологов всматривался в брешь в стене. В башне зажгли прожектора, как будто собирались снимать кино. Все согласились с тем, что не стоит откладывать на утро следующий шаг расследования.
Уилл встретил их, потирая руки.
— Вы быстро приехали! Не хотелось начинать без вас.
Каменная пыль покрывала сверток, извлеченный из стены. Он был довольно тяжелым, и его несли сразу двое. Сверток положили в центре — под свет прожекторов. Вокруг собрались все участники поиска.
Уилл наклонился, аккуратно стряхнул каменную пыль, и все увидели толстый кожаный покров, перевязанный ремнями толщиной со шнурок.
Их аккуратно развязали, покров осторожно сняли, и глазам собравшихся предстал удивительно красивый ларец.
Вдоль куполообразной крышки ковчега переливались самоцветы. Под мощными лучами прожекторов мерцали янтарь, рубины, топазы и жемчуг. По обеим сторонам крышки имелись золотые распятия, инкрустированные жемчугом, а вдоль стенок шла изящная золотая мозаика, напоминающая миниатюрные готические арки.
— А вот и руны, — сказал Николас, присев на корточки, чтобы получше рассмотреть надпись, идущую вдоль основания ковчега.
Он вслух прочитал стихотворение святого Августина, и его голос эхом отразился от каменных стен.
— «Пусть всякий, кто коснется этого ларца, говорит правду», — закончил он.
В наступившем благоговейном молчании Николас посмотрел на Мадлен и долго не отводил от нее взгляда.
Потом все занялись делом, ковчег тщательно завернули в прежние покровы, а Уилл обратился к Мадлен.
— Мы бы хотели, чтобы вы продолжали участвовать в нашей работе. Ник рассказал мне, что у вас здесь дом, так что жить есть где. Я бы с удовольствием позвонил на будущей неделе, чтобы обсудить с вами эту возможность.
Мадлен кивнула.
— Правда, на будущей неделе я буду во Франции.
— Нет проблем.
Уилл присоединился к остальным, чтобы помочь собрать оборудование.
— Мне бы очень хотелось, чтобы ты хотя бы ненадолго осталась с нами, Мадлен… но лучше надолго, — сказал Николас, когда они ехали обратно в Кентербери.
Мадлен взглянула в окно на темнеющие поля, озаренные последними лучами заходящего солнца. Скоро наступит день летнего солнцестояния. Она откинулась на спинку сиденья, и ее ладонь легла ему на бедро.
На следующее утро Мадлен долго лежала в постели. Дело было вовсе не в том, что ей не хотелось вставать, — она боялась потревожить воздух, который был словно наэлектризован.
Наконец она решилась, спустила ноги на пол и немного посидела, ожидая как минимум удара молнии. Но воздух оставался спокойным. Мадлен встала, подошла к окну и раздвинула шторы, чтобы впустить в комнату веселое утреннее солнце. Небо было пронзительно голубым. Мадлен глубокий вздохнула. Теперь она знала, что означало это странное спокойствие — надежду.
Сейчас она могла прочитать последнюю страницу дневника, чтобы попрощаться с параллельным миром, куда она так охотно сбегала еще несколько дней назад.
Между ней и Николасом существовало безмолвное соглашение — она должна принять решение в самое ближайшее время. Накануне вечером Николас довез ее до коттеджа, но не зашел. Они поцеловались, условившись поговорить на следующий день.
Именно в долгие минуты между сном и бодрствованием Мадлен приняла решение. Вместе с уверенностью в том, что коттедж станет ее новым домом, пришло понимание того, что следует написать на надгробном камне Лидии.
Мадлен приняла душ, оделась и вышла в летнее утро.
Теплый воздух был напоен ароматами роз. Она приостановилась и взглянула на сад. Возле стены росли плющ и розы — розовые, желтые и красные. В сумке лежал блокнот с последней частью дневника и книжка Лидии «Русская мудрость».
В кафе Мадлен заказала эспрессо и пирожное и устроилась за столиком на улице. Мимо проходили люди с утренними газетами в руках, держали за руку детей, вели на поводке собак. Кто-то улыбнулся Мадлен, и она улыбнулась в ответ.
Покончив с пирожным и допивая кофе, Мадлен вытащила из сумки книгу.
Она посмотрела на тонкий томик с изображением святого Георгия, убивающего змия, и открыла страницу, где находилась эпитафия для надгробного камня Лидии.
«Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь».
Иван ТургеневМадлен подняла лицо к солнцу и прикрыла глаза, ощутив закипающие слезы печали и умиротворения.
Когда она снова открыла глаза, по небу плыли легкие облачка. Она подумала — если присмотреться, то можно увидеть в них сонмы ангелов.
Она вытащила из сумки блокнот и открыла его на странице, куда был скопирован последний отрывок из дневника. Мадлен представила себе тонкий почерк Леофгит и вспомнила — ей показалось, будто в конце он слегка изменился.
Больше Мадлен не могла тянуть с переводом — только с его помощью она могла совладать с переполняющими ее чувствами и окружающим миром.
16 октября 1086 года
Я Мэри, дочь Леофгит, и сегодня — двадцать лет с того дня, как погиб мой отец, Джон Лучник. Я пишу это не только в память о нем, но и в честь моей матери, которая умерла год назад, тоже в октябре.
Когда Леофгит перестала писать, то сказала, что ее задача выполнена, а горе украло радость от общения с чернилами, пером и пергаментом. Но за прошедшие годы, по мере того как я повзрослела, стала женщиной и вышла замуж за Эда-каменщика, я видела, как радость возвращается к ней — ведь она не из тех, кто теряет надежду. Но все же она больше никогда не бралась за перо.
В день летнего солнцестояния она всегда исчезала на некоторое время, но я знала, что она уходит в лес, чтобы вспомнить Джона Лучника. Возвращаясь, чтобы выпить с нами эля, она всегда была весела, но лишь одна я знала, какая боль переполняет ее сердце.
Моя мать умерла так же спокойно, как и жила, продолжая находить радость в работе с иглой, пока после долгих лет напряженного труда ее не начали подводить глаза и она больше не могла различать тонкие шелковые нити. До самого последнего вздоха она умоляла хранить написанное ею и просила меня продолжать. Однако я не обладаю материнской выносливостью, а нашей семье приходится очень много работать, чтобы содержать мастерскую вышивальщиц в Винчестере, закупать краски и ткани, торговать с купцами с Востока, получать шелка и драгоценные бусины.
Мастерскую открыла Леофгит, но теперь ее содержание и забота о земле лежат на моих плечах — король подарил Леофгит землю за ее службу королеве Матильде. Мы получаем доход, торгуя вышивками, одеваем множество дворян и священников, и многие продолжают приходить к нам.
Моя мать не испытывала печали, покидая Вестминстер, она о многом хотела забыть. Когда она постарела и к ней пришла усталость, ее сердце стремилось в Кентербери, к настоящему дому.
Монах Одерикус покинул этот мир довольно давно, вскоре после смерти королевы Эдиты. Моя мать никогда не отворачивалась от него — ведь у нее было доброе сердце, но их дружба уже не была такой же крепкой, как прежде.
Теперь я должна исполнить желание Леофгит, которая хотела сохранить дневник, поэтому я отнесу его в женский монастырь в Винчестере, поскольку боюсь, что эти страницы попадут на глаза тем, кому их не следует читать.
Моим детям будет известно про их бабушку — женщину, умевшую писать. Возможно, эту память сохранят и внуки, но со временем память тускнеет. Когда те, о ком она писала, станут лишь именами, а деяния, которым она стала свидетельницей, не смогут принести бед окружающим, слова, написанные моей матерью, можно будет прочесть, и о ней снова вспомнят.
Еще она хотела, чтобы земля, которую мы получили благодаря ее службе, оставалась у нашей семьи дольше, чем будет храниться дневник.
Нити судьбы ткутся, пока жива память, и лишь когда ткань готова, нить можно отрезать.
Примечания
1
Байе (фр. Bayeux) — город в Нормандии. В городском музее выставлен знаменитый гобелен Байе — вышитое полотно 50 см х 70,3 м, на котором изображены главные события из истории завоевания Англии Вильгельмом Нормандским.
(обратно)2
Кнуд Великий — король Дании, Англии и Норвегии, владетель Шлезвига и Померании.
(обратно)3
Этельред II, или Этельред Неразумный (968 (?) — 23 апреля 1016) — король Англии (978-1013 и 1014–1016), представитель Уэссекской династии.
(обратно)4
Годвин (ок. 1001 — 15 апреля 1053) — крупный государственный деятель Англии, эрл Уэссекса с 1019 г. Отец последнего англосаксонского короля Гарольда II.
(обратно)5
Альфред Великий (ок. 849–899/901) — король Уэссекса (871–899/901), первый из королей Уэссекса использовал в официальных документах титул короля Англии.
(обратно)6
Карл I Великий (747[1] — 814) — король франков и лангобардов, герцог Баварии, римский император. По имени Карла династия Пипинидов получила название Каролингов.
(обратно)7
Кентерберийский собор — главный англиканский храм Великобритании. Основан Августином Кентерберийским в 603 г.
(обратно)8
Этельберт (ок. 552 — 24 февраля 616) — первым из кентских королей принял христианство, за что после смерти был канонизирован.
(обратно)9
Вильям Моррис (24 марта 1834 — 3 октября 1896) — основатель фабрики, изготовлявшей по рисункам выдающихся художников предметы домашней обстановки, и типографии, выпускавшей художественно оформленные книги.
(обратно)10
Ликвидация монастырей и передача монастырских активов в ведение короны завершилась к 1540 г. Церковная собственность оказалась в руках английской аристократии, что создало экономическую базу для укоренения реформ и упрочения политического разрыва с папством.
(обратно)11
Элоиза (ок. 1100–1163) — возлюбленная, тайная супруга и ученица Абеляра. Любовь Элоизы и Абеляра закончилась для них трагически — оба ушли в монастырь.
(обратно)12
Кристина из Маркиата — в девичестве дала обет целомудрия и бежала из дома после того, как родители насильно выдали ее замуж. Находилась под опекой отшельника и монаха Роджера, жившего в Маркиате.
(обратно)13
Хильдегарда Бингенская (1098 — 17 сентября 1179, монастырь Рупертсберг под Бингеном) — немецкая монахиня, настоятельница монастыря в долине Рейна. Автор мистических трудов, религиозных песнопений и музыки к ним, а также трудов по естествознанию и медицине.
(обратно)14
Битва при Азенкуре (25 октября 1415 г.) — сражение между французскими и английскими войсками. Имевшая существенное численное превосходство французская армия потерпела в этой битве поражение.
(обратно)15
Битва при Гастингсе (14 октября 1066 г.) — сражение между англосаксонской армией Гарольда Годвинсона и войсками норманнского герцога Вильгельма. В результате Англия была завоевана норманнами, а Вильгельм стал английским королем.
(обратно)16
Битва при Малдоне произошла 10 августа 991 г. около реки Блэкуотер в Эссексе во времена правления короля Этельреда Неразумного.
(обратно)17
Хускерл — представитель особой королевской гвардии в англосаксонской Британии XI в. Хускерлы отличалась высоким уровнем организации, сплоченной лояльностью королю и особым кодексом чести.
(обратно)18
Томас Кранмер (1489–1556) — деятель английской Реформации, архиепископ Кентерберийский. Содействовал установлению королевского верховенства в церковных делах, проведению реформации и секуляризации церковною имущества.
(обратно)19
«Книга Страшного суда» — свод материалов первой всеобщей поземельной переписи, проведенной в Англии (1085–1086) по приказу Вильгельма Завоевателя. Название книги ссылается на библейский Судный день, когда всем людям должен быть предъявлен полный список их деяний.
(обратно)20
Кристина Пизанская (Венеция, 1364/1365 — аббатство Пуасси, 1430) — французская поэтесса итальянского происхождения. Считается одной из предшественниц феминизма.
(обратно)21
Одно из наиболее крупных англосаксонских королевств; занимало территорию от реки Хамбер до границ Шотландии.
(обратно)22
Гернси (Сарния) — остров в проливе Ла-Манш в составе Нормандских островов.
(обратно)23
Персонаж комиксов.
(обратно)24
Персонаж детской образовательной программы «Улица Сезам».
(обратно)25
Бог грома и молнии в германо-скандинавской мифологии.
(обратно)26
Туринская плащаница — одна из важнейших реликвий христианства, четырехметровое полотно, в которое, по преданию, Иосиф завернул тело Иисуса Христа после его крестных страданий и смерти. На плащанице отпечатался лик и тело Иисуса.
(обратно)27
Кельтские узлы — сложные растительные, геометрические, иногда животные узоры, принятые у древних кельтов.
(обратно)28
Госпатрик — один из последних англосаксонских эрлов (графов) Нортумбрии (1067–1068,1069-1072 гг.), основатель шотландского рода Данбаров.
(обратно)29
Относящийся к периоду правления четырех королей — Георга I (1714–1727), Георга II (1727–1760), Георга III (1760–1820) и Георга IV (1820–1830).
(обратно)30
Правил с 1603 по 1625 г.
(обратно)31
Локоть, мера длины.
(обратно)32
Грифид ап Лливелин (ок. 1000 — 5 августа 1063) — правитель, объединивший под своей властью большую часть территории современного Уэльса.
(обратно)33
Харальд III Сигурдссон, Харальд Суровый (норв. Harald Hardråde; 1015–1066) — король Норвегии (1046–1066).
(обратно)34
«Леди из Шалот» (1888 г.) — одна из самых известных картин английского художника Джона Уильяма Уотерхауса. Посвящена поэме Альфреда Теннисона «Волшебница Шалот».
(обратно)35
Северный вокзал (фр.).
(обратно)36
Госпожа садомазохистских игр, знаменитая в Австралии в семидесятых — восьмидесятых годах двадцатого века.
(обратно)37
1 мая; старый кельтский праздник; отмечается разжиганием костров.
(обратно)38
Принятое в Великобритании название пролива Ла-Манш.
(обратно)39
Крупный международный аэропорт в Лондоне.
(обратно)40
Название чумы в средневековой Европе.
(обратно)41
Пятница на Страстной неделе является официальным выходным днем (церк.).
(обратно)42
Паб, не связанный договором с определенной пивоваренной компанией и получающий напитки от разных фирм.
(обратно)43
Старший сын принца Чарльза и принцессы Дианы (род. 21 июня 1982 г.).
(обратно)44
Сорт шотландского виски.
(обратно)45
Официальный выходной день.
(обратно)46
Их едят в Страстную пятницу и во время Великого поста.
(обратно)47
Служба контроля внутреннего налогообложения.
(обратно)48
Витенагемот (Витан) — национальное собрание. Считается предшественником английского парламента.
(обратно)49
Крупнейшая библиотека Великобритании; имеет более 18 млн книг, рукописей, карт и газет.
(обратно)50
Африканское блюдо из крупы.
(обратно)51
Хлеб с сыром, дежурное блюдо в пабах.
(обратно)52
Город в графстве Кембриджшир; известен древним собором.
(обратно)
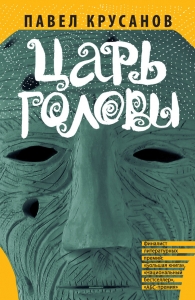


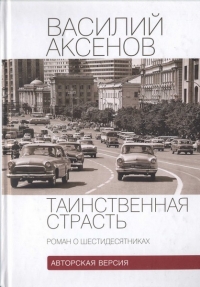




Комментарии к книге «Гобелен», Кайли Фицпатрик
Всего 0 комментариев