«Негр говорит не языком, а сердцем своим, оно-то у него и болит, оно-то и кровоточит. Поговорил да и забыл, а речи его разнеслись вместе с ветром по всему свету, отравили людей и зверей, горы и долы, быстрые реки, да и вольный ветер тоже. Но мыслимо ли жить без слова, без вечных преданий и сказок, ведь они — тень нашего прошлого, наша великая тайна. И как леопард, умирая, уносит в могилу свои пятна, так и мы уходим из жизни с памятью нашей, с тенью наших легенд, которая дарует нам истинное бессмертие, вечное обновление…»
Так говорили старики еще совсем недавно, пока не появились те, кто, по их мнению, «ни то ни сё, ни петух ни курица». Это они нас, новое поколение, так величают, добавляя полушутя — полусерьезно: «Эх вы, беспамятное племя с острова-скорлупки, гонитесь вы за завтрашним днем, а прошлое свое позабыли!..»
Но мне ли судить, о, мне ли судить, правы они или нет…
КНИГА ПЕРВАЯ,
в которой повествуется о том, что было до рождения Жана-Малыша с острова Гваделупа, а также о первых шагах нашего героя на этой земле.
1
Остров, где все это случилось, малоизвестен. Он покачивается тонкой скорлупкой на волнах Мексиканского залива, и найти его можно только на самых подробных картах мира. Напрасно вы будете искать его на глобусе: смотрите, сколько душе угодно, вглядывайтесь хоть до ряби в глазах — все равно без увеличительного стекла вам не обойтись. Он совсем недавно поднялся над морем, всего каких-то один-два миллиона лет назад. И ходят слухи, что он может исчезнуть так же внезапно, как и появился, нежданно-негаданно пойти ко дну, увлекая вместе с собой в пучину и горы, и маленький серный вулканчик, и изумрудные холмы с прильнувшими к их склонам, как бы висящими в воздухе залатанными хижинами, и тысячи речушек, таких причудливых и искристых, что индейцы, первыми ступившие на эту землю, нарекли ее Островом хрустальных струй…
Но пока что он не тонет, держится на поверхности моря, готового выдохнуть ураган, на воде, цвет которой постоянно меняется от безмятежно — голубого до зеленого и фиолетового. Он кормит и поит разные диковинные создания: людей и зверей, демонов, духов и прочую нежить, которые в смутной надежде все ждут чего-то несбыточного, а чего — и сами не знают. А еще сюда прилетают птицы, чтобы вывести под жарким солнцем своих птенцов…
По правде говоря, это совсем никчемный клочок земли, и его история, по твердому убеждению маститых специалистов, не представляет решительно никакого интереса. А ведь знавал он и лихие годины, и палящие бури страстей, и великие кровопролитные битвы, достойные внимания просвещенного мира. Но все это давным-давно забыто, даже деревья — и те уже ничего не помнят, и местные жители считают, что ничего не происходило, не происходит и никогда не произойдет на острове до тех пор, пока он не отправится к своим старшим братьям, устилающим дно океана. Они привыкли смотреть на все вокруг из-под ладони, скрывающей небо. Они уверены, что настоящая жизнь проходит стороной, и даже утверждают, что этот жалкий островочек обладает свойством все так умалять, что спустись на него сам господь бог, так и тот бы запил и загулял с негритянками, как простой смертный, вот так-то!..
В самом сердце этой затерянной страны есть еще более затерянный уголок — деревня Лог-Зомби[1]. Если уж Гваделупа едва удостоилась точки на карте, то говорить об этой ничтожной деревушке вроде бы совсем не пристало. Однако она существует, существует давно, и много выпало на ее век и чудес, и крови, и тщетных усилий, и вожделений, не уступающих тем, что сотрясали Ниневию, Вавилон и Иерусалим…
Первыми обитателями Лог-Зомби были краснокожие, селившиеся вдоль Листвяной реки, неподалеку от того места, где нынче стоит хижина тетушки Виталины, сразу за Инобережным мостом; там и посейчас высятся крутые скалы, с искусно высеченными на них солнцами и лунами. Краснокожие по-своему глядели на белый свет и назвали свой мирок журчащим именем Карукера — Островом хрустальных струй, как уже было сказано. Гваделупой его окрестили позже, когда появились здесь длинноухие бледнолицые пришельцы. Неспокойные, мятежные души, они, по-видимому, вовсе не заметили красоты рек и ручьев, но зато прониклись большим уважением к жару тропического солнца. Истребив краснокожих, эти светочи разума обратили свой взор к берегам Африки, там обзавелись они чернокожими, которые стали отныне гнуть на них спины. Вот так, по вине щедрого светила, на древней Карукере воцарилось рабство, и понеслись к небу стоны и причитания, а удары хлыста заглушили рокот горных потоков…
Все это было и быльем поросло, и теперешние жители Лог-Зомби не верили, что в их истории можно отыскать хоть одно примечательное событие. Правда, кое-кто из них втайне задавался вопросом, а не было ли все же в их прошлом чего-либо знаменательного, яркого, такого, чем стоило бы хоть немного гордиться. Однако, боясь, что их поднимут на смех, они такие мысли тщательно скрывали. Другие даже сомневались, что их предки родом из Африки, хотя какой-то голосок и нашептывал им на ухо, что не всегда они обитали в этой стране и не были ее исконными жителями, не в пример деревьям, камням и зверям — порождениям этой доброй красной земли. И когда они задумывались о судьбе своей, о себе самих, явившихся непонятно откуда и зачем — может, лишь для того, чтобы пройти едва заметной тенью по Лог-Зомби, по пятачку ее буйной травы, — этих беспамятных людей прошибал, случалось, дурнотный пот и на какой-то миг они чувствовали себя несчастными. И тогда, тяжело встряхнув бедной своей замороченной головушкой и убедившись в том, что рядом родное лицо, знакомое, с детства деревце, полуразвалившаяся хибара на каменных опорах, они оглашали небо раскатистым хохотом и успокаивались, вновь обретя свое место в этом мире…
Как видите, эти зыбкие люди были сродни песку и ветру: от слова рождались, от слова умирали. Они знали жизнь, как бык — слепня, но умудрялись предаваться своим фантазиям даже в колючем аду сахарного тростника, даже под зудящими укусами красных банановых муравьев; вечно витали они в облаках. И когда две деревенские кумушки расходились, посудачив совсем немного, часок-другой, то вместо «до свидания» они всегда бросали друг другу вполголоса «до сновидения»…
В те стародавние времена, задолго до асфальтовых шоссе и съевших всякую тень электрических фонарей, Лог-Зомби мало чем напоминала нынешнюю деревню — о той помнят лишь немногие, седые как лунь деды, которые каждый год один за другим уносят в могилу последние деревенские новости…
Где ты, наша молодость! Лог-Зомби стояла тогда не в лесу, а в залесье и была не просто глухим местом, а самой настоящей глухоманью. Чтобы добраться туда, нужно было сперва выйти из города Лараме с его мэрией, школой, кладбищем в багряном пламени цветущих деревьев и трухлявым пирсом, звенящим полчищами комаров. Потом свернуть с проложенного белыми людьми шоссе на дикую тропу, которая вдруг вспархивала ввысь, будто спеша затеряться в облаках. Бананы слева, сахарный тростник справа — везде простирались поля белых хозяев, везде одна и та же, возделанная от моря до первых отрогов вулкана земля. По обе стороны тропы торчали маленькие деревянные хижинки на четырех каменных опорах. На прибрежных равнинах они собирались как бы в пышные снопы, которые редели по мере того, как вы уходили от моря вглубь острова. И вот наконец от снопов оставались лишь чахлые букетики — от силы два-три домишка под соломенной крышей, кое-как стоявшие на клочках утоптанной, гладкой, лоснящейся, как мрамор, земли…
Через час пути отовсюду возникали клинья леса, который каждый год отступал все выше в горы под неудержимым натиском сахарного тростника, захватывающего холм за холмом. На тропу ложились длинные густые тени от крон камедного, красного и копалового деревьев, от сгинувших ныне мелколистника и ферулы, от магоний и пышных деревьев балата, перевитых плотной, непроглядной сетью лиан. Потом открывался Инобережный мост, перекинутый через высохший овраг, а вернее, русло мертвой реки, где в ожидании, что какой-нибудь бедолага вдруг оступится и сорвется к ним вниз, кривлялось и корчилось целое скопище злых духов. И вот в сказочно ярком просвете появлялась Лог-Зомби: вереница уступов, а на них непонятно как держащиеся, будто подвешенные на невидимых нитях к небу хижины — несколько жилищ, не то людских, не то колдовских, — что сиротливо жались к заросшему глухим лесом склону горы Балата, которая и сама, казалось, вот-вот рухнет в тартарары…
Цепочка лачуг вдоль пыльной дороги, что обрывалась у подножия отшельника-вулкана, — вот и вся деревня. Выстроившиеся гуськом хижины напоминали вагончики поезда, который устремился в горы. Но поезд этот никуда не шел, он искони стоял здесь; наполовину утопая в зелени, он замер навсегда. Домишки были обращены к морю и смотрели на мир, но мир не видел их. Откуда ни взгляни, внизу сверкала морская гладь, в каких-нибудь двух лье от деревни — пустяковое расстояние для тех, кто жил рыбной ловлей, стоит лишь порезвей крутить педали велосипеда. Большинство обитателей деревни работало на землях белых: в саваннах, ощетинившихся копьями сахарного тростника, и на тучных взгорьях, засаженных бананами. Но были и рыбаки — правда, немного, — несколько ремесленников и лавочников, продававших в розницу растительное масло, ром, вяленую треску, две-три уличные торговки рыбой и, наконец, пильщики деревьев, которые держались особняком и малость важничали. Высоко, чуть ли не у самых горных вершин в белой дымке облаков, нарезали они в лесу, взобравшись на помосты, доски. Все эти люди, казалось, замерли здесь, остановились вместе с обрывавшейся у подножия вулкана дорогой. Их повседневная жизнь почти не отличалась от той, что знали старейшие из стариков во времена рабовладения. Самый вид и расположение хижин, их убогая бедность восходили к той эпохе: сирые будки, поставленные на четыре каменные опоры, — само воплощение бренности человеческого бытия на земле Гваделупы…
А ведь то был благодатный край изумрудных холмов, кристально чистых рек и день ото дня все более щедрого солнца. Безмятежно-легкие облака порой смягчали блеск небесного светила, однако обычно оно палило вовсю, а с моря дули тугие свежие ветры, которые расчищали небо и бодрили душу…
Но в Лог-Зомби жили не только эти зыбкие — из песка и ветра — создания. На самом краю деревни, по ту сторону Инобережного моста, начиналась тропка, которая вела к уступам гор, напоминавшим гигантскую лестницу, как будто приставленную сюда, чтобы подниматься по туманным склонам вулкана. Здесь, на неприступном плато, обитала кучка людей, навсегда обрекших себя на одиночество, непокорных гордецов, полностью отрезанных от внешнего мира, и звали их Верхними людьми.
Отшельники с плоскогорья были самыми бедными обитателями Лог-Зомби, Гваделупы и соседних островов, а может, и всей нашей земли. Но они ставили себя выше других, ибо напрямую происходили от рабов-повстанцев, которые некогда жили и умирали с оружием в руках, часто там же, где стоят нынче их жалкие лачуги. Они не терзались, как те, в деревне, сомнениями, их не мучил вопрос, из какого они теста: знали, твердо знали, что в жилах их течет благородная кровь доблестных мужей, построивших эти круглые, побеленные известью хижины. И уж они-то не спрашивали себя, достойна ли Гваделупа того, чтобы с нею считаться: знали, твердо знали, что в окружавших их рощицах отгремели бурные, небывалого величия события, каких не случалось нигде, и что прадеды их совершали здесь славные эти подвиги.
По вечерам эти гордые люди рассаживались у самого края своего плато, лицом к мерцающим огням равнины, и рассказывали своим детям истории об африканских зверях, о зайцах, черепахах и пауках, которые мыслили и поступали как люди, а иногда и лучше их. Бывало, прервав какую-нибудь сказку, один из старейшин указы вал на пучок травы, которую у его босых ног прижимал к земле вечерний ветер, и проникновенно говорил: смотри и разумей, малышня, это волосы с головы павшего здесь героя. И заходил разговор о погибших повстанцах, об их судьбе на этой земле, об отчаянных битвах во мгле, о том, как рабы восставали, дрались и, сраженные, падали, чтобы уже никогда не подняться. И вдруг, всегда неожиданно, спускалась с неба странная тишь, и в тиши этой на землю возвращались, становились зримыми герои давних лет…
Это были рослые, гораздо выше жителей равнины, люди с невозмутимыми, отливавшими бронзой широкоскулыми лицами и непроницаемым взглядом узких, долгих глаз. Они почти совсем не огородничали, не рубили сахарный тростник, ничего не покупали и не продавали, а только обменивали в деревне раков и дичь на ром, соль, керосин, да еще спички — на случай дождливого дня, когда сырел кремень. После отмены рабства они попробовали было сойтись с Нижними людьми, как они звали жителей долины, рассказать им о битвах героев во мгле, о том, как те восставали, дрались и, сраженные, падали, чтобы уже никогда не подняться. Но Нижние не поверили им. «Не может такого быть, — говорили они, едко, пронзительно хихикая. — Если все, о чем вы рассказываете, и в самом деле здесь произошло, то почему об этом молчат книги?» А некоторые вообще ни о чем подобном и слышать не хотели. По их разумению, с тех самых времен, когда сатана был еще совсем маленьким бесенком, ни один чернокожий дурошлеп не совершал — ну где ему! — таких славных, сказочного величия дел. Вчерашние рабы говорили об этом с каким-то злорадным ехидством, как будто кичились готовностью признать свое ничтожество, как будто находили тайную радость, особую заслугу в том, что раз и навсегда причислили себя к последним из смертных. Но гордое племя думало иначе, и зародилась между ним и людьми с равнин злая неприязнь. Они отказывались родниться с Нижними, смешивать кровь свою с их кровью, не хотели сидеть за одним столом и нарочито не смотрели им в глаза, когда случай сводил их на лесной тропе. Короче, пути их разошлись…
Верхние люди считали Нижних хамелеонами, пресмыкающимися, готовыми в любую минуту сменить кожу, мастерами пообезьянничать — словом, жалкими прислужниками белых, позабывшими, для чего их мать родила. Не оставались в долгу и добропорядочные жители долины. Они не прочь были позубоскалить над дикарями с плато, этими дремучими невеждами, чертовыми упрямцами, «которые и подтирались-то по сю пору булыжником». Но при этом они опасались сказать лишнее и быстро переходили на шепот — ведь «темный народец» умел превращаться в собак, крабов, птиц, муравьев, которые неотступно следовали за вами и даже во сне не давали покоя. Они могли также наслать на вас пагубу, столкнуть в яму, которой раньше и в помине не было, и ни один деревенский колдун не знал, как уберечься от их козней, угадать замыслы, отвести тайные наговоры и ворожбу, — ведь их могущество брало начало в самой Африке, вот почему так неотразимы, неминучи были их козни…
Вождь их дрался вместе с героями прежних лет, и в дыму сражений, давным-давно отгремевших средь диких лесов, был дым и его пороха. Уже побелели, рассыпались глубоко под землей в прах кости его соратников, а он все рассказывал детям, глядя на вечернюю зарю, о подвигах своих друзей. Человека этого звали Вадемба, имя это он привез с собой из Африки в трюме корабля работорговцев. Но люди с плато, считая старика бессмертным, звали его попросту Вечный, а иногда Вечный Змей, ибо он слился с этими горами подобно змее, свернувшейся в расщелине скалы, откуда ее нипочем не вытащить.
Как и у всех людей его племени, у Вадембы было спокойное, с бронзовым отливом, широкоскулое лицо и непроницаемый взгляд. Но был он на голову выше самых высоких своих собратьев и седой до последнего волоска: белыми были и брови, и ресницы, и руно на груди, и густая шапка буйных волос, которая издали делала его похожим на хлопковый куст. Кое-кто из древних Нижних дедов встречал его в лесу еще во времена своей молодости, и уже тогда, утверждали они, это был почтенный старец с ватно-белыми волосами и бородой: по всему видать, господь бог наказал его за нечистые дела, совсем позабыл о нем, приговорил к бессмертию…
И так вот прошло, протекло помаленьку сто лет, и еще пятьдесят — день за днем, за солнышком тучи, за тучами солнце, — пока асфальт и электричество не швырнули Лог-Зомби прямо в двадцатый век…
2
Произошло то, что неминуемо должно было произойти, а Вадемба и его друзья по несчастью все еще упорно цеплялись за свое плато, сопротивлялись чему-то, а вот чему, они и сами толком не знали. И только когда через Лог-Зомби протянулась до самого Инобережного моста полоса серого асфальта, бунтари поняли, что побеждены; два-три отчаявшихся дикаря прокрались по тропинке вниз, а за ними валом повалили и другие, и остались на плато только самые непокорные из непокорных — словом, одни Змеи, так-то вот! Асфальт и яркие фонари равнины заворожили и увлекли вниз почти всех женщин племени. Мужчины оказались в переизбытке — нарушилось привычное равновесие. Но когда смятение улеглось, в селении установился новый диковинный порядок: несколько мужских хижин окружали приют одной негритянки, и та жила сразу со всеми, никому не отдавая особого предпочтения.
А вот Вадемба долго сохранял право на свою собственную жену — Абоомеки, по прозвищу Тихоня. У этой скромной простосердечной женщины была только одна слабость — длинные домотканые юбки: она очень любила распушить, покружить их вокруг бедер, когда ее никто не мог увидеть. Но прошло некоторое время, и ее тоже потянуло к дразняще-веселой жизни Нижних людей, и она попросила у Вадембы дозволения уйти вслед за другими, «спуститься вниз», как теперь говорили…
Муж дал согласие при условии, что она оставит при нем дочь, которую они прижили вместе: девчушку звали Ава…
Когда Абоомеки спустилась вниз, ее дочери едва исполнилось десять лет. Была она круглее и курчавее плода хлебного дерева, ее широко расставленные глазенки походили на капельки, на две дрожащие, готовые сорваться и упасть дождинки…
Только-только начали обрисовываться ее круглые ягодички и вставать спелыми сливами груди, а она уже выступала, светилась как самая настоящая женщина, и старые негритянки улыбались, завидя ее: посмотрите, как быстро плоть наливается плотью, говорили они, умиляясь скороспелой мягкости ее бедер, которые обещали вскоре подарить новую жизнь умирающему плато. Ах, если бы они только знали, эти старые колоды, что творилось в голове девочки, чьи глазки жадно высматривали то, чего им еще и видеть-то не полагалось — потому-то, наверное, и стали они такими манящими до срока, на самом пороге жизни. И когда она мечтала о любви, вместо того чтобы просто нежиться на мягкой травке, как и полагается детям, она вдруг отрывалась в своих мечтах от земли, ее подхватывала высоченная, метров двенадцати высотой, не меньше, сладкая волна и уносила к какому-то совсем не знакомому ей, нездешнему пареньку, чье лицо влекло ее больше всего на свете…
Пожалуй, только из-за этой неодолимой, уносящей прочь волны и любила она поваляться в траве…
Ава тоже мечтала о равнине, о пышных юбках, которые забрала с собой мать, и ей совсем не казалось зазорным спуститься вниз, когда придет ее черед. По правде сказать, она никогда не ощущала, что в жилах ее течет благородная кровь. Она ко всем относилась с одинаковой тихой лаской и нежностью — и к Верхним, и к Нижним людям, и ко всему живому в небе, лесах и морях, ко всей великой семье живых существ, что рождаются и умирают на этой земле. Но она об этом помалкивала и всегда готова была предвосхитить малейшее желание Вадембы, державшего ее подле себя как служанку или, скорее, как домашнюю собачонку, которую можно, по настроению, или приласкать, или отпихнуть ногой…
Бессмертный мог неделями не перемолвиться с ней и словом. Она была его тенью и дыханием, готовила и стирала на него, ткала ему теплые повязки, чтоб согревать поясницу, — все напрасно, отец и замечать ее не хотел. Но иногда он будто вдруг вспоминал о ней, уводил в лес и там объяснял потаенные свойства растений, их волшебную связь с разными частями человеческого тела. Часто случалось так, что он прерывал урок травяной грамоты и взрывался, начинал бранить ее на чем свет стоит: ну что за бестолочь пустоголовая, никакого понятия! — в сердцах говорил он, все мысли вразброд, точно россыпь упавших с нитки бусинок, — да-да, так и говорил. Но случалось, она радовала старика хорошо усвоенным уроком, и тогда он, довольный, гладил ее по голове и просил назвать какое-нибудь желание, любое, лишь бы оно не было связано с презренной жизнью Нижних. Но Ава боязливо помалкивала, опасаясь раскрывать ему свою душу. Правда, однажды, когда отец был особенно ею доволен и почти нежно похвалил ее, она набралась храбрости и сказала, что ей давно уже хочется попробовать морской рыбы. Вадемба весело ухмыльнулся: и только-то? — удивленно воскликнул он. Подхватив корзину, он нарисовал на стене хижины контур лодки, поднял ногу и, спокойно шагнув в свой рисунок, исчез, как будто поглощенный лоснящейся закопченной поверхностью. Чуть позже Ава увидела, как он возвратился назад тем же колдовским путем: с его голого блестящего тела струилась вода, оставляя на земле белесый след морской пены, а корзина была полна разноцветных рыбешек…
Но она по-прежнему грустила, а иногда даже переставала видеть лицо незнакомого паренька на самой вершине подхватывавшей ее волны. И еще сильней влекло ее к огням равнины, призывно светившим снизу по вечерам, когда речь заходила о героях минувших лет…
Теперь она отваживалась спускаться тайком к невысокой скале, что у самого края Лог-Зомби, откуда могла, оставаясь незамеченной, следить за жизнью деревни. Как ей хотелось пройтись по асфальту! При одной мысли об этом у нее начинали чесаться пятки — так и подмывало войти в одну из этих смешных дощатых хижин и познакомиться со всеми, узнать наконец, что думают эти диковинные создания о жизни. Издали все ей нравилось в них, все восхищало: и то, что в их домах постоянно что-то грелось, кипело и бурлило на огне, и то, как они умели хохотнуть, задрав вверх голову, будто насмехались над пересудами, что дождем лились на них сверху, с поросшего жухлым кустарником плато…
Молодые парни, что жили внизу, казались ей гораздо глаже и ярче в лучах солнца, чем ее соплеменники. Поговаривали, что они к тому же нежней и искусней в любви, и мысль об этом смущала, кружила ее маленькую головку, ибо она плохо понимала, что же это означает…
Воздымались, тянулись к солнцу ее груди, груди-сливы, груди-персики, груди-яблоки. В тот год, когда они обрели тяжесть плодов манго, молодые пильщики леса устроили свой помост совсем близко, рукой подать до плато. Мокрые от пота, они все так и сияли, жирно блестели даже их короткие волосы, у каждого из них на запястье виднелся кожаный ремешок, а на шее красовалась серебряная цепочка. Хоронясь в зарослях кустарника, бедняжка Ава сравнивала пильщиков с Верхними парнями, всегда взлохмаченными оборванцами, — эти ни когда ничем не украшали ни шею, ни руки, а их нестриженые синюшные ногти загибались когтями…
Особенно она любила наблюдать за ними в полдень, когда эти ярко отливавшие на солнце существа садились перекусить. Ей очень нравилось смотреть, как они тыкали вилками в свои миски, зажатые между колен, и отправляли еду в рот, даже не запачкав жиром губы. Однажды, начав обедать, они о чем-то заспорили, один из них вскочил и зашагал прочь, осыпая бранью своего напарника, который, слегка пожав плечами, как ни в чем не бывало продолжал свою трапезу. А как он ел! Залюбуешься: сидел прямо, клал в рот маленькие кусочки пищи и, сжав губы, медленно, с чувством жевал так, что лицо его почти не двигалось. Будто завороженная, Ава вышла из своего укрытия и приблизилась к незнакомцу, который поднялся на ноги в недвижном воздухе лесной поляны, ярко блестя на солнце тугой юношеской кожей, литой, как каленое зерно маиса. При виде босоногой дикарки он робко отступил на шаг. Светясь улыбкой, прелестная, как алый прямой цветок канны, Ава подошла к нему вплотную, положила руки на его плечи, потянула вниз, и, забыв всякий страх, он, как околдованный, мягко опустился на траву. Она было уже подняла подол своего платьица, но, к великому изумлению Авы, ее избранник резко одернул на ней юбку и огорченно сказал:
Ты очень красива, ты прелестна, как цветок кокоса, но больно быстро у тебя все получается. Знай, я из семьи Оризонов, и у нас так не принято…
А как у вас принято? — спросила она, счастливо вздохнув и замерев от восторга при мысли о том мире, где любовные дела вершились нежно и изысканно.
Сначала мы говорим ласковые слова…
Слова? — удивленно пролепетала она.
Слезы потекли по щекам Авы, когда он торжественно признался ей в вечной любви. Потом они вместе перекуси ли, спустились к ручью напиться, возвратились на поляну и повторили весь обряд сначала, под ту же музыку признаний. Теперь Ава знала, что за чем должно следовать в любовных делах, и все проделала так, как надо; и когда наконец она взмыла над землей, то ее совсем не удивило, что на гребне двенадцатиметровой волны она увидела лицо молодого пильщика, то самое лицо…
Как зачарованный смотрел на нее юноша и никак не мог поверить в это нежданно свалившееся с неба счастье, почти голое, в коротеньком, накинутом на плечи и перехваченном вместо пояса лианой платьице. Глядя на своего избранника живыми, влажными, как рыбешки, глазами, умиротворенная Ава любовалась им теперь сколько хотела, она с удовольствием отметила, что он высок, строен и ладно сложен. Но в то же время крылось в нем что-то непрочное, а вот что, она сначала никак не могла понять. И вдруг ее осенило: ну да, ведь он из туманного племени Нижних негров, одно из этих зыбких созданий, что сродни песку и ветру и рассыпаются на ходу, как любил говорить Вадемба; но разве не была и она точно такой же — ведь только с большим трудом удавалось ей сохранить свою суть в этом мире.
Когда настала темная ночь, она спустилась вместе с ним в долину, где паренек недавно построил себе хижину из свеженапиленных, еще пахнувших смолой досок…
Появление Авы в деревне вызвало смятение в неспокойных душах жителей Лог-Зомби. Многие друзья жениха заклинали его сразу же, немедля отправить девушку обратно, иначе несдобровать Жану из семьи Оризонов: злые чары ее отца-колдуна настигнут повсюду, даже в самом потаенном уголке хижины, как бы он ни старался уберечь себя от всех и всяческих козней, какие только бывают на свете. Придет несчастье, и уже ничто ему не поможет, никто не защитит, не уберегут никакие, самые хитрые из ухищрений, ибо никому не дано уйти от Бессмертного: от него не убежишь, не скроешься за морем — ведь для старого заклинателя темных сил не существует расстояний, и кто знает, может, он обратился вон в ту муху, что невинно сучит ножками на столе, или в этого вот муравья на вашей руке, что слушает и заранее посмеивается в свои усики над жалкими потугами избе жать его козней. Молодой человек слушал все это как во сне, не сводя глаз с Авы, твердо решив до дна испить свою горькую чашу: полную чашу неминучего лиха, утверждали все вокруг; милого лиха, отвечал он, улыбаясь. И перед этой упрямой улыбкой пришлось отступить. Тихим бархатным утром вся деревня торжественно проводила новую дочь божью в церковь Лараме, где священник отлучил ее от сатаны, от его искусов и козней. А потом этот белый человек взял да и брызнул водой на дикарку: вот так и стала она Элоизой…
Никто не успел и глазом моргнуть, а она уже умела стирать как надо, латать и штопать, стряпать вкусное рагу, накрывать на стол, как водится у христиан, да что там стол! — даже есть научилась вилкой, так легко и свободно, будто всю жизнь только этим и занималась. Потом, туго подпоясавшись, она смело шагнула в самое стекло сафры, одержав тем самым вторую победу в глазах зомбийцев. Но окончательно покорила она их не этим. Однажды, в какую-то особенно теплую, душную ночь перед великим постом, соседей разбудили необычно громкие, ликующие крики, такие, что и самого равнодушного расшевелят…
Любительниц давать ночные концерты в деревне было немало, и, случалось, они устраивали настоящую пере кличку:
Послушай, послушай, как она зашлась, далеко отправилась, милая!..
Да уж куда там. Ну иди же сюда, дорогая, давай и мы…
И пуще прежнего неслись любовные крики, а как же: для чего же еще нужен муж, если не для того, чтобы пускаться с ним в такое вот путешествие, покачаться на волнах, полетать на небесах, ну для чего же еще!..
Ночных любительниц поголосить в деревне было немало, но новенькая задала такой концерт, из ее горла полилось такое богатое разноголосие, будто целый оркестр со скрипками, барабанами, флейтами, гитарами и трещотками грянул туш на всю округу; И сразу же в кромешной тьме разнеслись другие вскрики, они прокатились горячей волной над крышами деревни, от края до края, заставляя волей-неволей присоединиться к ним и поучаствовать в ночном концерте. Долго потом еще вспоминали об этой ночи, когда люди хороводами ангелов принялись летать вместе. Вовсю разошлись даже самые робкие и стыдливые, те, кто обычно стеснялся так вот заливаться. И многие из них приходили потом к сконфуженной Элоизе с поздравлениями и благодарностью за такую нетленной красоты песнь, что чуть было не стронула всю деревню с насиженных мест, не вознесла ее к самым звездам…
Все напрочь забыли в своем ликовании, что она дочь чародея: да когда это было-то, и чего такое старье вспоминать, в чулане ему место, среди прочего барахла. Но один из них, по имени Жан Оризон, не забывал об этом ни днем, ни ночью; иногда его охватывал страх, что с ним может приключиться что-то ужасное, какая-нибудь гнусная пакость, которая долго будет глодать его изнутри, прежде чем вырвется наружу. Особенно он боялся за свое мужское достоинство, опасался, как бы его не скрутило, не завязало мертвым узлом, за то, что он, видите ли, посмел покуситься на саму кровь Бессмертного. Этот страх подступал всегда вдруг, неожиданно. Все вроде бы хорошо, доволен человек своей жизнью, тем, что мать родила его на свет божий, и вот на тебе, накатило! — и он мрачно бросает:
— Вот сижу я сейчас за этим столом, остолоп этакий, ем, пью, говорю и не ведаю, что, быть может, никогда уже не быть мне настоящим мужчиной.
Но тотчас же на помощь ему тянулась рука Элоизы, и снова раздавался здесь смех, произносились клятвы в вечной любви, снова лилась услада, как тогда, в первый раз, на поляне под деревянным помостом…
Элоиза замечала, конечно, что муж ее киснет в мутном рассоле печали. И каждый божий день, как выражались жители равнины, ее тянуло на горную тропу, пойти спросить разрешения у отца, как в свое время это сделала Абоомеки-Тихоня. Но вдруг он ее не отпустит! А она любила своего пильщика, мужчину, который денно и нощно до одури осыпал ее нежными словами, ибо безмолвный поцелуй, говорил он, все равно что атласная грудь негритянки без золотой цепочки, и, боясь его потерять, она каждый божий день откладывала свое намерение на завтра…
Кровь одного так счастливо слилась с кровью другого, что Элоиза забеременела еще в год своего крещения. Но она не ощущала тяжести живота — казалось, он был надут, как пузырь воздухом, и на шестой месяц все ее надежды изошли вместе с кровяной водой. И так продолжалось целых десять лет. Жан Оризон совсем потерял голову от этой напасти, в которой все единодушно признавали месть Бессмертного — то были его козни, его мета, его хищная хватка. И однажды, когда женщина снова затяжелела, Жан Оризон надолго задумался, замкнулся в себе и ясно стало, что он готов отступить, покориться. И вот как-то утром, когда Элоиза прилегла вздремнуть, устав от своей очередной мертвой ноши, он молча собрал свои вещи и был таков: выскочил на шоссейную дорогу, проложенную белыми, и стал дожидаться рейсового автобуса. Шофером этого автобуса был некто Макс, Макс Армаггедон, и слыл он самым умелым и удачливым среди водителей. Он мог вести машину пьяный в стельку, мог даже крутить баранку ногами, откинувшись назад, чтобы позабавить публику; как бы то ни было, он всегда всех доставлял по назначению. Но в тот день, едва автобус выехал из Лараме, у поворота к холодильному заводу посреди дороги вдруг, откуда ни возьмись, вырос огромный валун, что заставило шофера резко вывернуть руль. Машина врезалась в дерево, от удара передняя дверь распахнулась, из нее вылетел, будто кто-то вышвырнул его наружу, пассажир и рухнул прямо на рога мирно пасшегося у самой обочины быка. Этим бескрылым летуном был не кто иной, как Жан Оризон. Когда шофер ошалело оглянулся назад, никакого валуна на дороге не оказалось…
А в это самое время опечаленная Элоиза присела посреди хижины, положив руку на хранящий свою тайну живот, и задумалась о годах, что прошли, унеслись вместе с тем человеком, который ехал сейчас, как только что поведала соседка, в направлении Пуэнт-а-Питра. И вдруг неведомая сила жадно завладела ею, и, уже в пене подхватившей ее волны, она смутно поняла, что это ребенок Бессмертного, что он будет жить и не оторвется до времени от ее чрева, нет!..
Похоронив мужа, Элоиза всеми помыслами обратилась к своему животу, в котором уже шевелился, бился вовсю, как второе сердце, ребенок. Скорбь ее понемногу улеглась, она пробовала даже улыбаться, ведь всем известно, Что будущей матери вредно горевать. И в назначенный Час, как будто почтительно исполняя чью-то волю, она родила, как всегда рожали Верхние люди: на коленях возле кровати, обхватив ладонями затылок и облокотясь для опоры и храбрости на деревянную раму. Когда ей показали малыша, она сразу же узнала эту крупную упрямую надбровную кость, которая козырьком выступала на круглом, как солнечный шар, черепе Вадембы. Но женщины, наперебой восторгаясь небывалой величиной новорожденного, его плотным, блестящим, словно расплавленное олово, тельцем, не обратили никакого внимания на это сходство. Одна из них даже воскликнула, в умилении сложив на груди руки:
Еще немного, и шельмец уже не смог бы выбраться из нутра Элоизы!
Смотрите, смотрите, да он уже готов полезть в драку! — вторила ей другая, показывая всем на то, как крепко, убрав внутрь большие пальцы, сжимал малыш свои кулачки, будто собирался с силами, прежде чем наградить тумаками, когда придет время, эту полоумную особу по имени Жизнь, что очертя голову носится по улицам и ищет, кого бы ей еще слопать…
После долгих и жарких споров, давших кумушкам повод вдоволь поизощряться в выдумках, было решено наречь маленького вояку так же, как и его покойного, всеми любимого отца; просто Жаном Оризоном. Но Элоизе такое решение пришлось не по сердцу: просто курам на смех! — ведь это имя не убережет ее сыночка от жизненных невзгод, с ним он будет беззащитен, как слепой котенок. Африканское имя — вот что ему нужно было, вот что защитило, укрепило бы его, не дало бы стать перекати-полем, поэтому на восьмой день, окрестив в церкви свое чадо, она оставила его у соседки, а сама тайком направилась к горной тропе…
Дождя уже давно не было, и сухая земля местами отливала старой медью. Элоиза пробиралась через пожухшие от безводья заросли, которые из последних сил бились за жизнь, цепляясь за нее только потому, что однажды им удалось пустить корни и прорасти на свет божий. Картина запустения заставила ее остановиться у самого плато: полуразваленные хижины без крыш кренились набок под напором выросших из-под земли термитников. Лишь одно жилище все еще держалось прямо среди жалких развалин, а старик, сидящий на низком резном табурете в тени почерневших стен, показался ей вечным. И ее пронзила уверенность, что старый заклинатель темных сил ждал ее, смежив веки древней черепахи.
— Ты знаешь, зачем я пришла, — прошептала она.
— Я знаю, зачем ты пришла, и знаю также, что уйдешь ты ни с чем…
— Но ведь это твой ребенок, родившийся от твоего семени!
Это ты так думаешь, Ава, — бросил он с ехидной усмешкой.
Твой, твой, это даже вечернему ветру известно, это твой ребенок, а ты отказываешь ему в имени, отказываешь в помощи слабой крохе! Ты что же, хочешь, чтобы он был совсем беззащитен перед злыми силами, чтобы первый же встречный завладел его душой и отдал ее на съедение собакам, хочешь бросить свое дитя на произвол судьбы, как неразумную тварь, да?
Ну хватит, Ава, хватит, у меня в ушах звенит от твоего крика. Нет такого имени, которое я мог бы дать твоему сыну, — ведь будет он, как ты сама сказала, что зверь на этой земле, что дикий зверь, который сам находит свою тропу, а если я дам ему африканское имя, то оно как змея обовьется вокруг его шеи и задушит. Этого ты хочешь? — с ухмылкой завершил он.
Я спустилась к Нижним людям, но ты ведь сам этого захотел! Иначе не пустил бы меня, тебе ничего не стоило удержать меня, а теперь, Вадемба, тебе надо отыграться на своем ребенке, на своей же кровинке. Зачем ты позволил мне уйти, если хотел, чтобы я осталась, зачем сделал мне ребенка, если теперь хочешь отдать его силам зла?
Ох уж эти мне бабы! Послушай меня хорошенько, пигалица, вытри слезы и разумей: этому ребенку нет сейчас имени, ибо оно ждет его впереди, да, его имя где-то впереди, и, придет час, оно само найдет его, поняла?
Но Элоиза ничего уже не слышала. Она закрыла лицо ладонями, сжала пальцами лоб и стала мерно покачиваться, будто оплакивая кого-то. Но вскоре странный звук достиг ее слуха, и, очнувшись, она увидела рот отца, разверстый в дребезжащем смехе: Вадемба сидел голый на своем табурете, прижав колени к плечам, его прямое гладкое туловище блестело, словно отполированный дождем и ветром, старый, окоренный ствол дерева; он устремил на нее свой вечный взгляд и смеялся…
И тогда, впервые в жизни, маленькую женщину охватил настоящий гнев. Она отступила на шаг, дрожа всем телом, и вдруг, словно на нее нашло озарение, произнесла, все еще глотая слезы:
— Теперь я все поняла. Ты сам послал меня к Нижним людям, а теперь смеешься, смеешься надо мной?
Как одержимая, она схватила посох старика, который заметила у входа в хижину, и что было сил ударила им отца по голове:
— Ты послал меня вниз и теперь смеешься?..
Потом ударила еще и выкрикнула в ужасе:
— Ты изводил детей в моем животе и теперь смеешься?.. Смеешься?..
В тот день она еще много чего ему припомнила: и свое нищее детство, и невеселую юность, и, наконец, непостижимый полет из автобуса покойного Жана Оризона, который был виноват лишь в том, что сделал ее счастливой. И каждый свой упрек она сопровождала гулким ударом, и всякий раз с хранившей свою тайну головы Бессмертного летели, словно куски ваты, клочья его волос…
— Ох уж эти мне бабы!.. — вдруг растерянно произнес он.
Брызнула черная струя, старик пошатнулся на своем табурете и медленно, как подрубленное дерево, рухнул на землю; Элоиза ошарашенно смотрела на огромное тело, простертое у ее ног. Но, приподнявшись на локте, старец спокойно скользнул глазами по луже крови и снова принялся смеяться, все громче и громче, с каким-то зловещим торжеством, которое заставило бедную Элоизу отступить, безвольно выпустить из рук посох, попятиться еще дальше, а потом повернуться и кинуться со всех ног прочь, через заброшенное плато, сквозь колючий кустарник, через рощу с острой, как бритва, травой, а вслед ей еще долго доносился едкий смех, который затих лишь к вечеру, уже на равнине, с появлением первых огоньков Лог-Зомби.
3
Его нарекли именем отца, Жаном Оризоном, но жители равнины старались его так не звать: вдруг покойник возьмет да и откликнется. И Элоизе не нравилась такая путаница между мертвыми и живыми, поэтому, чтобы не было неразберихи, ее мальчуган долгое время откликался только на «Эй, ты» или «Как тебя?», а потом кому-то пришло в голову назвать его просто Жаном-Малышом; под этим скромным именем и вошел наш герой в мир, который ему предстояло потрясти до основания…
Едва оторвавшись от материнской груди, он зашагал неуклюжей походкой слоненка, слегка покачиваясь, так как его толстенькие ножонки, круглые, как две маленькие бронзовые колонны, еще плохо повиновались ему. Рос он диковатым, кулачки его были всегда крепко сжаты, как у зародыша во чреве матери. Глядя на постоянно недовольное, хмурое личико сына, Элоиза ничего не понимала: ведь, казалось, она должна была произвести на свет само воплощение радости бытия. А дело было в том — и она поняла это позже, — что ее маленький человечек ничего вокруг не видел и не слышал, так как был по горло занят самим собой, своими ручками и ножками, которые еще нуждались в его неустанном внимании, для того чтобы стать самыми крепкими и сильными. В нем самом происходило столько важных дел, что не до улыбок ему было и не до праздных разговоров, поэтому-то до четырехлетнего возраста не проронил он ни единого слова. Но уж когда малыш решил заговорить, то сразу начал произносить целые фразы, и голос его, громкий, чистый и ясный, удивительно напоминал голос самого Бессмертного…
Вот когда Элоиза окончательно поняла, что у жителей равнины память совсем дырявая. Сын ее ходил среди них, и его лицо, голос, неуемная душа, что читалась в его долгих непроницаемых глазах, были лицом, голосом, душой, глазами Вадембы, но никто, казалось, не хотел этого замечать…
Хоть и был мальчуган из молодых да ранний, языком он работал не больше, чем матушка Элоиза, и их хижина была самой тихой в Лог-Зомби, а может, и на всей Гваделупе. Иногда он вдруг непонятно к чему прислушивался, будто кто-то его звал, но Элоиза напрасно высматривала, что бы это могло быть: она замечала лишь обычную муху на столе, бегущего по половице муравья или другую суетливую букашку. И тогда ей становилось как-то не по себе: неужели, думала она, Вадемба так и не оставлял ни на минуту в покое ее ребенка с тех пор, как тот родился; и когда возле хижины появлялась огромная, черная как ночь бродячая собака, ее охватывал ужас, и она бросала в нее камнями…
Как уже говорилось, малыш был не разговорчивее рыбы. Но едва он научился топать на своих круглых ножонках, домой его было уже не загнать, вечно он сшивался у чужих порогов, прислушиваясь ко всему, о чем говорили в деревне. Иногда он делал из того, что слышал, самые неожиданные выводы. Так, например, однажды соседка при нем воскликнула: «Ах, если б мать-земля умела говорить, она бы уж научила нас уму-разуму!» Такое скажешь иногда просто так, невзначай, но в тот же день Элоиза застала своего сына лежащим в саду: тот прижал к земле ухо и прислушивался к таинственным голосам, доносящимся из недр. В другой раз кто-то случайно бросил, что только деревьям все известно о человеке, но, увы, они молчат. Тотчас повернувшись к сыну, Элоиза увидела, что тот куда-то направился своей немного косолапой походкой, и чуть позже не смогла сдержать смеха, застав его во дворе: он нежно обнимал ствол гуаявы в ожидании затаившихся в извилинах дерева голосов. Она смеялась потом всякий раз, когда видела, как он обнимает ствол гуаявы, но потом ей стало не до смеха: ее чадо бегало по всей деревне с невесть куда устремленным, ничего не замечавшим и непонимающим взглядом, с открытым всем ветрам ртом, который, казалось, порывался спросить: неужели все это правда, все, что я вижу и слышу?
Но однажды он пошел в школу в Лараме, ту самую, что стоит на самом берегу океана, и беготне его пришел конец. В тот день он возвратился домой преисполненный спокойной задумчивости и во второй раз удивил жителей деревни: хотя был он любитель помолчать, голова у ребенка Элоизы оказалась вместительной, как желудок кита, и все-то было в ней светло и ясно, разложено по полочкам, ну прямо как у белых людей. По вечерам, при свете керосиновой лампы, мать никак не могла налюбоваться на сына: поглощенный своими книгами, он прикасался к их страницам с такой же радужной надеждой, с какой некогда прижимался к стволам деревьев, чтобы услышать потаенные голоса. Но через год-два книги перестали его радовать, и опять пришлось Элоизе переживать за сына: опять он замкнулся, молча приходил из школы, копался в огороде, приносил матери ведро воды, присаживался в тенечке, опустив на колени сжатые кулачки, и вдруг застывал, деревенел как неживой…
Стало ясно, что книги замолчали, что мальчуган так и не смог различить голоса деревьев и земных недр; он даже купаться и то теперь не ходил. Он сидел в полумраке, глаза его были застывшими и тусклыми; казалось, его все время гнетет какая-то обида, и, глядя на него, Элоиза никак не могла понять, почему же не произвела она на свет само воплощение радости бытия, ведь она так старалась почаще улыбаться, когда была беременна, так старалась!..
И продолжалось это до того самого дня, пока не грохнулась оземь тетушка Жюстина — сие событие долго потом обсуждали в Лог-Зомби и соседних деревнях. Тетушка Жюстина была не настоящей ведьмой, а ведьмой по договору, вернее, даже не ведьмой, а оборотнем: таким надоедает человеческий облик, и они подписывают с нечистой силой соглашение, с тем чтобы ночью превращаться в осла, краба или какую-нибудь птицу — словом, во что им заблагорассудится. Как-то утром ее нашли у самой деревни в луже собственной крови. Она возвращалась домой после ночного полета и, застигнутая врасплох первыми лучами солнца, распласталась на земле, сраженная огнем небесным. Она лежала посреди дороги, и ее птичье тело постепенно приобретало человеческие очертания, из кончиков крыльев проступали пальцы рук, и длинные, поразительно белые косы вились вокруг поблекших перьев совиной головы. Собравшийся народ держался чуть поодаль, жадно ловя и подмечая одну за другой все важные мелочи, такое не каждый день увидишь, а ведь следовало все подробно описать и тем, кто проспал, и всем родным и близким на острове, даже незнакомым, с кем еще только предстояло встретиться на жизненном пути. Детям в тот день не нужно было идти в школу, они протискивались сквозь частокол ног, чтобы тоже поглазеть, хотя все это не очень-то их удивляло: подумаешь, мы и не такое во сне видели, казалось, говорили их глазенки, ведь веру в такие чудеса они всосали с молоком матери. Обсуждать событие решались только те, кто повзрослей, «профессора» из старших классов, что ходили со вставленной за ухо, гордо торчавшей из пышных волос авторучкой. Они утверждали, что люди могут обернуться собакой или крабом точно так же, как вода становится льдом, а электрический ток — светом, льющимся из лам почки, голосом или музыкой из радиоприемника; тетушка Жюстина, считали они, — это такая частичка нашего мира, о которой в книгах ничего не говорится, потому что белые люди решили об этом помалкивать…
Жандармы Лараме, которых вызвал служащий мэрии, явились слишком поздно, лишь к полудню. Тетушка Жюстина уже рассталась со своими перышками, и они увидели только старую женщину, непонятно как разбившуюся посреди дороги; хотя свидетелей хватало, жандармы наотрез отказались их выслушать, упорно не желали ничего понимать, горячились и расталкивали толпу, будто от них утаивали что-то ужасное, не иначе как преступление, в котором были замешаны все до одного жители Лог-Зомби. И лишь после того, как они прочесали окрестности, потратив на это несколько недель, понасмехались, поиздевались, поглумились над всеми подряд зомбийцами, они оставили свои попытки постичь тайну этой большой голой старухи, что лежала посреди дороги, будто с неба свалилась. Такая бесцеремонность больно задела зомбийцев. Но больше всех переживали школьники, особенно «профессора», которые никак не могли понять, почему жителям Лог-Зомби не было веры, ведь они-то сами верили всему, что рассказывали им в школе белые люди о земле, солнце и звездах, хоть с трудом, но верили же!
Чудесное превращение тетушки Жюстины видела вся деревня, но самым внимательным зрителем был наш герой Жан-Малыш, который, казалось, наконец постиг то доселе неведомое, что безуспешно искал в недрах земли, в плоти деревьев, в книгах, которые он приносил год или два из школы. И уже на следующий после этого происшествия день мальчик успокоился, побежал купаться и играть с ребятами. Он весь сиял, излучая заразительное упоение жизнью, и при виде его люди говорили: смотрите, смотрите! Неужто Элоизин сынок проснулся, решил наконец порадоваться солнышку?
КНИГА ВТОРАЯ,
которая повествует о встрече с Эгеей, о драке с Ананзе, клятве у веранды тетушки Виталины и о других удивительных событиях.
1
Еще несколько лет назад какой-то заплутавшийся охотник видел издали развалины последних хижин на плато, и после этого жители Лог-Зомби решили, что Вадемба, проклятый Змей, давно уже помер и зарыт в землю, а душа его корчится в муках в самом гиблом месте преисподней. Все вздохнули с облегчением. Теперь некого стало бояться, говори о Верхних, сколько душе угодно, мели любую чепуху, выдумывай всякие небылицы, что лопаются потом в воздухе как мыльные пузыри. Мало-помалу молодежь забыла само ужасное имя Бессмертного, теперь его только случайно мог помянуть какой-нибудь старый замшелый пень; все это было и быльем поросло, и жители Лог-Зомби, забыв о прежних тревогах, закружились в бешеной круговерти современной жизни, предаваясь тысячам удовольствий, появившихся вместе с асфальтовым шоссе и электрическими фонарями…
Но старики все же нет-нет да и вспоминали угасшее мертвое предание, любили рассказывать его сыну Элоизы, потому что умел он слушать их молча, уважительно, терпеливо дожидаясь, пока слово само слетит с их высохших губ, само найдет как раз то место в его маленькой горячей голове, которое они для него облюбовали. По правде говоря, никто из них не мог похвастать тем, что воочию видел живого Вадембу, все они лишь передавали то, что давным-давно слышали от других. И так вот, переходя из уст в уста, молва росла, ручеек становился могучим, неодолимым потоком, и некоторые теперь даже утверждали, что Вадембе были подвластны все стихии и мог он, когда вздумается, наворожить и солнце, и проливной дождь над всей Гваделупой, не покидая красной прогалины на плато. «Долго его считали бессмертным, ох как долго», — любили они повторять, улыбаясь до ушей, наслаждаясь тем, что говорили, и становилось ясно, что для них все это лишь пустая болтовня, способ приукрасить былые страхи и придать тем самым значимость своему существованию…
После подобных разговоров у Жана-Малыша прямо язык чесался расспросить ту единственную, что знала Верхний мир. Но при виде матушки Элоизы, маленькой, костлявой, с угасшим, скорбным, почти похоронным лицом, со всегда повязанным вокруг головы белым плат ком в знак вечного траура, вопросы замирали у него на губах. Когда при ней произносили имя Вадембы, щеки ее становились пепельно-серыми, рот раскрывался, и она начинала задыхаться, будто ее душили. Казалось, женщина эта живет в постоянном страхе, будто ей все время что-то угрожает. Лучше всего она себя чувствовала в своей хижине, с наглухо закрытыми окнами и дверью, так чтобы никакая живность не могла проникнуть внутрь: ни малая букашка, ни муха, ни легкий мотылек, на которого она взирала с ужасом, будто на нечистую силу. Когда же матушка Элоиза выбиралась из своих четырех стен на улицу, она сразу бежала, можно сказать пускалась наутек, и так же бегом, испуганно оглядываясь, возвращалась. А ведь она любила музыку жизни, ее немолчный шум и гам. И когда у нее не было гостей, которые могли бы ее утешить и успокоить, она часами просиживала, припав к щелочке между ставнями. Ей нравилось наблюдать за теми, кто проходил мимо дома, она умела заглядывать людям в душу, и нахмуренные брови говори ли ей больше, чем иное признание. Но она всегда делала вид, будто ничего ни о ком не знает: ей ведь не до чужих переживаний, она только за себя отвечать может, да и то не всегда…
Сколько Жан-Малыш себя помнил, матушка Элоиза все время спешила, бегала так, что пот с нее лил ручьями, по лесам и долам, собирала целебные травы, которые потом покупали у нее городские аптекари. Она и сама немного занималась врачеванием, готовила отвары и припарки, исцеляла человеческие недуги, лечила все, что могла, своими сухими тревожными руками со всегда зелеными от травы пальцами. Лечить она любила, а вот искать в темном лесу листья да коренья — не очень. Она часто возвращалась из таких походов в холодном поту, и сердце ее билось часто-часто, будто она повстречалась с самим дьяволом. Позже, когда Жан-Малыш познал тайны зеленой аптеки, он взял на себя столь мучительную для матери долю ее труда. Она научила его собирать листочки перевязывать каждый пучок тонким лоскутком, чтобы не перепутать разные растения. И вот в один прекрасный день, который он запомнил навсегда, в четверг, как раз через неделю после невероятного происшествия с тетушкой Жюстиной, она торжественно протянула ему свою корзинку на перевязи и, присев на корточки, дунула ему на ноги, чтобы они всегда вели его к хорошему месту: она еще никогда этого не делала, и поэтому дыхание ее сохранило всю свою силу, так она и сказала…
И теперь по четвергам Жан-Малыш долгими часами бродил по влажным сумеречным подлескам, делая вид, будто его интересует только трава, и ничего больше, и, склонившись к какому-нибудь кустику, он вдруг резко оборачивался, чтобы успеть увидеть, как растворяется в воздухе, гаснет, словно искра, видение, следовавшее за ним по пятам. Еще в раннем детстве он чувствовал, глядя на встревоженную мать, что кто-то незримый находится рядом с ним. Но ему никак не удавалось понять, кто же это, до тех пор, пока призрак сам наконец не показался, стоило Жану-Малышу достаточно резко обернуться; от ныне каждый раз мальчуган радостно вскрикивал и сердце его начинало биться сильнее, когда сзади оказывался огромный красноглазый ворон, который замирал на мгновение под его взглядом и потом исчезал, таял, как сон…
В будни Жан-Малыш прибегал из школы, делал дома все, что полагалось настоящему мужчине: что-то прибивал, таскал тяжелые вещи, копал в огороде картошку, говорил матушке Элоизе, что у нее сегодня цветущий вид, а после несся на реку, где его ждали сверстники. Чуть ниже Инобережного моста заросший рукав речки срывался водопадом в скрытую за небольшим холмом заводь, прозванную Голубой, потому что в ней, казалось, отражалась вся небесная лазурь, а у берегов вода была совсем синей от густой тени деревьев. Ни взрослые, ни подростки, которые уже могли натворить дел — отдать или принять семя, — не подходили к заводи. Она предназначалась только для невинной детворы, и ни для кого больше: Для девчонок, еще не ставших женщинами, и мальчишек, еще не ставших мужчинами, которым и скрывать-то было пока нечего…
Почти все дети плескались вместе, но частенько какая-нибудь парочка покидала сборище, чтобы поучиться любовной науке: то прямо в заводи, спрятавшись за большим валуном, а то и на суше, в буйных зарослях кустарника, или же, как тогда было модно, взобравшись наподобие небесных созданий на растущие рядом деревья. Маленьких купальщиц влекло к Жану-Малышу, они брызгались, дразнили его своей хрупкой, гладкой, как ладонь, наготой и даже ласково касались его под водой. Но он ни с кем не уединялся, потому что всякий раз, как ему этого хотелось, внутренний голос подсказывал, что ждет его другая, которой сейчас нет в заводи, а может быть, она и здесь, но он пока ее не видит, не разглядел еще как следует. Девчонок злило, что Жан-Малыш не обращает на них внимания, и они бросали ему тоном повидавших виды женщин: «Настоящий мужчина должен замечать женщину, не то он ослепнет на оба глаза; смотри, Жан-Малыш, не ослепни!» И, высказавшись, они ныряли под самый водопад.
Жана-Малыша они немало забавляли, в ответ он только весело и раскатисто хохотал: смехом выражал он тогда то, что хотел и мог сказать где бы то ни было, и в первую очередь у Голубой заводи. Искупавшись, он ложился на плоский, разогретый солнцем камень посреди быстрого потока или прогуливался нагишом по берегу; высоко подняв голову, делал вид, что любуется окрестностями, и вдруг неожиданно оборачивался, чтобы успеть разглядеть следовавший за ним по пятам призрак, который быстро таял в воздухе. Однажды, когда он так вот гулял, преисполненный тайны, он заметил за валуном двух детей: мальчуган лежал навзничь на траве, а девочка сидела на нем верхом, слегка запрокинув голову, и, закрыв глаза, молчала в своем солнечном забытьи. Когда Жан-Малыш проходил мимо, она приоткрыла веки и взглянула на него, и вдруг сердце его сжалось, ибо он понял, что ему нужна была она, и только она. А ведь он видел ее каждый божий день, это была Эгея, дочь папаши Кайя. Спокойные глаза ее нежно тянулись к вискам, над лицом поднималась, делая ее выше и увереннее в себе, пышная шапка волос, а в общем, ничем особенным она не отличалась от других черненьких зверушек, плескавшихся в заводи. Когда он подходил близко, она, бывало, ныряла в воду, будто боялась его. Но однажды — он с горечью вспомнил теперь об этом — она вышла, сверкая на солнце, из реки и протянула ему маленькую золотую рыбку, которую ей удалось поймать в пене водопада. На ее темной ладони рыбка казалась волшебно золотой, девочка улыбалась, словно хотела сказать: как она хороша в моей руке, правда?
На следующий день Эгея Кайя доверчиво поджидала его, сидя у берега реки. Мальчик подошел и коснулся ее щеки. И они вместе ушли от заводи, а вслед им неслись крики и насмешливый хохот других ребят, которые давно уже дожидались, когда пробьет час Жана-Малыша.
Колокольчику без язычка не звенеть, и новая парочка, укрывшись в ласковой тени пышного куста сигины, скоро поняла, что звучит их музыка красиво. Быть может, эта песня — всего на одно лето, такое бывает на берегу реки; придет новая ватага невинной ребятни и прогонит их из Голубой заводи. А может быть, и нет, улыбнувшись, подумали они, не в силах сдержать при этой мысли счастливых слез. Они вдруг почувствовали, что им до обидного тесно в их детских еще тельцах, вспомнили о ночных возгласах и руладах, которые будили даже тех жителей деревни, которых не так-то просто расшевелить, и юная избранница Жана-Малыша поклялась, что для своего избранника она будет кричать так громко и радостно, что встрепенутся все сонные птицы округи, громче, чем кричала тетушка Элоиза в ту памятную для Лог-Зомби ночь…
Они дали зарок, что так тому и быть, и с тех пор ходили по пыльной дороге в школу Лараме неразлучной парой, как звонкий колокольчик и его язычок. Когда дневные заботы были позади, они направлялись к реке, купались вместе с другими детьми, играли в салочки в брызгах водопада или плясали под музыку оркестра, где музыканты играли кто на чем горазд: одни хлопали в ладоши и щелкали языком, другие издавали гортанные звуки или отбивали такт погремушками из старых жестянок с мелкими камушками — и здорово у них получалось! Потом, бросив друзьям: «До завтра!», они шли к своему старому дереву манго и, спрятавшись в его густой листве, ласкали друг друга с великой предосторожностью, чтобы не свалиться вниз и не сломать шею. Там, наверху, их руки и ноги сплетались, точно окружавшие их ветви дерева, и они чувствовали, что незримые нити тянутся от них к видневшемуся сквозь листья Лог-Зомби, к горам и океану, к белесому морю цветущего сахарного тростника, ко всему дышавшему и трепетавшему в небесах, на земле и под водой. Эгея знала о призраке, который неотступно следовал за ее другом. И когда шелест листьев настораживал Жана-Малыша, девочка оборачивалась туда же, куда и он, долго всматривалась, а потом говорила: это только ветер. Или, случалось, на ветку садилась птица, и сердце мальчугана начинало бешено стучать рядом с сердцем Эгеи, которая, вытянув шею, до тех пор разглядывала птаху, пока не могла с полной уверенностью заключить: это обыкновенный дрозд…
Все говорило о том, что Жана-Малыша преследовал дух умершего человека, который посещал иногда этот свет, человека могущественного, всесильного, это уж точно, ведь простые покойники являются живым только во сне, да и то лишь самой темной ночью. И они оба думали о развалинах на плато, которые, как говорили шепотом, захлестнула, поглотила зеленая волна, точно те большие дома с колоннами, что находят иногда в лесу в плену деревьев, в паутине лиан. И, прижавшись друг к другу, они шептались о Вадембе и таинствах большого мира, о которых ничего не писалось в школьных учебниках, потому что белые решили об этом помалкивать…
Эгее нравился загадочный ореол, окружавший ее друга, — неповторимый, ему одному дарованный ореол, чей отблеск падал теперь, с тех пор как они «ходили вместе», и на нее. И вот с раннего утра, по четвергам, закинув за спину плетеную корзинку и туго повязав голову платком, чтобы, лесные ветки не цеплялись за волосы, она шла за ним, затаив страх, по горам и долам. Собрав недельный урожай трав для тетушки Элоизы, они всегда возвращались через Варфоломееву гору, с которой виднелся за темной ложбиной пятачок красной земли Верхнего плато. Однажды, когда они стояли вот так, держась за руки, у самого края ложбины и, замирая, смотрели на таинственное место, в уши им ударила короткая дробь тамтама. Потом еще и еще одна, все тише и тише, будто умирающее эхо. Застыв от неожиданности, дети стояли и ждали, что будет дальше. И вот с гор, со стороны плато, в лицо им подул легкий ветерок, и они снова услышали нездешнюю музыку. Барабан с металлическим звуком отбивал совсем незнакомый, однообразный и упрямый ритм. И вдруг до них донесся голос человека, который пел на каком-то тоже неизвестном им языке, пел с такой грустью, с таким спокойным величием, что Жан-Малыш почувствовал: он на всю жизнь запомнит и эту мелодию, и этот металлический звук барабана, и этот голос, донесенный ветром. Потом все затихло, и Жан-Малыш прошептал, отвернувшись от девочки и скрывая — ведь он был мужчина! — предательские слезы, что текли по его щекам:
— Ты слышала, Эгея?
— Слышала, — выдохнула она.
— Скажи еще раз, что слышала…
— Да, — только и сказала она.
О заброшенном плато говорили разное, его продолжала окружать непроницаемая завеса какой-то страшной тайны, и никто не осмеливался к нему подходить. Но Эгея была полна решимости перенести вместе со своим другом все, что выпадет на его долю, и безропотно дошла с ним, в своем синем переднике в белый горошек, до самого подножия горы Балата, и на лице ее читалось: надо так надо. Близился полдень. Солнце уже вовсю сияло в небе. Варфоломеева гора, белесое море цветущего сахарного тростника, река, служившая границей между обитаемой землей и миром одиночества, — все это осталось далеко позади. Жан-Малыш растерянно взглянул на Эгею, будто только что ее увидел, и попросил подождать его здесь, а еще лучше там, у Голубой заводи; на нашем месте, уточнил он. И, опустив на траву корзину, будто хотел сказать этим короткое немое «прощай», он исчез в зарослях, скрывавших Верхнюю тропу…
К его великому удивлению, лес на горе Балата ничем особенным не отличался: все тот же сырой мох, почти не знавший солнца, те же узлы беспокойных змеиновитых лиан, ниспадающих сверху. Но чем выше он поднимался по склону, тем сильнее робел; обрывки воспоминаний, легенд, чьих-то рассказов соединялись в одно целое, становились понятными, перед мысленным взором вставало лицо матушки Элоизы, пепельно серевшее при одном упоминании имени Вадембы; ноги отказывались слушаться, какая-то сила неудержимо и тяжко влекла вниз, на равнину, все его существо: руки, плечи, чрево…
Несколько часов спустя заморосило, в воздухе замерцали тонкие серебряные нити дождя. Тропа резко оборвалась у трехметровой стены зарослей: огромные кактусы, алоэ и другие колючие растения тесно сплелись, а меж ними ползли лианы, пуская отростки, извиваясь вокруг пучков розовых, лиловых, кроваво-крапчатых орхидей. По обе стороны узкого прохода крутой склон обрывисто падал вниз, а выше вздымалось тяжелое блюдо плато. Оно высилось над равниной угрюмым стражем, неприступной, нависшей над пропастью крепостной башней. Жан-Малыш искал проход, хоть какую-нибудь лазейку в живой изгороди — человеку здесь было не пройти; если там кто-то еще и обитает, подумал он, так только привидения…
Оглянувшись, он увидел знакомый крылатый призрак, который, казалось, дремал на ветке дерева махагони, у самой земли, низко опустив голову. То был старый ворон, над глазами его паклей желтели редкие стертые перья. Он притворялся спящим, ушедшим в свои сны, но Жан-Малыш чувствовал, что он так же «спокоен», как потревоженный муравейник, и, боясь, как бы видение не исчезло по своему обыкновению, словно туман, он медленно протянул к птице руку.
— Меня зовут Жан-Малыш, Жан-Малыш, — произнес он умоляющим голосом, — не бойся меня…
Когда слова мальчика достигли призрака, тот начал было исчезать, становясь прозрачным, как стекло, потом передумал, хрипло каркнул, будто усмехнулся, и посте пенно, как бы нехотя, стал возвращаться к прежнему облику, перышко за перышком, лапка за лапкой; он устремил на Жана-Малыша свой полный скорби взор, и тот вдруг, сам не зная почему, заплакал, яростно утирая глаза сжатыми кулачками…
Перелетая с ветки на ветку, крылатый призрак провожал его до самого подножия, а по щекам Жана-Малыша все текли слезы, и в ушах звучала грустная и величественная песнь Варфоломеевой горы; в еще светлом небе, которое открывалось меж темных крон, горели белые звезды, потом, когда небо почернело и стало непроглядным, звезды подернулись желтизной…
Эгея ждала его на берегу реки; она сидела на песке и в ночной мгле была совсем голубой, серебряные блики луны дрожали на ее плече и руке. Застыв в неподвижном созерцании, она, казалось, ничего не замечала вокруг. От росы ее платье стало влажным, она походила на свежий молодой стебелек. Вдруг она вскрикнула и, вытянув шею, чтобы лучше разглядеть своего друга в темноте, спросила:
— Какие у тебя красные глаза! Ты что-нибудь видел? Жан-Малыш только-только вернулся из другого мира, который он когда-то безуспешно искал в толще земных недр, в скрипе узловатых стволов; с загадочной улыбкой ответил он девочке, которая сумела похитить у него сердце:
Я видел человека, который спал на спине животом вниз, было это ночью среди бела дня, как раз когда неслышно грянул гром…
Хватит, молчи! — оборвала его Эгея, прижав к губам мальчугана свой палец. — Конечно, я всего-навсего женщина, и язык у меня женский, но помни, всегда помни, что я не побоюсь взглянуть ни на бога, ни на черта…
Я всегда буду помнить, — став серьезным, произнес герой.
2
Матери Эгеи уже несколько лет как не было в живых, ее увлекла в могилу умершая раньше ее давняя соперница, которая пришла к ней во сне и поманила за собой. Вместо того чтобы наотрез отказаться, обругать ее покрепче да послать туда, откуда та явилась, в общем, дать понять, что она и не собирается пока в этот путь, несчастная, по доброте душевной, протянула ненавистнице руку и тем самым подписала свой смертный приговор, погасила свое солнце. На следующий день, в отчаянии от того, что ей придется безвременно уйти из жизни, она рассказала свой сон соседке. Потом она начала таять не по дням, а по часам, и напрасны были старания врачей, колдунов, шептунов и заклинателей духов, не говоря уж о проворных зеленых пальцах матушки Элоизы, — не прошло и недели, как бедняжка угасла, тоскуя оттого, что оставляет двух детей на руках у папаши Кайя, не в меру добродушного болтуна, который ни в чем не видел зла…
Брату Эгеи Ананзе было лет двенадцать, он учился в одном из старших классов. У него было доброе, слегка неправильное лицо, которое казалось отражением лица его сестры в неспокойной проточной воде. Но его ласковым чертам удивительным образом противоречили глаза, полные жгучей ярости, которая молча испепеляла все и вся вокруг, не щадя ни врагов, ни друзей. Жану-Малышу нравился его вид оскорбленной гордыни, и ему иногда казалось, что за нею кроется та же душа, что у сестры, хотя и более неуемная, изливающаяся бурным потоком, а не тихой речкой, как у Эгеи; тем не менее он избегал попадаться ему на глаза, которые пронизывали его еще безжалостней, чем всех остальных, с тех пор как он стал неразлучен с Эгеей.
По закону Заводи, брат, заставший сестру с дружком, должен был «зверски» рассвирепеть, а то и броситься на наглеца и поколотить его; это отчасти объясняло, почему наши герои избрали местом своих свиданий крону старого раскидистого манго, чьи ветви прятали их в своей тени…
Однажды, когда они блаженствовали на своем дереве, мимо просвистел камень — его, вы, наверное, уже догадались, бросил этот полоумный Ананзе, который стоял внизу и буквально кипел, как и полагалось, от ярости. Не раздумывая, Жан-Малыш спрыгнул вниз и отважно предстал перед старшим братом Эгеи, чье мрачное лицо на миг дрогнуло недоверчивой улыбкой при виде доблестного Жана. И началась драка по всем правилам. Противники без особой страсти молотили кулаками воздух, время от времени бросая на Эгею, наблюдавшую за ними сверху, ободряющие взгляды, чтобы та не очень-то волновалась. И вдруг Жан-Малыш, забывшись в пылу сражения, мертвой хваткой вцепился противнику в горло и, опрокинув его навзничь, принялся душить. Глаза Ананзе уже было закатились, но тут раздался крик, и наш герой отпустил шею мальчугана, обернувшись к тонкой фигурке Эгеи, которая заливисто голосила над ним в листве дерева, как пойманная на клей перепелка. Он ошарашенно застыл, силясь понять, что заставило его схватить Ананзе за горло, а девочка быстро соскользнула с дерева, царапая о кору голую кожу, склонилась над старшим братом и подула ему в глаза…
У каждого из нас, как известно, есть какой-нибудь дар от рождения; так вот, у этой мартышки Эгеи было поистине живое дыхание. Под его действием старший брат вскочил тугой пружиной на ноги и — бац! — послал свой тяжеленный, как ядро, кулачище Жану-Малышу в живот. Наш герой звонко треснулся затылком о камень, скрытый густой травой меж корявых корней манго. В глазах его потемнело, будто кто-то раскинул над ним широкий клубящийся невод, который вдруг уплыл, точно занавес, открыв странную картину: над ним стоял пышущий гневом Ананзе, он занес обеими руками над головой огромный булыжник и собирался разбить ему голову…
В этот миг снова раздался крик Эгеи, и пылавший взор мальчугана остыл, подобрел, будто он вспомнил о том, как только что его пощадил Жан-Малыш, когда разжал свою чудо-хватку. Медленно опустив тяжелый камень сперва до колен, потом до земли, он пробормотал с наигранным безразличием:
— Ну что, может быть, хватит, братишка?
— Может, хватит, а может, нет, как скажешь, братец…
— Скажу, что мне не очень-то хочется продолжать, братишка, — отвечал Ананзе, красноречиво проведя рукой по своему горлу.
— Мне тоже не очень, — улыбнулся Жан-Малыш, — а по правде сказать, совсем не хочется, братец…
Так вот стояли драчуны и смотрели друг на друга в немом оцепенении, тише воды, ниже травы, опустив руки в упоении рождающейся дружбы, и восхищенная ими Эгея, вся сияя, весело шлепнулась на траву.
— Силы небесные! — воскликнула она. — Они совсем с ума посходили, вот бешеные-то, таких еще в Лог-Зомби не видели. Ах ты господи боже мой, ну чего хорошего еще ждать от этих обормотов?
С этого дня Ананзе, само собой разумеется, ходил в школу с ними вместе, переговариваясь по дороге со своим новым другом — не прямо, а через Эгею, которая поочередно выслушивала каждого и передавала его слова другому. Провожал он их и на реку. Но, дойдя до разветвления тропинок, он поворачивал туда, где купались взрослые, те, кто мог натворить бед, а двое невинных шли размеренными шажками к Голубой заводи. Когда дети подходили втроем к реке, глаза Ананзе сразу добрели — казалось, они излучали из-под крутого лба всю нежность этого мира. Но как только они пускались в обратный путь, переходили Инобережный мост и приближались к деревне, те же самые глаза вновь становились похожими на злющих собак, готовых все вокруг разорвать в клочья. Ананзе нашел где-то старый, ржавый пистолет и с утра до вечера тайком чистил его, упрямо повторяя, что приведет его в божеский вид. Надраивая свою железяку, он твердил, что Гваделупа охвачена войной, скрытой войной, которую жители Лог-Зомби не замечали. Но когда Жан-Малыш набирался смелости и спрашивал его, кто же, черт побери, с кем воюет, то этот полоумный Ананзе горестно пожимал плечами и отвечал, что не знает; на самом-то деле никто ни с кем не воевал, просто у него щемило внутри, злой дух терзал его душу, вот и все…
Однажды вечером, когда они возвращались с реки, как всегда помрачневший Ананзе повел своих друзей к веранде тетушки Виталины, где днем и ночью шел разговор о судьбе негра, о его никчемности и глупости, о том, что он сам себя понять не в силах. Густели сумерки, на веранде зеленовато светила газовая лампа, висевшая над стойкой с бутылками рома; многое сегодня было уже сказано, немало слов пронеслось в воздухе и осело куда попало. Некоторые сидели с задумчивыми лицами, другие, радуясь своей житейской премудрости, украдкой и не без лукавства поглядывали вокруг. Здесь всегда крутили одну и ту же заезженную пластинку: что, мол, господь бог нас не любит, потому что мы, дескать, его пригульные дети, а вот белые — это его родная кровь. Что, мол, жизнь — это колесо, и вертись оно в другую сторону, то белые были бы сейчас на нашем месте, может, даже и нашими рабами. А Эдуард, по прозвищу Верзила, тяжело дыша в липкие от пота усы, как всегда, заявил, что чернокожий сам несет в себе свое проклятие, что он от рождения — никчемный, никудышный оболтус, лопух, дикарь, который только и может, что терпеть да паясничать. И, зажав в своей лапище стакан с глотком рома, без которого не развяжешь отяжелевший за жаркий день язык, этот чертов Эдуард-Верзила тихо, но язвительно добавил:
— Что, не нравится, пустомели несчастные? Ну погорюйте, погорюйте, ангелочки мои бескрылые, но знайте — горю вашему не поможешь, о нем никто на свете и знать-то не хочет, никто…
И тут папаша Филао склонил к нему свое тонкое сухое тело и прошептал тихо-тихо, будто боялся показать свой голос Старейшины:
— Послушай, Эдуард-Верзила, экая ты язва все-таки, никогда слова доброго не скажешь! Мы, конечно, понимаем, что живем изгоями, но значит ли это, что у нас нет души, как ты утверждаешь? Хоть душу-то нам оставь, дорогой мой!
— Ты ее чуешь, свою душу? — рявкнул этот чертов Верзила.
— Может быть, может быть, — неуверенно промолвил отец Филао, — а ты что же, не чуешь?
— Чего, душу? Вот уж нет! Душа бывает у настоящих людей, отец Филао, а я, может, и похожу на человека, да не человек…
— А кто же ты, по-твоему? — не унимался старик.
— Иногда мне кажется, что я осел, а иногда — лошадь, когда как, — скорбно скривившись, бросил пропойца, отбив тем самым всякое желание продолжать разговор.
Все испуганно, подавленно переглянулись: ведь с тех пор, как на веранде тетушки Виталины велись эти похоронные речи — а их слышали еще наши прадеды, — никогда еще никто не ставил нас так низко. И тогда, решив, что Верзила Эдуард хватил сегодня через край, отец Филао хрипло откашлялся, чтобы прочистить горло, и заговорил тихим, погасшим, прямо-таки умирающим голосом, будто боялся кого-то задеть или обидеть, так тихо заговорил, что всем пришлось внимательно следить за движением тонких стариковских губ, чтобы не пропустить какое-нибудь слово:
— Послушай, Верзила Эдуард, ты где-то такого нахватался, что тебе вовсе не к лицу… С нами все ясно — беда, да и только, и ничего здесь не попишешь; а в чем она? Да в том, что мы забиты, забиты, понимаешь? Об этом ты не думал? Ведь и мы были когда-то людьми, настоящими людьми, такими же, как все другие, что живут на земле: это мы построили им сахарные заводы, мы распахали их поля, и дома их — дело наших рук, а они нас забили, вышибли из нас разум, так что теперь мы и не знаем, какого мы роду-племени, люди мы или так, пустое место, вроде мы есть, а вроде и нет нас…
Какое-то время стояла мертвая тишина; со стороны Инобережного моста, с гор дунул и пролетел сквозь веранду легкий ветерок, который всем принес облегчение. Собравшиеся уставились на отца Филао, из-за ввалившихся щек которого раздавалось глухое ворчание: старику вдруг стало обидно, что он взял да выплеснул сразу все, что было у него на душе. О чем только не говорили здесь такими вот ленивыми вечерами, каких только мыслей не высказывали о чернокожих, об их никчемности и глупости, о загадке, которую самим им нипочем не разгадать! Но такого на веранде еще не слыхивали, и, потрясенные словами Старейшины, не желая нарушать их волшебного очарования, люди лишь вздыхали да чесали затылки, и тут раздался острый и звонкий ребячий голосок:
— Отец Филао, а за что они нас так, а?
Старик удивленно взглянул на Жана-Малыша, который сидел, вытянув шею, на третьей ступеньке веранды:
— Никто не знает, сынок, никто, мой колокольчик, ведь те, кто нас бил, все еще держат хлыст в руке и думают точно так же, как и прежде.
И тут мальчуган, сам не свой, поднял ладони к вискам, и с его губ сорвались странные, чужие слова, хотя и были они произнесены его голосом, его собственным языком:
— Слушай меня, почтенный отец Филао: старику — покой, молодому — конь лихой, я не боюсь смерти и вырву хлыст из их рук…
— Жан-Малыш, мой бедный мальчик, что это тебе в голову ударило, ты что же, считаешь, тебе одному по силам мир перевернуть?
Тут все прыснули было со смеху, но рядом с лицом нашего героя сверкнули во мгле двумя искрами глаза остроскулого Ананзе, поспешившего на выручку другу, и раздался его злой, с хрипотцой голос, который перекрыл поднявшийся гвалт:
— Одному-то, может, и не под силу, это так, отец Филао, но двое-то многое смогут, слышите? Не будь я Ананзе Кайя, если мне тоже не наплевать на смерть!..
Жан-Малыш еще не успел опомниться после тех слов, что сорвались с его губ, когда от крыши веранды отделилась тень старого ворона с желтоватыми перьями в надглазьях, который взмыл над дорогой и с тихим стальным свистом ринулся в ночь, полетел к горам…
Мальчишки вдруг сконфузились и кинулись прочь, в темноту, а за ними Эгея, она уцепилась за рукав своего друга и хохотала, сама не зная над чем. На веранде тетушки Виталины все опять приумолкли. Те, кто сидел в глубине, у стойки, задумчиво барабанили по деревянным столикам пальцами, а на улице, на темной обочине дороги, стояла, бешено тряся воздетыми к небу кулаками, совсем уже шаткая фигура хватившего лишнее негра. Кто-то из завсегдатаев наконец отважился произнести: неужто это наши дети говорили здесь о смерти? Но его сразу же перебил скрипучий старушечий голос: дети? Какие дети?
Вы видели детей, которых смерть стороной обходит, а? То-то и оно, вот когда дети перестанут умирать, тогда о них и поговорим…
И тогда те, что до сих пор все вечера напролет молча держались в сторонке, те, что лишь слушали, как разглагольствуют, поколение за поколением, мужчины на веранде тетушки Виталины, с улыбкой глянули друг на друга и чуть смущенно молвили:
— Слыхали? Вот как умеет сказать женщина, когда захочет, а вы все слушайте!
3
В последующие дни крылатая тень повсюду незаметно следовала за детьми, жарко обсуждавшими, как вырвать хлыст из рук белых. Дело это представлялось нелегким, лихим, оно вставало перед ними скользкой стеной до самого неба. И много раз, отчаявшись найти решение, Жан-Малыш предлагал избрать оружием черную магию, колдовство: ему казалось, что только оно может выручить его племя в неравной схватке с незыблемым могуществом белого мира. Но Ананзе поднимал его на смех: может, колдуны и способны плеваться огнем, но пока что никто из них не смог даже простую спичку сотворить; пули и винтовки — вот и вся магия, какая нужна, считал Ананзе. И не в силах возразить, Жан-Малыш умолкал. С грустью думал он о птице, которая показывалась только ему одному и которая неотступно летела за ним, провожая даже в школу. А когда день подходил к концу, он, прежде чем закрыть дверь на засов, тихо проскальзывал во двор, подходил к дереву гуаявы и задирал голову к его верхушке, где теперь почти каждый вечер, после того памятного случая на веранде тетушки Виталины, сидел его крылатый дух; с горечью смотрел Жан-Малыш на отливавший синей ночью клубок перьев, который, встрепенувшись при его появлении, суетливо переступал с лапки на лапку; зачем, вопрошал он его, зачем было заставлять меня произносить тогда эти вещие слова о негре, ну зачем, а?..
Но вот однажды, когда на землю спустились вечерние сумерки, а небо заволокло тучами, у хижины матушки Элоизы появился незнакомый старик и сказал, что хочет с ней поговорить. То был чудной человек, высоченный, худой как скелет, в широкой шляпе, полы которой вяло спадали ему на плечи. На нем мешком висели домотканые штаны и рубаха, совсем облезлые, в клочьях рваных волокон, словно шерсть линяющей собаки. Уже три дня Жан-Малыш не видел ворона, три дня, как тот не провожал его в школу и на реку, не сидел по вечерам на своей ветке гуаявы. Он боялся, что призрак, устав от его упреков, возвратился туда, откуда пришел; и комок подступил к его горлу, когда ему почудилось, будто он узнал своего крылатого духа в этом незнакомце, который ждал у порога, с испитым лицом странника, казавшегося неприкаянным привидением, блуждающим между небом и землей…
При виде этого человека матушку Элоизу охватила дрожь, с величайшим почтением она повела его за руку в хижину и усадила за стол, прикасаясь к нему осторожно и боязливо, будто к какой-то святыне. Она поставила перед ним тарелку с едой, бутылку рома, чашку родниковой воды, и старик спокойно начал есть руками, будто не замечая блеска лежащей рядом вилки. Матушка стояла подле него, слегка наклонившись вперед. И всякий раз когда незнакомец собирался наполнить свой стакан или отломить кусочек хлеба, она с невероятным проворством делала это за него, будто только и ждала, чтобы заботливой наседкой предупреждать его малейшее желание. Когда он насытился, рыгнул раз-другой и сполоснул пальцы в чашке, она отвернулась в сторону и едва слышно вымолвила:
— Вот ты и пришел ко мне в гости, старый Эсеб?
— Узнала, вижу, что узнала, — произнес человек, причмокнув от удовольствия. — Тебе ведь известно, кто меня прислал, дочка. Да, это Вождь велел мне прийти сюда, он сказал: спустись к Нижним людям и найди Аву, скажи ей, что от меня уже веет тленом, умру на заре, и, прежде чем уйти, мне нужно повидать мальчика. А еще Вождь сказал: эта несчастная не доверит тебе своего Щенка, так пусть придет вместе с ним…
— И больше он ничего обо мне не сказал, только то, что я несчастная, и все?
— Нет, не все, — ответил старик, смущенно улыбнувшись. — Вождь сказал еще: «К тому же мне будет приятно повидать ее напоследок…»
— Приятно… он сказал, что ему будет приятно, — несколько раз тихо повторила матушка Элоиза; ее лицо выражало смятение, а руки висели словно плети; потом глаза ее засверкали такой радостью, таким счастьем, что она даже прижала ладонь к сердцу, стараясь умерить его сумасшедшее биение, а ее тонкий, иссохший рот изумленно раскрылся…
Втроем отправились они в путь и медленно добрались по тающим в ночи, различимым только для их ног тропам до горных круч. Когда они вошли в лес, луна уже поднялась над деревьями и брызгала матовым серебром на листву, разливала лужи бледного света по ковру мхов. В этом сказочном сиянии мальчик смотрел на мать, которая тяжело карабкалась вверх, так что плечи ее ходили ходуном, рот был широко раскрыт, а рука по-прежнему прижата к сердцу: она все еще не опомнилась от недавнего потрясения. Она ведь всегда знала правду о Бессмертном, думал он, вспоминая о том, как пепельно серело лицо матери, едва до ее слуха доходили некоторые слова или имена. Уже несколько часов были они в пути. Один раз шедший впереди старик остановил их жестом и тихо произнес: сейчас мимо нас пронесутся Силы Тьмы, не бойтесь. Через мгновение по горам прокатился сдавленный грохот, возник огненный хвост, который, обогнув острую скалистую вершину, змеей устремился вниз и угас где-то над морем. Вновь наступила тишина, старец вздохнул и пошел дальше. Когда лунный свет упал на его лицо, Жан-Малыш увидел, что оно стало вдруг мокрым от пота, а сам старик горько ворчал себе под нос: такой черной ночи на Гваделупе еще никогда не было. Скорбит небо, скорбит земля, а потомки рабов ничего не слышат, ничего знать не хотят, спят себе как ни в чем не бывало, а ведь нынче от нас уходит последний сын Африки. Вот уже сто и еще сто лет минуло, с тех пор как ты покинул свою родную деревню, старый воин, и теперь ты возвращаешься назад, Вадемба, оставляешь нас во мгле. Ты говоришь, что дальше нет пути, что дорога оборвалась, что тебе пора, давно пора на Старую землю; но разве сам ты не был для нас дорогой, последней нашей дорогой?.. И вот теперь мы во мгле, в непроглядной мгле…
Когда они подошли к подножию плато, старик отодвинул в сторону тугие листья алоэ, и в колючих зарослях, которые показались Жану-Малышу непроходимыми в тот день, когда он пошел на звук барабана, на ту самую песнь, что принес с плато ветер, открылся узкий проход. Потом был крутой подъем по узкой тропе, с двух сторон которой зияла пропасть, и, наконец, заросшие руины на плато. И вот они подошли к круглой, побеленной лунным светом хижине, настоящему африканскому жилищу, какое можно увидеть лишь на картинках, с крышей, обвисшей, как шляпа старого Эсеба. Слабое сияние освещало несколько застывших у входа фигур: древних мужчин и женщин в иссохшей наготе, с ликами призраков. Собрались здесь и разные дикие звери, которые сидели всяк по-своему, завороженные общим ожиданием. Были и такие, кто, казалось, никак не мог решиться, к какому племени пристать: их носы и рты были человеческими, а из звериной шерсти или из птичьих перьев, как у разбившейся на дороге тетушки Жюстины, торчали огромные, несуразные уши. Старый Эсеб широко шагнул вперед своей странной, танцующей юной поступью, и его силуэт слился с другими замершими фигурами, стал таким же немым изваянием. И тогда из хижины раздался низкий глубокий голос, торжественный и печальный, тот самый голос, что принес в тот день ветер Варфоломеевой горы: «Входи, Малыш, входи скорее, ибо те, что стоят у порога, тебе не ровня…»
Матушка Элоиза прошла мимо толпы духов, учтиво поклонившись им, и толкнула сына внутрь хижины. У мальчика зарябило в глазах, он невольно зажмурился и только минуту спустя поднял веки. На твердом земляном полу коптили масляные светильники, в их тусклом мерцании поблескивали стены, покрытые древним слоем сажи, угрюмые, как своды пещеры. В полутьме можно было различить глиняную посуду, очаг из грубых камней, ложе в самой глубине лачуги, устланное сухой травой и пальмовыми листьями, а из-под темного конуса потолка свешивались, подвязанные к перекрытиям, пучки целебных трав…
В самом центре хижины на низком резном табурете сидел, прижав колени к груди, огромный старик; если не считать широкого кожаного пояса и ремешка на руке, он был гол, как и те, снаружи. Жан-Малыш еще никогда не видел таких больших людей. Круто выступавшие ребра, будто обручи на готовой рассыпаться бочке, охватывали торс гиганта, а иссохшее тело напоминало жалкие, выброшенные на берег, насквозь изъеденные водой и солнцем стволы деревьев. Массивный морщинистый лоб покоился на коленях, и видна была только пышная шапка волос — пожелтевший хлопковый куст? — точь-в-точь как перья над клювом и красными глазами ворона. Казалось, жизнь покинула этого человека; он, наверное, умер, пока мы входили в хижину, подумал Жан-Малыш, но вот массивный лоб медленно поднялся, и человек сказал:
— Видишь, Малыш, пока я еще двигаюсь, стало быть, я жив; подойди же, мой вьюнок, дай хоть раз посмотреть на тебя человечьими глазами…
Жгучей тоской загорелись изнуренные глаза, напомнив Жану-Малышу о печальном взоре ворона. Он шагнул к старику, который весь подался вперед, вытянул свою худую жилистую шею, чтобы лучше рассмотреть ребенка уже подернутыми предсмертной поволокой зрачками. Ему, наверное, плохо было видно; он потянулся за масляным светильником и начал водить им перед мальчиком, явно любуясь, удовлетворенно прищелкивая языком. Потом он бережно поднял лежавшее у ног старинное ружье, и глаза его порозовели от волнения.
— Посмотри, — сказал он, — посмотри на этот мушкет, он принадлежал человеку, который когда-то жил на нашем плато. Этого человека звали Обе, он был моим другом, и я горжусь этим. Да-да, его звали просто Обе. Ты обучался в школе разным буквам, но ты не найдешь это имя ни в одной книге, ибо так звали храброго, достойного человека. Да откуда тебе знать о нем? Правда. Нижние люди могли бы тебе о нем поведать, рассказать о его жизни, но вот уже почти двести лет, как они делают все, чтобы о нем забыть…
А что остается от человека, кроме его деяний? — задумчиво продолжал Вадемба, — тех деяний, память о которых неотступно следует за ним, ведь без нее и жизнь останавливается. Но эти бедняги, прижившиеся на острове-скорлупке в океане, совсем обеспамятели и живут сегодняшним днем, предав забвению тень своего прошлого…
Жадно ловя каждое слово Вадембы, мальчик благоговейно смотрел на украшенный резьбой мушкет, на его серебряный затвор, на чудной рожок для черного пороха, — такими же доселе пользовались некоторые старые охотники Лог-Зомби. А завораживающий голос старика продолжал:
— Это ружье наделено великой силой, ибо я вложил в него все, что знал и умел. Завтра оно будет похоронено вместе со мной. Но однажды оно тебе понадобится, ты придешь и выкопаешь его из могилы, ибо так угодно богам. А раз тебе самой судьбой назначено стрелять из него, не бойся, мальчик мой, возьми в руки это старое огненное жерло и скажи мне, хочешь ли ты услышать историю Обе, моего друга Обе, человека, которому оно служило до тебя?
Обеими руками схватил Жан-Малыш ружье, и сразу же в его душе разлился неведомый свет: ему показалось, что он проник теперь в тайну природы вещей, в незримый, величественный мир, который он всегда чуял под личиной обыденности. И хотя имя Обе никогда не встречалось ему в книгах, хотя он его никогда до этого не слышал, он понял, что всегда стремился узнать историю его жизни, что он родился на свет, чтобы услышать сегодня ночью эту историю из уст своего деда. Слезы застлали ему глаза, и старик сказал: хорошо, лучшего ответа ему и не надо. Он осторожно взял мушкет из рук мальчика и положил его, бережно и почтительно, будто живое существо, У своих ног. Потом он медленно поднял руку, широким, плавным жестом протянул огромную, округленную, как чаша, ладонь к Жану-Малышу, обвел ею, не касаясь кожи, лицо мальчика, как бы погладив его на расстоянии:
— Слушай, мой маленький буйволенок, близок мой смертный час, и от меня уже веет тленом, поэтому я не стану рассказывать тебе о детстве Обе, которое тот провел на плантациях, в грязи; да, и тело и душа его пребывали в грязи, ибо мой друг Обе был сыном и внуком рабов. Ничего тебе не скажу и о том, как он дрался вместе с нами, на наших глазах, с того дня, как мы ушли в леса. Я начну с конца, с того, как он устремился с этого плато вниз с простреленной грудью и рукой, перебитой осколком ядра. Нас окружили, пули были на исходе, одно копье Обе держал в здоровой руке, два других сжимал зубами. И вот он бросился на строй французских солдат и вонзил свои копья сразу в троих наступавших, успев бросить им в лицо: «За деда, за отца и за меня!..»
Слегка откинув назад голову и устремив куда-то вдаль слепой, отрешенный взор, старик покачивался, будто в такт только ему слышимой музыке, немолчной музыке памяти, что звучала в его голове, под тяжелыми веками в бахроме белых ресниц.
— Да, он устремился вниз со скалистого плато в последний раз, и было это через несколько лет после зарева над Матубой []…
Меня же, твоего деда, привезли сюда мальчишкой, твоим ровесником, в самый разгар Революции, только не нашей, а их, белых. Тогда мои глаза еще не могли разглядеть зарево над Матубой, и только позже я постиг все его величие. Но белым-то пришлось вдоволь насмотреться на него, они-то долго о нем помнили, и им не хотелось, чтобы оно вспыхнуло вновь. Поэтому прежде, чем повести Обе на гильотину, ржавую рухлядь, которую они установили у самой пристани Пуэнта, они содрали кожу с его подошв. Они, видишь ли, надеялись, что он не сможет идти на казнь своей гордой поступью. Но они просчитались, и рабы, которых согнали на зрелище и которые стояли на всем пути Обе, ничего не заметили, кроме тех, кто был в первом ряду и видел кровавые следы, что он оставлял за собой… Потом, когда его положили на гильотину, нож дважды застревал над головой героя, и тогда Обе, никогда не терявший благородного достоинства и улыбки, спокойно им сказал: этак, господа, вы и вправду меня порежете…
Вадемба тяжело опустил веки в бахроме белых ресниц, будто на миг уснул.
— Вот так, — заключил он, и голос его зазвучал чуть пронзительнее, — так ушел друг Обе, давно это было… Не одну, не две и не три человеческие жизни назад — с тех пор, как меня мальчишкой привезли на этот остров-скорлупку в океане, сменилось на земле десять поколений. Видел я несчетное число восходов и мог бы тебе рассказать о многих других неграх: об Ако, Мундуме, Н’Деконде, Джуке Великом, с которым я взобрался на это плато, и еще о многих, многих других… Да что говорить: когда вернешься сюда, склонись к этой траве и вбери в себя ее запах — ведь это волосы спящих под землей героев…
Вадемба замер в оцепенении с высоко поднятой головой, прочно расположив на коленях увесистые кулаки с зажатыми внутрь большими пальцами, точно как Жан-Малыш, когда был еще сосунком. Эта особенность заставила Жана-Малыша вглядеться в спящее лицо великана, в его долгие, вытянутые к вискам глаза, массивный нос, высокие скулы, крутой козырек надбровий. Сознание его помутилось: он смотрел на самого себя, на свое собственное отражение в бездонном колодце времени…
От огромного сонного тела исходил запах мускуса, тяжелый запах одинокого зверя, и тут Жан-Малыш почувствовал тихое присутствие матушки Элоизы, которая, войдя в хижину, сразу же укрылась в тени, тесно прижавшись к стене. Он подумал о том, как только что блестели ее глаза, когда она спешила в ночной черноте к этому могущественному человеку, который снизошел до нее лишь в предсмертный час, и его вдруг охватил гнев. Он вспомнил, как бедняжка наглухо закрывалась в четырех стенах: она ведь всегда жила в непостижимом, великом, как океан, страхе, и смирилась, приняла его как нечто неизбежное, как воздух, которым дышала, как свои тонкие косички, которые, казалось, искрились на ее затылке, как свои прекрасные глаза, похожие на озера, готовые подернуться рябью при малейшем дуновении ветра. И тогда мальчуган сказал себе: матушка Элоиза, ты ведь знаешь, что значишь для меня, как мне дорог даже твой самый слабый вздох. И вот уже сжались его кулаки, и он уже развернулся, чтобы, не раздумывая, нанести старику смертельный удар, когда сжавшийся было рот раскрылся и промолвил:
— О боги, и это моя-то кровинка хочет заставить меня держать ответ в тот самый час, когда я отправляюсь в царство теней!
Затем веки его поднялись, открыв долгие спокойные глаза, в которых, казалось, отразился далекий бледно-розовый закат, и тот, кого считали бессмертным, впервые улыбнулся ему.
— Тебе не за что меня ненавидеть, мальчик мой, — сказал он. — Я послал твою мать к Нижним людям, ибо мне не хотелось, чтобы ты слишком рано узнал запах этих лесов, ведь иначе ты уже никогда не спустился бы вниз; теперь ты видишь: здесь тебя ждало лишь одиночество и смерть… Но ты меня кое-чему научил, и, если бы я мог дать тебе имя, я назвал бы тебя Жгутом Лианы — ведь она может перекинуться с дерева на дерево и скрепить их. Скажи мне, что ты думаешь о Нижних людях?
Он долго испытующе смотрел на молчавшего мальчика, потом удивленно произнес:
— Ты считаешь их… красивыми, так? Мальчик согласно кивнул головой.
— Ну а еще?
Потерявшийся мальчуган закусил губу.
— Ты хочешь сказать… что они даже больше чем красивы, так?
Жан-Малыш быстро закивал головой, обрадовавшись, что старик так хорошо прочел его мысли.
— Вот оно что, — задумчиво произнес Вадемба, — я вижу, ты как слон, у которого не один дом и не одна жена. По правде сказать, я часто осуждал Нижних людей, ведь из всех живых тварей на свете только они одни забыли свое гнездо. Но, взглянув на них твоими глазами, я упрекну их лишь в короткой памяти, если ты не против, мой мальчик… С меня другой спрос, — продолжал он задумчиво, — ведь я из племени тех, чья кровь тяжела и тягуча и кто никогда ничего не забывает…
Потом он опять улыбнулся:
— Скажи мне, а что тебе особенно нравится в Нижних людях?
Лукавство, — ответил на этот раз мальчуган.
— Ага!.. Теперь мне ясно — ты все видишь насквозь, и, если бы я мог дать тебе африканское имя, я нарек бы тебя Абунасанга, что значит Тот-кто-проникает-в-суть-вещей… Кто знает, может быть, однажды тебе придется зажечь само солнце…
— Солнце? — весело воскликнул Малыш.
И вновь разжались бугристые черепашьи пальцы и Робко приблизились к лицу Жана-Малыша, не касаясь его, лишь следуя овалу:
— Пока есть еще время, прими в себя все тепло моей ладони, чтобы в урочный час вспомнила о ней твоя плоть…
Потом, наклонившись, Вадемба поднял глиняный кувшин и вылил из него на твердый земляной пол несколько капель беловатой густой жидкости, в которой плавали круглые желтые зернышки. Всякий раз, как земля всасывала каплю, он произносил несколько слов на неведомом языке. Потом он знаком подозвал матушку Элоизу, налил гостям напиток в маленькие чашки, обхватил кувшин ладонями и с улыбкой сказал:
— В моей родной деревне говорили, что рыбы молчат, потому что пьют только воду, а пили бы они помбве, то горланили бы песни; так давайте же выпьем эту славную просяную водку, выпьем в первый и последний раз…
Торжественно осушив свои чаши, все трое погрузились в умиротворенное молчание. Старик опять было слепо протянул в полусне свою руку к мальчику, но дрожащий голос Жана-Малыша вырвал его из дремоты:
— Ты правду рассказал, дедушка, правду рассказал? Он смотрел на мушкет у ног старика, и, казалось, его широко раскрытые глаза видели восставших героев, которые дрались и, сраженные, падали, чтобы уже никогда не подняться.
— Ты правду рассказал, дедушка, правду рассказал?
— Я был там, я свидетель того, что произошло, — тихо ответил Вадемба.
— А ты, что делал ты сам? — не унимался тот же замирающий, жадный голосок.
— Успокойся, мои дела были достойными, тебе не надо краснеть за своего деда…
— Но…
— Успокойся, маленький буйволенок: когда ты станешь буйволом, ты поймешь, что мужчине не к лицу говорить о самом себе…
— А матушка Элоиза?..
— В детстве она много чего обо мне понаслышалась от тех, кто родился на много поколений позже: никто из них меня не видел во времена моей молодости, никто толком не знает, кто я такой. Так оно и лучше, ведь говорят всегда о тех, кто уже умер, рассказывают легенды о делах минувших, а рассказ обо мне не закончен, потому что ты продолжишь его…
— Дедушка, но на равнине никогда не произойдет ничего подобного тому, что ты рассказал, и мы с Ананзе попусту искали…
— И все же тебя ждут великие дела, мальчик, их не надо искать, они сами ждут тебя впереди…
— Это меня-то ждут настоящие великие дела!
— Такие же настоящие, как те, прошлые, цыпленок…
— А какие дела, ты мне скажешь?
— Э нет, вот это было бы неразумно, ведь, если я тебе сейчас о них скажу, их никогда не будет. Видишь ли, судьба наша так же непрочна, как лист бумаги, все, что происходит, происходит лишь один-единственный раз во всей вечности; и тот, кто заранее узнает, что с ним должно случиться, будет обречен пережить все лишь во сне. Но хотя мне запрещено открывать тебе будущее, я по крайней мере могу снарядить тебя в дорогу, мой буйволенок…
Помолчав, старец продолжал:
— Ждут тебя тяжкие испытания, мальчик мой, и нелегкой будет твоя жизнь, нет, иногда тебе будет казаться, что на твою долю выпала самая страшная, самая горькая из всех судеб на свете, вот оно как…
Услышав это мрачное пророчество, мальчик улыбнулся. Сердце его забилось, затрепетало от радости, запрыгало вверх-вниз, вправо-влево, успевая везде отозваться гулким счастливым ударом, так что и не уследить за ним, а в это время Вадемба печально снял со своей руки ремешок и накинул его на тоненькое запястье нашего героя. Он стянул кожаную полоску в кольцо и застегнул на одну из ракушек, которые тянулись вдоль всего ремешка наподобие пуговиц.
— Когда настанет час испытаний, я уже не смогу дать тебе совет, — сказал он. — Возьми этот вещий браслет, он будет говорить вместо меня, правда, не всегда внятно, и тогда тебе придется все решать самому. Но всякий раз, как он заговорит отчетливо, ты должен в точности и безоглядно делать то, что он скажет, пусть хоть потребуется броситься в бездонную пропасть; носи его всегда, и днем и ночью, и в воде и в небесах, снимай лишь тогда, когда будешь покидать человеческий облик…
Теперь он на твоей руке, и тебе больше не нужны мои советы, мой мальчик…
Глаза его вдруг померкли; медленно, будто в полусне, расстегнул он свой набедренный пояс из грубой кожи и протянул ребенку:
— Возьми, надень этот пояс, дающий силу, носи его и днем и ночью, и в воде и в небесах, снимай лишь тогда, когда будешь покидать человеческий облик… Теперь ты и без меня будешь знать, что делать, без меня сможешь себя защитить. Но смотри, не следуй примеру тех темных созданий, что собрались у хижины и слушают нас: их единственная услада — подражать богам. Не для того послал я твою мать на равнину, чтобы ты занимался пустым колдовством, в то время как белые глумятся над нами. Твое место — среди людей, никогда не забывай этого: твоя дорога там, внизу, и имя ей — мрак и слезы, горе и кровь…
С тяжким усилием, с глухим скрипом в пересохших суставах поднялся Вадемба на ноги, вытянулся под самую крышу, удивляя худой наготой: каким старым и беспомощным казался он теперь, без знаков своей власти, с которыми только что расстался! Слепо глядя перед собой, он подошел к каменному очагу, присел на корточки у жбана, зачерпнул ладонью немного воды и плеснул на себя. Потом он шагнул в глубь хижины, спокойно улегся на ложе из сухих листьев, опустил веки, отгородившись от земных дел, и сказал:
— Мир вам всем: и тебе, Жан-Малыш, и тебе, моя дорогая Ава, ты угостила меня палкой, потому что сильна была твоя любовь к сыну, много сильней страха, сжимавшего твое маленькое сердце. На рассвете вы поднимете полог и, не оглядываясь, спуститесь в деревню. Мои друзья похоронят меня возле хижины, под деревом манго, они вложат мне в руки ружье Обе, и, когда придет час, мальчик сумеет отыскать могилу…
Жан-Малыш и его мать простояли всю ночь, отрешенно застыв в тех же позах, в каких услышали последние слова Вадембы, не пытаясь даже подойти посмотреть, дышит старик или уже нет. Мальчик тихо плакал и повторял одни и те же слова, он плакал покойными, счастливыми, казалось, неиссякаемыми слезами и твердил: вот и умер самый старый человек на свете, умер, как солнце закатилось. И вот перед самой зарей из предрассветного марева возник ясный, бесплотный, будто неземной голос: «Давно, очень давно покинул я деревню Обанише, у самого устья Нигера, и все, кто меня знал, превратились уже в прах. Но если тебе придется однажды там побывать, а не тебе, так твоему сыну, внуку, потомку пусть тысячного поколения, то достаточно будет сказать, что вашего предка звали Вадембой, и тогда все вас примут как братьев, ибо я принадлежу к племени, чья кровь тяжела и тягуча, чья память крепка и хранит все, вплоть до взмаха птичьего крыла в небе… Запомни: Обанише… У самого устья Нигера…»
Мальчик и его мать сделали так, как велел старик. Едва занялась заря, Жан-Малыш поднял дверной полог и видел скопище духов, которые прождали всю ночь, застыв как изваяния. Мать и сын вышли вдвоем из круглой хижины и покинули плато, ни разу не обернувшись…
Когда они спустились к подножию горы, они услышали первые удары тамтама, который не умолкал потом три пня, ввергнув в смятение робкие души жителей Лог-Зомби; затем гора опять умолкла…
4
На равнине мальчик снова оказался в плоском, пусто звонном мире, в скучной саванне, ровной и сухой; пояс Вадембы висел на нем бесполезным грузом, и напрасно прикладывал он ухо к браслету, дарующему мудрость и предвидение, — ничей голос не звучал вместо голоса исчезнувшего ворона…
Вот так, все время прислушиваясь к своему браслету, Жан-Малыш и не заметил, как минуло два года; однажды он обнаружил, что стал мужчиной — и, сними он штаны, мог бы это доказать. Оглядевшись вокруг, он заметил рядом с собой девушку с бархатной кожей — шоколадно-синеватого цвета, налитую незнакомыми, дурманящими соками. Она величаво шла по дороге в школу впереди него, мерно колыша бедрами. А когда они приходили купаться на реку, она превращалась в летучую, взмывающую над волной рыбку, блестела на солнце здоровым, тугим телом, которое, казалось, было полно миллионов упругих сияющих икринок; да, и Эгея стала женщиной — и, сними она платье, могла бы это доказать, и поэтому навсегда для них кончилась пора беззаботных детских игр…
Когда все это заметили, в Голубой заводи им устроили торжественные проводы. Они простились с водопадом, с плоскими белыми камнями, выступавшими посреди речного потока, с пышным старым манго, в кроне которого они постигали науку любви. Они, конечно, могли бы потихоньку, как многие другие, продолжать свои свидания. Но и без того довольно вздувшихся не в срок животов, и Малыш решил дождаться права ввести девушку в свою хижину, прежде чем опять соединиться с ее влекущим телом. Однако он с трудом себя сдерживал, стоя рядом с ней боялся невзначай — бух! — и опрокинуть ее где-нибудь в поле на мягкую траву. И потому не шел вместе с нею в школу, а снимал со стены старый дробовик своего отца, покойного Жана Оризона, и слонялся по лесу в поисках горлицы, енота или крысы агути: вот так и стал он охотником…
В то время лес приходил уже в упадок, и старики утверждали, что выдыхается вся земля: куда ни глянь — повсюду гниют вода, воздух и почва, и ничему-то на белом свете не уцелеть. Давно миновали времена сказочно богатой дичи, когда, не прячась, бегали по саваннам дикие свиньи-пекари, а в ближайших рощах надрывно ворковали вяхири. Крупные животные скрылись на неприступных кручах и выходили из своих убежищ только ночью; там, в вышине, у самых облаков, их охраняли горные духи, и мало кто отваживался на них охотиться, а почти каждый, кто отваживался, терял после такой охоты рассудок…
Сначала мальчик бродил по ближним лесам и возвращался домой до темноты, до часа привидений, обвешанный добытыми мелкими птахами, в куртке, изодранной в клочья. Но потом неведомая сила потянула его дальше, вглубь леса. Его влекли деревья-великаны. Иногда он воображал, что молодой гладкий ствол — это тело Эгеи, и, сбросив куртку, в забытьи обнимал его. Однажды, когда он шел по следу енота, у самого водопада Брадефор из воды вышла женщина, выжимая на ходу свои бесконечно длинные волосы. То была Мать-Вода, вся черная, в переливах быстрых зеленоватых бликов, с обманчивой неуловимостью вечно струящегося тела: казалось, вот она плывет, вытянувшись в воде, а на самом деле она шла вдоль берега или неподвижно сидела на круглой подушке своих свернутых волос. Жан-Малыш знал, как выглядят все видения, ему их описали бывалые охотники, те самые, что вспоминали добрые старые времена, когда пекари паслись на полях сахарного тростника, а вяхири драли горло на крышах хижин, на расстоянии вытянутой руки. Правда, не всегда старики были единодушны в своих рассказах: ведь видения любят поводить людей за нос, поморочить им голову, чтобы смертные не смогли точно запомнить их подлинный вид. Но это была, конечно же, Мать-Вода, и нечего ее бояться, сказал он себе, подходя к странному созданию, которое, завидев Малыша, недоверчиво улыбнулось:
— Мальчик, знаешь ли ты, кто я такая?
Жан-Малыш прикоснулся к своему поясу, к вещему браслету, и ему показалось, что он оделся твердой, непробиваемой броней. Он сделал шаг вперед, потом еще один, и создание вновь заговорило беспокойным, подрагивающим голосом:
— Разве ты не знаешь, что смертным нельзя смотреть мне в глаза?
Произнося эти слова, она пятилась, отступала в воду, молодой охотник шел на нее и уже не мог отвести взгляда от бездонно мерцающих колодцев, что открывались под ее ресницами. Вдруг она выбросила вперед руки с пальцами без ногтей и заключила его в странно жгучие, как горячее масло, объятия, одновременно увлекая свою жертву на глубину, под пенистую дугу водопада. Теряя сознание, Жан-Малыш уже мысленно видел, как его мертвое тело колышется в устье реки. При этой мысли его охватила ярость, и он решил овладеть Матерью-Водой, доказать ей, что маленький жалкий смертный — настоящий мужчина: он уже крепко обнял ее, когда она, испустила жалобный крик и растеклась в его руках на мириады черно-зеленых переливчатых капелек, которые тотчас исчезли, растворились в речной быстряди…
Это происшествие придало парню храбрости, теперь он отваживался подстерегать крупную дичь высоко в горах и даже ночевать там у костра, в полном одиночестве. Вначале он брал с собой собаку, но та вскоре взбесилась, не в силах одолеть донимавших ее рассудок духов. Да и самому ему было несладко от являвшихся ночами видений, зомби, сатанинских кобыл, огненных мячей, катившихся ему под ноги. Вокруг его костра порой блуждали звери с человеческими лицами, а однажды, когда он продирался сквозь густые заросли, кто-то ударил его дубиной по спине. Он обернулся и чуть не лишился чувств: перед ним фосфорно светилось лицо давным-давно похороненного старика Фильбера. Но самое страшное видение рождалось в нем самом, во сне. Как ни старался наш герой не засыпать, сидя у своего костра, в который он время от времени подкидывал хворост, ему ни разу не удалось увидеть восход солнца. Сам страх смыкал ему глаза. Наступал миг, когда чьи-то мягкие-мягкие пальцы опускали его веки, и весь он погружался в темноту, превращался в наглухо закрытую обитель, в частицу ночи, погруженную во вселенскую ночь. Но где-то глубоко продолжал в нем тлеть огонек сознания: он понимал, что спит, и со страхом ждал, что будет дальше; а дальше в грудь ему била упругая волна, и из щелки сонных губ начинал расти пузырь, который затем превращался в большого желтоклювого ворона; тот делал несколько Шажков по траве, чтобы размять лапки, облегченно вытягивал вдоль спины свои мощные крылья и одним взмахом взлетал над миром…
Жан-Малыш смотрел на свет глазами птицы, и его пьянил вид горных вершин, с высоты кажущихся сглаженными и одинаковыми, пологих склонов, мягко сливавшихся с долинами, бескрайних полей сахарного тростника, крохотных горсточек хижин, над которыми то там, то сям колыхали ветвями кокосовые пальмы. Земля была совсем на себя не похожа, а луна покачивалась в небе словно плод затерявшегося где-то внизу дерева, чьи ствол и крону он иногда смутно различал во мгле. Вот так витали они под звездами вместе — ворон и затаившийся позади его бусинок-глаз мальчик. Потом, всегда перед рассветом, птица возвращала его к серой золе костра, к застывшему в той же позе, как будто неживому телу, к лицу с судорожно сжатыми крыльями носа и приоткрытым во мглу ртом. Пернатая тварь вновь, теперь уже как бы с сожалением, оправляла свои крылья и исчезала меж губ Жана-Малыша, проникала через их узкую щель в спящую грудь…
Просыпаясь, он иногда находил роговое надкрылье жука в уголке рта или непонятную крупинку на кончике языка. Он начинал ощупывать скованное ужасом тело, и тут его вдруг захлестывали холодный пот и беспамятство, беспамятство и холодный пот. Но голова его оставалась на месте, она крепко, как и полагается, держалась на плечах; и когда страх становился совсем невыносимым, он вдруг чувствовал странную радость от сознания того, что он сам выбрал себе эту долю, и пусть мозги не всегда его слушаются, но по крайней мере своей горькой судьбе он хозяин…
Когда Жан-Малыш спускался в долину с блуждающим, потерянным взором, люди шептали, что у сына Элоизы не душа, а глыба окаменевшей глины, которую не размыть никакими дождями. Но, услышав его смех, по-прежнему мягкий и чистый, совсем невинный, они успокаивались: да полноте, разве злые силы могут так смеяться…
И вот настал предсказанный Вадембой день. Жану-Малышу шел только пятнадцатый год, а он был уже одним из самых высоких и статных парней Лог-Зомби и окрестных деревень: Вальбадьян, Ларонсьер, затерявшейся в горах Абандоны, а может, и всей Гваделупы. Но когда однажды на охоте с ним случилась та история, которая должна была случиться, наш герой не признал ее за свою…
КНИГА ТРЕТЬЯ,
в которой говорится о том, как Чудовище проглотило солнце, ввергнув мир во мглу, и как оно в конце концов проглотило Жана-Малыша, да-да, и его тоже, господи прости!
1
Все началось с прилета диких уток, в самом начале сезона дождей. Появление воздушных странниц всегда было важным событием для Лог-Зомби. Когда они возни кали в небе и делали первый круг над вулканом, жителей деревни охватывала черная зависть к этим бессловесным созданиям, покрывавшим огромные пространства и никогда не сбивавшимся со своего курса, который, казалось, они знали лучше, чем человек свой земной путь. Завидовали также их постоянству, строгости их полета и даже стреловидному построению стаи, в котором таилось и начало, и цель. Путь долог, и чего только они не повидали, над чем только не простирали свои шелковистые зеленые крылья! Что могли они знать о жизни такого, чего не, знал негр?
Жана-Малыша тоже тянуло к уткам. Когда наступало их время, он мог целыми днями простаивать в засаде, по колено в болотной жиже, завороженно поджидая этих пернатых тварей, которые обладали точностью небесных светил и, как представлялось, следили сверху за всем, что творилось на земле… И стрелял он в них нехотя, как будто в свои же мечты…
В этом году он охотился в лесу Сен-Жан, у того болота, которое обычно служило пристанищем для залетных гостей. Занималась заря, солнце еще отлеживалось за горами, на небе — ни одного облачка, ни единой подпалинки: только торжественно-безмолвное сияние. И вот у вершины вулкана, как это было и в прошлые годы, появилась яркая стрелка стаи. Очертив широкий круг, она замерла как раз над болотом. Крылья уток напряженно трепетали, в то время как вожак опустил свою длинную унылую шею вниз, чтобы выбрать место для посадки. Жан-Малыш мягко взвел курок, его сердце сжимала смутная тоска: ведь человек — такая же перелетная птица; но вдруг чудесная стрелка рассыпалась, и утки, в диком смешении криков и перьев, рванулись в сторону моря…
Это озадачило нашего героя: кто мог так напугать этих неутомимых зеленокрылых летуний, оставивших позади себя немыслимые пространства? Раздвинув камыш, он сделал несколько шагов вперед, встал во весь рост и увидел на другом берегу болота, как раз на расстоянии выстрела, странный силуэт. То было в самом деле неведомое создание, о котором ему никогда не рассказы вали старые охотники. Оно походило на корову, правда во много раз крупнее простых коров, с мордой, в которой было что-то человеческое, и двумя рядами изогнутых лирой рогов, вздымавшихся от самого лба вверх и образующих подобие короны. Это существо лежало на боку, и его ярко-белая шерсть блестела прозрачными, длинными, шелковистыми прядями, напоминающими седые волосы, какие бывают у некоторых старух. Его рыло почти касалось земли, и раскрытая над самой травой пасть беззвучно втягивала в себя всякую живность: лесных мышей, мангуст, жаб. Все они приближались скачками и, безуспешно пытаясь зацепиться за отвисшие губы зверя, исчезали в его бездонной глотке. Казалось, животные подчиняются приказу невиданно голубых глаз, взгляду, пронизывающему предрассветную мглу. Глаза эти медленно вращались, и, когда их взор упал на Жана-Малыша, тому вдруг неудержимо захотелось пере сечь болото и тоже броситься в зияющую пасть Чудовища. Он упал лицом в трясину, и над ним скользнул не видимый луч, электрически потрескивая, будто негритянка подпалила щипцами волосы. Жан-Малыш взахлеб зарыдал, дрожа всем телом. «Неужто я родился на свет, чтобы столкнуться с этой страшной силищей, о которой никогда не упоминали даже самые старые из стариков деревни?» — думал он. Когда существо отвело в сторону свой жуткий взгляд и сила луча угасла, Жан-Малыш поднялся из болотной грязи и увидел, что колдовская тварь встала на ноги и смотрит на морской горизонт своими большими, влажными, усталыми глазами, которые, казалось, о чем-то жалобно молили восходящее солнце…
Такое притворство мерзкой твари, пусть хоть и высотой в несколько коров, взбесило нашего героя. Он торопливо вогнал заряд картечи в ствол своего ружья и навел его на чудище, целясь под лопатку, туда, где должно было находиться сердце. В этот самый момент от гигантского уха неведомого существа отделилась крылатая тень, которая скользнула в окружавшие болота заросли. Прогремел выстрел. Под левой лопаткой твари появилось темное круглое пятно, и отрикошетившие от него стальные дробинки с визгом разлетелись в разные стороны. Чудо-юдо даже не дрогнуло и продолжало печально смотреть на море. И понял тогда Жан-Малыш, что имел дело с высшей силой, даже не замечавшей людской суеты, и что он мог с тем же успехом пальнуть в небо в надежде сшибить солнце…
Он уже отступал назад, когда к Чудовищу опять подлетела крылатая тень и устроилась у него в ухе. Птица была явно встревожена; гнусаво прокричав что-то, она выставила наружу свой тяжелый клюв с желтым пеликаньим мешком, будто указывая своему хозяину на человека. Тотчас же гороподобная масса пришла в движение, вздыбилась во весь свой рост, свирепо выгнула хвост к небу… Жан-Малыш не стал ждать, что будет дальше, и, забыв о гордости, пустился наутек…
Подбежав к деревне, он окунулся в Листвяную реку и отмыл присохшие к коже лепешки грязи. Он то и дело настороженно прислушивался, будто не верил, что позади не слышно топота копыт. Придя в себя, он подумал: а не рассказать ли о случившемся жителям равнины? Но чем больше он размышлял над этим, тем лучше понимал, что Нижний народ ни за что ему не поверит. В последнее время в деревне появились молодые люди, побывавшие во Франции. Они говорили о мире, как о какой-то незатейливой машинке, которую они знали до последней гайки и могли разобрать и собрать по частям на ладони. Сначала жители Лог-Зомби совсем растерялись, столкнувшись с этими новоиспеченными белыми, их родными детьми, плоть от плоти, кровь от крови, драгоценными чадами, которые смотрели на родителей насмешливо и снисходительно, точь-в-точь как старые хозяева. Новая молодежь говорила про революцию, и, когда до стариков дошло, что это значит, они изрядно развеселились. «Эй вы, желторотые, где это вы видели, чтобы никчемные души совершали революцию?» Но само слово пришлось всем по вкусу и с тех пор не сходило с языка, как будто таило неведомый доселе заветный смысл, и, произнося нараспев его звучные волшебные слоги, можно было и впрямь, прости господи, изменить мир, землю и людей. Жан-Малыш и тот был так им очарован, что не без труда заставлял себя, как и прежде, уходить в горы, чтобы побродить в одиночестве по их склонам. И вдруг сегодня он вернется домой с какой-то старой-престарой сказкой, о которой здесь никто и слыхом не слыхал!..
Он беспомощно пожал плечами и, перейдя Инобережный мост, оказался в деревне. Пока он шел по пыльной дороге между рядами хижин, страшный образ, взбудораживший его душу, мало-помалу тускнел, расплывался. Отовсюду неслись шум, лязг, пронзительно-громкие воз гласы. Совсем рядом, вокруг него, мощным и неторопливым потоком текла жизнь мужчин и женщин с их горестями и радостями. На веранде тетушки Виталины собрались поболтать несколько молодых парней из тех, кто думал по-новому. Они обсуждали захлебнувшуюся недавно забастовку и говорили, что негра нужно переделать наново, все заменить: и мозги, и душу, и утробу, а заодно и язык подправить, потому что, утверждали они с горьким вздохом, вечно он несет чушь несусветную. Среди них был Ананзе, чуть угловатый, высоченный, ладно скроенный парень с отливающей красным кожей и шрамом поперек левой щеки от удара прикладом, которым его угостил во дворе сахарного завода какой-то жандарм. Жан-Малыш незаметно подал ему знак, и тот спустился с трех ступенек веранды к своему другу детства, выжидающе сверля его своим беспокойным взглядом. Жану-Малышу захотелось обнять его, как и прежде, за плечи, но он сдержался и как мог спокойно рассказал ему о том, что увидел в лесу Сен-Жан. Жан-Малыш не знал, как поступить: предупредить ли о Чудовище жителей Лог-Зомби или оповестить власти. Поэтому он решил, что лучше будет сперва все поведать другу. Этими словами он с трудом завершил свой рассказ. Сердце его бешено стучало, в горле пересохло. Ананзе ответил с холодной усмешкой:
— Уж не знаю, друг я тебе или нет, но ты мне пока еще друг, и поэтому я советую тебе держать язык за зубами…
— Ты что же, думаешь, мне все это приснилось?
— Слушай, великий охотник, мне прекрасно известно, что человек ты необыкновенный и видишь только необыкновенные вещи. Ты ходишь, ешь и пьешь не так, как все, не работаешь, как мы, когда захочешь — поднимаешься в горные леса и говоришь с духами, потому что никого и ничего не боишься: ни друзей, ни врагов. Тебе наплевать на девчонку, которая плачет по ночам втихомолку, она для тебя пылинка, случайно кольнувшая глаз. Ты увидел что-то необыкновенное? На здоровье! Но я простой человек, и все, что я могу тебе, дружище, посоветовать, — это держать язык за зубами…
Чуть не плача, Жан-Малыш еле доплелся до дома матушки Элоизы. Хижина была пуста, все окна и двери открыты настежь. Старушка, наверное, кого-то врачевала травами, мяла, пощипывала своими длинными, зеленоватыми, как ящеричья кожа, пальцами, выгоняя потихоньку хворь. Мысль о добрых руках матушки Элоизы согрела Жана-Малыша, и, сложив свои охотничьи доспехи, он уселся на крыльце лачуги. Морской бриз нес откуда-то капли мелкого дождя, но лучи солнца продолжали освещать деревья и травы. Сверкавшие в этих лучах мокрые зеленые листья казались драгоценными каменьями. «Странную погоду выбирают духи, чтобы посетить землю», — подумал Жан-Малыш. Под навесом соседней хижины маленькая девочка с круглыми не по годам бедрами кормила козленка, придерживая его рукой. Она давала ему в протянутой ладошке соевую кашу, которую козье чадо уплетало за милую душу, быстро-быстро похлопывая хвостиком по бокам. На эту парочку уставился проходивший мимо улыбчивый голопузый мальчуган с крупным, словно орех, пупком. Не поднимая на него глаза, девочка неожиданно бросила:
— Везде-то ты суешь свой нос, Анатоль…
— А чего такого? Мешаю я тебе, что ли?
— Мешаешь, потому что мне не нравится твоя рожа, — преспокойно заявила девочка.
— Это почему же?
— А потому, что у тебя на роже написано, что ты отродясь ничего путного не едал, могу поспорить, что ты и рыбы-то никогда не пробовал.
— Можешь быть уверена, крошка, пробовал. Я тебе больше скажу: раз в месяц у нас и свежее мясо бывает…
— А я тебе скажу, что ты брешешь, Анатоль. Говорят, на прошлой неделе у вас зарезали свинью и все мясо продали, так что тебе опять ничего не досталось. Другие-то режут скотину, чтобы и самим поесть. Что, не так?
— Говорят, говорят… Мало ли что, крошка, говорят. Я, например, слышал, что тебя однажды сам черт унес высоко в горы, затащил в жерло вулкана и даже побаловался там с тобой, а ты вроде и не очень-то брыкалась.
— Подперев кулачками щеки, девочка мечтательно протянула:
— Не брыкалась, говоришь?
— Ты точно уже не девочка, — уверенно продолжал мальчуган, — ты женщина, Эльвина, и у тебя наверняка уже есть мужчины. Ха, посмотрите-ка на эту голозадую! Сколько мужчин у нее уже было, а? Да и чему тут удивляться, при такой-то мамаше — что ни ребенок, то от другого папочки! Знаешь, что я тебе скажу? Твоя мать что хижина, которую можно покрыть любой крышей, любой соломой. К ней, бесстыжей, все мужчины так и липнут! Ну что, съела?
На какое-то мгновение девочка как будто растерялась, потом она прищурила глазки, продолжая все так же подпирать щеки кулачками, едва сдерживая ликование, переполнявшее ее всю, свеженькую и налитую, как яблочко. Наконец она произнесла, изо всех сил стараясь говорить спокойно:
— Я могла бы и промолчать. Собака лает — ветер носит. А ты хоть знаешь, почему мужчины липнут к моей матери?
— Понятное дело… — начал было мальчуган.
— Послушай, дорогой мой, — спокойно оборвала она его, — и намотай себе на ус: мужчины липнут к моей матери только потому, что она им нравится. Понял? А какой дурак на твою мать позарится? Она у тебя что прокисшая тыква, никому-то не приглянется, жди хоть до скончания века. Моей матери никогда не приходилось волочиться за мужчинами, но смотри, Анатоль, смотри, как бы твоей не пришлось…
И девочка залилась звонким, прозрачным смехом, а паренек умолк, будто поперхнулся, и поднял руки вверх в знак того, что сдается. Потом он вежливо поклонился победительнице и весело зашагал прочь, выставив вперед свой пупок-орешек. И, вернувшись к козьему детенышу, который настойчиво требовал каши, человечий детеныш затянул живой, журчащий, как ручеек, напев, скрашивавший глубокую грусть давным-давно сложенных слов:
Ушла моя мать навсегда Весь сахар с собой забрала С тех пор пополам со слезами Я горький свой кофе пила А встретитесь с нею тогда Пусть лучше не знает она Что птицей без крыл без гнезда Живет ее дочка-красаСидевшему на крыльце своего дома Жану-Малышу стало не по себе от этой сценки будничной жизни Лог-Зомби, которую он так упорно не хотел замечать все эти последние годы ради созерцания величественных лесов. Он считал, что идет по верному, достойному мужчины пути, по-своему борется в горах за счастье, как и Ананзе борется за него по-своему в долине. А может быть, он, глупый, даром терял время на крутых отрогах, полагая, что белый свет прост, как поверхность стола, в то время как под этой поверхностью лежало еще много слоев, о которых он и не подозревал. И вдруг на мгновение ему показалось, что ничто по-настоящему не удерживает хижины Лог-Зомби на этой земле, и они в любой момент могут, качнувшись раз-другой, оторваться от своих четырех каменных опор, взмыть в небо и исчезнуть так же бесследно, как стая диких уток.
Так, в полудреме, в повседневных заботах прошел час-другой: нужно было наколоть дров, выкопать клубни иньяма, нанизать на нитку целебные листья матушки Элоизы, развесить их гирляндами под потолком. Время шло к полудню, когда на краю деревни раздались крики. Дождь кончился, и от душно нагретой солнцем земли поднимался туман. Выйдя из дому, Жан-Малыш увидел: по середине улицы мерным галопом несся болотный дух, поднимая на своем пути клубы мягкой, похожей на пар пыли…
Холка Чудовища вздымалась выше ржавых деревенских крыш, а его опущенная пасть, зиявшая у самой земли, испускала глухой, могильный, леденящий душу рев. В белой дымке едва видны были силуэты людей, с истошными воплями мчавшихся к хижинам или прыгавших сломя голову в овраг. Другие застывали как каменные изваяния и, когда к ним приближалась завораживающая тварь, устремлялись к ее огромному черному зеву и исчезали в нем, мягко подхваченные ее ловким языком. Прогремело несколько выстрелов, а один мужчина даже бросился на зверя со своим тесаком, который разлетелся на куски, будто им ударили по железному боку локомотива. Сам не свой Жан-Малыш вошел в хижину, взял ружье и задумчиво опустил его ствол на подоконник. Улица была пуста, двери и окна домов наглухо закрыты, все попрятались от Чудовища, которое бежало, вытянув шею и испуская глухой рев. Его ноздри были обращены к небу, прозрачные, исполненные невыразимой скорби глаза устремлены на вершину горы. Когда оно поравнялось с его окном, Жан-Малыш хотел было просалютовать ему вторым зарядом картечи, но, к его великому удивлению, указательный палец отказался слушаться и застыл, как парализованный, на курке. В этот миг из соседней лачуги появился силуэт ребенка, парящего в неподвижном воздухе, как соломинка на ветру. Будто подхваченная вихрем, девочка, только что кормившая козленка, плавно опустилась на огромный трепещущий язык и исчезла в пасти, проглоченная заживо, целиком.
Добежав до середины деревни, Чудовище неожиданно свернуло в сторону возвышавшегося у самой дороги пригорка, засаженного сахарным тростником. Один его глаз уставился на деревню, другой — на море. И вот, оттолкнувшись от земли всеми четырьмя конечностями, будто собираясь перепрыгнуть через ров, оно взмыло в прозрачно-голубой воздух этого нескончаемого утра, вытянув в струнку хвост и растопырив в разные стороны лапы. Солнце стояло уже высоко над горизонтом, и многие жители деревни, осмелившиеся выглянуть из хижин на улицу, увидели, как Чудовище в ореоле белой, чуть желтеющей на солнце шерсти подлетело к светилу, разинуло пасть и — о ужас! — проглотило его так же легко и просто, как детишек на обочине дороги.
Ночь упала не сразу. Сперва наступили странные сумерки — так отлив на миг замирает в нерешительности, все еще кипя и пенясь, прежде чем отхлынуть в пучину. В этом мертвенном свете Жан-Малыш увидел желтое лучистое сияние внутри Чудовища, парившего высоко-высоко в черной бездне, открывшейся в уже помраченном небе…
Потом мутное пламя начало спускаться вниз и приземлилось по ту сторону вулкана, где этот гигантский светляк внезапно угас, ввергая землю в кромешную тьму…
Все сразу же поняли, что это не простая ночь, которая черной птицей спускается на мир, когда солнце переваливает через горный хребет, погружая Гваделупу в живой, теплый мрак, наполненный шелестом тысяч заветных голосов. Сейчас же замолкли все дневные звери, а ночные тоже хранили тишину, затаясь в своих норах, понимая, что их время еще не пришло. Потом потускнели и погасли одна за другой все краски, и тогда наступила настоящая тьма, скорее серая, чем черная, и все вокруг окутала густая дымная мгла, медленно отделявшая друг от друга все и вся: людей, животных, деревья и камни…
Те, кто сидел в хижинах, замерли, дрожа, не смея пошевелиться, тряхнуть головой, сделать неверный жест, который мог ввергнуть их в еще более кромешную темень, — так тонущие люди иногда прекращают барахтаться, боясь, что лишнее движение быстрее утянет их на дно. А те, кто был на улице или копался в огороде, тоже застыли на месте, находя успокоение в том, что рядом знакомое деревце, родная хижина. Но были и такие, которых несчастье застало далеко от дома: в лесу, на тростниковом поле, у реки, где они стирали белье. Они не знали, что произошло в деревне, не видели Чудовища, летящего к солнцу, даже не слышали топота его копыт.
Они подумали, что им снится невыносимо жуткий сон и надо как можно скорее и любым способом проснуться. Поэтому они сходились, ощупывали, щипали друг друга, кусали себя до крови. Некоторые начали швыряться камнями, наугад полосовали воздух своими тесаками, рубили сплеча землю, спину вола или рядом стоящего человека. Многие принялись жестоко калечить самих себя, находя в этом удовольствие, будто давно ждали случая свести с собою счеты вот так, во сне, — ведь они были уверены в счастливом пробуждении целыми и невредимыми. Как потом стало известно, в Пуэнт-а-Питре царила полная неразбериха: машины врезались друг в друга, в дома, сбивали столбы электропередач, погружая во тьму универмаги, в которых тут же начиналась паника. Большой океанский лайнер, как раз входивший в порт, протаранил главный причал, вызвав пожар на двух или трех танкерах, и почти сразу же пленка горящей нефти разлилась по всему рейду…
Суматоха улеглась с наступлением настоящей ночи, той, что приходила каждый день с тех пор, как существует мир, — прекрасной царицы-ночи, в сверкающей звезда ми шали, накинутой на плечи. И тогда люди понемногу успокоились: те, у кого была скотина, отправились ее кормить, а потом побежали к соседям, чтобы поговорить, согреть душу и прийти в себя. И, с облегчением созерцая луну, звезды, Млечный Путь, обнимавший черную красавицу-ночь, некоторые в конце концов поверили в то, что «их сиятельство солнце» взойдет завтра утром как ни в чем не бывало…
Однако многие гваделупцы, не будучи уверенными в постоянстве светила, этой ночью так и не сомкнули глаз. Особенно в деревнях, среди тех, кто считал себя навеки проклятым и постоянно ждал беды. Живя без радио и потому не зная, что творится в мире, они думали, что это их покарали за темную кожу и темную душу.
2
Всю эту ночь, ночь всех ночей, в хижине матушки Элоизы толпился народ. В ней стоял невообразимый, Дикий галдеж. Жану-Малышу не давали передохнуть, Умоляя его еще и еще раз пересказать, что он видел на болоте, как будто ждали от него какого-то откровения. Он ведь успел рассмотреть Чудовище! Ему ведь не впервой было сталкиваться с ночными горными духами, так что он, наверное, не упустил ничего важного, и поэтому надеялись они, может быть, он решится поведать, раскрыть им великое таинство. Но, поскольку малый упрямо цеплялся за факты, они начали сомневаться в его описаниях страшилища. Вскоре каждый сам придумал себе свое чудище, не хуже, чем у других. Один вдруг вспомнил, что видел на его шее золотую цепь, другой вроде бы заметил вытянутые вдоль его спины руки с раскрытыми ладонями, как бы готовые вскинуться к небу, третий утверждал, что тело твари покрывал слой тонких стеклянных чешуек, издававших хрустальный звон. А некоторые видели не корову с длинной белой шерстью, а самого настоящего демона, злого духа, силу нечистую, бесовскую, черта рогатого, дьявола с козлиной бородой и копытами, такого же сатану, какой был изображен на стене церкви Лараме над кропильницей: черный, губастый, с семью торчащими в разные стороны головами, а значит, с семью неугомонными, мятежными душами, из которых каждая по-своему утверждала зло на земле, он был сражен копьем Михаила Архангела…
Людям не сиделось в хижине: они входили и, едва выслушав других, высказывали свое мнение, затем выбегали с фонариком в руке на улицу. Так они метались туда и обратно, ни на минуту не умолкая, — сумасшедший дом, и только! Потоком лились самые невероятные слухи, их сочиняли на ходу, ради удовольствия дать выход своей фантазии, живописать нежданный кошмар. Сначала все говорили только о Чудовище, о таинственной сути этого оборотня, о том, с какой наглостью оно взлетело и набросилось на солнце. Но вот в полночь вновь зазвучало радио, и многие поспешили к хижинам, где были говорящие ящики. И когда они узнали, что происходит в мире, события в Лог-Зомби сразу же потускнели перед общей катастрофой, которая, оказывается, постигла всю землю. Париж, Лион, Марсель, Бордо — все было охвачено пожарами. В это было трудно поверить, и добропорядочным жителям Лог-Зомби потребовалось немало времени, чтобы понять, что солнце погасло для всех без исключения людей планеты, в том числе для обитателей достославных городов метрополии, которые тоже оказались свидетеля ми его внезапного, молниеносного исчезновения — так пропадает пламя свечи, если сжать пальцами фитиль. По крайней мере, сказали они себе, узнав эту новость, на сей раз не одни мы такие горемычные. Но кое-кто пожалел самую малость, правда не всерьез, но все же пожалел, что дело обстоит именно так, что горе постигло не только их на этой земле, ибо то, что сперва представилось им единственным в своем роде событием, перворазрядной катастрофой, тешащей самолюбие падких до славы душ, стало блекнуть и исчезать в черноте вселенской ночи…
Часам к двум стали приходить люди, напичканные потешными, заумными, жужжащими, как юла, словами, которых они нахватались из радиопередач; они медленно и торжественно произносили их, будто были и впрямь уверены в том, что проливают свет на случившееся. «Нет никаких причин для паники, — говорили они, нервно потирая руки. — Глупо терять голову из-за какого-то затмения, вызванного прохождением кометы через солнечный диск». А самые умные, «профессора», с ученым видом рассуждали о сотнях ракет, стартовавших в космос с задачей возвратить заблудшее светило. Радио ни разу и словом не обмолвилось, даже не намекнуло хоть как-нибудь на то, чему стали свидетелями жители Лог-Зомби. И мало-помалу все начали сомневаться в реальности Чудовища, в том, что оно пронеслось по деревне и взмыло в небо. Об этом теперь говорили как о забавной небылице, невидали, глупом кошмаре, который мог привидеться разве что дураку или пьяному, — бред сивой кобылы, да и только, россказни бездельников. Те, кто видел Чудовище, уже не смели в это верить, а те, кто еще верил, потому что на их глазах оно проглотило кого-то из их близких, боялись и вспоминать среди общего горя о своих пропавших. Может быть, их несчастье им тоже приснилось, было навеяно сказаниями, сложенными их предками? Может, они сами все это и придумали, желая убедить себя, будто и они кое-что значат на этой земле? С такими мыслями они начали потихоньку расходиться, покидая упорно стоявшего на своем Жана-Малыша, и их грустные глаза с большими дрожащими зрачками выдавали смущение, растерянность и замешательство…
Только Эгея так и не пришла. И пока соседи донимали его вопросами, перед взором Жана-Малыша все время стояла искрящаяся на солнце девочка с зажатой в руке золотой рыбкой. Он поверил в свою судьбу, ту прекрасную судьбу, которую обещал ему Вадемба, и отказался от этого сокровища, дара небесного, райского сада, ожидавшего его каждую ночь в то время, как он бестолково слонялся по горным кручам. Он всегда знал, что негр — одна из многих загадок этого мира, которая была загадкой и для него самого. И когда иной раз он слышал чепуху, которую несли жители Лог-Зомби, эти никчемные Души, любящие пустить пыль в глаза, он начинал смутно осознавать, что чрево матушки Элоизы произвело на свет великого безумца…
Вскоре Жан-Малыш остался один в опустевшей кухне, он сел за стол и, положив на него кулаки с зажатыми внутрь большими пальцами, застыл в полудреме. В соседней комнате спала с потухшей трубкой во рту матушка Элоиза: казалось, она вот-вот затянется, и из трубки заструится сладкий дым надежды. Юноша ни о чем не думал, он ждал, когда браслет подаст голос. Не сразу услышал он дробное тихое постукивание у входной двери.
— Это мы, Малыш, папаша Кайя и его дочь, мы не призраки, а живые люди, и вот пришли потолковать…
В дверях показалась долговязая, нескладная фигура отца Кайя, его дряблая голова игуаны, безгубый рот и добрые круглые глаза, которые смотрели не то чтобы растерянно, а прямо-таки ошарашенно. Жан-Малыш улыбнулся про себя. Хотя Кайя и утверждал, что он человек, выглядел он как самое что ни на есть настоящее, скитающееся между небом и землей привидение. Старик принарядился, надел белую рубашку и подобие брюк, правда тщательно отглаженных, а на ноги сандалии, выкроенные из велосипедной покрышки. Внезапно губы его растянулись и он произнес заговорщицким шепотом, будто его могли подслушать полчища недругов:
— Все идет своим чередом, да, да, именно своим чередом, и если этой ночью наша жизнь оборвется, то завтра, быть может, нам суждено возродиться… ведь чего только не бывает на земле нашей, и человек на ней что порыв ветра: налетел, просвистел — и нет его, а кого нет — никто никогда и не узнает…
Произнеся эту странную, бессвязную речь, папаша Кайя резко, будто комара, смахнул налезавшую на нос слезинку и, горестно пожав плечами, удрученный тем, что так и не нашел нужных, спасительных слов, которые могли бы отвести беду, приподнял в знак прощания руку и в мгновение ока сгинул в черной ночи…
Эгея недвижно стояла на пороге, не сводя с Жана-Малыша мягкого, кроткого, умоляющего взгляда: прошу тебя, волшебник мой, казалось, говорили ее глаза, раскол дуй землю, сними с нас злые чары. Она будто и вправду верила, что он может вернуть утерянное светило, принести его прямо в хижину и положить в подол ее платья. Но «волшебник» бессильно развел руками, и Эгея, отвернувшись, опустилась на верхнюю ступеньку крыльца. Жан-Малыш задул керосиновую лампу и сел рядом с девушкой, которая подняла лицо к звездам, будто ища в них отблеск, прощальный привет солнечного сияния…
Так, рядышком, просидели они на ступеньке крыльца всю ночь. Девушка дышала ровно, но Жан-Малыш чувствовал, что за ее крутым лбом прячется отчаяние. Он вновь вдыхал запах пряных трав и влажного песка, аромат иланг-иланга, соком которого она душилась с детства.
Несмотря на школьное платье, браслеты и гладкую прическу, временами делавшую ее похожей на взрослую женщину, она была все той же прежней Эгеей. Может быть, только подбородок стал острее да лоб круче, что придавало ей серьезность, не свойственную той девочке, которую он знал раньше. Его начинала мучить мысль о потерянном времени, и с глубокой тоской он думал: эх, горе-охотник, остался ты с носом! Вдали, со стороны морского причала, рвались ввысь клубы дыма, которые огромным желтым цветком заволакивали полнеба. На дороге возникали и исчезали тени людей, прижимавших к уху транзисторы, к ним подходили другие тени, что-то спрашивали, чем-то интересовались. Одна из теней застыла на месте, и Жан-Малыш узнал крепкого парня с красноватым лицом, со вздутым шрамом от удара прикладом, которым его угостил жандарм во дворе сахарного завода. Глаза Ананзе метали молнии, бешено прыгали в глубоких орбитах, как два скворчонка, что упорно ищут щель между прутьями клетки. Постояв так немного, парень широко взмахнул в полутьме рукой, как бы выражая тем самым безысходное отчаяние, и свое, и Жана-Малыша, и вдруг, смутившись, скривил рот и быстро исчез в звездном сумраке. Казалось, Эгея ждала этого случая, чтобы заговорить:
— Может, солнце вернется завтра…
— Может быть…
— Хотя что-то не верится, чтобы оно вернулось, — произнесла она, не глядя на юношу.
Губы Эгеи расплывались в неудержимой улыбке, и она украдкой прикрыла рукой рот, белые зубы, стараясь подавить душивший ее неуместный смех, и, хотя девушке это удалось, глаза ее блестели предательски весело.
— Эгея, дорогая моя Эгея, — с ласковой усмешкой промолвил наш герой, — что-то не верится мне, будто тебя это тревожит, у тебя, верно, не сердце, а камень…
— Не говори так. Сердце у меня не каменное, а женское, и ты это знаешь, просто женщину ничто не должно заставать врасплох…
Помолчав, она заговорила вновь, все еще не глядя на Жана-Малыша, и теперь голос ее задрожал, будто прорываясь сквозь подступавшие к горлу слезы:
— Я знала, я всегда знала, что жизнь — это не река, а океан и она никуда не течет… Ты хотя бы нашел, что искал?
— Искал?
— Ну как же, ты ведь все время где-то пропадал, все ждал, как и Ананзе, грозы.
— Да, я ждал грозы, но она так и не собралась. Только при чем тут Ананзе?
Она тоже с грустью думала о потерянных годах и произнесла, улыбнувшись, чтобы скрыть волнение:
— Ананзе ведь тоже хотел спасти всех нас…
— А ты, стебелек мой зеленый, кого ты хотела спасти?
Она опять беззвучно усмехнулась:
— Я? Никого. Я хотела только, чтобы меня спасли…
Одна за другой гасли звезды, и открывались двери хижин, и все лица жадно тянулись к небу, которое заволакивала серая, с мерными слюдяными отблесками пелена. Потом на людей и на кроны деревьев медленно спустилась вчерашняя мгла, и, прежде чем она обволокла все вокруг своим туманным тюлевым пологом, разъединяя и оставляя в одиночестве все живые существа, природа на миг испуганно примолкла.
Девушка долго не теряла надежды, но, когда серая вуаль коснулась ее плеч и плеч ее лесного друга, накрыла и разделила их, она коротко всхлипнула и кинулась прочь, к отцовской хижине…
3
Горько было нашему герою, что Эгея убежала вот так, не сказав ни слова, но вот он выжидающе замер в полу тьме: ему показалось, что он услышал в себе какой-то щелчок, условный сигнал. Может быть, сейчас и начинается обещанная Вадембой история, моя собственная, подумал он. До сих пор он мечтал только о ратных подвигах, о борьбе не на живот, а на смерть, о восстаниях, битвах во мгле и геройской смерти, ведь вроде бы это и предсказывал дед; что же получается, думал он, слегка оробев, оказывается, моя история слита с судьбами мира, с движением самого светила?
С наступлением звездной ночи он направился по горной тропе к плато, чтобы забрать свое наследство: бес ценный мушкет, который ждал его в могиле Вадембы. В мыслях он уже видел, как изрешетит Чудовище из волшебного ружья, как над Лог-Зомби, Гваделупой и всем миром вновь взойдет солнце, а он — и победитель, и побежденный — навсегда уйдет в тень, как и полагается настоящим героям. Да, да, он все это уже ясно видел, присутствовал на этом спектакле, сидя в первых рядах, как вдруг страх захлестнул его, швырнул вниз к подножию горы, с раскрытым в немом крике ртом…
Над Лог-Зомби ночь только-только вступила в свои права, а Жан-Малыш уже окунулся с головой в непроницаемую тьму. Светляки блестят в темноте сперва для себя, а уж потом для других, говорится в одной пословице; вот так-то, хотел ты вернуть людям солнце, а сам угодил в непроглядную мглу да и сгинул в ней…
Пока наш герой лихорадочно соображал, куда же юркнуло со страху его сердце, в деревне началась новая жизнь. Весь день никто не выходил из дому, двери и окна хижин были наглухо закрыты — все ждали появления луны, чтобы пойти разузнать новости, выкопать в огороде картофелину-другую или забежать в лавку и поклянчить там капельку растительного масла. А потом сверху опять опускалась серая кисея, и люди, смолкнув, спешили по домам, подавленно озираясь на безжизненный и одинокий, застывший раз и навсегда в туманном чаду мир. Даже деревья и те казались чужими — мертвые, огромные, жутковатые муляжи, которые будто извлекли из картонных магазинных коробок и, даже не сняв с веток упаковочную вату, расставили в мрачную, застывшую декорацию. Дни тянулись долго, бесконечно долго, и каждая минута была целой вечностью, за которую успевали истлеть и рассыпаться в прах человеческие тела. Радио совсем замолчало, даже птицы и те затихли, онемели. Они кружили в серой мгле вокруг коптивших светильников, и от трепета их шелковых крыльев щемило сердце. И птицы, и звери тянулись к свету и сами шли под дуло ружья, в них стреляли с порогов хижин, даже голыми руками ловили. А потом расстроился и точный механизм, который связывал все живое с небесными светилами; и вот стали исчезать, потом вовсе пропали птицы, а за ними бесшумно ушли звери, которые было спустились с гор, научившись, как и люди, обходиться вместо солнца луной…
Раз в неделю к мэрии Лараме подвозили на грузовиках из Пуэнт-а-Питра муку, сахар, керосин, вяленую треску. Продукты распределяли по воскресеньям с восходом луны. Их отпускали на каждую душу, и потому в эти дни к побережью при свете сотен факелов тянулись с окрестных гор вереницы запряженных буйволами повозок, в которых везли беременных женщин, калек и немощных стариков. Несметные толпы верующих собирались на утреннюю молитву на широкой площади перед маленькой церквушкой колониальных времен, чтобы, стоя на коленях, услышать из динамиков, развешанных на деревьях, слово господне. Сотни курчавоголовых грешников с замиранием сердца слушали проповедь, боясь, что их сейчас громогласно обвинят во всем случившемся. Но, к великому облегчению молящихся, их ни в чем не обвиняли, и святой отец, как никогда пылко проклинавший дьявола, вроде бы уже позабыл, что тот черный, и утверждал, что бог покарал весь род человеческий без разбора. Растроганная до слез толпа благодарно вздыхала. После мессы люди поднимались на ноги, стряхивали с коленей песок и становились в очередь вдоль железной ограды мэрии. Установленные на воротах прожекторы освещали внутренний двор, где под охраной солдат из гарнизона Бас-Тер стояли грузовики. Люди медленно проходили между ряда ми автоматчиков к столику, за которым сидел мэр, тот сам опознавал подходившего и ставил в своем списке галочку. Потом очередь тянулась к кузову одного из грузовиков, и там жандармы отпускали каждому его недельный паек. На лицах белых в их мундирах и черных в их лохмотьях читалась одна и та же гнетущая подавленность, и всякий раз, когда Жан-Малыш подходил к кузову, он говорил себе: до сих пор только смерть объединяла нас с белыми, а теперь еще и страх. Потом он получал нищенскую порцию муки и керосина и брел назад в длинной веренице факелов, которая тянулась от мэрии до церкви. Он не искал в толпе знакомых, безвольно отдаваясь людскому потоку, заледеневшее его сердце не тянулось уже ни к кому, кроме матушки Элоизы, только с ней он по-прежнему был ласков и добр. Позади церкви, под раскидистыми кладбищенскими фламбуаянами, не сколько бездельников шепотом обсуждали последние известия о комете. Каждую неделю появлялись все новые объяснения случившемуся, темное дело становилось яснее ясного, вот только затмение что-то уж очень затягивалось. Как-то в воскресенье, повстречавшись с блаженным папашей Кайя, который, как и все, начал было взахлеб рассказывать о комете, наш герой не сдержался и шепнул ему на ухо:
— Ну как вы можете говорить такое, папаша Кайя? Вы ведь не ныряли на дно морское и не водили там хороводы с рыбками, когда эта проклятая корова бежала через деревню?
Папаша Кайя ошарашенно глянул на него своими вечно тревожными, как у испуганной птахи, глазами и упавшим голосом произнес:
— Пожалей меня, сынок, в этой буре мы и так вот-вот пойдем ко дну, а ты хочешь еще больше нагрузить мою лодчонку. Мне известно лишь, что белые знают небо лучше, чем я — содержимое своих штанов: они летают на него в своих ракетах, они пересчитали по одной все звезды и каждую назвали собственным именем. Мне ли, Огюсту Кайя, объяснять им, что стряслось с солнцем? Ну а если совсем начистоту, так ты что же, считаешь, у нас глаза зорче, чем у других, коли мы видали, как взлетела эта штуковина, а другие — нет? Если она вообще взлетала…
Жан-Малыш устало пожал плечами: но что же мы тогда видели, папаша?
— Сын мой, — торжественно произнес в ответ папаша Кайя, — разреши мне сказать: то, что мы видели, только в бреду и можно увидеть, вот и все!
Но вот в одно из воскресений жители Лог-Зомби, спустившиеся в город за продуктами, увидели, что церковь и двор мэрии пусты и безлюдны, нигде и следа жандармов не было: все белое начальство исчезло, растворилось во мгле…
И возвратились они, сирые, восвояси без божьего благословения, с пустыми руками. Пришлось подбирать на полях оставшиеся стебли сахарного тростника, копаться в земле — вдруг еще отыщется клубень-другой. Но и сами уцелевшие растения выглядели странно, будто впитали в себя серую мглу; а что же будет с ними дальше? — думали люди, вдруг комета еще долго не захочет отлетать от солнца? Смятение нарастало, а тут еще среди паники кто-то ограбил бар тетушки Виталины и тесную лавчонку старушки Сиприенны. На следующий же день белые извлек ли из чехлов оружие и раздали его своим слугам — понимай как хочешь. Теперь никто не осмеливался и близко подойти к особнякам с порталами и колоннами, в которых, как говорили, всякой жратвы было видимо-невидимо — хватило бы на всю Гваделупу и прилегающие острова. Так что белые, похоже, умирать не собирались, и это никого не удивляло, ибо в глубине души все понимали, что если бытие черных непрочно, ненадежно, висит на тонком волоске — задень и оборвется, — то никакие грозные стихии не могли помешать белому человеку продолжать свое существование, которое благословил, сам господь бог. Тут уж действительно обижаться не на что: ведь издавна было известно — и только из-за наступившей темноты об этом вдруг позабыли, — что равны люди лишь перед смертью, что только у костей человеческих один и тот же цвет, одна и та же участь…
Те, кто прислуживал за столом у плантаторов, подтверждали перемены в поведении белых: после смятения первых дней избранники судьбы вдруг воспрянули духом — казалось, беда придала им новую уверенность. Прежде чем перейти от кофе к рюмочке ликера, они торжественно поднимали вверх палец и вспоминали о былом величии своих предков, о добрых старых временах, когда свистел на полях бич, а провинившихся рабов сажали в бочки, утыканные изнутри гвоздями. А потом они запускали свои холеные руки в допотопные сундуки и извлекали оттуда пожелтевшие грамоты, инкрустированные мушкеты, одежды прошлых веков, колокольчики с гербами, тревожно звенящие, едва дотронься, рассматривали их и, по свидетельству настороженных слуг, зловеще шептали при этом какие-то загадочные, неразличимые слова о том, что, мол, настала ночь, несущая власть и могущество, что пришло время сильным стать еще сильнее, а слабым… — но тут они всегда умолкали на полуслове…
К этому времени богатые имения, бывшие теперь под охраной жандармов или солдат из гарнизона Бас-Тер, обросли железными оградами. Как только был достроен последний метр этих решеток, в Лог-Зомби уже не знали, о чем шептались за столом белые, ибо черным слугам запретили выходить наружу. Жители Лог-Зомби следили друг за другом в страхе перед собственными потаенными мыслями. Не ясно, кто первый подхватил слова, произнесенные за ужином белыми, чтобы возвести их в новый закон. И сразу же повсюду началась смута, раздались стоны, сосед пошел на соседа, чтобы отобрать у него последнее масло, вяленую треску или керосин. Вместо того чтобы объединить всех под одной кровлей, ночь безжалостно разлучила людей, и они стали друг другу чужими, туманными, бестелесными тенями.
Слабели, беспощадно рвались душевные узы. Люди стали как дикие звери: часто в хижины, стоявшие поодаль, врывались неизвестные, забирали все, что под руку попадалось, а уходя, убивали всех свидетелей. Даже отношения между мужчиной и женщиной — и те разладились. Раньше то, что происходило между ними, было великим чудом, высокой политикой и дипломатией, тонким, изысканным блюдом, которое подавалось только в дорогой посуде. Женились на день, на год или на всю жизнь, в мэрии или позади нее, случались, конечно, и драмы, раздавались крики обиженных, несчастных женщин. Но никогда ничего не делалось без человеческого слова, по крайней мере в самом начале, без всего этого нежного, тонкого ритуала, которому учились с самого детства еще на берегу реки; а теперь можно было купить женскую красоту, девичью чистоту за стакан рома, где-нибудь в овраге, даже без тех обхаживаний, какие бывают у зверей перед спариванием… Ах, что тут говорить: зло как бы вспороло людям душу, и стало ясно, что мрак не только снаружи, но и внутри, что он очернил и сделал глухими сердца, будто были две ночи, да-да, целых две, а не одна, которые по молчаливому согласию слились воедино…
Вот до чего докатились гноящиеся жидкой чернотой души, но тут прошел слух, что белые снова берут людей на работу, но с условием, что те будут жить в загонах, как в старые времена. Они сумели заставить землю плодоносить, правда не так, как раньше, но все же сахарный тростник шел в рост. Говорили также, что всю деревню Бартелеми вместе со скотиной уже перевезли за ограду имения Арнувиль. Делалось это очень просто: приезжали грузовики с установленными на них подъемными кранами, которые легко, будто спичечный коробок, отрывали хижину от ее четырех каменных опор и ставили на широкую платформу кузова. Некоторые провидцы утверждали, что уже чувствуют зловонное дыхание воз рождающейся гнусности, но к их пророчествам не прислушивались, и почти каждый, услышав подобное, пожимал плечами и насмешливо отвечал: гнусность? Какая гнусность? Ах ты про рабство… чепуха все это…
4
Правда, первые появившиеся в деревне грузовики заставили содрогнуться от ужаса даже тех, кто до сих пор лишь насмешливо пожимал плечами. Все жители Лог-Зомби попрятались в тот день в окрестных лесах. А белые подождали-подождали да и уехали, оставив на обочине дороги три мешка муки, бочонок вяленой трески и бутыль растительного масла марки «Лесьор». Эта царская щедрость успокоила доверчивых бедолаг. На следующий день многие отцы семейств с нетерпением ждали возвращения грузовиков с зажженными фарами, чтобы кое-что разу знать у плантаторов. Когда они получили ответ, одна, вторая, а за ней и третья хижины птицами взмыли в воздух, и, сверкнув днищем, словно крыльями, опустились на платформы. Потом за ними последовали и другие. Были, правда, молодые люди из новой волны, которые призывали к сплочению, взаимовыручке, необходимой, чтобы устоять, не попасть в общем смятении в железные загоны. Пока Лог-Зомби еще существует, пока деревня не превратилась в высохшую реку, нужно положить конец дезертирству, с безнадежным отчаянием стенали они, но это были лишь пустые слова, жалкий лепет перед гробовой тишиной, перед последним вздохом на краю пучины, которая затягивала медленно, но верно…
Один только Ананзе не сдавался, с пылавшим взором и распростертыми руками метался он по деревне, будто хотел остановить неудержимый речной поток, покидавший свое русло. Со всклоченными волосами, он будто безумный хохотал в лицо всем и каждому, призывая брать приступом дома белых и истреблять в них все живое, чтобы хоть в наступившей ночи остаться хозяевами своей судьбы, сохранить хотя бы это. Над ним смеялись, говорили, что этим солнца не воротишь, что всех их перестреляют еще до того, как удастся взломать первую дверь. Одержимого такой исход, казалось, вовсе не смущал: нас перестреляют? Ну и пусть! — но при этих словах молодые в смущении отводили глаза, а старики улыбались и отвечали серыми, как окутавшая их серая ночь, голосами:
— Мы не знаем, что нас ждет, мальчик, но умирать мы не хотим, это точно, мы хотим увидеть, чем все это кончится: человек скатывается все ниже, спешит навстречу своей погибели, так посмотрим же на его падение!..
У многих скорбно сжались сердца, когда Ананзе вдруг объявил о своем намерении также подняться на платформу грузовика. Накануне отъезда на него в последний раз накатило безумие. Встав посреди деревни, он принялся поносить последними словами, проклинать все негритянское отродье, и так стоял он несколько часов подряд, не скупясь ни на угрозы, ни на ругательства, пока серая мгла не заволокла его душной ватой с ног до головы. Все подумали было, что он уже выдохся. Но после короткого молчания опять раздался его по-детски ломкий голос, который звучал в тумане тонкой дрожащей струной, еле слышным зовом из каких-то иных времен, иного мира…
С восходом луны Жан-Малыш тихо поднялся с постели в своей хижине, которая была теперь закрыта наглухо, заперта на двойной засов уже не от ночных духов, как прежде, а от потерявших человеческий облик, озверевших людей. Прополоскав рот, он надел вконец обветшавшие брюки и рубашку, тщательно выглаженные накануне матушкой Элоизой, чтобы придать им более или менее приличный вид в скорбный день прощания. Все это он проделал невыносимо медленно, бесстрастно, будто был с человеком, а машиной, заводной игрушкой. С того дня как пришла беда, в душе его воцарилась пустота, из которой он и не пытался выбраться, пустота и молчание становились его единственным уделом. Прежде чем выйти на улицу, он заткнул за пояс тесак: вдруг понадобится помочь Ананзе, если он опять взбунтуется при виде грузовиков. Потом он заглянул в соседнюю комнату. С улыбкой взглянул на матушку Элоизу, уснувшую прямо в одежде, чтобы во всеоружии встретить любые невзгоды, с большим пальцем, застывшим на чашечке вечной своей трубки, которую она, казалось, посасывала даже во сне. Отодвинув дверной засов, он ступил на асфальт дороги и взглянул вверх, туда, откуда тихо струился маслянисто-молочным дождем призрачный свет звезд, уже прожигавших то здесь, то там серую мглу…
У хижины папаши Кайя собралась целая толпа: муж чины оделись как на похороны — черные сюртуки, котелки; женщины — как на свадьбу: вуалетки, гофрированные юбки, кружева. Папаша Кайя восседал посреди целого вороха узлов и с важным видом объяснял, что белые заставили землю плодоносить, правда не так, как прежде, но все же семена прорастали под воздействием какого-то чудо-навоза, дававшего необходимый, вроде солнечного тепла, толчок их росту.
Старик разглагольствовал, тряся своей худой головой квелой курицы, глаза его светились наивной, радостной верой, и по ним было ясно видно, что не хлебнул он еще горя горького. Эгея и ее брат с озабоченным видом упаковывали последние вещи. Жан-Малыш хотел было продраться сквозь толпу, попрощаться с ними, улыбнуться в последний раз, пожать руку. Но постеснялся, вспомнив, как все они — Эгея, Ананзе и сам он — изменились с тех солнечных дней у реки, и отошел в задние ряды собравшихся. Все прошло, пролетело, и напрасными, тщетными оказались их надежды, и оружие, которое они ковали в своих сердцах, уже нигде, ни в каком сражении не сослужит добрую службу. Привстав на цыпочки, он заметил, что Ананзе смотрел на все отрешенно, насмешливо и холодно, будто сам он был лишь сторонним наблюдателем происходящей драмы. И Эгею он едва узнал в этой девушке с опущенными глазами, лениво ходившей между хижиной и асфальтированной дорогой, не замечавшей, казалось, ничего вокруг, кроме своих рук да босых, продрогших от утренней росы ног. Это была она и не она: за последние месяцы Эгея мало-помалу превратилась в незнакомку с неясным профилем, в неизвестно чье отражение в мертвой воде…
А толпа жадно следила за Ананзе, который теперь упорно молчал, — могучий подрубленный дуб. Кто-то из сверстников, из тех, кому так нравилось разглагольствовать о революции, окликнул его. Издали Жан-Малыщ расслышал, что этот малый удивлялся смиренному поведению сына Кайя после всех его пламенных речей. В ответ раздался сухой смешок Ананзе:
— Так что же тебя удивляет, братец?
— Ты меня удивляешь, — ответил глашатай новой молодежи. — Не ты ли учил нас быть хозяевами своей судьбы в наступившей ночи, и вот ты ждешь у дороги…
— Не обращай внимания…
Губы Ананзе растянулись в загадочной улыбке — улыбке, скрывавшей тайну, дьявольский замысел, который он, как всем на мгновение показалось, сейчас, откроет, намекнув на то, какая страшная участь ждет особняки с порталами и колоннами. Но его оборвал шум мотора, подползли фары, сверлившие асфальт ядовито-желтыми пучками света, который слепил глаза и погружал во тьму обочины дороги. Грузовик с платформой остановился, ехавший за ним джип погасил передние огни. Тотчас же толпа расступилась, на месте остались лишь те, кто решил испить горькую чашу прощания до дна, до последней капли. Глухо ворчали моторы. Вооруженные белые солдаты плотно окружили то место, где стояли отъезжающие, а рядом их клети с курами и сбившимися в кучу кроликами, ручная кладь, семейные фотографии в деревянных рамках. Плечо крана описало дугу; вниз полетели крюки, они вцепились в четыре угла старенькой хижины, которая поднялась с жалобным деревянным скрипом и опустилась на платформу. Жан-Малыш шагнул вперед, весь во власти воспоминаний о маленькой худенькой девочке с ласковым, иссиня-черным, отражавшим все краски дня лицом, но увидел лишь незнакомую крутолобую девушку с дремотно опущенными веками, с ядовито-желтыми отблесками фар на щеках.
Вдруг она заметила в толпе Жана-Малыша и, отступив на шаг, остановила на нем безжизненный взгляд, в котором зажглась робкая искорка благодарности и моль бы. Погрузка вещей окончилась, и папаша Кайя стал упрашивать дочь подняться в машину. Но та все пятилась, мотая головой, безвольно уронив руки; вдруг свет автомобильных фар облил ее лицо, и глаза ярко полыхнули, точно отраженный в воде солнечный закат. Наткнувшись на крыло грузовика, она вцепилась в него, и тут к ней подошел солдат. Из стоявшего позади джипа грузно вылез, яростно пыхтя и бранясь, недовольный задержкой плантатор. Но, увидев красоту Эгеи, он сразу смягчился и ласково произнес по-креольски:
— Не бойся, тебя никто не тронет, ты будешь работать не в поле, а в большом господском доме, там тебе будет хорошо, как голубке на зеленой веточке, даже лучше…
С этими словами он сжал ее запястье и потянул к кузову грузовика, словно глупую, упирающуюся телку. Казалось, Эгею вот-вот поглотит омут — запрокинув назад голову, она была уже не в силах сопротивляться. Соседи молча пялили глаза на происходящее, некоторые даже подались назад, от греха подальше. И в этот миг они в последний раз своими собственными глазами увидели Жана-Малыша, который в один прекрасный день должен был вернуться в деревню, возвратив людям солнце. Все произошло в мгновение ока. Яростно сверкнуло стальное лезвие, и далеко в сторону отлетела белая рука, все еще сжимавшая рукоятку пистолета, потом матово блеснуло дуло винтовки, и сразу же человеческая голова метнулась вверх, словно кукольная, да-да, так и подпрыгнула, захлебнувшись в багровой смерти. Эгея и Жан-Малыш нырнули в сумрак тростникового поля, а позади один за другим затрещали выстрелы и падающими звездами рас чертили небо пули…
5
Эгея опомнилась только в лесной чаще и кинулась было назад к грузовику с платформой. Ее мучила совесть, рыдая, она пыталась освободиться от нежной, но твёрдой, ласково-звериной хватки друга. Потом она успокоилась, покорилась ему и чуть приподняла подол платья, чтобы легче было идти сквозь подернутые туманом заросли. Теперь их безмолвие сливалось с густевшей мглой, волна ми серого мрака, который уже лизал им ноги. Жан-Малыш играл с ладонью девушки, сжимая и разжимая ее пальцы, и никак не мог понять, откуда вдруг возникло и начало крепнуть в нем чувство, такое легкое, как слабый вздох, такое смутное, что он не мог его описать, такое пронзительное, что казалось самой тьмой, упавшей на землю ночью…
Когда настала ночь, Эгея улеглась под деревом и заснула. Жан-Малыш не смыкал глаз, опасаясь, как бы она не ускользнула от него, не убежала к грузовику с платформой. Сидя рядом с ней, невидяще глядя в темноту, он гладил волосы любимой, спрашивая себя, что же осталось в сегодняшней Эгее от той, которую он знал когда-то. Эта ночь казалась самой непроглядно-серой с тех пор, как Чудовище поглотило солнце. Но глотало ли оно его на самом деле? Жанну-Малышу представлялось теперь, что туман выполз пепельной змеей из самих человеческих сердец, где его зародыши долго таились и никто-то их не замечал…
На следующий день Эгея покорно сняла, по совету юноши, свои широкие, цеплявшиеся за ветки серьги, оторвала от платья полоску материи и подвязала растрепавшиеся волосы. Она еще не пришла в себя после всего случившегося, ей казалось, что Жан-Малыш — выходец с того света, который явился, чтобы отнять ее у родных, увлечь в бесконечный ночной мрак. Может, и правда с ней случилось то, что когда-то с ее матерью? И напрасно Жан-Малыш клялся, что он живой, что он человек из плоти и крови: она упрямо трясла головой и молча шла по лесам и оврагам, над которыми стоял вездесущий запах прели. После третьей бессонной ночи наш герой начал бредить на ходу, он спотыкался о корни, падал на землю, будто нырял в пропасть, увлекая за собой девушку. Мертвая от усталости, та уже ничего, кроме Жана-Малыша, вокруг не видела, временами на нее находило полное помрачение, она смирилась с тем, что попала, как ей думалось, в загробный мир. И не зная, как ей, усопшей, теперь вести себя, она заунывно напевала древнюю песнь, которую раньше часто можно было услышать от стариков, когда они вспоминали о хлестких ударах бича и бочках, утыканных изнутри гвоздями:
Не видать ли там земли О спаси избавь от горя Не видать ли там земли Только море море море Эй взгляните с корабля Не видна ли там земля О спаси избавь от горя…Они вышли к реке, и тут Жан-Малыш упал и уже не смог подняться. Он полз, вонзая ногти в землю, и улыбался в забытьи, и казалось ему, будто он уже целую вечность не слышал журчания бегущей по камням воды. Вдруг он покатился по круто срывавшемуся вниз берегу и канул в беспамятство. Ему снилось, что он охраняет покой Эгеи. Когда он открыл глаза, над землей еще плыла серая мгла, но в черной вышине уже вспыхивали, пускались в пляс огни, такие яркие, что ему пришлось зажмуриться. Эгея лежала рядом и молча смотрела на него. Заметив, что Жан-Малыш проснулся, она улыбнулась своей прежней улыбкой, погладила его по щеке и прошептала:
— Это я, Эгея, ты узнаешь меня?
Одного этого взгляда хватило, чтобы рассеять ночь. Она подала ему руку, и они снова тронулись в путь, и теперь ее рука не вырывалась, спокойно лежала в его ладони; и не было больше под их ногами ни острых камней, ни колючек, они ступали по земле как по пушистому ковру…
Неделю скитались они по горам, а потом тайно возвратились в деревню, зайдя с другого берега Листвяной реки, и там укрылись меж могучих витых корней фигового дерева, которые смыкались над ними пещерным сводом. И началась для беглецов странная жизнь. Жан-Малыш хозяйничал в лесу, как у себя дома. Искал съедобные плоды и коренья, охотился на мелкую дичь, выслеживая ее по запаху, стрелял на слух — этому он научился еще раньше, на ночных горных отрогах. Петляя, как дикий зверь, переходя реку вброд, а не по мосту, чтобы сбить со следа собак, он наведывался в Лог-Зомби. Приходил он только ночью — той ночью, которую раньше называли днем, — и навещал только матушку Элоизу, потому что теперь появились такие люди, такие соседи, или, скорее, такое подобие людей и соседей, единственной усладой которых было донести на ближнего, сделать так, чтобы он хлебнул самого горького лиха…
Лесные запахи больше не влекли матушку Элоизу, и она дожидалась своего конца в родной дощатой хижине, той самой, что построил для нее покойный Оризон, что хранила сладкий аромат ее молодости, счастливых дней жизни. Обычно Жан-Малыш заставал ее сидящей на низенькой скамейке, с маской из белой глины на лице, которую она не смывала даже ночью. Если бы не этот знак траура, то можно было бы подумать, что мрачные события обошли ее стороной. Часто она говорила спокойным, счастливым голосом, который противоречил траур ной глиняной маске, странно ее молодившей: «Пусть шире разольется горе, ведь это бальзам для наших душ, но сам-то ты не очень убивайся, а если спросят, откуда берешь силы, скажи только, что плоть твоя тверже скалы, а сердце крепче железа, вот и все». Но слова эти не утешали Жана-Малыша, он чувствовал, что на мать спускается мутная пелена безумия, и, когда он подходил к своему дому и слышал песню, которую матушка Элоиза сочинила сама для себя, сердце его тоскливо сжималось — старушка заунывно тянула в одиночестве что-то вроде невнятной молитвы, часто переходя на вкрадчивый шепот будто желая поведать людям великое таинство:
Безумье о безумье в том Чтоб так уйти простясь с житьем Она младенца родила И вдруг задушен тенью свет Не ночь спустилась на поля Не сумрак нет Под тенью жизни спит земля Перешагни ее сынок Иди вперед преследуй цель Она за тридевять земель А путь твой тяжек и далекУвидев сына, она умолкала, и на застывшей маске ее лица начинали блестеть, переливаться двумя огромными каплями глаза. Часто Жана-Малыша ждал жбан с настоем из душистых трав, матушка Элоиза раздевала сына, усаживала в корытце и заботливо мыла с головы до ног, без всякого стеснения, как в прежние годы. Потом она, жадно сопя, словно дикий зверь, обнюхивала его, усаживалась на низкий табурет, попыхивала трубкой и шепеляво затягивала свою незатейливую сумрачную песнь, которая, как трубка, казалось, обволакивала ее таким же легким, душистым, быстро таявшим дымом.
Было видно, что все ее переживания, ломота в костях и даже слабые надежды остались уже далеко позади. Иногда она вдруг забывалась, вынимала трубку изо рта и изливала целый поток бессвязных слов о Вадембе; то она говорила о нем как о живом человеке, то как о покойнике, подле которого она когда-то жила, то как о непонятном создании вроде полубога. А когда Жан-Малыш высказывал свое удивление, она весело ему объясняла, что такие существа жили на африканских холмах в те далекие времена, когда сам творец ходил среди смертных по твердой земле; порой его душа переселялась в человека и тогда происходили удивительные вещи, потому что никто не мог точно сказать, был ли бог человеком или человек — богом. Она вспоминала о разных чудесах, например о рыбах, возникших из стены хижины. Пыталась повторять исполненные мудрости слова Вадембы. Но память у нее была короткая, в ее маленькой пустенькой головке застряло лишь одно изречение, наполненное тайным, непостижимым смыслом, оно никак не забывалось, непонятно почему не уходило в небытие: «Огонь наших глаз, говорил он, — должен спорить с огнем молний, вот так…»
Сказав это, она ловила губами чубук своей трубки, и ее глаза опять терялись на застывшем лице, уносились двумя воздушными шариками бог весть куда, и вновь затягивала она свою сумрачную песнь — только по этому напеву да еще по глиняной маске и можно было видеть, что ночь коснулась ее маленькой заблудшей души; тогда наш герой улыбался и говорил себе: у матушки Элоизы всегда было два сердца: одно — чтобы волноваться, другое — чтобы отдыхать от всех волнений…
Жан-Малыш уходил в непроглядную туманную мглу, брел на ощупь среди холмов, спящих, словно стада неведомых зверей, под трепещущими ресницами деревьев, а вслед ему долго еще доносились слова тягучего напева…
Когда он пересекал вброд реку и подходил к затерян ному в тумане среди корней фигового дерева убежищу, сердце его обдавало холодом тревожного ожидания, и он тихо свистел, как было словлено с Эгеей. Но дверь сразу не открывалась, нужно было еще прислониться к ней и прошептать в щелку: «Открой, моя маленькая Гваделупа, это я, Жан-Малыш, живой человек, а не привидение, открой же, я тебе что-то расскажу».
В ответ она смеялась, открывала подвешенную на лианах дверь, они жадно обнимались, ощупывали друг друга, будто не виделись целую вечность. В своем школьном платьице Эгея казалась худой, как соломинка. Но без одежды ее тело становилось упругим и налитым, и он вспоминал о девочке, которая отдавала ему свою любовь на ложе из зеленых ветвей. Горько жалел он о потерянном времени, о том, что не следил, как поднималась ее грудь и округлялись бедра, которые ему уже никогда не увидеть по-настоящему при ясном свете дня: Эта мысль не давала ему покоя, и он подносил к Эгее факел, будто хотел смахнуть пелену с ее лица, как смахивают пену с зеркала стоячей воды. Но пелена почти никогда не спадала, продолжая лежать ночным покрывалом на дорогих ему чертах девушки. Однако, случалось, даже в самой мутной мгле Эгея вдруг начинала излучать все живые, теплые, дневные цвета, и тогда вновь возвращалась к ним радость невинного детства, которую они познали в любовных играх среди листвы манго. Жан-Малыш был теперь счастлив, но то было особое, странное счастье, в полутьме, полное тихой, острой грусти. Кто знает, может быть, это и есть его предназначение — сновать челноком в вечной ночи между двумя женщинами каждая из которых любила его по-своему. Он всегда тянулся к такой жизни, и она его вполне устраивала другой он и не хотел. А что до Чудовища, деревни с её жителями и того, что творилось теперь на плантациях, то все это исчезло, как по волшебству, стало чем-то невероятным, непостижимым…
Жан-Малыш не раз слышал, что самой сильной бывает первая поросль, ее так просто из земли не вырвешь. Но, проведя несколько недель на берегу реки, он понял, что лишь второй, зрелый порыв возносит дерево до небес. Эгея пробовала сопротивляться нахлынувшей стихии, пыталась наглухо закрыть доступ в свое чрево, но все было напрасно, и вот однажды она гордо заявила, что в лоне ее проросло человеческое семя. Они стояли под сводами могучих витых корней фигового дерева. Эгея была обнажена, волосы ее пряно пахли дымом костра. Вся сияя, она взяла юношу за руку, медленно, степенно подвела его к реке, зачерпнула пригоршню воды и брызнула ею через левое плечо, чтобы течение унесло ее грехи. Они засмеялись, и тут Жан-Малыш увидел в воде, рядом с отражением знакомого лица Эгеи, странное видение, глядевшее из речной глубины: то был здоровенный детина с косматой шапкой волос. Несмотря на солидную бородку, обрамляющую щеки, лицо его казалось совсем юным, а глаза выражали удивление и испуг…
6
К этому времени в Лог-Зомби исчезла добрая половина всех домов, они перемахнули через литые чугунные ограды со старозаветными вензелями. Однажды деревню окружили солдаты, была проведена перепись оставшихся жителей: каждую душу, одну за другой, внесли в толстую книгу. Затем солдаты пересчитали последнюю скотину: сирых свиней, унылых кроликов да затравленных кур, которых теперь многие держали в потаенных ямах, укрытых пальмовыми листьями, чтобы не слышно было криков бедных животин. Никто ничего и не собирался скрывать, некоторые даже приписали себе для пущей важности то, чего у них и в помине не было. Но когда солдаты ушли, жителей вдруг охватил страх: а вдруг их заберут силой, вырвут из родного гнезда вместе с послед ними существующими и вымышленными худосочными поросятами, кроликами и курами? Правда, были и благодушно настроенные люди, которые утверждали, что это лишь досужие домыслы. Но все же беда чувствовалась всюду, ее мерзкое дыхание никого уже не удивляло, и на следующий день после переписи с десяток молодых парней укрылись в темных лесах. Вот только продержались они там недолго: уже через неделю прибежали назад в деревню полуживые, едва не потеряв рассудок от страха — ведь теперь лесная чаща просто кишела расплодившимися духами, которые так вольготно чувствовали себя на земле, будто стали ее хозяевами, безраздельными владыками…
Но спустились далеко не все. Те, кто вернулся, утверждали, что их друзей поглотило чудище, походившее на корову, да-да, ту самую, о которой столько говорили вначале, прежде чем преспокойно объяснить все проделками кометы: они видели ее издали, она вся светилась изнутри, как гигантский фонарь, так что просвечивали и жилы, и суставы…
Это происшествие изрядно напугало наших героев. Теперь они покидали свое убежище под сводом из корней только для того, чтобы расставить верши в речной быстряди и собрать поблизости дикие плоды и коренья. Порой им становилось голодно без мяса, и тогда Жан-Малыш лез на дерево и, затаясь там, дожидался, пока не мелькнет тень енота или крысы агути, которые приходили на водопой. Его пуля летела точно заговоренная и без промаха попадала в зверя, будто кто-то направлял ее в ночной мгле. Жан-Малыш и Эгея переходили реку вместе, держась за руки, и так же возвращались со своей добычей. Но однажды с другого берега раздался крик одичавшей свиньи, и сразу же дробно захрустели ветки под копытами продиравшегося сквозь чащу животного. То был лакомый кусочек, нежданный дар судьбы — бери, пока не удрал. У Жана-Малыша в горле пересохло от волнения, он довел девушку до фигового дерева, ловко укрыл ее ветвями и сказал:
— Замри и лучше не улыбайся.
— Это почему же?
— Если улыбнешься, то сверкнут зубки моей суженой — с горькой усмешкой сказал он и, отбросив тяжкое предчувствие, устремился в ночной мрак.
Прислушавшись, он сразу понял, что свинья пасется у подножия огромной адоры, ищет в кустарнике упавшие с Дерева плоды. Подкрался он, как всегда, ловко и неслышно, но в последний миг животное, насторожившись, оросилось наутек и исчезло. Это повторялось еще и еще раз, через каждую сотню метров: зверь испускал глухое ворчание и вдруг пропадал, колдовски заманивая нашего охотника все дальше в лес. Но вот после бесконечно долгого преследования Жан-Малыш выбрался на поляну и выстрелил почти в упор: животное на его глазах расплылось в узкую, дрожащую у ног полоску серебряного тумана, которая вмиг растаяла; и, стряхнув с себя наваждение, Жан-Малыш ринулся назад к Эгее, ждавшей его в ветвях фигового дерева.
Чуть позже с нависшего над рекой пригорка он увидел на той стороне реки, как раз на расстоянии выстрела, светящуюся тушу. Сметая все на своем пути, она грузно надвигалась на фиговое дерево, под которым он оставил Эгею. Он машинально вскинул ружье и послал в Чудовище свинцовую пулю, но оно как ни в чем не бывало неслось дальше. И тут ночь огласилась женским криком; Жан-Малыш стремглав, птицей помчался вперед, чувствуя за спиной судорожные взмахи черных крыльев. И не думал наш герой, мигом перемахнувший на тот берег, не знал он, что суждено ему вспоминать этот беспомощный вопль Эгеи всю свою жизнь, которую еще убелят снегопады долгих-предолгих лет, далекого-предалекого пути, что ведет за тридевять земель, — так предсказала ему бедная матушка Элоиза…
Когда он подбежал к подножию фигового дерева, то увидел лишь лоскуток платья на одной из нижних веток; он остолбенело уставился на клочок ситца, пытаясь понять, за что же злые чары разлучили его с живым телом Эгеи. Слабый стон заставил его очнуться: в нескольких шагах он увидел лежавшую навзничь матушку Элоизу, скорбное лицо которой казалось в этом полумраке совсем изъеденным морщинами. Она рассказала, что солдаты увезли на грузовиках с платформами все, что оставалось от Лог-Зомби, а сама она, не раздумывая, пошла к реке, к пристанищу Жана-Малыша. Но тут наткнулась на это проклятое чудище, которое ударило ее в грудь своим тяжелым копытом и понеслось дальше своим проклятым путем…
Она силилась сказать еще что-то, но ее глаза, как у Вадембы в предсмертный час, уже подернулись нежно-розовой пеленой, она глубоко вздохнула и хотела было выдохнуть, но не смогла…
7
Жан-Малыш поднял тело матери, пересек вброд реку и вошел в опустевшую деревню. Почти все двери были вышиблены, а о том, что здесь произошло, говорили мертвые тела, распростертые на земле рядом с охотничьими ружьями, дубинами и тесаками. Дома он положил покойную на кухонный стол, вышел во двор и выкопал могилу возле гуаявы — того самого дерева, на которое, бывало, усаживался крылатый дух Бессмертного. Потом он обмыл и убрал матушку Элоизу и опустил на ее последнее ложе, и было на ней лучшее ее платье в яркую желтую клетку и платок из той же материи, повязанный так, что три угла ниспадали ей на спину, не закрывая талии, которая до самой старости оставалось тонкой, как у осы. Наконец он вложил в ее скрещенные на груди руки трубку, будто она затягивалась напоследок…
Вокруг него сновали дневные птицы, при свете факела они склевывали червячков из свежевырытой земли. Засыпая могилу, он раздумывал о судьбе матушки Элоизы, спрашивая себя, что вдруг толкнуло ее под копыта Чудовища. Никогда он не узнает, кем все-таки была та, что лежит сейчас под землей с трубкой в руке. Вдруг он отбросил лопату, вошел в хижину и вынес оттуда все пожитки матери: ее ночную рубашку, посуду, из которой она пила и ела, деревянный гребень с длинными зубьями, чтобы расчесывать волосы, и ее любимую эмалированную кастрюлю, подаренную этим загадочным жизнелюбивым существом — Жаном Оризоном. Подумав немного, он опять зашел в хижину и, вернувшись, опустил в яму еще и большую жестяную банку; она всегда красовалась на дверном косяке на самом видном месте, чтобы все гости знали: матушка Элоиза порядочная женщина, у нее никогда не пустует банка с соленым сливочным маслом. Потом он надолго задумался, спрашивая себя, что еще могла бы взять с собой эта трудолюбивая пчелка, и понял, что взяла бы она всю Гваделупу, ту, что знала в молодости, с кусочком синего неба, желтым солнышком и зеленой-презеленой травой! Когда он понял это, его охватила великая скорбь, такая великая, что ему захотелось лечь в могилу и замереть там рядом с покой ной…
И в этот миг дрогнуло пламя факела, юношу овеял знакомый запах корицы, и он услышал в своей душе голос матушки Элоизы: мертвых, сынок, хоронить следует, Да-да, хоронить их надо…
— Все будет так, как ты хочешь, матушка, — вздохнул он.
Голова у него кружилась, он быстро засыпал яму, взял старую котомку матери, опустил туда кремень, запальник из сухого дерева, перочинный нож, тесак, моток тонкой проволоки для силков, взглянул в последний раз на гуаяву и, отбросив через плечо могильный заступ, быстро пересек деревню, вышел на заветную тропу…
Когда, еще возле реки, Жан-Малыш поднял тело матери, ему показалось, что сердце его не вынесет такой великой скорби. Теперь же, на тропе, его утешал все еще кружившийся вокруг него легкий аромат корицы. Правда, сейчас он был еле слышен, не то что возле могилы, но и его вполне хватало, чтобы не чувствовать себя одиноким. Тело Жана-Малыша налилось свинцовой печалью. Он с трудом заставлял себя идти, едва волоча ноги, поглядывая краем глаза на желтую луну, которая парила над верхушками деревьев, словно птица с распростертыми крыльями. Стояла дивная, как в добрые старые времена, ночь, ее черное лицо было осыпано мелкой пудрой звезд, которые падали и падали на склоны вулкана. И наш герой вспомнил, что матушка Элоиза называла Млечный Путь дорогой богов: боги собирали звезды полными пригоршня ми, складывали их в корзины, но некоторым звездочкам удавалось улизнуть, они падали вниз и разбивались вдребезги, превращаясь в небесную пыль.
Сбирали звезды как зерно горстями Ссыпали звезды как пшено горстями Пригоршнями — полны корзины Так женщины сбирают саранчу горстями В корзины складывают саранчу горстями Переполняя их О полные корзиныТак, подбадривая себя песней, он приподнял широкий стебель алоэ, скрывавший тайный проход, и взобрался на плато, где было то же запустение, что в долине, — куда ни глянь, одни развалины. Под старым деревом манго трава вздувалась небольшим холмиком. На метровой глубине лопата наткнулась на сидящий скелет, который держал в руках туго обтянутый телячьей шкурой мушкет. На коленях скелета покоился козий рог с черным порохом и патронташ с пулями, на вид серебряными. При виде завернутого в кожу, целого и невредимого оружия наш герой совсем было потерял голову. Воспоминание о гнусном Чудовище уже переполняло его яростью, заставив по-звериному ощериться, он готов был, как и раньше, кинуться через горы и долы с боевым кличем, когда далекий аромат корицы тонко щекотнул ему ноздри. Запах был еле-еле уловимым, почти неслышным, будто последний вздох маленькой доброй старушки, ее послед нее прощание с землей, но он сразу привел его в чувство: спасибо, благодарно прошептал он, улыбнувшись пролетевшей рядом душе, большое тебе спасибо, матушка…
Вдруг слабый шорох заставил его обернуться, и он увидел два престранных существа, которые, склонившись над ямой, наблюдали за ним. Одного он сразу узнал: то был старый Эсеб, человек с потусторонним лицом, который приходил за ним в день смерти Вадембы, он совсем не изменился с тех пор — все те же длинные штаны, те же рубаха и соломенная шляпа с ниспадавшими на плечи полями. Другой был из тех звероподобных созданий, что стояли в ту памятную ночь застывшими изваяниями возле круглой, побеленной луной хижины: старик с грузным, изрытым складками человечьим туловищем, которое венчало кабанье рыло, поросшее длинной, тревожно шурша щей щетиной. Багровые глаза вепря вспыхнули, и из его пасти раздались сдавленные, едва различимые звуки:
— Что скажешь о мальчишке, Эсеб?
— Славный парень, и явился он как раз вовремя…
— Думаешь, справится?
— Что до меня, то мне он по душе. Взгляни — это же вылитый Вадемба, если бы не этот скелетище в могиле, то я бы подумал, что старик собрался все начать сызнова. И дело не только в том, что он похож на Вадембу: посмотри, какой яростью блестят его глаза, они смотрят прямо, не мигая, они прожигают насквозь.
— Может, оно и так, но чего-то ему не хватает, уж больно он глупо выглядит.
— А мне он не кажется таким уж глупым, — с ласковым смешком ответил Эсеб.
— Дело вкуса, как говорил тот, кому нравилось обсасывать рожки улитки…
— На какого же глупца он похож?
— Ну, скажем… на того, кто хочет свить веревку из Дыма…
— Или на того, кто целует руку, которую он должен отсечь…
— Или на того безумца, которому наскучило его безумие.
Или на того, кто взялся посчитать зубы у кур и все пытался побрить их яйца.
— Ха-ха, неплохо, братец, а что, если сказать так: глуп и бестолков, как тот олух, что пошел на пруд удить зеленых кобыл, а?
И оба собеседника невесело рассмеялись, а Жан-Малыш вылез из ямы, неловко приподняв мушкет, чтобы не запачкаться густой смазкой.
— Не буду спрашивать, чему смеетесь, сразу видно, что собой вы довольны, а это главное в вашем возрасте; но мне хотелось бы знать, что вы делаете на могиле моего деда и с какой стати потревожили его имя?
— Мы тебя здесь поджидали, — спокойно произнес старый Эсеб.
— М-да, — прогремел эхом вепрь, — хоть ты и выглядишь глуповато, мы посчитали, что нам стоит тебя здесь подождать.
— Вы что же, знали, что я приду?
Старый Эсеб снова пронзительно хихикнул:
— Мы знали день, знали час, знали, как ты будешь выглядеть, как будет звучать твой голос. Но шутки в сторону, Малыш, нам пора, ведь не мы одни тебя ждали, а ты сам знаешь, что бывают такие старые макаки, которых лучше не злить.
Глаза Эсеба были преисполнены холодной, каменной тоски, и, несмотря на растянутый в улыбку стариковский черный рот, в их глубине угадывались искры неистовства. Зачарованный этим странным взглядом, юноша опустил рог с порохом и патронташ в суму матушки Элоизы и, оставив скелет на попечение звезд, послушно побрел за двумя фигурами через развалины плато.
На самом его краю, за деревьями, смотревшими на Варфоломееву гору, вокруг костра из сухого хвороста собралось с десяток ведунов, тех самых, что провели возле хижины Вадембы ночь его возвращения в страну предков. Среди этого скопища духов во плоти, нелепых созданий, которых он не успел в последний раз как следует разглядеть, Жану-Малышу особенно понравились енот-ракун и крыса-агути в человеческом обличье, огромный пес с пылающими зрачками под высоким морщинистым лбом, полным неведомых дум, и, наконец, летучая мышь — эта сидела по-кошачьи, прямо и церемонно, поводя вокруг себя красивыми глазами набожной христианки, смотревшими с ее лысого костистого черепа. Но, по правде сказать, все эти страховидные твари были ему не в диковинку. Узнав в устремленных на него диких зрачках странную неподвижность, что так поразила его во взгляде еда, когда, еще почти ребенком, он долго беседовал с ним той памятной ночью, Жан-Малыш смело, как ровня этим духам, шагнул вперед. Потом шагнул еще раз, но теперь уже мысленно, и узрел в призрачных ликах самого себя, свое отражение, которое видел в родниках, когда гляделся в них после полетов во сне, в вороньем обличье, и понял он, почему жители Лог-Зомби говорили, что у него вместо души кусок сухой глины, а старый Эсеб улыбнулся и сказал:
— Ты прав, Жан-Малыш, ты из нашей семьи…
Шепот одобрения пробежал среди собравшихся, лету чая мышь, расчувствовавшись, закурила маленькую трубку и, сделав несколько затяжек, надолго закашлялась; потом промолвила медовым голоском, который, казалось, ручейком струился сквозь щетинки на ее рыльце:
— Ты услышал голос, ты пришел и раскопал могилу, значит, ты из нашей семьи…
— Не совсем, — проворчал кто-то из-за пламени костра.
— Да, не совсем, — согласилась летучая мышь, вытянувшись во весь свой рост, — метка на лбу ясно говорит об этом, но сегодня ночью он сделал лишь первый шаг, а путь долог…
Последние слова она произнесла с таким неуемным самодовольством, что Жан-Малыш, несмотря на всю свою скорбь, не смог сдержать улыбки.
— Я не к вам пришел, отцы мои, — тихо сказал он.
Летучая мышь пошатнулась, будто задетая невидимой стрелой.
— Мы знаем это, дитя равнины, — сокрушенно произнесла она, и глаза ее сверкнули горечью и сожалением. — Увы, нас тешит внимание всемогущих сил, и, как ты уже догадался, нам нравится походить на богов. Мы даже не можем упрекнуть тебя за то, что ты решил остаться человеком: видно, таков уготованный тебе Вадембой Удел, — но стали ли мы богами?
Тут раздался хор замогильных стенаний, сквозь который прорывались яростные крики и вой, но зверюшка продолжала с жалкой улыбкой:
— Увы, всю нашу жизнь мы только и делали, что старались перещеголять друг друга в тысячах пустых проделок, которых только и хватало на то, чтобы припугнуть бедных жителей равнины. Вот и вся наша доблесть, а в это время белые глумились над нашей кровью на плантациях. Выходит, хотели мы быть богами, а вели себя как старые глупые клуши; а вот теперь эта проклятая корова царит над миром, а мы бессильны как никогда…
— Так вы знаете о Чудовище? — простодушно вскрикнул Жан-Малыш.
Услышав эти слова, все скопище съежилось, будто от невыносимой боли в животе, а старый Эсеб, которого так и распирала едкая мрачная радость, медленно взмыл, вращаясь волчком, к самым верхушкам деревьев…
Когда все поуспокоились, старик, сжавшись в комок, опустился на землю, будто сидя на облаке, и приземлился как раз туда, откуда вылетел со скрещенными ногами и развевающимися, как крылья, широченными полями своей соломенной шляпы.
— Увы, — сладко произнес он, словно продолжая раз говор, от которого его на миг отвлекла какая-то мысль, чей-то вскрик или невольный кашель. — Увы, увы, мы уже давно знали о Чудовище, но мы не послушались предостережений Вадембы: спрятали их в самую глубь души, надеясь, что не доживем до его появления, любезно предоставив другим мыкаться с этой напастью. И вот мы еще живы, а Чудовище уже здесь, оно уже наступает нам на горло…
— А откуда оно взялось, вы не знаете?
— Нет, нам только известно, что оно явилось издалека, из большого небесного Дома, где его держали взаперти с начала света: говорят, оно сорвалось с привязи и снесло ограду…
— А чего ему надо?
— Э, Малыш, за этим кроется еще одна тайна. Когда оно появилось, мы все вместе пытались разузнать его имя, понять, чего оно хочет, что задумало. Но нам, простым жителям земли, трудно постичь эту всемогущую неземную силу. Одно только говорилось в пророчестве: однажды появится Чудовище, пожирающее миры, оно будет глотать все, что попадется на его пути: людей, реки, луны и солнца, все будет попадать в него и оставаться внутри, потому что это его великая страсть — быть вместилищем миров… Ты был рядом и, наверное, заметил, что люди целыми и невредимыми исчезают в его глотке, что оно и волоска на их голове не трогает; все они живы в чреве Чудовища, но, как они там живут, нам знать не дано…
— Удивляюсь я, ведь чудище едва ли больше деревенской хижины, а вмещает целые миры, как же это у него получается, отцы мои?
— Вопрос глубокий, как лужица под щенком, — глухо прохрюкал человек с кабаньим рылом, грозно встряхнув металлически зазвеневшей щетиной, покрывавшей его грудь.
Жан-Малыш уже готов был улыбнуться, услышав острое словцо, но, взглянув на странное создание, которое созерцало его с напускным высокомерием, сдержался и продолжал тоном скрытого снисхождения:
— Я еще мал, отцы мои, и мир для меня что сундук за семью замками. И хотя я вас глубоко уважаю, но что-то в этой истории не вяжется. Великий дух может позабавиться целыми мирами, солнцами и лунами, тут нет ничего удивительного. Но что ему за удовольствие, что за радость глотать таких бедолаг, как Нестор Гальба, тетушка Виталина со всеми ее прыщами и болячками, малышка Орели Нисеор, которой и пяти лет не было, когда она исчезла в его пасти на моих собственных глазах. И еще скажите, почему такое великое чудище очутилось на Гваделупе, крошечном клочке земли, которая на большой карте мира в школе Лараме и то не была обозначена. А главное — что ему далась Лог-Зомби, наша деревенька, два шага вдоль, один поперек? О ней и на Гваделупе-то не все добрые люди слышали. Нет, правда, ведь что-то здесь не вяжется, а?
— Мальчик мой, — натянуто улыбнувшись, ответил старик Эсеб, — ты задаешь сразу слишком много вопросов, что простительно по молодости лет. Но мы-то, мы, над которыми ты в душе посмеиваешься — а в твои годы это тоже можно себе позволить, — мы всегда знали, что никаких ответов на свете не существует, что никогда не было и нет даже и намека на какой-нибудь ответ. Нам было возвещено о Чудовище, знали мы и то, что путь его лежит через Гваделупу, и само оно, конечно, знало об этом пути, ибо именно такой путь оно и избрало. Как видишь, это не ответ, это тот же вопрос, только вывернутый наизнанку. Что же до его вида и миров, которые оно поглотило, то вот тебе изнанка этого вопроса: голова человека едва больше кокосового ореха, а ведь в ней тоже помещаются целые миры, не так ли?
— Теперь я вижу, что вы мне и правда в отцы годитесь, — покорно склонившись, сказал Жан-Малыш, — а я похож на младенца, который только-только выбрался из материнского чрева; но раз так, то зачем вы позвали меня к костру и чего ждете от меня?
— На этот вопрос тоже нет ответа, — улыбнулся чело век с лицом духа. — Пойми хорошенько, юноша, многие из нас в тебя не очень-то верят: на тебя нам указал Вадемба, но вот почему, мы не знаем, и если начистоту, то нам известно о тебе не больше, чем о чудище…
— За исключением одного, — поправил вепрь.
— Да, мы знаем только, что ты из нашей семьи и идешь нашей дорогой. Потому-то мы и согласились тебе помочь, как нас просил, прежде чем уйти, наш Вождь даже если некоторые из нас и считают это бесполезной затеей, пустой тратой времени…
— Может быть, и я зря трачу с вами время, — как бы невзначай бросил Жан-Малыш. — Кто здесь только что говорил о сборище старых глупых клуш? Кто, хотел бы я знать, отцы мои?
И он, как разъяренный бык, вскочил на ноги, и горло его судорожно сжалось горечью и тоской по утерянной Эгее — ее поглотила пожирательница миров, а он занимается здесь пустой болтовней с этими унылыми созданиями. Но вместо того чтобы принять вызов, все вдруг затихли и уставились на него с нескрываемым интересом, а летучая мышь, вся трепеща и сияя надеждой, пропищала:
— Друзья мои, вы видите этот огонь, это пламя?
— Да, так оно и есть, — возбужденно прогремел вепрь, — этот мальчуган нисколько нас не боится…
А Эсеб весело добавил:
— Никакого почтения к нашим сединам…
И, повернувшись к Жану-Малышу, человек с лицом духа повел рукой в воздухе, словно в знак печального покровительства, совсем как Вадемба в свою последнюю ночь:
— Забудь же наши слова, юноша, они так же безобидны, как подмоченный порох в незаряженном ружье. В тебе течет горячая, доблестная, кипучая кровь, и жаль, что ты не хочешь остаться с нами. Но делать нечего — место твое среди людей, и сила твоя, буйволенок, кроется в великой печали, которая захлестнула твое сердце. Печаль — вот что тобою движет, уж мы-то это точно знаем; и если мы позволили себе немного подтрунить над тобою, то лишь потому, что так повелел нам Вождь, который, прежде чем возвратиться на древнюю землю, сказал: «Когда он придет на мою могилу, позлите его чуток, постучите по нему, как по барабану, чтобы услышать, как он звучит на самом деле. И если звук вам понравится, если мальчик таков, как я думаю, вскройте вену на его запястье и смешайте его кровь с кровью ворона, ибо это птица моего клана; а потом пусть идет своей дорогой…»
— Да, так он и сказал, — почтительно подтвердил вепрь.
Все остальное произошло быстро. Духи сгрудились, чтобы лучше видеть, чтобы ни одна мелочь не ускользнула от их сухих, жестких, цепких, как острые когти, глаз. Кто-то подобрал в траве большого ворона с синим отливом пера; казалось, птица была мертва, взгляд ее потух, пушинки под приоткрытым клювом свалялись. Быстрым и уверенным прочерком ножа старый Эсеб вскрыл вену на левом запястье покорно застывшего, затаившего трепет юноши. Потом он надсек птичью лапу и приложил краями одну ранку к другой, так, чтобы жилки их совпали, чтобы слились воедино человек и дикая тварь. Он вытянул вперед зажатую в ладонях птицу, будто собираясь выпустить на небесную арену боевого петуха, и произнес повелительным, монотонным и причудливо певучим голосом:
Над темною листвой Над моею головой Над алой пастью льва Расправь черны крылаИ вздрогнул комочек синеватых перьев. Пальцы чело века разжались, и ворон, даже не хлопнув крыльями, не каркнув, стрелой взмыл вверх и камнем метнулся к деревьям, которые бесшумно сомкнулись за ним. Жан-Малыш не заметил, как родилось у него ощущение полета. Без всякого толчка, без малейшей боли дух его вселился в птичье тело, и вдруг его подхватил, оторвал от земли порыв ветра, понесли ввысь крепкие, бешено рассекавшие черный воздух крылья, вытянулись вперед когтистые лапы и тугой, твердый, как стальной наконечник, клюв. На мгновение ему показалось, что все эти чудеса уже случались с ним: наверное, как и раньше, я лишь мысленно кружусь в небе вместе с птицей, подумал он, а человеческое тело поджидает меня где-то в другом мире, у охотничьего костра, и стоит мне скользнуть в спящую человеческую грудь, как наваждению придет конец. Но напрасно разглядывал он скользившую под крыльями землю: там не было ничего похожего на охотника и его стоянку, только рубашка и брюки, лежавшие в траве среди духов с ледяными глазами, чем-то напоминали фигуру человека; тогда Жан-Малыш решился лететь дальше. И, скорбно крикнув по-птичьи, прорезал небо языком черного пламени.
Отдавшись воле ветра, он набрал высоту; отсюда все на земле казалось таким пугающе крошечным, что только одно и успокаивало: стоит ему скользнуть вниз — и мир вновь обретет свои привычные размеры. Под ним проносились сплюснутые, будто на них наступил великан, леса и долы. Иногда у него захватывало дух, и он спускался к земле, жалобно вскрикивая, но не слыша самого себя потому что все звуки глотал ветер. Потом под ним разверзлась пропасть, такая же бездонная, как небо над плато, в ней изредка вспыхивали редкие огни — далекое напоминание о человеческом присутствии.
И Жан-Малыш начал понимать, почему в преданиях гваделупцы так часто «летали».
В открытом море робко мерцали фонарики мелких долбленок, а чуть дальше, Ярко горя огнями, выходили из порта Пуэнт-а-Питр суда, до бортов нагруженные плодами труда новых рабов. На мгновение замерев в нерешительности, Жан-Малыш плавно свернул к Карибскому хребту и пронесся между острой вершиной Мадлен и кратером Суфриер, чьи серные испарения застилали ущелье покрывалом желтого шелка…
Подлетая к острым уступам, громоздящимся над Лог-Зомби, он смутно различил отблеск костра посреди Верхнего плато. Но тут внимание его привлекло белое слабое сияние, будто светлячок сидел на краю того болота, где он, бывало, Подстерегал уток; в тот же миг этот вроде бы безобидный огонек изверг из себя невидимый луч, который прожег, опалил его до мозга костей…
Чуть позже, когда он оказался над самой Лог-Зомби, его удивил совсем незнакомый вид деревни, а ведь здесь каждая канавка, каждая кочка была ему такой же родной, как жилки или желвачок на его прежнем, человеческом теле; и, взмахнув в последний раз крыльями, он опустился на траву Верхнего плато среди компании духов.
Рядом с ворохом одежды лежал мушкет Вадембы, пояс, браслет, рог с порохом, котомка матушки Элоизы, перевязь которой все еще огибала плечо раскинутой на земле рубашки. Он поспешил представить себя человеком. Мир людей казался далеким, недостижимым, и он уже было подумал, что сознание птицы не способно постичь его, как вдруг подхваченный легким воздушным порывом, он переместился в тело человека, стоящего на гладких и черных человеческих ногах. И тогда, грустно взглянув на него своими бесцветными глазами, излучавшими неизбывную каменную скорбь, несмотря на улыбавшийся старческий черный рот, старый Эсеб изрек:
— Отныне, мальчик мой, ты принадлежишь к древнему, благородному роду воронов. Иди, отправляйся в свой путь, имя которому мрак и слезы, горе и кровь, и да помогут тебе боги…
8
Выслушав это напутствие, Жан-Малыш покинул сборище духов, и долго еще помнились ему глаза старого Эсеба, которые были как призыв, как тихое предостережение, как рука, опустившаяся на лоб умирающего ребенка…
Проходя мимо открытой могилы, он поклонился исполинскому скелету, и ему вдруг захотелось почтить память деда выстрелом. Он проверил затвор мушкета и обрадовался, когда боек выбил из кремня искру. Потом, насыпав в ствол немного пороху и утрамбовав его тонкой палочкой, он опустил пулю на пыж из клочка травы, как это делали старые охотники, имевшие древние ружья. Но едва он поднял ствол к звездам, как увидел в вышине лицо Эгеи, и вмиг намерение его показалось ему пустым и никчемным, как, наверное, были пусты и никчемны надежды, возлагаемые Вадембой на внука, воина совсем иных времен, готового вступить в сражение, которое, похоже, никогда не состоится. В самом деле, жизнь казалась лишь одним вечным падением, темным спуском, по которому катишься все ниже и ниже в бездонную пропасть; и, закинув мушкет за спину, Жан-Малыш покинул развалины деревни, которая выла, стонала на ветру, как гибнущий в бурю корабль…
Звезды уже начинали гаснуть, когда он приблизился к видению на краю болота, там же, где он впервые повстречался с Чудовищем. Оно лежало в высокой траве, опустив морду на подвернутые в коленях ноги, и поднимавшийся от воды туман придавал этой громадине совсем сказочный вид: казалось, дух покоится на ложе из облаков. Жан-Малыш даже залюбовался его необъяснимой, жутковатой красотой. Неслышно приблизившись, он заметил в широком ухе Чудовища пеликана — тот, похоже, тоже спал, веки его были дремотно прикрыты, а желтый мешок под клювом мерно вздымался и опадал. Электрическое излучение Чудовища почти не ощущалось, и, подойдя почти вплотную, наш герой увидел сквозь Длинные старушечьи волосы его кожу: она казалась маслянисто-мягкой, а изнутри отливала перламутром морской раковины…
Жан-Малыш обошел пожирательницу миров, приблизился к пасти и замер в нерешительности, обливаясь мерзким липким потом. В приоткрытую челюсть как раз могло пройти человеческое тело. Под блестящими ноздря ми коровы, влажными от желтовато-пенистой слюны, виднелся ряд зубов, ехидно блестевших в какой-то дьявольской усмешке. Старый Эсеб сказал, что все живое оставалось внутри Чудовища целым и невредимым, да-да, он так и сказал: целым и невредимым; и, прижав мушкет к груди, наш герой осторожно занес ногу, а потом опустил ее в глубь пасти, по ту сторону зубов…
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
Из нее вы узнаете, как Жан-Малыш очутился в стране своих предков, в которую он попал через открывшуюся в желудке Чудовища пропасть; а также о том, как он провел там свой первый день. Ох, горе горькое, беда, да и только!
1
Итак, наш босоногий герой шагнул в другой мир, который открывался за голубовато-молочными, никогда не служившими по назначению зубами, покрытыми гладкой эмалью. Он все еще стоял в раздумье, крепко прижимая к груди мушкет, когда гигантский язык под его ступней вздрогнул и подался вглубь, будто устрица, на которую капнули лимонным соком. В тот же миг приподнялись огромные веки, и он почувствовал, что мягко и плавно, будто под воду, опускается в проем между челюстями, и где-то далеко мелькнул немой вопрос: что же в конце концов произошло, сам ли я по доброй воле бросился в пасть чудища или это оно меня сцапало?
В глубине зева, распахнутого, будто церковные врата, он заметил две высокие опоры, подпиравшие свод, головокружительная высота которого никак не вязалась с наружными размерами Чудовища; он безропотно нырнул вверх тормашками в черноту желудка, беспокоясь лишь о том, как бы не выронить мушкет и котомку матушки Элоизы…
Его удивляла плавность падения. Проход беспредельно расширился, вокруг уже ничего нельзя было различить. Он широко, словно крылья, раскинул руки и мягко опускался, глядя вниз, в бездонную пропасть. Этот полет порождал удивительный покой. Глубоко, полной грудью вдыхал он свежий черный ветерок, ласкавший щеки. Вокруг роились тысячи звезд. Когда он, будто рыба в морской пучине, проплывал мимо них, они разрастались, потом вновь сжимались, совсем как медузы. То там, то здесь он смутно различал разноцветные солнца, луны, светившие только для себя, каждая на своем кусочке неба, а он все погружался и погружался в этот радужный океан, и перед глазами его маячило Чудовище, спящее на болоте, где-то там, высоко-высоко, по ту сторону искрящихся в бездонном чреве звездных сонмищ…
Тело свыклось с падением, приспособилось к нему, и в конце концов он заснул, сжимая в руках ружье и сумку, и душа его растворилась в ночном покое. Когда он вновь открыл отдохнувшие глаза, то увидел, что парит в усыпанном звездами бездонном небе. Внизу теперь плыли холмы и вспаханные квадратами поля, серебристо блестели извилистые реки. Потом он начал узнавать деревья, гваделупские деревья: пальмы, кокосы, бавольники; и, опустившись на землю в побеленной луной саванне, он радостно подпрыгнул и вновь упал в траву; он смеялся, плакал и опять смеялся, без устали терся щеками о свежую ночную траву и вдруг уловил что-то непривычное в запахе этого мира; тогда он сел и стал пристально вглядываться…
Все здесь было знакомо и в то же время удивительно. Пальмы, кокосы и бавольники, которые он заметил еще сверху, на земле выглядели как-то странно. Они казались выше, чем те, что росли на Гваделупе, было в них что-то дикое, грубое, не такое, как в родном краю. Горячий терпкий воздух, окружающая местность, расположение звезд на небе — все было непривычно, хотя Жан-Малыш нутром чуял, что мир этот ему не чужой: он вдыхал когда-то этот воздух, видел тревожный этот горизонт, таинственные созвездия на небе — не прозрачном, как над Лог-Зомби, а как бы забрызганном чернилами, какие выпускает из себя кляксами осьминог…
Он всмотрелся в приземистое дерево с раскидистой кроной, которая напоминала шляпку гриба, и произнес само по себе сложившееся слово: баобаб.
2
Всю ночь провел наш герой в саванне, вдыхая древние и новые для него запахи Африки. Иногда он ласково проводил ладонью по камню или пучку травы, и все его существо до кончиков пальцев пронизывало чувство единения с природой, ощущение того, что он так же принадлежит ей, как этот камень и эта трава. Ничего подобного никогда не случалось с ним на Гваделупе, где вокруг покрывала тонкая пелена отчуждения, где ему ручалось иногда терзаться мыслью, что он живет изгоем на родной земле. И он наслаждался этой близостью к траве, камню, впивал в себя неясные голоса, восходящие нему из земных недр. Но вдруг на него нахлынули воспоминания, и безмятежный покой оборвался с криком Эгеи, раздавшимся там, под фиговым деревом, из гигантской пасти Чудовища…
Утренняя заря осветила гряду долгих, плоских холмов, уходящих морскими волнами за горизонт. Опираясь на ружье, Жан-Малыш поднялся на ноги, медленно и боязливо огляделся вокруг. В Лог-Зомби солнце всегда вставало из-за моря, со стороны причала, и заходило между вулканом и раздвоенной горой под названием Два Соска. Вот почему юноша зашагал на восток, в полной уверенности, что встретит на пути город, вроде Пуэнт-а-Питра. Вдали начинала вырисовываться горная цепь. Рощи, встречавшиеся на его пути, редели, над низкой лесной порослью вставали гигантские деревья, диковинные звери, будто сошедшие с книжных картинок, — антилопы, зебры и жирафы — замирали, ласково смотрели на него и бес шумно кидались прочь. Все это так совпадало с его представлениями об Африке, что он было подумал: а вдруг она ему только снится, снится прямо на ходу, пока он спокойно шагает по высокой, насквозь мокрой от росы траве; а может быть, эта страна предков лишь плод воображения Чудовища, которое уготовило ему родину по его вкусу, с привычной сменой дня и ночи, с таким же, как в Лог-Зомби, солнцем. Правда, это солнце ярче пылало в небе, явственней трепетало в багровых переливах зари и гораздо больше походило на пятно крови…
Когда он обходил ярко искрящуюся в рассветных лучах рощицу, так и полыхавшую язычками зеленого пламени, перед ним неожиданно предстала одна из самых его любимых цветных картинок из книги про Африку. Опираясь передними лапами на ствол молодого деревца, песочно-желтый лев пытался зацепить когтями забившегося в развилку ветвей мальчишку. Лев был огромный зверюга с такой массивной головой, что, казалось, ее сняли с какого-то другого, еще более крупного животного. Жан-Малыш мечтательно застыл перед этим новым миражем. Мальчишка смеялся, но как-то невесело, и покалывал дротиком исходящую пеной морду льва, который всякий раз падал вниз, срывая со ствола широкие куски коры. Этому сказочному мальчику было лет десяти пряди его волос, плотно уложенные вокруг головы были перехвачены золотыми кольцами на манер короны. Жан-Малыш недоуменно пожал плечами. Он неспешно зарядил мушкет порохом и серебряной пулей, встал на одно колено и спокойно, будто упражняясь, прицелился в песочно-желтое плечо. Все замерло в звенящей тишине какая всегда воцаряется после выстрела. Повалившись на бок, зверь катался по земле, отыскивая взглядом невидимого врага, посмевшего подчинить его своей воле. Потом он прыгнул наугад и застыл в траве с широко раскрытыми глазами; а эхо выстрела все еще скакало по холмам, точно салютовало доблестному длинногривому бойцу, медленно угасая вдали.
Мальчик поправил свою набедренную повязку, слез с дерева и боязливыми шажками подошел к Жану-Малышу, отведя в сторону острие дротика. Сперва он глянул на приставленный к ноге мушкет, потом опасливо поднял глаза на пояс, пороховницу и котомку матушки Элоизы, наконец увидел лицо спасшего ему жизнь незнакомца и широко улыбнулся:
— Был бы я собачкой, я помахал бы тебе хвостиком, но я сын человека и поэтому должен сказать тебе спасибо.
Если не считать крутой, упрямо выступавшей костяным козырьком надбровной дуги, слегка затенявшей кроткие выпуклые глаза жеребенка, лицо мальчугана было округло и нежно, и под наивным взглядом ребенка Жана-Малыша вдруг озарила догадка.
— Дружок, ты как будто узнаешь меня, а ведь мы никогда с тобой не встречались под солнцем.
— Ты хочешь сказать, что ты чужестранец?
— Да, это я и хочу сказать, — улыбнулся Жан-Малыш.
— Ты хочешь сказать, что никогда раньше здесь не бывал, даже во сне?
— Никогда, — твердо ответил Жан-Малыш.
Вежливо прикрыв ладонью рот, мальчик подавил смешок.
— А тогда как же тебе удается понимать наш язык чужестранец?
К туше льва слетелись дна грифа, они холодно и нагло поглядывали краем глаза на людей. Мальчик безразлично глянул на них и лукаво продолжал:
— Хоть я еще глуп, как цыпленок в яйце, но все же скажу тебе, чужестранец, пришедший издалека, что ты очень хорошо говоришь на нашем языке; поистине правы Старейшины: странные настали времена…
— А чем же они такие странные?
Мальчик запрокинул голову и коротко, необидно хохотнул сквозь веер расставленных пальцев, потом шепнул насмешливо и притворно-таинственно:
А потому, видишь ли, что теперь мертвые возвращаются на землю.
Маленький человечек отвернулся, будто не хотел слушать никаких возражений Жана-Малыша, подошел к дереву и, подобрав в траве какой-то плод, торжественно протянул его охотнику. Казалось, его нисколько не смущает присутствие выходца с того света, который умеет говорить, шутить и, если нужно, уложить на месте, словно букашку какую-нибудь, самого царя зверей. Звали его Майяри, или Мальчик-с-прищуренными-глазами. По его словам, он получил это имя потому, что на ярком свете всегда щурился. Но, рассеянно выслушав мальчика, Жан-Малыш нагнулся к нему и повторил свой вопрос на незнакомом языке, который так свободно лился из его уст:
— Послушай, друг, ты глядишь на меня так, будто мы уже где-то встречались?
Невозмутимые круглые глаза мальчика сверкнули, и их нежный отблеск озарил незнакомца.
— Да, это так. Ты очень похож на путника, который когда-то проходил через нашу деревню, давно, очень давно, я был тогда весь с ноготок. У меня, конечно, еще молоко на губах не обсохло, но я знаю, что каков корень, таков и отпрыск, а вы похожи с этим человеком как две капли воды, потому-то я сразу тебя узнал.
— И ты говорил с этим похожим на меня духом? — с жаром воскликнул Жан-Малыш.
— Я говорил с ним, как сейчас с тобой. Он ненадолго остановился у нас в деревне, прежде чем продолжить свой путь. Мы сразу догадались, что человек этот жил давно, очень давно: ведь он, как пришел, сразу укрылся под Деревом Старейшин — так всегда поступали странники в былое время, когда белые еще не осквернили нашу землю. К нему подошел наш король и, пока гостю несли напиться, спросил, откуда он. Но дух, знавший древние обычаи, упорно молчал. Он заговорил только тогда, когда мой отец, король, протянул ему холщовую одежду, чтобы прикрыть стариковскую наготу.
— Так твой отец — король?
— Да, король Эманьема, — удивленно ответил мальчик, будто все на свете должны были бы это знать.
— А что сказал этот блуждающий по миру покойник? Ты помнишь его слова, дружище?
— Он по-старинному поблагодарил отца и сказал, что в родной деревне у него будет столько одежды, сколько он пожелает; потом он поцеловал отца в плечо и ушел, чтобы уже никогда не возвратиться.
— А назвал ли он свое имя?
— Нет. В тот день он больше не вымолвил ни слова, оставив нам на память лишь блеск своих глаз. Но зачем тебе его имя, разве ты сам его не знаешь лучше меня?
— Да, это так. Я только хочу, чтобы ты меня отвел к нему.
— Вот этой-то просьбы я и боялся, путник…
— Почему?
— Потому что этого духа уже нет на земле, — ответил мальчик, с ласковым участием опустив ладонь на руку Жана — Малыша.
— А в его деревню ты смог бы меня отвести?
Мальчик молча затряс головой, а его глаза за тяжелыми веками с короткими густыми синеватыми ресницами вдруг стали сонными.
— Лучше пойдем ко мне, — наконец произнес он, опасливо поглядывая на далекую гряду холмов, которые, казалось, зорко следили за ними издалека. — Послушай, друг, ты прошел долгий путь по подземным владениям: почему бы тебе не передохнуть, не отведать нашего кислого молока?
Поднялся сухой, жгучий ветер, пресный ветер, лишенный запаха йода и соли, и герой наш впервые почувствовал, что океан отсюда далеко; ветер толкал его прямо в грудь, и Жан-Малыш представил себе, как его тугая струя бьет в зияющую на месте сердца, открывшуюся между ребер брешь.
— Дружище, — с трудом произнес он, — я проследил за твоим взглядом и думаю, что найду правду, которую ты от меня прячешь, по ту сторону холмов.
— Правду ты найдешь на острие копья, но хоть не проси меня нанести тебе этот удар.
— А чья же рука нанесет мне его мягче, чем рука друга?
Глаза мальчика опять уснули, поплыли в забытьи под сенью век с короткими крылышками синеватых ресниц; потом к губам его проворно сбежала слезинка, которую он, не задумываясь, быстро слизнул, и Жан-Малыш понял, что под небом предков ждет его горькая правда.
— Те, из его родной деревни, убили его, — горестно промолвил маленький человечек, — они пронзили стрелами Вадембу…
3
Далеко, у самого горизонта, Жан-Малыш различил несколько хижин, спускавшихся по туманному склону одного из холмов. Они были точь-в-точь такие, как жилище деда: круглые белые ульи, покрытые колпаками соломенных крыш, из-под которых, казалось, вот-вот вылетят пчелы. И вид этих хижин, столь похожих на жилище Вадембы, глубоко потряс нашего героя; они смутили, удивили больше, чем все остальное — антилопы, газели, жирафы; он будто превратился в тот сказочный ручеек, которому удалось вскарабкаться вверх на гору, чтобы узнать, откуда он берет начало.
— Это твоя деревня? — спросил он тихо.
— Нет, там живет только мой отец, а всей деревни отсюда не видно…
Мальчуган повторил умоляющим голосом:
— Ну неужели чужестранец не хочет немножко отдохнуть, отведать нашего кислого молока?
— Я хочу туда, за те холмы, — ответил Жан-Малыш.
— Тогда, — подумав, заявил мальчик, — я провожу тебя до границы земли моего племени, потому что нынче не старые времена, когда по дорогам можно было ходить смело, ничего не опасаясь. Ты вырвал меня из львиных когтей, и если уж тебе суждено быть убитым, то я не хочу, чтобы ты погиб от руки моих собратьев…
Они долго шли саванной, потом спустились в сухое, тенистое русло мертвой реки, вспугивая несметные стаи пронзительно кричащих птиц. Густые заросли сухой осоки и тростника, льнувшие к прибрежным деревцам, говорили о былых разливах. С глубокой грустью смотрел наш герой на эти блеклые речные волосы, ему казалось… ну как бы вам, молодым, чьи спины не знают хлыста, объяснить получше?., ему казалось, что это русло в сыпучем песке, жухлой траве и колючих кустах проложено через его сердце…
Какое-то время спустя Майяри, смерив взглядом высоту солнца, начал карабкаться на берег, цепляясь за корни Дерева, ствол которого низко навис над сухим руслом. Утренний ветерок уже задремал, и листья недвижно замерли, тщетно ожидая нового дуновения. Но вот возник шорох, приглушенный шепот, который ни с чем не спутаешь, — то были человеческие голоса; и добровольный изгнанник улыбнулся: уж кто, как не он, старый лесной скиталец, знал, что высокая трава может поглотить саму куропатку, но не ее посвист. Вдруг впереди, в открывшемся просвете, показался человек с колчаном через плечо, в длинных, до земли, одеждах, пышно-белых, будто платье невесты. Загородив друга, мальчик произнес задорным пронзительным, далеко слышным вокруг голосом: «Кто закажет маленькой звездочке подружиться с луной?» Но улыбка не скрыла его затаенной тревоги, и Жан-Малыш понял, что сын короля прикрыл его, как щитом, своим телом. Стоявший перед ними воин пытливо глянул на неизвестного странника, низко поклонился и исчез, будто растаял. Чуть позже послышалась гулкая, певучая рос сыпь тамтама; то был не праздничный, не танцевальный ритм, и Майяри коротко сказал:
— Оповестили деревню…
— А что говорит тамтам?
— Он говорит: к нам пришел друг…
И вот мощная волна дробного боя, яростная, как пожар в сухом тростнике, разом захлестнула всю равнину, захлестнула — и тут же отхлынула, потом поднялась снова, уже чуть дальше, потом еще и еще дальше, и так докатилась до самого горизонта, а там, точно оса в свирепом стремлении вонзить жало во врага, забилась в неистовом переплясе.
— А теперь о нас оповестили на том берегу реки, на земле племени Сонанке.
— А что говорит тамтам на этот раз?
— Он говорит: к нам идет чужестранец с лицом Вадембы…
Уже не глядя вокруг, Жан-Малыш отрешенно следовал за маленькой, пробиравшейся сквозь заросли фигуркой, увенчанной десятками ярких золотых колец, каждое из которых отражало свой лучик солнца. Твердая душа, железное сердце да сухие, не ведающие слез глаза — вот что нужно человеку в жизни, думал он, посмеиваясь над самим собой, над судьбой своей, занесшей его невесть куда, заставившей скитаться между двух одинаково призрачных миров. Вдруг мальчик остановился, и, поравнявшись с ним, Жан-Малыш увидел реку, что текла по открывшейся внизу долине. Посреди потока виднелся маленький островок, напоминавший своими очертаниями лодку; на другом берегу вставала густая, непроглядная чаща.
— Этот островок никому не принадлежит, — сказал мальчик, — мы зовем его Лодкой богов. А по ту сторону реки начинается земля наших недругов, и, если ты ступишь на тот берег, где покоятся их предки, я больше не отвечаю за твою жизнь.
— Зачем им нужна моя жизнь? — спросил Жан-Малыш.
Ничего не ответив, мальчуган спустился к берегу реки, разделся и вошел в воду, вытянув над головой руки с зажатой в них скомканной одеждой. Вода дошла до его плеч, потом до рта, вот она поглотила золотые кольца на его голове, и на виду остались лишь поднятые руки. Прошло несколько бесконечно долгих секунд, и вот, как по волшебству, из воды вынырнули золотые кольца. Жан-Малыш разделся и последовал примеру дрожащего лягушонка, который тем временем выбрался на песчаную отмель островка и теперь обсушивался совсем как дети Голубой заводи — быстро-быстро стряхивая воду с тела ребром ладошки, так что брызги летели веером во все стороны.
Посреди островка скалы обступали небольшой намыв мелкого песка, который походил на муку — не на дранье какое-нибудь, а на крупчатку самого тонкого, бархатного помола. Майяри накинул на бедра повязку и сел на мягкую песчаную подушку, сел, выпрямил спину, положил на колени раскрытые ладони и на миг застыл как изваяние; потом его еще влажные губы недовольно надулись:
— Ох, ох, ох, ну просто слов не нахожу, до чего же меня злит твое упрямство! Ну отчего ты отказываешься от моего гостеприимства? Ведь на том берегу все какие есть копья будут направлены против тебя. Посмотри: солнцу осталась целая ладонь до захода, и если мы пойдем быстрым шагом, то засветло дойдем до моей деревни…
С тихим журчанием река омывала длинный нос островка. Наш герой вспоминал о том, что рассказывала ему матушка Элоиза про Африку — эту великую землю, которую боги избрали своей обителью. Успокоенные ленивой неподвижностью людей, вокруг закопошились звери и птицы, из зарослей чужого берега высунулась маленькая обезьянка с двумя висящими на ее животе детенышами. Эта славная зверюшка осторожно раздвинула кусты и на мгновение застыла, вытянув вперед совсем человеческие губы, принюхиваясь, словно оценивая опасность. Ее насторожил какой-то только ей слышимый шорох, она быстро убрала свою ласковую мордочку, и ее тайна осталась за сомкнувшимся зеленым занавесом.
— А теперь скажи мне: почему на том берегу меня ждет смерть?
— Тебе очень-очень нужно это знать, чужестранец?
— Даже больше, чем очень, — улыбнулся Жан-Малыш.
— Так узнай же, что твоя смерть привязана к смерти Вадембы так же крепко, как обезьяньи дети к своей матери…
Майяри замолк, казалось, он сосредоточенно пересчитывает желтые песчинки, листья на деревьях, последние блики заката, танцующие в реке. После долгого молчания он поглядел окрест, сверкнув дрожащими искрами золотых колец, и опустил покорные, влажные от пота веки в знак того, что сдается, складывает оружие перед безумием чужестранца.
Да, она привязана к смерти Вадембы, твоя смерть, потому что одно событие всегда порождает другое, так учит наш король. «Тот, кто умеет смотреть, тот видит, что стрела, поразившая Вадембу, была на самом деле выпущена еще до того, как он родился» — так сказал мой отец, — закончил мальчик, ласково обведя взглядом Жана-Малыша, словно извиняясь за свои слова.
— Прошу тебя, мой милый жеребенок, скажи, а когда же была выпущена эта стрела?
Услышав это, сын короля степенно повел головой, как бы одобряя мудрость того, кто смог понять, догадаться, что ответ кроется в начале всех начал; раздув ноздри, он набрал побольше воздуха в грудь и начал тягуче, нараспев, как ученик, назубок выучивший свой урок:
«Истинно говорю, было так: стрелу выпустили еще до того, как он родился: в начале всех начал, когда яйцо, из которого позже вышли Сонанке, покоилось еще в недрах земли…»
Рассказ Майяри, или
История стрелы, сразившей Вадембу
Далеко-далеко, за тридевять земель, жил-был король, который потерял оба глаза в сражении с врагами: так-то вот. Сражение это он проиграл, его народу пришлось бежать в чужие края, и привиделся королю во сне дух, который обещал отвести изгнанников на новые плодородные земли, которые он, король, узнает — как бы вы думали, почему? — по запаху…
И пошли они вослед за своим королем, подгоняя уцелевший скот. И вот однажды король зашатался как пьяный, и на этом месте разбили лагерь. Его волшебный нюх указал людям границы нового королевства, которое даровали им боги. Прошли годы, родились на этой земле дети, потом дети этих детей, и вот пришел в эти края еще один безземельный народ. Так случилось, что в новом сражении слепого старца и горстку его воинов окружили мертвым кольцом враги. Лишь несколько локтей отделяло их от острых копий. Уверенные в успехе, враги уже били в барабаны победы, и их крики и свист раздирали душу, да-да, раздирали душу! И тогда слепец сел на землю, приказав всем последовать его примеру. Он сидел и молчал, потом встал и сказал: идите за мной и не бойтесь — королей так просто не убивают. И он пошел с высоко поднятой головой прямо на смертоносные копья, крича: расступитесь, дайте дорогу королевской крови! И расступились враги, дали ему дорогу, и вышел король из окружения, как зверь из тенет, и укрылся на вершине горы с оставшимися в живых подданными и уцелевшим скотом…
Так все начиналось: стрела еще не выпущена, но тетива уже натянута…
Убив корову, колдуны взглянули на ее внутренности, так-то вот, и возвестили, что только новая песнь может дать народу новую силу: да, так они и сказали. И выточил мастер трехструнную кору. О пророчестве оповестили членов королевской семьи, и колдуны отвели их к слепцу, чтобы принести в жертву и напоить свежей кровью еще чистую душу коры. Одного за другим брал их король за волосы и направлял бьющую из горла алую струю на струны коры. Но когда пришел черед его последнего, младшего сына, то оказалось, что мальчик убежал, и сказал тогда король: ну, хватит, хватит на сегодня! — ибо силы уже покидали его. Он взял в руки обагренную кровью кору, тронул пальцем струну, но раздалось лишь жалкое дребезжание. Тогда колдуны сказали: хватит, да не хватит, повелитель. И к вечеру приволокли к слепцу его младшего сына, которого нашли в густом подлеске. И напоенная кровью ребенка, послед него, кто родился от бесценного королевского семени, сладко запела кора, и с языка короля слетели неведомые слова. То была песнь о ратных делах таинственного заоблачного народа — Небесных Воинов, что нападали на людей, ибо находили радость в их страдании. На следующий день слепец пропел эту песнь перед всем своим племенем, и тогда воскликнули воины: о король, веди нас к чужим народам — мы пожрем их! И в этот миг не стало прежнего племени, и в этот миг родилось новое, которое назвалось Сонанке, что на древнем языке значит «пожиратели»…
И со зловещим свистом, от которого затрепетали все соседние племена, вылетела стрела: Сонанке, которые прежде были дичью, сами стали охотниками, и целые королевства рушились на их пути, целые поколения уходили под землю. Слепец перебирал струны коры, и кровь его детей требовала все новой крови, и не было конца людскому горю. И случилось так, что после смерти короля кора продолжала петь сама по себе, и Сонанке не свернули со своего пути, шли напролом, как всепожирающая туча саранчи. И так продолжалось тысячу лет, пока кора не рассыпалась в прах. Это случилось, когда они оказались в здешних краях, меж рекой Сеетане и излучиной великой реки Нигер. В те времена здесь жил народ, и у него было свое имя, свой язык, свои древние, как горы, предания, — то был наш народ. Сонанке принялись нас пожирать. Но, поняв, что больше им идти некуда, что сама песня коры обратилась в прах, они решили поработить нас, наступить нам на горло, и вот их обычаи стали нашими, и мы забыли даже свое имя. Поэтому с незапамятных времен и даже еще раньше того нас называют Низкими Сонанке — отпрысками, жалким отродьем настоящих Сонанке. Мы оставались на своей земле, но плоды земли этой принадлежали им, и чрево жен наших тоже принадлежало им, и мужчины наши защищали их королевство. Правда, нынче все это лишь слабое эхо ветхой старины, мы давно уже сбросили иго. Но до сих пор почитаем мы их богов, строим свои хижины так, как строили они, ибо ничего, ничего не помним о том, кем мы были когда-то на этих вот землях: дети мои, вы слышите свист летящей стрелы в небе?..
— Слышу, — прошептал Жан-Малыш, — нутром своим слышу я свист этой стрелы, но мне не ясно, куда она летит, и… кажется, я схожу с ума: неужели у этих людей, что обратили вас в рабство, была черная кожа?
— Конечно, черная, — ответил маленький человечек, нахмурившись, — но при чем здесь цвет их кожи?
— Я, наверное, рехнулся, у меня в голове все перепуталось. Я ясно вижу стрелу в небе, но не пойму ее цель: что же получается — негр сам себя заковал в цепи?
— Что за странное слово? — спросил Майяри, почесав за ухом. — Не наше слово, такого нет в нашем языке.
— О каком слове ты говоришь? — удивился Жан-Малыш.
— О слове «негр».
Жан-Малыш долго смотрел на мальчика и, когда, наконец, понял, что тот не шутит, сказал:
— Брат мой, мой далекий брат, живущий по эту сторону большой воды, забудь мои слова и продолжай свою историю, прошу тебя.
— Брат? — недоверчиво повторил африканец, и, опустив веки, отрешившись от всего окружающего, он продолжил свой рассказ тем же тягучим, напевным голосом примерного ученика, детским и в то же время странно взрослым — верно, голосом самого короля, его отца.
Минула еще одна тысяча лет; так-то вот. Одно за другим сменялись под солнцем поколения и на том, и на другом берегу Сеетане. Но всему когда-нибудь приходит конец: повадился кувшин по воду ходить — там ему и голову сложить, то же самое и произошло с появлением на побережье белых людей, так-то вот.
Еще раньше Сонанке продавали некоторых наших людей торговцам, а те отправляли их в такие дальние дали, затерянные за тридевять земель, что несчастные уже никогда не находили дорогу домой. Они продавали тех, кто им не нравился, тех, кто смотрел на них косо, и тех, кто клял их за глаза. Но когда появились белые, торговцы живым товаром налетели как саранча, и потянулись к побережью длинные вереницы рабов, которые исчезали за морем бесследно, навеки пропадали с глаз, будто сходили в Царство Теней: вот тогда-то кувшин и разбился…
Однажды приказали одному из наших парней добыть антилопу. И когда он возвратился с охоты ни с чем, хозяин высек его и на ночь забил в колодки. На следующее утро, сняв колодки с его ног, хозяин снова послал его за антилопой, и тогда парень ответил, затаив хитрость, о которой никто не догадался: уж сегодня-то я не промахнусь. Но опять он возвратился с пустыми рука ми, и, когда хозяин уже шел к нему со своей плетью, парень поднял лук да и уложил его наповал. А после этого воскликнул: «Вот так!» Он откинул лук и сказал бросившимся на него близким убитого: отойдите, я не птица — не улечу. Ему выкололи глаза, забили в ноздри деревянные клинья, и те соплеменники, кто видел его муки, плача говорили: скорбит небо и истекает дождем слез, — горе заливает нашу землю. И был среди них один древний старец по имени М‘Панде, седой, как морская пена. Когда не стало молодого охотника, он в раздумье отошел в сторону. То был мудрый человек, много посеял он за свою жизнь семян разума, из которых выросли прекрасные сады. Поразмыслив немного, он возвратился к соплеменникам и сказал:
— К чему эти слезы и крики? Никто их не увидит и не услышит. Ведь мы забыли своих богов, забыли свой язык, даже имя свое — и то забыли; от кого же нам ждать помощи?
И ответило ему родное племя: мы ни от кого не ждем помощи, но мы не в силах сдержать слез…
И сказал им М‘Панде, тот, кому суждено было стать первым королем Низких Сонанке:
— Сегодня я не стану плакать вместе с вами неужто вы не видите, что слезами горю не поможешь что пора нам осушить глаза раз и навсегда, сменить их на другие?!
И кто-то насмешливо спросил Старика:
— А голову нам тоже нужно другую?
— И голову тоже сменить не мешает, — сказал М‘Панде.
— А утробу?
— И утробу тоже.
— И сердце?
— И сердце, — ответил М‘Панде.
— А что же от нас тогда останется?
— Ничего, ничего от прежних нас не останется, — заключил М‘Панде.
И возрадовался весь народ таким словам Старца, ибо уже невмоготу ему было терпеть самого себя.
— А ты уверен, что так и надо, отец?
— Уверен, — ответил М‘Панде, — потому что только двое на этой земле знают истину: тот, кто бьет, и тот, кого бьют.
И сразу же высохли все слезы, и началась война. Народ без бога, без языка, без имени на челе своем изготовился к битве, как леопард к прыжку, и вскоре запахло по всей стране кровью. А когда на время утихали битвы, родственники павших подходили к берегу и через реку осыпали друг друга проклятиями. А потом вступили в схватку и сами Тени погибших. Выходили они из своих подземных чертогов и схватывались в воздушных сражениях, и были те сражения свирепее земных, и поднимали они до самых небес зловещие пылевые смерчи. И покрылись бескрайние равнины белеющими на солнце скелетами. Казалось, сама земля принялась пожирать своих обитателей, да-да, пожирать, и на обоих берегах реки заговорили о том, что так скоро никого не останется, что пора растить новых воинов…
Тот, кто принес людям мир, был невиданно высокого роста: таких теперь нет. Он принадлежал к племени Сонанке и умел превращаться в ворона, ибо служил посланником своему королю, — так что колдовство здесь было ни при чем. Однажды этот человек потихоньку надел свои крылья и, перелетев через реку, опустился как раз посреди хижины М‘Панде, первого короля Низких Сонанке. Там он вновь обрел человеческий облик и уселся двери. Увидев его, телохранители короля на миг оцепенели. Потом они спохватились и взялись было за мечи, чтобы убить врага, но тут появился король и протянул ему чашу с водой. Человек молча выпил, и король воскликнул: вы видели — он испил моей воды! Потом король протянул человеку блюдо с мясом, тот взял мясо и спокойно съел. Тогда сказал король своей страже: вы видели — он испил моей воды и не отказался от куска мяса под крышей моего дома, так кто же мы — люди или пожиратели людей? А потом он, обратившись к гостю, спросил, что привело его на этот берег реки, и знатный Сонанке пожал плечами:
— О король, как сделать, чтобы вы нам простили ваше тысячелетнее рабство?
Старец с волосами цвета морской пены удивился и сказал:
— Венеру всегда видно рядом с Луной, но это ведь не означает, что она у нее в услужении. А теперь я хочу спросить тебя, уважаемый гость: как сделать, сын мой, чтобы вы простили нам мятежный отказ от рабства?
— Твоя правда, — сокрушенно ответил незнакомец, — ни мы, ни вы ничего не можем поделать, а значит, умрем все до последнего…
— Кто послал тебя? — тихо спросил король.
— Я сам себе посланник.
— Может, ты услышал чей-то голос? — взволнованно произнес король, и, когда пришелец отрицательно качнул головой, старый М‘Панде уселся напротив гостя и надолго задумался.
Потом, с просветленным лицом, он приказал привести шестьдесят двухгодовалых быков и сам проводил врага своего племени до реки Сеетане, чтобы с ним ничего не случилось по дороге. Незнакомец перешел реку вброд, за ним — стадо, которое воины гнали к другому берегу, и ни один волос не упал с головы пришельца. Вот так и кончилась война между Сонанке и их бывшими рабами, кончилась, хотя никто не объявлял мира. С тех пор только воины-одиночки, прячась в лесных зарослях, пересекали иногда ночью реку и, пока их не убивали, уничтожали все живое на своем пути. Но то была неизбежная дань прожорливому зверю войны, и эти кровавые дела безумцев не нарушили перемирия, которое длится по сей день — эйя, эйя! — на этих вот холмах…
Кстати, сказал я или нет, что человека, прилетевшего к нам вороном, звали Гаор? После этого происшествия его нарекли Н‘Дасавагаором, что значит «Я-сам-себе-посланник», и слава о нем на обоих берегах стал такой громкой, что она оскорбила гордость короля Сонанке. И тогда король приказал своему колдуну убить его, и тот исподволь извел душу этого человека, а потом уничтожил всю его семью и лишил корней будущее Н‘Дасавагаора: продал единственного его ребенка, десятилетнего сына, проходившему мимо каравану работорговцев. Мальчика звали Вадемба, и продали его сто сорок и еще пять дождей тому назад, а некоторые говорят и того раньше. Вспомним же об отце, вспомним о нем, чтобы его имя распростерло крылья над этим королевством. Но не будем забывать и о сыне, о том, кто так долго блуждал среди теней под землей, под бескрайним океаном и вернулся в родную деревню, чтобы быть в ней подстреленным, как бешеный пес, — эйя, эйя! — на этих вот холмах, да будет вечной память о героях…
Над деревьями, в струях прозрачного, начинавшего меркнуть воздуха вытягивалась дрожащей пеленой темень. Она расползалась неуверенной зыбью, словно широкая приливная волна, которая то вытянет, то уберет свой пенистый язык, медленно поглощала дневной свет, пока не затянула весь небосвод сплошным мрачным пологом. Казалось, все замерло, нерешительно застыло в ожидании гласа тьмы. Но вот, испуганно вскрикнув, над водой пронеслась птица. И вдруг тысячи резких ночных, пробудившихся враз голосов разорвали воздух. Ладони Майяри скользнули вдоль щек, открыв полные скорби глаза, выпуклые и прозрачные, как голубиные яйца.
— Видишь ли, Сонанке считают, что рабство — это заразная болезнь вроде проказы, и тот из них, кто попадает в руки врага, пусть хоть на час, уже не может вернуться в свое племя. Ибо кровь его отравлена навсегда — так они говорят…
И он закончил тоненьким голоском, опять по-детски ласковым и наивным:
— Ну что, пойдешь на тот берег?
— Завтра отвечу, завтра, — бросил Жан-Малыш и упал ничком на песок, будто в пропасть, что открылась в чреве Чудовища.
И сразу же он увидел тоненькую обнаженную Эгею с золотой рыбкой в руке. Она с улыбкой выходила к нему из Листвяной реки, шла, но почему-то не приближалась, шла, не двигаясь с места, и шептала неразличимые слова…
И тут ее подхватил, словно соломинку, свежий ветер, и она исчезла, растаяла у самого горизонта: светало…
4
Оказавшись на другом берегу, Жан-Малыш увидел узкую звериную тропу, прорезавшую зеленую стену. Он обернулся назад и махнул рукой оставшемуся на Лодке богов мальчику. Косой луч солнца слепил Майяри, который прикрыл глаза козырьком ладошки и еле слышно повторял голосом, глухим от страха и ветра:
— Прощай, братец, прощай, и да хранят тебя духи предков!
В тот же миг за стволом дерева скользнула человеческая тень и послышался первый раскат барабана…
Долго шел Жан-Малыш через лес, где каждое дерево пожирало его глазами, старалось схватить лапами ветвей, пока не вышел на разом открывшуюся равнину, похожую на ту, что он пересек накануне по ту сторону реки. Вдали, меж голубыми скатами холмов, виднелись знакомые остроконечные соломенные крыши круглых белых хижин. Над ними вяло клубились, тотчас расплываясь на ветру, слабые дымки. Пока он шел к деревне, та на его глазах пустела: маленькие съеженные фигурки выбегали из домов и прятались в зарослях высокой травы, так что встретило его одно только блеяние коз, которые рвались с привязи, чтобы удрать вслед за хозяевами.
Вблизи хижины мало чем напоминали жилище Вадембы, которое по сравнению с ними показалось нашему герою таким убогим. Они были нарядны, как невеста на свадьбе, сверкали свежевыбеленными стенами, красовались резными деревянными колоннами по обе стороны дверных проемов. Казалось, каждая хижина старается перещеголять пышным убранством своих соседок, будто все они шествовали на бал по чистеньким улицам, окаймленным карликовыми пальмами. Бродя среди этих сказочно красивых обиталищ, Жан-Малыш невольно сравни вал их с лачугами Верхнего плато — те представлялись ему теперь жалкими бабочками с тусклыми, помятыми крылышками, от коих остались после всех передряг в чужом мире одни только прожилки. Вдруг нос его учуял знакомый запах. Он исходил из глиняного горшка, постав ленного прямо на раскаленные угли очага, устроенного под открытым навесом; две-три миски из тыквы, стоявшие рядом, говорили о том, что семья собиралась обедать, когда услышала о приближении незнакомца с лицом Вадембы. Жан-Малыш приподнял крышку и узнал блюдо из стеблей гомбо, тушенных с солеными потрохами и посыпанных сверху пряной травой — точно так же, да-да, точно так готовили его в Лог-Зомби. Жан-Малыш уселся у очага, положил себе немного еды в миску и принялся есть; глотая кусок за куском, он чувствовал, как щемит у него сердце, и тяжело тряс головой: сердце щемило от всего, что он услышал накануне и видел теперь своими глазами, а головой тряс он потому, что никак не мог во все это поверить. И стало ему так горько, так тошно, что он бросил есть и побежал по деревне, крича во все горло будто пьяный: «Эй, послушайте, да куда вы все попрятались, расползлись, змеиное вы отродье! Не хотите ничего видеть и слышать? Не выйдет! Вот я здесь и говорю вам: я к себе пришел, в свою деревню, домой, под родную крышу! Не чужой я вам, не чужой! Вы же сами продали меня всего с потрохами, продали белым с побережья; но я вам не чужой, не чужой я вам, паскудное племя, собаки вы шелудивые!..»
Потом у него как-то сразу отлегло от сердца, он посмеялся над своей пьяной бранью, вышел на окраину деревни и двинулся по тропе в самую глубь страны Пожирателей. Следующая деревня, а за ней и другая были так же пусты, покинуты. Время от времени ему попадались на глаза предназначенные для него знаки-предупреждения: курица со свернутой шеей, торчащие поперек тропы колья, еще сырые глиняные фигурки с раскинутыми руками, которые как бы преграждали ему путь. Узкая тропа была тверда, как камень, но ему казалось, что его затягивает болото, что почва уходит из-под ног, он словно бы погружался в трясину, потом выбирался наверх, но топь неумолимо засасывала его все глубже и глубже. Солнце пылало теперь вовсю, тучи бабочек взмывали высоко в небо в поисках свежего ветра и, попав в воздушный поток, кружились в нем пестрым вихрем трепещущих крылышек. Всех обитателей леса сковала жаркая полуденная лень. Только несколько красногрудых обезьян все еще решались разок-другой скакнуть с ветки на ветку, но тут же пугливо прятались за стволы, позабыв про выдававший их длинный белый хвост. Но вот впереди, на тропе, показались три силуэта, и Жан-Малыш остановился. Все трое были высокого роста, с кургузым туловищем, водруженным на такие бесконечно длинные, худющие — кожа да кости — ноги, что казалось, эти люди стоят на шатких ходулях. Двое из них, те, что помоложе, были защищены нагрудниками из буйволиной кожи и вооружены древними, правда не древнее мушкета Жана-Малыша, ружьями с раструбом на конце дула. Третий был старик, вооруженный простым копьем, в длинной, ниспадавшей с плеч одежде, с седовласой совиной головой и хищным носом-клювом, который начинался от середины лба. Тело старика было точно из камня, но на суровом, мертвенно-жестоком лице светились маленькие круглые глазки, трогательно-добрые, как у куропатки. Он первым открыл рот:
— Кто ты такой и что тебе от нас нужно?
Голос был спокоен, насмешлив, полон скрытого, уверенного превосходства. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем его речь достигла ушей Жана-Малыша. И понял наш герой, что здесь его никогда не услышат, что напрасно он будет сотрясать воздух. Но все же он произнес:
— Я ищу деревню Обанише.
— Обанише — это первая деревня, та, где ты ел гомбо с солеными потрохами. Но ты не ответил на мой вопрос: чего тебе надо на нашей стороне реки, чужестранец?
— По правде говоря, немного, совсем немного, — ответил герой наш, Жан-Малыш. — Я только хотел передать вам слова моего деда в ночь перед его смертью: «Если тебе придется однажды побывать в моей родной деревне Обанише, у самого устья Нигера, а не тебе, так твоему сыну, внуку, далекому потомку, пусть тысячного поколения, то достаточно будет сказать, что вашего предка звали Вадембой, и тогда вас примут как братьев». Таковы были его последние слова перед смертью; и, помня о них, я отказался верить в то, что мне про вас рассказали, люди племени Сонанке…
В темных дырах глазных впадин бешено полыхнуло пламя, но лицо старика оставалось непроницаемым, каменно-неподвижным.
— Ну, а теперь твои глаза, кажется, прозрели?
— Теперь мне все ясно как день, — сказал Жан-Малыш.
— Я рад за тебя, значит, ты теперь сам знаешь, что делать… И птица небесная, и зверь косматый — всяк своей стаи держится, это всем известно; твои глаза прозрели, и ты все верно понял, так возвращайся же к своим.
— А разве я не среди своих?
— Среди своих? Нет, ты для нас что неведомый зверь, которого иной раз встретишь в лесу, и только; язык твой что темная ночь, слова твои что крики ночной совы… Послушай, прозревший юноша, нам не нужно твоей крови, мы не хотим, чтобы твой дух бродил потом по ночам среди наших хижин и травил нам души. Нам ни к чему твоя смерть, поэтому еще раз говорим тебе: возвращайся к своим…
— Вадембе вы сказали то же самое, прежде чем убить его?
— Нет, каждой твари — свой силок. Мы говорим с тобой так, как требует того твоя суть, а Вадембе сказали только те слова, которые он заслужил, одну только голую правду… Но, к несчастью, он был как его отец Гаор: упрямый ворон, чьи глаза затекли гноем, а ум помутился…
— А что же он должен был понять и не понял? — тихо спросил Жан-Малыш.
— Что мы — свободный народ, и среди нас нет места тем, чей удел — колодки рабов.
Он произнес это далеким, холодным и бесстрастным голосом, будто долетевшим с высокой звезды. Медленно разливалась в Жане-Малыше оскорбительная желчь этих слов, сначала она коснулась памяти его предка Гаора, потом хлынула на старого одинокого безумца с плато — о Вадемба, о безумец из безумцев! — и наконец, захлестнула горько-соленой, тошнотворной волной всех жителей Лог-Зомби, их отцов и дедов, поглотив даже того, кто первым неуверенно вступил на землю Гваделупы: и опять он не смог удержать язык:
— А не вы ли сами забили его в колодки, своими руками заковали в цепи?
Старец откинул назад голову и безрадостно рассмеялся отрывистым, точно собачий лай, смехом:
— Что солнце, что мгла — слепому все едино. Если бы слова твои не были темны как ночь, неясны, как крики ночной совы, ты бы понял, что Вадембу продали по воле богов. Так когда же вы уйметесь? Сколько еще вас народится, детей забвения, одержимых страстью смешивать свою кровь с нашей?
Белая туча бабочек стремительно падала вниз, рассеивалась в кронах высоких деревьев, и мелкие птицы, остервенело галдя, набросились на них, так что воздух вокруг дымился пыльцой и мелким крошевом крылышек. Казалось, будто кричат не птицы, а сами бабочки, которые спасались бегством, опрометью спускались меж ветвей к земле, чтобы исчезнуть в зарослях травы и кустарника. Звучный голос старика заставил Жана-Малыша очнуться. В нем была неожиданная мягкость, какое-то благодушие с примесью сожаления:
— Можем ли мы хоть чем-нибудь облегчить вашу участь, твою и тех, кто идет за тобой?
— Не стоит, наша участь уже решена.
— Хочешь, мы дадим тебе быка в дорогу?
— Нет, моя дорога обрывается здесь, и мне осталось только увидеть, что вы будете делать дальше, — улыбнувшись, сказал Жан-Малыш.
Прошла минута, а может, целая вечность, старец замер в ожидании, потом в его чистых глазах перепелки сверкнула неизбывная тоска. И, подняв свое копье, он медленно, спокойно направил его в Жана-Малыша, будто знал, что прозревший юноша и не шелохнется, а, напротив, расправит плечи и подставит грудь под самое острие…
5
Когда он пришел в себя, землю окутывали сумерки. Трое из племени Сонанке исчезли, а он лежал поперек тропы, намертво пригвожденный к земле торчавшим из груди деревянным копьем, которое, как живое, держало, не пускало его встать. На него нахлынули ночные шорохи и звуки, он глянул в небо, и ему показалось, что огромная ладонь мягко опустилась на мир и сквозь ее сдвинутые пальцы просачивался свет неисчислимых огоньков…
Он лежал на спине, и над ним отвесно, словно корабельная мачта, стояло прямое древко. Копье раздробило кость, и он ощущал в глубине грудины острие наконечника. Но никакой боли не было, рана не жгла, не холодила, и он тотчас же понял, что остался невредим, что волшебство позволяет вырвать из тела орудие смерти, встать и продолжать путь. Он удивленно ощупал и отпустил древко копья, и вдруг почувствовал, что от волшебного пояса, дающего силу, исходят теплые, отрадные волны, проникающие до мозга костей. Обрадовавшись своему счастливому открытию, он было подумал: смотри-ка, пояс не хочет, чтобы я умирал. Но, немного поразмыслив, он спросил себя: а зачем ему жить в этом призрачном мире, который, скорее всего, был лишь сновидением спящего у болота Чудовища и где убивали из лука таких людей, как Вадемба, — вот почему он так и остался лежать на тропе с копьем в груди…
Когда из-за леса вынырнула луна, в зарослях буйной травы показалась тоненькая человеческая тень — то был Майяри: испуганно озираясь, он выставил вперед свое копье; Жан-Малыш не сдержался, тяжко вздохнул, и мальчик заметил его, подошел, опустился на колени и заплакал горючими слезами, которые одна за другой капали на щеки поверженного друга. Наш герой твердо решил не открывать глаза: ведь его беде нечем уже помочь. Но мало-помалу слезинки исподволь просочились ему в душу, утешительным бальзамом омыли сердце, и, подняв веки, он спокойно уселся рядом с потрясенным мальчиком, вырвал копье из груди и улыбнулся.
Рана закрывалась на глазах: ее узкие, уже сомкнувшиеся края слабо кровоточили. Жан-Малыш соскреб с тропы немного земли и тщательно замазал ею шрам. Мальчик смотрел как зачарованный на это диво. Потом, мотнув головой, будто хотел стряхнуть насевших на лоб комаров, он отвел взгляд от груди чудом исцеленного и вновь пригласил его в свою деревню, где он будет либо гостем короля, если этому не воспротивятся его подданные, либо пленником, хотя в этом случае, добавил он взволнованно и нежно, он и сам окажется в дружеском плену у Жана-Малыша…
И они вместе канули в ночь, в серую зыбь дрожащей на ветру высокой травы…
Они держались подальше от тропы и далеко стороной обходили деревни, которые Майяри знал наперечет: он мог назвать любую, всего лишь взглянув на небо; иногда мальчик застывал на месте, принюхивался, раздувая свои нежные широкие ноздри жеребенка, а потом уверенно шагал дальше. Шел он быстро, вприпрыжку, и десятки золотых колец у него на голове, казалось, притягивали лунный свет и сияли, как рой светлячков. Притворяясь уставшим, Жан-Малыш оперся на плечо друга, но, немного погодя, вновь перешел на свой обычный шаг. Мальчик промолчал, а чуть позже Жан-Малыш снял с его плеча и ружье, и пороховницу, и котомку матушки Элоизы — все это мальчуган забрал с собой, когда они отправились в путь; Майяри только вздохнул и начал подробно объяснять, что должен рассказать Жан-Малыш жителям деревни, если он не хочет, чтобы его забросали камнями как нечистую силу…
Честно говоря, кротко объяснял мальчик, после того, как он увидел эту ужасную рану, смыкавшуюся, точно губы, он не знал, считать Жана-Малыша живым или мертвым, но ему вообще-то все равно, ведь теперь чужестранец его добрый, верный товарищ. А вот другим будет не все равно, ведь их-то не вытаскивали из пасти льва, с улыбкой добавил мальчуган, и поэтому им просто-напросто нужно сказать, что Жан-Малыш поднялся из владений мертвых, чтобы соединиться с племенем своих предков. Этому они поверят легче всего: незнакомец пришел издалека, он долгие годы бродил по подземным лабиринтам, и, когда оказался под той страной, где родился его дед, он попробовал было появиться на свет через живот женщины из племени Сонанке. Но чрево женщин Сонанке отказалось его принять, и потому он выбрался на поверхность через пещеру, высоко в горах, в двух-трех днях ходьбы от места встречи с Майяри. Главное — не забыть: их чрево не пустило его, отпихнуло обратно под землю, задолго до того, как мужчины подняли на него копья, потому-то он и воспылал на Сонанке звериной яростью, такой яростью, что готов воевать с ними.
— Воевать?
— Война кончилась, это так, но случается, что какой-нибудь вождь Сонанке, наслушавшись про былые сражения, впадает в ярость и переходит реку. Мы называем это войной, хотя убитых почти не бывает. Это лишь дань прожорливому зверю…
— Что ж, придется повоевать, — сказал Жан-Малыш.
— Не смейся, чужестранец, ведь еще не известно, что тебя ждет. Мы с уважением встречаем путника, который садится под деревом старейшин, но убиваем всех колдунов, откуда бы они ни пришли, в каком бы обличье ни были. Поэтому прежде всего запомни: ты выбрался на поверхность через горную пещеру, ты пришел к нам дорогой человека, а не колдовским путем…
— А разве мертвый, по-вашему, человек? — удивился Жан-Малыш.
Пропустив мимо ушей этот вопрос, который, казалось, он принял за простой подвох, мальчик запрокинул назад голову и устало опустил руки:
— Прошу тебя, не говори ты со мной, лишь бы поболтать, нас сейчас примет мой отец-король, и я не хочу, чтобы тебя убили…
— За что же меня должны сегодня убить? За то, что во мне течет кровь Сонанке, которые убили меня еще вчера?
— Зря ты смеешься, ох, зря, ты ведь знаешь, о чем я говорю: ты пришел сюда не человеческим путем и, когда я увидел тебя на тропе, копье глубоко сидело в твоей груди… Скажи, кто же принял за тебя тот смертельный удар, может быть дерево?
— Ночной ветер…
— Ночной ветер? — восхищенно произнес Майяри.
— А еще — одна звезда…
— Звезда? А какая?
— Нет, не звезда, а мой пояс, — честно признался чудом исцеленный, — пояс, который достался мне от деда когда-то могущественного человека…
— Ну да!.. — недоверчиво протянул мальчик.
И добавил, чуть-чуть снисходительно:
— Друг мой, напрасно ты шутишь такими вещами Может быть, в ваших краях о них и не знают. Но здесь всем нам грозит опасность пострашнее, чем копья Сонанке, потому что она невидима. Среди нас живут люди, человеческий облик которых скрывает кровожадного упыря. Они могут погубить тебя своим колдовством, а потом превращаются в гиену, в грифа или в какую-нибудь другую хищную тварь и вместе со своими собратьями гложут по ночам на кладбище твое мертвое тело… Змея, ужалившая тебя в пятку, наседка, что бродит вечером с цыплятами среди домов, севшая на крышу сова — все они на самом деле могут оказаться злыми духами…
— А как вы их узнаете? — тихо спросил Жан-Малыш.
— Как раз по их свойству превращаться в зверей, чтобы по ночам высасывать у людей души…
— Значит, тот, кто может превратиться в зверя или птицу, и есть колдун?
— Да, это верная примета, правда, бывают исключения, только очень-очень редко — скажем, твой предок Гаор получил свои крылья от богов. Но есть еще один признак: они совсем не чувствуют боли. Когда их ловят, они поручают свою душу дереву, и, если ты хочешь, чтобы они испытали боль, нужно бить не их, а это дерево… Поэтому, когда мы будем в деревне, тебе придется сделать вид, будто твоя рана причиняет тебе страдания, — закончил Майяри, лукаво взглянув на друга, — иначе все подумают, что ты из тех, кому не по вкусу молоко и хлеб…
— Все это очень странно, — прошептал Жан-Малыш, — никогда ни о чем подобном я не слышал… Кровожадные упыри — да откуда же взяться такой страшенной нечисти, братец? Отчего это они так жадны до человеческой крови?
Путники остановились на вершине возвышавшегося над равниной холма. Внизу открывались две-три узкие долины, а сразу за ними видна была деревня Обанише со своими огромными, ровно рассаженными деревьями бавольника. Позабыв о близкой опасности, Майяри внимательно посмотрел на друга и, важно раздув щеки, начал свой рассказ так:
— Великий охотник, ты пришел издалека, чтобы выслушать малого ребенка. Что ж, это неудивительно: ведь у мертвых все не так, как у людей, и раз уж ты намерен побыть среди нас некоторое время, придется рассказать тебе всю историю о колдунах с самого начала…
«Пришел ты издалека и многое повидал, а вот почему-то не знаешь, что было в самом начале, когда великий Пава, отложив свой барабан, только-только придумал землю. Сперва создатель был все время недоволен тем, как это у него получалось, и он каждый день разрушал начатое накануне. И бродили во мгле, плача и стеная, несчастные люди, они входили в деревни, убивали, калечили, истязали, как могли, всех, кто попадался на пути:
Ужас и смерть смерть и ужас Не в силах об этом я слышать Ужас и смерть смерть и ужас Не в силах об этом я слышать…В песне говорится, что солнце тогда еще не выпустили. По небу плавала одна только луна, и на земле почти не было воды — ни рек, ни ручейков, ни источников, — все живое довольствовалось дождями да водой из озер и болот…
И было так, что несколько мужчин и женщин умирали от жажды и думали, что им совсем пришел конец, но вдруг увидели небольшое, блестевшее лунным серебром озерцо. Они кинулись к нему и принялись жадно пить, они пили и пили и вдруг заметили, что пьют не воду, а кровь. Все они совершили самое большое прегрешение, которое только может представить себе человек, но ведь не по своей же воле, в самом деле — не по своей! И они сразу почувствовали, как жадно алчет их чрево человеческой крови, и в смятении пошли дальше, спрашивая себя, как им теперь жить среди тех, кто питается молоком и хлебом. Тогда склонился к ним Дава и сказал: что ж, дети мои, раз так случилось, нельзя оставлять вас жить среди тех, кто питается молоком и хлебом, давайте-ка я приставлю вам рога, чтобы все вас узнавали и вовремя прятались. Но несчастные принялись оправдываться, они говорили, что толкнула их к озеру жажда, жажда воды, а не крови, крови им захотелось уже позже, да, в самом деле позже! И понял Дава, что они тоже по-своему правы, и решил он сотворить реки, ручейки и источники. А жаждущих крови и их детей он не стал метить особым знаком, а просто рассеял их по земле, чтобы всем на свете было одинаково горько от этой напасти. Поэтому у колдунов и их потомков, что до сих пор живут среди нас, смешавшись с теми, кто питается молоком и хлебом, нет на голове рогов; но, как я уже говорил, их можно распознать по некоторым приметам, в первую очередь по их способности превращаться по ночам в зверей, чтобы высасывать человеческие души…»
И Майяри прямодушно спросил, чуть настороженно хихикнув:
— Я надеюсь, ты не из них, друг мой?
— Успокойся, я получил много волшебных даров, но я не употреблю их во зло, я простой человек, как все вокруг.
— А можно узнать, что это за дары? — подозрительно спросил мальчик.
— Что ж, посмотрим, насколько ты умен, — улыбнулся Жан-Малыш, — посмотрим, умеешь ли ты разгадывать загадки: итак, мой первый дар, — слушай меня внимательно! — он без ног, без крыльев, но летит быстро, и ничто его не остановит — ни река, ни пропасть, даже толстые стены и те не преградят ему путь; что это, отвечай?
— Может, королевский взгляд?
— Как это, королевский взгляд?
— Ну, это дар видеть очень далеко, даже ночью.
— У меня нет королевского взгляда, — сказал Жан-Малыш.
— Может, это твои сны?
— Нет, не угадал, — сказал Жан-Малыш.
Мальчик озадаченно чесал за ухом, позабыв обо всех опасностях: о ночных духах, о хищных зверях, о близости Пожирателей; необычная игра захватила его.
— Может быть, ты волшебник? Может, ты способен выпустить стрелу без лука? Или прыгнуть и оказаться одновременно в двух разных местах? Один из моих предков владел таким свойством, и оно не раз выручало его в сражениях: не из таких ли и ты «прыгунов»?
— Увы, нет, — вздохнул Жан-Малыш, — мой дар гораздо скромнее, и, признаться, я как раз сейчас им пользуюсь на твоих глазах.
И когда мальчик застыл, вперив в него свои изумленные круглые глазки, Жан-Малыш невозмутимо изрек:
— Первый мой дар — тот, что я получил, родившись на свет, — это язык, язык человеческий, дружище…
— Ну и ну! — в сердцах воскликнул маленький человечек. — Уж твой-то язык — для любых ушей беда. Такого наговорит, что вовек не расхлебать! Мир еще не видал такого вруна, как ты; ну, на какие же еще чудеса ты способен, великий волшебник?
— Всех чудес не перечислишь, их что звезд на небе, одно другого удивительнее. Но, если ты не возражаешь, поговорим о них попозже, в более надежном месте, а то может случиться, что мне никогда уже не придется к ним прибегнуть.
И мальчик, вдруг повеселев, выпалил:
— О, я вижу, ты хочешь меня уморить, друг мой, да-да, уморить меня хочешь, и все тут!..
Когда они подошли к реке, зари еще и в помине не было — так, одно бледное марево над водой. Переплыв на другой берег, они на сей раз вытерлись чуть колючим, махровым, как полотенце, мхом, покрывавшим кору баобаба. Они сорвали и несколько плодов, или, как сказал мальчик, яиц, этого дерева — в их молочно-белой, словно вата, мякоти прятались вкусные зернышки. Майяри прислонился спиной к гладкому стволу; набив за щеку семечки, он с притворной грустью качал головой и придерживал свой животик руками, как бы опасаясь, что он лопнет. Они, точно нашалившие мальчишки, прыснули разом, а потом, подняв сонные веки, Майяри серьезно произнес:
— Знаешь что, друг, давай скажем, что копье лишь скользнуло по кости…
— Конечно, скользнуло, — ответил ему в тон Жан-Малыш, — кто сказал, что не скользнуло?
— Ах ты, хитрая лиса… Да смотри не забудь про пещеру из подземелья Теней… Если ты им скажешь, что пришел пешком с побережья, все сразу подумают, что ты нечистый дух, и забьют тебя до смерти камнями, верно говорю, забьют. Запомни хорошенько: ты выбрался наружу через пещеру в горах, в двух днях ходьбы от того дерева, где ты спас мне жизнь…
— Да, я поднялся наверх через пещеру, — сказал Жан-Малыш.
— Ты долгие годы скитался в Царстве Теней в поисках деревни своих предков… А когда будешь говорить о Царстве Теней, скажи просто — земля без солнца или обитель голубых коров, этого вполне хватит… Но, главное, не забудь сказать, что у себя на родине ты был рабом, потому что мы, Низкие Сонанке, еще помним о рабстве…
— Рабом я не был, — задумчиво произнес Жан-Малыш, — но и свободы не знал.
— Ну и что же, что не был, — не унимался мальчуган, — а вообще-то знаешь, лучше ничего не говори о родине, ведь те, кто выбирается на поверхность, никогда не помнят о своей прежней жизни.
— Я не буду говорить о своей родине, — сказал Жан-Малыш.
6
Немного вздремнув, мальчик вскочил на ноги и довольно пробормотал: ах-ха-ха, поспал маленько, пора и глаза открывать. Потом он зевнул, вздохнул, потянулся, почесал в затылке, расправил каждую прядь волос, взятую в золотое кольцо, проделав все это основательно, не спеша как и полагается, чтобы дать своей крови время разлиться по всему своему драгоценному телу, — ни дать ни взять гваделупец, что готовится встретить свой очередной день на этой земле. Наконец, когда весь этот священный ритуал был завершен, он по заведенному обычаю громко рассмеялся, чтобы прочистить горло, и кивком показал, что пора трогаться в путь…
По дороге он не закрывал рта, подробно, вплоть до мелочей, объясняя, как вести себя Жану-Малышу в деревне, что ему говорить, как он должен поцеловать колено короля, плечо Старейшины и руку у всех мужчин старше его. Вообще-то никто из них и не согласится принять такие почести, достаточно лишь сделать вид, что ты их готов им оказать. Но король Эманьема любит, чтобы обычаи были соблюдены, соблюдены весело и красиво, а то, как он говорит, все эти церемонии и раздавить человека могут. Однажды, вспомнил Майяри, когда отец выехал на прогулку на своем любимом быке, скотина вдруг споткнулась, и высокая особа полетела на землю. Один из воинов уже занес было копье, чтобы разделаться с осквернителем королевской крови, но старик остановил его жестом и насмешливо прокричал: посмотрите на глупое животное, господа мои, похоже, этой несчастной твари невдомек, кто здесь король!
— А почему он сказал: господа мои? — весело осведомился Жан-Малыш.
— Потому что он слуга своего племени, — ответил маленький человечек, удивленно уставившись на друга, — а у вас разве не так?
Под ногами показалась тропа, местность вокруг окрашивалась в серо-черные гари, местами из черного пепла проглядывала и тянулась вверх, будто пытаясь вскарабкаться по обуглившимся стволам, нежная, зеленая поросль. Дальше простирались пастбища, квадраты возделанной земли, темные купы рощиц, разбросанных по берегам плоской голубоватой речушки, скользившей, казалось, по самой поверхности равнины. По ту сторону речки показалась вереница людей. Шествие открывал худой костлявый старик, на каждом шагу опиравшийся на копье. За ним следовали четким строем вооруженные юноши, потом шли женщины, мерно колыхая водруженными на голову тяжелыми деревянными блюдами, а последними семенили очаровательные девчушки, окутанные; как и старшие, в яркие ткани, но над их круглыми головками с торчащими во все стороны крысиными хвостиками косичек ничего не колыхалось, разве что легкий ветерок, детские мечты да фантазии. Все эти люди, казалось, плыли в парусах своих красочных, будто шелковых одежд; только если присмотреться, становилось ясно, что эта глянцево-нежная, тонкой выделки и сказочных расцветок ткань была из растительных волокон рафии…
Наш герой припомнил балахон старого Эсеба — он ведь был соткан из тех же волокон, но материя была невзрачной, серой и грубой, она вся расползалась, лохматилась, как невычесанная шкура козы. Сердце его сжалось, а взгляд уже скользил по спящим на холме хижинам. Дома вились спиралью от подножия к вершине, которую венчал величественный серебристо-замшелый баобаб, укрывавший своей сенью и небо и землю. На краю деревни две женщины толкли в деревянной ступе зерно, их круглые плечи искрились росинками пота. Они пели в такт ударов своих толкушек, а потом начинали толочь, уже подстраиваясь к причудливой мелодии своей песни, будто отдавшись легкому, задорному танцу, совсем как кумушки Лог-Зомби, когда они дробили кофе, какао, сухие корни маниоки или с размаху отбивали белье о желтовато-молочные камни реки; и эти до боли знакомые, родные картины еще раз заставили сжаться сердце нашего героя, будто два мира вслепую протянули друг другу свои руки через века, моря и океаны…
Со всех сторон сбегалась ребятня, возвещая об их прибытии пронзительными криками. И в этой невообразимой толчее они поднялись по виткам улицы, окаймленной, как и по ту сторону реки, карликовыми пальмами. Сгрудившиеся за изгородями жители приветствовали их, приложив ладонь к плечу, наперебой обсуждая рост Жана-Малыша. «Таких у нас не видывали с незапамятных времен, — вздыхали они, восхищенно поднося руку к губам, — смотрите, смотрите, вот какие были люди в доброе старое время, когда боги еще ходили по земле!»
На самой вершине холма открылась круглая, гладкая до блеска площадка, в центре которой возвышался отец-баобаб, тот самый, что они увидели еще там, на равнине. Майяри отвел своего друга в тень дерева и усадил на низкий резной табурет, напоминавший жука-скарабея с его черно-лаковой, чуть помятой спинкой и короткими точеными ножками. Потом, подбодрив его взглядом, мальчуган скрылся в толпе. Нашего героя окружали уже знакомые, непорочно-белые, творожной белизны хижины с раскрашенными дверьми. Поодаль, на почтительном расстоянии, стояли мужчины и женщины, их пышные одежды веселили глаз и в то же время выглядели весьма величественно. У Жана-Малыша прямо в глазах зарябило от ярких, праздничных красок, какие он доселе видел только на картинках, но тут он вспомнил о той скамейке на которой сидел дед в свой предсмертный вечер, — она ведь тоже тогда напомнила ему жука-скарабея. И в третий раз за этот день сжалось его сердце, и, закрыв лицо ладонями, сын матушки Элоизы не смог сдержать рыданий и заплакал на глазах у потрясенной толпы.
Но вот поднялся и затих почтительный шепот, и, вперед выступил человек, в котором Жан-Малыш сразу признал правителя, хотя ничто не говорило о его сане. То был худой старик, каких много, с белой щетиной на щеках, опиравшийся, как и другие, на свое копье.
Но взгляд его излучал мудрое лукавство, загадочное и вместе с тем понятное своей добротой, в нем сиял далекий, нездешний огонь, который правитель и не думал прятать, напротив, глаза его были широко раскрыты, словно видели то, чего не дано видеть другим. Перед этим магическим взглядом Жан-Малыш склонился, собравшись поцеловать колено короля, как его научил мальчик с золотыми кольцами. Но монарх ласково отстранил его и уселся напротив; казалось, он ждал нужного слова, и тогда Жан-Малыш вспомнил, что должен был сказать, и промолвил, сдерживая улыбку:
— О король, возьми меня к себе, и я буду твоей верной собакой.
— Вижу, ты хорошо усвоил урок моего сына, — растроганно сказал старик. — Успокойся, здесь никто, даже сам король, не станет обращаться с тобой как с собакой, ведь у нас, Низких Сонанке, нет двуногих псов. Мы знаем, кто ты такой, на этом самом месте мы говорили с твоим дедом, и нам все известно о твоей храбрости в схватке со львом, — продолжил он, едва заметно улыбаясь. — Знаем мы и о том, что произошло на том берегу реки, и поэтому, если хочешь, живи среди нас под именем Ифу’Умвами, что на древнем языке значит: Он-говорит-смерти-да-и-жизни-нет. Подходит ли тебе это имя?
— О король, — произнес наш герой, ответив улыбкой на улыбку, — никто не выбирал сам себе имени и не решал, кем ему родиться…
Тогда быть тебе Ифу’Умвами — тем, кто издевается над смертью, а она лишь молчит в ответ, ибо никак не решится забрать его. Готов ли ты воевать за нас?
— Я готов воевать, — сказал Жан-Малыш.
— Будешь ли ты чтить наших стариков?
— Я буду их чтить, — сказал Жан-Малыш.
— Дашь ли ты нам сыновей, кровь от твоей крови?
— Я дам вам сыновей, — сказал Жан-Малыш.
— Тогда ты у себя дома! — воскликнул король и расцеловал его в обе щеки, а вокруг дерева Старейшин разлилось ликование и началась пляска радости, быстрые и резкие движения которой напоминали — что бы вы думали? ну да, конечно, — танец с платочками после уборки сахарного тростника…
7
До самого вечера Жан-Малыш, восседая на своем резном табурете, принимал подарки и благодарил каждого одними и теми же словами: «Какой прекрасный подарок, сердце мое готово разорваться от счастья». Потом он кидал взгляд на Майяри, а тот деловито взвешивал на руке еще одну курицу, пригоршню маиса, очередную корзину яиц и, весело тряхнув золотыми кольцами, каждый раз радостно восклицал: завалили, ну теперь нас совсем завалили!
Мало-помалу среди общего ликования языки развязались, и на выходца с того света посыпались расспросы о его прежней жизни, той, которую он прожил до того, как спустился в обитель Теней. Следуя совету Майяри, Жан-Малыш отвечал, что ничего не помнит и может только сказать, что Царство мертвых как раз такое, каким они себе его представляют: земля без солнца, на которой пасутся голубые коровы. Но были и чудные вопросы о белых с побережья, вопросы, вселявшие в него тревогу, которая позже, по прошествии многих дней, недель, месяцев и лет, переросла в настоящее смятение: из них следовало, что он находился в мире парусных кораблей, пушек, стрелявших ядрами, что скакали словно плоская галька по воде, — так говорили Низкие Сонанке.
И когда Жан-Малыш слышал подобные вопросы, от которых веяло прошлым веком, голова его шла кругом, и он спрашивал себя, куда же он попал, нырнув в бездну, что открылась в глотке видения, — в какое столетие, в какую Африку?
Не скоро получил он первый ответ на эти вопросы, годам к пятидесяти, когда уже начал седеть. Лет за пять-шесть до этого неизвестные украли и уволокли в мешке, чтобы продать проходившему каравану, мальчика — не он первый, не он последний. Но вот однажды этот мальчик по имени Ликелели возвращается в деревню чуть живой и рассказывает странную, просто невероятную историю. Он метко стрелял из лука и потому переходил от хозяина к хозяину; в конце концов он попал в телохранители к одному могущественному королю, что жил на берегу широкой реки в неделе пешего перехода от моря. Короли этой страны всегда продавали рабов белым, жившим на их землях в высоких каменных домах, на берегу океана. Скупщики живого товара выходили наружу, только чтобы размять ноги или когда их настойчиво звали в гости к королю. Но вот, через два года после того, как Ликелели попал к своему последнему хозяину, белые вдруг заявили о своих правах на всю страну, сказав, что теперь они будут ее королями по праву сильнейшего. И началась жестокая война, и кончилась она тем, что законный король был взят в плен, а его деревня сожжена. Ликелели утверждал, что участь этого королевства по названию Дагомея скоро постигнет все земли подлунного мира. Поэтому он и решил во что бы то ни стало дойти до своих и вот добрался после долгих лет скитаний. Он хотел рассказать родному племени о том, что видел своими глазами, предупредить его об опасности. И теперь, исполнив свой долг, он мог спокойно умереть, последовать за теми, кто уже под землей; и на другой день, изнуренный непосильным переходом, он испустил дух…
Было в этом жутком рассказе раба одно обстоятельство, которое особенно озадачило нашего героя. Ликелели упомянул о наемниках белых завоевателей — темнокожих воинах в широких шароварах и красных колпаках с кисточкой. Умирающий так подробно их обрисовал, что перед Жаном-Малышом вдруг предстала пожелтевшая фотография, которую охотно показывал всем один старик из Лог-Зомби, некто Бернус — ох и луженая же была глотка!.. Так вот, этот Бернус утверждал, что в молодости участвовал в завоевании Африки. Конечно, он мог и присочинить по крайней своей дряхлости — Жан-Малыш хорошо помнил, что его рука, державшая фото, была изглодана временем до самых костей. Но все завсегдатаи веранды тетушки Виталины сходились в одном: на старой карточке был не кто иной, как негр Бернус, стоявший по стойке смирно во всей красе своих двадцати лет, облаченный в яркую причудливую форму, так подробно описанную беглым рабом…
Когда все эти слухи подтвердились, проседь Жана-Малыша разрослась в сплошную белоснежную шапку, пышную, как хлопковый куст под солнцем. И он спрашивал себя, что произойдет, если белые окажутся у границ королевства Низких Сонанке: а вдруг ему случится тогда встретить молодого человека с пожелтевшей фотографии — узнает ли он его в сражении, попробует ли заговорить с ним? Но что он мог ему сказать? Скорее всего, он постарался бы его убить. А если бы все так и вышло, то какая судьба постигла бы воспоминание об этом старом фото, виденном когда-то на веранде тетушки Виталины: пропало бы оно или продолжало качаться на волнах памяти тоненькой скорлупкой, готовой безвозвратно кануть в бездну забвения, как и все остальное, связанное с Лог-Зомби?..
КНИГА ПЯТАЯ,
в которой рассказывается о жизни и приключениях Жана-Малыша в Африке, обо всем, что с ним произошло до того, как он спустился в Царство Теней; правдивое и полное повествование с неведомыми доселе подробностями о том, как наш герой любил, ненавидел, праздновал рождения и хоронил, веселился и воевал, не забывая о видениях другого мира.
1
Первые недели в африканском племени были похожи на яйцо — такие же гладкие, заполненные до отказа и загадочные. За внешней простотой жизни Низких Сонанке, этих детей саванны, не знавших, казалось, других забот, кроме рождений, болезней и смертей, крылись непостижимые для гваделупца тайны бытия. Земля была для них материнским чревом, и они пользовались плодами ее с глубокой почтительностью: прежде чем срубить дерево, приносили в жертву петуха, которого, в свою очередь, кропили жертвенным пальмовым вином. Свое тело они считали чем-то вроде нетленного зерна, бесконечное число раз прораставшего из тьмы и во тьму уходящего, так что каждый приходился сам себе и дедом, и внуком одновременно. И уж совсем трудно было привыкнуть к тому, что они не видели никакой разницы между сном и явью и могли, если вздумается, потребовать от вас отчета за поступки, которые им привиделись ночью. Так, одной девушке приснилось, будто Жан-Малыш за ней ухаживает, и на следующее утро произошла пренеприятная сцена, которая могла кончиться весьма печально, не будь наш герой гостем короля; но, к счастью, за редчайшими исключениями, люди эти вели себя во сне с тем же достоинством и благоразумием, с той же незыблемой порядочностью, что и наяву.
Если не считать этой кутерьмы с жертвоприношением петуха дереву и пальмового вина петуху, новая жизнь напоминала ему ту, что он знал в Лог-Зомби, что протекала между охотой в горных лесах и мирной суетой в деревне…
У Низких Сонанке было огнестрельное оружие, «пух-пух» — так называли они несуразные, ржавые трубки, прикрепленные к деревянным прикладам, украшенным такой искусной резьбой, что приклады эти сделали бы честь и золотым стволам. Опасная была штука эти ружья; случалось, они разрывались прямо в лицо стрелку, и их брали в руки только в случае крайней необходимости: чтобы в пору жестокой сухмени пальнуть раз-другой в небо и вызвать тем самым дождь. По сравнению с этой рухлядью мушкет Жана-Малыша был самим совершенством, чудом, да и только. Каждое утро главный прорицатель короля рассказывал, что за зверь ему приснился и где его следует искать — в каком лесу, у какой реки, на какой поляне; после этого наш герой отправлялся на охоту в сопровождении носильщиков мяса, коих было ровно столько, сколько требовалось, чтобы справиться с привидевшейся прорицателю добычей, и были те охоты действительно сказочными, ибо дичь будто и вправду поджидала его в указанном месте…
Да и сам мушкет вроде как ожил, разъярился, почуяв африканскую землю. Уже иссякли все боеприпасы, кроме последней, свято хранимой в память о деде серебряной пули. И Жан-Малыш стрелял всем, что попадалось под руку: острыми кусочками железа, мелкими камешками, которые вышибало из ствола некое подобие пороха, изготовленного из селитры, издававшего при выстреле жалостливое заячье верещание, и все же любой подобный заряд доходил до самого нутра слона, крушил броню носорога, насквозь дырявил толстенный слой жира бегемота, или, на языке Низких Сонанке, водяной лошади. Добычу приносили домой под звуки рожка, чуть позже вокруг дерева Старейшин зажигались факелы, под кроной баобаба понемногу набирал силу праздник и, когда на холмы падала ночь, расходился вовсю…
2
Самые красивые невесты так и вились вокруг гостя короля; их влекла окружавшая его тайна, тешили надежды, которые всегда сопутствуют всему неизвестному, новому, редкому и недостижимому — короче говоря, всему тому, что и в нашей деревне любой вскружило бы голову. Когда этот молодой охотник отдавался танцу, он сверкал как солнце: «настоящий красавец-бык в праздничной упряжи», — восторгались местные красавицы на выданье. «От такого за один раз тройню понесешь, для него это пара пустяков», — поддакивали им старухи, которым поручили совершить обряд омовения гостя в день его появления в деревне. Но наш герой не обращал внимания на эту бабью болтовню, в ушах его звенел и звенел крик Эгеи, раздавшийся в ином мире, в ином времени, под тем фиговым деревом, чьи корни приютили их после происшествия у грузовика. Он корил себя, пытаясь вспомнить о долге, об обещании королю Эманьеме, но все напрасно: во всех здешних милых девушках он замечал лишь отдельные черты, напоминавшие ему потерянную любовь: у одной грудь, у другой бедра, лебединая шея или крутой безмятежно-мечтательный лоб…
Нашлась среди них и такая, что говорила голосом Эгеи — только в этом, пожалуй, и заключалась вся ее прелесть. Ее-то и выбрал он в один прекрасный день в жены, когда сын короля предупредил его о ропоте недовольства, витавшем над очагами и грозившем достичь слуха мужчин, а значит, стать опасным — ведь всем известно, что одиночество — мать колдовства…
Его выбор был встречен не без удивления, ведь Онжали не отличалась особенной красотой: имя свое, означавшее Мисочка, она получила за гладкое, круглое и плоское лицо. Жан-Малыш повстречал ее в деревне Гиппопотамов на берегу реки Нигер, в те места тогда как раз пожаловал король, а он был в его свите. Хижины этой деревни были построены на высоком берегу, они нависали над широким потоком, усеянным островками, которые, казалось, вот-вот вспорхнут в небо, словно тысячи розовых цапель. Каждое жилище походило на глиняный колокол, на огромный, словно из-под земли выросший термитник, с небольшим, в рост ребенка, круглым входным отверстием, что-то вроде замысловатых песочных замков, которые без устали лепит из мокрого песка на пляже Лараме гваделупская ребятня и которые без устали смывает набежавшая волна. Но внутри них царила благостная прохлада, и надолго остановился здесь король со своей свитой, предавшись бесконечным пирушкам: такие прекращаются лишь тогда, когда гости начинают просить пощады. Мужчины этого селения не сводили глаз с правителя, а девушки дивились высоченному росту Жана-Малыша, его силе и красоте: настоящее солнце, шептали они из-за оград. Потом прошел слух, как всегда исходивший от очагов, что светило это сияет для другой, той, которую выходец из иного мира знал в своей прежней жизни, еще до смерти, и до сих пор не забыл. И тогда свежие гвоздички с сожалением отвернули от него головки, предложив аромат своей молодости другим ноздрям, тем, что вдыхали лишь здешние запахи…
Как-то раз наш герой, мучимый тягостными воспоминаниями, ушел из деревни и направился к берегу Нигера. С нависшей над руслом скалы срывалась в величавые воды маленькая речка, и сквозь шум водопада он услышал звонкий гомон юных купальщиц, чей смех не спутаешь ни с чем на свете. Погруженный в свои думы, он едва не забыл, что в таких случаях нехорошо подглядывать, и собрался было скромно удалиться, как вдруг услышал голос Эгеи. Она стояла на берегу, спиной к нему, в пышных одеждах — их красные, зеленые и голубые узоры были как земля, холмы и небо Лог-Зомби. Не слыша негодующих криков купальщиц, Жан-Малыш подошел к девушке, и та повернула к нему свое темное как ночь, удивленное, ничего не понимающее лицо. Он замер, восхищенно пожирая взглядом незнакомку: губы ее были темнее лица, а глаза темнее, чем губы, лишь на высоких, слегка выпуклых скулах, туго, как на барабане, натянувших кожу, лежали два матово-светлых блика. Он хотел было заговорить с ней по-креольски, но язык его сам по себе произнес африканские слова.
— Это я, — прошептал он, — ты меня не узнаешь?
— Это кто «я»? — растерянно бросила она. Девушка ничем не напоминала Эгею, если не считать легкого сияния, какое излучают иногда тенистые, задумчивые манго в цвету, что растут во влажных, благоухающих долинах. Она прожгла его сердитым взглядом и обратилась к подругам, которые застыли, сверкая зеркальной наготой и стыдливо прикрывая низ живота ладонями.
— Это еще что за балбес неприкаянный, вишь бычина здоровенный, видно, совсем с жары сдурел, — медленно, с расстановкой произнесла она голосом дочери папаши Кайя, — что-то не припомню, чтобы он раньше пасся на наших пастбищах, а вы, телочки мои, случайно его не знаете?
Хрупкая ясноглазая девушка, стоявшая по пояс в воде, подняла ладошки к гладким щечкам и со всей серьезностью произнесла:
— Это же Ифу’Умвами, гость короля. Но лучше на него не заглядываться, его красота не нам светит: говорят, душа его сохнет, как ручеек в безводье, по другой, той, что не живет в нашем мире…
— По всему видать, не ручей, а простая лужа! — оборвала ее та, что говорила голосом Эгеи. — Я тоже слышала о сверкающем, словно солнце, мужчине, о красавце-быке в праздничной упряжи, о том, кому ничего не стоит за один раз сделать тебе тройню; а что мы видим на самом деле, телочки мои?
И, зло рассмеявшись, она бросила:
— Чего ты ждешь, чужестранец, хочешь, чтобы мы тебя прогнали отсюда камнями?
Сказав так, девушка сразу смягчилась, щеки ее вспыхнули, рука скользнула вниз, будто прикрывая наготу, а на круглом, словно миска, лице теперь легко было прочесть все ее мысли.
— Ну что же ты, хочешь, чтобы мы тебя прогнали, да?
— Нет, нет, зачем же…
— Ну так чего же?
— Скажи, как тебя зовут, — пробормотал наш герой.
— Можешь называть меня Козой-которая-блеет.
— Почему?
— Потому что всем известно: та коза блеет, что пить не хочет!..
Вечером на деревенской площади он снова встретил ее с подругами, что резвились на реке. То была самая обыкновенная, совсем еще юная девушка с круглым и гладким, бесспорно приятным лицом, ровными рядками милых косичек, торчавших, словно стебельки сорго, с тонким слоем алой ароматной пудры на щеках, в пышных и длинных, перекинутых через плечо и ниспадавших до пят белых одеждах, вьющихся, летящих вокруг нее в вихре плясок, но все же особой красотой она, право, не отличалась. Как сказал сын короля, звали ее Онжали и была она из благородного рода Гиппопотамов, что восходил к самым древним, самым отдаленным временам. Она недавно возвратилась из далекой деревни, поэтому-то Жан-Малыш и увидал ее только сегодня. Майяри сообщил также, что родители ее живут и здравствуют, это доподлинно известно. Наш герой слушал его, разинув рот от удивления: каким это чудом, спрашивал он себя, Эгея, родная дочь папаши Кайя, смогла выйти из чрева женщины Низких Сонанке, с круглым, словно миска, лицом и глазами, не желавшими его узнавать? Мальчик заметил волнение друга и сразу вызвался отнести девушке подарок, а заодно и сказать о желании гостя короля обязательно повидаться с ней, как стемнеет. Посланник вернулся с поникшей головой: «Увы, Онжали велела передать, что на взаимность нечего и рассчитывать, она в твою сторону и глядеть не хочет».
Услышав этот горький ответ, Жан-Малыш отправился спать и всю ночь проворочался с боку на бок, силясь понять, каким это чудом Эгея, родная дочь папаши Кайя, смогла выйти из чрева женщины Низких Сонанке, с круглым и гладким, словно миска, лицом и глазами, не желавшими его узнавать? Наш герой чувствовал себя точно зверь, угодивший в капкан. Потом он еще не раз подходил к ней и произносил вслух первые попавшиеся креольские слова, смутно надеясь, что в глазах девушки, может быть, мелькнет отблеск воспоминания о ее прежней жизни; и каждый вечер под звуки праздничного барабана он в неистовстве возносил свое тело к самым звездам в тщетном стремлении обратить на себя внимание молодой девушки…
Майяри умолял его не торопиться, ведь поспешишь — безголового родишь. Насколько ему было известно, лучшие жены человеческие любят, чтобы их подольше упрашивали, ведь самые сладкие плоды растут на верхушке дерева. И мальчик как в воду глядел — пятилась она только для того, чтобы лучше разбежаться: несколько месяцев спустя девушка покинула деревню Гиппопотамов и, захватив с собой красную пудру и белые одежды, вошла в хижину, которую Жан-Малыш сам соорудил для нее на земле пожалованного королем надела, соединив с мужским жильем узким ходом из плотно переплетенных, чтоб никто не глазел, веток…
3
Эгея так и не захотела его узнавать. Он долго ждал — ах, как он ждал! — что она вспомнит о своей прежней жизни, той, до страшного колдовства, до нового появления на свет из чрева женщины Низких Сонанке. Не раз окликал он ее старым именем, называл как бы в шутку Эгеей, Эгеей Кайя, иногда вдруг произносил вслух название родной речки, цветка, холма или птицы, чтобы вспугнуть, разбудить спящий в ней мир Гваделупы. Но она ничего не могла вспомнить, только смотрела на него испуганными, широко раскрытыми глазами; особенно ее беспокоило это имя — Эгея, произносимое столь часто, с такой безысходной тоской. Она угадывала за этим именем женщину, которую он знал в ином мире, она ревновала его к ней, говорила, что дух этой незнакомки преследует Ифу’Умвами даже из-за гроба, мешает любить ее, Онжали, так, что ей хотелось бы, чтоб он ее любил, — со всей силой молодого мужчины, прекрасного как солнце…
Она понесла от него в первый же год замужества, за что получила почетное прозвище «Везучая-утроба-скорая-прибыль».
Спустя некоторое время она начала жаловаться на живот, который увлекал ее вверх, словно рыбий пузырь, вместо того чтобы мягко притягивать к земле. По совету главного прорицателя в подол ее юбки зашили камни для балласта. А потом даже пришлось привязывать ее веревками к опорам хижины, иначе раздутое чрево унесло бы ее под потолок. И на шестой месяц, когда ей ни с того ни с сего начали сниться спицы и иголки, ее укусила во сне пчела, и проснулась она с пустым и плоским животом, опять девушкой. В ту же ночь на дворе Жана-Малыша, расположенном посреди деревни, как из-под земли выросла еще одна хижина. А утром в новом жилище, крытом еще не успевшей высохнуть осокой, его уже ждала младшая сестра жены — совсем еще юное существо, маленькая сирена с едва поднявшимися грудками, которую хозяйка спокойно представила ему как вторую жену…
— Да от тебя ли я это слышу? — удивился Жан-Малыш. — Ты что же, сама этого хочешь?
— Да, ты должен утолять с ней свою жажду, как и со мной, ибо так положено человеку твоего звания, — твердо ответила Онжали.
Слова эти вконец смутили сына матушки Элоизы, жена опять стала для него совсем незнакомой молодой женщиной. Впервые в душу ему запало сомнение: а может, его африканка и не Эгея вовсе, хотя ее голос, журчащий, как будто он пронесся над бездонными пучинами прежде, чем прозвучать под небом Африки, и заставляет трепетать его сердце. Прошло еще несколько лет, и, к его великому удивлению, к первым двум прибавилась и третья, а потом и четвертая сожительницы. Новые хижины выросли рядом с жилищем Жана-Малыша, вокруг которого безостановочно вращались, словно в вечной, непонятной карусели, его жены, так что не было у него ни сна, ни отдыха, ни малейшей передышки, ни мгновения, чтобы подумать о безвозвратно уходящих годах…
Онжали верховодила всеми, как полновластная хозяйка, которую никто не смел ослушаться. Всех детишек, шнырявших по двору веселой ватагой, она считала своими, вышедшими из ее чрева, и, когда говорила о них, на ее круглом, словно миска, лице читалась нежная материнская гордость, которая так изумляла Жана-Малыша. По с годами вокруг глаз и рта ее легли морщинки, серебряные нити засветились на висках, и она потеряла былую уверенность в любовных делах, порой не знала, что делать со своим телом, когда приходил ее черед принимать господина и повелителя. За страстным порывом следовал миг безучастия; так вода, если ты плывешь против течения, и борется, и соглашается с тобой, не переставая омывать твое тело. И только во сне она вновь обретала былую прелесть. Всякий раз, прежде чем сомкнуть веки, она в смятении и страхе шептала Жану-Малышу «прощай» — ведь, как говорила ей мать, душа человека по ночам отправляется в неведомые дальние страны, из которых не всегда можно и возвратиться. Она засыпала, будто опускалась на дно зеркального озера, и там, в глубине, черты ее лица преображались, вновь обретали мягкий блеск и очарование молодости. Наш герой не переставал удивляться этому волшебному превращению. Когда он всматривался в это лицо, как бы сквозь толщу вод, ему мерещилось легкое волнение на дне озера, которое смывало, уносило прочь знакомые черты его седеющей жены, медленно открывая лик Эгеи…
Однажды ночью, когда она уже преобразилась в другую, Жан-Малыш не сдержался и ущипнул ее за плечо. По телу спящей пробежала дрожь. Веки ее поднялись и открыли лишь белки глаз, потому что зрачки уплыли в мир сновидений, и Онжали не смогла найти дорогу назад, в родную деревню. Но Сонанке умели возвращать души, как бы далеко ни заплутали они в своих ночных странствиях. И на восьмой день, после долгих, изнурительных плясок, песнопений и упрашиваний богов, после омовения тела настоем из глаз каймана — а ведь известно, что эти твари видят скрытую суть вещей, — зрачки простертой на своем ложе женщины встали на место, она проснулась и рассказала о своем путешествии. Она с трудом вспоминала, что жила в неведомой стране, не знавшей солнца, на клочке земли, окруженном водой, там носила она в чреве настоящего ребенка, который исподволь сосал ее кровь и не хотел появляться на свет, не давал разрешиться от бремени, закончила она плача.
Жан-Малыш никогда больше не будил ее, он лишь смотрел, ночи напролет смотрел на мерцавшее в глубине далекое лицо той, которой здесь не было; когда Онжали просыпалась от его пристального, ощутимого как прикосновение взгляда, ее прекрасное мудрое лицо начинало светиться и она протягивала к мужу руки, такие же округлые и атласные, как в день первой встречи, у водопада, круто срывавшегося в великую реку Нигер…
Когда все надежды на материнство развеялись как дым, лицо правительницы очага успокоилось, застыло в отрешенной, блаженной задумчивости, лишь иногда его омрачало облачко грусти, затенявшее виски и гасившее искорки глаз. К ней перебирались все новые сестрички; у каждой была своя хижина, свой день «любви», и каждая старалась, во что горазда, восполнить изъян старшей. Когда родных сестричек больше не осталось, Онжали после долгих колебаний привела в стадо Жана-Малыша одну из своих двоюродных сестер. Она выбрала самую невзрачную, нескладную — ощипанная курица, да и толь ко! Но не успела она втолкнуть ее в хижину, крытую сырой осокой, она вдруг, непонятно почему, смертельно приревновала ее к мужу. Она поносила ее на чем свет стоит, так и жгла своими насмешками, а когда приходил черед «недоделанной» принимать любовь хозяина, опускалась на колени у глинобитной стены и до зари следила, как та заходилась, «взлетала» в объятиях Жана-Малыша. Но Онжали была умной, рассудительной женщиной, и никто ничего не заметил до самого последнего дня. А вот ее двоюродная сестра, вместо того чтобы довольствоваться отведенной ей ролью десятой спицы в колесе, вскоре показала себя выскочкой, начиная громко горланить еще до того, как ее касался мужчина. Конечно, песнь плоти была Низким Сонанке не в диковинку. Они даже считали, что она благотворно действует на рост проса, и Старейшины помнили о сказочных урожаях, поднявшихся за одну ночь благодаря сладким стонам женщины, оросившей все поля вокруг счастливыми живительными соками своей любви. Но увы, возгласы двоюродной сестры не помогли взойти ни одному зернышку. Это сразу все поняли: и люди, и облака, и самые далекие деревья на краю равнины; и неудивительно: ведь возгласы эти лились не из самой плоти, они рождались в завистливой головенке глупой бабы, которой вздумалось выжить саму хозяйку очага…
Как-то ночью, когда наш герой оказался наедине с этой ведьмой, потому что пришла ее, строго установленная Онжали, очередь, ему послышалось тихое рыдание. Он бесшумно поднялся, вышел из хижины и увидел правительницу очага, которая, стоя на коленях и закрыв глаза, прижала ухо к глиняной стене. Лунный свет играл на ее блестящих круглых плечах, ослепительно отражался в неумолимой проседи. Жан-Малыш тихо возвратился в хижину, стараясь не потревожить слуха Онжали, которая, он чувствовал это, оставалась рядом, за стеной, и тихо плакала, согнувшись под горькой тяжестью пролетевших лет. Но двоюродная сестра, заподозрив неладное, тоже вышла из хижины и, подкравшись к старой жене, ударила ее в темя тяжелым острым камнем. Онжали упала лицом вниз, не успев понять, что с ней случилось.
Такого позора давно уже не помнили в деревне. Напрасно злая уродина старалась оправдаться, напрасно клялась, что ей почудился оборотень у стены хижины. Ее торжественно выпроводили восвояси, в деревню Гиппопотамов. Как порешил тот же суд племени, вся радость Онжали, смысл ее существования заключались в том, чтобы выращивать для мужа зерно, приумножать его стада, давать ему детей, пусть даже не плоть от своей плоти. Воистину, молвили Старейшины, она всегда была для него чашей родниковой воды, кровлей, не пропускавшей ни единой капли дождя, прибежищем от всех невзгод — это все знали: и люди, и облака, и деревья тоже; и потому оставили ее в деревне, подле старого Ифу’Умвами, несмотря на то, что она, хозяйка очага, так себя опозорила, выставив свою ревность напоказ…
Жизнь текла по-прежнему, старая жена оправилась от раны. И все вроде бы вошло в колею, устоялось, успокоилось, как вдруг что-то необъяснимо сжало горло Онжали. Потом у нее начало ломить в костях, а потом жечь каленым железом изнутри. И поднялся переполох — ведь все сразу поняли, что это за болезнь. Стоило какой-нибудь живой твари подать голос, как сразу же раздавались вопли женщин, которые криками отпугивали посланника тьмы, колдуна, исподволь изводившего душу Онжали. С факелами, вооруженные до зубов, как на сражение, выходили мужчины и рубили все, что скользит, ползет, летает в воздухе, вплоть до самых безобидных букашек. Но увы — то были ни в чем не повинные живые существа, божьи создания, такие же смертные, как и человек, и больная не поправлялась. И вот как-то вече ром, когда Жан-Малыш стоял под свисавшей с его хижины сухой осокой, он заметил над крышей жилища старшей жены медленно парящую сову и выстрелил. Сраженная наповал птица испустила надсадный вопль, который перешел в громкий жалобный стон, и у самой ограды усадьбы о землю грохнулось женское тело. То была отвергнутая им жена. Он сразу узнал ее, хотя лицо оборотня превратилось в человеческое лишь наполовину. Ее было повели к месту казни, но по дороге она испустила дух, и тогда, привязав к стволу дерева, ее пустили по течению Сеетане, чтобы пресные воды унесли нечистую в море, откуда уже никто не возвращается…
Онжали ненадолго ее пережила. Забыв обо всем на свете, исходя слезами, Жан-Малыш лежал возле умирающей, а вокруг его хижины стоял недобрый гул пересудов. И когда ему показалось, что жена уже покинула его, она на мгновение пришла в себя, чтобы подарить ему последнюю легкую, чуть кокетливую улыбку и тихо промолвить извиняющимся голосом, который, прежде чем сорваться с ее губ, казалось, пронесся над бездонными пучинами:
— Вот видишь, жизнь что сумасбродная женщина, а поскольку я для тебя не одна женщина, а целых полторы, то и сумасбродства во мне оказалось побольше; ну а ты — кем же ты был на самом деле, друг мой дорогой, мой бык в праздничной упряжи? Ну скажи, кем, а?..
Если не считать слез по покойной, гостя короля вроде не в чем было упрекнуть. Он никогда не сворачивал со стези доброты и сердечности, ко всем женам, которых ему приводила хозяйка очага, относился одинаково, ни одной из них не отдавая особого предпочтения, ни одну не выделяя. Но все же было в укладе его жизни нечто подозрительное, какое-то чудачество, граничащее с непристойностью, будто он переступил грань допустимого в отношениях между мужчиной и женщиной. Об этом начали поговаривать сами жены Жана-Малыша, потом молва обошла всю деревню. Ее умело раздули кумушки, растолкли ее в ступах вместе с просом; вылетела она мухой — возвратилась слоном; сестрички Онжали перепугались и вернулись в родную деревню, захватив с собой коров, глиняную посуду и детей, которых рождали на свет от семени гостя короля и клали в пустую колыбель хозяйки очага…
И тут Жан-Малыш понял, что остался с пустыми руками, что никогда они не были так безнадежно пусты с самого дня его появления в деревне Низких Сонанке. Конечно, он пользовался расположением короля, подарившего ему радость семейного очага, больше того, он был другом его доброго, верного сына Майяри, но ни одна пядь земли, ни одна соломинка и сухая травинка с крыши хижины, ни одна капелька крови, что текла в жилах его сыновей, не была собственностью чужестранца, которым он так и остался. Одно только и принадлежало ему в этом призрачном, быть может, несуществующем мире — сердце Онжали…
4
Каждый год, как только созревало просо, Низкие Сонанке несли кушанья из нового зерна в дар умершим, в черную пещеру, ту, о которой говорил сын короля на песчаном островке — Лодке богов, на следующий день после того, как Жан-Малыш упал с неба в Африку. Через саванну текли ручейки людей, они сливались вблизи пещеры, и три ночи подряд живые пели и плясали с мертвыми, угощали их своей снедью в освященных глиняных чашках.
На всех выходивших из пещеры Тенях была одинаковая синяя, сливавшаяся с ночью одежда: они и правда казались ожившими сгустками мутной ночи. Жан-Малыш знал, что ни одна Тень не может его узнать, потому что помнили они только свою кровную родню, членов своего семейства. Но он не пропускал ни одного года, с нетерпением ждал появления Онжали, любил смотреть, как величаво выходит она в своем сумрачном саване, как расспрашивает близких о новостях, а потом, усевшись напротив, беседует с каким-нибудь родственником из деревни Гиппопотамов, изящно подхватывая кусочки еды из лежащего между ними блюда. Глаза ее были подобны двум серебряным полумесяцам, отражавшимся в зеркале спящего озера, и, когда она выходила из грота, они, весело, по-детски ярко блестя, перебегали от одного человека к другому, но никогда не задерживались на чертах Ифу’Умвами…
Прошло время, и наш герой устал от этого беглого, не узнающего его взгляда, и он забыл дорогу к пещере мертвых; теперь он жил один, на самом краю деревни, в хижине на сваях, которую соорудил из жердей и побелил известью, как когда-то делали в Лог-Зомби…
Ему уже исполнилось пятьдесят лет, но тело его было крепким и блестящим, как только что отлитая из бронзы колонна. Лишь там, у пещеры, от безнадежного ожидания того, что Онжали его узнает, у него появились первые серебряные пряди; жизнь казалась дуновением ветра, ноги словно скользили по этой призрачной земле. Из оцепенения его вырвала война. Началась она со слуха, с некоего слепого пророчества, которое обещало Пожирателям еще тысячу лет господства. Несколько воинов-одиночек, «людей из чащи», перешли реку, идя напролом, уничтожая на пути все живое, пока сами не наткнулись на копья. И тогда король Эманьема приказал отнести себя к Сеетане, и обратился он к тем, что собрались на другом берегу, с такими словами:
— Добрые соседи, благородные воины, послушайте глас седин моих…
Но через реку донеслись насмешки:
— Эй ты, старая баба, ты сперва напяль на себя юбку, вот тогда мы тебя послушаем…
— Добрые соседи! — воскликнул надломленным голосом король. — Поверьте мне, лучше толочь просо, чем точить мечи; война — это торжество смерти, это источник тысяч несчастий, и если то белое облако, что прилетает с побережья…
Стрела прервала короля на полуслове, и его отнесли в тень дерева. Пока с обоих берегов неслись проклятия, он шепнул что-то на ухо Майяри, и его не стало — с величайшим спокойствием ушел он из жизни. А сказал он вот что: помни, сын мой, местью мира не улучшишь. Но слова эти подхватил и унес бешеный, всепожирающий вихрь такой жестокости, какую Жан-Малыш и представить себе не мог, хотя о многом был наслышан. Кровавое безумие и ему помутило разум, и вскоре имя его стало легендарным, а в одной из сложенных о нем песен говорилось:
Стремителен как волк и столь же лют Врага любого он настигнет И повергнет вмиг…Не однажды его мушкет, заряженный железной кар течью, наводил ужас на врагов, наседавших на нового короля, нежного и верного его друга Майяри. Но Пожиратели одолевали своей военной выучкой, а их утонченная жестокость заставила бывших рабов дрогнуть, отойти к долине реки Нигер. Как-то ночью Жану-Малышу приснилось, что он рвет врага клювом и когтями. Открыв глаза, он обнаружил, что превратился в ворона, распростершего могучие крылья над молодым королем, который спал подле него в их общей палатке. Усилием воли он переместился в человеческое тело, потом опять обернулся вороном, и так четыре или пять раз, пока не убедился, что полностью овладел превращением из человека в ворона и из ворона в человека. И вот, объятый гневом, с яростно взъерошенными перьями, он тенью скользнул из палатки короля и полетел к лагерю неприятеля, где устроил кровавый пир — до утра рвал врагов клювом и когтями. Когда он вернулся к палатке и обратился в человека, то увидел, что покрыт кровавыми пятнами, будто мясник. Он сбегал к ручью, потом тихо, чтобы не разбудить друга, лег спать; то же самое проделал он и на следующую ночь, потом на третью и во все последующие ночи, пока над лагерем бывших хозяев не повеял ветер безумия…
И тогда над небом Пожирателей пронесся другой слух, по которому выходило, что пророчество было пустым тщеславием. И когда этот второй слух заглушил первый, когда последний неприятель возвратился на свой берег Сеетане и скрылся за зеленой стеной в том самом месте, откуда некогда вышли первые боевые отряды Пожирателей, Низкие Сонанке отыскали останки короля Эманьемы и захоронили их рядом с могилой льва, ибо лев был покровителем его рода. Потом устроили поминки по тем, кто пал на поле брани, а деревенский певец призвал погибших как можно быстрее вернуться на землю, возродиться из женского чрева, чтобы опять наслаждаться солнцем. Потом он долго славил подвиги Ифу’Умвами, оправдавшего свое имя, а новый король послал к нему молодых красавиц, таких же юных обольстительниц, каких некогда приводила к нему Онжали; но наш герой с улыбкой отказался и ушел в свою хижину на сваях, чтобы жить в одиночестве, по велению своего сердца…
И занялся он земледелием — женской работой: возделывал клочок земли, засеянный просом, сорго и сладким картофелем; совсем потерял вкус к охоте, которая напоминала ему обагренные человеческой кровью руки. К исходу дня он усаживался у хижины под соломенным зонтиком, который он медленно переставлял вслед за движением солнца. Он любил смотреть, как на землю черным занавесом падает африканская ночь, и, устремив свой взгляд в дрожащую мглу забвения, он слушал с каждым днем все более близкую, звенящую тонким хрустальным дождем музыку звезд и день ото дня все более далекий людской гомон в деревне на холме…
Иногда по вечерам в его пустой двор приходил король. Он сильно изменился, этот мальчик с золотыми кольцами: теперь на его лысом черепе покоилась корона его предка — М‘Панде, а хилое костистое тело тряслось мелкой неудержимой дрожью. На месте нежных выпуклых глаз жеребенка чернели теперь провалы глазниц, на самом их дне мерцал изнуренный взгляд вконец заезженной клячи, которая упорно тянет свой воз; так тянул Майяри, в великой своей немощи, все племя свое…
Король приходил всегда один, опираясь на копье, как на трость. Он сам открывал калитку ограды, молча усаживался напротив, и так вот сидели они и молчали, глядя друг другу в глаза, пока один из них не раскуривал трубку или не решал понюхать табачку. И тогда другой говорил: «Дай отвести душу, дружище!» — и они обменивались трубкой или кисетом табака, ради удовольствия угостить товарища, — вот и все слова, что они произносили в такие вот звездные вечера. Хорошо, очень хорошо понимали они, что все их разделяет: и живые, и мертвые, и даже сами боги, да, что ни возьми — все зияло пропастью между ними, кроме дружбы, конечно, потому-то они и хранили при себе все, что лежало на душе. Иногда Жана-Малыша так и подмывало предупредить короля, помочь ему, рассказав то немногое, что он знал о белых людях, чья сила заключалась, как это ни удивительно, не в пушках, вовсе нет, а в том, что приходило вслед за грохотом орудий. И вспоминались ему фотографии из старых газет и журналов, мрачные пожелтевшие картинки, на которые он ребенком никогда не обращал внимания, весь поглощенный Африкой своей мечты. Он горел желанием обо всем рассказать — и молчал: ведь все, что должно произойти, на самом деле уже произошло, ведь это будущее было не настоящим будущим, а далеким-предалеким, погребенным на кладбище времени прошлым. Горел желанием, страдал и все же помалкивал об этом, ибо до друга подобные речи все равно не дошли бы. И всегда после такого вот упорного молчания король опускал ладонь на плечо Ифу’Умвами и с улыбкой говорил: добрая беседа ушам в усладу, это каждый знает… потолковали — и будет, а теперь пойдем со мной, дружище, взойдем на холм, только не оставайся здесь один, наедине со звездами, не оставайся!..
Жан-Малыш всегда вздрагивал, когда слышал это «наедине со звездами», потому что именно так говорили в Лог-Зомби в таких вот случаях, когда кто-нибудь запрокидывал голову к небу в своем ночном одиночестве. Он умывался и провожал короля до деревенской площади, до дерева Старейшин, где разговоры вскоре сменялись танцем. Всякий раз наш герой собирался плясать только так, как принято у Низких Сонанке. Но барабан завораживал его, незаметно уносил далеко-далеко, в иные времена, иные края, будил в душе иную мелодию, и, забыв обо всем на свете, бешено несся он в вихре танца, рассекая воздух широкими взмахами рук, которые сами будто говорили, воспевая миры, что лежат за горами, лесами и долами, великие яростные стихии, борьбу и геройскую смерть…
И все молча расступались, глядя на одинокого танцора, который с годами кружился все легче и легче: когда он взлетал под самую крону баобаба, его ослепительно белые волосы пушились, словно хлопковый куст на ветру…
В те дни, когда король не навещал его, Жан-Малыш дожидался, пока не затихнет деревня, не смолкнет вечерняя песня тамтама, последний шепот голосов в хижинах, глухое, сонное ворчание собак. И тогда он глубоко вдыхал живительный ночной воздух и, с улыбкой предвкушая упоение бескрайней далью, едва слышно произносил на исковерканном креольском языке, над которым жители Лог-Зомби посмеялись бы вдосталь:
Над темными листвами Над людскими головами Над алой пастью льва Расправь черны крыла…Потом он делал несколько шагов и, поднявшись с легким шелковым шелестом в воздух, высоко взмывал в ночное небо; опьяненный полетом, он постепенно успокаивался по мере того, как деревенские хижины превращались в мелкую беловатую гальку, спиралью вьющуюся по холму, будто вдавленную детьми в конус песчаной крепости. Он любил купаться в невидимых воздушных потоках, впадавших один в другой, словно земные реки. Случалось, он отдавался во власть течению, плыл, словно оторвавшийся от цветка лепесток, пока светлеющий горизонт не заставлял его возвратиться в деревню. Но чаще он выбирал поток, который уносил его к землям племени Гиппопотамов, чуть выше устья Нигера, — он так любил смотреть на величавое течение этой могучей реки, с божественно-невозмутимым спокойствием несущей вдаль свои воды; и там, кувыркаясь в ночной черноте, он падал вниз к широкой серебряной ленте, садился на дерево или на скалистый выступ покинутого людьми берега…
Ни одна птица, ни один зверь не обращали на него внимания. Старый как мир закон связывал всех приходивших на водопой живых тварей: у каждой было свое отведенное ей на песчаной отмели место, своя заводь, свое озерцо. От этих бессловесных существ веяло незыблемой, вселяющей покой истиной, и, прежде чем отправиться в обратный путь, Жан-Малыш долго, с наслаждением проникался ею. Правда, иной раз перед самым взлетом он застывал в нерешительности, его вдруг тянуло к побережью: хотелось разгадать тайну негра Бернуса в широких шароварах и красном колпаке с кисточкой. А если бы ему хоть чуточку повезло, он, глядишь, и смог бы попасть на корабль, отправляющийся на Гваделупу давних времен, еще до рождения матушки Элоизы. Эта мысль немало его забавляла, он любил помечтать, пофантазировать по этому поводу, хотя в глубине души пони мал, что никогда не решится оставить в своем прошлом похороненную в земле Низких Сонанке Эгею. Но иногда он спрашивал себя, как бы в шутку: а была ли Онжали в самом деле Эгеей или нет; может, тоскуя по одной, он силой увлек другую в свои мечты? — просто-напросто поймал в сети своих грез эту девушку, что стояла на берегу Нигера в длинной белой, ниспадавшей до пят одежде?.. В последнее время к нему приходили и другие странные мысли, они проникали в рассудок, будто сорная трава, которую потом не всегда удавалось вырвать. Так, например, его не переставал мучить вопрос, действительно ли он случайно очутился в этой Африке стародавних времен: а может, он попал как раз туда, куда следовало, может, именно Чудовище перенесло его в ту мечту, в те края и века, к которым в глубине души он всегда стремился? Может быть, люби он, как подобает любить, маленькую Гваделупу, не глодал бы его этот червь неосознанной измены и оказался бы он среди героев прошлого: рядом с Ако, Мундуму, Н’Деконде, Джукой Великим и другими? Но почему сам Вадемба с такой любовью говорил ему в свой смертный час о родной деревне, почему? Разве не посылал он его, сам того не желая, на верную погибель? Может, этот старый Змей, свернувшийся в расселине скалы, тоже слишком размечтался об Африке, может, он тоже попался на удочку своего воображения?..
Вот какие видения возникали, захлестывали его, словно буйная трава, с которой он уже и не в силах был совладать; ох уж эти мысли человеческие, вздыхал старый ворон, топорща в предрассветной мгле перья, прежде чем полететь назад в деревню, — запомните, дамы и господа, нет ничего более быстрого и цепкого, чем человеческие мысли, так-то вот…
Как ему не хотелось возвращаться к людям! Через силу взмывал он в небо и, долетев до спящей деревни, неслышно спускался вниз, сужая круги, а потом садился едва заметной тенью посреди своего двора…
Однажды он слишком долго задержался на берегу Нигера, и, когда спохватился, на востоке уже поднимался розовый туман. Он еще помедлил, но наконец взмыл в небо; странно затекшие крылья не позволили ему наверстать упущенное время. Боль в суставах нарастала, крылья тяжелели, беспорядочно молотили воздух, так что, когда он подлетал к деревне короля, солнце уже почти выплыло из-за горизонта. Последним усилием воли он заставил себя перелететь еще через несколько крыш, наконец сел у входа своей хижины, сделал два-три шажка в тень на вороньих лапках и обернулся человеком; и в этот миг из сумрака возник целый лес рук и послышался полный далекой тихой грусти голос Майяри:
— Что ты нам теперь скажешь, дружище? Наш герой ненадолго задумался, остро почувствовав хрупкость этого мира, который мог исчезнуть, лопнуть, как мыльный пузырь, от малейшего дуновения; и тогда он решил не разрушать иллюзий Низких Сонанке, в последний раз поддакнуть им, сказать то, что они хотели бы услышать, и с улыбкой ответил:
— О милостивый король, я повстречался с глазу на глаз со львом, и страх придал мне крылья…
5
На суде Старейшин, который состоялся немедля, под еще влажной, искристой от утренней росы кроной баобаба, король Майяри произнес длинную речь в напряженной, недоверчивой тишине толпы. Выбирая самые проникновенные слова, он напомнил историю предка Ифу’Умвами — человека, обратившегося вороном, чтобы прилететь к жилищу своего недруга. Насколько ему, королю, было известно, никто не подумал тогда обвинять героя в колдовстве, ведь все поняли, что его род в дружбе с родом воронов; а разве Ифу’Умвами не был потомком Гаора? — вскричал король надломленным голосом, разве не мог он унаследовать этот дар, оставаясь человеком, а не оборотнем?
Жан-Малыш, которого привязали за ногу к дереву, чтобы он не улетел, уже чувствовал в легком утреннем ветерке запах близкой смерти. После суда толпа молча отвела его к месту казни, где он вырыл яму в свой рост. Он выпрямился в ней, отбросив лопату, и посмотрел в лицо своим друзьям — Старейшинам, которые стояли перед ним плотной стеной, собрав у ног груды острых камней. Его развязали — ведь известно, что с наступлением дня колдуны совсем беспомощны, как вытащенные на берег акулы. И, вдыхая свежесть раннего утра, наш герой спрашивал себя, что мешает ему стрелой взмыть в небо, начать новую жизнь, полететь к океану, попробовать добраться до Гваделупы прошлого века, ведь он так часто мечтал об этом по ночам, на берегу великого Нигера. Так он думал, а король все не решался подать сигнал. Его левый глаз превратился в узкую щелку, как у ребенка, Щурящегося на яркий солнечный свет, по белой его щетине скатилась слезинка, и, заметив ее, наш герой с улыбкой промолвил:
— Майяри, старина, ну зачем ты родился на свет с такой нежной душой? Как ты можешь жить в этом лютом мире, где все так перепутано, закручено, непонятно, ведь ты же не умеешь смеяться, когда хочется плакать, плясать, когда нужно идти, видеть с закрытыми глазами ну как ты можешь жить, я тебя спрашиваю?
И тогда, коротко всхлипнув, старый король Майяри бросил первый камень, другие последовали его примеру, и посыпался, нарастая с каждой минутой, каменный град. Когда острый обломок скалы попал ему в голову, он опрокинулся навзничь и вдруг смутно вспомнил, что Вадемба, предсказывая ему будущее, обещал мрак и одиночество, горе и кровь. Превозмогая боль, он встал на ноги, но тут же был повержен новым ударом, и так повторялось несколько раз. Глаза его уже ничего не видели, невыносимо тяжело стало подниматься, вслепую угадывать, откуда летят камни, чтобы повернуть лицо к толпе, встретить смерть стоя, как и подобает мужчине. Но вот вдруг ему стало удивительно легко вскакивать на ноги. Он почувствовал себя воздушным, невесомым об лачком под лучами утреннего солнца и, изрядно удивившись, спросил себя: кто же теперь бросает вызов толпе — тело его или душа?..
Жан-Малыш все еще стоял в слабом мерцании рассвета, когда он почувствовал жжение, будто от соли на открытой ране, и вспомнил, что именно так должны ощущать солнечный свет мертвые. Он тотчас же пригнулся, скользнул в свое бывшее тело, погребенное под грудой камней, и застыл в нем, дожидаясь, когда тьма возвестит его час. Будто сквозь серую кисею, он видел силуэты людей, которые все еще заваливали его каменными глыбами, спешили, прежде чем броситься со всех ног прочь. Протекли часы, светлым пятном на сером фоне стояло над его могилой солнце, потом начало смеркаться; ночь медленно пожирала остатки дневного марева, и где-то далеко-далеко послышалось прерывистое пение, сливавшееся с глухими очередями тамтама.
Когда он выбрался из ямы и направился к деревне, в небе блестела скорбная луна. Он расстался со своим мертвым телом, заваленным обломками скал, как змея со старой кожей. Подошвы его то уходили под землю по самую щиколотку, то скользили над поверхностью тропы, когда он старался ступать полегче своими длинными, в седых волосках ногами; потом он освоился с новым своим состоянием и пошел обычным шагом, мог даже, если вздумается, наблюдать, как стелилась трава под его прозрачными ступнями…
У подножья королевского холма паслась корова, и покойного опечалило, что ее широко открытые глаза его не замечали. Потом, в деревне, он остановился возле парочки укрывшихся в тени влюбленных, которые тоже его не увидели, и печаль его усилилась. Вокруг дерева старейшин собралась огромная толпа. Никто уже не пел, слышны были только глухие вздохи тамтама; он подошел ближе: кожа барабана была прикрыта материей, приглушавшей звук. Все это показалось ему весьма странным. Он-то думал, что здесь веселятся, а на лицах читались тоска и грусть, будто на похоронах. Под сенью шуршащей листвы баобаба краснело пламя костра. За костром, прислонившись спиной к стволу дерева, сидел на резном табурете его друг Майяри, глаза его были закрыты, лицо задумчиво. Вдруг по щекам короля покатились слезинки, и, не поднимая век, он затянул песню, ту самую, что доносилась до Жана-Малыша, когда он лежал в могиле, — мелодия ее была совсем не веселой, как ожидал наш герой, нет, из уст Майяри лилась спокойная, тягучая, преисполненная печали похоронная песнь, та самая, которую пятьдесят лет назад шептал над пронзенным копьем чужестранцем мальчик с золотыми кольцами:
Родится зверь оставит след умрет Уйдет во мрак уйдет в глухую ночь И в черное ничто Промчится птица в небесах умрет Уйдет во мрак уйдет в глухую ночь И в черное ничто Стремится рыба в глубину…Вот так в песне перечислялись все живые существа, каждому из которых воздавала последнюю почесть скупая барабанная дробь, пока не пришел черед родиться из-под пальцев бога, пройти по земле и умереть человеку. Потом наступила могильная, пронзительная тишь, и, уставившись на пламя костра, Майяри заплакал, уже не сдерживая слез. Собравшиеся не сводили с него глаз, и, когда вздымалась его грудь, все испускали такой же тяжкий вздох, будто горе короля было их горем. Страх перед колдуном прошел, и Низкие Сонанке оплакивали теперь человека, которого они знали, любили и даже возвысили, хоть и не был он их крови, их племени. И, почувствовав от всего этого великое облегчение, покойный спустился с другого склона холма, подошел к своей хижине и увидел, что к нехитрому его добру никто не притронулся, чего он весь день опасался, лежа в могиле: Целыми и невредимыми остались мушкет, пороховница, котомка, вещий браслет и пояс, блеснувший в лунном свете пряжкой, когда он накидывал его на бедра. Тут сзади к нему подбежала соседская собака и, запрокинув морду, завыла так, как воют звери, почуяв Тень. И тут поднялся, захватил весь королевский холм оглушительный шум, со всех сторон неслось: «Оставь нас в покое, оставь живых в покое!» Этот крик погнал его прочь со своего двора, и он быстро достиг саванны, в которой хозяйничали ночные звери. У него оставалось три дня, чтобы посетить дорогие его сердцу места, прежде чем отправиться в потусторонний мир. Но его глубоко задели, оскорби ли людские крики, они ранили, как те камни, что недавно летели в него, и, сбросив с себя прах этого света, наш герой сразу ступил на тропу, ведущую к пещере мертвых, до которой добрался чуть свет, за миг до первого луча солнца.
Вниз, в самое чрево земли, вели сглаженные несметными поколениями ступени винтовой лестницы, тьма густела, становилась осязаемой, проникала в горло вязкой черной жижей. Еще ниже ступени обрывались у входа в следующую, такую же, как верхняя, пещеру с высокими покатыми, будто церковными, сводами; она, будто женское лоно, была скрыта в толще скалы. Он вошел в нее и оказался на таком же, как там, на земле, выступе такой же горы; правда, не небо, а каменная твердь простиралась над ветвистыми, бесконечно древними баобабами; то были подобия земных деревьев, и произрастали они на самой границе того и другого света, как утверждали Низкие Сонанке. Все естественные земные цвета едва виднелись сквозь легкую сероватую пелену. Пелена эта была гораздо тоньше, чем та дымная мгла, что спускалась днем на Гваделупу, — правда, спускалась ли или еще должна спуститься, он толком уже не знал. Жан-Малыш в замешательстве помял в руках клочок травы: трава была такой же нежной, как и та, земная. Невольно улыбнувшись, он спустился с горы и направился к деревне короля. У входа в деревню, у небольшого озерца, из которого женщины брали воду, паслись голубые коровы; уже без удивления узнавал он деревья, тропинки, рощицы, возвышавшиеся за хижинами с резными дверными проемами; да, правы были старики: подземный мир — точное подобие земного, только он окутан вечной туманной дымкой…
КНИГА ШЕСТАЯ
О том, как Жан-Малыш спустился в Царство Теней и как вышел оттуда; сказать-то оно легко, друзья мои, а вот сделать, сами знаете, ох как непросто. Поди-ка попробуй!..
1
У подножия холма на нижних ветвях фигового дерева висели, будто сохнущее белье, синие саваны, в какие облекают мертвых. Самый большой из них принадлежал, как видно, совсем древнему покойнику: материя почти совсем выцвела, истлела от незримых прикосновений времени. Жан-Малыш накинул его на плечи и вошел в деревню мертвых; первым, кого он встретил, был юноша, убитый копьем лет двадцать тому назад во время войны с Пожирателями. Покойный сидел возле своей хижины в глубоком раздумье, обхватив лоб руками. Заслышав шаги Жана-Малыша, он тяжело, точно старый муфлон, поднял голову и взглянул на пришельца глазами, подернутыми тонкой серебряной пеленой, полными тьмы и одержимости.
— Здравствуй, — рассеянно произнес он, — привет тебе, пришедший издалека…
— Здравствуй, — вздохнув, ответил Жан-Малыш.
— Почему ты на меня смотришь так, будто мы встречались при жизни, чужестранец?
— Я носил тебя на руках, — сказал Жан-Малыш.
— А как тебя зовут, чужестранец?
— Я знал твоего отца и отца твоего отца, — продолжал Жан-Малыш, — я нянчил тебя, танцевал на твоей свадьбе и хоронил тебя…
— Очень жаль. У тебя доброе лицо, и голос твой ясен и правдив, но если мои глаза и видели тебя там, наверху, а уши слышали, то я не унес об этом воспоминаний под землю; прости меня, чужестранец, и иди своей дорогой…
Жан-Малыш попрощался с ним и зашагал по улицам, которые были полны Теней: Теней воинов с погасшим взором, и сонных львов, и ланей, и змей, и полевых мышей; и охотники, и их былая добыча — все пребывали в одном и том же топком безмолвии, все были одинаково бесстрастны. Лица некоторых покойных, из иных поколений, были ему неизвестны, но многих он знал по имени по прожитой жизни, — например, короля Эманьему, хрупкое тело которого было простерто поперек дороги, а лик, как и у других, обращен к каменному своду. Все эти знакомые и незнакомые Тени усопших недавно или в былые времена людей вздрагивали при его приближении, потом, воздев глаза к небу, принимали прежние позы, будто куклы, которыми управляли невидимые нити, тянувшиеся от них в верхнюю деревню, на освещенную солнцем землю. Неужто это и есть те всесильные обитатели загробного мира, что вершат судьбами людей? — спрашивал он себя в замешательстве, великие покровители рода человеческого, которых умоляют, почитают, лелеют даже в снах своих, без участия которых ничего не случается в подлунном мире?!
Он только на миг задержался возле Онжали, лицо которой показалось ему вдруг пустым, словно клетка, из которой выпорхнула птица; потом, пожав плечами, пересек площадь с баобабом, спустился с другого склона холма и направился к владениям Пожирателей…
Там, на берегу реки Сеетане, из-за зеленой стены в него полетели камни…
Изгнанный предками, Жан-Малыш укрылся в тенистой роще, чтобы спокойно поразмыслить о своей участи сбившегося с курса корабля, без руля и без ветрил дрейфующего под беззвездным небом в бескрайнем море. В этом мире, куда его занесло словно тополиную пушинку, жизнь была не совсем жизнью, а смерть не совсем смертью, даже на время нельзя было положиться — оно отставало на целый век, как старый будильник, забытый на пыльной этажерке…
Минуло три дня, и пришла ему в голову мысль: раз Царство Теней простирается под всем миром, как считали Низкие Сонанке, не попробовать ли ему добраться до Гваделупы; пусть это крохотный, совсем незаметный на земных картах островок, но ведь он существует. Может быть, мертвые Лог-Зомби, всегда любившие поговорить о рае и аде, и вправду находятся под горами и долами острова, привычно копошатся себе потихоньку в тенечке, будто так и надо, и ни до чего-то им нет дела, и даже отсутствие солнца, даже безумный мрак, захвативший весь верхний свет, их не волнует; а чего им волноваться, этим потомкам рабов без роду, без племени, как они сами себя называли, этим богом обиженным бедолагам, этим букашкам, занесенным сюда шальным ветром?
— Да, — твердо решил он, — там мое место, под пригорком красной земли на семи ветрах, среди покойных, которые узнают меня и не спросят: «Кто ты, чужестранец?»
2
Целую вечность и еще одну вечность искал он дорогу, тропу, хоть какой-нибудь след подземного хода на Гваделупу, но все напрасно. Ни один из покойных никогда и слыхом не слыхивал об этой стране-песчинке, и даже те, кто знал о далеком океане, не могли точно указать путь к нему. И постепенно покидала Жана-Малыша надежда отыскать путь на родину, а собственное потустороннее существование превратилось для него в бесконечный поток, или, если хотите, в бескрайнее море, на котором кое-где вздымались и тотчас бесследно исчезали круглые спины волн. Такой волной было, например, для Жана-Малыша то время, когда он пустился вовсю расточать силу своего мужского начала в Царстве мертвых. Но и в минуты сладострастия на лицах женщин лежало плохо скрываемое безразличие, и вскоре нашему герою приелись эти танцы без музыки, которые вечно оборачивались притворством.
И понял он, что Царство мглы — это Царство скуки, так ведь и говорили ему Старейшины деревни на холме, старые-престарые, уже впавшие в детство беззубые деды, что смотрели в небо слепыми бельмами глубоководных рыб: конечно, подземный мир был отражением верхнего, но отражением в мутном и холодном зеркале…
Тысячи раз проплыло солнце по каменному своду в неясной сине-зеленой тишине Царства мертвых — так пятнышко ряски проплывает по поверхности пруда; тысячи селений повидал Жан-Малыш: на острых скалах и в глубоких пещерах, за крепостными стенами и высокими глиняными колоннами, с богато разукрашенными, как дворцы, хижинами; встречались ему и деревни на сваях, и дома, выстроенные, как птичьи гнезда, на вершинах могучих деревьев, с лестницами из лиан, которые жители убирали на ночь, памятуя о тех происшествиях, что случались с ними под настоящим солнцем — тем, что рассеивает мглу…
На всех обитателях Царства были неизменные синие саваны, точь-в-точь как те, что он видел в деревне короля — все пребывали в тех же безучастных позах, устремив взоры вверх, в мир света, в ожидании хоть какого-нибудь знака, привета от живых или хотя бы капли пальмового вина, сбрызнутого на их могилу родственниками. Мертвые не ведали покоя — сердца их походили на потревоженные ульи. В дневное время, когда пятнышко ряски плыло по пруду, они следили за жизнью родной деревни там наверху: незримые, провожали сестру к ручью за водой сына или другую родню — на рыбалку или охоту, на просяное поле, а то и на войну, где также старались помочь живым. А с наступлением ночи они проскальзывали в головы спящих, чтобы дать им совет, подсказать средство от какого-нибудь недуга, а главное — призвать к соблюдению старых обычаев, ведь они были их ярыми, непреклонными защитниками. Какую бы жизнь они ни прожили, как бы ни исстрадались за свое земное бытие, верхний мир неизменно представлялся им в радужном свете; они только и мечтали о том, чтобы побыстрей вернуться на поверхность и прожить под солнцем еще один земной срок. Самые осмотрительные готовились к этому всерьез и, прежде чем расстаться с синим саваном, словно бабочка с коконом, тщательно подбирали себе время возвращения, оценивали преимущества той или иной семьи, нрав будущей матери. Но большинство из них не были столь разборчивы и, едва попав в Царство Теней, из кожи вон лезли, прямо с ума сходили: с раннего утра следили за женщинами, идущими там, наверху, по воду, стараясь не упустить случая и прошмыгнуть в первую приоткрытую щелку…
Единственной их отрадой была любовь — не земная, требующая соблюдений приличий, а разгульная, не знавшая ни меры, ни запретов.
Правда, самые древние Тени не находили в любви никакой радости, а когда этому дивились те, кто недавно спустился в подземное Царство, почтенные старцы восклицали: да на что нам нужны эти любовные услады, если мужчины лишены семени, а женщины не способны породить нам потомство, на что, скажите?!
Вот уж посмеялся Жан-Малыш, от всего сердца посмеялся над жителями королевской деревни, считавшими покойных грозными, всесильными духами, без которых ничто не обходилось на земле: даже просо и то без них не взойдет, ну какой может быть урожай, если мертвые не дунут на корни всходов?! — утверждали эти наивные души; а на самом-то деле все это пустая болтовня: ведь мертвые только и могли, что повелевать снами живых, а больше ничегошеньки…
И были они что жалкие, выброшенные на берег рыбешки, еле шевелившие жабрами в тщетной надежде на прилив. Повсюду в Царстве Теней учтиво встречали чужестранца, дети склонялись перед ним, а девушки обнажали плечо в знак уважения к его сединам. Но наш герой с некоторых пор отдавал предпочтение Теням Скитальцев, тем, кто, подобно ему, умер вдали от своей хижины и теперь пытался отыскать под каменным небом путь, тропинку или хоть след тропинки, ведущей в родную деревню. Кого только среди них не было: и бывшие рабы, и свободный люд, молчуны и весельчаки, знатные люди и мудрецы, задумчивые созерцатели и шуты гороховые, неуемные гуляки и аристократы, не знающие, куда себя приткнуть. Были здесь и дети: они смотрели на вас спокойно, без страха и смущения, но в глубине их невинных глаз полыхало все то же неистовое стремление вернуться в родные края. Многих оторвала от родины война, увели с собой завоеватели, другие были жертвой колдовства или, наоборот, чародеями и колдунами, гнусными душегубами, не страшившимися и самой преисподней; попадались и такие, чей сон был потревожен как раз во время дальнего ночного путешествия во сне, и это обрекло несчастных на тяжкое одиночество в чужих краях. А некоторые в смятении приходили с побережья и такое рассказывали о белых, что содрогались даже самые невозмутимые. Обычно скитающиеся Тени охотно обменивались историями, окликали друг друга через широкие долины, чтобы потолковать на привале, — глубоко тоскуя по земле, они так живописали свои былые приключения, что те казались правдивей и живей самой жизни; но вернувшиеся с побережья не теряли времени на болтовню — едва бросив два-три слова, они спешили дальше, скрывались из виду, подгоняемые стремлением побыстрей добраться до своих соплеменников, скользнуть в их сны, предупредить обо всем…
Ни Оседлые, ни Скитальцы ничего не знали о Гваделупе, а вернувшиеся с побережья уже не могли вспомнить пути назад, к океану, и указывали Жану-Малышу дорогу наугад, кому куда вздумается…
Что до Скитальцев, то они, можно сказать, были обречены на вечные странствия, и ничтожно мала была надежда на то, что они когда-нибудь отыщут свою Деревню, выберутся на солнце. С горечью говорили они, что веками кружат по Царству, все время возвращаясь туда, откуда вышли; потом, в утешение себе, Скитальцы вспоминали легенду, которую рассказывали старейшие из старейших обитателей подземных владений, те, кто давно сбился со счета прожитых лет, пройденных дорог:
«В начале всех начал, когда солнце еще не было выпущено и одна сплошная ночь застилала небо, Дава взял свой барабан и нежно-нежно прошелся по нему легкими, словно лунные лучи, пальцами. Очарованные божественным звуком, оторвались от веток и слетелись к нему со всей земли листья деревьев. И превратились листочки в мужчину и женщину одновременно, так что мужчина был женщиной, а женщина мужчиной, один с другой, одна в другом, слиты воедино, в одну человеческую оболочку. Но стоило появиться им на свет — мужчине в женщине и женщине в мужчине, — как каждому захотелось идти своей дорогой, и тогда повалились они на землю, раскинули руки и ноги, и из их общего рта полилась такая песня:
Нет-нет-нет Да-да-да Он туда — она сюда Да-да-да Нет-нет-нет Ему — охота, ей обед Муж: есть муж: Жена — жена Крыша каждому нужнаИ очень рассердился тогда Дава и в сердцах сказал: ну что за мужчина, что за женщина, ни стыда ни совести! И как дунет! — и тут разлетелись листочки по всей земле, и каждый из них стал мужчиной или женщиной, и построили люди деревни, точь-в-точь как наши: с вождями, обычаями и мертвыми, следящими за их соблюдением, а потом в небо выпустили солнце и луну, тоже поврозь…
Вот что произошло, когда разгневался Дава, создатель наш со священным барабаном, но знаем мы, что не вечен его гнев, может, завтра, а может, уже сегодня все листья опять соберутся вместе в одну человеческую оболочку, как это было в начале начал. Так давайте же, о старейшие из старейших, для кого нет тайн в луне, звездах и великом древе жизни, давайте же наберемся терпения, наберемся терпения и подождем, пока Дава снова не возьмет в руки свой барабан…»
3
Терпение, терпение, осел тоже терпел да и околел. И, махнув рукой на эту красивую сказку, наш герой решительно зашагал в глубь Царства, чтобы найти или проложить тропу, которая ведет по ту сторону моря, под пятачок буйной травы. Но напрасно он искал, напрасно перерыл, перетряс все темные уголки этого темного царства — так ничего и не нашел, даже слабого, умирающего эха Гваделупы. Порой, уже не в силах идти дальше наугад, не зная, не ведая пути своего, он совсем было решался лечь посреди дороги и замереть, не двигаться, пока не придет конец самой смерти, пока она не рассыплется в прах, как кора Пожирателей; но он все же не останавливался, упрямо шел дальше и дальше, на четвереньки становился, когда было совсем невмоготу, но все же шел и шел вопреки всему…
Время превратилось в один бесконечный поток, прошла вечность и еще одна вечность, и вот однажды он повстречал на своем пути самое одинокое из одиноких, самое покинутое из покинутых созданий — то была девушка с уродливыми губами, растянутыми изнутри двумя деревянными кружочками, которой уже не хотелось больше выбраться на солнце.
Она сказала, что родилась в далекой стране, которая лежит у края необъятной пустыни, а в пустыне этой живет племя, оно не сеет и не жнет, а следует триединой заповеди: укради, надругайся, убей! Ее род был для жителей пустыни человеческим стадом, из которого они отлавливали себе рабов. Поэтому, для того чтобы на красоту их не позарились похитители, девочкам надрезали губы и вставляли в них с каждым годом все более широкие деревянные кружки.
И решила она однажды покончить с собой — бросилась в реку, надеясь, что в Царстве мертвых все изменится. Но ее рот как был, так и остался уродливым, и с тех пор она бродила по подземным лабиринтам, там, где не могла повстречать себе подобных. По ее словам, она испытывала странное удовлетворение, когда над ней смеялись. И сколько бы она ни корила себя за это, она не могла обходиться без насмешек, они утоляли какую-то непонятную ей самой жажду сердца. Поэтому она и не предалась отчаянию: просто избрала одиночество, застенчиво про молвила в завершение своего рассказа девушка, отвернувшись, и в этот миг она была так привлекательна в своей легкой голубой тунике; ее круглая головка, узкие и долгие, уходящие к вискам глаза делали ее похожей на прелестного, чуть лукавого, игрушечного утенка…
Он тоже рассказал ей о себе, и она выслушала его, как и он ее: с интересом, достоинством и уважением, ничему не удивляясь, и понял тут Жан-Малыш, что история его, если изложить ее как подобает, окажется не хуже и не лучше, чем все другие, которые он узнал за свою жизнь. И подумал наш герой: «Вот ведь как случается — нужно было встретить самое одинокое, самое покинутое существо, чтобы раскрыть наконец свою душу, поведать эту невиданную, неслыханную бессмыслицу, какой, хочешь не хочешь, стала моя жизнь, поведать, не опасаясь, что тебя поднимут на смех. Радоваться мне этому или печалиться? Ну конечно радоваться». Они сидели у костра посреди бескрайней волнистой долины. Вокруг них неприкаянно бродили дикие звери, ползали змеи, разучившиеся жалить, бродили, мотая величественными рогами, буйволы, отвыкшие бодаться и мычать. Когда он закончил, а от костра осталась лишь кучка пепла, девушка надолго задумалась, приложив палец к виску, как бы показывая, что все поняла, поверила всему до последнего слова. Потом она открыла широкие лепестки своих губ и удивленно прошептала:
— А я, кажется, слышала о корове, проглотившей солнце…
— От Скитальца? — взволнованно воскликнул Жан-Малыш.
— Нет, — ответила она. — Я не здесь о ней узнала. Сказку эту рассказывали вечерами в моей деревне, когда я была еще маленькой. Но наше Чудовище не такое, как ваше, оно большое-пребольшое: даже самые зоркие не могли разглядеть, где его начало, а где конец. И когда оно все пожрало — и солнце, и луну, и звезды, и людей, и зверей, — на земле остались только двое: мать и ее сын, совсем мальчик, которого звали Лосико-Сико, что на нашем языке означает: «Тот-кто-говорит-смерти-да»…
— Ты уверена, что так его и звали? — прервал ее Жан-Малыш.
— Так же уверена, как в самой себе, но не больше, — улыбнулась девушка.
— Наверное, ты услышала это имя где-нибудь еще…
Девушка сочувственно посмотрела на Жана-Малыша и тихо, едва разведя странные лепестки своих губ, прошептала:
— Прости меня, я вижу, тебя тревожит это имя, я больше не стану его произносить… так вот, чтобы не утомлять тебя, я сразу расскажу, чем все кончилось: однажды, пережив тысячи приключений, герой вооружился ножом, проник в чрево Чудовища и начал там кромсать его внутренности. И он добрался до сердца и пронзил его, с те вот, и тогда Чудовище испустило страшный вопль и пало на колени, и под его собственной тяжестью не выдержали, затрещали все его кости, да-да, не выдержали и затрещали. Тут герой принялся прорубать проход, чтобы выбраться наружу, — рраз! рраз! — и едва он полоснул по огромному желудку — рраз! — как раздались тревожные крики тысяч людей, находившихся, как и он, внутри коровы: «Осторожней, тише, ты режешь по живому!» Наконец добрался он до самой кожи и — рраз! — проделал в ней широкую щель, и через эту щель один за другим вышли наружу все народы земли, а за ними солнце, луна и звезды, которые преспокойно заняли свои места на небе. Вот какую историю рассказывали детям моей деревни, — закончила она, утерев слезинку, родившуюся к самому концу повествования, — видишь, это всего лишь старая-престарая сказка…
— Слава богу, что она хорошо кончается, — задумчиво прошептал Жан-Малыш.
— Да будет тебе известно, добрый старец, что у всех наших сказок счастливый конец, не то что в жизни; а иначе зачем же их рассказывать? Но, по правде сказать, я проглотила конец моей истории, ибо с тем, «кого-я-не-назову», много еще всякого случилось, — сказала она, неожиданно рассмеявшись.
— Что ж с ним случилось, молю тебя, расскажи!
— Что ж, если хочешь знать правду, слушай: люди возненавидели героя как раз за то, что он вызволил их из чрева Чудовища. И вот однажды, когда за ним гнались недруги, он выбежал к глубокой реке и превратился в плоский камешек, ну знаешь, такой, что летит как на крыльях, если бросишь его по воде. Один из преследователей схватил этот камешек и с досады, что остался ни с чем, зашвырнул изо всех сил на другой берег реки, крикнув: вот так бы я его хватил, попадись он мне в руки!
— А дальше? — не унимался Жан-Малыш.
— А дальше камень снова стал человеком.
— Ну а потом?
— Ну а потом сказке конец, — весело сказала девушка переливчатым, как свисток с горошинкой, голосом.
И, недоверчиво тряхнув головой, будто только сейчас удивившись своему собеседнику, она воскликнула:
— Ты что же, дожил до седин и просишь сказок? Не лучше ли продолжить путь, если ты хочешь добраться до родины, о добрый странник?
— Мой путь? А есть ли он у меня, мой путь?
— Ты знаешь, — взволнованно заговорила она, — до тебя никто еще не выслушивал меня до конца, ты был живительным бальзамом для моей души, родниковой водой для пересохшего горла. Я древняя Тень и давно, очень давно скитаюсь под землей. Где я только не была, и много-много раз мне доводилось слышать о колдунье, которая знает все дороги Царства, и знает даже, как из него выбраться. Говорят, некоторые Скитальцы встречались с ней и к двум или трем она была благосклонна и указала им то, что они искали; но это страшная, ох какая страшная ведьма!..
— А как ее зовут, скажи мне ее имя! — вскричал взволнованный Жан-Малыш.
— Вижу я, почтенный старец, ты тоже исходил немало дорог, но нетерпение юности осталось при тебе. Как ее зовут? Говорят, у нее нет имени, ибо она родилась от демона и земной женщины, потому-то и осталась безымянной. Но иногда ее называют Длинногрудой Королевой, и, помнится мне, найти ее можно за этими вот горами, за которыми лежат другие горы, а за ними еще много гор, так много, как волн на море, как волос на голове…
Девушка поднялась на ноги, в невольном смущении прикрыв рот рукой, и, поднявшись на цыпочки, торжественно указала на тонкую чернильную полоску вдоль горизонта, на самом краю серого уныния равнины…
Стоя, она выглядела еще моложе, изящней и грациозней. Даже утиный профиль, как и длинная гибкая утиная шея, не портили ее. Почувствовав на себе восхищенный взгляд, девушка вспыхнула, заулыбалась, даже прошлась туда-сюда, круто поворачиваясь на цыпочках. Потом в смущении застыла, опять присела у погасшего костра и, степенно подняв брови, рассказала все, что знала о Длинногрудой Королеве, колдунье, могучей вершительнице судеб, которой известны все дороги Царства Теней. Мало кто отваживался постучать к ней в дверь, еще меньше было тех, к кому она оказалась благосклонна, ибо она лакома до человеческой крови. Главное — твердо знать, чего хочешь, и суметь этого добиться, а то пошла коза в лес, а волк тут как тут…
— Но ведь волков бояться — в лес не ходить, — подсказал Жан-Малыш. — Спасибо, милая девушка, спасибо за твою сказку, она будет мне путеводной звездой. А ты не хочешь ли пойти со мной, мой маленький цветочек, давай постучимся вместе в эту дверь!
— Нет-нет, — сказала она, испуганно отступив на шаг. — Мне не надо никакой двери, никакого пути…
— Неужели тебе все так опостылело?
— Нет, ведь я тебе уже говорила, — с каким-то непонятным упорством бросила она, — я вовсе не предалась отчаянию, я просто избрала одиночество… Настанет, обязательно настанет день, когда мне снова захочется пожить под солнцем, и кто знает, может, у меня, глупой козочки, еще будет своя весна с голубым небом и зеленой травкой…
— Да, да, этот день обязательно настанет, — угрюмо повторил ее слова Жан-Малыш, — а пока он не настал, что собираешься ты делать одна в кромешной тьме?
— А пока, — сказала она, — что бы ни случилось, пусть все будет к лучшему…
4
Прошла вечность, другая вечность, а потом еще и еще одна, позади остались горы, другие горы, а потом еще и еще одни горы, и, как волны на море, бесконечно сменяли друг друга разные народы. А Жан-Малыш все шел и шел вперед под каменным небом, и, будто пригоршни сыпучего песка, скользили сквозь его пальцы племена человеческие, и люди представлялись ему крохотными, неотличимыми одна от другой песчинками, а ведь каждая судьба по-своему светила в сумеречном мире, хранила нечто единственное, неповторимое. С тех пор как он повстречал одинокую девушку с утиным клювом, которой уже не хотелось искать свой путь и суждено было скитаться, быть может, до истечения всех времен, ту самую, что решила не предаваться отчаянию, Жана-Малыша больше не тяготили вечности, теперь он уже не боялся их, находил им место в своей душе и упорно шел вперед…
Память о девушке освещала ему путь, будто солнце: порой разум его погружался во тьму, растворялся в том, что было, есть и будет, но стоило ему вспомнить ее прелестное детское лукавое личико, как он тотчас переносился на Гваделупу, в Лог-Зомби; он помнил теперь каждый камешек, каждое деревце, каждую живую душу этой деревеньки, помнил и знал лучше, чем тогда, когда ходил по родной земле…
И настал день, когда, согласно предсказанию девушки, он оказался перед горной грядой, вершины которой упирались в каменную небесную твердь, замыкая Царство Теней сверху и снизу. Он долго, еще одну вечность, искал, пока не нашел расщелину, ведущую по ту сторону Царства. У подножья громоздились полуразваленные скалистые выступы, покрытые колючим кустарником и большими скорбными, жухлыми цветами, походившими на клочья седых волос. Посреди этого унылого места вилась тропа. Она привела его к плотно зажатой скалами пещере, в которой было светлее, чем снаружи. Пещера эта завершалась узким лазом, а за ним вдруг открылся просторный, освещенный пламенем костра зал. У очага сидела голая, невиданно худая старуха, настоящий скелет из черных костей, и ее плоские длинные груди ниспадали до самого низа живота, словно сухие листья табака. Она держала обеими руками длинную палку и помешивала ею в огромном глиняном котле, над ней гудели тучи мух, на ее лбу кишели мерзкие вши, которые ползли по щекам к подбородку, а потом опять кидались вверх, чтобы укрыться в сальных лохмах. Когда Жан-Малыш подошел ближе, она подняла острый подбородок и плаксиво проронила:
— Ох, ох, ох, бедолага неприкаянный, что надо ему здесь, на самом краю света? Неужто он не знает, что лучше не совать руку слону в задницу, а то не миновать беды — скажем, встанет слон, вот и виси у него под хвостом…
Она покачала головой взад-вперед, потом из стороны в сторону, будто выражая сочувствие гостю, которому грозила страшная участь.
— Неужто он не знает, что вступить в мое Царство легко, а вот выбраться из него трудненько?
На что наш герой, почтительно обнажив плечо и спокойно, весело улыбнувшись, промолвил:
— О моя Королева, этот бедолага давным-давно ничего, ничегошеньки не знает… Давным-давно бродит он по этому необозримому миру в поисках пути, тропы, хоть какого-нибудь следа дороги, ведущей на его родину; а знай он дорогу, разве пришел бы он сюда, на край света?
— Да уж, — усмехнулась старуха, — знал бы он дорогу, не посмел бы перейти через последний хребет…
И, бросив на него взгляд, полный неожиданного сочувствия, она спросила:
— Кто ты и как зовут тебя, о неутомимый путник?
— Меня зовут Жан-Малыш, и я простой человек, такой же, как и все.
— Откуда ты родом?
— Мою родину называли Гваделупой, — ответил изгнанник.
— Увы, не слыхала…
— Не печалься, Королева, — горько усмехнувшись.
Жан-Малыш, — моя страна столь мала, что никому не дано ее знать, а народ мой так робок, что сам сомневается, существует он или нет.
Старуха пытливо глянула на него, протянула руки к огню и долго качала головой, будто ответ Жана-Малыша доставил ей тайную радость; потом она вновь заговорила замогильным голодным голосом, в котором все еще звучала скрытая угроза:
— Сын человека, ты обращаешься ко мне так, как того требует мое звание, спасибо тебе за это. Но скажи, разве ты не удивлен, что лицезреешь Королеву в таком обличье, с безобразной, завшивевшей головой?
— А чему тут удивляться? — тихо прошептал Жан-Малыш.
— Так ли ты уверен, что в этом нет ничего удивительного? — вдруг недоверчиво и чуть грустно прошепелявила старуха.
— О Королева, — задумчиво отвечал Жан-Малыш, — с тех пор, как я скитаюсь по необозримому миру, я по-настоящему удивляюсь только одному — самому себе: почему появился на свет такой человек, как я? Вот что мне непонятно и что меня больше всего удивляет. Я скажу тебе правду, скажу потому, что раскрыть душу — не значит унизиться: я все чаще и чаще смотрю на себя как в зеркало и вижу, что я смешон.
Челюсть старухи отвисла, а глаза заблестели…
— Я-то не замечаю в тебе ничего смешного, — удивленно сказала она. — Ты не молод, это так, но лицо твое приятно, и кожа блестит, и как блестит! — будто лаковая, — завершила она, как-то странно на него посмотрев.
Потом она смущенно хихикнула, глаза ее зажглись веселым хмельным огоньком, словно светлячок обрадовался наступившему вечеру, и дрожащим голоском она произнесла:
— Ты славный малый, хоть и подлизаться не дурак… Подойди-ка ближе, возьми вот это, посмотрим, сумеешь ли ты умастить бальзамом мою спину так же ловко, как мою душу.
С этими словами старуха протянула ему зеленую склянку и, не вставая с табурета, подставила нашему герою свой длинный и узкий волосатый хребет, из которого выпирали острые, как рыбьи позвонки, кости. Молча взял Жан-Малыш пузырек, и вскоре руки его покрылись порезами, начали кровоточить. Ему показалось, что колдунью опьянил запах крови: она то и дело возбужденно поворачивала к нему свою исходящую пеной морду гиены, с огромными желтыми клыками, будто готова была впиться ему в горло. И вдруг спина ее сладостно выгнулась.
— Скажи мне, добрый человек, что мягче — моя спина или твои ладони?
— Твоя спина, — ответил Жан-Малыш.
И в тот же миг он увидел перед собой дивную спину девушки с круглыми крепкими плечами и бедрами, изгиб которых напоминал прекрасную амфору. Она повернулась к нему лицом, и его ослепила нежная, будто порожденная самой ночью красота, гладкая и благоухающая; звездно мерцали ногти и зубы, а белки глаз были ослепительно белы, так белы, что казались голубыми. Жан-Малыш никогда еще не видел такой прекрасной женщины — «если не считать Эгею», тотчас спохватился он; и, будто угадав его мысли, она с беспокойством спросила:
— Отвечай, кто из нас двоих красивей?
И рассмеялся Жан-Малыш, и изо всех сил обнял он девушку, лукаво прошептав ей на ухо:
— О Королева, самая красивая та, что сейчас ближе к моему сердцу…
Когда Жан-Малыш проснулся, он увидел, что прекрасной девушки уже не было, а сам он лежит в глубине пещеры в овальной выемке каменного пола на звериной шкуре. В нескольких шагах, у костра, опершись острыми локтями на колени и стыдливо прикрыв лицо ладонями, сидел и, казалось, дремал старый черный скелет в лохмотьях. Вдруг колдунья бросила на него холодный подозрительный взгляд:
— Добрый человек, ты не удивлен, что опять видишь меня такой?
— О Королева, если я скажу, что не разочарован, то скажу неправду, да, неправду, но что до удивления, то чему же мне удивляться? Разве ты не можешь жить, как тебе вздумается, идти куда хочется, брать и дарить, как сердце подскажет?
— Не печалься, я подчиняюсь не своей прихоти, а непреложному для меня, как и для тебя, закону. Настоящее мое тело ты сжимал в своих объятиях, а то, что ты видишь теперь, — лишь жалкая оболочка. Увы, лишь на несколько часов могу я стать молодой, а потом опять должна превращаться в этот ворох костей, в завшивевшую каргу. Поверь, это не моя прихоть, такова участь, уготованная мне богами…
— О Королева, — взволнованно вскричал Жан-Малыш, — я же сказал, что ничего, совсем ничего не знаю, а тому, кто скитается в вечной мгле, это ведь простительно, не так ли?
Челюсть безобразного существа грустно отвисла.
— Ты славный, славный человек, я вижу, что глаза прозревают, начинают видеть подлинную суть вещей. А теперь оставь меня, телу моему нужно согреться, а то оно уже начинает застывать…
Она проворно отбежала ко входу пещеры, откинулась назад, приподняла до бедер свои лохмотья и, слегка раздвинув ноги, начала выстукивать на своем животе, как на барабане, мерный ритм, припевая при этом:
Какуту Какуту Какуту Какуту ГангалаОна барабанила, а из-под подола выскакивали крошечные серенькие дьяволята и быстро-быстро выстраивались перед ней, словно солдатики перед командиром. Жан-Малыш насчитал уже двадцать два бесенка, когда она опустила лохмотья и едким, властным голосом начала отдавать им приказы. Маленькие существа засуетились, одни побежали за дровами для костра, другие опрометью кинулись вон из пещеры с каким-нибудь игрушечным орудием на плече: лопаточкой, мотыжкой, грабельками, крохотным тесаком. Они лишь отдаленно напоминали людей, на их остреньких затылках горели ярко-рыжие волосики, на каждом был длинный, до пола, фартучек из мешковины. Когда свора эта улетучилась, старуха возвратилась к очагу и простерла над огнем руки; тело ее тяжко сотрясалось, она совсем забыла о присутствии гостя, ушла в себя, унеслась в неведомые простым смертным дали…
Так, в гробовой тишине, прошло три дня, а потом она вновь превратилась в прекрасную девушку с ослепительными, почти голубыми белками. Но когда она снова стала скелетом, Жан-Малыш с удивлением почувствовал, что уже не испытывает такого отвращения перед тем, что Длинногрудая Королева называла своей оболочкой. Ему казалось, что он видит дальше уродливой внешности старухи. И хотя он так и не свыкся к окружавшим ее тяжелым духом, с царапающим слух голосом, он смог даже делить ложе с этим обтянутым иссохшей кожей призраком, который исподволь испытующе следил за человеком, избегая смотреть ему прямо в глаза. Порой она угадывала его мысли и растроганно говорила:
— Поистине начинают прозревать твои глаза, глаза твоей души, впервые в жизни открывают они веки…
И, вновь обретя свое великолепное тело, она осыпала ласками своего возлюбленного, так и таяла в его руках, пылала такой страстью, что Жан-Малыш, сам не зная почему, начинал даже волноваться за старушку…
Вскоре она доверилась ему, рассказала о своем детстве подле демона и земной женщины. По ее словам, то, что обнимал Жан-Малыш, было ее настоящим телом, а живые мощи, мерзкая оболочка старой карги оставалась для нее чужой, даже в ней самой вызывала отвращение. Она горько сетовала на несправедливость, на то, что обречена вечно пребывать в пещере, в то время как другие обитатели Царства Теней могли выбраться на поверхность через чрево женщины и вновь жить под солнцем. Со слезами рассказывала она ему о своих злодеяниях под личиной колдуньи, о том, как она коварно заманивала к себе разными посулами Скитальцев Царства Теней, а потом пожирала их. Она кормила Жана-Малыша только фруктами и поила лишь родниковой водой, потому что от любой другой пищи тело его приобретало слишком дразнящий для колдуньи запах. Чтобы обмануть старую, сбить ее с толку, она давала Жану-Малышу несколько рубиновых капель своей крови и пекла особый хлеб, который уничтожал запах его пота. Сначала она натиралась медом, потом, рассыпав зерно, ложилась и начинала по нему кататься, словно скалка по тесту. Затем собирала одно за другим все зернышки со своего атласного тела, смалывала их в муку и выпекала вкусный хлеб с золотистой корочкой, который он должен был тотчас же съесть, чтобы впитать в себя его дух; Жан-Малыш подшучивал над ней, говоря, что этот хлеб — любовная приманка, которой она завлекает его на пир страсти…
Так провели эти двое, составлявшие теперь одно целое, вечность, потом еще и еще одну вечность, хотя ничто их не связывало, кроме памяти, а память нашего героя становилась все более зыбкой и тусклой. Старуха в сонном оцепенении сидела у очага, где-то поблизости возились бесенята, а девушка была такой же свежей и неожиданно прекрасной, как в первый день. Время текло глубокой рекой, вечным неудержимым потоком, и путник начал понимать, что имела в виду Королева, когда говорила о его внутреннем, втором, мудром взоре…
И вот однажды, когда он ласкал красавицу, между ним и воплощением ночной свежести, которое он сжимал в объятиях, впервые встал образ безобразной старухи. Испуганно замерев, девушка с трудом подавила вырвавшийся у нее жалобный стон. Потом она медленно приложила палец к губам Жана-Малыша, как бы не позволяя ему возражать — ведь судьбу все равно не обманешь.
— Добрый человек, пришло время нам расстаться… нет, нет, молчи, не забывай, что молчание — золото! Жан-Малыш непонимающе взглянул на нее и заплакал: призрак старухи растаял. И перед ним вновь была девушка свежее самой свежести, переливающаяся, слове серебристая рыбка, выскочившая из волны. Она утешала его, прижав седую голову к груди, баюкала, как ребенка, приговаривая чистым, нежным голосом:
— Спасибо тебе, добрый человек, спасибо за эти слезы, которыми ты меня омываешь. Ты же знал, что так будет не всегда, что я не вечно буду с тобой. Тебе пора уходить, пора совершить то, ради чего ты пришел просить у меня помощи несколько лет назад, ты помнишь? Я помогу тебе, расчищу твой путь — так я решила в первый же день, как только тебя увидела… Но мне подвластно лишь Царство Теней, до его границ я тебя и провожу, а дальше, увы, придется добираться самому…
— А потом? — спросил Жан-Малыш, пораженный спокойной добротой ее взгляда, похожего на тихое лесное озеро, в глубине которого угадывался детский нежный трепет.
— А потом тебе придется, как и прежде, искать, скитаться, быть может, затеряться навсегда…
Она поднялась, пошла вглубь пещеры, принесла старый мушкет и котомку Жана-Малыша. На спокойном лице ее не было и тени скорби, на щеках — ни слезинки, и только алмазно блиставшие глаза выдавали ее чувства. Взглянув на нее, Жан-Малыш смирился со своей участью и накинул на себя синюю тогу с золотой каймой, вышитой для него Королевой. Она хлопнула в ладоши, и тотчас появился маленький дьяволенок: с величественной улыбкой она указала на него Жану-Малышу и промолвила, не сдержав тяжелого вздоха:
— Мой слуга проводит тебя до реки, где уже долгие годы ждет челн. Садись в него и плыви по течению, на берег сойдешь там, где подскажет сердце, это все, что я могу для тебя сделать. Запомни: берег будет концом твоего плавания, потому что, едва ты ступишь на твердую землю, челн канет в глубину, да, будет так, как я сказала, — он канет в пучину…
Жан-Малыш едва слушал эти слова, глаза его застилали слезы, жгучие слезы неутешного горя.
— Неужели это все, что ты мне скажешь после этих долгих лет?
Безмятежная озерная гладь ее взора подернулась веселой рябью, она необидно рассмеялась и сказала:
— Мое сердце спало, вот мне и вздумалось разбудить его…
5
Молодая Королева поникла, отступив в сумрак пещеры, сомкнула губы, укрыв жемчужный блеск своих зубов. На ее безупречно красивом лице, все черты которого были соразмерны и гармоничны, лучились, искрились огнем глаза, и трудно было понять, застенчива она или скрывает свои мысли там, куда никто никогда не заглянет. Она медленно отступила в тень, не сводя с Жана-Малыша взгляда, потом показала знаком, что все кончено, и, отвернувшись, с трудом выговорила:
— И последнее слово, смертный: забудь меня…
* * *
Дьяволенку трудно было приноровиться к медленной поступи Жана-Малыша: его крошечные волосатенькие ножки несли его все вперед и вперед, и он вдруг исчезал в высокой траве, словно под землю проваливался. Потом, озадаченный, он возвращался назад, не в силах постичь медлительность этих длинных человеческих ног, и, сжигаемый нетерпением, опять уносился далеко вперед, пропадал с глаз, скрывшись за бугорком, клочком травы или мшистым валуном. И все время он был недоволен, все время ехидно подтрунивал над Жаном-Малышом, без устали дразня его Самим-терпением-во-плоти или Человеком-способным-отваривать-камень-пока-тот-не-всплывет, стремясь, чем только мог, уколоть своего мучителя, но наш герой оставался невозмутим. А иногда, одолеваемый бесовским озорством, он скакал перед самым носом человека, потешно подпрыгивал, выделывая головокружительные пируэты и антраша, и, запрокинув кверху свою сморщенную, как сушеная груша, мордочку, пронзительно, с жаром принимался распевать:
О Странник в Царстве Тьмы Поверь мне будет так Бредешь ты неприкаянно в ночи Удел твой вечный мрак О странный Странник Странник в Царстве ТьмыПрошло три недели, и с высоты пологого холма они увидели реку с крутыми, ярко блестевшими, скалистыми берегами. С невозмутимым спокойствием несла она вдаль свои воды, а вдоль ее русла стояли гигантские деревья, чьи голые острые ветви упирались в каменный свод. В небольшой бухте застыла пирога, простая рыбацкая долбленка с уключиной для кормового весла. Проследив за взглядом Жана-Малыша, дьяволенок сказал, что грести не придется, потому что пирога сама знает, куда ей плыть, и легка на ходу, но все же с ней нужно быть настороже, потому что эта речная проказница может и взбрыкнуть…
Когда Жан-Малыш уселся в лодку, его провожатый снова заплясал на месте от нетерпения, но вдруг мордочка его мучительно сморщилась, и он пискливо посоветовал страннику не удивляться, если образ Королевы не покинет его. Конечно, она сказала «забудь меня», но хотела ли она этого сама? Вообще-то он должен открыть ему одну тайну: молодая Королева решила его приворожить. Но это ведь так простительно, не правда ли? — обычное проявление женской слабости, уточнил он, хитро подмигнув с видом великого знатока женского сердца.
— Напротив, — ответил Жан-Малыш, — мне бы хотелось, чтобы ее чары длились вечно…
— Не смейся надо мной, Терпение-во-плоти, и позволь мне, мелкой сошке, сказать тебе: даже самые могучие чары не вечны, и им однажды приходит конец… Одно только нетленно: человеческое сердце, ведь оно, как известно, не тверже творога.
— Да, это известно, — покорно согласился Жан-Малыш.
Пирога была выдолблена из ствола дерева, похожего на камедное, чью сердцевину гваделупские рыбаки выжигают и вырезают; но на днище этой лодки не было и следа от костра или тесака, видны были лишь тысячи глубоких бороздок, оставленных ногтями крохотных слуг Королевы…
Удобно устроившись полулежа на корме, Жан-Малыш прощально махнул рукой оставшемуся на берегу бесенку, который, с тех пор как выболтал секрет Королевы, весь трясся, будто в лихорадке. Крохотное существо тоже махнуло ручонкой, быстро-быстро, словно паучок, стелясь по земле, взобралось на холм и исчезло, растворилось в серой мгле; чалка лодки волшебным образом отвязалась, и пирога заспешила на середину реки, где она успокоилась, благоразумно отдавшись течению…
И в этот же миг образ молодой Королевы овладел его памятью властно, как порыв огненно-жгучего ветра. Ему хотелось смеяться и рыдать, он безуспешно пытался охладить тело речной водой и непрестанно думал о девушке из пещеры и о старухе тоже — ведь в конце концов, несмотря на все наговоры молодой, она была добрым существом, бедной женщиной, которая только и могла, что поколдовать над свечой да накликать на кого-нибудь беду. Особенно крепко помнилась ему молодая Королева: образ ее преследовал его бесконечно долго, возникая то из реки, то из пустынных берегов, то из каменного неба, которое становилось все более далеким, превращалось в черный купол с неясными, терявшимися в сумраке опорами.
Прошли дни, недели, и колдовское наваждение начало слабеть, вскоре от неотступного образа остались в памяти лишь длинные-предлинные блестящие косы, которые то вились вокруг его головы, то ласкали щеки. Наконец он открыл глаза и ужаснулся бескрайности мира, в котором оказался один, без друзей и врагов, и тут настал конец его долготерпению. Он воспылал желанием поскорей выбраться на берег, неважно где; о наставлениях Королевы и вспоминать не хотел, лишь бы ступить побыстрей на твердую землю, расстаться наконец с этим куском мертвого дерева, с этой проклятой пирогой, которая невозмутимо несла его черт знает куда. Иногда он начинал говорить сам с собой, произносил длинные речи, которые подчас прерывал, для разнообразия, криками, гулкое эхо которых потом долго плясало под каменными сводами. Иной раз начинал насмехаться над своим роком, забросившим его на эту реку без начала и конца, которая казалась замкнутым кольцом водной глади, смеяться над своей жизнью, которая сама так над ним подшутила, и в смехе этом он находил силы не причаливать к берегу. А когда Жан-Малыш уже и смеяться не мог, он находил утешение в том, что, растянувшись в пироге во весь свой исполинский рост и запрокинув в каменное небо голову, горланил веселую песенку реки, слова и напев которой он сочинил сам:
Эх ух ах Трах-тарарах У месье Фуфона Пробок два фургона Чтобы глотки затыкать Чтобы криков не слыхатьОднажды, когда он так распевал, к лодке подплыло невиданное существо: голова его, с разинутым в темной воде ртом, смутно напоминала человеческую. Оно мерцало зелено-бурой чешуей, его огромные болотно-сизые глаза были наполовину прикрыты полупрозрачными веками а сквозь острые зубы лилась струйка, звонкая и переливчатая, как мелодия флейты. Жан-Малыш допел свою песню до конца, и они молча воззрились друг на друга. Человек на рыбу или рыба на человека так не глядят, так могут смотреть только родственные, глубоко понимающие друг друга души, остро чувствующие свое одиночество в непонятном и жестоком мире. Потом, приветливо подмигнув ему, загадочное существо скользнуло в глубину, и Жан-Малыш, усмехнувшись про себя, подумал: «Я стар, как горы, но никогда не смогу сказать, что все повидал, все испытал и больше делать на свете нечего: как вчера, так и сегодня мир остается для меня полной загадкой…»
От круглых, похожих на черепа подводных камней, которые Жан-Малыш огибал с помощью весла, тянулись, вились по течению длинные космы водорослей. Иногда река раздваивалась, и пирога приостанавливалась, как бы раздумывая, куда ей плыть, потом, покрутившись на месте, отдавалась воле случая — по крайней мере так казалось. Настал день, когда лодка очутилась под низким сводом, до которого можно было дотянуться рукой, потом вошла в темный сужающийся туннель с круто уходящими в глубину стенами. Жан-Малыш вспомнил предание, в котором говорилось о том, что некоторые реки Царства несут свои воды на край света, а другие впадают прямо в горло какому-нибудь богу. Теперь он истошно кричал, уже ни на минуту, даже во сне, не умолкая. Однажды ночью злой кошмар сменился волшебным сном: в неоглядных далях на головокружительной высоте колыхался над ним шелковый шатер, под серпом месяца искрились две-три звезды, лодка приближалась к песчаной отмели, покрытой несметным множеством водяных птиц с белоснежным пушистым оперением; боясь, что видение вот-вот исчезнет, Жан-Малыш наслаждался зрелищем этой луны, звезд, реки, вдруг заигравшей ослепительными блестками, этих деревьев и птиц, которых ему уже никогда не суждено будет вновь увидеть…
Ибисы, оглушительно крича, сорвались с песчаной отмели, и сразу же вокруг поднялся гомон африканской ночи. Пирога развернулась, потом уверенно заскользила вперед и, пройдя по узкому топкому рукаву, снова вышла на середину реки, которая чуть дальше широко разливалась, напоенная всеми своими притоками… И вдруг серая мохнатая пелена, будто принесенная ветром, застлала небо и начала тихо опускаться на деревья и реку. То была не легкая пепельная кисея Царства Теней, не влажный туман, какой, бывало, окутывал в начале сезона дождей солнечные земли Низких Сонанке, а густой, непроглядный мрак, от которого не жди пощады, тот самый, что медленно пал на Лог-Зомби, Гваделупу, на весь мир в тот далекий день, когда Чудовище сожрало солнце…
КНИГА СЕДЬМАЯ
о том, как Жан-Малыш преодолел три моря и четыре королевства, прежде чем оказаться на оскудевших и объятых стужей землях метрополии, а также о том, как он одолел и саму Смерть, да-да, ее самую, друзья мои, хотите верьте, хотите нет.
1
Потом наступила ночь, а за ней другая, с настоящей луной и звездами. На берегах появились следы человеческой жизни, правда жизни давней, очень давней: дырявые, опрокинутые вверх дном пироги, лаково-черные пепелища деревень. Голова у него шла кругом, готова была расколоться, а лодка из Царства Теней преспокойно плыла вдоль высоких отвесных скал, меж которых билось эхо звериных криков. Челн плавно нес старика, а тот ничего не видел вокруг, ушел в свои думы. Но за скалами вставали скалы, за загадками крылись загадки, и так он плыл от тайны к тайне, понимая самого себя так же плохо, как окружающее. Почему, позвольте вас спросить, говорил он сам себе, время не смыло этот мир, ведь после исчезновения солнца прошли целые века… И что это за возня на берегу, откуда столько насекомых, птиц, пышных рощ, когда везде должно было бы царить холодное безмолвие?
Однажды, когда Жан-Малыш стоял на носу пироги, с берега прогремел выстрел, и он увидел свирепых воинов: одни скакали на лошадях, потрясая в воздухе ружьями, другие спешили к лодкам, ощетинившимся копьями, меча ми и дубинками. Стремительной хищной стаей вылетели стрелы и, звонко дрожа, вонзились в его грудь, но не нанесли ему ни малейшего вреда, и тогда в одной из боевых лодок выпрямился человек и, указав скрюченным, трясущимся пальцем в сторону Жана-Малыша, крикнул:
— Братья мои, смотрите! Призрак! Призрак в лодке!
Воины в ужасе отступили: кто начал бешено грести к берегу, кто кинулся в воду, спасаясь от видения, а Жан-Малыш остановил челн, развернув его поперек течения, и с горечью прокричал:
— Стойте, ну постойте же, не убегайте!
Но понял, что никто его не слушает.
— Скажите мне хотя бы, какой сейчас на земле год, какой век?
— Век… век… век… — отозвалось в ответ эхо.
Оставшись один, путник, странствующий во тьме, с удивлением глянул на свою грудь, похожую на игольную подушечку. Стрелы вонзились в плоть, не причинив страдания, и он знал, что вырвет их тоже без боли. Выдергивая их одну за другой из тела, то ли мертвого, то ли живого, а скорее всего полуживого-полумертвого, он смеялся над волшебством, которое совершила над ним из ревности Королева: он был одновременно и жив и мертв, принадлежал сразу двум мирам, оставаясь чуждым каждому из них; так странно и глупо выглядел он на земле — будто с луны свалился…
Последние дни своего плавания Жан-Малыш провел в каменном, леденившем кровь оцепенении. Он стоял в лодке посреди реки, не ведая ни голода, ни жажды, и завороженно смотрел, как его дьявольская посудина без устали обходила преграды: скалы, островки, плавающие стволы деревьев, выступавшие над водой, словно иссохшие кости. Как-то раз ему показалось, что он заметил вдали пылавший электрическими огнями большой город. Налетел шквал, лодка на миг застыла меж двух порывов ветра, и он увидел ряды многоэтажных домов, которые светились тысячами ярких квадратиков. Но течение быстро унесло челн вперед, а вода слепила яркими, как стеклянные осколки, бликами, и, когда стихия улеглась, ему уже казалось, что все это приснилось, привиделось в волшебном сиянии небесного огня…
Прошло еще несколько дней, и сквозь туман показа лось устье реки, испещренная узкими песчаными лентами дельта. Кое-где землю покрывал слой льда, а в низком лиловом небе нехотя плыла вялая луна, еле волоча свое тяжелое брюхо над самой поверхностью разбитого зеркала воды. Горизонт был закрыт огромным, глухо стонущим, как стронувшийся с места вековой лес, валом морской пены. Он уже готов был поглотить лодку, когда она выгнулась, отвесно взмыла вверх, перелетела через снежно-белый гребень, мягко опустилась по ту сторону вала… и, рассекая волны, понеслась в открытое море, будто ее гнал невидимый мотор…
Поверхность океана устилал зернистый, искрящийся серебром ковер из льдинок, и вскоре кожу Жана-Малыша покрыл студенистый иней, в котором мерцали крупинки соли. И тут ему вдруг пришла мысль птицей полететь назад, к берегам Африки: тотчас щеки его вытянулись в клюв, глаза поплыли к вискам, туловище сплошь покрылось перьями, и за спиной раскрылись огромные, будто орлиные, крылья. Но под этими крыльями оставались человеческие руки, и вся нижняя часть тела тоже была человеческой. Потом превращение двинулось вспять: через пару мгновений лишь несколько перышек осталось торчать на пояснице, и он быстро и безболезненно вырвал их из кожи.
Случалось ему теперь и бредить: то он видел себя рыбой, то слышал шепот, доносившийся, казалось, с того света, — говорок старого гваделупца, который неустанно повторял: «Эй, парень, как жизнь молодая?..»
Иногда льдинки образовывали целые плавучие горы-айсберги, они задерживали пирогу, заставляли ее плыть обходным путем. На льдинах грудились стада невиданных зверей, они тяжело переваливались на неуклюжих ластах и, завидев незваного гостя, ревели, как львы, сердито-пресердито тряся головами, будто негодующе вопрошали: «Это что за нахал такой?» Потом море совсем ожило: теперь его постоянно бороздили многопалубные корабли, чьи сирены надрывно пели в плотном тумане, не смолкая до появления первых звезд. Вдали возникали берега, совсем не похожие на африканские. Видны были портовые причалы, ангары, огни — сотни, тысячи огней, от земли до самого неба, потом вдруг появлялись черные, до блеска вылизанные временем руины, скелеты городов, залитые льдом, зеркально отражавшим звезды. И вот пришел день, когда пирога, зверино вздрогнув, приблизилась к побережью и не задумываясь вошла в устье реки. Что там творилось! Туда-сюда сновали пароходы, у некоторых было подобие плуга на носу, которым они отбрасывали лед далеко в сторону, прямо к берегу, где он вздымался серебряными горами. Потом все на миг замерло, и вот толпы белых пассажиров кинулись к бортам кораблей, указывая друг другу на диковинное, лавировавшее меж океанских гигантов суденышко, на носу которого застыл ледяным изваянием старый, величественный, как маг, чернокожий старик, прижимавший к себе, будто святыню, нечто отдаленно напоминавшее самопал…
Вдруг лодка приостановилась, повела носом направо и налево, будто ища след. Потом решительно заскользила к длинной веренице прожекторов, чьи лучи почти скрывали город. За этим огромным светящимся щитом видна была лишь колокольня, верхушка которой терялась в прозрачной синеве неба. Наш герой закинул мушкет за плечо и уже прыгнул на причал, когда по пироге снова пробежала звериная дрожь; она круто подпрыгнула, будто лукаво кивнув на прощание, и канула на дно, словно акула прорезав толщу вод: спешила, конечно же спешила побыстрей возвратиться в свою бухточку под каменными сводами Царства…
Жан-Малыш несся наугад среди доков, нагромождений ящиков, тюков, а за ним по пятам гнались азартные преследователи. Вдруг перед ним выросла головокружительно высокая металлическая решетка. Сам собою воз ник у него в голове образ птицы, и, гонимый страхом, он тотчас взмыл ввысь на пробившихся из спины мощных крыльях, прижимая к груди человеческими руками мушкет и котомку. В размахе крылья были не меньше трех с половиной метров. Но тщетно он рассекал ими воздух, бил ими в исступлении: они не могли надежно держать его в небе. Упав на асфальт с другой стороны решетки, он вновь подскочил, описал в воздухе широкую, в сотню метров, дугу, приземлился, и так много-много раз подпрыгивал, словно резиновый мячик: слегка оттолкнувшись от земли, поднимался на высоту двух-трех этажей и вяло падал меж домов, а вокруг кричали, расступаясь перед скачущим по городу черным ангелом, белые люди…
2
Вот так, получеловеком-полуптицей, рвался он из последних сил к верхним этажам, не задумываясь о том, что широкие лопасти крыльев могут вдруг подвести его, исчезнуть, как это случилось у берегов Африки. Он стосковался по новостям этого света и теперь не пропускал ни одного слова на фасадах домов, на витринах магазинов, безмерно удивляясь всему, что видит. «Ну и ну, — говорил он себе, — выходит, меня занесло во Францию». Потом потянулись узкие зловонные улочки, по которым бродили такие белые, каких ему никогда еще не приходилось видеть: одни лишь тени белых, кожа да кости, замызганные призраки в лохмотьях, и наш герой глазам своим не верил. «Ну и ну, — говорил он сам себе, — посмотрите, люди добрые, что же это за белые такие!» На перекрестке стояло несколько часовых. Один из них, увидев ангела, торопливо выпустил в него пару автоматных очередей, но пули прошли сквозь тело птицы, как сквозь воздух; Жан-Малыш перелетел полосу военных укреплений и очутился в другом городе, гораздо больше первого, — одни развалины до самого горизонта, в черной бархатной гари пожарищ…
Здесь наш герой нашел себе престранное убежище: оставшуюся от разрушенного дома часть стены с двумя лестничными пролетами; на втором этаже чудом уцелела одна, казалось висевшая в пустоте, комната.
Он покидал ее, чтобы посмотреть на мир, на век, едва начинало смеркаться и звезды разгоняли последние островки молочно-белого, насквозь пронизывающего сыростью тумана. Каждое утро Жан-Малыш возникал из толщи этого густого облака. Он научился прыгать высоко, стрункой выпрямляя тело и помогая крыльям руками. Далеко он не летал, садился где-нибудь на крышу и, если не было погони, ложился вдоль желоба, у водосточной трубы, чтобы удобнее было наблюдать за миром, или, как он сам себе говорил, «за веком»…
Верхнюю часть города окружали отряды солдат в точно такой же форме, какую носили в гарнизоне Бас-Тер. Дома там были большие и красивые, улицы широкие и чистые, они вполне соответствовали тому, что рассказы вали о метрополии в Лог-Зомби. Он всегда прилетал на рассвете. Будто светляки, разом вспыхивали уличные фонари, открывались ставни, пятнами желтого цвета загорались окна. С восходом луны появлялись первые прохожие, начинали светиться витрины. Каждый раз, когда посетители открывали или закрывали стеклянные двери кафе, на улицу вырывалось, словно огромный радужный мыльный пузырь, приветливое облачко теплого душистого пара. Совсем другая картина представала перед Жаном-Малышом, когда он садился на крышу в нижнем городе, над темными вонючими улицами, обрывавшимися у самого моря. И когда он видел этих спешащих на работу оборванцев, таких исхудалых, что трудно даже было поверить в то, что у них белая кожа, он опять, как и в первый день, поражался до глубины души и говорил сам себе: «Ну и ну, что же это за белые такие?!» Иногда, свесив голову через край крыши, он вдруг почему-то вообще забывал, что это белые, и тогда начинал сердиться на самого себя, негодовать и душой и разумом, не говоря уже о нутре, которое так и корчилось, никак не хотело переваривать то, что творилось на земле. И тогда он летел к верхнему городу, где вдоль проволочных заграждений его уже готовились встретить огнем пушки и танки, а над некоторыми улицами специально для него были натянуты сети; вечером, когда он возвращался назад темными улочками, нищие обитатели нижних кварталов устраивали ему торжественные встречи, высовывались из окон, чтобы поприветствовать своего ангела, а некоторые, осмотрительно затаившись внутри своих комнатушек, да же осмеливались аплодировать…
Так продолжалось недели три, потом крылья его пообтрепались, и он перестал беспокоить и дразнить баловней судьбы. Вскоре тело его стало наливаться свинцовой тяжестью, нарастала боль в суставах. Он не мог уже и на полвершка подпрыгнуть, не то что слетать в верхний или нижний город. Он больше не покидал своего одинокого убежища, лежал под ворохом тряпья, словно забившийся в расселину осьминог с тяжким зарядом чернил у сердца. Однажды он обнаружил следы тлена на щеках — зеленоватые пятнышки плесени: смерть вновь принялась за свое дело, она, видно, не отставала от него ни на шаг с тех пор, как он вырвался из Царства Теней, лишь дала ему небольшую передышку, так-то вот…
Смерть подбиралась все ближе, зеленая плесень сплошь покрыла щеки, перебралась на крылья, которые оставляли на стенах длинные травянистые полосы. Из-под перьев и пуха сочилась прозрачная слизь больной птицы. Потом вся жизнь его свелась к двум-трем шагам до водопроводного крана, чтобы утолить жажду или припасть к нему просто так, для вида; иногда он смывал едкий, болотного цвета гной в уголках глаз и, едва добравшись до постели, опять нырял в черный мрак. Его мучил один и тот же сон: на земле — ни деревеньки, ни селения, ни города, ни единого обжитого уголка; куда ни глянь, кругом один лес, а в лесу этом стоит он и ищет просвета, надеясь отыскать поляну. На головокружительную высоту тянутся вверх мощные деревья с витыми стволами и узловатыми, уходящими глубоко под землю корнями, и эти нежно-зеленые гиганты дороги ему, как родные братья. Вдруг из тьмы возникает голос, знакомый говорок старого гваделупца, точь-в-точь такой, какой он слышал в открытом океане, что-то вроде далекого, едва различимого напутствия, и, окрыленный надеждой, он бежит вперед меж могучих стволов. Но стоит ему сделать несколько шагов, как деревья, одно за другим, содрогаются и падают прямо на него, превращаясь в едкую пыль и плесень, в которой он начинает вязнуть, тонуть, захлебываясь, истошно крича и тщетно зовя на помощь, а вокруг ни души, лишь небо над головой да этот призрачный лес: земля опустела…
Просыпался он сам не свой, тело казалось чужим, а в воздухе витал запах пепла. Он с благодарностью вспоминал голос друга, звавший его в лесу, с каждым разом голос этот становился отчетливей, тверже, вокруг него начали проступать знакомые черты маленького, сморщенного, как старая груша, лица старого Эсеба. Как-то раз, открыв глаза, Жан-Малыш увидел, что деревья продолжают с грохотом рушиться на него. Потом лес исчез, он прислушался, и ему показалось, что кто-то настойчиво стучит в дверь, по-стариковски что-то бубня при этом себе под нос. Наконец, словно выкарабкавшись из глубокого подземелья, наш герой поднялся на ноги и неуверенно шагнул к двери, припадая на крылья всякий раз, как под ним подкашивались ноги; один за другим послышались три слабых удара, и кто-то тихо, но четко произнес по-креольски: «Эй, парень, в какую это крысиную нору тебя занесло, а?»
Это был тот самый голос, что он слышал в океане, а потом в лесу, — проникновенный и мягкий, отмеченный той едва уловимой торжественностью, которая так отличает говор любящих покрасоваться стариков Лог-Зомби. Жан-Малыш спокойно распахнул дверь, и лунный свет упал на плечи старого-престарого, седовласого человека со сморщенным, как сушеная груша, лицом. Прошли века, а одет он был по-прежнему, точь-в-точь как в последний раз, среди развалин Верхнего плато: широкие штаны, домотканая рубаха, огромная сумка из грубой кожи на боку и вечная широкополая, ниспадавшая до плеч соломенная шляпа; источенные клещами ноги его были босы, а кожа, обтягивавшая кости, блестела, как у живого…
Умудренный опытом бесконечно долгой жизни, Жан-Малыш сразу заметил, что человек этот стоит не на лестничной площадке, нет, здесь его не было; образ старика витал в другом мире, скорее всего в его сознании; и, посмотрев на видение, он улыбнулся своему безумию и со вздохом прошептал, обращаясь к самому себе:
— Ну что, Эсеб, старый упрямый проныра, решил навестить меня во сне?
3
Призрак легко скользнул в комнату, и, опасаясь, что он вдруг исчезнет как дым, Жан-Малыш поспешно захлопнул дверь. Он вспомнил о своем первом детском впечатлении от этого человека, когда тот показался ему неприкаянным духом, блуждающим между небом и землей. С минуту Эсеб испуганно взирал на него, будто и хотел, и боялся его узнать, потом он отвернулся, окинул взглядом запыленную, заросшую паутиной комнатушку и наконец насмешливо проговорил:
— Почему ты мне не открывал? Ну и молодежь пошла, никакого почтения к моим сединам!
— Молодежь? — горько вскричал Жан-Малыш.
Услышав этот возглас, призрак повернулся к Жану-Малышу, устремив на него задумчиво-удивленный, полный снисхождения взор, будто перед ним стоял прежний мальчик, юноша, стройный и гибкий, как побег бамбука, с блестящей гладкой кожей; он провел холодной как лед, скрюченной ладонью по серебряным вискам нашего героя и промолвил глухо и скорбно:
— Мальчик мой, сколько же тебе, по-твоему, лет?
После этих слов, всколыхнувших прошлое, лицо Эсеба подобрело, будто он и впрямь видел перед собой не старика, а ребенка. Потом он вдруг сразу посуровел, нахмурил брови, темные крылья его носа дрогнули, будто он учуял что-то неладное; лицо его застыло, и он холодно произнес:
— От тебя вроде бы веет тленом?
Жан-Малыш весело отозвался на этот нелепый вопрос:
— А чем же еще должно веять от усопшего, отец мой, чем же еще?
— А ты уверен, что усоп?
Жан-Малыш залился таким веселым, таким искренним смехом, что видению впору было бы сгинуть, отправиться туда, откуда явилось, однако оно как ни в чем не бывало заговорило вновь:
— Я бы тебе поверил, сын мой, но, может статься, ты говоришь так по неведению, не зная толком, что есть жизнь, а что — смерть?
— А как же величать, по-вашему, того, кто сходит в могилу? Кавалером, спешащим на танцы, так, что ли?
— Послушай, не хотел бы тебе льстить, но мне никогда не приходилось видеть такого цветущего мертвеца. И если я чую этот чертов смрад, я в то же время слышу и запах жизни, запах свежести, спрятанной под гнилью; так какому же запаху верить, я тебя спрашиваю, скажи, просвети меня, темного!
— Сперва ответьте мне на один вопрос, а потом я скажу все, что знаю: не обижайтесь, отец мой, но вы мне часом не мерещитесь?
В глазах колдуна мелькнул веселый огонек, и Жан-Малыш опять с удивлением почувствовал, что на него смотрят как на юнца, которым он когда-то был, во время оно, до своего падения в звездное небо Африки, а вовсе не как на человека весьма преклонных лет.
— Раз ты решил, что я тебе мерещусь, то, боюсь, тебя, полоумного, уже не разубедишь. Видишь ли, — продолжал Эсеб вдруг дрогнувшим голосом, — мы уже потеряли всякую надежду, когда несколько недель назад услышали твой крик…
— Мой крик? — удивился Жан-Малыш.
— Может, у тебя это зовется пением? Тогда, прости, мы услышали, как ты пел, далеко-далеко, на широкой реке, где-то в самом сердце Африки. Голос был совсем слабый и все время менял место: из пресной воды выплыл в соленую, а потом настал день, когда мы услышали его совсем отчетливо, и исходил он из Франции. Тогда я пустился на поиски и сначала искал тебя в Париже, а ты знаешь, что такое Париж?
— Это город, — ответил Жан-Малыш, — большой столичный город…
— Нет, нынче это груда камней, она, конечно, велика, не меньше нашей Гваделупы, но это всего лишь груда камней. Тебя среди этих камней не оказалось, и я прислушивался до тех пор, пока вновь не услышал твои крики… ну, чего же ты молчишь?
— Вы услышали мои крики, а дальше? — покорно произнес Жан-Малыш.
— Да, услышал, — подтвердил, улыбнувшись, Эсеб, — но они стали совсем иными, непохожими на те, что доносились до нас на Гваделупе. Стали тонкими, заливистыми, будто птичьи. А когда я попал сюда, крики стали такими пронзительными, что хоть уши затыкай, у меня прямо голова от них раскалывалась. Вскоре я о тебе услышал, услышал о твоих крыльях черного ангела, и сразу понял: это он, это мой мальчик. Но, по правде сказать, я совсем не ожидал, что застану тебя в таком виде, в этом вонючем могильном углу. Чем больше я на тебя смотрю, тем больше сомневаюсь, смогу ли тебе чем-нибудь помочь или уже нет. Я, конечно, кое-что знаю, это так, недаром шлифовал я свои зеницы, как шлифуют линзы, чтобы они могли узреть видимый и невидимый мир. Но, боюсь, тебе скорее помог бы старый толстокожий Змей вроде Вадембы, с крепкими зубами, способными разорвать узы темных сил. Скажи, а сам-то ты покойником себя считаешь или иногда чувствуешь у себя внутри живую плоть?
— Вы смеяться будете, но иногда я будто игривый щенок, а иногда кажусь себе старым-престарым, старше гор и дол, старше самой земли…
— Так многие говорят, — сказал старый Эсеб.
— Вы смеяться будете, — продолжал Жан-Малыш, — но я долго, очень долго шел, выбрался, наконец, из Царства Теней, и все впустую…
— Ну и что дальше?
— Вы смеяться будете, да-да, будете, но вы сейчас видите перед собой не живого и не мертвого, я не пристал ни к тому, ни к этому миру…
— Так чему же ты принадлежишь?
— Этой комнате, — сказал Жан-Малыш.
Эсеб долго переминался с ноги на ногу, пританцовывая, нетерпеливо, гортанно покряхтывая, а полы его шляпы так и трепетали, словно крылышки кровожадного комара. Потом он откинул свой диковинный головной убор на спину и с любопытством принялся водить своей хитрой мордочкой вдоль всего тела Жана-Малыша, будто ища скрытую глубоко под кожей, в самом мозге костей, порчу. Наконец он осторожно принюхался и произнес:
— Вот где затаилась Смерть — в самом семени твоем. Впервые я нахожу ее здесь. Обычно она выбирает глаза, бежит вместе с кровью по венам или устраивается в горле, мешая людям дышать.
На лбу Эсеба пролегла складка, он задумчиво продолжал говорить, и было видно, что он обращается к самому себе: как это я сразу не догадался, что она проникает в само обиталище жизни, в начало начал, ведь говорили же Старейшины, что имя ему Возрождение…
Жан-Малыш хотел было возразить, но тот не дал ему раскрыть рта и продолжал сдавленным голосом:
— Молчи, ведь наша старая подруга все слышит: одно неверное слово — и она закроет перед тобой все миры, если еще не успела этого сделать. Сам знаешь, у нее тонкий слух и ревнивое сердце. Слушай меня внимательно, сынок, подумай, прежде чем ответить, и выбирай самые нужные слова. Тебе нельзя говорить откровенно, и все же я должен все понять. Итак: ты удивлен, что Смерть затаилась именно там?
— Нет, — прошептал Жан-Малыш, — я не удивлен…
— Всем известно, что покойные пьют и едят, а некоторые утверждают, что у них и прочие радости те же, что и у нас: а почему бы им и правда не повеселиться?
— Почему бы им и правда не повеселиться? — безучастно произнес Жан-Малыш, будто его вполне устраивало вторить колдуну, который не смог сдержать довольный смешок.
— Листок от дерева никогда далеко не упадет; вот семя — то уносится далеко, а ведь в нем-то и скрыта тайна дерева. А еще говорят, что семя само знает свою тайну, но так ли это?
— Семя, конечно, знает свою тайну…
— Ты уверен?
— Семя знает свою тайну, — повторил Жан-Малыш. Услышав это, человек с лицом духа замер, и только соломенная шляпа подрагивала над его головой, точно трепещущий на ветру бумажный змей. Он будто улетел туда, где не было ни времени, ни пространства, по ту сторону ночи, холода и смерти, но черты его лица оставались явственны и четки — трудно было поверить, что он мерещится Жану-Малышу, просто снится ему. Наконец он очнулся и, опустив руку на основание птичьего крыла, начал осторожно раздвигать пух, пока не добрался до человеческой кожи. В глазах его не осталось и тени насмешки, они излучали теплоту, мягкое сияние древнего светильника, какое увидишь иной раз во взгляде старика-гваделупца.
— В самом деле, мальчик мой, что тебе известно?
— О чем? — спокойно осведомился Жан-Малыш.
— О духах и богах, о разных колдовских силах — разве в Африке тебе о них ничего не говорили?
— Ничего, — ответил Жан-Малыш после короткого молчания, — от меня все скрывали. Я знаю, знаю, конечно, что великая таинственная, добрая или злая Сила везде и во всем, даже в звоне комариного крылышка, знаю я и то, что за лесом простирается залесье, за миром кроется другой мир, что существует множество неведомых сил; вы об этом спрашиваете, учитель?
— Увы, не об этом, — сказал старый Эсеб. — Я хотел узнать, не осенило ли тебя в пути какое-нибудь откровение, но теперь вижу, что невзгоды лишь отчасти прочистили тебе уши. Хочу тебя предупредить: если ты готов к испытанию, комната эта сейчас станет полем неравной битвы, в которой ты вряд ли победишь. Если предположить, что ты Тень лишь наполовину, то затаившуюся у тебя в семени Смерть изгнать будет нелегко. Она призовет на помощь всю свою хитрость, всех своих приспешников, и в первую очередь того, кто живет в тебе самом…
— Кто же этот приспешник Смерти?
— Страх, — сказал старый Эсеб.
— А что я должен делать, когда окажусь с нею с глазу на глаз? Вы скажете мне, учитель?
— Ничего, сказал Эсеб. — Ты только должен заставить плоть свою молчать, должен стать невидимым и неслышным, как ночной зверь…
— Я прикинусь ночным зверем, — сказал Жан-Малыш.
Эсеб заставил его лечь на спину, вытащил из своей сумы кусок мела и начертил вокруг путника, идущего навстречу Смерти, контур маленькой лодки. Потом он вложил ему в руки мушкет, котомку матушки Элоизы, содержимое которой он внимательно изучил вещь за вещью: нож и пороховницу, кремень и деревянный штырь, остаток проволоки для силков и последнюю серебряную пулю, ту, что герой хранил как зеницу ока. Старый Эсеб все пританцовывал, будто ноги у него не стояли на месте, он весь светился какой-то загадочной радостью, то и дело гортанно покряхтывал и, наконец, придерживая руками шляпу, готовую, казалось, вспорхнуть и улететь, весело воскликнул:
— Посмотрите-ка, люди добрые: наш Жан-Малыш отправился туда, откуда берут начало все миры, а захватил с собой в дорогу лишь птичий силок!..
Старик завороженно уставился на десятки баночек, пузырьков, кожаных мешочков, пакетиков сухой травы, ровными рядами расставленных на полу, будто посуда у образцовой хозяйки, потом он обнажил грудь и ткнул под сердце кончиком короткого кинжала…
Собрав кровь в миску, он бросил в нее щепотку порошка из позеленевшего, ссохшегося кожаного мешочка. Затем опустил в миску палец и провел им, словно кистью, по векам, ладоням и ступням Жана-Малыша, а потом коснулся смоченным кровью перстом дверных и оконных проемов. Ранка на груди уже не кровоточила, а самого Эсеба вдруг заволокло облако пара — щеки, плечи его так и дымились, будто он только что вышел из бани. Он подсыпал в миску еще горстку порошка, потом еще и еще, кровь забурлила, светлея вокруг каждой щепотки, пока не стала вся прозрачной, как чистая вода. Тогда он сел у края маленькой, нарисованной на полу лодки и, испуская из черной дыры рта клубы легкого голубоватого дыма, сказал:
— Я наглухо замкнул эту комнату с четырех сторон, начертал на твоем теле знаки света. Сейчас я дам тебе выпить эту кровяную воду. Так вот, послушай: тебе сказали, что за лесом лежит залесье, это так. Но знай, что и в самом лесу скрываются другие леса. И в этой комнате заключено много миров, и в каждом из них ждут своего часа неведомые Силы, готовые вырваться, чуть прорвись разделяющая миры перегородка: такое случись с Чудовищем и сейчас случится с тобой, когда ты провалишься будто слепой щенок в черную пропасть.
— Что я должен делать? — спросил Жан-Малыш.
— Ничего ты не должен делать, и Силы не тронут тебя, замрут возле самого сердца. Но стоит тебе шелохнуться, хотя бы вздрогнуть от испуга, и они воспользуются твоей слабостью, набросятся и уничтожат…
— А Смерть, — спросил еще Жан-Малыш, — как я должен обращаться с нею?
— Никак, — отрезал тот, поднося миску к губам Жана-Малыша, которого удивили прозрачность и вкус напитка: чуть терпкая, солоновато-горькая вода с легким привкусом полыни…
Сперва Жан-Малыш почувствовал холод, который все усиливался, нарастал и вдруг, достигнув предела, сковав тело льдом, превратив саму кровь в колкие кусочки льда, уступил место столь же невыносимому жару. Глаза застлала розовая пелена, лишь лицо Эсеба маячило перед ним — пепельно-синее, со светлыми бликами на скулах. Ему вдруг почудилось, что где-то распахнулось окно и в комнату ворвался неудержимый вихрь, он обдал его ледяным холодом и обжег, будто раскаленный пепел. Испуганно приподняв локоть, он обратился к старому Эсебу:
— Учитель, не надо ли закрыть окно? Колдун осторожно опустил его локоть на место.
— Молчи, это Силы Тьмы…
И, видя, что Жан-Малыш, не понимая, разинул от удивления рот, Эсеб едва слышно произнес:
— Окно распахнулось в твоей груди…
А вихрь в комнате тем временем совсем обезумел, завывал так, что казалось, стены вот-вот рассыплются.
В животе Жана-Малыша открылась щель, когтистый ветер медленно раскрывал рану все шире и шире, прошло бесконечно долгое время, и наш герой не выдержал, соединил пальцами края рваной бреши и простонал:
— Учитель, я больше не могу этого вынести…
— Итак, ты хочешь сдаться, — сказал Эсеб.
— Учитель, в мое чрево проник вихрь, он вот-вот унесет меня; бросьте мне веревку, я буду за нее держаться.
Голос Эсеба стал совсем далеким и глухим, в диком вое ветра он был едва слышен:
Никакая веревка тебя не удержит, лишь разум может тебя спасти. Слушайся его, сын мой, и только не жалуйся на судьбу, даже в душе не жалуйся, не уподобляйся тем, кто чуть что начинает визжать, как поросенок так визжать, что на краю света слышно; но, если станет невмоготу, можешь произнести несколько слов, только тихо…
— Каких слов? — взмолился Жан-Малыш.
— Да любых, лишь бы они были сказаны мне спокойно, будто ты опираешься на плечо друга; ты только не кричи, не кричи…
— Учитель, я унесся далеко, и мне не хватает слов…
— Вздохни посвободней и не спеша повторяй за мной ровным голосом:
О дух земли Великий необъятный дух Взываю я к тебе И ты меня поймешь Ночною птицей я лечу А говорю как человек Взываю я к тебе И ты меня поймешь…С заклинанием слилась светлая мелодия, в которую вплелись далекие удары тамтама, принесенные вечерним бризом вместе с запахом трав Варфоломеевой горы. Жан-Малыш как раз отрывал прилипший к телу листок, когда услышал эту музыку. Он тотчас опустил наземь котомку матушки Элоизы и замер, стараясь вслушаться в песнь, лившуюся в уже потемневшей долине. Там, далеко-далеко, блестело в лучах заката зеркально-красное плоское блюдо Верхнего плато, а над землей, плыли последние звуки бесконечно грустной и бесконечно величественной песни, которая раз и навсегда распахнула перед его детской душой двери в иные миры. Но голос уже затихал, дробь тамтама таяла в вечернем воздухе, и от солнечного фейерверка осталась лишь узкая полоска света — щель между двумя почти сомкнувшимися створка ми гигантских небесных ставней. Потрясенный герой увидел старого Эсеба, сидевшего, как и прежде, у края нарисованной мелом лодки с поджатыми под себя ногами; по комнате разлилась могильная тишина, которая, казалось, пугала колдуна: он судорожно сжал руку простертого на полу героя.
— Теперь я уже бессилен помочь тебе, — сказал он, а из-за горизонта вдруг начала подниматься исполинская черная тень.
Одна челюсть звероподобной тени уходила под облака, другая скользила по асфальту улиц, готовая подцепить все что окажется на пути. Глаза ее застилала матово-белая пелена, а огромные зубы были прозрачны, как стекло. Жан-Малыш схватил мушкет, забросил на спину котомку и очертя голову кинулся прочь по пустым улицам города, а Смерть с разверстой пастью гналась за ним по пятам. Его опавшие крылья волочились по асфальту, он метался от дома к дому и кричал: «Я Жан-Малыш, пустите же меня, пустите!» Но двери оставались наглухо закрытыми, и он мчался дальше, гонимый тяжким ледяным дыханием, которое пронизывало ему спину, поднимало в воздух смерчи острых песчинок. Добежав до моря, он увидел чернокожую женщину, стоявшую в воде в нескольких шагах от берега: она простирала к нему пленительные руки. Лицо ее заволакивал тонкий, поднимавшийся от щек пар. Но было что-то теплое, до боли знакомое в черном великолепии этого тела; ее косы тяжелыми кольцами охватывали живот, будто прикрывая целый выводок присмиревших в материнском чреве, за полупрозрачной кожей, детей — может, пять, может, шесть, а может, и целая дюжина их сплелась в комочек, плотно сжав ротики, терпеливо ожидая, когда им позволят появиться на свет. На губах ее играла едва заметная улыбка, улыбка женщины, которой известно, что ее любят, любят страстно, что ради нее пойдут на край света, спустятся в Царство Теней… и у Жана-Малыша брызнули из глаз слезы, он бросился в морскую пену, рыдая, как дитя: почему ты покинула меня, бросила у фигового дерева, почему?
Не вымолвив и слова, она обвила его руками и потянула в глубину, увлекая все дальше и дальше в море, в ледяной мрак, пока они не оказались под скалистым, Уходящим в бесконечную даль сводом, похожим на каменное небо Царства мертвых. Она засмеялась, обнажая стеклянно-прозрачные зубы, а волосы ее, цепкие, словно водоросли, увлекали его на самое дно океана. Напрасно Жан-Малыш сопротивлялся, пытаясь высвободиться из ее объятий. И тут его охватила неудержимая ярость: как она посмела улыбаться улыбкой Эгеи, Эгеи Кайя, что ждала его на берегу реки с целым выводком Детей — может, пять, может, шесть, а может, целая дюжина притихших в чреве малюток с плотно сжатыми ротиками, готовых выйти на свет, когда им даруют жизнь! Он впился ногтями в ее бедра, покрытые чешуей, и она стала отчаянно вырываться, угрем извиваясь в его руках.
И тогда наш герой ожесточенно вонзил в нее свой меч. Смерть испустила пронзительный крик; потом Жана-Малыша плавно подхватила и сразу мягко опустила упругая волна, странная тишина воцарилась над миром, и перед Жаном-Малышом вновь возник силуэт старого Эсеба, сидящего рядом с нарисованной мелом лодкой…
Его вновь подняла и опустила упругая волна. Все вокруг было залито сиянием, которое слепило глаза. Лицо Эсеба стояло над ним черным солнцем. Никогда еще Жан-Малыш не видел такого неизъяснимо прекрасного, таинственно-первозданного лица, каждая черточка которого рождалась, вырисовывалась прямо на его глазах. Будто из бездонной глубины, до него доносились какие-то звуки. Когда волна отхлынула, он увидел, что звуки лились с непрестанно вздрагивавших губ Эсеба, который умоляющим голосом повторял:
О дух земли Великий всемогущий дух…4
Всякий раз, когда Жан-Малыш поднимал веки, он оказывался как бы внутри огромного пузыря, в котором отражался увеличенный лик старого Эсеба. Огромная рука тянулась к его рту, пузырь лопался, и тогда на язык его лилась тонкая струйка воды, а иногда он получал и немного пищи на кончике пальца — так новорожденному дают попробовать молоко. Немало дней провел он в этом пузыре, между жизнью и смертью, будто сомневаясь, к какому берегу пристать. Потом ему полегчало, и Эсеб стал наведываться в обличье ворона в богатые кварталы, откуда приносил разную вкусную снедь, доброе густое вино для того, кто возвращался к жизни, и вино пожиже для своей глотки. Как-то вечером колдун подивился тому, что шапка седых волос Жана-Малыша не исчезла вместе с крыльями: ведь, по его мнению, под старческой оболочкой должна крыться юная плоть, и он никак не мог окончательно решить, кто перед ним находится — мальчик или седой старик, и он спрашивал себя: неужто и вправду Жан-Малыш прожил там, откуда он пришел, долгую, полновесную человеческую жизнь?
— Да, я прожил целую человеческую жизнь, именно так, — сказал Жан-Малыш.
— И ты в этом уверен?
— Еще как! — улыбнулся Жан-Малыш.
— Экая досада! — бросил колдун, озабоченно тряхнув головой.
— Но почему? Разве, поседев, я перестал быть Жалом-Малышом?
— Кто ты такой, одному тебе известно, но не тебя, нет, не тебя возвестил нам Вадемба. Теперь я могу сказать: за несколько дней до смерти старик предрек, что однажды именно ребенок вновь зажжет солнце. Мы посмеялись над этим странным пророчеством, не понимая, как это мальчишка сможет вернуть великое светило, если уж тому суждено однажды погаснуть; такое скорее мужчине под силу, и то далеко не всякому; и тогда он пристально посмотрел нам в глаза и сказал: «Мартышки вы мои, вы думаете, коли вы способны состроить две-три гримасы, то уже все постигли? Лишь одно в нашем мире может превзойти мудрость мудрейших из мужей — наивность ребенка…»
— И вы надеялись, что мои седые волосы выпадут?
— Ну да, я надеялся, что старость отступит вместе со Смертью, ан нет, она вцепилась в тебя крепче, чем Смерть, с которой ты, надо признать, разделался лихо, как заправский боевой петух, да еще Заколдованный. Но, может, твоим сединам да словам и верить не стоит — особенно словам, сынок, — мало ли мы повидали таких, кто хлебнет-то глоток, а уж думает, что утоп. И поэтому самое тебе время рассказать все сначала: с того, как ты ступил в пасть Чудовища, два года назад…
— Два года для вас, — улыбнулся, вздрогнув, Жан-Малыш, — и больше сорока лет для меня, да еще прибавь те к ним, старец, несколько вечностей, чтобы быть точным…
Он замолчал, чтобы вздохнуть поглубже и собраться с мыслями, а мудрый Эсеб, который умел читать самые потаенные ваши мысли и готов был, пока длится рассказ, пережить, перестрадать вместе с вами все заново, одобрительно произнес:
— И еще несколько вечностей, чтобы быть точным; можешь не сомневаться, старый воин, твои слова теперь здесь, — и он прикрыл ладонью сердце…
Жан-Малыш облокотился спиной о стену, а Эсеб сел боком к нему, чтобы его маленькие, грустные и колючие глазки не смущали рассказчика. Он весь превратился в слух, внимал рассказу всем своим существом; но казалось, будто он все это уже слышал, будто слова Жана-Малыша давно уже пребывали в его сознании, проникнув туда в другие времена, в другом мире. Глаза его вспыхну ли, лишь когда он услышал о птице в ухе Чудовища, о ней он хотел знать все, придирчиво выспрашивая каждую подробность. Но в каждом его вопросе уже содержался ответ: а что, у этого существа, спрашивал он, распаляясь все больше и больше, были такие-то перья, такой-то клюв или взгляд? Он и не замечал, что говорит сам с собой, пляшет под собственный аккомпанемент, вынуждая нашего героя лишь поддакивать ему, соглашаться с чужим, длинным и скрупулезным описанием пеликана…
Потом его завораживающий взор погас, и Жан-Малыш не спеша двинулся дальше, потихоньку раскручивая клубок истории: так когда-то рассказывал он о своей жизни девушке с утиным клювом, точно так же и она рассказала ему первая о своей судьбе, медленно произнося каждое слово, будто срывая одну за другой горькие ягоды с грозди страданий. Эсеб лишь понимающе покачивал голо вой. Можно было подумать, что он все это давно уже знал, что речь шла о стране, в которой он прожил немало лет. Его не удивили ни падение в небо Африки, ни встреча с мальчиком, увенчанным золотыми кольцами, и Жану-Малышу начало казаться, что он школьник, отвечающий урок учителю, старому господину, который знает намного больше его. Он почувствовал усталость, заспешил, скороговоркой обмолвился о том, что случилось с Вадембой, и хотел было бежать дальше, не помышляя о том, чтобы хоть как-то оживить свой рассказ, раскрасить его, но вдруг ему пришлось приостановиться: Эсеб ни с того ни с сего застыл, щеки его начали блекнуть, превратились в дряблые, сморщенные мешки, похожие на пустую оболочку воздушных шариков. Заметив озадаченный взгляд Жана-Малыша, старик резко отвернулся и, сокрушенно обхватив голову ладонями, прошептал, обращаясь к своему скорбящему сердцу: «Вода и пламя — ведь их повсюду встретишь, это так, но земля — она везде разная… да, вода и пламя — от них не уйдешь, а мы, неразумные, хотим загородиться ладонью от неба, но разве человеческой ладонью небо закроешь? Разве ладони хватит?.. Нет, ни от чего не загородишься, ни от чего не спрячешься: ни от неба, ни от жизни, ни от прошлого своего, которое неотлучно, словно тень, следует за каждым из нас… Так ты говоришь, они пронзили Вадембу стрелами, они убили его?.. О, куда же нам теперь деваться, спрашиваю я, куда, если наша мать-Африка отлучила нас от своей груди, ну скажите мне, куда?»
Жан-Малыш тоскливо молчал, видя смятение вещего старика, настоящего великого мудреца, не какого-нибудь болтуна; но вот Эсеб медленно повернулся к нему, прижимая к щекам полы шляпы, как бы пряча взволнованное лицо, и, тяжело вздохнув, сказал:
— Слезами горю не поможешь, так что, будь добр, рассказывай дальше, мальчик мой. Только прошу, — добавил он с едким сухим смешком, — не гони, как только что гнал, дорогой мой, ибо говорить надо с толком и расстановкой, ведь каждое слово может оказаться нежданным откровением, да-да, откровением…
Потом плечи Эсеба вздрогнули, будто он рассмеялся про себя, и он погрузился в глубокое невозмутимое молчание, которое уже ничто не нарушало: ни копье в груди Жана-Малыша, ни длинное повествование о жизни в деревне короля, ни рассказ о казни. И все же наш герой заметил, как дрогнула нижняя губа Эсеба и колыхнулись поля его шляпы, когда, описывая прибытие в Царство Теней, он упомянул о том, что был отвергнут своими предками. Но старик не проронил и слова, и Жан-Малыш не задерживаясь пустился дальше, а Эсеб теперь уже окончательно погрузился в свои мысли, слушая его рассеянно, краем уха, изредка покачивая в забытьи головой, и только иногда в уголке его глаз нет-нет да и вспыхивала искорка, вспыхивала, чтобы тотчас погаснуть. Жан-Малыш все говорил и говорил, но с тем же успехом можно плясать перед слепым, и вновь ему пришлось в одиночку скитаться по подземным лабиринтам, проплыть по могучей реке, пересечь море и пережить все остальное; когда он умолк, его совсем не удивило, что старик прошептал, будто и не слышал всего того, что произошло после смерти Вечного Змея под африканским небом:
— И тебе никто не рассказывал о Вадембе в Царстве Теней?
— Нет, никто ничего не рассказывал.
— Тебе не кажется, что он в пути, что он ищет Гваделупу?
— Нет, не кажется, — ответил, подумав, Жан-Малыш, — мне кажется, он бродит сейчас под каменными сводами и не помышляет вернуться назад…
— А, понимаю, — тихо произнес старик, — ему стыдно.
— Стыдно, — откликнулся Жан-Малыш.
5
Прошло несколько сумеречных дней после того, что случилось в маленькой, висящей в пустоте конурке, будто приклеенной к одинокой стене среди развалин города. С раннего утра Эсеб невидимкой отправлялся в богатые кварталы, откуда приносил, словно падкая до воровства сорока, самые неожиданные, приглянувшиеся ему вещи: шляпы, дверные звонки, старые будильники, чье дребезжание он с упоением слушал. Потом он устраивался в углу с бутылкой рома, ухмылялся, хвастливо, молодецки поводил плечами; старику быстро ударяло в голову, его швыряло вверх, и он уже воображал себя парящим среди звезд, когда звонко трахался макушкой о непробиваемую, вполне реальную твердь потолка…
Но вот как-то утром наш герой увидел, что чародей восседает на тюфяке точно в таком же виде, в каком возник несколько недель назад: с широкополой шляпой на голове и с котомкой на спине.
Глаза его вновь обрели сухой, жесткий, алмазно-пронизывающий блеск Знания, и Жан-Малыш понял, что старик собрался кануть в безвозвратность. Он бесшумно поднялся с постели и встал возле Эсеба, ожидая, что человек с Верхнего плато что-нибудь скажет ему. Они долго смотрели друг на друга, и наконец чародей насмешливо проронил:
— Что ж, старый воин, больше рассусоливать нечего: я выслушал тебя и теперь вижу, что ты прожил целую человеческую жизнь, с тех пор как покинул Гваделупу. Я только хочу знать: намерен ли ты и дальше следовать по своему пути, хотя, может статься, это уже не твой путь?
— Над таким вопросом приятно поломать голову не спеша и со вкусом, — ответил Жан-Малыш.
— Хорошо, тогда имей в виду: я нашел для тебя местечко на грузовом корабле, отплывающем сегодня вечером, правда не ахти какое — тебе придется до самой Гваделупы быть вороном, иначе ты не уместишься под брезентовым чехлом спасательной шлюпки…
— И вы, конечно, со мной не поплывете, — сказал Жан-Малыш.
— Конечно, нет, — сказал Эсеб.
— И вы надеетесь отыскать Вадембу?
— Я вижу, ты набираешься ума, — вздрогнув, бросил Эсеб.
— Не знаю, не знаю, — промолвил Жан-Малыш, — но мне кажется, что Царство Теней так велико…
— Оно еще больше, чем ты думаешь, старый воин, ведь ты прошелся только по его поверхности, а под ней лежат и другие края, не говоря уж о пещерах богов, о которых нам почти ничего не известно…
— Не знаю, не знаю, — повторил Жан-Малыш, — но Вадембу вам удастся отыскать, только если он сам того захочет…
— Да, что правда, то правда, но я всегда слышал, что, когда леопард умирает, он уносит в могилу свои пятна; так вот, я всегда считал себя одним из пятен на шкуре твоего деда, понимаешь?
— Не знаю, не знаю, но ведь Чудовище…
— Дорогой мой, может, ты меня и осудишь, но мне не до вселенских бед, если этот человек на самом деле одиноко бродит по подземелью с отравленным желчью сердцем.
— Нет, я вас осуждать не стану, — тихо проронил Жан-Малыш.
— Что же, теперь, когда все улажено, пришло время расставаться. Дай мне твой пояс и браслет, я сам спрячу их на корабле. Пора нам прощаться, как прощаются два окончательно свихнувшихся старикашки, которые всю жизнь только и делали, что переливали из пустого в порожнее. Послушай меня, — добавил он, жалобно вздохнув, — послушай эту старую развалину Эсеба, который решил записаться в сумасброды, хотя, бывает, мир оказывается куда сумасброднее души человеческой; вся кое ведь может случиться: вдруг мне доведется повстречать Вадембу в конце моего безумного пути, так не хотел бы ты передать ему привет или одно-два слова?
Жан-Малыш улыбнулся сумасбродной мысли, пришедшей в эту бедную старую головушку, с виду такую рассудительную и мудрую.
Одно могу сказать, — прошептал он наконец, — раньше, когда светило солнце, щедра была гваделупская земля: воткнешь в землю ветку — и поливать не надо, всегда прорастет, если силы ее не растрачены; так ему и скажите…
— Я передам ему твои слова о ветке дерева, старый воин, — сказал Эсеб.
— И еще вот что ему скажите, — печально продолжал Жан-Малыш, — кто знает, быть может, мы такие же забытые, оторванные и унесенные вихрем ветви дерева, но когда-нибудь мы обязательно пустим корни, прорастем, и будет новый ствол, и новые зеленые ветви, а на ветвях — плоды, новые, непохожие на прежние плоды, так ему и скажите…
Старый Эсеб испытующе сверлил его взглядом, тщетно пытаясь постичь смысл этой притчи о ветви дерева. Спустя некоторое время он благостно вздохнул и легко провел пальцем по седым вискам друга, будто перед ним стоял прежний юноша:
— Отплачу тебе той же монетой, скажу кое-что интересное для тебя: если снова встретишь Чудовище помни — сила его не в нем самом, а в птице, сидящей в ухе…
6
Жан-Малыш кувырком падал на шоссе, но, вспомнив об Эсебе, чьи широкие крылья уже едва виднелись вдали, одним рывком взметнулся к крыше высокого дома, увернулся от нависших над улицей электрических проводов и оказался в открытом небе…
Огни города выступали из мрака светящейся паутиной. Но чем выше он поднимался к облакам, тем больше изменялся рисунок путаной сети серебряных нитей, и у самого порта он вдруг понял, на что это походит: на огромное устье светящейся реки, острым клином разрывающей город. Море устремлялось в эту гигантскую воронку, которая, казалось, пытается всосать в себя и направить в узкое жерло саму необъятность. В вязком тумане надсадно басил ледокол, за которым тянулась цепочка кораблей, пытавшихся пробиться в море. Простиравшееся внизу, по ту сторону электрического света море манило своей темной, непостижимой бесконечностью, и два ворона спокойно повернули к нему, будто к знакомому дереву, что готово укрыть в своей кроне, накормить вкусными плодами. В сладком упоении одиночества парили они в непроглядной ночной мгле. Эсеб с трогательной заботой посматривал на своего друга. Из его приоткрытого клюва торчал плоский кончик языка, язычок этот трепетал насмешливо и в то же время нежно, будто желая выразить все чувства, что связывали их теперь, после случившегося. Вдруг он встряхнулся и начал плавно опускаться, а за ним тяжело летел вниз на скованных холодом и тоской крыльях Жан-Малыш…
Когда они достигли корабля, который уже выходил из устья, оставшийся позади ледокол разворачивался к городу. Нос грузового судна тонул в сплошной черноте необъятной ночи. Чиркнув крыльями по волнам, Эсеб вцепился когтями в борт спасательной шлюпки, висящей на боку корабля. Под брезентовым чехлом Жана-Малыша ждали его ружье, пояс, браслет и котомка, а еще мешочек с зерном. На прощание Эсеб ласково почистил на его затылке перышки и, в последний раз беззвучно ухмыльнувшись, расправил свои могучие черные крылья и взмыл над морем, канул в Неизвестность…
КНИГА ВОСЬМАЯ,
О том, как наш герой вернул солнце и что увидел в тот день в зеркале вод.
1
Скользнув под брезент, Жан-Малыш припал своим птичьим телом к сплетению снастей и больше не шевелился, спрятав голову под крыло. Ему хватало на день нескольких пшеничных зерен и двух-трех капель росы. Время от времени он разминался в своей тесной обители, разгонял застывшую кровь, которая несла по жилам тонкое крошево льдинок, а потом засыпал, чтобы проснуться все с тем же ощущением стеклянной хрупкости своих крыльев, казалось готовых расколоться при малейшем взмахе…
До него доносились звуки, какие всегда можно услышать на борту: из машинного отделения прорывался тяжкий вой и скрежет, оглушительно хлопали на ветру двери. Одного только явно не хватало в этом корабельном гуле: ни разговоры, ни крики не оглашали палубу. Жан-Малыш не раз высовывался из-под брезента и дивился беззвучной работе экипажа, который состоял почти из одних чернокожих гваделупцев. Все было отлажено до мелочей: хозяева подавали знаки, и рабы начинали с послушным, угрюмым безразличием выполнять то, что следовало; лишь изредка в воздухе щелкал хлыст — можно сказать, вхолостую, только чтобы подогнать и без того отлично выдрессированных животных…
Потом, когда он убирал под чехол свой клюв, это Давящее безмолвие наводило его на странные мысли; случалось, перья его вставали дыбом, и он в ужасе спрашивал себя: а вдруг корабль захватили Тени?
Прошло пять или шесть недель, и ветер стал мягок, ласков, благостен, а с поверхности воды исчезли льдины. Появились стайки чаек, они подолгу кружили перед носом судна, как бы показывая ему путь к земле, которая, по всему чувствовалось, была уже близко, вот-вот готова подняться из волн. Вода светлела. На ней теперь не было видно ни льдинки, а ветер доносил слабый аромат перца запахи болотной гнили и серы да еще глухой ропот, будто вырвавшийся где-то из тысяч ртов. И вот однажды на палубе раздались наконец крики, крики черных и белых, рабов и хозяев, слившиеся, как ни странно, в один радостный хор. Появились голые утесы острова Дезирад, окаймлявшие ровное, будто ножом срезанное плато, дальше лежал, словно плот на якоре, круглый плоский остров Мари-Галант, и наконец, под ярко-желтым месяцем, казалось взгрустнувшим по солнцу, возникли первые косы земли, которую он не осмелился назвать по имени, земли, показавшейся ему вдруг более загадочной, чем сами звезды…
Завыла сирена, и корабль, застопорив машины, вошел в фарватер между побережьем и островком Брюман, чьи пушки охраняли причал. Повесив на шею пояс и браслет, Жан-Малыш подхватил клювом истрепанную перевязь котомки и ринулся к берегу, тотчас попав под лучи прожекторов, прочесывающих воды Пуэнта. Сразу за скалистым мысом ему открылся узкий пляжик черного песка, и, прямо на лету сбросив на отмель свои сокровища, он возвратился к кораблю и стал извлекать из-под чехла ружье, отчаянно работая лапками и клювом. Вдруг с палубы раздался крик, и белая рука указала на уже улетающую птицу, которая сжимала в когтях ремень мушкета. Каждый взмах крыльев был для него смертной мукой. Судорожно мечущаяся в огнях гавани черная точка уже достигла было спасительной тени, когда громыхнули выстрелы, и перед клювом Жана-Малыша мелькнуло несколько перьев…
Приклад мушкета начал задевать за гребни волн, когда он наконец долетел до берега маленький бухточки с намывом черного песка, спрятанной за скалистым мысом. Укрыв в кустах свое оружие и пожитки, он забился под мангровые корни и застыл, как камень, только лапки его без конца ходили туда-сюда, нежно скребли, ласкали влажный, бархатный, дорогой его сердцу песок родимого острова…
Последняя звездочка нырнула в море, и плотная серая вата окутала Гваделупу. Не покидая тенистых мангровых зарослей, Жан-Малыш водил клювом из стороны в сторону, пытаясь разобраться в запахах, пробивавшихся сквозь терпкую вонь гниющих водорослей. Сперва он уловил кислый дух близкой камедной рощи. Потом начал различать легкое дыхание прибрежных деревьев: запах акаций миндаля, острый, едкий, как у лесного клопа, запах манцинеллы, соленый запах боязливо забившегося в свою норку, клешнями наружу, краба. Наконец до него донес лось теплое, родное благоухание какой-то птицы, которую он, как ни старался, не успел распознать, потому что вдруг канул в темную, открывшуюся под его убежищем пропасть; он падал в нее, а мимо, совсем рядом, проносились залитые светом видения, которые он не в силах был остановить: круглые хижины Верхнего плато, ни с того ни с сего оказавшиеся на бескрайней равнине Низких Сонанке, жилища-термитники деревни Гиппопотамов, изъеденные временем крутые скалы; потом над ним промчался и растаял как дым огромный город метрополии; распластав руки, он отвесно падал вниз, в разверстую в глотке Чудовища бездну, а щеки его овевал свежий черный ветерок…
2
Когда он проснулся, длинные языки тумана все еще вились вокруг корней мангровых зарослей, но круглое, гладкое, млечно отливавшее старинным фарфором небо уже усеивали россыпи звезд. Выбравшись из густой путаницы корней, он шагнул раз-другой по мокрому песку и стал весело разглядывать розового краба, который бежал, словно человек, навстречу своей судьбе, бежал в одну сторону, а шарики своих глаз направил совсем в другую. Жан-Малыш рассмеялся, и из его горла вырвалось протяжное «карр»: ужаленный змеей веревки боится, а он, едва поднявшись из Царства Теней, готов неведомо зачем во второй раз броситься в пасть Чудовища…
За мысом раздался трубный рев парохода. Вспомнив, где он находится, Жан-Малыш подумал, что пора облачаться в человеческую кожу, начинать новую жизнь — самую нелепую, самую несуразную из всех, какие он уже прожил, бред какой-то, да и только, ведь все это было уже чужое, не его. Он нерешительно шагнул к кустарнику, в котором спрятал мушкет, пояс и вещий браслет. Но тут его вновь одолел смех, и он подумал: а не тряхнуть ли ему стариной, не полетать ли над Гваделупой и поглядеть, что на ней изменилось за все это время. Он поднял лапку в воздух, потом решил было подавить минутное желание, но тут его опять одолел смех, и он вмиг перемахнул через ленту мангровых зарослей…
По шоссе к Пуэнт-а-Питру двигалась вереница негритянок, на голове у каждой была тяжелая корзина с овощами и фруктами. Хотя никто за ними не присматривал, они шли молча, мерным шагом, останавливаясь лишь затем, чтобы помочиться — прямо стоя, раздвинув ноги под целым ворохом юбок из дерюжных обрезков и рваных одеял, которые они придерживали руками в грубых рукавицах. Сердце нашего героя сжал страх, подобный тому, что он испытывал на корабле, когда смотрел на жуткую пантомиму рабов и хозяев; потом Жан-Малыш пролетел над ослом, над повозкой, запряженной волами, над кучкой рабов, которые шли на работу с мотыгами на плечах: с виду они были свободны, никто их не подгонял. Почти сразу он, как сквозь сон, увидел громыхавшую по дороге стародавнюю золоченую карету, будто сошедшую с книжной картинки, на козлах которой восседал старый кучер в ливрее и цилиндре. Перед лошадьми бежали, обливаясь потом, два раба с горящими факелами, и у Жана-Малыша голова пошла кругом: неужто он опять попал в иной век, в иную Гваделупу, как когда-то очутился в забытой Африке стародавних времен.
Его подхватил и отнес от дороги порыв влажного ветра, и, все еще не оправившись от смятения, Жан-Малыш заметил, что капли дождя осаждались на его перьях прозрачными, точно стекло, льдинками. Вскоре он превратился в маленькое белое привидение, беспомощно мечущееся меж холмов — он никак не мог прийти в себя от деревенских пепелищ, от зловонных развалин сахарных заводов, вокруг которых вздымали к небу костяные ноги скелеты волов. Вихрем промчавшись над Соленой ре кой, он заметил наконец первые живые, или, скорее, чудом выжившие, плантации: на них кишели, словно комары над болотом, черные рыбы. Но всюду та же мертвая тишина, те же вороха дерюжной ветоши, в которой люди казались ходячими чучелами. Стужа полновластно царила повсюду, проникла во все: в человеческие тела, в хиреющие от ее дыхания деревья, захватила само небо, где клубился и рвался ввысь, чтобы потом растаять без следа, холодный серый туман. Вдруг до него донесся протяжный напев, он исходил от чернокожих рабов, которые шли цепью и мотыжили схваченный белым инеем склон. Ни одного прожектора, чтобы осветить место работы, ни ударов хлыста, ни собак, обученных ловить беглецов. Лишь два-три надзирателя держались поодаль, верхом на укрытых теплыми попонами лошадях, а из ртов согбенных до земли людей лилась незнакомая песня, в которой не было ни надежды, ни скорби, ни устали, ни тоски, одна лишь тупая пустота:
О колени мои Колени Вы согнитесь Мои колени Вы согнитесь-ка до землиПеснь эта будто вырвала и разметала по небу душу Жана-Малыша. «Нет больше сил терпеть, оставьте же, оставьте старика в покое, дайте ему спокойно помереть в своем темном углу!» — задыхаясь, повторял он в изнеможении, а ветер уже швырнул его за вершину холма. Справа, метрах в десяти от мелкого леса, раздался крик петуха. Сквозь густую листву он различил старого калеку, который полол огород, разбитый рядом с жалкой хижиной. Одна его рука опиралась на костыль, а другая легонько помахивала маленькой, будто игрушечной тяпкой. Он пропалывал иньям и говорил сам с собой, эхал и ухал, чтобы подбодрить себя, как это всегда делали старики, до самой смерти не желавшие оставлять свой клочок земли. Стена колючего кустарника отделяла его от остального мира; успокоенный увиденным, Жан-Малыш опустился на опушку подлеска и принял человеческий облик…
Он приподнял крылья, ожидая, когда они исчезнут, и очутился совсем голый на траве, чуть отведя руки от дрожащих бедер. Тело его тотчас покрылось инеем. Он ощупал себя с ног до головы, чтобы удостовериться, все ли цело. Руки, ноги и прочее — даже глубокий шрам от удара копья на груди, — все было на своих местах. Но на левом запястье алела капля крови, и, проведя рукой по бедру, он наткнулся на торчавшее птичье перо: «Вежливое напоминание богов», — улыбнувшись, подумал Жан-Малыш и вышел из зарослей. Старик поднял голову, пытливо, с любопытством взглянул на него и тихо промолвил:
— Встань-ка вон туда, ближе к колючей изгороди, иначе тебя заметят с холма.
Оставив свою тяпку, старик, ковыляя, подошел к Жану-Малышу и долго изучал его своими хитрыми, сощуренными глазками, узкими, как зарубки на стволе дерева.
— Я вижу, ты тоже не первой молодости, может, тебе лучше присесть? — сказал он и указал на круглый валун у ограды. Потом попросил:
— Ты уж сделай милость, не губи меня, а я сейчас сбегаю в хижину — одна нога здесь, другая там, — и захромал к дому, откуда вынес котелок с холодными картофелинами, который и протянул Жану-Малышу.
Потом он опять попросил гостя пощадить его и снова исчез в хижине, вернувшись со старой попоной:
— На-ка, прикройся, а то ты и на христианина-то не похож.
Когда Жан-Малыш опорожнил котелок, старик воткнул костыль в землю и осторожно опустился на траву; оглядевшись вокруг, он вытянул шею, вздохнул шумно и нетерпеливо, как паровой котел, и прошептал:
— Ну, а теперь давай рассказывай.
И, устремив щелки глаз к небу, он, словно выживший из ума старик, беседующий с ветром, умоляюще добавил:
— Сам видишь, мне не на что жаловаться: пока что держусь, не развалился, вот домишко есть, огородик, курочки. Так что жить можно — правда, когда нужно дерево какое подлечить или ветки нарезать на черенки, тут уж им без меня никак не обойтись, гонят на работу, — рука у меня легкая, всю жизнь этим делом занимался. Так-то вот трудился и тружусь на чужой земле, а какая разница, где работать? Одно худо: хороших историй теперь мало. Раньше, бывало, всегда что-нибудь да стрясется — не с тем, так с другим, — было что порассказать, послушать. А нынче ни с кем ничего не случается, ровным счетом ничего. Каждый идет своей дорогой, идет, куда господь ведет, — словом, скучища, да и только, и так хочется что-нибудь интересное послушать, хоть сдохни. Что ж, старый плут, я тебя спрятал за своей изгородью, накормил, прикрыл твой срам, разве не вправе я тебе сказать: ну, а теперь давай выкладывай!
— Ты мне помог, а я не стал ломать костыль о твой загривок — по-моему, мы квиты…
Человек отпрянул, но, видя, что Жан-Малыш тихо, по-доброму смеется, как и полагается смеяться над выжившим из ума стариком, он тоже рассмеялся — над самим собой, — чтобы никому не было обидно. Потом, наклонясь вперед, он опять умоляюще заговорил:
— Мы теперь вроде как свои, и я должен тебе сказать, что о лесных людях здесь давно уже ничего не слыхать. Пока я тебя не увидел, я думал, что на всей нашей доброй Гваделупе не осталось ни одного из них, с тех пор как последнего повесили на крюк возле Суфриера три месяца назад. Но вот ты сидишь здесь, и я теперь вижу, что хоть один-то остался — правда, по всему видать, ты, дружище, едва уцелел, раз явился сюда в чем мать родила. Неужели же тебе нечего мне рассказать, а?
Но когда Жан-Малыш устало взглянул на него своими красными, отсутствующими глазами, он испуганно и торопливо добавил:
— А нет, так и ладно, дружище, мне хватит и того, что я тебя вижу, — ведь это, почитай, все равно что услышать добрую историю. Вокруг такая тишь да гладь, что иной раз просто жить не хочется. Солдаты ушли, хозяева успокоились, они снова знай пудрят себе волосы да разъезжают в каретах, как в прежние времена, и мы снова можем почитать себя счастливыми: только не бунтуй — и свой кусок хлеба получишь. В последний раз здесь слышали свист хлыста месяцев шесть назад, когда этот — в общем, некоторые его проклинают, зовут негодяем, беглой свиньей, но думаю, ты со мной согласишься, что не стоит так говорить о юноше, которого хозяева просто-напросто повесили, как скотину какую, на крюк, а прежде чем повесить, жестоко искалечили, вдоволь поизмывались над ним, так-то вот…
И тут понял Жан-Малыш, в какой мир попал, и сказал сорвавшимся голосом:
— А что же сделал этот… негодяй?
— О, что я слышу, ты решился наконец рот открыть, тебя заинтересовала моя история! Знаем мы вас, все вы, лесные жители, одним миром мазаны: как услышите что-нибудь подобное, сразу ухо востро! Но я на тебя не сержусь, нет, и вот что скажу: парня этого уморили потому, что он вбил себе в голову восстановить нас против хозяев, ни больше ни меньше. Совсем как знаменитый Юноша-которого-не-поймать: он в прошлом году не одну неделю проработал на нашей плантации и пел нам все о том же. У вас, лесных, только одно на уме: «Свобода, возлюбленная свобода!» Я многое повидал в жизни, и если уж что понял, так это то, что птица в небе — и та не свободна, нет, дорогой мой, не свободна…
— Красиво говоришь, — сказал Жан-Малыш, — но что за странное имя ты произнес, уж не ослышался ли я: Юноша-которого-не-поймать, так, что ли?
— Точно так, — степенно произнес калека, — этот заколдованный человек появляется на плантациях, и первое время его никто не замечает, всем кажется, что он всегда здесь работал. Все мы сначала думали, что он из здешних, — верно, тут без волшебства не обходится. А потом он начинает смеяться над нами — над кем же ему еще смеяться? — потешается над нашим покорством и смирением, и приходит день, когда он в открытую поднимает нас против хозяев. И тогда волшебство кончается, и все сразу узнают в нем Юношу-которого-не-поймать. Его казнили раз двадцать, и все напрасно, он опять появлялся на плантациях. Однажды его даже сожгли в угольной топке и развеяли пепел до самого моря. И чего только с ним не делали, чего не творили, а сколько раз резали на мелкие куски и разбрасывали их по полям и лесам, чтобы они опять не сложились, я и не упомню. Но вилами воду не проткнешь, и истинное колдовство белым не по зубам: не далее как вчера он объявился на плантации Эннекен…
— Это там, где поля ромового завода, что у городка Пти-Бур? — вырвалось у Жана-Малыша.
— Именно там… в полпути от Монтебелло, — подтвердил старый раб.
Потом он вдруг прикрыл глаза и, изнывая от нетерпения, просительно добавил:
— Я спрятал тебя за своей изгородью, дал тебе поесть, прикрыл твой срам и даже рассказал тебе самую что ни на есть прекрасную историю из всех, что можно услышать на плантациях с того дня, как сгинуло солнце. Ну сделай милость, дружище, скажи хоть несколько слов, хоть что-нибудь о том, что видел в лесах, поведай самую короткую историю, грустную или смешную, все равно, а может, и грустную и смешную сразу, ведь раньше такое часто можно было услышать, подари мне что-нибудь, хоть несколько слов, если не привык долго говорить, дай мне уснуть сегодня счастливым человеком…
— Мне нечего тебе рассказать, — сказал Жан-Малыш.
И добавил дрожащим от волнения голосом:
— Ничто из того, что я видел на земле, не может сравниться с твоей историей…
Спасибо, — промолвил старик, утирая благодарные слезы.
Перед такой святой, блаженной простотой Жан-Малыш не мог сдержать улыбки:
— Слушай, раз для тебя один мой вид — уже история, то я могу тебе поведать еще одну. Только вот что: не пугайся, все, что ты увидишь, — просто сказка, тебе от нее не будет никакой беды…
— А ты часом не смеешься надо мной?
— Нет, — сказал Жан-Малыш, покидая человеческое обличье.
Несколько мгновений калека не знал, восхищаться ему или падать в обморок. Потом он устремил на птицу невозмутимый взгляд ребенка, всосавшего все эти чудеса с молоком матери, и Жан-Малыш поклонился ему, шутливо покаркивая. Наконец герой наш взмыл над хижиной, над изгородью из колючего кустарника, над очарованным стариком, который теперь хлопал в ладоши, как хлопали иными вечерами в Лог-Зомби рассказчику, оказавшемуся на высоте: такого слушаешь и будто все своими глазами видишь, слушаешь до тех пор, пока уже ничего не видно…
3
Он сел на берегу бухточки, сделал несколько шагов по влажному черному песку, оставляя за собой яркий след от кровоточащей на крыле ранки. Когда он обернулся человеком, из левого запястья обильно текла кровь. Он кое-как перетянул руку жгутом лианы и накинул на себя пояс. Поднялся сырой ветер, который сразу покрыл его тело ледяным бисером, но, стоило ему застегнуть пряжку пояса, по всем его членам разлилось тепло, перестала сочиться кровь, а на кожу легла странная ребристая пленка, похожая на прозрачную, будто стеклянную, чешую, с которой все соскальзывало, не оставляя даже царапин. Удивившись, он надел на руку вещий браслет и сразу почувствовал, что где-то там, в ночной тьме, пробудились могучие чары; и понял он, что после целой вечности молчания браслет спешил ему на помощь, давал, наконец, о себе знать, указывал верный путь.
Собрав пожитки, он пошел туда, куда вел его браслет. Тот не говорил человеческим голосом: это было так, будто живые ветви деревьев искали его, теряли, снова находили в ночной мгле, обвивались вокруг груди и тянули туда, куда следовало идти. Ветви провели его через ленту мангровых зарослей, над которой он только что парил птицей. У самого шоссе ворчание мотора заставило его нырнуть в траву — мимо промчался грузовик, над кабиной которого был установлен прожектор, ослепительный луч обшаривал окрестности; дальше наш герой пробирался, уже низко пригибаясь к земле, держась подальше от дороги, огибая все встречавшиеся на пути открытые места, где его мог настигнуть сноп света…
Серая мгла растворяла одну за другой ночные звезды; Жан-Малыш двигался вперед не спеша, зорко присматриваясь ко всему, что пряталось в тумане. Как ни странно, он лучше видел не ближние предметы, а то, что находи лось вдали. Он догадался, что дело здесь в браслете, и вскоре опустил веки на свои ненадежные человеческие глаза, отдавшись во власть внутреннего зрения. Вот так, с закрытыми глазами, углублялся он в мертвую, окутанную мглистым саваном страну. Дороги были пусты. Деревни погружены во тьму. Не верещали кузнечики, не пели цикады, ни одну живую тварь не вспугнул он по пути. В предместье Пуэнт-а-Питра на перекрестках желто горели, словно подвешенные дыни, овалы уличных фонарей, но фонари эти ничего не освещали, вокруг них не вился ни один мотылек. Возле моста Лагабар в луче прожектора сиротливо стояла покинутая сторожевая будка с плотно закрытыми дверями и окнами. Он послушно пересек безлюдный мост, двинулся вдоль дороги, ведущей в Пти-Бур, а там браслет потянул его в горы, к вершинам Монтебелло. Он ступил на тропу, проложенную через поле сахарного тростника; тропа эта огибала холм и упиралась в небольшое плато, на котором огромной подковой стояли какие-то длинные строения. Чуть дальше уныло вращалось колесо ромового завода, которое приводила в движение вода канала, прорытого от реки Онзэр. Плато окружала высокая ограда с коваными воротами: это было имение Эннекен, о котором говорил старый калека, где вот-вот должно было разыграться очередное действие истории Вечно-живущего-юноши…
Еще в дороге Жан-Малыш задумался: почему браслет увлекает его в места, о которых упоминал калека? И когда он остановился перед железными воротами, ему в какой уже раз, с тех пор как он упал в африканское небо, показалось, что его водят по всему миру на привязи, тянут, как вола за продетое в ноздри кольцо. И никак не мог понять наш герой, почему его тащат, будто глупую скотину, невесть куда. Но его дело было идти, а не рассуждать, идти ночью и днем, идти, даже если на душе было черно и мрачно, и так было всегда с самого рождения, и в этом занятии он, несомненно, преуспел. Он улыбнулся, распахнул ворота и попал в пустой двор, прошел по платформе, вдоль которой выстроились вагонетки, груженные сахарным тростником. Чуть дальше приторно-сладкую вонь тростника сменил запах барака, где в невыносимой тесноте вповалку лежали на сырой, давно сгнившей соломе десятки рабов. Обойдя низкую постройку, Жан-Малыш направился во внутренний двор с манговым деревом посередине. В облаке серой мглы мерцал островок света. То был костер, возле которого полуночничали два вооруженных раба: один стоял, опираясь на ствол винтовки, другой сидел возле огня и собирался испечь в углях несколько клубней сладкого картофеля. Первый караульщик посмотрел на силуэт человека, подвешенного к самому толстому суку дерева, и рассмеялся недобрым сдавленным смехом:
— Ну что, допрыгался, висишь теперь, как баранья туша, а ведь хотел весь мир вверх дном перевернуть, вот и перевернул!
— Прошу тебя, не вспоминай о баранине, — умоляющим голосом произнес его напарник, — стоит мне услышать это слово, как перед глазами встает рагу, какое раньше делали с мозговым горошком, что так и таял во рту, помнишь?
— Как же, конечно, помню, — с воодушевлением подхватил другой, — мозговой горошек залить острым соусом малис с луком и зеленым лимоном, дать настояться столько времени, сколько надо, чтобы выкурить трубку, потом заправить перцем и тремя-четырьмя головками чеснока, по вкусу, накрыть ненадолго крышкой, подождать, пока горечь выйдет, потом снять с огня и добавить маринаду. Эх, как подумаешь об этом, не верится, что когда-то едал такую вкуснятину. А тебе, дружище, — добавил он, вновь посмотрев на висевшего, — тебе бы тоже небось сейчас не помешала тарелочка рагу в соусе малис? Ты, верно, не прочь присесть к огню и вытянуть поудобней ноги? Хотя что я говорю: скоро ты их навсегда протянешь, набегался по лесу, хватит…
— Ты хотел сказать: не навсегда, а до следующего раза. Послушай, брось это, мне как-то не по себе, когда ты потешаешься над этим несчастным. Смотри, как бы он тебе это не припомнил, когда опять вернется на землю.
— Вряд ли, — проговорил другой, помолчав, — вряд ли Юноша вспомнит о таких пустяках, ведь это я так сказал, без всякого умысла… да нет, что ты, вряд ли он вспомнит…
Однако он все же встревожился, смутно сознавая всю гнусность происходящего, и добавил, обращаясь к раскачивающемуся на ветру под манговым деревом силуэту:
— Кто бы ты ни был, парень, не придавай значения глупым, сказанным не со зла словам; забудь о них, не бери их в голову, в одно ухо влетели, из другого вылетели, и бог с ними. И потом, не обижайся, что мы оставили тебя висеть на суку; по правде сказать, нам-то это совсем ни к чему, мы бы с удовольствием отвязали тебя и усадили у огня…
— Да-да, чтобы ты хоть маленько согрелся, отдохнул перед завтрашним. Но ты же сам знаешь, Заколдованный: горемыкам лучше идти туда, куда ветер дует, к нему подлаживаться, вот так-то…
Юношу подвесили за запястья, но руки связали за спиной, и потому грудь его выдавалась вперед, острыми клиньями торчали плечи, суставы были вывихнуты. В оцепенении наш герой смотрел на это всплывшее из детства лицо, а перед ним проносились картины далекого прошлого, от которых, как он полагал, время не должно было и следа оставить: вот Ананзе с горечью рассуждает о душе негра, вот он держит пламенную речь у проходной сахарного завода, вот забастовщики несут его, как римского императора, на руках. Вот он вслух размышляет возле хижины папаши Кайя о том, как низко пал человек, а в это время жители деревни послушно идут в город за жалким пайком муки и керосина. И вот, наконец, он загадочно улыбается перед тем, как взобраться на окруженную солдатами платформу грузовика, — будто уже тогда он был полон решимости пойти по пути, который приведет его однажды сюда, на самый толстый сук мангового дерева, заставит раскачиваться на ветру, словно безжизненную тушу…
Наконец Жан-Малыш решился выйти из туманной мглы на свет, и стражники, не веря своим глазам, раскрыли рты в глуповатой, ошарашенной улыбке, окаменели перед могучей фигурой с опущенными, как у покойника, веками. Схватив их за шеи, Жан-Малыш столкнул их пару раз лбами; он не собирался раскалывать их котелки, как кокосовые орехи, совсем нет, он хотел только, чтобы в голове у них слегка помутилось, чтобы они вздремнули маленько. Потом он удобно уложил их рядышком и тихо прошептал: «Пусть кровь ваша не будет водицей, а глаза всегда открыты — вот и все, что может вам пожелать покорный ваш слуга, идущий на смерть». Он подошел к манговому дереву, снял с веревки тело друга и перенес его к огню. Путы на запястьях были стянуты такими тугими узлами, что пришлось рассекать их ножом. С хрустом встали на место освобожденные плечевые суставы; Ананзе медленно повел еще косящими глазами, и глаза эти были будто ручейки, что устояли перед зноем, не высохли до конца и теперь собирались с силами, чтобы вновь устремиться в путь…
Жан-Малыш не мешкая собрал у костра все, что мог с собой захватить: ружье и патронташ, тесак и алюминиевую флягу, потом он накинул на Ананзе одежду одного из рабов, завернул его истерзанное тело в одеяло и осторожно поднял на плечо…
Ноша показалась ему необычайно легкой; и, снова нырнув в туман, он на миг приостановился, чтобы утереть слезы, которые слепили его, застилали глаза под закрытыми веками, сливались с восходящими к небу потоками влаги…
4
Когда они добрались до водопада Брадефор, Вечный Юноша еще спал. У подножия скалы по-прежнему стояла рубленая лачуга — видно было, что с тех пор, как пропало солнце, сюда никто не заглядывал. Жан-Малыш уложил друга на ложе из сухих веток и вытащил из котомки незатейливые приспособления для добывания огня: камень с круглой выбоиной посередине, деревянный штырь и уцелевший охлопок пакли. Невдалеке широко разливалось все то же озеро, в которое с тридцатиметровой высоты низвергалась колонна воды. Его охватило странное волнение при виде незыблемости этого погруженного во мрак мира. Деревья по-прежнему подступали к самым скалам, с которых ниспадал дождь лиан; они покрывали отвесный склон тонким плотным ковром, цепляясь за малейшие неровности каменной стены. И рокот водопада был точно такой же, какой он слушал в этом лесу сорок-пятьдесят лет назад — и еще несколько вечностей, если быть точным. Он подошел к воде и, нагнувшись над плоским, гладко-нежным, муаровым листом сигины, поцеловал его, словно губы женщины. Потом, вытянувшись в струну, он нырнул в водяную кипень и поплыл вдоль крутого берега, как и много лет назад, отыскивая норы и щели, в которых прячутся усатые бычки и лобаны. Чуть позже, нанизав свой улов на обруч из гибкого прута, он не спеша побрел по окрестностям в поисках целебных растений, которые раньше здесь собирала матушка Элоиза. Ему удалось также найти нетронутый клочок земли со съедобными корешками и два-три уцелевших банановых дичка, раскинувших посреди поляны опахала своих листьев, — последнее напоминание о некоем Крестоне Блаженном, который в полном одиночестве, вконец одичав и бегая нагишом, жил в этих местах за несколько лет до рождения Жана-Малыша. Пока в углях пеклись бананы и рыба, он растер между ладонями несколько мясистых листов алоэ и наклонился над израненным телом друга. Он натер его густым соком с головы до ног, не забыв ни одного мускула, ни одной жилки, проходя вдоль самых затаенных протоков крови, как это делала матушка Элоиза, заживляя своими тонкими, зелеными, будто ящеричья кожа, пальцами болячки и раны. Через некоторое время в открытую дверь вползла светлая ночь, и Ананзе медленно поднял веки. Распухшие губы разошлись в неуверенной улыбке, в ней было и лукавство, и безумная надежда того, кто, хоть и догадался, что с ним сыграли злую шутку, все же верит, верит, несмотря ни на что, в лучшую участь.
— Отец, скажи мне, где я? — промолвил он. Ты у водопада Брадефор, — ответил Жан-Малыш.
— Какого еще водопада? Разве я не на том свете?
— Нет, ты среди живых, — ободряюще сказал ему Жан-Малыш.
Простертый на ложе юноша загадочно усмехнулся, и рассудок его уже снова готов был унестись прочь из хижины, взлететь в небеса, когда он прошептал, обращаясь к самому себе, и на лице у него читалось удивление и горькое разочарование ребенка, у которого отняли любимую игрушку:
— А мне стало так хорошо на этой веревке; под ногами открылся провал, и я тихо-тихо опускался в него, будто на дно реки…
Ананзе снова впал в беспамятство, но его исстрадавшиеся глаза продолжали сверлить старика сквозь сон, безумие и смерть, будто желая рассказать ему о победах в ночной тьме, о неистощимом терпении, которое преодолеет все невзгоды, что ждут впереди. Жан-Малыш продолжал втирать целебный бальзам, врачуя прежде всего руки, которые он время от времени слегка приподнимал, будто надеясь, что вот-вот оживут разорванные связки. Вскоре он сам уснул, и привиделось ему, что он нырнул в озеро под водопадом и над его головой кишмя кишат пиявки. Одна из них, хищно пронзив кожу, впилась ему в левый висок, и он подумал: наверно, здесь у меня дурная кровь, ее-то и сосет водяная тварь. Потом он вздрогнул и проснулся в темной хижине, рядом с Ананзе, все еще ощущая, как невидимая пиявка припала к жиле на виске, стараясь вытянуть из него неведомые соки…
Только на следующий день, обмыв, накормив и напоив Ананзе, Жан-Малыш до конца осознал, как худо его другу. В отдельности каждая черточка лица Ананзе оставалась прежней, но все вместе они застыли в гримасе страдания; он все постигал с опозданием, будто образы и звуки проходили длинный путь, прежде чем проникнуть в мозг. Слова он произносил медленно, нараспев, не очень-то заботясь о связи между услышанным и сказанным им самим. И Жан-Малыш спрашивал себя, кем же считал его юноша, который без всякого удивления взирал на огромного, голого, как ошкуренный ствол, старика, с иссиня-черным пером, сиротливо торчащим из бедра. Вечно Преследуемый даже не поинтересовался его именем и обращался к нему, как к почтенному старцу, называя просто отцом по старому обычаю Лог-Зомби. Иногда его одолевали воспоминания, которые он считал снами, потому что уже не мог точно отличить игру своего ума от чудес этого мира. Он упомянул о Чудовище, которое несколько раз видел издали, рассказал, о чем беседовал с душами усопших, поднимавшимися в полнолуние на землю, чтобы посмотреть на своих потомков, вновь ставших рабами. Но во всем этом он не был уверен, говорил, что слишком долго прожил в полном одиночестве и поэтому не может что бы то ни было утверждать наверняка.
— Одной пары человеческих глаз мало, — улыбнувшись, прошептал он однажды, — нужны по крайней мере две пары, чтобы в чем-нибудь удостовериться, будь то даже простая травинка…
И серьезно добавил:
— Поверь мне, отец, пара глаз — это лишь полчеловека…
Глубоко потрясенный тем, что, несмотря на разделявшие их века и расстояния, они думали одинаково, Жан-Малыш притворился, будто не понял:
— Пара глаз — лишь полчеловека? Что ты хочешь этим сказать?
— Только не смейтесь надо мной, — нерешительно продолжал юноша, — но я до конца не уверен, что все это явь, не колдовство…
— Это я, по-твоему, колдун? — бросил Жан-Малыш с невеселой улыбкой.
— Не смейтесь, прошу вас, не смейтесь: когда начались все эти чудеса, я подумал, что сошел с ума…
— Какие чудеса?
— Ну, когда я начал умирать и возрождаться, потом опять умирать и опять возрождаться, — продолжал Ананзе с едва заметной усмешкой. — В первый раз это произошло в имении Бельфей, где меня просто-напросто повесили, как соленого угря. Я три дня болтался на виселице бездыханный. Я прекрасно знал, что умер, но продолжал слышать, о чем вокруг говорят, чувствовал свежий ветерок. Когда они меня закопали, я прорыл над собой землю, вышел и отправился на другую плантацию. Я не верил в то, что со мной случилось, думал — это просто сон. Не верил и во второй, и в третий раз, считал, что умом тронулся. Но однажды я заявился в имение Сан-Фаше, и, завидев меня, люди в страхе разбежались, крича, что они меня один раз уже вешали, да-да, вздернули по всем правилам не далее как год назад; и тогда я понял, что нахожусь в здравом уме, но просто заколдован, и колдовство это длится до сих пор, даже и сейчас, когда я с вами говорю, — закончил он, робко улыбнувшись.
В последние дни перед кончиной, когда его суденышко должно было взаправду опрокинуться и затонуть в открытом море, Ананзе поражал своим невозмутимым спокойствием, лежа в маленькой вечной хижине у водопада Брадефор — в его последнем пристанище на этой земле.
Как ни старался Жан-Малыш, левая рука юноши не хотела оживать. Она висела плетью, чуть западая за спину, будто собиралась опять мучительно скрючиться под толстым суком мангового дерева. Однако ноги его вновь стали пружинистыми, его снова начал слушаться язык, глаза обретали былую зоркость, но иногда все же подводили его так, что он натыкался на препятствия. Он шутил, смеялся, временами его выходки напоминали прежнего мальчугана на берегу реки. Одежда охранника — черная фетровая шляпа, рубаха навыпуск, широкие штаны, подвязанные бечевкой, — висела на нем как на пугале, в таком виде он и ходил за Жаном-Малышом по пятам, смотрел, как тот ловит в озере раков, усатых бычков и лобанов, откапывает съедобные коренья, срезает грозди бананов, собирает плоды гуаявы и каннелии, так осторожно, будто жемчужины, извлекает из стручка и кладет ему в рот тамариндовые горошины. Он никогда ни о чем не спрашивал, даже черное перышко, торчавшее из бедра Жана-Малыша, и то его не интересовало. Они обходились без слов, им ничего не надо было друг другу объяснять, все и так было ясно, за Ананзе говорили его глаза: огромные глаза больного жеребенка, которые он не сводил со старика, будто тот был для него и отцом и матерью, всем, что у него есть, единственной опорой на этом свете. Ловя на себе этот взгляд, Жан-Малыш не без грусти думал, что он со своим старческим лицом и седыми волосами вытеснил теперь в сознании Ананзе память о самом себе…
Как-то вечером ему приснилось, что его зовут, и он открыл глаза. Вечный Юноша спокойно спал рядом. Чуть позже послышался тот же голос, но теперь он звучал громко и явственно, и, подняв веки, Жан-Малыш ответил: «Я здесь». Он встал, обошел хижину. С поверхности кипящего озера, словно пар, начинал подниматься туман.
Остановившись у самой воды, он твердо решил для себя, что судьба Ананзе важнее всего остального в мире, и громко, чтобы невидимые духи как следует его расслышали, сказал: «Никогда, нет-нет, никогда!» Едва он произнес эти слова, над озером поднялся ветер, в неровном дыхании которого слышался многоголосый ропот. В каждом голосе звучала вкрадчивая насмешка колдунов с Верхнего плато, но наш герой повторил: «Никогда, нет-нет, никогда!» Тряхнув головой, он возвратился в хижину и тихо лег возле друга, полный решимости больше не откликаться на зов. Но заснуть бедняге так и не удалось, он долго рассуждал сам с собой, в нем заговорил голос разума, и на каждое его слово Жан-Малыш отвечал печальным вздохом. Тихо и незаметно растаяла серая ночь, а на заре он поднялся с постели и сказал другу:
— Слушай меня, Ананзе, пришло время нам расстаться.
Впервые, сам того не желая, он назвал его по имени, но Вечный Юноша и не заметил этого; он только повернулся к старику и с горьким удивлением проговорил:
— Что вы сказали, отец?
— Пришло время расстаться, мне пора туда, где тебе нет места.
— А где же мое место, если не подле вас?
— Говорю тебе еще раз, — настойчиво повторил Жан-Малыш, — тебе нечего делать там, куда я иду.
— Как и везде, — сказал Ананзе.
Жан-Малыш долго смотрел на друга, потом широко повел вокруг рукой, как бы прощаясь со всем, что их окружало. Вскоре они обошли озеро и ступили на заросшую тропу лесных негров, ведущую к вершине Мательян. Перекинув через каждое плечо по ружью и подпоясавшись патронташем караульного раба, Жан-Малыш шел спокойной, размеренной поступью старого мула, которого копыта сами несут, потому что знают дорогу до последнего камешка. За ним, едва волоча ноги, плелся Ананзе в свисавших до колен лохмотьях. Он ступал неуверенно и осторожно, боясь потерять равновесие, онемевшие руки не помогали, а мешали ему идти. Жан-Малыш прислушивался к голосу браслета и шел туда, куда он указывал, а Ананзе хрипло и монотонно бубнил что-то себе под нос и время от времени затягивал песню сборщиков сахарного тростника; он исполнял ее по всем правилам, слегка запрокинув голову, заткнув пальцем ухо и устремив вдаль мечтательный взгляд:
О друзья вы мои друзья Возвращаюсь я к вам друзья Я исполнил свой долг меж: зеленых холмов Говорю вам Привет друзья5
Стужа до неузнаваемости преобразила и девственные, и обжитые человеком земли. Прежде цветущие поля стали пустынями, зато у подножья вулканов, вблизи горячих источников, по соседству с гейзерами кипящей воды, повсюду, где подземное тепло давало хоть какую-нибудь надежду на жизнь, вырастали новые селения. Все вокруг было погружено в глубокую печаль. Казалось, заснувшая навеки красавица беззвучно зовет на помощь, и всякий раз, как Жан-Малыш слышал ее голос, он ускорял шаг и шептал: я здесь, я здесь…
На следующий день браслет привел их на вершину горы, с которой еле-еле можно было разглядеть внизу, в долине, среди леса, узенькую, робкую полоску дороги. Жан-Малыш почувствовал, что ноги его не держат, и опустился на траву. Стараясь успокоиться, он положил мушкет на колени, проверил кремень, порох, посмотрел, на месте ли последняя серебряная пуля: надо было собраться с духом и силами, чтобы не подвел глаз, не дрогнула рука, чтобы ровно билось сердце. Ананзе смотрел на него, ничего не понимая. Он рассеянно зарядил ружье, вогнав в ствол пулю, как его попросил сделать Жан-Малыш. Парень понятия не имел, где он находится, не узнавал родных мест, замечал только возвышавшийся впереди силуэт, с которого не сводил веселого доверчивого взгляда преданной собаки. И вот они дошли до Инобережного моста и берегом Листвяной реки молча добрались до водопада, возле которого наш герой остановился в нерешительности; здесь он перевел дух, подумал и двинулся к тропе, ведущей на Верхнее плато…
Жан-Малыш малодушно пытался обмануть судьбу. В тяжком смятении, да-да, в великом смятении перед выбором между участью мира и судьбой друга он лелеял надежду, что Чудовище перебралось на другой остров, а может, даже улетело к другим звездам, унеся с собой несчастное земное светило. Но когда они дошли до середины склона, голос браслета потянул его в сторону, к болоту, и, вновь почувствовав слабость, наш герой мед ленно опустился на траву и прислонился спиной к дереву; по ногам его тек холодный липкий пот. И тогда Бессмертный Юноша спросил:
— Отец, могу я тебе чем-нибудь помочь?
— Нет, не можешь, — ответил Жан-Малыш.
— А стоит ли идти дальше по этому пути?
— А может, и правда не стоит, а? — бросил Жан-Малыш, рассмеявшись.
Юноша тоже улыбнулся, и они двинулись дальше, посмеиваясь каждый над своим, пока их босые ноги не ступили на пружинистый, изрезанный узкими лентами воды мох — предвестник болота; и там, подав другу знак остановиться, наш герой шагнул, ни жив ни мертв, к зарослям тростника…
Сначала ему показалось, что все это уже когда-то с ним было. Болото тускло искрилось в дрожащем свете луны, которая, прежде чем окунуться в море, снимала с себя у горизонта последние покрывала. На другом берегу, повернув морду к уходящей на покой луне, ослепительно белело в ночи видение, оно жалобно стонало и било себя хвостом по бокам. Казалось, оно поджидало его здесь, и невыносимый холод разлился по телу Жана-Малыша, превратив его пот в иней. Он обернулся и в последний раз подал знак своему другу Ананзе, жестом умоляя его не идти за ним, оставаться там, где стоял. И, гордо расправив плечи, как человек, который всякое повидал на своем веку, знавал и царства, и тридевятые государства, прошел огонь, воду и медные трубы, он шагнул вперед в черную жижу, окаймлявшую болото. Пожирательница миров содрогнулась, вспыхнул и медленно заскользил окрест, словно луч прожектора, ее завораживающий взгляд. Потом она вскочила на ноги и кинулась галопом вокруг болота к Жану-Малышу, который застыл в оцепенении, силясь вспомнить что-то важное, что слышал невесть где, невесть когда, невесть от кого. И так он стоял, задумавшись, и на душе у него было пусто, а Чудовище тем временем спокойно бежало среди болотных манглий и высоченных, как колокольни, древовидных папоротников, самые могучие из которых расступались перед ним, будто сухие травинки. Вдруг из глаз Чудовища брызнул, проник в Жана-Малыша, пронзил его до мозга костей пучок света. И рассудок уже покидал его, тонул в жутком взгляде, когда справа, метрах в тридцати, из зарослей выскочил человек. Раздался выстрел, и бледный луч отклонился в сторону, а Чудовище кинулось на стрелка, спрятавшегося за ствол папоротника. В тот же миг из огромной ушной раковины монстра вырвалась крылатая тень, и, придя в себя, наш герой наконец вспомнил слова старого Эсеба: «Сила Чудовища не в нем самом, а в птице, что сидит у него в ухе». И вот уже взметнулся к плечу мушкет, целясь в крылатое создание с морщинистым лбом мудреца, которое быстро поднималось в ночное небо. Жан-Малыш едва успел заметить судорожный рывок сраженного на лету пеликана, и в тот же самый миг Чудовище рванулось вверх, как будто, настигнув птицу, серебряная пуля сразила и его самого…
Птица крикнула по-птичьи. Корова ответила ей жалобным мычанием — так мычит на бойне обыкновенная корова, — потом, с трудом поднявшись на ноги, она медленно-медленно, покачиваясь из стороны в сторону, будто танцуя павану, двинулась было вперед, но тут же рухнула у самого берега, мордой в черную болотную жижу. Потом раздался человеческий крик, непонятно чей: мужчины, женщины или ребенка — просто человеческий крик, и на болото снова пала тишина…
* * *
Тело Ананзе было простерто у корней махагони, за рощей вытоптанных, раздавленных копытами Чудовища папоротниковых деревьев. Глаза его были широко рас крыты, будто он все еще видел надвигающуюся на него жуткую тварь, все еще пытался поспорить с огнем молнии. То, что так долго преследовало юношу, теперь настигло его. Жан-Малыш присел на траву и, приподняв друга, рассеянно покачал его, прижав к груди, как ребенка. Он погладил волосы погибшего. Потом, отведя назад его голову, он увидел в его лице отражение самого себя — именно таким он был в иное время, в ином веке, на темных заколдованных вершинах Лог-Зомби: в лице этом была та же яростная гордыня, та же отчаянная, непоколебимая решимость, которая и отличает истинного героя…
Всего в нескольких шагах от них, на берегу болота, недвижно покоилось Чудовище, морда его тонула в черном иле. От него исходило слабое, неверное сияние, и Жан-Малыш подумал, что оно еще живо. Но тут он догадался, что это свет поглощенных миров; он мягко опустил Ананзе на траву и попросил у него прощения за то, что должен его на время оставить. Он подошел к Чудовищу, вытащил из-за пояса взятый у караульных рабов нож, сжал его рукоять двумя руками, замахнулся им, приподнялся на цыпочки и уже готов был изо всех сил полоснуть лезвием поперек живота коровы, вложив в удар всю тяжесть тела, как это делали Низкие Сонанке, когда вскрывали тушу слона. Но его удержал чей-то голос, чье-то слово, и он сразу вспомнил рассказ девушки с утиным клювом из Царства Теней, вспомнил, как кричали живые существа, томившиеся вместе с героем ее деревни, Лосико-Сико, в чреве чудища, когда герой этот начал прорубать своим ножом проход наружу: «Тише, ты режешь по живому, — кричали они, — по живому!» И тогда Жан-Малыш как мог осторожнее, самым кончиком острия сделал тонкий надрез под длинными сосками вымени…
Он будто разорвал волшебную ткань: перламутровая кожа легко поддалась, открылась широкая черная щель, и вот перед восторженным взором старика показался ослепительный золотой шар. Хрупкая его беззащитность заставила сжаться сердце Жана-Малыша. Шар медленно, торжественно всплыл над деревьями в темную небесную высь. И вот наконец по-прежнему ярко засияло, засверкало над миром солнце…
6
Из щели, зиявшей под выменем, лавой ползла причудливая вязь стеклянно-прозрачных внутренностей, которые лопались с легким хрустальным звоном, выпуская облачка сизоватого дыма. Стекло и дым, ничего, кроме дыма и стекла, стекло переходило в дым, как только на него падал дневной свет. Рана расползалась, по перламутровой коже побежал разрез, вскрывая в чреве бездонную пустоту. Когда разрез достиг одного из сосков, наружу хлынул, затопив все вокруг, млечный поток, пахучая жидкость, маслянистая, как апельсиновый ликер. Увлажненные этим молоком травы и кусты словно взбесились, их охватила дрожь, они на глазах наливались молодыми соками, пускали новые отростки и листья. Потом Жан-Малыш уловил голос браслета, он откупорил флягу и доверху наполнил ее колдовским молоком — молоком огня небесного, как подсказал вещий браслет.
А потом — потом охватила его грусть, и он задумчиво глянул на внутренности мертвого существа, которое не хотело выдавать своей тайны. Но, прищурившись, он заметил, что, прежде чем растаять в воздухе, сизый дымок сгущался в самые разнообразные фигурки. Из стеклянных кишок синеватыми клубами вырывались горы и долы, реки и люди, суетливые рои разноцветных солнц и лун, которые в невообразимой спешке и толчее разлетались на все четыре стороны, мигом исчезая за верхушками высоких деревьев. Не отрываясь глядел Жан-Малыш на этот сказочный исход миров, каждый из которых торопился к себе, безжалостно расталкивая по пути других; не удержавшись, он с улыбкой начал их урезонивать: эй, друзья, нельзя ли полегче, чего горячку-то пороть, ведь поспешить — безголового родишь!
Вдруг его кинжалом резанула невыносимая боль, и он вскрикнул. Тело его задымилось сине-серым дымком: так дымит сухое дерево, так дымились внутренности Чудовища; последнее, что он увидел, были его руки, которые постепенно становились прозрачными, а потом все исчезло…
Когда Жан-Малыш очнулся, он ничком лежал в траве, а затылок его жгли отвесные лучи солнца. Он перевернулся на спину, и тело его отозвалось звонкой музыкой юности. Он глянул на себя и увидел, что кожа его отливает глянцево-черным атласом, местами бугристым от твердых мышц. Он долго рассматривал литую грудь, с которой бесследно исчез шрам от копья Сонанке, потом поднялся, подошел к воде и, наклонясь вперед, увидел высоченного юношу с густой шапкой волос, лицо его было гладким и свежим, а глаза светились удивлением и, несмотря на украшавшую щеки бородку, детской робостью…
КНИГА ДЕВЯТАЯ
Конец и начало
Прошу вас тише, тише чуть
Ведь ночь нежна ах как нежна…
И скоро день наступит вновь
Прошу вас тише, тише чуть…
Жак Румэн «Хозяева росы»Три месяца провел Жан-Малыш в тени прямого, несгибаемого махагони, под которым похоронил друга. Днем земля радужно сияла, и он с грустью думал о том, что Ананзе никогда уже не увидит ее великолепия, а ведь это благодаря ему вновь зажглось солнце. К ночи воздух зеленел, темнел, горы фиолетовыми глыбами скатывались к морю, и Жан-Малыш уходил на охоту. То были удивительные охоты — на них он становился и зверем, и собакой сразу, потому что после смерти Чудовища у него появился дар завораживать дичь на расстоянии: она подходила к нему вплотную и по его приказу спокойно засыпала, потом он разводил у подножия махагони ко стер, рот его тянулся к пище, и он ел…
Но вот как-то в полдень, когда он задумчиво сидел под своим деревом, в горах прокатилось эхо выстрелов, и он впервые прислушался к голосам, доносившимся из долины. По земле ходили, сновали туда-сюда люди, и ему тоже суждено было идти по ней, тут уж никуда не денешься, хоть она и жгла ему пятки, как раскаленное железо. Пока он размышлял над этим, в душе его ослабевали, рвались путы, и сначала робко, а потом все тверже зазвучало желание вернуться; и, вдруг решившись, наш герой с закрытыми глазами — рраз! — и пере несся мысленно на равнину, очутившись неподалеку от веранды тетушки Виталины…
Его внутренний взор внимательно обежал окрестности, оценил разрушения — такие бывают после сильного циклона. Он подсчитал, сколько хижин вновь поднялось, сколько их хоть и неуверенно, но держится на своих каменных опорах, а потом присмотрелся к тем, кто был внутри. Ему показалось, что он узнал двух или трех человек, проглоченных Чудовищем в тот роковой день, когда оно с ревом ворвалось в деревню, ввергая во тьму души человеческие. Он остановился и проглотил соленый комок, что так часто подступал к горлу седовласого старика и теперь душил юношу. Вдруг его поразил силуэт спящего в глубине хижины ребенка, он внимательно посмотрел на него: ну да, конечно, то была девочка, кормившая козленка, которая весело напевала незатейливую песенку, прежде чем Чудовище вдохнуло ее в себя целиком:
Ушла моя мать навсегда Весь сахар с собой забрала…И тут в глазах у него помутилось, и он долго тер пальцами веки, будто чистил стекла очков, тер до тех пор, пока снова не начал видеть ясно и четко. Он скользнул взором по пустырю, где когда-то стояла хижина семейства Кайя, и вышел на край деревни: там его ждала, как и прежде, покоящаяся на своих четырех каменных опорах хижина матушки Элоизы. Длинные подпорки поддерживали ее шаткие стены, а камни фундамента, густо заросшие вьюнком, походили на блестящие многоцветные колонны. Посреди хижины на пустом деревянном ящике сидела девушка. Она смотрела через окно на улицу и кого-то ждала. Ее волосы были туго стянуты на висках и затылке, простенькое платье из плотной мешковины, в какой продают французскую муку, мягко облегало тело. Эта невозмутимая, степенная и величавая девушка в свежевыстиранном, отутюженном и накрахмаленном платье, придававшем ей праздничный вид, не походила на прежнюю Эгею. Но это была, конечно же, она, она, и никто другой! Вдруг глаза ее повлажнели, и, прикрыв ладонью рот, будто пряча улыбку, девушка печально пропела:
Мне говорили тебе не везет Мне говорили черна ты как ночь Но солнце восходит и сумерки прочь Верю я в счастье и счастье придетКогда Жан-Малыш увидел ее такой, какая она есть, без румян и прикрас, чистую, открытую, со всеми ее прелестями и недостатками, он открыл глаза и вновь очутился под кроной махагони, где его тело оставалось, будто корабль на якоре. Подхватив котомку, мушкет и флягу, висевшую на низкой ветке, он несколько раз поклонился могиле друга, обошел болото и спустился на равнину…
Когда он уже пересек Инобережный мост, ветер нагнал тучи, и на землю легла густая тьма, сквозь которую едва прорывались робкие огоньки; одни из них искрились в небе, а другие мерцали по обе стороны дороги — там стояли хижины, вновь согретые человеческим теплом. Держась в тени, которую не мог рассеять слабый стелющийся свет из окон, Жан-Малыш шел мед ленной, мерной поступью Старейшины и удивлялся: неужто, неужто же в его гладкой, литой груди по-прежнему билось сердце умудренного долгой жизнью старца? На скоро подлатанных хижин с освещенными окнами было не так уж много, от остальных лачуг остались лишь торчавшие из бурьяна гнилые доски. Он заметил, что развалились обиталища седовласых стариков да старух, а наглухо закрытые от ночных духов, вновь заселенные жилища принадлежали молодым его землякам. По улице не бродили собаки, не разгуливали компании полуночников. Одна тишина да огоньки, такие бледные, что даже не рассеивали тень посреди дороги, где степенно шел Жан-Малыш с тяжким бременем призрачного прошлого на сердце. Иногда его захлестывала волна любви и упоения, радости и счастья, он ускорял шаг, но тотчас же неимоверным усилием воли опять замедлял его, весь напрягаясь от стремления сохранить свою мудрую невозмутимость. Мечтая о Лог-Зомби все эти годы, вылившиеся для него в целую жизнь, он всегда представлял себе свое возвращение как конец, завершение истории, которую ему предрек в предсмертный вечер Вадемба, истории мрака и слез, горя и крови, — да, именно так сказал тогда старик каким-то странным, сокрушенным тоном, а глаза смотревшего на него мальчика сверкали нетерпением. Но видел теперь наш герой, что конец этот будет только началом, началом того, что ждало его там, среди жалких развалин, временных убежищ, под крышами которых люди уже шептались, мечтали, парили на крыльях фантазии, придумывали себе новую жизнь при свете воткнутых в земля ной пол факелов…
Примечания
1
Зомби — африканизм, означающий на Гваделупе своего рода привидение: дух умершего, обладающий тем не менее телесной оболочкой.
(обратно)








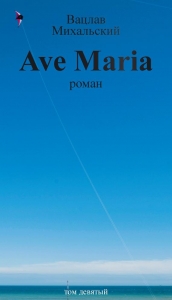

Комментарии к книге «Жан-Малыш с острова Гваделупа», Симона Шварц-Барт
Всего 0 комментариев