Хотите верьте, хотите нет, но я родился в пригородном районе Эмпаладос.[1] Это название сияет, как луна. Это название своим острым рогом пропарывает путь сквозь сон, и ты шагаешь по новой тропке. По зыбкой тропке. Всегда неприютной. Она ведет прямиком в ад, а может, и выводит из ада. К чему, собственно, все всегда и сводится. Ты либо торишь дорожку в преисподнюю, либо удаляешься от нее. Я, к примеру, приказывал убивать. Я делал самые лучшие подарки на дни рождения. Я отстегивал деньги на проекты, достойные фараонов. Я раскрыл глаза во мраке. Я очень медленно раскрыл глаза в кромешном мраке и увидел или вообразил то самое название – «Эмпаладос», сияющее, будто звезда судьбы. Конечно, я расскажу вам все как есть. Моим отцом был священник-ренегат. Кажется, колумбиец, а может, из какой-то другой страны. Не знаю. Во всяком случае он точно был латиноамериканцем. Однажды вечером он без гроша в кармане объявился в Медельине и стал читать проповеди в кабаках и борделях. Кое-кто решил, что он агент тайной полиции, но моя мать не дала его убить и привела в свою мансарду. Они прожили вместе, насколько мне известно, четыре месяца, а потом отец погрузился в Евангелие. Латинская Америка звала его, и он продолжил скользить в потоке слов о жертвенности, пока не исчез без следа. Но вот католическим священником он был или протестантским, этого я уже никогда не узнаю. Знаю, что он был одинок и что жил в гуще людских толп, точно в лихорадке и не ведая любви, в нем было слишком много страсти и слишком мало надежды. Когда я родился, мне дали имя Олегарио, но звали всегда просто Лало. А моего отца называли Кура,[2] поэтому мать так и записала меня – Олегарио Кура. Все законно. Меня даже крестили по католическому обряду. Мать конечно же была фантазеркой. Звали ее Конни Санчес, и будь вы все тут постарше и поиспорченнее, это имя не было бы для вас пустым звуком. Она была одной из звезд киностудии «Олимп». Имелись еще две: Дорис Санчес, младшая сестра моей матери, и Моника Фарр, урожденная Летисия Медина, из Вальпараисо. Три подруги. «Олимп» производил порнофильмы, и хотя бизнес этот был полулегальным и царили в нем законы джунглей, студия продержалась до середины восьмидесятых. Заправлял там всем некий немец, Гельмут Биттрих, личность весьма разносторонняя, что называется на все руки мастер, он исполнял функции управляющего, режиссера, сценографа, музыкального редактора, рекламного агента и, если надо, охранника. Иногда он даже появлялся на экране. И в таких случаях пользовался именем Абелардо Бельо. Странным типом был этот Биттрих. Никто никогда не видел, чтобы у него случилась эрекция. Ему нравилось заниматься с гантелями в спортивном зале «Здоровье и дружба», но педиком он не был. Просто перед камерой он свою совалку никогда никуда не совал. То есть не имел дела ни с мужчинами, ни с женщинами. Можете, кому не лень, сами проверить: он играл роли вуайера, школьного учителя или семинарского наушника – и всегда оставался на скромном втором плане. Но что ему больше всего нравилось, так это роль врача. Немецкого врача, само собой разумеется, хотя он редко когда произносил хоть слово – был доктором Молчание. Доктором с голубыми глазами, который прятался за весьма кстати подвернувшейся бархатной портьерой. У Биттриха имелся дом за городом, на границе района Эмпаладос с Большой Пустошью. Тот самый дом из фильмов. Дом одиночества, который потом превратился в дом злодеяния, в заброшенную зону, заросшую деревьями и кустарником. Конни обычно брала меня туда с собой. Я оставался во дворе – играл с собаками и гусями, о которых немец заботился как о собственных детях. Кругом, среди сорняков и вырытых собаками ям, сами собой вырастали цветы. Каждое утро в дом входило человек десять-пятнадцать. Но и накрепко закрытые окна не мешали мне слышать летящие изнутри стоны и вопли. Иногда в доме еще и смеялись. К обеденному часу Конни и Дорис выносили в сад за домом раскладной стол, ставили его под деревом, и работники киностудии «Олимп» лихо расправлялись с консервами, которые Биттрих разогревал на газовой плитке. Ели прямо из банок или пользовались бумажными тарелками. Однажды я, решив помочь, зашел на кухню, открыл дверцы шкафчиков и увидел там одни только клизмы – сотни клизм, выстроенных в ряд, словно на параде. Все на этой кухне было фальшивым. Ни настоящих тарелок, ни настоящих приборов, ни настоящих кастрюль. Таково кино, сказал Биттрих, глядя на меня голубыми глазами, которые тогда пугали меня, а теперь вызывают разве что жалость. Кухня была фальшивой. Все в доме было фальшивым. Кто спит в нем по ночам? Иногда дядя Хельмут, отвечала Конни. Дядя Хельмут спит здесь, чтобы не оставлять без присмотра собак и гусей, а также чтобы продолжать работу. Он занимался монтажом своих кустарных фильмов. Кустарных-то кустарных, да только дело это ни на миг не замирало: фильмы отправлялись в Германию, Голландию, Швейцарию. Кое-что оставалось в Латинской Америке, кое-что уходило в Соединенные Штаты, но большая часть шла в Европу – именно там у Биттриха имелись постоянные клиенты. Наверное поэтому голос за кадром, голос нашего немца, пояснял на своем языке все, что происходило на экране. Словно путеводитель для сомнамбул. И еще: все в этих фильмах крутилось вокруг женского молока, что тоже характерно для европейцев. Когда я уже сидел у Конни в животе, она продолжала работать. И Биттрих снимал фильмы, где непременно присутствовало женское молоко. Фильмы типа «молочных и беременных фантазий», предназначенные для рынков, где мужчины верят – или им нравится верить, – будто у беременных женщин есть молоко. Конни со своим восьмимесячным пузом сжимала руками груди, и из них лавой текло молоко. Она наклонялась над Пташкой Гомесом, или над Самсоном Фернандесом, или над обоими сразу и обрушивала на них мощные струи молока. Штучки Биттриха. На самом деле у Конни никогда не было молока. Вернее, было чуть-чуть в первые пятнадцать, ну, может, двадцать дней – ровно столько, сколько нужно, чтобы я его хотя бы попробовал. И все. На самом деле все эти фильмы были типа «беременных фантазий», а вовсе не «молочных». Вот она, Конни, растолстевшая, белокурая – а я, свернувшись клубочком, лежу у нее в животе, – хохочет и смазывает вазелином задницу Пташке Гомесу. Движения у нее уже стали мягкими и уверенными, одним словом – материнскими. Вот она, Конни, брошенная этим придурком, моим отцом, вот она с Дорис и Моникой Фарр – они не перестают улыбаться, обмениваются исподтишка гримасами или тайными знаками, в то время как Пташка Гомес как загипнотизированный смотрит на пузо Конни. Вот она, загадка латиноамериканской жизни. Совсем как кролик перед змеей. Господи, дай мне Силу, твердил я, когда в первый раз смотрел этот фильм – в девятнадцать лет, заливаясь слезами, скрежеща зубами, растирая себе виски, – дай мне Силу. Любые сны реальны. Мне хотелось бы верить, что все до одного фаллосы, всаженные в мою мать, в конце тропки натыкались на мои глаза. Мне часто снилось это: мои сомкнутые и пропускающие свет глаза в черном вареве жизни. Жизни? Нет, тех делишек, что притворяются жизнью. Мои несчастные глаза. Змея, гипнотизирующая кролика. Сами знаете: обычные глупости, приходящие в голову юнцу, когда он смотрит кино. Здесь все фальшивое, говорил Биттрих. И был прав, как почти всегда. Поэтому девушки его обожали. Для них было счастьем, что рядом есть этот немец, его дружеский голос, готовый утешить или дать добрый совет. Девушки: Конни, Дорис и Моника. Три неразлучные подруги, заплутавшие в ночи веков. Конни пыталась сделать карьеру на Бродвее. Думается мне, что никогда, даже в самые худшие годы, она не теряла надежды стать счастливой. Там, в Нью-Йорке, она познакомилась с Моникой Фарр – с тех пор они делили беды и несбыточные мечты. Они работали официантками, сдавали кровь, выходили на панель. Искали, куда бы приткнуться, бродя по городу с одним общим walkman’ом, совсем как балерины, с каждым днем все более тощие и родные друг другу. Хористки, статистки. Они искали своего Боба Фосса.[3] Пока на вечеринке у каких-то колумбийцев не встретили Биттриха, который оказался в Нью-Йорке проездом с очередной партией товара. Они проболтали с ним до рассвета. Ничего такого – только музыка и разговоры. Той ночью они приняли решение – испытать судьбу, бросив кости в сторону Седьмой авеню. Прусский киношник и латиноамериканские шлюхи. И уже ничего нельзя было изменить. Во сне, когда меня преследуют кошмары, я вновь и вновь испытываю растерянность, но тут вдруг слышу – сначала далекий, потом все более громкий стук игральных костей, брошенных на асфальт. Я открываю глаза и кричу. В те предрассветные часы что-то бесповоротно переменилось. Чумой пристала к ним эта дружба. Затем Конни и Монике Фарр удалось заполучить контракт на выступления в Панаме, где из них выжали все соки. Немец оплатил им билеты в Медельин, на родину Конни, а для Моники это место было ничем не хуже любого другого. Сохранилось несколько фотографий, где они сняты на трапе самолета. Снимок сделала Дорис – только она встречала их в аэропорту. Конни и Моника в темных очках, на них брюки в обтяжку, обе невысокого роста, но хорошо сложены. Солнце Медельина нещадно палит, и по пустой взлетной полосе тянутся длинные тени. На заднем плане виден лишь один самолет – он уже наполовину вырулил из ангара. На небе ни облачка. Конни и Моника улыбаются, сверкая зубами. Пьют кока-колу на стоянке такси, изображая, будто их сильно качает. Воздушные турбулентности и турбулентности земные. Всем видом своим они показывают, что прибыли прямиком из Нью-Йорка, – вокруг них ореол тайны. А вот рядом с ними позирует совсем юная Дорис. Все три стоят обнявшись, пока кто-то неизвестный из любезности фотографирует их. Они стоят рядом с такси, а оттуда на них смотрит водитель, такой старый и изможденный, что трудно поверить в его реальность. Так начинается плавание по бурному океану страстей. Месяц спустя они уже снимались в первом фильме – «Гекатомба». Пока мир корчится в судорогах, немец снимает фильм «Гекатомба». Фильм о судорогах духа. Сидя в тюремной камере, некий праведник вспоминает лихие разгульные ночи. Конни и Моника развлекаются с четырьмя типами мрачного вида. Дорис прогуливает по берегу мелководной реки самого крупного из гусей Биттриха. Ночь потрясающе звездная. На рассвете Дорис встречает Пташку Гомеса, и они занимаются сексом в задней части дома Биттриха. Гуси поднимают страшный гвалт. Конни и Моника, высунувшись в окно, хлопают в ладоши. Фаллос красавчика святого блестит от спермы. Конец. Титры наплывают на спящего полицейского. Юмор Биттриха. Такие фильмы были очень по душе наркоторговцам и коммерсантам. Народ попроще, вроде грабителей или посыльных, не понимал их, да они и вообще с превеликой радостью шлепнули бы проклятого немца. Второй фильм – «Кундалини». Бдение у гроба покойного скотовода. Пока собравшиеся льют слезы и пьют кофе и агуардьенте, Конни заходит в темную комнату, где хранится сельский инвентарь. Из огромного шкафа выскакивают два типа, один наряжен быком, второй – кондором. Без долгих разговоров они кидаются к Конни и насилуют ее – в две дырки. Губы Конни кривятся, силясь изобразить некую букву. Моника и Дорис обжимаются на кухне. Затем зритель видит хлев, битком набитый скотом, и мужчину, который с трудом пробирается вперед, расталкивая коров. Это Пташка Гомес. Но далеко уйти ему не удается, в следующей сцене он лежит на земляном полу – в грязи между копытами. Моника и Дорис в позе 69 на большой белой кровати. Мертвый скотовод открывает глаза. Потом приподнимается и выходит из гроба, к изумлению и ужасу родственников и друзей. Все еще оставаясь во власти Быка и Кондора, Конни произносит слово «кундалини». Коровы бегут из своих стойл, титры наплывают на всеми забытое тело Пташки Гомеса, которое постепенно растворяется во мраке. Следующий фильм – «Бассейн». Двое настоящих нищих бредут куда-то, волоча свои мешки. Они бредут по немощеной улице. Заходят на задний двор обиталища Биттриха. Мы видим Монику Фарр – она закована в цепи таким образом, что может только стоять, на ней нет никакой одежды. Нищие вытряхивают содержимое своих мешков – это полный набор сексуальных инструментов из кожи и стали. Нищие натягивают на лица маски с фаллическими наростами и, встав на колени – один перед Моникой, другой сзади, – насилуют ее, мотая при этом туда-сюда головами, что производит по крайней мере двусмысленное впечатление: трудно понять, то ли они пришли в полный экстаз, то ли задыхаются под своими масками. Пташка Гомес лежит на солдатской походной кровати и курит. Рядом, растянувшись на такой же кровати, мастурбирует Самсон Фернандес. Камера медленно наплывает на лицо Моники: она плачет. Нищие удаляются по немощеной улице со своими мешками. Моника закрывает глаза и словно бы засыпает. Ей снятся маски, носы из латекса, старые придурки, которые, задыхаясь от возбуждения, делают свое гнусное дело. Правда, это всего лишь шкуры, внутри которых нет плоти. Затем Моника одевается, идет по одной из улиц Медельина, ее приглашают на пирушку, где она встречает Конни и Дорис, они целуются и улыбаются друг другу, потом обмениваются новостями. Пташка Гомес, так и не успев завершить процесс облачения в камуфляжную форму, засыпает. На улице еще не стемнело, а пирушка уже закончилась, хозяин дома хочет показать девушкам самое ценное, что у него есть. Те следуют за ним в сад, накрытый сверху сложной конструкцией из стекла и металла. Палец, унизанный перстнями, направлен в дальнюю часть сада. Девушки видят небольшой бассейн в форме гроба. Они наклоняются и рассматривают свои лица, отраженные в воде. Близится ночь, нищие пробираются через территорию, где расположены большие промышленные склады. Слышится музыка – это буйная конга, которая звучит все громче и громче, становится злой и сулит беду, – и вдруг разражается буря. Биттрих обожает такого рода звуковые эффекты. Раскаты грома в горах, молнии, деревья, которые вспыхивают свечками и обрушиваются на землю, дождь, барабанящий по стеклу. Он записывал свою коллекцию шумов на высококачественные пленки. Это для моих фильмов, говорил он, это чтобы добавить колорита, но на самом деле они нравились ему сами по себе. Целый набор звуков, пробужденных в сельве дождем. Шум ветра и моря – то созвучный, то диссонирующий. Звуки, от которых чувствуешь себя одиноким, и звуки, от которых волосы встают дыбом. Жемчужина его коллекции – рев урагана. Я слышал его еще ребенком. Актеры пили кофе, рассевшись под деревом, а Биттрих возился с огромным немецким магнитофоном – в отдалении, бледный от напряжения, от того, что все никак не может добиться нужного эффекта. Сейчас ты услышишь, каким бывает ураган внутри, сказал он мне. Сперва я ничего не расслышал. Наверное, я ждал невесть какого грохота, от которого лопаются барабанные перепонки, поэтому был разочарован, различив всего лишь какие-то прерывистые вихревые завывания. Надрывные и прерывистые. Словно работал пропеллер из живой плоти. А потом я услышал голоса, но это был не ураган, разумеется, а летчики в самолете, пролетавшем поблизости от урагана. Резкие голоса, говорившие по-испански и по-английски. Биттрих внимал им с улыбкой. А потом я снова услышал ураган, на сей раз я и вправду его услышал. Пустота. Вертикальный мост – и пустота, пустота, пустота. Никогда не забуду тогдашней улыбки Биттриха. Он как будто бы плакал. И это все? – спросил я, не желая признать, что получил более чем достаточно. Это все, сказал Биттрих, который рассеянно смотрел на беззвучно крутящуюся пленку. Потом он выключил магнитофон, очень бережно опустил крышку и снова присоединился к остальным – все пошли в дом продолжать работу. Следующий фильм – «Лодочник». Кругом одни руины, и можно подумать, что действие происходит в Латинской Америке после третьей мировой войны. Девушки идут среди каких-то свалок, шагают по пустынным дорогам. Потом появляется река – широкая и спокойная. Пташка Гомес и еще два типа играют в карты при свече. Девушки оказываются на постоялом дворе, где все мужчины имеют при себе оружие. Девушки с каждым по очереди занимаются сексом. Потом из кустов они рассматривают реку и кое-как привязанные на берегу лодки. Пташка Гомес – лодочник, во всяком случае именно так все его называют, но он сидит за столом и не думает покидать своего места. У него отличные карты, лучше, чем у партнеров. Бандиты обмениваются репликами по поводу того, как хорошо тот играет. Как хорошо играет лодочник! До чего везет лодочнику! Постепенно заканчиваются все съестные припасы. Повар с поваренком измываются над Дорис – насилуют ее, пуская в ход рукоятки огромных мясницких ножей. На постоялом дворе воцаряется голод: кое-кто уже не может встать с кровати, другие бродят по окрестным пустырям в поисках еды. Мужчины теряют последние силы, а девушки тем временем словно одержимые строчат что-то в своих дневниках. Пиктограммы отчаяния. Сверху накладывается изображение реки и сцены бесконечной оргии. Финал предсказуем. Мужчины наряжают девушек курицами, а затем набрасываются на них и съедают, устроив пир среди летающих повсюду перьев. Во дворе кучкой лежат кости Конни, Моники и Дорис. Пташка Гомес начинает следующую партию в покер. Удача не изменяет ему. Теперь камера находится за его спиной, и зритель видит, какие карты у него на руках. На них нет никаких картинок. Поверх трупов всех героев фильма появляются титры. За три секунды до финала вода в реке меняет цвет – становится агатово-черной. Очень глубокий фильм, каких мало, любила вспоминать Дорис. Ведь именно так мы, актрисы порно, и кончаем свои дни: нас пожирают безжалостные незнакомцы, сперва попользовавшись нами как следует. Скорее всего, Биттрих снял этот фильм, чтобы не отставать от каннибальского порно, которое как раз в то время произвело сенсацию. Но если кто удосужится посмотреть эту ленту хоть чуть внимательнее, то сразу поймет, что главный в ней – Пташка Гомес, сидящий за картами. Пташка Гомес, который умел вибрировать изнутри, пока намертво не привязывал к себе взгляд зрителя. Великий актер, талант которого жизнь, наша жизнь растранжирила, братки. Вот они, фильмы немца, все еще незапятнанные. И вот он, Пташка Гомес, со своими пыльными картами в руках, шея и руки у него грязные, веки вечно полуопущены – и он вибрирует, ни на миг не останавливаясь. Пташка Гомес – случай парадигматический в порно восьмидесятых. Его прибор не отличался особыми размерами, Гомес не был культуристом и вовсе не нравился тем, для кого делались такого рода фильмы. Он был похож на Уолтера Абеля.[4] Самоучка, которого Биттрих вытащил из грязи и поставил перед камерой, – а остальное получилось настолько само собой, что в это трудно поверить. Пташка вибрировал, вибрировал – и вдруг, в зависимости от степени сопротивляемости зрителя, тот чувствовал себя пронзенным энергией этого человеческого ошметка, такого никудышного на вид. Такого невзрачного, такого тщедушного. И, как ни странно, несокрушимого. Актер порно в высшем смысле – в цикле колумбийских лент Биттриха. Он лучше всех мог изобразить покойника и лучше всех мог изобразить отсутствие. Только он один и остался в живых из тогдашних актеров Биттриха: в 1999 году был жив только Пташка Гомес. Остальные? Кого убили, кого свела в могилу болезнь. Самсон Фернандес умер от СПИДа. Праксидес Баррионуэво умер в Ойо, в Боготе. Эрнесто Сан Романа зарезали в сауне «Ареареа» в Медельине. Альварито Фуэнтес умер от СПИДа в тюрьме в Картаго. Один моложе другого, и у всех оснащение было что надо. Френка Морено застрелили в Панаме. Оскара Гильермо Монтеса застрелили в Пуэрто-Беррио. Давида Саласара по прозвищу Медведь застрелили в Пальмире. Разборки, сведение счетов или случайные стычки. Эвелио Латапиа повесился в гостиничном номере в Папайяне. Карлоса Хосе Сантелисеса неизвестные пырнули ножом в тупике в Маракайбо. Рейнальдо Эрмосилья пропал без вести в Эль-Прогресо в Гондурасе. Дионисио Аурелио Переса застрелили в каком-то кабаке в Мехико. Максимилиано Морет утонул в реке Мараньон. Фаллосы от двадцати пяти до тридцати сантиметров, а бывали такие огромные, что и вставать не могли. Молодые мулаты, негры, белые, индейцы, дети Латинской Америки, чье единственное богатство – пара яиц да член, закаленный невзгодами или наделенный чудесной силой благодаря невесть каким капризам природы. Тоску фаллосов Биттрих понял лучше любого другого. Я хочу сказать: тоску этих огромных фаллосов среди необъятности и отчаяния нашего континента. Вот, посмотрите на Оскара Гильермо Монтеса в сцене из фильма, который я уже успел позабыть: актер обнажен ниже пояса, между ног висит вялый уд, из которого капает семя. Уд темный и сморщенный, а капли – словно сверкающее молоко. За спиной актера открывается пейзаж: горы, ущелья, реки, леса, скалы, кучевые облака, возможно – город и вулкан и пустыня. Оскар Гильермо Монтес стоит на высоком холме, и ледяной ветерок ласково треплет прядку его волос. И это все. Похоже на стихотворение Таблады,[5] правда? Хотя никто из вас никогда ничего не слыхал про Табладу. Как, впрочем, и Биттрих, но на самом деле это не имеет никакого значения, ведь фильм существует – у меня даже где-то валяется кассета. И вот оно – одиночество, о котором я толковал. Невыразимый пейзаж и невыразимая фигура. Чего добивался Биттрих, когда снимал этот эпизод? Найти оправдание амнезии? Нашей амнезии? Запечатлеть утомленные глаза Оскара Гильермо? Или просто-напросто показать нам причинное место, не прошедшее обряд обрезания и испускающее капли спермы среди необъятности нашего континента? Или бесполезную мощь этих красавцев, бесстыдных и обреченных на заклание – на исчезновение среди необъятности хаоса? Кто знает. Только актер-любитель Пташка Гомес, чей прибор хорошо если дотягивал до восемнадцати сантиметров, был непостижим. Немец заигрывал со смертью – плевать ему было на смерть! Заигрывал с мутью одиночества и черными дырами, а вот с Пташкой он не хотел и не мог совладать. Непостижимый, неуправляемый, Пташка попадал в глазок камеры случайно, словно проходил мимо и остановился полюбопытствовать. И тут он начинал вибрировать, давая себе полную волю, и зрители, будь то одинокие онанисты или деловые люди, которые включали видео просто так, непонятно зачем, едва бросив пару взглядов на экран, попадали во власть того, что исходило от этого никудышного человечишки. Сок, вырабатываемый простатой, – единственная эманация Пташки Гомеса! И было в этом что-то такое, что не вмещалось в миропонимание немца. Поэтому Биттрих, когда появлялся Пташка Гомес, как правило, отказывался ото всех дополнительных эффектов – от музыки и разного рода звуков, не оставалось ничего, что отвлекало бы внимание зрителя от по-настоящему важного: непроницаемый Пташка Гомес, когда он сношает кого-то или его самого сношают, всегда, словно против собственной воли, вибрирует. Покровителям немца была глубоко отвратительна эта способность Гомеса, они предпочли бы, чтобы Пташка Гомес работал на центральном рынке, разгружая грузовики, чтобы его уездили там до смерти и чтобы потом он и вовсе исчез. Однако же сами они не сумели бы внятно объяснить, что именно им в нем не нравилось, только нутром чуяли, что этот тип способен приманить злую судьбу и посеять в сердцах тревогу. Порой, вспоминая детство, я раздумываю над тем, как относился Биттрих к своим покровителям. Наркоторговцев он уважал – в конце концов, у них были деньги, а Биттрих, как и положено европейцу, уважал деньги, надежный ориентир в царящем кругом хаосе. А коррумпированные военные и полицейские? Что думал о них он, немец, к тому же читавший книги по истории? До чего карикатурными они, должно быть, ему казались, как он, должно быть, над ними потешался – ночами, после очередной бурной встречи. Обезьяны в форме СС, ни больше ни меньше. И Биттрих, оставаясь дома один – окруженный видеокассетами и записями душераздирающих звуков, наверняка хохотал! Именно эти обезьяны с присущим им шестым чувством и мечтали выкинуть Пташку Гомеса из дела. И эти самодовольные и подлые обезьяны смели намекать ему, немецкому режиссеру, попавшему в вечное изгнание, кого он должен, а кого не должен нанимать. Представьте себе Биттриха после одного из таких обсуждений: в неосвещенном доме, расположенном в районе Эмпаладос, после того как все ушли, он сидит в одиночестве, пьет ром и курит мексиканские «Деликадос» в самой большой комнате, которая служит и студией и спальней. На столе стоят бумажные стаканчики с остатками виски. На телевизоре лежат две-три видеокассеты с последними фильмами киностудии «Олимп». Повсюду разбросаны блокноты и листы бумаги, заполненные цифрами – это гонорары, вознаграждения, премии. Деньги на текущие расходы. А в воздухе словно застыли слова комиссара полиции, офицера авиации, полковника службы военной разведки: мы не хотим больше терпеть здесь этого проклятого горевестника. У людей все внутри переворачивается, когда они видят его в наших фильмах. Людей раздражает, когда такой слизняк трахает наших девушек. И Биттрих не перебивал, не спорил, просто молча смотрел на них, а потом поступал по-своему. В конце концов, это были всего лишь порнофильмы, настоящую прибыль приносили им вовсе не они. Вот так Пташка Гомес и остался с нами, хотя у владельцев нашей студии его присутствие вызывало досаду. Пташка Гомес. Молчаливый и не слишком душевный тип, к которому наши девушки непонятно почему относились с особой нежностью. Все они по служебной, так сказать, надобности имели с ним дело, и у каждой он оставил по себе странный след в душе – что-то, что трудно определить и что манило к повторению. Я бы предположил, что быть с Пташкой было все равно что не быть ни с кем. Дорис даже какое-то время прожила с ним вместе, но ничего путного из этого не вышло. Дорис и Пташка: полгода между гостиницей «Аврора», где жил он, и квартирой на проспекте Освободителей. Это было слишком красиво, чтобы иметь продолжение, – понятно ведь, что натура исключительная не способна вытерпеть столько любви, столько совершенства, выпавшего ей по чистой случайности. Если бы у Дорис не было такого тела, и если бы она к тому же была немой, и если бы Пташка никогда не вибрировал… Во время съемок «Кокаина», одной из худших картин Биттриха, отношения их разладились. Но в любом случае Дорис и Пташка оставались друзьями до самого конца. Много лет спустя, когда все они были мертвы, я отыскал Пташку Гомеса. Он занимал крошечную квартирку – всего одна комната – в доме на улице, выходящей к морю, в Буэнавентуре. Он работал официантом в ресторане у отставного полицейского, заведение называлось «Чернила осьминога» – идеальное место для человека, который боялся быть обнаруженным. Из дома на работу, с работы домой, короткая остановка в лавке, где торгуют видеокассетами и где он обычно каждый день брал напрокат один-два фильма. Уолт Дисней и старые колумбийские, венесуэльские и мексиканские ленты. Каждый день – как часы. Из своего дома без лифта в ресторан, а оттуда, уже вечером, обратно к себе – с кассетами под мышкой. Он никогда не приносил домой никакой еды – только кассеты. И брал их непременно в одной и той же лавке – по дороге в ресторан или обратно, в лавке, которая представляла собой конуру три метра на три и была открыта восемнадцать часов в сутки. А искать я его начал потому, что случилась у меня такая прихоть, втемяшилось в голову. Начал искать и нашел в 1999 году – дело оказалось совсем нехитрым, недели хватило. Пташке тогда уже стукнуло сорок девять, а выглядел он лет на десять старше. Он ничуть не удивился, когда вошел вечером в свою квартиру и увидел меня, сидящего на кровати. Я сказал ему, кто я такой, напомнил, в каких фильмах он снимался с моей матерью и моей теткой. Пташка взял стул и, когда садился, уронил кассеты. Ты пришел, чтобы убить меня, Лалито, сказал он. На полу валялись фильмы с Игнасио Лопесом Тарсо и Мэттом Диллоном, двумя его любимыми актерами. Я напомнил ему времена «беременных фантазий». Мы оба улыбнулись. Я видел твою прозрачную, похожую на гусеницу долбалку, потому что глаза у меня были, знаешь ли, открыты, и они следили за твоим стеклянным глазом. Пташка кивнул, а потом хлюпнул носом. Ты всегда был умным мальчонкой, сказал он, и умным зародышем, зародышем с открытыми глазами, как ты сам теперь утверждаешь. Я видел тебя – вот что главное, сказал я. Там, внутри, ты сперва был розоватым, а потом сделался прозрачным, и ты наложил в штаны от удивления, Пташка. В ту пору ты ничего не боялся и двигался с такой скоростью, что только всякие маленькие твари и зародыши могли тебя видеть. Только пауки, гниды, площицы и зародыши. Пташка сидел опустив глаза. Я услышал его шепот: и так далее, и так далее. Потом он сказал: мне никогда не нравились фильмы такого рода, один-два еще куда ни шло, но столько – это преступление. Я во всех смыслах нормальный человек. И Дорис любил всем сердцем, а для твоей матери всегда был другом, когда ты был маленьким, я ни разу тебя не обидел. Помнишь? В этом бизнесе я мало что решал и никогда никого не предавал, никого не убивал. Приторговывал малость наркотиками, воровал по мелочи, как все, но, сам видишь, на отдых уйти не получилось. Потом он поднял с пола кассеты, поставил ту, что с Лопесом Тарсо, и, пока бежали кадры без звука, заплакал. Не плачь, Пташка, сказал я, не стоит того. Он уже не вибрировал. Или вибрировал совсем немного, и я, сидя на кровати, с жадностью утопающего вобрал в себя эти остатки энергии. Трудно вибрировать в такой крошечной квартире, когда запах куриного бульона пробивается сквозь все щели. Трудно уловить вибрацию, если глаза твои прикованы к Игнасио Лопесу Тарсо, который беззвучно жестикулирует. Глаза Лопеса Тарсо на черно-белом экране: как может сойтись в одном человеке столько простодушия и столько злобы? Хороший актер, я ткнул пальцем в экран, чтобы прервать молчание. Наша гордость, кивнул Пташка. Он был прав. Потом прошептал: и так далее, и так далее. Мразь! Мы довольно долго сидели, не проронив ни слова: Лопес Тарсо скользил по киношной истории, как рыба в брюхе у кита. Лица Конни, Моники и Дорис на несколько секунд сверкнули у меня в мозгу, а вибрация Пташки стала совсем нечувствительной. Я пришел не для того, чтобы убрать тебя, сказал я наконец. В те годы я был еще молод и избегал слова «убить». Я никогда не убивал: я покупал кому-то билет в один конец, вычеркивал, валил, рассыпал, делал пюре, крошил, усыплял, усмирял, рушил, обижал, прятал, повязывал шарф и дарил вечную улыбку, сдавал в архив, выблевывал. Сжигал. Но Пташку я не порешил, я хотел только увидеть его и поболтать с ним чуток. Почувствовать его тик-так и вспомнить собственное прошлое. Спасибо, Лалито, сказал он, потом встал и наполнил таз водой из кувшина. Точными, артистичными и покорными движениями он вымыл лицо и руки. Когда я был маленьким, Конни, Моника, Дорис, Биттрих, Пташка, Самсон Фернандес – все они называли меня Лалито. Лалито Кура играл с гусями и собаками во дворе дома преступления, который для меня был домом скуки, а иногда – домом удивления и счастья. Теперь мне некогда скучать, счастье затерялось в каком-то неведомом уголке земли, и осталось только удивление. Вечное удивление, удивление от трупов и от самых обычных людей вроде Пташки, который теперь благодарил меня. Я никогда не собирался убивать тебя, сказал я, у меня хранятся все твои фильмы, хотя, должен признаться, я не слишком-то часто их смотрю, только в особые минуты, но берегу как зеницу ока. Я коллекционер твоего киношного прошлого, сказал я. Пташка снова сел. Он уже не вибрировал: он украдкой смотрел фильм с Лопесом Тарсо, и в его спокойствии просвечивала невозмутимость скалы. Было два часа ночи, если верить будильнику у кровати. Прошлой ночью мне снилось, будто я застал Пташку голым и, пока вставлял ему, я кричал Пташке на ухо невнятные слова про какое-то спрятанное сокровище. Или про какой-то подземный город. Или про какого-то покойника, завернутого в бумаги, которые защищали его от разложения и от хода времени. Я даже не похлопал его по плечу. Я оставлю тебе денег, Пташка, чтобы ты мог бросить работу. Я куплю тебе все, что ты пожелаешь. Я увезу тебя туда, где ты сможешь спокойно смотреть фильмы с твоими любимыми актерами. Там, в Эмпаладосе, равных тебе не было. Каменная невозмутимость. Игнасио Лопес Тарсо и Пташка Гомес посмотрели на меня. Оба с умопомрачительной немотой. С глазами, полными доброты и страха, глазами зародышей, заблудившихся в бескрайности памяти. Зародышей и других крошечных существ с открытыми глазами. И поверьте, братки, на миг мне показалось, что вся квартира начала вибрировать. Потом я очень осторожно встал и ушел.
Примечания
1
От исп. empalados – посаженные на кол.
(обратно)2
От исп. cura – священник.
(обратно)3
Роберт Луис Фосс (1927–1987) – американский кинорежиссер, хореограф, сценарист. В 1972 году он снял получивший всемирную известность фильм «Кабаре» («Cabaret»). Другой значительной вехой в его творчестве стала автобиографическая картина «Весь этот джаз» («All that Jazz»), которая была отмечена премией «Оскар» и Главным призом МКФ в Каннах.
(обратно)4
Уолтер Абель (1898–1987) – американский актер. Театральный дебют У. Абеля состоялся в 1919 г. на Бродвее в спектакле «Запрещено», а дебют в кино – в 1935 г. в фильме «Три мушкетера», первом звуковом фильме студии RKO. Впоследствии Абель неоднократно снимался во вспомогательных ролях.
(обратно)5
Хосе Хуан Таблада (1871–1945) – мексиканский поэт, журналист, дипломат.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
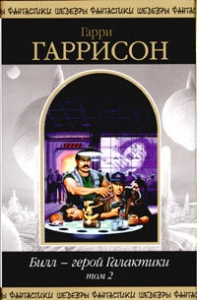





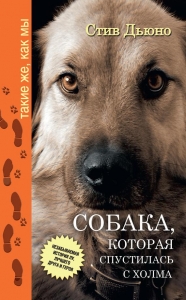
![Встреча [= Свидание]](https://www.4italka.su/images/articles/608815/primary-medium.jpg)
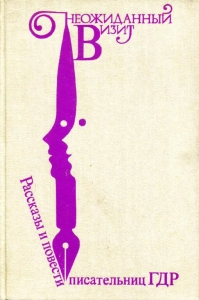


Комментарии к книге «Набросок к портрету Лало Куры», Роберто Боланьо
Всего 0 комментариев