Виктор Александрович Курочкин Наденька из Апалёва
Апалёво
Апалёво — село в три десятка домов на берегу реки Итомли. Дома крепкие, приземистые, стоят тесно, почти касаясь друг друга серыми нахлобученными крышами. А вокруг, куда ни глянь, поля перелески и опять поля. Как-то, листая старый журнал «Наша охота», я наткнулся на заметку, в которой рассказывалось о том, как медведи из казенных апалёвских лесов драли крестьянский скот. А нынче… На месте лесов вырубки с густо засевшим малинником, непролазным березняком, кривоногой ольхой и чахлым осинником. И только среди болота остался небольшой островок с высоченными соснами, строгими, печальными елями и богатыми глухариными токами.
Дом Кольцовых попятился на задворки, сломал ровный порядок села и стоит особняком — большой, старый и несуразный. Это две сдвинутые избы под одной крышей, с сенями посредине и громоздким мезонином. Сбоку дом похож на заброшенный дровяной склад, с фасада он глядит на мир как огромная больная птица. Нижние венцы сгнили рассыпались, отчего дом вогнулся внутрь, словно подобрал живот, с боков же его, наоборот, разнесло, мезонин с крыши свесился и пристально смотрит на землю, как бы выбирает место, куда бы ему поудобней свалиться.
Я снимаю угол в этом мезонине. Хозяева живут внизу, подо мной, в передней избе; задняя служит кладовой для рассохшихся бочек, ломаных ящиков, мешков и никому не нужного хлама.
Каждое утро я просыпаюсь от шумной возни и гортанного крика неугомонных галок, расселившихся по длинному карнизу обширного кольцовского дома.
Солнце уже давно поднялось с болота, сжалось в кулак и насквозь прожигает крошечное окошко. В мезонине светло и жарко.
Распахиваю окно в сад. Одичавший сад подсыхает. Над яблонями струится чуть заметный парок, смородина роняет на землю крупные капли росы.
На колченогой скамейке сидит хозяин. На нем валенки, красная рубаха и рыжая шляпа с обкусанными полями.
В открытую калитку с улицы корова просунула комолую голову и смачно облизывается. Корова смотрит на хозяина, он — на корову, и оба молчат. Но вот корова, вытянув шею и стеганув себя по бокам хвостом, направляется к капустным грядкам. Хозяин смотрит ей вслед и жмурится.
— Доброе утро, Алексей Федорыч! — кричу я. Хозяин поднимает голову и вопросительно смотрит, раскрыв беззубый рот:
— Чего ты говоришь-то?
— Доброе утро…
Алексей Федорович смотрит пристально на небо. Потом опять на меня.
— Куда ж еще лучше… Вот ведь я в одной рубахе — и тепло.
На крыльцо выбегает хозяйка Ирина Васильевна и заводит нараспев, речитативом:
— Ляксей, идол… леший… лодырь окаянный, чего же ты делаешь?..
— Как — чего? — удивляется Алексей Федорович. С человеком разговариваю.
Ирина Васильевна делает вид, что ищет палку.
— Я тебе сейчас поразговариваю, облень несчастная. Видишь, корова капусту топчет.
Алексей Федорович равнодушно смотрит на корову:
— Ну так что ж.
Ирина Васильевна подскакивает к нему и дергает за рукав:
— Выгони… Сейчас же выгони… Не то самого из дома выгоню.
— Вот ведь проклятая. Кормлю, кормлю, а ей все мало. — Он нехотя поднимается, идет выгонять корову.
Супруги Кольцовы доживают свой век на пенсии. Алексею Федоровичу за семьдесят. Ирине Васильевне немного меньше. Он маленький, розовощекий, добродушный старичок. Она сгорбившаяся, как надломленный сучок, старушка. Ирина Васильевна все спешит, торопится. За день она успевает переделать тысячу дел, а вечером сокрушается, что еще столько дел не переделано. Алексей Федорович, наоборот, не разбежится. Движения у него мягкие, ленивые, безвольные, словно он не по земле ходит, а плавает в каком-то полудремотном сне.
— Такой уж отроду вышел, — жаловалась мне Ирина Васильевна.
Двадцатилетним парнем Алексей Кольцов привел в свой дом из соседнего села шестнадцатилетнюю Иринушку и взвалил на ее плечи все хозяйство.
— Ходить бы Лехе Кольцову без порток, кабы не женка, — судачили в Апалёве. — Не баба, а паровоз. Одна на себе дом тащит.
И она тащила не разгибаясь. Да и когда было разогнуться, разве что ночью в постели. Все мало, все надо было Ирине Васильевне. Хозяйство из года в год росло: появилось три лошади, жнейка, льномялка. Мало. Ирина Васильевна мечтала о молотилке.
— На кой лях мне эта молотилка с мялками? Ничего мне не надо! — ругался муж.
Впрочем, он оказался прав. Не надо было ни жнеек, ни молотилок — ничего! Во время коллективизации Кольцовых причислили к кулакам и все отобрали. Хотели было сослать, да раздумали и приняли в колхоз на исправление с испытательным сроком.
Алексей Федорович, до смерти боявшийся колхоза неожиданно облегченно вздохнул. Под властной рукой Ирины Васильевны он был рабом труда, в колхозе же, к своему изумлению, почувствовал себя хозяином труда. Здесь никто его не погонял и не ругал. То, что нужно было сделать обязательно сегодня, Алексей Федорович со спокойной душой откладывал на завтра.
Ирина Васильевна — наоборот. Она как вырвалась на первой весенней борозде вперед, так уже ее никто и не смог обогнать. Она стала первой ударницей в селе, первым делегатом на слете колхозников, постоянной участницей всех выставок, и она первой в колхозе получила пенсию.
Мне она так говорила:
— Вот ведь мой-то — как карандаш, и щеки что клюковка. А я словно коромысло. А почему? Потому что он умней меня. А я дура баба. Все-то мне больше всех надо было. Как сейчас помню, дергаем лен наперегонки. Справа соседка Наталья, слева Матрена Никитина. А я посредине гоню. А ты знаешь, что это за работа? День-деньской на ногах и согнувшись, как крюк. От льна глаза заволокет зеленью, а я все жму и жму. Искоса взгляну на Матрену — догоняет; еще сильней поднажму. А в глазах уже не зелень — кольца огненные плавают. Остановишься — спину не разогнуть; страшно, как бы пополам не переломиться. Вот так домой и ковыляешь, как коромысло, и подымалку руками придерживаешь, чтоб с пояса не свалилась. А гордость все равно распирает: опять Наташку с Матреной обогнала. Вот ведь дурость-то какая.
— Это не дурость, а характер, — возразил я.
Ирина Васильевна махнула рукой:
— Ну какой там характер, глупость одна. — Но, подумав, согласилась: — Может, и характер… Вот у Наденьки-то, внучки, тоже мой, беспокойный характер. Только он у нее по другой линии пошел, по общественной. Дома по хозяйству палец о палец не стукнет, а для общества лоб разобьет…
Наденька
С Наденькой я познакомился раньше — весной.
Приятель, страстный охотник, уговорил меня съездить в Р*** район, в деревню Апалево, на глухарей. В условленный день и час в полном снаряжении я был на вокзале. Но приятель на этот раз подвел меня. Я поехал один и к вечеру прибыл в Апалёво. На ночлег к Кольцовым охотно согласилась проводить меня остроглазая, шустрая девчонка. Всю дорогу она тараторила без умолку:
— Они, дяденька, всех пускают ночевать. И денег за постой не берут. А дом-то у них ужасно пребольшущий. Две большие избы и одна маленькая, только они в маленькой не живут. Денег-то, смотрите, им, дяденька, не давайте, а то обидится бабушка Ирина. Они хотя и богатые люди, а добрые, — наставляла меня девчонка. Она шла впереди меня, волоча по жирной грязи, как лыжи грузные сапоги. На ее узких плечиках висело плюшевое пальтишко, сшитое с расчетом на вырост.
Встретили меня Кольцовы весьма странно. На мое «здравствуйте» никто не ответил. За столом сидел старичок и дергал за кончик свою узкую бороденку. Около печки старуха, согнувшись пополам, толкла в чугуне картошку. Я стоял на пороге с шапкой в руках и ждал. Старуха подняла голову:
— Что ж зря стоять-то? Скидывайте одежку, вешайте на свободный гвоздь. Вот как приберусь, так и заужинаем. Аль самоварчик поставить?
— Неплохо бы, — охотно согласился я.
После сырой, промозглой погоды здесь, в теплой избе, насквозь пропахшей квашеной капустой, меня прохватил приятный озноб.
Я разделся и подсел к старичку. Он, не переставая улыбаться, смотрел на меня, потом через стол протянул руку и представился:
— Алексей Федорыч Кольцов.
Я поспешно вскочил и невнятно пробормотал фамилию. Старик, кажется, не обратил на это никакого внимания и продолжал дергать бородку и улыбаться. Не зная, как начать разговор, я тоже стал улыбаться и подмигивать:
— Ну как глухари-то, поют?
Алексей Федорович перегнулся через стол:
— Чего ты говоришь-то?
— Глухари, наверное, вовсю поют, — громко повторил я.
— Не понимаю, о ком ты говоришь. — Алексей Федорович махнул рукой, отвернулся к окну и стал пристально смотреть на затянутую сумерками улицу.
— Ты, товарищ, пройди на чистую половину. А с моим стариком не разговоришься, — сказала хозяйка.
«Чистую половину» от кухни отделяла дощатая перегородка. Просторная комната была обставлена дорогой светлой мебелью. Стены, оклеенные бархатистыми лиловыми обоями, были совершенно пустыми. Только над невысоким книжным стеллажом висела картина в черной рамке под стеклом. Она поразила меня своей простотой и отменным вкусом. На ней был изображен вечер в горах: слегка подсиненный снег, а на нем густые синие тени от нависших скал и низкорослых елей. То что картина была редкой, и то, что писал ее не русский художник, не вызывало сомнения. Но как она могла попасть в Апалёво? Я присел на диван, задумался и не заметил, как уснул.
Хозяйка разбудила меня ужинать.
Я прикусывал мягкий ржаной хлеб, пил молоко. Хозяева — чай. Алексей Федорович, держа обеими руками блюдце, звучно прихлебывал и поминутно вытирал ладонью лысину. Когда он в третий раз потянулся к самовару с чашкой, Ирина Васильевна молча дала ему по рукам и перевернула чашку вверх дном. Алексей Федорович обиженно посмотрел на нее, потом на меня, хотел что-то сказать, но раздумал и, махнув рукой, вылез из-за стола.
Я вспомнил о картине и спросил о ней хозяйку.
— Австриец оставил, — сказала она. — В войну у меня ихний полковой доктор стоял. А уж как по нашему-то калякал, другому и русскому так не суметь. Меня-то он не иначе как только Ириной Васильевной величал…
Я усмехнулся:
— Чем же он был хорош?
Ирина Васильевна поджала губы, взяла щипцы и стала мелко колоть сахар.
— Помню, сидим мы как-то, да вот как с тобой. Я его испрашиваю: «Что ж вы будете делать-то с нами, как всех завоюете?.. Небось колхозы распустите, немецкую барщину установите?» А он на мои слова грустно-грустно усмехнулся и говорит: «Не надо мне вашей земли Зачем она мне? И войну я ненавижу, и в победу не верю». От этих слов мне сердце так и сжало, но я совладала с собой, подавила радость и пытаю: «Пол-России прошли и в победу не верите?» — «Нет, не верю, — говорит он. — Предчувствие у меня такое». А сам все ходит и ходит по комнате, ровно места себе не найдет. Остановился около карточки Мишеньки моего. Он у меня в то время уже в командирах ходил, так и был снят в форме. Долго рассматривал немец карточку, потом снял ее со стены и подал мне: «Поберегите, — говорит, — от лихого глаза. Ко мне разные люди ходят…» А потом он скоренько уехал, а картинка осталась. Может, забыл, а может, сам оставил… А всем скажу, не побоюсь: добрый душевный был человек. Надьку, внучку мою, от смерти спас. Десять годков ей тогда было. На стоячую косу она у меня наскочила и располосовала все лицо от виска до шеи. Вся бы кровью изошла, кабы не он. Кровь он кое-как остановил да на машине в свой госпиталь отвез. С той поры у Наденьки шрам на всю жизнь остался. Я так думаю: потому-то и женихи ее обходят. А девушке двадцать пятый годок пошел, — вздохнула Ирина Васильевна.
— А где же она? — спросил я.
— В соседней бригаде картину крутит. Она в колхозе механиком по кино.
Наконец я решился заговорить о цели приезда.
— Да какие же теперь у нас глухари. Лес-то весь повырубили. Разве что за болотом, в сухом долу, остались.
— А как туда пройти?
— Одному не пройти, — возразила Ирина Васильевна. — Вот разве что внучка согласится проводить.
— А когда она придет?
— К двенадцати аль к часу явится.
Я посмотрел на часы: еще не было и девяти.
— А вы ложитесь и спокойно отдыхайте, — посоветовала Ирина Васильевна.
А что еще оставалось делать? Хозяйка принесла раскладушку и раскинула ее здесь же, на кухне. Я скорчился под легким, байковым одеялом, проклиная в душе глухарей и приятеля.
Проснулся я от толчка в плечо. Около меня стояла высокая девушка в резиновых сапогах, ватных брюках и фуфайке, туго перехваченной ремнем-патронташем.
— Вставайте, пора, четвертый час.
Я вскочил и стал торопливо натягивать болотные сапоги.
Наденька села на табуретку, поставив меж колен ружье. Одеваясь, я украдкой поглядывал на девушку. Она смотрела перед собой в одну точку, сдвинув острые брови и плотно сжав сухие губы. Как я ни пытался, а шрама не увидел. Он был прикрыт опущенными ушами зимней шапки.
Прямо с крыльца мы нырнули в глухую темень, как в бездну. Я на секунду оторопело зажмурился, а когда открыл глаза, темень, казалось, еще больше сгустилась. Я сделал десяток неуверенных шагов и уткнулся в забор. Забор покачнулся и глухо треснул.
— Сюда, сюда шагайте! — крикнула Наденька.
Я свернул на голос и стал осторожно пробираться вдоль забора. Глаза начали постепенно привыкать к темноте, ноги нащупали упругую тропинку, по ней я вышел в поле и догнал Наденьку.
Дорога вела через вспаханное поле; прихваченная морозом, она гулко звенела под ногами. Сквозь густую как тушь, мглу едва проглядывали звезды. Наденька шла впереди легким размашистым шагом. Вскоре поле кончилось. По вырубленным в земле ступеням спустились с крутого берега к реке. Паводок только что начинался. Но вода уже захлестывала лавы — два тонких бревна, перекинутых через реку. По ним мы перебрались на противоположный берег. Пройдя метров двести свернули в болото и сразу же по колено ухнули в жидкий зернистый снег. Таким образом мы двигались с четверть часа. Ноги без малейших усилий, с хлюпаньем как поршни, входили в снег, но с каким трудом приходилось их оттуда вытаскивать! Пот ручьями стекал за ворот, в ушах стоял беспрерывный протяжный звон, подмывало желание упасть в снег и так лежать не шевелясь, без движения. А Наденька, размахивая шапкой упорно ползла и ползла вперед. Но вот и она не выдержала. С криком «Ой, не могу!» упала в снег, широко разбросав руки.
— Ну как, охотничек, дышите? — смеялась Наденька. — Уж я вас сегодня так вымотаю, что детям закажете ходить по глухарям.
— Я не из жидких.
— Посмотрим.
Вырвавшись из снежного плена, попали в залитое водой болото. Порой вода поднималась выше колен. Но идти было легко, хотя и опасно: под ногами лежал крепкий скользкий лед. Потом с полчаса пробирались по вязким мшистым кочкам и, с трудом форсировав бурливую, с глубокими ямами лесную речушку, вышли на твердый шершавый берег. Впереди стояла высокая темная стена леса, жутко молчаливая и таинственная. А сзади, бурча и поплескивая, бежала по косогору речка.
Ночь постепенно бледнела, звезды терялись, сквозь грязно-серую муть неясно проступали голые стволы сосен.
Медленно, осторожно продвигались мы по узкой обледенелой тропинке в глубь леса. Наденька поминутно оглядывалась на меня, шипела, грозила пальцем. Внезапно она резко остановилась, вытянула шею и вся подалась вперед. Я тоже замер. Наденька повернула ко мне лицо и, задыхаясь, прошептала:
— Поет!
Я же, кроме гулкого стука сердца и тупого звона в ушах, ничего не слышал. Наденька вытянула руку в сторону, где играл глухарь:
— Там, у Черного ручья.
Я переступил с ноги на ногу, чтобы ослабить нервное напряжение, и стал прислушиваться. И в этот же миг уловил чуть слышное «тэк-тэк-тэк», словно кто-то за кустами легонько постукивал по спичечному коробку.
Я метнулся с тропинки, сделал два огромных прыжка и остановился как вкопанный. Рядом со мной тяжело дышала Наденька.
Сколько мы сделали таких перебежек, не помню. Но когда я, зацепившись за колдобину, плашмя растянулся на кустах можжевельника, то услышал и второе колено песни: глухарь сыпал частую дробь, шипел и фыркал. Оно продолжалось недолго — каких-нибудь пять-шесть секунд. Но эти секунды самые блаженные как у глухаря, так и у охотника. В эти секунды глухарь, выражая любовную страсть, теряет рассудок. Охотник же в каком-то необъяснимом экстазе, словно в лихорадке, поднимает ружье. Зачем? Мясо у глухаря весной жесткое и постное. Но эта благоразумная мысль пришла ко мне значительно позже. А сейчас я лежал ничком на колючем можжевельнике и дрожал от нетерпения.
Глухарь играл одну песню за другой. Мягко шаркая крыльями, пролетела глухарка и села неподалеку на кривобокую, с перебитой макушкой сосну. И, словно почуяв ее, глухарь залился пуще прежнего. Он до того дошел, что потерял, видимо, равновесие. Я услышал как затрещали сучья и, будто простыни на ветру, захлопали крылья. Опомнившись, глухарь опять взгромоздился на дерево, чокнул три раза и замолчал, то ли почуяв опасность, то ли от стыда за свою оплошность перед глухаркой. Прошло минут пять; глухарь молчал. Потом он начал точить — словно рашпилем по железу. Прошло еще десять минут; глухарь молчал; а я все лежал и коченел от сырого, холодного тумана.
Всходило солнце. Его длинные тонкие лучи скользили по щербатым стволам сосен, веером ложились на запыленную инеем землю. Одинокие кочки, убранные ярко-зеленым мхом, блестели, как стеклянные. В крохотных лужицах плавился матовый ледок. Перелетая с места на место, звенели, пищали и дрались крохотные пичужки; пересвистывались лесные дрозды, неумолчно во всех концах болмотали тетерева, и где-то далеко в болоте гнусаво стонали журавли. Только молчал мой глухарь. Но вот и он подал голос — тихо, осторожно робко, а потом начал сильно, резко, отрывисто и вдруг сразу же торопливо зачастил, зашипел, зафыркал. Я дождался очередной песни и сломя голову бросился вперед. Я бежал напролом, не обращая ни на что внимания и ничего не помня. Когда я налетел на толстый ствол сосны и, обняв, прижался к нему, то почувствовал, как горит исхлестанное ветками лицо, и понял, что на голове нет шапки.
Я выглянул из-за дерева. На полянке, в окружении молодых тонконогих сосен, стояла старая ель. С одной ее стороны в густой хвое просвечивалось окно. В этом окне я и увидел глухаря. Он, чокая, вытягивал вверх шею и слегка распускал крылья. У меня перехватило дыхание. Я поднял ружье, попытался прицелиться и не смог: ель с глухарем внезапно куда-то исчезла, потом опять появилась и опять пропала. Меня била лихорадка. Я опустил ружье, прижался к сосне и стал спокойно наблюдать.
Глухарь играл песню за песней: вертелся на суку волчком и с каким-то металлическим скрежетом точил и точил, с шипением распускал хвост. Медленно поднял я свою верную «тулку», прижал ствол к дереву и хладнокровно прицелился. Но выстрелить не успел…
На поляну выскочила Наденька. Глухарь смолк, вытянул шею и уставился на нее. Наденька стащила с плеча одностволку, вскинула на руку, и глухой протяжный выстрел, словно на тяжелой расхлябанной телеге, покатился по лесу. Белый клуб порохового дыма на миг заслонил глухаря, а когда дым рассеялся, его уже там не было.
Я ошеломленно смотрел на Наденьку, а в голове неуклюже, как у пьяного, ворочались вязкие мысли.
— Что это все значит? — наконец выдавил я.
— Не позволю! — гневно ответила Наденька. Лицо у нее от возмущения покраснело, и на нем резко выделялся белый рваный шрам. — Не позволю!
— Зачем же вы тогда меня сюда тащили? — возмутился я.
— Чтоб проучить… — Она закинула за спину одностволку и расхлябанной походкой, болтая руками, вызывающе прошла мимо меня.
Моя шапка плавала в луже. Я выудил ее оттуда и не надевая на голову, уныло потащился по болоту.
Где-то грустно и тоскливо плакала горлинка, нежно ворковал лесной голубь, и неумолчно со всех сторон неслось ворчливое болмотанье косачей.
Наденька дожидалась меня на просеке. Она сидела на пне и наблюдала за мной. Когда я с ней поравнялся Наденька встала и пошла рядом.
Солнце уже поднялось над лесом и начинало припекать. Пахло гнилью, смолистой хвоей и талым снегом.
— Вы все еще сердитесь? — неожиданно спросила Наденька.
Я пожал плечами и ничего не ответил. Она тронула меня за руку и грудным, тихим голосом проговорила:
— Пожалуйста, не сердитесь. Он пел песню любви…
Больше мы не сказали ни слова. А когда опять вышли на вспаханное поле, Наденька вскинула ружье и озорно крикнула:
— Кидай шапку!
Я высоко в небо подбросил шапку. Наденька выстрелила и промахнулась.
— Эх ты, стрелок в юбке!
Она обиделась:
— А ты-то что, лучше?
— Да уж шапку-то как-нибудь…
— А ну, докажи, — подзадорила она.
— Кидай!
Наденька подбросила. И я доказал. Моя добротная, с кожаным верхом кубанка упала дырявая, как шумовка.
Молодежь
Я до того обленился в Апалёве, что даже мух от себя не гоняю. Второй месяц на исходе — у меня ни строчки. Чистый лист на письменном столе пожелтел и сморщился. День за днем бью баклуши, а по выражению Наденьки, «изучаю жизнь». Она старается вовсю: таскает меня по полям, бригадам и каждый раз хвастается, что я сочинитель книг. Люди на меня смотрят по-разному, но больше с насмешливым любопытством. Только, пожалуй, в глазах Наденьки я — фигура, в глазах остальных — нечто среднее между уполномоченным из района и колхозным лодырем Аркадием Молотковым. Даже Ирина Васильевна поглядывает подозрительно: она никак не может понять, как это человек нигде не работает, а только пишет.
Моя попытка сблизиться с людьми не имела успеха. Как-то мне вздумалось поработать на уборке сена. Я разыскал в сарае вилы и пошел на заливной луг Итомли, где метали стога. Там работали одни женщины. Еще издали я заметил, как они, бросив сгребать сено, следили за мной. Мне стало сразу же скучно, захотелось повернуть назад, но ноги против воли несли вперед. Робким, заискивающим голосом я пробормотал что хочу им помочь. Они ничего не ответили и продолжали презрительно разглядывать меня. Наглядевшись вдоволь, принялись быстро и ловко взмахивать граблями и уже больше не обращали на меня никакого внимания. Я накалывал на вилы огромные охапки сена и подавал на стог колхознице в яркой красной кофте. Работал неловко, но старался изо всех сил, как говорят — из кожи лез. Они же мне не сказали ни слова и, когда последний стог был сметан, вскинув на плечи грабли ушли, оставив меня одного среди луга.
«Почему, почему они так?..» — с горечью размышлял я.
На этот вопрос мне Наденька ответила вопросом:
— А зачем вы пошли? От скуки? Поразвлечься? Ведь так же, сознайтесь?
Да, я понял: для меня сенокос был забавой, для них — утомительным трудом.
В другой раз мы потерпели фиаско вместе с Наденькой.
В клубе центральной усадьбы Наденька организовала встречу с колхозниками. Я читал новый рассказ и потел от страха: в переполненном зале была гробовая тишина. Потом они мне дружно похлопали и дружно разошлись.
Вот какое было ко мне в Апалёве отношение. Впрочем, я к нему скоро привык и беспечно проживал день за днем. Наденька не забывала меня и время от времени придумывала какую-нибудь заботу: то очередной творческий вечер в бригаде, то беседу на заданную тему или просто встречу с местной знаменитостью.
Так она познакомила меня с девяностолетним охотником-медвежатником. Медвежатник позеленел от старости и походил на изжеванный окурок, в котором табаку осталось всего лишь на полторы затяжки. Говорил он мало, непонятно и одно и то же:
— Самое верное на медведя — нож и рогатина. Рогатиной медведя припрешь, ножом пырнешь. Он зараз и окочурится.
У старика не было ни одного зуба, и, когда он закрывал рот, нижняя челюсть так далеко заходила на верхнюю, что лицо уменьшалось вдвое, а нос свисал ниже подбородка.
У Наденьки и без меня было хлопот, по выражению Ирины Васильевны, больше, чем у собаки блох. Трудно сказать, какие права были у Наденьки. Зато обязанностей хоть отбавляй. Она обязана была заседать, организовывать, разъяснять, критиковать, убеждать и даже страдать. И все-то ее интересовало, все она делала вдохновенно, и на все у нее хватало времени. Единственно на кого не обращала внимания Наденька, так это на себя. Одевалась небрежно: платья на ней болтались туфли вечно были с обшарпанными носками и стоптанными каблуками, зеленый выцветший берет, казалось навсегда прилип к ее черным прямым волосам. Парни старались ее не замечать, старые подруги повыходили замуж, новые нередко посмеивались над ней, за глаза называли халдой. Наденька на это не обижалась и беззаботно махала рукой, как бы говоря: «Как бы обо мне ни судачили, теперь уже не имеет никакого значения». Она была уверена, что личное счастье прошло мимо.
Шофера Околошеева в колхозе все звали просто Около. Ему было лет тридцать. Рослый, плотный, с широким добрым лицом и ленивыми движениями, Около казался увальнем. Был он неглупый, наделен силищей но пользовался ею с неохотой, водку пил редко, а если пил, то перепивал всех и не хмелел. Вдовы, встречая Около, кусали губы, замужние — только поглядывали да и то украдкой, девчата открыто побаивались. Он же относился к ним с благодушным презрением: сам не навязывался, но и не отказывался. В колхозе Около появился внезапно: приехал из города картошку копать да так и остался. Жил он легко и свободно, как птица кукушка. Обычно снимал у кого-нибудь угол, но подолгу на одном месте не засиживался. Таким образом, переходя из дома в дом, Около обошел все села колхоза и наконец обосновался в Апалёве. При мне он несколько раз заходил к Кольцовым.
Войдя в избу, Около снимал шапку, садился и молчал. Если была дома Наденька — она тоже молчала или брала книгу. Их молчаливую компанию охотно разделял Алексей Федорович. Намолчавшись вволю, Около заводил разговор с Алексеем Федоровичем.
— Что же ты сидишь, дедушка? — спрашивал Около.
— Устал, наверное, — отвечал Алексей Федорович.
— С чего же ты устал?
— Работал.
— А что ты делал?
— Ригу, небось, топил.
— Ригу топил? — удивленно переспрашивал Около а потом долго и раскатисто хохотал. Последний раз Алексей Федорович топил ригу лет пятнадцать назад.
— Алексей Федорович, — продолжал Около, — ты знаешь, кто я такой?
Старик долго и внимательно смотрел парню в рот и пожимал плечами:
— Человек, наверно. Вон, вишь, голова… руки с ногами…
— Я землемер. Приехал землей вас наделять.
Около умышленно наступал старику на мозоль. Земельный вопрос был самым больным вопросом в его жизни. И по характеру, и по замашкам Алексей Федорович родился барином. Его заветной мечтой было иметь много-много земли, но не обрабатывать ее, а сдавать исполу.
Алексей Федорович оживлялся, дергал бороденку и робко спрашивал:
— Как же ты ее делить-то будешь? По душам аль по едокам?
— Делить будем по-новому, — авторитетно заявлял Около. — Кто сколько за день обежит полей и лесов, тот все и получит. Вставай завтра с утра пораньше и вкалывай.
— Вкалывай! — Алексей Федорович поднимал маленький сухонький кулачок. — Ишь как ведь распорядился! Кто сколько обежит! У соседа Никиты ноги как жерди, нешто мне за ним угнаться. Мазурик ты, а не землемер!..
Разговор обычно прерывался вмешательством Ирины Васильевны.
— Около, хватит мне старика травить, — решительно заявляла она.
Около замолкал и, посидев еще с полчаса, уходил. А Ирина Васильевна принималась пилить Наденьку:
— К кому он ходит?
— Не знаю. К тебе, наверно, бабушка, — равнодушно отвечала Наденька.
Ирина Васильевна взрывалась и сердито выкрикивала:
— Мешок, а не парень. На что только бабы глаза пялят. Одер непутный. Ты у меня смотри, — грозила она пальцем. — Вот умру, а там делай что хошь…
Наденька вскакивала:
— А я-то тут при чем? Ходит, ну и пусть ходит. Не гнать же. А мне-то совершенно безразлично, да-да, безразлично… безразлично, — крикливо доказывала Наденька и густо краснела.
В конце июля зачастили бурные грозовые дожди Итомля вспухла, вышла из берегов.
В тот день в Апалёве должна была демонстрироваться новая картина. Наденька с утра ушла в соседнюю бригаду за кинолентой. К обеду она вернулась, но в каком виде! Берета на голове не было, волосы во все стороны торчали мокрыми хвостиками, с юбки ручьями стекала вода. Наденька села, обхватила руками голову и закачалась из стороны в сторону, потом замерла, уставясь в угол, и глухим сиплым голосом сказала:
— Я утопила картину.
Дело было так. Машина довезла Наденьку до Итомли и повернула обратно. Наденька решилась перейти реку по лавам. Вода неслась выше лав, и над рекой торчали одни лишь перила. С тяжелым мешком на спине ощупью пробиралась она по скользким бревнам. Напор воды был сильный, и Наденьке все время приходилось наваливаться на перила. Перила не выдержали и рухнули. Рухнула и Наденька с мешком.
— Я долго боролась, из сил выбилась. Течение очень быстрое, а мешок с коробками тяжелый. Он все время тянул меня на дно. Если б я его не бросила, то утонула, — сквозь слезы рассказывала мне Наденька.
Время было обеденное, и вытаскивать мешок собралось все Апалёво. Парни, ребятишки ныряли. Мужики пытались с берега обшарить дно баграми. Но, поняв бесцельность своей затеи, бросили и стали с любопытством наблюдать за Аркашкой Молотковым. Он старался не за страх, а за совесть. Казалось, наконец-то парень нашел в колхозе работенку по душе. Бахвалясь удалью Аркадий нырял и плавал, как тюлень.
— Есть, нащупал, Надька, готовь шкета! — заорал Аркадий.
— Литр… Литр поставлю, Аркашенька, — радостно заверила Наденька.
Аркадий вскарабкался на лавы, раскачался и, взлягнув ногами, как утюг пошел на дно. Через полминуты из воды пробкой выскочила рыжая Аркашкина голова и как горох, посыпались хлесткие матюки. Аркадий вылез на берег и бросил пустой мешок.
— Высыпались, гады, — мрачно сказал он.
— Что же ты наделал, подлец! — прошептала Наденька и заплакала.
Колхозники тесным кольцом обступили их и хмуро смотрели на Аркадия. А он лихорадочно дрожал и беспокойно оглядывался.
— Доигрался, сукин сын, — сказал кто-то.
— А я виноват?! — закричал Аркадий визгливым тонким голосом и набросился на Наденьку: — Сама виновата! Ты почему не сказала, что мешок не завязан? А? Почему, почему?
— Я забыла, совсем забыла, — испуганно пролепетала Наденька.
Издали послышался голос Около:
— Эй вы, чего там ловите?
— Кино! — хором закричали ребятишки.
— Какое кино? Давай его сюда, — подходя, балагурил Около и с хрустом жевал яблоко. А когда узнал, в чем дело, пристально посмотрел на Наденьку и покачал головой, потом повернулся к Аркадию: — А ну, топай отселева, тля навозная!..
Аркадий сгреб в охапку штаны с рубахой и уныло поплелся от берега.
— Стой! — закричал Около. — Иди сюда. Аркадий покорно вернулся.
— Будешь вытаскивать, пока не потонешь. Понял? Аркадий кивнул головой и полез в воду.
Около быстро разделся и, оставшись в одних трусах с хрустом потянулся. Его молодое упругое тело, с крепкими, как веревки, мышцами, сбрасывая лень и вялость вздрагивало, как у породистого рысака. Разбитная вдова Шутова, не спуская глаз с Около, что-то шептала бабам. Те, сдерживая хохот, прыскали в кулаки. Наденька, отвернувшись, понуро рассматривала свои большие, заляпанные грязью ступни.
Далеко выбрасывая перед собой руки, Около выплыл на середину Итомли. Сильным невидимым толчком подбросил над водой тело и, вскинув вверх ноги, винтом пошел на дно. На берегу притихли и ждали. Томительно долго тянулась минута. Люди беспокойно переглядывались. Наденька нервно крутила пуговицу. Но вот над мутной, глинистой водой показался белый край железной коробки, а за ней рука Около. Ребятишки закричали «ура». Наденька радостно подпрыгнула и оторвала пуговицу. Аркадий громко и злобно выругался. Ему не везло.
За первой коробкой Около вытащил вторую, затем третью. Нырял он редко, но успешно и после каждого нырка подолгу отдыхал, набирался сил. Аркадий же, наоборот, нырял часто и бестолково. Около выловил шесть коробок. Аркадий лишь одну. Оставалось еще две. Поиски этих двух коробок затянулись до вечера. Колхозники давно уже разошлись. На берегу остались одни ребятишки да я с Наденькой.
Восьмую коробку посчастливилось вытащить Аркадию. На него было страшно смотреть. Он весь посинел голова с разинутым ртом дергалась как на шарнирах Аркадий вылез на берег, упал и не смог подняться.
— Отправляйся домой, — сказал ему Около.
Он тоже выдыхался: лицо исказила судорога, глаза потускнели, налились кровью. Мы с Наденькой попытались его отговорить. Но Около не сдавался.
— Еще раз, еще раз, — говорил он и, весь дрожа бросался в воду.
Садилось солнце, когда Около, уцепившись за лавы крикнул сиплым голосом:
— Есть, держу! Дайте дух перевести.
Около с трудом вылез на берег, осторожно положил к ногам Наденьки круглую коробку и рухнул на землю обхватив ладонями голову.
— Фу как ломит, спасу нет, — пробормотал он.
Наденька подняла с земли рубашку и накрыла сутулую спину Около, потом кинула на меня быстрый холодный взгляд, нахмурилась и прошептала:
— Спасибо, Около.
Он даже не пошевельнулся, только сильнее стиснул ладонями голову.
С утра я помогал Наденьке сушить киноленту. Коробки сильно подмокли, и мы провозились весь день.
Вечером состоялась премьера «утопленницы». Картина оказалась настолько плохой, что и самые невзыскательные апалёвские зрители в один голос заявили: «Уж лучше б ее и не вытаскивать».
После кино были танцы. Начались они вяло и скучно. Наденька была расстроена, ей хотелось домой, но дополнительная нагрузка завклубом обязывала ее остаться. Она машинально ставила пластинку за пластинкой, что попадет под руку, и вдруг в тесном бревенчатом клубе неожиданно зазвенела колокольчиком шопеновская соната. Кто-то из парней запротестовал, его поддержали девчата, но глухой утробный бас Около перекрыл всех:
— Молчать и слушать…
Около сидел в простенке меж окон, упираясь локтями в колени и по-бычьи согнув шею. Слушал ли он или просто позировал, но только он не шевелился и тупо смотрел в пол. Наденька слушала полузакрыв глаза. Она в эту минуту была на редкость обаятельна: серая широкая юбка и белая легкая кофточка скрадывали ее худобу, по усталому и плосковатому лицу словно лился мягкий, теплый свет, и оно было печально-кротким. Зал внезапно зашевелился, закашлял. Лицо у Наденьки мгновенно потухло, вытянулось. Я оглянулся. В дверях стояла незнакомая девушка, кокетливо отставив в сторону ножку и покачиваясь. Желтая кофточка с черными полосами туго стягивала грудь. Короткая юбка висела над ее коленями парашютом.
Радиола продолжала играть. Нежная, прозрачная и неутешно-печальная музыка рассказывала о чем-то неповторимо прекрасном, безвозвратно ушедшем. А все смотрели на незнакомку, и Около, и Наденька тоже. Девушка, ничуть не смущаясь, прошла в передний угол села, разбросав по скамейке юбку, вынула зеркальце и подкрасила губки.
Наденька поставила затертую, как подошва у старой галоши, пластинку. С шипением и скрипом завыла радиола. Лениво, как бы нехотя, поднялся Около, подошел к девушке и взял ее за руку. Она гневно вскинула на него глаза и попыталась вырвать руку. Около слегка потянул девушку, и она покорно повисла у него на шее.
Танцевал Около легко и плавно. На все танцы подряд он выбирал только девушку в полосатой кофте. Наденька завела дамский вальс. Девчата бросились нарасхват приглашать Около. Но он всем отказал и уныло просидел весь танец.
В клуб ввалился пьяный Аркадий Молотков. Размахивая кулаками, разогнал всех по углам, сел на пол вынул из кармана губную гармошку и визгливо заиграл «Семеновну». Около некоторое время благодушно наблюдал за ним, потом пятерней сгреб Аркадия за волосы и потащил на улицу. По крутым ступенькам крыльца Аркадий покатился колесом, выбивая головой и пятками дробную чечетку. Во время суматохи Наденька исчезла.
Гулянка продолжалась. Около танцевал беспрерывно, и все с незнакомкой…
Я уже собирался уходить, когда вбежала Наденька. Лицо у нее от возбуждения покрылось красными пятнами, глаза лихорадочно горели. Черное бархатное платье с глубоким вырезом болталось на ее нескладной фигуре как на шесте. На голове лепилась широченная соломенная шляпа с обвислыми полями. Размашисто вихляясь, Наденька обошла зал клуба и села, закинув ногу на ногу, потом вскочила, подбежала к радиоле и поставила дамское танго. Меня охватил стыд, словно я сделал какую-то гадость… и я быстро вышел.
Все проходит
Проходит лето. Последние августовские дни жаркие, пыльные; ночи — темные, душные. Но осень уже осторожно подкрадывается.
В низинных лугах туманы висят до полудня. По бурым сжатым полям ползают тракторы, а за ними, выискивая червей, стаями бродят грачи. Черные леса с голубыми прогалинами стоят молчаливые и грустные. Птицы уже не поют, лишь изредка пересвистываются или тревожно вскрикивают. Ольха сворачивает листья в цигарку; зеленые подолы молодых берез опоясывает желтая кайма. Акация под нашим окном сморщилась, наполовину осыпалась и торчит, как обшарпанный веник. Ирина Васильевна все чаще и чаще жалуется на ломоту в ногах и пояснице. По вечерам она заваривает огромную бочку сосновой хвои с муравьями и подолгу сидит в ней.
Мы с Алексеем Федоровичем ходим в лес разорять муравейники. Ходить с ним одна морока. Но Ирина Васильевна настойчиво каждый раз навязывает мне старика «порастрястись». До леса и версты не будет. С лопатой и мешком за плечами мы топаем по укатанной мягкой дорожке. Алексей Федорович шаркает резиновыми подошвами сандалий, а за ним тянется длинный хвост пыли.
— Что же ты ног не поднимаешь, Алексей Федорович?
— Чтоб не упасть, — отвечает он и широко улыбается.
В лесу тихо, грустно и отрадно… Пахнет грибами, малиной и прелью. Под старой, затекшей смолой елью находим муравейник. Муравьи, чуя беду, беспокойно суетятся. Один уже успел забраться Алексею Федоровичу за воротник и больно укусить.
— Вот ведь мелкая букаха. А тоже так и норовит зло сорвать, — философствует Алексей Федорович, разглядывая пойманного муравья.
Разворачиваю лопатой кучу, в нос ударяет резкий кисловатый запах муравьиного спирта. Алексей Федорович возмущенно ругается. Мне каждый раз приходится объяснять старику, что муравейник необходим для лечения ног его «бабы», Ирины Васильевны. Ссыпав муравейник в мешок, идем обратно.
В тот день я решил отправить Алексея Федоровича с мешком одного. Вывел его на дорогу, а сам пошел на кладбище. Оно находилось в стороне, на пригорке, в круглой березовой роще. Давно я собирался туда сходить, но все откладывал со дня на день.
Я люблю сельские кладбища за их запущенность и легкую грусть. Их редко посещают. Мимоходом колхозница завернет, тихо поплачет над родной могилкой, потом вытрет слезы, облегченно вздохнет и пойдет по своим делам. Мужчины вообще сюда не ходят. Зато для ребятишек кладбище — веселый уголок: здесь они играют в прятки, гонят из берез «соковку», собирают землянику и грибы. Апалёвское кладбище не было исключением. С одной стороны к нему примыкало засеянное льном поле, с другой — заливной луг Итомли. Могилы разбросаны как попало, большинство без оград и без крестов.
Я сел на плоский камень и задумался. Сквозь высокие заросли иван-чая мне видно поле. Трактор таскает теребилку, а за ним желтым половиком стелется лен. Колхозницы, высоко подоткнув юбки, подхватывают лен и вяжут в тугие снопы. Они приближаются к кладбищу и, дойдя до конца поля, садятся на меже, шагах в пяти от меня, и заводят свой интимный женский разговор.
— Ой, Ритка, — охает высокая, мосластая женщина, — опять тяжела. Что это ты зарядила кажинный год?
— Уж больно мне эта работа по душе пришлась тетка Марья, — весело отвечает полная красивая молодуха.
Бабы дружно хохочут и несут такое — уши вянут. А встать и уйти неловко. Увидят — осрамят на весь колхоз.
— Что это наша невеста притихла? Ленка, ты чего это надулась как пузырь?
— А ну вас в рай, — отмахивается Ленка, известная в Апалёве как самая строгая вдова.
— Ты расскажи нам, как жених от тебя на второй день сбежал, — продолжает приставать Марья. У нее страсть — завести человека, а потом со стороны наблюдать и злорадно усмехаться. И нет ничего проще, как завести Ленку: с пол-оборота заводится.
Ленка злобно сдвигает острые, как ножи, брови и цедит сквозь зубы:
— Дура мослатая… Не ушел — сама выгнала. И не на второй день, а в ту же ночь.
— Да ну! — вскрикивает Милка Шутова, острая на язык срамница. — Аль никудышный оказался?
— А на что мне мужик несамостоятельный, пьяница, — мрачно отвечает Ленка.
— А вот я знаю новую байку. И не придумаешь такой, — вкрадчиво проговорила Марья и хихикнула.
Бабы тесно окружили ее.
— Только молчать, — предупредила Марья и что-то прошептала.
Бабы наперебой закричали:
— Надьку Кольцову?!
— Около?!
— Чушь городишь, Марья!
— Обстругал, бабоньки, вот крест, обстругал. Марья перекрестилась. — Вчерась вечером в сарае. А накрыла их Зинка Рябова. Ох уж и ругались они…
— Надо же подумать. А какую из себя недотрогу скромницу корчила, — возмутилась Ленка.
— Не верю я тебе, Марья. Всем известно, не язык у тебя, а помело поганое, — спокойно сказала густобровая, с белым дородным лицом колхозница. Она сидела в стороне и не принимала участия в разговоре.
Словно подхлестнутая, вскочила Милка:
— И я не верю. Кому нужна эта пресная вобла?
— А ты чем лучше, шлюха бесстыжая, — злобно выдавила Ленка.
Милку так и подбросило:
— Да неужто хуже?! — Она, как молодая кобылица изогнулась и вызывающе топнула ногой.
Выходка Милки взорвала баб. Они гуртом набросились на нее и принялись отчитывать на все лады. Милка, не ожидавшая столь дружного напора, растерялась сникла и тихо заплакала.
— Ты не вой, а скажи, ненасытная, почему ни одного мужика не пропустишь? — размахивая кулаками, наступала на нее Ленка.
— Да бесхарактерная я, бабоньки, — с отчаянной решимостью заявила Милка и заревела дурным голосом.
Бабы брезгливо посмотрели на нее, плюнули и пошли вязать снопы.
Я возвращался домой, и настроение у меня было скверное. Проходя огородами, увидел Ирину Васильевну. Она с большой корзиной из ивовых прутьев ползала между грядками и собирала огурцы.
Когда я открыл дверь в избу, услышал громкий и сердитый голос Наденьки:
— Дура ты, Зинка! Какая ты набитая дура!
Я хлопнул дверью — голос Наденьки смолк. Алексей Федорович сидел на кухне за столом и посасывал из носика заварника холодный спитой чай. Увидев меня, он смущенно отставил заварник в сторону, вытер усы и спросил:
— Где же баба моя? Целый день сижу, а ее все нет.
Я постучал по дощатой перегородке.
— Войдите, — ответила Наденька.
Она стояла у стеллажа и перебирала книги: вытащит книжку, посмотрит и опять поставит на место. На диване сидела Зина Рябова. Как они не походили друг на друга! Если природа сшила Наденьку наспех, резко и угловато, то над Зиной она любовно потрудилась, придав ее формам легкость и плавность. Голова у Зины была кудрявая, щеки полные, губы пухлые и сочные. Ее круглые, с большими чистыми белками глаза никуда не звали, ничего не просили, не раздражались, не восхищались — смотрели, да и только.
Как-то Зина, придя к Кольцовым и не застав Наденьки дома, поднялась ко мне в мезонин. Я писал. Зина поздоровалась и без приглашения подсела ко мне. Положив на кромку стола упругие, как мячи, груди и подпирая кулачком подбородок, спросила:
— И не скучно вам?
Я искоса взглянул на ее припухшие маслянистые губы и подумал: «Наверное, жирные блины ела».
— Не знаю, куда с тоски деваться, — пожаловалась Зина и зевнула. — А я не смогла б работать писателем.
— Почему?
— Да так… Не знаю… — Она виновато улыбнулась и покосилась на кровать, на перевитые в жгут простыни, на скомканное одеяло.
— Давайте я лучше вам кровать застелю.
— Не надо…
Зина усмехнулась, лениво встала, пошла к выходу оглянулась и нехотя закрыла за собой дверь. Я хорошо знал мужа Зины, механика колхоза, очень строгого очень правильного и очень скучного человека…
Наденька продолжала перебирать книги, Зина внимательно разглядывала ногти. Они были явно смущены.
Наденька вытащила томик Бунина, полистала и подала Зине:
— На, почитай.
Зина молча взяла книгу и поспешно вышла.
Невольно подслушанный разговор колхозниц, странное поведение девушек возбудили у меня любопытство. Но заводить разговор на эту тему было крайне неудобно. Наденька, по-видимому, вовсе ни о чем не хотела разговаривать: выбежала на кухню, разыскала тряпку и принялась усердно наводить в доме чистоту.
За окном раздался голос Ирины Васильевны:
— Путешественники, где мешок-то с муравьями?
Поиски мешка были долгими. На все вопросы Алексей Федорович отвечал:
— Положил куда-то…
У него была страсть все, что лежит под рукой, прибирать и прятать, по пословице: «Подальше положишь — поближе возьмешь». А спрятав вещь, старик тотчас же о ней забывал. Был случай, когда Алексей Федорович прибрал мой фотоаппарат. Ирина Васильевна неделю потратила на поиски и случайно обнаружила фотоаппарат на печке, в голенище старого валенка.
Мешок с муравьями отыскался в хлеву под кучей соломы.
Поговорить с Наденькой мне так и не удалось в тот день, а утром она уехала в район. Грязная сплетня переметнулась через Итомлю и поползла по колхозу. Судачили и перемывали кости Наденьке во всех бригадах в каждой семье и только молчали в доме Кольцовых. Ирина Васильевна хмурилась, поглядывала исподлобья. Наденька тоже переживала, хотя делала вид, будто ее ничто не касается, но резкая нервозность и острая подозрительность выдавали ее с головой.
Около больше не появлялся в доме Кольцовых. Он был по-прежнему весел и беспечен. Его чувства к незнакомке, внезапно вспыхнув, мгновенно сгорели. Девушка в полосатой кофте оказалась племянницей апалёвского бригадира. Приехав к дядюшке провести отпуск, она недельку поскучала в деревне и укатила обратно в город. Ее отъезда даже не заметили. Все мысли и разговоры вертелись вокруг Наденьки. Одни поносили ее, другие — Около, нашлись и такие, что открыто осуждали Зину Рябову: не к лицу, мол, замужней женщине заглядывать под чужие подолы.
Прошла неделя-другая, и сплетня постепенно стала меркнуть. С Около все сошло как с гуся вода. Авторитет Наденьки был навсегда подорван. Кличку «халда» заменила новая — «обструганная вековуха». И это доконало Наденьку. Она повяла: лицо совсем осунулось, подбородок заострился, губы беспрерывно дрожали. Острая на язык, решительная до дерзости, Наденька превратилась в боязливую ходячую тень. Открутив картину, украдкой бежала домой и запиралась в своей комнате.
Ирина Васильевна болезненно переживала все это: она внезапно как-то вся обмякла, ее гордую властность сменила робкая угодливость, в острых, насмешливых глазах появилась слезливая жалость. Словно глаза просили и умоляли: «Ну простите же ее. Мало ли что в жизни случается. Зачем же вы так жестоки».
В один из вечеров, когда Наденька, свободная от работы, сидела запершись в своей комнате, а мы с Ириной Васильевной перебирали крыжовник на варенье, вошел Около. Подпирая головой притолоку двери, он остановился на пороге, пригладил ладонью волосы и, уставясь на запыленные носки сапог, буркнул:
— Здрасьте…
Ирина Васильевна ничего не ответила и, схватив из решета горсть крыжовника, стала торопливо бросать ягоду за ягодой в плоское эмалированное блюдо. Лицо Около — мрачное, усталое, с черным пятном мазута у виска — болезненно перекосилось.
— А Надежда Михайловна дома? — спросил Около и переступил с ноги на ногу.
Рука у Ирины Васильевны задрожала, крыжовник посыпался на пол.
— Извините, коли так. — Около тяжко вздохнул, нахлобучил до ушей кепку и толкнул дверь.
Ирина Васильевна вскочила:
— Да куда же ты… погоди… экий нетерпеливый. Она беспомощно оглянулась на меня и потянула Около за рукав: — Дома она, дома…
Около прошел боком мимо Ирины Васильевны в комнату Наденьки. Старушка плотно закрыла за ним дверь, нагнулась ко мне и прошептала:
— А ты иди к себе в мезонин. И я уйду. Пусть они поговорят. Их дело. Бог даст, и уладят. Иди, иди в мезонин-то.
Корявая, медноликая луна тускло и холодно освещала мою тесную каморку. Я подвинул стул к окну и опершись подбородком на подоконник, прижался к стеклу лбом. На улице царствовала чуткая тишина. Только циркал сверчок, да нудно верещала в объятиях паука муха. Донесся гулкий отрывистый выхлоп движка, на секунду движок смолк, потом сухо закашлял и, откашлявшись, ворчливо зарокотал и застукал.
Хлопнула калитка, под окнами зашаркали грузные шаги Около. На меня напало странное забытье. Мне урывками снились то Наденька, то Около, то Ирина Васильевна, то все вместе; и тут же стоял Алексей Федорович, улыбался ласково, снисходительно, как будто жалел всех и понимал больше всех, что все это досадные, глупые мелочи, которые постоянно раздражают нас и мешают жить. Когда я очнулся, то понял, что не спал а думал долго, упорно и беспорядочно об этих людях.
Рассветало. Над землей висело ясное, чистое небо, и над болотом одиноко, как свеча, догорала Венера. Внизу лежала густая ночная тень. И на нее из окна Наденькиной комнаты падало желтое плоское пятно света.
В полдень почтальон принес газеты и открытку из районного комитета комсомола. Ирина Васильевна долго вертела в руках открытку, близоруко рассматривала и бормотала:
— Вызывают. Зачем же это ее вызывают? Стало быть, надо, коль вызывают, — и сунула открытку под картонку отрывного календаря.
Через день поздно вечером ко мне в мезонин постучалась Наденька. Вошла она решительно, без тени смущения:
— У меня к вам просьба. Дайте слово, что выполните.
— Не знаю.
— Она вам по плечу. Даёте слово?
— Бери.
— Подготовьте и прочтите лекцию в клубе центральной усадьбы колхоза на тему… — Она на минуту замялась и быстро договорила: — О любви и дружбе.
— Что?! — воскликнул я.
— О любви и дружбе, — повторила она. — А что вас смущает?
Не выдержав ее острого, пристального взгляда, я отвернулся.
— Значит, договорились?
— Что делать, — вздохнул я.
— Бай-бай. — Она насмешливо помахала мне рукой и вышла. «Да, здорово тебя там, голубушка, накачали», — подумал я.
К лекции я готовился добросовестно, как никогда. И в то же время меня не покидала тревога за исход ее.
Слишком свежи еще были в памяти недавние апалёвские события.
На лекцию пришла не только молодежь, но и пожилые, и даже старухи. Столь необычно повышенный интерес к рядовой лекции был не случаен. Все они явились открыто судить Наденьку. В зале клуба находился муж ее подруги, Леонтий Романыч Рябов. От одного присутствия этого прямого до тупости и непогрешимого до глупости человека веяло холодом. Он больше всех был возмущен поступком Наденьки и поклялся огнем выжечь в колхозе распутство.
Скучным, чужим голосом Наденька изложила причины, вызвавшие лекцию.
— Так, так, правильно. Давно пора, — сказал кто-то в зале, и посыпались ехидные смешки.
Наденька гордо вскинула голову, переждала смех спокойно сошла с трибуны и села на подоконник скрестив на груди руки.
…Лекция кончилась, никто не встал и не вышел. Все продолжали сидеть и чего-то ждать. Тишина стояла гнетущая, только пощелкивали семечки.
— Позвольте мне сказать пару слов. — Леонтий встал, одернул пиджак. — Можно?
— Леонтий, не надо, — схватила его за рукав Зина. — Слышишь, не надо…
Леонтий отмахнулся от жены, как от мухи, и стал пробираться между рядами. У Наденьки презрительно сузились глаза.
Леонтий поднялся на сцену, но на трибуну не взошел, а встал рядом. Поджарый, темноволосый, с бугристым лбом и волевым подбородком, Леонтий слыл в колхозе как беспощадный говорун. Под любой случай он умел подвести «принципиальный» тезис. Его боялись все: и председатель, и секретарь парторганизации. Он усиленно лез в начальство. Колхозники его терпеть не могли и злорадно говорили: «Бодливой корове бог рог не дает».
Леонтий взъерошил волосы и выкинул руку:
— Товарищи, поблагодарим докладчика за теплый идейный, содержательный доклад. — Он повернулся ко мне, поклонился и накрыл ладонью ладонь.
Громко и сухо захлопали в зале.
— Признавая глубокую эрудицию уважаемого нами товарища, — продолжал Леонтий, — нельзя не отметить и существенный пробел в докладе. — Сделав упор на слове «пробел», Леонтий широко развел руки: — Доклад сделан вообще, в отрыве от жизни, не увязан с событиями последних дней, с людьми той аудитории для которой он предназначен. Я не упрекаю докладчика, — Леонтий, широко улыбаясь, еще раз поклонился мне, — я только попытаюсь восполнить этот пробел.
Леонтий круто повернулся, взошел на трибуну, вынул из кармана пачку листков и положил перед собой.
Долго и утомительно читал он их. В зале щелкали семечки, хихикали. Около, зажав в кулак папиросу, курил, выпуская в рукав дым. Наденька смотрела в окно. Высокая, тонкая, как спица, труба колхозной водокачки охапками выбрасывала черный дым. Дым расползался по небу, мутнел, лохматился и таял, и вместе с ним мутнел и таял голос Леонтия.
Гулко, как камень, упали в зал слова: «Надежда Кольцова». Леонтий выждал и мягким, вкрадчивым голосом продолжал:
— Кольцова — наша старейшая комсомолка, активная, в партию готовится вступить. А как она своим личным примером воспитывает молодежь? — Он опять выждал и резко ответил на свой вопрос: — Аморально… разлагающе.
— Кольцову не задевай, — грубо перебил его Около. Леонтий поморщился:
— Товарищ Околошеев, не беспокойтесь. О вас я тоже скажу.
— А я не беспокоюсь. Только Кольцову не трожь. Слышишь, Рябов, не трожь. А то плохо будет, — с угрозой повторил Около.
Лицо у Леонтия окаменело. Он надменно поднял голову и выставил резко очерченный подбородок:
— Вы думаете, что говорите, Околошеев?
— Раньше не думал, а теперь решил… — ответил Около и, сильно ссутулясь, пошел к сцене.
Наденька вспыхнула, вскочила с подоконника, хотела что-то сказать и не смогла: горло перехватили слезы, и она, закрыв руками лицо, опять села на подоконник.
Около встал напротив трибуны и, сумрачно глядя в надменное лицо Леонтия, спросил:
— Ты думаешь, что в том сарае со мной была Кольцова? Ошибаешься, не она. А знаешь кто? Нагнись, я пошепчу на ушко. — Около поманил пальцем.
Леонтий невольно нагнулся, но тотчас же гордо выпрямился и процедил сквозь зубы:
— Хватит комедию ломать. Здесь не цирк.
Около повернулся лицом к народу и, указывая большим пальцем через плечо на Леонтия, насмешливо сказал:
— А был я в сарае с женой этого оратора.
Все онемели от удивления. Первым опомнился Аркадий Молотков:
— Вот так дуля! Нокаут, Леонтий! Считаю до десяти.
— Ложь! — завопил Леонтий, поднял кулаки и с грохотом опустил их на трибуну. — Ложь!
И в тот же миг вскочила Зина, крича и ругаясь замахала руками:
— Остолоп переученный, пень большеротый! Как я тебя просила не выступать! Что же ты наделал, граммофон бездушный! — Она зарыдала, упала на стул и забилась, как подбитая птица.
Зал грохнул от хохота. Леонтий все еще стоял на трибуне, перебирая листки, мял их и машинально прятал в карман. Наденька сидела какая-то обмякшая, но глаза у нее лучились, и трудно было понять от чего — от слез или радости.
Незаметно легла на землю мягкая северная ночь. Было темно, когда мы возвращались домой. Наденька всю дорогу сокрушалась:
— Зачем он сказал! Зачем он сказал…
Мне это надоело, и я прикрикнул на нее:
— Не ной! Правильно сделал, что сказал. Наденька заступила мне дорогу, схватила за лацканы пиджака и принялась трясти:
— Правильно, правильно… Да что вы понимаете? Он же разбил семью.
— Помирятся.
— Думаешь, помирятся?
— А почему бы им не помириться?
— Если б они помирились!
— Любят — помирятся.
— Никого Зинка не любит и не любила.
— Зачем же она за него вышла?
— Годы. За кого-то выходить надо, — со вздохом ответила Наденька и поправила волосы. — А какую свадьбу мы справили им! Сколько я сил потратила! Зато свадьба была так свадьба, такой в жизни не видели в Апалеве. — Наденька опять вцепилась в мои лацканы. — А вдруг они не помирятся? Это же позор, удар по комсомольской организации, по мне. Я же больше всех старалась.
— Да помирятся они. Все в жизни проходит. Она засмеялась:
— Вы — как бабушка: «Все проходит, внученька. Три ближе к носу, и все пройдет».
В лицо дохнуло сыростью. Мы подходили к Итомле. Вода в реке стояла неподвижно, как в болоте. На той стороне реки лежало черное пустынное поле. Наденька опустилась на сухую, жесткую траву.
— Наверное, будет дождь.
— Вряд ли. Небо чистое.
— Зато росы нет. — Наденька туго натянула на колени юбку и поежилась. — А почему бы им не помириться. Ведь ничего у них не было.
— Как не было?
— Смешного много, серьезного — ни на грош.
— Ну а что же было? — спросил я. Она засмеялась и махнула рукой:
— Ладно, расскажу… Зинка хоть мне и подруга, а до того неумная дура, что поискать. Она давно на Около пялила свои белобрысые зенки. Ну вот и допялилась. Проучил ее Около что надо, с перцем. — И Наденька громко захохотала. — А получилось так. Я в тот вечер опаздывала на картину в малинниковскую бригаду. По дороге до Малинников километров пять. А напрямик через Итомлю и трех не будет. Выскочила я из дому и напрямик по полю. Бегу мимо сарая и слышу: кто-то храпит и взвизгивает, словно его душат. Меня так всю и затрясло. Страшно, но все-таки решилась. Подкралась к сараю, глянула в щель и… обалдела. Около перекинул Зинку через колено, одной рукой зажал рот, а другой нахлестывает по одному месту и приговаривает: «Не модничай — муж есть, не жадничай — муж есть».
Я настежь распахнула дверь и говорю: «Что вы тут делаете?»
Около выпустил Зинку, повернулся ко мне и ухмыляется во весь рот: «Замужнюю молодежь воспитываю».
А Зинка, подлая, одернула подол и на меня — как кошка лезет в волосы. Едва ее оттащил Около. Уж как она меня только не поносила. Выскочила я из сарая и до самых Малинников бежала без передышки. Вот как она меня отчитала. А потом умоляла никому не рассказывать.
Я усмехнулся и покачал головой:
— И эту чужую грязь ты решилась носить?
— Ну и что… Грязь не сало, потряс — отстало. — Наденька вскочила, потянулась, хрустя суставами, и мечтательно проговорила: — Все проходит! Лишь бы они помирились…
Серым печальным утром я покинул Апалёво. Ночью прошел дождь, и дорога была сплошь усыпана мелкими мутными лужами. Около вел машину. Мы с Наденькой тряслись в кузове. В лицо дул прохладный липкий ветер. По сторонам ползли раскисшие поля бурой зяби зеленой озими и молодого клевера. Наденька зябко ежилась под холодным резиновым плащом. Я настойчиво упрашивал ее пересесть в кабину, но она робко улыбалась из-под капюшона, отрицательно качала головой.
Машина покатила по обочине низкого заболоченного луга. Он весь был изрыт ямами, завален черными торфяными кучками. Экскаватор, вытянув длинную тонкую шею, выхлебывал из ям жидкий торф. Он то с лязгом опускал изжеванные стальные челюсти, то поднимал их и тогда из огромного белозубого рта вываливалась непрожеванная черная каша, а по губам, как у неопрятного старика, стекала маслянистая жижа.
Желтым пятном проглянуло солнце. Серый занавес тумана закачался, натянулся, как резина, не выдержав лопнул, разлетелся на куски и, клубясь, пополз от солнца в разные стороны. Наденька сбросила на спину капюшон и протянула навстречу солнцу руки:
— Смотрите, красиво-то, как весной!
Терпеть не могу людей, вслух восхищающихся красотами природы и требующих этого восхищения от других. «Какая березка, что за прелесть, вы только полюбуйтесь, — восклицает разомлевшая дачница. — Да не та же, а вот эта!». А березка обычная, рядом с ней десятки березок, и ничуть не хуже. Сколько в этом восклицании наигранности, саморисования и фальши. Я же просто не могу без этой березки жить. Поле, лес — мой родной дом. И глупо у себя дома восхищаться тем, что десятки лет неизменно перед твоими глазами.
Но возглас Наденьки меня не покоробил. В этом солнечном после дождя сентябрьском утре улавливались трепетные отголоски весны.
Минуту назад все серое, унылое, печальное сейчас сияло, звенело, искрилось и радовалось. Омытые листья берез, осин, еще не желтые, но уже слегка побледневшие, просвечивались насквозь и казались по-весеннему светло-зелеными и липкими. В облаках проталинами синело ласковое небо. И неожиданно, как весной, где-то в болоте на брусничной кочке заболмотал тетерев.
Рыхлое облако заслонило солнце, и сразу же все померкло, по-осеннему пригорюнилось. Один лишь зачарованный тетерев продолжал самозабвенно болмотать, перепутав времена года.
Машина, буксуя, вскарабкалась на глинистый пригорок и стала осторожно спускаться на мост через узкую ленивую, с зеленой водой речушку. И в тот момент, когда под нами загромыхал деревянный настил, заднее колесо, свистя, зашипело, и машина, осев на левый борт съехала с моста и остановилась на обочине дороги. Около выскочил из кабины и, взглянув на смятую покрышку, безнадежно свистнул и зашагал к мосту. Мы пошли за ним. Около молча пошевелил ногой перевернутую байдачную доску и показал острый шестидюймовый гвоздь.
— Ясно. Придется вам пешочком дотопать. Здесь чепуха — километра три.
Я снял с машины саквояж:
— До свидания, Около.
Он осторожно пожал мне руку и кашлянул в кулак:
— Хочу вам пару слов сказать. Можете обижаться — ваше дело. А мое дело — сказать. Могу и не говорить, как хотите.
— Ради бога, говорите. Даже очень рад, — пробормотал я и почувствовал, как вспыхнули уши, — чему радовался, мне и самому было непонятно.
Около сошел с дороги и сел на край канавы Я опустился рядом. Подошла и Наденька, но не села, а остановившись напротив, с удивлением посматривала то на меня, то на Около. Он пожевал сухой стебель василька, сплюнул и нервно потер лоб.
— Зачем вы так… — Около замялся, взглянул на Наденьку и, уставясь на рыжие носки сапог, с трудом выдавил: — Так неубедительно пишете?
Он, видимо, ждал возражений и не отрывал глаз от сапог.
— Я не так выразился. Не смог подобрать нужное слово.
— Да уж ладно, как можешь, — сухо ответил я.
И тут Около прорвало. Он заговорил смело и уверенно. И я понял, что к этому разговору он давно был подготовлен и только ждал случая.
— Я слушал в клубе ваш рассказ. Он мне не понравился. Он никому не понравился. Вы это сами поняли. Плохо вы вообще разбираетесь в жизни. У вас молодая девушка этакой феей-лебедушкой приходит на свиноферму в поисках славы. Неужели вы не знаете, что на свиноферме грязный, тяжелый труд? Хорошо знаете!! Вас Надежда Михайловна таскала по фермам… Любая колхозница понимает, что нелегко ходить за свиньями, но она понимает и другое — что кому-то эту работу нужно делать. И не о славе она думает…
Около умолк и опять уставился на свои сапоги. Наденька, подняв голову, следила за белесыми облаками которые, как сало, затягивали бледно-синее небо. Я взглянул на часы. Около пошевелился, оторвал глаза от сапог и усмехнулся:
— А уж как вы робко трогаете наши недостатки осторожно… пальчиком. — Он пошевелил мизинцем. — Ну вот все, что я хотел сказать. — Около поднялся, в широкой улыбке растянул губастый рот и подал мне руку. — А так вы вообще пишете ничего. Есть, которые пишут хуже…
До станции оказалось не три километра, а добрых пять. И всю дорогу мы молчали. Я был подавлен откровениями Около. Это, видимо, понимала и Наденька. Она шла позади, далеко отстав от меня. Показались серые станционные постройки, водонапорная башня, пронзительно, как коза, заверещала дрезина. Наденька рысцой догнала меня, взяла под руку:
— Простите, Около, он не хотел вас обидеть. Такой уж он непокладистый. Всегда правду напрямик ляпает.
«Вот так утешила», — подумал я.
— Конечно, неприятно, когда правду прямо в глаза, — торопливо говорила Наденька. — Но Около порядочный парень. Прошлой зимой бригадир подбил его махнуть налево машину дров. Продали они дрова. Бригадир в магазин за пол-литром, а Около его за воротник: «Стоп, погоди, сначала деньги в правление сдадим». Приволок бригадира к председателю и говорит: «Вот, привел вора тепленького…» Поэтому-то его все в колхозе уважают…
Поезд по каким-то неизвестным причинам запаздывал. Наденька побежала в город, пообещав скоро вернуться. В большом неуютном вокзале с высоким гулким потолком и белыми скучными стенами было тихо и пусто. Пассажиры, а их было десятка полтора, дремали по углам.
Я сел на громоздкий деревянный диван и попытался вздремнуть. Нет ничего тоскливее ожидать поезда в пустом вокзале, да еще не зная, когда он придет: минуты тянутся часами, и часы — вечностью.
Две женщины за высокой спинкой дивана вели бесконечно длинный разговор на семейные темы. Сначала одна многословно и бестолково рассказывала о проделках мучителя-зятя. Другая, слушая ее, поминутно вскрикивала: «Ахти мне, ирод!» Потом они поменялись ролями. Вторая принялась охаивать молодую сноху, а первая вскрикивать: «Ба-а-а! Ой, лихо мне!» А когда репродуктор местного радиоузла зашипел, пассажиры встрепенулись: хриплый окающий голос дежурного по станции объявил о прибытии поезда.
Началась посадка, а Наденьки все еще не было. Вышел дежурный, ударил в колокол. Протяжно загудел паровоз. На перрон вбежала Наденька и со всех ног бросилась ко мне. Я подхватил ее и крепко обнял, она чмокнула меня в щеку и сунула за пазуху пачку газет. Я вскочил на подножку.
— До свидания! — закричала Наденька и побежала рядом с вагоном. Вагон обогнал ее, Наденька остановилась, закачалась, схватилась за грудь. Поезд набирал скорость, а Наденька, прижимая руки к груди, смотрела ему вслед и кивала головой.
Я прошел в вагон, сел и стал просматривать газеты. В районном двухполосном листке прочитал о себе похвальную статейку. Автор не пожелал открыть себя и поставил под ней две буквы: «Н. К.». «Н. К., Н. К., — повторил я и грустно улыбнулся. — И здесь ты, Наденька, осталась верной себе, сделать человеку что-то доброе, хорошее и отойти в сторонку. Сколько ты людям приносила добра и всегда оставалась незамеченной. Желала другим счастья, старалась им помочь, найти и сохранить его и искренне радовалась чужому счастью. А когда ж ты будешь радоваться своему? Неужели так будет до конца? Это же страшно несправедливо. И я не верю этому и горячо протестую. Наденька будет счастлива! Может быть, не скоро, но обязательно будет. Это неписаный закон жизни. Вероятно, моя философия слишком старомодна и по-детски наивна. Но если кто-то насмеется над ней, он также насмеется и над Наденькой».
Я вынул из саквояжа объемистый сверток. И чего только в нем не было: и яйца, и пшеничные, теплые еще пышки, пирожки, масло, кусок домашнего окорока, банка варенья и даже соленые огурцы.
«Боже мой, Ирина Васильевна! — мысленно воскликнул я. — На неделю хватит. А ехать-то мне всего каких-то семь часов».
Прощаясь со мной, Ирина Васильевна пообещала еще пожить года два-три…
Старушка не сдержала своего слова. Ирина Васильевна умерла той же осенью, и, как мне рассказывала Наденька, внезапно и без хлопот. «Истопила бабушка печь, прибралась в доме, прилегла на кровать. Полежала немножко, зовет меня. Я подошла. Лежит она строгая-строгая и говорит мне: «Я сейчас помру. А чтоб тебе не было страшно, сбегай за соседкой». Пока я бегала бабушка отошла…»
Около сам строгал гроб, копал могилу и поставил на кладбище синюю оградку с кустом сирени и голубой скамейкой.
И все по-новому пошло в доме Кольцовых. Мой приезд их не огорчил, да и не обрадовал, он был просто ни к чему.
Когда я подходил к дому, Около скатывал с прицепа сосновые бревна. Увидев меня, он кивнул, словно мы накануне виделись, и позвал Наденьку. Она выскочила на крыльцо, обвязанная полосатым фартуком. Наденька вытерла о фартук мокрые руки и, смущенно улыбаясь протянула:
— Надо же! Вот не гадала!.. А мы строиться надумали. Дом-то совсем трухлявый. Того гляди развалится, — озабоченно сказала она и поджала губы, и тут же спохватилась: — Ой, что же я лясы точу, а там картошка горит. Хоть разорвись с этим хозяйством.
Она бросилась в дом и сразу вернулась.
— Что же вы стоите? Заходите. Завтракать будем Около, кончай возиться. Слышишь, что я говорю! — прикрикнула Наденька.
— Слышу, не глухой, — сквозь зубы процедил Около и сильным толчком лома спустил на землю бревно.
— Подумаешь, не глухой, — запальчиво проговорила Наденька и прищурилась. — А почему ты так со мной разговариваешь? Кто я тебе, а?
— Хватит дурачиться… Иду, — проворчал Около Бросил лом и пошел умываться.
Наденька, доказав мне, что Около у нее покорный муж, а она хозяйка ужасно строгая, притворно вздохнула и пожаловалась:
— Грубый он еще у меня. Учу-учу, а все без толку.
Сразу было видно, что в доме командуют молодые, и командуют по-своему. Стол на кухне был заставлен чугунами, мисками, завален картофельной шелухой. В уголке у зеркала сидел Алексей Федорович. Он не изменился: щеки по-прежнему румянились, и глаза по-детски улыбались. В «чистой половине» избы был полный развал, словно хозяева куда-то поспешно собираются уезжать. Посредине комнаты стоял раскрытый чемодан, ящики комода все были выдвинуты, на диване лежала куча белья, а поверх ее, вытянувшись, спала кошка. На столе, на стульях, на окнах — везде валялись книги и патефонные пластинки.
Вошел с мокрым лицом Около, стал искать полотенце, не найдя, вытерся наволочкой.
— Около, очисти стол, — приказала Наденька. Около перетаскал к печке чугуны с мисками, протер мочалкой клеенку, и мы сели завтракать.
Молодая хозяйка с лихвой доказала, что влюблена по уши. Суп был пересолен, картошка пережарена, а молоко кислое.
— Корову сдали в колхоз. Кому с ней возиться? А молоко берем с фермы. И вот каждый раз скисает Отчего — не пойму! — оправдывалась Наденька.
— Бидон надо чисто мыть и прожаривать, — веско заметил Около.
— А ты сиди, лопай и не суйся в бабьи дела. А то вот порсну ложкой по лысине. — Наденька перегнулась через стол, легонько стукнула мужа по лбу, а потом с удовольствием облизала ложку.
Да, все здесь было по-другому: от повадок Ирины Васильевны не осталось и следа. Словно ворвался ураган, перевернул все, взбудоражил и выдул из старого кольцовского дома тихий, убаюкивающий покой. Молодые жили безалаберно, но весело, ели что попадет под руку, зато с аппетитом, часто ссорились, но тут же мирились.
— Ну а как же теперь с общественной работой, Наденька? — спросил я.
Около безнадежно махнул рукой:
— По-прежнему носится как угорелая. Зато видели какой в доме порядочек…
Наденька вспыхнула, вскочила, смахнула с ресниц слезу и обиженно прошептала:
— Бессовестный, ну какой же ты бессовестный! Сам же знаешь: у меня стирка!
— Что-то она больно затянулась. Как в колхозе посевная.
— Неправда, неправда. Позавчера только начала. А ты черствый, бездушный и… и…
Думать, подбирать слова ей страшно мешала бурная радость, она старалась быть грозной, а была смешной и трогательной, она хотела казаться несчастной, а сама вся сияла, залитая мягким, теплым светом, тем светом который раньше лишь изредка на минуту вспыхивал на ее некрасивом лице. Она была безмерно счастлива… Чего же еще надо!
1961





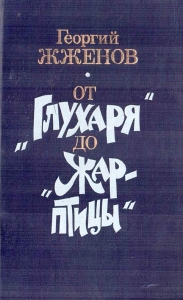
Комментарии к книге «Наденька из Апалёва», Виктор Александрович Курочкин
Всего 0 комментариев