Константин Паустовский Бросок на юг
ВОЙНОЙ ВЗВОЛНОВАННЫЙ КАВКАЗ. Предисловие Вадима Паустовского
Первая публикация повести – в № 10 журнала «Октябрь» за 1960 год. Отдельной книгой вышла в издательстве «Советский писатель» в 1961 году. С тех пор, на протяжении уже почти сорока лет, книга отдельно не переиздавалась ни разу. Оформителем книги был художник Кирилл Зданевич. И не случайно. О нем читатель узнает из текста самой книги, и, я думаю, у нас будет еще повод поговорить о его судьбе и взаимоотношениях с отцом в разные периоды их жизни.
В «Броске на юг» – пятой части автобиографического цикла «Повесть о жизни» – отражен короткий, но насыщенный событиями и встречами отрезок жизни автора, охватывающий 1922 – 1923 годы. Действие в основном протекает на черноморских берегах Кавказа: Сухуми, Батуми, Тбилиси, переезды и поездки по Закавказью. Тогда эти города назывались по-иному – Сухум-Кале, Батум, Тифлис.
Повесть написана зрелым автором, на пике его творчества. Черновые рукописи занимают четыре общие тетради. Написана за десять месяцев напряженной работы, преимущественно она происходила в Ялте, в доме творчества. На обложке рукописи проставлена дата написания: «сентябрь 1959, Ялта – июнь 1960, Таруса». Само название книги менялось Паустовским несколько раз – можно привести такие, как «Войной взволнованный Кавказ», «Трехпогибельный Кавказ», «Бросок в страну» и даже «Дорога народов», пока автор не остановился на наиболее правильном с точки зрения канвы «Повести о жизни»: «Бросок на юг».
Если говорить вообще о названиях частей автобиографической повести К. Паустовского и их вариантах, нельзя не отметить их неувядаемой сущности. До сих пор мы как бы живем во «времени больших ожиданий», Кавказ все так же взволнован войной, как и прежде, и «На медленном огне» – первое название «Книги странствий» заключительной повести, части цикла, – сегодня не теряет своей актуальности в нашей жизни.
Заголовки отдельных глав повести тоже менялись многократно, и это говорит о взыскательности писателя. Грузинская исследовательница Ия Адеишвили из Кутаиси несколько месяцев провела в Центральном государственном архиве литературы и искусства за работой над рукописями «Броска на юг». Приведу несколько ее наблюдений.
«В первой тетради – черновики от главы «Несколько авторских замечаний» до «Берегового приюта»… Во второй – главы от «Военнопленного Ульянского» до «Над слоем льда» (в печати – «Намек на зиму»). Эти тетради содержат 188 листов…
Третья тетрадь начинается с описания квартиры Зданевичей и включает главы «Человек из народа» (получившую в конце концов название «Клеенки Пиросмани»), «Каждому свое», «Еще одна весна» и «Библейская пыль»; последнее заглавие перечеркнуто, и рукой автора вписано новое название – «Мгла тысячелетий». В конце тетради, на обложке, имелись некоторые замечания писателя о том, что следовало заменить имена героев Заремба, Лобия и т. д.
Последняя тетрадь открывается главой «Все это выдумки»… В поисках заглавий отдельных глав-рассказов К. Паустовский, как правило, пробовал несколько вариантов и лишь после тщательных раздумий оставлял наиболее удачное… 13-я глава имела два заглавия – «Собеседник сердца, жизни» и «Веселый попутчик». Первое заглавие писатель перечеркнул, 19-я и 21-я главы-рассказы имели по три заглавия. Например, «Новый 1923-й год», «С Новым годом!» и «Находчивый гражданин Лобия». Все эти заглавия оказались неудачными, и К. Паустовский заменил их иным – «Новогодняя ночь». Из трех заглавий 21-й главы – «Под слоем льда», «Тончайший лед», «Намек на зиму» – осталось последнее».
«Кавказский» период жизни К Паустовского постоянно был насыщен литературным трудом. Распрощавшись с Одессой, К Паустовский, ответственный секретарь «Моряка», не порвал с редакцией профессиональных, деловых связей. Он получил мандат собственного корреспондента газеты, и его очерки, зарисовки, репортажи регулярно появлялись на страницах этого издания вплоть до 1927 года, даже когда он работал в московских газетах и журналах. Кроме того, Паустовский имел от редакции «Моряка» ряд дополнительных поручений, в частности ему предлагалось наладить выход морских газет в портовых городах Черноморского побережья.
Эту задачу К. Паустовский реализовал. В Батуми стала выходить газета «Маяк», к участию в которой он привлек местные литературные силы, да и сам активно печатался.
Издание на юге России второй газеты для моряков вполне отвечало внутреннем устремлениям самого Паустовского, поэтому он так активно принялся за дело. Кроме того, он сотрудничает в батумской газете «Трудовой Батум», а приехав в Тбилиси, пытается за короткий срок улучшить выпуски газеты «Гудок Закавказья».
Помимо утомительной газетной работы, К. Паустовский настойчиво готовит себя к писательству. Рукопись романа «Мертвая зыбь» (в последующем «Романтики») дополняется новыми страницами, на новом материале рождаются первые его рассказы: «Лихорадка», «Этикетки для колониальных товаров», «Концерт в Вардэ», «Соус керри»… По возвращении в Москву эти рассказы лягут в основу первых книг Паустовского.
Многие возникшие в 1922—1923 годы знакомства, симпатии и антипатии отца наложили отпечаток на его дальнейшую жизнь и творчество.
Мне хотелось бы сейчас остановиться, хотя бы вкратце, на одном из таких знакомств.
В Тбилиси произошла романтическая встреча моего отца с молодой художницей Валерией. Через десять лет родители расстанутся, а второй женой отца станет эта женщина. В «Броске на юг» она фигурирует под именем Мария. Подробнее об этих драматических переплетениях судеб я расскажу позже, в конце книги.
Отдельного разговора заслуживает и тема Петра Петровича Шмидта в творчестве Паустовского. К этой легендарной личности, замусоренной советскими штампами, Паустовского влекло на протяжении всей его жизни.
Еще в сентябре 1917 года в еженедельнике «Народный вестник» появился небольшой очерк двадцатипятилетнего журналиста «Лейтенант Шмидт». Очерк состоял из трех эскизов: впечатления от острова Березань, места казни Шмидта, описания прохладного летнего дня в затерянном уезде Орловской губернии, когда автора «словно острой бритвой полоснуло по сердцу», так как в альбоме с открытками он увидел фотографию Шмидта и рядом «его Клятву». Он пишет: «…Гудели под ветром сосновые леса. Хотелось думать о нем, о человеке, создавшем из своей жизни одну из самых сильных и печальных легенд». И, наконец, третий эскиз – Севастополь 1916 года. «Тогда я понял, что Шмидт – это человек, рожденный и воспитанный морем. Море приучает глаза к широким горизонтам и приучает ум к смелым и свободным построениям…»
Так все эскизы объединены образом человека, моряка, уверенного, как упоминает отец, что он принимает смерть у пограничного столба «между рабской и свободной Россией». И который «перед смертью так трогательно и просто вспомнил Христа».
В этом раннем очерке угадываются черты и зрелого Паустовского.
Вторым обращением к Шмидту стал рассказ «Три страницы». Он был опубликован в журнале «Рупор» в конце 1925 года. Наиболее объемно фигура Шмидта выписана Паустовским в повести «Черное море» (1936 год), в конце тридцатых годов по заказу Театра имени Вахтангова работает над пьесой о Шмидте.
К разговору об этом я еще вернусь…
Вадим Паустовский
Короткое объяснение
Эта книга – пятая по счету из автобиографического цикла «Повесть о жизни». В ней мне пришлось «по ходу пьесы» отойти от России и перенести действие на крайний юг – на Кавказ и в Закавказье.
Снова я попал в края, где только что установилась Советская власть. Так случилось, что все время я с большими перерывами догонял движение революции на юг. По этой причине ее развитие представляло для меня не прямую линию, а причудливые петли и возвраты. Пережитое год назад возвращалось, но в ином виде и с разными добавочными событиями.
Я оторвался от России почти на два года. Но не жалею об этом: я многое за это время узнал.
Событий и людей в книге много, но все же гораздо меньше, чем было в действительности.
По довольно разумным законам драматургии пьесы обычно делятся на несколько точных частей.
Вначале – экспозиция, то есть введение читателя и зрителя в круг людей, событий и пейзажа. Затем – развитие действия, после чего наступает кульминация – высший подъем, взрыв, самая напряженная часть пьесы. Тогда зрители начинают волноваться, привстают в креслах и даже вскрикивают.
В кино типичнейший пример кульминации – это погоня. Эти бешено скачущие всадники (чтобы убить врага или спасти любимую девушку) обошлись мирной, в особенности юной части человечества, довольно дорого и истрепали уйму нервов.
К сожалению, мы не знаем, как измеряется истрёпанность нервов. В наш нервический век наука еще не дошла до того, чтобы найти способы этого измерения.
Подлинная жизнь, описанная мною, как это ни кажется странным, сама по себе сложилась в те годы по законам драматургии.
Первая книга («Далекие годы») может быть названа экспозицией, неторопливым введeнием к повествованию; вторая («Беспокойная юность») дает развитие действия; третья и четвертая («Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий») соответствуют наибольшему напряжению, а пятая («Бросок на юг») приносит с собой некоторую разрядку. Это всегда происходит и в пьесах. Драматург делает разрядку, чтобы зритель немного отдохнул. А затем подходит закономерный конец.
Здесь сама жизнь устроила разрядку, некоторое отступление от основной темы. Она перенесла автора на Кавказ с его пестротой событий, людей и природы и, кроме того, наполнила жизнь южным жизнелюбием и юмором. На юге он не иссякает ни при каких обстоятельствах и не отступает ни перед чем.
Конст. Паустовский
Благодарность читателю
Эту книгу я хочу начать с благодарности одному из читателей – отставному капитану первого ранга А. И. Малову, живущему в Севастополе.
Капитан Малов проверил в предыдущей автобиографической повести «Время больших ожиданий» все, что имело хотя бы косвенное отношение к морю, и прислал мне несколько замечаний.
Обширные и живые познания капитана в морском деле придают его замечаниям характер коротких морских рассказов. В письме капитана включены своего рода небольшие исследования о цвете берегов северо-западного Крыма, о так называемой «башне Ковалевского» под Одессой, служившей путеводным знаком для штурманов, о многих подробностях морского дела, настолько интересных, что из них неизбежно рождается морской романтизм.
Я приведу без всякого выбора всего три замечания, присланные мне капитаном. Из этих замечаний каждому станет ясно, как человек относится к своему делу.
Прежде всего, он его уважает и не терпит по отношению к нему легкомыслия.
В одном месте книги я взял в кавычки слово «лоция». Это сейчас же вызвало справедливое возражение старого моряка: «Не надо принижать лоцию и брать ее в кавычки».
В другом месте я опрометчиво написал, что Тарханкутский мыс и маяк с давних пор пользуются дурной славой среди моряков. Мой капитан по этому поводу замечает: «Это правильно. Но зачем вы упоминаете маяк? Мыс – это да! А спасительный, предупреждающий, ориентирующий маяк, хотя и носящий (нелюбимое моряками) имя Тарханкутского, не вспоминается лихом. Моряки маячные огни почитают, а вот мысы, узости и другие навигационные опасности не славословят».
И, наконец, совершенно трогательно выглядит заступничество капитана за обиженный мною пароход «Пестель».
Несколько раз я плавал на «Пестеле», привык к нему и даже полюбил его. В первые годы Советской влаcти он единственный поддерживал связь между Кавказским побережьем и Россией.
Но я написал, что «Пестель» был дряхлый и тесный пароход – такой же, как и старая посудина «Димитрий» (эта последняя так называемая морская «коробка» сделалась одним из неодушевленных героев книги «Время больших ожиданий»).
Эти мои слова вызвали ответ капитана:
«Вы слишком одряхляете «Пестеля». Он был иным, чем «Димитрий». Он был моложе, мореходнее и иной корабельной архитектуры. За свой внешний вид, удивительно красивое строение корпуса, рангоута и надстроек «Пестель» у всех моряков торгового и военного флота пользовался глубоким уважением, симпатией и даже особой любовью.
«Пестель» погиб в 1943 году. Он был торпедирован в районе Анатолийского побережья. До 1941 года он плавал на линии Одесса – Батум, а с наступлением войны стал транспортом. Память о нем жива среди старых черноморцев».
Заканчивая это небольшое вступление к книге, я хочу пожелать каждому писателю таких взыскательных читателей, как капитан Малов.
И вместе с тем я не могу удержаться, чтобы лишний раз не позавидовать капитану, за то, что он живет в Севастополе, и лишний раз не написать об этом колдовском городе.
Пишу я это в Ялте. Пишу медленно, часто откладываю перо, и думаю, что на днях я непременно поеду в Севастополь.
В Севастополе меня встретит знойная осень. В узкой тени от подпорных стен еще будет зеленеть пыльная трава. Я не знаю даже, как называется эта курчавая скромная трава. Она довольствуется одной росой и героически переносит палящее севастопольское лето. К тому же она издает приятный слабый запах. Он напоминает запах перегоревших от солнца черных водорослей, которыми бывают усеяны пустынные пляжи. Эти водоросли покрыты мельчайшими крупицами соли. Если растереть веточку такой водоросли пальцами, то она рассыплется в бурый порошок.
Сейчас над Севастополем нависла жара. Кажется, что кто-то невидимый осторожно налил ее во все севастопольские улицы и дворы до уровня черепичных крыш. Под слоем этой тяжелой жары требовательно звенят в своих подземельях цикады.
В Севастополе можно часами сидеть на Историческом бульваре, томясь от духоты, и вдруг глубоко вздохнуть, когда нежданный ветер прорвется по невидимому фарватеру среди стен, оград, памятников, остатков бастионов, кустов акации и ударит в лицо. Это спасет вас от обморочной слабости и напомнит, что рядом за Корабельной стороной, за Братским кладбищем брызжет волной Черное море.
Севастопольские бухты врезаны в ноздреватые берега, как в окаменелую губку. На этом губчатом песчанике растут, вытягиваясь из щелей, слабые колоски, а иной раз и вылинявшие цветы величиной со спичечную головку. Очевидно, в растительном мире их считают карликами. А может быть, детьми.
Я человек с длинной жизнью. Мне пришлось пережить почти все, что может случиться на свете с человеком того возраста, когда, по словам Есенина, «пора уже в дорогу бренные пожитки собирать». И вот я завидую этим колоскам, потому что дни, недели и месяцы они стоят над морем немыми свидетелями жизни. И никто от них нe требует обязательного выражения своих чувств.
Мне даже кажется, что для них время движется медленнее, чем для нас, и они – неподвижные – видят мир спокойнее и лучше, чем мы.
Что касается меня, то я всю жизнь переходил от непрерывной деятельности к жажде того состояния, когда «студеный ключ, играя по оврагу и погружая жизнь в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда льется он».
Да, иной раз я хотел испытать хотя бы ничтожную долю состояния, когда погружаешься в какой-то смутный сон. Но я хорошо знал, что такое состояние только называется сном. На самом же деле оно наполнено плодоносным напряжением.
Я завидовал колоскам. Перед ними медленно сменялись рассветы и полудни, вечерние зори, белое качание теплоходов в шумящих водных далях, лучи солнца, бьющие из-за туч, мелкая роса, похожая на светящуюся манну, и звезды, подобные большой росе.
Перед этими ничтожными травинками все время проходили разные мгновения жизни в их подлинном великолепии. И все это возвращалось каждый раз при наступлении нового дня.
Но зависть быстро умирала, когда по ту сторону Южной бухты проносились в сумерках и гасли в туннеле огни скорого поезда. Эти огни уводили от архаической мглы Херсонеса и Инкермана, от диких обрывов мыса Айя и Фиолента туда, на север, где, должно быть, уже сыпались, наполняя воздух горечью, желтые березовые листья.
Я думаю, что мир в равной степени достоин медленного плодотворного созерцания и разумного и мощного действия. Созерцание – одна из основ творчества и любви к земле, в первую очередь к своей, отечественной.
Я вижу, что разговор о Севастополе начинает заводить меня слишком далеко. Поэтому я обрываю его и перехожу к повествованию.
Знатоки литературы, не пишущие книг, утверждают, что повествованию нужна железная последовательность. Пишущим книги остается только принять на веру этот закон и постараться выполнить его.
Табачная республика
Когда «Пестель» стоял в Новороссийске, на город начал надвигаться норд-ост[1]. Появился первый признак этого бесноватого ветра: по горам протянулось облако, похожее на жгут грязной ваты. Сами же горы напоминали мертвых верблюдов с выпершими из-под пыльной шкуры ребрами.
Ватный жгут разворачивался, сползал с гор и нес с собой ветер. Надо было отваливать, пока норд-ост не успел еще обрушиться на порт. Ветер уже злорадно подсвистывал в снастях и начисто выплескивал из луж беловатую воду.
«Пестель» снялся и полным ходом начал уходить в море, к югу. По свидетельству моряков, норд-ост по мере удаления от Новороссийска быстро ослабевает и теряет свою разрушительную силу.
Нам удалось уйти от норд-оста.
Ночью я проснулся, увидел за иллюминатором в низком мраке озябшие огни Туапсе и снова уснул.
Засыпая, я думал, что, судя по началу, не стоит ждать от Кавказского побережья ничего особенного. Но утреннее мое пробуждение оказалось почти феерическим.
Я проснулся и долго лежал, не открывая глаз, ощущая у себя на лице чьи-то теплые ладони. От них пахло цветущей мимозой.
Это был, конечно, утренний бриз. Он заполнил каюту, лениво бродил по ней и прикасался ко всему, что попадалось ему на пути, в том числе и к моим щекам.
Сквозь полусон я вспомнил, что вот уже пятый день не брился и наверняка исцарапаю своей щетиной эти милые ладони. Мне стало стыдно, я решил тотчас побриться, и, должно быть, от этого окончательно проснулся.
Позванивала якорная цепь. С палубы доносились обычные портовые возгласы: «Вира, чертов банабак! Майна помалу!»
Наконец я открыл глаза. За иллюминатором блистало солнце, занявшее половину неба и половину моря и как бы приблизившееся к земле. В его победоносном свете качалась снаружи живая стена роскошной растительности.
На нее то тут, то там были брошены разноцветные мазки из киновари, чистейших белил и охры. Я закрыл глаза, помотал головой и, снова открыв глаза, убедился, что это не мазки масляной краски, а разбросанные по листве незнакомые цветы.
– «Что это? – спросил я себя и сел на койке. – Мираж? Или остров Таити? Или райские острова Самоа?»
Нет, это не было ни миражем, ни островом Таити, ни галлюцинацией после мрачной ночи. Я услышал за иллюминатором хрипловатый голос второго помощника капитана:
– Ни-ко-го! – сказал он решительно. – Никого не спустим на берег. Ясно? Хоть самого Шолом-Алейхема. Приказ правительства Абхазской республики! Точка! Так что можете полюбоваться Сухумом с палубы и не полировать себе кровь. Еще, даст бог, поживете на свете и увидите все, что вам надо увидеть, и даже то, чего вам совсем не надо бы видеть.
Я быстро оделся и вышел на палубу. Блеск медных пластинок, набитых на ступеньки трапа, ослепил меня. Короткое головокружение заставило схватиться за поручни.
С берега наплывали терпкие запахи, сливаясь с чуть ощутимым шелковистым веянием роз.
Запахи то сплетались в тугой клубок, сжимая воздух до густоты сиропа, то расплетались на отдельные волокна, и тогда я улавливал дыхание азалий, лавров, эвкалиптов, олеандр, глициний и еще множества удивительных по своему строению и краскам цветов.
Я решил сойти на берег в Сухуме, чего бы это ни стоило. И не только сойти, но и остаться здесь.
Мне казалось, что если я сойду, то сбудутся мечты моего детства. Мечты о том, чтобы на худой конец хотя бы прикоснуться к ворсистым стволам кокосовых пальм, к изумрудной коре бамбука – всегда холодной и глянцевитой, к земле, розовой от кораллового песка.
Такие мечты я, когда был еще мальчишкой, называл, подражая маме, «несбыточными». Это слово я часто слышал от нее, когда она сердилась на отца. Она даже кричала на него. Когда же он, сгорбившись, покорно уходил из дому, чтобы избежать постоянных попреков, то мама плакала от жалости к нему и брала с меня слово, что я буду всю жизнь любить его и беречь, как ребенка. «Я не могу смотреть на его сгорбленную спину», – говорила она с отчаянием.
Но ни она, ни я и никто из близких не уберегли его. Это мучило маму до самой ее смерти.
В детстве я, конечно, не испытывал никакой горечи от «несбыточного». Да и не мог испытывать. Я только догадывался, что это чувство очень грустное и что оно, как однажды сказал отец, опустошает ни в чем не повинное человеческое сердце.
Когда я был уже восьмиклассником, я нашел в письменном столе у отца узкие полоски бумаги, исписанные его рукой. Я смог разобрать только одну фразу о том, что несравненно тяжелее пережить несбывшееся, чем несбыточное.
С тех пор слабая печаль о несбывшемся почти не оставляла меня, несмотря на мой внешне веселый характер. С тех пор меня в жизни привлекали больше всего такие случаи, обстоятельства и люди, которые оставляли ощущение промелькнувшей небылицы.
Я понял смысл отцовских слов и еще больше полюбил его, но уже на том страшном отдалении, на каком мы с ним находились сейчас. Он лежал в потрескавшейся от засухи земле, среди колючего чертополоха на деревенском кладбище под Белой Церковью, а я скитался по свету один.
Мы навсегда потеряли друг друга. Но я еще хоть изредка мог вспоминать о нем. А он меня не мог даже вспомнить.
Я твердо решил остаться в Сухуме. Но как это сделать? «Пестель» стоял на якоре далеко от берега. Только две широкие турецкие лодки (их назвали «магунами») были пришвартованы к его борту. С них лебедкой грузили на «Пестеля» обшитые холстиной тюки табака. На берег никого не пускали из-за объявленного абхазскими властями загадочного карантина.
Я пошел к капитану и сказал ему, что мне нужно, как сотруднику «Моряка», хотя бы на час съехать на берег. Капитан поморщился.
– Надо поговорить со смотрителем порта, – сказал он. – Тяжелый мужчина. Ну, все равно. Пойдемте.
Смотритель порта – человек с рыжими, как прокуренные усы, бровями – решительно и грубо отказался пустить меня на берег.
– Кредит, – сказал он грозно, – портит отношения.
При чем здесь был кредит, я не понял.
Капитан настаивал, и смотритель порта, наконец, сдался.
– Можете выкатываться, – сказал он мне, – но только в том виде, в каком вы сейчас стоите передо мной. Без чемодана, без всякого барахла и даже без кепки. И прямо отсюда на берег, не заходя в каюту.
– Почему? – спросил я, хотя прекрасно понял, что смотритель боится, как бы я не захватил в каюте деньги и не остался в Сухуме.
– Я имею привычку, – ответил он, – обижаться на лишние расспросы. Если согласны, спускайтесь в магуну. Она сейчас отвалит. А следующей магуной вернетесь. Популярнее объяснить не могу.
Я слез в магуну по веревочному трапу. Пока я еще не представлял себе, как вывернусь из этого затруднения с Сухумом. Меня успокаивало лишь то, что все деньги были при мне. Чемоданом я решил пожертвовать: там ничего ценного не было, кроме трех чистых рубах. Рукопись своей первой повести, «Романтики», я оставил в Одессе.
В магуне першило горло от табачной пыли. Через борт лениво заглядывала малахитовая волна. Грузчики-абхазцы с хищными лицами яростно кричали. Пыльные мешки были гордо обвязаны вокруг их голов.
Мне показалось, что грузчики собираются выбросить меня в море. Но смотритель порта крикнул им что-то по-абхазски. Они сразу успокоились и даже угостили меня табаком «самсун».
От этого табака у меня на несколько секунд остановилось дыхание. Солнце завертелось в небе. Абхазцы сочувственно покачали головами и нехотя взялись за тяжелые весла. Магуна поползла, переваливаясь, к таинственному берегу.
Для того чтобы понять, что происходило в то время в Сухуме, нужно рассказать про общую обстановку на том клочке кавказского берега, где простиралась у подножия гор душная и маленькая Абхазия.
Советская власть в Абхазии была установлена совсем недавно. Старое перемешалось с новым, как перемешиваются вещи в корзине от сильного толчка.
Конечно, только молодостью Советской власти объяснялись все те казусы и удивительные положения, какие возникали в тогдашней Абхазии и напоминали нравы маленькой южноамериканской республики, описанные веселым пером О'Генри в его книге «Короли и капуста».
Первое время своей жизни в Сухуме я постоянно терял веру в действительность того, что происходило вокруг. У меня как бы расшаталось чувство времени и обстановки.
Если бы я увидел тогда на рее шхуны «Три брата» контрабандиста в крепко просмоленной петле, я бы, пожалуй, не очень удивился. Если бы в заливе остановился круглый бронированный монитор времен войны между северными и южными штатами и начал швырять на Сухум ядра, маленькие, как дыньки-канталупы, я не был бы особенно поражен.
Если бы моя сухумская хозяйка, семидесятилетняя мадемуазель Генриетта Францевна Жалю[2], бывшая гувернантка, оказалась бывшей любовницей бывшего владетеля Абхазии светлейшего князя Ширвашидзе, то в этом тоже не было бы ничего особенного. Я продолжал бы невозмутимо нить чай с подаренным мне престарелой мадемуазель кислейшим в мире кизиловым вареньем. Сироп этого варенья напоминал кровь горного заката.
Что же происходило в Абхазии на самом деле? Маленькая страна, тесно зажатая с трех сторон областями, где люди умирали от сыпняка, решила спастись самым доступным и нехитрым способом – отрезать себя от остального мира и следить, чтобы ни одна мышь не перебежала границу.
Сделать это было сравнительно легко. С севера Абхазию отгораживал Главный хребет. Единственный Клухорский перевал в то время был непроходим: вьючная тропа в нескольких местах обрушилась. Днем и ночью без устали сползали и дымили по обрывам лавины.
С севера, со стороны Сочи, и с юга, со стороны Аджарии, шоссе и мосты были взорваны во время гражданской войны и загромождены множеством осыпей и обвалов.
Оставался единственный путь – море. Но на море не было пароходов, если не считать «Пестеля».
Всего легче было объявить карантин против сыпняка и никого не пускать с парохода на берег. Так местные власти и поступили.
А между тем по всему Черноморью и соседним землям ширился слух о существовании на кавказском берегу маленького рая с фантастическим изобилием продуктов и волшебным климатом. Все рвались в этот рай, но он был наглухо закрыт.
Этот рай назывался Абхазией. О ней мало знали в то время. О ней почти не было ни газетных статей, ни книг, и, кроме чеховской «Дуэли», не было напечатано ни одного рассказа, действие которого происходило бы в Сухуме.
Для меня все в Абхазии было тогда чужим – и горы, и реки, и растительность, и народ.
Огромные горные вершины – их имен я еще не знал – отчётливее всего выделялись на закатах. Их ледяные зубцы тлели густым жаром заходящего солнца.
Первое время мне с непривычки казалось, что исполинские эти хребты медленно двигаются с северо-запада на юго-восток, как бесконечная вращающаяся панорама.
Чтобы избавиться от этого ощущения, я взглядывал на что-нибудь вблизи себя: на дома, на камни под ногами, – тогда горы вдруг останавливались.
Это первое, даже несколько зловещее впечатление от гор прошло только весной, когда я попал в глубь Абхазии и увидел горы во всей силе буковых лесов, в кипении пенистых рек, в размахе растительности.
У меня в Сухуме не было знакомых, и я часто бродил по окрестностям города один. Отходить далеко я не решался.
По словам старожилов, в десяти километрах уже начинался встревоженный войной и междоусобицей Кавказ. На любом повороте горной дороги можно было получить пулю в спину или погибнуть под внезапным обвалом.
Успокоение приходило на Кавказ медленно, исподволь, только с приходом Советской власти.
Поэтому дальше реки Келасуры, впадавшей в море в пяти километрах от города, я не ходил. Но и эта река был полна загадок.
На поворотах Келасура намывала маленькие песчаные косы. Они горели под солнцем, как золотой песок.
В первый раз, попав на Келасуру, я намыл из этого берегового песка горсть темно-золотых чешуек – веселых и невесомых. Но через час они почернели и стали похожи на железные опилки.
В Сухуме мне объяснили, что это не золото, а серный колчедан. Но все же я его не выбросил, а высыпал горкой на подоконник. Я наивно надеялся, что под лучами солнца колчедан снова начнет излучать золотой блеск. Но этого не случилось.
Растительность тоже была загадочной – и древняя, существовавшая в Абхазии тысячи лет, и новая, пересаженная из Японии, Италии, Индии, Полинезии и других стран. Первыми на сухумском берегу развели эту заморскую растительность ученые-ботаники и местные плантаторы-садоводы.
Растительность поражала головокружительными запахами, причудливыми формами и громадными размерами.
За домом мадемуазель Жалю – последним домом в городе на горе Чернявского – стояли заросли высоких и душистых азалий. В этих зарослях прятались шакалы. От запаха азалий болела голова.
Позади этих азалиевых полей темнела стена лакированной бамбуковой рощи. При малейшем ветре листья бамбука не шумели, как наша северная листва, а перешептывались. Если же ветер усиливался, то листья извивались, как маленькие змейки, и тихо свистели – тоже как маленькие злые змейки.
И абхазцы казались загадочными. Большей частью это были люди сухощавые и клекочущие, как орлы. Они почти не слезали с седел. Кони, такие же сухощавые, как и люди, несли их, перебирая тонкими ногами.
Почти у всех абхазцев были профили, достойные, чтобы их отлить из бронзы.
Мужчины отличались гордостью, вспыльчивостью, рыцарской честностью, но были угрюмы и неторопливы. Работали женщины. В тридцать лет они уже выглядели старухами.
Я часто встречал женщин на дороге из горных селений в Сухум. Они брели, согнувшись, касаясь одной рукой земли, едва дыша под тяжестью мешков с кукурузой или вязанок хвороста. А впереди на лоснящихся конях ехали, подбоченясь, мужчины – мужья, а иной раз сыновья и даже внуки этих женщин. Пояски с серебряным набором сверкали на их тонких черкесках.
Они проезжали мимо с бесстрастными лицами признанных красавцев. Но все же им было не по себе. Я сужу об этом по тому, что они не выдерживали осуждающего взгляда, отворачивались и пускали коней вскачь.
Я пытался помочь женщинам, иногда совсем маленьким девочкам, но женщины так шарахались от меня и у них появлялась в глазах такая испуганная мольба, что я перестал помогать, понимая, что от этого им будет хуже.
Когда-то многие из этих женщин были, очевидно, красивыми. Судить об этом можно было только по глазам и пальцам. Женщины на ходу прикасались пальцами к земле, как бы отталкиваясь от нее: должно быть, так было легче тащить непосильную ношу.
Иногда я замечал у какой-нибудь старухи тонкие и нервные губы или молодой блеск глаз, и тогда становилось ясно, что эта женщина – совсем не старуха. Старухой ее сделала вьючная жизнь.
Изредка женщины останавливались и вытирали тыльной стороной кисти слезящиеся глаза. Но то были слезы не горя и обиды, а бесконечной усталости.
Среди тогдашней мешанины нового и старого самым удивительным, на первый взгляд, было существование в Сухуме свитского генерал-адъютанта, бывшего феодального владетеля Абхазии и, как говорили, морганатического мужа старой государыни Марии Федоровны князя Ширвашидзе.
Его не трогали, – должно быть, оттого, что старый этот князь давно спился.
Он жил в небольшом домике на окраине Сухума. В первую советскую осень некоторые крестьяне еще привезли ему по привычке феодальную дань – кукурузу, табак, козий сыр и алычу.
В день доставки дани Сухум содрогался от пронзительного, просверливающего череп визга, как будто на базаре вопили, барахтаясь в мешках, сотни поросят.
То визжали несмазанными колесами арбы. Их волокли невозмутимые буйволы. Они даже не косились на черепа своих сородичей – лошадей, выставленные на заборах абхазских дворов от дурного глаза.
Услышав визг, я проснулся и выглянул в окно. Индиговое небо не грозило никакими бедами. Оно радостно трепетало. Но визг неумолимо накатывался и окружал Сухум со всех сторон.
Генриетта Францевна крикнула мне, что это жители Цебельды, Мерхеул и еще каких-то селений свозят дань Ширвашидзе. Она пообещала, что визг скоро затихнет, но возобновится к вечеру, когда аробщики напьются в духане «Завтрак на ходу» молодого вина маджарки, споют в честь родственников и знакомых застольную песню и поползут обратно.
В год моего приезда это была последняя дань. Ширвашидзе предусмотрительно отказался от нее, оставив себе немного кукурузы.
Он считал себя рыцарем, этот старый князь. Он говорил на таком приподнятом русском языке, что даже русские приходили в недоумение. Я слышал его русские разговоры. Каждую фразу он начинал напыщенным словом «благоволите».
То был старик с пунцовым сытым лицом пропойцы, но с величавой осанкой. Ходил он в тонкого сукна черкеске с газырями, без погон, но с аксельбантами и, выпив, любил спать на скамейках бульвара.
Двоякий смысл слова «легенда»
У слова «легенда» двоякий смысл.
Это или поэтическое народное предание (большей частью псевдонародное), или объяснение разных условных знаков на географической карте.
С детства я любил географические карты и планы и с детства же недоверчиво относился к легендарным преданиям. Особенно к восточным. Они казались мне бутафорскими.
Может быть, эта неприязнь появилась после чтения путеводителей, где рассказывалось много скучных и неестественных легенд чуть ли не о каждой пещере, скале, роднике и могиле.
Вообще же, если отбросить этот недостаток, то путеводители – увлекательные книги. Почти нет людей, которые не любили бы их читать. Еще в юности для меня и для подростков в таком же роде, как и я, каждый путеводитель был как бы бесплатным путешествием в интересные страны. Каждый путеводитель давал множество толчков воображению.
Никак нельзя было догадаться, в какие происшествия могло нас завести сухое сообщение путеводителя о том, сколько стоит поездка на извозчике по Лиссабону и нужно ли торговаться на рынке в Бриндизи.
Так вот… Стоит узнать, сколько берет извозчик в Лиссабоне, как тотчас возникнет желание нанять его и проехать по старым улицам города, политым водой, к пышному собору, а потом – в порт. Там вы невзначай увидите, как ветер с океана сорвет зеленую шаль с красивой женщины, тонкой, как лилия – я не настаиваю на этом сравнении, – и унесет эту шаль в море. А женщина, смеясь, прижмет ладонями к вискам свои черные глянцевитые волосы, чтобы их не растрепывал ветер.
Эта была захватывающая и вместе с тем трудная игра – путешествия, по путеводителям. Она вся была построена на воображении. Вначале она приносила радость, а потом разочарование. Причина этого разочарования заключалась в разбуженном путеводителями желании невозможного.
Но все же будьте милостивы к воображению! Не избегайте его. Не преследуйте, не одергивайте и прежде всего не стесняйтесь его, как бедного родственника. Это тот нищий, что прячет несметные сокровища Голконды.
Легенды (фольклорные) давно связаны для меня с гидами. Временами мне кажется, что эти легенды специально выдуманы на потребу гидам для того, чтобы занимать болтовней туристов.
В одинаковых белых войлочных шляпах, обшитых ленточками с помпончиками, с одинаковыми кизиловыми палками-рогатками, где выжжена надпись «Память о Сочи» или «Привет из Симеиза», в пыльных тапочках туристы ходят потными толпами среди всяких достопримечательностей и стараются запомнить побольше легенд.
Рюкзаки у туристов набиты сувенирами, главным образом открытками и рамками для фотографий, обклеенными морскими ракушками.
Вместо этих ракушек туристы привозят домой слоистую перламутровую труху и смутные впечатления. Но это не останавливает их в упорном рвении все осмотреть «по плану», ничего толком не увидев как следует и ничего как следует не узнав.
Я – за туризм, но без пошлости, которая его часто окружает.
Опять я нарушил последовательность повествования. В этом виновата моя непокорная память. Прошу прощения и возвращаюсь вспять, чтобы оттуда снова двинуться вперед. Возвращаюсь к географическим картам с их скупыми на слова объяснениями – «легендами». Вернее, я возвращаюсь к «легенде» Сухума, к его топографическому очерку, но буду упоминать только те места, что так или иначе сыграют роль в дальнейшем рассказе.
Отправной точкой топографического описания я беру дом и сад мадемуазель Генриетты Францевны Жалю, где я жил в то время в Сухуме.
Я располагаю описание по радиусам, убегающим от этого низкого дома и маленького сада. Там рос у меня под окном добродушный банан со слоновыми нежно-зелеными ушами.
Но прежде чем перейти к этому описанию, я скажу несколько слов о том, как я остался в Сухуме.
Пока «Пестель» не отвалил из Сухума в Поти, я ушел из предосторожности подальше от набережной. Мне мерещилось, что меня обязательно поймают и вышлют из Сухума.
Так я добрел до горы Чернявского, а на ней – до последнего, уединенного дома Генриетты Жалю.
Старушка, несмотря на полное отсутствие у меня каких бы то ни было вещей, охотно сдала мне комнату. По стенам ее бегали мохнатые сороконожки.
Вечером, когда опасность прошла, я решил спуститься в город, чтобы поужинать в духане. Там на липких от лилового вина дощатых полах бравурно отплясывал лезгинку тощий маленький старик в толстых очках и слишком длинной для него серой черкеске.
Его приятели, сидя за столиком, снисходительно хлопали в ладоши, а духанщик щелкал на счетах, не обращая никакого внимания на добросовестно веселящегося старика.
Старик, окончив танцевать, пригласил меня к своему столику. Он сразу узнал во мне приезжего. Вопреки моему предположению, старик был совершенно трезв и не имел никакого отношения к абхазцам или к каким-либо другим горским народам. Он оказался тифлисским евреем по фамилии Рывкин. Он служил в Сухуме в Союзе кооперативов Абхазии – Абсоюзе – и просто любил в свободное время потанцевать лезгинку.
Он тут же пригласил меня к себе в Абсоюз вести деловую переписку. Вообще в Сухуме мне чертовски повезло.
Но вернемся к топографии.
Посреди сада у Генриетты Францевны была устроена на уровне земли глубокая цементная цистерна для дождевой воды. Воды от весенних дождей Генриетте Францевне хватало почти до осени. Вокруг цистерны росли пальмы с мощными опахалами.
Рядом с усадьбой Генриетты была небольшая поляна, покрытая желтым и лиловым бессмертником. Изредка по поляне проползали змеи.
По другую сторону поляны стоял мингрельский дом на сваях с длинной дощатой террасой. Двери и окна в этом доме были крест-накрест заколочены тесом, а вокруг разрослись такие дебри лавровишен и терновника, что подойти к дому было почти невозможно.
Позади дома шли заросли азалии. Там весь день наигрывали на дудках, как оркестр зурначей, недовольные шмели.
За этими зарослями лежала в разноцветном дыму, в бросках солнечного света, мгновенно перелетавшего (вместе с тенью от туч) через горные вершины и бездонные пропасти, в изломанном блеске глетчеров, в трепещущей листве, в клубящихся взрывах белых облачных громад над вершинами Большого Кавказа та загадочная, зовущая и пугающая страна, где погиб Одоевский, где дрался под зеленым знаменем пророка Шамиль, где был убит Бестужев-Марлинский, где насмешливо тосковал Лермонтов.
Временами мне казалось, что я вижу все это. Вижу Кавказ времен его покорения – выгоревшие шинели и околыши, коричневые лица, прогорклые трубки, медь эфесов, завалы из колючих ветвей, быстрые струи порохового дыма, вижу весь этот взволнованный войной и «трехпогибельный Кавказ».
Вижу «серебряный венец» неприступных гор, «престолы природы, с которых, как дым, улетают багровые тучи». Все это было сказано Лермонтовым в полном соответствии с его томительной любовью и тоской. А через семьдесят лет другой поэт сказал о Лермонтове слова, похожие на рыдание:
В томленье твоем исступленном Тоска небывалой весны Горит мне лучом отдаленным И тянется песней зурны…Там, на горе Чернявского, я чувствовал себя по временам среди немирного лермонтовского Кавказа. Вернее, мне хотелось так себя чувствовать. И жизнь, по своей дурной привычке потворствовать мечтателям, щедро награждала меня чертами этого старинного Кавказа.
Невдалеке за домом Генриетты я наткнулся на обтесанный продолговатый камень. Он был так густо покрыт желтыми лишаями, что надпись, некогда выбитую на этом камне, нельзя было уже прочесть… Может быть, здесь похоронен Одоевский? Или это была могила безвестного стрелка? Кто мог это знать?
Во всяком случае, появился повод для того, чтобы приносить на эту могилу цветы (их расклевывали и уносили птицы), сидеть на земле, облокотившись на камень, и смотреть, как у тебя на ладони тревожно и быстро дышит только что пойманная крошечная ящерица.
Несколько раз с гор приходила гроза. С наглым треском она разрывала молниями черное небо и катила перед собой, как мутный вал, гряду желтых туч.
Смерчи гигантскими волчками завивались над морем, изгибались и, будто споткнувшись, внезапно падали всей тяжестью на поверхность воды. Тогда море кипело.
Ревя, мчались по лощинам водопады, ворочая глыбы камней. Чернела и свирепела морская даль. Косые струи ливня вытягивались по ветру, почти не касаясь земли. И вдруг неожиданно вспыхивал, как взрыв, мокрый и горячий солнечный свет. Тогда несколько радуг, упираясь в устои гор, плавно подымали к небу мириады мельчайших водяных искр. Гроза кончалась.
После гроз над Сухумом повисал удушливый пар. Генриетта Францевна закрывала окна. Она говорила, что в этих испарениях размножаются невидимые миазмы. Их было так много, что становилось трудно дышать.
Миазмы, по словам Генриетты, вызывали малярию, сердечную слабость и ломоту в костях.
Было так душно, что обильный пот выступал на всем, что могло осаждать влагу. Все было мокрым и блестело, как только что вынутое из воды, – листья, заборы, скалы и черепичные крыши. Пот струями стекал с волос за шиворот и лился с пальмовых листьев, как из маленьких водосточных труб.
После одной из таких гроз я впервые испытал жестокое удушье, когда кажется, что легкие залиты свинцом. То были первые признаки астмы – безжалостной болезни, заставляющей человека дышать в четверть дыхания, говорить в четверть голоса, ходить в четверть шага, думать в четверть мысли и только задыхаться в полную силу, без четвертей.
Сейчас, по прошествии многих лет, я хочу точно записать первые свои впечатления о Кавказе и Сухуме. Но я вижу, перечитывая записанное, что эти впечатления торопливы и не очень связаны друг с другом, хотя и не лишены единого ощущения места и времени.
Объясняется это, очевидно, тем недолгим и странным ослаблением чувства реальности, какое завладело мною в начале сухумской жизни.
Слишком велик был разрыв между голодным и обледенелым северным побережьем Черного моря и этой щедрой по своей природе страной, пропахшей цветами мимозы.
Она была щедрой и непонятной. Здесь веками сложился удивительный быт. Страна была закована в него, как в кольчугу.
Все здесь казалось странным.
Когда князь Ширвашидзе входил в духан, посетители по привычке вставали. Учитель и писатель Дмитрий Гулиа – просветитель Абхазии – создал абхазскую письменность и открыл первый передвижной театр на арбах.
Советских денег еще не было. Ходили по рукам затертые турецкие лиры.
Шотландский пароход пришел за сухумским табаком и оставил взамен бочки с атлантической сельдью. После него пришел японский пароход и привез уйму риса и тростникового сахара. Поэтому вместо заработной платы служащим выдавали продукты. Каждые два дня давали в придачу ведро превосходного вина и пачку драгоценного табака «требизонд». В чистом виде «требизонд» курить было нельзя: он был слишком крепок и дорог. Его добавляли для вкуса к обыкновенным табакам.
На базаре продавали горных медвежат по рублю и связки окаменелых московских баранок, изготовленных, должно быть, еще до революции. Стоили баранки баснословных денег.
Побеги бамбука проламывали мостовые. За одну ночь они вытягивались на метр, а то и больше. Кровная месть не затихала. В аулах еще собирались судилища старцев.
Трудно было понять, в каком веке мы живем. На первый съезд Советов жители Самурзакани – самого непокорного края Абхазии – выбрали наиболее достойных представителей – тех, кто мог незаметно свести самого горячего коня. В этом старики самурзаканцы полагали тогда настоящую доблесть, а не в том, чтобы гнуть спины на кукурузных полях или табачных плантациях.
В Сухуме не было никаких внешних следов войны. Страна стояла такая же нетронутая, как и полвека назад.
Одной из неожиданных для здешнего края примет недавней войны была книга Анри Барбюса «Огонь», попавшая каким-то чудом в Сухум.
Первый экземпляр этой книги оказался у Рывкина. Я тотчас же отобрал у него эту книгу. Рывкин не оказал ни малейшего сопротивления.
Я читал эту крепкую, как солдатский шаг, мужественную и человечную повесть Барбюса у себя в саду, в тени банана. Изредка я подымал глаза. Мне нужно было какое-то время, чтобы сообразить, что я нахожусь не на полях Шампани или в Арденнах, где в залитых ливнем окопах тесно смешались обе армии – и французская и немецкая – и солдаты тонут в грязи. Мне нужно было время, чтобы перенестись с полей Франции в этот нарядный от света и опьяняюще пахнущий край.
В такие минуты он казался мне особенно чуждым – лакированным и одновременно тоскливым.
С некоторых пор у меня появилось ощущение, что этот край чем-то грозит мне. Угрозу эту я особенно ясно чувствовал во время закатов. Тогда в жаркую духоту впивались, как острые когти, струйки холодного воздуха и вызывали легкий озноб.
Я восторгался книгой Барбюса, особенно последними страницами, где приросшие к земле солдаты говорят о великой справедливости. Имя Либкнехта неожиданно вспыхивает в разговоре как реальная и близкая надежда на пришествие новых времен.
Каждый раз, доходя до этого места, я испытывал глухое волнение и почему-то начинал думать о себе: двигаюсь ли я вперед пли погружаюсь в оцепенение. Судя по тому, что я сам задавал себе этот вопрос, я был еще жив. Это меня успокаивало.
Заколоченный дом
Вдоль сухумской набережной тянулись тогда темноватые и низкие духаны с удивительными названиями: «Зеленая скумбрия», «Завтрак на ходу», «Отдых людям», «Царица Тамара», «Остановись, голубчик».
В каждом духане висело на стене напечатанное крупным шрифтом объявление: «Кредит никому!» Только в одном из духанов это неумолимое предупреждение было выражено более вежливо: «Кредит портит отношения».
В окне парикмахерской тоже была своя вывеска:
«В кредит не освежаем».
Объявления о кредите висели повсюду, даже около уличных шашлычников. Они готовили шашлыки на замысловатых сооружениях: к железному стержню были припаяны одна над другой продырявленные жестяные сковородки. На них клали по отдельности куски баранины, помидоры и нарезанный лук. Под сковородками наваливали гору пылающих углей, медленно вращали стержень, и шашлыки жарились, вертясь, в горячем соку лука, лопнувших помидор, в собственном жиру и распространяли по Сухуму жестокий чад. Временами этот чад был слышен даже на рейде. От него першило в горле.
Объявления о кредите были только живописной подробностью сухумской жизни. На самом деле во всех духанах посетители и пили и ели в кредит еще со времен царицы Тамары. Попытка расплатиться тут же вызывала у духанщиков полное недоумение. Поэтому было совершенно непонятно, кто придумал этот лозунг и заклеил объявлениями о кредите весь Сухум.
Крикливые бородатые водоносы бродили по набережной с маленькими, увитыми плющом бочонками с холодной водой. У каждого водоноса тоже висела на бочонке табличка с предупреждением о кредите. Даже чистильщики сапог вешали эту табличку около своих нарядных ящиков.
Каждый чистильщик украшал свой ящик открытками, колокольчиками и портретами то Венизелоса, то католикоса Армении, в зависимости от национальности чистильщика.
Чистильщики делились на стариков и мальчишек. Людей средних лет между ними не было.
По утрам сухумцев будил отчаянный барабанный стук щеток по ящикам. Это мальчишки-чистильщики занимали свои посты и лихо отщелкивали щетками такт популярной в то время песенки: «По улицам ходила большая крокодила! Она совсем голодная была». Старики только укоризненно качали головами.
Среди стариков был древний курд, своего рода патриарх чистильщиков. Говорили, что он уже тридцать лет сидит на одном и том же месте около пристани. Огромные щетки мягко ходили в его руках. Глянец старик наводил одним небрежным мановением красной бархотки.
Все относились к этому курду с большим уважением. Даже капитан «Пестеля» здоровался с ним за руку.
И вот этому старику привелось сыграть жестокую роль в истории с заколоченным домом – тем домом, что стоял в непосредственной близости от усадьбы Генриетты Францевны.
Старушка рассказала мне историю этого дома. В Сухуме враждовали два рода. Вражда эта окончилась тем, что в одном роду остался в живых единственный мужчина – сосед Генриетты Францевны. В 1900 году этот человек, чтобы спастись от неминуемой смерти, бежал с женой в Турцию.
Такие случаи не всегда спасали людей. На памяти Генриетты Францевны был пример, когда человека, бежавшего от кровной мести, разыскали даже в Америке и там застрелили.
Семья, враждовавшая с соседом Генриетты Францевны, сбежавшим в Турцию, вскоре переехала из Сухума в аул Цебельду, и месть, не получая свежей пищи, погасла.
По абхазским поверьям, дом, где была кровная месть, считался проклятым. Его обычно заколачивали, и никто не хотел в нем селиться.
«Проклятые» дома постепенно разрушались от старости. Тогда их сносили.
После рассказа Генриетты Францевны я несколько иначе стал смотреть на этот заколоченный дом. Я начал замечать в нем зловещие черты.
На чердаке во множестве жили (или, вернее, спали вниз головой) летучие мыши. По вечерам они просыпались и носились у самого лица, качаясь и попискивая. На деревянных стенах дома светились трухлявые сучки. Они были похожи на злорадные зеленые глаза. И день, и ночь жуки-древоточцы прилежно грызли деревянные стены дома. Очевидно, дом вскоре должен был рухнуть.
Однажды я задержался в городе. Из Абсоюза я зашел в редакцию маленькой сухумской газеты и там написал короткую горячую статью против кровной мести. Редактор, читая ее, только чмокал языком.
– Нельзя печатать, – сказал он наконец и хлопнул по рукописи ладонью. – Понимаешь, кацо, невозможно так неожиданно отнимать у людей их привычки. Надо действовать дипломатично. Тысячи лет они резали друг друга, кацо, – и вдруг запрещение! Ты мне не веришь, кацо, но клянусь своей дочерью, что автора этой статьи немедленно убьют на пороге редакции. Ты понимаешь, что я, как редактор, не могу этого допустить.
Ничего не добившись от редактора, я ушел. Я оставил его в состоянии унылого размышления. Он морщил лоб и тер синим карандашом за ухом.
За окнами шевелились от ветра кусты лавров.
Я пошел домой. Шел я всегда медленно и глубоко дышал, – никак не мог привыкнуть к терпким запахам здешней ночи.
На повороте к своему дому я остановился.
Остановился я оттого, что скала, мимо которой я всегда проходил в темноте, притрагиваясь к ней рукой, чтобы не сбиться с пути и не сорваться в обрыв, была освещена огнем керосиновой лампы.
Я поднял глаза.
Заколоченный дом был открыт, все доски с окон и дверей сорваны, а комнаты сверкали от огня ламп. Кто-то, очевидно приезжий, пренебрег абхазскими суевериями и смело раскупорил дом.
Около калитки стояла Генриетта Францевна. Она схватила меня за руку и, задыхаясь, сказала:
– Скорей! Плю вит! Плю вит! Пожалуйста!
Она дрожала, и голос у нее срывался.
– Что случилось? – спросил я испуганно.
– Скорей! – громким шепотом повторила она, покачнулась и схватилась за забор. – Господи, какое несчастье! Бегите скорей, я вас умоляю!
– Куда? – спросил я, совершенно сбитый с толку.
– Он вернулся из Турции, – громко сказала Генриетта Францевна. И мне стало страшно, оттого что она дрожала все сильнее. Я подумал, что у нее начинается истерический припадок. – Он вернулся сегодня днем из Турции, – ясно и громко повторила она. – Скорее бегите в милицию и скажите там, что он вернулся. Его зовут Чачба. Господи, какое несчастье!
Я, ошеломленный, ничего толком не понимая, почти бегом спустился с горы Чернявского.
Во дворе милиции на низеньком столе при свете фонаря «летучая мышь» три милиционера играли в нарды. Под забором громко жевали оседланные поджарые лошади, привязанные к пальмам.
Милиционеры были так увлечены игрой, что даже не взглянули на меня. Я подошел и сказал им, что сегодня вернулся из Турции некий Чачба и поселился в заколоченном доме на горе Чернявского.
Я не успел договорить. Милиционеры вскочили и бросились к оседланным лошадям. Они что-то гортанно кричали высунувшемуся из окна дежурному и торопливо отвязывали коней. Потом они вскочили в седла и умчались с бешеным топотом на гору Чернявского. Снопы искр летели из-под подков лошадей. Ночь вдруг запахла порохом и кровью.
Я бросился бегом за милиционерами. Но на полпути к горе Чернявского они так же бешено проскакали мимо меня, возвращаясь в город. Я едва успел спрыгнуть в придорожную канаву.
Проклятый дом был все так же ярко освещен. Лампы коптили.
На террасе около лестницы лежал, раскинув руки, седой человек с добрым лицом. Из его простреленной груди еще стекала кровь и глухо и медленно капала со ступеньки на ступеньку.
Рядом с убитым сидела на полу пожилая красивая женщина. Она прижимала к груди мальчика лет пяти и смотрела прямо перед собой. Подходя, я пересек линию ее неподвижного взгляда и содрогнулся – такой исступленной ненависти я никогда еще не видел в глазах людей.
Было ясно, что эта женщина пошлет этого маленького мальчика, как только он подрастет, мстить за отца. И ничто в мире не сможет смягчить ее сердце и заставить отказаться от кровопролития.
Генриетта Францевна была права, когда торопила меня. Милиционеры опоздали.
Через несколько дней, когда женщина с мальчиком исчезла (говорили, что она, боясь за сына, бежала в Ростов-на-Дону), все, наконец, выяснилось.
Чачба вернулся на турецком грузовом пароходе из Трапезунда. На пристани его сразу же узнал старый курд – чистильщик сапог. Он пристально посмотрел на Чачбу и медленно поднял ладонь ко лбу.
Чачба почистил у курда сапоги. От радости, что спустя двадцать с лишним лет он вернулся на родину, Чачба без умолку говорил с чистильщиком. Говорил, что вот прошла война и революция и теперь в Абхазии, наверное, все изменилось. Никто никого не убивает из мести, люди поумнели и живут счастливо и дружно.
Чистильщик неохотно поддакивал и все поглядывал по сторонам. Но Чачба был счастлив и не заметил ни хмурости чистильщика, ни его бегающих глаз.
Как только Чачба погрузил свои вещи на арбу и уехал на гору Чернявского, чистильщик неторопливо пошел на базар. Там было в те времена много извилистых дворов-лабиринтов, где можно было заблудиться в нескольких шагах от выхода на улицу.
То было нагромождение дощатых конур и бесчисленных маленьких сараев, где со свистом шипели примусы, стучали молотками сапожники, ревели, изрыгая синее пламя, паяльные лампы, варился густой турецкий кофе, шлепали и прилипали к столам засаленные карты, кричали простоволосые женщины, обвиняя во всех смертных грехах ленивых и пренебрежительных мужей, клекотали, как старые орлы, старцы в обмотках и солдатских бутсах, и вдруг через весь этот базарный беспорядок и крик проходил, колеблясь на стянутых кожаными чулками ногах, статный красавец в черкеске с откидными рукавами и томным головокружительным взглядом.
Курд дождался такого красавца и что-то шепнул ему.
– Хорошо, батоно! – ответил ему вполголоса красавец. – Ты получишь завтра свои сто лир.
Красавец повел по сторонам глазами с поволокой, сжал сухощавыми коричневыми пальцами рукоять кинжала и, как дикая кошка, бесшумно, на мягких ногах выскочил на улицу.
Через десять минут он уже скакал, пригнувшись к луке седла, в аул Цебельду, чтобы привезти обитателям одного из цебельдинских домов ошеломительную весть о возвращении в Абхазию неотмщенного врага Чачбы.
Тотчас два всадника помчались из Цебельды в Сухум к заколоченному дому на горе Чернявского.
Горяча коней и держа наготове обрезы, они вызвали на террасу Чачбу. Он вышел безоружный, протянул обе руки прошлым врагам и так и упал, убитый наповал, с протянутыми для примирения старыми и добрыми руками.
Убийц, конечно, не нашли. Они ускакали в Сванетию, а туда в те времена могли проникнуть только вооруженные отряды.
Через несколько дней кто-то поджег проклятый дом. Случилось это утром, а к полудню дом сгорел дотла. Ветра не было. Весь огонь уходил к небу, не бросаясь по сторонам. Несколько дней у нас пахло пожарищем, но вскоре эта гарь сменилась обычным крепким запахом азалий,
Мальпост
Этот первый случай кровной мести, который я видел воочию, вскоре соединился со вторым. В памяти эти два случая сохранились рядом и как бы слились. Поэтому я и пишу о них без временного разрыва.
От Сухума до Нового Афона ходили в то время так называемые «мальпосты». Это было единственное средство сообщения с Афонским монастырем.
До войны по кавказскому побережью ходили еще и дилижансы.
Дилижанс представлял собой громоздкую карету (проще говоря, колымагу). В нее запрягали четверку лошадей. Пассажиры тесно сидели внутри колымаги и на ее крыше – «империале».
Кроме того, в дилижансе было устроено два сидячих места снаружи, на запятках. Там были приделаны маленькие железные сиденья, но без подпорки для ног. Тут же были привинчены железные ручки, чтобы пассажиры могли держаться за них и не вылететь от толчков на дорогу.
Еще в детстве, в Киеве, я видел такие дилижансы. Они ходили в Житомир, были выкрашены в желтый цвет, и на дверцах у них сияла медная накладная эмблема почтового ведомства – два скрещенных почтовых рожка и две пересекающиеся молнии. Очевидно, изображение молний указывало на участие электричества в деле телеграфной связи.
Еще с тех лет, повитых туманом времени, я запомнил несчастные фигуры запяточных пассажиров, трясущихся на жестких сиденьях.
Одной рукой они судорожно держались за железную ручку, а другой придерживали пыльный котелок или картуз. В глазах у них было тупое отчаяние. От невыносимой тряски по булыжной мостовой в одежде у этих пассажиров все расстегивалось и развязывалось. Ни разу я не видел их без того, чтобы у них не болтались из-под брюк тесемки от кальсон и пиджаки не налезали горбом на голову.
Мы, мальчишки, были уверены, что на запятках ездят только шулера и маклаки. Но, несмотря на невообразимые мучения, какие на наших глазах испытывали эти пассажиры, мы им даже завидовали.
Я, например, мечтал, чтобы на пятачки, сбереженные из родительских выдач на завтрак, купить билет на дилижанс до Житомира и тарахтеть среди сосновых лесов, громыхать по шатким мостам через болотные речки и отбиваться ногами от осатанелых деревенских собак.
Ноги у запяточных пассажиров висели без всякой опоры, болтались из стороны в сторону и невероятно раздражали собак.
Таков был широкий, уемистый и даже несколько величественный в своей неуклюжести дилижанс.
Рядом с дилижансом мальпост (обыкновенная линейка на шесть человек, где пассажиры сидели спиной друг к другу) казался сооружением хлипким, дребезжащим от неуверенности в себе, но с претензией на некоторый шик. Каким бы обшарпанным он ни выглядел, над ним на двух железных шкворнях всегда был натянут полотняный навес от солнца с красными бархатными помпончиками по краям,
На таком мальпосте мы как-то ехали с Бабелем из Сухума в Новый Афон. Бабель к тому времени уже перебрался из Одессы в Батум и жил там, утопая в буйных тропических зарослях Зеленого мыса.
Как Бабель попал на несколько дней из Батума в Сухум, этого я не помню. Скажу только, что любознательность Бабеля разрушала все преграды.
Итак, мы ехали в Новый Афон с попутчиками. Среди них был толстый курносый человек в маленькой жокейской кепке. Он пробирался в Новый Афон, где надеялся устроиться счетоводом.
Кроме курносого, с нами ехала волоокая тучная девица в тугом черном платье. На каждом ухабе это платье издавало зловещий треск. При этом девица каждый раз испуганно вскрикивала: «Уй-мэ!» – и натягивала платье на коленные чашки величиной со средние желтые тыквы.
Рядом с ней сидел подслеповатый юноша из интеллигентов в золотом пенсне. Когда мальпост наклонялся на поворотах, длинные ноги этого юноши соскакивали с подножки и скребли по земле, подымая густую пыль.
Без всякого побуждения с нашей стороны он объяснил нам, что пенсне досталось ему в наследство от деда – единственного дантиста в Сухуме, а он, юноша, едет в монастырь в надежде устроиться там певчим. У него очень высокий тенор, а в монастыре, по его сведениям, здорово кормят, иногда даже дают рыбный холодец.
Последним пассажиром был неопределенного возраста человек с землистым лицом в выгоревшей солдатской гимнастерке. На наши расспросы человек этот отвечал неохотно и непонятно, и мы решили оставить его в покое.
Я так подробно описываю попутчиков, что читатель может подумать, будто все эти люди сделаются героями дальнейших событий. Ничего подобного. Никто из них не сделается героем. Описываю же я их так обстоятельно только потому, что Бабель несколько раз показывал потом этих людей в лицах. Я смеялся до слез. Поэтому я так хорошо и запомнил этих попутчиков.
Мы ехали не торопясь, наслаждаясь жарой и созревшей шелковицей. Она густо усыпала дорогу.
Изредка мы обгоняли буйволов, волочивших арбы. Каждый раз мне казалось, что буйволы идут не вперед, а назад: так медленно и неохотно они переставляли ноги.
При каждой встрече с буйволами юноша в пенсне произносил одну и ту же фразу, цитируя не то Фенимора Купера, не то Майн-Рида:
– «Когда стадо буйволов машет хвостами, отгоняя мух, дикий ветер бушует над прерией».
А возница – старый мингрел – только причмокивал от восхищения губами:
– Ай, как ты говоришь красиво, кацо! Прямо как в песне!
Так мы ехали в одури летнего дня, ослепленные белым блеском моря, и не ждали никаких событий. Но они случились, как всегда, внезапно.
Начались они с настигавшего нас дробного стука подков.
Мы оглянулись. Нас догонял молодой всадник неправдоподобной красоты – смуглый, тонкий и томный, как баядерка.
Всадник был обтянут, как корсажем, бордового цвета черкеской с белыми костяными газырями. Маленькая кубанка была надвинута ему на глаза. Кроме кинжала, у него на боку висел тяжелый маузер.
Гнедой конь, екая селезенкой, быстро обогнал нас размашистой рысью. Позади всадника скакал запыленный ординарец.
Когда всадник поравнялся с нами, мы увидели его окаменелое лицо и глаза, исступленно смотревшие в одну точку, как у слепого.
– Инал-Ипа! – вполголоса сказал возчик. – Большой начальник! Комиссар!
– Чего комиссар? – спросил Бабель.
– Чрезвычайна комиссия, – таинственно подмигивая нам, проговорил возница. – Комиссия! Чрезвычайна!
– Уй-мэ! – с уважением воскликнула девица и обтянула платье на своих могучих коленках.
Все были взволнованы этой встречей, кроме человека в гимнастерке. Он скрутил папиросу, выбил из кремня огонь, затянулся и неохотно заметил:
– Видали мы и не таких фазанов…
Он осекся и замолчал. Мы подъезжали к селению Эшеры. Оно лежало на половине пути между Сухумом и Новым Афоном. И вот из этого селения донесся короткий треск пистолетных выстрелов. Потом, казалось, прямо в небо рванулся отчаянный крик многих людей. Вслед за криком захлопали и затрещали торопливые выстрелы, и пуля, ударив в дорогу рядом с нами, метнулась в сторону, взвизгнула, подняла полоску пыли и исчезла.
Курносый соскочил с линейки и бросился в кусты. Возница бестолково задергал вожжами и свернул в придорожную канаву. Мальпост накренился. Одно его колесо висело в воздухе.
– Уй-мэ! – закричала девица, подобрала ноги и прижалась к долговязому юноше.
Несколько пуль резво свистнуло над нашими головами, и мы снова услышали топот подков. Теперь он был захлебывающийся, неистовый. Казалось, что подковы отлетают от копыт из-за этой стремительной скачки и несутся, свистя, вдоль дороги.
– Похоже, что пальба, – уныло определил человек в гимнастерке. – Надо бы лечь за камень. Но он не двинулся с места.
Бабель снял очки и начал смеяться. Лицо его покрылось множеством морщинок, особенно около глаз.
– Вы чего? – спросил я.
– Готовая глава, – ответил он и закашлялся, – из романа Немировича-Данченко «Среди пороховых легенд и седого дыма». Или из его же романа…
Но Бабель не успел досказать, из какого второго романа Немировича-Данченко была эта глава. Очевидно, действие главы еще не окончилось. Бабель замолк потому, что увидел, так же как и все мы, что Инал-Ипа бешено скачет нам навстречу уже со стороны Эшер и совсем не в таком виде, как пять минут назад.
Он потерял кубанку. Волосы у него спутались и падали на глаза. Он бил своего коня рукояткой пистолета по жилистой мокрой шее. Конь нес его бешеным карьером, как-то боком, как бы оглядываясь назад,
Следом за Инал-Ипой скакал тот же запыленный ординарец и на ходу отстреливался.
Всадники промчались с быстротой призраков. Пальба стихла. Возчик встал с земли и перекрестился.
– Похоже, что в Эшерах восстание, – заметил человек в гимнастерке. – Горцам к этому не привыкать.
Никто из нас ничего не понимал. Надо было решать, что делать дальше, – ехать ли через Эшрры в Новый Афон или возвращаться в Сухум.
Курносый, не дождавшись общего решения, вылез из кустов и пошел обратно в Сухум.
– Уй-мэ! – гневно крикнула девица и щедро плюнула вслед курносому.
Этот плевок решил дело. Мы постановили ехать дальше. Всем хотелось узнать, что случилось в Эшерах. Возница вздохнул, и мальпост, дребезжа развинченными гайками, двинулся навстречу своей неизвестной судьбе.
За поворотом шоссе мы встретили вооруженных эшерцев. Они не остановили нас и ни о чем не спрашивали. Вряд ли они даже заметили нас, так они были возбуждены.
В Эшерах все население толпилось на улице. Женщины голосили, стоя на пороге домов, царапали себе в кровь лица и рвали волосы. Дети бежали к сельской площади. Посреди площади рос огромный вяз. Туда же, к вязу, торопливо шли мужчины, яростно жестикулируя и разряжая на ходу обрезы и карабины.
Под вязом лежал юноша лет пятнадцати, не больше. Голова его была прислонена к седлу.
Рубаха на груди юноши была разорвана, и в ложбинках над впалым животом натекла лужица крови.
Юноша был мертв. Вокруг него стояли, опираясь на узловатые посохи, сельские старейшины. Они смотрели на мертвого и молчали. Люди, подходя к убитому, тоже замолкали, и лишь время от времени кто-нибудь подымал над головой кулак и кричал что-то гортанное и зловещее – должно быть, проклятие убийце.
Маленькая девочка в длинной черной юбке сидела рядом и, не спуская глаз с мертвого, сгоняла мух с его лица отломанной веткой.
Возница поговорил с эшерцами. Слушая их ответы, он преувеличенно сокрушался, бил себя руками по пыльным шароварам и ненатурально закатывал глаза. При этом виднелись его коричневые белки.
Тогда в Абхазии еще не всюду существовал советский народный суд. В большинстве селений еще судили старейшины. Законами были обычаи и собственное разумение.
Суд старейшин всегда собирался под вековым священным деревом – дубом или вязом.
В это утро старейшины сошлись, чтобы судить юношу, укравшего седло.
Мы подошли к убитому. У него был нежный профиль итальянца. Девочка, как заводная, махала веткой над его головой. Иногда ветка задевала широкое стремя на седле, и тогда возникал тихий звон. Он напоминал долгие, мерные звуки похоронного колокола.
Инал-Ипа узнал о краже седла и прискакал из Сухума в Эшеры, чтобы присутствовать на суде.
Здесь, на суде, он встретился со злейшими своими врагами – князьями Эмухвари.
Что произошло дальше, никто в точности не мог нам объяснить. Между братьями Эмухвари и Инал-Ипой началась перестрелка. В этой перестрелке неизвестно кем был убит юноша, укравший седло.
Эмухвари закричали, что юношу застрелил Инал-Ипа, совершив беззаконие и надругавшись над судом старейшин. Застрелил он юношу якобы потому, что его род был в кровной вражде с родом этого юноши.
Мужчины схватились за оружие. Но Инал-Ипа успел ускакать.
За Эшерами дорога оказалась совершенно разбитой. Мы слезли с мальпоста и пошли дальше пешком.
День будто окунули в безмолвие. Даже цикады молчали, и не звучала жара. Обыкновенно она издает тихий писк, подобно воде, когда она просачивается в узкую щель.
Море тоже молчало, перегретое солнцем. Оно постепенно затягивалось паром.
В монастыре было безлюдно. В саду, в маленьких цементных бассейнах, куда отводили из горного ручья воду для поливки, плавали золотые рыбки. Очевидно, они голодали, потому что тотчас собирались стаями у того края бассейна, где останавливались люди. Вокруг сильно, по-церковному, пахло нагретым кипарисом.
В соборе шли еще службы, но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Ими распоряжался отец-келарь – рыжий, конопатый, с брезгливым голосом.
Он отвел нас в пустую и гулкую гостиницу и дал комнату. Тучная девица попрощалась и ушла в какой-то поселок в горах к своему брату, юноша в пенсне и человек в гимнастерке исчезли.
– Вас, как людей образованных, – сказал отец-келарь, посмотрев наши удостоверения, – прошу держаться в рамках. Здесь в соседнем номере помещается госпожа Нелидова[3]. Больше в гостинице никого нету. Она прибыла к нам, дабы отдохнуть от мирского безобразия и скверны. Светская, но монашески настроенная женщина. Пешком пришла из Сухума. По обету. Вся – в правилах и очень строга. Ходит в черном. Как инокиня.
– Да-а, – сказал Бабель, – Видно, кремень-старушка. Отец-келарь усмехнулся.
– Что вы, граждане! – сказал он укоризненно. – Ей от силы тридцать лет. Весьма привлекательная дама! Но предупреждаю: строга.
Келарь скосил глаза в сторону и сказал деловым тоном:
– У нас в трапезной, молодые люди, можете приобрести хлеб и холодец, а у меня в кладовой – вино маджарку. Милости просим! Я сам виночерпий и винодел, так что за маджарку ручаюсь. Других вин в соответствии с ходом событий пока что не делаем.
Всякие вина есть на свете. Я перепробовал много вин, но такого бешеного вина, как маджарка, не встречал.
Если на Новом Афоне нам обоим мерещилась всякая чертовщина, то, конечно, только от этого мутноватого вина. А может быть, еще и оттого, что мы уверяли себя, будто никакие земные тревоги не смогут добраться сюда, даже на злополучном мальпосте.
В монастырской гостинице мы с Бабелем много говорили и, наконец, выяснили, что человеку иногда не хватает беспечности. Мы были молоды тогда, шутливы, и нам нравилось так думать.
Когда человек беспечен, то все прекрасное оказывается рядом с ним и часто сливается в один пенистый сверкающий поток, – все прекрасное: хохот и раздумье, хлесткая шутка и нежное слово, от которого вздрагивают женские губы, стихи и бесстрашие, извлечения из любимых книг и песни – и еще многое другое, чего я не успею здесь перечислить.
Нашу молодость и пристрастие к выдумкам мы решили подкрепить молодым вином, маджаркой. Это было вино для бедных, очень дешевое. Маджарка действует с утра до вечера. А потом, рано утром, стоит только выпить стакан холодной воды (лучше всего из ручья), как опьянение начинается снова и тянется почти весь день. В этом случае оно бывает особенно светлым.
В общем, я сходил к отцу-келарю и принес в номер, пропахший кислой капустой, пять бутылок маджарки.
Возвращаясь с бутылками, я встретил в темноватом коридоре молодую монахиню. От неожиданности я уронил бутылку.
Молодая монахиня не дрогнула. Она прошла мимо, опустив неестественно длинные ресницы, и черный кашемир ее платья случайно прикоснулся к моей руке. От него пахнуло душистым теплом.
Монахиня чуть покачивалась на высоких бедрах. Я не рассмотрел в полутьме ее лица. Заметил только, что оно было покрыто той матовой бледностью, какая всегда считалась непременным условием женской красоты (для этого, очевидно, и была придумана пудра). Я не заметил и ее волос, – они были спрятаны под черной косынкой.
Мне показалось, что, немного отойдя от меня, молодая монахиня издала короткий звук, похожий на сдержанный смех.
Дело в том, что у себя в кладовой отец-келарь дал мне попробовать маджарки. Мы выпили с ним по доброму стакану, и потому свое волнение при встрече с монахиней – это, конечно, была Нелидова – я объяснил быстрым действием этого вина.
На стук упавшей и покатившейся бутылки Бабель открыл дверь из номера и выглянул в коридор.
– Вот! – сказал он с торжеством. – Я так и знал, что вы разобьете…
Но он не окончил, замолчал и уставился в глубину коридора. Туда падал отблеск заката, и в его дымном сиянии шла спиной к нам, колеблясь и удаляясь, молодая женщина.
– Апофеоз женщины! – неожиданно сказал Бабель. – Пошлое слово – «апофеоз», но если бы у меня хватило остроты нервов, я написал бы такую вещь для прославления женщины, что Черное море от Нового Афона до самых Очамчир покрылось бы розовой пеной. И из нее вышла бы вторая русская Афродита. А мы с вами – глупые, нищие, пыльные, изъеденные проказой цивилизации – встретили бы ее приход слезами. И испытали бы счастье прикоснуться с благоговением даже к холодному маленькому ногтю на ее ноге. К холодному маленькому ногтю.
– Бред! – сказал я Бабелю, – Вы же еще не пили маджарки.
– Конечно, бред! – ответил он и распахнул окно, – Идите-ка лучше сюда!
С треснувшей рамы посыпались засохшие мухи и ночные бабочки.
И тотчас в окно вошел величавый голос моря, порожденный тысячами набегающих волн. Они как будто колыхали золотой жар заходящего солнца. Они несли сохранившиеся среди этих необъятных вод в течение столетий и тысячелетий запахи мрамора и олив, горных склонов с высохшей до пепла травой и островов, где шелестят крупными листьями смоковницы.
«Кого мы должны благодарить за это чудо, которое нам так щедро дано? – подумал я. – За жизнь?»
Не знаю, может быть, я подумал не так гладко, как написано здесь, даже, наверное, не так гладко, но я мог подумать и так.
Я сидел на подоконнике и смотрел на закат. И мне казалось тогда, что я самый счастливый человек на всем свете.
С Нелидовой мы так и не познакомились: на следующий же день шел в Сухум моторный дубок «Лев Толстой», и мы, боясь застрять в Афоне, уехали на нем, не испытывая особого сожаления.
Горы слишком близко прижимали монастырь к морю, теснили его, почти сталкивали в воду. В гостинице пахло прогорклым постным маслом и уборными. Собор был расписан сладенькими картинами из Ветхого и Нового Завета. На этих картинах все люди были в голубых и розовых одеждах и возводили очи к куполу. Там парил, сидя на пухлом облаке, седобородый и хмурый бог Саваоф. Из-под подола его хламиды виднелись толстые ноги в обыкновенных кожаных сандалиях. Очевидно, художник не решился изобразить Саваофа босиком.
Нелидову я снова встретил рано утром в день отъезда в унылом коридоре. Голова ее была в папильотках, от нее пахло паленой бумагой, и я не заметил в этой женщине вчерашней прелести.
Увидев ее припухлое лицо, я почувствовал глухое раздражение, а Бабель, ядовито блеснув глазами, сказал:
– Вот что делает маджарка, молодой человек. Бабель прожил в Сухуме всего пять дней и уехал к себе в Батум. И снова я остался в томительном одиночестве.
Средство от малярии
За границей маленькой Абхазской республики с ее тяжелым сырым воздухом и сплошными зарослями незнакомой растительности шла громкая и интересная жизнь. Но в нашей, газетке, похожей на афишу заезжего фокусника, жизнь эта отражалась только в двух-трёх коротких заметках.
Мне казалось, что я глохну от разраставшихся на глазах тропических джунглей и слепну от белого солнца. Оно затопило навсегда морской простор за моим окном.
Вскоре у меня началась малярия. Она трясла меня каждые пять дней. Тело пахло уксусом. От хины шумела голова, синели руки и трескались ногти.
После малярийного приступа с его беспощадным ознобом и предсмертным кружением сердца оставалась такая вязкая слабость, что мне было трудно вытянуть руку.
Меня мучили длинные и однообразные сны. Они обрывались на одном и том же месте и тут же начинались снова с неумолимой последовательностью.
Я знал все, что сейчас произойдет во сне. Знал, что в самом важном месте он прервется и я буду долго ждать, пока он снова придет ко мне и начнет повторять все одни и те же, но каждый раз все более тусклые свои картины.
Бывало, я стонал ночью, пытаясь прогнать сны, но никто никогда не отзывался на мои стоны. Мадемуазель Жалю помещалась в маленьком низком флигеле во дворе и не могла меня услышать, а две соседние комнаты пустовали.
Мадемуазель Жалю считала малярию не болезнью, а одержимостью. Она говорила, что малярики живут в своем странном мире и для них нет никаких тайн.
Я пытался записывать эти сны, но тут же бросил. Но года три назад, роясь в старых рукописях, я нашел узкие полоски бумаги, покрытые рыжими строчками, будто человек вместо чернил писал черным кофе.
На этих полосках и были записаны тогдашние сны. Но ни один из них не был доведен до конца.
Вся запись состояла из отрывочных фраз. Но, в общем, она давала какое-то представление о сне.
Вот эти записи: «Поиски человека… маленькой девочки, должно быть, дочери… Мне ни разу не удалось увидеть се. Она исчезала в толпе. Искал всюду. Помню ночную реку. По ее зловещему блеску я догадывался, что в этой реке нет воды, а вместо нее течет и едко пахнет жидкий деготь.
Была, кажется, война, и где-то за лесом фабричных труб и бесплодных холмов перекатывалась канонада. Но никто не обращал на это внимания.
Чаще всего я искал ее на окраинах какого-то города, совершенно чужого и незнакомого. Там в палисадниках в пустом свете фонарей росли цветы, черные от копоти. Серая, как шкура змеи, окраинная ночь никогда не темнела. Я выходил в поля, где немощно и сонно шумели маленькие хилые рощи. Но нигде я не видел ее. Может быть, ее вообще не было на свете?
Однажды я остановился на сухой равнине, обдуваемой ночным ветром. Издалека, как обещание покоя, доносился нескончаемый рокот моря. Потом я услышал сквозь этот рокот легкие детские всхлипывания рядом с собой. Я бросился к ней, я видел ее бледное и очень худое лицо в тусклом свете воздушных бомбардировок. Я обнял сырыми руками ее теплую слабую шею с выступающим маленьким позвонком.
В этом месте я каждый раз вскрикивал и просыпался весь в испарине.
Среди ночи приходилось снимать и выжимать рубаху. В неясной темноте я видел, как белеют мои ногти на пальцах, и каждый раз удивлялся, что вижу их в темноте.
Никого не было вокруг. В эти сухумские ночи я испытывал полную затерянность в мире, и временами мне становилось жаль самого себя.
Вся прошлая жизнь представлялась мне в виде сплошных горестей и ошибок. Я вспоминал маму, Галю, Лелю, цепь смертей и бед. Даже теперь, на расстоянии нескольких лет, я не хотел верить в смерть Лели. Самое существование смерти казалось мне издевательством. Я считал, что все живые существа, чувствующие себя бессмертными, не должны и не могут умирать.
«Кто смел, – думал я, – так подло обойтись с нами, с людьми, способными создать внутри себя мир чувств, мыслей и событий, настолько великолепный, что действительность порой кажется перед ним неуклюжей выдумкой?!» Сознание своего превосходства над природой доставляло мне странную радость, хотя я знал, что у природы было в руках более сильное оружие, чем у меня, человека.
Я твердо верил в бессмертие мысли, тысячи примеров этого теснились вокруг. И порой я сам считал себя властителем и создателем разнообразного собственного мира.
Я точно знал, что этот мир не подвержен тлению, которому подвержен я. Пока существует земля, этот мир будет жить. Это сознание наполняло меня спокойствием. Хорошо, я умру непременно, мое полное исчезновение – вопрос малого времени, не больше. Но никогда не умрут Тристан и Изольда, сонеты Шекспира, «Порубка» Левитана, затянутая сеткой дождя, и чеховская «Дама с собачкой». Никогда не умрет ночной беспредельный шум океана в стихах Бунина и слезы Наташи Ростовой над телом умершего князя Андрея.
Потомки будут взволнованы этим так же, как сейчас взволнованы мы. И где-то, когда-то легкое веяние, легкое прикосновение наших слов почувствуют сияющие от счастья и горя глаза тех, кто будет жить столетиями позже нас.
Чем чаще я думал так, тем скорее таяла горечь и тем крепче я верил, что, исчезнув из этого мира, я все же могу оставить на облике жизни хотя бы ничтожную, но вечную черту.
По временам я совершенно терял чувство реальности. Сухум с его великолепными сумерками, тяжелым золотом и липкой кровью закатов, с его острым запахом листвы, преследовавшим меня повсюду, казался мне городом, оброненным здесь из чужой и не имеющей имени страны.
Я перестал ходить в Абсоюз; лежал неподвижно сутками, следя за бегом воображения – то ровным, то стремительным и суматошным. Все это окончилось тем, что в комнате у меня появился деятельный товарищ Рывкин в своей серой летней черкеске с газырями, а с ним – угрюмый молодой человек, стриженый ежиком.
Человек этот оказался врачом-невропатологом, единственным в Сухуме. Рывкин привел его, чтобы выбить меня из того нездорового состояния нереальности, к которому я уже начинал привыкать.
– Малярийный делириум, бред, – скучно сказал молодой человек с ежиком. – Если дать больному плыть по течению, то дело окончится крахом. Встряхнитесь!
Он взял меня за плечи и так сильно встряхнул, что я почувствовал, как кровь рванулась вон из моих жил, а потом тяжело прилила обратно. Мне стало больно. Я застонал. Молодой врач – фамилия его был Самойлин – влил мне в рот ложку какой-то синей жидкости и велел пить ее каждый день. После этого слюна и белки глаз приобрели у меня яркий ультрамариновый цвет.
Малярия начала оставлять меня. Вернулось чувство реальности. Но я пока что еще не испытывал от этого особого восторга.
Однажды доктор Самойлин сказал, что мне необходимо хотя бы на несколько дней уйти в горы[4], к Главному хребту, где воздух так чист, а по ночам еще и так холоден, что звенит при каждом движении, будто вокруг разбиваются тонкие льдинки.
Я отнесся к этому предложению Самойлина недоверчиво, как ко всем смехотворным предписаниям врачей. Я помнил, как в Одессе доктор Ландесман в разгар голода предписал мне зернистую икру и устрицы, обрызганные лимонным соком.
Но слова доктора о воздухе, что ломается со звоном, мне понравились. Во всяком случае, в этих словах утверждалось отношение к миру, свойственное мне самому.
Я не стесняюсь признаться в этом перед лицом сотен и тысяч положительных и здравомыслящих читателей.
Очевидно, условность свойственна нашему разуму. Все дело в том, что существует условность, радующая нас легкими откровениями, и. другая условность, которая сковывает вольный человеческий дух.
Очевидно, из-за малярии воображение стремительно отзывалось на все, что давало ему маломальскую пищу, и разгоралось целыми пожарами красок и цвета.
Стоило мне вспомнить, что доктор Ландесман советовал сбрызнуть мифические устрицы лимонным соком, как я представил себе этот замерзший сок, его снежные шарики, похожие на цветы белой мимозы (может быть, где-нибудь в мире и растет такая мимоза). Они испускали дурманящий запах. Мой взгляд проникал внутрь этих шариков, где были спрятаны микроскопические волшебные пейзажи.
Самойлин начал часто заходить ко мне. Иногда он приводил с собой купленного им на базаре за три рубля горного медвежонка. Доктор привязывал его к стволу пальмы. Медвежонок, стоя на задних лапах, все время ахал от восхищения и скреб себе когтями затылок при виде маленькой и семенящей вблизи него разноцветной Генриетты Францевны.
Генриетта Францевна одевалась несколько странно – слишком молодо и ярко. Седые свои кудряшки она повязывала оранжевой лентой, а копаясь в саду, напевала скачущие швейцарские песенки. Это обстоятельство удивляло всех окружающих, а не только неотесанного медвежонка.
Однажды Самойлин привел с собой еще и широкого, как шкаф, и как бы склепанного из вздутых железных мускулов белобрысого человека в заштопанной тельняшке. То был борец из захолустного сухумского цирка по фамилии Запаренный – мужчина невозмутимый и сговорчивый. Кроме того, у Зацаренного было редчайшее достоинство – он хорошо говорил по-абхазски, так как был женат на абхазке.
Борец согласился идти с нами к Главному хребту. Он прекрасно знал Абхазию и тут же набросал наиболее возможный и точный маршрут: через селения Мерхеулы и Цебельду, вдоль дикого ущелья Гаргемыш на горное озеро Амтхел-Азанда у подножия величественного массива Марух, немного к северо-западу от Клухорского перевала.
Я с наслаждением вслушивался во все названия, предчувствуя удивительный, неторопливый поход.
Названия некоторых вершин звучали так, будто мы перенеслись в Южную Америку. Особенно удивляла меня гора по имени Агуа. Агуа – Аконкагуа – в этом было что-то девственное, как леса, еще не тронутые топором человека.
Я был слаб после болезни, но счастлив. Мне казалось, что я впервые испытываю длительную радость от воплощения давнишней мечты. Я перебирал свою жизнь и тут же убеждался, что это действительно так и что до тех пор все увлекательные мои путешествия часто бывали ограничены четырьмя стенами комнаты.
Счастье началось в утро, назначенное для выхода из Сухума. Я проснулся от слитного птичьего свиста.
Может быть, сотни, а вернее, тысячи птиц, поблескивая разноцветным оперением, шевелили густую листву мушмулы, мимозы и тополя. Для меня, как и для подавляющего большинства людей, было непонятно это суетливое воздушное общество, все эти вихри и путаницы перелетов, преследований друг друга и непрерывных трепыхании.
В то время я почти не мог назвать ни одной птицы, кроме воробья и ласточки. Не только я, но многие люди, кроме специалистов-орнитологов, не знали птиц. Тогда я воспринимал этот шумный летучий мир чисто внешне.
В огромном и таинственном окружении природы мы жили как бы с завязанными глазами. Мы знали о нем только случайные отрывки.
Примерно с тех пор я начал еще упорнее накапливать познания, но без всякого разбора. У меня не было последовательности. Знания подбирались главным образом по степени их живописности и пригодности, чтобы блеснуть ими в разговоре или в прозе.
Да, в то утро ухода из Сухума я проснулся от птичьего треньканья, встал и подошел к окну.
Воздух в саду был холоден, как стекло. И, как на стекле, на нем лежали прозрачные тени деревьев. Утренний запах воды наполнял все пространство вокруг дома. Мне казалось, что в этом запахе соединялось дыхание листьев, древесной коры, горного снега, ручьев, падающих с высоты вдоль отвесных скал, мяты и вина. Все это сливалось в один запах, терпкий и возбуждающий. То было дыхание приморского субтропического утра.
Шум, утро, его свежие брызги, высокие переливы птичьей переклички, качающиеся мокрые ветки, воздух, щедро пролитый с неба, и запахи – все это было, безусловно, счастьем, но медленным, спокойным и верным.
Оно не могло изменить мне потому, что существовало помимо меня.
Озеро Амтхел-Азанда
Вышли мы из Сухума рано, когда пыль на дорогах еще не раскалилась. В эту пыль падали толстые лепестки огромных, растрепанных, как итальянские красавицы, пунцовых роз.
Сейчас, почти через сорок лет, весь тот путь, что мы прошли тогда втроем, конечно, изменился и никто из нас его, должно быть, сразу, и не узнает. Возможно, что от прошлого сохранились только очертания гор, но даже и в этом я не всегда уверен.
Изменения в природе обладают свойством мгновенно распространяться во все стороны, как круги по воде от брошенного камня.
Поэтому я и хочу здесь бегло закрепить этот путь и весь поход на озеро в том виде, в каком он предстал перед нами тогда.
Мне трудно ответить на вопрос, зачем я все это делаю. Стремление сохранить в нашей памяти то, что безвозвратно исчезает, – одно из сильнейших человеческих побуждений. В данном случае я ему подчиняюсь.
Сначала мы шли по берегу горной речки Келасуры. Она вырывалась из теснин и, как бы вздохнув, разливалась мелкими плесами по гальке. То тут, то там она закручивала среди изумрудного потока полосы пены, похожие на страусовые перья. Течение разрывало эти перья, но тут же они появлялись опять, еще более пышные, чем раньше.
За селением Мерхеулы мы, спрямляя дорогу, пошли через жаркие кукурузные плантации. Ни одна струя свежего воздуха не могла прорваться сквозь шелестящий частокол кукурузы.
Духота была тем тяжелее, что совсем вблизи, казалось, над самыми метелками кукурузы, в поблекшем небе вздымались ледяные хребты Кавказских гор, подернутые голубеющим угаром. Там вдали чувствовался их освежающий сердце холод. И мы, обливаясь потом, рвались к ним, проклиная засуху, проклиная пыль и горячие комья глины у нас под ногами.
Только к вечеру мы вышли из лабиринта кукурузников на дорогу, упали на берегу какого-то шумящего потока и начали жадно пить холодную воду. От нее сводило челюсти.
Борец захватил стеклянный стакан. Неразумно было брать в такой поход стеклянные вещи. Но, очевидно, у него не было ничего другого, и он схватил то, что попалось под руку.
Борец вымыл в потоке стакан с таким усердием, что стекло заскрипело у него под пальцами, зачерпнул воды, и мы увидели, что этот прозрачный стакан по сравнению с горной водой был серым и грязноватым.
Я никогда еще не видел такой воды. Она была чище воздуха. В ней ощущалась целина небесных пространств. Вода эта родилась над нами, на огромной высоте, где как бы струились, не двигаясь с места, облака из ледяных кристаллов.
Эта вода долго лежала в виде кристаллов на вершинах гор. Давление все сильнее сжимало кристаллы. Они становились более прозрачными, чем алмазы. А потом эти кристаллы, слежавшись в ледяную толщу, стекали ледниками с гор и, встретившись на кромке земли с первыми цветами крукосов и эдельвейсов, тихонько таяли и начинали свой бег в низины, где клубилось Черное море.
Как рассказать, что за цветы эдельвейсы? Это трудно. Вообще говоря, они похожи на маленькие звезды, закутанные по горло в белый мех, чтобы не замерзнуть от прикосновения льдов.
Иногда мне хочется встретить собеседника, с которым можно, не стесняясь, поговорить о таких вещах, как эдельвейсы или запах кипарисовых шишек.
К сожалению, таких собеседников в обыденной жизни я не встречал. Они попадались только в книгах. Пожалуй, самым внимательным и веселым собеседником по этим предметам был наш несколько болезненный друг Генрих Гейне.
Свой романтический плащ он, конечно, прикрывал иронией, чтобы избавиться от свиста и насмешек тех самых дураков, которых, по его авторитетному мнению, на земле было больше, чем людей.
Так я думал, лежа на берегу горной речки (это, кажется, уже была не Келасура, а какая-то другая река), предаваясь восхитительной лени. У меня и моих спутников не было никакого желания двигаться дальше.
Мы предпочитали лежать на сухой гальке и смотреть в небо. А оно как будто обрадовалось нашему пристальному вниманию и затеяло воздушную игру, пронося по зениту туманные покрывала разных слабых и блеклых раскрасок – то сиреневой с оттенком серебра, то оливковой, то розовой, как полудрагоценный камень: о нем все знают, но редко кто его видел. Кажется, он называется александритом.
С трудом мы добрели до крайнего дома в селении Цебельда. Селение это как бы ныряло среди зеленых кудрявых холмов.
Мы ночевали на ветхой дощатой террасе. Она шаталась от малейшего движения и скрипела, как сухая арба.
Всю ночь в кукурузниках скулили шакалы, а когда ближе к утру взошла луна, их жалобы превратились в заливистый вой.
К террасе подошел сторож – старый абхазец с длинным кремневым ружьем времен покорения Дагестана. Посидел на бревне около ступенек, покурил и спросил меня:
– Чего люди горячатся? С утра до вечера? Не знаешь? Я, понимаешь, счастливый уродился. Я двадцать лет хожу здесь сторожем вместе с собакой и ни с кем не спорю. Зачем спорить? Поспоришь – неприятность тебе сделают, побьют собаку. А ее жалко, она слепая на один глаз. Зовут ее Ахах!
Я подивился на такое странное собачье имя и спросил:
– Есть у тебя кто-нибудь? Или нет?
– Нету. Была жена, была дочь. Красивые обе. Они в Сухум ушли. Что им сохнуть в этой кукурузе! Я старик, видишь? – Сторож показал мне при свете луны заплаты на бешмете. – На Марух пойдешь? – спросил он равнодушно. – Горячишься? Обвалы на Марухе. Кого там искать будешь?
– Чего ты тут сторожишь?
– Много сторожу. Всякий огород, всякий дом, всякую кукурузу. Люди спят – я сторожу людей. Большой кусок земли обхожу. Вон, слышишь, – от того шума и до этого.
Он обвел рукой широкий полукруг. Я прислушался. Вдали шумела вода, а с противоположной стороны от этого шума она тоже шумела, но тише, как будто это было эхо первой воды.
– Водопады, – сказал сторож и встал. – Всю ночь шумят. Бог им приказал, чтобы работали, не смели молчать. Сердитый бог, вспыльчивый. А зачем сердится? Мы работаем, слушаемся его, а он то нашлет войну, то – болезнь на табаки, то даст плохих детей. Нехорошо поступает! Горячится! Несправедливо поступает.
Старик почмокал губами и ушел. За ним побрел косматый черный пес. Каждую минуту пес присаживался и с исступлением вычесывал блох.
Я уже не мог уснуть.
Сейчас, когда прошло уже много лет, я вспоминаю тот день и радуюсь, что впервые увидел тогда в самой глубине гор беззвучный и душистый, как дождь, рассвет.
Ледяные главы Большого хребта пламенели каемкой солнечного света. Он падал на старые окна дома, зажигал их радугой, и стекла отражали какое-то странное утро, лишь отдаленно похожее на то, что начиналось вокруг.
Странным я его называю потому, что оно походило на те утра, что писали художники Возрождения на своих картинах-иконах. Там, на этих картинах, мальчик с тонким посохом пас ягнят, похожих на мелкие облака. Дальние горы казались вырезанными из разноцветного картона. Курчавые деревья напоминали виноград. Вода сливалась с игрушечных гор выпуклыми каскадами. Отдельные цветы высовывались из земли в самых неожиданных местах. Единорог стоял на поляне, сияя золотым рогом, как зажженная пасхальная свеча. Мадонна склоняла нежный профиль к пухлому младенцу, вынув из-под сорочки полную грудь с темным соском.
Странным – вот таким, как я его описываю, – это утро показалось мне только на мгновение, потому что на это мгновение я уснул.
Когда я проснулся, борец с Самойлиным уже кипятили чай на костре.
В Цебельде у Задаренного был знакомый фельдшер, грек по происхождению.
Мы провели весь день в его расшатанном доме. Почему-то в Цебельде не только терраса, где мы ночевали, не многие дома качались и потрескивали, как после землетрясения. Очевидно, от ветхости.
Жена фельдшера, тучная и сонная русская женщина, накормила нас пловом с крупным изюмом.
Маленький дом фельдшера напоминал шкатулку с секретными ящиками или кладовую для всяческой смешной рухляди.
Только в детстве я видел такую обстановку, как в тесном домике фельдшера.
Около громадного, похожего на броненосец, коврового дивана стоял круглый стол, покрытый бордовой бархатной скатертью.
Какие-то жуки проели в этой скатерти много запутанных дорог. Для этого они сжевали ворс до самой основы.
Дороги на скатерти, если приглядеться, напоминали тропинки среди пыльных хребтов.
На скатерти покоились гигантские пухлые альбомы. Фельдшер увлекался тем, что вырезал отовсюду – из старых журналов и газет, иногда даже из книг – самые интересные картинки и клеил их в альбом.
Чаще всего фельдшер клеил фотографии всяких «августейших особ», особенно беспутного английского короля Эдуарда VII, актрис и адмиралов. Любовь его к пышной морской форме и своему греческому старенькому флоту была трогательна и неистребима. Над диваном висела литография знаменитого крейсера «Аверов», купленного Грецией за гроши не то у республики Чили, не то у республики Перу. Но, в общем, это не имело никакого значения.
Ax, этот крейсер «Аверов»! Сколько в те годы я видел в Одессе его роскошных изображений! Из его труб всегда валил устрашающий дым, и десятки греческих бело-голубых флагов развевались во всех местах корабля, куда только можно было прицепить флаг.
«Аверов» – гроза морей – гордо нес свою обветшалую стальную броню. Даже качаться на волнах, расходившихся от его ахтерштевня, было лестно каждому, кто понимал толк в кораблях.
Я несколько раз уже писал об «Аверове». Это моя слабость. Я не устану прославлять этот крейсер, как символ независимости маленького народа и его борьбы против натиска всякого рода хищников.
Карикатуры на этих хищников тоже были наклеены в альбоме у фельдшера. То были тощий «дядя Сэм» с козлиной бородкой, в жилете из звездного американского флага, шаровидный Джон Буль со знаком фунта стерлингов на животе, унылый, носастый Абдул-Гамид и перезрелая куртизанка во фригийском колпаке – Франция.
Были альбомы только с видами и только с литографиями семейных картин тяжеловесных немецких художников вроде Каульбаха. Мне всегда казалось, что от этих картин попахивает пеленками.
Был, наконец, альбом с гравюрами обнаженных красавиц – томных, волооких, сидящих, заложив ногу на ногу, на огромном серпе месяца, сыплющих цветы из рога изобилия, стыдливо прикрывающих груди, как Леда под жгучим взглядом лебедя, купающихся, причесывающихся, убегающих от козлоногих сатиров и пляшущих с тимпанами в извилистых руках.
Правда, этот альбом лежал в сторонке, на этажерке, стыдливо прикрытый пачкой газет. Кроме того, по стенам висело много гипсовых блюдечек с нарисованными на них спелыми вишнями и грушами.
В одной из астрономических книг, кажется, у Джинса, я прочел, что радующий нас растительный покров земли перед лицом величественных явлений природы – только жалкая плесень.
И вдруг эта квартирка фельдшера с заношенными вещами, альбомами и запахом жидкости от клопов действительно показалась мне плесенью перед стеной блистательных гор, взнесенных к небу. Они стояли над копошащимся в долине человечком с его вялой, заспанной женой, с его неприбранным миром. Луч солнца, усиленный всего в десять раз, может мгновенно превратить этот мир в тошнотворно пахнущий пепел.
За обедом фельдшер – его звали Яни – сказал речь по случаю нашего похода на озеро Амтхел-Азанда. Говорил он, как старомодный оратор, – с риторическими вопросами, с пафосом и дрожанием голоса, или, как выразился борец, «играл на сердечной струне».
– О Александер! – восклицал Яни. – В Сухуме расцветают лавры! Они не дают тебе спать. Ты жаждешь открытий! Славы! Зачем? Тебе разве мало своего любимого семейства – милой жены Маргариты и сына Пахома?
– Ты лучше покажи дорогу на Амтхел! – сердито ответил борец.
– Про Маргариту я и без тебя знаю.
Фельдшер с грустью покачал головой.
– Вот именно! – сказал он с укором, – Я сам, своими руками толкаю человека на опасный путь! Сам!
– А что же там опасного? – спросил Самойлин.
– Там могут быть дезертиры, – зловещим голосом ответил фельдшер. – Они застряли здесь еще со времен войны. Они живут шайками и бродят по горам.
Фельдшер повернулся к борцу.
– Я предупредил тебя! Я умываю руки! Ты слышишь меня?
– Ну, умывай, умывай, – добродушно согласился борец. – Не устраивай здесь Художественный театр. Одевайся и проводи нас до начала тропы.
Фельдшер, вздыхая, вывел нас за околицу Цебельды, к буковому лесу, и показал тропу. Он сказал, что через километр тропа окончится и дальше нам придется идти по зарубкам на деревьях.
Я впервые видел сплошной буковый лес. Это был светлый лес, торжественный, как византийский собор. Или, пожалуй, он больше напоминал бесконечную колоннаду из высоких стволов, как бы обтянутых зеленоватой замшей, – некий мшистый и прохладный форум по склонам гор.
Мы шли часа два, наслаждаясь всем, что окружало нас, – немного резким воздухом лесной подстилки, лучами солнца, рывшимися в мокрой листве, непонятным далеким гулом. Может быть, это гудели, падая с высоты, камнепады, а может быть, это было эхо от раскатистых лавин,
Зарубки привели нас в узкое ущелье Гаргемыш.
Борец вдруг нахмурился. Мы пошли медленнее. Борец приказал нам получше смотреть по сторонам и искать на ходу места, где мы могли бы скрыться на случай неприятной встречи. С кем, он не сказал, но мы поняли, что он думает о сванах.
Но прятаться было совершенно негде, кроме как в кучах бурелома или за толстыми стволами буков. Кроме того, как сказал Самойлин, прятаться было бесполезно, так как горцы видят за триста шагов даже муху, сидящую на стебельке травы.
Ущелье суживалось. Мы шли с опаской, поглядывая по сторонам, и потому, должно быть, заметили людей поздно, когда они были уже шагах в двухстах прямо от нас.
Они подымались навстречу и ступали осторожно, как рыси. Ни одна ветка не треснула у них под ногой. Их было четверо. У каждого на плече висел обрез. Только шедший впереди пожилой человек держал винтовку в руках.
– Спокойно! – тихо сказал борец. – Идите как на прогулке по набережной.
Расстояние сокращалось. Дезертиры спокойно и пристально смотрели на нас. У нас же на лицах, как я понимаю теперь, появилась, очевидно, деланная и растерянная улыбка. Только борец был бесстрастен, но и у него мелко дрожало правое веко.
Передний остановился, снял винтовку и поднял ее перед собой на вытянутых руках. Он загородил нам путь. Винтовка выглядела, как закрытый шлагбаум.
Мы остановились. Остановились и дезертиры, но никто из них не подошел ближе, как бы соблюдая почтительное расстояние между собой и пожилым предводителем.
Все молчали. Наконец пожилой, не опуская ружья, спросил резким, как птичий клекот, голосом:
– Чего русскому человеку здесь надо?
– Мы идем на Амтхел-Азанда, – ответил борец. Он достал пачку папирос и предложил вожаку. Но тот папирос не взял, только сверкнул на них желтыми белками и спросил:
– Зачем на Амтхел?
– Охотиться, – невозмутимо ответил борец.
– Ай-ай-ай! – Вожак покачал головой, и в горле у него что-то заклокотало. Я не сразу понял, что он, очевидно, смеется. – Зачем обманываешь, неправду говоришь? А где же ваши ружья, охотники?
– Ну, вот и все! – тихо сказал мне доктор Самойлин. Никакого оружия у нас не было. Вообще в Сухуме можно было бы добыть в то время завалящий револьвер, но борец уверял, что идти без оружия безопаснее.
Борец усмехнулся и что-то сказал вожаку. Тот, прищурившись, долго смотрел на борца, потом – на каждого из нас, как будто соображая, что с нами делать, и только после этого ответил борцу.
– Он предлагает, – сказал нам равнодушным голосом борец, – сесть на этот поваленный бук и покурить.
Мы сели на поваленный бук. Около каждого из нас сел горец.
Я спросил вожака, где он так хорошо научился говорить по-русски.
– На войне… В Дикой дивизии…
Рядом со мной сел юноша с таким выражением девственного любопытства в глазах, точно он только что появился на свет. Даже рот у него был слегка приоткрыт. Все привлекало его внимание, вплоть до шнурков на моих чувяках.
Юноша осмотрел меня, достал у меня из бокового кармана гимнастерки пачку папирос и переложил ее себе в карман.
Потом он повертел у меня на пальце обручальное кольцо, почмокал губами от восхищения и осторожно, ласково улыбаясь, снял кольцо и тоже опустил себе в карман.
Ему было трудно снимать кольцо одной рукой. Потому на это время он дал мне подержать обрез.
Все молчали. Потом дезертиры заставили нас встать и долго обхлопывали своими твердыми ладонями, должно быть разыскивая спрятанное под одеждой оружие. Они ничего не нашли и начали переговариваться, недовольно поглядывая на нас.
Во время обыска они взяли у борца зажигалку, а у Самойлина – старые карманные часы. Наши рюкзаки с продуктами они не тронули. Только один лениво ткнул в них ногой, очевидно для очистки совести. При этом он что-то пренебрежительно сказал, и все горцы вдруг закричали друг на друга с такой яростью, что, казалось, вот-вот начнется резня.
Они хватали друг друга за руки и за грудь, замахивались прикладами, шипели и внезапно выкрикивали что-то стремительное и, очевидно, что-то невыносимо обидное, потому что каждый такой крик оканчивался общим негодующим воем.
Во время этой ссоры они не обращали на нас никакого внимания. В азарте они задевали и толкали нас, будто мы были невидимками.
Пожилой вожак сидел на бревне, курил, почесывал грудь и, казалось, не слышал этой непонятной ссоры. Потом он лениво встал, подошел к тому юноше, что взял у меня обручальное кольцо, схватил его за обрез и что-то сказал властно и коротко. Юноша стал наливаться кровью, но все же медленно полез в карман, вынул кольцо и отдал его вожаку. Вожак отобрал еще зажигалку и ручные часы, прикинул все это на вес на ладони, сунул за пазуху и сказал борцу:
– Иди куда хочешь, но назад не вернешься! – Дезертиры сразу стихли и, вытянувшись цепочкой, пошли следом за ним.
Мы стояли в недоумении.
– Что это значит? – спросил Самойлин.
– Это значит, – ответил борец, – что они пока что пропустили нас на Амтхел, но не пропустят обратно. Подкараулят где-нибудь здесь. Другой дороги нету.
Я ничего не понимал. Если они хотели ограбить и даже убить нас, то у них была полная возможность сделать это сейчас.
– Лучше ни о чем не думать, – посоветовал борец. – Кривая меня не раз вывозила. Вывезет и теперь. На озере поговорим. Но идти надо все-таки осторожно. Старайтесь, чтобы стволы буков закрывали вас от выстрела в спину.
Мы прошли ущелье и с обрыва в лесу увидели Марух. Он горел в небе, как голубой алмаз в гранитной оправе.
Все вокруг поражало меня смешением грандиозного и бесконечно малого, причем и то и другое было одинаково прекрасно: и отдаленные ледяные гребни Маруха, над которыми нависали громадные карнизы слежавшегося снега, и близкие мелкие цветы кизила на только что родившихся кустах. Кусты эти выглядывали из расщелин в скалах.
Вокруг нас толпилось огромное общество горных трав, хвощей, ворсистых оранжевых цветов, хвои, длинной, как вязальные спицы, и все это, разогретое солнцем, испускало смолистый и нежный запах.
Напряжение после встречи с дезертирами доконало нас. Мы просто упали в густой мох на скалу среди леса, похожую на громадный жертвенник, и пролежали часа два без всякого желания двигаться дальше.
Несколько раз в жизни мной овладевала мысль о соседстве мирной и безмятежной природы с человеческой жестокостью.
Впервые эта мысль потрясла меня и довела до ярости на человека, когда в 1919 году в Полесье я увидел мальчика лет десяти, убитого бандитами в то время, когда он сидел на колосистом берегу реки Уж и удил рыбу самодельной ореховой удочкой. Солнце горело над ним, а теплый ветер медленно проносил по небу пушистые облака.
Бандиты из какого-то подлого отряда какого-то подлого батьки Струка заметили мальчика с другого берега реки и, гогоча, расстреляли его, как мишень.
Местные лесовики, боясь бандитов и потому как бы оправдывая их, говорили, что «хлопцы» были пьяные. Но в том, что пьяный человек становится хуже самого грязного скота, нет для людей никакого оправдания.
Я никогда не забуду нагретые солнцем волосы мертвого веснушчатого мальчика – милые, выгоревшие, детские и какие-то беспомощные волосы. На лицо мальчика я не смотрел. Но этот день моей жизни я буду помнить до смерти. Я не решался рассказать о нем никому, даже маме, чтобы не омрачать ее жизнь. Только сейчас я впервые заговорил об этом.
И вот тогда, лежа в лесу по дороге на Амтхел, я подумал, что пять бандитов неизвестно почему хотели убить нас, а может быть, еще и убьют. Эта мысль привела меня в такое же состояние отвращения и. ярости, какое было тогда на реке Уж. Сразу оборвалась вся радость, все торжество природы.
Единственное, что постепенно успокоило меня, были напоминания природы – какие-нибудь душистые чешуйки, прилипшие к моей губе, или ничтожный родничок, недоверчиво и осторожно пробиравшийся сквозь травянистые джунгли, боясь потерять дорогу к глубокой выемке в скале, где вода его собралась в синее озерцо.
Стоило увидеть все это и пристально рассмотреть, чтобы мир снизошел (как любили писать в старину) на смятенную человеческую душу.
Прозрачная вода цвета зеленоватой лазури лежала внизу. По ней плавали сухие коричневые листья кленов.
Листья собирались в эскадры и двигались очень дружно: поворачивали, как по команде, «все вдруг», а при малейшем ветре срывались с места, будто с якорей, и, перегоняя друг друга, уплывали на середину озера. Там вода горела спиртовым огнем.
У самого берега плавали водяные курочки с бисерными веселыми глазами.
Налево, цепляясь за отвесные гранитные стены, вздымался лес, такой же загадочный, каким он казался издалека. Позади нас шуршали осыпи. А направо я боялся даже смотреть – там, рванувшись к небу, остановился, весь напряженный, казалось, до медного стона в своих жилах, угрюмый, непостижимый Марух.
В одном месте, очевидно из ледниковой пещеры, летела по воздуху широкая струя воды и падала, сосредоточенно шумя, в озеро.
То была река Азанда. Она вливалась в озеро со стороны ледников водопадом, а у нас под ногами, на заваленном скалами пляже, стремительным потоком уходила под землю, исчезала у самых ног и засасывала водоворотами в подземные страшные бездны все, что мы бросали в воду: каждую ветку и каждый клочок бумаги.
Борец рассказал, что за двенадцать километров к югу река Азанда снова вырывалась на поверхность пенистым потоком и опрометью неслась, зажмурив глаза от внезапного солнца, к Черному морю.
Камни шевелились под речной водой и били друг друга, будто пробовали, чей звон продержится дольше.
Я боялся пристально смотреть на Марух. Мне начинало казаться, что льды на его вершине тоже двигаются, как река, и вот-вот сорвутся грохочущим на весь мир ледопадом. Но все же я время от времени взглядывал на Марух. Он притягивал к себе, заставлял смотреть на себя и угадывать тайны, спрятанные в тени его ущелий и в слабом колыхании альпийских лугов.
Я еще не знал, какие могут быть у Маруха тайны от нас, но временами уже различал розовые лишаи на скалах, медленное передвижение теней – они крались к вершине, чтобы погасить ее свет, различал струи дыма, катившиеся, погромыхивая, вниз по склонам Маруха. Потом я догадался, что это не дым, а пыль от осыпей.
Вeсь день Марух стоял против нас, как бронзовый, позеленевший престол какого-то исполинского грозного божества, как угловатый щит аттического героя – Геракла или Атланта. Конечно, Марух мог, подобно Атланту, держать на своих плечах весь земной шар.
Вечером Марух превратился из бронзового в сияющий до боли в глазах золотой самородок такой величины, что его блеск, очевидно, был заметен даже на луне.
– Теперь, – сказал мне Зацаренный, – живите в этой тишине, молчите, смотрите и думайте. В Сухум вернетесь другим человеком. Самого себя не узнаете.
Я с удивлением посмотрел на борца. Я не ожидал от него таких слов. До этого он казался мне человеком простоватым и недалеким.
Почему-то сейчас меня преследует мысль, что нужно записать весь порядок событий на озере, хотя по существу никаких событий не было. Но все-таки…
Все-таки началось с того, что нам пришлось спускаться к озеру по отвесному склону, цепляясь за корни деревьев и за кусты самшита.
Тогда я впервые узнал, что крошечный самшит, похожий на кустик нашей брусники (и с такими же мелкими кожистыми листиками), легко выдерживает тяжесть взрослого человека.
На озере был намыт узкий пляж из песка, заваленный каменными глыбами, скатившимися с гор.
В одном месте глыбы легли так, что образовали глухую и длинную пещеру с выходом к самой воде. В этой пещере мы устроили бивуак.
Пещера казалась необыкновенно уютной. Очевидно потому, что защищала от дождей, осыпей и ветров.
В пещере мы более или менее спокойно ели. Никто нам не мешал.
В первый же день мы по неопытности разложили еду на берегу, на разостланном плаще. Тотчас из воды вышла маленькая водяная курочка, приковыляла прямо ко мне и, крякнув, вырвала у меня из рук кусок хлеба. Я отнял у неё хлеб, но она начала драться и несколько раз больно ущипнула меня за палец.
Тотчас с берега приковыляло еще несколько совершенно непуганых курочек.
С тех пор мы ели осторожно и прятали рюкзаки с продуктами под камни. Но курочки все равно собирались около нас, как только мы начинали есть. Они толпились и толкались, пытаясь пробиться к нам поближе, наступали друг другу на перепончатые лапки и выщипывали перья.
Когда мы ловили их, они подымали неистовый крик, но только до тех пор, пока кто-нибудь из нас держал их в руках. Стоило отпустить курочку на землю, как она тотчас же начинала карабкаться к вам на колени и вырывать из рук любую еду.
Это нам нравилось.
– Должно быть, – глубокомысленно сказал Задаренный, – так свободно вели себя звери только в раю.
С тех пор как мы появились на озере, водяные курочки держались только у того берега, где был наш бивак. Они старались далеко не отплывать, чтобы не пропустить кормежку.
Но не все звери вели себя так добродушно и доверчиво. Были у нас на озере и враги – шакалы и маленькие горные медведи.
Самыми наглыми и изобретательными были шакалы.
В первую же ночь они украли наш жестяной чайник и потащили его в горы, но уронили. Чайник с лязгом и грохотом покатился в озеро.
Мы проснулись вовремя и спасли чайник. На нем оказалось несколько больших вмятин от удара о камни, но все же он не потек. Мы благодарили за это судьбу. Иначе мы бы пропали без чая. Особенно плохо пришлось бы Задаренному. Он мог пить чай весь день, сидя на солнце и блаженно прищурив глаза.
– Какой воздух! – говорил он и шумно вздыхал. – Не воздух, а бальзам Тоно-Бэнге!
На вторую ночь шакалы подползли к нам «по-пластунски» и пытались вытащить из-под головы у Самойлина мешок с продуктами. Мешки мы из предосторожности клали себе под голову, но оказалось, что это тоже не спасает нас от воровства. Тогда мы решили по ночам дежурить по очереди у костра.
В первую же ночь дежурства борец задремал и очнулся, когда шакалы, упираясь всеми четырьмя лапами, тащили из-под камня пакет с копченой рыбой.
Тогда я придумал, как мне казалось, замечательный способ борьбы с шакалами. Я нашел на берегу длинный сухой шест. Когда пришла моя очередь дежурить, я сел у костра и положил шест рядом с собой. Задаренный и Самойлин уснули. Я тоже притворился спящим. Я даже слегка всхрапывал.
В эту ночь я впервые увидел, как подползают шакалы. «Ах, как интересно!» – скажете вы. Но я утверждаю, как свидетель, что, может быть, это для кого-нибудь и интересно, но главным образом противно и даже страшно.
Шакалы подползали в свете костра, как тени, как шевелящиеся облезлые призраки.
Я осторожно засунул конец шеста в огонь. Шакалы на мгновение замерли, потом снова начали подползать.
Впереди полз вожак. Я его уже хорошо видел в отсвете костра. Уши у него были прижаты, а щербатая морда была на всякий случай оскалена.
Я ждал, пока вожак подползет к костру (около него лежала в виде приманки колбаса) на длину шеста, потом стремительно выхватил из костра пылающий шест и ударил им вожака.
Вожак прежде всего вскрикнул. В его злом крике мне даже послышались наши человеческие слова: «Уй, черт!»
Потом он прыгнул, но не вперед, а назад и кинулся в горы, уводя за собой всю стаю. Запахло паленой шерстью. Из этого можно было заключить, что я подпалил шакалью шкуру.
Задаренный и Самойлин проснулись. Они расхваливали мою находчивость. Они, как мне кажется, даже льстили мне при этом. Я был готов возгордиться своим открытием. Но если бы я знал, какие невыносимые последствия обрушатся на нас после моей расправы с шакалами, то я бы, конечно, не делал таких опрометчивых опытов.
Шакалы взобрались на соседние скалы и все как один завыли с таким отчаянием и остервенением, что ни о каком сне под этот вой не могло быть и речи. Они мстили нам и выли двое суток.
Медведи оказались зловреднее шакалов. Они придумали ловкий способ, чтобы выжить нас с озера. С тех пор мы пребывали в какой-то нервной осаде, и если уцелели, то только благодаря постоянной настороженности.
С утра медведи залегали вверху, по краю отвесного обрыва, и, свесив головы, следили за нами.
Если кто-нибудь из нас, забыв об опасности, проходил внизу по берегу мимо медведей, они спускали на него камень и вызывали обвал. Летела пыль, грохотали, подскакивая, большие валуны, стреляла во все стороны и со свистом врезалась в воду щебенка. Самойлин чуть не погиб под таким обвалом.
Мы пытались прогнать медведей, но у нас не было оружия. Свист и ругань на них не действовали.
Это было очень досадно. Мы не могли свободно ходить по берегу, а должны были держаться под прикрытием пещеры.
Иногда Задаренный терял терпение, поносил медведей могучим басом и грозил им кулаком. В ответ медведи оживлялись, с любопытством вытягивали головы и спускали новый обвал.
Но, наконец, судьба отомстила за нас. Маленький медведь слишком далеко высунулся над обрывом, сорвался, пронесся черным косматым шаром мимо нас, с сильным плеском грохнулся в воду, коротко взревел, нырнул и исчез навсегда. Очевидно, он утонул, бедняга.
Медведи просидели на обрыве до вечера, ушли и больше не возвращались. Исчезновение товарища напугало их. Они, очевидно, приписали это нашим, человеческим козням.
У берегов в синей воде лежали большие плоские камни цвета слоновой кости.
В одном месте камней этих было так много, что я, перепрыгивая с камня на камень, добирался чуть ли не до середины озера, чтобы поудить рыбу. У последних камней было очень глубоко.
Однажды я сорвался с камня и почувствовал нестерпимый обжигающий холод ледниковой воды. Ступню тотчас же свела судорога, будто кто-то начал быстро наматывать на спицу тугое скрипучее сухожилие. Казалось, что оно вот-вот лопнет.
Но на камнях, несмотря на космически холодную воду, было жарко – на озере всегда стояло безветрие. Хрустальность (а, может быть, вернее – кристальность) отражений в его воде была настолько совершенной, что отличить отражение берегов и гор от настоящих берегов и гор было невозможно.
Как бы два Кавказа существовали вокруг. Один вздымался к высокому небу, а другой уходил в сияющую бездну под нашими ногами. По дну этой бездны медленно передвигались, как и по небу, одинаковые перистые облака.
Когда я забрасывал в озеро леску с грузилом, то каждый раз разбивал идеальную слитность этого мира.
Время от времени брала сильная, как напряженный мускул, форель – пеструха. Или лобан стремительно уводил леску по прямой и, мотнув хвостом, обрывал ее, кал паутину.
Это было удивительное занятие – ловить рыбу в жидком сапфире и жадно насыщать свои глаза всем, что располагалось вокруг, – от узора трещин на плоском камне до поплавка из связанных пучком сухих листьев клена. В момент клева листья складывались, как веер, и медленно погружались в воду.
Я удил до вечера. На камнях меня заставал закат. Однажды я невольно вскрикнул от неожиданности, когда поднял глаза от поплавка и вдруг увидел отражение солнца на ледниках, как бы обагренных кровью.
Я вскрикнул невольно и рассердился на себя за то, что не сдержался. Но слишком огромен был размах сгорающего неба, слишком загадочен был дым облаков и слишком резок блеск льдов на вершине Маруха.
Вообще в жизни мне везло. Почти каждый день я узнавал или видел что-нибудь новое. А чем больше знаешь, тем интереснее и, как это ни покажется странным, таинственней делается жизнь.
Во время закатов у подножия Главного хребта я видел одно из самых величественных зрелищ на земле – разлив такого цветового блеска, что казалось, на этой высоте над уровнем моря у наших глаз появляется дополнительное свойство: видеть гораздо больше красок, чем в глубине долин, в степях и на морских побережьях.
Но все же я без сожаления ждал, когда закат начнет угасать. Потому что я знал, что в сумерках, слабо просвеченных далекими отблесками моря, заключено не меньше прелести, чем в горных закатах.
А потом все стихало, все дотлевало. Тишина садилась к костру и долго смотрела, как подергивались сиреневым пеплом последние угли. Часто падали звезды.
На шестой день у нас кончились продукты, и мы ушли с озера Амтхел-Азанда.
Борец был уверен, что около Цебельды мы снова наткнемся на дезертиров и на этот раз встреча нам не пройдем даром. Поэтому мы решили идти в Сухум прямо через горы, минуя ущелье Гаргемыш.
Карты у нас не было, но борец брался вывести нас к тому месту, где река Азанда, пройдя 12 километров под землей, снова выбивалась на поверхность. Дальше нужно было держаться вдоль реки и выйти к Мерхеулам.
Эти двенадцать километров мы шли весь день. В Сухум мы возвратились сожженные, пыльные, голодные, со стертыми ногами, но счастливые.
В Сухуме было сонно, душно и одиноко.
Во время моего отсутствия мадемуазель Жалю сдала соседнюю пустовавшую комнату белобрысому человечку, бухгалтеру из торгового отдела по фамилии Котников.
Все в этом рассудительном человечке было, как говорят врачи, противопоказано Сухуму, начиная с того, что он был веснушчат, беспрерывно мигал красноватыми альбиносьими глазками с белыми ресницами и любил петь песню: «Я б желала женишка такого, чтобы он в манишке щеголял». Пел он тонким, свистящим тенорком.
В свободное время он пил чай в саду под бананом. Вышитое петушками полотенце висело у него на шее. Он поминутно вытирал им потное красное лицо, прокашливался и снова запевал: «Чтоб он в манишке щеголял, в руке тросточку держал».
На Кавказе Котников вел себя так, будто это был не Сухум, а Пошехонье. Ничто его не интересовало – ни море, ни тропическая растительность, ни горы, ни абхазцы, ни их характер и нравы. Он любил вспоминать о городе Мологе, откуда был родом. Почти все свои рассказы он начинал одной и той же фразой: «Вот в нашем городке Мологе, у мамаши моей, уважаемой Аполлинарии Фроловны, был заведен зверский порядочек…»
С появлением Котникова сразу стало скучно. Время будто остановилось. Оно стояло бессмысленно, как испорченные часы, под назойливое мурлыканье счетовода «Вышла Маша в лес гулять, женишка себе сыскать».
Потом приехала из России жена Котникова – точно такая же, как и он, маленькая, курносенькая, вся в розовых веснушках. Она вошла в дом и, еще не сняв пальто, спросила мужа:
– Почем тут у вас яйца?
Конечно, это было несправедливо, но я сразу невзлюбил Котникова и его жену. И понял, что дальше жить в Сухуме совершенно бессмысленно и мне здесь нечего делать.
Я решил ехать дальше, в Батум. Там поселилась машинистка из «Моряка», Люсьена. Она вышла в Одессе замуж за художника Синявского и бежала из голодной Одессы в Батум. Она написала мне, что в Батуме объявлено «порто-франко» и город завален «шикарными товарами» – сахарином, бубликами, дамскими подвязками и шнурками для ботинок. «В крайнем случае, – писала Люсьена, – можно жевать подвязки».
Кроме Люсьены, в Батуме на Зеленом мысу жил Бабель с женой Евгенией Борисовной и сестрой Мери.
А я корпел в сухумском одиночестве и правил заметки в маленькой скучной газете.
Я возмутился на самого себя, сел без билета на пароход «Ильич» и уехал в Батум.
Наступал вечер. Берега Абхазии затягивались туманом. Я лежал на корме около флагштока, подложив под голову пальто и маленькую подушку, набитую сухумским табаком (вывозить из Абхазии табак было запрещено).
Неожиданно в терпкий запах табака ворвался принесенный с берега движением воздуха счастливый запах магнолий и мимоз – томительный воздух скитаний, Малой Азии, непроглядных зарослей и кромешных теплых ночей. И у меня сжалось сердце. Уходила – и, должно быть, навсегда – еще одна область земли, где я оставлял частицу своих мыслей и времени.
Через несколько лет я попал ненадолго в этот город и не узнал его. Он превратился в многолюдный и пышный щеголеватый курорт. На его улицах пахло не магнолией, а пережженным газом из выхлопных труб и палеными женскими волосами.
А сейчас я лежал на палубе и думал, что патриархальность Сухума окончилась навсегда.
Пожалуй, последним и трогательным событием этой жизни была встреча Михаила Ивановича Калинина.
Калинин проезжал на пароходе мимо Сухума и сошел на несколько часов на берег. На набережной собрался весь город – живописная толчея башлыков, черкесок, длинных седых усов, откидных рукавов с разноцветной подкладкой, кинжалов и брюк галифе с золотыми лампасами.
Когда шлюпка с Калининым отвалила от парохода и начала приближаться к берегу, простодушный начальник сухумской милиции проскакал на горячем коне вдоль набережной и крикнул толпе:
– Красивые, вперед!
В толпе произошло стремительное движение, но не раздалось ни одного крика, ни одного проклятия.
И действительно, на глазах случилось подобие чуда: толпа как бы сама по себе отобрала и выбросила вперед всех красивых – юношей с орлиными носами, серебряных старозаветных старцев и гортанных девушек, пышущих жаром от смущения.
Начальник милиции второй раз проскакал вдоль толпы, потом крикнул: «Душевно благодарю!» – и его конь, приплясывая, танцуя, прядая ушами, одним словом, кокетливо гарцуя, двинулся к пристани, где, как горный обвал, грянул гром оркестра из дудок и барабанов, так называемого «сазандари» – самого выносливого и бодро-заунывного оркестра в мире.
В плоском порту
Ночью я проснулся. «Ильич» стоял у причала в каком-то плоском порту. Мне показалось, что портовые огни плавают по воде, как плошки, – так низко они горели.
Я забыл, что по пути в Батум «Ильич» должен был зайти в промежуточный порт Поти.
Вокруг не было видно никаких признаков города. Потом я узнал, что от порта до Поти было далеко.
С неба редко падали капли дождя – теплые, как остывающий чай. Время от времени откуда-то приходил померанцевый запах.
Без видимой причины я ощутил прилив тоски, такой резкой и неожиданной, что даже растерялся.
Я, конечно, знал причину этой тоски, но не сознавался в этом, потому что ничем не мог себе помочь.
Тоска была давняя, прочная. Происходила она от затяжного одиночества, тем более непонятного, что по натуре я был человеком общительным, любил веселье и совершенно не был склонен к угрюмому самоанализу. Я хотел рвать жизнь охапками, как рвут весной сирень, хотел, чтобы мои дни никогда не повторялись и для меня хватило бы всех удивительных людей, стран и событий, какие только существуют на свете.
Но жизнь не по моей вине (вина, очевидно, была, но я ее не понимал) складывалась так, что и разнообразие жизни, и события, и скитания, и множество окружающих интересных людей – все это было дано в изобилии, но не было дано лишь одного – родственных, любимых и любящих людей.
Была мама, Галя, но меня отшвырнуло от них далеко, и мы переписывались так редко и так коротко, будто с трудом перекликались через широкую шумную реку и плохо различали друг друга на затянутых туманом берегах.
Не было дня, когда бы у меня не саднило сердце от этой оторванности и когда бы я вслух не стонал от досады на эту разлуку и от гнева на самого себя.
Я никак не мог справиться со своей жадностью. «К чему я все это коплю?» – спрашивал я себя, но никогда не отвечал на этот вопрос, так как копил я жизнь инстинктивно, в силу какого-то мне самому непонятного внутреннего побуждения.
Разгадка пришла только в последующие годы, когда я начал писать.
Жадность заставляла меня беспрерывно искать новых мест, людей, знаний, впечатлений, новых дел и невольно все дальше и дальше уходить от своего недавнего прошлого.
Оно было недавним, но вместе с тем ощущалось и как очень далекое. Например, между этой ночью в безмолвном потийском порту и хотя бы тем вечером на полуразрушенной даче на Фонтанах, когда Багрицкий читал стихи Блока, протянулись, мне казалось, целые годы. Я время чувствовал как бы на вес. Оно оттягивало руки.
Это состояние одиночества с особенной резкостью я испытал в Сухуме. Может быть, потому, что там я оказался вне среды, к которой уже привык за последние годы, – среди журналистов и писателей. Я оказался вне удивительного состояния, какое испытывал в последнее время в Одессе. Его можно было бы назвать ощущением ранней весны в нашей жизни, ощущением первого и еще неясного прикосновения нового искусства и новой литературы. Может быть, это сравнение несколько вычурно или в нем недостаточно вкуса, но я чувствовал именно так.
Приближалась бурная весна. Рождались замыслы, крепли силы, накапливался жизненный опыт, и вот-вот, как солнечный диск из-за гребня гор, должно было вспыхнуть где-нибудь гениальное слово.
Так я думал тогда и был счастлив этим ожиданием. Оно прогоняло тоску. Не только оно, но, конечно, и многое другое, даже сущие пустяки. Например, такая вот медленная дождливая ночь на пустой палубе парохода в порту, куда я никогда не предполагал попасть.
«Человек не может быть один, – думал я. – Никак не может. Иначе он погибнет».
Пароход отвалил. За молом осторожно вспенивались волны. Высокий маяк равнодушно клал на потревоженную воду свой неестественно белый свет.
Пришел матрос, привел на веревке маленькую белую собаку, совершенно косматую и несчастную, привязал ее невдалеке от меня к скамейке и ушел.
Собака дрожала так сильно, что когти ее постукивали по палубе.
Я отвязал ее, и она легла у меня в ногах. Сначала она тихо плакала, потом вздохнула и лизнула мне руку.
«Не только человек, – подумал я, – но даже собака не может быть одна. Не может!»
Я уснул. Сквозь сон я слышал, как у меня над головой тренькал лаг, отсчитывая пройденные мили.
Батумские звуки и запахи
Духанов и кофеен в Батуме было множество.
Застекленные двери во всех духанах и кофейнях были расшатаны. Они дребезжали и долго звенели при каждом толчке.
Постоянный звон дверей сливался со звоном листовой меди. Худые медники с провалившимися глазами выковывали из этих листов маленькие турецкие кофейники и приклепывали к ним длинные – тоже медные – ручки.
Тут же, на новых коврах, разложенных на мостовой, посреди узеньких улиц, нахальные девочки-цыганки били в старые бубны с колокольцами, танцевали и выкрикивали песни.
Новичков в Батуме узнавали по одному верному признаку: они старательно обходили ковры, боясь их запачкать. Но вскоре они узнавали, что ковры раскатывают во всю ширину улиц именно для того, чтобы поскорее уничтожить на них налет новизны и крикливых, еще не потускневших красок. Тогда приезжие начинали с наслаждением топтать ковры вместе с коренными батумцами.
Раздраженные базарным гамом, лягались лошади и тоже издавали звон, – у них на шеях висели гирлянды бубенцов.
Но Батум состоял не только из одного звона. Он состоял из множества вещей, например из шашлычного чада… Но раньше, чем перейти к этим вещам, покончим со звуками.
Итак, в Батуме, особенно на турецком базаре Нури, вас оглушал калейдоскоп звуков – от блеяния баранов до отчаянных криков продавцов кукурузы: «Гагаруз горячий!» – от заунывных стонов муэдзина на соседней мечети до писка дудок за окнами духанов и слезного пения выпивших посетителей.
Но особенно хороши были в Батуме звуки дождя и гудки пароходов.
Зимние батумские дожди пели на разные голоса[5]. Чем сильнее был дождь, тем выше он звенел в водосточных трубах. Пароходные же гудки были преимущественно одноголосые и баритональные, особенно у иностранных наливных кораблей с желтыми трубами и мачтами. Я попал в Батум в период осенних и зимних дождей. Они шли почти непрерывно, затемняя свет, погружая дни в теплый, почти горячий сумрак. Просветы случались редко.
Только несколько лет спустя я снова приехал в Батум (теперь он уже назывался Батуми), но уже ранним летом, и впервые увидел весь блеск и пышность батумской растительности и чистейшую синеву его неба.
Пароходы вползали, покрикивая, в живописные трущобы нефтяной гавани, швартовались впритык к духанам, складам и лачугам и нависали над шумной и тесной набережной своим рангоутом и такелажем. Как будто к берегу прибило стадо огромных железных китов.
Желтизна пароходных труб и мачт соединялась в моем представлении с песками аравийской или сомалийской пустынь и с Красным морем, где эти корабли неизбежно должны были проходить.
Иногда «иностранцы» подходили к батумскому порту, неся на гафеле желтый флаг. Это означало, что пароход по пути в Батум заходил в приморские порты, где никогда не затихала эпидемия холеры или оспы, чумы или дизентерии. Такой пароход уводили на рейд, ставили в карантин и окуривали трюмы серой.
Что касается запахов, то чаще всего побеждал чад баранины. И это очень жаль, потому что другие батумские запахи были гораздо приятнее этого чада. Но они редко могли через него прорваться.
Этот чад, въедливый, шершавый, саднящий горло, был хорош только тем, что напоминал о батумских шашлыках, пожалуй, лучших на Кавказе.
Их жарили на древесном угле, нанизанными на стальные шампуры, потом посыпали кислым порошком барбариса или корицей, обкладывали зеленым луком и ели со свежим лавашем, запивая белым вином. Мне кажется, что ничего более вкусного я никогда еще не ел в своей жизни.
На втором месте стоял запах свежесмолотого и только что сваренного кофе. Мололи его на турецких мельницах – медных, похожих на маленькие гильзы от снарядов. Снаружи эти мельницы были украшены чеканкой. Иной раз она изображала сцены из «Тысячи и одной ночи».
Мельницы эти превращали кофейные зерна в тончайшую пудру.
Запах кофе вызывал у меня одновременно представление о Востоке и Западе. И восточные и западные страны одинаково пахли кофе.
Что касается старой Европы, то она была просто неотделима в мыслях от горячего кофейного пара и от тех запахов, которые часто сопутствовали кофейному, – пароходного дыма, хрустящего утреннего хлеба, укропа, перезрелых роз и табака.
Европа часто виделась мне в полусне по утрам, как далекий берег. Он поблескивал над невысоким валом розовеющего пенистого прибоя дряхлыми стеклами своих городов.
Прибой, поднявшись, падал, грохоча, на пески. Водяная пыль оседала на листве платанов, и в прохладе садов открывался как будто знакомый и вместе с тем незнакомый город. И я гадал, что это за город: Анкона или Чивита-Веккья, Бордо или Роттердам.
Батум для меня, впервые попавшего к самым южным границам России, был городом необыкновенным, экзотическим, типично восточным.
Батум пропах кофе, вином и мандаринами. И только через два-три месяца у меня начало ослабевать пряное ощущение экзотики, ее терпкая оскомина, и я увидел за ней подлинную жизнь этого города. В нем никогда не затихала отнюдь не провинциальная культурная жизнь, а порт, как огромный конденсатор, стягивал к себе все рабочее население Батума.
В то время в Батум приходило из близкой Турции – из Ризе и Трапезунда (в Батуме говорили – Требизонда) – много фелюг с апельсинами и мандаринами. Пахучие цитрусы были навалены пирамидами на палубах фелюг, разноцветных, как пасхальные писанки.
Я часто видел одну и ту же картину: на апельсинах, покрытых циновкой, полулежали старые турки и пили, причмокивая, густой ароматический кофе.
Запах кофе распространяли не только фелюги, но и мелкая галька на берегу. На ней лежала кайма кофейной гущи. На этой кайме выделялись рваные оранжевые лоскутки мандариновых корок.
По вечерам фелюжники молились, сидя на горах апельсинов, на юго-восток, в сторону Мекки, вскидывая руки и припадая лбом к холодным апельсинам.
Там, где лежала Мекка, клубилась лиловая мгла, еще не прорезанная огнями звезд. Фелюжники верили, что за этой мглой льется райская река с лазурной водой – «река всех рек» Ковсерь.
Мне тоже хотелось бы верить в это, но мое сознание уже не могло вернуться к детским временам.
В то время я нелепо считал, что каждая новая мысль или крупица знания, приобретенная мною, является вкладом в общий итог культуры.
Да, Батум и батумский порт пахли мандаринами, нефтью и тиной.
Тина в изобилии висела темно-зелеными, почти черными космами на портовых сваях. Несмотря на то что ее непрерывно прополаскивала морская волна, тина не делалась от этого светлее и не теряла свой аптекарский запах.
В самом городе, подальше от порта, особенно на Приморском бульваре, напоминавшем променады Сингапура или Бомбея, стоял приторный запах магнолий, а за городом, по дороге на окраину Батума Барцхану, где жили Синявские, пахло из-за пыльных колючих изгородей шиповником.
«Это не мама»
Люсьена и Миша Синявские встретили меня в Батуме на пристани. Потом прибежал запыхавшийся Бабель. Он жил за городом, на Зеленом мысу, и приезжал в Батум на дачном поезде.
Синявские снимали маленькую застекленную террасу в Барцхане. Я поселился вместе с ними.
Так началась наша совместная жизнь – очень беззаботная, несмотря на то, что мы висели на волоске. Ни у Синявских, ни у меня не было денег, а у меня к тому же не было и «определенных занятий». Были только смелые планы.
Я надеялся, что мне удастся открыть в Батуме морскую газету вроде «Моряка».
Я просто тосковал по «Моряку». В то время я уже был захвачен газетной работой, ее горячими темпами, ее стремительным движением, ее тесным соприкосновением с бурлящей, ни на миг не затихающей жизнью народа, всей страны, всей Европы, всего мира.
Новые идеи, ворвавшиеся в сознание после революции, делали нас всех даже в собственных глазах представителями передового поколения. Мои надежды открыть в Батуме «свою», как я тогда говорил, газету объяснялись тем, что побережье Черного моря от Гагр до Батума было в ведении Союза моряков Грузии. Моряки эти, конечно, мечтали о собственной газете. Но пока что дальше моих разговоров об этом с комиссаром Союза моряков эстонцем Нирком дело не двигалось.
В утро моего приезда Миша Синявский вынул из фанерного шкафчика бутылку водки. На белой этикетке была изображена добродушная корова и было написано, что водка эта изготовлена на батумском заводе Артемия Рухадзе. Люсьена зажарила камбалу. Мы съели эту камбалу с мандаринами, запили водкой Рухадзе и были счастливы.
Счастливому нашему настроению способствовало все, что нас окружало, – прежде всего, сознание, что мы в субтропиках, где льется теплый дождь и где небо так густо обложено теплыми тучами (был уже октябрь), что сумерки висят над землей весь день. В их глубине медленно и торжественно раскатывало свои волны, добегая почти до порога нашей террасы, Черное море.
Мимо нас ехали арбы, нагруженные темно-лиловым виноградом «изабелла». У этого винограда, как мне тогда казалось, был вкус Испании.
Река Барцхана, бежавшая, курчавясь, по камням за частоколом нашего дома, несла в море желтые и пурпурные виноградные листья. Земля пахла кустарным вином.
После еды мы пили кофе, курили сухумский табак, вспоминали Одессу, и жизнь была прекрасна, как никогда. Особенно от запаха прибоя, шумевшего под бесшумным дождем.
Миша Синявский, высокий, несколько угрюмый и насмешливый человек, полный меткого юмора, придумал хорошее занятие. На стене своей террасы он повесил объявление, что делает увеличенные портреты с фотографий, и притом даже в красках.
К его удивлению, заказчик появился не только из Барцханы, но даже из Махинджаур и самого Батума!
Заказчик был простодушен, как дитя. Он относился к работе Миши, как к непостижимому чуду, как к божьему дару. Получая готовый портрет, он держал его осторожно, цокал от восхищения языком, качал головой и безропотно платил одну турецкую лиру (советских денег в ту пору в Батуме было еще мало, а грузинские боны не имели уже цены).
Одной лиры нам хватало на три дня. Но очень скоро в Батуме действительно открылась морская газета «Маяк», я тоже начал зарабатывать, и наша жизнь на дырявой террасе приобрела некоторые черты изобилия. Измерялось оно количеством мандаринов, папирос и банок со сгущенным кофе.
Однажды пожилой грек Яни, сапожник с базара Нури, заказал Мише портрет с фотографии своей мамы. И притом в красках.
Я рассмотрел фотографию и выяснил, что мама снималась в городе Воло в Греции в 1880 году и была невиданной красавицей. Она была похожа на ту гордую девушку во фригийском колпаке, что зовет людей на баррикады на картине Делакруа «Свобода ведет народ».
Множество медалей, полученных фотографом Метаксосом (из Воло) и изображенных на обороте этой фотографии, веселило меня.
Я даже как будто видел этого низенького, витиеватого прыщавого грека на высоких каблуках и в галстуке бабочкой. Он был, конечно, неслыханно галантен, как в самом Париже, и снимал клиентов в лимонного цвета лайковых перчатках (тоже как в самом Париже), чтобы ошеломить их провинциальные мозги и заставить раскошелиться.
Во время работы Миша любил сочинять о своих заказчиках всякие нелепые истории, чаще всего их биографии.
Люсьена готовила во дворе на мангале икру из синеньких или сациви (у нас теперь хватало иногда денег даже на сациви), обдергивала на груди короткую, расползавшуюся по швам кофточку и добавляла некоторые натуралистические подробности к этим словесным Мишиным портретам.
– Ты же забыл рассказать, – кричала она, – что этот твой красавец Метаксос носил розовые кальсоны цвета зардевшейся невесты! Они были вдвое шире его размера, и он застегивал их заржавленной английской булавкой!
Однажды нас застал за этим занятием Бабель. Он тотчас включился в игру и рассказал с необыкновенной пунктуальностью, какой Метаксос дурак.
Мы съели сациви, выпили бутылку водки «с коровой», после чего дощатая и хлипкая терраса показалась мне самым прекрасным местом для бесед, смеха и глубокого приморского сна.
Мы все были переполнены тогда верой в будущее и ощущением новизны своего времени.
Даже дождь, лупивший изо всей силы по стене, казалось, участвовал в наших разговорах.
А когда я выпивал немного больше, чем следует, мне начинало казаться, что дождь подслушивает нас, перестукивает на старой пишущей машинке все, что мы говорим, и из этой записи получится, в конце концов, интересная книга.
Разговоры не мешали Синявскому работать. Портрет «мамы» он сделал такой, что от него действительно трудно было оторваться. Особенно хороши были золотые глаза и немного приоткрытый рот. Казалось, что грудь гречанки тихо вздымается и с ее губ слетает душистое дыхание.
– За такой портрет, – сказал Бабель, – не грех взять и четыре лиры. Смотрите, Миша, не обмишурьтесь.
Наутро Миша понес портрет заказчику. Я пошел вместе с ним. Мы решили потребовать с сапожника три лиры. Потом остановились на двух.
Пожилой сапожник Яни жил в глубине ветхого и как бы театрального двора. Там носились с азартными криками греческие дети. Полные гречанки, положив на подоконники свои могучие груди, смотрели на нас из окон и посмеивались, обсуждая нашу наружность.
Сапожник Яни сидел во дворе у дверей своей лачуги. Рот его был полон деревянных гвоздей. Он выплюнул их и сказал нам: «Кала мера».
Миша, не торопясь, вынул портрет и, не выпуская его из рук, повернул лицевой стороной к сапожнику.
Тогда произошло величайшее чудо, какое может сотворить только высокое искусство, только живопись, равная по силе творениям лучших мастеров человечества, таких, как Боттичелли, Рафаэль или Вермеер Дельфтский:
Яни взглянул на портрет и зарыдал.
У себя за спиной мы услышали возбужденные возгласы гречанок, лежавших на подоконниках.
Я, не меньше сапожника восхищенный Мишиным искусством, все же не потерял здравого смысла, толкнул Мишу в бок и тихо сказал:
– Бери три лиры.
Мы ждали, когда Яни успокоится. Но он долго сморкался в фартук, всхлипывал и вытирал глаза рукавом.
За его спиной стояла маленькая и черная, как пережженная корка ржаного хлеба, женщина и тупо смотрела на мамин портрет. Это была жена Яни. Она одна не выражала восторга.
Наконец Миша решился и, уважая сыновние чувства Яни, мягко напомнил ему, что мы ждем и нам следует получить с него три лиры.
Тогда Яни начал качаться, как мусульманин, когда он совершает намаз, или гяур, когда у него болят зубы, обхватил голову руками, застонал и сказал злым и жалобным голосом:
– Это не мама! Это совсем не мама! И вы не получите ничего, потому что вы обманули бедного человека.
Мы оторопели. Во всем дворе наступила звенящая тишина. Двор ждал дальнейших событий.
– Как не мама? – спросил потрясенный Миша.
– Не мама! – закричал Яни и стукнул колодкой по табурету. Во все стороны полетели деревянные гвозди. – Мама была старенькая, седая. Я ее хорошо помню. Она умерла, когда мне было семь лет, а старшему брату было уже пятьдесят. А ты что сделал? Ты нарисовал какую-то девчонку-арфистку из ресторана «Мирамаре». Тьфу и тьфу! Забирай свой портрет и уходи. Еще требуешь три лиры! Три фиги ты получишь за этот портрет, аферист, а не три лиры!
Яни три раза показал Мише кукиш. Этого нельзя было вынести и нельзя было спустить безнаказанно.
Миша побагровел, схватил Яни за ворот, заставил встать и сказал тихо, но так, что было слышно во всем дворе:
– Ты что же? Подсунул мне карточку мамы, когда ей было шестнадцать лет, и хочешь, чтобы я сделал тебе столетнюю старуху?! Плати сейчас же, или я вытряхну из тебя душу!
– Это не мама! – снова пронзительно закричал Яни и начал извиваться в руках у Миши, пытаясь вырваться.
Несмотря на серьезность положения и угрозу остаться на время без хлеба, я прислонился к стволу сухой шелковицы во дворе и начал хохотать.
Тогда Миша выпустил сапожника, повернулся к окнам, где гроздьями висели жильцы, и крикнул:
– Граждане греки! Потомки великих людей! Что же вы смотрите на это безобразие?!
Тотчас поднялась буря. Из всех окон и дверей десятки голосов закричали:
– Яни, опомнись! Это же мама! Вылитая мама! Глупец! Настоящая мама! Сейчас же заплати человеку! Слышишь?
Несколько мужчин в одних жилетах выбежали во двор. Они трясли Яни за плечи и кричали:
– Ты позоришь, нас, Яни! Стыдись! Это же чистая мама! Нам будет просто приятно видеть ее каждый день. Такая красивая греческая женщина! Ай, какая красивая! Плати деньги и успокойся. Плати!
– Три лиры? – прохрипел с недоумением Яни и обвел всех покрасневшими глазами. – Не дам!
– Хорошо! – закричали греки. – Две лиры. Две! И пусть они уходят себе на здоровье, эти молодые люди!
Яни швырнул на стол две лиры. Миша взял их, и мы пошли, провожаемые дружными напутствиями обитателей дома.
Через полчаса выяснилось, что одна лира была фальшивая.
Вообще поддельных лир ходило по Батуми гораздо больше, чем настоящих. Поэтому в Батуме завели обыкновение при расплате писать на лирах свою фамилию, чтобы в случае подсунутой фальшивки вас можно было найти.
Но все лиры были уже так густо исписаны, что на них часто не оставалось живого места. Временами нельзя было даже разобрать достоинства денег. Особенно если во всех этих многочисленных автографах попадалась хотя бы одна надпись, сделанная химическим карандашом и расплывшаяся от дождя или хозяйского пота.
Но нам было не до того, чтобы требовать от сапожника подписи, и мы ушли, махнув рукой.
Дома был созван совет с участием Люсьены. Миша сказал, что будь он четырежды проклят, если еще хоть раз возьмется за увеличение фотографий. Всю жизнь он мечтал быть художником-архитектором, подобно Пиранези, чтобы работать в той же манере и довести ее до совершенства, а не писать портреты длинноносых восточных сапожников и их мам.
Люсьена сказала, что Миша – чудный парень, но как же они будут жить дальше?
Внезапно у меня появилась счастливая мысль. На нее натолкнуло меня посещение духана «Бабуля по-ре-цески».
Это название, коряво написанное на куске картона разноцветными карандашами, было загадочным и требовало лингвистических изысканий (или, как говорил Миша, «раскопок»), чтобы установить его происхождение.
Помог нам расшифровать вывеску духана батумский поэт Чачиков – изысканный, хотя и изрядно потрепанный рыцарь и бывший корнет. Он познакомился с Люсьеной на базаре и с тех пор непрерывно и притворно волочился за ней, прижимая обе руки к сердцу. На его руках висели тяжелые четки из черного янтаря.
Чачиков писал футуристические стихи о своем кавалерийском прошлом. Я запомнил некоторые из них. Однажды он читал их нам на Барцхане, сидя верхом на стуле и похлопывая стеком по лакированным крагам:
Что мне Аполлон и разные музы! Я сам Аполлон в галифе!В общем, он был добрый и храбрый малый, хотя и хвастун. Он любил рассказывать о своем детстве, проведенном якобы в Персии, в городе Мосуле. При этом он восклицал:
Хвала тебе, муслиновый Мосул, Приют моих давно истлевших предков!Чачиков без всякого труда расшифровал название духана.
– Бабуля, – сказал он, – это местное название рыбы барабули, или султанки. Самая вкусная рыба на Черном море. «По-рецески» это значит «по-гречески». Итак, вы сами догадываетесь, что полное название переводится так: «Султанка по-гречески». Этим блюдом славится вышеназванный духан.
Сидя однажды в этом духане, я заметил на стене над своим столиком портрет Кемаль-паши, вырезанный из газеты. Вокруг Кемаля детская неуверенная рука нарисовала венок из полевых маков.
По-моему, Мише надо было переходить на портреты Кемаль-паши. В Батуме в то время было довольно много турок. В городе совсем не было ни портретов, ни фотографий Кемаля. В-третьих, не надо корпеть над пожелтевшими карточками, а потом иметь дело со вздорными родственниками. У Кемаль-паши, надо полагать, родственников в Батуме не было.
Батумские турки считали Кемаля своим национальным героем, но вряд ли в городе нашелся бы хоть один человек, который его видел своими глазами.
Миша согласился. Началось с того, что он нарисовал Кемаля в профиль и подарил этот портрет хозяину духана «Бабуля по-рецески».
Успех предприятия с портретами Кемаля, как говорится, превзошел ожидания. Заказы посыпались со всех сторон. Люсьена разработала тариф: за портрет в профиль тушью – одна лира, за анфас – две лиры, за портрет в красках – три лиры, за портрет, изображавший Кемаля на вороном коне, – четыре лиры и, наконец, за портрет, где Кемаль скачет на поле боя по трупам убитых врагов, – пять лир.
В то время как раз шла греко-турецкая война, задевшая мимоходом и Батум. Но об этом после.
Миша так набил руку на Кемале, что мог рисовать его с закрытыми глазами. Снова некоторое изобилие вернулось к нам на террасу на Барцхане.
Но я к тому времени уже начал редактировать морскую газету «Маяк»[6] и переехал в город. Мне дали комнату в «Бордингаузе» – гостинице для матросов, отставших от своих пароходов,
Береговой приют
Почти во всех портах мира есть так называемые «Береговые приюты» для моряков, отставших от своих пароходов. Иначе эти приюты называются «Бордингаузами». Это нечто среднее между ночлежкой, пивной, вытрезвителем и публичным домом.
Был такой «Бордингауз» и в Батуме, но в урезанном виде – без явных признаков пивной и публичного дома.
Когда «Союз моряков побережья Гагры – Батум» под сильным нажимом комиссара Нирка (а на Нирка нажимал я) решил, наконец, издавать свою морскую газету «Маяк», мне, как редактору, дали комнату в «Бордингаузе». Но предупредили, что эта комната будет вместе с тем и редакцией. Меня это совершенно устраивало.
Старый двухэтажный дом «Бордингауза», обитый с фасада погнутым кровельным железом – защитой от тяжелых батумских дождей, – весь проржавел до красного цвета. Дом стоял на набережной, у самого моря. В сильные зимние штормы ветер барабанил морскими брызгами по окнам, как проливной дождь.
Кроме меня, на втором этаже «Бордингауза» жил еще белокурый красавец и спортсмен Нирк с женой – пугливой, пышной эстонкой.
Остальные комнаты занимали моряки, отставшие от своих пароходов, главным образом греки и американцы.
Поскольку моряки отставали от пароходов только «по пьяному делу», то и состав жильцов «Бордингауза» складывался довольно однообразно: это были горькие пьяницы, хрипуны и задиры.
Мы от них никак не страдали, так как ночи напролет они бушевали где-то в пивных на окраинах Батума. Когда же они возвращались в «Бордингауз», то почти никогда до него не доходили, а ложились костьми где попало, преимущественно в подворотнях. Там их не мог достать знаменитый батумский дождь.
Поэтому ночью в «Бордингаузе» было тихо, даже благостно. В вестибюле скромно горела зеленая ночная лампочка, напоминая лампадку. Только рыжие портовые крысы пробегали тяжелой рысью по коридорам на кухню, чтобы напиться под краном. Из испорченного крана капала, меняя время от времени порядок ударов, холодная железистая вода.
Постояльцы появлялись только поздним утром. Протрезвев, они хмуро занимались умыванием, расследованием синяков на теле, чисткой замызганного платья, игрой в кости и время от времени драками на почве темной игры.
Тогда из своего номера выходил Нирк – высокий, в заутюженных брюках «клеш» и чистой тельняшке. Он спокойно вытаскивал из кармана стальной блестящий пистолет и шел усмирять дерущихся.
Нирка матросы слушались беспрекословно, может быть, потому, что он всегда загадочно улыбался и, поигрывая пистолетом, говорил:
– Даром теряете калории, скитальцы морей!
Эти слова он произносил на нескольких языках, в зависимости от национальности дерущихся. Они действовали магически.
Кроме Нирка с женой и меня, в «Бордингаузе» жила еще уборщица Нюся. Перед постояльцами она выдавала себя за глухонемую и при первой же попытке какого-нибудь матроса пристать к ней начинала хохотать таким мычащим и вместе с тем оглушительным басом, что было слышно даже на набережной. Из своей комнаты тотчас выскакивал Нирк со стальным пистолетом. Матрос быстро стушевывался и отступал, радуясь, что дешево отделался от «глухонемой ведьмы».
Внизу под лестницей жил курд – чистильщик сапог. От его синей гофрированной бороды и даже от карих жалобных глаз величиной с конские каштаны пахло сапожным кремом – сложным запахом скипидара и полотерной мастики. Так мне, по крайней мере, казалось.
Курд был кроток, как голубь. Кстати, он никогда не говорил во весь голос, а тоже нежно бормотал по-голубиному.
Курд любил рассказывать свою несложную биографию. Она состояла главным образом из частой резни и скитаний по Малой Азии в поисках спасения от этой резни. «Папу турки резил, – бормотал он, вздыхая. – Маму тозе турки резил. Брата тозе турки резил. Я теперь один на весь свет».
Работы у курда почти не было. Большую часть дня он проводил в дремоте или еде. После еды он долго облизывал свои маслянистые пальцы и чмокал. В этом его занятии было нечто библейское и простое, как заунывная песня номада.
В «Бордингаузе» жил еще черный мохнатый пес с желтыми, чересчур внимательными глазами. Звали его Мономах. Если бы не он, то нас наверняка бы съели крысы, неслыханно злые и наглые.
За ночь они прогрызли насквозь толстую половицу в моей комнате, но не в углах, как обыкновенно, а посередине.
На рассвете все батумские крысы выходили на водопой к ручью за портом. Крысы из «Бордингауза» – тоже. Они шеренгами слезали с чердака по наружной раме моего окна и тяжело прыгали на крышу соседнего сарая. Я просыпался, но не мог больше заснуть от отвращения. Их яростный писк вызывал у меня нервную дрожь.
Во многих каменных домах были устроены ниши с железными дверями и глазком. В этих нишах милиционеры и сторожа прятались от крыс, когда те тысячными толпами шли на водопой. Очутиться в толпе крыс было смертельно опасно: они могли разорвать человека на части.
Начальник батумского порта – элегантный и сухощавый капитан – решил уничтожить крыс одним ударом. Обычно крысы шли по улицам сплошным валом, иногда даже в два яруса в тех местах, где улицы сужались и поток крыс не вмещался в их берега.
По приказу начальника порта во дворах с вечера были расставлены пожарные насосы. Как только крысы запрудили улицы, насосы были пущены и начали поливать крыс керосином.
Но это не остановило движения крыс. Задние напирали на передних, и огромные заторы из разъяренных крыс закружились на месте. Тогда на крыс была сброшена горящая пакля.
Крысы горели заживо. Они метались и визжали, потом ринулись обратно в порт, в свои норы. И тут случилось то, о чем не догадался ни начальник порта, ни пожарные: горящие крысы нырнули под склады, под пакгаузы, и через полчаса в батумском порту начался пожар.
Пожар гасили два дня. Пароходы отошли от причалов. Порт был оцеплен войсками. Элегантнейший начальник порта заплатил за этот пожар несколькими годами свободы.
Единственное, что отравляло существование в Батуме, – это крысы. Но такова участь всех портовых городов. В конце концов, перестаешь обращать на это внимание.
У «Бордингауза» были и свои неоспоримые достоинства. Прежде всего, дом стоял в двадцати шагах от гавани, как раз против старой дощатой пристани со сгнившим наполовину настилом.
У этой пристани швартовались турецкие фелюги и наши шхуны. Чаще всего у причала останавливались шхуны «Три брата» и «Лев Толстой». Они привозили персики и табак Сухуми и контрабандную водку из Туапсе.
В свободное время можно было спуститься прямо из своей комнаты на пристань, захватив самолов, и поудить под кормой у фелюги бычков или султанку. Изредка брали даже морские окуни и ерши.
Не очень жаркое солнце поздней осени освещало мутноватую зеленую воду и разноцветную корму фелюги. Владельцы фелюг украшали свои маленькие корабли, как невест. Иные даже обивали медью планширы и чистили их мелом. Корму обязательно раскрашивали густыми красками.
По существу каждая корма фелюги представляла собой орнаментальную картину, или, как теперь принято говорить, произведение абстрактного искусства. Я не хочу входить в существо споров об этом искусстве, но каждая пестрая корма походила на беспредметный рисунок ковра с фантастическими цветами и изломанными яркими сегментами.
Я не пытался понять эту живопись турецких фелюжных мастеров. Просто она горела на солнце, бросала отблеск на лицо и руки и весело, даже как-то празднично отражалась в воде. При этом отражение соединялось с тем, что происходило под водой, и потому сквозь синие и золотые цветы с квадратными лепестками, нисколько не смущаясь этим, лениво проплывали зеленухи и медузы.
Однажды на пристань пришла Люсьена с Бабелем и его женой Евгенией Борисовной. Бабель беспричинно посмеивался и говорил, как бы оправдываясь, что иногда бывает приятно жить на этом свете и дышать запахом дегтя и морской воды. Он грел на солнце бледные, слегка опухшие руки.
Евгения Борисовна сидела рядом со мной на пристани, свесив ноги. Я дал ей самолов. Она терпеливо ждала поклевки и пристально смотрела в глубину, где качались, дыша, медузы. Её красно-каштановые тяжелые волосы отражались в воде. Она говорила, что очень устала и никуда не хочет уезжать. Бабель в то время как раз собирался переезжать из Батума в Тифлис.
Рыба не клевала, и, помолчав, Евгения Борисовна вновь сказала, что хочет жить только на Зеленом мысу, где в гуще тропической листвы стоял их дом, и читать, читать до одурения. А раз нет новых книг (тогда в Батуме появилась единственная новая советская книга, «Шоколад» Тарасова-Родионова), то хоть перечитывать всего Чехова или даже Болеслава Пруса, – все равно кого.
Бабель украдкой посматривал на Евгению Борисовну. Я впервые заметил выражение растерянности на его лице. Оно сделалось совсем детским. Мне даже показалось, что у Бабеля задрожали губы. Что-то тревожное творилось на душе у нее и у него, и мне тоже стало не по себе, – призрак старых семейных бед моей молодости возник внезапно и не к месту. Я подумал, что нет в мире ничего более счастливого, чем согласие между родными людьми, и ничего страшнее умирания любви, – никем из любящих не заслуженного, не объяснимого, вползающего в жизнь с незаметным упорством.
Они ушли, а я еще долго сидел на пристани, забывая поддергивать самолов.
Огромный, длинный, как железнодорожный мост, океанский наливной пароход ярко-желтого цвета с вишневой трубой проползал мимо меня в Нефтяную гавань со скоростью минутной часовой стрелки. На его носу я прочел надпись «Нинон», а пониже вторую – «Ле Гавр».
Я очень ценил «Бордингауз» за его близость к морской жизни.
Отсюда было видно все, что происходило в порту и на море: все входящие и уходящие корабли, все белые и пенистые шквалы, носившиеся между Батумом и Поти, все многоцветные закаты, похожие на выставку скульптурных облаков или выставку сумрака и света, пламени и мглы, серебра и крови, жаркого золота и оперенья незнакомых птиц.
Закаты были похожи на грозные и безопасные извержения далеких вулканов. Через них летчики совершенно спокойно вели самолеты, не боясь сгореть или задохнуться. Наоборот, воздух закатов был чист, свеж: к нему узде притронулась своими холодными вздохами ночь.
Сжавшись, я сидел тихо, чтобы не пропустить мерцания красок, и испытывал какой-то сумрачный восторг. Я не могу этого объяснить, но закаты казались мне похожими на взрывы вдохновенья (если бы оно могло приобрести видимую форму). И я, конечно, соглашался, что очень хорошо жить на этой старой земле, где есть гнилые сваи и закаты, цветы ромашки и шипение пара в машинах кораблей.
Тогда в Батуме поэзия взяла меня за горло, крепко забрала в свой благодатный плен. С тех пор я уже не мог и не хотел вырываться из ее рук и забывать хотя бы на миг ее голос.
Он слышался издалека так же ясно, как и вблизи. Он доходил до меня с севера и запада, с востока и юга с необыкновенной чистотой, как зов морских вод, зов всех географических пространств и всех очарований, какими была так богата земля.
Тогда еще не было атомной бомбы и черная смерть еще не грозила земле. Земля, воды и воздух были свободны от человеческого насилия. Сознание не было угнетено атомным страхом.
Мне кажется, что еще там, в Батуме, я услышал голос Нереиды, украшавшей некогда носы кораблей, – тот голос «ласковый и томный», какой по ночам тревожил Пушкина.
И в морской темнеющей мгле возникал передо мной высокий нос корабля, и бушприт, опутанный снастями, и девичий нежный профиль, и такой же нежный торс Нереиды на старом носу корабля, плывущий к берегам, – напоминание о беспредельном богатстве мечты и силе любви.
Смутное веяние далеких стран летело вслед за Нереидой. Казалось, сердце не выдержит этих опьяняющих мыслей и ни с кем еще не разделенного счастья, этого ощущения вольного, крылатого, почти нереального и вместе с тем совершенно реального, как любой камень на мостовой, существования.
Однажды с моря до «Бордингауза» донеслась отдаленная канонада.
Тотчас на балкон выскочил Нирк со своим стальным пистолетом и биноклем.
Смятение пронеслось по порту. Со всех вышек и капитанских мостиков люди смотрели на море, в сторону Анатолийского берега, недоумевая и пожимая плечами.
Оттуда доходил короткий гром орудий, и лопались в дыму и тумане вспышки пламени.
По всем признакам в море шел бой. Но кого и с кем? Это было совершенно непонятно, загадочно и напоминало начало детского исторического романа.
Набережная была уже оцеплена. На нее никого не пускали.
Я смотрел вместе с Нирком с балкона на эту неведомую баталию. Если это нападение на нас, говорил Нирк, то почему молчит старая Батумская крепость?
– Кто может напасть на нас? – спросил я Нирка.
– Кто хочет, – ответил он совершенно хладнокровно. – От Великобритании до республики Гондурас. Но никакого нападения нет, потому что ни один снаряд не разорвался на нашем берегу. Снаряды рвутся в море около какого-то сооружения, похожего на плавучий цирк.
– Вы странно шутите, – заметил я.
– Посмотрите сами. – Нирк протянул мне бинокль. Я с трудом увидел далеко в море нечто похожее на большую черепаху, а поодаль от нее – силуэты двух миноносцев.
Миноносцы, судя по всему, нападали на черепаху, а она отстреливалась и лениво извергала из своего нутра жирный и даже на вид зловонный дым. Но миноносцы этим не смущались и продолжали стрелять прямо в дымную гущу.
– Она полным ходом лупит сюда, – заметил Нирк, и в то же мгновение железный гром потряс горы и город. Уходя в морскую даль, провыли у нас над головой снаряды.
– Форты! – крикнул Нирк. – Наша крепость! Теперь все понятно.
– Что понятно?
– Понятно, что какие-то иностранные корабли вошли в наши территориальные воды и крепость не подпускает их.
В дальнейшем морской бой выглядел так: миноносцы отвернули и ушли в море, а черепаха, подняв белый флаг и еще какие-то непонятные флаги, продолжала спокойно ползти к Батуму и стала на якорь около входа в порт. Тогда мы ее рассмотрели и стали постепенно соображать, что произошло.
Черепаха оказалась старым турецким монитором (по русской морской терминологии – броненосцем береговой обороны). Это было нечто плоское, низко сидевшее над водой, заржавленное, со старыми пушками и простреленной трубой.
Когда монитор стал на якорь, флаги на его снастях сразу упали, будто уснули. Из трубы перестал валить жирный дым. Тотчас к монитору помчался наш катер.
Потом к монитору подошел портовый буксир, небрежно втащил его в гавань, в самый дальний и пустынный ее угол, и там монитор пришвартовался наглухо к старым, изъеденным солью чугунным причалам.
После этого в течение каких-нибудь десяти минут все снасти на мониторе покрылись выстиранным матросским бельем, преимущественно тельняшками. Уснувший корабль стал похож на плавучую прачечную. Было ясно, что он отвоевался навсегда.
Нирк ушел в «морские инстанции» и через час принес все сведения о мониторе.
Шла греко-турецкая война. Каким-то образом (никто не мог этого объяснить) война застала два греческих миноносца в Черном море. Эти шустрые миноносцы тотчас же открыли боевые действия против единственного турецкого монитора. Он не успел укрыться в Босфор, под могучую защиту батарей.
Миноносцы гоняли престарелый и больной монитор по всему Черному морю, не давая ему перевести дух. В конце концов, они загнали его в самый угол моря, к Батуму, и в азарте даже влетели с полного хода в наши воды.
Батумская крепость остановила их выстрелами и отогнала подальше от берегов, а монитор поднял сигнал о том, что он просит убежища у нас, соглашаясь разоружиться и быть интернированным.
Действительно, орудия с монитора были сняты. Команде монитора следовало, по международным законам, сойти на берег и оставаться там до конца войны. Но команда не торопилась, как говорили, от лени.
Действительно, в бинокль было видно, как турки ели на палубе плов, пили кофе, играли в кости, штопали свое ветхое обмундирование, искали друг у друга в головах или безмятежно спали, задрав ноги в толстых красных носках на крышки люков.
Иногда после яростных криков боцмана команда начинала подметать палубу. Пыль подымалась над монитором, как вялый пожар.
А иной раз команда даже пела, вернее, тянула под удары барабанов какую-то глухую и грозную, очевидно, военную песню. Она совершенно не вязалась с унылым и бездельным видом матросов.
Чачиков восторгался этой песней, считал ее образцом боевой поэзии, перевел на русский язык и пел под рваные аккорды гитары.
Солнце стоит над горами, Тает в долинах роса. Мы все идем, а над нами Тяжко висят небеса… Все мы идем из Завета, Грозен, бесстрашен наш взгляд. Все мы сыны Магомета, Мы не вернемся назад…Но монитором занимались недолго. Вскоре о нем забыли, а потом война кончилась, и он исчез, должно быть, ушел в один из портов желтого, как охра, Анатолийского побережья.
Военнопленный Ульянский
Газета «Маяк» печаталась на «бостонке». Это была маленькая печатная машина. Ее приводили в движение ногой. Надо было сильно нажимать педаль, и машина, похожая на зубоврачебное кресло, выбрасывала с легким грохотом оттиски размером с лист писчей бумаги.
Размер этот назывался альбомным. Он действительно не превышал величины страницы из дамского альбома для стихов.
Из этих коротких технических объяснений вы сами можете понять, как трудно было втискивать в эту газету телеграммы РОСТА, все морские новости, статьи, очерки и даже рассказы. Особенно много микроскопический «Маяк» писал о единении народов Малой Азии. Батум как бы принадлежал к этой Азии, во всяком случае, к Ближнему Востоку.
Эта задача была очень по душе всем нам, сотрудникам «Маяка». Моя старая литературная любовь к Востоку получила неожиданное живое завершение. Все казавшееся очень далеким, к примеру, какое-нибудь полурелигиозное, полуполитическое движение Эль-Бабе становилось близким, соседним. Вчерашние мифы превращались в газетную полемику.
Из-за малого формата и тесноты в «Маяке» господствовал короткий телеграфный стиль.
Недаром единственный молодой наборщик и печатник по имени Ричард (он был курнос и происходил из города Мелитополя) говорил:
– Это же не газета, а конфетти!
Ричард носил на поясе облезлую кобуру от револьвера «наган», хотя самого револьвера у него не было и не могло быть. Эта кобура была для Ричарда атрибутом его воображаемой лихости и источником постоянных недоразумений с милицией.
В конце концов, кобуру у Ричарда отобрали. С тех пор он потерял все свое нахальство, притих и начал задумываться.
Я впервые встретил человека, которого ничто не интересовало, кроме оружия. Носить пистолет – «пушку», по его терминологии, – было единственной целью и усладой его жизни. Иногда он бросал работу, приходил ко мне в редакцию в «Бордингауз», швырял в сердцах на стол кепку и говорил с отчаянием:
– Уйду в милицию, клянусь папашей! Дадут мне шпалер с прикладом. Дубовую доску в дюйм толщиной простреливает навылет с десяти шагов. Шик, дрык, иммер элегант!
Это был человек, о каких в народе говорят, что у них вместо души пар. Вскоре я с облегчением избавился от него. С малых лет я не любил оружия. Оно всегда казалось мне покрытым налетом запекшейся человеческой крови. И люди, играющие с оружием и рисующиеся им, вызывали неприязнь, тем большую, что они часто бывали трусливы и глуповаты.
После Ричарда газету набирал вялый и совершенно глухой юноша. Наборщики дали ему диковинное чеховское прозвище: «Спать хочется».
В «Маяке» быстро возникла галерея сотрудников. Каждый из них, откровенно говоря, заслуживает рассказа.
Первым в редакцию пришел тощий, как жердь, позеленевший от голода человек и назвался бывшим корректором петербургской газеты «Речь». Он просидел два года в немецком плену и, возвращаясь в Россию, попал помимо своей воли в Батум. Фамилия его была Ульянский[7]. В рукав его потрепанной и продувной куртки была вшита, как у всех военнопленных, желтая полоса.
Трудно было понять, как человек, направлявшийся к матери в Рязань, попал вместо этого в Батум.
– Очень просто, – объяснил мне Ульянский, сидя за кухонным столом в редакции и глотая слюну. На столе лежал свежий чурек, кусок колбасы и стоял облупленный эмалированный чайник. – Очень просто, – повторил он. – Наша команда попала в самую заваруху. Сначала нас высаживали из эшелона по нескольку раз в день, вербовали в банды, грозили разменом, а потом выгнали из теплушек совсем: «Идите куда хотите, хоть к такой-то бабушке, только не путайтесь под ногами. Дотопаете до места пёхом, да еще скажете спасибо, что не заставили вас драться». – «С кем?» – спрашиваем. Отвечают каждый раз по-разному и довольно неясно: то с григорьевцами, то с Махной, то с галипийцами, а то еще с какими-то «батьками» – Переплюй-Кашубой и Зинзипером. Тут-то мы окончательно поняли свое бедственное положение. Кто-то из пленных пустил лозунг: «Прибивайся к кому попало, абы давали какой ни на есть паек!» Часть прибилась, а нас, неприкаянных, осталось всего три из всего эшелона. Решили все-таки пробиваться на восток, по домам. Все время петляли, чтобы обойти опасные, взрывчатые места.
Сначала нас медленно отжимало к северу, потом начало жать обратно на юго-запад, но вдруг сдвинуло одним рывком прямо к Дону и за Дон – к станице Тихорецкой. Там нас все-таки забрали на трудовые работы и отправили в Туапсе. А из Туапсе – рукой подать до Батума. Сюда я попал один: товарищи отстали.
Сейчас я не понимаю главного – где я? В старой России или в Советской? И кто я такой? Имею ли я право жить или я уже мертвец и только по недосмотру охраны болтаюсь на этой земле? Это я говорю вам к тому, что мне необходимо понять, что происходит, и почувствовать себя не мишенью, как я себя ощущал последние три года, а человеком. А для этого мне нужна работа, хотя бы самая жалкая. Вот я и пришел к вам. Прочел на дверях «Бордингауза» вывеску и пришел.
Говорил он тихо, убежденно, но не подымал глаз, все время смотрел на свои рваные, заскорузлые бутсы. Кожа на лице и руках у него была тусклая и серая от въевшейся в поры угольной пыли.
– Вы где ночуете?
– На товарной станции. В пустых товарных вагонах.
– Погодите минуту.
Я пошёл к Нирку. Надо было поговорить, чтобы Ульянскому разрешили ночевать в «Бордингаузе».
Нирк тотчас согласился. Он был покладистый и добрый парень. Единственным его крупным недостатком были длинные разговоры о калориях. Нирк переводил все на калории, каждый стакан чаю. Он был просто ушиблен калориями и уверял, что заставит свой организм вырабатывать ежедневно одно и то же количество калорий, не позволит им шататься то вверх, то вниз и поэтому проживет не меньше ста лет.
Я вернулся в редакцию и с удивлением взглянул на Ульянского, – капли пота обильно стекали по его небритым щекам. На столе было пусто. Я не обнаружил ни крошки хлеба и ни единого ломтика колбасы.
Я сделал вид, что ничего не случилось. Но Ульянский, конечно, понял, что внезапное и таинственное исчезновение моего жалкого дневного пайка не может пройти незамеченным. Голова и руки у него дрожали.
Больше всего я боялся сделать какую-нибудь неловкость, чтобы не обидеть Ульянского.
Я показал ему чулан для ночлега, но он отказался ночевать в нем, сказал, что привык к свежему воздуху и потому предпочитает товарные вагоны, благо осень в Батуме очень теплая. Потом он сказал, что хотел бы написать для «Маяка» небольшой художественный очерк о батумском порте. Я согласился.
Через два дня Ульянский принес мне этот очерк. Он написал его синим карандашом на обороте железнодорожной накладной. Текст очерка путался с графами накладной, и в нем ничего нельзя было разобрать. Я дал Ульянскому бумаги и заставил его переписать очерк начисто.
Потом я читал очерк, а Ульянский пил, отдуваясь, чай с черствым хлебом и сахарином и искоса поглядывал на меня.
Очерк напомнил мне лучшую прозу Куприна. Он был так же свеж, сочен, богат живыми подробностями. Трудно было поверить, что этот очерк был первой литературной работой Ульянского, хотя он божился, что это именно так.
Я напечатал очерк, заплатил Ульянскому гонорар, и с тех пор он почти все дни просиживал в редакции и помогал мне во всем. Он даже научился набирать, а когда «Спать хочется» падал от усталости, что с ним бывало нередко, Ульянский крутил за него ногой бостонку.
Писал Ульянский легко, но хорошо. Мне, а потом и Бабелю и Фраерману (он вскоре появился в перспективе батумских улиц) нравилась манера Ульянского изображать характеры людей при помощи внешних признаков, едва заметных примет.
Так, в одном из очерков он описывал капитана английского наливного парохода «Карго». Очерк он назвал «Макинтош». По существу он подробно писал в нем о новом макинтоше, который видел на этом капитане. Но все свойства макинтоша – холодного и чуть липкого на ощупь, пахнущего дезинфекцией, трескучего и неудобного, серого, как дождевое небо, – все эти свойства передавались владельцу этого макинтоша – капитану «Карго».
Лицо его казалось, писал Ульянский, выкроенным из куска макинтоша и невольно вызывало представление о коже, тонкой, холодной и скользкой, как лягушка. Цвет глаз капитана был не отличим от цвета макинтоша, – вся британская скука, холод сердца и плоскость мысли отражались в этих пустых и скучливых глазах. Эти глаза ничему не удивлялись и ни от чего не могли прийти в восторг.
Всюду плавала вместе с капитаном и его макинтошем многолетняя скука и отсчитывала время, как контрольные часы – коротким карканьем немногих английских слов. Их капитан скупо отщелкивал, как на арифмометре, в течение длинного корабельного дня,
Я не ручаюсь за безусловную точность передачи писательской манеры Ульянского, но в общих чертах это было так.
Ульянский вызывал невольное уважение. Он никогда не говорил зря и, видимо, весь плен перестрадал молча, накапливая запасы наблюдений и гнева.
На второй месяц своего сотрудничества в «Маяке» он пришел рано утром и, отводя глаза, сказал, что через час уходит из Батума в Баку, где у него живет тетка.
– Не могу сидеть на одном месте, – признался он убитым голосом. – Противно!
– Вы что же, – спросил я, – собираетесь идти в Баку пешком?
– А то как же! Я уже прошел пешком от Мариуполя до Батума. И меня ставили к стенке всего три раза. Только три раза. Дойду и до Баку.
И он исчез, чтобы неожиданно появиться через два года в Москве по пути из Мурома в Ленинград, – опять от какой-то тетки к другой тетке. Снова он шел пешком.
Я пошутил насчет его многочисленных теток, а он усмехнулся в ответ и сказал:
– Что ж поделать, если это так. Я иду и представляю себе, как милые ленинградские старушки – тетя Глафира и тетя Поля (они живут на Пряжке) будут радоваться мне, давно уже пропавшему без вести, как соберут простой ужин, как окна в домишке запотеют от самовара, каким удобным покажется мне кряхтящий диван под сенью фикусов, какой великолепный сон придет на смену усталости, но и сквозь сон я буду слышать свистки пароходов на Неве и дожидаться утра, когда снова и снова, но как бы впервые развернется передо мной одним взмахом самая прекрасная в мире панорама невских берегов.
– Да, – сказал я, захваченный его сдержанным волнением. – Да… «А над Невой – посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина…»
– Я помню, как вы читали эти стихи в Батуме в «Бордингаузе», – улыбнулся Ульянский. – Ну, будьте здоровы. Еще увидимся.
Но увидеться нам не пришлось. Через год я получил почтовую бандероль из города Чигирина с Украины. В бандероли была книга Ульянского. Называлась она, кажется, «Записки из плена» и была издана в Ленинграде.
Из надписи на обложке я понял, что Ульянский снова бродяжит по стране, теперь, должно быть, в поисках какой-нибудь тётки на Украине.
Книга была написана свежо, крепко и, я бы сказал, беспощадно.
Вскоре я купил в Москве новую книгу Ульянского «Мохнатый пиджачок» с предисловием Федина. Из этого предисловия я узнал, что Ульянский недавно умер от тифа в Ленинграде.
Ульянский начал как большой писатель. И было очень горько, что погиб этот человек, не успевший отдохнуть от плена, писавший в полном одиночестве свои превосходные книги. Было горько и оттого, что никогда уже не подует ему в лицо любимый им черноморский ветерок, или, как он ласково и насмешливо говорил, «зефир».
Маячный смотритель
Мы любим охранительный свет маяков, но редко вглядываемся в него.
На огни маяков пристально смотрят только вахтенные и штурвальные, проверяя тайну его световой вспышки. Потому что все маяки на одном и том же море горят и мигают по-разному, чтобы по этим признакам можно было определить, какой это маяк, и узнать, где находится корабль.
Так годами горел Батумский маяк, и мало кто интересовался жизнью его смотрителя Ставраки. Тем более что из города маячный огонь был плохо виден. Свет он бросал в сторону моря.
Ставраки был знатоком маячного дела. Он первый принес в редакцию «Маяка» статью. (В ней говорилось о каких-то новых маячных лампах.)
Ставраки посидел полчаса и ушел, оставив у всех нас – Бабеля, Ульянского и меня – впечатление неприятного и циничного человека.
Твердая седая щетина торчала на его желтых щеках, а воспаленные глаза говорили о многих бутылках водки «Рухадзе с коровой», выпитых за последние дни.
Одет он был небрежно и весь измят, будто сутками валялся на постели не раздеваясь.
Он часто кашлял тяжелым, махорочным кашлем. Тогда по его изрытым щекам сползали слезы.
Он невзлюбил Бабеля, его острых глаз и однажды зло сказал мне:
– Чего он смотрит на меня, этот очкастый! Ненавижу смотрелыциков. Ловец человеческих душ! А что у меня на душе – ни один дьявол не знает. И он не узнает. Бьюсь об заклад. Может, я старый вор? Или убийца? Или торгую девочками? По таксе. Или самый умилительный дедушка? Пусть поломает голову.
В другой раз он сказал:
– Чтобы быть смотрителем маяка, нужно забыть начисто прошлое. Тогда вы никогда не упустите зажечь фонарь.
– А бывали случаи, что маяки не зажигались? – спросил я.
– Только если смотритель умирал, – ответил Ставраки и усмехнулся. – Или сходил с ума. И если при этом он был совершенно один на маяке. И его некому было сменить. Ни жене, ни дочери.
– А у вас есть семья? – спросил я и тотчас почувствовал, что допустил непонятную еще мне самому бестактность.
Он ответил мне грубо и раздраженно:
– Если вы, молодой человек, хотите поддерживать общение с людьми, то не вмешивайтесь в чужие дела. Возьмите лист бумаги и запишите на нем все темы, которых не следует касаться из праздного любопытства.
– Грубость, – сказал я, – не делает вам чести.
Ставраки вынул из кармана бушлата плоский флакон от одеколона, хлебнул из него несколько глотков, потом, прищурившись, посмотрел на меня и сказал наставительно:
– Выспренне разговариваете. Разница наших возрастов обязывает вас к уважительному поведению. А что касается чести, то откуда вы знаете, что она у меня есть? Может быть, ее не было, нет и не будет. И у меня и у вас. И вообще, что такое честь? Осчастливьте нас, напишите для моряков побережья Гагры – Батум статью на эту тему в вашей листовке. Тогда мы, может быть, и поймем.
В это время вошел Ульянский.
– Приветствую вас, кригсгефангенен, – бросил в его сторону Ставраки. – Вот, например, – он повернулся ко мне, – этого юношу и я, и вы считаем честным только потому, что ни черта о нем не знаем. Честность – это незнание.
– Дешевые интеллигентские разговорчики, – спокойно сказал Ульянский. – Философия запивох!
Ставраки медленно взял со стула пустую бутылку от водки, повертел ее, внимательно рассмотрел этикетку и вдруг стремительно замахнулся бутылкой на Ульянского. Я схватил его за рукав кителя. Он вырвался, повернулся к распахнутому настежь окну и изо всей силы швырнул бутылку в трубу на соседней крыше. Бутылка раскололась. По крыше полились, перезванивая, осколки.
– Я целю верно, – сказал Ставраки. – Даже слишком.
Он быстро повернулся и вышел.
– Психопат! – сказал я.
– Нет, – ответил мне Ульянский. – Не психопат, а негодяй.
Я запротестовал, но Ульянский не захотел со мной спорить.
Когда я схватил старика за рукав кителя, послышался треск, – должно быть, ветхий китель не выдержал и порвался. Сейчас мне было стыдно, что я порвал китель у этого несчастного человека. Я готов был догнать его и извиниться.
Через несколько дней я возвращался на катере в Батум из поездки в Чакву. Был уже вечер. Море, как всегда в сумерки, уходило в безбрежную мглу, и казалось, что катер испуганно стучит мотором на краю тихой бездны. Маяк низко висел над глухой водяной пустыней, как последнее прибежище человека.
Слабый огонь светился в одном из окон маяка. Над ним победоносно и хищно сверкал маячный огонь, как бы бросая вызов ночной стихии.
Я вспомнил о Ставраки. О чем он думает, один на маяке: перебирает ли в памяти свою молодость, свое прошлое, как засохшие полевые цветы, или в который раз читает какую-нибудь книгу, отыскивая в ней утешение для своей неудачливой жизни?
Я снова пожалел старика, но на следующее же утро жалости этой был положен конец – неожиданный и страшный.
Оказалось, что смотритель Батумского маяка Ставраки был именно тем лейтенантом Черноморского флота Ставраки, который в марте 1906 года расстрелял на острове Березани лейтенанта Шмидта[8].
В ту ночь, когда я проплывал на катере мимо маяка, Ставраки был на рассвете арестован и предан суду.
Подчиняясь какому-то внутреннему требованию и чувству отвращения, я собрал у себя в редакции рукописи статей Ставраки и сжег их. Если бы было можно, я сжег бы свою руку, пожимавшую руку Ставраки. Во всяком случае, я выбросил из редакции в коридор старую садовую скамейку на чугунных ножках, на которой сидел бывший лейтенант Ставраки, и притащил взамен несколько табуреток.
Не знаю, кто из писателей, кто из великих знатоков человеческих душ мог бы написать о черной душе Ставраки, мог бы проследить извилистый путь подлости в мозгу и сердце этого человека. Может быть, Бальзак? Или Достоевский?
«Нет, – думал я, не засыпая по ночам и задыхаясь оттого, что вот тут, в этой комнате, сидел недавно этот человек. Тьма казалась мне до сих пор пропитанной его кислым дыханием алкоголика и курильщика. – Нет, не Достоевский! Конечно, он мог бы написать о нем, но никогда бы не захотел. Никогда! Потому, что человеческая доброта могла бы навсегда погаснуть в измученном сердце от прикосновения к жизни Ставраки».
Эта жизнь была сплошной черной изменой. И выросла эта измена из сплошных пустяков: из желания носить лишнюю звездочку на погонах, покрасоваться перед женщинами, из рабьего страха перед всяческой властью – от дворника до императора, из страсти жить богато, беспечно, ни над чем не задумываясь, обсасывая жизнь жадно, как ножку рябчика, и заменяя любовь насилием над хорошенькими горничными. Если это было, конечно, безопасно.
Ставраки окончил вместе со Шмидтом Морской кадетский корпус. Все школьные годы они просидели на одной парте. И все эти годы Ставраки мучился завистью к Шмидту. Он завидовал его благородству, смелости и его способности к самопожертвованию. Он завидовал ему как будущему герою, трибуну, вождю.
Он знал, что Шмидт способен на это и что эти его качества, если захочет жизнь, дадут Шмидту всемирную славу.
В то время уже Максим Горький сказал свои слова о людях, подобных слепым червям, и Ставраки ненавидел этого «волжского босяка» за то, что он как будто заглянул ему, блестящему гардемарину, в самую совесть и презрительно отвернулся от него.
Когда Ставраки и Шмидт прощались после окончания корпуса, Шмидт сказал Ставраки:
– У тебя, Миша, нет в душе никакого стержня.
– Нет, есть! – сердито ответил Ставраки. – Что у тебя за манера – залезать в чужую душу!
– Если и есть стержень, – добавил Шмидт и внимательно посмотрел на Ставраки, – то не железный, а резиновый. Смотри не сковырнись в какую-нибудь гадость. Пока не поздно.
– Мое дело! – ответил вызывающе Ставраки. – Во всяком случае, я не женюсь на проститутке, чтобы спасти ее и лить вместе с ней слезы над ее печальным прошлым, как собираешься сделать ты!
– Довольно! – гневно сказал Шмидт. – У каждого своя дорога. Я могу только молить бога, чтобы наши дороги больше никогда не встречались.
Так они расстались, чтобы встретиться на острове Березани в день расстрела.
Откуда-то, из окаянных степных далей, сочился угрюмый, холодный рассвет. Шмидта и матросов высадили с катера и повели к столбам, врытым в землю.
Командовал расстрелом лейтенант Ставраки.
Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки стал на колени и сказал:
– Прости меня, Петя, если можешь!…
– Встань, Миша! – не останавливаясь, ответил Шмидт. – Не паясничай! Лучше скажи своим людям, чтобы они целили вернее.
Что было у Ставраки на душе? Очевидно, ничего, кроме желания поскорее отделаться от Шмидта, от этого живого укора. Но с этой минуты Шмидт уже мешал Ставраки жить и чувствовать себя устойчиво и ладно.
Ставраки встал, торопливо отряхнул пыль с брюк и закончил расстрел быстро и как-то напропалую, стараясь не взглянуть на Шмидта, прячась за спинами матросов.
И подлая мысль мучила его до тех пор, пока Шмидт не упал лицом вниз на землю: знает ли он, что Ставраки был единственным офицером Черноморского флота, добровольно согласившимся расстрелять Шмидта? Все офицеры, даже самые отъявленные монархисты, решительно отказались от этого.
Вскоре Ставраки заметил, что его сослуживцы всячески старались не подавать ему руки.
С тех пор он старался служить и жить незаметно, начал избегать людей, дожил до революции, бежал из Севастополя и при меньшевиках начал работать смотрителем Батумского маяка. И так и остался им до прихода Советской власти.
Но я вижу, что мне придется в некоторой части повторить печальную историю лейтенанта Шмидта. Я писал однажды о ней и поэтому прошу читателей, если будут какие-нибудь совпадения, простить меня. Проза, как сама жизнь, велика и разнообразна. Иногда бывает нужно вырвать из старой прозы целые куски и вставить их в новую прозу, чтобы придать ей полную жизненность и силу.
В деле Ставраки было одно странное обстоятельство: никто не мог понять, почему он жил до самого ареста под своей настоящей фамилией, почему он не переменил её тотчас после революции. Когда следователь спросил его об этом, Ставраки ответил:
– Под любой фамилией меня все равно бы нашли. И чем раньше, тем лучше. И так слишком долго искали! – Даже следователь был озадачен этим ответом и спросил:
– Значит, вы жалеете о случившемся?
– Это не ваше дело! – ответил Ставраки. Показания он давал скупо, но точно. Последнее его слово было коротким и ошеломило всех, кто присутствовал на суде.
– В общем, – сказал он глухо и вздохнул с облегчением, – слава богу, кончилась эта волынка. Собаке собачья смерть!
Даже судьи вздрогнули и пристально посмотрели на Ставраки. Он стоял, опустив глаза, и сосредоточенно выдергивал нитку из рваного рукава своего бушлата. И больше не сказал ни слова.
Мы все были потрясены этим делом. Мы понимали, что Ставраки задал всем сложнейшую психологическую загадку, но никто из нас ее не разрешит. Можно было сказать – «раскаяние», как сказал Синявский, или «чудовищное актерство», как сказал Ульянский, или «полное и очень давнее душевное опустошение», – так думал я, – то опустошение, что жгло его изо дня в день, из часа в час и превратило жизнь в каторгу.
Так мы ни до чего и не договорились. Бабель уехал со всей семьей в Тифлис. Маяк продолжал сверкать над морем.
Гораздо позже я узнал, что у Ставраки была молодая жена. После суда и расстрела Ставраки она исчезла. И на маяке Ставраки жил не один, а с женой и в окружении приятелей – спекулянтов. Приятели сбежали с маяка, как только в Батуме установилась Советская власть. В то время Ставраки уже называл себя анархистом-коммунистом.
Меня всегда удивляет одно обстоятельство: мы ходим по жизни и совершенно не знаем и даже не можем себе представить, сколько величайших трагедий, прекрасных человеческих поступков, сколько горя, героизма, подлости и отчаяния происходило и происходит на любом клочке земли, где мы живем. Мы просто не подозреваем об этом.
А между тем знакомство с каждым таким клочком земли может ввести нас в мир людей и событий, достойных занять свое место в истории человечества или в анналах великой, немеркнущей литературы.
К примеру, никто не подозревает, что Батумский маяк связан с одной из больших трагедий, с гибелью лейтенанта Шмидта.
Только иногда, в бесконечные осенние ночи, когда море гнало к берегам стада разъяренных и неутомимых в своей ярости волн, мрак вокруг маяка казался гораздо гуще, чем всюду. Нечто тяжелое, безвыходное было в этом мраке.
От него хотелось уйти в тепло комнат, где спят, приоткрыв губы, маленькие дети и мир тихо живет, очерченный световым кругом лампы.
Никто бы не поверил, если бы ему сказали, что вот этот вздохнувший от сладкого сна мальчик с пушистыми волосами или эта девочка, заплакавшая почему-то во сне, через несколько лет могут стать предателями, негодяями, убийцами, могут расстреливать невиновных, пытать их, насиловать свободную человеческую мысль, призывать народы к взаимной ненависти и затевать войны во имя своего преступного властолюбия или звериной жадности.
Никто бы не поверил в это и был бы не прав. Это было горше всего для бедного, перенесшего тысячи тягостей, но честного сердца. И потому мне казалось единственно важным объединение всех людей доброй воли. И, кроме того, создание литературы чистой совести и правды.
Ради этого надо было жить, работать, страдать и не сдаваться.
Шмидт испытал много предательства, пли, говоря по-старинному, ударов судьбы.
Ставраки попрекнул Шмидта в пылу ссоры тем, что он из соображений ложной гуманности женится на проститутке.
Молодость Шмидта отчасти совпала со знаменитым «хождением в народ», с призывом спасать «падших» женщин и переносить вместе с народом все тягости его существования.
Молодой Шмидт часто бывал в народнической среде Шелгунова и его товарищей. Как человек пылкий, он был сторонником решительных дел, а не решительных разговоров. Поэтому он действительно женился на проститутке, желая ее спасти.
Но с первых же шагов их совместная жизнь пошла вкось – жена Шмидта была даже неграмотной. Шмидт долго, но с очень слабым успехом обучал ее чтению. Но приохотить ее к книгам он так и не смог.
От нее у Шмидта родился сын, совершенно не похожий на отца. Вскоре Шмидт разошелся с женой, оставив ей всё. После его расстрела она спекулировала оставшимися у нее вещами Шмидта и печатала в реакционных газетах объявления: «Продается китель лейтенанта Шмидта», «Продается виолончель лейтенанта Шмидта».
Это было одно из предательств, сопровождавших жизнь Шмидта.
Но самым черным, редчайшим по своей низости было, конечно, предательство Ставраки.
И, наконец, в жизни Шмидта произошла история, похожая на вымысел и вместе с тем очень горькая. Когда-то давно я писал об этой истории со слов сестры лейтенанта Шмидта и по старым материалам. Сейчас эта история выглядит несколько иначе.
Вот она, рассказанная сжато.
…Летний день в Киеве. Жара. Увядшие пятипалые листья каштанов. Молодой флотский офицер Шмидт останавливается в Киеве от поезда до поезда. Он едет с Дуная в Севастополь.
Я, как киевлянин, хорошо знаю, что значит летняя киевская скука. Испытал эту скуку и Шмидт. Это та скука, когда из всех домов доносится запах «домашних обедов» и кажется, что все интересное, что может случиться в жизни, отодвинулось за десять тысяч километров. Только шарманка фальшиво высвистывает по раскаленным дворам противную немецкую песенку: «Августен, Августен, ах, майн либер Августен!»
Куда деваться? Оказывается, в Киеве есть бега. Шмидт едет на ипподром. Ему повезло: ипподром находится на Почерке, в теплой, высокой и меланхолически пустынной части города.
На ипподроме Шмидт замечает молодую женщину неслыханной, по его впечатлению, красоты. Он романтик. Он часто видел в жизни лишь то, что хотел увидеть.
Он полюбил эту женщину с единого взгляда (как мог бы полюбить всех красивых женщин всего земного шара). Он почему-то уверен, что она испанка. Почему? Из-за глубокого блеска глаз и грудного, сдержанного смеха. Женщина смеется, и горло у нее вздрагивает, как у певчей птицы.
Испания… Он видел ее берега в кремнистых далях, отрезанные от неба, как мечом, полосой густейшей морской синевы.
Здесь я могу писать очень много, но я обещал короткий рассказ и держу себя за руку.
Шмидт теряет испанку в толпе. Он переживает это как катастрофу, хотя в глубине души понимает, что нет такой любимой женщины, которую нельзя было бы найти.
Вечером он садится в поезд на Севастополь. Вот тут мой возраст дает мне некоторые преимущества перед большинством читателей. Потому что я много ездил в те времена и хорошо помню, как тогда выглядели вагоны и поезда.
Представьте себе, что вагоны освещались стеариновыми свечами в железных фонарях. Язычки свечей всегда так сильно и разнообразно плясали, что каждый вагон напоминал театр теней. Тени роились, появлялись, исчезали, черты человеческих лиц становились изменчивыми, как отражения в воде. Урод вполне мог рассчитывать сойти за красавца, а красавица – за ведьму.
В поезде напротив Шмидта села женщина. Он вздрогнул, вытянулся, слегка махнул у себя перед лицом рукой, как бы отбрасывая суматошливые тени, и вдруг чьи-то маленькие руки сжали его сердце, – да, это была она, испанка с ипподрома. Должно быть, сам бог, в которого он позволял себе не верить, привел ее в этот темный вагон второго класса.
Они разговорились. Женщина ехала в Дарницу, дачную местность под Киевом с вековыми соснами и песками.
Поезд до Дарницы идет тридцать минут. За это время Шмидт бросил всю свою жизнь к ногам этой женщины и с радостью признался самому себе во внезапной любви.
Они обменялись адресами, и женщина сошла, преображенная этим вихрем любви. Потому что нет, должно быть, ни одной женщины, которая не расцвела бы, как редчайший весенний рассвет, зная, что она стала причиной внезапной любви.
Потом Севастополь. Бурный год. Накаленный революцией флот. Судорожная переписка с киевлянкой. Шмидт в своих письмах крылат и порывист, женщина кокетлива и прозаична. Шмидт этого не замечает.
Имя Шмидта – трибуна и вождя – уже гремит по всему миру. Его мужество и преданность народу рождают любовь в миллионах сердец. Это слава! Это величие!
Но вот восстание, кровь на поверхности севастопольских бухт, две телеграммы Шмидта, звучащие, как грозный крик и мольба.
Одна телеграмма императору Николаю Второму: «Черноморский флот отказывается подчиниться вашим министрам и требует созыва Учредительного собрания. Командующий флотом лейтенант Шмидт». Вторая телеграмма ей, киевлянке: «Приезжай немедленно. Рискуем не увидеться никогда».
Восстание разгромлено. Шмидт арестован, привезен в тихий Очаков и предан с несколькими матросами военному суду.
К Шмидту в Очаков приезжает его сестра Анна Петровна Избаш. Он просит сестру поехать в Киев, разыскать киевлянку и привезти ее в Очаков: ему легче будет умереть, увидев ее хотя ненадолго перед казнью.
Сестра в отчаянии: идут последние часы Шмидта, а ей приходится уезжать и терять время во имя любви брата к неизвестной женщине.
Сестра едет в Киев и узнает от ничего не подозревавшего бывшего мужа киевлянки, что ее нет в городе. Анна Петровна рассказывает мужу все. И таково было обаяние Шмидта и власть его имени, что муж отправляется вместе с Анной Петровной в глушь Полтавщины, находит жену и уговаривает ее поехать к Шмидту.
Шмидту разрешают свидание с этой женщиной. Она входит к нему в камеру, и он на мгновение отшатывается. Потому, что в камеру вошла та женщина, какую он видел в полутемном вагоне в бегающем и тусклом пламени свечи, но совсем не та женщина, которой он писал свои вдохновенные письма. Но все равно он был бесконечно благодарен ей за то, что она приехала скрасить его последние часы.
Спустя много лет, зимой 1935 года, я встретился в Севастополе с сестрой Шмидта Анной Петровной Избаш.
Из номера «Северной гостиницы», где она остановилась, виднелась Артиллерийская бухта, – как раз то место, где Шмидта, бросившегося вплавь вместе с маленьким сыном с горящего и тонущего «Очакова», подобрал миноносец и доставил на корабль «Ростислав». Там Шмидт был арестован.
Седой туман нависал сейчас над Севастополем. Туман этот усиливал ощущение пустынности севастопольских улиц. Они оживали только к вечеру, когда списывались на берег команды кораблей. А в полдень Севастополь был так же тих и пуст, как и ночью.
Передо мной сидела, утонув в мягком кресле, маленькая, тонкая, нервная старушка с необыкновенно доброй улыбкой и крепкими молодыми бровями.
Она говорила о Шмидте, называла его Петрушей, и в ее представлении он был, очевидно, в лучшем случае гардемарином, если не безусым кадетом.
– Всю жизнь увлекался и не считался с собой, – вот, по ее мнению, была главная черта брата. – Жил ради других, любил матросов, как малых детей, довольно часто жестоко обманывался, но не позволял себе впадать в отчаяние или хандру. Был он очень пылкий, впечатлительный. Весь жил на нерве. На одном нерве. В молодости я тоже чуть-чуть была похожа на брата. Любил книги, стихи, особенно Байрона – его он читал в оригинале, – музыку, детей и морское дело. Особенно почему-то маяки. От него осталась целая коллекция гравюр и фотографий замечательных маяков мира. Втайне даже мечтал быть маячным смотрителем, но обязательно на маяке, далеком от городов. «Черт с ним, – говорил он, – хотя бы даже на Тараханкуте! Днем бы уходил охотиться в степь с ружьем или раскапывал бы, не торопясь, могильник около маяка. Говорили, что он скифский и в нем зарыто много утвари и стрел. Копал бы, сгорал от солнца, легкие у меня просмолились бы от тамошних смолистых трав, а вечером, обмывшись пресной водой, сидел бы в маячной каюте около фонаря и читал бы книги. Но медленно, с карандашом в руках и всяческими думами по поводу каждой книги. Считал бы закаты, рассветы, огни пароходов и заносил бы их имена в вахтенный журнал.
И спал бы по ночам чутко, прислушивался бы, не начинает ли позванивать в сигнальный колокол ветер. А в шторм глох бы от рева волн, от клокотания этих бешеных морских сил, от пены, что летит к небу, как протуберанцы на Солнце, от крика чаек, – ты заметила, что во время шторма они насквозь пронизывают этими криками, как иглами, мутный воздух. Вот была бы красота, Аня!» В общем, был он самым мирным и незлобивым человеком, и никто из родных и представить себе не мог, что он может стать во главе восстания.
Когда Анна Петровна уезжала к себе в Ленинград, я провожал ее на уютном, маленьком вокзале – том вокзале, где на перроне в двух метрах от горячих вагонов скорого поезда стояли шелестящие тополя в три обхвата. Запах сухих, оставшихся от осени листьев наполнял воздух и даже заглушал привычный дорожный запах каменноугольного дыма и мазута.
Сейчас я вспомнил, сколько людей встречал и провожал около этих тополей, ставших с некоторых пор немыми свидетелями моей жизни.
С этими тополями был неуловимо и непонятно связан в моем сознании щемящий романс Гречанинова: «Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, навеки полюбит и тяжкий свой брачный наденет венец». Почему я вспоминал этот романс на севастопольском вокзале, не знаю. В его словах скрывалась какая-то томительная надежда на счастливую, хотя бы и самую мимолетную любовь и на избавление от одиночества. Я часто чувствовал одиночество – смутно и тяжело.
Удивительно, что во время последней войны вокзальные тополя в Севастополе, говорят, уцелели.
Веселый попутчик
На улицах Батума я часто встречал маленького человека в расстегнутом старом пальто. Он был ниже меня ростом, этот веселый, судя по его глазам, гражданин.
Ко всем, кто был ниже меня, я испытывал дружеское расположение. Просто мне было легче жить на свете, если находились такие люди. Хотя и ненадолго, но я переставал стесняться своего роста.
Еще в детстве сердобольная моя сестра Галя, чтобы утешить меня, придумала шаткую теорию о том, что почти все невысокие люди – талантливые. Галя приводила много примеров: Пушкин, Наполеон, Лермонтов, Диккенс, Дюма, Врубель, Шопенгауэр.
Но вся теория Гали летела кувырком от одного упоминания имен таких знаменитых великанов, как Тургенев, Христиан Андерсен, Мопассан, Чехов и Горький.
Я охотно дружил с людьми небольшого роста, но презирал тех, кто пытался увеличить свой рост особым покроем платья или высокими каблуками. Например, я признавал талантливость поэта Бальмонта, но не любил его за щегольские штиблеты на высоких, почти дамских каблуках. Однажды я видел его в этих штиблетах в Киеве на его докладе о «колдовстве поэзии».
Маленький человек, бегавший по Батуму, всегда таскал у себя под мышкой зонтик. Карманы его пальто были набиты мандаринами, а в одном из них часто поблескивало горлышко водочной бутылки завода Рухадзе.
То обстоятельство, что маленький человек никогда не расставался с зонтиком, напоминало о знаменитых батумских дождях.
Ни в одном городе в России не выпадало столько дождей. Недаром французские моряки прозвали Батум «писсуаром»: «писсуар де Мэр Нуар».
Летом это были ливни, рушившие на крыши реки воды и грохота. Но не эти ливни были характерны для Батума.
Типичными, именно батумскими дождями были непрерывные, монотонные, как будто заводные дожди с запада. Оттуда все время наваливалось на город тучевое небо – рыхлое, гасившее проблески света и погружавшее Батум даже в полдень в мутный сумрак. Казалось, этот сумрак сбегал, журча и плескаясь, по всем водосточным трубам, вливался в пенистое море, растворялся в нем и мутил морскую воду.
Во мгле ревели простуженными сиренами и тускло блестели мокрыми палубами недовольные пароходы. Слабый блеск на их серых, красных, черных и желтых бортах казался остатками далекого солнечного света. Он напоминал, что стоит перемениться ветру, и тотчас весь Батум от первых же солнечных лучей засверкает в глазах, как груда синеватого стекла. К небу понесутся видимые невооруженным глазом струи теплого воздуха и пара от нагретых улиц и домов. И канны – самые заметные цветы батумских палисадников – будут просвечивать в солнечных лучах цветом винной крови.
Дожди в Батуме могли длиться неделями. Мои ботинки никогда не просыхали. Если бы не это обстоятельство, вызывавшее приступы малярии, то я давно примирился бы с дождями.
Всё-таки в них было много хорошего. Во-первых, островатый, чуть пахнущий кильками воздух. Во-вторых, торжественная оратория нескольких тысяч водосточных труб, согласованно певших по всему городу. В-третьих, серый низкий свет и зажженные днем лампы. Свет ламп во время таких дождей кажется уютным, помогает читать, а то и вспоминать стихи.
И мы их вспоминали с маленьким человеком. Фамилия его была Фраерман, а звали его в разных случаях жизни по-разному: Рувим Исаевич, Рувим, Рувец, Рува, Рувочка и, наконец, Херувим. Это последнее прозвище придумал Миша Синявский, и никто, кроме него, его не повторял.
Мы вспоминали стихи иногда почти всю ночь напролет в моей комнате-редакции и ложились спать на узкую койку и деревянный диванчик только к утру – голодные, но счастливые. Да и как можно было оставаться спокойными, вспоминая грозные стихи:
А к полуночи восходит на востоке Мертвец Сатурн и блещет, как свинец. Поистине зловещи и жестоки Твои дела, творец!Людей другого, более зрелого возраста, чем мы с Фраерманом, эти зловещие стихи могли бы ввергнуть в печальные размышления. Для нас же они были примером резкости образа и силы языка. Невольно они дополняли для нас батумскую ночь.
Я даже не то чтобы видел, но чувствовал многоярусные, тяжелослоистые, изорванные снизу в лохмотья архипелаги туч, задержанные над Батумом горами Малого Кавказа. Где-то в бесконечной выси мирового пространства сверкал над ними Сатурн, сиял его пепельный свет над лениво клубящейся громадой облачной земли.
Потом мы читали другие стихи – ясные и светлые, как возвращенное солнце:
Измучен жизнью, коварством надежды, Когда им в битве душой уступаю, И днем и ночью смежаю я вежды И как-то странно порой прозреваю. Еще темнее мрак ночи вседневной, Как после яркой осенней зарницы, И только в небе, как зов задушевный, Мерцают звезд золотые ресницы…Я всегда любил стихи, но никогда еще они не входили в жизнь с такой естественностью, как тогда в Батуме.
Стихи теряли свою словесную сущность и становились такими же явлениями жизни, как дождь, человеческие голоса, крики измученных ночными дождями ишаков, как рождение и смерть.
Все эти «стихотворные» ночи сопровождал неумолчный гомон дождя, а изредка и шум морских волн, проникавших в порт.
Плеск дождя особенно резко выделял некоторые строчки стихов, и поэтому мы повторяли их по нескольку раз.
Вот некоторые из них:
На темный плющ летят цветы жасмина, Как крылья мотыльков. Часы текут медлительно и длинно. На камне полустертая терцина Поёт без слов.Или другие:
Мне холодно. Прозрачная весна В зеленый пух Петрополь одевает.Или третьи:
Немая степь синеет – и венком Серебряным Кавказ ее объемлет.Или, наконец, четвертые:
Вернись обратно, Витингтон! О Витингтон, вернись обратно!Эти последние строчки особенно сильно действовали на меня, хотя ничего особенного в них не было. Очевидно, потому, что однажды в батумский порт пришел с грузом для фирмы «Сосифрос» грязный и безлюдный пароход под английским флагом. На борту его белой краской было написано знакомое имя «Витингтон».
Почему-то этот пароход вызвал у меня чувство жалости как промокший под дождем, дрожащий от непогоды неудачник. Но и его кто-то ждал там, в Старой Англии. В каком-нибудь тусклом приморском городке болезненно билось скромное женское сердце, рано постаревшее сердце недавней красотки. Она дожидалась возвращения молчаливого мужа или сына, плававшего на «Витингтоне», на этом медлительном и застенчивом корабле.
Фраерман попал в редакцию «Маяка» очень просто. Для газеты нужны были телеграммы Российского Телеграфного Агентства (РОСТА), Мне сказали, что для этого надо пойти к корреспонденту РОСТА по Батуму Фраерману и договориться с ним.
Фраерман жил в гостинице с пышным названием «Мирамаре». Вестибюль гостиницы был расписан темноватыми фресками с видами Везувия и апельсиновых рощ в Сицилии.
Фраермана я застал в позе «мученика пера». Он сидел за столом и, схватившись левой рукой за голову, правой что-то быстро писал и при этом тряс ногой. Я тотчас узнал в нем того маленького незнакомца с развевающимися полами пальто, который так часто растворялся передо мной в дождливой перспективе батумских улиц. Он отложил перо и посмотрел на меня смеющимися добрыми глазами. Покончив с телеграммами РОСТА, мы тотчас же заговорили о поэзии.
Я заметил, что все четыре ножки кровати в номере стояли в четырех тазах с водой. Оказывается, это было единственное средство от скорпионов, бегавших по всей гостинице и вызывавших оторопь у постояльцев.
В комнату вошла коренастая женщина в пенсне, подозрительно посмотрела на меня, покачала головой и сказала очень тонким голосом:
– Мало я имею мороки с одним поэтом, с Рувимом, так он уже нашел себе второго дружка-поэта. Это же чистое наказание.
Это была жена Фраермана. Она всплеснула руками, рассмеялась и тотчас же начала жарить на керосинке яичницу-глазунью с колбасой.
Она не отпустила меня, пока мы не позавтракали все вместе и не выпили по доброй стопке водки Рухадзе.
Я пил эту водку и удивлялся ее необыкновенному свойству: голова у меня оставалась совершенно легкой, но вес мысли, гулявшие в этой голове, казались мне и свежими, как только что распустившийся цветок магнолии на батумском бульваре, и яркими, и даже как будто липкими на ощупь, как только что выкрашенная фелюга.
Это было чудесное ощущение. Мы с Фраерманом пошли в редакцию «Маяка», чуть покачиваясь и беспричинно смеясь. По дороге мы встретили Люсьену и Мишу Синявского и потащили их с собой. Жаль, что Бабель уже уехал в Тифлис, а то бы мы пошли пешком к нему на Зеленый мыс и притащили бы к нам и его. И Евгению Борисовну, и Мери, и в придачу поэта Чачикова. И основали бы первое литературное объединение – первую ячейку советской поэзии и прозы на этой отдаленной границе страны.
Миша Синявский достал еще одну бутылку водки Рухадзе. Мы пили ее в редакции и пели:
Где седой Казбек Навеки уснул, Там мой дед имел Свой родной аул. Дед был лют и дик, Строен, как джейран. Был душой велик, Умер всё ж от ран.Когда мы дошли до припева, вошел Нирк и подхватил его с лихостью заправского тамады:
Есть у нас легенды, сказки! Аджа! И обычай наш кавказский! Аджа! Цинандали выпьем по-кунацки, Чтобы жили мы по-братски!После Нирка в редакцию, поцарапав лапой дверь, пришел Мономах. Он участвовал в общем веселье и сглатывал куски колбасы с таким звуком, будто откупоривал тугие пробки. По всему было видно, что пес опытный в таких делах, как пирушки.
Веселье не утихло даже тогда, когда на многообещающий шум в комнате вошел мертвецки пьяный, но совершенно спокойный американский матрос по прозвищу Джокер. Поплевав на пол и не обращая на нас никакого внимания, он снял пиджак, скатал его валиком, положил в углу на пол и, ни слова не говоря, лег спать. Он проспал до утра и ушел так же молча и спокойно, как и появился.
С тех пор Фраерман забегал в редакцию по нескольку раз в день. Иногда он оставался ночевать.
Все самые интересные разговоры происходили ночью. Фраерман рассказывал свою биографию, и я, конечно, завидовал ему.
Сын бедного маклера по дровяным делам из города Могилева-губернского, Фраерман, как только вырвался из семьи, бросился в гущу революции и народной жизни. Его пронесло по всей стране с запада на восток, и остановился он только на берегу холодного Охотского (Ламского) моря.
Дальний Восток пылал. Японцы оккупировали Приморье. Партизанские отряды дрались с ними беспощадно и беззаветно.
Фраерман вступил в отряд партизана Тряпицина в Николаевске-на-Амуре. Город этот был похож по своим нравам на города Клондайка.
Фраерман дрался с японцами, голодал, блуждал с отрядом по тайге, и все тело у него было покрыто под швами гимнастерки кровавыми полосами и рубцами: комары прокусывали одежду только на швах, где можно было засунуть тончайшее жало в тесный прокол от иглы.
Амур походил на море. Вода курилась туманами. Весной в тайге вокруг города зацвели саранки. С их цветением пришла, как всегда неожиданно, большая и тяжкая любовь к нелюбящей женщине. Я помню, что там, в Батуме, после рассказов Фраермана я ощущал эту жестокую любовь, как собственную рану.
Я видел все: и бураны, и лето на море с его дымным воздухом, и кротких гиляцких детей, и косяки кеты, и оленей с глазами удивленных девочек.
Я начал уговаривать Фраермана записать все, что он рассказывал. Фраерман согласился не сразу, но писать начал с охотой. По всей своей сути, по отношению к миру и людям, по острому глазу и способности видеть то, что никак не замечают другие, он был, конечно, писателем.
Он начал писать и сравнительно очень быстро закончил повесть «На Амуре». Впоследствии он переменил ее название на «Васька-гиляк». Она была напечатана в журнале «Сибирские огни». С этого времени в литературу вошел еще один молодой писатель, отличавшийся проницательностью и добротой.
Теперь по ночам мы не только занимались разговорами, но читали и правили повесть Фраермана.
Мне она нравилась: в ней было заложено много того ощущения, какое можно назвать «дыханием пространства» или (еще точнее) «дыханием больших пространств».
Тяга к большим пространствам появилась у меня с юного возраста. С годами она не затихала, а разгоралась. Чем больше я видел земель, тем сильнее мне хотелось видеть все новые и новые края. Всякая новая даль существует для меня до сих пор, как огромная синеющая, великая загадка, скрывающая в своей мгле новизну.
С батумских времен наши жизни – фраермановская и моя – множество лет шли бок о бок, взаимно друг друга обогащая.
Чем мы обогащали друг друга? Очевидно, своим любопытством к жизни, ко всему, что происходило вокруг, самим приятием мира в его поэтической сложности, любовью к земле, к своей стране, к своему народу, любовью очень кровной, простой, вросшей в сознание тысячами самых мельчайших корней. И если корни растений могут пробить землю, почву, на какой они растут, взять ее влагу, ее соли, ее тяжесть и ее загадки, то мы любили жизнь именно так. Я говорю здесь «мы», так как уверен, что у Фраермана отношение к природе походило на мое.
Чем дальше, тем сильнее я чувствовал себя частицей природы, как любое дерево или трава, и находил в этом успокоение.
Иногда, лежа на заросшем береговом откосе какого-нибудь озера пли реки, я прислушивался к земле. Ее принято было считать немой, но сквозь эту немоту доносилось тончайшее журчание – неясный намек на длинный, как золотая канитель, и неясный звон. Это где-то глубоко под землей сочилась, пробиваясь к озеру, грунтовая вода.
В такие минуты я был счастлив.
Главное направление
Есть люди, которые выбрали в жизни главное направление и заставляют себя сознательно отбрасывать другие, как бы второстепенные.
Но это главное направление возникает сплошь и рядом из самой жизни или, вернее, в естественном движении жизни того или иного человека и часто не совпадает с тем, что он умозрительно себе представлял.
Помню, как долго и без заметного успеха я подгонял свою жизнь к главному направлению – к писательству. Я думал, что я должен узко и беспощадно, даже аскетически подчинить этой цели все мои силы и все время до последнего дня, не тратя ни часа на отклонения.
Это мое выдуманное состояние длилось, к счастью, недолго, и вскоре я понял, что для писателя гораздо важнее, чем педантичная забота о своем творчестве, свободная, вольная жизнь, отданная высокой цели служения человеку. А книги появятся как обязательный итог такой жизни. Появятся непременно.
Да, одно время я хотел подчинить свою жизнь всему планомерному: планомерным поискам смысла и содержания во всем пережитом, подчинить заранее определенному отношению к людям в зависимости от их качеств, свести все к целесообразным и точным поступкам.
«Только так, – уверял я себя, – можно дойти до самоусовершенствования и стать настоящим человеком в гуще людского сообщества».
Но сколько я ни стремился к этому идеалу поведения, он ускользал и вытеснялся «злобой каждого дня». Жизнь брала меня в плен. Я с трудом сопротивлялся ее свободному ходу, пока в одно прекрасное батумское утро вдруг но бросил единоборство с самим собой. Произошло это именно в то утро, когда Миша Синявский обозвал мои философские выкладки «занудством».
Это было действительно прекрасное октябрьское утро, когда на сырой земле около террасы, где жили Синявские, на Барцхане (я пришел к ним попробовать знаменитой жареной люсьеновской барабульки) лежали, пылая, огромные лепестки шиповника, покрытые, как бисером, крупной росой.
Море светлело рядом, белое и теплое, как парное молоко. Анатолийский берег закрывала дымка, но сквозь нее просвечивал желтовато-красный цвет турецких гор.
Я развивал перед Мишей свою идею о никчемности жизни, не подчиненной заранее задуманной цели, и о том, что к этой цели надо заставлять себя идти без всяких отступлений.
Миша ел барабульку и, прищурившись, поглядывал на меня. По всем признакам он начинал сердиться.
– Зануда! – вдруг сказал Миша спокойно и решительно.
– Кто зануда? – спросил я. Сердце у меня дрогнуло от дурного предчувствия.
– Как кто? Ты! Ты и есть зануда. Если, конечно, верить твоей косноязычной философии. Ты опубликовал ее впервые. Пойми, ты, гимназист восьмого класса, не вешай себе на шею ярмо. Эта твоя блажь, должно быть, от малярии. Она у тебя индийская и ударила тебя микробами йогов. Живи вольно, легко и чем легче, тем лучше. И не подгоняй свою жизнь к тому скучному образцу, который ты выдумал. Все это бред и так же нужно тебе, как собаке боковой карман. «Доверяй жизни», – как напыщенно говорили хрычи – старые писатели, а к своей цели ты все равно придешь.
– Какой цели?
– Господи Исусе! – закричал Миша. – Или ты уже раздумал быть писателем? Поменьше рассуждай, это не твое дело, а побольше смотри и удивляйся!
Никогда еще Миша не говорил со мной так сердито. Я поверил ему. Очевидно, я давно хотел услышать от кого-нибудь эти слова. Назойливая тяжесть, навязанная самому себе, исчезла. Я вдруг почувствовал, как тонкий, не толще нитки, запах холодных кистей винограда «изабелла» проникает сквозь щели рассохшихся оконных рам на террасу и осторожно щекочет мои губы. Я засмеялся.
– Что такое? – испуганно спросил Миша.
– Ничего. Губы чешутся. Я три дня не брился.
– Первый раз слышу, чтобы от этого чесались губы, – пробормотал Миша, подозрительно глядя на меня. – Люся, ты слышала, что он такое говорит?
– Ой, Косточка! – закричала Люсьена (она дожаривала на мангале в саду барабульку). – Ты врешь совершенно ненатурально. Но фиг с тобой! Я тебя все равно люблю.
Пока я сидел у Синявских, я все время слышал то набегавший вплотную, то уходивший далеко запах «изабеллы». Он не давал мне покоя, пока я не спустился в маленький виноградник позади дома и не увидел в тени от виноградной листвы, слегка позолоченной солнцем, тяжелые сизые гроздья. Они свешивались с деревянных подпорок и были наполнены фиолетовым соком.
Я сорвал одну кисть и съел. Солнце жарко лилось с чистого неба, но я вдруг почувствовал, как в тепло все чаще вонзаются струи пронзительного холода. Как будто кто-то непрерывно подливал в кипящий раствор ледяную воду. В конце концов, она взяла верх, залила последние струи тепла, и вдруг внезапный, как удар, озноб обрушился на меня. Я, шатаясь, вернулся на террасу, лег на пол в том месте, где он был горячий от солнечных лучей, и блаженно застонал.
– Ну, так! Готово! – сказал с отчаянием Миша. – Малярия! Третий припадок. И опять от «изабеллы». Люся, надо навалить на него все, что у нас есть теплого.
– Не поможет, – пробормотал я. Мне уже казалось, что меня впаяли внутрь мощных, в два километра толщиной, арктических льдов, сейчас я превращусь в сосульку и никакого спасения для меня быть не может.
Так схватила меня желтая тропическая лихорадка. С тех пор припадки пошли каждый день.
Желтую лихорадку завезли в Батум индийские войска – сипаи – во время оккупации англичанами Закавказья.
Я болел ею долго, несколько лет, и избавился от нее только в лесах Средней России. Но со времен Батума один только вид лиловых ягод «изабеллы» или глоток терпкого вина из этого винограда вызывают у меня немедленный озноб. Вот так же меня просто знобило от воспоминаний об искусственных и совершенно чуждых мыслях, какие я старался внушить себе, – о мыслях, осмеянных Мишей Синявским.
Последние месяцы жизни в Батуме прошли в том несколько туманном и нереальном состоянии, какое вызывает малярия. В начале приступа, когда озноб переходил в сухой жар, голова работала свежо и ясно, и у меня не было никаких сил справиться со своим воображением. Оно металось, как птица, залетевшая в комнату, пока не обессиливало и не падало с изломанными крыльями на пол. Тогда сразу наступали тишина и сумрак и возникал все один и тот же образ, вязкий, длинный, скучный и повторяющийся всю ночь до утра через каждые несколько минут. Я не мог его уловить. Это было скорее ощущение, чем образ. Оно тянулось, как нитка густого сиропа. К нему прилипали пальцы, и я боялся, чтобы этот густой сироп не попал в рот, в горло и не задушил бы меня насмерть.
Я начинал бредить, отбивался от мерзких сиропных сетей. Тогда среди ночи приходил из соседней комнаты Нирк, клал мне на голову мокрое полотенце и говорил, что мне не хватает калорий, чтобы справиться с болезнью.
Я стонал. В ответ мне стонало за окнами море, а Нирк набивал за столом папиросы и насвистывал песенку:
Ах, шарабан мой – «Американка»! А я девчонка Да шарлатанка!К утру я покрывался испариной, волосы у меня промокали, малярия оставляла меня до вечера, и огромная слабость и свежесть делали почти невесомым мое тело.
Сейчас я вспоминаю, что скучные мысли о построении нарочито умной жизни завладели мной как раз во время первых приступов малярии. То, что эти мысли все время повторялись, жестоко мучило меня. Я их возненавидел. Они казались мне вязкими, как синдетикон. Он затягивал все серой отвратительной пленкой.
Я был убежден, что никакая вода – ни соленая, ни пресная – не сможет отмыть эту пленку, и просил у Нирка нож, чтобы соскоблить с себя эти противные мысли.
Вскоре Нирка во время ночных припадков сменил Фраерман. Он тоже клал мне на голову лед в пахнущем резиной пузыре и давал пить.
А к утру опять все проходило. Оставались только сердцебиение и слабость. Весь день я глотал хину просто так, без облаток, пил синьку, оглох, и руки у меня дрожали.
Фраерман ужасался, приводил докторов и «народных врачей» – горбоносых старых аджарцев. Они лечили меня спиртом, настоянным на перце и яичных желтках, и серыми порошками. От порошков меня тошнило. Потом оказалось, что это были перетертые в пудру сушеные пауки.
Я прогнал всех стариков, продолжал лечиться только хиной, и малярия начала постепенно ослабевать. Но еще долго все окружающее казалось мне болезненно преувеличенным, а краски были то слишком яркими, то мутными, как студень.
Тысячи сигнальных ракет
Батум продолжал поражать меня. Этот город все еще был, как говорила Соня Фраерман, во власти «пережитков проклятущего прошлого». О некоторых из этих пережитков я уже писал. А тут еще начинался нэп, и целые орды «нэпачей» с их золотоволосыми девами двинули в Батум, где существовало заманчивое «порто-франко», иными словами, беспошлинная торговля с заграницей.
Во всех, даже в самых тесных и пыльных щелях на набережной открылись конторы заграничных фирм – «Сосифрос», «Джон Виттоль и сыновья», «Лойд Триестино», «Пакэ» и всяческие другие. Большей частью это были спекулятивные фирмы.
Они торговали сахарином, ванильным порошком, дамскими подвязками, камешками для зажигалок, игральными картами, презервативами, прогорклым от старости прессованным инжиром, краской для волос, усохшими маслинами и фальшивыми драгоценностями. Скупали они, но только из-под полы, золото и валюту, а для отвода глаз – сушеные фрукты и кустарные изделия.
Представители этих фирм, независимо от национальности, были похожи друг на друга, как родные братья. В большинстве это были чернявые и пронырливые юноши. Они носили тяжелые янтарные четки, носки всех цветов радуги и лаковые туфли, острые, как челноки. Их волосы, смазанные бриллиантином, отражали, как черные выпуклые зеркала, искаженные предметы, главным образом электрические лампочки, висевшие под потолком. Чачиков называл этих юношей левантийцами и потомками финикиян. Все они прилично говорили по-русски. Но Чачиков предпочитал объясняться с ними на смешанном русско-греческо-французско-грузинском диалекте и даже пытался писать на этом диалекте шутливые стихи.
Отнюдь не отказавшись от своего рыцарского обожания Люсьены, Чачиков иногда доставал у потомков финикиян губную помаду или тушь для ресниц и галантно подносил Люсьене.
Люсьена, испробовав все эти соблазнительные предметы, откровенно кричала, что это гнусная подделка и настоящее дерьмо. Но Чачикова эти слова не шокировали.
Люсьена не стеснялась в выражениях. Мы к этому привыкли. Нам, в том числе и потрепанно-элегантному Чачикову, казалось, что она изъясняется, как молодая герцогиня или примадонна императорских театров.
Чачиков привел как-то в редакцию «Маяка», а потом и на Барцхану местную поэтессу Флору. Эта милая высокая и бледнолицая девушка сгибалась на ходу, как тростник, и читала стихи, отдаленно напоминавшие нечто от Анны Ахматовой.
Флора принадлежала к тому роду поэтесс, которые полны несдержанного восторга перед поэзией. Слушая новые стихи Гумилева, Брюсова или Багрицкого, она молитвенно складывала руки, и в уголках ее глаз появлялись слезинки. Она украдкой вытирала их.
Жила она с мамой-учительницей. Девственность окружала ее нимбом, пахнущим фиалками парфюмерной фирмы «Ксидияс и компания» (Афины).
Сначала Флора побаивалась Люсьены, но вскоре они сдружились и бойко насмешничали над нами и еще над одним милым человеком, приблудившимся, по его собственным словам, к нашей компании.
Это был сотрудник республиканской газеты «Трудовой Батум» Володя Мрозовский[9]. Этот добрый и нерешительный человек мог своей деликатностью затмить даже Фраермана. Мрозовский обладал редкой способностью искренне увлекаться второстепенными вещами – теми, что лежат рядом с настоящими и похожими на них.
Так, например, он страстно увлекался вместо шахмат шашками, вместо настоящего театра – театром лилипутов, вместо живописи – собиранием вырезанных из журналов литографий и, кроме того, всем, что печаталось в журналах в отделе под названием «Смесь», – ребусами, анаграммами, акростихами, чертежами лабиринтов, чайнвордами и загадочными картинками.
Он коллекционировал эти картинки.
Такая картинка изображала, например, стадо слонов в джунглях, а под слонами стояла интригующая подпись: «Где же наша красавица?»
Надо было вертеть такую картинку во все стороны, пока, наконец, вы случайно не замечали сложившуюся из контуров трех слоновых ног, хобота и древесной ветки фигуру девушки, убегающей в джунгли на высоких французских каблучках.
У Володи Мрозовского был целый альбом таких вырезанных картинок.
Несмотря на все эти чудачества, Володя был человек приятный, молчаливый и обязательный.
Впервые Аджария праздновала годовщину Октябрьской революции. По этому случаю Мрозовский пригласил всех нас к себе на небольшую пирушку.
Мрозовский жил с матерью.
Мы собрались в темной и старой квартире, заставленной, как мебельный магазин, тяжелыми вещами из черного дуба – комодами, поставцами, креслами и буфетами.
Пирушку Мрозовский устроил по-грузински, с разными травками: тархуном, кинзой, мятой; с лавашем и чуреком, с чахохбили и сациви, с жареным сыром сулугуни, маленькими зразами из листьев винограда и кахетинским красным вином, наконец, с шашлыком, который мы обваливали в порошке корицы.
Люсьена не могла обойтись без пения. Она пела всегда. Она знала непостижимо много одесских, харьковских, николаевских и ростовских песенок. Ее чуть разухабистый голос неожиданно заглушал общий разговор и даже пугал таких мирных люден, как Мрозовский и Флора.
Все вздрагивали, когда во время беседы о шахматах или о тифлисских поэтах из кафе «Ладья аргонавтов» со двора на Барцхане, где Люсьена мыла посуду или что-нибудь жарила, вдруг взрывалась, как шутиха, очередная песенка. Она как бы приплясывала и подрагивала бедрами:
Жил-был на Подоле Хаим Шик, Он был очень набожный старик! Он молился богу, Ходил в синагогу И трефного кушать не привык!На пирушке у Мрозовского по случаю того, что мы находились в Грузии, Люсьена решила исполнить весь свой довольно потрепанный кавказский репертуар.
Не успела она затянуть песню про несчастного и удалого Хас-Булата, как с улицы неожиданно грянул, поддерживая Люсьену, могучий пьяный хор:
Ты уж стар, ты уж сед, Ей с тобой не житье!Мы бросились к окнам. На тротуаре под домом сидела в обнимку толпа пьяных людей. Они покачивались и, тараща глаза, старательно орали песню, начатую Люсьеной.
Тогда Люсьена переменила репертуар и запела:
Город Николаев, французский завод…Но хор с улицы не растерялся и дружно ответил:
А мене, мальчишке, Двадцать первый год!– Хватит! – крикнула Люсьена. – Сейчас я их собью с голоса!
Она запела непривычный для нее протяжный, лирический романс Чайковского:
Ни слова, о друг мой, ни вздоха…Но непостижимым образом пьяный хор тотчас подхватил слова и вывел вторую строку романса с какой-то зловещей силой:
Мы бу-у-удем с тобой молчаливы…Люсьена разъярилась. Она решила во что бы то ни стало перепеть грузин. Но они не сдавались, упорно заглушали Люсьену и время от времени пили за ее здоровье, вытаскивая бутылки из карманов и чокаясь этими бутылками друг с другом с такой силой, что нежная Флора каждый раз вскрикивала.
Только старушка мать Мрозовского оставалась совершенно спокойной. Она выросла в Батуме, и ее ничем нельзя было удивить.
Люсьена устала и уже хотела сдаться, но в это время произошло событие, перевернувшее весь ход нашей пирушки.
За окном вдоль улицы со страшным шипением пронеслось нечто непонятное. Потом оно взорвалось, осветило все вокруг белым мертвенным светом и погасло.
Это было похоже на ракету, пущенную не вверх, а вдоль улицы. И это оказалось действительно так.
Пьяные за окном дико закричали и кинулись, толкаясь, во двор. Тотчас же вдоль улицы прошипела вторая ракета, ударила в расшатанный афишный столб и рассыпалась потоком искр. Запахло паленым. Пьяные закричали еще сильнее.
Все были взволнованы. Одна только старушка Мрозовская невозмутимо сказала:
– Каждый год они обязательно выкидывают что-нибудь особенное.
– Кто это они? – спросил я.
– Батумские жители. Это, конечно, они придумали пускать ракеты не вверх, а вдоль улиц.
Синявский сказал, что это неплохо придумано. Фраерман был просто в восторге. Сони Фраерман с нами не было: она любила всюду ходить одна.
Мы решили испытать обстрел ракетами, пойти в Барцхану к Синявским и досидеть там до утра.
Но когда мы вышли, ракеты уже не метались вдоль улиц. Кто-то прекратил, наконец, это удивительное развлечение.
Весь Батум шумел на ветру от флагов. Почти половина флагов была турецкая. Жители города еще не успели сделать новые советские флаги.
По улицам медленно ходили, наигрывая, оркестры дудочников и барабанщиков. Музыканты, почти все как на подбор, были низенькие, толстые, усатые, с сизыми, как сливы, носами. Очевидно, большую часть своей жизни они проводили в духанах.
Когда мы дошли до порта, единичные ракеты кое-где еще взмывали в осеннее небо. Потом раздался звук, похожий на залп мортир. Он шел со стороны гор.
Вслед за этим звуком раздалось шипение сотен ракет. В небо понеслись их дымные желтоватые хвосты. Внезапно все небо взорвалось ослепительным горением и блеском несметных белых звезд. Они не успевали гаснуть, как рядом взлетали и на мгновение останавливались в небе новые сонмы ракет.
Резкий магниевый огонь затопил город, порт, базары, парки, притихшее море и пароходы у пирсов.
Батум разгорался, как снежный пожар. Пахло порохом. Должно быть, зарево фейерверка было видно из Анатолии и на много миль с моря.
Мы встретили Нирка. Он рассказал, что световое наводнение будет длиться две ночи. За это время в Батуме сожгут несколько тысяч осветительных ракет.
Дело в том, что в старой Батумской крепости во время первой мировой войны хранился большой запас боевых ракет. Срок их хранения кончался. Держать их дольше на складах было опасно: ракеты могли взорваться от самовозгорания. Поэтому комендант крепости решил разрядить все лишние ракеты в небо. Кстати, подошел праздник.
На следующий день Нирк рассказал нам, что с пароходов, подходивших в эту ночь к Батуму, были получены по радио запросы, что происходит в Батуме, можно ли войти в порт и не представляет ли редкое световое явление, замеченное на горизонте над Батумом, опасности для судов. Два-три парохода, не дожидаясь ответа, переменили курс и ушли в Поти.
Но помимо этого феерического освещения, когда на горизонте пульсировал, не затухая, купол живого огня, Батум мог напугать непосвященных людей неистовым шумом своих обитателей.
Это и понятно. Не каждому приходится увидеть в жизни такое зрелище. Поэтому все звуковые богатства населения (если можно так выразиться) были исчерпаны (конечно, на время) в первую же ночь иллюминации.
Под звуковым богатством населения я понимаю прежде всего восторженные вопли и свист мальчишек, потом хохот, зовы, гудение сазандари, треск вертушек, треск каштанов на жаровнях, звон гитар и перекличку песен – да мало ли звуков на празднике в приморском городе!
По мере того как мы подходили к окраинам, звуки менялись, становились тише и мелодичнее. Из домов доносилось хоровое пение, но заглушенное, как бы под сурдинку. Нам больше всего нравилось, что пение слышалось не только из домов, но даже из кубриков пароходов.
Мы долго простояли около одного парохода, стараясь догадаться, на каком языке пели матросы.
За мостом через бурливую речушку порт кончился. Город все так же сверкал взлетающими в небо огнями, но до Барцханы шум доходил уже слабо, как гул отдаленного прибоя. Вспышки ракет очерчивали темные контуры гор. В горах, испуганные непонятным светом, тихонько подвывали шакалы. Они были так трусливы, что не решались выть во весь голос, как им, очевидно, хотелось, а только скулили.
В Барцхане мы сидели на террасе и пили маджарку. Праздник шумел вдали. Шум его был похож на водопад.
Я всегда любил смягченный пространством гул праздников и народных сборищ. Под этот гул легко было думать. И не только думать, но и выдумывать все перипетии и повороты – уже бывшие и еще не бывшие – феерического ночного веселья, мысленно участвовать в венецианских карнавалах или в описанном писателем Александром Грином празднестве в его романе «Бегущая по волнам».
Я был уверен, что такие праздники продлевают людям жизнь и кружат нас в тенетах тайн. Они прельщают нас едва слышным зовом из той части моря, где узкой полосой аквамарина горит неподвижная заря.
Огни то загораются, то гаснут, как периодические звезды. В темноте вы неожиданно ощущаете почти призрачное прикосновение пылающих губ и слышите обессиленный плач старых скрипок, – какой-то колдун дал им название «виоль д'амур».
В сердцевине каждого настоящего праздника (а настоящим он бывает, когда выражает редкое состояние пашей душевной легкости и полноты) всегда скрыта романтическая или героическая история, а то и обе вместе. Или, чаще всего, любовь.
Мы сидели на террасе, и маджарка, как всегда, вязала из наших мыслей причудливые петли. Например, предложил я, почему никто не написал до сих пор историю не крови, пролитой на земле, а историю праздников, начиная от летних фестивалей Парижа и кончая днем рождения мальчика, получившего в подарок глиняную свистульку.
Есть много праздников – от праздников морских, когда пена от хода кораблей отсвечивает огнями берегов, когда приморские ночи пахнут померанцевым цветом, до праздников в честь писателей, художников и поэтов, заронивших в сердца людей плодотворное беспокойство.
Даже Миша Синявский впал в патетическое настроение и сказал, что неплохо было бы устроить праздник в честь божественных фасадов архитектора Палладио. Но это было уже слишком.
Только рассвет – туманный и тихий – прекратил взрыв ракет. Я уснул, сидя на полу, положив голову на низкую тахту, и сквозь сон слышал, как прохладный йодистый воздух свободно бродил по террасе и что-то разыскивал, шурша бумагой.
Хмурая зима
У штормовых дней есть своя окраска. Это бесспорно. Бывают штормы всякие – мутно-зеленые, желтые, как глина, серые и почти черные.
В Батуме с приходом зимы начались зеленые штормы. Воздух стал похожим на мутноватый капустный рассол. Море тоже казалось мутным. Только у самого берега обнаруживалось, что вода в нем удивительно прозрачная, серой же она кажется от пасмурного неба.
Штормы быстро набирали силу, кипели вдоль всего побережья. Их гром не затихал ни днем, ни ночью. Накаты волн подымались вдали, как табуны конeй с седыми длинными гривами. Они неслись к берегу, развевая по ветру эти гривы, и внезапно ныряли, оставляя на поверхности моря короткий пенистый след.
Пароходы ходили с перерывами. Только маяк мигал и мигал наугад, как бы не особенно веря, что сейчас кому-нибудь может понадобиться его терпеливый огонь.
На целые дни море исчезало за пеленой дождей. В горах выпал снег. Как говорят моряки, «видимость» упала до совершенно ничтожной. Это обстоятельство даже придавало городу особый уют. Пространство как бы сжалось и заключило Батум в тесное туманное кольцо.
Батум стал меньше. Перспективы утонули во мгле. Только резкий запах тропических растений и сырой земли свидетельствовал, что за этой непроницаемой для глаз завесой где-то рядом прячется милый мир южного бульвара с его последними доцветающими каннами.
По-моему, такие зимы были лучшим временем года в Батуме. Нужно было только достать непромокаемый плащ и прочные бутсы.
Нирк помог мне добыть это дождевое снаряжение. С тех пор я почти каждый день с наслаждением ходил под дождем в Барцхану к Синявским.
Маленькая и застенчивая моя газетка «Маяк» (почему-то она мне казалась застенчивой) стала выходить один раз в неделю вместо четырех: у Батумского союза моряков, как и у Одесского, не хватало денег. Работы почти не было. Мой тихоня-наборщик «Спать хочется» б?льшую часть дня действительно проводил в дремоте. Его усыпляло непрерывное бормотание дождя.
Более убаюкивающего шума нельзя было и придумать. Сон наползал теплый, вязкий, пахнущий промокшими насквозь гвоздиками из палисадника за окном нашей крошечной закопченной типографии (то была старая, хилая типография, где раньше печатали визитные карточки).
Теплый воздух с моря тоже приносил с собой какую-то вяжущую одурь.
И вот, чтобы спастись от этого разлитого в воздухе сна, я натягивал плащ и шел в Барцхану. По дороге я заходил поесть в портовый духан «Бедный Миша».
На оконном стекле этого духана был нарисован масляными красками толстый человек с надутыми, как у трубача, щеками. Под этим портретом было написано: «Наш бедный Миша, когда он покушал в этим духани». Говорили, что еще недавно на другом окне был изображен заморенный голодом и чахлый тот же Миша, еще до того, как он покушал в духане.
Но стекло разбили во время драки английские матросы, и с тех пор существовал в одиночестве только один покушавший Миша.
Духан был разделен стеклянной перегородкой на два маленьких зала. Рядом с кухней был устроен проходной зал для «гяуров», а позади его – зал для правоверных с отдельным входом прямо из кухни,
В этой планировке был точный расчет. В зал для правоверных не подавали свинину и вино, и слуга даже случайно не мог попасть в этот зал с греховной пищей.
Я ел харчо. От него шел красный перечный пар. На запотевших окнах посетители писали пальцами свои долги духанщику. Воробьи ухитрялись проскакивать в духан, когда входили или выходили посетители, и разыгрывали на полу и свободных столиках дробный барабанный бой, торопливо подбирая крошки. Иногда они даже дрались, рискуя быть изгнанными за это из духана.
Посетители сидели, поджав одну ногу под себя. В духане они всегда снимали чувяки и оставались в одних толстых шерстяных носках. Но как только входил кто-нибудь незнакомый, посетители торопливо надевали чувяки. Считалось невежливым сидеть перед незнакомым в носках.
Шашлык я запивал красным вином. Оно попахивало бурдяком, но сразу же согревало. Я медленно пил вино, медленно свертывал папиросу, медленно курил, и медленная лень овладевала мной и сулила бесполезное на первый взгляд, но деятельное и неподвижное занятие.
Если воспользоваться старомодным, но довольно точным языком, то это занятие можно было назвать «игрой в воспоминания». Оно состояло в том, что я действительно продавался воспоминаниям, но не о прошлых событиях и не о людях, а только о любимых местах, где я бывал, или о любимых стихах.
Только об этом.
Занятие это было безобидным и даже поучительным.
Поучительность его заключалась в том, что я вспоминал, как бы по обочине, по отдельным частностям свою жизнь, невольно оценивал ее под углом сегодняшнего дня и старался избегать прошлых ошибок, Это довольно редко мне удавалось, но все же наполняло меня уверенностью, что я живу не кое-как, не по воле случая, а сам способен руководить своей судьбой. Даже частые и горькие разочарования в этой моей уверенности не заставляли меня отказаться от нее.
Я считал, что эта уверенность и есть, как говорил Нирк, «спасительный румб» моей жизни.
Носильщик тяжестей
В духане я садился обычно у широкого окна, выходившего на нефтяную воду гавани и на гнилые сваи. Когда становилось душно, я открывал окно. Запах мазута и мусорной, но прохладной воды наполнял духан, а свежесть осушала потные лбы.
Большинство посетителей духана были муши – носильщики тяжестей. Хозяин духана был в молодости мушей, потом каким-то образом разбогател, но все же сохранил привязанность к своему племени мушей и кормил их со скидкой и в кредит.
Все муши почти круглые сутки толкались в порту. Они ждали случайного заработка. Но его было мало. Его не хватало даже на половину батумских мушей, и потому они большей частью спали, прислонившись к цинковым стенам портовых складов. Все они спали почти в одной и той же позе: подняв колени и опустив между ними до земли длинные, жилистые руки. То был глубокий сон усталых и голодных людей.
Особенно поражали меня руки мушей. Набухшие жилы были завязаны в узлы, как корни у дуба. Сквозь серую кожу просвечивала темная венозная кровь. Она вздрагивала редкими толчками и, казалось, была готова вот-вот остановиться. Тогда муша, конечно, уже не проснется. Так оно и случалось иногда.
Духан всегда был полон мушей. Когда входил посетитель, муши тотчас уступали ему отдельный столик и начинали говорить вполголоса.
Ели муши мало и медленно. Было видно, что еда для них – долгожданный отдых.
Муши таскали огромные тяжести. Однажды я видел, как низенький, сизый от натуги муша один тащил на спине рояль и только чуть-чуть сгибал в коленях ноги.
Выносливость этих людей, в большинстве крестьян-аджарцев, была неслыханна. И кротость тоже. Более кротких, незлобивых и доверчивых людей я, пожалуй, не встречал в жизни.
Их постоянно обманывали. Никакого объединения у них не было. Каждый помыкал ими, как мог.
Я часто заговаривал с мушами, но они только улыбались в ответ. Казалось, что весь фатализм мусульман был собран в этих людях и они тащили его на своем горбу. Единственное, что они позволяли себе, – это глубокий вздох, когда груз уже был сброшен на землю и можно было вытереть тыльной стороной ладони едкий пот на изможденном лице, похожем на треснувшую, пережженную глину.
Они никогда не считали денег и, не глядя, засовывали их в карманы широких и пыльных, стянутых у щиколотки шаровар. В этом жесте не было никакой подчеркнутости, – просто муши верили людям. А если люди их обманывали, то они долго сокрушались не из-за потери заработка, а из-за существования на земле таких плохих людей-обманщиков. Каждый раз это было для них неожиданностью.
За свою каторжную работу муши получали гроши.
Однажды я видел, как старый муша сидел под стеной и плакал, прикрыв рукавом глаза. Перед ним стояла такая же высохшая, как и он, старуха и что-то ему выговаривала трескуче и сердито.
Старик не отвечал и продолжал плакать. Прохожие пожимали плечами, некоторые останавливались и, горестно покачивая головой, смотрели на мушу.
Тогда старуха беспомощно оглянулась и, махнув рукой, побрела вдоль базарной улицы. Она спотыкалась и что-то шептала про себя.
К старому муше подошел пожилой муша. Он нес ящик с посудой. Он осторожно поставил ящик на землю, легонько похлопал старого мушу по плечу, и тот тяжело встал, как запаленная лошадь. Ноги у него дрожали. Пожилой муша положил ящики на «горб» старому муше, вынул турецкую лиру, отдал старику и еще долго смотрел ему вслед, когда тот тащил ящики в сторону вокзала.
Я понял, что пожилой муша просто передал старику свой заработок, полученный вперед. Кроме меня, никто как будто этого не заметил, а пожилой муша виновато улыбнулся и сказал:
– Он мне годится в отцы.
Когда я сидел с мушами в духане, у меня появилась мысль, что мушей надо собрать и объединить и только таким путем покончить с их нищетой и бесправием.
Но как к этому приступить, я не знал. Поэтому решил посоветоваться с опытным профсоюзным работником Нирком.
Нирк долго смотрел на меня смеющимися прищуренными глазами, потом сдвинул свою элегантную морскую каскетку на затылок, снова натянул ее на нос и сказал:
– Плодотворная идея. Особенно в условиях субтропического побережья. Ну что ж, подымем якорь! За все буду отвечать один я. Вы – лирический поэт и, как это говорится, менестрель, и это не ваше дело.
Нирк подумал и добавил, как бы без всякой связи с предыдущими словами:
– Совершенно верно. В наших условиях именно эти люди должны быть и будут опорой пролетарской революции.
К сожалению, я не мог проследить за бурной деятельностью Нирка по созданию Союза мушей. На меня опять накинулась малярия. Но все же мы успели провести вместе с Нирком первое собрание мушей, а перед этим напечатать в «Маяке» воззвание к мушам.
Собрание устроили в одном из железных портовых пакгаузов. Открыли настежь ребристые двери. Муши тщательно подмели пакгауз, повесили портрет Ленина, а один из мушей, застенчивый старик, украсил портрет замысловато связанными в узлы разноцветными шерстяными нитками. Такие плетенья из грубой шерсти я видел у старых курдянок.
В стороне сидело несколько старых грузчиков. В свое время они верховодили в порту, сейчас же пожухли и сидели тихо.
Нирк сказал деловую речь, но глаза у него смеялись.
Потом говорил самый старый и уважаемый муша. Он не говорил, он кричал, грозил кому-то худым коричневым кулаком, сразу замолчал и быстро вышел, вытирая слезы рваной кепкой.
Все стихли, но старик тотчас же возвратился, сияя детской улыбкой, подошел к Нирку, обнял его и прижал голову Нирка к своему плечу.
Муши качнулись, встали, гул прошел по их рядам. «Вспомнил сына, – говорили муши вполголоса. – У него был сын, самый красивый на всем Черном море».
Старик что-то крикнул, схватил за плечи двух ближайших мушей и, качаясь, начал медленно и тяжело приплясывать.
Тотчас все муши схватились за плечи, запели и так же, как старик, начали медленную пляску. То был, как я подумал тогда, «танец усталых мушей». Иначе его нельзя было назвать. Снаружи уже стояла толпа, и дружный плеск ладоней звучал медленно, в такт пляске, как звук кастаньет.
Потом весь день муши ходили, как пьяные.
Так был создан Союз мушей, который вскоре превратился в Союз транспортных рабочих.
Меня лечили синькой. Каждую ночь я обмирал, к утру терял голос от слабости и с ужасом ждал трех часов дня, когда, как по хронометру, начинал чувствовать у себя в крови тяжкую ломоту – признак приближения лихорадки.
Курд – чистильщик сапог подарил мне самое сильное, по его словам, средство от малярии – засушенного паука, заклеенного в пустую скорлупу от грецкого ореха. Но и это чудодейственное средство не помогло.
Портовый врач сказал, чтобы я немедленно, не теряя ни одного дня, уезжал из Батума в Тифлис, где, по его словам, малярия должна была тотчас пройти.
Через несколько дней я передал газету «Маяк» Мрозовскому и уехал в Тифлис вместе с Фраерманом.
В последние три месяца жизни в Батуме я работал, кроме своей морской газеты «Маяк», еще и выпускающим в республиканской газете «Трудовой Батум».
Мне не хотелось бы покидать вместе с вами Батум, не рассказав об этой короткой, но содержательной полосе жизни, когда моим другом и учителем неожиданно стал знаменитый в те времена цирковой борец, бывший чемпион России по французской борьбе Довгелло.
Дело в том, что борец Штейнбах (чемпион Баварии) неудачно перевернул Довгелло на ковре и сломал ему pуку. С тех пор Довгелло не мог бороться и вернулся к своей старой хорошей профессии – до работы в цирке Довгелло был наборщиком, а потом метранпажем.
Мы с ним встретились в типографии, где печаталась газета «Трудовой Батум»,
Борец Довгелло
Метранпаж Довгелло казался воплощением терпения.
У него была своя житейская философия. Сводилась она к тому, что человек состоит из множества слабостей, но к ним следует относиться снисходительно. В общем, он был твердым последователем евангельской догмы: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень».
Кроме того, большинство человеческих поступков Довгелло считал капризами. Иногда эти капризы были просто необъяснимы. В таких случаях Довгелло долго чесал шилом – непременным орудием метранпажа – у себя за ухом, расковыривал кожу до крови и смущенно молчал.
Таким необъяснимым капризом была, например, манера редактора газеты писать передовые статьи. Он писал их так ловко, что можно было заверстывать любой абзац в любое место: конец – в середину, середину – в начало, а начало – в конец. Или наоборот.
При этом течение мысли редактора ничуть не страдало, и бледный смысл его строк сохранялся в неприкосновенности.
Поэтому верстка каждой передовой статьи превращалась в типографии в решение задачи с несколькими неизвестными. Даже наш корректор Семен Акопович – самый образованный человек в Батуме, – близоруко вчитываясь в гранки передовой статьи, приходил в отчаяние и говорил мне:
– Ставьте как попало. Я снимаю с себя ответственность за эту членистоногую статью. Такие статьи размножаются почкованием. Из одной можно сделать сто. Надо только механически переставлять фразы. Предположим, что в статье сорок пять фраз. Значит, путем перестановок мы можем получить свыше двух тысяч статей!
Но редактор, оказывается, хорошо помнил порядок абзацев в своей статье и каждый раз устраивал нам плаксивые скандалы.
Семен Акопович принадлежал к категории корректоров-философов. Он знал все законы корректорского дела. В свободное время он сам набирал эти законы-лозунги и вывешивал их на стене корректорской клетушки.
Главный лозунг «Шум – злейший враг корректуры!» был набран афишными буквами, и по сторонам его стояли в ряд четыре угрожающих восклицательных знака.
Внизу под этим лозунгом была приклеена к двери узкая полоса бумаги. На ней было набрано:
«Не задавайте корректору во время работы никаких пустых и посторонних вопросов. Даже можете с ним не здороваться, – он не будет в обиде, – ибо этим вы ему только поможете».
А в самой клетушке у Семена Акоповича висели два железных предупреждения:
«У каждого наборщика свои собственные ошибки» и «Ни один наборщик не может набирать без ошибок».
Это последнее изречение вызвало бурю негодования среди молодых наборщиков. Старые наборщики только посмеивались: они знали по опыту, что Семен Акопович прав.
И действительно, бунт продолжался не больше получаса. Он затих, когда Семену Акоповичу подали оттиск первой гранки, тщательно набранной лучшим молодым наборщиком. Семен Акопович без всякого злорадства, а, наоборот, даже с некоторым сожалением нашел в наборе три серьезные ошибки.
На нас, литературных сотрудников, самое сильное впечатление производил совершенно бесспорный, но неожиданный плакат Семена Акоповича, адресованный «Всем писателям и литераторам»:
«Пишите разборчиво и, по возможности, коротко. Не забывайте, что корректор, чтобы прочесть даже небольшую книгу в десять печатных листов, совершает своими глазами путешествие по бумаге длиною больше километра».
Этот плакат бросал нас, пишущих, в дрожь. Мы все старались писать разборчиво и коротко, но это не всегда удавалось. Что касается меня, то я так и не научился писать разборчиво. Но все же начал писать гораздо короче, чем раньше.
После верстки мы пили с Семеном Акоповичем ч Довгелло чай на заваленном гранками столе. Семен Акопович доставал из карманов своего старенького пальто глянцевитые хрустящие бублики, посыпанные маком. Можно было поговорить о литературе и политике, о корректуре и о разных толковых словарях. При этом Семен Акопович вступал со мной в бесконечные споры по поводу написания некоторых слов. Переспорить его не смогла бы целая всемирная конференция лингвистов.
Одно из чудачеств Семена Акоповича состояло в том, что он, в противоположность всем корректорам, не признавал авторитет Даля. Он считал, что Даль позволял себе вольности по отношению к русскому языку, слишком нажимал на местные диалекты и иногда давал не совсем правильные толкования словам.
– Но я, – говорил Семен Акопович, – все ему прощаю за то, что он проводил ночи напролет у постели умиравшего Пушкина.
Когда я говорил, что читаю словарь Даля, как роман и удивительный памятник народной поэзии и народного острословия, как живописную энциклопедию русской жизни, Семен Акопович снисходительно улыбался и высоко подымал костлявые плечи.
В начале этой главы я писал, что Довгелло был воплощением добродушия. Но злоупотреблять его добротой было все же рискованно, а иной раз просто опасно для жизни. В этом я вскоре убедился.
У Довгелло была своя наборная касса. Он обычно набирал объявления или расписания пароходных рейсов, и потому в его кассе, кроме всяких затейливых шрифтов, были еще небольшие клише. Довгелло вставлял их в объявления чаще всего в двух случаях: когда этого требовал заказчик или когда объявление нравилось ему самому.
Перед расписанием пароходных рейсов Довгелло ставил старое, наполовину стертое клише. Оно изображало допотопный колесный пароход с мачтами и множеством снастей.
По случаю нэпа, вернее в преддверии нэпа, в Батуме открылись доморощенные институты косметики и частные мастерские, изготовлявшие корсеты, лифчики и шляпки.
В такие объявления Довгелло, весело почесывая шилом за ухом, заверстывал клише, изображавшее кокетливую женскую головку с распущенными волосами. Каждый раз при этом наборщики подмигивали друг другу, но осторожно, чтобы не заметил Довгелло.
Семен Акопович таинственно рассказал мне, что жена Довгелло, какая-то бывшая польская графиня или княгиня – не то Потоцкая, не то Комаровская, – занимается шитьем лифчиков. Этим наборщики и объясняли склонность Довгелло украшать виньетками такого рода галантные объявления.
По словам Семена Акоповича, жена Довгелло была капризная и красивая, несколько обветшалая «гоноровая» дама. Она помыкала мужем, как мальчишкой. При ней Довгелло смущался, терял дар речи и становился кротким, как кролик.
В обычное время кротость Довгелло изменяла ему только в том случае, когда его доводили до крайности. Тогда он становился опасен, как взбешенный буйвол.
Напротив Довгелло за кассой работал молодой наборщик Нико – любитель шуток, мистификаций и «розыгрышей», но наборщик неважный. Было несколько случаев, когда Довгелло в сердцах заставлял Нико перебирать все заново. Нико очень обижался и втайне придумывал способы мести.
Наконец Нико осенило, и он придумал – так ему сгоряча казалось – остроумную и тонкую месть. Он задержался под каким-то предлогом в типографии и, когда все ушли, набросал во все ячейки наборной кассы Довгелло куски хлеба и окаменелого сыра.
В типографии было множество крыс – больше, чем в трюме океанского грузового парохода.
Крысы неторопливо бегали под ногами даже днем. Довгелло почти без промаха бил крыс наповал свинцовыми бабашками.
Нико не ошибся: толпа крыс с писком и дракой ринулась в наборную кассу Довгелло и, пожирая хлеб и сыр, перерыла все буквы в ячейках. Чтобы привести кассу в порядок, надо было потратить много времени.
На следующий день я зашел зачем-то в типографию, и дальнейшие события разыгрались у меня на глазах.
Довгелло долго и совершенно спокойно смотрел на свою оскверненную, перепутанную кассу и молчал. Нико перемигивался с молодыми наборщиками и веселился. Он чувствовал себя в безопасности. Крысы не оставили ни крошки хлеба и сыра, и у метранпажа не было никаких улик. Он, конечно, не мог догадаться, кто из наборщиков устроил эту историю с крысами.
Но чем дольше Довгелло молчал, почесывая шилом за ухом, тем больше начинал тревожиться Нико.
Неожиданно Довгелло протянул свои длинные, как у гориллы, лапы, схватил Нико и совершенно спокойно понес на вытянутых руках к открытому настежь окну. Типография помещалась на втором этаже. Окна выходили во двор.
Нико онемел от ужаса. Он даже не пытался вырваться. Он висел в руках у Довгелло, как мертвый котенок. В типографии наступила глубочайшая тишина. Довгелло осторожно протянул за окно руки с зажатым Нико, разжал пальцы, и Нико, вскрикнув, упал со второго этажа на кучу песка под окном. Песок этот держали на случай пожара.
Довгелло вытер руки, вернулся к своей кассе и сказал:
– Предупреждаю! Всех! В другой раз как кокну – мокро станет!
Какой-то наборщик хихикнул. Довгелло повернулся в его сторону и медленно, опустив руки, сжатые в кулаки, двинулся на веселого наборщика.
Тот отскочил и бросился к дверям. За ним в двери кинулись, толкаясь, все наборщики. Они с грохотом скатывались по лестнице во двор, озирались и бежали к подворотне. Паника охватила типографию.
Нико потом три дня притворно хромал. Он был бледен и осторожен. Довгелло же с обычным добродушием заверстывал в объявления о новом средстве для усиления бюста головку кокетливой женщины с бриллиантом на груди. От бриллианта расходились тонкие линейки, – по убеждению Довгелло они изображали блеск бриллиантовых лучей.
Тоска по самоварному дыму
Батум был для меня «перевалочным пунктом». Я не собирался жить в Батуме. В этом городе у меня не было никаких прочных корней.
Все чаще я тосковал по Москве, по шуму сыроватой лесной листвы, по прозрачным до самого дна речонкам, что струятся через эти леса, но часто останавливаются и о чем-то раздумывают над омутами. Там плавают тучи мальков, желтые кувшинки, скромные облака и перевернутые вниз вершинами отражения сосен.
Я часто представлял себе, как но пути в Москву поезд непременно остановится где-нибудь на безлюдном разъезде в лесу, я выскочу и увижу на зернистом песке насыпи, около рельса, почти прижавшийся к нему ворсистый стебель подорожника с сиреневой щеткой чешуек – цветов. Он стоит под защитой высокого горячего рельса, как в оранжерее.
За лесом подымается серебряным выпуклым краем белая туча. От нее долетает медленное погромыхивание.
Нельзя понять, идет ли это где-то далеко за лесом товарный поезд или это пробует голос еще не окрепший полевой гром.
Когда я представлял себе эти простые и бесхитростные картины, у меня захватывало дыхание. Я готов был отдать за один летний день на Севере тающую пену всех здешних прибоев, картинную лазурь всех волн и далей и всю густо-розовую и таинственную мглу Малой Азии. Там некогда вздымался Пергам, и статуи цариц скульпторы высекали из теплого камня, как бы покрытого морским загаром.
Почти сорок лет спустя я увидел самую гениальную, нежную и ранящую сердце своей божественной женственностью скульптурную голову царицы Нефертити. Трудно было удержаться, чтобы не написать о ней тотчас же целую восторженную главу.
Но тогда я был готов променять ропот морского прибоя на писк воды, что сочится через гнилые доски мельничной плотины где-нибудь под Костромой, сочится и брызжет на высокие папоротники.
Чем дальше, тем тоска по Северу, по родине делалась болезненнее и безнадежнее. Потому что денег у меня было в обрез, как говорится, «на прожитие», и нужно было еще терпеливо накопить их на билет до Москвы. А это были немалые деньги по тем временам.
Тревога и саднящая тоска все усиливались, и вдруг я понял, что происходит это оттого, что мне не с кем даже поговорить о Севере, не с кем вспомнить о нем.
Я был окружен южанами. Все мои батумские знакомые были южные люди. Севернее Одессы никто из них, кроме Фраермана, не жил. Говорить с ними о простодушном и милом пейзаже Средней России было бесполезно. Они его не знали и представляли только по тем тускловатым литографиям картин Левитана, Нестерова, Остроухова или Жуковского, какие пылились в толстых старых альбомах для открыток в писчебумажных магазинах.
Тогда тема наших бесконечных и зачастую ночных бесед с Фраерманом переменилась. Мы уже меньше говорили о стихах, но очень много – о русской природе. Я говорил о Брянских лесах – памяти моего детства, а Фраерман – о лесах Белоруссии.
Я взял у Чачикова томик стихов Языкова. Пожелтевшие тоненькие страницы пахли плесенью и магнолией, чей-то острый, очевидно стариковский, ноготь отчеркнул любимые строфы. Тогда у меня еще не было представления о Языкове, и сгоряча я был поражен им не меньше, чем Пушкиным.
Я выписал из стихотворения «Тригорское» описание летнего зноя и выучил его наизусть.
Бывало, солнце без лучей Стоит и рдеет в бездне пара, Тяжёлый воздух полон жара; Вода чуть движется; над ней Склонилась томными ветвями Дерев безжизненная сень; На поле жатвы, меж скирдами, Невольная почиет лень, И кони, спутанные, бродят, И псы валяются; молчат Село и холмы; душен сад, И птицы песен не заводят… Туда, туда, друзья мои! На скат горы, на брег зеленый, Где дремлют Сороти студеной Гостеприимные струи; Где под кустарником тенистым Дугою выдалась она По глади вогнутого дна, Песком усыпанном сребристым. Одежду прочь! Перед челом Протянем руки удалые И бух! Блистательным дождем Взлетают брызги водяные. Какая сильная волна! Какая свежесть и прохлада! Как сладострастна, как нежна Меня обнявшая наяда! Дышу вольнее, светел взор, В холодной неге оживаю И бодр и весел выбегаю Травы на бархатный ковер.Через много лет я попал в Тригорское в знойный июль и испытал с необыкновенной точностью и наслаждением все, что было описано в этих стихах.
Я читал эти стихи Фраерману, и он восхищался ими вместе со мной. И может быть, еще тогда, в те осенние батумские дни, под непрерывный стук дождя по жестким листьям пальм и родилась мысль о жизни в лесах, в сельском доме, где ветки вязов заглядывают в окна и в сумерки со двора пахнет самоварным дымком.
Эта жизнь потом осуществилась в Мещерском крае, ставшем второй моей родиной.
Подгоняемые этой тоской, мы с Фраерманом решили переселиться в Тифлис. Оттуда, как нам казалось, будет легче возвратиться в Москву. Соня Фраерман уехала вперед устраиваться в Тифлисе.
Новогодняя ночь
Я ждал отъезда с нетерпением. Я был уверен, что в Тифлисе от перемены климата пройдет моя малярия.
Но отъезду предшествовало несколько хотя и не очень значительных, но характерных событий.
Из этих событий стоит рассказать, пожалуй, только об анекдотической встрече нового, 1923 года.
Мы все удивляемся таинственному и внезапному возникновению анекдотов. Авторы их неизвестны. Они, конечно, есть, но их никто не видел, не слышал и не знает, Они не имеют «фигуры», как знаменитый поручик Киже.
Анекдот на любой случай жизни рождается как бы сам по себе.
Но, кроме анекдота, существуют еще так называемые анекдотические события, иными словами, события неправдоподобные, смешные и нелепые. Таким анекдотическим событием – одновременно и неправдоподобным и нелепым – была встреча 1923 года в Батуме.
В те времена хождение по улицам в Батуме разрешалось без пропуска только до 12 часов ночи. Из типографии «Трудового Батума» мы возвращались всегда ночью, и почти каждый раз нас задерживал патруль, солдат-грузин из бывшей так называемой «Народной» (меньшевистской) армии.
Большинство этих солдат говорило только по-грузински, кроме двух слов: «документи!» и «коменданти!». Мы тратили много времени на объяснения с этими вспыльчивыми и ретивыми юношами. Спасало нас только совершенно ненатуральное спокойствие Довгелло.
Комендантом Батума в то время был некий красивый и преувеличенно галантный полковник, оставшийся нам во временное наследство от той же меньшевистской армии.
Я не помню фамилии этого полковника. Будем называть его для удобства повествования псевдонимом Курдия.
Полковник отличался могучим голосом. На силе этого голоса и была основана оборона Батума от турок, когда они начали при меньшевиках наступление на Закавказье и вплотную подошли «к стенам» города.
Курдия командовал обороной Батума. Пренебрегая телефоном и другими средствами военной связи, а может быть вспомнив средневековые рыцарские времена, он командовал войсками с каланчи батумской пожарной команды. Он стоял на каланче со всем своим блестящим штабом, с затянутыми в рюмочку адъютантами и смотрел вдоль улиц в бинокль, силясь увидеть неприятеля.
Поминутно к каланче подскакивали на мыльных, храпящих конях ординарцы. Приложив руки рупором ко рту, сдерживая пляшущих коней, они кричали Курдии, задрав голову, последние донесения с места боя.
Курдия не заставлял себя ждать и охотно кричал ординарцам ответные приказы.
Батум прислушивался к бешеному цокоту копыт. Чем чаще раздавался этот цокот и чем реже долетала винтовочная пальба с окраин города, тем яснее становилось жителям Батума, что военные дела принимают плохой оборот.
Оригинальный способ Курдии командовать с каланчи не спас города. Курдия быстро покинул каланчу и самый Батум и отступил за пределы турецкого огня.
Так вот этот самый Курдия расклеил по городу накануне 1923 года объявление о том, что по случаю встречи Нового года хождение по улицам Батума разрешается всю ночь. Мы все, хотя и искушенные, но глупо доверчивые люди, поверили этому объявлению, за что жестоко расплатились.
Новый год мы с Фраерманом встречали у Мрозовского. В три часа ночи мы распрощались с хозяином и пошли домой. В нескольких шагах от подъезда нас остановил патруль, и послышалось давно знакомое слово: «Документи!»
Мы начали спорить, но солдаты крепко взяли нас под руки и доставили в обширный двор комендантского управления.
Двор был запружен толпой необыкновенно веселых, поющих, играющих на гитарах, танцующих лезгинку и целующихся пьяных людей. Их всех, как и нас, поймали патрули.
Никто не знал, за что мы задержаны. Но в новогоднюю ночь даже не хотелось об этом думать. Люди веселились напропалую. Только хмурые и недовольные конвоиры представляли разительный контраст с хохочущей толпой арестованных.
Потом нас всех разбили на группы по 50 человек (при этом Фраермана отделили от меня), окружили большим конвоем и повели в тюрьму.
Мы шли, начиная понемногу тревожиться за свою судьбу. Мы видели, как за освещенными окнами домов какие-то счастливцы, не вышедшие, как мы, столь опрометчиво на улицу, танцевали вальс, кружа красивых женщин, как летали серпантин и конфетти. Мы шли и слышали, как гремели расстроенные от чрезмерной праздничной нагрузки рояли, звенели бокалы и (как это бывает всегда) самый пьяный гость пел отчаянным, пропащим голосом застольную: «Мравал джамиер!»
Нас привели в совершенно пустую и гулкую цементную тюрьму. В коридорах и камерах не было ни одной скамейки. Сидеть было не на чем. От этого сразу же заныли ноги.
Эхо усиливало мрачный стук прикладов, резкие выкрики команды и бесшабашное пение заключенных.
Но веселье довольно быстро потухло. Только самые пьяные долго еще пытались что-то понять и втолковать самим себе. Большинство же догадывалось, что мы попали в какую-то непонятную, но неприятную историю.
К рассвету в тюрьму привели итальянского консула с женой. Бриллиантовая голова консула отражала нудный свет единственной на весь коридор тюремной лампочки. Смокинг подчеркивал ослепительную манишку и южную сизоватость недавно выбритых щек итальянца.
Жена консула – высокая красивая женщина – вошла в тюрьму гордо, как на эшафот. Черный мех был спущен с ее беломраморного плеча, обнажая длинную изысканную руку и выпуклость матовых грудей.
Но консульша недолго играла роль Марии-Антуанетты. Внезапно она прислонилась к холодной стене и зарыдала. Консул схватил ее руку и трагическим голосом закричал по-французски:
– Замолчи, Джульетта! Сейчас же замолчи!
Театральным жестом он прижал женщину к своей груди, как истинную Джульетту, и обвел всех нас яростными глазами.
От Джульетты исходило тончайшее веяние духов «Шанель». Но, конечно, этот изысканный и размагниченный запах не мог вытеснить фронтовой, солдатский, берущий за горло яд махорки. И Джульетта зарыдала еще сильнее.
Вскоре по тюрьме пронесся слух, что с нами вместе сидит автор очень популярной в то время оперетты «Иванов Павел». Я забыл его фамилию. Я видел его, хотя и не решился заговорить с ним. Он оказался скромным, молчаливым человеком небольшого роста.
Он помалкивал, улыбался, а вся тюрьма, взвинченная его присутствием, пела по камерам отрывки из «Иванова Павла».
А и ме-ри-ди-аны! Ме-ри-ди-аны! На части делят наши страны, Да, наши страны, господа!Особенно удачно выходили куплеты о букве «ять»:
Кто не знает буквы «ять», Буквы «ять», буквы «ять»; Где и как ее писать, Да!Но это пение длилось недолго. Вскоре тюрьма уснула пьяным, тяжелым сном.
Среди арестованных я увидел Довгелло с женой. Он поцеловался со мной и представил меня жене Ванде – пышной и вянущей блондинке с надменным лицом. Она говорила с польским акцентом и называла мужа Ежи, хотя имя у него было самое русское и простонародное – Егор.
Поглядывая на меня сквозь полуопущенные веки, она сказала мужу громко и внятно, как на сцене:
– Я рада, что у тебя, наконец, появились довольно приличные коллеги.
Довгелло сжался и покраснел. А невозмутимая Ванда так же властно и громко сказала, обращаясь ко мне:
– Надеюсь, что нас здесь не расстреляют? Это было бы хамством. Как вы думаете?
Я промолчал. Тогда Ванда пожаловалась, что выпила много грузинской водки чачи, что ей невыносимо жарко, что ее душит лифчик, хотя он сшит идеально – по последнему парижскому образцу. После этого она засунула руку под платье, ловко расстегнула лифчик у себя на спине и вытащила его, слегка растрепав прическу.
При этом она сказала «уф!», заправила в платье выпавшую грудь – пышную и чуть вялую – и вызывающе посмотрела мне прямо в глаза.
Да, это была довольно странная графиня! Довгелло сидел весь мокрый и взъерошенный. Недаром наборщики называли Ванду «бандершей».
Я сбежал от Ванды и пытался скрыться в одной из бетонных камер. Но скрыться мне не удалось: в камере я увидел поэтессу Флору с неизвестным спутником – скромным светловолосым юношей.
Флора была расстроена не меньше итальянки, но не рыдала, а тихо плакала, сморкаясь в совершенно ничтожный и совершенно декоративный кружевной платочек.
Потом она, сидя на пальто молодого человека, сразу уснула, и лицо ее сделалось беспомощным и обиженным. И я вспомнил ее последние неважные стишки:
В густых лесах Аджарии пустынной Брожу одна, лелея образ твой, Мцыри, мой брат, мой сладостный герой, Мой юноша с глазами властелина! Иду к тебе бестрепетно одна, Касаясь туч, под рокот водопадов, И диких гор зловещие громады Мне кажутся преемственностью сна…Когда Флора уснула, положив голову на плечо скромному юноше, в тюрьму привели семерых английских матросов.
Они бодро вошли, хлопая широченными клешами, и прокаркали приветствие. Тотчас самый долговязый матрос лег на пол посередине коридора, по его оси. Все шесть остальных легли головами на него, как на подушку, прикрыли лица бескозырками и сразу уснули.
Только один из матросов все время старался сдуть сквозь сон электрическую лампочку, висевшую над его головой. Она жужжала, умирая, как жужжат все умирающие лампочки, и матрос, очевидно, принимал ее за большую надоедливую муху.
Все это было забавно, но утром мы проснулись помятые, голодные и злые. Итальянский консул с женой исчезли. Довгелло рассказал, что ночью в тюрьму приезжал Курдия («Будь он проклят, зараза!») и выпустил консула, английских матросов и еще несколько человек.
– Всех, кто побогаче и хорошо одет, – добавил Довгелло. – Блатная петрушка. Кстати, и эту хлипкую поэтессу он тоже выпустил. За бакшиш.
Ванда проснулась и сказала хриплым попугайным голосом, что мы не мужчины, а старые матрацы, если не можем добиться немедленного освобождения беспомощной женщины.
В общем, мы просидели в тюрьме без пищи и почти без воды до вечера и всю следующую ночь. Через каждые три-четыре часа в тюрьму приезжал тучный Курдия, обходил, позванивая шпорами, камеры, вызывал то одного, то другого заключенного, преимущественно людей спекулятивно-восточного типа, о чем-то вполголоса говорил с ними, и заключенный тотчас исчезал.
Днем он выпустил Ванду – притом совершенно бесплатно, но Довгелло задержал. Я пытался поговорить с Курдией, но он, даже не взглянув на меня, прошел мимо, похлопывая стеком по лакированным голенищам сапог.
На глазах происходило грандиозное взяточничество, бесстыдное и откровенное преступление, грабеж населения, как в каком-нибудь диком вилайете малоазиатской Турции.
Меня просто ошеломила спокойная наглость Курдии. Теперь уже было ясно, что Курдия нарочно расклеил провокационное объявление о хождении всю ночь, чтобы захватить побольше жертв и нажиться на взятках за освобождение.
Я всё же остановил его во время одного из обходов и сказал, что я гражданин РСФСР и требую немедленного вызова в тюрьму батумского консула РСФСР.
Курдия посмотрел на меня с нескрываемым презрением.
– Кто вы такой? – спросил он. – А? Может быть, вам вызвать из Москвы самого Калинина? Подождете!
Он что-то сказал по-грузински адъютанту, хохотнул и ушел.
Ярость охватила меня. Я видел, как Курдия уехал из тюрьмы в роскошном ландо на паре вороных рысаков. Я быстро прошел в тюремную канцелярию. Там висел на стене телефон, а около него сидел и заунывно пел часовой – черный и тощий человек, похожий на чистильщика сапог.
Я рывком снял трубку. Часовой пытался встать, но я толкнул его в грудь. Он упал обратно на сиденье венского стула – сиденье жидко затрещало, сломалось и провалилось. Часовой застрял в стуле.
Я попросил соединить меня с русским консулом Лунцем. Мне надо было, конечно, позвонить в Ревком Аджарии, но я решил, что торжественный титул «консул» должен произвести на Курдию сильное впечатление.
Задыхаясь от негодования и от того, что мне все время приходилось держать за грудь часового, чтобы не дать ему выбраться из проломанного стула, я рассказал Лунцу о том, что происходит в тюрьме.
– Через час я буду, – сказал Лунц. – Кроме вас, есть в тюрьме граждане РСФСР?
– Есть.
Я положил трубку. Часовой выбрался из стула, схватил трубку, вызвал адъютанта Курдии и торопливо и жалобно закричал. Потом он замахнулся на меня прикладом, но ударить не решился. Я вышел.
Но мне так и не удалось встретиться с Лунцем. Через четверть часа ко мне в камеру (камеры, между прочим, не запирались) вошел Курдия со своей свитой.
Он сиял, улыбался, звенел шпорами и сказал мне, склонив голову:
– Прискорбное недоразумение, дорогой! Я не знал, что вы состоите сотрудником «Трудового Батума». Надеюсь, вы в добром здоровии?
– Вас это не касается! – ответил я. – За что были арестованы все эти люди, в том числе и я? За что вы держите нас в тюрьме уже второй день? Почему вы выпустили часть арестованных? За какие такие заслуги?
– Зачем сердишься, дорогой, – сразу переходя на «ты», вкрадчиво сказал Курдия. – Ты меня огорчаешь! Ах, нехорошо! Ай, обижусь! Садись в мое ландо. Оно в полном твоем распоряжении. Поезжай домой и будь здоров. Недоразумение вышло, понимаешь. Недоразумение! Пожалуйста, поезжай. Я тебя очень прошу.
Я согласился и взял с собой Довгелло. Курдия не возражал.
Когда я спускался по лесенке во двор тюрьмы, где сверкало, как черный бриллиант, комендантское ландо, адъютант Курдии почтительно поддерживал меня под локоть.
Когда мы с Довгелло отъехали, Курдия и его свита, широко улыбаясь, приветственно махали нам руками, будто провожали дорогих гостей.
Я, конечно, жаждал мести, но желание это вылилось в совершенно мальчишеский поступок: я решил задержать комендантское ландо сколько возможно и приказал кучеру везти нас на Барцхану к Синявским.
Там мы выпили и жестоко напоили кучера. После этого он затеял на шоссе гонки с гиканьем и свистом с батумскими извозчиками, зацепился за арбу с бочкой вина, сломал у ландо колесо, слез, привязал лошадей к стволу чинары и, безнадежно махнув рукой, поплелся, рыдая, в обратную сторону от Батума по направлению к Чакве.
Мы его не останавливали. Мы тоже вышли и вернулись домой.
На третий день после этого Курдия был арестован и предан суду.
Последний луч
Последний луч солнца, падая на землю, показывает се совсем в ином виде, чем под прямыми солнечными лучами. Все становится более выпуклым и весомым. Краски приобретают густоту, приближают к нам первые планы ландшафта, но вместе с тем удлиняют дальние и уводят их в бесконечную прозрачность. Она тускнеет медленно, по мере того как солнце покидает небосклон.
Приближение вечера тем и прекрасно, что придает густоту краскам и необычайную легкость воздушным пространствам.
Этот эффект последнего солнечного света впервые увидели художники, особенно Клод Лоррен, Манэ, Тернер, наш Левитан и многие другие. Следя за их взглядом, мы увидели то же самое, что видели и они.
Сейчас я опять поймал себя на мысли, смущающей меня постоянно. Когда я разрушаю более или менее трезвое течение прозы, бросаясь в излюбленную область звуков и красок, то теряю в некоторых случаях чувство меры.
Желание передать окружающим свое видение мира бывает настолько сильным, что требование соразмерности отступает перед ним.
Вот и теперь я заговорил о закатах, тогда как мне нужно написать об отъезде из Батума и бросить последний взгляд на этот необыкновенный и живописный город.
Я давно заметил (хотя это очень субъективно), что при прощании с каким-нибудь уголком земли он появляется перед нами в самом превосходном и выпуклом виде: именно как пейзаж, освещенный последним светом вечерней зари.
Так было и с Батумом. Мы с Фраерманом назначили уже день отъезда.
Как всегда при расставании, надолго, а может быть, и навсегда, все в Батуме казалось сейчас милым – даже дождь и жирный дым наливных пароходов.
Хмурая и теплая зима поселилась в порту. Иллюминаторы пароходов были освещены изнутри, будто во всех каютах горели елки. Море затихало после бури и сонно пело, задумчиво перебирая гальку. Цвет воды был светло-серый, но удивительно теплый и прозрачный.
Вся преувеличенность южных красок и несколько крикливый цвет моря исчезли и приобрели сдержанность. В красках появились новые сочетания, каких никогда не было летом.
Однажды я видел, как в порт вползал заржавленный до красноты высокий грузовой пароход. По морю шла волна, и пена, облизывая борта парохода, тотчас таяла.
Заходящее солнце светило угрюмо и низко. Соединение белой пены, рыжих бортов и красного солнечного пламени в стеклах палубных надстроек показалось мне одним из живописнейших зрелищ, какие я видел на земле.
Солнце село. Вечер, подернутый лиловым налетом, принес тишину. Только где-то далеко от порта она была украшена едва слышным пением сазандари.
Когда последний луч падал на Батум, то город каждый раз казался нагромождением ржавого дымящегося железа, брошенного к подножию сумрачных гор.
Никогда я не видел на батумском закате того знаменитого «зеленого луча», о каком слышал много разговоров. Кстати, о нем писал Куприн.
В последние дни я часто ездил на Зеленый мыс и в Чакву. В зарослях Зеленого мыса было просто жутко от обилия растительности. Казалось, что лавина листвы, в конце концов, остановит маленький дачный поезд с игрушечными открытыми вагончиками.
В последний вечер все собрались у Синявских на Барцхане. Пришли Фраерман, Чачиков, Мрозовский, Довгелло, корректор Семен Акопович и Нирк.
Люсьена жарила пирожки с камбалой. Чачиков принес гитару.
Мы пели под нее множество песен, большей частью печальных, но они не вызывали у нас грусти. Очевидно потому, что Батум для нас всех (кроме Мрозовского) был только «почтовой станцией» на той огромной жизненной дороге, какая еще лежала перед нами. Она звала нас дальше, сулила неожиданности – правда, туманные, но, безусловно, заманчивые, – новый труд, новые встречи, новые беды и удачи.
Странно устроен человек: несмотря на интересную жизнь в настоящем, мы жаждали будущего и без конца говорили о нем. Мы жили будущим. В настоящем и прошлом мы искали только доказательств неизбежного прихода этих будущих времен. Они придут. В этом мы были уверены, несмотря на то, что подчас жестокие препятствия задерживали их приход.
Наутро на закруглении железнодорожного пути у Зеленого мыса в окна вагона широко сверкнуло Черное море, и у меня забилось сердце: я расставался с морем надолго, может быть, навсегда.
Но мои лирические и печальные размышления у окна вагона были прерваны внезапным яростным криком:
– А ну, покажи билет!
Я быстро обернулся. Позади меня стоял черный горбоносый человек с унылым лицом неудачника. На нём были пыльные черные галифе с оранжевым кантом, стоптанные чувяки, сиреневые носки. Чтобы они не падали, на ногах у этого странного человека пониже колен были надеты подвязки ярко-красного цвета.
Позади этого человека стояли два ухмыляющихся солдата с винтовками в таких же сиреневых носках, чувяках и подвязках.
Я молчал, пораженный. Тогда унылый человек снова прокричал яростным голосом, но на этот раз уже покраснев от нетерпения:
– А ну, покажи билет!
Тогда я догадался, что это обыкновенный поездной контролер. Окончательно я понял это, когда заметил около вооруженных юношей несколько смущенных безбилетных пассажиров. Они с интересом и сочувствием смотрели на меня, как на товарища по несчастью.
Я протянул билет. Контролер скучно посмотрел на пего, пробил щипцами и вдруг кинулся, как коршун, на моего соседа – старика с кошелкой яиц:
– А ну, покажи билет!
Старик ласково улыбнулся, но билета не показал. Вместо этого он встал и молча присоединился к толпе безбилетных.
Юноши с винтовками погнали, посмеиваясь, безбилетных, как отару овец, в соседний вагон. Туда же ушел и контролер.
– Они всегда так кричат, – горько пожаловалась нам старая грузинка в черной круглой шапочке «кеке» и с кисейной фатой позади. – Можно просто оглохнуть на этой железной дороге, пока доедешь до Зестафони. Ой, горе! Ой, горе!
– На пушку берут, – объяснил веселый матрос. – А зачем, непонятно. Будто от ихнего крика билет сам по себе возникнет.
– Все бывает, – вздохнул старый грек в очках. – Плохой человек как крикнет, так даже земля может остановиться, кацо!
Вскоре я привык к удивительным нравам на Закавказских железных дорогах. Но в первый раз мы смеялись с Фраерманом до слез.
Намёк на зиму
Два года я не видел льда и снега. Вернее, я их не замечал. Правда, в Одессе зимой мостовые изредка покрывались льдом, но зимние дни были такими угрюмыми и лишенными света, что даже не хотелось смотреть по сторонам. Поэтому я плохо запомнил одесские лед и снег.
В Тифлисе же прямо с вокзала мы с Фраерманом вошли в разнообразный свет солнца, в его отражения от окон домов, в блеск маленьких луж, покрытых тончайшей пленкой льда, в воздух, какого я еще не видел. Он весь переливался, вспыхивал, гас и снова блестел и как бы разгорался, будто он состоял из миллионов ледяных чешуек.
Этот свет и льдистый блеск воздуха вызвали у меня первое впечатление о Тифлисе как о городе таинственном и увлекательном[10], как о некоей восточной Флоренции.
Я представлял себе Тифлис менее интересным, чем он оказался.
Я не знал, что в Тифлисе бывает хотя и очень слабая, но все же зима. Вернее, намек на зиму. Она напоминает наш ясный и прохладный сентябрь. Запах льда в тенистых палисадниках и оттаявших луж на согретых солнцем тротуарах относится к довольно явным, но коротким признакам этой зимы.
Кроме того, то тут, то там просачивался из домов на улицы слабый запах дыма и угля от каминов и мангалов.
На вокзальной площади мы остановились, пораженные зрелищем гористых кварталов города. В них тихо и свежо лежало утро.
Я почему-то подумал, что в этом городе возможны, а может быть, и неизбежны всякие интересные истории.
Это ощущение было в какой-то мере сказочным и веселым. От него то возникало, то затихало под сердцем глухое волнение.
Я знал уже много мест и городов России. Некоторые из этих городов сразу же брали в плен своим своеобразием. Но я еще не видел такого путаного, пестрого, и легкого, и великолепного города, как Тифлис.
В течение тех нескольких минут, что мы простояли с Фраерманом на вокзальной площади, я решил, что жизнь в Тифлисе не пройдет для меня даром и что этот город не может не отозваться на моей судьбе. Конечно, я тотчас же посмеялся над этими своими мыслями, но не смог прогнать их. Они спрятались в глубине сознания и часто напоминали о себе.
Уверенность, что в этом городе случится со мной милое и неожиданное событие, осуществилась через короткое время после приезда в Тифлис.
Пока мы с Фраерманом смотрели на город и обменивались несколько восторженными впечатлениями, к нам неслышно подошел в мягких чувяках старый, седой муша, быстро схватил наши чемоданы, ловко вскинул их себе на спину, на «горб», и побежал, приседая, прочь от вокзала в тесную и извилистую боковую улицу.
Мы оторопели. Первым пришел в себя Фраерман. Он вскрикнул и побежал вслед за мушей. Я бросился за Фраерманом.
Муша, не переставая бежать, оглядывался и кричал:
– Не пугайся, кацо! Добежим до угла, там отдохнем. Пожалуйста, не пугайся!
Мы ничего не понимали. Мысль о том, что муша – вор и уносит наши чемоданы, тотчас исчезла после его озабоченного крика.
Но добежать до угла нам так и не удалось. Из нескольких подворотен сразу выскочили молодые мути. С отчаянными гортанными криками они окружили нашего мушу, отняли у него чемоданы, швырнули их на мостовую и начали толкать старика назад, в сторону вокзала. Они так кричали и так гневно вращали глазами, что казалось, вот-вот произойдет убийство.
Мы бросились на помощь старому муше. Тогда молодые муши перестали кричать и начали смеяться, а старый муша, ласково улыбаясь, снял шапку и попросил заплатить ему хоть немного за эту пробежку от вокзала до угла.
Я заплатил. Муши вытерли пот, вытащили папиросы, все сразу закурили и, посмеиваясь, угостили старика. Потом они объяснили нам, что Тифлис поделен артелями мушей на участки и ни один муша не имеет права перехватывать работу не на своем участке, как это сделал наш старик.
Оказывается, что как раз за углом начинался его участок. Поэтому старик и торопился добежать до угла, но попал в засаду. За углом он был бы уже в безопасности. Это подтвердил милиционер, появившийся на шум. Он был очень доволен этим происшествием, возможным, конечно, только с людьми, впервые приехавшими в Тифлис. При этом он изысканно извинился за «маленькое беспокойство».
– Люди хотят жить поровну, – объяснил он нам. – Равенство! Завоевание революции, генацвале! Здесь я отвечаю за всех мушей и за каждую вещь. Головой отвечаю. Милости просим ко мне на участок! Всегда рад оказать приятельскую услугу.
Двое молодых мушей взяли наши чемоданы и, поигрывая ими, как пустыми кошелками, пошли впереди нас по адресу, который я им сказал.
При каждой, даже самой ничтожной возможности они присаживались на ступеньки передохнуть, а потом, осмелев, начали заходить в маленькие подвалы-духанчики и выпивать вместе с нами по небольшому стакану красного вина.
С каждым новым стаканом настроение у нас становилось все легче и беззаботнее.
Мы болтали без умолку, встречные улыбались нам. Тифлис шумел, как водопад (это, оказывается, шумела у Верийского моста мутная Кура), продавцы кричали нараспев теноровыми голосами: «Салат, шпинат, лук зеленый, редис молодой!» Тифлисская зима сверкала нам в глаза тоненькими пластинками разбитого пешеходами Льда, густым небом, блеском начищенных медных блях на сбруе черных ишаков, тащивших аттические кувшины с мацони. Нестерпимо сверкали окна и лакированные стенки трамваев. Они мчались вдоль Головинского проспекта и напоминали передвижные ярмарочные оркестры – столько звона, треска, лязга, смеха и крика они волочили за собой, сбивая с толку таких северных новичков, как мы с Фраерманом.
Маленькие стаканы вина, отмечавшие наше медленное, но верное продвижение по Тифлису, сыграли счастливую роль: они уничтожили следы моей обычной застенчивости.
Дело в том, что Мрозовский списался со своими родственниками в Тифлисе и заочно снял для меня комнату в их доме. У Фраермана уже была готовая комната, где жила Соня.
Я немного стеснялся въезжать в комнату, снятую Мрозовским, так как знал, что родственники Мрозовского были известные на Кавказе футуристы, братья Зданевичи – поэт Илья и художник Кирилл. Я знал, что у них останавливался Маяковский, когда бывал в Тифлисе, что у них постоянно бывали все грузинские художники и поэты: и Ладо, и Гудиашвили, и Тициан Табидзе, и многие другие. Это обстоятельство меня, конечно, смущало.
Но сейчас мое смущение растаяло без остатка в легком кахетинском вине.
Зданевичи жили в старом доме с большими запутанными деревянными террасами, выходившими во двор, с полутемными, прохладными комнатами, с выцветшими персидскими коврами и множеством рассохшейся мебели. Лестницы на дрожащих террасах качались под ногами, но никого это не смущало.
С террас был виден на горизонте снег Главного хребта. Из комнат Зданевичей с утра до позднего вечера доносились аккорды рояля, женское пение, чтение стихов и шумные споры и ссоры.
По всем террасам и коридорам ходили, прихрамывая, голуби. Когда люди замолкали, то весь дом глухо и страстно ворковал.
Кроме того, с утра во всех углах квартиры была слышна зубрежка французских склонений и спряжений. Это старик Зданевич – бывший учитель гимназии – занимался французским языком сразу с несколькими недорослями и неучами. У всех недорослей, как на подбор, были унылые, бубнящие голоса.
Каждые полчаса, а то и чаще, где-то падала и разбивалась посуда. На место происшествия тотчас спешила хромая такса и долго лаяла на виновника этого события.
Такса была со странностями. Она никогда не входила ко мне в комнату, а только приоткрывала мордой дверь, просовывала голову и неподвижно и тщательно смотрела на меня томными, восточными глазами. Так она могла стоять часами, но все же время от времени вдруг подпрыгивала, изгибалась и, изловчившись, начинала что-то выгрызать у себя на боку, страшно клацая зубами.
В первый же вечер моего приезда ко мне пришла хозяйка дома, старушка Валентина Кирилловна Зданевич. Она попросила разрешения немного посидеть у меня, чтобы отдохнуть от этого, как она выразилась, «цыганского табора». Моя комната, правда, была самая тихая.
С тех пор так и повелось: Валентина Кирилловна часто приходила ко мне посидеть и поговорить, и я был очень рад этому.
Через короткое время я уже полюбил эту маленькую старушку в пенсне, родом имеретинку, бывшую певицу, ученицу Чайковского.
Валентина Кирилловна поражала меня своей проницательностью, живым умом и спокойствием. Она вырастила двух сыновей – поэта Илью и художника Кирилла. Сыновья были воинствующими футуристами. Илья по праву считался одним из вождей футуризма вместе с Бурлюком и Крученых. Он учился в Петербургском университете. Газеты тех лет часто писали о его скандалах на петербургских литературных вечерах.
Он основал в Тифлисе общество «левых» поэтов и художников. Называлось оно «Сорок первый градус» (по географической параллели, которая проходила вблизи Тифлиса).
Но Илья Зданевич, так же как и Кирилл, заслуживает отдельного рассказа[11]. Пока же я хочу закончить описание квартиры Зданевичей и ее обитателей.
Я переступил порог этой квартиры и оторопел. Стены во всех комнатах, террасы и коридоры, даже кладовые и ванная были завешаны от потолка до пола необыкновенными по рисунку и краскам картинами. Много картин, не поместившихся на стенах, было свернуто в рулоны и стояло в углах.
Все эти картины принадлежали кисти одного и того же художника, но очень редко можно было найти на них его грузинскую подпись: «Нико Пиросманишвили».
О Пиросманишвили я тоже расскажу несколько позже[12]. Сейчас же я хочу передать, если это мне удастся, то странное состояние, которое вызвали у меня его картины. Два месяца я не мог привыкнуть к ним и жил в очень конкретном, но вместе с тем и полуреальном мире.
То был главным образом Кавказ, одновременно и причудливый и точный. И не только Кавказ, но и самые разные явления жизни, увиденные совсем не так, как мы привыкли их видеть. Так наивно и свежо может видеть человек, только что прозревший после слепоты. Или человек, внезапно проснувшийся, когда действительность еще не избавилась от налета сновидений.
В моей комнате тоже висели картины Пиросманишвили (Зданевичи звали его для краткости Пиросманом). Поэтому у меня было время изучить их и полюбить.
Рядом с этими картинами совершенно терялась нарядная орнаментальная роспись на стенах моей комнаты. Она была сделана персидскими художниками по заказу квартиранта Зданевичей – персидского консула в Тифлисе, жившего здесь до меня.
Кроме картин, в комнатах было много цветов. Квартира походила на оранжерею.
Цветы часто опрыскивали свежей водой. Поэтому в комнатах пахло сырой землей и листьями.
Когда в окна ударяло солнце, квартира напоминала летний день после ливня: со всех листьев, веток и цветов торопливо падали, поблескивая, капли теплого комнатного дождя.
Срезанных и собранных в букеты цветов в доме почти не держали. Вместо них всюду лежали куски коры, похожие на корытца. Они были наполнены разными свежими цветами: фиалками и крокусами, эдельвейсами и камелиями – и мхами всех цветов: изумрудно-зелеными, рыжими, черными, золотыми, красными и лимонными. Мхи пахли йодом.
Кроме цветов и мхов, в коре держали мелкие папоротники, хвощи, всякие интересные вещи из растительного и животного мира, вплоть до корней в виде рыцарей и стыдливых купальщиц. На мхах сидели уснувшие бабочки. Они походили на беспредметные рисунки «левых» художников.
Жившая у Зданевичей экспансивная полька, художница Мария, составлявшая все эти необыкновенные «букеты», называла их «супрематистскими мотыльками» и вкрадчиво, чисто по-польски спрашивала нараспев:
– Что-о? Разве не-ет? Правда, это так похо-оже?
По всей квартире было разбросано много книг, главным образом тоненьких, с крикливыми названиями и такими же крикливыми обложками. На них были нарисованы цветные полукружья, женские груди и изломанные лучи.
Самой популярной считалась книга стихов под титлом «Цвети, поэзия, сукина дочь!». Она была набрана всеми шрифтами, какие нашлись в Тифлисе, – от афишного до перля и от курсива до эльзевира. Между отдельными словами были вставлены разные линейки, многоточия, скрипичные знаки, буквы из армянского, грузинского и арабского алфавитов, ноты, перевернутые вверх ногами вопросительные знаки, графские короны (эти клише держали до революции в типографиях только для визитных карточек), виньетки, изображавшие купидонов и гирлянды роз.
Я с удовольствием изучал эту книгу, как своего рода коллекцию типографских шрифтов.
Было много книг на заумном языке. Одна из них называлась только буквой «Ю»[13]. На столах горами были навалены рисунки, главным образом кубистические. Все женщины на этих рисунках были похожи на подруг неандертальского человека. Иногда огромные молнии с широкими хвостами разрубали на этих рисунках падавшие во все стороны дома. Очевидно, так было изображено землетрясение. Я не решался спросить Кирилла Зданевича, что значат эти рисунки. Кирилл был неразговорчив.
Брат Кирилла – Илья – уже второй год жил в Париже и подружился там с Пикассо. Об Илье у Зданевичей говорили так, будто он только что вышел за дверь.
Все делалось, как любил Илья. Никто не смел трогать его вещи. К этому все, особенно Валентина Кирилловна, отнеслись бы как к кощунству.
Первое время я добросовестно читал поэмы Ильи – и «Осла напрокат» и «Янко, круль албанской», – но мало что понимал в них. У меня начинала болеть голова. Но я не мог признаться в этом: непонимание стихов Ильи было для его родных и друзей признаком полной бездарности и мещанства.
Я вскоре заметил, что только Мария – дерзкая и насмешливая – имела право не восхищаться Ильёй.
– Я отдала долг футуризму и теперь свободна, как птица, – говорила она нараспев.
– Какой долг? – спросил я.
– Хотите, я вам покажу? – спросила она и, не дожидаясь моего ответа, вышла в соседнюю комнату. Когда она вернулась, то на ее щеке пылал смело и широко написанный масляными красками цветок розы.
– Хорошо-о, да-а? – спросила она, стараясь не улыбаться, чтобы не испортить свежий рисунок. – Вот так я ходила по Головинскому проспекту со всеми поэтами. Смешно? Правда-а?
Этот разговор с Марией был почти через месяц после того, как я поселился у Зданевичей. Первое же знакомство с Марией было и странным и смешным.
У меня в комнате был камин. В день приезда я пошел вечером на террасу за дровами для камина. По нашим московским понятиям, это были не дрова, а мелкие ветки, к тому же еще и колючие.
Мне надо было пройти через столовую. Там за обеденным столом пили чай Валентина Кирилловна, старик Зданевич, высокая молодая женщина, тонкая, как змея, и вторая молодая женщина, с бледным, как бы от сдержанного волнения, немного надменным лицом, совершенно прозрачными зелеными глазами и яркими смеющимися губами. Тяжелый серебряный браслет звенел у нее на руке.
– Вот, – сказала мне Валентина Кирилловна и показала на эту женщину, – познакомьтесь. Это наша Мария. Пожалуйста, не пугайтесь ее разговоров.
Мария порывисто встала и протянула мне руку. Звякнул браслет. Она усмехнулась, глядя мне в глаза, и вдруг, будто без всякой надобности, нервно и быстро оглянулась – за ее спиной висел на стене ее портрет, написанный броско и вместе с тем нежно.
– Работа поэта Терентьева, – сказал старик Зданевич. – Он у меня в гимназии шел по французскому на пять с плюсом.
Мария чуть улыбнулась. Она молчала. Я тоже молчал.
– Извините, – вдруг спохватилась Валентина Кирилловна; – А вот эта черная женщина, прелестное существо, – наш общий друг, черногорка Живка.
– Черногория по-сербски выговаривается Црна Гуpa, – сказал старик Зданевич. И вдруг продекламировал с пафосом: – «Черногорцы, что такое? – Бонапарте вопросил. – Правда ль, это племя злое не боится наших сил?»
Все опустили глаза. В соседнем доме слабый тенор пел:
Белых лилий Идумеи Белый венчик цвел кругом…– Цветут не венчики, а лепестки! – сердито сказал старик Зданевич.
Опять никто не отозвался на эти слова.
– Садитесь, – сказала мне Мария. – Я вам налью чаю.
– Сейчас. Я только принесу из кухни дрова для камина.
Я пошел в кухню. Там было темно. За окном были видны одиночные и слишком яркие звезды над неясными вершинами гор.
Я набрал дров и пошел обратно. Теперь в столовой сидели только Мария и черногорка. Старики ушли.
Мария внимательно посмотрела на меня. В то же мгновение вся вязанка дров рассыпалась и полетела на пол.
– Мария, это свинство, – равнодушно сказала черногорка.
– Я так и знала, – грустно сказала Мария и встала. – Иначе и не могло быть. Погодите, я вам помогу.
Она быстро собрала дрова, но не дала их нести мне. Она сама отнесла их в мою комнату и разожгла камин.
Она стала на колени перед камином и, низко наклонив голову, почти лежа щекой на полу, раздувала слабый огонь. Ветки трещали и стреляли искрами.
Я хотел сказать ей, чтобы она встала. Ее волнистые каштановые волосы все время падали на пол, и она нетерпеливо отбрасывала их назад рукой в звенящем серебряном браслете.
Мы долго молчали. Потом я спросил ее:
– Вы сказали, что иначе и не могло быть. Что это значит?
Она подняла голову, посмотрела на меня снизу, и я вдруг вздрогнул от блеска ее встревоженных глаз.
– Это значит, что я взбалмошная дура, – ответила она, вскочила и вышла из комнаты. – Идите пить чай.
Так случилось то неожиданное и милое событие, о котором я впервые подумал на площади Тифлисского вокзала.
Простая клеенка
На окраине Тифлиса были расположены знаменитые Верийские и Ортачальские сады.
То было место летних увеселений и отдыха. Почти каждый небольшой сад был превращен в кафешантан или духан.
К вечеру, когда начинала спадать жара, тифлисцы тянулись в эти сады. Кто побогаче – на извозчиках, а кто победнее – пешком.
Названия кафешантанов отличались пышностью и безвкусием. Самый дорогой шантан назывался «Эльдорадо». Потом шли «Фантазия», «Сан-Суси», «Шантеклер» и «Джентльмен».
Невдалеке от Ортачальских садов были так называемые «веселые» улицы. Многие посетители шантанов сначала заезжали на эти улицы и привозили оттуда шумных девиц.
Что ждало тифлисца в этих садах? Прохлада, легкий чад баранины, пение, танцы, азартная игра в лото и красивые огрубевшие женщины.
Особенно привлекала прохлада под сенью чинар и шелковиц. Трудно было понять, как она удержалась, когда весь Тифлис лежал рядом в жаркой котловине, в кольце нагретых гор, и даже страшно было смотреть на него с окрестных высот. Казалось, что Тифлис дымится от накала и вот-вот вспыхнет исполинским костром.
Может быть, этой прохладой тянуло от фонтанов или в сады осторожно проникало дуновение горных снегов. В городе можно было дышать только перед рассветом, когда дома немного остывали за ночь. Но стоило солнцу подняться из Кахетии – и изнурительный жар сейчас же заливал улицы.
Среди певиц, выступавших в Верийских садах, была одна женщина, ленивая, тонкая в талии и широкая в плечах, с бронзового цвета волосами, нежной и сильной шеей и розовым телом. Звали ее Маргаритой.
Посетители шантана, где она пела по вечерам, считали ее обрусевшей немкой, но хозяин сада – обидчивый мингрел – каждый раз, услышав эти разговоры, устраивал настоящий скандал.
– Наверное, твои мозги совсем перевернулись в голове! – кричал хозяин. – Ты слышал такую страну – Франция?
– Ну, слышал, – хмуро отвечал неосторожный посетитель.
– А во Франции слышал такую губернию – Эльза? Слышал? Ну, так она из этой губернии, из Эльза. Француженка высшего сорта. Что за люди! Пустяков не знают! Драться – знают, сдачи не давать – знают, трогать на улице девчонок – знают, мошенничать в карты – знают, а сообразить – ничего не знают!
Маргарита редко соглашалась поужинать с посетителями, но равнодушно, как должное, принимала от них маленькие подарки. Потом она их раздаривала подругам. Она была совершенно одинока.
Вообще было трудно понять, что она думает обо всем, особенно о мужчинах. Многие хотели сделать ее своей любовницей.
Говорила она мало, а пела каким-то необыкновенным, как говорили, двойным, голосом.
Ее приезжали слушать артисты оперы и музыканты. От пения Маргариты оставалось ощущение, будто оно всегда сопровождается подголоском, похожим на слабое эхо.
Актеры говорили, что это так называемый «вокальный обман», как бывает, например, «обман зрения». На самом же деле никакого второго голоса нет. Они говорили так и спорили, но, несмотря на это, каждый слышал, когда пела Маргарита, двойной звук ее голоса. Как будто главный голос был золотой, а второй серебряный.
Однажды певцы и музыканты сняли на весь вечер духан «Варяг», пригласили туда Маргариту и устроили для любителей пения закрытый концерт.
После концерта встал старый дирижер и сказал, что человеческий голос является самым сложным музыкальным инструментом. Он богаче рояля и скрипки, и потому одновременное существование в голосе нескольких тонов вполне возможно и естественно.
А Маргарита пила, потупившись, вино. Красный шелк платья придавал ее волосам отблеск пожара. Изредка она подымала глаза и обводила ими всех, кто сидел за столом, но в туманной глубине ее зрачков не было ни огня, ни улыбки.
Прислонившись к дверному косяку, стоял высокий, очень худой грузин с тонким лицом и печальными глазами, в старом пиджаке и, не шевелясь, смотрел на Маргариту.
Это был бродячий художник Нико Пиросманишвили. Он любил Маргариту. Она была для него единственным человеком на свете. Каждая пядь земли, куда не ступала нога Маргариты, казалась ему остатком пустыни. Но там, где сохранялся ее след, была благословенная земля. Каждая крупинка песка на ней грела, как крошечный алмаз,
Так, очевидно, спели бы о чувствах Пиросмана иранские поэты средней руки. Но все равно они были бы правы, несмотря на цветистую речь.
Тот день, когда Нико не слышал ее голоса, был для него самым глухим днем на земле.
Чрезмерная любовь вызывает желания, недоступные трезвому человеку. Кому из людей в их будничном состоянии может прийти в голову дикая мысль поцеловать человеческий голос, или осторожно погладить по голове поющую иволгу, или, наконец, похохотать вместе с воробьями, когда они поднимают вокруг вас неистовый гам, пыль и базар?
У Пиросмана появлялось иногда удивительное желание осторожно дотронуться до дрожащего горла Маргариты, когда она пела, желание одним только дыханием прикоснуться к этому таинственному голосу, к этой теплой струе воздуха, что издает такой великолепнейший взволнованный звон.
Люди говорят, что слишком большая любовь покоряет человека.
Любовь Нико не покорила Маргариту. Так, по крайней мере, считали все. Но все же нельзя было понять, действительно ли это так? Сам Нико не мог сказать этого. Маргарита жила, как во сне. Сердце ее было закрыто для всех. Ее красота была нужна людям. Но, очевидно, она совсем не была нужна ей самой, хотя она и следила за своей наружностью и хорошо одевалась. Шуршащая шелком и дышащая восточными духами, она казалась воплощением зрелой женственности.
Но было в этой ее красоте нечто грозное, и, кажется, она сама понимала это.
Откуда появился Пиросман, никто толком не знал. Потом, после смерти Пиросмана, Кирилл Зданевич собрал по обрывкам и крохам его биографию, и хотя и неполно, но восстановил его жизнь.
Пиросман родился в 1862 году в кахетинском селении Мирзаки в семье бедного крестьянина. Еще мальчишкой родители отдали его слугой в грузинскую состоятельную семью в Тифлис.
Пиросман работал слугой до двадцати лет. Потом он поступил кондуктором на Закавказскую железную дорогу. Тогда впервые он начал рисовать. Первой его работой был портрет начальника станции и его жены. Очевидно, это был очень ядовитый и карикатурный портрет, потому что начальник станции, увидев портрет, тотчас выгнал Пиросмана со службы.
Что было делать? Пиросман не мог заниматься тем, чем занималось в то время большинство бедняков в Тифлисе, – ничтожными темными делами, удачным и неудачным обманом. Для этого он был слишком чистосердечен и горд.
Он не был бездельником и тифлисским кинто – полунищим, веселым и наглым. Он не умел, как кинто, делать деньги «из воздуха», из анекдота, из неприличной шутки, из «ишачьего крика».
Одно время Пиросман торговал молоком на задворках майдана и кое-как перебивался на свой нищенский доход. Но и это занятие претило ему.
Он любил живопись, только живопись, и, прежде всего, разрисовал всю свою лавку, как пышный цветок. Первые свои картины он раздаривал и бывал счастлив, когда их охотно брали.
Иногда он спускал свои картины, или, как их называли на майдане, «картинки», перепродавцам всяких мало кому нужных вещей. Такие вещи, как говорится, были «на любителя» и назывались загадочным иностранным еловом «брик-а-бра». По мнению перепродавцов, это было очень красивое и заманчивое слово, тем более что оно было не понятно ни самим перепродавцам, ни Пиросману, ни покупателям.
Но ставка на это слово не удалась. Покупатели сильно удивлялись, даже пугались и картин не брали. Перепродавцы же платили Пиросману за его картины гроши.
И Пиросман голодал. Иногда он присаживался у стены какого-нибудь дома или у ствола старого, как мир, пыльного дерева и сидел тихо, пока у него не переставала кружиться голова.
Пришлось вернуться на родину, в деревню, где на Пиросмана неизбежно должна была обрушиться вся тяжесть бытовых и семейных традиций.
Свой дом в деревне Пиросман тоже расписал сверху донизу, к великому восхищению сородичей и соседей.
Потом Пиросман устроил в этом доме пир. После этого он написал четыре картины, изображающие этот деревенский праздник. Пир был удивителен тем, что вопреки большинству пиров на нем не было богачей. Гости стояли, сидели и лежали, высоко подняв рога с вином. Эта живописная и нарядная толчея была написана Пиросманом очень смело.
Наконец, Пиросман придумал удачный, как ему казалось, выход. Он вернулся в Тифлис и начал писать яркие вывески для духанов за несколько обедов с вином и несколько ужинов. Часть заработка он брал деньгами, чтобы покупать краски и платить за ночлег.
Но на материалы денег никогда не хватало. Духанщики охотно снимали старые жестяные вывески и предлагали писать на них, предварительно замазав почерневшую раскраску. Но Пиросмани не соглашался на это.
Жестяные вывески ржавели. А Пиросман знал, что какой бы он ни был неученый художник, или, как говорят русские, самоучка, но по силе и чистоте красок и рисунка он мог бы, пожалуй, потягаться с некоторыми большими художниками (он видел хорошие репродукции их картин). Может быть, даже с самим Делакруа, – об атом французе ему много рассказывал один гимназист, тоже мечтавший стать художником.
Материала не было, и Пиросман начал писать на том единственном, что находилось всегда под рукой в каждом, даже самом дешевом духане, – на простой клеенке, снятой со столика.
Клеенки были черные и белые. Пиросман писал, оставляя там, где это было нужно, незакрашенные куски клеенки.
Потом он применил этот прием и для портретов. Впечатление от некоторых вещей, сделанных в такой манере, было необыкновенным.
Я навсегда запомнил его клеенку «Князь», где бледный старик в черной черкеске стоит с рогом в руках на скудной земле. Позади него виден доведенный почти до топографической схемы горный Кавказ. Черкеска князя как раз и была непрописанным куском клеенки глубокого черного цвета, особенно резкого в рассветном тусклом освещении. Я никак не мог понять, какими красками было передано это освещение.
За такие портреты, как этот, Пиросман в лучшие свои времена получал двадцать-тридцать рублей.
Посетителям нравились вывески Пиросмана – прозрачный виноград, тыквы, оранжевая хурма, кудрявые мандариновые сады и богатые натюрморты из разных травок, баклажанов, шашлыков, сыра и жареной рыбы «локо».
Но бесконечно писать эти натюрморты для вывесок Пиросман не мог. Чрезмерность, как всегда, вызывала скуку. Тогда Пиросман начал писать на вывесках многолюдные пирушки на траве, на узких крестьянских скатертях. На вывесках появились люди, пейзаж и животные, главным образом многотерпеливые ишаки.
Иногда Пиросман сообща с хозяином придумывал для духана название. Чем замысловатее было название, тем больше оно нравилось.
Пиросман, усмехаясь, писал: «Шашлыки по-электрически» или «Одному не надо пить».
Особенно любили такие броские названия в грузинской провинции, где-нибудь в Озургетах, Ахалкалахах или Сагареджо.
Я уже не застал Пиросмана: он умер до моего приезда в Тифлис.
Пиросман оставил огромное живописное богатство. Его картины ряд лет собирал Кирилл Зданевич, собирал буквально по крохам. Он разыскал почти всего Пиросмана, он спас работы прекрасного народного художника, совершил подлинный подвиг и впоследствии подарил собрание картин Пиросмана государству, иными словами – народу.
В 1913 году Кирилл Зданевич встретился в Петрограде с художниками Гончаровой и Ларионовым. Они приехали в Петроград из Молдавии и привезли смешные и очень живописные вывески, найденные ими в Тирасполе.
Вывески очень понравились Кириллу Зданевичу. Вскоре в Тифлисе он увидел еще более живописную вывеску в духане «Варяг» и купил ее. Она была написана неизвестным живописцем Нико Пиросманишвили.
У Кирилла были знакомства с крестьянами, духанщиками, бродячими музыкантами, сельскими учителями.
Всем им он поручал разыскивать для него картины и вывески Пиросмана.
Первое время духанщики продавали вывески за гроши: Но вскоре по Грузии прошел слух, что какой-то художник из Тифлиса скупает их якобы для заграницы, и духанщики начинали набивать цену.
И старики Зданевичи и Кирилл были очень бедны в то время. При мне был случай, когда покупка картины Пиросмана посадила всю семью на хлеб и воду. Мария бегала на Дезертирский базар продавать последние серьги или последний жакет. Кирилл носился по Тифлису в надежде перехватить хоть немного деньжат, старик брал со своих недорослей плату вперед.
Наконец хмурый Кирилл (чем больше он бывал растроган, тем сильнее хмурился) принес картину, молча развернул ее, сказал: «Ну, каково?» – и картина после этого несколько дней провисела на почетном месте в гостиной.
После этого Кирилл отсыпался от волнений, а потом началось паломничество любителей живописи. Из моей комнаты были слышны все разговоры в гостиной, и я вскоре знал назубок истории всех новых картин.
Мое знакомство с Пиросманом началось с первого же дня моей жизни в Тифлисе.
Как я уже говорил, стены моей комнаты были завешаны от верхнего карниза до плинтуса клеёнками Пиросмана.
В день приезда я только мельком взглянул на них. К тому же в комнате было сумрачно от зимнего тифлисского дня. Но все же меня все время не оставляла непонятная тревога, как будто меня быстро провели за руку через удивительную, совершенно причудливую страну, как будто я уже се видел или она мне давно приснилась, и с тех пор я никак не дождусь, чтобы осмотреться в этой стране, прийти в себя и узнать ее во всех подробностях.
Я уснул с тревогой на сердце. Тревогой от незнакомых картин, они молча окружали меня и, как мне казалось, не спускали с меня глаз.
Проснулся я, должно быть, очень рано. Резкое и сухое солнце косо лежало на противоположной стене.
Я взглянул на эту стену и вскочил. Сердце у меня начало биться тяжело и быстро.
Со стены смотрел мне прямо в глаза – тревожно, вопросительно и явно страдая, но не в силах рассказать об этом страдании – какой-то странный зверь – напряженный, как струна.
Это был жираф. Простой жираф, которого Пиросман, очевидно, видел в старом тифлисском зверинце.
Я отвернулся. Но я чувствовал, я знал, что жираф пристально смотрит на меня и знает все, что творится у меня на душе.
Во всем доме было мертвенно тихо. Все еще спали. Я отвел глаза от жирафа, и мне тотчас же показалось, что он вышел из простой деревянной рамы, стоит рядом и ждет, чтобы я сказал что-то очень простое и важное, что должно расколдовать его, оживить и освободить от многолетней прикрепленности к этой сухой, пыльной клеенке.
Внезапно во дворе раздался отчаянный, нечеловеческий крик: «Мацони!! Мацони!!» Так отчаянно, почти рыдая, кричали почему-то все продавцы мацони – кавказской простокваши. Они развозили свой товар по городу, навьючивая переметные сумы с кувшинами мацони на черных и таких пыльных осликов, будто все прохожие долго вытирали о них ноги, как о половики.
Я вздрогнул от крика мацонщика и застонал. Но дрожь не проходила. Я все сильнее стонал, стараясь сдержаться. Жираф ушел в тусклую клеенку. Белое солнце било в косяки окон, солнце Кахетии, и я увидел около себя испуганную Марию, увидел косо срезанную на ее щеке прядь каштановых блестящих волос, потом увидел Валентину Кирилловну. Она внимательно смотрела на меня поверх очков. Тогда я понял, что меня схватил – теперь уже в Тифлисе – жестокий припадок малярии.
Валентина Кирилловна ушла, а Мария положила мне на лоб холодную мокрую повязку, наклонилась ко мне и прижалась щекой к моим губам, чтобы попробовать, сильный ли у меня жар. И я с благодарностью ощутил это деловое прикосновение, как отдаленную, мимоходом брошенную ласку.
Вскоре я знал уже почти все картины Пиросмана. Они помогли мне понять и полюбить Кавказ – сложную и мозаически прекрасную страну.
Пиросман стал для меня живописной и свободной в своем выражении энциклопедией Грузии, ее людей, ее истории и природы.
Панорамы Кавказа, начиная от магической лунной ночи над Тифлисским арсеналом и кончая выжженной панорамой гор у ног Шамиля, запомнились мне на всю жизнь.
Сотни худых пиросмановских крестьян, веселых виноградарей, бедных и робких женщин, рыбаков, спесивых богачей с толстыми усами, тифлисских дворников с такими же косматыми бородами, как и их растрепанные метлы, равнодушных музыкантов толпились в квартире Зданевичей на слегка пыльных клеенках. Время от времени кто-нибудь вспоминал то об одной, то о другой картине и рассказывал о ней что-нибудь интересное.
Большей частью на картинах Пиросмана были люди, но особое место занимали на них и разные звери: львы, газели, буйволы, жирафы, верблюды и безответные друзья художника – ишаки.
Искусство всегда берет человека за сердце и чуть сжимает его. И человек никогда не забудет этого явного прикосновения прекрасного.
Человек не забудет того состояния душевной полноты и крылатости, которое иногда дает ему одна – только одна! – строчка великолепных стихов или картина, пережившая несколько столетий для того, чтобы донести до нас свою красоту.
Если бы я не знал Пиросман, я бы видел Кавказ недопроявленным, как слабый снимок, без красок и теней, без деталей и контуров и без синеющей мглы его полувосточных и полуевропейских пространств.
Пиросман наполнил для меня Кавказ соком плодов и резкостью сухих красок. Он приобщил меня к этой стране, где одновременно с радостью ощущаешь легкую и непонятную грусть. Так блестят весельем и сдержанной грустью глаза грузинских красавиц. Они обычно быстро и легко исчезают в толпе, эти красавицы, хотя к ним обращена нежная просьба поэта:
Оглянись на меня, генацвале! Генацвале, оглянись на меня!Это летнее утро поначалу ничем не отличалось от других. Все так же неумолимо, испламеняя все вокруг, подымалось из Кахетии солнце, так же рыдали ишаки, привязанные к телеграфным столбам, такие же свирепого вида черноусые люди проходили по улицам с большими бидонами и неохотно покрикивали: «Нафт! Нафт!», предлагая хозяйкам керосин.
Все было, как всегда: Кура шумела у мельниц около Ишачьего моста и жидко позванивали полупустые трамваи.
Утро еще дремало в одном из переулков в Сололаках, тень лежала на серых от времени деревянных невысоких домах.
В одном из таких домов были распахнуты на втором этаже маленькие окна, и за ними спала Маргарита, прикрыв глаза рыжеватыми ресницами.
Как в жидком стекле, виднелись над Сололаками гора Давида, фуникулер и могила Грибоедова. Она заросла плющом. Я часто ходил на гору Давида, на священную Мтацминду и видел там могилы великих грузинских поэтов – Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели. Их лиризм и одновременная склонность к сарказму придали особую глубину грузинской литературе и окружили ее резким и тонким воздухом классической ясности. Потом гора Мтацминда стала грузинским Некрополем. Там был похоронен удивительный по нежности и по широт ума наш современник Тициан Табидзе.
Да, но я отвлекся.
В общем, утро было бы действительно самым обыкновенным, если не знать, что это было утро дня рождения Нико Пиросманишвили и если бы именно в это утро в узком переулке в Сололаках не появились арбы с редким и легким грузом.
Груз этот был, очевидно, настолько легок, что арбы даже не скрипели под ним, а только чуть слышно погромыхивали, подскакивая на крупных камнях мостовой.
Арбы были доверху нагружены срезанными обрызганными водой цветами. От этого казалось, что цветы покрыты сотнями крошечных радуг.
Арбы остановились около дома Маргариты. Аробщики, вполголоса переговариваясь, начали снимать охапки цветов и сваливать их на тротуар и мостовую у порога.
Когда первые арбы отъехали и вся мостовая была ужо усыпана цветами, на смену первым арбам появились вторые. Казалось, арбы свозили сюда цветы не только со всего Тифлиса, но и со всей Грузии.
Запах цветов заполнил сололакскую улицу. В окнах появились первые хозяйки. Они торопливо расчесывали смоляные волосы и жадно смотрели на удивительное зрелище: аробщики, самые обыкновенные аробщики, а но легендарные погонщики из «Тысячи и одной ночи» загружали цветами всю улицу, как будто хотели засыпать ими дома до второго этажа.
Смех детей и возгласы хозяек разбудили Маргариту. Она села на постели и вздохнула. Целые озера запахов – освежающих, ласковых, ярких и нежных, радостных и печальных – наполнили воздух. Это был, возможно, запах небесных пространств, оставшийся после медленного прохождения ночной звездной сферы над нашей землей, или запах зародыша, замкнутого в течение долгого времени под оболочкой обыкновенного цветочного семени, а теперь освобожденного водой, теплом и крепкими солями земли.
С обеих сторон при входе в переулок уже собрались и шумели толпы. Люди глазели на непонятное зрелище.
Непонятность того, что произошло, смущала людей, и потому никто не решался первым ступить на этот цветущий ковер, доходивший людям до самых колен.
Что же касается маленьких детей, то они могли даже заблудиться в этих цветочных грудах. Поэтому женщины, полные восхищения и гордости от сознания тайны, приблизившейся вплотную к их стертым, знакомым до последней трещины порогам (а они знали все трещины потому, что им приходилось часто мыть эти пороги), крепко держали за руки детей и не отпускали их от себя.
Каких цветов тут только не было! Бессмысленно их перечислять!
Поздняя иранская сирень. Там в каждой чашечке скрывалась маленькая, как песчинка, капля холодной влаги, пряной на вкус. Густая акация с отливающими серебром лепестками. Дикий боярышник – его запах был тем крепче, чем каменистее была почва, на которой он рос. Нежная синяя вероника, бегония и множество разноцветных анемон. Изящная красавица жимолость в розовом дыму, красные воронки ипомеи, лилии, мак, всегда вырастающий на скалах именно там, где упала хотя бы самая маленькая капля птичьей крови, настурция, пионы и розы, розы, розы всех размеров, всех запахов, всех цветов – от черной до белой и от золотой до бледно-розовой, как ранняя заря. И тысячи других цветов.
Взволнованная Маргарита, еще ничего не понимая, быстро оделась. Она надела свое самое лучшее, самое богатое платье и тяжелые браслеты, прибрала свои бронзовые волосы и, одеваясь, улыбалась, сама не зная чему, Потом она засмеялась, потом слезы появились у нее на глазах, но она не вытирала их, а только стряхивала быстрым движением головы. Слезинки разлетались от этого в разные стороны и долго еще горели на ее платье.
Она догадывалась, что этот праздник устроен для нее. Но кем? И по какому случаю? И тут она вспомнила, что сегодня, кажется, день рождения Пиросмана. Может быть, все эти горы цветов он прислал ей в память этого полузабытого дня.
Но почему прислал в день не ее, а своего рождения?
В это время единственный человек, худой и бледный, решился переступить границу цветов и медленно пошел по цветам к дому Маргариты.
Толпа узнала его и замолчала. Это был нищий художник Нико Пиросманишвили. Где он только взял столько денег, чтобы купить эти сугробы цветов? Столько денег!
Он шел к дому Маргариты, прикасаясь рукой к стенам.
Все видели, как навстречу ему выбежала из дома Маргарита – еще никогда никто не видел ее в таком блеске красоты, – обняла Пиросмана за худые, больные плечи и прижалась к его старому чекменю.
– Почему, – спросила Маргарита, задыхаясь, – почему ты подарил мне эти горы цветов в день своего рождения? Я ничего не понимаю, Нико.
Пиросмани не ответил. Но Маргарита всем существом, всеми нервами, всей кровью, бившейся в ее теле, поняла и без его ответа силу его любви и впервые крепко поцеловала Нико в губы. Поцеловала перед лицом солнца, неба и простых людей – жителей тифлисского квартала Сололаки.
Некоторые люди отворачивались, чтобы скрыть слезы. Люди думали, что большая любовь всегда найдет дорогу к любимому, хотя бы и холодному сердцу. Потому что все знали, что Пиросман любил Маргариту, но она совсем не любила его, а только жалела за его горькую и неудачную жизнь.
Историю любви Пиросмана рассказывают по-разному. Я повторил один из этих рассказов. Я коротко записал его, не придавая чрезмерного значения его сугубой подлинности. Пусть этим занимаются придирчивые и скучные люди.
Но об одном я не могу умолчать, потому что это, пожалуй, одна из самых горьких правд на земле, – вскоре Маргарита нашла себе богатого возлюбленного и сбежала с ним из Тифлиса.
Каждому свое
В Тифлисе я жил среди разнообразных людей, но все они обладали одним общим свойством: каждый был полон своими мыслями и своим делом, каждый говорил о своем и мало обращал внимания на остальных, особенно на тех, кого считал чужаком. Бабель уехал в Москву еще до моего приезда в Тифлис, и единственным человеком, с которым мы сходились в мыслях, был Фраерман.
В среде футуристов-писателей и художников я считался не то чтобы чужаком, но «диким»: колеблющимся и непосвященным.
Так обо мне думали, должно быть, потому, что я не ввязывался в споры и одинаково не принимал ни «темно-серую» литературу Шеллеров-Михайловых, ни «сиропные» стишки Ратгаузов, ни заумные «смыки» и «мыки» Крученых.
Спорил я только с постоянным посетителем дома Зданевичей поэтом Николаем Чернявским. Он был влюблен в Грузию и потому звал себя не Николаем, а по-грузински – Колау[14].
Стихи он писал таким способом, что без чертежа почти невозможно было объяснить этот способ. В общем, он сначала писал основной текст стихотворения, даже довольно понятный. Но путем типографских ухищрений и игры шрифтов одно и то же стихотворение превращалось в три.
Достигалось это тем, что стихи печатались вместе, но тремя размерами шрифтов. Если вы читали только слова, набранные самым крупным шрифтом, не обращая внимания на слова, напечатанные средним или мелким шрифтом, то получался один текст.
Если же вы читали слова, набранные средним шрифтом, пропуская все остальные шрифты, то получался второй, совершенно самостоятельный текст стихотворения.
Если же вы читали самый мелкий шрифт (предположим, петит или нонпарель), то получался третий, неожиданный текст.
Этому головоломному и вгонявшему в отчаяние занятию Колау Чернявский отдавал почти все свое время.
Чтобы довести писание стихов этим способом (такие стихи назывались симфоническими) до возможного совершенства, надо было знать все шрифты и типографское дело. И Чернявский знал его блестяще.
Вообще познания Чернявского в любой области были поразительными, суждения – резкими и нетерпимыми, а, преданность всем «левейшим» течениям в искусстве – безграничной.
Он мог в проливной дождь позвонить среди ночи у дверей Зданевичей, разбудить Кирилла и прочесть ему последние, дошедшие с севера стихи Хлебникова. При этом просыпалась, конечно, вся квартира, даже старин Зданевич. В силу семейных традиций старик горячо поддерживал все самое «левое» в искусстве.
Чернявский – человек совершенно одинокий – почти все дни напролет проводил у Зданевичей. Он непрерывно что-то рассказывал, доказывал, возмущался и восхищался. Его постоянными слушательницами были Валентина Кирилловна и Мария. Они не только терпели, но и любили и жалели Чернявского. У него изредка бывали припадки эпилепсии. В этих случаях звали на помощь меня.
Чернявский был удивительным разговорщиком. Ему было совершенно все равно, чем занимается его собеседник, лишь бы он его слушал. Когда Мария прибирала комнаты, он ходил следом за ней, натыкаясь на мебель, и не переставал говорить. Или торчал на кухне, когда Валентина Кирилловна готовила свой знаменитый плов, и, внезапно прерывая поток речей о живописи или грузинском правописании, давал ей ценные кулинарные советы.
Изредка Валентина Кирилловна и Мария силой вталкивали Чернявского ко мне в комнату и запирали за ним дверь на ключ. Это Чернявского не смущало, и он с полным самозабвением обрушивался на меня.
Вообще же он был очень незлобивым и беспомощным человеком. Его обманывали и обижали на каждом шагу. В этих случаях его единственными защитниками были Зданевичи.
И вместе с тем он принадлежал к тем чудакам, которые не только украшают, как принято думать, жизнь, а дают ей, кроме того, прочную основу. Стоило Коле не прийти два-три дня, как вся жизнь в квартире разлаживалась, шла кое-как, и все начинали скучать.
Много разных людей бывало у Зданевичей. Они заходили, кстати, и ко мне, – и добродушный старый армянский поэт Кара-Дервиш, выпустивший полное собрание своих стихов на двенадцати почтовых открытках, и рыцарски-доброжелательный и мудрый поэт Тициан Табидзе, и художник Терентьев, сделавший первую попытку вынести театр на городские площади, и Василий Каменский, и Чачиков (он тоже переехал из Батума в Тифлис), и режиссер Шенгелая.
Дом с утра до вечера гудел от разговоров. Единственным местом, где можно было отдохнуть, оставалась моя комната. Чаще всего ко мне приходила Валентина Кирилловна, потом начала приходить Мария.
– Я вам не помешала, не-ет? – пела она за дверью, и глаза ее смеялись.
Она сидела тихо, притаившись, нисколько меня не стесняясь, шила или читала, склонив голову так низко, что волосы падали ей на глаза, и вдруг спрашивала меня что-нибудь совершенно неожиданное, например, что значит высокий подъем у ноги и чем он измеряется, читал ли я книгу Катюля Мендеса «Король-девственник» и правда ли, что Пушкин написал об известной испанской танцовщице Лале Рук изумительные стихи:
И в зал, как лилия крылатая, Колеблясь, входит Лала Рук…Уходила Мария всегда как бы испугавшись. Однажды она принесла мне большую папку с рисунками…
– Это ваши? – спросил я.
– Нет, что вы! Это рисунки одного необыкновенно талантливого, даже, может быть, гениального художника. Увидите сами.
Она ушла, а я начал рассматривать рисунки, сделанные где попало: то на картоне, то на папиросной бумаге, то на листках, вырванных из ученической тетради, то на обороте книжного переплета.
Первой моей мыслью было, что Мария принесла мне рисунки Делакруа. Но нет! Они были так же выразительны, но, пожалуй, более разнообразны по содержанию.
Рисунки были сделаны карандашом, углем, сангиной и акварельными красками.
Я искал подпись автора, но неизвестный художник, видно, не любил оставлять свою фамилию на рисунках. Лишь кое-где он написал свое имя «Зига». Зига – значит Сигизмунд. Мария была полька. Я догадывался, что рисунки принадлежат кому-то из ее близких людей.
Вскоре все выяснилось. Я узнал о существовании замечательного художника Зиги, или Сигизмунда Валишевского. Он был старшим братом Марии. При меньшевиках он уехал из Грузии в Польшу, потом недолго жил в Париже и вернулся в Краков.
Там он стал главой молодых художников.
Он любил только живопись, знал только живопись, рассматривал все жизненные события как художник и верил, что только искусство способно преобразить и украсить мир.
Он был художником-рыцарем, подвижником и неумолимо требовательным к себе и к другим, зрелым и ясным мастером.
Он был скромен, прост, добр к людям и жестоко изуродован.
Из-за какой-то тяжелой болезни кровеносных сосудов ему ампутировали обе ноги. Остаток жизни он провел мучительно, лишенный возможности двигаться, но не потерял спокойствия.
Умер Валишевский как подлинный художник. Он расписывал фресками потолки в Вавельском замке в Кракове. Для этого его подымали на лебедке под высокие своды зала, и он писал весь день, лежа на спине.
В конце концов, его утомленное сердце не выдержало такого напряжения, разорвалось, и он умер, не выпустив кисти из рук.
Он стал любовью молодой художественной Польши. Он никогда не пытался загнать красоту в свой собственный угол, в свою теоретическую сеть.
Он находил ее, приветствовал и склонялся перед ней всюду, где она существовала.
Широта его художественных взглядов была необычайна. Даже самые нетерпимые, воинствующие и крикливые футуристы и апологеты других столь же шумных живописных течений безропотно склонялись перед его талантом и его чистотой.
Я видел много работ Валишевского. Это было сильно выражено и выполнено (другого определения я не нахожу) волшебной кистью и волшебным карандашом.
Ясность и животворная сила его рисунка, как бы мимоходом брошенного мазка, то удивительное свойство, когда незаконченная линия заканчивается нами, зрителями, с полной четкостью, сияние каких-то радостных небес – не обязательно синих, – падавшее на его картоны и полотна, скульптурность лиц, характеры, переданные скупым жестом или позой, портреты, где мужественный гротеск был правдивее, чем сам оригинал, мягкость тканей, волос, освещения, движущейся листвы и праздничные глаза, приблизившиеся почти вплотную к твоим зрачкам, вдруг возникающая на одно мгновение стремительная зарисовка эпохи от карнавалов Венеции до шествия сазандари с бубнами к Метехскому замку – все это ошеломляло и казалось тем удивительнее, что тут же рядом, с автопортрета смотрел на вас худой, высокий и юный человек, почти мальчик, с серыми застенчивыми глазами.
Он любил Делакруа и, должно быть, работая, всегда беседовал с глазу на глаз с этим одновременно и трезвым и романтически настроенным человеком.
Он любил и понимал краску и ее жизнь на полотне не хуже Делакруа и Ван-Гога. Но вместе с тем он покорил своим великолепным реализмом всех, кто видел серию его карандашных портретов всех без исключения солдат и офицеров Первого кавказского стрелкового полка.
Во время первой мировой войны Валишевский был призван в армию и служил солдатом в этом полку на Рижском фронте. Во время зимнего затишья где-то около Двинска Валишевский, почти шутя, нарисовал действительно потрясающую серию портретов своих однополчан – от кашевара до пулеметчика и от мухортых запасных солдат-крестоносцев до офицеров всех возрастов и характеров.
Я видел только несколько уцелевших портретов. Что сказать? Это была огромная, смелая, виртуозная работа щедрого мастера.
Валишевский почти все эти портреты раздарил. Если бы они были собраны в одном месте, то, мне думается, могли бы затмить своей естественностью и простотой знаменитую галерею героев 12-го года в Эрмитаже. Там было представлено блестящее общество военных аристократов, здесь были простые русские солдаты, толстовские крестьяне из «Севастопольских рассказов» во всей детской простоте их национального характера.
Потом уже, в Польше, где Валишевский испытал трудный путь головокружительного успеха, он вопреки многим даже сильным волей людям остался верен своей скромности и неприязни к политической игре, к попыткам использовать искусство для целей властвования и шовинизма.
Он резко отстранил от себя дельцов, пытавшихся создать вокруг него националистический ореол великого, но только польского живописца.
Он думал, что живопись принадлежит всему миру и содружество истинных художников – более значительная связь между людьми, нежели общие национальные интересы.
Одно только упоминание имени Зиги в семье Зданевичей прекращало все споры, все распри и возвращало людям душевное равновесие.
– Зига – святой человек, – говаривала Валентина Кирилловна. – Он остался у нас заложником от времен Петрарки и Боттичелли.
Говорила она это просто, без тени аффектации. В ее слова можно было поверить, может быть, потому, что красочный мир Зиги был так же ясен, как «Примавера» Боттичелли.
Есть проблески сознания, удачные сравнения и удачные соединения как будто бы противоположных мыслей, которые нельзя объяснить, да и не надо объяснять: сердце понимает их, опережая разум.
Еще одна весна
Ко мне почти каждый день приходил Фраерман. Мы оба работали в газетах: он в «Заре Востока», а я в маленькой железнодорожной газете с нескладным названием «Гудок Закавказья».
Изредка вместе с Фраерманом заходила Соня и, разглядывая клеенки Пиросмана, говорила:
– Эти штуки не для нас, не для работниц иглы. Но я чувствую в них человеческое горе и красоту, и поэтому, товарищ Паустовский, не отрицаю и такое искусство. В этом мы сходимся с вами, хотя вы интеллигент и меня просто тошнит от вашей вежливости.
Соня в прошлом была портнихой и потому упорно называла себя «работницей иглы».
Фраерманы меня к себе не могли позвать потому, что жили в проходной комнате у каких-то горских евреев. Соня называла их «грубиянами» и «быками». Несмотря на свои свободные взгляды, она считала их ренегатами за то, что они носили черкески, фальшивые кинжалы, ездили верхом, торговали буйволовыми шкурами и наполовину забыли еврейский язык.
Фраерман быстро подружился с Марией.
Однажды вечером мы сидели в моей комнате – Валентина Кирилловна, Мария, Фраерман, Колау Чернявский и я. Сидели мы, не зажигая огня. Почему-то казалось, что от электрических лампочек делается душно.
В легкой темноте тифлисского раннего вечера по комнате бродили, переплетаясь, струи прохлады и тепла от нагретых снаружи кирпичей.
В соседнем доме сентиментальный юноша в косоворотке пел все тот же романс: «Белых лилий Идумеи белый венчик цвел кругом».
– Где эта Идумея? – спросила Мария.
– В Иудее, – ответил Фраерман. – На моей так называемой потерянной родине. Вы знаете стихи: «И сказал проводник: «Господин, я еврей и, быть может, потомок царей. Посмотри на цветы по сионским стенам, это все, что осталося нам».
– Нет, не имею чести знать, – ответил Коля Чернявский, – и даже не очень стремлюсь узнать, кто их написал.
– Это не важно, – ответил Фраерман. – Интересно совсем другое.
– Что другое? – спросила Мария.
– А то, что в Тифлисе уже началась весна. Но никто ее еще не замечает.
– Пойдемте завтра в горы, – предложила Мария. Все согласились, кроме Валентины Кирилловны. Она заметила, что завтра, оказывается, пасха.
– Очень ранняя пасха в этом году! – добавила она и вздохнула.
Валентина Кирилловна ушла, а мы почти весь вечер промолчали. Мне казалось, что между Марией и мной идет какая-то неслышная, неясная, как дрожь листвы на ночных деревьях, беседа, какой-то разговор сквозь сон.
Так началась весна в Тифлисе – безмолвная, просвеченная всеми отблесками солнца, завороженная весна, такая же, какими кажутся нам все весны в мире.
На следующее утро мы втроем – Мария, Фраерман и я – пошли за город по дороге на Коджоры.
Мы шли очень медленно, и так же медленно раздвигался перед нами амфитеатр гор, и горизонт открывал одну туманную даль за другой.
За этими недостижимыми горизонтами высоко в небе, начисто оторвавшись от земли, висели, как облака, нагромождения снежных вершин. Между ними и землей лежал слой лиловатого воздуха.
Внезапно я испытал огромную радость, даже гордость от сознания, что я попал, наконец, в отдаленный южный край, что все здесь необыкновенно, что эти горы вздымаются на перепутье между двумя морями – Черным и Каспийским – и что снова наши жизни сошлись на клочке этой кремнистой дороги, далекой от наших родных мест, что мы стоим на земле, многократно воспетой Лермонтовым и Пушкиным, Нико Пиросманишвили и Сарьяном.
Почему-то именно здесь, высоко над Тифлисом, на обочине дороги, где цвели анемоны, я почувствовал свою родственность всему интересному на земле.
Я подумал о том, что мне, кажется, повезло в жизни. Может быть, главным образом потому, что я не требовал от нее многого. Конечно, я ждал этого многого и стремился к нему, но мог довольствоваться и малым. Может быть, это свойство больше всего и обогатило меня? Кто знает!
С этого дня Мария стала моим проводником по Тифлису. Все время я испытывал удивительное, как бы двойное чувство жизни. Иначе говоря, жизнь была хороша сама по себе и вместе с тем вдвойне хороша потому, что эту жизнь целомудренно и молча разделяла со мной молодая женщина.
Все в Тифлисе приобрело для меня цену и значение. Часто у меня появлялось странное чувство, что весь этот жаркий город и весь этот шумный азиатский люд только декорация для немногословной и грустной пьесы, в которой участвуют всего только два действующих лица – Мария и я.
Мы ходили всюду, мы видели многое, и единственно, на что нам всегда хватало денег – это ледяная газированная вода. Мы пили ее из запотевших стаканов, облепленных осами. Вода казалась мне серебряной, а губы у Марии блестели от этой воды на солнце, как сок граната. Ее душистое дыхание вдруг доходило до моей щеки или до глаз. И я верил в это короткое мгновение, что счастье должно служить и нам и всем людям, как верная раба.
Мы ни слова не сказали о любви. Между нами все время лежала тонкая и непрочная нить, перейти которую никто из нас не решался.
Тогда же у меня родилось решение уехать из Тифлиса в Москву. Я уверял себя, что я как-нибудь перенесу горечь этой разлуки, но останусь в памяти Марии проданным и чистым.
Кроме того, я успокаивал себя тем, что страшно соскучился по России, по Москве, по любой речонке, где растут кувшинки, по шуму осинового мелколесья.
Все сразу переменилось в жизни. Валентина Кирилловна все чаще заговаривала со мной о маме и Гале, о Москве, спрашивала, что я думаю делать дальше, «ведь нельзя же в такое время бесплодно сидеть в этом провинциальном Тифлисе».
Я понимал, что она все видит, все знает и беспокоится.
Какая-то хмурость вошла в дом. Даже обычный распорядок жизни был нарушен. Жизнью завладела тревога.
И я решил бежать, главным образом потому, что по всему своему житейскому опыту знал, что не имею права безраздельно себе доверять. Я жил среди перемен, как в родной своей стихии, избегая всего, что могло бы остановить и образумить меня. Должно быть, прав был мой отец, когда, умирая, сказал мне свистящим шепотом:
– Боюсь… погубит тебя… бесхарактерность…
Я понимал, что, по существу говоря, я всю жизнь плыл по течению. Но, как это ни казалось странным мне самому, течение несло меня именно туда, куда я хотел. Но все же я казнил себя за это свойство.
Я быстро уставал от таких размышлений, старался поскорее забыть их и возвратиться к чисто внешней и разнообразной жизни.
Так я и жил последние дни в Тифлисе. Я никому, даже Марии, не говорил, что это – последние дни, хотя знал это. Не говорил потому, что глупо надеялся на судьбу: а вдруг она повернет рукоятку, и сами по себе рухнут все преграды.
Мы исходили вместе весь город, его сады – Ботанический и Муштаид, майданы, окраинный Авлабар за Метехским замком, Сионский и Амчисхатский соборы, берега Куры и знаменитые престарелые духаны (они тогда еще действовали) «Симпатия», «Сюр Кура» и «Тили пучури», что означает «Маленькая вошь».
На майдане толпы кинто, торговцев и извозчиков, составив тесный круг, гоняли по середине этого круга дикого кабанчика. Он визжал и носился с неслыханной скоростью, пытаясь прорваться наружу. Специалисты определяли скорость кабанчика по секундомеру. Шла азартная игра.
Посетители духанов, высунувшись из окон, гоготали, нагоняли ставки и пели разливанные и беспорядочные песни.
Ишаки, мирно развесив уши, брали у Марии с ладони свежую морковку. Из их замшевых ноздрей вырывался теплый ветер.
Медники устраивали такой перезвон, что начинала болеть голова. Мы старались поскорее миновать их ряды, засыпанные блестящими обрезками жести, меди и цинка.
Тяжелыми гроздьями висели над головой прохожих чувяки. Пахло кожей, вином, уксусом и соком алычи. Из свечных лавок – благостно медом и воском. Около Сионского собора старухи, высохшие, как корешки, продавали бессмертники. За трамваями, кривляясь и приплясывая, бежали и били в бубны цыганята. Муши тащили на спинах, покрикивая на прохожих, пахучие тюки табака. Цветочницы в одно мгновение составляли букеты по самому прихотливому вкусу. В духане «Симпатия» на стенах были нарисованы портреты великих людей мира – Льва Толстого, Эдисона, Чарльза Дарвина, Пушкина и Наполеона, но все они были жгучими грузинами в черкесках с газырями, с огромными кинжалами на боку.
Мы ходили в тенистый сад Муштаид, где цветы пахли сырой землей, и в Ботанический сад, где шумел горный поток, сидели на ступеньках древнего, как самые века» Амчисхатского собора, слушали рокот Куры, звон бубенцов на шее у лошадей и молчали.
Все было сказано без слов. И тоска – острая и неистребимая – завладевала сердцем все сильнее.
В разгар этой тоски пришло призрачное избавление от нее: редакция «Гудка Закавказья» послала меня в длительную поездку по Азербайджану и Армении. Я ехал в специальном поезде с комиссией инженеров. Они должны были обследовать состояние закавказских железных дорог.
Мгла тысячелетий
В зеленых теснинах Помбакского ущелья по пути из Тифлиса в Эривань поезд брал предельные подъемы и закругления. Он скрипел всеми заклепками, рессорами и буферами и медленно, так медленно, что это было почти незаметно для глаза, проползал по узким головокружительным мостам.
Все на этой железной дороге было построено на последнем пределе. Поезд шел двойной тягой, с толкачом.
Весьма солидные и изысканно-вежливые старые инженеры, ехавшие в поезде, рассказывали мне и старому армянину-доктору, случайно попавшему, так же как и я, в их высокотехническое общество, что после постройки этой дороги инженер – ее строитель – был признан душевнобольным и посажен в сумасшедший дом. А дорога между тем исправно работала, хотя и наводила ужас на пассажиров.
Я никогда еще не ездил с таким комфортом, как в том служебном поезде.
У меня было отдельное купе. Я все время сидел на столике у окна, и поезд проносил меня над ущельями, где листва была навалена горами и, нагретая солнцем, издавала скипидарный запах.
В разрывах гор открывались облитые росой кудрявые долины. Их было множество, и, должно быть, ни одна географическая карта не могла вместить все эти долины даже на самом большом своем листе.
В этих долинах жили, как мне казалось, очень счастливые и патриархальные люди. Они сидели, покуривая, у порога своих домов. Загорелые женщины несли в медных кувшинах свежую воду. Широкие брови оттеняли блеск их зрачков.
Я был уверен, что эти люди счастливы окружающим. Но на беглый взгляд никаких примет этого счастья нельзя было заметить. Нужно было превратиться в слух, в зрение, и тогда становился слышен струнный гул пчел, сопровождавший постукивание вагонных колес, свист суетливых птиц, были видны быстрое полыханье света в травах и стеклянная игра горной воды в потоках, все время пересекавших полотно железной дороги.
Я висел в окне, смотрел и думал. Думал о Марии, и мне уже представлялось, что всем этим пиршеством света, растений и гор я обязан ей. Как будто она привела меня за руку в эти места и смеялась, радуясь моему изумлению.
Я даже не знал, как называлась эта часть Грузии. Может быть, это была уже не Грузия, а Армения? Кто знает?
Я думал о Марии с нежностью и благодарностью, как будто она действительно сама создала этот Кавказ и легко, не задумываясь, подарила его мне.
И чем больше я так думал о ней, тем бесплотнее становилась в моих воспоминаниях Мария, тем туманнее звучал ее голос.
А поезд все дальше уносил меня от Тифлиса. Леса сменились зарослями кустарника и каменистыми осыпями.
Вдруг среди этих кустарников я увидел зрелище, показавшееся мне фантастическим: большую палатку, флагшток и на нем – норвежский флаг. Около палатки были привязаны к деревьям лошади и ходили, о чем-то весело перекрикиваясь, загорелые люди в клетчатых рубахах и серых фетровых шляпах.
Все это напоминало привал героев Майн Рида или Фенимора Купера. Я даже вскрикнул от удивления и бросился в соседние купе к старому доктору-армянину.
– Спокойно! – сказал доктор, раскуривая толстую крепчайшую папиросу. – Это один из отрядов продовольственной миссии Нансена. Это совсем не ковбои и не охотники за черепами, а счетоводы и доктора. Разве вы не знали, что Нансен работает в Армении?
Я знал это, но не мог себе представить, что «в натуре» это выглядит так экзотично.
Ночью поезд поднялся на плоскогорье, и стало холодно. А утром я вскочил, когда первый квадрат солнечного света пополз крадучись из угла в угол купе.
Я бросился к окну и замер. Легкие мурашки побежали у меня по спине. Первым моим побуждением было разбудить всех моих спутников.
Но все еще спали. Сонная тишина вагона прерывалась только легким храпом вежливых стариков.
Я метнулся от одного окна к другому, к третьему, потом изо всей силы схватился за ремень, рванул раму и опустил ее. Вместе с холодным воздухом ворвалась в вагон резкость очертаний и чистота красок, – там, снаружи, в древнейшем и девственном небе вздымалась к самому зениту, закрывая весь край земли и половину неба, двугорбая снеговая гора. Это был Арарат. Снега его казались поднятыми вплотную к солнцу. Блеск их наполнял воздух светящейся мглой.
Арарат! Я никак не мог поверить в то, что вижу его воочию. Все мифы древности, все сказки далеких веков были воплощены в этой исполинской горе. Земли, что простирались у ее могучего подножия, не были даже видны: их закрывала толща воздуха. Вершина горы стояла над миром, проступая сквозь мглу.
Я смотрел на Арарат не отрываясь. Я не хотел ни пить, ни есть. Я боялся, что, пока я буду этим заниматься, Арарат уйдет, исчезнет, станет невидимым.
Старый доктор неодобрительно качал головой и что-то говорил о моей излишней, даже опасной для здоровья впечатлительности. Но что он мог понимать, этот старик с галстуком бабочкой!
Тысячелетия прикасались к моим глазам. Я дышал воздухом, нагретым камнями, в изобилии усыпавшими Армению. Камни получали этот жар от огромного солнца, резавшего здесь небесную синеву с уверенностью и силой.
Ему, этому солнцу, молились наши предки, чтобы оно не испепелило их землю, их кожу, их волосы. Реки света лились на землю, и сквозь их блеск доносилось гневное ржание коней и оскорбленный плач ослов.
Здесь был узел религий, преданий, легенд, истории, не отделимой от поэзии, и поэзии, закаленной в пламени истории.
В таком состоянии полусна и полубреда я приехал в Эривань. Еще не видев города, я уже принял его всем существом. Если бы во всей Эривани росла на улице или на кaком-нибудь пустыре одна-единственная засохшая травинка, то и этого было бы для меня достаточно, чтобы почувствовать баснословность этих мест, их живую древность и силу.
В те годы в Армении только что начали разрабатывать легкий и пористый камень – артикский туф, окрашенный в мягкие краски: сиреневую, розовую, синеватую, терракотовую, желтую, черную.
Из туфа в первые же месяцы Советской власти были построены в Эривани нарядные дома.
Я проходил около этих пока еще пустых зданий и слышал, как внутри, в стенах из туфа, негромко перекликалось эхо.
Весь день в Эривани я провел совершенно один. Только к вечеру я вернулся на поезд. Мне нравилось мое одиночество в этой незнакомой стране, в выжженном, полупустом городе.
Нравилось тем, что никто меня ни о чем не расспрашивал, что я мог думать о Марии и часто смотреть на север – туда, где уже клубилась ночная мгла, затягивая дороги к Тифлису.
Ночью поезд тронулся дальше на юг, к Джульфе.
Днем мы прошли знаменитое раскаленное Змеиное ущелье, где на рельсах лежало, греясь, много змей и поезда иной раз из-за этого буксовали.
Старый доктор утверждал, что змеи могут заползти в вагон через какое-нибудь отверстие. Он так напугал проводника, что тот ходил по вагону с маленьким железным ломом и несколько раз без надобности спускал воздух в тормозах, боясь, как бы змеи не залезли в тормозное устройство.
Я видел несколько змей, перерезанных колесами и еще извивающихся. Проводник подсчитывал убитых змей и радовался.
Второй день я не отходил от окна. Мне было грустно, но я был счастлив.
Земля была обработана лишь кое-где. В пустых каменистых полях я видел армянских крестьян, больше похожих на партизан или повстанцев: почти у каждого висела за спиной винтовка. То был давний обычай работать вооруженными из-за курдов.
До 1923 года, когда происходило все описанное в этой книге, курды делали опустошительные набеги на наши пограничные с Турцией и Персией земли два раза в год: осенью, чтобы обеспечить себя награбленным на зиму, и весной, чтобы прокормиться летом. Весенний набег считался легким и не таким опустошительным, как осенний.
Курды чаще всего переплывали пограничную реку Араке на своих поджарых лошадях. Поэтому в излюбленных местах курдской переправы стояли наши заставы, а на площадках вагонов размещалась охрана.
Но мы курдов не видели. Видели только жаркую и быструю реку Араке с розовой мутной водой. Вода была окрашена в цвет окрестных гор.
Александр Македонский построил во время похода на Индию дорогу через Армению и мосты на Араксе. У одного из этих мостов мы вышли из вагона.
В знойной тишине звенели, как маленькие дрожащие струны, пустынные жаворонки.
В трещинах исполинских плит, которыми была вымощена дорога, желтела щетка выгоревшей травы и бегали большие ящерицы песчаного цвета.
Мост был в свое время перекинут гигантским прыжком с одного берега реки на другой. Середина моста, то место, где был так называемый «замок», обвалилась.
Старые вежливые инженеры долго смотрели на мост, отковыривали окаменевшую глину между его затесанными камнями, искали следы деревянных подпорок, но ничего не нашли.
– Непостижимо! – говорили они и качали головами. – Даже наш Бебелюбский не построил бы такой мост. Строительное чудо! Шедевр!
Десятки ящериц смотрели во все глаза на редких посетителей и тяжело, взволнованно дышали. Ветер носил по мосту, то вперед, то назад, шершавую пыль – горячую пыль земли Фарсистанской.
Горы туманились от зноя. На персидском берегу на крыше низкого глинобитного дома стояли голые персидские дети, и солнце блестело на их коричневых животах, как на маленьких медных котлах.
– Непостижимо! – вздыхали инженеры. – Сверхъестественно!
Пока инженеры восхищались, я сел на обтесанный камень у входа на мост. Камень изображал бесстрастную морду льва. Глаза у льва были желтые от лишаев. Это придавало льву совершенно живой вид.
Я хотел выкупаться в Араксе, но на меня закричали и старый доктор, и инженеры, и даже проводник. Во-первых, в воде Аракса водится какой-то червь, тонкий, как волос; во-вторых, от воды Аракса можно заболеть проказой и, в-третьих, персидские пограничники – аскеры (они жили, очевидно, в том доме, где сияли начищенными животами их дети) – могут открыть по мне огонь.
В самом слове «проказа» было для меня что-то древнее. Слово это как будто поблескивало тусклой слюдой, как здешние горячие камешки.
Я не стал купаться, но все же опустил в тепловатую воду свои руки. Когда они высохли, то на них оказался тончайший, как пудра, слой коричневой пыли.
Днём поезд остановился в ущелье с крутыми откосами.
– Ну, – сказал мне старый доктор, – тут вы будете отдуваться и за себя и за меня. Там вверху, – он показал прямо в небо, – стоит на отвесной скале собор, но добраться до него можно только по лестнице. Она вырублена внутри скалы, в пещере. Боюсь, что, кроме вас, проводника и инженера Баркина – самого любопытного человека в Грузии, – никто не решится лезть по этой лестнице. Да еще в такую жару.
Старик оказался прав. Полезло нас всего трое.
Вход в пещеру зарос колючими кустами. Мы продрались сквозь них и при свете электрического фонарика нашли первые ступени лестницы, уходившей вверх в темноту.
Ступени были крутые и стертые. Но душно не было, – нам в спину все время дул, как в трубе, холодноватый ветер.
Вскоре вверху появился просвет, и мы, изнемогая и чертыхаясь, добрались до верхнего отверстия этого подземного хода и вылезли в алтаре собора, залитом потоками солнца.
В этом резком, как бы мертвом солнце летали под куполом собора ласточки. Фрески на стенах, будто сделанные только вчера, отблескивали золотыми венчиками святых и бирюзой и пурпуром их евангельских одежд.
Мы вышли в крошечный двор при соборе. Собор стоял на вершине отвесной скалы. Простым глазом были видны струйки горячего воздуха, летевшие около нас к небу и окружавшие собор зыбкой, дрожащей стеной.
Безмолвие лежало окрест. Воздух был так чист, что ничто не могло нарушить это безмолвие. Никакой звук не мог пробить эту толщу зноя, и можно было только с завистью представлять себе, как где-то, за двести километров отсюда, набегает на берега прохладная черноморская вода.
В соборе мы не нашли ни капли воды. Что пили обитатели этой неприступной крепости, понять было нельзя.
Мне повезло. В алтаре на окне лежала покрытая крепкой пылью маленькая книга. Я взял ее. Вернее, я осторожно отодрал ее от мраморного подоконника и открыл.
Пересохшие страницы затрещали. И я увидел латинский текст молитв и высохший цветок незабудки.
Я взял молитвенник. Мне захотелось подарить его Марии.
В ограде собора валялось среди жестких колючек много тонких мраморных плит с узорчатой резьбой.
Я подобрал одну разбитую плиту из розового мрамора. На ней была вычеканена виноградная кисть, голова единорога и сложная вязь армянских слов. Когда солнце падало на эту плиту, она просвечивала нежной кровью, как просвечивает на свет детская ладонь.
Я взял эту плиту. Мы с проводником дотащили ее до моего купе. Я хотел тоже подарить ее Марии. Если бы можно, я подарил бы ей весь этот собор, где столетиями не было слышно человеческого голоса, а сейчас ласточки сердито щебетали вокруг нас, требуя, чтобы мы поскорее ушли.
Я смутно помню Нахичевань в пыльных тутовых деревьях – город, такой удаленный от России, что трудно было даже представить себе, что на свете существует Москва.
Помню Джульфу, где за железнодорожным мостом была уже Персия, а посередине моста, где кончалась наша территория, сидели босые персидские солдаты и торговали воблой и табаком.
На обратном пути поезд шел медленно, подолгу стоял на каждой станции. Инженеры ко всему придирались, все проверяли, вгрызались во все мелочи станционной жизни.
Старый доктор спал, а я, изнывая от духоты и зноя, целыми днями сидел в станционных садиках в сомнительной тени от старого тутового дерева, читал единственную книгу, отобранную у старого доктора, – «Распознавание и способы лечения тропических болезней» – и время от времени дремал.
Изредка на станцию лениво втягивался товарный поезд, и тогда становилось вдвое жарче от раскаленного паровоза и лившегося из тендера маслянистого кипятка.
Я сидел на станциях почти до вечера и удивлялся собственному терпению. Но двигаться было почти невозможно.
Цинковый бак на платформе с остатками теплой воды протекал, и к лужице около бака все время бегали, чтобы напиться, маленькие ящерицы.
Я с тоской читал на товарных вагонах надписи: «Осмотрен в депо станции Тверь» или «Осмотрен в депо станции Владимир».
Там, в Твери и Владимире, в запущенных городских садах, может быть, сейчас идет даже дождь, настоящий спокойный дождь, и ему никто не мешает шуметь, стучать по листьям, увлажнять рыхлые клумбы с петунией и сбегать ленивыми ручейками в реку Клязьму, что издавна славилась своей прозрачной водой.
Иногда я всматривался в пологие горы на горизонте. У них не было, должно быть, имен. Да и следует ли давать имена бесконечным горбам сухой, слежавшейся из щебенки и глины земли? Каким нужно быть доверчивым мечтателем, чтобы, как Александр Македонский, идти в эти безрадостные пустыни с полной уверенностью, что за мертвым маревом текут огромные реки – Инд и Ганг и еще десятки других рек и несут бездонную и темную воду в океан среди лилий, лотосов и храмов, причудливых, как постройки термитов.
Иногда над горами проносился вихрь, и вершины начинали куриться столбами красной пыли.
Потом поезд начал подыматься из сожженной котловины на плоскогорье (или «плато», как говорили инженеры), где уже задувал ветер и по ночам было холодно.
Дорога шла вдоль берега реки Арпачай.
Однажды в конце дня поезд остановился у самой реки. Мы увидели на том берегу базилики, черепичные армянские купола и полное безлюдье. То были руины древней армянской столицы – города Ани, одного из подлинных чудес света.
Инженеры вызвали с турецкого берега начальника пограничного кордона – турецкого офицера.
Он небрежно, рисуясь, прошел к нам по висячему мосту, похлопывая стеком по лакированным крагам… За ним шли солдаты, похожие на дервишей или прокаженных, – только какие-то медные бляшки на плечах свидетельствовали об их воинском звании:
Офицер разрешил нам осмотреть Ани, но только до захода солнца. Это его решение вызвало радостное возбуждение среди солдат. Запахло «бакшишем» – чаевыми.
Я смело пошел вслед за офицером по висячему мосту на турецкий берег. Около каждого из нас шел позади аскер, изредка придерживая нас за локоть или останавливая раскачавшиеся веревочные поручни.
Мост был связан из узких планок. Расстояния между ними вполне хватало, чтобы провалиться в Арпачай при первом же неудачном шаге.
Мост дрожал, перекашивался, ложился набок и с каждым шагом раскачивался все сильнее, как качели, грозя просто вышвырнуть нас всех в воду. А до воды было метров двадцать.
Я дошел до половины и остановился, – мост ударил меня снизу по пяткам и швырнул в сторону,
Солдат схватил меня и закричал. Тотчас же остальные солдаты начали исполнять на мосту какой-то сложный танец, чтобы остановить размахи моста. При этом солдаты, красные от напряжения, с дико вытаращенными глазами, кричали так зверски, как во время атаки.
Твердая земля на берегу показалась мне великолепнейшим прибежищем от всех бед, в особенности от землетрясения.
В Ани в маленькой казарме жили солдаты, а в городе – всего несколько пастухов. Они пасли овец среди развалин и ночевали в любой из базилик по выбору.
Что такое Ани? Есть, конечно, вещи, которые мы не в силах передать, как бы ни старались. Как передать такое безмолвие, что издалека слышен сыплющийся шорох овечьих копыт и стук созревших семян в коробочках давно высохших цветов, как в детских погремушках?
Как передать тени от ласточкиных крыльев на плитах папертей, заросших обыкновенным одуванчиком?
Среди безлюдья, ветра, тишины живут только травы, фрески и небо, похожее на фрески.
Облака стоят, как выписанные знаменитым итальянским мастером, и между облаков иногда падает на землю тот знаменитый косой и единственный солнечный луч, который любил изображать Доре.
Этот луч еще с раннего детства стал принадлежностью картин из Ветхого завета. Увидев его над выжженными площадями Ани, я сразу же понял, что попал в места такие древние, как сама земля.
Солнце садилось. Нам надо было возвращаться. С каким бы наслаждением я переночевал в этих развалинах, вглядываясь в круговращение звезд и даже завидуя самому себе.
Что я расскажу об этом Марии? О созвездии Пса – путеводном созвездии для паломников, идущих ко гробу пророка. Вот оно – низкое, огнистое, горящее над множеством пространств этой скупой и милой земли.
Может быть, его видно из окна той комнаты, где спала Мария. Но для этого нужно, чтобы ветер откинул занавеску, чтобы Мария что-то быстро сказала во сне, на мгновение открыла глаза и свет звезды вошел бы в ее зрачки как напоминание.
Обратно идти через висячий мост было уже не так страшно. Помогала темнота.
Кричали турки, где-то зарыдал, прощаясь с нами, ишак, и запах полыни показался мне самым прекрасным запахом в мире. Это был запах скитаний и горечи. Так я подумал тогда и тут же обозвал себя хлипким символистом.
Все это выдумки!
Поезд шел Помбакским ущельем всю ночь. Ущелье казалось нагромождением плотной темноты. Но время от времени эта темнота просвечивалась десятками огней, становилась легкой, невесомой, и свет фонарей освещал с изнанки сотни листьев самых разных форм.
Я не спал. Я окончательно решил остаться в Тифлисе. Мне казалось невозможным жить вдалеке от Марии. Я был готов на все, – пусть она ни разу не взглянет на меня, но, может быть, я вдруг услышу утром, днем или вечером ее отдаленный голос. Пусть одно и то же небо простирается над нами, и вот это облако, похожее на голову рыцаря в забрале, будет одинаково видно и ей и мне.
В Тифлис поезд пришел среди дня, в самое тяжелое время; когда жара превращает в серый цвет все краски и грязнит воздух.
Я очень волновался, когда ехал на извозчике к Зданевичам. У меня в ногах на пролетке лежала мраморная плита неслыханной красоты.
Переулок, где жили Зданевичи, был пуст, расплавлен солнцем. Окна в их квартире были закрыты. Когда я позвонил у дверей, мне долго не открывали. Это почему-то испугало меня. Извозчик втащил на площадку мраморную плиту, сказал: «Кому привез этот памятник? Бабушке или дедушке? Дорогой подарок, кацо!»
Я позвонил снова. Из-за двери Валентина Кирилловна спросила:
– Кто?
Я назвал себя.
– А я вас сегодня не ждала, – сказала она, открывая дверь.
В темной передней мутно горела электрическая лампочка, и в ее свете смотрел на меня со стены встревоженный, испуганный жираф, будто хотел предупредить меня о какой-то беде. Во всех комнатах было темно.
Валентина Кирилловна меня сегодня не ждала. Это я понимал прекрасно. Но где Мария? Ждала ли она меня сегодня? Почему в квартире темно и никого нет?
– Что случилось? – спросил я.
– Ничего не случилось, – ответила Валентина Кирилловна, и мне показалось, что она усмехнулась. – Просто никого нет дома. Мария уехала на два месяца в Бержом. Врачи предписали ей лечение в Боржоме. А что это за надгробный памятник?
– Это прекрасная вещь, – ответил я. – Ей пятьсот лет, не меньше.
– Пусть извозчик отнесет ее на террасу, а то тут все будут об нее спотыкаться, – сказала Валентина Кирилловна и, повернувшись, пошла к себе. На пороге ода обернулась и сказала: – Тем более что это все – ваши выдумки…
Я вошел в свою комнату и почувствовал, что, пока меня не было в Тифлисе, комната умерла.
Я осмотрел стол. Я был почему-то уверен, что увижу на нем хотя бы самую маленькую записку от Марии, Но записки не было.
За окном знакомый медоточивый тенор запел о лилиях Идумеи. Я взглянул на часы. Была половина первого – самый слепой и знойный перевал дня.
– Идиот! – громко сказал я о медоточивом певце.
Мне захотелось заплакать, но я сдержался из последних сил. Потом эти невыплаканные слезы легли на меня такой тяжестью, будто вся гора Давида навалилась мне на грудь и дает дышать только в одну сотую дыхания.
Я вышел. Зной обливал меня, как горячий чай. Но я от него не прятался и шел по солнечной стороне улицы. Я прошел по Верийскому дрожащему мосту над Курой, зашел в «Гудок», сказал, что завтра уезжаю на север, попросил меня ни о чем не расспрашивать и вышел. Я пошел в сад Муштаид и долго сидел в тени, на скамейке, потом сел прямо на землю, – она была холодная в тени.
Я набирал эту холодную землю в ладонь и прикладывал ко лбу.
Мне хотелось стонать от резкой до боли, совершенно ясной мысли, которая до этого дня еще никогда не приходила мне в голову, стонать от сознания своего полного, невыдуманного, а действительного и потому отвратительного одиночества, от сознания, что я не нужен никому: ни Марии, ни так называемым друзьям, ни самому себе.
Спазм, как всегда, стиснул мне горло. Ну, а мама? А Галя? Только они могли меня простить. Если бы было можно, то я позвал бы маму, попросил помощи и защиты. И может быть, я и вправду крикнул что-нибудь, потому что ко мне подошел бородатый человек с огромной медной бляхой на груди, должно быть, сторож, и сказал:
– Ты больной? Уходи отсюда. Тут дети гуляют – играют.
И я ушел. Теперь я точно знал, что нужно делать: ехать в Киев, только в Киев, к маме и Гале, и только это сможет успокоить меня, только это.
Да откуда я взял, откуда выдумал, что связан с Марией каким-то общим волнением и общей тревогой? Чепуха! Да, я был связан, но она, может быть, даже не подозревала об этом. Это все выдумки! Не более как мои выдумки. Пусть будет так!
Тифлисский вокзал был невдалеке от Муштаида. Я пошел на вокзал, взял билет на местный поезд до Боржома и уехал.
Я ничего не видел за окнами и заметил только, что поезд идет необыкновенно быстро, так быстро, что трудно было усидеть на деревянной скользкой скамье.
В Боржоме я вышел, тут же взял билет на обратный поезд и к вечеру вернулся в Тифлис. Кроме вокзальной площади, я ничего в Боржоме не видел.
Открыла мне Валентина Кирилловна.
– Вы сегодня что-нибудь ели? – спросила она.
– Да… Спасибо… Я завтра уезжаю в Россию. Утром я зайду отдать долг и попрощаться.
Я быстро вошел в свою комнату и закрыл изнутри дверь на ключ. Слащавый идиот опять пел свой романс о белом венчике лилий.
Со стены смотрел испуганно и тревожно жираф, и мне казалось, что губы у него дрожат, как у детей, собирающихся заплакать.
Не раздеваясь, я лег на тахту. Под подушкой что-то зашуршало. Я поднял ее и увидел записку. Она была от Марии. В ней была всего одна фраза:
«Благословляю вас. Прощайте».
Всю дорогу до Киева я думал об этих словах и пытался растолковать их самому себе. Во всяком случае, эти слова не принесли мне ни крупицы утешения. «Все это выдумки!» – повторял я навязшие слова.
Да, но что же делать, если без выдумок тоже нельзя жить?
Ялта – Таруса на Оке.
1959—1960 гг.
ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА
Второй остров
В дневниках отца я обнаружил такие слова: «…Надо ежедневно записывать все. Иначе дни тают как дым, рыжее марево…».
В свое время они были для меня несколько неожиданными. Было хорошо известно, что он не испытывал особого пристрастия к записным книжкам и важнейшими качествами писателя считал свежесть восприятия и память.
Но вот что я открыл четко: восстанавливать в памяти давно прошедшее отцу помогали именно… записные книжки и дневники. Нет, он не вытаскивал их из дальних углов и не раскладывал перед собой на письменном столе. Возможно, он даже не помнил о существовании некоторых из них. Они для него сделали свое дело уже давно – еще тогда, когда он заполнял их. Видимо, писателю, как и художнику, просто необходимо делать эскизы и этюды, чтобы закрепить впечатления по свежим следам.
Любопытен внешний вид записей. Иногда это толстые ученические тетради, чаще блокноты со старыми, порой рассыпающимися листками. На некоторых – служебные грифы учреждений, в которых Паустовский работал в раньше годы: одесской газеты «Моряк» и тифлисской газеты «Гудок Закавказья», телеграфного агентства РОСТА и Союза кооперативов Абхазии. Были и самодельные блокноты, сшитые из листов писчей бумаги. Когда ему почему-либо не удавалось записывать регулярно, он задним числом как бы «потоком» заполнял тетрадь за весь прошедший период.
Если записные книжки обычно заполнялись телеграфными фразами в одно-два слово, то письма писались обстоятельно. Именно они порой заменяли ему подробные дневники. Чем больше было писем, тем меньше записей в блокнотах и наоборот. Впрочем, и в блокнотах встречаются места, которые можно назвать «письмами к самому себе».
Эскизы и этюды художников часто имеют самостоятельную ценность. Не случайно К. Г. Паустовский, считавший необязательным использование записных книжек в ежедневной работе, ценил их как самостоятельный жанр литературы. Теперь это можно распространить и на него самого, с определенной натяжкой, что записи его сугубо рабочие. Вам предоставляется возможность проследить, как одни и те же события отражены им в блокнотах, затем в письмах и, наконец, в книгах; какие при этом произошли неизбежные изменения и смещения, которые у него порой бывали очень значительны.
Отец старался вести дневники изо дня в день. Когда отдельные листки или очередная тетрадь кончались, начинал записывать на оборотной стороне старых рукописей, на листках, которые часто терялись.
Записи «для себя», естественно, мозаичны. Они отражают его интересы тех лет, в которых в равной мере представлены и раздумья о собственном творчестве, и общение с друзьями, и обстоятельства (порой трагикомические) «помещения в печать» первых произведений, и события семейной жизни. Дневники и переписка Константина Георгиевича Паустовского свидетельствуют о его постоянной нацеленности и подготовке к литературному труду профессионального писателя.
Дневники 1922 и 1923 годов, связанные с пребыванием К. Паустовского в Сухум-Кале, Батуме и Тифлисе, а также некоторые письма предлагаются вниманию читателя впервые.
Записи переезда из Одессы в Сухуми восстановлены отцом по памяти, или же он переписал их в общий блокнот «Одесса – Сухум – Батум» из отдельных листков, теперь уже не сохранившихся. Дело в том, что этот общий дневник записан в фирменном блокноте для служебных записок сухумского Абсоюза. Отцу, по видимому, хотелось сохранить в одном месте все записи,
Такую же попытку объединить батумско-тифлисские записи отца предприняла моя мама. Для этого она сделала относительно толстую, в 22 страницы, самодельную тетрадь в половину ширины обычных школьных листков и прошила их нитками. Оказалось, это сделано не зря.
Переписанный мамой дневник сослужил свою службу. Во-первых, несколько страничек отца с дневниковыми записями мне до сих пор так и не попались, они как бы утеряны, но… сохранились в сквозной переписанной тетради. Во-вторых, мама легко прочитывала отдельные неразборчивые слова из дневниковых записей отца, и ее тетрадь очень и очень помогла при окончательной расшифровке текстов отца. Некоторые записи просто трудночитаемы, посколько делались они как бы на коленях. И еще. Почерк отца невольно передавал его внутреннее состояние, так, например, записи о трагических днях, проведенных мамой в тифлисской больнице (выкидыш, мертвая девочка), сделаны настолько нервно, что вместо слов идут их неразборчивые обрывки, целые цепочки…
Я сверил записи с тетрадкой. Оказалось, мама подошла вполне добросовестно к своей задаче. Лишь в одном месте, впрямую ее касающемся, она позволила себе уточнить реплику и вместо записанной у отца фразы «я не хочу мешать вашему счастью«, написала ту, которую она в действительности тогда произнесла: «Я не хочу вам мешать, мне больно это видеть». Местами встречаются описки: вместо «Всеаджарский съезд» записано «Владимирский», но описок так мало, что стоит ли об этом вообще говорить.
По выцветшим чернилам можно предположить, что тетрадь эту сделала она сразу же по возвращении в Москву, а не в конце тридцатых годов, когда родители расстались. Может быть, и не в Москве, а в Екимов-ке, где она набиралась сил после всех кавказских волнений.
Как дневники, так и письма изобилуют деталями, характерами, случаями, известными читателю по тексту повести: «Пестель», Абсоюз, озеро Амтхел-Азанда, боцман Нирк, «Проходная комната», «Это не мама», «Маяк», Мрозовский, лейтенант Шмидт, Ставраки, «Лихорадка», «Этикетки для колониальных товаров», Ульянский… Но в то же время привносят неизвестные не только для читателей, но и исследователей штрихи и сведения: «Золотая нить», «Серебристое в синем», рецензия на детскую оперу статья о Толстом в «Трудовом Батуме», зеленоглазая женщина… Только из письма к Н. Г. Высочанскому мы узнаем о твердом решении отца незамедлительно вырваться в Москву из райской сухумской патриархальности, но, увы, из-за отсутствия денег (вместо зарплаты в Абсоюзе выдавались продуктовые пайки) родителям пришлось добираться до Москвы кружным путем – через Батум и Тифлис, где можно было достаточно быстро скопить денег на железнодорожный билет. Я написал «увы», но зато читатели вместо «Броска на север» получили в подарок неувядаемый с годами «Бросок на юг».
Кстати, подобный кружной способ странствий накрепко вошел в жизненную манеру отца. Даже в командировки он не едет прямо к месту назначения, а старается добираться до него кружным путем. К Кара-Бу-газ-Голу он добирается от Астрахани через калмыцкую степь и Баку, в Ленинград любил ездить через Савеловский вокзал…
Записи делались не только на разноформатных листках, но еще и разными чернилами. Иногда на одном листке соседствуют записи и фиолетовыми чернилами, и карандашом, и синими чернилами.
Батумские записи осени 1922 года выполнены на двух сторонах одного листка, рукой отца сделан заголовок: «1922 г. Батум». Последние батумские записи и отъезд в Тифлис – на двух листках в линейку формата школьной тетради, пасхальные дни в Тифлисе – на восьми узеньких и коротких листочках гладкой нелинованной бумаги, а поездка в Армению записана на длинном и нестандартном, сложенном втрое, листке. Дорога в Москву и первые дни в Москве поместились на одном листе школьной тетради в клетку. Текст убористый, без красных строк и отступов. Невольную улыбку вызвал нехарактерный для отца заголовок: «Мемуары. 1923». Есть еще блокнот со сжатыми записями, которые можно назвать сквозными, – на одном листочке, к примеру, уместились события целого года 1923—1924. Записи начинаются с момента отъезда из Тифлиса.
Обращает внимание стиль дневниковых записей. Если письма писались для родных и знакомых, то есть для собеседников, то дневники – прежде всего для самого себя. Часто это были «вехи для собственной памяти», по которым только автор мог восстанавливать всю цепь событий. Отсюда «телеграфная» манера записей, сведение описаний к 12 словам, не всегда ясных для других.
В дневниках немало имен, причем автор часто повторяет их, записывая по большей части сокращенно, иногда инициалами. К тому же по-разному (в разных вариантах). Потому особую необходимость приобретают пояснения. Правда, несколько помогла делу тоненькая тетрадочка в клеточку, заполненная рукой Паустовского, озаглавленная «Характеристики. Записи о людях». В ней фамилии его друзей, сослуживцев и знакомых. Тут фигурируют в основном люди «кавказского» периода жизни отца и первых лет его пребывания в Москве.
Итак, кто есть кто?
Крол, Катя, она же Хатидже – первая жена Паустовского, Екатерина Степановна Загорская-Паустовская (1889—1968). В дальнейшем у Паустовского было еще два брака. Крол (то есть кролик), хоть и относится к женщине, нередко употребляется в мужском роде.
Гюль-Назаров (Гюль-Назарьянц) Александр Мартынович – журналист, знакомый по Киеву, упоминается Паустовским в повестях «Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий» как Назаров. В последние свои годы был сотрудником журнала «Вокруг света».
Гик – журналист, «мягкий, беззаботный человек», работал в тифлисском отделении РОСТА, а затем в самом РОСТА в Москве. В Ташкенте был директором театра.
Вано (Арушанян) – врач-армянин из Ганджи, жил в Норвегии, «променял профессию врача на журналистику», друг австрийского писателя Петера Альтенберга, мастера малых форм и стихотворений в прозе.
Александр Чачиков – поэт-армянин, жил в Персии, Тифлисе, Бату-ме, «бывший блестящий офицер, служил в итальянских пароходных компаниях, голодал в Москве, жил продажей коллекционных почтовых марок».
Чекризов – художник-самоучка, из г. Павловска-на-Дону жил в Тифлисе «в большой голубятне, человек колоссального роста, хохмач».
Некоторые имена до сих пор остаются для меня загадкой – это Ро-улэнд, Алексей Николаевич, Соколовский, Циновский, Соловейчик…
Особо хочется рассказать о двух женщинах, упомянутых в дневниках.
Одна из них – это Зинаида Леонтьевна Нелидова. Ее имя интересно для нас тем, что при жизни Константина Паустовского в Сухуме она, можно предположить, являлась музой писателя, или тем самым «вторым островом», которое вынесено в заголовок данной публикации.
«Женская линия» всегда была исключительно сильна в творчестве Паустовского. Во все времена «первым«и устойчивым в жизни островом всегда оставалась для отца жена, вместе с тем в его жизни можно найти несколько примеров его увлечений, вызванных решением чисто творческих задач. Так, знакомство в РОСТА с Наташей Морозовой поможет углубить женский образ в «Романтиках» и создать, помимо Хатидже, пленительный характер юной Наташи. Знакомство с Нелидовой также не осталось бесследно. Когда в середине двадцатых годов Паустовский получил от харьковского издательства «Пролетарий» лестное предложение написать приключенческий роман, он, несмотря на то, что приключенческий жанр не был его стихией, принялся за дело. В 1929 году роман «Блистающие облака» был принят и опубликован. Главная героиня книги носила фамилию Нелидова и была «списана» с реального прототипа.
Второй образ – художницы Марии – непосредственно воплощен в «Броске на юг». Реальным прототипом была Валерия Владимировна Зда-невич, в девичестве Валишевская.
В «Повести о жизни» и других книгах отца отражено много событий из жизни моих родителей в ранние годы, но, конечно, далеко не все.
Двадцатые годы оказались для отца очень важными. Сколь мало он печатался, столь много писал. Можно смело сказать, что тогда-то и был заложен фундамент его профессионализма. Первые его книги прошли почти незамеченными, потом сразу последовал литературный успех начала 30-х годов.
И вот в 1936 году, после двадцати лет совместной жизни, мои родители… расходятся. Был ли удачным брак Екатерины Загорской с Константином Паустовским? И да, и нет.
В молодости была большая любовь, которая служила опорой в трудностях и вселяла веселую уверенность в своих силах. Отец всегда был скорее склонен к рефлексии, к созерцательному восприятию жизни. Мама, напротив, была человеком большой энергии и настойчивости, пока ее не сломила болезнь. В ее независимом характере непонятным образом сходились самостоятельность и беззащитность, доброжелательность и капризность, спокойствие и нервозность…
Мне рассказывали, что Эдуард Багрицкий очень ценил в ней свойство, которое называл «душевная самоотверженность», и при этом любил повторять: «Екатерина Степановна – фантастическая женщина». Пожалуй, к ней можно отнести слова В. И. Немировича-Данченко о том, что «русская интеллигентная женщина ничем в мужчине не могла увлечься так беззаветно, как талантом».
Поэтому брак был прочен, пока все было подчинено основной цели – литературному творчеству отца. Когда это наконец стало реальностью, сказалось напряжение трудных лет, оба устали, тем более что мама тоже была человеком со своими творческими планами и стремлениями. К тому же, откровенно говоря, отец не был таким уж хорошим семьянином, несмотря на внешнюю покладистость. Многое накопилось, и многое обоим приходилось подавлять. Словом, если супруги, ценящие друг друга, все же расстаются, – для этого всегда есть веские причины. Эти причины обострились с началом серьезного нервного истощения у мамы, которое развивалось исподволь и начало проявляться именно в середине 30-х. У отца следы трудных лет тоже сохранились до конца жизни в виде тяжелейших приступов астмы.
В «Далеких годах», первой книге «Повести о жизни», немало сказано о разрыве родителей самого отца. Очевидно, есть семьи, отмеченные такой печатью из поколения в поколение.
Интересно, что знакомство со своей будущей второй женой состоялось в 1923 году, когда родители мои некоторое время провели в Тифлисе. Было неожиданное, короткое и бурное увлечение, потом все прошло, и они не виделись много лет. Все успели растерять друг друга, казалось, прошлое предано забвению и совсем не волнует. Уже летом того же 1923 года (после Тифлиса) отец писал маме в деревеньку Екимовку, что для него все это «исчерпано», так как «пережито литературно». Он «освободился полностью» и все волнения – позади. Но недаром говорится – «сам себя не знал»…
Третий и последний брак отца – с Татьяной Алексеевной Евтеевой – сохранился до конца жизни.
При всем различии трех жен каждой из них по-своему был присущ элемент «фантастичности». Если такое определение кому-либо непонятно, – ничем не могу помочь. Лучше всего это раскрыл сам отец в их литературных портретах.
Общим у всех жен было и то, что все они понесли невосполнимые расходы душевной энергии. Запасы этой энергии писатель настолько полно расходует в книгах, что этим обделяет близких. В первую очередь страдают матери и жены. У отца интересы его писательской работы стояли надо всем. Можно даже уверенно утверждать, что и все его разводы (как и попытки к ним), несмотря на совершенно различные причины, в основе своей имели лишь одно – сохранение творческой свободы.
Здесь я с удовольствием поставил бы точку в разговоре на «тему жен», но все же его придется продолжить. Может быть, она и заслуживает подробного разговора, но здесь ограничусь лишь необходимым.
Я остался одним из немногих (если не единственным), кто знаком с этой темой как бы «изнутри», впрочем, как и со многими другими обстоятельствами жизни и творчества отца. Объективности ради придется кое о чем сказать довольно откровенно, «по гамбургскому счету», как он любил говорить сам иной раз. Начать будет нужно именно с некоторых психологических черт его самого.
Уверен, он уклонился бы от ответа на вопрос – какой брак для него был предпочтительней? В отличие от наблюдателей со стороны он этого, возможно, не знал сам.
Процесс неистовой увлеченности, устремленности у него неизбежно угасал и со временем мог даже смениться совсем противоположным чувством. И не нужно обольщаться – по-своему так было во всех трех случаях. Говорю это потому, что каждой из жен было свойственно явно преувеличивать степень своего влияния на него и свою роль в его внутренней жизни. Для женщин это вполне понятно и простительно. Только это не должно становиться критерием и для мемуаристов.
Уже после смерти отца мне довелось познакомиться с письмами к женщине, относящимися к периоду работы над новой книгой. Местами я узнавал тот же стиль, те же выражения, что и в письмах к невесте. Именно тогда мне и пришло в голову, что, по существу, он был однолюбом, что все браки и увлечения только дополняли и развивали друг друга, что состояние влюбленности было необходимым условием успешной творческой работы. Он им очень дорожил и, может быть, даже провоцировал его.
Огромную роль, как всегда, играло воображение, которое обретало такую же силу, как и сама жизнь. И этот сплав превращался в книгу. Не случайно его герои пишут любимым точно такие письма, какие писал он сам. Он не репетировал заранее, просто литература и жизнь были у него нерасторжимы.
Исследователь его творчества однажды сказал мне: «Я все же очень боюсь, что в очередном собрании сочинений или ином издании могут появиться одновременно письма Константина Георгиевича ко всем трем женам, да и не только к ним… Ведь это будет как письма к одной женщине». Я ответил: «Не вижу в этом ничего страшного. Именно потому что это – как письма к одной женщине…».
Зимой 1934 года, когда в отношения моих родителей уже начала входить напряженность, они отправили меня в очень хорошую лесную школу – и это странным образом сказалось на их дальнейшей судьбе.
Я был левшой, и основную цель пребывания в этой школе они видели в том, чтобы меня научили писать правой рукой вместо левой. Это было успешно достигнуто, но, кроме того, там я познакомился с мальчиком Сережей Навашиным, сыном ученого-ботаника. По праздникам к нему тоже приезжали родители, и каково же было удивление, когда все друг друга узнали. Женой отца Сережи, Михаила Сергеевича Навашина, оказалась Валерия Владимировна Валишевская (та самая «художница Мария»), увлечение которой отец так остро пережил в Тифлисе в 1923 году.
В семье Навашиных в середине 30-х годов назревала своя критическая ситуация – Михаил Сергеевич собирался вступить в новый брак. Сказалось это на ходе событий или нет, но так или иначе два года прошло у отца в колебаниях – то висел на волоске старый брак, то – новый, пока мама, устав от этого, не призвала его к решительности. В 1936 году они разошлись, а год спустя отец вступил в брак с Валерией Владимировной.
Второй брак поначалу складывался очень обнадеживающе. Было завершено «Черное море», созданы повести о художниках и несколько пьес, написано много рассказов. Во втором браке прошли военные годы с эвакуацией в Алма-Ату. После войны появились «Далекие годы», с которых и началась «Повесть о жизни».
Но в дальнейшем, несмотря на прекрасно организованный быт (в нашей семье он, напротив, был несколько сумбурен), несмотря на массу неоспоримых удобств, отец все больше начинал убеждаться в том, что он сам со всеми своими планами и стремлениями становится для Валерии Владимировны не более как жизненным удобством. Правда, удобством очень существенным, самым главным.
Человек неоднозначен, в нем уживаются самые противоречивые качества. И со временем могут начать преобладать те, которых он ранее даже не замечал сам. Как ни парадоксально, но можно сказать что отец изменял не своим женам, а – тому облику, который столь поражал его первоначально и так стойко закреплялся в сознании. Каждый раз он женился на «литературном портрете», а разводился уже с «портретом жизненным». Но при этом, разумеется, имели немалое значение и его собственные человеческие качества.
Уже после смерти отца последняя его жена, Татьяна Алексеевна, говорила мне со свойственным ей умом и откровенностью:
– Вы знаете, Дима, что объединяло нас, всех жен Константина Георгиевича? Мы все были диктаторши, но все его любили больше, чем он нас, не исключая и Валерию Владимировну. Он охотно принимал эту женскую диктатуру и даже дорожил ею. Может, так ему было легче справляться с внешними обстоятельствами и уходить в себя. Но если что не по нему – все менялось. Что-то случалось. Или мы теряли чувство меры и зарывались, или нас «заносило», а с какой из «писательских жен» этого не бывало? Но он никогда не пытался воздействовать на нас, видимо, справедливо полагая это дело безнадежным. Он попросту предпочитал сбегать и при этом мог проявить немало коварства и, если хотите, даже жестокости. И было в этом что-то казацкое. Вот где его запорожское происхождение…
Вообще же в семейных отношениях отец всегда стремился проявить терпимость, спокойствие, понимая, что идеальных жен (как и мужей) не бывает и что женщина не в силах изменить самое себя.
Во всех, так сказать, «внешних сношениях» он охотно предоставлял женам «белую карту», разрешая вести деловые переговоры от его имени, вступать в различные контакты и т. д. Это действительно избавляло его от обременительной жизненной суеты, которой он всегда старался избегать, и сохраняло время для сосредоточенной работы. Короче, здесь он охотно позволял «рулить за себя».
Если жена была не лишена тяги к представительству (к чему он был глубоко равнодушен), то и это оказывалось не так уж плохо. В какой-то мере она все это брала на себя. Даже их резкость и неуравновешенность порой могли быть полезны…
Но отец становился безумно мнительным, если ему хоть немного начинало казаться, что «суета внешней жизни«и «представительства» норовят проникнуть внутрь дома. Лишь на склоне лет у него появились машина, шофер, наконец, даже секретарь. Все это было, по существу, необходимо, но он всем своим видом и некоторыми репликами давал понять, что лично ему все это не нужно, что он-то без этого может обойтись. В этих словах была чистая правда – действительно, обошелся бы вполне…
Насколько охотно он позволял «рулить за себя», настолько резко реагировал на попытки «рулить им». В особенности если при этом «суета внешней жизни» уже всерьез входила в дом и начинала в нем полноправно распоряжаться, отодвигая на задний план его сокровенные интересы.
Именно по этой причине в свое время и потерпел крушение его второй брак.
Летом 1949 года он неожиданно позвонил к нам и сказал, что хочет зайти поговорить. Если я с ним более или менее регулярно встречался, то с мамой после 1936 года он виделся считанное число раз, и то только по деловому поводу. Он не уподоблялся некоторым мужчинам, что поддерживают отношения с бывшей женой, приходят советоваться, каяться и т. д. Колебания у него могли быть только «до», но никак не «после».
Полдня он провел у нас и рассказал, что отношения его с Валерией Владимировной зашли в тупик, создалась обстановка, при которой он совершенно не может работать. В этом главное. Он подробно изложил суть дела, хотя и не без некоторой доли своей обычной пристрастности. Выход из создавшегося положения – только в уходе из дому.
Мама, которая, видимо, знала его лучше меня, неожиданно спросила:
– На кого же ты при этом думаешь опереться?
Он начал рассказывать об одной хорошей старой знакомой…
– Это Таня Арбузова, – сразу отозвалась мама. (Так она назвала Татьяну Алексеевну Евтееву.) Женщины откуда-то знают все.
Меня же поразило не только это. Ведь совсем недавно я видел отца в домашней обстановке. Все было мило, спокойно, и ничто не предвещало такого поворота событий. По крайней мере внешне. Но это-то и было ему свойственно. В свое время развод моих родителей был для них отнюдь не легким, но он прошел достойно. К сожалению, во втором случае сложилось иначе. Отцу пришлось буквально «вырываться», преодолевая немало препятствий.
Напрасно обвинять во всем Валерию Владимировну, как это уже проскальзывает в некоторых мемуарах. В браке бывает так все но, что, когда происходит разрыв, – неизвестно, кто больше виноват. Очевидно, оба. Да и само слово «вина» здесь неуместно.
В самом начале повести «Далекие годы» отец гимназиста, героя книги, говорит ему: «Боюсь, погубит тебя бесхарактерность».
Эта фраза вызывала самую различную реакцию. Некоторые из близких людей и друзей отца приняли ее как должное, другие – напротив. Вениамин Каверин, например, в телепередаче об отце повторил ее с большим удивлением и сказал, что не встречал, пожалуй, писателя со столь цельным и сильным характером.
Отец выработал твердый характер во всем, что касалось его дела, то есть писательства. Но многим казалось, что это компенсируется уступчивостью в личной жизни, где он на первый взгляд подчинялся обстоятельствам.
Может ли поведение человека успешно строиться на сопоставлении противоречивых слов: «бесхарактерность – характер»? Очевидно, в отдельных случаях может. В свое время, когда второй брак стал неизбежным, Валерия Владимировна со свойственной ей решительностью заявила, что семья без ребенка – не семья. У нее возник план, по которому таким ребенком должен был стать я.
Окончательное олово оставалось за мной, уже достигшим солидного возраста – десяти лет. Я столь же решительно заявил, что остаюсь с мамой, и тогда Валерия Владимировна взяла в новую семью Сережу Навашина Это вызвало осуждение (сопровождавшееся толками в писательской среде и, конечно, непременными обвинениями отца в «бесхарактерности»).
Единственными, кто отнесся ко всему спокойно, были мы с Сережей. Это никак не повлияло на наши отношения. Большой дружбы между нами никогда не было. Еще со времени знакомства в лесной школе установилось ровное, спокойное приятельство, так оно и продолжалось в дальнейшем.
К сожалению, оно сошло на нет с концом второго брака, за что я себя ругаю (получилось с моей стороны как бы нарочито). Однако истинная причина в том, что, став взрослыми, мы оказались людьми разных взглядов и интересов.
Мне порой приходится слышать «стандартный» вопрос: как я в детском возрасте отнесся к уходу отца, не было ли обиды и т. п.?
Могу ответить: никаких особых комплексов не испытывал. На первых порах играло роль и то, что я очень устал от «выяснения отношений» родителей. Иногда даже кричал на них при затянувшихся сценах. «Зачинщиком» больше выступала мама, реакции которой на все происходящее становились все более болезненными. Во многом она, конечно, была уже другим человеком, чем при начале их совместной жизни.
Поэтому после развода я даже испытал облегчение. Однако вскоре заявил, что с отцом, наверное, встречаться больше не буду. Но не по внутреннему убеждению, а в силу, что ли, «непременной обязанности» в таких случаях. Так вели себя дети в кинофильмах при аналогичных ситуациях.
Оба родителя в корне пресекали подобные настроения. Уверен – у них был уговор на этот счет и они его твердо придерживались. И мои отношения с отцом никогда надолго не прерывались.
Легче всего мне ответить на такой вопрос: как бы я предпочел повторить жизнь – в одной семье с отцом или так, как она сложилась в действительности? Я совершенно искренне выбрал бы второе.
Книга – вот что становилось для него итогом жизни со всеми ее потрясениями, свершениями, взлетами и падениями, радостями, разочарованиями и колебаниями, – со всей ее правдой и ложью.
Книга – сплав, а чтобы сплав был качественным, он должен содержать как можно больше чистых металлов и меньше посторонних примесей – шлаков.
По своему подлинному складу, скорее внутреннему, чем внешнему, отец, подобно, например, Горькому, был и оставался бродягой. И может быть, не нужно ему было никаких ни жен, ни семей. Но в жизни «складывалось» иначе, немало было и «шлаков».
Когда он оставался за письменным столом, он считал себя вправе восстановить свое подлинное «я» и начинал жить литературной жизнью (а значит, для писателя – истинной). Тогда и рождалась «Повесть о жизни», где герой скитается один (пусть и обрекая себя на страдания от одиночества), а воспоминания о женах лишь воплощаются в преображенных образах любимых женщин.
Замечено, что даже в автобиографических произведениях писатели не любят отражать свою семейную жизнь, в особенности если брак был не единственным.
Вот и перед отцом встала серьезная проблема: как писать о своей жизни с конца 19 И года? Если следовать действительности, значит, писать роман не об одном человеке (как он задуман), а о двоих, настолько все было общим – и скитания, и работа, и друзья… К тому же за первым браком последовал второй, а создавалась «Повесть о жизни» в основном на протяжении третьего.
Можно было пойти по формальному пути. Один известный писатель подает автобиографический материал следующим образом. Он существует в книге как бы один, но в конце многих глав ставит дежурную фразу, которая состоит из имени жены и приписки «тоже была здесь».
Отца такой «прием» совершенно не устраивал. Он не хотел расставаться с тем важным, что в немалой степени составляло ценность его жизни. И он придумывает свой прием, который можно назвать «концентрацией». Все, что он считал нужным и дорогим в общении с человеком, как бы сжимается в небольшой отрезок времени, а потом персонаж начисто исчезает из повествования, вплоть до того, что даже «умирает».
Так случилось с сестрой милосердия Лелей, которую он «похоронил» в оспенной деревне, хотя реальный прототип ее жил еще не одно десятилетие. Так было и с тифлисской художницей Марией, что ушла на несколько лет в небытие, но потом снова заняла место в его жизни.
Адресаты героинь совершенно ясны, несмотря на изменение имен.
Как я убедился позже, образ Лели – в чем-то собирательный. В создании его отразилось не только знакомство моих родителей на санитарном поезде, но и многое из их жизни тех лет.
У другого прототипа – «художницы Марии» – изменено в «Броске на юг» только имя, но оставлена фамилия. Это можно объяснить не только тем, что она сама «оставлена в живых». Отец исключительно тепло относился к брату Валерии Владимировны – замечательному польскому художнику Зигмунту Валишевскому. В кабинете его в Лаврушинском переулке целая стена была занята удивительными (другого слова не подберешь!) рисунками Зиги, как называла его сестра.
Вадим Паустовский
Из дневников
(Отъезд из Севастополя – Сухум – приезд в Батум, первые дни в городе, февраль – лето 1922 года)
…Приход «Батума». Погрузка. Ходынка. Нахал-помощник. Американский миноносец «240». Неохотный салют. Херсонесский маяк.
В рубке с Перевозчиковым. На корзинах. Пот и духота. Синие крымские горы. Сарыч. Облака. Зелено-мутное море. Обогнал миноносец. Печаль. Ночью Ялта. Дождь. У Яковлева. Накурено. Лужи.
Утром – берега Гренландии. Чатырдаг в снегу. Дельфины. Феодосия. Серо и пустынно. Столовая водников. Сумрак, уют. Папиросы. Идем перевалом. Тишина. Греки. Утром – берега Новороссийска. Щетины лесов. Ясность, льдяность. На горах черным дымом курится норд-ост. Деревянные пристани. В город. Мартынов. Белая цементная грязь. Базар. Рыба. Кофе и обед с пирожными в столовой. Станица. Остовы деревянных судов. Задувает норд-ост. Американский миноносец «240». В трактирчике. Норд-ост сотрясает палубу. Концерт. Даешь «советскую свадьбу»! Добрынин. Утро и звезды. Гудок в горах. Геленджик.
Лесистые горные мысы, влага, снега, туманы. Белый маяк. К вечеру – Туапсе. Зыбенко. Папиросы. «Димитрий». Комиссар. Досчатая пристань. Солнце. Зеленко. Туман. Полуразрушенный порт. В Сухум…
8.II. Утром Сухум. Солнце, снеговая цепь гор. Запах мимозы
Герман на пароходе. Чистый, уютный город. Пальмы. На пристане: Мар.[ия] Фед.[оровна], Вера Пар. [нрзб], Евг.[ений] Николаевич. В Абсоюз. Вино. Снова на пароход. Фелюги, бьет соленая вода. Остался. Вечером – выпивка. Пьян. Рохлин. Тамада – тулумбаш. Ведра вина, стол завален едой. У Ивановых на горе Чернявского. Феерический закат. Вся бухта внизу, в огнях, [нрзб] в кухне у Германов. Служба – скучная. Письмо и документы Кате. Крепость. Могила Шервашидзе. Камелии. Духаны с вином. Отправил письма. Дни дикой тоски, доходящей до самоубийства. Слезы. Западня. Ботанический сад. [нрзб]. Какой-то [нрзб] устраивает попойку: шумно, [нрзб]. Тоска усиливается. Три отчаянных письма. Жду «Пестеля». Тоска по Одессе. Дождался. Абергуз. Не так ярко. Двойственность. Страшные колебания. Крол родной, далекий зайчишка. На исповеди. Хочется все время молиться, плакать. Зачем я сделал это. Стал спокойнее. Все чуждо, гадко, противно. Интриги. Переехал к Ивановым. Вечера легкого отдыха от тоски. Ничто не радует. Для меня такая тоска опасна и губительна. Я могу наложить на себя руки. Я заметил – периоды – после очень тяжкого бывает хорошо. Будет радость. Не здесь, – в Одессе, в Москве. Тоска Иванова. Гуляли по берегу. Красные ракушки. Все время я страшно боюсь, что Катя приедет. Снова слезы. «Вече» – ждал. Не приехала. Писем нет. Дьявольский план Иванова. Жду до 8-го – потом даю радио и еду в Одессу. В одну из суббот масленичная попойка в «Лондоне». Е.[вгений] Щиколаевич] собирается на «Вече» на съезд. Курьезное объяснение у Земмеля [нрзб]. В духане с учрежденцем. Севастопольский знакомый. К Смецкому. Виды Гватемалы. Кактусы. Чужие берега. Запах эвкалипта. Его цветы в коробочках. Скрип арбы. Шахматы. Проливные дожди. Тоска оформилась, окрепла. Предчувствие, что Крол не приедет. Я верю ему, так же, как и она. Я стал суеверен, как старая баба.
Крючкотворство Германа. Беседа с Радиэндом о бродяжничестве. Камелии. Завтра жду парохода из Одессы. Здешняя природа, как паноптикум. Землетресение.
Приезд Крола. Золотистый. В [нрзб] с Ковальским. Вино. Вечер у нас. «Ой, мама, мама, зажги лампаду». В Ботаническом саду. Мы одиноки. Весна. Опаловое море. Сад Смецкого. Столовая в «Лондоне». Тютя Рохлин. Кроличий магазин. Спектакль в нелепом Совпрофе. Грекосы – Лиза-риди. Пасха. В соборе – грузинские напевы. Тихое разговенье. Усталость и тонкая печаль. В горах, где цветут азалии.
Зной. Синие, мрачные горы. Воспаленные малярийные закаты. Читаю, пишу «Золотую нить». Дурацкая, тоскливая служба. Килдомасовы [нрзб]. Она – жена Чемоданова. Сухая, неприятная грузинка… Рыбная ловля. К Венецианскому мосту, [нрзб]. Водопад и электрическая станция. Горная кошка, лохматая. Аренда «Кооператора».
Росистые, прохладные утра. Тоска.
Кравцов в Сухуми. Нарды. Увлеченье. Болит грудь, и по ночам я кашляю. Боюсь, что начался легочный процесс. Купанье. Море так славно пахнет. Фелюги из Трапезунда, знаменитые персидские кофейщики. Неожиданная встреча с Нюрой. Она была в М[оск]-ве влюблена в меня. Опустилась. Дочка, муж, коммерсант, говорит вместо «ы» – «и». Грудной смех. У нас. Белое вино от Антона. Розы. Мы с Кролом все-же сохранили себя за эти годы. Облава. Ловим бычков. Солнце, ясность, тишина, штиль на море. Гроза[15]. Крикливые греки. Ялтинец. «Гранд-Отель». Разговор с Кун. Какой-то местком. Скучно и ненужно. На Келасуру. Красота и дичь. Пурпур гор, закат, запах мандариновых садов – дурман. Мириады вспыхивающих в воздухе огней – ивановские [нрзб]. Шум рек, туман закатов, форель, духан на Маджарке. Клубника. Маленький зверенок. Медведь у Иванова упал в цистерну. Дача «Muramare».
Маневры. Орудийный огонь по морю. Приезд боцмана Якова. Вино. Газета «Кичичи». Одно из воскресений – на пристани. Серое утро на море с Федором Ивановичем. Тоска. Я – весь в белом. Напрасная красота. Сон. Старинный город, королевские кареты и глаза Бумы. Кашель по ночам. Каминский на «Бр. Феофани».
Приезд Мальвины с мужем. У нас. Она изменилась. На маяк. Зной в камнях. Вино из бурдюка. Анекдоты боцмана Якова. Обеды в «Азии». Цитроны. Кравцов. Безденежье. Я со Скотниковыми на Новый Афон.
Чистый день. Пляж у Афона – чудесный. Гостиница. Пахнет мочей. На водопад. Красота несказанная. Зеленое озеро. Меловые скалы. На Иверскую гору. Сад в горах, заглохший, трава по пояс, [нрзб] Горные леса, пропасть и шум серебряных и черных рек. На горе. Развалины римского маяка. Фуникулер. Чистота и покой. Одиночество. Бледный монах, [нрзб] Мне тосгливо одному. Киргизские дети. Сон. Утром – на пристани. Рыба. К горному дому, [нрзб] Красные рыбки. «Рай Божий». Мандаринники, маслиновые сады, пруды [нрзб], море на десятки миль. Древность, [нрзб]
Обратный путь. Берегом. Привал у Гумисты. Вечер у нас. Нелидова. Детский спектакль. Подаловская. Нелидова о собаках. В цирке. На Келасури с Мальвиной. Остров. Чай и картошка. Форель руками.
Сборы снова на Н.[овый] Афон [нрзб]. Евд. [нрзб] Борисовна, Нелидова. Вадя-хохотун. О русском языке. Привал у духана. «Не уезжай, голубчик». Привал у реки. Зной. Новый Афон. Обед. Образа. Хамса. Лобио. Вечером к водопаду [нрзб]. Странницы в черном. Шум горных рек. На скамье под дубом. Об руку с Нелидовой. Вадя. 2-ой водопад. Скользкие камни, густые непролазные леса. Красота. Вечер. Хохот Вади. Утром на Иверскую гору. Прохладный и синий день. Кружным путем. Медвежьи тропы [нрзб] Греческая церковь. Орнаменты. Часовня. Резали мушмалу.
Обратно. Шелковица. Вечером на пристани – монах – агент РОПИТа. Спор об Игоре Северянине. Мальвина легкомысленна и наивна. Обратный путь. Болезнь Нелидовой. Арабщики. Курятник Мальвины. Шкипер-ство на [нрзб].
По ночам воют шакалы. Трезор. На лодке с Влад. Семеновичем. Обстрел, дожди. Персики. «Грузия». Безденежье. В Синопе. Тоска все дни. Надо уезжать. Отъезд Иванова в Одессу. Муза. Ловля рыбы с балкона у засольщика [нрзб] «России». Отъезд Мальвины. Дожди, тепло. Мы решили уезжать. Я ушел из Абсоюза. Жарко, [нрзб]. Болтаюсь дни напролет. Сине-серебристые облака над морем. «Пестель».
Купанье. Старый мул. Суд над Вадей. Ее книги. С Колей Радлэндом у маяка. С Кролом на Гумисте весь день. Дождь. Краски. Зацвели олеандры. У меня эмфизема. Горло не шире булавки. Ночью не сплю. Думы. Тропики. Серебристая рыба и алая кровь. Тропическая неврастения. Малярия – вялость, нет вкуса жизни во всем. Гюль-Азизова [нрзб]. Весь день на Гумисте. Зной. 52 градуса, [нрзб] парильня. Бычки, [нрзб] Прозрачная, холодная вода. Шел берегом. Усталость, печаль.
Возвращение Иванова. Сборы в Москву. С Федором Ивановичем. Июль. Слезы Крола. «Ты хотел меня бросить». Знаки на стенке. «Красная шапочка». Бочарникова. Холера у Крола. Жуткая ночь. Рецензия.
Проводы Ивановых. Народное гуляние. Пыль, гам, свист. В Гульрипш с Нелидовой. Купанье с Раулэндом и Чалковым. Диоскурия[16]. Соколовский. Солнечные сады. Орехи. Купанье. Грузин из Лейпцига. Зной. Сосны, солнце, пустынный берег. Гульрипш. Отдых на скате. Вадя. Индийская пьеса.
Гульрипш. Широкий мутный закат. Ночевка. Синее умытое утро. Идем в [нрзб]. Зной сжигает подошвы. Базар. Монастырь, [нрзб] гостиница. Крымские беженцы. Сон на пыльной траве. Тоска. Брошенный одинокий монастырь. Кладбище. Чай. Скандал с сестрой архимандрита. Скандал с Кролом из-за эстонки.
Пошли. Упала ночь. Черная масса главного хребта. Грек с винтовкой. У эстонцев. Ночлег в кукурузнике. К Альвине. Негостеприимно. Гонки. Мельница. Галстуки. Зной, [нрзб] Разбитые ноги. Духан в Гульрипш. Нарды. Купанье у Маджарки. [нрзб], море шумит, идет судно. Едва дошли. Малярия. У Влад.[имира] Семеновича именины. Весело. Нел.[идова] к нас. Почти обнаженная гадалка. У Влад.[имира] Семеновича] – о Цебельде. Не столковались.
В Цебельду. Вечер на даче Рукавишникова. Концерт. «Матушка-голубушка». Ночь. Выстрелы. «Вече» [нрзб] в провале огни, луна. Вышли на рассвете. Дымка Маджарки. Двугорбый верблюд. Мерксулы. Старинная церквушка. Ущелье Маджарки. Красота несказанная. Ключи. Ущелье, водопады. Осыпи. Столбы из плюща. Гора Агыш. Ольгинское. Идем без привала. Едва двигаюсь. Цебельда. Учительница с хохотушкой-дочкой. Массивы гор – Апианча и Адагуа [нрзб]. Чай на ветру.
К Вороновым. Душно в кукурузных полях. Накапливаются грозы. Уютная усадьба. Учитель из Пензы Николай Максимович и Эмилия. Хромая, рахитичная немка-гувернантка. Орех. Шахматы. Ночь в галлерейке. Утром вышли. Базар в Цебельде. Сыр. По руслу потока. За спиной тяжелые сумки. Перевал на Гаргамыш.
Горцы верхами, жены позади с грузом. Спуск. Дикие взгляды. Буковый лес. Острый гравий. Привал у реки. Пастухи с альпийских пастбищ несли больного. Подъем. Дикий спуск по скалистым обрывам, поросшим лесом. Зарубки. Озеро Амтхел-Азанда. Огни. Зеленая вода в отвесных берегах. Белые скалы. Красное дерево. Чай. Пещера «Озеро дешевых огурцов». Костер. Вой шакалов. Коршуны. Дикая гамсуновская жизнь. Ловим усачей. Поплавок из листьев магнолии. Солнце. Ночи холодные. Крики Влад. Семеновича. Веселый учитель Николай Максимович. Отчаянный торг с Яни. По вечерам – пели. Лягушата. На рассвете четкие, могучие массивы главного хребта [нрзб].
Два вещих сна. Дым и искры. Бегство в трубу. Постель из хвощей. Особая несказанная прелесть. Ночной ливень. Ушли. Горы в дождях и голубых колодцах. Нарастает глина. На перевале у Гаргамыша. Мингрел – из Дикой дивизии. В Цебельде. – Базар. Чай у учительницы. По душным кукурузникам. Дома. Зуб у учителя. В белых комнатах – белый горный ливень. Непередаваемое чувство. Утром в Сухум. Барнальское ущелье. Дрожит небо, хрусталь над морем. Идем без остановок. Я босиком. Сыр и ключевая вода. Сухум – Красота – «Вече» на рейде. Дома – Бабушка обрадовалась, потчаем – переоделся. Весь в белом – к Кролу навстречу. Помолодел, окреп. Вечером у нас Людм.[ила] Дмитр.[иевна]. Ее книга – летний роман «Братья [нрзб]». На следующий день в мертвом Абсоюзе. На базаре встретил Зин.[аиду] Леонт.[ьевну]. Вспыхнула, радость. На гранитном массиве. Летала. Вертинский. «Что вы плачете здесь одинокая, глупая девочка».
Над морем – молоко и розовые раковины парусов. Крол шьет и плачет. Приключение с мингрелами – [нрзб]. «Моренье», «гамарджоба»… Я ушел. Луна плясала в неспокойной бухте. Цирк – странная, трепетная близость. Она любит. Она следит за собой, радостно идет мне навстречу, афиширует мнимую связь. У комисс. магазина «Барабанщики». «Веруша» и Вера Влад. Вечером – у нас. Душные ночи. Бородатый дядя из Владивостока. Поиски денег. Артист Римский-Корсаков. Рассказ об Армавире и жуках. Купанье у крепости. Звонкие, пасхальные утра, ботанический сад, Крол у учит, пения. Ждал под дубом. Больно держать. Аполлин.[ария] Фроловна, бабушка, котенок, Трезор – особый милый быт. Бананы. Вечер Да-минской. «Мама, мама, что мы будем делать». Дышала ночь. Лунная ночь в тропиках, белые пласты крыш. Поворот у санатория Кашко. Горы. Шемякин под автомобилем. Нина Семеновна. Близок отъезд. Ливень. Босиком. Гюль-Азизова. Самойленко. Красный арбуз.
Уложил вещи. Утро – пришла Нелидова с няней. Таскали к ней вещи. Гроза. Она особенно сердечна, нежна. Вечером на пристани. Аполл.[ария] Фроловна. Холодно. Влад. Семенович. Извозчик из Смол.[енской] губернии]. В «Зале для ожидающих парохода». Поиски Крола. Самойленки. Крейцман – Литвиненко – Браул, владелец «Мальвины». Чай. Сон на столе и скамейках. Смутный [нрзб]. Утром, из-за мыса – остов «Ильича». Посадка. Лазариди. Славный, редкий грек Абергуз. В посл.[еднюю] минуту – Нелидовы. Таскал вещи.
Сырая палуба[17]. Крол немного укачался. Серый, ласковый дождь. Милые берега. Я лежу. Обед из камбуза. Груши Бере. Спокойное, прозрачное море. Вечер. Концерт. Прошла мимо «Россия» – гудки.
Вечером Батум в дождях. Угрюмые мысы, заливы. Сон на палубе. Утро. Боцманша. У них… Синявский. Муши. Вещи в железный театр[18]. На Барцхану, по путям. Клетушка. Мальвина. Чай, рассказы, крепкий сон.
Виноградники, кукурузы. Портреты. «Это не мама». В редакции «Маяка». Нирк. Обед у боцмана… «На столе моем тетрадка, в сто один листок». Порт, около наливных пароходов. Дожди, обитые жестью дома. Ишаки с револьверами. Надоели. На Зеленый Мыс к Бабелю. Мэри. На «участке». Австралийский закат. Бандит и кольца. Спим вчетвером на полу. Начали печатать «Маяк». Герман. Миниатюрная газета в игрушечной типографии. Путь домой. Изабелла. Тоска – я молчалив и суров. Крол в [нрзб]. К Подановской на именины. На авто на радио. Фраерман-батумский. Снова на Зеленый Мыс. Источник. Зеленый луч. Фельетон Бабеля. Цинов-ский. Ульянский – голодный корректор из «Речи».
«Проходная комната». Турецкий базар. Гагаруз горячий. Малярия. Истома. Пот. Дымы, дожди, фейерверки. Обеды у боцманши. История с белым платьем. Гибель «Марии». Кафе на пристани. Отъезд Бабеля. Сумасшедший день. Переселение. На полу. Дожди. Лейтенант Шмидт на стене. Море в прорези двери. Утра. Красивая бухта. У нач.[альника] порта. Силуэты наливных карго-гигантов. Лукагер-великолепный [нрзб]. Мальвина в Добр, флоте. Нахал Гехт. Отъезд Нирка. Дубов. Письмо от Бабеля. Злой Соловейчик со вставными зубами. Фраерман и Охотское море. Американский] моряк. Тропическая лихорадка у Крола. 42. Ужас. В амбулатории – у самой воды. «Моряк» – собака, пес английского капитана. Мерзостные дни. Надо бежать.
(Из батумских записей, осень 1922 года)
Желудочная малярия. Припадки открытой лихорадки. Стал писать «Серебристое в синем». Корреспонденции в «Моряк». Левшин. Подановская у нас. Путеводители. Мечты о Лос-Анжелесе. У Нюры. Глухой переулок. Мещанская комната. Муж – лавочник Вспомнил зиму около Казани, Никола-шу Руднева. Тамара – жена. Фельетоны Ценовского. Болгарин. Хитер. Дядя Леня и шкура ягуара. – Граммофон у Брелидзе. Мещане, мелкие обыватели.
Инженер из Бразилии. Батум – pissoir de la Mer Noire.
Виден весь главный хребет. Низкой розовой цепью облаков. У Кро-ла, кажется, будет малыш. Ясные дни. Праздничный номер. Приглашение в «Трудовой Батум». Вечера на бульваре. Алжир. Кирпичный закат и веера пальм. Октябрьский день. Флаги на судах. Солнце. 2 главы Эльбруса. С Фраерманом. Жарко.
7 ноября. Ковры, турецкие флаги. Цветисто, тесно на улицах. Дети. Плакаты Синявского. Красный конь (его вывески в Сухуми). Парк. Цветет чайное дерево белым цветом. Белые клубы дымов. Бульвар. Гиллер – механик с китайского парохода. Салют. Мальвина в ажурных чулках.
Муши и [нрзб] с зурной. Пожар в порту. Вечер – плошки по набережной – старая морская иллюминация. Дым, огни, розовые стены, ракеты, прожектора, карнавал. «Мурочка» и «Юдифь». Отъезд Крола в Сухум. На «Новороссийске» – Фраерман. В типографии «Тр.[удового] Батума». Выпуск. Нахальство. Справился. Вкус.
(Последние батумские записи – переезд в Тифлис, ноябрь 1922 -январь 1923 года)
Ноябрь. – Воскресенье. Бульвар. Снеговые цепи. Заремба-борец. Восторженная индюшка – корректорша. Тоска. Пишу «Серебристое в синем». Приезд Крола – Таврида. Сухумские новости. Зданевич. Гордая Мальвина. Лихорадка. Надо готовиться к Москве. Статья о Толстом. Друзенко тряс руку. Новые книги. Снег. Пароходы в снегу. Горы, как на Новой Земле. У Нюри-ного мужа. Идише готт. Миша-боцман. Холодные, солнечные дни. Гигант «Владимир». Пьяненький Фраерман. Разговор с Кролом о моих рассказах.
Бульдог. У Крола будет ребенок. Дожди, на море третий день бушует белый, туманный шторм. Вертится на якоре «Дора». Александр Чачиков. Собрание в редакции. – Литературный вечер у Зданевича. Я читал «Лихорадку». Вино. Сибирский рассказ Фраермана. Стихи Чачикова – Персия, Гафиз, виноград. Майя. Всеаджарский съезд советов. Мулла в черном. Именины Крола. Красная и белая роза. Смерть щеночка. Слезы. Я носил его сиреневый трупик – никак не мог выбросить в море. Письмо от Гюль-Назарова. Он – в Тифлисе. Однажды – пурпурные, легкие горы, снега, огни пароходов и фиолетовое море. Хазанов у нас.
Письмо от Гюля – он в Тифлисе. Скука в редакции. Глуповатый Павчинский. Вечер у Майи… Мальвина. Турецкие бани.
Новый год. У Зданевича. Подановские. Пирог. Рассказ «Смерть редактора или свинская щетина». Вино, кахетинская водка. Фраерман о шамане. Задержал патруль. В комендантской. Ночь.
1923 год. Под конвоем на гауптвахту. Грязная, вонючая тюрьма, цементные мешки. Солдаты-грузины. Шум, пенье. Американцы посвистывали. Военморы. Пенье. Холодно. Спал на лестнице. Синий рассвет. Комендант. Провокация. Утром – Крол заболел. Шум. Вызвали адъютантов. Извинения. Освободили. Тоска и тревога. На извозчике домой. Фраерман бегал весь день. Спали 19 часов. Вечер у Фр.[аерманов], – водка. У Крола что-то неладно. Хлопья. Надо ехать.
Тоска, дожди. Боязнь за Крола. Отъезд жены Фраермана. Гуляли под солнцем. Детская колония. Отъезд Крола. Проводы. С Фр.[аерманом] и Зданевичем на бульвар. Сыро. Мандарины, Зима. Дома – водка. Одиночество. Град. Штормом выбило окно. Пишу «Этикетки для колониальных товаров». Воскресенье. У маяка. Солнце и красота. Обед в турецкой столовой. Сплю вместе с Фраерманом. Черные ночи, бессонница. Думы.
(Отъезд из Батуми, первые тифлисские записи, весна 1923 года)
С Фр.[аерманом] у Мальвины. Борщ. Одесские песенки. «Где он днем, я не знаю, где ночью – не знаю». Прощание. Муша. Вокзал. Зданевич. Море в последние минуты. На фоне заката – маяк. Сумрачная красота [нрзб]. Мандарины. Ночь без сна. Коржики Мальвины. Сурамский тунель. Снега. Горы и Мцхет. Тифлис.
Нападение амбалов. Крол радостный. Уютная комната. Испанский город, серо-зеленые берега Куры, в долине. Ветер и солнце. Серные бани. Стада ишачков. Хорошо. «Заря Востока» – труппа провинциальных актеров. Дома на сваях, армянские улочки, теснота, лавки чеканщиков, по вечерам – огни на горах. Сестра и племянница Гюля. Храм Славы. Болезнь Фраермана. Курдянки. Пестрые – желтые с красным. «Закавказский Гудок». Билет до Москвы. Уют, камин. Художник Зданевич.
«Гудок Закавкаья» – теплые светлые комнаты… Художник Чекризов. Монастырь Давида. Тишина, черный плющ и могила Грибоедова. «Генва-ря 30 дня 1829 года убит в Тегеране». Внизу море крыш, полосы снега в горах. – Шатры армянских церквей. Тяжелые сны. Типография. Улучшил газету, много работы, усталость.
Воскресенье – в Ботанический сад. Карнизами нависают улица над улицей. Церкви, поросшие мхом, крепостные стены. – Дикие склоны, сад, серый ручей и магометанские похороны.
Праздник. Бани. Иллюминация. Розовые блики. Запах лаваша. Черные старухи-грузинки – память о мцехской земле [нрзб]. Парад. В сырой комнате у Фраермана. Знаменитая Соня.
Редактирование. Долговязый Чекризов. Типография. Шевчук. Маид-рицкий. Джек, вымазанный краской. Савицкий с трубкой. Хромая «лахудра» – Саянский в енотовой шубе.
Вал.[ерия] Вл.[адимировна] в типографии. Помогаю [нрзб]. Весенний вечер. Продают мимозы. Огни, синева – небо сияет изнутри долго и нежно. На бархате гор – огни. Одно из воскресений – у Гюля. Вано и его друг, варивший сыр в Голландии. Храм Славы. Персидская майолика. Собрание журналистов. Рурский. Вспомнил Батум. Тишина в типографии, мытые полы. Неудачный дебют Гюля. Моя усталость. Зайчик плачет изредка, глупый. Заседания – В.[алерия] В.[ладимировна] и цветы. Весна как в Крыму, цветет миндаль, блеск солнца, теплота. Она возбуждена – блеск глаз. Банкет. Эпилептик и Кирилл. Декорации. С Гюлем у Фраермана. Чекризов у меня. Панов [нрзб]. Ночное бдение. Припадок с эпилептиком. Коммуна – домой втроем – с дядей Костей. О Вертинском. Смотрит в глаза. Глаза говорят – истома – синяя[19].
(Пасхальные дни в Тифлисе, весна 1923 года)
Ночь над Тифлисом. Крол сердится – она увлечена.
Исповедальня. 100-й номер. Ее снял Гелумян. Мечется – разговор о Москве. Гадание на руке. Ревность Кирилла. Банкет в ВУЗе. Савицкий. Оригинально. «У вас глаза стали длинные и блестят». Чегис. Пеккер. Я пьян. В саду – Мандрицкий, Фукс, Панов. На извозчике – Пеккер, она, Панов – шум, стыд-срам. Холодный день – дома… 3 дня я не хочу видеть ее – затягивает. Кажется, я могу потерять голову.
Холодные ветры. Это – третье. Все остальное – ерунда. Три раза я был ранен. Третий раз – навсегда. Холодные ветры над Тифлисом. Скука жизни. За тонкой пеленой скуки – томленье – словно фиалки подо льдом. – Опечатки. Смех. «Ирландия в огне». Баня. Стройное, еще мальчишеское тело. Плагиаты у Саянского. «Какой печаль мне ковыряет сердце и цельный свет мне прыгает в глазах. Амелья не пришла! Я бедный рыцарь. Уй, что я слышу. Калитка чуть-чуть треснула. Какой-то незнкомец. Усунемся в кусты».
Странное утреннее посещение. Дожди – борьба с Ясинской. Отъезд Кирилла. Пасхальный номер. У Крола – через день лихорадка. Водка, я измучен, устал. Мойра. Висит над каждым днем, каждым часом. Верстка – в 12 часов с дядей Костей. Дождь. Боевик на 3000 метров. История с Мун-тиковым. Суббота. С утра – у Фукса.
Зал ТПО. У Гюля. Дождь. Ушел вперед. Армянские разговоры. Пришел Крол с ней. Ослепительная красота. Истома глаз. Я был пьян – Затягивает, как сеть.
Болтовня. В церковь. Привели Рубена. Пьяный крик. Узкие переулки. Дорога, обрыв. В церкви…
<…> Ее не видел. У них какая-то ссора. Холодные ветры над Тифлисом – [нрзб].
(Записи перед краткосрочной поездкой в Азербайджан и Армению в составе комиссии по обследованию состояния закавказских железных дорог, а также непосредственные впечатления об Азербайджане, апрель 1923 года)
Страстная суббота. Утром у Фукса. В [нрзб]. Дождь. У Гюля. Сборы. Я ушел вперед. Она с Кролом – красива, блестяща, удлиненные глаза. Мы пьяны. В церковь под руку. Рубен. На горах. Белые стены, свечи. Крестный ход. Вытаскивали женщину. В глине. Сторожиха. Носовой платок В церкви. И во веки веков. Обратный путь. У нас. Всю ночь. Легкая болтовня. Блеск глаз.
Вечером – объяснение с Кролом. «Я не хочу мешать вашему счастью». Утро первого дня, мучительное. Ночью дикий ветер – открывались все двери. Фраерманы, Чекризов и Гюль у нас. Вечером к Полю. Тоска, она что-то чувствует. Конец. Утром Крол швырнул платок – в город. Дядя Костя и Чегис – к Чекризову. «В чем дело?». Недаром бровки срослись. Майдан. Хаш в духане. У Мцхета. Мосты. Опьянены. Перманентное накачивание. Вечером к Чекризову. Саянский – весело. Крол растаял.
Вторник – редакция под хмельком. Гашиш. Великие перемены. Вечером у нее. Смотрела на меня, особое внимание, какой-то Сережа. Спор о футуризме.
Среда – позвал Фукса. Вино. С Чекризовым. У нас. Фраерманы. Красиво. Первый – Фукс. Фраерман и Соня. Старуха, она. С Фуксом Коля. Чекризов с женой. Саянский. Гюль и Вано. Вано мил необычайно. Дядя Костя и Чегис. Опьянение, песни. Лезгинка. Сидели на полу. Крамбамбули. Общий шум, веселье. Фраерман чудесен. Гюль за вином. Травля якорей. С Фуксом неладно, всем бросилось в глаза. Хорошо. Странные объяснения.
Обняла меня за плечи – Крол, маленький, сидит. Фраерман в дамской шляпе. Фукс в морской фуражке. Величанье. Как цветок душистый. Разговор с Вал.[ерией]. Крол резко. Проституированы. Я не поеду с вами в Москву. Ушли – утро – у Фукса. – Письмо ей – передал – прощание – Объяснение ее с Кролом. Ах, [нрзб] заяц, котишка. Поза тоски и отчаяния. Дядя Костя и Гюль – на вокзал. Извозчик Черные тифлисские улицы. Думы о случившемся.
Теплое, светлое купе. Инженер Мясоедов трясет курдюком. Ганджа – дождь, желтое пламя мазута, чинары. Осмотр. Аким Иванович. Керосино-проводные станции.
Я уехал, я бежал из Тифлиса. Зачем? Об этом надо молчать.
Ст.[анция] Евлах. Лихорадка. Комариные вышки. На берегу Куры, по мосту. Муть вечерняя, шум Куры. Сидел на камнях. Стремнины.
След.[ующий] день – впервые солончаки и чахлая полынь. Угрюмые предгорья, и вдруг стальным ножом сверкнуло море. Красные пески, индиго и желтые бесконечные караваны верблюдов. Вечер в Баланджарах. В пустых бараках. Странные думы. Вышки. В угаре, мазуте, дыму и копоти – грязное Баку. Читал в вагоне журнал «Россия». Тишина на душе. О Тифлисе думал как о родном, праздничном, веселом городе.
Утром в город. Пыль, зной, громада закопченных камней у грязного моря. Порт. Спокойный, широкий бульвар. Собор – Спасская улица, церковь – дядя Крола. Я простоял всю литургию и взял кусочек аркоса. Разговор с ним во дворе, где катались на осле дети. Путаница с деньгами. Вечером – в Дербент.
Дербент. На склонах. Сады и тишина. У песчаных, крупнозернистых пляжей шумит Каспийское море. Зеленоватое, дымчатое. Ветер. Масло. Лезгины. С Непринцевым и Солохаем подальше в город. Карагачевые леса, весна, русла высохших рек. Вино в ресторане.
Ночь. Сон о Буме – Жизнь давно сожжена и рассказана, только вещая снится любовь. Сон в Курдамире.
В Муганскую степь. Пустыня. Розовые пески и горы. Джейраны. На водокачку. На мосту через Куру. Инж.[енер] Лаврентьев – о ней [нрзб]. Манжеты и женитьба. Бродил в степи. Зной, тишина. Шли в розовом молоке обратно.
Веселый комендант. От Курдамира до Ганджи – вдали горы Армении. Осмотр цементного завода в Таузе. Вечер в Тифлисе. Извозчик. Дома. Скука и тишина. Крол плакал от радости. Она прячется. Кашляет. В редакции – скучно. Дурак Панов. Возня с каким-то дурацким рабкоровским номером. Отъезд в Армению. Тот же поезд.
Я один в купе, – никто не мешает думать. Прощанье с ней. Разговор о «Лихорадке». Цвета, Кронштадт, и зеленоглазая женщина.
Утро – Санаин. Ущелье Бамбака. Красота. Напудренные горы. Караг-лис – снега – чистый воздух и трогательные армянские церквушки.
Слепли от снега на Джаджурском перевале. Ледниковый снег. Холод. Армения у ног. Александрополь. Холодно, ветер. Нудное совещание. Пьянство в вагоне. Доктор накачивается. Утро в Эриване. С РКИ. Арарат и Алагез. Слезы на глазах. Синий сахар в небе. Двуглавый…[20]
(Записи о поездке в Армению с инспекционной железнодорожной комиссией, конец апреля 1923 года)
Эривань. Утро. Арарат двуглавый – не мог оторвать глаз. Алагез. Воздух и вода. Легендарные, баснословные времена. В город с РКИ. Собор. Люля-кебеб. Базар. Своеобразное настроение.
Джульфа. Кишлаки. Арыки. Тутовые дер.[евья]. Коралловые горы. Мост Александра] Македонского. Нарзан. Монастырь. Кладбище. Цвет земли Фарсистана. Ханство Шахтактинское. К мосту. Долина Аракса. Персидская глинобитная деревня. Мечеть. Цвет неба. Вечное солнце. Кладбище. Изразцы. Католическая иконка.
Монастырь на скале. Змеиная гора. Нахичевань – Базар. Мулла. Тени и солнце. Крашенные бороды. – Сабза. Аль Бухара. Глиняные стены. Курды – Макинское ханство. Курдистан. Солнце садилось за Араратом в тумане[21].
Баку – Дербент – Эривань – Джульфа – Нахичевань – Аракс – Алагез, Арарат. Бамбакское ущелье. Джанджурский перевал.
Не земля, а прах времен. До слез. Я нервный человек. Увидел Копет-Даг – не мог сдержать слез.
22 апр.[еля] 1923 г. я впервые увидел Арарат, 23 – Аракс и его долину.
Четв. Решил, что делать. Цвета, Кронштадт и зеленоглазая женщина.
(Возвращение в Тифлис из инспекционной поездки, сборы и возвращение в Москву, конец апреля – май 1923 года)
[нрзб] В окнах. Водокачка на Арпачае – граница. Ночь на Джанджу-ре. Звезды – небывалые – думы. Идем на тормозах – Санаин – Разлив. Ущелье. – В зное – Тифлис – камень.
Фукс на Михаил.[овском] проспекте. В передней – бросилась – радость. У Крола опять лихорадка. Отъезд Чекризова в Батум. Она (Чекри-зиха) у нас. 1-е мая. – На ступеньках у дома Фраермана. – Ракеты – по телефону. День печати. В Совпрофе. Буфет. Приехал длинный Том. В духан над Курой. Шум реки – словно в кают-кампании. – Тосты – «Отверженные» Гюго – «Барабанщики». Скандал. Фраерман и китайские рассказы. Холодный вечер. Кошки. Я принял вину на себя. У меня малярия – стало трясти у Фраермана. Слег – стонал. Вечером [нрзб] и она. Об издательстве. Стояли на камне – не хотела уходились. Заботы.
Вторник – крестный день. С утра – лихорадка. В 1-й типографии. Вано довел до дому. Слег. У Крола болит низ живота. Сквозь бред – рассказ. Слезы. Начался выкидыш. Долго не могла уйти. Возвращалась. Тоска и жар. Гюль – Носил вещи – Тревога – Ночью родилась мертвая девочка (8 мая). Записка Крола. У нее – чистота, румянец. Чегис привез деньги. Я словно во сне. Вечером встретил у Крола В.[алерию] В.[ладимировну]. Фраерман – со своей повестью. Я лежал. Сидели. Собрание у меня – Саянский, Коля, Чекризов, Вано и Гюль – Вино. Шумно. Вы не уйдете? – тревога в глазах. Стихи Блока. У Гюлей – зуб. Вано один у меня. О таланте. Слезы Крола. Мацони – Кино «Белая смерть». К [нрзб]. На парапете на Барятинской – о Комаровке – о бродячей жизни. Встречался ли я с любимыми? Нет.
Корректура. О рассказе – бумага. У окна. Что-то хотела сказать. Надпись на корректуре. Что ты бродишь вокруг и прожигаешь жизнь из-за женщины, а небо трепещет в глубокой синеве и горы зовут. К нам [нрзб].
Взял Крола. Слезы – успокоилась – На след.[ующий] день – страшный припадок. Долго бился с Кроленком. Изорвало всю душу. О Куре. Успокоилась. Слезы, примирение.
В редакции. Красивый жест. Удостоверение. Уезжает из-за нас, меня. «У меня в душе все исковеркано». Крол примирился. Добрый. Был у нее. Перо – термометр – я вас долго не видела – Фотография и [нрзб]. В Ботаническом с Фуксом и Мандаляном. Проводы. Нервозность Крола. Фукс Розы. Трамвай. Тифлисский вокзал. Волновалась. Один взгляд. Слезы на глазах, черно-зеленых. Алик и Мими, несколько слов о краже.
Безденежье – Герман. У Вано. Усталость. Скука дней – готовлюсь к отъезду. Кино «Никто» – В субботу – проводы у Синявского. До Солнца. Чистый и холодный воздух над горами. Чистота. На поле – смотрели на огни Тифлиса. Чекризиха. Вано и его негритянские напевы. Возвращение на заре. Чистое небо над Давидовской горой. Мацони. Снимались у Саянского. У сестры Гюля. Возня с потеющим Мандаляном. Фраерман едет через Крым. Думы. Верийский парк. Взломанные окна. Хорошо.
Отъезд. На вокзале Фукс, Вано, Саянский, Юлия Леонардовна, Чекризов и Чекризиха, Савицкий, Рубен, дядя Костя, Чегис. Лиловый закат над Тифлисом. Вано и дама из Управления. Каспийское море. Вареные яйца. Баку. Икра. Петровск – игрушечный порт. Серое утро. Радловский. Просторы Терской области. Водка. Минеральные Воды. Уют и чистота. Ростов. Запутанный вокзал. В Таганроге. Вышли на площадь. Степи. У окна. Думы о ней.
Москва – серо, дымно. К дяде Коле. Проскуровский дух. Москва грязная, 19-го года. Неоживленно, все серо и плохо одеты. Муська – вялая. Иванов – в редакции «Гудка». Катуар, Мы сохранились. Вегетарианская столовая. К Буме – зеленый вечер в свежести бульвара. Не нашли. Ночью – на выставку Лобанова.
Адресный стол. Марина и Евг. Никол. Вернисаж. Лобанов. К Буме – ссора на Никитском бульваре. К Сашке – красивая и оживленная Настя. Проболтали до часу ночи. На «Б». «Дом печати» – Брадуль – базарный раешник. Вокзал. Максим Горький. Ночь на Рязанском вокзале. Пьяный. Извозчики. У Саши. В баню. Славный город[22]. На «малашке» в Селькино. Полями. У сельской учительницы. Петька. Тарантас. Старики – славные. Ниночка. Дожди, поля, просторы, ромашки, церковь…
(Дорога в Москву, первые дни в Москве, конец мая 1923 года)
[нрзб] На Тифлис. Возвращение] в Москву. Закат над Курой. Мрачный вагон-ресторан. Вася – сапожник. Крол плачет, просит Боржом. Тоска. Баку. По [нрзб] улицам. Конка. Побережье Каспийского моря. Чертов палец. Петрович. Радловский. Пришел к нам. Вино, воспоминания. Терские плавни. Минеральные Воды. Таганрог над желтым морем.
Сосны, Донец, Москва – серая, темная, еще пустая. Звонок дяде Коле. Парикмахерская. У Высочанских. Комната для прислуги. Настя на Кузнецком. Иванов в «Гудке». У Балашовых, в белом. Отъезд в Екимовку. Рязань. У Павловых, – зеленые улицы. Малашка. Березовые рощи, свежесть
– Мишка – усадьбы. Старики. Чистота, коврики, раздолье. Душная комната. Писал «Этикетки…
(Из первых записей сквозного московского дневника, осень – зима 1923 года)
Тифлис – Отъезд – Москва – Рязань – Екимовка – Москва – Встреча – Поездка в Ленинград – Настя – Длинная история – Пушкино – Дача Клейменова, зеленая, хмурая хвоя. Слезы Крола. Портрет Келлермана. Тузик. Кошка Машка. Река вся северная. Острый воздух. Пишу «Пыль земли Фарсистанской». Поезда – Герман в Перловке. Капитан Зузенко-австралиец. «Вахта». Власов-Окский, темная, недалекая публика. Гехт. Зима. Ковальский. У нас – Мрозовский, Фраерман…
Из переписки
I. Письма 1922 – 1923 годов – событийных лет книги «Бросок на юг»
Е. С. Загорской-Паустовской в Одессу (Сухум, 11 февраля 1922 года)
Крол, родной, маленький. Прочти внимательно это письмо и сделай все, что я пишу, спокойно и не спеша.
Последнее письмо я послал тебе из Туапсе, с «Дмитрием». На следующее утро я проснулся от ослепительного солнца. Мы подходили к Суху-му. Я вышел на палубу и у меня закружилась голова такой красоты я еще не видел. Было жаркое утро, синь, блеск и маленький город весь тонул в цветущей громадными гроздьями желтой мимозе, в громадных пальмах и эвкалиптах. А за городом – горы в сосновых лесах и ослепительная снеговая цепь Кавказа. Я был в летнем пальто, но было жарко.
На пароходе встретил меня Герман-Евтушенко, на пристани – все остальные. Радости их не было границ. Когда я сошел на берег, где одуряюще пахнет мимозой и чайными деревьями (здесь уж цветут азалии, розы, цикламены, фиалки), из десятков духанов и лавчонок – с фруктами и вином, – я едва сдержал слезы от острой тоски, от того, что здесь нет тебя.
В последние дни я так стосковался, что малейшая мысль о тебе вызывает у меня слезы. Такой тоски, Крол, у меня не было еще никогда.
В Сухуме выяснилось, что, если я сейчас же не останусь и не начну работать, то не только будет потеряно место в Союзе кооперативов Абхазии, но и вообще пропадет всякая возможность нашего переезда сюда. Я колебался недолго и остался. И вот почему. Я присмотрелся, все взвесил и мне ясно, что если мы хотим спасти себя от голода, изнурительной работы и вечных дум о завтрашнем дне, то единственное, что нужно сделать – это остаться в Сухуми. Это какой-то благословенный угол. Ты здесь отдохнешь душой. Работать тебе совершенно не надо. Вот тебе маленький пример. В день моего приезда, через два часа я уже получил первый паек – 3 фунта белого чудесного хлеба, прекрасный обед, вино. Германов и Ивановых ты не узнаешь. Герман стал похож на Варламова – толстый, добродушный. Все они помолодели на 10 лет.
<…> Теперь о комнате. Комнату найти не легко, но к твоему приезду я найду. Уже есть одна, на горе Чернявского. Что такое гора Чернявского, можно понять только увидев ее. В саду, около комнаты растут громадные кактусы, бананы и мандарины. За окнами – море (здесь необычайные закаты) и синие громады гор. Поют арбы, и по улицам ходят страшные, но безобидные как дети абхазцы в бурках, с головами, повязанными черными башлыками.
Здесь такая тишина, как в Ефремове. Проживем одиноко до июля, августа, а потом – в Москву. Отдохнешь ты очень. Здесь море густое, душистое, всюду веет какой-то древностью, по вечерам виден анатолийский берег.
Одно меня мучит, из-за чего я едва не уехал – это то, что тебе придется одной уезжать, В дальнейшем я напишу, как тебе устроить все с отъездом и ликвидироваться. Как только кончишь читать письмо – сейчас же начинай действовать…
<…> Теперь относительно шляп. Здесь это пойдет хорошо, уже было несколько случаев у Марии Федоровны, у которой дамы просили положить вышивку. Если захочешь – заказов будет много. Я пишу все это, а рядом стоит Евгений Николаевич в новой бурке с букетом камелий в руках. Все здесь фантастические, начиная от восковых спичек и кончая духанами.
Возьми «Мертвую зыбь», рукописи и часть книг…
Крол, родной. Приехать за тобой я не могу – это значит кончить с Сухуми, обречь себя на голодную смерть. Меня это очень мучит…
<…> Живу я пока у Германов – встретили они меня как родного. Одно здесь плохо – масса вина, все пьют умеренно, но Ал. Исаакович иногда запивает. Когда я приехал, устроили ужин, на котором были какие-то абхазцы-горцы (кооператоры) в бурках. Они пели в твою честь «алавер-ды». Нравы здесь патриархальные. Когда здороваются – касаются правой рукой земли. То удостоверение, которое я тебе послал, береги, это большая редкость. Вообще въезд в Сухум для простых смертных почти невозможен. Крол, хотел бы написать еще о многом, но надо спешить. Будь спокойна и радостна. К твоему приезду уберу комнату цветами. Без тебя – я мертвый человек, мне трудно даже говорить, я больше молчу и все думаю. И иногда бывает так страшно, – может быть ты больна, зябнешь, голодаешь.
Целую. Твой Кот
P. S. Привет Головчинерам, если увидишь. Главное – не разбрасывайся, не возись с мелочами. Буду ждать тебя 1-2-3 марта.
<…> Если в Одессе стало лучше и тебе почему-либо не захочется уезжать, – телеграфируй или напиши. Я сейчас же вернусь. Здесь один недостаток – мы будем одиноки, как в Таганроге. Городишко маленький.
Мария Федоровна просит привезти последние модные журналы.
(19 февраля 1922 года)
Крол, родной мой, далекий. Если бы ты могла знать, как мучительно проходят все мои последние дни. Я не знаю, что со мной творится. Вчера вечером я ночевал у Ивановых и три раза просыпался ночью в слезах. Никогда со мной этого не было. Я ищу одиночества, не нахожу места от тоски и временами плачу как маленький ребенок. Я стал суеверен до глупости. Вчера уронил свою трубку, разбил ее и до сих пор не могу отделаться от тревоги.
<…> Если бы я знал, что в Одессе, какова там жизнь, голодаете ли вы все, что у тебя с магазинами, не устраиваешь ли ты свое дело, о котором мечтала – я бы легче все решил. Теперь о Сухуме.
Первое впечатление было, конечно, обманчиво. Таковы здешние места. Я перечислю тебе плюсы и минусы Сухума, все то, что открылось теперь и что я передумал.
Плюсы. – Красота (тропическая зелень, горы), тепло, пока довольно сытно. Во всяком случае, первое время ты можешь отдохнуть и не работать.
Минусы. – Красота чужая, ее хорошо посмотреть, пожить здесь ме-сяц-два, зная, что уедешь (наверное) отсюда. Во время всех моих скитаний (теперешних, последних) я понял, что единственный город, родной нам по душе – Москва, рязанские деревни, все такое милое и родное. Тоска у меня по Москве страшная. Я все колеблюсь, может быть, лучше приехать сюда, если там такой страшный голод, как говорят здесь. Но не лежит мое сердце к Сухуму. А вместе с тем я все думаю о том, как ты устала, думаю, что может быть единственное спасение – Сухум. Ивановы и Германы относятся ко всему как-то просто, я же – не могу. Порой настроение такое, что хоть руки на себя накладывай. Я ведь знаю, что для переезда в Сухум мы реализуем все наше последнее, а чтобы вырваться отсюда на север – у нас ничего не останется. Реши ты, у тебя есть чутье и верный глаз. Решая, думай только о себе. Для меня нужно и хорошо только то, что нужно и хорошо для тебя. Пишу я урывками и плачу над этими строчками, как ребенок. Я совсем болен – нервы дрожат, как струны.
Целую. Кот.
<…> Я все не могу забыть туманный день в такой милой теперь Одессе, когда ты провожала меня и долго махала шарфом…
(20 февраля 1922 года)
Крол, родной мой, далекий. Пишу это со слабой надеждой, что ты еще в Одессе. Написал вчера большое письмо и изорвал – пишу кратко.
<…> Сухум – красив, но чужой, измучившей меня красотой… Отношение к приезжим недоброжелательное… Абсоюз трещит… Морально же очень и очень тяжело, глухо, как-то безысходно. Но не в этом дело, – вырваться отсюда страшно трудно. Москва уходит, уплывает из рук, а у меня такая тоска по Москве, даже по Одессе, по тихим вечерам, культурным людям, интересному делу, «Мертвой зыби».
И когда я подумаю, что здесь нам может быть придется застрять на год-два (проехать отсюда до Москвы стоит миллионов 40), мне становится тоскливо и страшно. F:ли бы я не приехал, Иванов бросил бы все и уехал, ушел бы пешком в Одессу. Так стосковался. Если ты не боишься одинокой жизни, как в Копани, безлюдья (люди есть, но это не люди, а обормоты), оторванности от всего живого – приезжай. К осени как-нибудь вырвемся или на Тифлис, или на Одессу…
Если бы ты знала, какие мучительные дни я переживаю. Увижу тебя и проплачу несколько часов. И об одном только я молю Бога, – чтобы это письмо застало тебя еще в Одессе…
Целую. Кот.
P. S. Работа здесь скучная, канцелярская, хотя и легкая… Жаль «Моряка». Мой бесплатный билет до Одессы действителен до 18 апреля.
Лучше поголодать в Одессе, чем быть сытым здесь. Я бы отдал полжизни, чтобы быть в Одессе, чувствовать твою близость, близость Москвы, эту возможность. Из моих последних скитаний я вынес одно твердое убеждение – в Москву.
Как я тебя измучил. Теперь до конца жизни, до смерти я никогда не уеду от тебя.
Если решишь остаться – сообщи Крути, чтобы меня не исключали из списков.
P. S. Базируется наше благополучие только на пайке. Пропасть, конечно, здесь не пропадешь, но не в этом дело. Сухум – страшная глушь, забытая Богом и людьми кавказская деревня, отрезанная от всего мира. Здесь нет совершенно культурных людей. Водка и сплетни. Люди тяжелые, опустившиеся, замшелые. К нам, приезжим, относятся с тяжелой неприязнью, и потому наше положение крайне непрочно. Чем больше я здесь, тем все яснее для меня, что вырваться отсюда трудно, тем все дальше и дальше уходит в будущее Москва. Иванов смотрит на вещи как-то более просто – мечтает в июне-июле уехать в Москву, я же вижу, что это трудно, очень трудно и потребует от нас колоссальных жертв. Доехать отсюда до Москвы нам будет стоить не меньше 20-30 миллионов. Заработать их здесь нельзя. В этом смысле Одесса гораздо лучше. Сухумцы со злорадством говорят: «попали сюда – не вырветесь. Весь Сухум мечтает уехать, а сидит годами».
В последние два дня произошли следующие события: советские деньги объявлены необязательными к приему, в связи с этим цены поднялись от 8 до 10 раз… И так все, грузинских денег пока нет. Все служащие Абсоюза (Союз кооперативов Абхазии), где я служу, получают особые марки в лавку (вместо денег) – я получаю их на 100.000 р. в месяц. Базары и лавки заперты. В городе паника и растерянность. Конечно, это не надолго, и скоро все успокоится и придет в норму.
Наш Абсоюз трещит по всем швам. Большие перемены. Объявили о том, что паек будет сокращен до минимума. Это плохо, но не безнадежно. Поможет кооператив служащих.
Во всяком случае, положение наше довольно непрочно (кроме Германа, который цветет). Работа у меня скучная, но не тяжелая – возня с исходящими, входящими и паспортами.
Теперь я должен написать тебе о довольно неприятном. Германа ты не узнаешь. Насколько он был неудачлив и не на своем месте в Одессе, настолько он расцвел здесь, в провинции. Совсем другой человек. С апломбом, амбицией и властностью… Смещает (очень ловко) одних служащих и принимает других. Все его очень боятся.
Со мной он хорош. Но что здесь тяжело, – это неуверенность в каждом часе. В Одессе это не так мучительно. Там все же есть пять-шесть, десять людей культурных и хороших, есть книги, интересное дело, тихие вечера, есть возможность уехать, близко Москва. А здесь временами я словно очнусь от сна и думаю: где я, куда я тащу Крола?
Так было сегодня. Пошли с Ивановым в ботанический сад, в горы, в заросли кактусов и бамбука – и снова колебания, жаль, что ты не здесь, не видишь этой красоты, быть может, страшно голодаешь. Колебания мучительные, из которых я никак не могу найти выхода. Если бы я был уверен, что нам удастся вырваться отсюда, я бы не думал. Тогда все ясно и просто – ехать сюда и отдохнуть, сколько можно. Но нет этой уверенности. Здесь мы проведем много красивых часов, но снова вползает тоска, не знаю, может быть потому, что нет тебя, я не знаю о тебе ничего (на «Бату-ме» я не нашел твоего письма). Сухум – город не для того, чтобы нам в нем жить. Гостить – да, но не жить. Мы вертимся в орбите Германа, и если бы не он, нам было бы очень трудно. Меня поразил Иванов, когда он увидел меня на пристани, у него поползли слезы по щекам. Стосковался. Вчера я говорил с ним, и он мне сознался – если бы не мой приезд, сказал он, он бы бросил все и пошел бы пешком в Одессу, туда, где живые люди, где свои, где голод, но жива душа. Но вместе с тем, и он, и Марина Федоровна говорят, что оставаться в Одессе – безумие. Надо переждать здесь до осени. Если ты ликвидировала все – приезжай, летом разовьем наибольшую энергию, спишемся с Тифлисом, Москвой и уедем. Проживем здесь тихо, одиноко.
<…> Прости меня, родной, единственный мой зайчишка. Я замучил тебя. Не знаю, может быть, – из великой любви. Но я колеблюсь и ничего не могу решить.
Целую. Твой Кот.
(21 февраля 1922 года)
Крол, мой далекий, родной. Пишу это письмо с безумной надеждой на то, что оно застанет тебя еще в Одессе.
Послал тебе на «Батуме» письмо (с заведующим агиткаютой Кампусом) с документами и деньгами… Кроме того, послал телеграмму. Получила ли?
Если мое первое письмо и телеграмму ты встретила с радостью, если в Одессе действительно такой страшный голод, как об этом здесь говорят, если ты также рвешься и сидишь по ночам как и раньше, если у тебя не наладилось то дело, о котором ты мечтала – приезжай. Здесь отдохнешь и поправишься. Если у тебя есть хоть малейшее сомнение, хоть одна слезинка, если душа не лежит к Сухуму, если есть интересное дело с художественными магазинами – оставайся и тотчас пришли мне сюда телеграмму… Я сейчас же с радостью вернусь, не вернусь, а примчусь в Одессу (ты не знаешь, как она стала мне мила) с первым пароходом… Помимо всего этого, я вернусь в Одессу как представитель Абсою-за, что даст мне порядочную сумму денег. Приеду и поплачу от радости, что я снова с Кролом, среди культурных людей, книг, Фраермана, Коли, около «Мертвой зыби», в трех днях пути от Москвы.
Подумай и реши, как тебе подскажет сердце. У тебя много интуитивного чутья.
Если решишь остаться, а связи уже порваны – их, думаю, легко будет восстановить. Дай знать тогда Крути, что я возвращаюсь. Скажи, что у меня, мол, тропическая лихорадка (здесь он захватывает всех европейцев), и оставаться здесь мне гибельно. Я стосковался даже по «Моряку». Я, если ты тотчас же пришлешь мне телеграмму, я успею приехать к 12-14 марта по н.[овому] ст.[илю].
Пишу я тебе, Крол, как маме, как на исповеди. Пищу всю правду до конца, хотя мне и очень тяжело. Такой тоски у меня еще не было ни разу в жизни. Я часто плачу по ночам, нервы у меня дрожат как струны, и нет ни одной минуты, когда бы я не думал о тебе. Временами состояние такой безысходности, безнадежности, что хоть руки на себя накладывай. Я постараюсь спокойно и логично рассказать тебе все, что со мной творится.
Сухум сразу поразил меня (особенно, может быть главным образом, после тяжелого морского пути) красотой и обилием пищи. Но прожил я здесь неделю, и все поблекло. Не лежит душа к Сухуму, и тоска такая, словно я попал в западню. И если есть смысл сюда ехать, то только спасаясь от голодной смерти. Во всем остальном он несравненно хуже Одессы. И эта мысль о необходимости дать отдохнуть тебе, подкормиться нам двоим и заставила меня остаться в Сухуме.
Напишу все по пунктам, т. к. мыслей у меня так много, что я не могу их собрать.
1. Паек. В феврале был хороший, но в марте будет сокращен до минимума, пожалуй, до одесских норм. На базаре все дешево, но советские деньги не ходят, грузинских же вообще в городе нет.
2. Служба. Все наше положение (мое и Иванова) базируется на Германе, который играет в городе одну из первых скрипок (его даже приглашали секретарем здешнего Совнаркома). Его не узнать. Он ведет себя довольно неприятно, карьерист, ведет сложную чисто восточную политику. Абсоюз пока что трещит и возможно вылетит в трубу. Но служба всегда будет.
3. Возможность вырваться в Москву – весьма сомнительна. Здесь как на тропическом Сахалине. Абхазия отрезана от всего мира горами – единственная связь – это море. Кроме того, чтобы переехать сюда, мы реализуем все наши последние ценности, приобрести же их здесь для поездки в Москву – не сможем. А уехать в Москву отсюда, – нужно не менее 40 миллионов. А у меня тоска по Москве страшная. Я твердо решил: к осени мы уедем в Москву, погостим в Екимовке. А отсюда вырваться в Москву будет трудно. Может быть, придется здесь застрять на год-два, а это очень страшно. Вся беда Сухума – это то, что здесь все хорошо питаются, т. к. все жалование выдается продуктами, денег же не дают и раздобыть их очень трудно. И все попавшие в Сухум на полгода (как и мы) сидят здесь по три-четыре года, засасываются, тупеют и гибнут, не имея возможности вырваться.
4. Духовная жизнь. Нет никакой. Это громадная абхазская деревня, без книг, без газет, совершенно отрезанная от всего мира. Интеллигентных людей нет совершенно… Все русские спились, опустились. К приезжим относятся недоброжелательно. Моральная обстановка страшно тяжелая, и об Одессе я вспоминаю как о громадном культурном центре.
Тоска такая, что временами хочется кричать, уйти отсюда, бежать от этих влажных гор, грубых, одичалых людей, от льющих в последние дни дождей и грязи. Сюда хорошо приехать на лето, посмотреть цветущие мандарины, горы, побродить у моря, зная наверно, чnо отсюда скоро уедешь.
5. Красота – поражает сразу, но в два дня приедается. Все влажно, страшно сыро. И солнце не радует. Может быть потому, что нет тебя. Здесь сильная малярия, в июне-июле ею болеют все приезжие. Форма ее довольно тяжелая, иногда смертельная. Единственное лечение – отъезд.
Вот вкратце вполне объективное описание Сухума. Теперь весь вопрос в одном – что в Одессе? Если очень плохо, надо переселяться сюда. Если нет – оставаться.
Я в последние дни все думаю, что Фраерман был прав, когда говорил с нами о Сухуми.
Ты знаешь, в последние дни я с такой болью вспоминаю об Одессе, о всем, что связано с тобой, о Фраермане, Коле, «Моряке», тихих вечерах, котишке, книгах, рукописях. Неуютная здесь жизнь. Мне очень тяжело. И еще тяжелее от сознания, что я ничего толком не расмотрев, написал тебе восторженное письмо, причинил ряд мучений. Я сам измучился до болезни. Если решишь приехать, – телеграфируй тоже. Буду ждать от тебя ответа как ребенок.
Целую. Твой Кот…
(6 марта 1922 года)
Все деловое – я подчеркнул, чтобы ты не спутала.
Крол, родной. Боюсь, что ты не получила всех моих писем. С «Бату-мом» я послал письмо, в котором были документы на твое имя на въезд в Сухум. 1.000.000 денег и восторженный отзыв о Сухуме. Это было первое и очень неверное впечатление.
Второе письмо я послал на «Пестеле» с Абергузом. Писал я его спустя несколько дней, когда немного осмотрелся и заболел «сухумской» тоской. Писал о том, что жить в Сухуме тяжело и трудно (в моральном отношении), материально же – хорошо, но материальное благополучие всецело зависит от спившихся и довольно подлых местных культуртрегеров – бывших приказчиков из бесчисленных барских имений. Кроме них, офицерских жен и темных дельцов – другого общества нет. Я писал о том, что если ты решишь сюда не ехать – дай телеграмму…
По моим расчетам, если ты приедешь, то с пароходом, который приходит послезавтра (8-го), должен быть ответ, если же ты решила ехать, то с этим пароходом ты приедешь сама, и это письмо тебя не застанет. Телеграммы от тебя до сих пор еще нет. И эта неясность очень мучительна. Если на следующее! пароходе не будет ни тебя, ни письма, ни телеграммы – буду ждать еще, т. к. боюсь, чтобы мы не разъехались. До сих пор от тебя не получил ни строчки.
Крол, если бы ты знала, как здесь глухо и тяжело. Жить здесь можно только спасаясь от голодной смерти. Со слезами я думаю о тебе, о людях с мало-мальски живой душой, о шумном городе, о книгах, о нашей комнате в Одессе. Рвусь отсюда страшно. И вместе с тем страшно, – может быть в Одессе жизнь стала уже невыносимой. И красота здешняя – не красота. Смотришь на мертвую, черную, словно лакированную зелень, на хмурые горы, и такая на душе тоска. Здесь красота паноптикума. Все както безжизненно и тяготит.
Все дни и ночи я думаю о тебе и боюсь за тебя и колеблюсь. Все жи-бые люди бегут отсюда, как из прокаженного города. Я ничего не знаю о том, что делается в 40 верстах от Сухума. Он отрезан стеной непроходимых гор, живут все как в мышеловке и трудно ориентироваться. Иванов собирается бежать отсюда все равно куда, – в Одессу, в Москву, куда удастся, если, конечно удастся вырваться отсюда. А вырваться ему очень трудно. Платят здесь за все продуктами, денег нет (советские совсем не ходят), вещи никто не покупает и потому все живут хорошо, но без денег, и достать их не могут. Получается странная закрепощенность.
<…> Жду телеграмму или письмо. Как только получу – выеду первым же пароходом. Встретим в Одессе тихую, ласковую Пасху и больше никогда не будем разъезжаться…
Целую. Кот…
Н. Г. Высочанскому в Москву (Сухум-Кале, 21 июля 1922 года)
Дорогой дядя Коля. Пишу тебе из русских тропиков, куда нас загнал голод. Не знаю, в Москве ли ты. Чувство у меня такое, что мы не виделись десятки лет, хотя и прошло только четыре года.
Через месяц увидимся. Мы с Катей едем в Москву Пора. Москва немного пугает своей перегруженностью, но дальше скитаться по России нет ни сил, ни смысла. Голод идет на убыль, возрождается, хотя и очень убого, культурная жизнь, и снова тянет в Москву.
Пережили мы столько, что хватит лет на 10. Этой зимой пришлось бежать из Одессы в благословенную Абхазию, наиболее нетронутый уголок Кавказа, где жизнь течет так же, как в старое, дореволюционное время. Здесь очень красиво, это один из немногих уголков Южной Европы с чисто тропическим климатом. За нашими окнами – пальмовый лес по горам, заросли бамбука и море, а в саду цветут кактусы, олеандры, магнолии и прочая чертовщина. Страна вечно пьяная (вместо чая… пьют вино), лодырная, причудливая и богатая.
Из Москвы в мае мне надо будет ненадолго уехать в Одессу – сдать экзамен на штурмана дальнего плавания. Я не думаю делать из этого свою профессию, но это мне даст возможность иногда плавать, главным образом заграницу. В главную же свою работу – чисто литературную – я думаю как раз в Москве уйти с головой.
У меня к тебе большая просьба – напиши, если можешь, сейчас же (письмо из Москвы идет сюда 2 недели и может меня не застать): вкратце твое впечатление о Москве, о московской жизни, делах и комнатном кризисе.
Катя по дороге в Москву заедет недели на три к родным, я же поеду прямо.
Напиши, что тебе известно о наших. Вот уже давно я пишу им, но не получаю ответа. О Проскурах тоже ни слуху, ни духу.
Буду ждать твоего письма. Когда приеду – поговорим обо всем. Хотелось бы очень повидать тебя. Постоянное одиночество и шатание среди чужих людей очень уж измучило.
Помимо прочих соображений, уезжать отсюда мне нужно поскорее. Мы живем высоко в горах, и от этого у меня развилась пустяковая, но опасная в здешних условиях болезнь – энфизема легких. Климат здесь очень тяжел для европейцев. Вот уже две недели стоит жара, доходящая до 56-й градусов, духота одуряющая, чувствуешь себя как в парилке. А внизу – поголовная малярия, от которой русские мрут, как мухи. Этот климат, когда воздух втягиваешь, словно сквозь повязку из ваты.
Исаак Бабель К. Г. Паустовскому в Вотум
(Тифлис, 14 ноября 1922 года)
Дорогой Константин Георгиевич!
По совету бывшего студента, пострадавшего за убеждения и знавшего лучшие дни, – не езжайте в Тифлис. Прошибить грузинскую стену труднее, чем проделать то же самое с китайской. А насколько мне известно, и с китайской немногим это удавалось. Да и стоит ли игра свеч? Не стоит. Это, во-первых.
Второе, – будет ли во что играть? Гадательно. Сами Вы видите, что «Заря Востока» – ничего не стоит. Провинциальная старушка со вставными зубами и со столичными претензиями. Исправить ее – наивная затея. Я уверен, что газета так загромождена мелкими и бездарными самолюбцами, заедена злым интриганством, изгажена неуменьем спецов и безразличием руководителей, что не нам с вами зачистить эти весьма не благодатные конюшни. Для того, чтобы успеть хотя бы в малой степени, нужны месяцы и полугодия…
Не забудьте, что все пути, будь это пути туркестанские или афгани-станские, ведут к Москве и из нее вытекают. «Заря» в этом отношении бесполезна совершенно. Кроме Закавказья она ничего не собирается обслуживать, да и не умеет. Трезвая оценка положения подсказывает один план действий: Батум – Москва безо всяких остановок на промежуточных станциях. И только в Москве можно начинать «предполагать». А то в Тифлисе грузинский бог так Вас расположит, что и костей не соберете.
Если Вы вопреки здравому смыслу все-таки поедете в Тифлис, – то сообщите конкретный срок Вашего отъезда – перешлю Вам письма редактору «Правды» члену ЦК…нову [нрзб], одному из заправил «Правды» Леониду Саянскому, отв.[етственному] секретарю «Зари» Ткачеву-Акобад-зе, редактору «Красного Воина» Попову и др. Попов сейчас в Сухуме на отдыхе. Кроме прямой своей работы он заведует в «Заре» отделом «Кр.[асная] Армия». Я с ним поговорю о Вас здесь (он уезжает этим или следующим рейсом) и записку на всякий случай прилагаю. Изготовлять остальные письма сейчас нахожу неразумным, т.[ак] как я хотел бы сообщить адресатам и о себе и воспользоваться для этого Вашей поездкой.
Екатерину Степановну я пока не видал. Одержимая экскурсионной горячкой, она лазает по окрестностям с упорством, достойным Бисмарка или английского боксера. Молодчина. Вот бы всем хорошим людям таких жен. А туфли какие у нее?! Чудо на горе Синайской – и только.
Теперь о себе. Благоденствую, не заглядывая в будущее, ибо будущее темно до непонятности. Евг.[ения] Борисовна очутилась неисповедимыми путями в Москве, оттуда я и жду инструкций для руководства и исполнения. До получения от нее сведений – буду сидеть здесь.
Пришлите мне, голубчик, корреспондентский билет «хМаяка» и какую-нибудь бумажонку (если можно) полезную для предъявления в агентскую кассу.
О переменах в судьбе уведомляйте неукоснительно. Мэри кланяется.
Ваш И. Бабель (по сух.[умски] – К. Лютов)
II. Из писем 1923 – 1929 годов, связанных темой «Броска на юг»
М. Г. Паустовской в Киев
(д. Екимовка Рязанской губернии, 14 июня 1923 года)
Дорогая мама. С 21-го года, с того времени, как мы бежали из Одессы от голода на Кавказ, я потерял всякую связь с Киевом. Из Одессы мы уехали в Сухум (Кавказское побережье Черного моря) и прожили там около 8-и месяцев. Из Сухума я писал тебе и дяде Коле, но ни от него, ни от тебя ответа не получил. В Сухуме мы очень поправились, посвежели после одесской голодовки и решили ехать в Москву через Батум и Тифлис. В Батуме немного застряли (прожили 6 месяцев). Здесь и меня, и Катю скрутила тропическая лихорадка. В Тифлисе у меня лихорадка прошла, у Кати же продолжалась в очень тяжелой форме, и в связи с лихорадкой у Кати родился на 7-м месяце мертвый ребенок, которого она страшно ждала. Это на нее очень подействовало, и мы тотчас же уехали из Тифлиса, несмотря на то, что в Тифлисе нам материально жилось прекрасно (я редактировал большую закавказскую газету). Уехали мы в Москву и оттуда в деревню Екимовку в Рязанскую губернию к родным Кати.
Недели через 1,5 я поеду в Москву. В Москве этим летом я думаю издать несколько своих вещей отдельными книгами. Когда устрою дела с изданием (приблизительно ко второй половине июля), приеду к тебе в Киев.
Все эти годы, несмотря на материальное сравнительное благополучие и очень причудливую разнообразную жизнь, все же было очень тяжело от полной неизвестности, – что с тобой и с Галей.
Целую тебя и Галю крепко. Поцелуй от меня всех Проскур. Как тетя Вера?
Привет от Кати.
Пиши. Твой Котик.
Е. С. Загорской-Паустовской в д. Екимовка
(Москва, 16 июля 1923 года)
Ки, маленькая. Сегодня Сергей Дмитриевич привез твое письмо…
Почему ты… скрыла, что у тебя были припадки малярии? Серг.[ей] Дмитриевич мне все рассказал.
Ты тревожишься обо мне, потому что ты маленькая и чуткая. Мне правда сейчас тяжело. Мне очень бы хотелось быть сейчас с тобой, но вместе с тем, страшно не хочется тащить тебя в Москву – грязную, душную, суматошливую. Но если тебе тревожно и скучно стало в Екимовке, сейчас же приезжай. Если у тебя не хватает денег на дорогу, напиши мне сейчас же и я пришлю на имя Александра Васильевича. Если бы ты знала, как мне хочется быть сейчас с тобой. Глупый, большеглазый Крол, смешной. Ты пишешь о том, чтобы я от тебя ничего не скрывал. Я от тебя никогда ничего не скрывал и не скрою, потому что я тебя так больно люблю и теперь у меня такое чувство, что я остался без сестренки и без мамы.
Я так много хочу поговорить с тобой обо всем, – и о печатании, и о будущем бродяжничестве, и о всей моей жизни, которая теперь вошла в какой-то иной аспект, я как-то ее увидел совсем иной, со стороны и, правда, Крол, есть в ней что-то необычное, прекрасное, волнующее меня самого. И еще я хочу поговорить о том, что произошло в Москве, – нестрашном ни для меня, ни для тебя, но страшном для Валерии Владимировны, которую я встретил на Сретенке, на шестой или седьмой день после своего приезда в Москву.
Перехожу на карандаш, потому что надо спешить, и я боюсь, что не успею всего написать. Напишу коротко, а подробно все расскажу, когда приедешь.
Она окликнула меня на улице, бросилась ко мне и расплакалась. А спустя четыре дня. перед отъездом в Тифлис, она неожиданно пришла ко мне, страшно бледная, помертвевшая, села на диван, и у нее сильно пошла горлом кровь. Только спустя полчаса кровь удалось остановить. И она мне сказала о том, что, должно быть, скоро умрет, и теперь ей не страшно сказать мне, что она любит меня, что никогда в жизни у нее не было такой боли, что должно быть, она никогда в жизни никого не любила настоящей любовью, что ее изломали, искалечили и теперь у нее в жизни осталось только одно, – любовь ко мне, радость от сознания, что я живу, вот здесь, на этой земле.
Она говорила о том, что меня все любят, что я в душах всех, когда ухожу, оставляю большую боль от сознания, что мимо них прошел необыкновенный, тонкий человек, еще мальчик, но с такой большой, большой душой. Она говорила еще много, но это особенно врезалось мне в память. И вот она долго плакала тихо, в углу дивана, и в глазах у нее было такое безнадежное отчаяние и боль, какие бывают, должно быть, у матери, у которой умирает ребенок.
Крол, маленький мой, ты поймешь как мне было невыносимо таже-ло. Я был суров, может быть, ненужно суров и думал о том, что это большое несчастье быть таким, как я. Всюду в жизнь я вношу какую-то тревогу и боль, и любовь, – и все это очень мучительно.
Пишу наспех, скомканно. Сейчас я сижу у Спасской заставы на бульваре и дописываю письмо (здесь неподалеку живет Сергей Дмитриевич). Во вторник (10-го) она с Кириллом уехала в Тифлис.
Когда приедешь, я расскажу тебе все более подробно и более связно.
У меня почти каждый день ночует Фраерман. Был три раза на даче у дяди Коли (он уже приехал). <…> У дяди Коли сильное нервное расстройство.
Теперь о себе. Я работаю в журнале «Рабочий водного трансп. [орта]» – 3 часа в день за 12 миллиардов в месяц. Как зацепка – это не дурно. Кроме того, это дает бесплатный проезд по всем морским и ж.[елез-но]д.[орожным] путям не только мне, но и тебе, глупой.
Налаживается дело с кругосветным рейсом (на пароходе Добро-флота) весной буд.[ущего] года. Приедешь – расскажу.
Крол, наши вещи заперты в отдельной комнате, а ключ на даче, поэтому ниток достать не мог. Посылаю газеты. Книг никто здесь не покупает и достать их трудно.
В субботу уже получу деньги.
Маленькая, приезжай. Боюсь я очень звать тебя в Москву и, вместе с тем, у меня такое состояние, что с тобой мне пережить его будет легче.
Целую. Твой Кот.
Поцелуй всех. Если отложишь отъезд, напиши (заказным). Не плачь, будь спокойна, серенький котишка.
(Конец июля – начало августа 1923 года)
Получил твое большое письмо, несколько раз перечитывал его, и мне после этого письма хочется только одного, – увидеть тебя, поговорить с тобой, потому что я чувствую, что без тебя я вообще запутаюсь в жизни, в самом себе и втяну за собой других. Глупая, маленькая, я могу смотреть тебе в глаза теперь просто и ясно, гораздо проще и яснее, чем в Сухуме, в Одессе, где мы жили каким-то глухим, задушенным в себе надрывом.
С Вал.[ерией] Влад.[имировной] произошло «страшное» для нее. Так я писал. И не так себе, не зря, маленькая. Потому что, если в Тифлисе, если потом в Москве вокруг всего этого создалось странное, затягивающее настроение какой-то муки, тревоги, каких-то переломов, веянье каких-то душевных кризисов, то уже давно, особенно теперь, хотя это настроение у меня и осталось, но его давит большой и очень, очень мучительный стыд. Стыд от того, что я равнодушен, холоден, что даже и жалости по отношению к ней у меня не осталось. Как-то все вдруг сразу похолодело во мне и кончилось. Стыд от того, что ведь полюбила она меня, может быть, отчасти потому, что я первый обратил на нее внимание, я первый в нее начал всматриваться и я же первый ее забыл и прошел мимо. Сейчас я уже прошел мимо.
…Очевидно, есть во мне еще много, слишком много злого и темного. Ты это поймешь, если представишь себе, что с тобой (если только можно это представить) произошло бы то же, что и с ней. Украсть у человека душу, обогатить себя новыми настроениями, бросить его в провалы тоски, о которой он раньше не мог и думать, т. к. раньше жил слишком убого и плохо, заставить его метаться, искать выхода и, в конце концов, – выхода не дать, уйти… Она пишет мне (я получил уже несколько писем). И все письма – это какой-то сплошной крик. У меня такое чувство, точно я присутствую при рождении души, человека, – рождении всегда тяжелом, мучительном, но, вместе с тем, какой-то подсознательный инстинкт мне говорит, что все это метание кончится впустую.
Подробно об этом поговорим в Екимовке. Я теперь, думаю и ты, могу говорить об этом спокойно, т. к. о прошлом. Для нас это прошлое, для нее – нет. И теперь единственное, что мне нужно, – сделать все, чтобы и для нее это стало прошлым.
<…> Я все время чувствую вокруг себя какую-то робкую любовь, тоску и ласку. Люди самые разные, самые случайные. Так прилепился ко мне душой в течение двух-трех дней муж Софьи Владимировны, она, Соня Фраерман, Рувим, Настя, Глеб Афанасьев и каждый день все новые и новые…
А я знаю, что все это – обман, потому что все они любят во мне то, чего по существу-то у меня нет, то, о чем я лгу, то, о чем я тоскую, любят меня не реального, а такого, каким бы я хотел быть.
И я ищу выхода. И временами мне так хочется, чтобы все поверили в мою смерть, в то, что меня уже нет и я мог бы в одиночестве переломать себя, вытравить из души все больное, все темное, что так ясно теперь ощущаю, и снова вернуться в жизнь простым, правдивым, ясным.
Я думаю о бегстве, об одиночестве, чтобы разобраться в самом себе. Это один выход. И есть еще один, детский, ребяческий, – прийти к тебе и выплакаться, и ты мне все, все расскажешь так просто и так хорошо, радостно, как ты умеешь, и я буду знать, что со мной было и буду знать пути к дальнейшему.
И вот это больное, о чем я думаю дни и ночи, тем более странно, что никогда я физически не был так крепок, свеж и как-то спокоен, как теперь. Я очень упрямо, ни разу не пропуская, веду мопассановский режим в жизни. Три раза в день я обливаюсь холодной водой, сплю при открытых настежь окнах, под одной простыней, без белья, вот уже месяц я не надевал фуражки и пальто, и очень посвежел, окреп, помолодел. Все, кто видел меня раньше, поражены этим. И вместе с тем, я по ночам много работаю, мало сплю.
Кролик, 25-го августа я выеду в Екимовку. Со мной очень хочет ехать Надя, она говорит, что кроме «Сошки», тебя и меня – у нее нет родных людей. Кроме того, она, кажется, голодает, весь заработок уходит на мать, у нее началась в легкой форме цинга, и ей надо слегка отдохнуть. Поэтому, может быть, она приедет со мной. Если удастся, то выеду раньше. В четверг получу деньги и пришлю тебе. Если бы ты знала, как мне нужно видеть тебя, как мне нужно опереться на тебя, ты бы не болела и не мучилась. И я боюсь только одного, – когда тебе нужна была моя поддержка, я ее тебе не дал. И вдруг ты мне тоже ее не дашь? Теперь я понял, как это, должно быть, безвыходно, когда надо метаться со своими силами, которые вот-вот все уйдут и никто не поможет.
Еще одно. Несмотря на все то, что я пишу тебе, сила чисто творческая, стремление писать, масса образов – все это обострено сейчас необычайно. И не только обострено. Чувствуется в этой тяге к тому, чтобы писать, какая-то зрелость, спокойствие, неумолимость. Писать в этом письме о мелких делах, мелких заботах, не хочется. Напишу об этом потом. О Петрограде мы поговорим, когда я приеду.
Целую. Кролик, маленький мой, теперь снова ожило у меня и расцвело твое первое имя Хати-дже – татарка с зелеными, громадными, заплаканными глазищами.
Твой Кот…
А. М. Гюль-Назарову в Тифлис (Москва, 10 августа 1923 года)
Дорогой Александр Мартынович! Простите, что так долго молчал. Но в Москве я сравнительно недавно. Около месяца провел в Рязанской губернии, где Екатерина Степановна отдыхает и до сих пор.
…Теперь о Москве. Москва вовсе не так страшна, как кажется в Тифлисе. Во всяком случае, Вы один (без семьи) сможете здесь найти работу очень легко. Об этом говорят все, в частности, Либусь, который растолстел и поправился. Об этом же говорит Деревенский и все, кого я здесь встречал. С комнатой будет плохо, но остановиться – и остановиться ненадолго – Вы всегда сможете или у меня (если к тому времени будет комната), или у кого-либо из своих (если комнаты у меня не будет). С семьей же ехать в Москву, по моему, рискованно.
Либусь ругает Вас четырехэтажно за то, что Вы тянете с переездом в Москву.
Я работаю пока с Женькой Ивановым, но думаю сбежать. Уж очень Женька арапист и неразборчив. Претит. Марина Федоровна цветет. Джек ждет женихов. Ковальский ведает каким-то департаментом в Совнархозе. Хейфец валяет дурака. Любовичу все уважающие себя люди перестают подавать руку. Каждый день я встречаю все новых и новых из наших «старых» знакомых. Видел Майзеля. Здесь процветает Зозуля (помните «Театр»), мечется Саянский. Много тифлисцев. Москва – в дождях, слякоти, бензинном чаде, сутолоке. Стала типичным Петроградом, чиновным городом. И тянет в Тифлис, на солнце (за два месяца в Москве я только два раза видел солнце), к кахетинскому вину и праздничной, не суматошливой не занятой жизни. Очень возможно, что приеду ненадолго в Тифлис этак в половине – конце сентября. Вот напьемся! А из Тифлиса в Москву мы поедем вместе. Был в Петрограде, но недолго и ни Лифшица, ни Головчинеров не видел.
На днях приедет в Тифлис с женой на два-три дня мой большой приятель Борис Дмитриевич Ильинский – человек веселый, душевный, настоящий москвич, весьма близкий к издательским, литературным и журнальным крутам. Он зайдет к Вам. Он едет в Тифлис по делам, но, главным образом, чтобы накачаться кахетинским, и потому я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы пошатались с ним по хорошим, типичным духанам. Сводите его «Над Курой». Денег у него много, он – наш, и потому можете пить на его [нрзб.]. Кстати, он может рассказать Вам подробно о Москве и обо мне, буде пожелаете. Жена у него чудесная. Напишите мне о себе, о Вано, обо всем подробно. Часто, очень часто вспоминаю с Фраерманом Вас и Тифлис. Фраерман здесь – работает в РОСТе. Там же работает Урланис.
Пишите. Продолжаете ли работать в «Заре», как живут Ваши, встречаете ли наших «гудковцев», Зданевичей? Если увидите дядю Колю, Чегиса или Чекризова, то передайте им мой адрес, – пусть напишут. Адрес: Сретенка, 26, кв. 9 Высочанского, мне. Телефон: 1-39-25.
У меня грандиозные планы на будущий год, но об этом напишу позже.
…Привет всем. Привет Евдокии Мартыновне и девочкам, и Рубену. Привет мацонщикам и кацо, и Головинскому, и кротким ишакам, и тифлисскому зною. Если бы знали, как все это стало милым и родным. А главное, – здесь паршивое, поддельное и дорогое вино, и нельзя каждый день пить. Вы понимаете? Фраерман даже заболел от этого черной меланхолией, а я просаживаю 1/2 всех денег на вина «из государственных подвалов Армении». Всего, всего хорошего. Пишите мне.
Ваш К. Паустовский
Валерии В. Зданевич (Валишевской) в Тифлис (Москва, 20 августа 1923 года)
Меня несколько дней не было в Москве. Фраерман передал мне сразу три Ваших письма. Два радостных и одно очень печальное. Вышло нехорошо. Вы спрашиваете, маленькая, что делать? Во-первых, мои письма никто и никогда, кроме Вас, не должен читать. Они слишком чисты и интимны. Во-вторых, Вы можете просто сказать Кириллу, что это письма от человека, который Вас любит, можете даже сказать, что от меня, но что показать их кому бы то ни было Вы не хотите и не можете, т. к. любовь к Вам, как и всякая любовь, слишком больная и слишком радостная вещь, чтобы говорить о ней даже мужу. Мое имя Вы можете назвать, если это будет нужно. Страшного для меня в этом нет ничего. Что обо мне будет говорить К.[ирилл] Михайлович] или все обитатели квартиры в Кирпичном переулке, – для меня крайне безразлично. Я иду своими путями и не привык считаться с чужим недовольством. Я принимаю все на себя, – в этом смысле Вы и можете говорить с Кириллом.
Мне очень больно, что Вы так тревожитесь и мучитесь. Вы не хотите, чтобы я приехал в Тифлис? Я понимаю, что особенно теперь это будет для Вас связано с массой неприятного и мучительного. В Тифлис я не приеду. Немного досадно, потому что я не так давно получил билет до Тифлиса и мог вырваться на 10-14 дней из Москвы.
Теперь – вот что. На днях я уезжаю в Петроград, а оттуда, вероятно, в Мурманск (Полярный океан). Поэтому – не волнуйтесь, если долго не будет писем. У меня скверное настроение, и я хочу побыть в одиночестве.
Не сердитесь, маленькая и стройная. Напрасно, совсем напрасно Вы полюбили меня. Я ведь сумасшедший.
Ваш мальчик
Наталья Навашина-Крандиевская. Фрагменты из книги «ОБЛИК ВРЕМЕНИ»
Красивая Валерия, стройная девушка с каштановой челкой, описанная К. Паустовским в «Броске на юг», была очень хороша собой и талантлива. В шестнадцать лет выходит замуж за Кирилла Зданевича, только что вернувшегося с фронта Первой мировой войны. Мне с нежностью Валерия Владимировна рассказывала о своей свекрови Валентине Кирилловне, грузинке, маленькой, очень доброй, ласковой, прекрасной хозяйке. Многому научилась от нее Валерия. Родив сына, очень похожего на свекровь и мужа Кирилла, она передала его в руки бабушки. Потом сокрушалась, что его сильно избаловали. Всю свою жизнь Валерия Владимировна ничего не знала о сыне, росшем в Тбилиси. Уже только когда он стал взрослым, женатым человеком, шофером, она встретилась с ним, будучи сама глубокой старушкой. Но никакой близости у матери с сыном не получилось. Жизнь прошла врозь, разные мироощущения, другая среда – словом, чужие люди.
…Михаил Сергеевич Навашин был уже дважды женат, когда увлекся в Тифлисе Валерией Валишевской, подругой своей сестры Татьяны. Натерпевшись от тяжелого нрава нудного Кирилла Зданевича, юная Валерия теряет голову от красавца-искусителя Михаила Навашина, а тот, по обыкновению не задумываясь, покидает молодую жену с новорожденным сыном и уезжает с новой подругой в Москву, где жил его старший брат Дмитрий с семьей. Дмитрий был полной противоположностью Михаилу не только внешне: однолюб, общительный, всем старался помогать. В то время он занимал крупный пост в финансовом мире и, имея две квартиры, сразу устроил новоиспеченных молодоженов в одной из них. Какое-то время прожив в Москве, Михаил Навашин был приглашен по Рокфеллеровской стипендии в Америку. Защитив в Калифорнийском университете докторскую диссертацию, пробыл там вместе с женой Валерией два года.
…Еще в Америке Михаил Сергеевич получил письмо – объяснение в любви от своей сотрудницы Е. Н. Герасимовой. Валерия тогда только посмеялась, не придала этому значения. Однако по возвращении она стала замечать активное ухаживание этой молодой сотрудницы за мужем. Так длилось какое-то время. Но «гордая полячка», властная и бескомпромиссная, решила положить этому конец – благо у нее тоже возобновился роман с К. Г. Паустовским, с которым она познакомилась еще в Тифлисе. Константин Георгиевич все чаще появлялся на Пятницкой, 48.
Навашины разошлись весьма мирно. Сережа остался с отцом, опять тоскуя по приемной матери, такой веселой, заботливой, деятельной.
Вдруг получает письмо из Крыма. «Если хочешь, приезжай к нам», – писала Валерия Владимировна. Получив разрешение отца, который никогда не питал привязанности к своим детям, он прибыл в объятия заботливой Валерии, чтобы остаться с ней навсегда.
Валерия Владимировна прекрасно чувствовала цвет, декоративный дар ее сказывался во всем. Она интересно рисовала. Создавала картины из сухих цветов. В кухне во время войны, чтобы как-то украсить жизнь, расписала стену огромным стилизованным букетом цветов и фруктов в корзине. Один цвет поддерживался другим, у кресел карельской березы сиденья обтянуты зеленой китайской чесучой – рядом с красными стенами они необыкновенно играли. И все так – один цвет дополнял и поддерживал другой, все создавало богатую цветовую гамму единой гармонии.
…Моя свекровь часто вспоминала К. Г. Паустовского того периода, который им описан в «Броске на юг», где она изображена Марией, их поэтически недосказанные отношения в старом Тифлисе. Потом, много позже, они встретились в Москве и разорвали свои прежние супружеские узы. Жизнь с Михаилом Сергеевичем оказалась не по ней, а поездки, встречи с новыми людьми, литературный труд К. Г. Паустовского стали ее настоящей интересной жизнью. Эта жизнь, быстро промелькнувшая, даже после разрыва не оставила у нее никакой желчи и обиды. Были, конечно, кое-какие неприятные моменты при расставании, – это можно понять, но в основном Валерия Владимировна вспоминала только самые светлые их дни в Солотче, под Рязанью, в Москве, Крыму на севере России.
ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ... Комменарии Вадима Паустовского
1
Во время плавания с командировочным заданием и удостоверением одесской газеты «Моряк» из голодной Одессы в Сухум отец постоянно посылал в редакцию свои корреспонденции. Одна из них малоизвестна. Она ни разу не публиковалась в книгах и не перепечатывалась в журналах и газетах, в «Моряке» опубликована 7 марта за подписью К. П-ский с весомой авторитетной пометкой: «От нашего специального корреспондента из Новороссийска».
Статья заслуживает внимания, в ней еще дышит одесский «ильфо-пе-тровский» колорит. Во всяком случае при описании концертной бригады невольно вспоминается небезызвестный автопробег с «Антилопой Гну».
Мое знакомство с подшивкой краевой газеты Черного, Азовского и Каспийского морей в Одесской научной библиотеке, как я уже говорил, не прошло бесследно.
ПАРОХОДНЫЕ КОНЦЕРТЫ
(Фрагменты очерка «Серебряные горы»)
Весь день стояли в Новороссийске – этой российской, измученной вечными норд-остами столице. Пассажиры бегут на базар – покупать дешевых здесь копченых «рыбцов» и галеты. У деревянной пристани стоит американский миноносец – «236», но к нему не подпускают на пушечный выстрел. Извозчик торгуется с вылощенным американским офицером – просит в город 300 тысяч. Американец недоумевает и дает 200. Собирается толпа. Вечером срывается норд-ост и тяжело гремит над городом, сдувая с палубы последних пассажиров в переполненную кают-компанию.
Здесь идет пароходный концерт. Почти на каждом пароходе вымо-жете увидеть все одну и ту же компанию артистов, назначение которых сводится к устройству на пароходах, в тесноте, среди больных, давки и детского плача – концертов. Эта труппа – столь же необходимая (по-видимому) и легальная организация на пароходе, как и машинная команда, капитан, его помощники, матросы. Их возят бесплатно, они занимают каюты, дружат с наглой буфетной прислугой, напиваются, бегают в портах по «срочным делам» на базары иустраивают «концерты в пользу голодающих» – смесь из скабрезных куплетов, еврейских анекдотов и румынского оркестра из какого-то сухумского духана. Голодающим,по словам существующей на пароходе специальной комиссии, концерты эти дают крайне мало, почти ничего. Простой сбор дал бы больше.
Начинается концерт и стихают многочисленные картежники, которые режутся в карты с утра до поздней ночи. В каюте шумно. Стоит веселый гогот.
– Даешь «советскую свадьбу»! – кричит группа военморов. – Даешь «Абрашу»!
Жирный, невероятной толщины задыхающийся артист («жертва войны, революции и Поволжья» – по словам конферансье) поет о луне, о парочках и растущих у кого-то рогах.
– Даешь «Машу»! – входят в азарт военморы. – Валяй, Вася, по-нашему, по-одесски.
Но совершенно неожиданно оркестр (скрипка, виолончель и контрабас) фальшиво играет «Интернационал» и концерт кончается.
А норд-ост сотрясает палубу и ночь вся дрожит в ледяном холоде звездных лучей, в ясности зимней ночи.
(обратно)2
После расшифровки дневников и прочтения писем отца, относящихся к его пребыванию в Сухум-Кале, стало ясно, что первые дни своего пребывания в Сухуме К Г. Паустовский провел в доме Александра Исааковича Германа-Евтушенко на горе Чернявского. С Герман-Евтушенко мои родители, как оказалось, познакомились в Одессе и его заботами, как секретаря Союзов кооперативов Абхазии, были приглашены в Сухум. Нынешний директор Московского музея-центра К. Г. Паустовского несколько десятков лет назад выяснил в сухумских архивах истинную хозяйку дома № 47 в Горийском переулке. Ею оказалась вдова Каролина Георгиевна Герман, которая почила в 1923 году в возрасте 65 лет.
Об этом доме также сохранился репортаж отца из Сухум-Кале для газеты «Моряк» (1922 г., 5 мая). Один-единственный раз он был перепечатан в журнале «Новый мир» в посмертной подборке очерков К. Паустовского «Из разных лет», подготовленной Львом Абелевичем Левицким. Для читателей «Броска на юг» он, мне кажется, представит несомненный интерес.
ИЗ ГОРНОГО ДОМА (Фрагменты)
От нашего специального корреспондента
В белом горном доме с низкими потолками – тонкая тишина. Си-нимлъдом сверкают, как только что расколотый сахар, тяжелые горы. Золотым дождем цветет за оконцами пряная мимоза, и воспаленное солнце ложится в тусклое, задымленное море.
Горный дом уже стар, и в широких щелях полов потрескивают по вечерам сердитые скорпионы. А дряхлые обитатели дома еще помнят времена, когда Абхазия была полна абреками, когда горцы спускались с гор и штурмовали заросшие плющом прибрежные форты, когда солдаты сотнями умирали от горячки во влажных, тропических лесах, времена лермонтовские, полузабытые, но еще свежие в преданиях и памяти горцев.
Фантастический край. Здесь рядом леса пальм и кактусов и заседания революционных комитетов под старыми дубами, причем все члены комитета голосуют и говорят, не слезая с поджарых коней, гортанно перекликаясь и теснясь лошадьми в одну подвижную, темную массу; рядом скрип арб и лошадиные черепа, висящие на всех заборах от дурного глаза, и тут же – ослепительный электрический свет, заливающий широкие сельские улицы, съезды Советов, протяжные гудки иностранных пароходов, кофейни «знаменитых персидских кофейщиков», пестро расписанные трапезундские фелюги, на которых седые турки кипятят кофе в медных кастрюлях-наперстках, плакаты, восточная майолика, князья, перед которыми до сих пор сходят с седел и касаются рукою земли, ажиотаж, лиры, фунты, грузбоны, бязь, кукуруза, богатые лесные концессии на рекеБзыби, взятые Стиссеном и Рокфеллером, непочатый край, дикие козы, скачущие по улицам, и восторженный рев лопоухих пушистых ишачков.
Край фантастический, пестрый, богатый, но богатства его еще сырые, нетронутые, не вырытые из вечно влажной земли.
Россия, голод, то напряжение и мучительные по непосильной работе дни, что переживаются там, за снежными хребтами, вся громадная, неуловимая жизнь федерации – все это для здешних людей «заграница», что-то почти нереальное.
Но все чаще в ленивый звон здешнего базара, в винный запах духанов, в беспечное щелканье нард и монотонный такт лезгинки, которую танцуют по вечерам перед дверьми кофеен замкнутые «башлычники»-горцы, все чаще в эту покойную и безумную жизнь просачиваются напоминания оттуда, из-за гор.
Со снежных перевалов не приходят, а приползают изможденные, полумертвые люди с обмороженными ногами, беглецы от смерти с отупелой нечеловеческой тоской в старческих глазах. Набрасываются на хлеб, на здешнее сало, на горный сыр имолодое вино иумирают.Не так давноумер-ло несколько человек, высадившихся с пришедшего из России парохода.
Все чаще приезжают экспедиции из Крыма, Кубани за кукурузой. Они не меняют ее на товары, не покупают, а вымаливают. Дрожащими голосами они перечисляют товары, которые привезли для обмена. Везут все, что осталось, – домашний скарб, чуть ли не детские платьица.
Экспедиция керченских моряков привезла две швейных машины, микроскоп, мотор, два биллиардных стола, какое-то платье, немного мануфактуры, собранной среди моряков, картины, ковер. Все это не нужно здесь, и до слез больно смотреть на седую трясущуюся голову представителя этой экспедиции, прекрасно знающего, что все это не нужно, что хлеба за это не дадут, что вывоз запрещен и на пристанях отбирают даже фунт сахару.
Эти ходоки от обреченных людей преследуют, их не можешь забыть, не можешь понять все то, о чем они говорят, и только где-то в глубине души вдруг что-то оборвется, и станет холодно и страшно.
И все думы о тех, кто остался там. Здесь не говорят «где», говорят – «там», и сразу все как-то замолкают. Там – в России, где плачут, бьются и мучаются из-за корки хлеба, в России, от которой не оторвать мучительных мыслей.
(обратно)3
В комментариях к «Времени больших ожиданий» я уже выражал свое удивление по поводу истинности службы отца в одесском Опродкомгубе. До тех пор, пока исследователи творчества Паустовского не положили передо мной блеклые фотокопии документов с печатями, я полагал, что это учреждение с трудновыговариваемой аббревиатурой – чистые выдумки отца. Подобных забавных небылиц мы наслушались от него вдоволь. К этому ряду выдуманного я относил и некоторые фамилии персонажей его книг. В первую очередь ставил под сомнение главную героиню романа «Блистающие облака» Нелидову и архитектора Гофмана из рассказа «Московское лето». Кстати говоря, Нелидова встречается и в «Броске на юг». В этой повести она фигурирует в качестве госпожи, прибывшей в Новоафонский монастырь «отдохнуть от мирского безобразия и скверны».
Каково же было мое удивление, когда, разбирая архив отца, наткнулся на письмо к нему от Зинаиды Леонтьевны Нелидовой из Сухума. Жизнь оказалась значительно богаче и интереснее предполагаемой: моя мама вместе с Зинаидой Леонтьевной поставила в Сухуме детскую оперу «Красная Шапочка» на музыку Цезаря Кюи. Костюмы и художественная часть постановки были возложены на мою маму, а балетную постановку осуществила Нелидова. К счастью, в семейном архиве сохранилась афиша премьеры 2-го гостеатра, спектакль состоялся в пятницу 21 июля 1922 года в исполнении детей, а рецензию на премьеру написал отец, но, увы, газета с рецензией пока не найдена.
Зинаида Леонтьевна хорошо знала немецкий, французский и английский языки, сохранила до конца дней тягу к литературному труду. Во всяком случае она в одном из писем к отцу вспоминает тот знаменательный 1922 год, «когда мы с Бабелем рылись в "Тысяче и одной ночи" на французском языке» для переложения книги в пьесу.
В «Броске на юг» завуалированно фигурирует и семья Нелидовой. Вдумчивый, дотошный читатель заметит в дневниках Паустовского – они приведены сразу после настоящего послесловия – «сухумские» записи: «Апполинария Фроловна, бабушка, котенок, Трезор – особый милый быт…» и «Нелидова с няней… Вечером на пристани. Апполинария Фроловна». Для писателя нет мелочей, ничто не проходит для него бесследно, и вот появляется в повести фраза некоего Котникова (ему мадемуазель Жалю сдала комнату Константина):
«Всё в этом рассудительном человеке было, как говорят врачи, противопоказано Сухуму…
<…> Почти все свои рассказы он начинал одной и той же фразой: "Вот в нашем городке Мологе у мамаши моей, уважаемой Апполинарии Фроловны, был заведен зверский порядочек"…»
А сам Котников списан, видимо, с мужа Нюры (знакомой отца, которая в Москве была в Паустовского влюблена. В Сухум-Кале произошла тогда, в 1922 году, их «неожиданная встреча»), с коммерсанта, который вместо «ы» говорит «и». Встреча оставила негативный отпечаток, во всяком случае в дневнике читаем: «Опустилась… Мы с Кролом все же сохранили себя за эти годы».
Но я увлекся и несколько забежал вперед…
(обратно)4
Видимо, фамилия доктора появилась от слегка переиначенной фамилии Самойленко. Во всяком случае постановка оперы, о которой я только что говорил, была осуществлена Г. А. Бочарниковой совместно с В. С. Самойленко – женой нашего доктора. Самойленки вместе с Нелидовой и Германом-Евтушенко провожали чету Паустовских в сухумском порту перед их отплытием в Батум.
(обратно)5
Отец возвратился в Москву после скитаний-броска на юг с огромным творческим багажом, с не одним десятком очерков, несколькими рассказами, маленькой повестью и с неизменным чемоданом, в который складывались новые главы рукописи «Мертвой зыби» – первого своего романа.
Один из очерков – «Зима в Батуме», живописующий жизнь южного порта, К. Паустовский поместил в десятом номере журнала «Красный транспортник» за 1923 год. Выбор отцом этого журнала не был случаен, но об этом я расскажу немного позже.
ЗИМА В БАТУМЕ
(Фрагменты)
В горах седым туманом идут снега, пудрят изломанные спины черных, тяжелых массивов, а внизу, в городе, – словно костяшками по жести – пощелкивает по стенам домов редкий и крупный град. Зима. На море все чаще мечется белый шторм, ревет у мола, вскидывает на рейде мутные силуэты английских наливных пароходов.
В пароходных конторах тихо и скучно. Дремлют машинистки, и редко заходят посетители. Порт замер. А у порогов сырых магазинов, заваленных константинопольской дешевкой, стоят часами и смотрят на море молодые скучающие люди в коротеньких брючках.
Ждут. Может быть, сверкнет из-за мыса белыми надстройками палуб океанский пакетбот Триестинского, Ллойда, или Ориэнт Линии, или Пакэ, и снова они будут носиться, перекликаясь, по набережной – под грохот грузовиков – с ящиками сахарина и мыла, покупать коносаменты, спускать лиры, экспедировать и «делать разницу».
Они ждут. А старые «негоцианты» только брезгливо машут пухлыми руками, перевитыми янтарными четками, когда им предлагают какой-нибудь товар, и раздраженно отвечают:
– Это не предмет! Это не количество!
Все реже дымят в порту, выплевывая жирный дым, иностранные пароходы. Грузы пошли на север, на Одессу, Новороссийск. И кирпично-красные батумские закаты освещают в гавани только желтые трубы наливных пароходов и горы зеленоватых апельсинов на облезлых анатолийских фелюгах.
К наливным пароходам «население» Ъатума чувствует некую недоброжелательность:
– Э, как вы не понимаете! Они только забирают керосин, и больше ничего!
В управлении порта тихо и пустынно. Тикают где-то часы, и за окном, в белом молоке тумана, полощется флаг на «Пестеле» – флаг госпароходства: красный с синим полем.
Молодые люди, играющие цепочками, едут на север, в Петроград, Москву, Одессу, и все чаще на дверях опустевших складов мелькают сургучные печати.
Купцы жалуются – густо пошел московский товар, а Константинополь что-то притих. На бирже, где слышен прибой у набережных, – вялое оживление. Ходят из рук в руки все одни и те же исписанные вдоль и поперек затрепанные лиры, и биржевые зайцы уныло поглядывают на них и на все вопросы сердито отвечают:
– Что лира, лира! О лире так даже и не спрашивайте…
А по вечерам пустынно в портовых улицах, где бродят у слепых, заколоченных витрин молчаливые сторожа и провисает над головой черная и тяжелая ночь.
Батум – «вольная гавань», город биржевой горячки, фальшивого блеска, беготни, крика, ажиотажа и подозрительного делячества – медленно, но верно замирает. Вместо Константинополя открылись на севере новые широкие, здоровые рынки, откуда проникли в насыщенные торгом, удушливые и нездоровые улицы этого города свежие северные ветры. И о «прошлом» Вотуме сейчас томятся только немногие юноши из бесчисленных экспедиций, контор и некоих загадочных и сомнительных «фирм» и под шум безысходного, мутного дождя поют навязшую песню:
Обидно, эх досадно
До слез и до мученья,
Что в жизни так поздно
Мы встретились с тобой,
и вяло жуют – с недовольными гримасами на лице – водянистые от дождя мандарины.
(обратно)6
В Москве хранится переплетенная в книгу подшивка из 19 номеров морской батумской газеты «Маяк», издававшейся Центральным правлением Союза водников побережья Батум – Гагры. Георгий Амберович Ам-бернади, ныне проживающий в Москве, познакомил меня со своими интересными архивными поисками, которыми ныне делюсь с читателями «Броска на юг».
Первый номер «Маяка» вышел 21 августа 1922 года. Поскольку главным редактором и выпускающим второй морской газеты в федерации был Константин Паустовский, он, естественно, привнес в газету одесскую наработку «Моряка» – заголовок дублировался на английском и французском языках («Лайтхаус» и «Ле Фар»), над заголовком был повторен призыв «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!», на страницах профессионально-производственной газеты печатались также и сугубо литературные материалы: рассказы, стихи, очерки, эссе…
Среди них мы найдем очерк и стихотворение легендарного Дмитрия Лухманова – капитана дальнего плавания, писателя, педагога с почти фантастической биографией, бывшего тогда директором-распорядителем Доброфлота. В 1924 году они встретятся в Ленинграде при отплытии барка «Товарищ» (бывший «Лауристон») в первое кругосветное плавание. Делегацию от Москвы представляли главный редактор газеты водников «На вахте» Евгений Иванов и сотрудник этой газеты Константин Паустовский, который впоследствии записал: «Женя познакомил меня с рыжим веселым стариком – знаменитым парусным капитаном и морским писателем Лухмановым».
Маленький периферийный «Маяк» поражает своей исключительной осведомленностью в событиях международной жизни. Перипетии разгоревшейся тогда греко-турецкой войны, близкой жителям Батума и географически и демографически, давались на уровне московских газет. В этом, безусловно, заслуга другого замечательного автора «Маяка» – Рувима Фра-ермана, корреспондента Российского телеграфного агентства (РОСТА) по Батуму, человека, близкого к семье Паустовских еще со времен одесских…
Кстати, маленькая деталь: будучи главным редактором, отец всемерно привлекал к работе в газете не только молодых рабочих корреспондентов, но и всех своих друзей. Не стал исключением даже художник Михаил Синявский, давний друг моих родителей, одно время в Одессе их жены, Екатерина Степановна и Мальвина, вместе работали в одной творческой мастерской. Так вот, в восьмом номере газеты была напечатана его заметка «Маленькое пароходство» под псевдонимом «М. С». Заметка не о художественных концепциях и взглядах, не о прикладном труде художника, – Синявский принимал участие в праздничном оформлении Батума, его плакатный «Красный конь» запомнился многим батумцам, – не о тиражировании портретов Кемаль-паши. Нет, в заметке речь шла о заботах создаваемого в Батуме Грузинского пароходства…
Еще одно «кстати» – в 1970-х годах газета «Маяк» стала называться «Моряк Грузии»…
(обратно)7
В начале 1930-х годов в Ленинграде вышла книга А. Ульянского «Пришедшие издалека». Один из рассказов этого сборника назывался «По водам». Впервые он был опубликован в № 11 и 12 газеты «Маяк» и подписан инициалами «А. У.». Ульянский работал в «Маяке» осенью 1922 года. Он написал три очерка. Первый из них – «Контрасты» – Паустовский сравнивает с лучшей прозой Куприна. Константин Федин считал, что талант Ульянского сродни таланту Ремарка.
Антон Григорьевич Ульянский действительно работал корректором в питерской газете «Речь». Во время войны пережил все ужасы и унижения германского плена. Вернувшись на Родину, он долго скитался, голодал, в Батуме ночевал в пустых товарных вагонах. Очерк «Контрасты» был написан им на обороте товарной накладной. Поселившись в Ленинграде, Ульянский выпустил одну за другой шесть книг, по призыву М. Горького написал в соавторстве с двумя другими литераторами книгу «История Путиловского завода».
«Художественные средства Ульянского очень значительны и серьезны, – писал К. Федин в 1936 году. – Он интересный рассказчик, язык его прост, отбор слов обнаруживает незаурядность, строгость его литературного вкуса. Все это создает своеобразный стиль, без экзальтации и фальши, так странно напоминающий облик самого автора – скудного на слова, простого, изящного по душевным качествам».
Книги Антона Ульянского читателями были встречены тепло, но после смерти писателя летом 1935 года ни одну из них не переиздавали. Сейчас имя Ульянского незаслуженно забыто.
(обратно)8
Заинтересованных читателей я отсылаю к девятому, дополнительному тому второго собрания сочинений Паустовского, где перепечатан рассказ отца «Три страницы» из двенадцатого номера журнала «Рупор» за 1925 год. Рассказ о Шмидте, о вымышленном дневнике Ставраки.
Сейчас же, как я и обещал, – несколько страниц о теме Шмидта в творчестве отца.
В 1935 году, расставаясь с темами «революционных преобразований», Паустовский отправляется на Юг для работы над книгой о Черном море. Многое ему хотелось освежить в памяти, но до Кавказа он так и не добрался, надолго осел в своем любимом Севастополе.
Здесь он снова, уже вплотную, соприкасается с издавна близкой ему темой судьбы лейтенанта Шмидта. Она многое объясняет в его творчестве. Парадоксально, что эта тема была вполне «революционной», однако уже соответствующей его внутренним побуждениям.
Нет ничего нового в утверждении, что подлинный смысл исторических событий часто существенно отличается от той трактовки, что дают последующие исследователи, а за ними и «массовое сознание». Между тем «подлинный смысл» оказывается много глубже и поучительнее. Тема Шмидта – не исключение.
Несколько лет назад мне удалось самому побывать на острове Бере-зань и в суете курортного лета, в толчее туристских катеров, наконец – в пустых разговорах, не имевших никакого отношения к Шмидту, узнавать знакомые черты все той же, еще «не свободной» России.
Березань интересен сам по себе. Это один из немногих так называемых материковых островов на Черном море. В отличие от островов, образованных речными наносами, их еще называют «истинными».
Остров – плоский, но с высокими обрывистыми берегами. Он производит отнюдь не унылое, а скорее величественное впечатление. В северной его части сохранились остатки древнегреческого поселения, в южной – высится белый обелиск, памятник Шмидту, возведенный одесскими студентами.
В самом имени острова неожиданно слышится что-то русское, лесное, хотя в античные времена его называли Борисфен, а турки окрестили Бирюк-узень-одо. Но так или иначе, в советский период имя Березань сохранилось, тогда как, например, другой «истинный» остров на Черном море – Фидониси – ныне переименован в Змеиный. Не устраивало греческое слово. Типичный номенклатурный «рабский» образ мышления.
Вообще поездка на Березань и в Очаков дала очень много. Я шел к музею Шмидта по главному бульвару, прорезающему город и завершающемуся памятником лейтенанту, весьма удачному в отличие от многих монументов такого рода. На бульваре паслись черные козы.
Музей в Очакове был создан стараниями энтузиастов-моряков, и в первую очередь капитана первого ранга Георгия Владимировича Самолиса. Бессменный директор музея Лидия Ивановна Иващенко рассказала мне, что к теме Шмидта она пришла после чтения «Черного моря» Паустовского. Кстати, именно с этой книгой она, уроженка Очакова, связала и свою дипломную работу в Одесском университете. Вместе с научной сотрудницей Людмилой Арсентьевной Головко она ведет всю основную музейную работу. В летний сезон, когда увеличивается поток посетителей, им помогают внештатные работники – учителя, жены морских офицеров. Сам музей находится в здании бывшего офицерского собрания, где в 1906 году проходил суд над лейтенантом Шмидтом. Ныне там по преемственности – очаковский Дом офицеров.
В разговоре с Лидией Ивановной я сразу коснулся одного занимавшего меня обстоятельства. Ведь вскоре после первой публикации «Черного моря» отец изъял из книги главу, посвященную так называемой «тайне З.И.Р.» Этими инициалами была замаскирована женщина, которой в 1905 – 1906 годы Шмидт писал исключительно интересные письма. В них он раскрывал свои взгляды, мысли, планы…
Отец мой считал, что, несмотря на огромную ценность этих писем, сама З.И.Р. была особой весьма заурядной, что Шмидт ошибся в ней и как в человеке, и как в адресате. Критик М. Чарный еще в предвоенные годы усомнился в утверждениях отца, к тому же оказалось, что сама З.И.Р. была еще жива. По-видимому, отец согласился с Чарным и, убрав спорную главу, как бы признал свою ошибку.
– Константин Георгиевич ни в чем не ошибся, – заверила меня Лидия Ивановна. – Вы убедитесь в этом сами, если познакомитесь с документами нашего музея, с его архивами…
И я убедился не только в этом. «Тайна З.И.Р.» отступила на второй план перед тем, что довелось вскоре узнать. Кстати, к самой «тайне» Паустовский вернулся на страницах «Броска на юг».
Целое лето я прожил под Очаковом на хуторке знакомого писателя, как раз на берегу Березанского залива. Слева, в нескольких километрах, где залив сливался с морем, проступал в тумане и силуэт острова Березань.
Я читал книги и документы, делал выписки и, наконец, по-настоящему убедился, чем же так привлекала Паустовского «тема Шмидта».
Убедился я также в том, что эту тему он не мог полностью раскрыть по той причине, что советскому писателю при углублении в политику нельзя было выходить за определенные рамки: здесь Паустовскому пришлось умалчивать о некоторых существенных подробностях, связанных с восстанием на «Очакове» и с образом его вождя.
Но именно об этом совершенно свободно рассказал сын лейтенанта Шмидта, Евгений Петрович Шмидт, в книге о своем отце. Правда, чтобы написать и издать ее, ему пришлось покинуть нашу страну, эмигрировать. В 1926 году книга эта, насчитывающая около 400 страниц, вышла на русском языке в Праге, в издательстве «Пламя» под названием «Лейтенант Шмидт («Красный адмирал»): Воспоминания сына».
Она получила положительные отзывы эмигрантской прессы, в том числе известного литературного критика Струве. Но читатели нашей страны не имели возможности познакомиться с ней, потому что книга эта сразу попала в закрытые спецхранилища. Сейчас это кажется нелепым, ведь в ней нет ничего злобного и антисоветского. Просто та правда, что содержалась на ее страницах, не вполне соответствовала тому «советизированному» образу Шмидта, именем которого у нас названы заводы, улицы, корабли…
Лишь с наступлением более либеральных времен сотрудницам очаковского музея удалось раздобыть ксерокопию книги Евгения Шмидта.
Сама важность темы Шмидта для Паустовского позволяет привести здесь достаточно обширные цитаты из книги Евгения. Эпиграфом к ней служат слова из речи мятежного лейтенанта на суде: «Я знаю один закон – закон долга перед Родиной».
А вот несколько фраз из предисловия:
«…Двадцать лет отделяют меня от „дней очаковских“… С тех пор произошли события в тысячу раз ужаснейшие, пролились моря русской крови, мир переменил свое лицо, совершилась полная „переоценка ценностей“ во всех областях человеческого духа… Но юношеские впечатления – самые сильные и неизгладимые…»
Автору удалось охватить множество событий, дать поучительную галерею образов – от простых моряков до адмиралов и от судебных чиновников по делу Шмидта до революционеров различного толка – эсеров, большевиков, меньшевиков и др.
Ведь лейтенант Шмидт, считаясь революционером, не состоял ни в одной политической партии и, более того, относился ко многим их деятелям с явным предубеждением. Практика революционных событий того времени и даже восстание на крейсере «Очаков», которое ему довелось возглавить, только укрепили его в этом убеждении.
Вот что пишет Евгений Шмидт о политических взглядах своего отца:
«…Отца принято считать монархистом. Он им и был, но только применительно к месту и времени, но только не принципу. Во всяком случае царь для него являлся национальным символом, исторической традицией, наиболее удобной и привычной формой, но никак не властью „Божьей милостью“…
…Но одно могу сказать с полной уверенностью: кмарксистам отец питал худо скрываемую антипатию. Их интернационализм, их безразличное (в лучшем случае) отношение к идее национальной государственности, теория борьбы классов, низведение к нулю человеческой личности как в истории, так и в жизни – все отталкивало отца от марксистов, все внушало ему убеждение в беспочвенности, неприемлемости и вредности их идей для русского народа…»
Так сказать, «в политическом отношении» Паустовского объединяла со Шмидтом историческая оценка роли русской бюрократии как самостоятельной зловещей силы. Именно она в совокупности своих качеств – алчности, невежества, ограниченности, хищнического стремления эксплуатировать всё и вся ради приобретения престижа и материальных благ – создавала обстановку вседозволенности, и это привело страну к кризису 1905 года.
Вот цитата из брошюры почти вековой давности:
«…Война с Японией приподняла завесу, закрывавшую до поры до времени изъяны бюрократического хозяйничанья. Правительство делало, что хотело, не спрашивая, как и в наши дни, у народа и никакого отчета ему ни в чем не давая. Тратились сотни миллионов народных денег на армию, флот, а на Дальнем Востоке наши корабли оказались калошами, армия – босой и голодной…
Война и слепым раскрыла глаза. Все поняли, что требуется коренная ломка всей бюрократической системы, – так дальше продолжаться не могло, – необходима немедленная ликвидация старого порядка». (Вл. Метц. Памяти Петра Петровича Шмидта, Одесса, 1917.)
Но вряд ли сама по себе «ликвидация старого порядка» может спасти положение, если общество не умеет объективно оценивать и контролировать власть, а заодно и себя самое. Проблема, таким образом, не столько политическая, сколько моральная.
Отец рассказывал мне, что подростком, в 1905 – 1906 годах, увлеченно читал статьи лейтенанта Шмидта, посвященные разоблачению самой психологии бюрократизма. С ними будущего писателя знакомил его отец Георгий Максимович. В революционной обстановке тех лет всё, что касалось Шмидта, публиковалось довольно свободно.
У Шмидта было свое мнение о злободневных проблемах того времени. Он считал, что ликвидация противостояния общественных сил во многом может зависеть от позиции армии, передового офицерства. Как ни парадоксально, он видел в армии залог именно мирного перехода власти к народу, без применения оружия:
«…С одной стороны бюрократия, опирающаяся на военную силу, с другой стороны – народ, опирающийся на свое право и правду.
В этом общественном разделении было ясно с первой минуты одно, что присоединись войска к народу, к праву и правде и скажи об этом войско честно, не было бы места борьбе. Бюрократия, потеряв почву, отошла бы в сторону. Настроение огромного большинства ясно указывало, что это так».
Именно этому принципу Шмидт остался верен и когда возглавил Севастопольское восстание.
Победа же «царства бюрократии» и ее возможные последствия рисуются ему в самых мрачных тонах, как «нечто небывалое», причем исход возможен только один: «…полное массовое убийство всех образованных людей в России, а затем новые десятилетия рабства, голода и невежества со стороны народа, новые хищения, тунеядство и зверство со стороны власти».
Кстати, если соотнести эту картину с последующими «десятилетиями» деятельности советского режима, то прогноз Шмидта выглядит не столь уж фантастично.
Вспомним высылку из страны, а затем и уход в эмиграцию многих ученых и деятелей культуры, массовое истребление интеллектуальных сил в годы сталинских репрессий и т. д. А уж облик бюрократии как некоего звероподобного существа хорошо известен. Достаточно вспомнить годы коллективизации, когда после нэпа, пошатнувшего ее власть, бюрократия, наверстывая упущенное, прибегла к созданию искусственного голода. Я видел фотографии, на них – ряды правильно вырытых рвов, наполненных трупами умерших. Такие фото мы привыкли в свое время видеть на выставках о злодеяниях фашистских оккупантов. Это другая выставка. Она была развернута в залах краеведческого музея города Белая Церковь и называлась «Голодомор на Украине в 1933 году». По существу – в родных местах Паустовского.
Лейтенанту Шмидту нельзя отказать в даре предвидения, даже когда он касался событий меньшего масштаба. Вот отрывок из его письма сестре, написанного еще задолго до Цусимского сражения в русско-японскую войну:
«…Догоним мы Рождественского, должно быть, в Зондском архипелаге и тогда уже вместе двинемся на вражеский флот, от которого, думаю, нам не посчастливится. Силы будут равные, но искусство стрельбы, конечно, на стороне японцев, которые много лет готовили свой флот к войне, а не к смотрам, как готовили мы… Зарвались мы с нашей манией расширять территории и горько расплачиваемся теперь».
Петр Шмидт очень болезненно переживал оторванность офицерства от народа, в особенности заметную на фоне политической активности остальных слоев русского общества. Он пишет:
«…К трону посыпались петиции,резолюции и проч. в таком количестве, что ими можно было бы оклеить всю решетку Зимнего дворца. Заговорили все… Молчали только военные. Во всех многочиспенных просьбах недоставало только их голоса…»
Стремясь хоть как-то преодолеть эту пассивность, Шмидт летом 1905 года объединяет маленькую группу флотских офицеров-единомышленников и составляет воззвание, текст которого впервые приводит в своей книге его сын. Вот всего несколько фраз из него:
«Господа офицеры славного Черноморского флота!
Вы не можете не знать о том, что происходит.
Вы неможете не знать, что правительство, навязавшее стране неслыханно позорную войну, продолжает душить свой народ, стремящийся сбросить цепи тысячелетнего рабства… Как русские люди, вы не можете желать зла своему народу, желать видеть его несчастным и порабощенным.
Ваше отечество, ваша совесть, ваше воинское звание зовут вас исполнишь свой офицерский долг…
…Составляйте петиции на высочайшее имя! Просите, умоляйте, требуйте у Государя Императора дарования действительных конституционных гарантий, давно составляющих неотъемлемую собственность всех культурных народов.
Составляйте петиции, организуйтесь и присоединяйтесь к нам.
Союз офицеров – друзей народа».
Конечно, Шмидт понимал всю недостаточность такой попытки, но то был только первый шаг… Воззвание вложили в конверты и разослали по севастопольским адресам. В первую очередь тем офицерам, у которых надеялись найти сочувствие. Но не забыли и противников. Один из конвертов отправили командующему флотом вице-адмиралу Григорию Павловичу Чухнину, личности знаменательной, но отнюдь не замечательной. Эпитет «замечательный» по отношению к нему можно принять только с добавлением слов «по подлости». Александр Куприн писал о нем: «…Это тот самый адмирал Чухнин, который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на реях…»
В «Черном море» Паустовский не раз подчеркивает противостояние лейтенанта Шмидта и адмирала Чухнина, причем вовсе не «по службе», а чисто по человеческим, психологическим качествам.
Шмидт происходил из классической морской семьи, всем членам которой было свойственно искреннее уважение к простым русским матросам. Отец его был адмиралом, но самым ярким представителем семейной традиции стал брат отца – Владимир Петрович Шмидт. Оба брата – участники обороны Севастополя 1854—1855 годов, причем Владимир Петрович сражался на знаменитом Четвертом бастионе, где находился и Лев Толстой. Евгений Шмидт пишет о своем двоюродном деде, что тот за Севастопольскую оборону «…получил Георгия и Золотое оружие. В конце 50-х годов он командовал императорской яхтой «Тигр». Пользуясь большим расположением Императора Александра II, в 60-70-х годах командовал большими линейными кораблями, в 80-х был зачислен в свиту, командовал нашим флотом в Тихом океане и, наконец, в начале 1890-х получил назначение в Адмиралтейский совет. Умер Владимир Петрович полным адмиралом, числясь по старшинству первым в списках чинов Российского флота и будучи кавалером всех орденов, кроме Андрея Первозванного…»
(обратно)9
По моей просьбе дочка Владимира Семеновича Мрозовского Аэлла Владимировна Гамаюнова написала воспоминания о своем отце. Некоторыми биографическими сведениями героя «Броска на юг», канвой его жизни мне хотелось бы поделиться с читателями.
«Его мать – Нина Андреевна Зданевич – преподавала математику и французский язык в Карее, в женской гимназии. В 1906 году, когда настало время поступать сыну в гимназию, переехали вБатум. Она одна воспитывала сына. В 1911 году Володя приехал в Москву и поступил на юридический факультет Московского университета, но окончить курс не удалось – началась мировая война. Он возвращается к матери, перепробовал несколько специальностей. Увлекается театром – сначала выступал на любительской сцене, потом стал профессиональным актером, но недолго.
С 1921 года В. С. Зданевич (Мрозовский) работал в Батуме корреспондентом, писал театральные рецензии, в 1922 году – репортер «Трудового Вотума». В начале двадцатых годов он знакомится с моей будущей мамой; подъем и обновление в папиной жизни длился около десяти лет.
В 1923 году отца, как сотрудника ЗакРОСТА, командируют в Москву для поступления в Государственный институт журналистики. Примерно в одно и то же время вся «батумская» компания опять оказалась в сборе: Фраерманы, Паустовские, Мрозовские, поэт Чачиков…
В недрах студенческой молодежи этого института зарождается коллектив, сначала безымянный, состоящий всего из трех человек, получивший название «Синяя блуза». Название придумал папа, душой творческого коллектива театрализованной живой газеты был Борис Южанин, возглавивший впоследствии одноименный театр.
„Для моего отца наступила вторая молодость, когда еще не успела отойти первая. «Синяя блуза» как массовый коллектив начала множиться и почковаться, подобные коллективы появлялись не только в нашей стране, но и за границей. Ему было 28лет…«Синяя блуза» справляла свои годовщины. Первая совпала с моим рождением. Отец, как дань времени, дал мне новое имя. С тех пор повелось – в день рождения дочери собирались друзья: Паустовские, Фраерманы, Борис Южанин, Чачиков, Зданевичи – родственники Владимира Семеновича. Отец устраивал шарады, розыгрыши, театральные действа, кукольный театр за полосатой коричнево-желтой занавеской. Он был, конечно, большой фантазер и выдумщик и всегда носил в душе театр.
В 1926 году отец становится редактором редакции общественной информации ТАСС. В начале 30-х годов «…блуза» подошла к своему естественному концу, с развитием игрового профессионального театра она изжила себя.
В 1929 году папа заболел редкой тогда болезнью, рассеянным склерозом. Через пять лет у него отнялись ноги, он пролежал в постели два года, но не сдавался – писал статьи, рассказы, задумал книгу…Друзъя помогали как и чем могли. Паустовский помогал деньгами и присылал врачей. Как будто ожил, а затем в эвакуации все болезни опять вернулись к нему, и в январе 1942 года он был похоронен на высоком берегу реки Белой, в селе под Уфой…»
Вот и определилось имя еще одного безымянного персонажа повести. Помните: «Мрозовский жил с матерью». Маму, оказывается, звали Нина Андреевна, и фамилия ее была Зданевич. И когда в повести мы читаем, что «Мрозовский списался со своими родственниками в Тифлисе и заочно снял для меня комнату», то это означает, что Нина Андреевна назвала чете Паустовских для местожительства тифлисский дом своего родного брата Михаила Андреевича Зданевича в Кирпичном переулке.
До начала знакомства с «кавказскими» дневниками отца я полагал, как, впрочем, была убеждена и Аэлла Владимировна, что знакомство наших отцов произвошло в Батуми, как это и описано в «Броске на юг». Но потом оказалось, что в наши головушки надо внести кое-какие коррективы, а именно: из «сухумских» записей Константина Паустовского следует, что свой благотворный для здоровья и рискованный для жизни поход на озеро Амтхел-Азанда он совершил вместе с… Владимиром Семеновичем.
С семьей В. С. Мрозовского, в том числе с его женой Софьей Владимировной, у четы Паустовских установились и долгие годы поддерживались теплые, дружеские отношения, работали вместе в Москве – в РОСТА.
(обратно)10
Я поражаюсь чистоте и, если можно так сказать, беспомарочности рукописей отца. И не важно каких – опубликованных или до сих пор все еще ждущих своей очереди.
Одна из таких вещей, сохранившихся в его архиве, – блокнот с очерком, написанным в Тифлисе в 1923 году.
С БЕРЕГОВ КУРЫ (Фрагменты)
Тифлис
Над мутной, зеленой Курой, в ярком солнце, Тифлис густо пенится желтыми плоскими крышами и серыми шатрами армянских церквей.
И на всем – серовато-желтый цвет окрестных гор, цвет верблюжьего меха, цвет, напоминающий пустыни Азии, монотонность ее горячих степей.
А в темных щелях армянского базара, откуда несет запахом шашлыка и стучат до вечера молоточки чеканщиков, бродят облезлые подслеповатые верблюды и ходят толпами, перебирая точеными ножками, здешние добродушные, многотерпеливые ишачки.
Базар – как персидский ковер – смесь оливковых и темных персов, диких горцев в черных башлыках, кирпично-бронзовых текинцев, краснорожих весельчаков «кинто», вечно вздыхающих и жарящих каштаны айсоров, красноармейцев в суровых шлемах и темно-зеленых шинелях, словно высеченных из дикого камня, и забредших сюда «фешенебельных» иностранцев в лакированных туфлях и серых макинтошах.
И над всем этим висят вопли ишаков, треск жаровен, чад, бодрые крики автомобилей и густое небо.
Тифлис не знал гражданской войны. И это заметно повсюду. Нигде я не видел такого громадного количества сердитых старых чиновников с облезлыми бархатными околышами, чопорных в нищете офицерских своячениц, донашивающих убогие меха, и хрипунов генералов, торгующих на Головинском проспекте папиросами.
В Тифлисе – это целый мир брюзгливых осколков от прошлого. Он не ждет возвращения старого, но хранит все его традиции, все мелочи старого быта. И генералы с папиросами, стоящие на Головинском, говорят постоянным покупателям «здравия желаю» и величественно козыряют, а у офицерских своячениц целуют почтительно руку в заштопанных нитяных перчатках.
А в советских учреждениях – небывалая чистота, зеркала паркетов, тишина, ковры, ковры и ковры и осторожное позванивание телефонов.
И всюду то гортанный, то свистящий говор и затейливая вязь грузинских и армянских надписей. Над белыми колоннами александровских зданий, над храмом Славы с оградой из бронзовых пушек, над бывшим дворцом наместника, всюду трепещут по ветру громадные красные флаги.
В уличной жизни Тифлиса нет нездоровой, визгливой, подозрительной суеты Одессы и Батума, наполненного энглизированными одесситами.
Здесь – сдержанное оживление, нет ажиотажа (по крайней мере заметного), здесь большей частью крупные и верные дела. […]
Сегодня – воскресенье, и я ушел из нового Тифлиса в старый, на гору Давида, на могилу Грибоедова, заросшую черным плющом.
Внизу лежало море плоских крыш, вилась Кура, а за ней синимлъдом уже горели вершины главного хребта.
И глядя на бронзовый барельеф Грибоедова, слушая в тишине и пустынности плеск воды в церковном фонтане, читая стертые строки о том, что Грибоедов «убит в Тегеране генваря 30 дня 1829 года», я вспомнил, какая это древняя земля, покрытая тысячелетней пылью.
А внизу пурпурным пятном трепетал по ветру флаг над Совнаркомом.
(обратно)11
Константин Паустовский познакомился со Зданевичами – Кириллом Зданевичем и Валерией Владимировной (в девичестве Валишевская), – когда они уже были разведены, но продолжали жить в одном доме в Кирпичном переулке, имея общего сына Алика (Павла), отданного, по сути, на воспитание бабушке – Валентине Кирилловне Зданевич.
Романтическая взаимность Константина Паустовского и Валерии не могла быть не замечена Кириллом, в дневнике проскальзывает короткая запись отца: «Кирилл ревнует».
Валерия Владимировна вскоре после отъезда моих родителей в Москву выходит замуж за Михаила Сергеевича Навашина, сына известного ученого-ботаника, продолжающего дело отца. И только после ухода от Навашина Валерия Владимировна в 1936-м году становится женой К. Г. Паустовского.
К моменту получения заказа на оформление книги «Бросок на юг» Константин Георгиевич третим браком связал свои узы с Татьяной Алексеевной Евтеевой. Так что обид и недоразумений из-за Валерии у моего отца и Кирилла Михайловича быть не могло.
Не случайно поэтому их творческие контакты не прекратились и в последующем. Через несколько лет по просьбе Кирилла Михайловича Паустовский напишет предисловие к его книге «Нико Пиросманашви-ли». Заканчивается оно следующими словами:
Кириллу Михайловичу Зданевичу мы обязаны тем, что великолепное, сверкающее, очень жизненное и вместе с тем, я бы сказал, магическое (как магичен, величав и порой загадочен Кавказ) искусство Пиросманашвили теперь открыто всем. Каждому дана возможность встретиться лицом к лицу с этим великим народным живописцем и испытать на себе власть его картин.
Будем же благодарны Зданевичу, который в ущерб собственному творчеству, жертвуя своей любимой работой, отдал много лет и сил на то, чтобы приобщить тысячи и тысячи людей к той чистейшей радости, которую он сам испытал, открыв бессмертного Пиросмани.
(обратно)12
Помимо «Броска на юг», Константин Паустовский написал о Пиросмани три очерка. Первый, под названием «Грузинский художник», написан по свежим впечатлениям и опубликован во втором номере раритетного ныне журнала «Искусство и промышленность» за 1924 год. Чуть позже, в 1931 году, Паустовский помещает в журнале «Бригада художников» (в органе, как написано в выходных данных, Федерации пространственных искусств) другой – «Жизнь на клеенке», и ровно через пять лет после «Броска на юг» в составе своего сборника «Книга о художниках» (1965 год) появляется наиболее полный вариант под прямым, бесхитростным названием «Нико Пиросманашвили».
Интересно отметить, что первый очерк целиком, в несколько измененном виде, вошел в окончательный книжный вариант. Это говорит о многом. Хотя бы о том, что первый набросок сохранил не только ауру первичного соприкосновения Паустовского с полотнами художника, но и нес в себе отзвук непосредственных впечатлений автора от Тифлиса. И еще одна маленькая деталь: немногие литераторы берут на себя смелость публиковать первые свои вещи, чаще всего следуют реверансы, что это грехи молодости и работы несовершенны. В данном случае первые литературные опыты оказались достойны взгляда зрелого мастера слова.
(обратно)13
Эта книга на титульном листе имеет позаголовок. «Рекорд нежности (Житие Ильи Зданевича)». Книга написана Игорем Терентьевым, «картинки» к ней, как указано, рисовал Кирилл Зданевич. Издана брошюрка тифлисским «Обществом левых поэтов и художников» – «41°».
В архиве отца сохранился первый номер газеты «41°», в которой напечатано стихотворение Игоря Терентьева – заключительный штрих «Жития…». Если нынешних читателей удивит необычное написание слов, скажу, что большими буквами в «заумных» стихотворениях выделялись ударные буквы, то есть те, на которые падает ударение.
ИЛЬЕ ЗДАНЕВИЧУ
СлеЗа маРшируеТ
нА пИк oCmpue
кобрА нос ТоТиТ
тулиЯ выраЖаетСя
элиЯлИяААА
АБывЫГыДжЗЫ
ИМ!
Зда!!
НеВиЧ!!!
ИЛЬЯ!!!
(обратно)14
В архиве отца сохранилась тоненькая книжечка стихов поэта Колау Чернявского. С одним из стихотворений, пусть даже в виде фрагмента, хочется познакомить широкого читателя, поскольку оно посвящено Валентине Кирилловне Зданевич и здесь как бы уместно.
КАМЕННЫЙ ПОЛЕТ
В. К. Здапевич
Быть может, я не позабыл
И кем я был и кем я буду,
Не только этот смуглый пыл,
Не только вешнюю причуду
Смеется старое письмо
И этот юношеский почерк.
Былое катится само,
И промежуток все короче.
Пусть нивы тяжкие валы
Разроют тяжкими плугами,
Придет весна – поля светлы
И зеленеются лугами…
(обратно)15
Здесь и далее выделено автором.
(обратно)16
Античный город, некогда расположенный рядом с современным Сухуми. Затоплен морем. Его развалины видны с побережья. (Прим. ред.)
(обратно)17
Переезд из Сухума в Батум.
(обратно)18
Местное название Батумского театра, расположенного в здании бывшего склада скобяных изделий.
(обратно)19
В конце листка приписано отдельно «Что б здесь. Вечер [нрзб]. Крол болен. Тоска».
(обратно)20
Записи в этих дневниковых листках обрываются.
(обратно)21
Последующий текст – своеобразный сжатый итог наиболее сильных впечатлений от поездки.
(обратно)22
Речь идет о Рязани
(обратно)

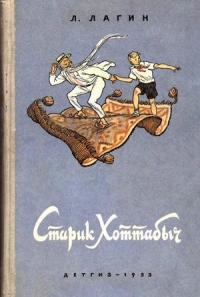
Комментарии к книге «Бросок на юг», Константин Георгиевич Паустовский
Всего 0 комментариев