Петр Проскурин Число зверя
Часть первая
1
Тихий и светлый ключ, выбиваясь на поверхность, чуть шевелил чистый песок. Присмотревшись, можно было увидеть подвижные, живоносно затейливые струйки песка на дне небольшой колдобинки — здесь, среди болот и мореновых взлобков, брала начало Волга, песенная колыбель многих племен и народов земли, их кормилица и поилица, баюкавшая и растившая на своих берегах сотни поколений русичей, с материнской любовью пестовавшая их удаль и волю, стремительный и широкий, раздольный характер, не раз затем сказывавшийся губительной уступчивостью, незлобивостью, а то и откровенной слабостью, и вновь перераставший в неудержимую тягу к вольным пространствам, к неизведанным далям и берегам древних океанов.
Именно здесь, в глухом болотистом месте, по детски прозрачный ключик и являл собой вечную силу земли — здесь таилась сама душа Волги, и зримо являлась она только в строго означенные сроки, перед самыми трагическими свершениями. И всегда в одном образе — в светлом лике ребенка, возникавшем и в самом родничке, и в небе над ним в предвестии земных потрясений и смещений, когда предстояли разломы самой жизни. Узреть пророческий лик было дано лишь чистым сердцам, странникам русской судьбы и печали, и последний раз такое предвестие случилось перед самой смертью Сталина — лик ребенка проступил сквозь голубой, еще не совсем рассеявшийся мрак ночи над родничком, и в туманных детских очах дрожали кровавые слезы.
До сих пор у русских странников и печальников из рода в род передается весть о пророческом явлении окровавленного лика ребенка над ключевым истоком Волги двенадцать раз подряд перед роковым днем сыноубийства царем Иваном, — плакала безутешно душа великой реки, являя миру предостережение, но так уж положено судьбой человеку — находить путь в слепоте своей, звать Бога, а служить сатане, — ничего из этого заклятия не меняется на земле и до сих пор, потому что, по определению апостола, человек есть ложь…
Окровавленный лик ребенка был явлен истоком Волги небесам и миру и в канун, по сути дела, убийства Петром Великим тоже прямого своего наследника, первенца. И неподкупное пророчество, как всегда, вновь сбывается — Россия получает царей со все большим преобладанием чужеземной, немецкой крови, и тоже начинается своеобразный смутный период в ее многострадальной истории, — беспримерный бабий кавардак влечет за собой ряд невосполнимых утрат и разочарований на русском пути.
Свидетельствуют, что были подобные небесные знамения и потом, перед черным семнадцатым годом и приходом в Русскую землю, люто ненавидимую им еще в чреве матери, антихриста Ленина, как окрестили его странники; было нечто похожее и в тридцать седьмом году, и в начале сорок первого, и в канун пятьдесят третьего, но ни на одно мгновение не прекращался круговорот вещей, — воды со всего бескрайнего пространства России по капельке, по ручейку стремились к Волге и скапливались в Волге, они несли с собой в жаркое Каспийское море, оплодотворяя его лоно и берега, мощь и щедрость Русской земли, ее кровь и пот, ее соки и ее бессмертие. Жизнь всегда рождала жизнь — таковы законы творящего космоса.
И еще русские странники, значительно уменьшившиеся в числе за годы безбожия и гонений и все таки не исчезнувшие совсем, продолжали исполнять древний негласный завет и по тайному, только им слышному зову, безымянные и бездомные, неустанно брели с места на место, из одного конца Русской земли в другой, с Соловков в Чернигов и Киев, оттуда в Углич, Муром, Переяславль или Суздаль, в Великий Новгород или в Москву, и часто руководящий ими гений странствий приводил их в самые глухие, заброшенные места, где от монастырей и храмов давно остались одни развалины и руины, поросшие дикими бурьянами, а то и лесом. И не было в этом загадочном, почти призрачном братстве не имеющих крова ни одного усомнившегося, ни одного, кто не стремился бы добраться до самых истоков древнейшей реки, таившихся в толще земли и выбивающихся на поверхность из самой сердцевины бытия всего сущего, и отведать, испить от их мудрости, преисполниться пониманием основ жизни и тем самым примириться с нею, понять ее, обрести дар пророчества и понести вещее слово дальше, до самого его завершения.
* * *
Одного такого, не от мира сего, без определенного места проживания, без возраста, родства, по его собственному утверждению, никогда не знавшего ни отца, ни матери, зимой и летом одетого в один и тот же пропитанный пылью брезентовый плащ, в приспособленных из кирзовых сапог опорках (отрезал голенища — и готово), можно было встретить на самых разных дорогах России; все знавшие его в странствующем мире русских теней не раз сталкивались с ним в последние годы. И зимой, и летом на нем красовалась одна и та же шапчонка с оторванными ушами, за спиной — грубо залатанный заплечный мешок. Звали его все отцом Арсением, окликали, встречаясь, иные с извечной русской полуусмешечкой полусмирением перед глухой неизвестностью, чувствовавшейся с первого же взгляда и слова за плечами отца Арсения, — его явно уважали и втайне побаивались; о его прошлом ходили самые невероятные, даже фантастические слухи. Никто не знал, откуда он и когда появился, но видели его последние два три года и в Печерской лавре, и в Чернигове, и в Угличе, и на Соловках, и у Донского монастыря, и в Невской лавре, видели его и у Троице Сергиевой лавры, а как то в погожий и теплый летний день он оказался и среди развалин Свенского монастыря под деснянскими обрывами, у которого когда то шумели знаменитые всероссийские ярмарки; здесь, у бывшей трапезной, где ныне устроили колонию, официально называемую диспансером для неполноценных детей, в основном паралитиков, укрывшись за кустом широко разросшейся бузины в грудах битого кирпича от бывшей монастырской стены, отец Арсений с каким то странным и болезненным интересом долго наблюдал за группой несчастных ребятишек, выведенных на прогулку из душных и тесных своих палат, — разновозрастные дети, конвульсивно дергаясь, уродливо хромали, лица их вспыхивали жуткими гримасами и дьявольскими искажениями и играми лика Божьего, как бы раз и навсегда отвергающими и отменяющими необходимость присутствия в мире самой гармонии.
Отец Арсений наблюдал за всем этим, и странные, несколько косые его глаза неопределенного цвета невольно завораживали пронзительной, больной тоской, стремлением понять происходящее и невозможностью осмыслить и связать в одно целое весь этот зазеркальный мир перед собой. И глаза отца Арсения застывали, леденели изнутри от тихого и бессильного страдания, обвисшие неровные усы слегка шевелились, словно он хотел что то сказать, но не мог, — посторонняя сила мешала и запрещала ему заговорить. Что он хотел понять и изречь?
Изработанная воспитательница, вышедшая опекать несчастных детей и присматривать за ними, давно привыкшая к неизбывному горю вокруг и считавшая свою работу нормальной повседневной жизнью, в любую свободную минуту вязавшая толстые шерстяные носки, заметила присутствие подозрительного пришельца, затаившегося в кустах, и настороженно поглядывала в его сторону. Бывали случаи, когда, влекомые слепой силой, здесь появлялись родители кого либо из больных детей и, таясь, издали старались высмотреть свое несчастное чадо, и это, как правило, были добрые, очень страдающие, мучающиеся своей виной люди, — ведь некоторые в таких случаях пытались просто забыть.
Не упуская из виду своих подопечных, уставшая женщина прошла к зарослям бузины и, заколов спицей моток ниток, негромко спросила сидящего на земле человека:
— Ну, чего хорониться то? Кто у тебя тут, выходи…
И тотчас попятилась, — таких пронизывающих, почти безумных глаз она никогда раньше не встречала, да и лицо этого, без возраста, незнакомца не располагало к доверию. Женщина на всякий случай оглянулась и, убедившись, что двое рабочих недалеко, перекладывают и отбирают из наваленного вороха нужные им доски, успокоилась. На здешних, местных, бродяга был не похож, он неуловимо отличался от простых, привычных людей вокруг, простодушных и нагловатых и, как водится, словоохотливых, — чужак, уцепившись за хохолок своего небольшого заплечного мешка с веревочной засаленной лямкой, молчал, и женщина, по привычке рассуждать вслух больше сама с собой, что то пробормотала и совсем притихла.
— Ну, молчи, молчи, сердешный, молчи себе, знать, так надо, — подумала она вслух. — Молчи себе на здоровье. Оно и полегче, — как ты среди таких своего углядишь? Тут не углядишь, у нас страна божедомная, туточки все беловодье свое отыскали, все одинаковы, все подряд. Вон они все какие Божьи… Все одинаково маковками светят…
— Что ты понимаешь, горькая, — неожиданно подал голос и незнакомец. — Про какую страну толкуешь? Я ее, эту страну, с самых своих начал отыскиваю, да нигде пока не сыскал, никто о ней и во сне не слыхивал. Какой год бреду, ничего нет — пустыня, пустыня бесплодная. А то сразу тебе — беловодье! Не прикасайся к неведомому, женщина! Язык человеческий скверен и блудлив…
Он рывком встал, не выпуская из рук своего мешка, и оказался довольно высок и костляв, — его заношенный брезентовый плащ зашуршал от старости и пропитавшей его грязи, как проржавевшее железо, и воспитательнице показалось, что она слышит, как в этом длинном плаще, словно в мешке, пересыпаются кости. И, не ожидавшая такого отпора в ответ на свои невинные слова, она отступила и перекрестилась, и тут же на заросшем лице неизвестного пробилась робкая, почти детская улыбка.
— Ты хоть скажи, откуда сам будешь? — спросила она, подумав, что этот тоже из той же беловодской породы. — Из каких мест? Вроде на здешних не походишь, колючий, а душой то трепещешь… А? Небось, из московских краев?
— Арсением зовут, другой приметы не имеется, — скупо поведал он, опять как то долго и непривычно пристально поглядев на нее. — Здесь все мое — и начала, и концы, что тебе больше то надо? Больше ничего и не бывает…
Голова у нее неприятно закружилась, но она привыкла иметь дело с трудными питомцами и приучилась к терпению и постепенности, — без этого ей нельзя было жить и работать.
— Так ты, стало быть, из монашеского роду? — предположила она и неуловимо повела головой, указывая на разрушенные, осыпавшиеся стены и мощные безголовые угловые башни вокруг. — Так ты, стало быть, в свою страну и пришел. Какого же тебе еще добра искать?
— Ну, женщина, пора мне, — сказал неизвестный и, привычно закинув мешок за спину, поправил лямку. — А тебя я благословляю, трудись и знай — выше твоего труда, твоей скорбной любви ничего нет. Ты невеста белоснежная перед Господом Иисусом, — добавил он, внезапно перекрестил воспитательницу широко и размашисто, повернулся и пошел.
— Отец Арсений, отец Арсений! — окликнула она, внезапно почувствовав тихое и трудное просветление и почему то называя неизвестного именно «отцом Арсением», так, как он и прослыл в мире странствующих и зыбких теней, и это доставило ему радость, глаза его сверкнули и вновь затаились. — Отец Арсений, может, тебе поесть вынести? Погодь минутку, я мигом…
Уже взобравшись на самый верх рукотворных развалин древней стены, он, кажется, даже не услышал последних слов женщины; близился вечер, и солнце низилось, от разомлевшей за жаркий день бузины, усыпанной созревающими гроздьями ягод и так нелюбимой мышиным племенем, запахло сильно и дурманяще; из под крутого деснянского обрыва стал подниматься редкий, розовато светящийся туман. Он бесшумно тянулся своими неровными разводами к развалинам древнего монастыря, и даже старый дуб, искалеченный временем, покоивший когда то под своей сенью самого императора Петра с его неизменной трубочкой, уже плыл, выставляя к небу обломанные сучья, в волнистом необозримом море деснянских туманов, пронизанных низившимся солнцем. И в душе у женщины, отупевшей от привычного горя и страданий, пробилось тихое тепло, брызнул странный, успокаивающий свет. Задеснянские голубые дали тонули в налитых предвечерним солнцем туманах, и в ней проснулось неведомое ранее желание раствориться в этих розовых туманах и больше не быть.
«Господи, грех то какой, — стукнуло ей в душу, и она вновь перекрестилась, сама не понимая, что с ней такое. — Господи, прости меня, неразумную и грешную… Неужто лето опять прошло?»
Незнакомец исчез бесследно, вроде его никогда и не было, вроде бы он привиделся лишь в запутанном, неразборчивом сне — ведь еще мгновение назад она видела его темную резкую фигуру, сгинувшую теперь внезапно, сразу, и уже на том месте, где только что находился неведомый пришелец, медленно клубился, на глазах разбухая, розово голубой туман.
Еще мгновение назад она видела: отец Арсений оглянулся, его глаза понеслись ей навстречу, он, кажется, хотел о чем то напомнить и сразу же канул, растворился, словно наконец то отыскал свою призрачную страну, но и сквозь толстый волнистый туман продолжали чувствоваться и светить его глаза.
И женщина прижала руки к груди и трудно вздохнула.
2
Через несколько дней отец Арсений оказался в славном городе Смоленске; он сидел на ступеньке широкой каменной лестницы, ведущей к Успенскому собору, и, задрав голову, изучал плывущие над маковками собора в синем небе белоснежные, непорочные облака. Казалось, сами кресты тоже плыли и куда то устремлялись, но куда и зачем? Куда устремляется он сам, не может побыть на одном месте, что за сила влечет его самого и куда?
Внутренне замерев, он машинально подтянул за хохолок свой мешок. Неприятная и ненужная мысль из прошлого прорезалась и сверкнула словно в самой синеве над крестами собора — она озадачила и встревожила его; ведь сам он уже давно убедился, что никакого прошлого у него не было и не могло быть — он появлялся в мире каждый день заново на рассвете, и вновь, все с того же извечного рубежа начинал свой путь, привычно шел дальше, и вел его тоже кто то неведомый, хорошо знавший, куда вести, и нужно было только не протестовать и слушаться, — с каждым новым днем росло чувство нетерпения и благостного ожидания, приближалась заветная цель, некий предел: перешагнув его, он должен будет войти в совершенно иной мир обретения и душевной благости, — потеряв в прошлом самого себя, он, после одного лишь шага, должен будет обрести свое утраченное естество, а главное, встретить и увидеть богоизвечного отрока, узреть его сияющий лик и принять в иссохшую душу истину своего прихода в этот мир, возможность вновь встретить самого себя и вернуться в себя. Он не знал, кем он был прежде, до того, как стал отцом Арсением среди племени русских странников, но он знал, что с каждым новым своим усилием он все ближе к заветной надежде — все последние годы она вливала в него силы брести все дальше и дальше, грела его, часто забывавшего запах и вкус хлеба, лишь глотавшего раз или два в день из какого нибудь встречного ручья или родника. Правда, в деревнях и поселках, если он просил, ему выносили иногда кружку молока, а то и ломоть пшеничного хлеба, кусок сала, тройку яиц, но он инстинктивно опасался местных дотошных властей, как правило, особо придирчивых и назойливых, и старался обходить человеческое жилье стороной. Больших городов он не боялся, в их многолюдстве и суете можно было легко раствориться и затеряться, отыскать в непогоду заброшенную развалину или просто укрытие для короткого ночлега.
И сейчас отец Арсений блаженствовал на ступенях широкой каменной лестницы; было тепло и сухо, есть ему уже давно не хотелось, путь до завершения предстоял немалый, он это хорошо знал, но, как говорится, птица Божия не сеет, не жнет, а сыта бывает.
Мимо, держась за руки, улыбаясь друг другу, оживленно разговаривая, прошла молодая пара; перед отцом Арсением словно мелькнули две призрачные тени, и сразу же шаги затихли, и девушка с парнем, совсем еще дети, вернулись назад и остановились перед неизвестным бродягой. Парень был в безрукавке, парусиновых брюках и казался откровенно счастливым, курносая девочка с румяными щечками была в легком ситцевом платьице в мелкий горошек — теплый ветер трепал подол ее платья.
— Отец, скажи нам что нибудь, — попросил парень, глядя доверчиво и ожидающе, и тогда смутные и далекие видения вновь замерцали в памяти отца Арсения, хотя в лице у него ничего не дрогнуло, не проступило.
— Идите, — сказал он мягко и тихо. — У вас и без моих слов всего много, не надо жадничать. Вы свою беловодскую страну уже отыскали, зачем же вам пустые и лишние слова? Вам послан судьбой бесценный дар, глядите, никому его не отдавайте! Господь вас благословит! Идите, идите!
У девочки глаза сделались круглыми, по детски изумленными, по лицу парня пробежала стремительная тень, и он засмеялся — по молодому бездумно и радостно.
— Спасибо, отец! Будь и сам благословен, мудрый кудесник! — поблагодарил он. — А это, если позволишь, тебе на сто грамм, выпей за нас, за нас сегодня надо выпить! Да, да, обязательно надо, чтобы мы не заблудились… Нас спасет и остережет твое слово… Прощай, отец!
Они вприпрыжку помчались вверх, к самому собору, видевшему на своем веку не только Наполеона и Гитлера, но и ляхов, корыстных и легкомысленных, и злополучного воеводу Шеина. Только зачем одуревшим от своего счастья ребятишкам было вспоминать прошлое? Полные жажды открытий, они умчались дальше, к белоснежным облакам в синем небе, к солнцу, — оно может их сжечь, может и помиловать. Они умчались к строгим грозным крестам, а на заплечном мешке отца Арсения осталась лежать скомканная пятерка, и он привычно и радостно перекрестился, — теперь ему хватит хлеба надолго, еще и сухарей на солнышке можно будет насушить. Он так и сделал, два дня отдыхал, ночуя на сухом песке на берегу Днепра или на кладбище на другом его берегу, полоскал в воде и лечил на солнышке потертые, избитые ноги и наслаждался в густых кустах ивняка покоем, хотя порой его и охватывало лихорадочное ожидание и нетерпение. Он крепился и не трогался с места, он знал, что должен был пробыть здесь хотя бы еще несколько дней; он вдоволь ел хлеба и в сумерках однажды, боязливо раздевшись догола, зайдя на песчаной отмели в реку до пояса, тщательно вымылся и вернулся на берег со старой, проржавевшей солдатской каской — он нащупал ее в реке и очистил от песка, плотно спрессовавшегося в ней за многие годы. Он долго сидел перед ней и думал, и опять в его памяти стали смутно оживать забытые тени, и он вновь все отверг и скоро уже пробирался лесами и болотами Валдая, выбирая направление лишь по одному ему ведомым приметам и признакам, и однажды, опять выбившись из сил, долго ел на глухой лесной поляне спелую голубику. Отяжелев, натянув на голову полу плаща, тут же, слегка лишь переместившись под старую, разлапистую ель на краю поляны, он заснул и проснулся от трубного хриплого рева, когда еле еле прорезывалась заря.
Отец Арсений привык к дождям и грозам, и первой его мыслью была мысль о поздней грозе; он ошибся, — на поляне, весь облитый серебряным сиянием зари, стоял матерый лось, гордо закинув тяжелую голову и шевеля чуткими большими ноздрями. Отец Арсений замер — зверь, звавший и жаждавший соперника, был похож на гранитное изваяние, — в памяти человека шевельнулось нечто далекое и, опять таки, давно забытое, он мучился, не в силах вспомнить. В заревой безветренной тиши возник, разросся и обрушился на леса и болота ответный клич соперника — гулкий и раскатистый. Право на продолжение жизни нужно было отстаивать, — природа творила и отбирала слепо и безошибочно. И едва замерли отголоски рева соперника, зверь на поляне вновь протрубил, оповещая пространства земли вокруг, все таившиеся в них враждебные силы, важенок, забившихся в чащобу неподалеку, что вызов принят; зверь тряхнул головой, одурманенной непреодолимой тягой к продолжению рода, ударил передними ногами — земля глухо отозвалась, и отец Арсений это ощутил, одновременно испытывая свою полную причастность к происходящему, и даже нечто большее и потаенное, — он подумал, что и его неистовый и безотчетный поиск неведомого есть тоже отражение космической силы, заставляющей все живое не успокаиваться и без устали, до изнеможения отыскивать и утверждать себя, невзирая на кровь и муки, жаждать поражения соперника, стремиться за пределы разумного и дозволенного, несмотря на предостережение, что всех дерзновенных за предельной чертой ждет холод бездны и небытия. Ему нравились его высокие и торжественные мысли, от них к нему возвращалось ощущение присутствия Бога, вернее, оно вспыхнуло сейчас ярче и осязаемее, потому что подобное ощущение не покидало его вот уже несколько лет, с тех самых пор, как он, выломав ветхую решетку в окне своей палаты, исчез в ночи, растворился вначале в уральских, затем в сибирских просторах и уже потом нигде и никогда больше не числился — ни в домовых, ни в профсоюзных, ни в других казенных бумагах. Он был и исчез, перешагнул черту, разъединявшую жизнь и небытие, и в этом, как он все больше убеждал себя, присутствовало нечто высшее, некий благоволящий к нему и всемогущий Бог, он вел его, сопутствовал ему в его земных странствиях и хранил.
Опасаясь шевельнуться, отец Арсений отодвинул мешавшую смотреть тяжелую, замшелую еловую лапу; вновь послышался хриплый клич, теперь уже где то поблизости, и на поляну сквозь молодняк осинника с хрустом и треском выметнулся и застыл еще один созданный природой первоклассный боец — бык четырехлеток, весь яростно нетерпеливый, в красном мареве жажды битвы, любви и продолжения, он выскочил из зарослей и на какое то время замер на краю поляны, — он уже увидел своего соперника, вдвое старше себя, в самом расцвете сил и в полной уверенности в своем праве сражаться, победить и остаться хозяином в этом лесу; молодому, более слабому зверю природой еще давалось время оценить соперника и беззвучно исчезнуть. Вместо этого он захрапел, зафыркал и стремительно бросился вперед — удар был сокрушительной силы, затрещали рога, взвились и ударили друг в друга почти стальные по крепости копыта, словно шутя раскраивающие волчьи, а то и медвежьи черепа.
Выдержав, лишь слегка попятившись, первый неожиданный бросок противника, матерый бык, в свою очередь приходя в безрассудную ярость, обрушил на своего неопытного и горячего соперника град ударов рогами и копытами — смял его и обратил в бегство. Затрещал и зашумел молодой осинник, — хозяин поляны еще успел в несколько прыжков догнать молодого лося и укусить его за круп, но дальше преследовать не стал, вернулся на облюбованное место, и окрестные леса огласил его победный рев.
Отец Арсений перевел дух и опустил голову на слежавшуюся годами хвою, — он понял, ощутил, каким то неведомым шестым чувством определил близость цели и затем задремал, а когда проснулся, в лесу стояла чуткая тишина, солнечное утро полностью вызрело и разгорелось, большая поляна была пустынна и все случившееся здесь на рассвете отодвинулось и стерлось, — странный сон жизни рассеялся и нужно было идти дальше. Его ждал свой заколдованный сон, обещающий ему встречу с самим собою и долгожданное возвращение к себе, хотя он не мог бы вспомнить, когда пришла к нему навязчивая, мучившая его мысль напиться из самого источника Волги, из древней солнечной Ра, истекающей из самой сердцевины земли, хотя впервые приблизиться к источнику, воочию узреть, испить именно из него он мог только первого сентября, в Сёмин день, в момент, когда станет подниматься солнце.
Собравшись с духом, он сгрыз последний сухарь, набрал в мешок падалицы с дикой яблони, росшей тут же на краю поляны, и уже через несколько дней скитаний и поисков был на месте и стал ждать наступления необходимого дня и часа. Хотя он по прежнему сторонился людей, его приметили в соседней деревне, и быстроглазая ребятня часто следила за ним из зарослей — он соорудил себе жиденький шалашик недалеко от ключа и часто бродил в окрестных буераках, собирая сушье для костра. Два или три раза набегали еще по летнему недолгие, теплые дожди, и теперь отец Арсений почти наслаждался домашним уютом, его избитые, натруженные ноги потихоньку отходили и переставали ныть; кое какая немудреная еда у него еще имелась, срок наступал, близился, и время для него превратилось в один бесконечный и туманный сон, — он не различал ни дней, ни ночей, он был весь в душевном томлении и восторге в преддверии чуда и жил только в своих ожиданиях завершения и не хотел думать, что ему уготовано потом.
Однажды на его шалаш набрела очередная ватага деревенских мальчишек, — укрывшись за развесистым кустом лещины, ребятишки долго его рассматривали и шепотом делились своими наблюдениями и мыслями, — отец Арсений сделал вид, что ничего не замечает, и они, все так же таясь, скоро ушли, а он, всегда любивший детей и тосковавший по ним, тотчас заставил себя забыть о перепачканных ягодой любопытных мордашках, их ярких пытливых глазах, призванных светить во тьме времен дальше, ради чего, собственно, человек и приходит в этот мир, — его же самого, ставшего неуемным бродягой, ожидало более высокое предназначение — постичь тайну самого себя, он должен был ждать этого и дождаться.
Прошла еще одна ночь накануне срока, и он, еще не открыв глаз, ощутил рядом присутствие постороннего; это был кто то не просто чужой. Явился тот, кто должен был явиться и кого столько времени ожидали. Потек хороший запах белых грибов, — отец Арсений высунул голову из под своего жиденького укрытия и увидел рядом с кострищем сидящего старца, слегка подсвеченного язычком пламени, по деревенски просто и бедно одетого, — слабые блики огня играли у него на лице. Он сидел к отцу Арсению боком, в каком то нескладно топорщившемся на нем пиджачке и в разношенных яловых сапогах. Отец Арсений видел его большой, мясистый нос и длинную, чуть ли не до пояса, белую бороду. Время только только повернуло к рассвету, и от слабого пламени костерка темнота вокруг становилась непроницаемее и чернее. «Он сам, что ли, разжег огонь, — подумал отец Арсений с легкой, радостной дрожью предчувствия. — Древний человек, ему лет за сто, а он один по ночным лесам шастает, ни зверя, ни лихого злодея не боится».
Отец Арсений выполз из шалаша и приблизился к огоньку, — ему навстречу поднялись зоркие, совсем не старческие глаза, и в этих глазах, давно уже потерявших счет дням и годам, пробилась неопределенная улыбка, хотя это вполне мог быть всего лишь отсвет смутного пламени.
— Садись, человек, говорят, в ногах правды нет. А где же она тогда? Правда наша? Садись, — пригласил старец более настойчиво. — Садись к свету Божьему…
Сдержанно, в предвкушении предстоящего, отец Арсений поклонился и опустился на трухлявую валежину, — он сам отыскал ее в лесу и пристроил у костра.
Пошевелив прутиком угольки, старец как то сразу, всеми своими бесчисленными морщинами и узелками, опять кротко улыбнулся, кустистые брови дрогнули, приподнялись, шире открывая потеплевшие, древние и ясные глаза.
— Детишки малые бегают, бегают, сороками стрекочут, — сказал он, и его тихие, словно легкие вздохи ветра, слова вновь заставили отца Арсения еще больше насторожиться. — Бегают, бегают, балаболят — сидит, говорят, мужик, сидит сычом, весь оброс волосьем, страшный, говорят. Траву дикую ест, водой из ручья захлебывает, больше ничего у него нету, говорят. Дай, думаю, схожу, наведаюсь, погляжу на птицу небесную… Схожу проведаю…
— Сам то ты кто, старик? — спросил отец Арсений. — Годов то тебе с избытком. Ночью, в такой темени, не боишься…
— Меня сон не берет, вот уж кой год не берет, бывает, и месяц, и два ни в одном глазу. Я туг рядом, из соседней деревни, дед Тимоха, меня каждая кочка, каждая колдобинка далече округ знает. Сыны, дочки давно повымерли, внуки да внучки, почитай, тоже, а я вот все хожу, все жду… Ох, порой тяжко становится, — все так же тихо пожаловался собеседнику ночной старец.
— Мне думается, вы совсем не тот дед Тимоха из соседней деревни, — вслух подумал отец Арсений и, тотчас по мгновенному взгляду старца поняв, что не ошибся, продолжал с некоторым вызовом: — А если вы тот самый дед Тимоха, то сколько же ныне лет вам набежало?
— А вот этого я, мил человек, не считал, зарубок не делал, — не спеша отозвался старец. — Бог сам знает, а другим ни к чему. Божья премудрость особая статья — каждому свое вершить, оно так выпало — кому пахать да сеять, а кому и хлебушко в закрома ссыпать. Вот ты, видать, за живой водой приплелся, все свое кинул и притолокся, невмочь тебе стало, нутро огненное, грешное надо остудить, в свой ум назад возвернуться. Я от ребятни сразу все в толк взял. А может, не то говорю?
В его голосе прозвучала необидная укоризна.
— То говоришь, то, — заторопился отец Арсений, страдая и радуясь. — Так, лесной старец. Скажи, правду ли говорят о живой, солнечной воде, дающей и зверю, и человеку, и всякому злаку, и древу радость и смысл жизни?
— Люди много чего говорят, на то они и люди, — не сразу отозвался старец, и легкое облачко набежало на его древний лик. — Что они могут знать? Лес знает много, земля еще больше, а вода знает все, ей, водичке, ведомо и человечье, и небесное, Божье. А эта вода и вовсе опасная, — он слегка повел головою в сторону ключа. — Слыхал я в молодую пору от старых людей вещее слово, не всякому оно сказывается, не всякому и ложится на душу, вызревает в полную силу. Да так оно и правильно. По всякому бывает, и недобрый, злой для земли человек может услышать недозволенное злому слово, вот оно так и устроено, из черного человека вещее слово тут же и выветрится, во всю жизнь ему не вспомянется, как и не бывало его. Да и опасное оно, вещее слово, для черной души.
— Да чем же опасное? — спросил отец Арсений, пытаясь нащупать в рассуждениях старца главное для себя.
— Не торопи, не торопи, мил человек, сказано — всему свой срок. — Старец опять пошевелил ивовым прутиком в костерке, и хотя там не было больше сушья, а была одна зола да затухающие угольки, огонек опять весело и резво поднялся над кострищем, лесная темень отодвинулась, и на свет потянулись мохнатые темно сизые лапы старых елей. — Не торопи, человек, Семин день подойдет, все и узришь. В Семин день, как солнышко край покажет, вода в ключе и становится живой, выходит из нее дитя — отрок, вот тут его чудная сила на коня и возносит, уносится он в Божью даль. Ты и карауль, сразу успей из под конских копыт водицы испить, пока стрельчатый конь не оторвался от воды. Трижды сначала перекрестись, помолись да попроси благодати, а то не попасть бы в обочину, костей не соберешь…
— О чем ты рассуждаешь, ночной старец, что за обочина такая? — сказал отец Арсений, чувствуя кружение сердца и с недоумением вглядываясь в огонек костерка, продолжавший гореть как бы из ничего, — бледное непрерывное пламя струилось, казалось, из сероватой золы с редкими золотинками угольков, — время от времени старец помешивал их своим прутиком. — Недаром ты явился, прошу тебя, говори до конца.
— Ну, человек, мудрствовать тут особо нечего, закон такой, — сказал старец. — Закон живой воды — высокий закон! Кто ее отведает, живой воды, в Семин день на самом возгорании солнышка Отца нашего небесного, тот, будь он хоть кто, хоть татарин, черемис какой, жидовин или другой иноверец, тот на всю жизнь преображается в воителя за Русскую землю, за Русскую веру и обретает оттого неисчислимость врагов на свою выю. Зато, в награду ему, навсегда входит в его душу любовь к Русской земле, а это не всякому по плечу. Ох, человек, тяжкая это, претяжкая ноша! И то становится известно высоким мужам, определенным Богом на управительство Россией. До супостата Петра Алексеевича все они, и Александр князь, прозванный затем Невским, и князь Димитрий, ставший Донским, да и князь Иван Лютый и батюшка Петра супостата царь Алексей Михайлович, — все они тайно побывали здесь на родничке, испили живой водицы в Семин день, когда отрока на коня садят. А вот Петр Алексеевич здесь не бывал, и после него никого не было — боятся присохнуть к Русской земле, живот за нее положить. А уж эти супостаты, Ленин да Сталин, да вот теперь Никитка Хрущ, мужицкий царь вроде Емельки Пугачева, эти богонепотребные и вовсе, как черт от ладана, от русского света шарахаются, темным силам свои поганые души продали, вот и длятся гибельные времена… Где это видано, Никитка Хрущ, шут гороховый, слышно, бабе своей вертихвостке Крым подарил! Не уподобился глотнуть из родничка, что ему Русская земля! А все нечестивцы, что пугливо обошли святой ключик, будут прокляты, и прах их с потомством вместе развеется в беспамятстве и позоре…
— Чудное ты говоришь, Божий старец, они про то и не слыхивали сроду… Откуда им знать? — усомнился отец Арсений, все больше и больше проникаясь мягким светом любви и печали. — Да и что за люди? Так, бродячая нечисть, вынюхивают, высматривают, ждут часа, а затем клыками в горло. Откуда им знать?
— Знают, им каждому перед восшествием тайный знак дается, — вздохнул лесной старец. — Не восчувствуют, страхом звериным объяты, тут же в беспамятство впадают, а значит — все такие от сатанинского племени. Запечатлено в тайных подземельях вод многое. В свой срок хотела наведаться сюда жена пресветлая, древних славянских корней… Стала затем императрицей российской — Екатериной, вот тебе баба, а не испугалась, Божьей благодати уподобилась жена. Только и она до самого тайного не была допущена, нельзя сие бабьему роду. Грешна до непотребства была, а Русскую землю изрядно прирастила, простит ей Господь все ее плотские соблазны, не согрешишь — не покаешься.
— А ты, лесной старик, все пошучиваешь, — сказал отец Арсений, ведомый нехорошей силой противоречия и обиды. — Русская земля! Да разве такая где нибудь осталась? Сколько я прошел из конца в конец, в Сибири был, на Урале, студеный север весь исходил, а Русской земли нигде не встретил, нигде…
— Зачем тебе было столько ходить, неугомонный? — холодно удивился старец. — Да ты, странник, и сам еще весь этот русский разлад и разор увидишь, он еще у тебя по сердцу пройдет. За особую судьбу и плата особая, высокая. Ищущему откроются двери и тайны небесные.
— Какое мне дело до царей, прежних и нынешних? — вновь не удержался от своей тоски отец Арсений. — Мне бы свое обрести! Отрока бы, дитя светлое увидеть, может, обновился бы состав души, узрел бы я истину подлинного служения миру… Если можешь, мудрый старец, помоги!
— Помогу, — просто и тихо согласился ночной гость. — Жди Семина дня. Отрока узришь, чашу свою изопьешь. Затем и возрадуешься, человек.
— Чему?
— Рассвету Божьему, заря уже поспешает, торопится, — ответил старец, поднял глаза, и отец Арсений замер — стародавняя тьма стала высачиваться и уходить из мрака его души. От какого то нечеловеческого и радостного ужаса он словно окаменел и не мог шевельнуть ни одним членом. Глаза ночного старца чудно ожили и заиграли неизъяснимо, они стали прозрачными и бездонными, наполнились особой чистотой и вечностью жизни, и не глаза человека теперь это были, а некий неиссякаемый родник, неудержимо втягивающий и растворяющий в себе, и отец Арсений чувствовал, что не может противиться и исчезает в его течении, — вся воля у него была отъята.
И тогда он испытал последний искус жизни — перестал быть собой и переселился в другой, высший источник. И в самое последнее мгновение успел узреть высоко, до самого неба ударившее пламя костра, загудевшее широко, мощно, привычно рванувшееся в свою небесную колыбель. И опять таки всего на одно мгновение соткался и проступил Божественный и светлый лик отрока, еще совсем дитяти, и этот отрок приветливо и призывно улыбнулся отцу Арсению, которого тотчас перенесло к источнику всех вод, и он увидел все, что ему должно было узреть, — и отрока, и уносящего его коня, и вышедший из за пределов земли край играющего солнца.
— Семин день! Семин день! — зашелестело вокруг в окрестных лесах и отдалось в распахнувшемся небе, и отец Арсений схватил глоток живой воды, и горячий вихрь, вырвавшийся из под копыт коня, поднял его, опрокинул и ударил о землю. И тогда свет ушел из глаз отца Арсения.
3
Сколько он ни тасовал спрессованную годами совместной борьбы, засаленную, потертую и тяжелую, пропитанную кровью колоду карт, всякий раз выпадало одно и то же — лучшего кандидата, кроме этого удачливого, ровно и уверенно поднимавшегося все выше и выше южанина, пожалуй, и сейчас пока не видно: анкета превосходная, есть изрядная примесь цепкой и привычной еврейской крови, жена тоже из того же племени, смотрит на него, свое чудо, снизу вверх, как на икону, как это и повелось на Востоке издревле, в высшие сферы не лезет, раз и навсегда определила для себя главное — муж, дети, семья, родственники. Баба и баба, по бабьи умна, не в свое дело вторгаться не будет. Ничего не скажешь, действительно умна — до сих пор держит суженого на длинном поводочке, пусть, мол, бегает себе, пока бегается, от здорового мужика не убудет.
Лежа в темноте и вперив бессонные глаза в потолок, Михаил Андреевич ощутил и некоторое облегчение, — кажется, на этот раз бессонная ночь не прошла даром, даже, по каким то предварительным признакам, самые ключевые фигуры остались весьма довольны переменами. Всем надоели хамство, мат, дикая непредсказуемость — сегодня кок сагыз, завтра кукуруза. А Крым? Эта его мужицкая бычья натура, напористость, испугался еврейской нацеленности на Крым, на древнюю Тавриду. Хотя почему только он? Разве один он? Такая уж случилась расстановка сил: малейшее дуновение — и Крым свалился бы в нежные объятья Сиона, а завтра, послезавтра и присоединился бы к государству Израиль, вошел бы в него по референдуму или опросу, может быть; Хрущев не Сталин с его восточной эквилибристикой в политической борьбе. Дорогой Никита Сергеевич, этот топорный или, скорее, лапотный политик, выплясывающий при Сталине на ночных пирушках гопака, оказался на этот раз проницательнее других, хохлацкий колбасный инстинкт его не подвел, Но самый сокровенный смысл, опять таки, в ином — недавний шут, потешавший грозного властелина и умевший так искусно играть, что даже сам дьявол в лице Сталина ничего не замечал, вполне вероятно, все таки не выдержал, захотел реванша, и здесь промедление было недопустимо. По примеру своего недавнего беспощадного господина и кумира, он в первую очередь мог смести ближайшее окружение, опять бы начался разброд в международном движении, опять — внутренние шатания и гул недовольства. Нет, нет, пронеслось в бессонном мозгу Михаила Андреевича, все мы ответственны перед историей, все мы обязаны припомнить заповедь вождя революции о нерушимом единстве партии, о незыблемости коллегиального руководства партией и государством…
Губы Михаила Андреевича растянулись в долгой усмешке, — цену своим мыслям он понимал, как никто другой, он прошел долгий, полный пропастей и хитроумных ловушек путь, невесомой тенью проскальзывал минными полями не только у Ежова, Ягоды и Берии, мастеров высшего класса; он проскальзывал мимо цепкого, пронизывающего насквозь взгляда самого Сталина, — обочинкой, обочинкой, и вот результат. Тонкие губы Михаила Андреевича вновь дрогнули в усмешке. Государство можно строить разными способами, можно и так, как бы стоя в сторонке, издали вкладывая свою ролю в нужный момент, свои мысли и планы в чужую, пусть даже слишком много мнящую о себе голову. И пусть себе мнит на здоровье, это никому не мешает и ни к чему не обязывает, — пусть себе мнит, что это ее собственные мысли, был бы лишь необходимый стране и обществу прогресс, результат, и пусть наслаждается видимой своей властью, — таким образом горы можно своротить. Что ж, бывают и промахи, ну, вот как было с тем же Никитой Сергеевичем, не предприми именно он сам, серый кардинал, как его шепотом величают даже ближайшие и самые доверенные сотрудники в туалетах и под одеялом у жен и любовниц, определенных шагов, не разыграй сложнейшую шахматную партию. И вообще, если бы не это, не видать бы уважаемому Никите Сергеевичу первого места как своего затылка, а вот поди тебе, как это первое место выявляет истинную суть человека… Сразу из него дурь и полезла, дурак дураком, и это мое, и это тоже мое, и это я съем, да вон и до того доберусь, а если не осилю, то хотя бы надкушу, чтобы другим не досталось. Вызывал общее недовольство, по мужицки всем хамил, за свои унижения в прошлом норовил расквитаться, компенсировать свою неполноценность. Надо думать, несколько опоздал наш неистовый новатор и реформатор, топорная работа давно завершена, он свое дело сделал раньше, надо полагать, а теперь в свой срок и ушел, когда оказались необходимы более тонкие государственные кружева — с семнадцатого года успела народиться еще одна волна этой вечно недовольной, вечно хнычущей интеллигенции, ищущей в отбросах жизни свое жемчужное зерно, да и последняя война подбросила в характер народа своих загадок. В политическую жизнь пришло время мастеров высочайшего класса, способных, как говорилось раньше, подковать блоху.
Повернувшись на другой бок, Михаил Андреевич попытался заснуть, даже подтянул длинные сухие ноги к самому подбородку, но мозг не отключался, работал безостановочно, и тогда он каким то шестым или десятым чувством опять ощутил приближение кризисного, критического момента, — такое провидческое состояние охватывало его в самые трудные минуты, когда вокруг, в самых нервных точках партийной и государственной машины, накапливалось предельное количество разнополюсного электричества и нужно было принять срочное, безошибочное решение, предотвратить вот вот готовую грянуть катастрофу, и, самое главное, нужно было суметь действовать так, чтобы об этом его знании и последующих вскоре иногда парадоксальных поступках никто бы даже и не догадывался. Все должно было вершиться естественно и просто, как итог вызревшего и материализующегося коллективного мнения…
Тут Михаил Андреевич почувствовал, что мозг у него начинает раскаляться; он с досадой плюнул, зажег свет, надернул пижаму и, попробовав входную дверь в кабинет — заперта ли она изнутри, не забыв взглянуть и на опущенные шторы на окнах, прошел к встроенному в стену и снаружи замаскированному под стеллаж с книгами большому сейфовому шкафу и открыл его. Здесь хранилось самое заветное и самое бесценное — его личная картотека, вобравшая в себя судьбы десятков, сотен и даже тысяч людей, от которых, в свою очередь, зависели судьбы многих государств и народов, в конечном итоге — и путь самого человечества, его будущее. Человек может исчезнуть, просто умереть, раствориться в земле, превратиться в горстку пепла и бесследно развеяться даже легким порывом ветерка, но его дела, его слабости, пороки и прегрешения, его порой ужасающе бездонные страсти и преступления продолжают оставаться, если умело их использовать, оружием огромной силы. Мертвые цепко держат в своих объятьях живых, может быть, это и метафизика, но в идейной, политической борьбе, во имя победы приходится не очень то скромничать, в большой политике все средства хороши, если они ведут к цели. И политику делают все таки единицы, избранные, это высочайшее наслаждение, доступное немногим, познавшим вкус власти, навсегда сладко отравленным ею.
Михаил Андреевич некрасиво поморщился; он знал о своем недостатке — уходить в трудные моменты, в решающие минуты в абстрактные головоломки, хотя также твердо знал, что любые, большие и малые дела на земле решаются гораздо спокойнее и проще и подчас самыми приземленными и даже порочными реалиями.
Он быстро нашел необходимое, небольшую серовато дымчатую папку, открыл ее и стал перебирать содержимое. И хотя он знал его наизусть, он опять долго и внимательно стал рассматривать фотографии, откладывая одну за другой и тотчас возвращаясь к ним вновь. Иногда взгляд его становился столь напряженным и пронзительным, что на плотной глянцевой бумаге словно сами собой начинали проступать и разрастаться ранее не замеченные, но теперь сразу становившиеся важными, сразу выходящие на первый план подробности. В глаза все настойчивее лезли широкие густые брови, явный признак непомерного тщеславия и честолюбия, и в то же время говорившие о стремлении жить в свое удовольствие, об умении все неприятное и тяжелое перекладывать на других; крупные сильные губы и подбородок, а также мягкий и неопределенный, как бы несколько загадочный взгляд указывали на другую крайность — любвеобилие и самонадеянность в амурных делах.
Михаил Андреевич неодобрительно вздохнул.
«Бабник, бабник, юбочник, кобель и блядун первостатейный, — определил он про себя с некоторой долей понятной мужской зависти. — И сейчас еще никак не утихомирится, и здесь, в Москве, потихоньку пошаливает. Надо признаться, все делает умно, с оглядкой, умеет не засветиться — большой опыт. Что ж, пожалуй, подобное легкомыслие и неплохо, пусть себе потешается, пока может, меньше будет в другом присутствовать, в том, где он мало что смыслит. Да нет, здесь я вроде бы не ошибся».
Вокруг простиралась притихшая Москва, ночь, тишина, и Михаил Андреевич, складывая все назад в немудреную папочку и завязывая ее, в какой то момент позволил себе вспыхнуть, швырнуть эту папочку на стол и замереть, слегка вытянув худую жилистую шею, как бы к чему то прислушиваясь, — он просто еще раз проверял себя, еще и еще вдумывался в мельчайшие извивы задуманной комбинации, и с какой бы стороны ни подступался к ней, изъяна нигде не нащупывалось, и он входил все в больший творческий экстаз. Оставаясь где то далеко в стороне, невидимым для других, он творил сейчас свой особый мир, и краски в создаваемой им картине ложились густо и расчетливо, группы и фигуры располагались уверенно и прочно, уравновешивая и изолируя друг друга, — искусство тайной власти именно и заключалось в незыблемом равновесии, нити от которого должны сходиться в одной тайной руке, в одном силовом центре, хотя на данный момент главное заключалось именно в безошибочном подборе центральной фигуры, которая устроила бы большую часть верхушки, в умении с самого начала безошибочно распределить противоборствующие силы и поставить центральную фигуру в постоянную от них зависимость, — именно она никогда не должна была получить возможность абсолютной свободы.
И тогда гений Михаила Андреевича воспарил еще выше. Перед ним словно на рельефной карте проступила и расстановка сил во всем мире, его цепкая память тотчас выделила наиболее опасные зоны и тенденции, концентрацию особо враждебных сил, все более в последние годы активизирующихся, начинающих все плотнее придвигаться к границам страны и с запада, и с юга, да и на востоке, где русская дипломатия работала всегда тончайшим скальпелем, осторожно и не торопясь, только из за этого дуролома Никиты все было сдвинулось и пришло почти в хаотическое состояние…
«Нет, нет, — вновь сказал себе Михаил Андреевич, — мы находимся на верном пути, на самом перспективном направлении. Кто же еще больше, если не он? Сведения точные, все подтверждается — бабник, страстный охотник, в меру пьяница. Везунчик невероятный, всю жизнь везло, как то незаметно для других, необидно везло — шел вверх, не бросаясь никому в глаза, следовательно, и не вызывая опасной зависти. Как раз то, что нужно… И после войны в Днепропетровск попал в самый раз, когда главное уже завершалось, знаменитая гидростанция, по сути дела, была восстановлена, и оставалось только скромно отрапортовать да продырявить пиджак для нового ордена… Нет, нет, пожалуй, именно этот везунчик всех устроит, выбирать больше не из кого, да и ждать больше нельзя, опасно ждать — история не простит».
Новый молниеносный поворот мысли заставил Михаила Андреевича сойти с горних высот и предельно сосредоточиться, — теперь он окончательно убедился, что замысел был верен, и в нем не хватало, может быть, лишь одной единственной запятой, не хватало самой малости, но такой, что без нее невозможно было запускать всю огромную и сложную политическую машину. Вместе с определением центральной фигуры необходимо было наметить и определить и его тайного двойника, его неразлучную тень, человека безжалостно расчетливого, способного ждать своего звездного часа годами и даже десятилетиями, неутомимого охотника, дыхание которого зверь чувствовал бы за собой неотступно. И такой человек появился, не мог не появиться, он уже есть. Сердце у Михаила Андреевича стиснулось, приостановилось и вновь забилось спокойно и ровно — он их увидел воочию, жертву и ее палача, зверя и охотника, уходящего от погони и непрерывно преследующего, увидел далеко далеко, и ему самому стало непривычно хорошо и покойно.
«Зачем?» — послышался ему чей то посторонний и незнакомый голос. Ни один мускул в его лице не шевельнулся, только губы еще более затвердели, и затем странная холодная усмешка осветила его глаза. Инстинкт власти непреоборим, так же, как зов крови или безумие продолжения, — никаких вопросов на этом пути не существовало.
Над Москвой струился холодный осенний рассвет, а на лице у Михаила Андреевича ярче и ярче становились глаза — небольшие, загадочные и непроницаемые, способные в моменты наивысшего напряжения загораться фанатическим огнем, пугавшим даже самых близких к нему людей скрытой энергией и предвещавшим неожиданные ходы и повороты в судьбах многих людей.
4
С известным академиком Игнатовым, человеком очень редкой породы, в послевоенные годы начавшей активно восстанавливаться и размножаться, Суслова связывали давние и довольно двойственные отношения, — академик, сам того не подозревая, являлся для Михаила Андреевича неким сложнейшим и безошибочным прибором, определяющим степень давления именно в той среде, которую Михаил Андреевич, как всякий неофит, тайно и безапелляционно ненавидел, никогда не показывая этого, — он вынужден был с нею считаться, иногда даже заискивать перед нею, рассыпаться мелким бесом, хотя в душе иронически подхихикивал над детской самовлюбленностью и наивностью большей частью действительно известных и заслуженных людей, мнящих себя солью земли. Они, каждый в своей области, многое знали и многое могли, но они всякий раз преувеличивали свое значение в общем прогрессе, много шумели и требовали, и к ним нужно было относиться как к детям, им надо было уметь и любить обещать и не скупиться подбрасывать кое что из обещанного. Они тотчас успокаивались и начинали двигать вперед науку и культуру.
Когда помощник доложил о ждущем в приемной академике Игнатове, и заметил, что он явился минута в минуту, как и было условлено, и вопросительно замолк, Михаил Андреевич отложил все свои дела, попросил ни с кем без особой надобности его не соединять, заказал чай с лимоном и постными сухариками и, напомнив, что ровно в час его ожидает у себя Леонид Ильич, аккуратно сложил в папку текущие бумаги, положил ее на определенное раз и навсегда место на рабочем столе и сам направился к двери встречать гостя.
— Входите, входите, Нил Степанович, — пригласил он, окончательно стряхивая с себя остатки усталости после почти бессонной, хотя и весьма плодотворной ночи, и посторонился, пропуская маститого ученого, большого и грузного от сидячей жизни, с породистыми крупными чертами лица, несмотря на свои шестьдесят семь лет, сохранившего пышную шевелюру и веселый, пытливый блеск в глазах — удивительно молодых и ясных. Поздоровавшись и дождавшись приглашения хозяина, Игнатов привычно направился к длинному столу для совещаний, опять, в который уже раз, стараясь понять, почему в высоких официальных кабинетах нельзя принимать посетителей менее казенно, не за этой вот площадкой для гольфа. Хозяин устроился напротив, быстро потер сухие нервные руки и заставил себя улыбнуться.
— Я пригласил вас, Нил Степанович, для очень доверительного разговора, — сказал он, слегка щуря натруженные глаза, что указывало еще и на явный интерес к собеседнику. — Ваше недавнее выступление в Политехническом вызвало весьма острый и противоречивый интерес в самых разнополюсных кругах. На мой взгляд, вы правильно раздраконили нашего умника с его статьей в «Литературке». Так и надо, говорят, его едва инфаркт не хватил после вашей критики, только сейчас главное в другом, Нил Степанович. Как вы там изволили выразиться… Я, с вашего разрешения, процитирую, простите, если не совсем точно. «К власти в стране пришли топорные политики, невежды и дилетанты, забившие себе мозги, за неимением ничего лучшего, марксистской околесицей…» Так? Я не ошибся, Нил Степанович? Тоже в адрес товарища Яковлева?
Академику показалось, что высокий собеседник смотрит с некоторой иронией и даже ободряюще.
— Ну, дорогой Михаил Андреевич, почему только в его адрес? Хотя, если бы моя воля, я спустил бы с этого ярославского умника, товарища Яковлева, как вы говорите, сионистские штанишки и хорошенько бы его высек. Просто в назидание другим. Не за свое дело не берись! Впрочем, простите, что это я перед вами то рассыпаюсь, уж, наверное, самая выверенная до последней запятой стенограммка у вас на столе и вы знаете все лучше меня. Не так ли? Я ведь, как правило, без бумажки говорю, пока еще Бог милует, возмутил воздух и забыл, вот другие потом долго помнят, особенно самые лучшие друзья.
— Лежит, лежит отчетец, — подтвердил Суслов, поощрительно улыбаясь, и легонько побарабанил пальцами по столу. — Да, да, лежит, такова уж моя работа. Надо полагать, что лежит, учтите, не только у меня одного. Что вы, Нил Степанович, имели в виду? Вы несколько раз упомянули Крым, притом величали сей древнейший полуостров каким то экзотическим именем русской якобы прародины еще даже до греческих времен? Я, конечно, понимаю, что крупный ученый имеет право и на крупную ошибку, неудачу, но что вы все таки хотели сказать?
— Ровным счетом ничего особенного, Михаил Андреевич, — ответил не задумываясь академик, и в его лице мелькнула легкая ирония. — Всего лишь мысли вслух. Разумеется, они дискуссионны, и я охотно выслушаю любого противника.
— Гм, гм, — сказал хозяин кабинета, тоже с некоторой ехидцей. — Выслушаете, выслушаете, а дальше? Не спорю, та или иная научная гипотеза — ваше дело, вы выдающийся ученый, у вас свой особый мир, и никто не собирается его разрушать или пытаться изменить. Не будем говорить и об идеологии — какое до нее дело физику или математику? Хотя, с другой стороны, именно идеология Адольфа Гитлера подвигнула эти науки к эпохальным открытиям, ускорила их движение многократно. Что вы так смотрите? Вы не согласны?
— Роды, если они поспели, не остановить, — ответил Игнатов. — Ничего мы пока о чуде жизни не знаем определенного, так, то да се, не стану гадать.
— Ну, таким ускользающим я вас еще не знал, Нил Степанович, — заметил Суслов. — Большего свидетельства, чем атомная бомба, ведь и не надобно, чтобы подтвердить влияние идеологии и политики на ускорение развития определенных разрушительных тенденций и в самой чистой науке, — возразил Суслов, сердясь на себя и на собеседника за какую то неточность и витиеватость своей мысли и в то же время стараясь придать своему голосу задушевность и искренность. Он сейчас не мог иначе, не мог уступить и, опять вернувшись к недавнему выступлению академика в Политехническом, вновь заговорил об осторожности, заговорил о том, о чем и должен был говорить, подбираясь к главному, — он не мог поверить, что такой крупный ученый, как академик Игнатов, мог всерьез думать о разрушительном влиянии марксистско ленинской доктрины, как он ее неоднократно обозначал в своем выступлении, и о том, что она в конце концов приведет к тупику и даже крушению человеческой цивилизации. В глубине души он сам любил такие острейшие моменты, он уважал соперника прямого и достойного, — правда, все это тоже было обыкновенной демагогией с его стороны, вызванной необходимостью бескомпромиссной и жестокой борьбы, и сам он тоже хорошо это знал и во имя той же борьбы оправдывал. Только так и возможно было как то ориентироваться и самому иметь перед собой мало мальски реальную картину расстановки сил в обществе, а следовательно, и держать их под необходимым контролем. Кроме того, приходилось быть осторожным, на любом высоком посту человек продолжал оставаться человеком, опасаясь подвоха, заговора. Ведь в недрах жизни непрерывно возникали новые молодые силы, рвались к солнцу, требуя своей доли света и пищи, — вполне закономерный процесс, молодость и есть молодость, она стихийно бунтует и куда то рвется, здесь все понятно, но как объяснить неуемность вот этого пожилого человека, старика, достигшего всех возможных степеней и регалий, во многом за счет государства прекрасно обеспеченного, что за силы разрывают его мятущуюся душу? Талант? Неутоленное честолюбие? Парадигма старости? Страх смерти, наконец? Стоп, стоп, что это за чудище, откуда он этакое перенял? Парадигма… а? Ах да, это вчера вскользь высказал один из чиновников, этот самый новоявленный философ из Ярославля или Ярославской области, надо будет и здесь присмотреться, что это за парадигма вызрела из ничего. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Явный признак какого то двоедушия или двоемыслия, не рано ли этот ярославец начинает поглядывать наверх, присматривая себе подходящее местечко? Ишь ты, куда хватил, — парадигма… а? Иначе чем подобное слововерчение можно объяснить и оправдать?
Все это и многое другое мелькнуло в многоопытной и многострадальной голове Михаила Андреевича одновременно, и он, не упуская нити разговора и основного направления своей мысли, даже не меняя выражения лица, продолжал интересный и острый разговор, словно и не случилось неожиданного взрыва залетевшего откуда то издалека шального снаряда.
— Итак, все в мире взаимосвязано и чистой науки не бывает. Ну зачем вам, Нил Степанович, понадобился Крым? Ищете приключений? Еще большей известности?
— Хорошо, уважаемый Михаил Андреевич, откровенно — так откровенно, — согласился академик и слегка подался вперед. — Да, я никогда не скрывал и скрывать не намерен, что я — русский, патриот своей земли, ревнитель и почитатель прошлого своего народа, у меня имеется достаточно доказательств о его великом и достойном прошлом. И вот вам новость — Крым, многократно политая русской кровью земля, передается в состав Украины. Совершается самоубийственный для всей России, да и для самой Украины, акт, только безумный мог его совершить. Это преступление против всего русского народа, как известно, живущего издревле и на Украине, продолжение порочной и преступной политики расчленения России после большевистской революции. Я сразу же написал еще тогда о своем мнении во все, как говорится, высшие инстанции, вплоть до самого Никиты Сергеевича, вот только ответа так и не дождался. И что же? Годы идут, Хрущева уже несколько лет как сместили, вполне правильно сделали… Но хотя бы кто то попытался исправить чудовищную историческую нелепость. Я хочу, уважаемый Михаил Андреевич, умереть с чистой совестью, я должен довести свое мнение до людей хотя бы таким способом, устно, лекциями…
Незаметно для себя приговаривая «так, так, так», Суслов стал нервно потирать руки, затем, перехватив взгляд гостя, спохватился и убрал их со стола, — разговор становился захватывающе опасным и острым, и на всякий случай необходимо было отреагировать. Академик уже вошел во вкус, или, вернее, у него появилось явно утопическое желание именно здесь, на высшем уровне, высказать самое дорогое и больное. Махнув рукой на осторожность и полагаясь на давнее знакомство с хозяином кабинета, он сказал себе, что не все же здесь догматики, тупицы, Иваны непомнящие, ведь должны же здесь быть и такие, в ком еще не угасла искра любви к русской земле, ее истории и славе. Да и потом, когда еще удосужишься? Могут ведь, невзирая ни на что, более радикально поступить, не успеешь опомниться, приземлишься где нибудь в краях и не столь прекраснодушных. В конце концов, если выпадает возможность здесь, в ледяных высотах догматизма и абстракции, пробудить хотя бы здоровое сомнение, жалеть себя не надобно.
Игнатов поерзал, повозился, делая вид, что оправляет на себе пиджак и галстук.
— Льщу себя надеждой, Михаил Андреевич, что именно вы сможете понять и разделить мою тревогу, — сказал он доверительно. — Я не прошу вас соглашаться безоговорочно, приглашаю просто порассуждать о происходящем. Сие ведь никому не возбраняется. Вполне вероятно, я чего то недоучитываю, что то мне неизвестно…
— Не излишне ли вы драматизируете, Нил Степанович? — спросил хозяин, слегка склонив голову, словно прицеливаясь окончательно. — Ну, хорошо, ну, Крым… В чем вопрос? Одно государство, один единый народ — так какая же разница?
— Тем более! Если все едино, зачем же огород городить, все ломать, не спросив для приличия даже у того же народа, именем которого все и прикрывается? — не согласился Игнатов, несколько повышая тон, как бы рассуждая прежде всего с самим собою, но в то же время адресуясь и к своему высокому собеседнику.
Суслов слушал сейчас по монашески покорно, как иногда слушают заблудившегося в дебрях жизни, упорствующего в прегрешениях великовозрастного отпрыска, заглянувшего в отчий дом то ли случайно, то ли намеренно, стараясь ничем не спугнуть разоткровенничавшегося неожиданного гостя. Академик и сам понимал и чувствовал некоторую неловкость, но остановить себя уже не мог и не хотел.
— Да, да, уважаемый Михаил Андреевич, — говорил Игнатов, все больше воодушевляясь, — не хочу ходить кругом да около. И Крым, и многое другое всего лишь следствие, необходимо смотреть глубже. Эти якобы невинные штрихи эпохи и предопределяют неотвратимо близящийся кризис самой господствующей идеологии… Можно, конечно, и посчитать, что уважаемый Никита Сергеевич просто подарил древнюю Тавриду своей очаровательной супруге… ну, так, знаете ли, небольшой каприз большого человека, как шушукаются в народе. Мало ли прецедентов в истории… Не раз подобным образом грешили и Александр Македонский, и Наполеон. Можно принять во внимание и более злонамеренные предположения некоторых отечественных умников — Хрущев, мол, упрятал, по крестьянской своей сути, вожделенную Тавриду от давних и упорных сионистских притязаний в непробиваемую де броню — ведь говорят же, что там, где прошел один хохол, двум евреям делать нечего.
Слушавший с усиливающимся вниманием хозяин кабинета почувствовал, что пора отреагировать, — он не мог быть в полной уверенности, что весьма и весьма опасные слова и мысли именитого гостя не накручиваются на какую либо бессмертную катушку, чтобы затем в критический момент всплыть на поверхность где нибудь в Тель Авиве, Нью Йорке или Лондоне и перевернуть вверх тормашками чью то, даже очень высокую судьбу.
— Зачем же заниматься обывательскими домыслами? — спросил он, втискиваясь в рассуждения Игнатова, и голос его приобрел некое возвышенное недоумение. — О, дорогой Нил Степанович, если бы вы заинтересовались, я бы мог познакомить вас с такими шедеврами народного творчества! Уверен, даже у вас дух захватит! Процветающая фольклорная стихия — признак душевного здоровья народа. Например, вполне серьезно утверждались самые фантастические вещи, вроде бы у Сталина ноги оканчивались копытами, оттого он, мол, и прятал их в разношенные валенки, в новые не умещались. Как вы думаете, интересно?
— Ну, Михаил Андреевич, дыма без огня не бывает, — сказал Игнатов, добродушно и широко, как он умел, улыбаясь. — Народ — организм единый, в главном он никогда не ошибается. Если он говорит о наличии копыт, значит, они действительно были, вот только кому они по наследству достались?
Быстро и даже предупреждающе глянув, Михаил Андреевич коротко засмеялся, показывая свое умение ценить острое словцо или забавную шутку.
Очень кстати принесли чай в серебряных подстаканниках, сахар, нарезанный лимон, постные сухарики и крендельки, обсыпанные маком. Пока пожилая женщина, просто и скромно одетая, молчаливо расстилала салфетки и устраивала стол, в приоткрытой двери показался все тот же чернявый помощник и тут же, по взгляду хозяина понявший, что в нем нет пока надобности, удалился.
Опустив дольку лимона в чай, Игнатов, подождав ухода так и не проронившей ни одного слова женщины, придавил лимон ложечкой и, прищурившись, сказал:
— Прекрасный напиток, люблю чай. Вот бы нам с вами, уже далеко не молодым людям, посидеть где нибудь на природе, в садике под московской махровой сиренью. Осень, конечно, но ведь можно и в беседке. Листва облетает, дождь… Посидеть, потолковать за самоваром по душам. А то мы никак не угомонимся, все разные шпильки подпускаем друг другу… Зачем? Остается все меньше и меньше…
Прихлебывая чай, хозяин кабинета доброжелательно выслушал и, приняв вызов, внутренне подтянулся, глаза его льдисто блеснули, а острые губы как бы сами собой сложились в понимающую усмешку.
— Возразить здесь нечего, конечно, жаль, — охотно согласился он. — В этом кабинете приятные эмоции, как вы верно изволили заметить, вернее, подумать, редкая роскошь. Впрочем, Нил Степанович, за невозможностью лучшего я бы вернулся к нашему захватывающему разговору.
— Извольте, — охотно отозвался Игнатов. — Допустим, все — домыслы, все — обывательская болтовня, и насчет Крыма, и насчет копыт. Я даже согласен, причина то данной трагедии в ином…
На какое то мгновение, опасаясь переступить роковую черту, Игнатов заколебался и тотчас, стыдясь неожиданной слабости, резко отодвинул недопитый чай. Глаза его потемнели от мысли, что он тоже слишком измельчал за последние годы сытой и благополучной, в общем то, жизни и даже не высказался ни разу откровенно и прямо по самым больным вопросам — все загонял внутрь, и там все это копилось, отравляя организм, и взрыва не избежать, да и кому нужно столь безграничное терпение. Никуда не годится, русские привыкли молчать, говорят и требуют все кто угодно, и особенно расплодившийся за последнее время человек вызывающей окраски — совершенно безнациональный, космополитический, претендующий на безусловное верховенство в мире, русский же молчит, молча работает, молча умирает…
— А вы зря сердитесь, Нил Степанович, — неожиданно заметил хозяин. — Я вам не давал повода…
— Я не на вас, на себя, — сказал Игнатов. — На свою трусость, мог бы высказаться и раньше, погромче, но вот эта чертова русская натура, все ждешь, переможется, мол, перемелется. Знаете, Михаил Андреевич, в чем порочность большевистской идеи в России и в чем ее неминуемый крах? В большевистской надстройке, внедрившей в тело русского гиганта и узаконившей пожирающего его ныне паразита — мировой клан торговцев и ростовщиков. Из песни слова не выкинешь, каторжным трудом русского народа крепнет мировой сионизм, наливается золотом, наглеет. Гибельный путь для человечества! Самое страшное — усыхание мирового интеллекта, его преждевременное дряхление и вырождение. Я знаю, вам, Михаил Андреевич, весьма неприятно слушать подобное, тотчас встает еврейский вопрос, категорически запретный под страхом лишения живота еще со времен незабываемого Ильича, но что же делать? Вот миновали и хрущевские времена, главенствует ныне иной человек, а в этом, я бы сказал, глобальном, стратегическом вопросе ничего не меняется, скорее наоборот…
— Вы всегда отличались безупречной логикой, — неохотно и как то вяло сказал хозяин. — Сейчас же, уважаемый Нил Степанович, я что то не возьму в толк… Зачем же из такого далека? Сионизм, Крым, конец человечества, апокалипсис, еврейский вопрос, русский народ… А надо в первую очередь накормить, обуть, одеть людей, дать им крышу над головой. И не отстать от других, наоборот, надо постараться опередить! Сейчас страна несколько оправилась от войны народ наконец начинает приходить в себя, ему необходима передышка…
— Сорока прямо летает, да дома не бывает, — прогудел Игнатов, начиная чувствовать себя неуютно, — два пожилых, уже, можно сказать, старых человека ходили вокруг да около и никак не решались заговорить о главном. — Простите, Михайл Андреевич, именно это я и хотел сказать. Да, именно русский народ. В любом деле следует прежде всего определить главное. И укреплять прежде всего это главное как несущую конструкцию, если хотите. Или все остальное в один прекрасный момент просто развалится. А вот такой несущей конструкцией в нашей обширной евразийской части света является именно русский народ. Рухнет он — рухнет все вами построенное, никакая идея не поможет. Ну, завтра кончится нефть и газ, их мы ныне разливанным морем гоним на Запад, и что же дальше? Здесь даже сам Косыгин ничего не придумает! Нет, уважаемый Михаил Андреевич, я обязан высказаться, моя чертова боль заставляет.
— Вы истый националист, батенька Нил Степанович! — с некоторой долей иронии воскликнул хозяин кабинета. — Меня предупреждали, оказывается, не зря. Я же посмеивался, а ведь с вами рядом действительно становится несколько не по себе, от вас так и распространяется нечто весьма раздражающее… Начинаю даже понимать, почему вы пребываете в таком гордом одиночестве. Ну, хорошо, мне вы можете сказать все, я для этого и занимаю свой пост, да и вас знаю с незапамятных времен, а если вдуматься глубже, мой дорогой оппонент? Зачем?
— Михаил Андреевич, грядет близкое возмездие, нельзя опоздать! — подхватил Игнатов, принимая вызов и радуясь возможности преступить некую запретную ранее черту. — Благо, если бы кара пала на головы истинно виновных… Вы спросите, как их вычислить и определить? Вот именно, как? Вот и получается парадокс! Страдальцем и ответчиком вновь предстанет русский народ, на этом опять все замкнется и остановится. И удобно, и безопасно. И в глазах всего так называемого просвещенного мира оправдание.
Суслов встал, прошелся по кабинету и остановился перед своим гостем, заложив руки за спину.
— Скажите, Нил Степанович, а как дома, как работается? Как со здоровьем? Что Наталья Владимировна?
— Жаловаться пока не приходится, благодарствую, — ответил Игнатов, вежливо наклонив голову и подумав, что разговор вновь не получился и пора вставать и раскланиваться. Он неприметно вздохнул, взялся за край стола. Хозяин мягким жестом остановил его и засмеялся.
— Обиделись, Нил Степанович? — спросил он мягко, окончательно обезоруживая собеседника. — Не надо, войдите в мое положение. Знаете что? Давайте я как нибудь выберу часок другой, позвоню вам и встретимся по домашнему. Вот тогда мы с вами вдоволь и поговорим, кое что вспомним…
— С удовольствием, — охотно согласился Игнатов. — Мы с Наташей часто вспоминаем Ставрополье, войну, время то летит, летит. Помните эти жуткие бесконечные лиманы, камыши, прямо таки тропические заросли? Черная жижа под ногами, топь мне до сих пор иногда снится.
— Да, время летит, — неопределенно протянул и Суслов. — Многие стали уже и забывать, что мы на своих плечах вынесли. Тогда мы все были одного племени — советского. А будь по другому, разве бы нам выстоять? Это ведь все сказочки про белого бычка — про Англию да Америку — для них война обернулась всего лишь захватывающим экспериментом. Тяжесть невиданной схватки они и здесь умудрились переложить на чужие плечи, на наши с вами.
— На русские плечи…
— Что? Ах да, да, простите, Нил Степанович, — сухо остановил Игнатова хозяин. — Я уважаю вашу теорию, хотя и не согласен с нею. Как, например, делить эту победу между русским и татарином? Между казахом и белорусом? Народ ведь умнее любой теории… Или вы действительно уж так серьезно обеспокоены?
Игнатов тоже встал.
— Простите, не хочу отнимать у вас дорогое время, Михаил Андреевич, и без того засиделся. Буду ждать вашего звонка, поговорить есть о чем, знаете, я иногда ночами не сплю, мысли, мысли. Словно кожа ободрана, страшно шевельнуться, словно вот вот ударит черный смерч, а последствия даже предсказать трудно…
— Не надо преувеличивать, Нил Степанович, — опять успокоительно заметил хозяин и, уже прощаясь, провожая гостя под локоток до двери, неожиданно остановился, придерживая и Игнатова, и попросил, если что не так, не сердиться и беречь себя.
— Что вы, что вы, Михаил Андреевич! — успокоительно сказал Игнатов и молодцевато приподнял плечи. — У нас был очень откровенный разговор, я весьма доволен. Немного ошеломил вас, заставил пережить несколько неприятных минут, круги то по глади наших вод все равно пойдут, но, я думаю, ничего, обойдется. От зеркальной поверхности глазам просто невыносимо, что то противоестественное, право!
— Ох, и ехидный вы все таки человек! — засмеялся Суслов. — Я вас за это именно и уважаю. Очень хотел бы знать, что вы действительно сейчас думаете. Только ведь все равно не скажете, ну…
— Могу сказать, только ведь вы тоже не поверите, — улыбнулся и гость, втягиваясь в завязывающуюся новую игру, и задорно кашлянул. — Да и зачем забивать государственную голову всяческим вздором? Мало ли…
— А вы скажите, скажите! — потребовал хозяин, и в его голосе даже послышалась легкая обида. — У нас ведь с вами не просто казенные отношения, зачем же самое главное уносить с собой и не поделиться?
— Что ж, раз уж напросились… Только чур не ерничать в душе, я и сам еще не во всем здесь разобрался…
Хозяин вежливым и радушным жестом пригласил было своенравного гостя вновь к столу, но тот, не принимая жертвы, так же молчаливо придержал высокого собеседника за локоть и сказал:
— Очень и очень загадочное дело, почти мистическое. Вы, Михаил Андреевич, должны помнить академика Голикова Павла Григорьевича, знаменитого биофизика, продолжившего разработку и во многом обогатившего теорию Вернадского о ноосфере…
— Простите, он же…
— К сожалению, да, он шесть лет тому назад скончался. У него оставался сын, тоже талантливейший ученый, физик теоретик, квантовая механика. Был совершенно запечатан, работал где то на Урале, в закрытом, номерном городе. Ну, а я знаю все по самой простой причине — наши дачи расположились по одной улице, и мы с покойным Павлом Григорьевичем любили вечерком, особенно осенью, в предзимье, посидеть за шахматами. За окном дождь, ветер гуляет, да… Там, на Урале, произошло несчастье, взрыв или нечто подобное, и молодой Голиков… Одним словом, у него что то такое с головой случилось. Лежал в больнице, сбежал, никто не знает, когда и как, и вот теперь бродит из конца в конец нашей обширной державы. Имени своего, говорят, не знает и потому как бы сам себя все время отыскивает. Себя и Бога. Иногда наведывается и к сестре в наш поселок, они же на даче и выросли. Вот я вчера и попытался с ним поразмышлять, понимаете ли, Михаил Андреевич, как то даже странно, он даже привык к тому, что он теперь якобы действительно некий странник и святой отец…
— Я хорошо знал покойного Павла Григорьевича, доводилось не раз встречаться, — сказал Суслов с приличествующей моменту серьезностью. — Светлая голова, хотя тоже всякое случалось. Да, трудный вы народ, взбредет что либо в голову, ни на какой козе не подъедешь. Простите, Нил Степанович, но у Голикова, кажется, был еще один сын? Или я запамятовал, ошибаюсь?
— Нет, не ошибаетесь, Михаил Андреевич. У него было трое детей, дочь и два сына. Второй, младший, тоже по научной части и тоже в оборонке. Что то такое с электроникой связано, с лазерными разработками. Были потом в семье покойного и свои сложности, младший вроде бы женился неудачно, жена его скоро оставила, надо будет как нибудь поточнее поинтересоваться.
— Дело, как я понимаю, касается больше старшего…
Игнатов вскинул глаза, неопределенно шевельнул плечами.
— Кто знает, слишком уж загадочная область — человеческая психика. Меня его сестра пригласила прийти, весь вечер с ним проговорили, чай пили. Он порывался опять в дорогу, не могу, говорит, противиться, зов во мне. Напрасно я уговаривал, все равно ушел в ночь, ни меня, ни сестру не послушал, рюкзачок, мешочек такой у него уже был собран. Что, скорбный главою? Может быть, но еще и целитель, я сам что то такое почувствовал. И еще — знаете, многое предвидит, зря вы, Михаил Андреевич, так тонко улыбаетесь.
Внимательно и заинтересованно слушавший хозяин не стал протестовать и позволил себе вновь добродушно усмехнуться.
— А вы сами, дорогой Нил Степанович… гм, простите, не того, не перетрудились по ночам? Значит, еще один пророк? И еще — целитель? Кого, чего — целитель?
— Кто знает, возможно, самой русской земли, — стараясь попасть в тон хозяину кабинета, понизил голос Игнатов и намеренно картинно развел руками. — Я ведь у вас еще и по этому конкретному делу, и вот оказия… едва не забыл, простите.
Приподняв бесцветные брови, Суслов, ожидая, продолжал смотреть с явным любопытством и даже несколько странновато, и Игнатов, стараясь не замечать скрытой иронии хозяина кабинета, проступавшей сейчас во всей его сухощавой фигуре, в слегка удлинившихся и оттого еще более тонких губах, в осторожных сухих руках, позволил себе также чуть чуть обещающе улыбнуться.
— Я вам еще не все сказал, но так уж и быть, — признался он. — У меня нет выхода, Михаил Андреевич, вы человек умный, я вас очень прошу посоветовать вашему новому железному Феликсу оставить в покое сына академика Голикова, не надо нарываться на международный скандал…
Не желая замечать неожиданной и довольно нелепой угрозы в словах несколько самонадеянного от старости и благополучной жизни ученого, Суслов удивился.
— Ведомство безопасности уже знает об этом несчастном? — спросил он с недоверием и сразу же подосадовал на свой промах — академик одарил его любезной улыбкой.
— Представляете, знает и даже уже охотится. И только вчера, когда мы с ним разговаривали на самые, впрочем, отвлеченные темы, о смысле Бога и страны Зазеркалья, он вдруг замолчал, словно прислушиваясь к какому то, никому не слышному голосу, и тут же подхватил свой дорожный мешок. Знаете, если бы видели его лицо в тот момент, вам бы тоже стало не по себе. «За мной уже идут, — сказал он. — Глупцы!» Я был потрясен, в его глазах отразилось нечто большее, чем скорбь или покорность. Я такого еще в своей жизни не испытывал, я вдруг понял, что этот человек старше меня на тысячи лет и смотрит на меня откуда то из самого начала всего… Вы не верите, а мне, ей Богу, стало жутко. «Передайте этим несчастным обманутым людям, Нил Степанович, одно, — попросил он меня, прощаясь. — Они никогда не смогут арестовать меня, более того, даже увидеть. Теперь я сам решаю, с кем я должен встретиться и поговорить. И еще одно скажите: когда срок настанет, я приду и явлюсь…» Да, да, он говорил весьма торжественно, и за ним чувствовалась некая странная сила. Сестра было бросилась к нему, предложила взять денег, стала заворачивать что то из холодильника, совать в мешок, но он особенно ласково и нежно остановил ее, что то тихо пробормотал и исчез. Я не видел, не слышал, чтобы дверь открылась и захлопнулась. Он просто исчез, словно растаял в воздухе. Его сестра, такая миловидная женщина, стояла посередине комнаты и тихо плакала, только ее лицо как бы сияло счастьем. Кстати, ее муж работал на Урале вместе с этим ее братом, и в тот раз, когда там случилось несчастье, погиб… Я, конечно, мог чего то не заметить, но, право же, согласитесь, подобное хоть кого поставит в тупик.
С явной заинтересованностью выслушав необычные сведения, хозяин кабинета стал откровенно серьезным и, казалось, забыл о времени.
— Странно, очень странно, Нил Степанович, — признался он. — А если совсем откровенно, я тоже ничего не понимаю… Если бы рассказывали не вы…
— Да, но самого главного я вам еще не сказал, — сообщил Игнатов, почему то оглядываясь на дверь. — Буквально через минуту после этого загадочного действа появились, как снег на голову, вполне осязаемые и реальные блюстители порядка и стали допрашивать о некоем беспаспортном и опасном бродяге. Я еще не успел уйти. Хм, все весьма и весьма малообъяснимо.
— Я не забуду ваш почти фантастический рассказ, — пообещал Суслов, окончательно прощаясь, и затем, оставшись один и отдыхая от тяжелого и утомительного гостя, некоторое время ходил из угла в угол, изредка останавливаясь и что то обдумывая.
5
Вот уже достаточно долго Брежнев то и дело возвращался к одному довольно неприятному вопросу, возникавшему и обретавшему все более непредсказуемые очертания и размеры; вопрос этот выбивался из привычных рамок повседневных забот и проблем, несколько лет катившихся по накатанному пути незаметно и как бы само собой. Глава государства и партии пытался более конкретно определить свое место в общем процессе жизни, наметить четкие границы своей деятельности, с тем чтобы никогда их не переступать. Он отлично понимал, что один человек, даже самый работоспособный, не в силах охватить и контролировать несметность событий, людей, движений самых разнородных сил, переплетающихся в хаотическом множестве не только в мире, но и в любом отдельном государстве, и вызывающих тем самым новые непредвиденные сложности и проблемы. Руководить всем и вся одному было нельзя, можно было лишь делать вид, что ты волей неволей являешься неким центром, вызывающим своей волей действия и движения вокруг себя и в государстве, как внутренние, так и внешние, а точнее, нужно было просто не отставать от самого процесса жизни, неизвестно кем и куда направляемого, и не мешать этому, не пытаться влиять на таинственное варево жизни — в сей простой истине и заключался весь смысл верховного руководства и его успех. Конечно, исповедовать данную истину, удобную для любого, отмеченного судьбой и оказавшегося на вершине власти человека, — одно, и совсем другое — удержаться в том же убеждении в реальной, повседневной и, как это в основном и бывает, рутинной работе, — здесь уже нужна большая воля и выдержка. И в данном особом случае, когда не по дням, а по часам разгорается чуть ли не общегосударственный ненужный скандал, он с некоторой долей иронии велел своим помощникам переправлять все относящееся к неприятному делу в ведомство Михаила Андреевича, тем более что в последнее время натиск лично на него усилился. Пришло коллективное письмо видных академиков, писали отставные генералы, возмущались известные писатели и артисты, все требовали от него вмешаться лично и расставить точки, — требовали по наивности невозможного в его положении. Он даже принципиально не стал читать скандальную статью, лишь ознакомился с ее сутью в кратком изложении, и уже на другой день после своего распоряжения, взглянув на вошедшего Суслова, сосредоточенного и целеустремленного, с тоненькой папкой в руках, он сразу, по одному его виду и выражению лица понял, что вел и ведет себя единственно правильно и что хорошо иметь рядом неподкупных и честных соратников вроде Михаила Андреевича или Юрия Владимировича, знающих дело людей, прошедших большую и трудную школу партийной борьбы и жизни.
— Прости, я попросил нам не мешать, — сказал Суслов, здороваясь. — Нужно без помех обсудить, дальше, пожалуй, тянуть нельзя,
— Ну, что там у тебя, пожар разгорелся? — спросил Брежнев, стараясь с самого начала придать разговору полуофициальный, полудружеский тон. — Никак не возьму в толк, отчего столько шуму? Главное, что за этим кроется, — добавил он, приглашая садиться и внимательно наблюдая за Сусловым, расстегнувшим папку, извлекающим из нее какие то бумаги, письма и вырезки из газет и аккуратно, по одному ему известному порядку, раскладывающим их перед собой. Лицо второго человека в партии было спокойно и выражало легкую иронию — история, по его мнению, выеденного яйца не стоила, но в нее на полном серьезе втянулось множество известных людей и нужно было, хочешь не хочешь, реагировать, хотя дело было в другом — завязывалась сложная и далеко идущая интрига.
— Знаешь, Михаил Андреевич, давай всю эту писанину отодвинем подальше, — неожиданно предложил Брежнев, все с той же, несколько расслабленной, добродушной усмешкой, все чаще появляющейся у него в последнее время. — Лучше объясни мне на пальцах, как говорится, отчего сыр бор расшумелся, дело то пустяковое, на мой взгляд. Ну, мало ли кому какая дурь в голову втемяшится? Я сейчас попрошу принести кофе с рюмочкой коньяку. Рабочий день кончается, а я сегодня и без того вымотался. Ох и скользкий тип Чаушеску, точно угорь, так и выворачивается из рук, ни за какое место не удержишь… Давай, Миша, как между нами повелось, без особых чинов…
Быстро и коротко взглянув, Суслов выпрямился, еще раз передвинул бумаги, но убирать их не стал — они его как то привычно успокаивали, поддерживали и настраивали в нужном тонусе, да и сидевший перед ним человек был далеко не прост, хотя и любил и умел прикинуться. В его руках была сосредоточена сейчас огромная власть, и на него старались повлиять самые разнородные силы не только в близком окружении, в своей стране, но и во всем мире, и каждый раз нужно было решать, говорить ли с ним совершенно откровенно или вначале легонько прощупать, хотя и это было опасно. Несмотря на свою кажущуюся мягкость и демократизм, глава государства был предельно хитер и осторожен, обзавелся многими другими советниками на стороне, может прикинуться и совсем этаким простачком, а затем дело примет такой оборот — только ахнешь. Тот покладистый, со всеми доброжелательный Леня, рубаха парень, ухитрявшийся так долго обходиться без врагов, с восшествием на высшую ступень власти как то незаметно потяжелел, и вокруг него тотчас образовалась невидимая силовая черта — переступить ее было не просто даже самым близким его соратникам и друзьям; здесь уже начинала действовать область подсознательного. Как бы глуп ни оказывался папа римский после избрания, а умнее его быть все равно было нельзя, не полагалось — подобное никому и никогда не прощалось и не прощается. И потом, надо было помнить, что неусыпный страж и оградитель государства от всяких пороков и заблуждений, тот же дорогой Юрий Владимирович, спит и видит себя в роли верховного пророка и вождя и уж если сам не слушает все высшие кабинеты и в Кремле, и здесь, на Старой, то обязательно пишет впрок, недаром с таким упорством пытался захватить идеологию, а сейчас усердно и беспощадно душит малейшее проявление русского патриотизма, как он выражается — русского великодержавного шовинизма, всей этой русистской швали, а прибалтийский или, допустим, грузинский шовинизм старается даже не замечать. И глава партии и государства плотно окружен его людьми, контролируется ими полностью, малейший его шаг ими фиксируется и анализируется. Впрочем, это и неплохо — в свою очередь, действует и обратный контроль.
Принесли кофе и по рюмке коньяку, соленые фисташки и нарезанный лимон. Неодобрительно покосившись, Суслов удержался, ничего не сказал, — Леонид Ильич заметил и, добродушно щурясь, что говорило о его хорошем настроении, предложил:
— Давай, Миша, не повредит…
— Спасибо, ты же знаешь…
— Ладно, ладно, у меня тоже почки и все прочее. Не верь ты этим докторам, тем более профессорам и академикам. Дружески советую относиться к их ученому трепу с большой долей скептицизма, ей ей, им тоже надо хлеб с маслом есть. Я вот совершенно здоровый человек, а их послушать — хоть заживо в гроб ложись. Ну, давай, рюмка хорошего коньяку никогда не помешает, твое здоровье. Самое главное — не набирать лишний вес, не усиливать нагрузку на сердце. Ну…
Смочив губы, Суслов отставил рюмку, пососал краешек лимонного кружка, затем попробовал кофе — подобные излишества давно были запрещены ему, о чем его старый, еще по югу, соратник и товарищ, а ныне высшее руководство, отлично знал, хотя считаться с таким, по его мнению, пустяком не находил нужным. А скорее всего, давно все забыл, сосредоточен только на себе, на своем состоянии. Ну и на доброе здоровье, от главного не увильнет, трудного и опасного разговора все равно не избежать. Да, пожалуй, и опасаться особо нечего, тоже неустанно печется о здоровье, думает, пожалуй, и о смерти (а кто о ней не думает и кто ее не боится?), через три месяца день рождения, пора подбодрить его новой висюлькой. Что делать, таков человек, иным он уже не будет, а колесницу, как и положено, тащить другим. И другим решать извечно проклятый русский вопрос, хорошо бы отодвинуть его куда нибудь в следующий век, пусть бы в мир пришли иные силы, появились бы совершенно новые проблемы и тенденции.
С удовольствием выпив коньяк и вкусно пошлепав губами, Леонид Ильич отхлебнул кофе.
— Так вот, — сказал он, нащупывая и продолжая оборвавшуюся было нить разговора, — самое главное держать вес и не нагружать излишне сердце, и тогда гуляй себе — живи хоть до ста лет. Ты что сегодня к завтраку ел?
— Ничего особенного, я стоик, — засмеялся Суслов. — Овсянку и паровую котлетку. Телячью, говорят… Ну, и стакан ряженки.
— Ты смотри, обильно, обильно, — покачал головою Леонид Ильич. — А у меня сегодня на завтрак был салат, яйцо и чай — разгружаюсь. А почему ты такой сухой? Скажу я тебе, Миша, по партийному честно — это форменный непорядок!
— Непорядок, — согласился Суслов с готовностью, подлаживаясь в тон хозяину. — Что поделаешь, у каждого своя судьба, право, меня это мало интересует. Понимаешь, очень не хотелось бы обременять тебя всякими скандальными мелочами, у тебя и государственно важных дел сверх всякой нормы, все в восхищении от твоей выносливости, это уже сложившееся общее мнение. Но что поделаешь… Ты хозяин, голова в нашем государстве и должен хотя бы ознакомиться — имеется в виду злополучная статья ярославского выскочки. Ты видишь, и академики поднялись, раскололись на две партии — пишут прямо тебе… Академики! Шолохов тоже тебе строчит. Писатели привыкли без умолку скандалить, им хлеба не надо, лишь бы побузотерить, привлечь внимание! Всех опять поднял на дыбы этот вечно неразрешимый русский вопрос…
В первый раз Леонид Ильич глянул из под бровей остро и настороженно и поставил чашку с кофе перед собой.
— Русский вопрос? — спросил он с некоторым даже недоумением. — Что, очередной анекдот вроде ондатрового заповедника? Мне Андропов вчера рассказывал. Все наше коллективное руководство прозвали в народе ондатровым заповедником, мол, все как один, по примеру самого генсека, обзавелись одинаковыми шапками из ондатры, теперь издали, мол, и не различишь, разве только по росту. Как тебе нравится?
— Ну, Леонид Ильич, анекдот и есть анекдот. К сожалению, в нашем с тобой разговоре дело обстоит посерьезнее. С Андроповым я разговаривал, он тоже понимает, здесь анекдотом не отделаться.
— Тогда я с твоего разрешения закурю, — сказал Леонид Ильич, устраиваясь в кресле удобнее и одновременно нажимая кнопку звонка.
— Леонид Ильич, ради Бога, не надо, тебе же нельзя, не надо! Виктория Петровна сколько раз просила, не надо. — Суслов, увидев иронически-упрямое выражение на лице хозяина, сожалеюще поджал губы, опустил глаза на бумаги перед собой, стал ждать, пока помощник принес сигареты, пепельницу, дал хозяину прикурить и, оставив пачку сигарет и зажигалку на столе, бесшумно вышел, беззвучно притворив за собою дверь.
— С твоего разрешения я выскажу свое мнение по поводу нашумевшей статьи, — сразу же начал Суслов, слепо глядя в лицо явно наслаждавшегося сигаретой главы государства и твердо намереваясь не дать разговору уйти в сторону. — В ней, на мой взгляд, затронуты основные опоры нашего советского общества и государства, ощущается явная тенденция их расшатать…
При столь серьезном и неожиданном повороте разговора, умело избегаемого им до сих пор, Леонид Ильич еще раз позвонил, попросил еще по рюмке коньяку и шумно вздохнул.
— Так уж и опоры, — покосился он в сторону собеседника, на его тонкие, нервные пальцы и, не скрывая недовольства, откинулся в кресле. — Ну, что делать, давай, давай. Я понимаю, без крайней нужды ты городить огород не станешь.
— Я, Леонид Ильич, основную вину беру на себя, ведь этот Яковлев — из моего ведомства, бывают такие жеребчики недокастрированные. Я просмотрел, не обратил раньше на такого прыткого должного внимания. Правда, он никого из вышестоящих и не поставил в известность. Просто, пользуясь служебным положением, берет и публикует свой скандальный опус! Как это вам нравится?
Все более возбуждаясь, Суслов, забывшись, отхлебнул коньяку, поморщился, нервно двинул рюмку от себя подальше, а хозяин, наблюдая за ним, с удовольствием мастерски выдохнул несколько колец дыма.
— Хлебни, хлебни еще, не нервничай, не стоит, — посоветовал он с прежней доброжелательностью. — Самое главное, береги сердце.
— Здесь побережешь, черт бы их всех подрал! — окончательно расстроился Суслов. — Вот, сколько учим, а такие вот выскочки, особенно из молодых, на каждом шагу! Рвутся к власти любым путем, ничем не брезгуют. В данном же конкретном случае дело еще глубже, Леонид Ильич, здесь вопрос о будущности советского государства, всей нашей идеи, кто то очень целенаправленно и умно старается подорвать ее основополагающие принципы…
— Я же просил, не надо так горячо, Миша, — вновь вставил свое слово Леонид Ильич. — Думаю, на наш с тобой век этих основ с лихвой хватит. Ну, шучу, шучу, разумеется, — тотчас добавил он, встретив знакомый, холодный, как сталь, взгляд своего собеседника, умеющего быть в решительные моменты и беспощадным. — Давай самую суть, если уж нужно…
Слушая, он затушил догоравшую сигарету, тотчас сунул в рот новую и щелкнул зажигалкой; его заставляли насильно вникать в ненужное и запутанное дело, оно должно было — он хорошо это знал и чувствовал — решаться помимо него и без него. В государстве, в любом случае, должен был оставаться хотя бы один совершенно независимый человек, выступающий на сцену в самый кризисный момент; это и обуславливало гарантию прочности любой власти, порядка и стабильности, и если сам Суслов сейчас настаивает…
— Дай ка, Миша, дорогой мой Михаил Андреевич, сию зловредную статейку, — попросил Леонид Ильич, смиряясь с обстоятельствами и заранее себя жалея, — какую то часть жизни придется потратить на пустяки, хотя без подобных мелочей тоже невозможно обойтись. — Я быстро посмотрю, все равно ведь допекут, ты прав. Шолохова черт в Москву принес, требует встречи. Любопытно…
Суслов тотчас и извлек из своей папочки сложенный вчетверо разворот статьи, встряхнул, расправил, передавая Брежневу, и тому в глаза сразу бросились многочисленные пометки и подчеркивания, густо расставленные вопросительные и восклицательные знаки.
— Серьезно поработал, — пробормотал Леонид Ильич, то ли с одобрением, то ли наоборот, углубляясь в чтение; подозрительно покосившись на главу государства, Суслов помедлил и тоже стал просматривать очередные бумаги, скрепленные в один блок, стал привычно и быстро их перелистывать. «Притворяется или в самом деле в руках не держал? — подумал он, продолжая изредка поглядывать в сторону Брежнева. — Все мы, конечно, не молодеем и приходится думать о своем здоровье, но уж Леня всем нам пример, бережет себя образцово. Неужели и впрямь не читал? Такой выдержке можно только позавидовать!»
Тут он слегка пожал плечами, в жизни ничему удивляться не стоило. Старый и проверенный соратник, ступив на самую вершину власти, не мог не высветиться своими ранее скрытыми и глубоко запрятанными до поры до времени тайнами характера — по другому в таком головокружительном взлете и быть не могло. Здесь нет никакой катастрофы, никаких загадок, никаких проблем — жизнелюб, все кругом гремит и мечется, а у него, пожалуй, баба на уме… Феномен! Неужели ему еще так важны бабы? Не так давно и Андропов намекнул, правда, со свойственной ему, когда дело касалось таких высот, чрезвычайной осторожностью, что та самая знаменитая примадонна из Академического дурно влияет на генсека, и доверительно поведал о ее родословной, о какой то древнейшей дворянской фамилии, о том, что она сейчас одинока, хотя и имела двух мужей, и вокруг нее много темного и загадочного, почти фантастического, и вроде бы имеются сведения, что она поддерживает и финансирует тайное общество русских фанатиков националистов, что у них есть свой печатный орган — на днях ему должны были положить на стол все номера их самиздатовского журнала. Любопытно бы взглянуть, как далеко и в самом деле зашел процесс, подумал Суслов, и на его бесстрастное лицо набежала легкая тень. А может, и прав академик Игнатов, человек, впрочем, независимый и симпатичный, хотя порой и труднопереносимый, и пора подводить черту? Или — или? Ну уж дудки! При своей жизни он этого не допустит, несмотря на разных мерзавцев, многожды купленных и проданных Солженицыных, Сахаровых и всякую мелочь, несмотря на их зарубежных покровителей, на всю масонскую свору. Пожалуй, не многим пока известно, что осуществляется один хорошо продуманный план разрушения новой прогрессивной цивилизации, единственно способный спасти будущее человечество от вырождения и гибели. Возвращение монархии? Ха ха! Монархия продула все подчистую в вечной гибельной игре Востока и Запада, бросила величайшую державу мира на разграбление, и только коммунисты смогли остановить этот почти необратимый процесс. Никакая наука не впрок, Запад вновь вынянчил и бросил на прорыв еще одну бешеную свору своих псов, всяческих Солженицыных и Яковлевых, притом действуя предельно согласованно, действуя тайно и изнутри самой партии, как бы заботясь о ее чистоте, а порой, — пользуясь обстоятельствами, смягчением политического климата, — открыто враждебно, подобно всяческим русскоязычным бумагомарателям, — развелось их на святой Руси видимо невидимо, дави — не передавишь. Значит, нужно согласиться с тем же академиком Игнатовым в порочности самой идеологии коммунизма, основанной якобы в России прежде всего на подавлении и вечном духовном рабстве русского народа, на вольном или невольном геноциде русской нации. Конечно, академик прав в одном — русский вопрос когда нибудь обязательно встанет во весь свой рост, и уже нельзя будет отмахнуться, тут уж высветится и так называемый еврейский вопрос — один из самых деморализующих прогресс в двадцатом столетии, вопрос, высосанный сионскими мудрецами из своего пальца. Заинтересованным в хаосе мировым силам ничего не стоит связать этот пресловутый вопрос с самым естественным проявлением национального достоинства у любого народа мира, начиная от аборигенов Аляски и кончая каким нибудь карликовым племенем в африканских тропиках, и тотчас завопить на весь мир об антисемитизме. Попробуй потанцуй не в их стиле, тотчас обвинят в юдофобии. А что касается русских, переплетенных историей с иудаистской идеологией еще с хазарских времен, то тут и говорить нечего, здесь уже что то вроде кровной любви и ненависти, малейшее движение в одном организме тотчас вызывает бурю в другом, но только попробуй сказать об этом тому же милейшему Леониду Ильичу или хотя бы товарищу Андропову… Можно представить их реакцию, здесь уже налицо эффект лошади и всадника, не только ведь Солженицыны и Сахаровы норовят вскочить на хребет тяжеловесу ломовику — русскому народу, охотников хоть отбавляй. Вот и стараются внедрить в сознание народа мысль о его неполноценности и никчемности, неспособности к государственному историческому строительству — для подобной цели тут как тут целая свора самых разномастных писак и в самой стране, и за ее обширными рубежами…
Поймав себя чуть ли не на откровенном плагиате, заимствовании сумбурно сомнительных мыслей того же академика Игнатова, он постарался предельно сосредоточиться — по роду своей деятельности он и должен был как бы аккумулировать настроение множества самых разных людей в обществе и в государстве, — большого греха он за собой не чувствовал.
6
Глухо и недовольно прокашлявшись, Брежнев подчеркнуто аккуратно сложил и отодвинул от себя газету, отхлебнул коньяку, привычно пошлепал большими мягкими губами и, продумывая положение, некоторое время молчал; как бы забыв о присутствии рядом постороннего, он рассеянно посматривал по сторонам, по стенам и книжным шкафам, продолжая тихо покашливать.
— Закручено весьма и весьма затейливо, — сказал он неопределенно и в то же время довольно уверенно. — Шельма! Каков молодчик, а? Придется разориться и выкурить еще одну…
— Стоит ли из за всякого идиотизма? Да твое здоровье…
— Ладно, ладно, Миша, — оборвал Леонид Ильич, переходя совсем на домашний тон, как с ним нередко случалось, если решение уже было найдено, и Суслов, с ничего не выражающей улыбкой, быстро взглянул ему в глаза. — Интересно, кто ему сочинял?
— Говорят, сам…
— Что он, Ленин, что ли? — с некоторой иронией спросил Брежнев, вызывая одобрение собеседника, и сунул в пепельницу очередной окурок. — Открывал бы хоть что нибудь новое, а то черт знает какие азы, послереволюционная архаика. Время то давно ушло вперед, тоже мне теоретик! При чем здесь кулацкая идеология, лапти, онучи и все прочее? — Он взглянул на пачку сигарет, помедлил, с усмешкой глянул на собеседника, придвинул поближе. — И вообще, скажи, какого черта этот твой ярославский Яковлев полез в литературу? Своих дел мало? Славы захотел?
— Если хочешь знать мое мнение, Леонид Ильич, то мы столкнулись с началом еще одного вполне осознанного наступления на наши национальные устои, — быстро сказал Суслов. — Здесь много серьезнее, чем кажется на первый, поверхностный взгляд, серьезнее, чем вся солженицынщина, вместе взятая! Здесь от лица партии в русское общество, в нашу советскую интеллигенцию, нарождающуюся после войны, как бы к этому ни относиться, именно в нарождающуюся национальную и культурную элиту брошено огульное обвинение в ее кондовой косности. Попросту говоря, здесь оскорбление национального чувства целого народа. Только только у нас в острейшем национальном вопросе стало многое сглаживаться и притираться, как тотчас же уловили. И удар наотмашь, из самого неожиданного места. Если хочешь, здесь налицо попытка испытать крепость самой партии. Если не предпринять решительных и конкретных мер, начало ее кризиса…
— Ну, Миша, не горячись, — попросил Брежнев, глядя как то особо пристально и пусто. — Конечно, ты человек страстный, но чересчур уж круто заворачиваешь. Ты не серчай, нужно иметь весьма богатую фантазию — придумать такое… а?
— Почему же? — внешне спокойно и суховато спросил Суслов. — Основу, костяк, подавляющую физическую массу партии составляют именно русские, данного факта отрицать никто не сможет, да и не станет. И вот именно они, русские, все больше осознают, что являются донорами не только для всех остальных народов Союза, но еще и для многих стран мира, а их за это еще и презирают. Да, да, Леонид Ильич, изумляться здесь не приходится, война многое изменила в народной психологии, люди начинают испытывать потребность в осмыслении происходящего с ними. Слепая вера кончается. Почему, например, у русских нет своего национального правительства, а у той же карликовой Латвии, Эстонии, никогда на исторической карте не существовавших до революции, есть и свой ЦК, и многое другое…
— Прости, дорогой учитель, при чем здесь статья какого то заумного выскочки из ярославской глуши? — спросил Брежнев, начиная испытывать просыпающийся интерес к разговору, к самому собеседнику и несколько оживляясь. — Там, в его писанине, вроде бы все со строгих марксистско ленинских позиций…
— В том и секрет! — подхватил Суслов с еще большим вдохновением, и в глазах у него появился беспокойный блеск. — Статья с двойным дном! Бьет вроде бы по тенденциям воспевания архаических, отживших свое социальных отношений в нашем обществе, а наиболее сильный удар приходится по начинающим оживать русским патриотическим течениям, прежде всего в литературе и философии. Я уже говорил, что сей процесс стихиен и неподконтролен никаким властям, никаким верхам, просто в него необходимо умело внедряться и направлять его в нужное русло. А не так вот — обухом по башке, искры из глаз! На такой удар, рано или поздно, последует ответный, мы даже не в силах спрогнозировать, когда и откуда он грянет…
Заметив догоревшую до мундштука очередную дымящуюся сигарету, Брежнев удивился, почему то почти по детски обиделся, решительно достал еще одну и вновь прикурил.
— Следовало ожидать именно подобной, бурной реакции русской патриотической общественности, она последовала мгновенно, — продолжал гнуть свое Суслов, отмахиваясь от плывущего в его сторону кудрявого облачка дыма и стараясь не замечать явные признаки нетерпения у главы государства. — Здесь тебе, Леонид Ильич, придется брать ту или иную сторону. Разумеется, в защиту автора статьи тотчас выступили самые космополитические, разрушительные силы. Решать тебе, Леонид Ильич, я лишь должен со всей определенностью высказать свое мнение. Поссорить партию с русской патриотической интеллигенцией, развести их по разные стороны баррикады нельзя — смертельный номер.
— Решать будем вместе, — неожиданно резко и даже как то враждебно возразил Брежнев. — Не ищи, Михаил Андреевич, дураков. Наворотили скопом, а кряхтеть одному? Дудки! У меня забот и без того хватает, да еще нацепить на себя разные дрязги? В них сам черт ногу сломит. Пожалуй, и тебе на шею здесь все полностью вешать не следует. Надо собраться и коллективно подумать, послушать других, очень уж ты мрачно все преподносишь, многое я впервые слышу… Какой же здесь порядок? Правда, мне кое кто уже пытался втолковать нечто подобное, но высказываются и противоположные мнения, заметь себе, совершенно противоположные. Нужно, очевидно, выработать примирительную политику в таком важном вопросе, так?
— Нужно прежде всего лишить нашего ярославского пройдоху возможности вбить клин еще глубже, — решительно сказал Суслов, как нечто давно и окончательно им продуманное. — Отправить его куда нибудь в область, а то, пожалуй, и в район, пусть вначале поварится в сельсоветах, колхозах, что ли, практики наберется, докажет свои способности, а молоть всякую чушь и без него найдутся.
— Ну, ты уж, Миша, пожалуй, чересчур, — задумчиво заметил Брежнев, и у него в голосе вновь появилась трудноуловимая размытость. — А вот Андропов другого мнения — очень высоко ценит этого писателя. Характеристика у него иная — мол, очень способный, только увлекающийся человек, проверенный коммунист. Он совсем под другим углом зрения подает…
Собирая и складывая бумаги, Суслов коротко взглянул, фыркнул, потянулся за газетой со скандальной статьей, развернул ее и сложил заново, по своему, и упрятал туда же, в свою папочку, аккуратно привычно застегнул ее; он как бы еще больше подсох и как то словно отодвинулся далеко в сторону, хотя и продолжал оставаться на прежнем месте.
— Андропов и обязан по своей работе знать многое, нам, простым смертным, неизвестное, — быстро сказал он. — Только знать слишком мало в данной ситуации, а его конкретное предложение, реальный вклад?
— Он уже вроде переговорил кое с кем, — сказал неохотно Брежнев. — Мол, человек проверенный, отправим его послом в Канаду от греха подальше и дело с концом. Язык знает, сразу перестанет дурью маяться, с Белинским соперничать. Как ты относишься к такому варианту?
— Я пока, Леонид Ильич, об этом не думаю, — сухо, показывая свое несогласие, отозвался Суслов. — Человек из моего аппарата, а меня даже никто не спрашивает, так? А если уж до конца, то не слишком ли далековато, тем более без присмотра? Если он здесь, у всех под носом, сумел наворотить бурелому, то как же там? Конечно, у Андропова руки длинные, но ведь — посол! Суверенная единица! Не слишком ли жирно?
— Гляди ка, — обрадовался Брежнев. — Я почти то же самое сказал Андропову, не слишком ли отдаленно, мол, не жалко ли? Человек с кулацкими пережитками борется, а его в самое пекло капитализма и частнособственнической психологии, не взвоет ли, бедняга, от тоски? Ну что вы, говорит, товарищ генеральный, пусть набирается мудрости, совершенствуется в нашей тяжкой борьбе… Ну, как тут не задумаешься?
— Мне можно идти, Леонид Ильич?
— Ты ничего не ответил… Обиделся, что ли? Брось, ты же знаешь, без твоего одобрения ничего не проходит…
— А что я могу ответить? — спросил Суслов с застывшим и неприятным лицом, похожим на слепое отражение в зеркале. Он уже уловил нехитрую двойную игру главы государства, и провести или обмануть его в подобных делах было просто невозможно. — Да ради Бога, пусть забирает этого умника к себе хоть бы и Громыко, подарочек в его внешнюю политику отменный. Но вот Шолохова я бы, Леонид Ильич, посоветовал принять, надо с ним поласковее поговорить. И тянуть не следует, многие бы притихли, успокоились.
— Шолохов, Шолохов, — проворчал Брежнев. — С одной стороны Шолохов, с другой Симонов или Евтушенко, и все гении, не слишком ли много их у нас развелось? Ткнешь пальцем, непременно попадешь в гения, а? А может, послать их всех подальше?
— Нельзя, Леонид Ильич, гении же, как же без них? — удивился искренней досаде хозяина Суслов, явно отчего то повеселев, — у него в этот момент в голове окончательно выстроилась картина происходящего на самом высшем уровне, вырисовывались две взаимоисключающие силы, тяготеющие к разным полюсам, зримо сгруппировались наконец то, в конкретных личностях, и Громыко с Андроповым и Гришиным окончательно определились, но своими мыслями и выводами он не поделился бы ни с одним человеком в мире. И еще он подумал о необходимости каким либо тонким способом уведомить генсека о неощутимой, нежнейшей паутине, сплетенной людьми Андропова вокруг прославленного Академического театра и его ведущей актрисы — Ксении Васильевны Дубовицкой. А может быть, этого и не стоит делать, тут же засомневался он, ведь самая выигрышная, неуязвимая позиция — просто ничего не знать и исподтишка наблюдать за всем происходящим со стороны, не упускать из поля зрения ни одной детали, ни одной мелочи и держать нити подлинной власти в своих руках. Всепроникающий Андропов весьма недоволен сближением главы государства и партии с этой выдающейся актрисой, он считает ее русской шовинисткой. Особенно же зол на нее за материальную поддержку какого то вновь появившегося русофильского кружка — как всякий просвещенный еврей, пописывающий душеспасательные стишки, мнящий себя солью и пупом земли, он вольно или невольно, но всегда безошибочно определяет и поддерживает только своих, он и любую опасность ощущает тысячелетним инстинктом, тотчас начинает рассматривать ее как непосредственную угрозу для себя, старается выявить и подавить ее носителей в самом зародыше. В странно непривычной ситуации с актрисой из Академического тоже следует ожидать весьма неординарной развязки. Ведь ходят поистине фантастические слухи о сказочных изумрудах и бриллиантах у актрисы, доставшихся ей от какой то отдаленной родственницы, бывшей фрейлины при российском императорском дворе, подаренных той то ли одним из великих князей, то ли самим императором…
Здесь у Суслова, пытавшегося утихомирить некстати разбушевавшееся воображение, прорисовалось перед внутренним взором некое видение. Вместо хорошо знакомого, всегда спокойного, флегматичного и предсказуемого Леонида Ильича (как можно было осуждать его за такую зажигательную женщину, как Дубовицкая!), глубоко и искренне страдающего за своих непутевых детей, прорисовался некто абсолютно неизвестный, надменный и неприступный, с сатанинским пронизывающим взглядом, как бы бросающий вызов всему сущему. Суслов даже несколько изменился в лице, почувствовал легкую оторопь, слегка тряхнул головой, и воздух перед ним прояснился.
7
Весь остальной день прошел у Михаила Андреевича в довольно странном и отрешенном состоянии, он никак не мог перебороть себя и включиться в конкретную работу, и он то и дело возвращался в мыслях к разговору с академиком Игнатовым и во многом начинал соглашаться с ним. Почти каждый, выбившийся на самую высшую ступень в партии и государстве, полагал, что истинная власть заключена прежде всего в нем самом; более осторожные и прозорливые (их было не так много) считали, что властью являлись стоявшие на служебной лестнице выше над ними и что власть некий определенный мистический центр, прежде всего сам генсек.
Вновь пялясь в темный потолок, Михаил Андреевич саркастически оскалился, что должно было изображать насмешливую улыбку. Их, удостоенных и отмеченных высшей судьбой, было совсем немного, их можно было пересчитать на пальцах одной руки, начиная с самого первого, гениального революционера и разрушителя старого мира, величайшего, по сути, циника, лицемера и демагога, холодного прагматичного мужа и нежнейшего, даже сентиментального сына, почему то всегда считавшего, что других матерей, кроме его собственной, на свете не существует или, в крайнем случае, им безразлично, когда их детей калечат, уродуют и даже убивают, что они просто родильные автоматы, созданные природой для удовлетворения сжигающих его бесплодных страстей и амбиций. Он не знал русской жизни, ненавидел Россию и русских еще похлеще Троцкого, а вот сколько лет продолжает оставаться защитником, радетелем и освободителем народа, русского крестьянина. Как говорится, неисповедимы пути Господни…
Пришедший ему на смену грузинский полуграмотный семинарист привнес в систему высших властных норм и взглядов особую восточную мудрость — необходимость методического выравнивания людской нивы путем усекновения побегов, переросших общий, узаконенный господствующей на данный момент идеологией, уровень, он постиг наново давно забытую старую мудрость и стал выполнять подобную специфическую работу чужими руками, как правило, руками своих потенциальных соперников. Сменяясь, волна шла за волной, а он, кормчий и пророк, умело регулируя и направляя круговые властные движения, придавал им необратимый характер стихийности, но в отличие от своего предшественника он заложил в основу пиршества жизни идею собирания и укрепления империи, преданной и разрушенной его бесноватым учителем, вознамерившимся с кучкой безродных бродяг и политических проходимцев, тоже ненавидящих Россию с патологической лютостью, обрести собственное бессмертие. И ведь недаром сам Адольф Гитлер, попытавшийся уничтожить Россию и стереть с лица земли русский народ, присвоил Троцкому, одному из самых доверенных соратников Ленина, титул почетного арийца и звание штандартенфюрера СС. Поразительно, сколько еще тайн скрывается во мраке прошлого… Да, второй, незабвенный Иосиф Виссарионович, с восточной мудростью в крови, оказался куда умнее, постарался вернуться на круги своя, и в процессе уже необратимого разрушения генетических кодов сотен народов, выверенных тысячелетиями, сработал восточный инстинкт незыблемости в сменяемости вина и крови, всякий раз увеличивающих своим осадком материнскую твердь, на которой становилось все привольнее и безопасней исполнять танец лихого джигита, танец подравнивания неспокойной человеческой нивы. Но и первый, и второй твердо и бесповоротно уверовали, что власть прежде всего они сами, их воля, их разум, их особая, по сравнению с безликим сонмом других, природа и гениальность. И оба жестоко поплатились за свою нелепую самонадеянность и нравственное уродство и слепоту, оба были остановлены и уничтожены в самом расцвете своих маниакально глобальных устремлений, — смерть ведь всегда останавливает разрушение и является целительницей жизни и созидания, — и то, что все ими возведенное на лжи и пороке самоослепления в собственной непогрешимости и исключительности тотчас было разрушено, осмеяно и оплевано, — безошибочный признак отсутствия в содеянном божественного промысла.
И третий, унаследовавший от них верховную власть, некто Никита Сергеевич Хрущев, в не столь отдаленных предках просто Хрущ, в переводе с малоросского на великорусский — майский жук, генетически, если идти от партийного корня, воспринял идею некоей божественной исключительности своей поистине топорной личности, вот только историческое время уже закономерно уплотнилось.
Он был остановлен и отстранен на обочину гораздо быстрее и бескровнее — после императорского трона кресло генсека становилось еще одной самой популярной и престижной вершиной, и к нему всей предыдущей эпохой уже была выстроена длиннющая очередь жаждущих. Претенденты, смертельно ненавидя друг друга, с натугой, по старчески кашляя и чихая, жарко дышали друг другу в затылок. Всех никак невозможно было пропустить даже через сию усовершенствованную жертвенную машину, и, как всегда, трагедия заканчивалась фарсом. Высокая идея подвига в преобразовании мира выливалась в биологический процесс, в проблему обеспечения работы пищеварительного тракта у очередного генсека, обыкновенные и естественные проявления довольно посредственной мыслительной деятельности рассматривались и изучались многочисленными учеными и философами как нечто гениальное, воспевались поэтами и художниками, классифицировались, увековечивались и закладывались в почти неприступные хранилища — любая мысль, любое слово, исходящее от самого непогрешимого, не подлежали сомнению. Народ бросал на обслуживание и поддержание бешеной активности все разраставшейся властной пирамиды все свои силы, давно уже подорванные непрерывными встрясками и немыслимыми перегрузками.
Нет никакого сомнения, как утверждал ученый академик, что и четвертый, очередной генсек нес в крови все ту же направленность и чувство божественности и непререкаемости своей власти, и, однако, самые чуткие сразу же ощутили после очередной смены некое непривычное дрожание надкремлевской атмосферы. И в самой четкой и безжалостной партийно государственной машине все ощутимее стали слышаться посторонние, непривычные, почти не свойственные даже хрущевским временам скрипы и шорохи, странное игривое попискивание и потрескивание самого природного электричества, накопившегося Бог весть как в партийном организме и теперь искавшего естественного выхода. Одним словом, все оставалось как было, и в то же время все уже пребывало в другом качестве и измерении, в непривычном и нехорошем предчувствии неизвестных перемен, — вот это и являлось самым настораживающим.
Перебросившись на другой бок, Михаил Андреевич постарался заснуть и опять не смог, прислушался к тишине вокруг и тоскливо зевнул.
Да, да, сказал он себе, многое становится непривычным, приходится приспосабливаться. Сам очередной генсек, впервые в советской истории сменивший своего предшественника насильно, оставил его, его близких и родных живыми и здоровыми, и, что было для многих весьма подозрительным, оставил их относительно свободными в своих поступках и действиях, и тут уж волей неволей лезло в головы, что сам очередной генсек совмещал в себе как бы две разные личности, взаимоисключающие друг друга. Да, видимо, так уж распорядилась в его организме сама природа, разделив его на две половины, на два разных лица. В одном качестве он был четкий, высшего ранга чиновник, безукоризненно выполняющий свои высокие обязанности, в другом же, в свободное от работы время, превращался в простого смертного, обуреваемого не только неудержимой страстью охотника, любовью к быстрой езде (непременно сам за рулем!), даже и после рюмки другой, что приводило охрану в отчаяние, но и не чуждавшегося побывать в гостях у старых знакомых на крестинах или именинах. А то и вообще мог на денек другой исчезнуть, и тогда о его местопребывании знали лишь самые доверенные из помощников.
И никто подобного поведения первого лица в государстве не осуждал и не мог осуждать, дело было житейское, есть возможность — можно и повольничать, годы не ждали, часы тикали себе да тикали, срывались в провальную бездну, почему было не взять от жизни того, что завтра ни при каких титулах и привилегиях нельзя будет получить… Так уж устроено, в главном жизнь не подчинялась никаким партийным решениям, никаким карательным службам. Пришла пора — будь ласков, закрывай глаза и ложись в передний угол, но кто осудит живого, пусть и грешного? Пусть, мол, негромко говорили и думали самые сердобольные, наверстает упущенное в простой и теплой человеческой жизни, не надо здесь никаких надуманных конфузов, ведь наблюдается и другая сторона. Очередной глава государства примерный, по крайней мере внешне, семьянин, заботливый и страдающий отец, возглавляет и опекает клан многочисленных родственников и по своей линии, и со стороны жены, заботливо всех их направляет и поддерживает.
Одним словом, единой, знаменитой прямой линии, постоянного подвига, когда жизнь полностью, даже в самых интимнейших ее проявлениях, принадлежит делу и борьбе партии и зависит только от служения великой идее, здесь не получилось, — много раз выверенная и отлаженная система почему то дала сбой. И самое главное, досадный вывих был тотчас отмечен и зафиксирован, по утверждению академика Игнатова, опять таки пока неосознанно, на самом чутком в мире барометре общественного подсознания — в стихийном хранилище непредсказуемых толчков, взрывов и перемен в мире, неподвластных никаким теориям ученых и философов. И Михаил Андреевич вторично за последние сутки почувствовал на себе чей то пронзительный насмешливый взгляд, от неожиданности вздрогнул и сел на своем ложе, ощущая частое сердцебиение.
«Кажется, я все таки задремал», — подумал он с некоторым облегчением, вновь осторожно опускаясь на подушку.
8
Генсек страдал бессонницей и боялся ее, — волей неволей приходили ненужные и вредные для здоровья мысли, пугающими призраками вставали вопросы, не имеющие ответа, — каждый раз они были беспощадны и нелепы. Он глядел в теплую тьму перед собой и впервые чувствовал давящее, беспредельное одиночество, хотя совсем рядом посапывала жена, давняя и верная спутница жизни, ей он был благодарен за ее женскую мудрость и терпение. Но и ее сейчас не существовало, росло чувство одиночества, и впервые с пронзительной ясностью он сказал себе, что жизнь прошла. И даже не сказал или подумал сам — истину с холодной бесстрастностью возвестил ему некто посторонний, в нем постоянно присутствующий и исчезающий лишь в самые безрассудные моменты.
«А почему, собственно, прошла?» — спросил он себя, цепляясь за смутный и робкий призрак надежды, и тут же, слегка пожав плечами, заметил себе, что зря мучается одним из самых глупейших вопросов. Прошла, потому что проходит все, и изменить ничего нельзя. Вечной остается лишь одна власть, и потому так трудно расставаться с жизнью, но опять таки — кто же может сказать, что такое власть и у кого она в самом деле в руках? Опять нелепый вопрос, теперь уже с издевочкой над собой усмехнулся он, власть есть власть, и она везде и во всем — обыкновенный порядок жизни, установленный ею самой для собственного продолжения и безопасности. Конечно, слишком общо, неопределенно, наивно, однако что же делать? У кого, например, подлинная верховная власть в нашей гигантской, пугающей весь мир своей непредсказуемостью, загадочной стране? У него самого, бывшего землемера Лени Брежнева? Тогда что вынесло его к вершинам власти и кто тому способствовал? Не нашлось более талантливых, более способных? Как бы не так! А значит, настоящая власть у того или у тех, кто ее распределяет. И последний российский император, и сам Владимир Ильич, и товарищ Сталин, да и тот же Наполеон, всегда думали, что власть они сами, и всегда ошибались. Жизнь тут же доказывала обратное. У каждого из них была своя беспредельная власть над жизнью и смертью тысяч и миллионов других людей, но как только он исполнял ему предначертанное, его тут же убирали, и власть передавалась другому — в этом соблюдался неукоснительный, безукоризненный порядок. И так будет всегда, так определено неподвластными человеку силами. Есть, очевидно, и некий центр, неподконтрольный людям, его свойства и параметры определить невозможно. Может быть, просто разыгралась фантазия от бессонницы, но что мы знаем о потустороннем, недоступном живым мире, хотя не исключена и некая тайная мировая организация вроде тайного мирового правительства, не имеющего конкретного облика и постоянного адреса…
Подобные смутные мысли одолевали его и раньше, особенно в послеполуночную пору, он отбивался от них как мог, но сегодня все приобрело гипертрофические размеры, разговор с Сусловым даром не прошел, Миша хоть кого допечет.
И Леонид Ильич, накурившись и наглотавшись снотворного до одури, сейчас отчаянно жалел себя, мысли рвались, путались, он говорил себе, что не может больше выносить таких тисков, ведь невозможно было сделать ни шага в сторону, все только по регламенту «от» и «до», а ведь он еще мужчина, в нем до сих пор буйствует плоть и ее никакими бассейнами и охотами на заповедную дичь не усмирить, и если бы не Стас, обладающий просто фантастическими способностями претворять в реальную действительность самое невозможное, жизнь стала бы и вовсе бессмысленной — читать коллективно отредактированные чужие тексты можно выучить и попугая. Пусть и Стас по службе подчинялся своему строгому начальству, обязан был в каждой мелочи отчитываться, главное в другом — уж в людях он редко ошибается. Со Стасом они нашли общий язык, он предан, умен, тактичен, умеет держать язык за зубами. Здесь, если уж на то пойдет, можно товарищу Андропову и намекнуть слегка, что незаменимых не бывает и нечего совать нос в чужие дела, даже если он считает своей неукоснительной обязанностью все на свете знать, видеть и даже корректировать. Какое ему, скажем, дело до интимной жизни генсека, что за дурацкая подозрительность! Ну, актриса Академического, что дальше? Приглянулась именно она, а не другая, разве возможно понять причину?
Само собой, продолжал накачивать себя окончательно разволновавшийся Леонид Ильич, от недреманного церберского ока ничего не укроется, черт с ним, такова должность, но только пусть попробует сунуться не в свое дело, посвоевольничать, заложить запасец на всякий случай, очень и очень просчитается, надо будет ему, не мешкая долго, указать, что и за ним тоже не все гладко, вот и со Щелоковым на ножах, чего, спрашивается, не поделили? Здесь давать верха ему нельзя, слишком жирно, возомнит сверх всякой меры. И хорошо, что завтра пятница, важных дел не предвидится, пока затишье стоит, можно отправить всех сразу в Завидово, а самому со Стасом и сделать небольшой крюк, завтра его дежурство, и надо его с утра еще раз предупредить.
Сквозь штору стало сильнее просвечивать, и Леонид Ильич, сам того не ожидая, спокойно и быстро заснул, вернее, забылся, К десяти он был на своем рабочем месте в кремлевском кабинете, и, едва Стас положил на стол, на раз и навсегда определенное для этого важнейшего хозяйства место, папку с необходимыми на сегодняшний рабочий день документами, Брежнев остановил его и, слегка улыбаясь, негромко сказал:
— Сегодня после работы прямо в Завидово. Отправь всю нашу ораву сразу, а мы с тобой сделаем небольшой крюк, заглянем в Прохоровку. У тебя все готово, Станислав Андреевич?
Непривычно выжидая, выпрямившись, Казьмин молчал, и Брежнев сразу понял, что он хочет что то сказать, но не решается. «Славный малый, — тепло подумал глава государства, давно испытывающий к своему доверенному стражу даже нечто отцовское. — Преданный, проверенный, только вот чрезмерно осторожный. Даже как то намекнул о прослушивании генсековских апартаментов, сейчас, пожалуй, и не хочет поэтому говорить…»
Окончательно приходя в бодрое и даже превосходное настроение, Брежнев сказал:
— Ладно, Стас, не дури. Что там еще?
— У меня все в порядке, — не меняя приветливого, слегка застывшего выражения лица, ответил Казьмин. — У Ксении Васильевны до двадцатого спектаклей нет, а репетировать она может в любом месте. Пожалуй, что главреж Академического, Рашель Задунайский, понял наконец, что великой актрисе нужна иногда полная свобода, — здесь генерал позволил себе некоторую иронию. — Меня другое тревожит, ладно, если что, мне оторвут голову, туда ей и дорога… Вы ведь опять сядете за руль?
— Слушай, Стас, сколько тебе лет? — спросил Брежнев и, услышав ответ, даже вздохнул. — Ну вот, ты мне в сыновья годишься, а мне уже давно под гору перевалило. Я не стану лишать себя последнего светлого проблеска, неужели ты сомневаешься? Я с тобой всегда был откровенен, я тебе поверил и всегда верю. Давай раз и навсегда договоримся, не надо больше подобных разговоров. И тебе голову никто не оторвет, пусть только попробуют… а?
— Слушаюсь, Леонид Ильич, ведь…
— Вот и чудесно, — оборвал Брежнев. — Возьмем «мерседес». И никакого больше сопровождения, ни тайного, ни явного.
— Слушаюсь. У меня еще только одно…
Начиная сердиться, Брежнев, слегка сдвинув брови, молча смотрел, и генерал, хотевший сказать, что сегодня к генеральному без всякого регламента намерен пожаловать сам товарищ Андропов с предложением сменить его охрану чуть ли не полностью, в последний момент удержался, ловко увел разговор в сторону и только спросил, сообщать ли в Завидово о прибытии генсека с опозданием, и Брежнев, помедлив, словно почувствовав недосказанность со стороны дежурного генерала, согласился.
— Сообщи, конечно, что можем задержаться, причину им знать необязательно. И не положено, — добавил он и засмеялся, коротко потирая руки в предвкушении предстоящего после тяжелой, нудной недельной тягомотины. — А теперь за работу, за работу!
Оставшись один, он несколько раз прошелся по небольшому удобному кабинету. На душе было спокойно и тихо, накоротке просмотренный регламент был составлен умело, с учетом периода затишья в мире и отъезда генсека в Завидово на активный отдых. Предстояло утверждение ряда кадровых перемещений на Украине и по ряду центральных областей, предварительно уже согласованных, был намечен прием секретаря одной из европейских компартий, настоял на этом неугомонный Суслов, затем знакомство с главными событиями текущего дня, короткое выступление перед редакторами центральных газет и журналов, тоже по настоятельному совету Михаила Андреевича… Так, затем Устинов, ну, опять денег будет просить, жаловаться на Косыгина. Ничего не поделаешь, придется соглашаться, честь и слава великой державы требует немалых жертв, сила — самая мудрая политика. Что бы там ни говорили, сильный всегда прав, данной истины еще никто не опроверг. Не в силе Бог, а в правде? Ха ха, придумано пещерными монахами, не получилась нормальная жизнь, вот и оправдание. И перед людьми не стыдно, и себя не в чем корить, философия на все времена. Конечно, в большой политике необходима предельная сдержанность и осторожность, хотя самая высшая осторожность должна зиждиться на силе, право силы — вот высшая и непререкаемая осторожность.
Он остановился и, словно впервые, подробно и с любопытством оглядел свой кабинет, стол, шкафы, двери, портрет Ленина, светильники, лампу и телефоны на столе; что то происходило, он давно не испытывал такого душевного подъема, ясности мысли и такого, несколько даже насмешливого взгляда на самого себя как бы со стороны. В конце концов, ничего особенного не произошло и не происходит, он в своем кремлевском кабинете, здесь до него перебывали многие — Ленин, Сталин, посиживал здесь и Никита Сергеевич Хрущев, ну, а теперь, как и полагается, сидит он. Что такого особенного? Просто не нужно чересчур задумываться. Не каждому дано породить великую идею, но каждый может внести в ее осуществление свою толику энергии. Величайшие империи создавались неусыпными трудами десятков и сотен безымянных поколений, и никто не знает, почему одни возвышались, а другие, вечные и неколебимые, рушились в одночасье. И помещение, надо думать, Ленин определил под свой кабинет не случайно, и сам Кремль встал здесь, конечно же, не случайно, да и Россия раскинулась на таких пространствах, спаяв своей энергией Европу с Азией, тоже не случайно — здесь присутствует особый смысл и замысел некоего творящего начала, управляющего жизнью и миром, и кто поручится, что завтра, продвинувшись в космос еще глубже, человек не столкнется с новыми, переворачивающими всю старую философию истинами? Странно, он никак не может сейчас припомнить, что на этом месте было здесь до Ленина, хотя ему определенно докладывали и объясняли, хорошо помнится старичок архивариус или кто то в том же роде, надо будет вновь поинтересоваться — не та становится голова.
Впрочем, о чем это я? Ах да, несомненно, Сталина нельзя было трогать, дорогой Никита Сергеевич слишком уж близко придвинулся к самому заповедному, к эпицентру, как сейчас говорят, все думал ручки погреть и не обжечься, пустился во все тяжкие, в гробокопатели переквалифицировался. Самое поганое дело, мертвых трогать нельзя, они никому не подсудны. Сами то они управляют оттуда, где их достать невозможно. Наш дорогой и любимый Иосиф Виссарионович умудрился и после смерти заставить плясать живых под свою дудку, грандиозный спектакль в его честь с подачи Никиты Сергеевича отгрохали, чуть планета с орбиты не сорвалась. И поэтому мудрость управлять заключается прежде всего в умении не вмешиваться в естественные процессы жизни, вот сейчас главная мудрость, чтобы к вечеру мой парикмахер Сеня не нализался по своему обыкновению и сделал бы мне прическу, хотя и здесь ничего объяснить толком нельзя. Давно пора его выгнать, а вот на тебе, привык к негоднику, трое детей, жалко. И Стас давно на него зуб точит, а где гарантия, что другой окажется трезвенником? Все парикмахеры, должно быть, пьют… Пусть пьяница, зато подлинный мастер, артист, сразу на десять лет молодеешь…
День покатился и неумолимо втянул Леонида Ильича в привычный ритм, замелькали знакомые приветливые лица, зашелестели бумаги, и он, по прежнему живущий внутренним ощущением и ожиданием конца работы и приближения вечера, тотчас, по многолетней привычке, разделился как бы на два разных и непохожих один на другого человека. Один оставался ушедшим в самую сокровенную, заповедную и запретную для других глубину и как бы безмолвно и неощутимо для других затаившимся там, но именно он, этот тайный человек в нем, и был главным смыслом и сутью всего его существа, именно он таил в себе радость и таинство чувственной, физической жизни, ради чего только и стоило бороться и побеждать.
Второй же с приветливой готовностью отвечал на расспросы о самочувствии, привычно делая вид, что все понимает и во всем разбирается, старался вникнуть в самые сложные проблемы и внимательно, с явной заинтересованностью выслушивал объяснения, тут же забывая их смысл и суть.
Вернувшись после короткого визита на Старую площадь, с полуофициальной встречи, почему то не запланированной заранее, с лидерами двух африканских стран, он еще больше оживился и в близком предвкушении свободы приказал неотступно сопровождавшему его Казьмину пригласить парикмахера, но помощник доложил о только что подъехавшем Андропове, и первый в нем человек, глубинный, скрытый, уже почти вступивший в свои права, тотчас стушевался. Андропову нельзя было отказывать, он имел негласное право приходить, когда ему вздумается и без предварительного доклада и согласования. Невольно выдавая тайное недовольство, Леонид Ильич, едва поздоровавшись, тотчас закурил, и распорядитель и глава могущественнейшего в мире ведомства тотчас отметил это про себя и сказал:
— Я буквально на одну минутку, Леонид Ильич. У вас нет никаких претензий к службе безопасности? Нет ли пожеланий или замечаний?
Изобразив некоторую задумчивость, глава государства почти растрогался. «Ишь ты, какой заботливый, — подумал он. — С чего бы? Занятно, занятно, дальний подъезд, по своему обыкновению, выбрал многомудрый Юрий Владимирович, не иначе опять бочку покатит на бедного Мишу или скорее уж на Щелокова…»
Не спеша, с явным удовольствием вдыхая душистый дым, глава государства неопределенно шевельнул кистями рук, изрек многозначительное «гм» и в ожидании дальнейшего с легкой иронией поглядел на нежданного посетителя.
— Видите ли, Леонид Ильич, вы и ваше здоровье слишком дороги всем советским людям. Есть основание усилить вашу безопасность, может быть, если вы дадите согласие, кое что и реорганизовать.
— Меня вполне устраивает охрана, Юрий Владимирович, — по домашнему просто сказал Брежнев. — Хорошие ребята, старательные, стали совсем своими, вошли в семью. Сделай одолжение, объясни причину своей озабоченности. У меня времени не много, неделя хлопотная, собираюсь в Завидово, а через несколько дней, сам знаешь, Берлин.
— Я вас не задержу, Леонид Ильич, собственно, все уже решено, — быстро сказал Андропов и с готовностью встал. — По всяким пустякам зачем же? Наш воз нам и тянуть…
— Погоди, погоди, ты чего торопишься? Садись, — остановил хозяин. — Меня не проведешь, выкладывай, что там у тебя есть…
— Право же, ничего особенного, так, повседневная рутина, — стал уверять Андропов. — Выпадет у вас полчасика свободных, я вам, Леонид Ильич, изложу свои мысли, вы человек опытный, посоветуете. А сейчас…
— Садись, — повторил Брежнев и, вновь закурив, приготовился слушать, уверенный, что рано или поздно узнает нечто касающееся и его самого, — такие хитрые и осторожные люди, вроде Андропова, прошедшие, как говорится, все огни, воды и медные трубы, зря на самую высоту не высовываются, да еще без приглашения, да еще в канун субботы…
— Хорошо, Леонид Ильич, — согласился Андропов, поправляя очки и становясь еще более похожим на восточного мудреца, готового изречь нечто необычайно важное и в то же время не очень понятное остальному миру; теперь и у главы государства окончательно возобладало тайное любопытство. Андропов был весьма осторожным человеком, но он никогда не был нерешительным или боязливым. И Брежнев подумал, что сейчас услышит неопровержимые сведения о новой тайной группировке, вознамерившейся захватить высшую власть в стране насильственным путем. — Хорошо… Я попрошу вас на той неделе уделить мне час другой для специального доклада, сам я ничего не могу решить…
Брежнев быстро взглянул.
— Существуют ведь законы, товарищ Андропов.
— Существуют, Леонид Ильич… существуют и исключения из них, особенно если дело касается высших партийных чиновников, — сказал Андропов и еще раз поправил очки. — Вскрываются факты из ряда вон… Кстати, Леонид Ильич, в жизни иногда все так переплетается, даже не знаешь, как и поступить…
— Ну, говори, говори…
— В Москве появилось тайное общество, преимущественно молодые люди лет до тридцати пяти. Есть и вполне зрелые, отмеченные большими заслугами и званиями. В частности, их активно поддерживает известный академик Игнатов Нил Степанович. Кстати, он накоротке вхож к Суслову. Так вот, они ставят своей дальней целью возвращение монархии, а ближней — восстановление русской государственности и пробуждение, в первую очередь, именно русского народа, создание русского национального государства, а следовательно, и русского правительства. Налицо ярчайшее проявление великодержавного русского шовинизма. Данное общество имеет, правда, пока лишь рукописный печатный орган, распространяет письма и листовки со своими идеями. У них, кстати, весьма развита конспирация, руководит некий совет из трех избранных общим собранием, нам пока не удалось выйти на истинного закоперщика. Вот что еще любопытно, они не брезгуют якшаться и с уголовным миром, со всякими там подпольными спекулянтами, перекупщиками, прослеживаются связи с некоторыми производствами… Мы сразу же внедрили к ним своих людей, и выявились прелюбопытнейшие вещи. Так, у них, надо полагать, есть и главная цель — проникнуть в высшие эшелоны власти, в том числе и в ближайшее окружение главы государства и партии…
— Так. Зачем?
— Их цель, по видимому, не только в наращивании мускулов для предстоящего переворота. Главное — активное внедрение во властные и партийные структуры, создание в обществе нужного для своих целей климата. У них и в самом высшем слое общества уже появились свои покровители…
— Скажи, пожалуйста, какие декабристы! — усмехнулся глава государства, полагая, что самое существенное, для чего и явился Андропов, приберегается под конец, на закуску, и теперь уже начиная ощущать легкую тревогу. — Вероятно, действительно молочные зубки меняют. Да, проблему нельзя недооценивать, ты прав, Юрий Владимирович… Опять русский вопрос? Дикость! Советский народ, советский человек — вот наша действительность! Вот истина! Ее и надо неустанно утверждать, необходимо поставить этот вопрос и на политбюро, давайте вместе подумаем. Черт знает что! — энергично закончил он и легонько пристукнул ладонью по столу.
— Великодержавные русистские инстинкты надо подавлять беспощадно, любыми средствами и методами! — поддержал главу государства Андропов, и в его лице проступило холодное вдохновение, глаза за стеклами очков приобрели еще большую пронзительность и в то же время странную отстраненность. — Если дать проказе великодержавного шовинизма развиться и окрепнуть, нас ожидает гибель ленинской идеи, нашего социалистического государства. Немедленно начнется цепная реакция не только у нас, но и по всему миру.
— Ничего себе вести перед выходным, да еще после долгого рабочего дня, — почти пожаловался Леонид Ильич, в то же время припоминая разговор на эту же тему с Сусловым, случившийся не так и давно. Помнится, тогда причиной послужила статья в писательской газете, и написал ее один из работников аппарата ЦК, отправленный затем послом в Канаду. Новоявленный писака, помнится, тоже громил русский шовинизм, и именно глава госбезопасности, недреманное око и карающий меч, и проявил похвальную инициативу, посоветовал отправить излишне рьяного поборника интернационализма за океан; правда, Леонид Ильич этот вспомнившийся некстати незначительный эпизод тут же предпочел забыть и не упоминать. Пусть карающий меч, подумал он мимоходом, еще раз убедится, что у старика, как они все иногда его называют, память коротка. И потом, слишком уж сложна и опасна разворачивающаяся в последние годы борьба, стоит выждать, пусть разнополюсные силы окончательно определятся и проявятся, ведь сейчас и сыну родному, не то что очередному зятю, пальца в рот не клади, тут же отхватит. А уж…
— Ну, что же нам теперь делать? — спросил Леонид Ильич после довольно продолжительной паузы, опять вспоминая кое что из общения с Сусловым. — Пожалуй, сначала следует все хорошенько продумать. У нас ведь не только русский шовинизм, всяческих других полно. Меня в последнее время коллективными письмами забрасывают, научная и творческая интеллигенция все старается, из кожи лезет вон. Здесь все пока наоборот — жалуются в основном на русофобию… В таком коварном вопросе не лучше ли положиться на саму общественность? Пусть себе кувыркаются, доказывают друг другу, что дважды два четыре, тут бы и эти диссиденты силенки подрастрясли, амбиций бы поубавили…
Понимая, что высказываемые главой государства мысли принадлежат другому, Андропов, как и всякий умный человек его ранга, обладавший непревзойденным артистизмом и даром перевоплощения, позволил себе не только одобрить слова хозяина, но и польстить ему, выслушав высказанное им как некое большое и неожиданное откровение — на обычно бесстрастном лице Андропова мелькнула целая гамма чувств, и легкое удивление, и почтительность, и почти школьное внимание, — в повседневной работе, и не только в России или в Советском Союзе, но и во всем мире службы разведки и сыска пользовались именно подобным методом влияния, разработанным и успешно опробованным в течение тысячелетий еще жрецами Шумера, Вавилона и Египта.
— Вы знаете, Леонид Ильич, вы сейчас прямо на золотую жилу указали, — теперь уже открыто польстил Андропов. — Только разрабатывай. Вот ведь повезло, что я вас не упустил сегодня, дело то весьма сложное, и вот совершенно оригинальный, можно сказать, гениальный выход… Что ж…
Подозрительно выждав, Леонид Ильич покосился в сторону собеседника и задумчиво шевельнул бровями.
— Ну, не торопись, не торопись, — уронил он сдержанно и значительно. — Сгоряча не руби, здесь очень обдумать надо. Говорят ведь, раз отрежь, а семь раз отмерь.
— Конечно, конечно, — с оживленной готовностью подхватил Андропов. — Тем более, приходится иметь дело с так называемой интеллигенцией. Представляете, Леонид Ильич, это пресловутое сборище новоявленных русистов поддерживают многие известнейшие люди в стране. И морально, и материально — деньгами, предоставляют свои квартиры, другими способами. Писатели, народные артисты. Выявляются поразительные факты…
Встретив как бы предупреждающий, останавливающий взгляд хозяина, глава безопасности государства прервался. Его тонкие, аристократические руки с длинными холеными пальцами чуть напряглись. Брежнев, раскуривавший очередную сигарету, ничего не заметил, и тогда Андропов решился — откровенного, прямого разговора все равно было не избежать. И, назвав несколько имен артистической и литературной элиты, он, после почти неуловимой паузы, продолжал:
— Сочувственно относится к новым возмутителям спокойствия народная артистка Дубовицкая из Академического. Вносила крупные суммы денег раза два или три, а также заслуженные художники Павлов Тверской, Боровников и ряд других. Я убежден, надо принимать самые серьезные меры.
— Резонно, резонно, Юрий Владимирович, — отозвался Брежнев спокойно, с легкой, понимающей усмешкой, и брови его поползли вверх. — Ну, и как же мы будем выглядеть в глазах общественности? Мало нам заграничного крика и воя?
— Я полагаю, знаменитостей трогать не стоит, — со значением, как бы уже обретя в главе государства согласного соучастника, сказал Андропов. — Зачем? Визгу много, а шерсти чуть. А вот организаторов, закоперщиков необходимо вытравить в зародыше. Именитые сами притихнут, они, собственно, подобной суеты и не любят, не умеют такие ситуации и организовывать. Их просто втягивают в смуту русистские патриоты в кавычках, шарлатаны. Значит, мы должны стать на защиту известных, но легко возбудимых эмоционально людей, остеречь их, оградить. Вполне логично. Дать разрастись идее национализма мы не имеем права.
— Мне помнится, Юрий Владимирович, что товарищ Суслов уже высказывал недавно идею провести очередную паспортизацию, ликвидировать графу «национальность», — сказал Брежнев. — Как ты думаешь? Многое бы упростилось. Просто «гражданин Советского Союза» или того конкретнее — «советский гражданин». Ни еврея тебе, ни хохла, ни кацапа, все равны как на подбор.
— Михаил Андреевич умный политик, — заметил глава безопасности. — К его словам надо прислушиваться. Идея интересная, но как ее воспримут те же грузины или узбеки? А прибалты, среди которых в свое время так хорошо поработал и сам Михаил Андреевич? — тут взгляды собеседников столкнулись и вновь разбежались. — Надо бы по такому важному вопросу, Леонид Ильич, создать специальную группу или комиссию, допустим, с привлечением Академии наук, и хорошо, если бы ее возглавил сам Михаил Андреевич, пусть бы повертели этот вопрос доктора и академики. Они любят, хлебом не корми.
Слушая и даже слегка восхищаясь изворотливостью и язвительностью ума собеседника, Брежнев в то же время жил уже другим — предстоящим свиданием в интимной обстановке с той же Дубовицкой, с женщиной, разбудившей в нем позднюю мужскую страсть; каждая встреча с ней отличалась новизной и неожиданностью, и сердце начинало биться сильнее от тревожного ожидания скорого обрыва, от чувства, что еще немного, и она навсегда ускользнет. Эта женщина еще и оказывала на него светлое, почти магнетическое воздействие своим странным пропадающим смехом, парадоксальными мыслями и замечаниями, постоянно неуловимой женской игрой: он чувствовал ее и немедленно на нее отзывался, то есть вел себя как и всякий избалованный женским вниманием, уже стареющий мужчина, принимая и относя все за счет собственных мужских достоинств, но подлинного смысла этой женской игры, как и большинство мужчин, он не понимал и считал, что в подобной игре никакого смысла и не было, а был один женский инстинкт. И сейчас, выслушивая скучные и осторожные рассуждения главы государственной безопасности о предполагаемой реформе паспортного дела в стране, он начинал испытывать и некоторое раздражение. Пусть не прямо, окольным путем, ему старались сейчас продиктовать правила его личной жизни и поведения; в какой то там антигосударственный заговор кучки интеллигенции он не верил — просто проявился еще один излом никогда не утихающей борьбы в самом обществе, свойственный любому строю и любой эпохе. И если действительно слить все народы и племена в один целостный состав, то здесь, пожалуй, и таится самая большая опасность. Что же тогда делать верховной власти, кого ей тогда мирить и направлять по правильному пути? И как тогда, при случае, припугнуть тех же русских или, допустим, казахов? Нет, здесь даже мудрейший Михаил Андреевич перехлестывает, ему придется здорово попотеть, если он и дальше будет цепляться за свою идею. Любая власть держится на противоречиях, больше противоречий и вражды — крепче и необходимее власть.
Время шло, круг замыкался, и Леонид Ильич демонстративно взглянул на часы.
— Мы с твоего разрешения, Юрий Владимирович, продолжим разговор в другое время, — предложил он. — Ты более обстоятельно расскажешь об актрисе Дубовицкой из Академического, ты же знаешь, именно она меня особенно интересует. Люблю ярких, талантливых людей, естественно, женщин даже больше, и скрывать своих симпатий не намерен. Ни от кого, в том числе и от тебя. От вас все равно скрыть ничего невозможно. Вот только в больших государственных делах не всегда всем везет, даже если они и всеведущи.
— Хорошо, Леонид Ильич, — поняв намек, не стал лукавить Андропов. — Приказывайте в любой момент. Ксения Васильевна Дубовицкая, несомненно, выдающийся человек, яркая личность, сами понимаете, что каждая такая личность порождает массу слухов, а то и легенд. И в данном случае без этого, по видимому, не обошлось.
— Легенды? То есть нечто почти мифическое, почти недоказуемое? Какая нибудь романтика?
— Нет, Леонид Ильич, здесь нечто почти мистическое, — словно колеблясь и пытаясь удержаться, ответил Андропов. — Здесь все уже выходит за пределы личной судьбы одного конкретного человека, начинает приобретать почти роковое звучание…
— О о, да ты заговорил почти стихами, — многозначительно усмехнулся Брежнев. — А если без возвышенных форм?
Взгляд Андропова, еще более усиленный стеклами очков, напряженно замер и приобрел нечто предельно направленное, прицельное, почти змеиное как бы в предвестии неуловимого никаким глазом парализующего удара. В один момент им было прослежено множество самых различных комбинаций: нужно было выбрать одну единственную, безошибочно и успешно ведущую к цели.
— Я не верю в мистические предопределения, — сказал глава безопасности. — Правда, здесь наблюдается стечение обстоятельств весьма необычное — можно только развести руками, как все в истории переплетено, пусть даже только в предположениях или легендах. Речь, Леонид Ильич, о царских изумрудах, сапфирах и бриллиантах, притом именных, Занесенных во все мировые скрижали. Вот они то и оказались каким то образом у Дубовицкой, перешли к ней через третьи или четвертые руки. Чушь? Молва? Легенда? Не знаю, только в данном случае мы обязаны все тщательно продумать и выверить. Приходится еще раз повторить, это пока лишь самая изначальная, черновая разработка. Наша служба обязана стоять на защите интересов и, тем более, чести главы государства и партии. Я с вами всегда предельно откровенен, Леонид Ильич, считаю, что вам необходимо знать все.
— Изумруды? Бриллианты? Какие такие четвертые руки? — недовольно спросил Брежнев, пожимая толстыми плечами, и в голосе у него прозвучала некоторая неуверенность. — Красиво, красиво, дорогой мой защитник и охранитель, но какое нам дело до самых поэтических легенд и сказаний?
— Вам необходимо знать женщину, связанную с вами судьбой весьма тесно, знать о ней все, даже легенды. По крайней мере, я выполняю свой долг, Леонид Ильич…
— Разумеется, разумеется, Юрий Владимирович, — подтвердил Брежнев с быстрой и по прежнему иронической усмешкой. — Только знать о женщине все, пожалуй, невозможно. Уж поверь моему богатому опыту. А если толковать откровенно, по мужски, то это весьма скучное занятие. Просто скучно. Женщина, о которой известно все? Зачем? — спросил он и пригласил Андропова вновь присесть. — Подожди, — сказал он, — у меня к тебе еще один вопрос. Стало известно, что твои бравые ребятишки устроили облаву на какого то странника или вроде пророка, говорят, он может любому предсказать будущее… гм… Ты что, действительно ничего не знаешь? — спросил Брежнев с некоторым любопытством, пристально, в упор глядя на Андропова, привычным жестом быстро поправившего очки и на мгновение как бы прикрывшего узкой ладонью бесстрастное лицо. — Пожалуй, не надо нарываться еще на один скандал, сын знаменитого на весь мир академика, сам крупнейший физик теоретик, механик… Ну, спятил и спятил, пусть себе бродит на здоровье, не убудет. А то зашелестит этот ученый муравейник, завозится… ну их!
Выжидающе помолчав, Андропов согласно кивнул.
— Я что то такое слышал, кто то говорил… Теперь сам проверю. А если этого гениального, как говорят, умыкнут за кордон, а он там быстренько образумится?
— Да у него все формулы с цифрами давно из головы выскочили, — сказал Брежнев. — Конечно, совсем из виду его упускать не стоит, но уж так, чтобы никто ничего не почувствовал. — Тут глава государства, очевидно вспомнив что то очень интересное, задумался, тотчас спохватился и выпрямил спину. — Да, Юрий Владимирович, — продолжал он свою мысль, — много странного появилось в мире, да такое, о чем мы с вами раньше и не подозревали. Говорят, этот наш странствующий физик обладает редким даром предвидения. Вроде бы ему достаточно взглянуть на человека, и тотчас все ясно. Весь его дальнейший путь как на ладони. Не трогайте его, надо считаться с народным мнением, даже если оно основывается на суевериях. Глядишь, и пригодится. А впрочем, его вроде бы и невозможно достать, он всегда заранее знает и успевает скрыться.
Ожидая дальнейшего, глава безопасности больше ни одним движением, ни одним звуком не выдал себя, и Брежнев позволил себе еще одну мимолетную усмешку, правда, ее можно было истолковать как угодно, но Андропов истолковал ее именно по своему адресу и в самом определенном значении.
«Посмотрим, — подумал он с невольным холодным и неприятным ознобом от своей решимости. — Посмотрим, кто здесь окажется сильнее. Юродивые здесь совершенно ни при чем. И любые конкретные лица здесь ни при чем. Они всего лишь слепые провозвестники и исполнители изначальных сакральных замыслов, уходящих своими корнями в толщу тысячелетий. Здесь безразличны методы, добро там или зло, главное — цель».
Над Москвой, над Россией, над старой, затерянной в дебрях космической тьмы Землей, в сменах поколений и эпох, переливалось бесстрастное время.
И Брежнев, невольно втянувшись в непонятный и запутанный разговор и по прежнему почему то не в состоянии оборвать его, досадуя на свою зависимость и слабость, сказал:
— Теперь давай свою историю… Самый раз послушать.
9 Сказание о любви и ненависти
Фрейлина Машенька Планк, прелестное создание, правда, уже достигшее женской зрелости, полулежа на широком диване, мечтала и от счастья не могла заснуть. Она была впервые и смертельно по настоящему влюблена, кровь у нее была неспокойна и сердце томилось от нежности, страха и надежды. Она не знала, как все получилось, но этого и нельзя было узнать. Кто мог объяснить, почему он, недосягаемый по рождению и положению, на недавнем балу подошел именно к ней и с молодой задорной улыбкой пригласил на мазурку? Встретив его взгляд, она почувствовала жаркое дуновение зноя, ее молодое, крепкое, давно томившееся от одиночества тело охватила жаркая и сладкая волна, порыв какого то сухого, стремительного ветра. «Судьба, — стукнуло у нее в душе, в сжавшемся сердце. — Это — судьба».
Глаза великого князя в ответном порыве вспыхнули, они обещали чудо, они не могли обманывать, и она тоже не могла ошибаться. Она хотела и все это время, с тех пор, как была посвящена в фрейлины и оказалась при дворе, ждала чуда. И вот теперь оно свершилось. Нет, нет, говорила она себе, она не могла ошибаться, и ей было нельзя ошибиться; тайный и горячий, неистребимый инстинкт Востока уже проснулся в ее натуре и теперь, помимо ее воли и желания, руководил ею и направлял ее. Ее тайная восточная суть определяла и готовила ее будущее — она была хороша собой, образованна, воспитанна, умна, почему бы и нет? Древний и неусыпный закон предков идти и побеждать, идти и быть первой, служить прежде всего своему народу, а уж потом себе, руководил ею с колыбели, и теперь древний зов оборачивался стремительной, почти цепенящей реальностью, и она не раз пыталась образумить себя, притвориться ничего не понимающей, наконец, просто заболеть и отпроситься к отцу, знаменитому доктору, но словно некая посторонняя воля вела ее все дальше и дальше в знойную, безводную пустыню, — она уже была приговорена.
И чем дальше она брела, тем сильнее и невыносимее становилась жажда. Ни с одним из родственников в Петербурге она не хотела снестись; ей, православной по рождению дворянке, не было никакого дела до иудейских догм и диких обычаев первобытного местечкового быта, до патологической закольцованности гетто, и если в ней текла еврейская кровь, то это была кровь нового, православного поколения евреев, по словам отца, призванного унаследовать весь цивилизованный мир, знания, образованность, способность войти и раствориться в науке и культуре старых европейских народов, господствующих сейчас в мире, в этом заключался долг каждого современного и прогрессивно мыслящего еврея и еврейки, их высшее служение и собственному своему, бесконечно страдающему и рассеянному по всему миру народу; каждый в отдельности был готов к самопожертвованию самостоятельно.
Машенька Планк хорошо знала историю, была знакома с Грецией и Римом, владела немецким и французским и всегда отличалась острым и практическим умом. Она обладала и более ценным свойством ума и характера: могла самостоятельно принимать самые трудные решения, находить выход из крайне запутанных ситуаций.
Стараясь не помять платья, она лежала одетая и ждала; сейчас она забыла обо всем на свете и чутко прислушивалась к полумраку незнакомой гостиной, почти скудно, но изысканно обставленной, и даже примерно не могла предположить, в какой части Петербурга находится, но и об этом она не думала. Она сейчас ждала, стараясь избавиться от слишком беспокойных мыслей, и все таки томительно разгоралась от предчувствия неизбежности рокового шага, и в то же время почти мистическое приближение неумолимого поворота в жизни томило ее больше и больше, воспламеняло воображение, и когда раздался негромкий стук в дверь, она порывисто вскочила, прижала ладони к загоревшемуся лицу и застыла с неподвижными от ужаса глазами.
Знакомая стройная фигура прорисовалась у двери; помедлив, великий князь быстрыми порывистыми шагами приблизился, и Машенька, по прежнему не отрывая ладоней от лица, ощутила его горячие руки. Он отвел ее ладони в стороны; от волнения и охватившего ее теперь полностью, до кончиков пальцев, сладкого ужаса она почти ничего не видела. Большое серое пятно дрожало перед глазами, затем кто то быстро прикоснулся к ее рукам, к одной и другой, сухими, горячими, ей показалось, обжигающими губами. И она, хотя и была на грани обморока, сразу почувствовала его нетерпение и решимость, уловила горьковатый и свежий запах, незнакомый досель запах мужского тела, смешанный с запахом дорогого табака и одеколона.
— Как вы хороши, Машенька… Я давно думал вот о таком моменте наедине с вами, — сказал, понижая голос до хриплого шепота, великий князь, рывком привлек ее к себе и поцеловал в губы раз и второй, и затем, все сильнее сжимая ее в объятьях, уже не отрывался.
— Александр… ваше высочество, что вы делаете, — слабо запротестовала она, в то же время всем телом невольно отвечая на его порыв и призыв. Сухой жар проник в нее, и она уже не могла ни говорить, ни думать, она была охвачена одним всепоглощающим и нерассуждающим чувством разрешения так долго копившегося в ее теле и подавляемого томления.
И еще она всем своим существом ощутила неумолимую волю судьбы; в происходящем с нею присутствовало нечто высшее, неподвластное человеку, тем более слабой еврейской девушке, — она поднималась на головокружительную высоту, а там перед ней зияла провальная, черная бездна; падение ей предстояло неостановимое, чарующее…
Вскрикнув, она слабо, сквозь стиснутые зубы застонала, перекатывая голову со стороны в сторону по широкому, необъятному дивану, и великий князь, жарко и часто дыша, стал ловить ее губы своими; его руки уверенно и привычно делали свое дело, и тогда она, окончательно и бесповоротно покорясь, обхватила его за напрягшуюся шею и, все сильнее прижимаясь к его стремительному телу, ринулась, окончательно обо всем забывая, навстречу. Только потом, когда острота несколько ослабла, она сказала себе, что так и должно было быть и ей это было известно еще с памятного бала у Юсуповых, когда она вдруг затылком, спиной ощутила чей то жгущий взгляд и, помедлив, обмахиваясь китайским веером из слоновой кости, непринужденно повернула голову и, встретив сияющие, почти восхищенные глаза, все сразу поняла и определила, и только потом невольно похолодела.
— Боже мой, что же теперь будет? — прошептала она, кончиками пальцев трепетно прикасаясь к его разгоряченной груди, как бы привыкая, и, стараясь неосознанно продлить спасительное беспамятство, она вновь стала быстро целовать его губы, а он, довольный и опустошенный, не открывая глаз, положил ей ладонь на грудь, туда, где никак не могло успокоиться сердце.
Она угадала и попросила:
— Не надо, ничего не говорите, Александр, будь что будет. Я благодарна судьбе и вам, ваше высочество. Каждой девушке приходится становиться женщиной, здесь ничего изменить нельзя. Я благодарна, — прошептала она еще раз. — Будь что будет…
— Все будет хорошо, — сказал он. — Все будет отлично. Не надо, Машенька, придворных этикетов. Я сейчас обыкновенный мужчина. Для меня ты сейчас самое главное и нужное. Впрочем, всегда главное, так уж устроено природой и Господом Богом. Зови меня Александром, Сашей, как тебе нравится. Вы, женщины, ведь умеете, а нам необходимо тепло. Ты хочешь немного вина? Шампанского?
— Пожалуй, — подумала она вслух, испуганно приподнимаясь. Она увидела его в серебристом полумраке, льющемся из за неплотно задернутых штор на окнах, совершенно нагого и поджарого, уверенно двигающегося по комнате; ей была непривычна такая бесстыдная, притягивающая мужская открытость и доверчивость. Она, не стесняясь, пристально рассматривала его тело, ставшее близким, необходимым и даже родным; в ней шевельнулось уже и чувство ревности, и она усилием воли отогнала от себя ненужные мысли. Мужчина есть мужчина, подумала она, и у него особые права, тем более, если они подтверждены таким высоким рождением.
Он принес шампанское и два хрустальных бокала, поставил их на низенький столик рядом с диваном; лихо хлопнула пробка. Он засмеялся и наполнил бокалы, присев на край дивана; она видела его широкие плечи, длинную, гибкую, сильную спину с ложбинкой позвоночника, и ей опять стало казаться нечто мистическое; просто какой то сон или бред, говорила она себе, и рядом с ней никакой не великий князь, наследник российского престола, всемогущий и неприкосновенный уже по одному своему рождению, а просто мужчина, в полной силе, привлекательный, каких тысячи и тысячи, он и ведет себя как самый простой смертный, и вино сам может открыть и налить в бокалы, и нагим двигаться по комнате, а затем присесть рядом на диван. И запах его тела уже знаком и приятен, и в то же время происходящее с ней не может быть всего лишь волшебным сном: протяни руку, коснись — и проснешься.
Зажмурившись, она протянула руку и всей ладонью провела по его груди, по прохладной коже, сверху вниз, до живота. Он подождал и вложил в ее руку бокал с шампанским, еще игравшим маленькими острыми пузырьками.
— Выпьем, Машенька, за нашу встречу, — предложил он. — Все будет хорошо, я тебе обещаю. Ни о чем не думай…
— А я и не думаю, Александр, самое прекрасное в моей жизни уже случилось. О чем же думать?
— Ты умна, Машенька, — сказал он и поднял бокал. — Ты это знаешь? За твою красоту, молодость и за наше счастье!
Мелодично и нежно прозвенел хрусталь; он осушил свой бокал до дна, она вначале лишь притронулась к прохладному стеклу губами, затем сделала глоток, второй и, поставив бокал на столик, вновь откинулась на подушки дивана, закрыла глаза. Он налил себе еще и жадно выпил, его одолевала жажда. Затем он лег рядом с нею. Сильное, неутомимое тело еще не насытилось, и он радостно и бездумно улыбнулся; впереди была целая ночь, а там, до нового удобного случая, они разъедутся. Отец, несомненно, узнает из утреннего же доклада, да что из того? Сам не святой, поймет. И маман будет смотреть навсегда испуганными глазами, пожалуй, выждав момент, даже намекнет, что он дурно поступает, но скорее всего промолчит, как ей и положено. Да и все вокруг будут знать и молчать, пусть до поры до времени, а скорее всего и потом. Сейчас не стоило думать, все на свете когда нибудь разрешается, а вот молодость проходит и никогда больше не повторяется, утехи Гименея скоротечны, и если не теперь, то когда?
И великий князь, воспаленный своими мыслями, приподнялся на локоть и, окончательно забывая об искушающем коварстве природы, стал нежно и страстно целовать женские плечи и грудь, и кто же мог осудить его? Не он первый, не он последний; в почву истории подряд да рядом закладывались неведомые семена будущих свершений и потрясений, и чаще всего именно теми, кто достиг или хотя бы считал и думал, что достиг в жизни высших ступеней власти и могущества. Перекрещиваясь и сливаясь, разная кровь не только приближала единство мира, как считали знаменитые философы. Другие, не менее знаменитые, доказывали, что именно в таких вот смешениях разноплеменной крови и закладывались, и подготовлялись невиданные катастрофы и потрясения самых процветающих и могущественных империй и народов, и никакие героические подвиги и усилия потомков уже не могли этому распаду и хаосу помешать. В дело вступали таинственные, вечные законы космоса, созидающие и творящие жизнь даже смертью и никакому мудрецу недоступные для постижения. В дело вступали законы самой крови, заложенные в жизни изначально и не подлежащие никакой отмене; их основополагающая формула терялась в бесстрастных и всепоглощающих пространствах космоса. И может быть, это и был сам Бог, все породивший, таивший только в самом себе и объяснение, и вечную тайну мироздания.
После очередного, сжигающего приступа любовной лихорадки, теперь уже окончательно опустошенный, вяло и слабо отвечая на продолжавшиеся робкие ласки девушки, то целовавшей его куда то в ухо и что то невнятное шептавшей, то прикасавшейся трепетными пальчиками к его шее и груди, великий князь в каком то полусонном состоянии подумал о своих смутных и непонятно откуда взявшихся недавно мыслях с некоторой свойственной ему самоиронией и даже издевкой; все намудрили древние греки, решил он, у них было много винограда и солнца, и им было нечего больше делать, — пей себе вино, люби женщин, совершай подвиги и думай о богах и бессмертии. Вот и закружилось в голове, поехали, замелькали всякие Афродиты и Аполлоны…
С такими мыслями, успокоенный и счастливый, он задремал, провалился в здоровый, свойственный уверенным в себе людям сон, а когда открыл глаза, увидел над собой склоненное лицо Машеньки, все вспомнил, тихо улыбнулся ей и поцеловал.
— Ах, Александр, — сказала она спокойно и ровно, заставляя себя притушить нестерпимо засиявшие глаза. — Какую же большую и непоправимую глупость мы сделали! Не надо было этого, Божья кара ожидает нас и наших детей… Я боюсь, Александр… Посмотрите, у меня заледенели руки… Боже мой, как я покажусь на глаза государыне? Я не выдержу, Александр!
— Ну что ты такое говоришь, Машенька! — весело сказал он, еще окончательно не проснувшись. — Милая Машенька, в наши с тобой отношения никто не имеет права вмешиваться, это только наше и больше ничье! Я люблю тебя, дорогая моя и прекрасная заморская царевна!
— Да, заморская, Александр, — вздохнула она, и в ее голосе прозвучала печаль. — Я в этом не виновата. Я — дочь еврея, Александр, двор и высший свет никогда мне не простят…
— Какая чепуха! Вздор! — сказал великий князь, ласково привлекая ее голову к себе на грудь. — Господь наш создал людей одинаковыми, все мы, иудеи, греки, немцы или славяне, равны перед ним и между собою. Пусть только кто нибудь посмеет обидеть тебя или даже нехорошо взглянуть! Он будет иметь дело со мною, с наследником престола российского!
Она растроганно поцеловала его в голову.
— Вы, Александр, еще не император, помазанник Божий, — опять с грустью сказала она. — А ведь только ему в России подвластно все, даже невозможное…
— Вера творит чудеса, — согласился великий князь и, перестав улыбаться, приподнял ей голову, пристально взглянул в глаза. — У женщины, Машенька, нет национальности, — сказал он почти строго, изменившимся, как ей показалось, голосом, ставшим более отчужденным. — Женщина источник жизни и принимает суть и форму того, кого любит, кому начинает по праву принадлежать и кого воспроизводит в своем чудотворном лоне. Она не властна в ином, таково Божье установление.
— Может быть, Александр, только ваши слова не касаются моего народа — народа непонятого и всегда, даже когда ему не надо, страдающего, — вздохнула она. — У него свои, древние и жестокие обычаи и законы, у него всегда иначе, чем у других. Вероятно, Александр, вам покажется странным и диким, только здесь переменить никому ничего не дано.
— Да, твой народ и его обычаи многим непонятны и даже неприятны, — сказал великий князь, думая в то же время о другом, о том, что ход времени не остановить и сын, как правило, когда нибудь да сменяет отца даже на державном престоле, но говорить он этого не стал. — Вот девушки у вашего народа прекрасны, обворожительны, они умны и умеют зажечь кровь… Счастлив народ с такими женщинами!
— Благодарю, ваше высочество, — смиренно понизила голос Машенька, с некоторой, почти неуловимой иронией. — Вы истинный мужчина и рыцарь! Только что же дальше?
— Жить и радоваться, — отозвался он бездумно. — А сейчас позавтракать, стол накрыт. Я весьма проголодался, ты ведь тоже не откажешься? Да, да, дорогая, жить и радоваться! — повторил он. — Туалетная направо, Машенька, там найдешь все необходимое.
Он бодро вскочил, стал натягивать тугие рейтузы, молодо прыгая то на одной, то на другой ноге, что было смешно и необычно, и Машенька Планк гибко опрокинулась на спину и весело захохотала.
Над Петербургом, над дворцами и храмами, над мостами, над седыми водами заливов, бесконечных рек и озер длилась и ширилась белая ночь, смешивая все времена и надежды.
10
Прошло несколько месяцев, и над Петербургом, над Россией, над ее просторами, веселясь и буйствуя, разыгралась русская зима, морозная и снежная, с ее шумными ярмарками и праздниками, свадьбами и крестинами, с волчьим воем и звоном колоколов… Полетели по всем почтовым трактам, накатанным до стеклянного блеска проселочным дорогам розвальни, кибитки, кареты, поставленные на полозья, хотя уже начинали пролегать в просторах России стремительные рельсы, уже неслись, разрывая железной грудью метельные ветра, предрекая неведомые, обвальные перемены, дымные поезда. Они пугали крестьян, и вслед им из лесных глухоманей выли голодные волки.
Машенька Планк, зябко кутая плечи в пуховую шаль, замерла у высокого морозного окна, и в ее глазах уже не теплилось былой любви, — порой ее глаза даже становились жестокими и злыми и в них начинала оживать застарелая ненависть, тайная движущая сила ее вечно страдающего и вечно побеждающего народа. Все было кончено, ее судьба была определена вопреки ее желанию, молодость прошла, она была у нее украдена, и уже ничего не могло измениться. Впереди маячила леденящая волжская пустыня, неведомый дикарь, муж калмыцких или хазарских кровей, и захолустное прозябание, бесконечные серые дни вдали от блистающих столиц, от высшего света, от былых надежд…
И ее глаза вновь диковато и мстительно вспыхнули; еще никто, даже самые близкие люди, не знали, что она увозит в своем чреве новую жизнь, связанную кровью с императорским домом России, и когда нибудь…
Она оборвала себя, не хотела и боялась думать дальше — в своей ненависти еще не перешагнула последнюю черту. Ей послышался знакомый голос, она оглянулась, бледнея; горячая черная волна заструилась перед нею, и она, подняв руки, прикрывая глаза от пугающего темного огня, пошатываясь, сделала несколько шагов и повалилась на диван; голова кружилась, подступала дурнота. Протянув руку, она нащупала шнур сонетки, дернула, и почти тотчас, словно ожидала звонка за дверью, вбежала горничная.
— Душенька, душенька, — слабым голосом сказала Машенька Планк. — Дай мне воды с брусникой… Поскорее, душенька… Господи, как у меня болит голова! — пожаловалась она и тихонько застонала. — За что такое наказание, за что, Господи?
— Вызвать доктора? — спросила горничная, начиная пугаться и жалеть молодую барыню, некстати занемогшую перед самым отъездом в далекую симбирскую губернию, да еще в самый разгар зимы. — Может, папеньку кликнуть?
— Нет, нет, Даша, скорее, пожалуйста, пить, — прошептала Машенька и скоро, сделав несколько глотков прохладной, горьковатой от брусничного сока воды, действительно почувствовала себя лучше. Горничная осторожно подсунула ей под голову небольшую бархатную подушечку, укрыла ноги пледом и посоветовала хоть несколько минут подремать, но едва Машенька, с благодарностью следуя ее совету, успела слегка успокоиться и согреться и ей только только привиделось что то приятное — бескрайняя, ярко блещущая от солнца снежная степь, веселый бодрый морозец, перезвон бубенчиков, как она опять услышала знакомый голос горничной и, открыв глаза, испуганно спросила: — Что?
— Да к вам из дворца, со срочным делом, — сообщила горничная, понижая голос чуть ли не до шепота и делая круглые глаза. — С коробками и цветами…
— Не принимать! — сдавленно, с ненавистью выкрикнула Машенька, порывисто вскочила, и ее исказившееся лицо испугало горничную — она кинулась к туалетному столику с флакончиками, пузырьками, баночками, коробочками, но на полпути была остановлена новым, противоположным приказанием и кинулась обратно. Тем временем Машенька взглянула на себя в зеркало, поправила прическу, кружевной воротник платья и через минуту, опершись на спинку кресла и надменно вскинув красивую голову, слушала молодого доверенного адъютанта великого князя — графа Вильегорского, который и раньше многое устраивал в ее связи с наследником престола. Она хорошо его знала и, давно приказав себе относиться к нему как к слуге, пусть и высокопоставленному, не разрешала себе испытывать от его любезностей неловкости.
— Все? — спросила она с той же надменностью в голосе, когда посланец замолчал.
Адъютант молча поклонился.
— Прощайте, граф, — сказала Машенька. — Я очень признательна за внимание. Прощайте.
— В сафьяновом футляре, мадемуазель, весьма редкостная вещица. Мне поручено обратить на нее ваше внимание. — Адъютант еще раз поклонился, секунду помедлил, ожидая, но Машенька Планк осталась недвижимой, ни один мускул в ее лице не дрогнул, и граф, шевельнув длинными бровями, четко повернулся и вышел, а Машенька в бессильном отчаянии слепо закружилась по комнате; она ожидала какого угодно конца своего затянувшегося романа, только не такого унизительного. Она сбросила роскошный букет роз на пол, закусив губы от ярости, и, снова почувствовав дурноту, опять повалилась на диван и, тяжело дыша, откинув голову на спинку, беззвучно расплакалась. Сидела с открытыми глазами и была необыкновенно хороша в своем гневе и отчаянии; она даже что то шептала, грезя, надеясь на скорое и тяжкое отмщение.
И было видение. В воспаленном мозгу прорезалась и укрепилась, приобретая пугающую реальность, невероятная картина. Развалины древнего города, храм на горе среди необозримого разлива песков, невыносимо жгучий, с космами пламени, диск солнца и гортанный голос, возвещавший об отмщении, непонятный, но волнующий кровь язык; она каким то потаенным шестым чувством понимала этот язык, понимала слова, предрекавшие новые испытания и разрушения, и радовалась.
Она не захотела знать большего, сжала виски, вскочила, и ее глаза остановились на холодноватом сиреневом футляре, одиноко лежавшем на краю овального стола посередине гостиной. Первым неосознанным ее желанием было схватить сразу ставший ненавистным футляр, присланный в унизительную плату за ее падение, бросить на пол и безжалостно растоптать или еще лучше — швырнуть в горящий камин, чтобы и следа не осталось. Скорее всего, она так бы и сделала; но ей послышался чей то предостерегающий голос, и она, замерев, долго держала перед собой сафьяновый продолговатый футляр. Лицо ее постепенно успокоилось, жизнь ведь не кончилась, и нужно было не терять головы.
Она щелкнула золотой застежкой, приподняла крышку и от изумления едва не вскрикнула. В футляре лежала алмазная с сапфирами брошь, с большим, каратов в сто пятьдесят, черным продолговатым бриллиантом в центре, — тут же была и золотая цепочка, своей простотой и изяществом как бы оттеняющая и усиливающая магическую, почти суровую прелесть редчайшего камня.
— Невероятно, — потрясенно прошептала Машенька Планк, — какое редкостное изделие, его можно носить и кулоном… Кто же решится надеть на себя такую вещь? Невероятно, не к добру…
Присмотревшись вторично, она долго не могла оторваться от камня. В ее глаза, в ее мозг сочился таинственный, мрачно ликующий, безраздельно подчиняющий свет вечности, и, пытаясь заслониться, отгородить от него самое дорогое и самое ненавистное в себе, она слабо вскрикнула и осела на пол в беспамятстве. В последний момент все вокруг взялось пропадающим, багровым звоном.
11
Не глядя на Андропова, закурив очередную сигарету, Леонид Ильич с наслаждением затянулся и сказал:
— Странная, право, фантазия. Невероятно, до чего может дойти воспаленный ум! Ну и что? Кому нужна эта несусветная галиматья?
— Пересматривать основы никто, разумеется, не собирается, — сказал Андропов, стараясь говорить отвлеченно и незаинтересованно. — Правда, есть сведения, что актриса Академического театра Ксения Васильевна Дубовицкая ищет возможность упомянутый бриллиант, известный во всем мире, сбыть. Необходимы средства для русистского лжепатриотического кружка. Щелокову это тоже известно…
Сдерживая подступавший гнев, Леонид Ильич, внешне спокойный, встал, прошелся по кабинету, по прежнему не глядя на вставшего вслед за ним Андропова, затем, роняя пепел сигареты на пол, остановился перед главой безопасности, расставив ноги для уверенности и прочности.
— У тебя что, кроме бабьих сплетен, дел важнее нет? Я бы на твоем месте, Юра, очень бы посоветовал некоторым чересчур назойливым следопытам не лезть слишком настырно в чужой огород, — медленно, с особой незнакомой усмешкой произнес он. — Есть ведь и заповедные места, пусть себе подальше от них держатся, пусть уж лучше пишут себе стишки. Неплохо бы им подумать, как уходят за кордоны отечества всякие мерзопакостные, антисоветские пасквили…
— Леонид Ильич…
— Ладно, закончим, — хмуро оборвал глава государства и, не говоря больше ни слова, нажал кнопку вызова.
Часть вторая
1
Всякий большой город, так же, как и человек, имеет и свою изнанку, и свое парадное лицо; Москва подчинялась все тем же извечным правилам, хотя у нее и была своя особенность. От многих других мировых столиц она отличалась большей многослойностью и почти фантастической причудливостью в переплетении самых различных пород и слоев уже в самом своем чреве; двадцатый век вообще породил в русской жизни невероятные образования и ответвления и в самой человеческой сути и породе; чудовищные катаклизмы и смещения, поразившие Российскую империю в последнем веке второго тысячелетия, всяческие ускорения и преобразования, не дававшие российскому обывателю опомниться и оглядеться, тем более в Москве, в городе, все равно жившем по своим глубинным историческим законам, как бы ни пытались управлять процессами жизни различные вожди, и правительства, и партии, — породили не только самые причудливые отношения между людьми, но и новые разновидности самих обывателей, никогда ранее не встречавшиеся. Появились целые элитарные сословия партийных, комсомольских, профсоюзных и прочих руководящих чиновников, все всегда знающих и оттого всегда указывающих, как нужно жить и развиваться целой стране, и все более глухо и недоступно отгораживающихся от остального народа, якобы только и годного на то, чтобы претворять в действительность предначертания и планы верхнего сословия, но в конце концов ничего нового они здесь не открыли. В то же время на другом конце социальной лестницы, и особенно в самой Москве, появились совсем уж невозможные типы. Они, как правило, нигде и никогда не работали, хотя всегда могли прикрыться видимостью работы; они, по всем законам природы, не могли жить, однако они жили, и часто даже неплохо; они не относились к уголовному подполью, всегда имеющему место в любом крупном, уважающем себя городе, тем более в столичном, но именно на этот слой и выпадала важнейшая роль быть своего рода смазкой всего нейтрального поля, в котором и гасились враждебные действия и эмоции двух всегда непримиримых категорий — рожденных властью, защищающей саму власть законов, и противодействующих им сил. Именно на этой, как бы ничьей почве многое из излишеств выравнивалось, перетекало из одного слоя в другой, и это касалось и крупного воровского подполья, всегда, как правило, связанного с самыми заоблачными вершинами власти и даже с более нежными духовными субстанциями; именно в такой ничьей полосе сталкивались и гасились самые непримиримые мировоззрения и идеи, что тоже способствовало снятию напряжения в обществе в целом, снизу доверху, и поэтому такой нейтральный слой оберегали инстинктивно как с той, так и с другой стороны.
Именно по такому поводу часто размышлял, как ни странно, молодой еще человек, по рождению коренной москвич, Сергей Романович Горелов, известный к тому же уголовному миру Москвы под кличкой Горелый, хотя он был своим и в ряде элитарных клубов среди артистов, художников и даже журналистов; никто не знал, где он работал и как жил, но он жил, и даже хорошо жил. И в любой момент мог предъявить безупречные документы и о прописке, и о месте работы, хотя считал себя прежде всего свободным художником, философом, патриотом и даже русским националистом. Как это все совмещалось в нем, он и сам не понимал и не смог бы объяснить; просто он в душе, кажется, с самого своего рождения ненавидел правящую коммунистическую партию и ее безграничную власть глубоко и упорно, и не только потому, что она, как всякая власть, все время пыталась вмешаться в жизнь его и подобных ему людей и довольно круто защищала себя и общество от беззакония и хаоса. И главное, он был идейным противником подобной власти из за ее злодейской изначальной установки на погибель, по его глубокому убеждению, и на перевод русского народа. И поэтому он сам себя преступником и тем более каким нибудь примитивным вором не считал, а был наполнен озарением своей особой исторической миссии. У него по Москве и по ее предместьям было разбросано несколько запасных убежищ, и его везде ждали женщины, и каждая из них почему то была уверена, что она для него единственная и самая дорогая. Очевидно, он обладал даром внушения, а скорее всего брал молодостью, привлекательностью и неутомимостью в любовных утехах. Кроме того, у него почти всегда водились хорошие деньги, и он ни с того ни с сего мог небрежно набросить на плечи любой из своих утушек, как он их называл, добротную шубу или палантин из норки.
Он был высокого роста, стройный и сероглазый, с чистым лицом и мог ввернуть в свою речь немецкое или французское слово; у него за спиной говорили о многом, даже шептались, что у него имеется своя нейтральная зона в столице, которую он, так или иначе, контролирует, что она расположена в пределах Садового кольца с древним Кремлем в центре и досталась ему не так просто, вроде бы его самый упорный соперник был обнаружен в Эрмитажном саду уже окоченевшим, и никто не смог установить причину смерти. Видимых повреждений на теле не было, документов тоже, жил человек и умер, бродягами ныне полнится мир…
И хотя сам Сергей Романович действительно пальцем его не тронул, он никаких слухов опровергать не стал; он просто на следующий день побывал в своем любимом Елоховском соборе и поставил дорогую свечку почти в два фунта весом за упокоение души раба Божьего Егория, известного в вольном московском воровском подполье больше как Прокуда, знаменитого непревзойденной способностью проникать в любую запретную зону, даже если она денно и нощно охранялась с собаками; ну, а замков и любых хитроумных запоров для Прокуды вообще не существовало… И, глядя на желтоватое пламя свечи, Сергей Романович искренне скорбел, пришло время — и прекрасный лик Богородицы затуманился перед ним; Сергей Романович Горелов, впрочем, всегда тайно предпочитавший, несмотря на молодость, чтобы к нему обращались не по дурацкому и досадному прозвищу, а по законному имени отечеству, как только пламя свечи затеплилось, почувствовал свое перемещение на некую более высшую степень благодати, чем до сих пор. И это тоже было немаловажным — осознать свою возросшую значимость в мире. Он еще больше построжел лицом и несколько раз перекрестился.
«Вот и порядок, — думал он, глядя на колеблющееся пламя свечи. — Одна скорбь в мире и одна суета, все бренно и бессмысленно… Но кто же был этот Прокуда? — думал он дальше, и в душе у него сочилась печаль. — Он был один из величайших мастеров своего нелегкого дела — выравнивать баланс жизни и напоминать зазнавшимся и гордым о забытых и обездоленных. А ведь им тоже нужно хоть иногда перехватить кусок хлеба и почувствовать себя равными среди других, среди тех, кому повезло… И где теперь Прокуда? Какого черта он полез не в свою епархию, где он ничего не смыслит? Теперь его уже нет, а все потому, что он тоже возомнил о себе и забыл о том, что на свете все течет и все меняется, и нужно всегда знать свой порог, знать запретную черту и никогда не переступать через нее. Этого никак нельзя делать никому. Жаль, очень жаль, увы, как говорится, тут ничего не поделаешь. Так уж устроено на нашей грешной земле, и не нам сие переделывать».
В широко открытых и грустных глазах Сергея Романовича отражалось пламя свечи, и непонятный свет проникал в него все глубже, к самому сердцу; он ощущал или, скорее, как бы отмечал это трепетное и неодолимое проникновение особым внутренним чувством. Жаль, конечно, жаль, повторял он, многое припоминая. Разумеется, даже у него, закоренелого индивидуалиста и циника, были свои слабости и отступления от правил, и у него были верные люди и подельники, помогавшие ему в особо трудных случаях, когда никак нельзя было обойтись без посторонней помощи, но все это держалось на незыблемом честном слове и железном законе, — в таких делах он был не первым и не последним. Ему становилось все горестнее и неуютнее в мире.
Субботняя атмосфера в этом древнем храме, служба, славящая Господа Бога и взывающая к благоволению в человеках, укрепила дух Сергея Романовича, и остаток вечера он провел в уютном ресторанчике в Эрмитажном саду, за отдельным столиком. В почтительном безмолвии поднял он стопочку, вторую и третью, как это и положено православному человеку, за упокой души новопреставленного раба Божия Егория, отстраненно отметил несколько красивых женских лиц и ночевать отправился за город. А почему, он и сам не знал — просто ему было грустно и странно. Увидев его на пороге, хозяйка стоявшего в глубине глухого, запущенного сада двухэтажного особнячка, находившегося чуть ли не на окраине престижного дачного поселка Восход, даже всплеснула руками от радостного изумления, и ее румяные щеки с задорными, аппетитными ямочками в свете тусклого фонарика над крыльцом заметно разгорелись. Она запахнула ворот шелкового короткого халатика и с готовностью протянула руки.
— Открываешь с первого стука, непуганая… а?
— Ой, Сергуня! Не сказал, не предупредил! Жду, жду, какой месяц жду, а он — вот он! Ой, Господи! Сергуня, проходи! У меня как раз жаркое поспевает.
— Одна?
— А как же? Ах, дорогой мой, я тебя знаю!
Кокетливо засмеявшись, она сильно и порывисто обхватила его за шею и несколько раз жадно поцеловала; он стоял, слегка улыбаясь, позволяя себя ласкать, затем, не выдержав, легко, несмотря на ее вальяжность, подхватил на руки, припал губами к обнаженной шее и, возбуждаясь от теплого запаха женского тела, шагнул через порог. И уже затем, переодетый в просторную, прохладную пижаму, сидя за столом, уставленным дюжиной разнокалиберных бутылок и хрустальных графинчиков, украшенным зажаренным индюком на большом фаянсовом блюде, обложенным моченой антоновкой, Сергей Романович, от природы воздержанный в чрезмерной еде и питье, поинтересовался:
— А что, Вер, неужто для себя одной такого знатного зверя зажарила?
— Один раз живем, подумаешь, — ответила она, и ее подзадоривающий по женски взгляд еще больше развеселил его. — Куда мне беречь? Видишь, дачка какая, вроде ничего себе, квартирка в Москве, тоже все таки трехкомнатная и в самом центре, кое какой прибыток имеется помимо зарплаты. Ты вот вроде обещал расписаться, второй год, дорогой мой Сергуня, жду, а?
— А ты знаешь, Вер, я из трудной командировки, — сообщил он, равнодушно позевывая, хотя в голосе у него и появилась вкрадчивая, чуть напряженная хрипотца; хозяйка чутко ее уловила, отпила из своего бокала и слегка прищурилась.
— Я уж не спрашиваю, в каких краях, все равно ведь не скажешь…
— С недельку у тебя отдохну, — сообщил он. — Смотри, если кто сидит в закутке, не выдержит…
— Ой, дурной, — радостно восхитилась Вера. — Да после тебя какой же мне бес нужен? Ждала подружку, собиралась прийти посоветоваться. Ты ее не знаешь, с братом у нее несчастье. У них на другом конце улицы дача, ты ведь даже не представляешь, какой у нас поселок. Одни знаменитости!
— Знаю и представляю, — не согласился он. — Очень нравится мне ваш поселок, кстати сказать.
— Еще бы, — простодушно протянула Вера и опять отпила из бокала. — Все академики да народные артисты, вон почти рядом дача Игнатова Нила Степановича, он еще с отцом дружил, каждый вечер ходили друг к другу в преферанс играть, пока отец был жив. Бывало, засядут под выходной на всю ночь, дым коромыслом! Я им коньячок подавала — такие крошечные рюмочки… Наша домработница Нюся всегда под выходной уезжала к себе в Москву…
— Ишь ты! Неплохо, домработница Нюся… а? Подожди, Вер, — остановил Сергей Романович хотевшую что то сказать хозяйку. — Ну что ты перескакиваешь с одного на другое, с Питера на Полтаву? Ты же о подруге начала.
— А что подруга? Да а… Анастасия… Да ты знаешь, я уже немножко расслабилась от радости. От радости, Сергуня! — уточнила она и указала на свой пустой бокал. — Налей, налей, Сергуня… Привыкла я при отце к хорошим винам… Спасибо, милый, спасибо. — Она подняла вновь наполненный бокал, полюбовалась на свет рубиново нежной игрой старого вина и со вздохом поставила перед собой. — Так вот, Анастасия Павловна Голикова, по мужу потом мадам Монастырская. Мы с ней с дури в геологический поступили, знаешь, время такое было, наслушались разной чепухи… Закончили вместе и только потом образумились, поняли, что мы всего лишь бабы и что не нужна нам эта дикая романтика…
— Ради Бога, Вер, вернись к истокам! — опять остановил ее Сергеи Романович. — Мы так до жареного индюка и через неделю не доберемся!
— Ну, Сергуня, прости, от радости, ей Бо гу! — засмеялась Вера. — Родители и у меня, и у нее оказались на высоте, сам знаешь, на жизнь хватало, не жаловались…
— Вера…
— Все, все, дорогой мой и желанный! Выскочила она замуж за товарища брата, да всего года два и пожила, оба они с ее старшим братом были физиками, работали на каком то секретном деле, номерной город, закрытые программы. Где то на Урале. И муж ее в одночасье, говорит, сгорел, месяц — и готово! А как они любили друг друга, прямо без памяти… Она была на грани безумия, руки на себя хотела наложить.
— Какое потрясающее благородство!
— А ты не ерничай, Сергуня! — обиделась Вера. — Вы, мужики, только по себе и судите, нехорошо.
— Перестань, я же вполне серьезно, с полным пониманием…
— Как же, с пониманием! Все вы, мужики, циники и распутники. Недаром я со своим первым не могла ужиться… хотя подожди, я тебе самого главного не сказала. Брат то у Анастасии после этого, как у них там что то стряслось, рвануло, что ли, ну, крыша у него поехала. Вначале, говорит, исчез куда то, все бросил, жену, сына, и прощай! Два или три года искали по всему свету, думали даже, что выкрали его, за границу умыкнули. Анастасия все в этой закрытой зоне на Урале бросила, сюда перебралась, на отцовское пепелище. Хорошо, в свое время хоть не продала, а хотела ведь. А кто отсоветовал? Да я и отсоветовала… Ты что, говорю, совсем уже от своей любви спятила? Такую домину, в таком престижном месте? А дети пойдут, им что, кукиш с маслом?
— Слушай, Вера, не тараторь. Ты говоришь, старший брат? А что, был еще кто то?
— Конечно, неужели непонятно? Еще младший был, тоже по ученой части, тоже закрытый, о нем даже Анастасия молчит, совсем уж какой то секретный. Вот я и говорю ей теперь, ну, говорю, кто был прав, подруженька?
Сергей Романович перехватил бутылку из рук Веры, хотевшей вновь наполнить свой бокал, и отставил ее подальше.
— Вот я и говорю, — продолжала хозяйка, как то странно усмехнувшись, с остановившимся взглядом, — всякое бывает. С неделю тому назад старший братец у Анастасии и объявился. Вечером, говорит, кто то скребется в окошко на кухне, в темный сад окошко выходит. Занавеску, говорит, тихонько отдернула и обомлела. Он, он! Слышь, Сергуня, Бога он все это время, говорит, искал, всю, говорит, страну обошел, странником стал… а? Жутко. Ты что, Сергуня, а?
Ее остановил пристальный незнакомый взгляд.
— Нашел? — спросил Сергей Романович.
— Что? — удивилась уже забывшая о своих предыдущих словах разомлевшая хозяйка. — Чего такое нашел?
— Ну, Бога то, нашел?
Вера озадаченно промолчала, затем залилась смехом.
— Да зачем тебе знать, нашел или нет? Давай ка я баньку истоплю, вымою тебя, выскоблю до хруста…
— Зачем, говоришь? — остановил ее Сергей Романович, и в его лице проступила романтическая грусть, даже голос как то переменился, стал задумчивым и вопрошающим. — Ты вот думала когда нибудь, зачем человек на земле живет?
— Для любви, Сергуня, думать нечего, все до нас решено.
— Вот уж в чем я не уверен, так это в твоей бабьей философии, — усмехнулся он. — Нет, Вера, у человека другое предназначение на земле. Явиться из тумана, достичь своего солнца и сгореть в нем. Вот к чему стремится каждый истинный мужчина. Запомни и гордись…
— Что то больно мудрено для меня, — вздохнула она нетерпеливо. — Со мной вон уже сколько мужика не было, месяцев пять! После тебя никак не могу, не один набивался, не могу, и все… А ты.может, коньячку рюмочку?
Теперь и Сергей Романович коротко усмехнулся, польщенный и возбужденный ее явным нетерпением, придвинулся к ней, обнял, прижал к себе, и она, возбуждаясь от его властных и жадных рук, тяжело потянула его вниз, на толстый текинский ковер. А затем, придя в себя и несколько успокоившись, они долго вместе плескались в просторной ванне, но уже за столом, лениво и ублаготворенно вновь потягивая в меру терпкое вино, Сергей Романович как то, словно между прочим, обронил:
— Знаешь, Вер, ты сделай, чтобы мне встретиться с этим странником… так, незаметно как нибудь, как ты умеешь…
— Серьезно или шутишь? Ничего не пойму…
— Сам не знаю, — так же искренне ответил Сергей Романович. — Я ведь тоже по своему бродяжка — командировки, командировки, нынче здесь, завтра там, а без этого вроде и жизни нет, привык… Без дороги не могу. А если он, странник чудный, что то такое особое знает и мне скажет? Избавлюсь от своего зуда, и заживем с тобой припеваючи, буду клубничку растить, глядишь, дите проклюнется, знаешь, этакий белоголовый постреленок, глазенки быстрые, знай лепечет себе — мама, папа… а? Недурно, Вер? Ты вон еще какая молодка, кровь с перцем, такого себе парня отгрохаем или дочурку, ласковую ласковую шалунью, в косичках розовые бантики… а?
— Господи, — потянулась к нему Вера, припала к груди и неожиданно потрясенно и счастливо расплакалась, уткнувшись в широкую теплую грудь — терлась о нее щекой и носом и ревела.
Он поднял ее голову, взглянул в глаза.
— Ты чего, Вер?
— Ох, хочу, чтоб так было, — призналась она и разрыдалась с новой силой, а когда несколько успокоилась, подняла покрасневшие глаза, улыбнулась сквозь еще не просохшие слезы.
— Вер, да ей Богу…
— Ладно, врешь ты все… а это так, бабье, не отнимешь. Я и без того счастливая, Сергуня, ничего мне больше не надо, лишь бы ты был на белом свете и чтобы я всегда это знала. — Она подняла голову, вновь заставив себя улыбнуться. — А того, что ты наговорил, ничего не будет…
— Будет! — заупрямился Сергей Романович, и в его голосе прорезалось нечто незнакомое и далекое. — Захочу, и будет.
Она потянулась к бокалу с вином, возражать больше было нельзя, она слишком хорошо его знала.
— Ну, ладно, как знаешь, Сергуня. Вот только к этому страннику ходить не надо, говорят, он стал провидцем, насквозь человека видит и всю его судьбу наперед знает. Зачем? Страшно.
С бережной улыбкой поглаживая ее плечи, Сергей Романович в то же время властно отстранил ее от себя, и она поняла, что все ее слова и уговоры будут напрасны; может быть, она и любила его за эту его непонятную силу, подчиняющую себе без слов, и за эту свою сладкую бабью покорность. Ей сейчас уже и говорить больше не хотелось, только быть с ним рядом, глядеть на него и не терять ни одной секунды этого счастья — ведь она прекрасно знала, что оно долго не продлится и в любую минуту может оборваться. Так уже случалось не раз. Но и спать не хотелось, и она стала рассказывать о последних дачных пересудах, о том, что знаменитая певица Зыбкина, лет десять назад купившая у них в поселке дачу, расширила ее, надстроила второй этаж и превратила его в концертный зал, ей даже лифт соорудили — подниматься на второй этаж.
Сергей Романович одобрительно сощурился.
— Размах… Живут люди! Откуда такие деньги?
— Да что ты, Сергуня, — поспешила порадовать его хозяйка. — Да у нее шуры муры с самим Косыгиным.
— Вот чепуха, — подзадоривающе усмехнулся Сергей Романович, слегка хмурясь. — Так уж и с самим Косыгиным… А может, и с самим Леонидом Ильичом?
— Ничего особенного, старичку тоже хочется погреться. Баба то вон какая роскошная, грузины на ее концертах только одно просят: ты, Дуня, говорят, не пой, не можешь больше — и не надо, ты, говорят, только ходы, ходы, туда обратно ходы. Дай только полюбоваться, как ты ходыть будышь… Вот уж повезло бабе, голосище Бог отвалил — орган. И ничего тебе больше не надо. Ходи себе да ходи туда обратно. Говорят, на свои концерты она одних бриллиантов цепляет на себя миллиона на полтора. А шуба? Голубой соболь — весь переливается. Я как то раз увидела, идет по поселку…
— Вера, — остановил ее Сергей Романович. — Голубого соболя не существует в природе, уж я-то знаю.
— Для таких, как она, все существует, — не согласилась Вера и даже обиделась. — По специальному правительственному заданию такого зверя вывели в инкубаторе. Долго ли…
Они взглянули друг на друга и засмеялись.
И уже на следующей неделе, сбегав к подруге Анастасии на разведку, Вера привела к ней вечером Сергея Романовича, предупредив его, что отыскавшийся получокнутый старший брат подруги болеет, но собирается и готовится в новые странствия и может совсем не выйти к ужину, так и просидит в своей боковушке, где он зарылся в старинные церковные книги, непрерывно что то пишет, а затем сжигает в камине в столовой. И ни с кем, даже с родной сестричкой, почти не общается, и, пожалуй, лучше не ходить. Но Сергей Романович уже загорелся каким то своим особым интересом, и в условленный час они были у Анастасии, молодой, приятной и сразу расположившей Сергея Романовича к себе женщины, отличавшейся от своей шумной и говорливой подруги какой то грустинкой. Она и смотрела, и двигалась, и слушала, и даже разговаривала все с той же одинаковой, как бы слегка извиняющейся, рассеянной полуулыбкой — от этого в ней проступало много детского и беспомощного.
2
Сергей Романович принес темно багровую — специально смотался в Москву на грузинский рынок — и устрашающей величины самаркандскую дыню, кроме того, лично хозяйке розы и флакон дорогих французских духов. И Анастасия, беспомощно подняв на него прозрачные глаза, окончательно смутилась и потерялась.
— Зачем же? Это я не могу взять, — слабо запротестовала она. — Так дорого… нет, нет… Как же так? Вера…
— Ну, Тася, не будь ты ребенком, не разорится! — заулыбалась, тормоша и целуя подругу, Вера. — Не обеднеет наш Сергей Романович, ему только приятно будет. Ты знаешь, что он мне подарил? — Она быстро, все с той же радостной улыбкой шепнула на ухо Анастасии что то о восьми с половиною каратах. У той еще больше округлились глаза, и она, еле скрывая свое истинное отношение к услышанному, стала извиняться, что сегодня у нее к ужину лишь пельмени да овощи, даже вина не смогла купить, некогда было до палатки добежать.
— И не надо, — беспечно отозвалась Вера. — Сергей Романович вина не пьет, уважает что покрепче, а нам с тобой есть, прихватила с собой бутылочку грузинской «хванчкарушки» — нам хватит. С дынею — прелесть! Да я на стол сразу и поставлю, — сказала она, оглядываясь на свою сумку, брошенную у двери. — Сергуня, достань, пожалуйста…
— С удовольствием, — с готовностью кивнул Сергей Романович, достал вино и коньяк из сумки, поставил на стол и, оглядывая его нехитрое убранство, как всякий здоровый молодой оптимист, потирая с удовольствием руки, улыбнулся каким то своим мыслям, в то же время не упуская из виду и хозяйку, бережно подрезавшую стебли роз, прежде чем поставить их в вазу.
Анастасия понравилась ему сразу, да и полузапущенный, начинавший приходить в упадок дом тоже, картины на стенах гостиной в темных старых рамах усиливали впечатление тишины и оторванности от шумного, неспокойного мира, и ему совсем некстати вспомнилось нечто далекое и нежное, собственное детство. Вот такая же старая дача, умирающий дед, его понимающие глаза и напутственные слова о какой то непонятной обязанности каждого родившегося не профукать жизнь. «Сереженька, слышишь, ты уже не ребенок, ты уже на девочек начинаешь поглядывать, — почти физически ясно прозвучало в ушах Сергея Романовича. — Ты смотри, обязательно иди в университет, тебя примут, у тебя отец и дед заслуженные перед отечеством… ты все наше продолжить обязан…»
«Ну вот — обязан… Почему я был обязан? — подумал Сергей Романович, словно обращаясь к кому то незримому, но явно присутствующему рядом. — И что такое отечество? Ну, был и университет, был даже диплом, была и какая то обвальная страсть, чего не наблюдалось, судя по свидетельствам живых, ни у деда, ни у отца, и все рухнуло. Что такое отечество? Товарищ Хрущев и товарищ Брежнев? Кому они товарищи — уж не ему ли самому? Или отечество вот эти милые, тоскующие по своему простому бабьему счастью женщины? Да и с какой стати лезет в голову подобная дребедень? Что случилось? Что за незапланированный душевный стриптиз?»
Словно пробуждаясь, он браво тряхнул головой, шагнул к женщинам, о чем то вполголоса совещавшимся у стола, и спросил:
— Милые дамы, а вы не слышали последнего анекдота о трех богатырях? Про товарищей Сталина, Хрущева и Брежнева? Как они в одном купе следовали на отдых, разумеется, заслуженный, к теплому синему морю?
— Только не очень уж похабный, — улыбаясь, попросила Вера. — Здесь дом чистый, похабщины не переносят, заранее ставлю в известность. Так, Тася?
— Зачем же, анекдот вполне патриотический и добропорядочный, — весело заверил Сергей Романович, становясь похожим на задиристого мальчишку. — Здесь дело серьезное, такого ранга деятели шутить не любят. Все как положено в высшем обществе, едут они себе, разговаривают, потягивают потихоньку армянский коньячок, вспоминают минувшие дни, и вдруг толчок! Все подпрыгнуло, зашаталось, поезд тычком останавливается — даже бутылки поопрокидывались, Никите Сергеевичу на колени пролилось. Прибегает испуганный комендант, докладывает: путь, мол, разобран на двести метров, уже, мол, вызваны ремонтники, через час другой поедем… Конечно, некоторое недовольство, из купе выбегает Никита Сергеевич, довольно скоро возвращается, хитренько потирая руки, и сообщает, что теперь все в порядке, в обход поврежденному участку прокладывается объездной путь, и через сутки другие тронемся, мол, дальше. Сталин покосился на него, пососал свою трубочку, прищурился, сказал «Кхе, кхе», сунул в карман свой чубучок и вышел. Через минуту другую появляется снова. А ну, говорит, джигиты, выпьем, все в порядке, через полчаса поедем. Никита Сергеевич даже подскочил: что, как, почему? Да ничего особенного, говорит, поглаживая усы, Иосиф Виссарионович, все весьма рационально и просто — все, начиная от начальника дороги и до машиниста, расстреляны, через несколько минут закончат остальные формальности, назначения и перемещения, и тронемся. Брежнев послушал послушал, засмеялся, встал, опустил на окне штору и пригласил всех к столу — выпить по настоящему. И опять: что, как? По какой такой причине? А Леонид Ильич поднимает палец, тише, мол! Вы что, говорит, не слышите, мы уже едем…
— Ну, Сергуня, что то я ничего не поняла! — чистосердечно призналась Вера. — Давай лучше за стол, все готово. Тася, можно? Что время тянуть. Вот только надо нашего отшельника пригласить, так хочется по старой дружбе с ним поболтать…
— Конечно, конечно, — поддержал Сергей Романович. — Не все же мозги себе сушить…
— Не знаю, вряд ли он согласится, я же тебя, Вера, предупреждала, ему нездоровится. Пугает он меня последнее время все больше…
— Перестань, ты что, забыла, он в свое время за мной даже ухаживал! Помнишь…
— Вот оно где собака зарыта, — повернулся к ней Сергей Романович. — А я-то гадаю, почему она рвется сюда: подруженька, подруженька, мол…
— Что ж, Сергуня, вспоминать времена царя Гороха! Что ж ты думаешь, до тебя и свету Божьего не было? Мы с Тасей с ползунковой поры вместе, вспомнить страшно, сколько… ой!
И здесь все сразу замолчали и повернулись: недалеко от камина, у двери, ведущей в соседнюю комнату, стоял высокий и худой человек, в чем то неуловимо похожий на Анастасию и в то же время какой то совершенно отъединенный от всего, что его окружало. Он просто стоял и смотрел перед собой, и было такое чувство, что он стоял здесь всегда, только раньше его почему то никто не видел и не замечал; мешковатый, явно великоватый для него пиджак старого покроя, с поднятыми плечами, еще больше увеличивал странное чувство его оторванности от всего окружающего. Сергея Романовича сразу же поразили его огромные, почти в пол лица, тихие глаза.
«Он, пожалуй, слепой, бедняга странник! — невольно подумал Сергей Романович. — Какое, однако, странное, нездешнее лицо, он и в самом деле никого не видит и не слышит, он ведь не живой и пребывает не здесь… Вот глупая баба, нашла, кем восторгаться…»
И тут же ему стало неловко и неуютно, а в следующий миг ощутимый холодок появился в груди — Сергей Романович понял, что странный и тихий человек, возникший как бы из ничего, знает о нем абсолютно все и что он и вышел из своего укрытия только потому, чтобы молча сказать это, а затем опять растаять в сумраке у камина. Но это была, действительно, всего лишь какая то провальная минута, затем все сразу и оборвалось, Вера порывисто и торопливо тотчас шагнула к Арсению.
— Боже, Сеня! — радостно воскликнула она. — Как же я давно тебя не видела! Сеня…
Почти неуловимым жестом остановив ее, он слегка поклонился.
— Боже, как я рада, что ты дома! — опять заговорила Вера. — Не знаю даже, как я тебе обрадовалась… Как время летит! Когда то Арсюшей звали, Сеней, Сенечкой, а теперь, пожалуй, и Арсением Павловичем надо, а, Сеня? Можно я тебя поцелую?
— Что ты спрашиваешь, Вера, взяла и поцеловала! — решительно вмешалась Анастасия, и лицо ее как то преобразилось, осветилось изнутри. — Вы же почти родные с детства…
— И правда, вот еще! Никогда за мной такого не водилось, какая то нерешительная стала! — пожаловалась неизвестно кому Вера, шагнула вперед, хотела было обнять Арсения за плечи, сробела и, только слегка прижавшись к нему, тотчас вновь отступила.
— Я тоже рад увидеть тебя, Верочка, — ровно сказал Арсений и перекрестил ее. — А молодой человек с тобой?
— Конечно, Сеня, познакомься — Сергуня, Сергей Романович, — заторопилась Вера, приглашая своего примолкшего спутника подойти ближе.
— Муж, Верочка?
После недолгой паузы Вера быстро глянула.
— Пока еще по всяким там бюрократическим канонам — нет, а перед Господом Богом — да, и давно…
— Давно — это хорошо, — так же ровно уронил Арсений, и мужчины поздоровались. Все сели за стол, и прежде, чем взять нож и вилку, Арсений перекрестился, затем перекрестил стол; сам он почти ничего не ел и не пил, положил себе на тарелку немного овощного салата и, не дождавшись дыни, налил стакан чаю и без единого слова удалился.
Оставшиеся переглянулись, Сергей Романович придвинул к себе блюдо с дыней и, вооружившись ножом, стал над ней колдовать, время от времени оглядываясь на дверь, за которой скрылся Арсений, так и не ответивший ни на одну из попыток завязать с ним разговор. Женщины в это время, понизив голоса, стали обсуждать что то свое, сугубо бабье.
— А можно я ему дыньки отнесу? — спросил Сергей Романович, поднимая глаза на Анастасию и указывая на тарелку с сочными, щедро нарезанными, дразняще душистыми ломтями. — А вы пока пошепчитесь…
— Пусть идет, — решила Вера и за себя, и за подругу. — Не бойся, Тася, ничего плохого не будет, Сергуня у меня умный. Любого к себе расположить может.
Поощрительно улыбнувшись на комплимент и успокоительно кивнув женщинам, Сергей Романович подошел к двери в комнату Арсения и тихонько стукнул. Ответа не последовало, он помедлил, толкнул дверь и вошел. Хозяин сидел на низком широком диване, устремив ровный взгляд на непрошеного гостя; в его облике появилось нечто новое, казалось, он был даже рассержен, и Сергей Романович, едва шагнув за порог, словно за что то невидимое запнулся и переступил с ноги на ногу.
— Можно, Арсений Павлович?
— Но вы уже вошли.
— Простите, пожалуйста, если некстати, если вы не в настроении…
— Вы же пришли увидеть меня, при чем здесь мое настроение? — услышал Сергей Романович все тот же ровный голос и заставил себя двинуться дальше.
— Я подумал…
— Поставьте тарелку на столик, вот сюда… Садитесь.
«Что за черт! — вновь в который раз за этот вечер растерялся Сергей Романович. — Ноги отказывают, словно ватные… Так не годится. Или Верка за ночь так вымотала, ненасытная баба… А ну — вперед! Вперед…»
— Ну вот и прекрасно, устраивайтесь поудобнее.
На этот раз голос хозяина прозвучал мягче. Сергей Романович почувствовал, как схлынуло напряжение, и опустился на низкий, покойный диванчик, только на другом его конце. «О чем нам говорить? — спросил он сам у себя с легкой насмешкой. — Что у нас общего? У него своя жизнь, у меня своя, нам никогда не сойтись и не понять друг друга, каждый в этом мире сходит с ума по своему, вот только почему мне хорошо и покойно рядом? Верка что то говорила, вроде того что он явно сдвинутый. Как же так — крупный ученый, вроде что то там открыл, нечто такое, от чего сам пришел в бессмысленность, затем все прежнее забыл и отринул… Несколько лет отыскивал сам себя, надо думать, отыскал нечто совсем другое, так всегда бывает. Что же он такое отыскал? Что нового можно отыскать в дряхлом, прогнившем до самых сокровенных глубин мире, среди тупого и жадного стада, дико несущегося в никуда? В чем смысл? Да и какое тебе дело, подпольному человеку, а по сути, просто удачливому пока — тьфу! тьфу! — московскому вору, вбившему себе в голову всякую благородную чушь, до какого то нелепого и несуществующего смысла? Ведь в самом себе все равно уже ничего не изменить, ты сам этого боишься и не захочешь. Да и зачем тебе такие завиралистые фантомы — Россия, русский человек, русский путь? Гнилое университетское наследие? Зачем?»
— Да, пожалуй, что и так, — услышал он неожиданно какой то тихий и далекий голос хозяина, продолжавшего сидеть на том же диванчике, только в другом его углу, хотя голос шел откуда то словно со стороны, и с трудом удержался, чтобы не оглянуться.
— Простите, я не ослышался, вы что то сказали?
— Ничего особенного, — спокойно подтвердил хозяин. — Вы слишком ушли в себя, в гордыню. Обретение собственной души и есть вечный подвиг во тьме. А обрести ее, свою душу, можно только в других, иной дороги не существует. И что ж твой путь, Сергей Романович? Прости, я уж по русски прямо, не обижайся. Мы, я полагаю, из одного времени.
— А мне кажется, Арсений Павлович, ты ведешь какую то запутанную игру, — не остался в долгу гость, и на лице у него появилась усмешка, но он тут же стер ее. — Женщин ты можешь морочить, а мне и не такое приходилось встречать…
— Тебе плохо, только не там и не в том ищешь облегчения, — не опустил просветлевших глаз хозяин. — И не так ищешь…
— А как же надо? Подскажешь?
— Нет, не подскажу. Каждый должен пройти свой путь. Не отчаиваться, а идти.
— Идти — куда? — с досадой уронил Сергей Романович. — Говорят, ты вот давно ходишь, ищешь… Нашел?
— Нашел…
— В чем же этот твой Бог?
— Я тебе уже сказал — в обретении души своей, человек, — не сразу ответил как бы потяжелевший и еще более отодвинувшийся хозяин, но в то же время в его облике, в лице, в глазах проступила ощутимая теплота, скорее похожая на жалость, и эта обидная и неприемлемая для гордого и строптивого гостя жалость все усиливалась. — Что я могу еще сказать? Да ты и не веришь, вон в душе у тебя издевочка, такая циничная, разрушающая тебя мысль — вот, мол, лучше и чище других себя считает, выше меня, такого удачливого и красивого, выше своей сестры, вот и еще один учитель и пророк, а мир все там же, не продвинулся ни на йоту к добру и свету, не говоря уж о совести…
— Я, Арсений Павлович…
— Подожди, подожди, — с неожиданной страстностью, повелительно и властно остановил гостя хозяин, и Сергея Романовича словно что то физически ощутимо приковало к месту; он осознал этот странный толчок даже не своим острым извращенным умом, ищущим неизвестно что, а скорее каким то темным подпольным чутьем, и не в первый раз за последние полчаса тайно изумился происходящему и затих. — Вот и хорошо, — продолжал между тем хозяин. — Иногда надо и помолчать, послушать. Ты ведь пришел не для того, чтобы покаяться и очиститься, а чтобы еще больше утвердиться в своем тайном блуждании. Вот, мол, и еще один обломился, искал, искал, все, кажется, швырнул под ноги, все самое дорогое в грязь под ноги себе швырнул в желании возвыситься над другими, ну и что? Зачем? В пустоте, мол, ничего нельзя отыскать, вот и еще одно поражение. Вернулся с поджатым хвостом, как побитая дворняжка, возомнившая себя царем зверей… Вот пойду и взгляну на него. Получу подтверждение, что ничего другого, кроме права кулака и силы, нет в мире, и мне окончательно станет легко и свободно. Вот ты с этим своим убогим богатством пришел, пытаешься даже здесь оказаться сверху. Далеко тебе, человек, до истинного света и спокойствия души.
— А разве не так, не так? — почти выкрикнул, с трудом обретая голос, Сергей Романович, прорывая сковывающее его волю странное оцепенение души и сознания. — Разве ты не вернулся после своих поисков опустошенный и поверженный? Разве на старые места, находя что либо, возвращаются?
— Непременно. Нужно же окончательно освободиться от прошлого, предать его тлену и забвению, — сказал хозяин кому то далекому, неведомому, только не своему назойливому гостю, и отсутствующе выпрямился. — У меня еще несколько остановок на земле, где я должен побывать и стереть старые следы.
— Что же тогда останется от тебя на земле? — втайне замирая от острого, почти убивающего чувства постижения, тихо спросил гость.
— Не останется никаких вредоносных шлаков, вот главное, — ответил хозяин, не раздумывая, и от его глубокого, пронизывающего, не отпускающего ни на мгновение взгляда у Сергея Романовича зазвенело в висках, и он ясно ощутил непреодолимую границу между собою и своим новым знакомым, все более влекущим к себе человеком, ощутил и то, что разделявшую их черту ни тому, ни другому не дано было переступить.
Сергей Романович не привык оставаться побежденным и вызывающе оскалился, пытаясь изобразить улыбку, но и это не спасло.
— Может быть, отведаешь? — чувствуя свое поражение, спросил он, кивнув на сочившиеся сладким соком ломти дыни.
Хозяин встал, принес две тарелки и ножи и, попробовав дыню, похвалил:
— Много, много солнца — чистая энергия, Божий дар… Спасибо.
— Скажи, — вновь качнулся к нему Сергей Романович, и в глазах у него прорезалась тоска. — Скажи, правда ли, что ты провидишь судьбу человеческую? Может, ты будешь так добр, скажешь что нибудь и мне?
Хозяин положил нож, отодвинул тарелку с почти не тронутым ломтем дыни подальше в тень.
— Вот уж эти женщины, — пробормотал он недовольно. — Что от них ожидать? Слишком эмоциональны от природы, воображение примитивно и мало изменилось с доисторических времен. Слушать приятно, но верить им… Даю тебе добрый совет, человек: никогда не интересуйся своей судьбой, да и кто может провидеть сквозь мрак? Чепуха, никому не верь. Ты идешь своим путем, вот и не всматривайся в горизонты. За ними другая жизнь, в нее ты уже не успеешь. Мне почему то нравится, что ты так и не вышел из детского возраста, хотя и позволяешь себе далеко не детские шалости, дорогой мой Сергей Романович. — Хозяин говорил, а его гость, внутренне пытаясь сопротивляться, не мог, и словно тонул в мягко обволакивающем сознание и растворяющем в себе голосе. — Я тебе одно могу сказать: когда придет твой невыносимый срок, позови. Я приду, я тебе обещаю, приду, где бы ты ни был. Теперь же…
— Я никогда никого не позову! — с неожиданной ненавистью крикнул Сергей Романович и задохнулся — крик застрял у него в груди, в горле, и само тело пропало, и не осталось ни рук, ни ног, и только горели перед ним в разреженной тьме неудержимо втягивающие в себя бездонные точки, и, как он ни сопротивлялся, пересилить и оторваться от сковывающей его силы не мог. Он даже и возмутиться не мог, он лишь осознавал, что эти бездонные точки — зрачки сидящего рядом человека, превратившиеся в какую то непреодолимо пронизывающую волю, и в то же время он словно видел себя со стороны — сидел жалкий, нелепый, скованный и лишенный возможности шевельнуться.
И тогда он попытался возмутиться и восстать, и вновь пригрозил никого и никогда в жизни не звать и не жаловаться, и хотел рассмеяться в лицо своему мучителю. И опять ничего не получилось, лишь что то слабо и далеко звякнуло — нож, которым он резал мякоть дыни, выпал из его судорожно сведенных пальцев.
И другой, мучительно знакомый голос позвал его из серой холодной тьмы, сразу же пробуждая второй, тайный, дремавший в нем до сих пор жизненный состав; этот другой голос иногда звучал в его снах, но он никогда раньше не мог вспомнить его, а вот теперь вспомнил, и по телу счастливой волной прокатилась дрожь.
«Мама, — сказал он. — Зачем ты здесь? Зачем ты пришла?»
«Опомнись, Сережа, что ты говоришь? — с некоторой обидой отозвалась она. — Сам меня звал, как же иначе?»
«Где же ты, я тебя не вижу, — пожаловался он, всматриваясь в плавающий вокруг редкий туман. — Почему ты не хочешь подойти? У меня так горит голова, помоги мне… Я слепну, Боже мой, какой мрак…»
«Здесь я, Сереженька, здесь, — вновь торопливо отозвалась она. — Ты меня чувствуешь, это главное… вот моя ладонь… Боже, какой у тебя жар! Потерпи, сейчас станет легче… ну, ну, еще немного… легче, да? Вот и хорошо. А увидеть меня нельзя, ты успокойся. Время проскочит, и не заметишь, что такое три года?»
«О чем ты? Почему три года? — рванулся он, по прежнему не в состоянии сдвинуться с места, и затем, начиная понимать и пытаясь прервать свой цепенящий бред, как бывало и прежде в тягостных снах, заставил себя открыть глаза. — И ты так спокойно об этом говоришь? — с горечью пожаловался он. — А я тебя так всегда жду…»
«Не бойся, сынок, — услышал он все тот же родной, проникающий в сердце голос и внезапно, как боль, вновь почувствовал прикосновение узкой и теплой ладони к своей щеке. — Не я выбирала твою судьбу, я бы десять раз отдала жизнь, чтобы только с тобой было по другому…»
«Тяжко, мама…»
«Ты мужчина, так тебе выпало, у каждого свой крест, а твой, оглянись, особо тяжелый. Так надо, только не бойся. Жаль вот, на тебе замкнется цепь… Я так любила твоего отца… Ничего, ты всегда хотел быть первым, а стать им не мог… Ты никогда не понимал одного: первых не бывает, не может быть, первые всегда самые последние и самые несчастные…»
«Боже мой, ты говоришь страшные вещи, мама…»
«Молчи, Сереженька. В последний момент тебе будет оказана сомнительная честь достигнуть своего, и ты сам постигнешь тяжкую истину. Это будет и прощением за содеянное тобой. Так уж повелось, абсолютно за все приходится платить. Пора, Сереженька, прости…»
«Погоди, разве ты совсем ничего не чувствуешь? Скажи еще что нибудь… Помнишь сказку? Я болел, мне было лет пять или шесть, я, кажется, чуть даже не умер. Ты рассказывала про белых лебедей, помнишь?»
«Один из них был розовым, с короной на голове, да, да, хорошо помню… Только ты, Сереженька, ничего не бойся, всего один шаг, один момент, и страх уйдет, кончится…»
Голос матери стал отдаляться и совсем наконец затих.
Испытывая ни с чем не сравнимое чувство нежности и просветления, Сергей Романович навзрыд расплакался, долго не мог остановить счастливых детских слез и в предвкушении такого же радостного таинства пробуждения не сразу открыл глаза, — медленно, с нарастающим недоумением, он осмотрелся.
Он не помнил, как попал в эту узкую небольшую комнату с пыльной тусклой люстрой под потолком; он был один, сидел, вжавшись в угол дивана, и на столике перед ним на тарелке лежало несколько ломтей переспевшей южной дыни. И тогда, сразу вспомнив, он коротко вздохнул. Три года, конечно, не ахти что, а все таки не завтра, не через неделю, за три года много воды утечет, целая жизнь. Почему бы и не сплясать от радости?
Из за неплотно прикрытой двери в гостиную пробивался свет и доносились негромкие голоса. Он узнал голос хозяйки, прислушался. Чему то весело смеялась Вера, — он даже обиделся, правда, теперь уже по другому. Черт знает до чего он достукался, засиделся у бабы под подолом, поверил трепотне о святых странниках и провидцах, вот и дождался.
В приливе злости он сорвался с дивана, толкнул дверь и увидел женщин, что то оживленно и заинтересованно обсуждавших. Подруги разом посмотрели на него; очевидно, они говорили о чем то очень интимном и по женски очень откровенно — их лица были мило невинны и грешно непосредственны. И Сергей Романович тоже заговорщицки, с удовлетворением, подмигнул. Это и была жизнь, в другой он не нуждался.
— Не пора ли нам, Вера? — спросил он. — Давайте все вместе походим, погуляем, погода чудесная, тишина, звезды…
— Ой, Сергуня, погоди минуточку, нам договорить надо! — попросила Вера. — Понравился тебе наш отшельник? Хорошо пообщались?
— Лучше не придумаешь, мы с ним друзьями стали, — с подчеркнутой значительностью сообщил Сергей Романович и, подойдя к столу и окинув его взглядом, наполнил бокалы. — Выпить надо, такое редко случается в наши времена… Я рад, рад!
— И мы рады, счастливы! Правда ведь, Тасенька? — подхватила Вера и, взяв свой бокал, подошла к Сергею Романовичу.
Анастасия наблюдала за подругой и думала, что она совсем не меняется, все такая же восторженная, готовая в любой момент отозваться и порадоваться, прийти на помощь. Только вот как бы не ошиблась в своем ненаглядном Сергуне, слишком он молод для нее и чересчур уж красив для мужчины.
3
По теории известного академика Игнатова, в отношениях между властью и народом никогда не было и не могло быть гармонии. Еще из его учения явствовало, что любая национальная элита являлась всего лишь результатом долгой и трудной работы чуть ли не целых исторических периодов, а то и эпох; от зарождения элиты до ее расцвета и упадка, доказывал он, сменяются, бывает, социальные формации, и даже не раз, а правящая и, как правило, тесно связанная с ней, переплетенная множеством кровных интересов духовная элита продолжает формироваться, обретать свои зримо выраженные конкретные черты, в то же время постоянно приспосабливаясь, как бы мягко и незаметно переливается из одного огненного котла народной стихии в другой, в третий, четвертый, и всякий раз как бы меняется и растворяется в новом составе народного бытия, но все якобы происходящие изменения элитарных слоев являются только кажущимися. На самом деле это всего лишь внешние маскировочные действия для продолжения своего паразитического и вольготного, за счет все той же народной стихии, существования и процветания. Убедительным доказательством своей правоты он считал неизбежную утерю национальными элитами своих родовых национальных корней и их слияние в одну космополитическую сущность и общность под демагогическим лозунгом всемирного братства и процветания, а также всеобщего благоденствия, которого, как известно, никогда не было, не будет, да и быть не может. Так в мире и складываются особо изощренные олигархии, для них основополагающим законом становятся корпоративные элитарные интересы, и они начинают защищать их самыми жестокими и изощренными мерами в любой точке мирового пространства. И неважно, какими национальными процессами эти противоречия были вызваны, — даже самые незначительные ущемления интересов любой национальной элиты воспринимались ее космополитическим единением как нечто кощунственное и недопустимое, как варварское посягательство на божественные права всей мировой элиты. Во всех концах мира тотчас начинали кричать о черни, Аполлоне и печном горшке, и здесь уж народные бедствия и страдания вовсе не брались в расчет. Тотчас выводилась формула, что страдания и бедствия есть естественное состояние народной стихии и по другому не бывает и быть не может.
В своем убеждении академик Игнатов был непреклонен и не делал исключения ни для Пушкина, ни для Достоевского или Толстого, тем более не обходил он стороной стоящих непосредственно у кормила власти и их глубоко эшелонированные структуры, проводящие все властные импульсы сверху вниз, в стихию народа.
И особый интерес вызывали его исследования о возникновении и формировании закона перерождения элитарных слоев уже в советское время, когда дело усугублялось еще и взрывом противоречий в самом элитарном всепланетном поле, предвещающим скорый распад исторически сложившегося целого и появление новых, еще неведомых субстанций разума и духа, но в то же время и предрекающим непоправимые смещения основ самого народного бытия. И два данных обстоятельства, порождавшие химерические новообразования в элитарных слоях, разрушали и саму суть природного народного «я» и все больше приближали всеобщую катастрофу. Академик Игнатов мог доказать свою теорию эволюции общества и в планетарном, и во всеобщем державном масштабе, и на самом простейшем уровне, хотя бы на примере своего дачного поселка Восход, где прочно обосновались сыновья и внуки вчерашних, в основном невежественных правителей государства, одного из самых могучих в мире; академик Игнатов даже мог доказать свою теорию на ученых, писателях и артистах, на художниках первого ряда, уже успевших внедриться в престижный правительственный поселок, купивших и построивших по особому разрешению свои дачи со всеми удобствами. И доказательств особых не требовалось — стоило только взглянуть хотя бы на дворец Евдокии Савельевны Зыбкиной, с концертным залом, лифтом и гаражом, похожим больше на крытое футбольное поле. Зачем нужно было эдакое поместье вчерашней полуграмотной ткачихе, пусть даже и с прекрасным, неповторимым голосом? Или нечто подобное кому либо другому из того же вспучившегося после революции состава так называемой новой советской научной и творческой интеллигенции? А только для того, чтобы прикрыть и оправдать нечистоплотность и корысть высшего эшелона власти, особенно после ухода Сталина, того же Никиты Сергеевича Хрущева, а теперь вот и Брежнева, не только не привыкших считать народные деньги, но даже и не подозревавших, что такой счет существует. А если только взглянуть на неисчислимую орду разномастных советников, роем кружащихся возле всяческих вождей и, как правило, отвергающих даже намек на любые национальные корни и опоры и признающих приоритет одного, якобы богоизбранного народа, вечно страдающего и вечно пребывающего в изгнании, надо думать, только в собственном воображении и только от самого себя, то многое станет ясно и без особых усилий. Взять хотя бы всех этих Арбатовых, Александровых, Бовиных, всяческих Сахаровых и Лихачевых, как ржа постоянно разъедающих народную душу, бесстыдно и нагло создающих целые направления русофобии и уже открыто декларирующих якобы неполноценность русского народа, того самого народа, на шее которого они очень недурно устроились и за счет которого живут и жируют. А недавняя статья теперь уже деятеля высокого партийного ранга, некоего ярославского выкормыша и прощелыги Яковлева? Еще один вопиющий пример цинизма и наглости — не позволять народу даже оглянуться на свои исторические основы… Куда дальше? Здесь и до последнего шага недолго — неполноценные должны или только обслуживать, не поднимая глаз к небу, или исчезнуть под теми или иными предлогами.
И далее академик Игнатов ставил логическую точку: подобного смертельного, самоубийственного зигзага на русском пути в историческом отрезке времени еще не встречалось.
4
Размашисто перечеркнув исписанную страницу, Нил Степанович откинулся на высокую спинку кресла, закрыл глаза и некоторое время, закинув руки за голову, отдыхал. Сегодня с самого утра работа не клеилась. Вчера был слишком сложный и трудный день, и в голове еще ничего не улеглось, и лучше бы в очередную свободную, наконец то, субботу не садиться с утра за стол, а отправиться в лес, встать на лыжи и пробежаться по первому снежку. Послать бы все подальше, не корпеть над своей китайской грамотой, ведь все равно напечатать нельзя, не пустят, только и облегчишь душу, высказавшись где нибудь на семинаре или закрытом совещании, да и то сразу же попадешь в черный список. Хотя, если говорить спокойно и откровенно, здесь тревожиться незачем, давно уже в особый реестрик включили. Ну и пусть себе. Пробуждение одурманенного народного сознания неизбежно, подземные толчки усиливаются и учащаются, и только власти предержащие не желают видеть и слышать.
В кабинет, с прозрачным, во всю стену, сплошным толстым двойным стеклом, заменяющим окно и выходящим в сад, сейчас, после первого ночного снега, до хрустального сияния белого, гляделась, свесив тяжелые гроздья рубиновых ягод, старая рябина. Игнатов сам ее посадил лет двадцать назад и, вспоминая об этом, попытался восстановить в памяти весь тот далекий уже год. Кто то вошел, и Игнатов, не открывая глаз и не меняя позы, спросил:
— Кто?
— Тебе чаю подать, Нил? — услышал он голос жены, затем и сама она появилась у письменного стола, с небольшим расписным подносом. — Прости, пять часов сидишь, не хватит ли на сегодня? Посмотри, какой чудесный день…
— Неужели пять? — не поверил он и привычно слепо улыбнулся жене. — Спасибо, чаю с удовольствием выпью, Поставь там, Наташа, на журнальный столик.
— Не забудь, Нил, мы сегодня приглашены к Евдокии Савельевне, тебе надо успеть отдохнуть. Не работай больше, ладно?
— Вот так сюрприз, ты серьезно, Наташа? — поморщился он. — По какому такому случаю?
— У нее прием, вернее, дружеский ужин. Ты в самом деле не помнишь? Событие в культурной жизни страны! Высшее звание народной артистки на той неделе схлопотала.
— Какая прелесть! — не удержался Игнатов, и в его голосе послышались насмешливые нотки. — Вот именно, все таки схлопотала, орел баба! Ну, а мы здесь с какой стороны?
Пряча улыбку, Наталья Владимировна быстро, как то по кошачьи игриво погладила плечо мужа.
— Не сердись, отец, нельзя же все время провести в темнице. Работа, работа, только работа… Я длинное платье сшила, вечернее, сто лет уже в свет не выходила.
— Если так, разумеется, надо идти.
— Надо, надо, Нил. Говорят, сам Брежнев с Косыгиным будут, Леонид Ильич от голоса Зыбкиной, говорят, слез удержать не может…
— Господи Боже мой, — вздохнул Игнатов, страдая от сознания неизбежного и выпячивая нижнюю челюсть, — приготовлено вечернее платье, и, чтобы не нарываться на долгую и глухую размолвку с женой, идти придется. — Ну хорошо, хорошо, а наши то белые лебеди залетные, слезливые, эта экзотика здесь зачем?
— Нил, не задавай ненужных вопросов! — попросила Наталья Владимировна и даже покачала головой, выражая свое недоумение. — Для тебя ведь ничего, кроме истории и книг, не существует, — я до сих пор не могу взять в толк, как ты однажды меня приметил и даже догадался предложить руку и сердце. А ведь для большинства людей именно личная, интимная жизнь и является самым дорогим и главным, а все остальное только подспорье.
— Прости, по прежнему ничего не понимаю! — высоко поднял брови Игнатов и, как всегда в трудные минуты, уставился перед собой в стол. — Что там опять за китайская кухня?
Наталья Владимировна помедлила, от души забавляясь детской наивностью и неосведомленностью мужа.
— Ничего особенного, дорогой мой, просто у Евдокии Савельевны будет на вечере… интересно, кто бы ты думал? Ну ни за что не угадаешь… Сама Ксения Васильевна Дубовицкая!
— Что же? Та самая знаменитость из Академического? — спросил Игнатов, по прежнему больше занятый своими абстрактными, по сути дела, бесплодными мыслями о вырождении вершинных слоев российской интеллигенции. — Конечно, актриса выдающаяся, женщина… гм, на мой взгляд, весьма эффектная…
— Эффектная! Господи, Нил, ты отвык от простого русского языка! Эффектная! Милая, Нил, ослепительная!
— Наташа, я же так и выразился, — слабо запротестовал Игнатов. — Эффектная и есть синоним ослепительной, привлекающей внимание…
— Нил, дорогой мой, я рада, ты прямо на глазах молодеешь, — не удержалась Наталья Владимировна от легкой иронии. — Вот только темперамент тебя подводит, ты ведь не дослушал. Из охотничьего хозяйства Завидово на кухню Зыбкиной доставлены две кабаньи туши, говорят, по центнеру каждая. Дичь добыта лично Леонидом свет Ильичом Брежневым… И по его же высочайшему повелению отправлена по сему адресу специально для званого ужина. Как, связывается все происходящее в один узелок? — спросила Наталья Владимировна, и в глазах у нее заиграли знакомые мужу озорные огоньки. — Нет, положительно, в мире не встречалось более тупого академика. Не понимаешь?
— Нет, ни в зуб ногой, — чистосердечно сознался Игнатов и в доказательство даже разгневался и сверкнул глазами. — Ну, Наташа, у меня ведь нет времени на ваши бабьи ребусы! Что такое?
— Ничего особенного, Нил… Просто у Леонида Ильича с Дубовицкой роман. Вот тебе и все объяснение с кабанятиной, там, опять же говорят, уже пять поваров из Кремлевки суетятся. Так что, Нил, ты обречен сегодня на этот раут. Я любопытна и все таки надену вечернее платье для такого изысканного общества, не дам себе исчахнуть, терзаясь об упущенных возможностях до конца дней своих и твоих!
— Боже мой, Наташа! — почти простонал Игнатов, резво подхватываясь с кресла и потрясая перед невозмутимо наблюдавшей за ним женой какой то старой бумагой. — Ты хоть представляешь, какая там охрана будет? Да тебя до последних трусиков просветят…
— А мне наплевать! — бодро отчеканила Наталья Владимировна, взяла из рук мужа старую бумагу с голубовато выцветшими орлами и положила ее обратно на стол. — Я же не собираюсь проносить бомбу. Глупости! Я тебе уже приготовила темный костюм и положила во внутренний карман твое академическое удостоверение, не вырони. Хотя ладно, я сама потом проверю.
Игнатов кивнул, подошел к стеклянной стене и, заложив руки за спину, задумался, широко расставив ноги. Ему почему то вспомнилась осень сорок первого и встреча с Сусловым под Кизляром, кстати, первая, и произошла она в штабном шалаше в камышах; Суслов, оберегаясь от сырости, сидел на высокой пачке партийных книг, кажется, сочинений Энгельса или даже самого Ленина, на что тогда в хаосе и разброде Игнатов не обратил внимания, а вот сейчас этот факт и всплыл в сознании с неожиданной рельефностью и яркостью: чавкающая под ногами болотная жижа, длинное, худое и злое лицо Суслова, недалекая и частая артиллерийская пальба, — все это вспомнилось как нечто весьма и весьма существенное. Игнатов вначале даже растерялся от этой избирательности памяти, но затем, вспомнив еще и свой недавний разговор, весьма долгий и трудный, с «серым кардиналом», подумал, что ничего случайного в жизни нет и быть не может, что полотно жизни непрерывно и из него нельзя выбросить ни одного мельчайшего узелка, ни одной нити, и вздохнул. На именитый вечер идти придется, а следовательно, надо уже сейчас возместить предстоящую потерю времени и просмотреть дополнительные материалы к очередной главе — кстати, там есть любопытные сведения о связях древнерусской живописи, того же Андрея Рублева, с эпохой раннего Возрождения, именно творчество Рублева со товарищи и опровергает весь этот сионистский бред о дикости и варварстве русского народа и свидетельствует о его глубочайших свершениях в области культуры и духа еще задолго до прихода самого Рублева…
И, уже забывая и о жене, и о предстоящем вечере, и о своих необъяснимых воспоминаниях о начале войны и знакомстве с Сусловым, ныне одним из могущественнейших людей, уже не слыша напоминания об остывшем чае, Игнатов опять, как иногда говорила Наталья Владимировна с понимающей усмешкой, втягивал свои рожки в раковину и уходил из реального мира в свой, измышленный, без ряби воды и шевеления воздуха. Правда, она порой добавляла и другое: слава Богу, есть такой заколдованный мир, в нем можно полюбоваться своим прошлым, но в нем присутствует и отражение будущего в настоящем, только стоит всмотреться и вдуматься.
Пожалуй, именно с таким ощущением бесконечности и неразъемности времен Игнатов и отправился с женой в начале шестого к Евдокии Савельевне Зыбкиной. В ранних сумерках темнели старые ели, и загустевшая синева в их вершинах лишь подчеркивала опускавшийся на землю покой.
— К морозу, — авторитетно сказала Наталья Владимировна, придерживая мужа за локоть. — Очень кстати, а то в Москве грипп начинается, уж внучата обязательно подхватят. Пошли, пошли, Нил, опоздаем.
— Пришли уже, — сказал Игнатов, — вот и встречают…
— Проходите, пожалуйста, Нил Степанович, — раздался негромкий приятный голос, и у дорожки, поворачивающей к даче Зыбкиной, ярко светившейся всеми своими просторными окнами, возникли две стройные фигуры в полушубках и меховых шапках. — Вас проводить?
— Зачем же, мы здесь свои, соседи, благодарю вас, — сказал Игнатов, сворачивая на дорожку между рядами голубых канадских елочек, подсвеченных низкими редкими фонарями. В просторной, оформленной под русскую старину, прихожей, с широкими дубовыми лавками, грубоватой выразительной резьбой на былинные сюжеты, украшавшей потолок и стены, гостей встречали две молодые женщины. Они, улыбаясь, помогали раздеться. Тут же появились широкие деревянные подносы, уставленные напитками и легкими закусками — небольшими тартинками с красной икрой или ломтиком осетрового балычка и фаршированными соленым орешком маслинами. Затем внезапно появились приятные, строгие молодые люди и проводили гостей к широкой лестнице на второй этаж; здесь перед концертным залом слышалась тихая музыка и негромкий и дружный гул уже собравшихся гостей, ожидавших с минуты на минуту выхода хозяйки, — задержку объясняли какими то неожиданными обстоятельствами в самой Москве, а следовательно, и необходимостью для хозяйки прийти в себя, переодеться и собраться душой перед столь ответственным приемом.
Подходили новые и новые известные лица. Гости и не думали скучать; многие были давно знакомы и заинтересованы друг в друге, а на таких вот приемах и совершались самые важные дела, заключались пусть негласные, но, как правило, нерушимые соглашения и договоры, и Игнатов, едва окинув взглядом многочисленную публику, тотчас определил расстановку сил, и ему стало скучно.
— Нил, — негромко сказала бдительно наблюдавшая за ним Наталья Владимировна. — Пожалуйста, улыбнись, ты похож на пирамиду Хеопса. Только посмотри, какие люди…
5
Пожалуй, редко кто из гостей, волновавшихся и спешивших на важный прием к достойной Евдокии Савельевне Зыбкиной, кроме самой хозяйки, да и то приблизительно и смутно, догадывался, ради чего заполыхал весь красочный сыр бор, отчего пошли тайные волны не только по Москве — чуть ли не по всему обширному государству, но какое до этого дело простому человеку?
У очаровательной Ксении Дубовицкой глубокой, предгрозовой синевы глаза, ей около тридцати, и если кто нибудь из многочисленных и восторженных ее поклонников, целуя ей руку, скажет, что она выглядит как семнадцатилетняя роза, она лишь улыбнется, шутливо погрозит пальчиком и сразу станет еще моложе, и это можно истолковать как душе заблагорассудится — ей все легко прощается даже соперницами. Ксения говорит с легким придыханием, отчего у мужчин тотчас возникает к ней тайный интерес как к натуре глубокой и страстной, а у женщин возрастает инстинкт самозащиты, говорящий им о необходимости отступить в данный момент в тень, — с Ксенией, становившейся в порывах вдохновения беспощадной в своей неотразимости, вступать в состязание было бы просто глупо, здесь можно было только проиграть.
О Ксении Васильевне Дубовицкой, талантливейшей актрисе прославленного Академического театра, давно переросшего все государственные и любые иные границы, говорили охотно и много; говорили подчас самое невероятное, о чем мало мальски нормальные и здоровые люди не хотели и слушать. И здесь во всем был виноват прежде всего ее недюжинный талант, ведущий ее через театральные склоки и хитросплетения выше и выше, от успеха к успеху, от восторга к обожанию и преклонению. За ней чувствовалась глубокая, влекущая и дразнящая тайна — увидев ее хоть однажды на сцене, о ней начинали мечтать и прыщеватый юнец, и почтенный седовласый муж, давно погруженный своим возрастом в спокойное и мудрое равнодушие к женским чарам и прелестям; с ним вдруг случалось нечто необыкновенное, повергающее в прах любые законы биологии и морали; и вот такой солидный, увенчанный лаврами жизни человек, достигший на своем поприще иногда запредельных высот даже на правительственном, а то и того выше, на партийном уровне, начинал сходить с ума. Весь состав его крови превращался в бурлящий поток и порыв, он начинал беспочвенно и страстно мечтать, безрассудно распалялся до самых фантастических видений, всеми правдами и неправдами старался добыть адрес своей страсти, посылал ей письма, цветы, подарки, иногда баснословной ценности. А что уж говорить о зрелых, полных сил мужчинах, водящихся в столице в изобилии и даже в избытке? Тут можно было только беспомощно развести руками.
Все поступавшее и по почте, и с курьерами старая няня Ксении, ее самая доверенная советчица и домоуправительница Устинья Прохоровна подслеповато и равнодушно складывала в общую кучу в темной просторной кладовке; время от времени, обычно в те редкие часы, когда сама Ксения была свободна и дома, на нее снисходило вдохновение, она звала Устиныо Прохоровну, и они вдвоем начинали разбирать завалы в кладовой, сортировали накопившееся иногда за три четыре месяца, вслух читали наиболее страстные, сумасшедшие признания в любви. Бывало, что из какой нибудь невзрачной коробочки, вместе с запиской с отчаянной мольбой о взаимности или хотя бы о коротком ответе, выпадала безделица вроде старинного алмазного браслета или изумрудного кулона с золотой или платиновой цепочкой; встречались камеи и кольца дивной работы, попадалась и финифть, и даже китайский фарфор, и лаковые миниатюры. Однажды в тяжелом, объемистом пакете, который Устинья Прохоровна распаковывала с кряхтением и долго переворачивала и ворчала, они обнаружили украшенную драгоценными каменьями и старинным червонным золотом Библию и записку со смиренной просьбой найти такую то страницу и прочитать. Решив удовлетворить скромную просьбу щедрого незнакомца, неведомого им профессора Клиничева Всеволода Всеволодовича, прилагавшего к подарку и свой телефон, они весь вечер читали «Песню песней» премудрого и любвеобильного Соломона, и сама Ксения настолько увлеклась, что к седьмой песне, особо отмеченной щедрым поклонником, даже постаралась подобрать мотив и на разные лады пропела: «…округление бедер твоих как ожерелье, а живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино… и мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые…»
Несмотря на солидный возраст, женщина весьма возбудимая и эмоциональная, Устинья Прохоровна вскоре стала подтягивать, безбожно фальшивя, а затем долго допытывалась у Ксении о неведомых мандрагорах.
— Надо же, в животе одно вино, — говорила она, осуждающе качая головой. — Видать, пьяница и распутник писал… мандрагоры тебе какие то…
— Ах, баба Устя, — неожиданно грустно вздохнула Ксения. — Хранительница ты моя родная… Мандрагоры… не знаю, к сожалению, не встречались! Очевидно, нечто ароматное и возбуждающее. И все таки лучше молодое и новое, чем старое и давно приевшееся. Премудрый Соломон споткнулся здесь на левую ногу…
Пристально и долго поглядев поверх очков, Устинья Прохоровна тоже вздохнула, как то сникла и долго поправляла большой седой пучок на голове.
— Ах, Ксюшка, Ксюшка! — сказала она просто и сожалеюще. — Мужа тебе надо. Доброго русского мужика, а не заморского мандрагору! Хоть ты и великая, и трагическая, как брешут газетки, а я тебя лучше знаю. Вон, говорят, тебе скоро самую народную пришпилят, ну, и что? Бабье то в себе никуда не денешь, бабье то в тебе тоскует, гложет душу и вопиет отчаянно! Дай, дай — требует! Слышишь? Тут одноразовой пайкой не насытишься, тут надо, чтоб под ногой земля была и сегодня, и завтра, днем тебе и ночью чтоб была! Чтоб в любой час припасть к ней и забыться, успокоиться, затрепетать от ее тяжести! А то ведь этот козел Задунайский не отстанет, я все на него гляжу в телевизор, гадаю… Такие цыганистые мужички злопамятные, коли что — со свету сживет, роли ты у него хорошей не получишь. У у, знаю я таких! А чего он, старый шибздик, добивается от тебя? Одного! Сама знаешь чего! Сколько уже от его выкрутасов плакала? На той неделе даже из театра надумала уходить…
— Ну, баба Устя, тут ты ошибаешься, — сказала Ксения, неожиданно встрепенулась, и глаза ее холодно сверкнули. — Тут совсем другой коленкор… Да мы еще и посмотрим, кто на ком крест поставит! Ну что ты такое говоришь? — сердито добавила она, тут же словно запнулась, полыхнула глазами, опомнилась и опала, изображая некое милое смущение, хотя проницательную старую женщину провести было невозможно. Устинья Прохоровна сама безошибочно определяла момент, когда нужно было поверить и подыграть, а когда и рассердиться, и сейчас она сочла нужным верить и сочувствовать; последнее время она никак не могла разгадать, чем так серьезно встревожена ее питомица, что с ней происходит, что от нее скрывает, и томилась от неизвестности.
И она не ошиблась. Ксения, что то напевая вполголоса, подошла к своему письменному столу красного дерева, с множеством ящичков и на самой столешнице, и в боковых тумбочках, отделанных нежнейшей финифтью и медными запорами и ручками; стол стоял тут же в гостиной, в просторном фонаре, отделенном от общего пространства комнаты бамбуковой занавеской от потолка до пола. Нерешительно, явно поколебавшись, Ксения села к столу и некоторое время напряженно, хотя и с отсутствующим лицом, думала, затем, притронувшись к одному из внутренних, потаенных углублений в верхнем правом ящичке, надавила и повернула еле заметный выступ, глубоко утопив его в гнезде. Послышался нежный мелодичный звон — потайной механизм в чреве стола сыграл три такта «Венского вальса», и в руках у Ксении оказалась небольшая, слоновой кости, отделанная перламутром шкатулка. Она выскользнула откуда то из под столешницы, из тайничка, и Ксения стала задумчиво перебирать ее содержимое. Здесь было сапфировое, старой работы, ожерелье, отделанное алмазами и платиной, браслет с тремя крупными бриллиантами в россыпи изумрудов, несколько старинных перстней, все с теми же дорогими и редкими по красоте и величине камнями, и уникальная брошь с крупным, темным, почти черной воды бриллиантом в магическом узоре плодородия, выложенном, в свою очередь, из девяноста девяти бриллиантов чистейшей голубизны и прозрачности, прочно втиснутых в платиновые гнезда, и тридцати трех сапфиров, придающих величественной, холодной жизни бриллианта мистическую и таинственную силу прорицания.
Стоило повернуть брошь под определенным углом и присмотреться, как тотчас таинственный узор оживал и превращался в движущихся по кругу солнца змей, магическим и безжалостным сапфировым блеском наполнялись их глаза. Именно эта безделка, способная свести с ума любого знатока и собирателя редкостей, невольно притягивала взгляд Ксении, она время от времени откладывала ее, занимаясь другими вещицами, но всякий раз, словно спохватываясь, обращала глаза к загадочному узору броши — она любила ее и тайно боялась. Чутье подсказывало ей, что в этом глубоком, внутренне беспокойном, постоянно играющем своим особым светом узоре заключена и ее судьба. Она могла всматриваться в завораживающую игру дорогих камней бесконечно, приходя почти в сомнамбулическое состояние, в ней зарождался и всю ее захватывал особый мотив, она погружалась в свою внутреннюю жизнь, она ощущала мистическую тайну черного камня, напоминавшего и величиной, и формой пристальное человеческое око, — поворачивая брошь на уровне своих глаз, она как бы оживляла драгоценный узор. Змеи начинали двигаться вокруг провального черного центра своего гнезда, прорисовывались головы, вспыхивали, мерцали глаза, и тогда возникало всегда одно и то же видение. Раскаленная каменистая пустыня, укромный древний замок, вырубленный из вершины гранитной горы, одиноко возвышающейся над необозримыми разливами раскаленных песков, уходящих застывшими волнами до самых горизонтов и дальше, в глубь вселенной…
Глаза Ксении тускнели, зрачки исчезали, в такие моменты старуха няня пугалась и не решалась подать голос, окликнуть — она начинала читать «Отче наш», а в душе проклинать злосчастные царские игрушки, и отяжелялась почти непреодолимым желанием когда нибудь изничтожить в прах эту вредную для человеческого здоровья, блескучую и бесполезную нечисть.
И сейчас, распаляя себя все больше, Устинья Прохоровна затаилась, присев на низенькую скамеечку возле туалетного столика с большими, подвижными крыльями зеркал. В такие острые моменты она никогда не оставляла свою любимицу, хотя и не мешала ей, ничем не выдавала своего присутствия и даже дыхание старалась сдерживать.
И старуха угадала, момент подходил самый нехороший. Ксения, после некоторого колебания, взяла проклятую брошь, поднесла ее к глазам и стала еле заметно поворачивать; установив брошь в нужной плоскости, улавливая одной ей известное положение, она замерла, по нелестному и жалостливому определению самой Устиньи Прохоровны, застыла поганым идолищем и истуканом. Несколько раз перекрестившись, старуха зашевелила острыми, подсохшими губами.
— Отче наш, иже еси на небеси… не введи нас в искушение… избави нас от лукавого… хлеб наш насущный дай нам днесь… Пресвятая матерь Богородица Дева, смилуйся! Что за поруха с моей касаткой, с моей белорыбицей ненаглядной? Отче наш, всемилостивейший и всемогущий, смилуйся! Божья матерь, Дева святая и непорочная! Перед твоим светлым ликом повергаю горе свое, помоги, пречистая, не дай пропасть невинной душе! Смилуйся! Заступись, преблаженная!
Ничего вокруг не замечая, Ксения встала и, неся перед собой брошь в вытянутой руке, подошла к окну. Самоцветы вспыхнули, заиграли, словно неслышный и невидимый ветер стал раздувать у нее на ладошке чудный огонь. Взгляд Ксении отяжелел…
Камни перешли к ней от матери, обыкновенной советской служащей, ради заработка освоившей машинопись и стенографию. С камнями была связана какая то почти фантастическая история, втянувшая в своеобразный водоворот бесчисленное количество людей и в самой России, и за ее пределами, от самых высших особ царской фамилии до безымянных людских масс, ничего, кроме тяжкой, изнурительной работы на полях, в шахтах и на заводах, не знавших. Странную древнюю брошь можно было носить и вместо кулона — для этого имелась массивная, искусной старинной работы золотая цепочка, хранившаяся в той же шкатулке, но Ксения никогда в своей жизни так и не решилась надеть загадочную вещицу, даже примерить, будучи наедине с собой перед зеркалом; ее всякий раз удерживало от этого странное ощущение на себе чьего то постороннего взгляда… Может быть, именно поэтому она не любила вспоминать о последних днях матери и о своем обещании никогда не расставаться с загадочными камнями, данное умирающей только под влиянием момента, когда близкий и родной человек навсегда уходит, и ты не можешь остановить его и только вынужден беспомощно и обреченно ждать последней минуты. Впрочем, легенды и есть легенды, хотя они ведь тоже не возникают из ничего — человек всегда был загадкой и тайной и навсегда таким останется. И подобные камни вечно привлекали его, в них тоже заключены древние и непостижимые тайны, некий зов космоса, зачатия, а затем и завершения.
Ощутив на себе тревожный взгляд няни, Ксения усилием воли остановила себя и порывисто повернулась.
— Ах, баба Устя, баба Устя! — пожаловалась она непривычно тусклым голосом. — Лучше ничего не спрашивай… Знаю, знаю, родная моя, нехорошо, нечего тебе сказать… да, да, ты лучше и не спрашивай…
— Отчего же и не спросить? — не согласилась Устинья Прохоровна. — Кой здесь грех? Как же так? Две женщины, две бабы живут душа в душу, и чтоб одна от другой таилась? Такого и в целом свете не может быть! Верно, крепенько зацепило то, вконец, как следует зацепило, а, Ксенюшка? Уж не сопля, как в прошлом разу, студентик прыщеватый, а солидный мужчина, а? Вот и правильно, правильно, бабе такого и нужно, хозяйственного, годков на десять постарше, чтоб толк знал, да чтоб отгулялся, остепенился. В сорок лет мужик спелый…
— Баба Устя, баба Устя, — то ли плача, то ли смеясь, попыталась остановить ее Ксения. — Что ты такое говоришь? Какой такой мужчина, какой мужик? Какая из меня жена? Милая моя баба Устя, я товар штучный, редкостный, как те мандрагоры, на большого любителя или страстного коллекционера. На такую женушку далеко не всякий польстится. Я порочная и несчастная женщина, я тебе как матери родной признаюсь… Только ты уж никому, ради всех святых, ни ни! И меня больше не терзай… договорились?
Старуха согласно и успокоительно перекрестилась, а сама Ксения с каким то смутным чувством ужаса и обреченности сложила свои сокровища обратно в шкатулку, сунула ее в стол, и в следующее мгновение от них не осталось и следа. Секретный механизм втянул их в потаенное чрево хитроумного хранилища, все детали, планочки и выступы встали на место, вновь прозвучало несколько нежнейших тактов «Венского вальса», и богатое воображение хозяйки превратило привычный изящный дамский стол в некое живое существо, приземистое и себе на уме, с плутоватыми глазками, все видящими и понимающими и даже как то прощающе подмигнувшими.
Устинья Прохоровна, хоть и отвергавшая любой дражимент, как она любила говорить, мешавший, по ее твердому мнению и убеждению, устроить ее питомице личную жизнь, почувствовала что то новое и необычное и не стала вдаваться в тонкости; она и здесь тотчас уловила у Ксении элемент игры, прежде всего с самой собою, что случалось в последнее время не так уж и редко, дала происходящему хоть и грубоватое, зато безошибочное определение, и вновь завела старую пластинку.
— Знаешь, Ксюша, себя не обманешь, — сказала она, стараясь все же говорить помягче, но достаточно прямо. — Во все времена баба, хоть на какой высоте, одинакова — хочется ей мужа хорошего да видного, да чтоб высоко, на зависть всему миру, летал, был бы защитник да заступник, чтоб за ним как за каменной горой. Правда, редко кому такое счастье и во сне привидится! У тебя не та судьба, твоя доля другая. Вот тебе мой совет: такого тебе под свой дикий норов не сыскать не только в Москве, по всем вашим заграницам не сыскать. Ты сама над собою мужик, — смирись, сиротиночка моя! Вот любит тебя этот Костя трубач, сколько одних букетов перетаскал, целое богатство! Вот и сходись с ним, он бы с тебя пылинки сдувал, молился бы на тебя от зари до зари. Человек, видать, при достатке и мужчина видный, в твоих правилах, в самый раз — всего на пять лет тебя постарше. Господи, какого еще рожна тебе надо?
— Баба Устя, ты с ума сошла! Костя! Трубач! — встрепенулась заслушавшаяся было и глубоко ушедшая в себя Ксения. — Да он же торгаш! Его и в Москве почти не бывает, мотается по всему свету! Приедет, поиграет на своей трубе, как ты говоришь, и был таков, опять Африка или Америка.
— Так что же, что же? — не захотела сдаваться Устинья Прохоровна. — Может, он от неустроенности сердечной мается, может, он…
— Хорошо, баба Устя, поговорили, и будет, — оборвала Ксения, в одно мгновение меняясь и из растерянной, не знающей, что сказать и на что решиться простушки превращаясь в обольстительную, царственно недоступную красавицу. Устинья Прохоровна замолчала на полуслове и внутренне охнула, старые глаза ее еще больше обесцветились и сделались откровенно страдающими, почти больными.
В ответном порыве Ксения быстро шагнула к ней, опустилась на колени и уткнулась горячей головой ей в живот.
— Не надо, баба Устя, такой уж у меня рок. Сцена, сцена — вот моя судьба, мое проклятье, мой Бог, мой Молох, моя мука и счастье, и я ничего не могу поделать… Вот моя жизнь, другой мне не надо, впрочем, другой и не будет.
— Значит, решила? — почти горестно спросила Устинья Прохоровна, не слушая ее завиральные рассуждения. — Опять поедешь?
— Поеду, — слегка запнувшись, подтвердила Ксения. — Что мне остается еще? Давай одеваться, через полчаса я должна быть готова. Пожалуй, я выберу зеленовато дымчатое платье, бежевый шарф. Платье не слишком открытое, хорошо… Короткую шубку, в машину легче садиться. Никаких украшений, Зыбкину не переплюнешь, это еще та ткачиха. Только один золотой с алмазами крест, да, да, пусть полюбуются, больше ничего.
— С ума сошла совсем, — оторопела Устинья Прохоровна. — Они же все безбожники, они тебя еще в Сибирь упекут.
— Вот и хорошо, в Сибирь, — улыбнулась Ксения, начиная собираться, натягивая на себя давно уже приготовленные колготки и сильно выпрямляя то одну, то другую ногу, чтобы получше рассмотреть, и тут же быстро поднимая голову. — Постой, постой, да ты разве знаешь, баба Устя, куда я еду? Разве я тебе говорила?
— Народ все знает, — поджав губы, с неожиданной важностью, как нечто сокровенное, сообщила Устинья Прохоровна. — От народа ничего не скроешь, он тебе и под землей видит. Ох, взяла бы ты меня с собой, вот бы я ему, старому кобелю, выложила начистоту по самое первое число! Он бы у меня повертелся!
— Баба Устя, ты прелесть! — воскликнула Ксения, теперь уже несколько сердясь. — Однако перестань ныть, мы же договорились. И не такой уж он старый, всего шестьдесят с небольшим.
— Тьфу! — окончательно огорчилась Устинья Прохоровна, встала посреди комнаты и уронила руки; Ксения, натягивая через голову платье и запутавшись, окликнула ее, попросила помочь и, не дождавшись, оглянулась — Устинья Прохоровна стояла отвернувшись и плакала, ее прямые сухонькие плечи вздрагивали. Отбросив непослушное платье в сторону, Ксения подбежала к ней, с силой повернула к себе и, заглядывая в незнакомые теперь, страдающие глаза, тихо, готовая и сама разрыдаться, попросила:
— Не надо, баба Устя… Ну прости, если я тебя огорчила, прости. Не надо, милая моя, родная ты моя… Ты лучше помоги мне, ты же знаешь, по другому мне никак нельзя. Меня тут же растопчут и выбросят на обочину, а то и на помойку, ты то хорошо знаешь театральный мир. А я всего лишь женщина, я совсем одна на сквозном ветру… Что там талант? Достаточно одного слова, и любой талант рушится. Помоги мне, баба Устя, ты же все понимаешь.
И старуха, ставшая как бы еще ниже и суше телом, обмякла.
— Мне сегодня чтой то тяжко, Ксюш, — призналась она просто и доверчиво, как самому близкому человеку. — Большой страх пришел, на сердце чтой то нехорошо. Вот вроде кто кричит, остерегает… А может, уедем, а? Давай в мой Егорьевск, а? На что нам такие страсти? Вот продадим мой золотой образок, купим билеты…
И тогда Ксения, как ни крепилась, тихо и просветленно заплакала — на сухонькой, маленькой, почти детской ладошке Устиньи Прохоровны, переливаясь, сверкал небольшой, усыпанный алмазами образок, древний символ веры и надежды человеческой, дел и исканий человека на земле и обещание исхода потом.
Смято и светло улыбнувшись сквозь слезы, Ксения тихо качнула головой.
— Не надо, баба Устя, не греши, — сказала она с неожиданной твердостью в голосе. — Разве можно продавать нательный образок? Да еще Божией матери? Намоленный? Что ты, родная моя… Лучше уж принять свой крест жизни и понести его до конца…
И Устинья Прохоровна, почувствовав рядом с собой что то необъяснимое для своей души, что то темное, шевеля губами, еще раз помолилась; помедлив, она перекрестила и свою любимицу.
6
Вечер, свежий, с легким, бодрящим морозцем, с высоким, в ярких звездах небом и с особой, убаюкивающей подмосковной тишиной, мягко расслабляющей после неустанной городской сумятицы и непрерывного потока однообразных, стертых лиц, подвел на этот раз и хозяйку известной во всем аристократическом Подмосковье дачи с концертным залом, с лифтом и с теплым гаражом на два десятка машин.
Ах, уж эти подмосковные зимние, долгие и уютные вечера, навевающие на душу золотые сны! Можно сесть в теплом обжитом доме за самовар, сладковато пахнущий дымом смолистых сосновых или еловых шишек, с портретами предков на стенах, и погрузиться в особую мечтательность души! И о чем только не вспомнишь в такие вечера в своей жизни! И самые игривые, и самые грустные моменты пройдут перед глазами, и сердце сладко замрет, вспоминая робкий и прерывистый шепот, и взволнованное дыхание, и прикосновение давно, казалось бы, забытых рук, но…
Странный и желанный вечер, еще задолго до своего прихода несколько пугавший даже многоопытную хозяйку знаменитой дачи своей предстоящей необычностью и непредсказуемостью, действительно преподнес ей сюрприз, и не как нибудь там по озорному весело, как случается в счастливые минуты жизни, а сюрприз почти фантастический, когда в твою, досель спокойную и уверенную жизнь прорывается нечто фатальное и леденит душу своим дыханием.
Евдокия Савельевна, женщина здоровая и без комплексов, давно уже привыкла к перегрузкам, правда, последняя неделя после опубликования указа о присвоении ей высокого звания несколько выбила ее из привычной колеи. Она и раньше не отказывала себе в удовольствии пропустить рюмочку другую хорошего коньячку, а то, памятуя о своем рабоче крестьянском происхождении, и русской пшеничной, а вчера и вовсе отпустила тормоза, — теперь вот голова с самого утра разламывалась, а ведь нужно было быть в форме, придется петь и очаровывать вон какое важное начальство, здесь уже ничем не отговоришься. И самое обидное, что затеян пышный прием не ради нее самой и ее талантов, она сама была поставлена в роль подсадной кряквы, а все дело в этой актрисуле — аристократке Дубовицкой. Самому верховному, старому козлу, был необходим предлог для очередной встречи с нею где нибудь подальше от лишних глаз, как будто мужику такой величины, таких размеров можно было где нибудь укрыться… Уже за шестьдесят, а все никак не успокоится, вот уж, право, мужичья порода кобелиная, и что он в ней нашел? А ты рви жилы, пой, обвораживай двуногое мужичье стадо… Хоть бы один стоящий, а то так — растрепанные обноски.
Окончательно собравшись и одевшись к вечеру и приему гостей, Евдокия Савельевна выбралась на несколько минут проветриться и облегчить тупо ломившую в затылке голову; она плотнее запахнула полы легкой норковой шубы и, успокоительно кивнув уже разместившимся вокруг дома и попавшимся ей навстречу охранникам, пошла по знакомой дорожке, почти незаметно переходящей потом в старую лесную тропу.
«Туда и обратно, и хватит, успею, — подумала она, вдыхая свежий воздух. — Что за радость — морозец, снежок, молоденький хруст, вон яблоньки и в сумерках светятся. Красота то, красота Божья… Надо успокоиться, взять себя в руки, а то эта актрисуля — бойкая бестия, сразу засечет. Повезло бабе, пусть себе поцарствует, покрасуется, старые козлы на свежатинку падки, да надолго ли? Да и какая уж там свежатинка эта потрепанная на всех мировых ветрах мадам Дубовицкая? Вот уж, как говорится, на вкус да на цвет товарищей нет. И не злись, не накачивай себя, не тебе завидовать, тоже не святая. От своего вон жеребца ни ночью, ни днем не отобьешься… Само собой, Героя Соцтруда она теперь раньше всех схлопочет, да и все остальное в придачу, ну, да здесь вопрос другой…»
Утихомирив свою распаленную и оскорбленную душу такими мыслями и сразу повеселев, Евдокия Савельевна, гордо неся зрелое сильное тело, ощущая кожей ласковую теплоту дорогого меха и уже со всем предстоящим заранее примирясь, дошла до конца расчищенной дорожки.
Фонари остались позади, непрерывный отдаленный гул доносился с проходившей в стороне от поселка автотрассы — он лишь подчеркивал умиротворенность и тишину подступавшей зимней ночи, ее оцепенелую мягкую красоту.
«Боже мой, Боже мой, прости меня за все суетные помыслы, — опять, теперь уже в приятной душевной расслабленности, обращаясь к самому тайному и запретному в себе для любого чужого взгляда, попросила Евдокия Савельевна. — У меня все есть: здоровье, красота, талант… голос — тьфу! тьфу! — есть. Плохо только — зависть кругом, все так завистливы… Отчего? Не украла, никого не ограбила, все своим трудом, своими ножками, чему уж тут завидовать?»
У конца дорожки она остановилась. Высокий бетонный забор отделял участок от глухого леса, здесь было совсем хорошо, и никуда не хотелось спешить — нетронутый молодой снег, старые тихие деревья, заснувшие на долгую зиму, одни бесконечные сны — ведь должно же что нибудь им сниться… Что?
Пора было возвращаться и Евдокия Савельевна, помедлив, решила навестить свою любимую старую березу, стоявшую недалеко от дорожки. Она была немного суеверна, как и все люди ее профессии, и всякий раз перед большими концертами или важными гастролями приходила к своей березе и доверительно поверяла ей самые тайные и сокровенные мысли и желания, и всякий раз не жалела на это времени. И могучее, по матерински заботливое и нежное дерево всегда защищало и оберегало ее, ни разу не обмануло, не отступилось и не подвело. И теперь Евдокия Савельевна даже слегка испугалась, она чуть не забыла о своей покровительнице и мысленно попросила у нее прощения. Утопая в рыхлом снегу чуть ли не до колен, она скоро была у цели — здесь, у самого дерева, снегу намело меньше, и Евдокия Савельевна, сдернув перчатки, прижалась ладонями и лицом к стволу, свечой уходящему в звездное небо, и затихла. Голову отпустило, стало легко и свободно, она чувствовала, как всю ее охватывает тишина и умиротворение.
Закрыв глаза, она ощутила неостановимый и неумолимый ход времени и ужаснулась; придет пора, и она сама станет старой и никому не нужной. И случится это совсем неожиданно, и тогда — и это будет самое страшное и невыносимое — ей самой тоже станет ничего не нужно и неинтересно, кроме вот этого языческого ощущения слияния своей жизни с зимней, сонной жизнью старого дерева, пронизывающего своими чуткими нервами тьму земли и потому знающего все ее тайны. И она, слабая сейчас женщина, каким то внутренним зрением увидела стремительно возносящийся ввысь, в самое небо, белый до голубоватого сияния ствол, связывающий тайные силы земли и безмерность непостижимого космоса, и сразу почувствовала ладонями и кожей лица подспудное разгорающееся тепло под узловатыми толстыми струпьями старой коры — береза услышала ее молитву и отвечала своим всегдашним материнским благословением.
«Спасибо, матушка, спасибо тебе, родная», — мелькнуло, как бы само собой прошелестело в душе у Евдокии Савельевны, и теперь тихое ровное тепло объяло все ее существо. Никуда не хотелось больше уходить отсюда, да и ничего не хотелось, кроме вот этого своего сопричастия с самым дорогим в жизни. И тогда она от счастья даже заплакала, без слез, одним сердцем. И тут же враз пробудилась от забытья — кто то сильно и властно сжимал ее плечо, а затем, отрывая от дерева, встряхнул.
— Тише, тише, — услышала она хрипловатый незнакомый голос. — Ни слова… видишь?
И, открыв глаза, Евдокия Савельевна в серебристо мглистом сиянии вечера различила рядом некую фигуру в теплой просторной куртке и в дорогой пушистой лисьей шапке, а еще она, скосив глаза, увидела почти у самой своей шеи тонкое длинное лезвие стилета, и ноги у нее отказали; она тихонько ойкнула и бессильно привалилась к любимой березе спиной.
— Господи… кто вы такой? Опомнитесь… Что вам надо? — пролепетала она, опасаясь шевельнуться — острое стальное жало словно следило за каждым ее движением.
— Ничего особенного, — услышала она доброжелательный и даже приятный молодой голос, — не вздумай кричать, никаких таких штучек дрючек, не успеешь и пикнуть. И потише…
— Господи, да что вам надо? — невольно понижая голос до шепота, заставила себя спросить Евдокия Савельевна.
— Ничего особенного, самую малость. Видишь, в другой руке у меня сумочка, ну, такой саквояжик. Возьми, сдерни с себя все цацки и аккуратненько сложи в него. Вот и все. Бери, бери…
— Как ты смеешь! — с силой выдохнула из себя Евдокия Савельевна, от неслыханной наглости незнакомца окончательно приходя в себя. — Да ты знаешь, куда тебя черт занес? Что же ты, паразит, делаешь, Бога не боишься, я же всенародно признанная, тебе же голову оторвут… Слышишь?
Последнее она выпалила свистящим шепотом — острие, холодное и безжалостное, придвинулось совсем вплотную к самой шее чуть ниже уха и ощутимо нежно покалывало, парализуя волю. Уже почти не понимая своих слов, Евдокия Савельевна доверительно поведала:
— Слышишь, куманек, я тебя не пугаю, тебя по кусочкам за меня раскидают, на подошвах по всему миру разнесут, паразит ты необразованный…
— Ничего, ничего, талантливая ты наша и всенародная, — услышала она нежный смешок, почти философический. — А меня Сергеем нарекли, иногда и Сергеем Романовичем величают…
— Сергеем Романовичем? Какое чудо! — ахнула Евдокия Савельевна от новой неожиданной галантности. — Значит, мы окончательно познакомились? Сергей Романович, дорогой мой…
— Ну что ты так заходишься, тетя Дуня, — стал сердечно утешать ее ночной незнакомец, явно довольный происходящим. — Ты себе еще по десять раз столько напоешь наплачешь за месяц другой, а мне где взять, сама подумай. Мне тоже жить хочется, совсем еще молодой. Не жалей, всенародная, все на свете прах и суета! Ну, а эти твои слова нехорошие, за что же меня по кусочкам то по белу свету раскидывать?
— Креста на тебе нет, вот за что, — опять не сдержалась Евдокия Савельевна. — Меня весь народ на руках носит, ты его светлое чувство в грязь топчешь… Он тебе не простит!
— Ну, народ, он ничего, он всегда немножко дурак. А ты поторопись, — понизив голос, сказал Сергей Романович, начиная нервничать. — Все мы живем, пока мышь голову не отъела, так? А насчет креста давай лучше не будем, оглянись вон на свой замок, а потом кругом взгляни — вот где крест так крест… Знаешь, небось, сама, где с маслом каша, там и место наше. Посовестилась бы немного, видишь, народ то как тебя окормляет, вон какая унавоженная, ни спереди, ни сзади не обхватишь. Вот и поделись, чем не жалко, с Россией матушкой, не все же одной то лопать. Поспешай, поспешай…
Евдокия Савельевна и без напоминаний уже стаскивала, отстегивала, отшпиливала на себе дорогие цацки, специально извлеченные из главного малахитового ларца для высокого вечера, а больше для уязвления и попрания слишком уж занесшейся выскочки Дубовицкой, — в душе Евдокия Савельевна уже проклинала ее за все случившееся и с каким то черным, опустошающим чувством бросала и бросала в темную пасть саквояжика кольца, бусы, шпильки и булавки с бриллиантовыми и сапфировыми головками, почти физически ощущая на себе цепкий, неотрывный взгляд молодого стервятника, вызывавшего даже невольное восхищение своей безрассудной смелостью, и теперь уже с облегчением сдирала с запястья золотой, старинной работы браслет с огромным сапфиром.
— Обручальное колечко хоть можно оставить? — спросила она, протягивая саквояжик своему мучителю.
— Обручальное можно, — милостиво разрешил он. — А вот брошечку с тридцатью девятью бриллиантиками и изумрудиком прошу приобщить к делу… прошу…
— И про нее знаешь? — потрясение ахнула Евдокия Савельевна, ныряя одной рукой под шубу и нащупывая на груди самую любимую, да, пожалуй, и самую изысканную свою драгоценность — подарок одного из высочайших лиц в государстве.
— Знаю, тетя Дуня, знаю, — заверил ночной незнакомец Сергей Романович. — Мы таковские, все знаем…
— Послушай, оставь ты, ради Бога, эту штучку, — внезапно осмелела Евдокия Савельевна. — Память о дорогом человеке… Я в твою честь по телевидению песню спою, прямо так и скажу — моему безымянному ночному незнакомому другу, а, согласен?
Сергей Романович раздумывал секунду, а может, и меньше.
— А что, — с готовностью и как то даже ласково согласился он. — Подходит. Недаром говорят, ум хорошо, а два — лучше. Только вот шубку, тетушка Евдокия, давай сними. И смотри, матушка, не подведи, оставим это дело между нами, зачем другим то знать? Ни звука никому, все добро пойдет во благо, вот тебе крест! Россия тебя отблагодарит. Ну, а если уж не удержишься, никакие запоры тебя не спасут… Сотласна? Вот и договорились, смотри, будь умницей. Обол, слышь, дай ей на плечи телогрею, чтоб не застудить любимицу всенародную, — мы тоже люди государственные, с пониманием. Помни же, матушка, за тобой должок — песня, самая задушевная, я всю родню оповещу, страсть как русскую песню любят! Ну…
Не успев еще раз охнуть, Евдокия Савельевна оказалась вытряхнутой из своей теплой, как ласковая печь, шубы, и на нее тотчас было наброшено что то непривычно жесткое и холодное, и уже другой, угрюмый голос приказал ей не оборачиваться, а в спину, прямо под левую лопатку, вдавилось нечто вроде тупого конца палки.
Постояв немного, она, несмотря на не исчезающую насильственную тяжесть в спине, безошибочно почувствовала, что рядом с ней никого нет и стоит она совершенно одна. Она осторожно покосилась в одну сторону, в другую. Смутно светлел ствол березы, морозец усиливался.
Круто повернувшись, она вновь замерла, прислушиваясь. Затем, движением плеч сбросив с себя отвратительную ватную телогрейку, бросилась к расчищенной дорожке. Ей показалось, что неподалеку кто то приглушенно хихикнул, и это придало ей еще большей резвости. «Что он, проклятый, намолол? Какая Россия, какая родня?» — метались у нее в голове какие то несуразные клочья мыслей. На дорожке она хотела закричать и позвать на помощь и вовремя прихлопнула рот ладошкой. Она была умной женщиной, — хорош же получится вечер, если она все растрезвонит, черта с два, такого подарка она никому из гостей, даже самых желанных, не сделает. Не такая уж она набитая дура — в одну секунду поставить, к тайной радости той же Дубовицкой, крест на себе.
Евдокии Савельевне тотчас представилась сочувствующая рожица Дубовицкой, и, сразу обо всем остальном забыв, она в одно дыхание преодолела расстояние метров в двести, бурей промчалась мимо озадаченных охранников и бросилась наверх в свою спальню.
Через несколько минут она вышла в прихожую в скромном и изысканном вечернем костюме из вологодских кружев без единого украшения и оттого еще более загадочная и привлекательная, и поспела вовремя. К ней сразу же, в сопровождении своего неизменного и сдержанно приветливо улыбающегося Казьмина, без излишней торопливости подошел Брежнев, привычно трижды расцеловался, поцеловал ей руку и стал обходить выстроившихся вдоль стен гостей, всем коротко и приветливо говоря что нибудь приятное, а с давно знакомыми трижды целуясь; Леонид Ильич был слегка обветрен на недавней удачной охоте, энергичен и со всеми без исключения собравшимися гостями доброжелателен; за ним чувствовались мощь и размах вломившихся в мир перемен, и от этого все сразу почувствовали себя свободно и раскованно, послышался дружный негромкий говор, и, точно уловив момент, откуда то из неведомых углов выдвинулось сразу несколько официантов с подносами, уставленными рюмками, фужерами, вазочками с соленым миндалем, фаршированными маслинами на шпильках.
7
В это время, в сопровождении молчаливого и подтянутого молодого человека, и Ксения Дубовицкая уже вошла в высокий вестибюль, залитый светом хрустальных люстр и бра, устланный ковром, с широкой лестницей на второй этаж; у входа на лестницу два бронзовых купидона держали светящиеся факелы.
Сопровождающий ее человек исчез, и почти сразу же появился второй, тоже прекрасно сложенный, высокий, плечистый и голубоглазый. Он поклонился Дубовицкой, назвав ее по имени отчеству, помог ей снять шубку и, проводив на второй этаж, предупредительно распахнул одну из дверей, из за которой слышались мужские голоса и смех.
Ксения перешагнула порог, и возле нее тотчас оказалось двое молодых людей — по их веселым и приветливым лицам и поклонам можно было понять, что они хорошо и давно знают ее, хотя она могла бы поклясться, что ни одного из них никогда не встречала и не видела. У стойки буфета в дальнем углу стояли несколько мужчин с бокалами и рюмками в руках, что то оживленно обсуждавших, и две или три женщины. В глаза Ксении бросился знакомый, крупный и породистый профиль широко известной певицы Евдокии Зыбкиной, одетой в изысканнейший кружевной костюм (на каком то торжественном собрании их даже накоротке познакомили), и Ксения сразу почувствовала себя свободнее и проще. Она увидела рядом с хозяйкой, начинающей, как случается со многими талантливыми певцами в самом зените успеха и славы, сильно полнеть, Косыгина, увидела Громыко и кого то еще из самых высоких чинов в государстве, но вспомнить его имени не могла. Отдельно от происходящего во внешнем мире в ней уже давно, как только ее пригласили на этот высокий прием, начался и шел свой особый внутренний процесс, и она все время спрашивала себя, что с ней происходит, и не пора ли, пока не поздно, все оборвать и прекратить. Интуиция женщины и актрисы, привыкшей в любой момент вживаться в чужую жизнь, в чужую душу и мгновенно напустить на себя чужую личину, в то же время оставаясь собой, искренней и простой для всех окружающих, давно уже предельно обострила ее проницательность, и она угадывала предстоящее не умом, а кожей, по каким то почти незаметным признакам, еле еле проступающим штрихам. Она уже многое предвидела, и это ее не возмущало, а скорее забавляло, — в таком положении она, кроме как на сцене в классических трагедиях, еще не была. И сейчас она впервые спросила себя: почему именно она? Как правило, мужчина на закате предпочитает совсем зеленых девочек, а мало ли их вокруг? На таком уровне только помани, отбоя не будет, хотя…
«Ну к чему усложнять? — подумала она, внезапно охваченная предчувствием очередного, редкого и неожиданного открытия. — Ничего нового, просто всего лишь еще одна серенькая пьеса, как и бывает в жизни. В меру пошловатая, в конце концов, как и в подлинной жизни, всегда притягивающая к себе неизвестностью, оттого и захватывающая. Актриса я или нет? Вот и надо окончательно выяснить истину».
От такого неожиданного поворота в мыслях Ксения совсем успокоилась и развеселилась; дальше думать и про себя забавляться было некогда, ее уже подвели к буфету и представили Брежневу. И они, не сговариваясь, как и в прежние свои встречи на людях, вновь повели извечную игру, держались друг с другом как малознакомые люди. Брежнев, только что возвратившись с охоты в Завидово и сам всю дорогу с удовольствием и азартом гнавший машину на предельной скорости, успел перед приемом у Зыбкиной принять душ, массаж, сделать прическу и, только что выпив рюмку коньяку, был в приподнятом, несколько озорноватом настроении. Он тотчас поставил свою рюмку на поднос официанта, явившегося перед ним словно из воздуха, и с улыбкой шагнул навстречу Ксении, — провожающие ее молодые люди тоже словно растворились.
— О о! Ксения Васильевна, очень рад увидеть вас, я ваш давний и самый преданный поклонник. На сцене вы просто завораживаете, в жизни, оказывается, вы еще изумительнее…
— Что вы, что вы, Леонид Ильич, — слегка запротестовала Ксения, протягивая руку. — Вы несколько преувеличиваете…
Она почувствовала прикосновение влажных, теплых и мягких губ, увидела пышную, только что уложенную прическу, уловила запах дорогого одеколона.
— Я видел вас месяц назад в «Грозе», вы знаете, Ксения Васильевна, я потом о многом в своей жизни передумал, — сказал, улыбаясь и отпуская ее руку, Леонид Ильич. — Вообще женщина — загадочное создание, а талантливая женщина на сцене превращается вообще в нечто из сказки…
— Вы мне льстите, — с некоторым укором сказала она, не отводя больших пристальных глаз — в их глубине светились и мерцали веселые искры.
— Зачем? — неожиданно просто спросил Брежнев, расправляя плечи и с неосознанным вызовом продолжая смотреть только на нее, — она почувствовала легкую досаду, улыбка на ее губах стала еще таинственнее, в ней, этой странной и притягивающей улыбке, проступило что то зовущее, даже запретное.
— Ну, как зачем? — спросила она, и голос ее приобрел нечто заговорщицкое, словно она делилась своими сокровенными мыслями с самой лучшей своей подругой. — Мужчина, кем бы он ни был, всегда одинаков в своих играх. Конечно, если женщина ему нравится.
— Шампанского, Ксения Васильевна, прошу, — предложил Брежнев, довольный разговором и ответом знаменитой актрисы, подтверждающим его уверенность в себе и своих силах, — А затем нас ждет экзотический ужин, я сегодня завалил великолепного зверя, я сам вам выберу лучший кусок…
— Боже, спаси и помилуй! — только и могла сказать Ксения, беря с подноса красавца официанта высокий фужер с шампанским, и Брежнев, улавливая по ее взгляду, что она ничего не поняла, засмеялся.
— Не пугайтесь, ничего особенного, просто я только только с охоты, — пояснил он доверительно. — Экземпляр отличный, годиков четырех, над ним сейчас колдуют повара. Сегодня мы посоветуемся с нашими выдающимися мастерами культуры во время дружеского ужина. Обменяемся мнениями, взглядами. Ваше здоровье! — Он взял рюмку у выступившего у него из за спины официанта и поднял ее.
Ксения кивнула, благодаря, отпила шампанского, и Брежнев, красиво и молодцевато расправившись с очередной рюмкой коньяку, стал знакомить ее с присутствующими, подвел к Косыгину, стоявшему с величественно женственной Зыбкиной, и женщины мило улыбнулись друг другу, поздоровались, даже по старому московскому обычаю расцеловались.
— Мы знакомы, знакомы с милой и знаменитой Ксенией Васильевной Дубовицкой, — сказала хозяйка, играя ямочками на щеках и становясь еще сердечнее, и в то же время задерживаясь взглядом на золотом крестике гостьи, профессионально привычно уловившей этот прицельный, почти классово непримиримый взгляд, и сразу вспомнившей, что знаменитая певица вышла из простых ткачих и никогда не упускала случая выгодно подчеркнуть свою пролетарскую породу. И Ксения в ответ тоже обворожительно ласково кивнула, — пожалуй, она бы не захотела заполучить себе еще одного врага такого ранга.
— Не преувеличивайте, Евдокия Савельевна, — решила не остаться в долгу Ксения. — Вот у вас, действительно уж, всенародная известность и признание. А какая всеобщая любовь — она дорогого стоит!
Подчеркивая, что он сегодня отдыхает тоже, как все нормальные люди, и потому имеет право на некоторую вольность, Брежнев повел Ксению дальше, по дороге прихватил попутно два фужера, приостановился и один из них протянул Ксении.
— Благодарю, Леонид Ильич, вы очень любезны, — сказала она с легкой иронией. — Не огорчим мы Евдокию Савельевну?
— Никогда, — заверил Брежнев. — Она ведь столь же умна, сколь и хороша.
— Не спорю, вам виднее. Хотя ведь, несмотря на всю свою кажущуюся мягкость, она дама весьма решительная. У нее сегодня в глазах какие то молнии проскакивают… Не обратили внимания?
— Успех окрыляет, — улыбнулся Брежнев, отпивая из фужера. — Особенно таких ярких женщин… Вы зря беспокоитесь, у Евдокии Савельевны неизменный и всесильный поклонник ее таланта, с ним тягаться никому и в голову не взбредет.
Ксения с неуловимой грацией повернула голову, — хозяйка что то увлеченно рассказывала внимательно и заинтересованно слушавшему ее Косыгину, давно уже, как утверждали люди осведомленные, влюбленному не только в божественный голос хозяйки, но и в ее роскошное зрелое тело, однако наметанный и цепкий взгляд Дубовицкой, давно профессионально приспособившейся видеть сцену жизни объемно, тотчас нащупал и выделил высокую и осанистую фигуру нового, очередного мужа Зыбкиной — известного виртуоза гармониста, с красивым, крупным, породистым лицом, стоявшего в дальнем углу с официантом и машинально опорожнявшего с его подноса рюмку за рюмкой.
— Да, таланты и поклонники, как и во все времена, — неопределенно бросила Ксения, и Брежнев галантно предложил своей спутнице руку. По знаку хозяйки распахнулись высокие двухстворчатые двери в концертный зал, и Зыбкина, взяв под руку своего высокого гостя и покровителя, пошла первой. Следом двинулись и Брежнев с Дубовицкой; глава государства, уже давно привыкший разделять свою жизнь на две, почти несовместимые половины — на показную, официальную, партийную и кремлевскую, в которой он не принадлежал себе, и свою личную, в которой он напрочь забывал о первой или хотя бы старался не помнить о ней без излишней надобности — всем улыбался; все лица вокруг, и знакомые, и неизвестные, были сейчас ему приятны, и хотя он знал, что многие из них за его спиной будут злословить, говорить о нем плохо и с издевкой, он их с высоты своего положения прощал заранее и не осуждал. Люди всегда оставались людьми, самое главное, чтобы он сам был уверен в своей правоте, и все кругом должны были привыкнуть к его праву и на его личную, особую жизнь, и на его не менее особую, ни с чем не сравнимую ответственность.
Концертный зал, превращенный в цветущий зимний сад, уютно вместил всех. Между розовыми кустами и пальмами располагались столы, кресла, стойки буфетов с кипящими сверкающими самоварами — хозяйка давно уже коллекционировала их, и говорили, что у нее в особом помещении над гаражом хранилось около тысячи редчайших экземпляров этих старинных русских раритетов, образцов старого купеческого и дворянского быта, — было даже несколько весьма своеобразных, с двумя и тремя отделениями, для кипячения чая, подогревания борща и варки яиц.
Главный стол, расположенный на небольшом возвышении, протянулся во всю ширину зала и был виден с любого места, удобные кресла за ним стояли с одной стороны. Официанты, все, как на подбор, рослые, молодые, спортивные, возникали, казалось, из под земли и, приветливо улыбаясь, усаживали гостей, вели к тому или иному столу по одним только им известным законам и признакам, дамам подвигали кресла, наливали по желанию вино, шампанское, воду. Столы сверкали хрусталем, серебром и совершенно изумительными свежими розами с, казалось, еще не высохшими капельками росы.
Игнатов, многое повидавший на своем веку, придав лицу приветливое выражение, склонился к жене.
— Вот что значит рабоче крестьянская косточка, — негромко сказал он. — Я поистине восхищен…
— Ради Бога, Нил, ради Бога, — скорее угадал, чем услышал он ответный шепот растроганно улыбающейся Натальи Владимировны. — Не сходи с ума…
— Молчу, молчу, — сразу же согласился он и тихонько сжал ее локоть. — Я, дорогая, действительно рад за нашу соседку, у нее ведь не только певучее горло, но и певучий ум…
— Боже мой, Нил! Ты невыносим! — Глаза Натальи Владимировны дерзко и поощрительно играли. — Положи мне бастурмы… Помнишь Самарканд? Ослепительное белое солнце…
Игнатов кивнул, рассмеялся и окончательно пришел в хорошее настроение. Смакуя душистую горечь коньяка, он незаметно окинул взглядом обширный зал, и хотя главный стол с высокими гостями был виден отлично, добрая половина присутствующих была скрыта цветущими кустами роз, искусно расставленными легкими бамбуковыми ширмами, увитыми к тому же ползучей густой зеленью, правда, ни от кого не заслоняющей главного стола и в то же время придающей всему происходящему чувство уюта и дружественного, почти интимного взаиморасположения.
Пока ждали официального начала, Игнатов, отпивая коньяк небольшими глотками, незаметно и зорко, с неожиданно проснувшимся интересом ко всему присматривался. По оживленному лицу Брежнева, то и дело поворачивающего голову к своей соседке Дубовицкой, улыбаясь ей и что то говоря, Игнатов видел, что глава партии и государства в отличном и даже поэтически возвышенном расположении духа. Игнатов понимал его и одобрял. Находиться рядом с такой женщиной, даже издали заставлявшей волноваться, и восхищаться, и тайно представлять себе в мыслях черт знает что, быть равнодушным и скучным не мог бы ни один настоящий мужчина. И проницательный академик, как всегда, не ошибался. Со своей стороны, и Брежнев, весьма эмоционально настроенный и потому необычайно чуткий, в ответ на незнакомый пристальный взгляд повернул голову в сторону Игнатова, и тот слегка поклонился. Брежневу показалось, что он видит лицо несомненно знакомое, и он тоже вежливо и добродушно кивнул, хотя ничего определенного вспомнить не мог, да это было и необязательно: Брежнев тотчас и забыл о неожиданной помехе. Пользуясь моментом, он вновь наклонился в сторону соседки.
— Вы, Ксения Васильевна, сегодня особенно обворожительны, — сказал он, и ноздри его втянули в себя тонкий аромат незнакомых духов; еще больше вдохновляясь от этого, он вздохнул. — С каждой нашей встречей вы все больше и больше молодеете… Что с вами происходит?
— Что может происходить с одинокой и беззащитной женщиной? — спросила она, не желая оставаться в долгу, но в то же время стараясь не втягиваться в серьезный, обязывающий разговор. — Ах, обычная бытовая тоска, Леонид Ильич…
— У вас? — искусно изумляясь, поразился он. — Ну, знаете, это ужасное преступление! Подобного допустить нельзя, непростительный грех! Беру на себя вину полностью… Вы мне позволите?
— С удовольствием… если вам так уж нужно позволение. — Она мило и несколько задумчиво улыбнулась. — Кому же еще и довериться? Мне кажется, возможности у вас соответствуют поставленной задаче.
Приподняв широкие сильные брови, он внимательно выслушал, глаза их встретились в каком то неосознанном вызове, даже в противоборстве, и затем он, уступая первым, засмеялся и кивнул.
— Помните же свои слова, Ксения Васильевна, не отступайте назад, как частенько случается у женщин…
— О о! — не согласилась она, тоже с волнующим горловым смешком. — Разве вы не знаете женщин, дорогой Леонид Ильич, я считала вас достаточно умудренным в таком важнейшем вопросе…
— Вы мне льстите, Ксения Васильевна, — не захотел он сдаваться; рядом с этой удивительной, влекущей женщиной он терял контроль над собой, и даже присущее ему в высшей степени чувство элементарной осторожности исчезало, и он, словно схватив глоток свежего горного воздуха, окончательно высвобождался из своей постоянно сковывающей свинцовой оболочки. — Придется доказывать вам и другие свои качества, уж не обессудьте…
— Я на такую щедрость и не рассчитывала! Что вы, Леонид Ильич! — опять очень натурально удивилась она, глаза ее потеплели, — она не успела что либо добавить.
Заговорил Косыгин, и в коротком своем слове, звучавшем одноцветно и ровно, несмотря на то, что он говорил о предмете возвышенном и чувствительном, о божественном даре хозяйки дома, всенародно признанной певицы Евдокии Савельевны Зыбкиной, вышедшей из самой плоти трудового народа и составляющей вершинную славу достижений советской вокальной школы, а потому и удостоенной партией и правительством самого высокого и почетного звания народной, что и подтверждается ее чествованием сегодня на самом высоком уровне.
При этом сатирически настроенный академик Игнатов, отпив еще добрый глоток превосходного армянского коньяку из специальных кремлевских запасов, подмигнул супруге, и без того сидевшей словно на иголках и все сильнее нервничающей, и сказал, что всякая весьма обильная плоть часто одаривает себя всяческими нежелательными новообразованиями, но на это, к сожалению, никто не обращает внимания.
Здесь, пожалуй, стоит оборвать официальную часть торжества, небывалого даже для многое повидавших почетных гостей, потому что давно известна немудреная истина о том, что в любом высоком собрании главное происходит не в открытом действии, не в ярко освещенных парадных залах, а тайно, в темных закоулках и переходах, где нибудь даже на задворках, в местах хранения всяческого ненужного, давно отслужившего свое хлама прошлой жизни, в случайных вроде бы встречах и мимолетных разговорах, а то и в немых знаках, закодированных в особом шевелении пальцев или многозначительном изломе бровей. А потому и следует, вроде бы невзначай, но с умным и значительным видом, пройтись по этим закоулкам и темным местечкам, где по одной любезно сатирической дамской улыбке, по вскользь брошенному модному словцу, вроде бы внешне добропорядочному, допустим — рыло, по произнесенному на особый лад и с особой интонацией, сразу становится ясна суть происходящего, да и сама хозяйка вдруг высвечивается в неожиданно новом освещении и ракурсе. Так, соседями по столу у супругов Игнатовых оказалась известнейшая спортивная, уже сошедшая пара фигуристов, весьма корректных и любезных; напротив же место заняли люди незнакомые. Их было трое, и держались они, как и полагается в данной ситуации, настороженно и чопорно, с преувеличенной вежливостью. Правда, уже через пару рюмок, пропущенных тоже как бы невзначай еще до официального начала, один из них, сухой и высокий, с длинным лицом, трагически обрамленным явно крашенными бакенбардами, оказавшийся, как сразу же выяснилось, одним из модных композиторов песенников, с выступившей в лице желчью, пожелав своим соседям по столу здоровья и счастья, опрокинул в себя очередную стопку живительной женыненевой, задумчиво пожевал длинными тонкими губами и, нацелившись острым взглядом куда то в лоб именно Игнатову, изрек:
— А, собственно, позвольте спросить, за что?
И тут он многозначительно повел длинной головой в сторону главного стола, и бабочка у него на белоснежной манишке тоже как то вызывающе скособочилась и стала похожа на ироническую усмешку. И все сразу поняли все без дальнейших ненужных разъяснений; знаменитые фигуристы извлекли из своего богатейшего арсенала и напустили на свои лица самые приветливые улыбки, Наталья Владимировна, прежде чем поставить рюмку на стол, помедлила, а сам Игнатов, со свойственной всем академикам определенностью, взглянул в глаза песеннику открыто, с легким вызовом, что сразу же показало в нем опытного бойца.
— А просто за певучее горлышко, — сказал он в некотором раздумье. — Разве мало?
— Горлышко? За какое такое особое горлышко? — изумился песенник, округляя блестящие глаза. — Гм, горлышко… гм, черт возьми, конечно, очень важно — горлышко… гм… но я ее отыскал на заплесневелой фабрике и в люди вывел. В общежитии жила — шесть человек в комнатенке… гм… Там всегда держался какой то непереносимо дешевый мыльный запах… А теперь вот с трудом выцарапал приглашение… только через третьих лиц. Вот как оно — горлышко…
— При чем здесь, простите, прошлое? — вновь не удержался Игнатов, глядя на песенника с явным поощрением и интересом. — Это совсем другое, простите, Виталий…
— Виталий Аронович Соколов Волчек, — четко и враждебно отрапортовал, повысив слегка голос, песенник, но в это время Наталья Владимировна, употребив право, предоставленное каждой красивой женщине самой природой, с проникновенной улыбкой потребовала тишины и спокойствия, вознамерясь без помех выслушать всю речь главы советского правительства, и хотя Соколов Волчек, сверкнув глазами, вновь пробормотал что то весьма нелестное про некое бездонное горлышко, Наталья Владимировна своего добилась — за их столом на некоторое время воцарилась напряженная и даже мрачноватая, пронизываемая невидимыми молниями тишина.
Теперь следует обратиться и к главному событию вечера, когда после ответного тоста самой хозяйки, благодарственного и прочувствованного, с блеснувшей на глазах слезой, официанты внесли подносы с головой и окороками добытого на охоте Леонидом Ильичом матерого кабана, искусно зажаренными, украшенными и укрупненными различными соленьями, пряностями и разнообразной зеленью, с лежащими на загнутых вверх клыках большим разделочным ножом и вилкой.
Один из подносов, с головой и двумя задними окороками, был водружен на главный стол перед самим главою государства, и искусно приготовленная, напичканная изысканнейшими приправами дичь тотчас приятно защекотала ноздри гостей; хозяйка радостно воодушевилась, и Брежнев, вооружившись ножом и вилкой, отвалил от окорока изрядный ломоть и в первую очередь, под одобрительный и медоточивый гул зала, щедро оделил именно виновницу торжества, затем свою соседку слева. Послышались новые ахи и восторги, зашептались, что так и положено по охотничьему закону — за столом и должен хозяйничать и распоряжаться сам добытчик — и что Леонид Ильич сейчас просто великолепен и даже гениален. И только один Соколов Волчек, оскалив длинные прокуренные зубы, неизвестно почему почти по змеиному прошипел:
— Горлышко… а?
Мрачного злопыхательства раздражительного песенника, разумеется, никто, даже сидевшие с ним рядом, не захотели услышать. Отделив еще несколько порций от окорока и одарив ими наиболее выдающихся людей, Леонид Ильич одним неуловимым движением бровей переместил поднос с дичью на отдельный разделочный столик, где над ним тотчас захлопотали официанты; сам же удачливый охотник тотчас повернулся к своей обворожительной соседке — она притягивала его неудержимо. И Дубовицкая, со свойственной одаренным натурам чуткостью, уловив атмосферу всеобщего восторга, затуманенно взглянула на своего знатного партнера и сказала:
— Вы вызываете всеобщее восхищение, дорогой Леонид Ильич… Право… Я горда, от присутствия рядом с вами судьба и на меня бросила свой благосклонный блик. Не к добру, боюсь… боюсь, Леонид Ильич, — люди так злы и завистливы.
— О чем вы говорите, Ксения Васильевна! — запротестовал Брежнев. — Просто у вас плохое настроение, люди здесь ни при чем. Надеюсь, глоток доброго вина и пара ломтиков лесной щедрости и аромата все быстро переменят. Ваше здоровье, Ксения Васильевна!
— Благодарю… да вы просто поэт! Верю, верю, имея такого защитника…
Она подняла бокал и остальное досказала взглядом, глубоким и обволакивающим, и по его ответному движению, по заигравшим глазам поняла, что сегодня дома ночевать ей не придется — у этого ухоженного, полного еще сил и желаний мужчины, несмотря на всю его внешнюю доброту и какую то уютность, домашность, как она определила для себя, иногда прорывалось нечто страстное, темное и не только увлекало, неудержимо втягивая в душный омут и ее самое, но и начинало пугать, — она все чаще думала о необходимости выбрать подходящий момент и остановиться, как нибудь незаметно оборвать…
Отрезав кусочек мяса с зарумянившейся корочкой, она положила его в рот. Брежнев выждал и ревниво спросил:
— Ну и как?
— Превосходно! — искренне похвалила она. — Дух захватывает!
— То то! Учтите, это лишь начало! — засмеялся он и вновь поднял рюмку — подошла пора и ему сказать несколько приятных слов в адрес хозяйки и великого советского искусства вообще.
8
Вечер прошел удивительно по домашнему, мило и непринужденно, было много песен и красивых тостов, под конец вовсю разошлась и подвыпившая хозяйка, пела свои самые ударные цыганские шлягеры и романсы, звучали и подлинно народные жемчужины, затем, вспомнив о недавнем потрясении у любимой своей старой березы, Евдокия Савельевна перешла на плачи и причитания, и прослезился не только чувствительный Леонид Ильич, пробрало и желчно непримиримого академика Игнатова, — скосившая на него насмешливый глаз супруга иронически поджала губы — лицо у мужа было ребячески просветленным.
И все таки Косыгин, давний и верный поклонник таланта хозяйки, улучив минуту, уже собираясь уезжать, сказал:
— Вы, дорогая Евдокия Савельевна, берегите себя, вы наше национальное и государственное богатство и гордость. Вы сегодня как то особенно взволнованы… Здоровы ли, дорогая Евдокия Савельевна?
— Пустяки! — бодро улыбнулась хозяйка. — Так, маленькое, забавное происшествие… Я и говорить не хотела: скажи, никто не поверит. Просто я перед началом приема вышла подышать, собраться с мыслями, и в саду со мной встретилось далекое прошлое. Прямо у моей любимой старой березы, так, дорогое воспоминание. Я и расчувствовалась, такова уж женская душа, не может не пожалеть…
— Вы шутите? Прошлое? Как это может быть? — спросил Косыгин, и глаза у него стали неподвижными и круглыми, какими то отсутствующе раздраженными. — А что же охрана? Бездельники…
— Да не берите в голову, Алексей Николаевич, милый, вся наша жизнь — потеря! Годом раньше, годом позже, — она говорила со своей обычной, подкупающей простотой, — какая разница! Я не в обиде, за каждым из нас тянется свой след. Было даже интересно… Здесь все очень личное, ей Богу же, Алексей Николаевич! Я не в обиде и могу перекреститься…
— Не надо, — остановил ее Косыгин, представив себе эту подлунную, среди берез, картину. — Надеюсь, вы никому не говорили? Нет? И не говорите. Не будем создавать пикантные подробности этого вечера для некоторых ценителей… Тем более, вы говорите — личное…
— Я понимаю, Алексей Николаевич, — вздохнула хозяйка, прикрыв глаза длинными приклеенными ресницами. — Целиком полагаюсь на вас.
По их лицам было невозможно даже отдаленно представить суть их разговора. Косыгин не удержался и засмеялся открыто и свободно.
— Такой, как вы, второй нет, — сказал он, и по его глазам, по какому то особому чувству, прорвавшемуся в его обычно сдержанном голосе, она поняла, что внакладе не останется.
9
Никто не знает, почему мужчина выбирает именно вот эту женщину, а не ту, блондинку, а не брюнетку, и почему именно эта, а не та, позволяет себя выбрать, и тем самым приобретает неограниченную порой власть не только над телом, но и над душой мужчины, и даже над судьбами множества других людей, особенно если выбранный ею мужчина добился больших высот в жизни и достиг вершин власти, потому что никто не в силах подавить свою природу полностью, и, что ни говори, как ни философствуй, главное в жизни все равно происходит в половом поле между мужчиной и женщиной — иного и не дано.
Не спалось, и даже выпитое вино не помогало; она знала, что и он не спит, и что ему хочется курить, просто он превозмогает себя, стараясь ее не потревожить. А у нее у самой было какое то двойственное состояние призрачности, полуправды полупустоты, да и он, по видимому развращенный вниманием и доступностью женщин, а еще больше своей властью, давно уже отвык видеть в женщине отражение самого себя, необходимость полного единения и подчинения, растворения женщины в самом себе, исчезновения ее до ослепительного стона, до взрыва, до распада… Хотя с ним все равно хорошо и даже приятно, он настойчив, не хам, ласков и мягок без приторности, и она, скорее всего, поэтому и привыкла. Ну и что? Она понимает всю трагикомичность и нелепость своих с ним отношений, отравленное острие проникает все глубже и глубже и когда нибудь убьет ее… Ну и что? А может, это всего лишь фантастический сон? Бывают же у актрисы, уже далеко не юной, фантастические сны? Занавес в который раз поднимается и опускается, а сама трагикомедия, в которой перемешаны правда и ложь, никак не кончается… Просто однажды все оборвется, мгновенно и навсегда, и наступит пустота.
Она ощутила свое длинное, прохладное и сильное тело как то отдельно от себя — как нечто постороннее и ей не принадлежащее. И это тоже был сон — она хорошо знала взрывчатую энергию, заложенную в ее теле, и знала способы управлять ею. Она сосредоточилась и приказала себе бросить дурить, мужик есть мужик, получил свое, и больше ничего ему не надо, он никогда не поймет и не оценит женской души, ему нужно тело — такова уж игра природы, ее неистощимая фантазия и ее слепое могущество, ее правота в отыскании кратчайших путей… Но к чему?
— У тебя царское имя, — неожиданно сказала она. — Леонид… Лео, Лев — гордое греческое звучание. Представляешь, я одна на берегу океана, среди тропических миражей. Пальмы, пальмы… Иду, а навстречу — ты, с огромной золотистой гривой, и глаза — золотые и беспощадные. Видишь меня, начинаешь рвать землю когтистой лапой и рычать. Я в ужасе, ищу спасения, а затем бессильно падаю на колени… Господи, а ты… Что ты делаешь дальше?
— Ничего особенного, — не сразу ответил Брежнев. — Просто съем. Упускать такую добычу?
— Ну, вот видишь…
— Жизнь беспощадна. Ведь я так устроен и по другому не могу!
— Леонид, это примитивно! — засмеялась она. — Придумай что нибудь поинтереснее, ну, пожалуйста…
— А я больше ничего другого не знаю, — продолжал настаивать он. — Да и чем же плохо?
— Ты хочешь курить, — сказала она. — Оттого ты такой кровожадный. Кури, кури, пожалуйста, сигареты и зажигалка, кажется, где то здесь… ага, вот, возьми. Теперь твоя свирепость несколько поубавится, а я с облегчением выпью глоток вина. Ты не против?
— Я тоже… мне коньяку…
В просторной, слабо, до полумрака, освещенной комнате с толстым ковром на полу ничего нельзя было разглядеть; Ксения по памяти прошла к холодильнику в соседнем помещении, открыла его и на мгновение зажмурилась от брызнувшего в глаза света. Затем взяла бутылку коньяка, еще какое то вино и спросила:
— Леонид Ильич, закусывать будешь?
Он не ответил, и она, прихватив тарелку с бутербродами, вернулась, устроила все это на прикроватном столике, затем принесла рюмки, большие фужеры и минеральную воду.
Привстав на локоть, Брежнев, не отрываясь, ощупывал взглядом ее фигуру — точеные длинные ноги, бедра, плавную спину — и начинал чувствовать подымавшееся раздражение: она была слишком хороша и еще более независима; как птица небесная, она не думала ни о силках, ни о западнях и летела, куда ей вздумается, и это было досадно. Она от него ничего не требовала, что тоже было непривычно и настораживало. Хотя что ему еще оставалось в жизни? Политбюро? Фальшивая власть над миром? Дети? Что сын, что дочка, эта уж особенно, ставшие неуправляемой и тяжкой обузой? Огромная, пугающая страна, которую не объять даже самой смелой коммунистической фантазией? И кто посмеет его осудить, может быть, товарищ Суслов или товарищ Андропов?
Он усмехнулся: у любых, самых блистательных товарищей вокруг него свое подполье, загляни — отшатнешься.
Ксения принесла маслины и конфеты, присела на кровать, и он уловил дразнящий запах теплого женского тела и подумал, что если бы это случилось лет двадцать назад, ночь была бы совершенно иной.
Он привстал, легко подтянулся к спинке кровати, взял рюмку, и они, оба ощущая трепет и загадку момента, выпили в странном молчании, что заставило их еще сильнее почувствовать необычайность их свидания — оба они подумали о совершенном своем одиночестве в мире, о случившейся близости, о том, что именно чувство одиночества, несмотря на разницу в возрасте и положении, крепко, как заговорщиков, связывает их сейчас друг с другом.
Он поцеловал ее руку у локтя, на сгибе, уронил рюмку на ковер. Ксения тихо засмеялась, склонилась над ним и поцеловала его куда то в висок, ее грудь коснулась его плеча, — он давно не ощущал такого прикосновения и потянулся было к ней, но она неуловимо отстранилась.
— Приходит и глядит, — сказала она, вздохнув и повергая его в легкое недоумение. — Именно так: глядит, глядит, молча и как то мудро. У меня предчувствие, еще один шаг и — обрыв… Знаешь, Лео, такой блестящий, черный, весь сквозной — конца краю нет…
— Подожди, подожди, кто приходит? Кто глядит? — спросил Брежнев с некоторым интересом, в то же время с мыслью о бесконечной и капризной женской игре. — Зачем?
Она коротко вздохнула, приподняла плечи.
— У него нет лица, одна пустота, — сообщила она. — На прошлой неделе в гримерной сижу, готовлюсь на сцену, идет Шекспир, готовлюсь встретить свой последний час… сладкий час в объятьях ревности… И чувствую плечами взгляд… Поворачиваю голову — стоит у двери, высокий, в темном костюме, в больших очках. Затемненных… Еле удерживаюсь от какого то мистического ужаса, у него лица нет — одна пустота. Очки есть, а лица нет…
— Ну, Ксения, вот именно — сплошная мистика, — сказал Брежнев, чувствуя в плечах тихий, сквозящий холодок. — Слишком воображение расходилось. А я-то вначале всерьез…
— А ты верь, я тебе очень серьезно говорю, Леонид Ильич, — сказала она опять с коротким, задавленным вздохом. — Он и раньше являлся, очень настойчиво. А однажды пригрозил — приказал убираться из Москвы в неизвестном направлении. Представляешь? Я опять не смогла рассмотреть его лица. Мне кажется, многое здесь связано и с тобой, Лео, с нашими отношениями… Ходит, ходит следом — дышать нечем!
— Чушь! — сказал Брежнев беспечно и успокоенно, безоговорочно уверенный сейчас в непререкаемости своих слов. — Бояться нечего, пустяки! Никто ничего не посмеет, ни одного шага не посмеет сделать… Ты, загадочная и гордая, тоже могла бы быть со мной более откровенной, открытой. Ты мне слишком дорога, чтобы многое узнавать от других. Согласись…
— Ага! — сказала она и налила себе вина. — Значит, все таки мои опасения и страхи не напрасны? За мной следят?
— Ксения, я хочу еще немного выпить… Там пожевать что есть? Орешки? Можно тебя попросить?
— С удовольствием, — с готовностью отозвалась она. — Странно, я столько вчера съела и опять проголодалась, уничтожаю бутерброды. Безобразие, можно ведь и в два счета растолстеть…
Накинув на себя прохладное кимоно, она зажгла ночной светильник, вновь наведалась к холодильнику и вскоре вернулась с большим расписным подносом, нагруженным всякой всячиной, устроила его прямо на кровати.
— Я отыскала тут что то вкусненькое, жареных перепелов, слушай, Лео, мы недурно устроились, — сказала она и под его взглядом, прикрывая ноги, запахнула полы кимоно. — Хочу тебе предложить выпить за тех, кто всегда в пути, в поиске, за их вечную любовь к странствиям души. Мне кажется, я сама с некоторого времени именно в таком состоянии — иду, иду куда то, а куда — не знаю, да и не хочу знать. Зачем? Самое ведь главное — не останавливаться до самого края…
Она подняла бокал, посмотрела на розовато нежное вино на свет и, немного отпив, чему то улыбнулась и бросила в рот соленый миндаль; Брежнев молча последовал ее примеру и, устроившись поудобнее, подложив под локоть подушку, еще больше придвинулся к спинке кровати.
— Смотри, Лео, не поранься, — предупредила она, — не раздави хрусталь, рюмка, по моему, под тобой…
— Да нет, вот она, рядом. — Он поставил рюмку на поднос, закурил; ожидая, Ксения отпила вина и, Необычайно ясно представив себя со стороны, почему то именно глазами няни Устиньи Прохоровны, сама ужаснулась, осуждающе покачала головой и что то задавленно в страхе пробормотала. Затем так же, без всякого перехода и усилия, вернулась назад. «Да ты, милая моя, пьяна, — подумала она. — Смотри не осрамись, вот будет потеха…»
Она ощутила на себе особенно тяжелый и пытливый мужской взгляд.
— Как там у вас в театре? — спросил Брежнев, наслаждаясь покоем, хорошей сигаретой, близостью любимой и умной женщины и, главное, мыслью о двух свободных днях впереди, предстоящей возможностью сесть за руль сильной и послушной машины и отдаться стремительному и непрерывному движению, раствориться в нем и уже совсем окончательно обо всем забыть. — Как ваш знаменитый… ну, Задунайский, перестал вязаться?
Допив вино, Ксения переставила поднос на столик, поправила подушки и легла, вытянув ноги.
— Ты, Лео, заелся, жареного перепела не хочешь…
— Не хочу, что там есть? Одни кости.
— И мне самой почему то расхотелось… Знаешь, Лео, я всегда, с самого рождения, пожалуй, любила театр, а вот повзрослев, я просто стала растворяться в его атмосфере, — призналась она, стараясь продлить свое путешествие в неслышно льющуюся фантастическую ночь и понимая неизбежность и неотвратимость ее продолжения. — Ты, Лео, даже представить себе не можешь, какое всепоглощающее и всеотражающее зеркало — театр… Мир вдохновения, возможность прожить десять, сто, тысячу жизней и в каждой из них открывать в себе новую личину. А выходя из очередной судьбы, вновь обрушиваться в грубую реальность, правда, к сожалению, с очередными необратимыми изменениями уже в самой себе — такое странное, иллюзорное чувство… Впрочем, что это я, Лео, совсем неинтересно! На твоих подмостках разыгрываются такие трагикомедии — никакому Шекспиру не снилось! Какой там Рашель Задунайский!
— Нет, почему же! — возразил он весело. — Все твое касается и меня, мне не только интересно, мне это дорого и близко, неужели ты сомневаешься?
— Если бы ты видел, как на меня сейчас смотрят в театре! — засмеялась Ксения. — Ты, Лео, был бы просто восхищен!
— Как на всемирный потоп, — предположил он, втягиваясь в забавную и давно забытую им игру. — Так?
— Угадал! Стра ашными глазами, — протянула она с некоторым тайным удовлетворением. — Сам Рашель Задунайский на той неделе целый час советовался со мной по репертуару на следующий год, он ни за что не хотел меня отпускать, пока я все не одобрю.
— Вот как! — простодушно удивился Брежнев, пребывающий в приятном расслабленном состоянии. — Раньше было иначе?
— В театре знают все, дорогой Леонид Ильич! — строго и со значением сказала Ксения и вздохнула. — И раньше, следовательно, было не так… Далеко не так. Знаменитый на весь мир Рашель Задунайский преследовал и упорно изгонял меня из театра за мою чрезмерную, как он изволил браниться, русскость и мое пристрастие к ложным якобы национальным ценностям. Здесь он всегда был беспощаден, — о о, даже страшен в своем праведном гневе…
Тут Ксения запнулась, приподнялась, глаза ее как бы сблизились, стали маленькими и сверлящими буравчиками — она одним взмахом ладони смахнула с себя волосы, вторым неуловимым движением той же ладони заставила свои уши увеличиться и обвиснуть, и в то же время подбородок у нее выпятился, стал массивным и почти квадратным, и она превратилась в какого то весьма неприятного зануду, плешивого, с небольшой заостренной головкой, все время шумно сдувающего с себя и нервно стряхивающего длинными пальцами с плеч какие то невидимые пылинки. — И что вы, дорогуша, все время твердите «русский» да «русский»? Запомните, ваше назойливое и настырное словечко далеко не главное в лексиконе человечества, дорогуша. Запомните, очень советую! И никогда оно, сие словечко, главным не будет, а мы с вами служим в реалистическом театре, поэтому и должны оставаться высокими реалистами! Вы выбиваетесь из моего общего режиссерского рисунка, из ансамбля намеренно, заметьте себе — намеренно! Рашель Задунайского не проведешь! Или подыщите другое место, или извольте приобрести естественные для моего театра цвета! — И без того тоненький и менторски занудный голос говорящего, звучавший как бы откуда то из за шторы на окне, приобрел нечто змеиное, свистящее и жалящее, и изумленно слушавший Брежнев невольно слегка отодвинулся. — Да, да, дорогуша, чуждые нашему прославленному театру идеи и систему поведения вы можете воплощать где нибудь в другом месте, хотя бы у того же давно спятившего Равенских! Но только, позвольте вас еще раз предупредить, не здесь! Не здесь, в нашем светлом храме, основанном великими корифеями! Слышите, дорогуша, нашими корифеями! — Щеки у говорившего гневно округлились, и он с силой дунул себе на грудь, затем на одно плечо и на другое и сразу как то неуловимо опал и лежал бездыханный, с пустым мертвым лицом, открытыми, но незрячими глазами, затянутыми мглистой пленкой, и нос его тоже прямо на глазах вытягивался и заострялся, и лицо окончательно деревенело.
Невольно стараясь остановить происходящее, не выдержав, Брежнев привстал.
— Ксения…
Она взмахнула рукой и накинула на себя сразу рассыпавшуюся у нее по плечам волну темно русых волос, небрежно тронула их, открыла глаза, привстала на локоть и тихо вздрогнула. И почти мгновенно, на глазах, стала прежней, молодой, очаровательной, в ее лице заиграли свежие краски, и Брежнев, бесповоротно уверенный, что эта ночь принадлежит только ему и весь остальной мир уже смирился с таким распределением и потому ничего неожиданного и неприятного не отчебучит, потребовал еще коньяку, выпил, привлек ее к себе и, чувствуя медленно и упорно разгоравшееся желание, стал целовать ее грудь, раздвигая лицом полы кимоно и жадно вдыхая теплый запах манящего женского тела.
10
Оба не хотели и даже не могли спать — обоим мешало длившееся и, пожалуй, все усиливающееся перевозбуждение. Вино тоже больше не действовало. У Брежнева пробудилось незнакомое досель чувство ревности; забыв обо всем остальном, даже о предстоящей наутро поездке в Завидово, он думал, что встречаются они с Ксенией редко и нерегулярно, а ведь между их короткими встречами у молодой красивой женщины остается уйма свободного времени, вот и лезут в голову сомнительные идеи. Ну, репетиции, ну, театр, всякая там борьба с Рашель Задунайским. А дальше? Женщине нужен рядом постоянный спутник, твердая дружеская рука, способная в нужную минуту поддержать и выправить, и надо было бы что либо придумать, помягче, поосторожнее предложить. Почему бы ей не организовать детскую театральную студию или что либо подобное?
— Ты не спишь, Лео? — спросила Ксения, повернувшись на бок, придвинулась, положила узкую ладонь ему на грудь. — Какая то странная, летящая ночь… почти бесконечная… Я не мешаю?
— Нет, нет, я думаю сейчас о тебе.
— Что же ты думаешь?
— Да вот думаю, как я мало, оказывается, тебя знаю, — не стал он лукавить. — Почти совсем ничего не знаю…
— А тебе не кажется, что это и есть самое замечательное в наших отношениях? — подумала она вслух. — Я ведь тоже о тебе ничего не знаю, даже и не стремлюсь узнать. Зачем? Можно взглянуть на сие и весьма неодобрительно, так? Я бы сочла себя даже оскорбленной — рыться в прошлом. Вот именно — зачем? Прошлое может исцелить, но может и умертвить…
— Ну, Ксения, никто не говорит, чтобы зарыться с головой в прошлое. Есть ведь и настоящее, ты вот посещаешь какое то общество, то ли словесности, то ли изящных искусств… Погоди, дай припомню — ага, какой то старины…
— Не мучайся, не трудись, Леонид Ильич, — сказала она с некоторым любопытством, приподнявшись, и поглядела ему в глаза. — Оказывается, ты не так уж и мало знаешь обо мне. Ничего особенного — просто собираются единомышленники, раз в неделю, а то и в две, и делятся друг с другом своими мыслями. Естественно, о самом заветном, размышляют, спорят…
— Издают некий подпольный журнальчик, — подсказал Брежнев, и в его голосе прозвучала легкая, почти отцовская ирония. — Кстати, самоиздат у нас запрещен по закону. Пишут под псевдонимами, пророчествуют, вещают…
— Ого! — одобрила она, принимая вызов, легкую дремоту как рукой сняло. — Зря, зря, Леонид Ильич, вы так иронизируете, оскорбляете лучшие и чистые чувства женщины, русской женщины… зря! Да и что в том зазорного, что соберутся тоскующие душой, поговорят о русской судьбе? Вы посмотрите, это же единственный в мире народ, лишенный права на выражение национального самосознания и упорно, намеренно разрушаемый… А во имя чего? Ради химеры интернационализма? Ради этого миража?
— Химеры? Миража?
— Прости, это из одной современной пьесы…
— Погоди, погоди, — остановил ее Брежнев. — Боже ты мой, что у тебя в такой прелестной головке! Химеры! Надо же…
— Прошу тебя, Лео, пожалуйста, я с детства не выношу никакой политграмоты, у меня от нее мигрень получается. Не надо, не комиссарствуй, — попросила она, смиренно прикрыв глаза с заплясавшими в них дьяволятами. — И чем уж так провинился русский народ, русский человек? За что их прямо таки на дух не переносят? Вроде бы и статью, и умом не хуже других, — чем же он такое заслужил?
Не воспринимая пока всерьез неожиданного и ненужного разговора, Брежнев блаженно потянулся, закинул руки за голову.
— Неужели для тебя нет ничего интереснее? Ну, хотя бы на данный политический момент? — спросил он лениво. — Для меня такого вопроса вообще никогда не существовало и не существует. У нас один единый народ — советский. И моя мечта, если хочешь, узаконить такое положение раз и навсегда. Ты что, не веришь?
Она вздернула носик, вытянулась, устремив широко открытые глаза в потолок, отяжеленный чуть ли не по всему пространству аляповатой и безвкусной лепниной.
— Дорогой учитель, да, не верю, — призналась она, и затаенная улыбка, далекая и отстраняющая, проступила у нее на лице. — Посмотрела бы я, как обрадуются сему новшеству, допустим, грузины, армяне, узбеки или хотя бы наши симпатичные и вездесущие милые евреи. Я представляю, с каким ужасом будет дуть себе на плечи наш гений — Рашель Задунайский…
— Слушай, Ксения, а почему, собственно, такая прогрессивная идея должна стать кому нибудь поперек горла? Ну, грузинам, туркам и даже евреям? — спросил Брежнев, начиная невольно втягиваться в нелепый разговор. — Что, собственно, здесь плохого?
— А на ком же им всем тогда ехать, если все одинаково станут советским народом? Всем этим грузинам, эстонцам, евреям и прочим инородцам? — в свою очередь удивилась Ксения. — Кого они будут учить жить, кем они станут командовать?
Недовольно заворочавшись, Брежнев сбросил ноги с кровати, потянул себе на колени простыню и закурил. «Какая то абсолютная ерунда, — подумал он, глубоко затягиваясь раз и второй. — Изумительная женщина, любого с ума сведет, а в голове сквозняки свищут. Зачем ей подобная чепуха, в такой трясине сам черт с головой и рогами увязнет. Надо будет обязательно оторвать ее от всяческих заумных умников — мудрствовать у нас каждый горазд, наговорят сорок коробов, и все лесом. Хлебом не корми — дай почесать язык. Это ведь только так говорится — хлебом не корми. Попробуй закрой магазины, сразу истина и проявится, никакое правительство без танков не усидит».
И, уже откровенно досадуя на себя за оплошность, за то, что не смог вовремя все снивелировать и втянулся черт знает в какую философию, он, накинув на себя халат, валявшийся рядом с кроватью, прошелся по комнате, затем налил себе еще коньяку в большой хрустальный фужер, а в другой вина, и присел рядом с Ксенией. Он чувствовал себя бодро и хорошо, голова была ясной, и хотелось по мальчишески созорничать, может быть, схватить вот эту женщину, так сильно и непрерывно влекущую, в охапку, бросить в машину и помчаться по пустым московским улицам, а затем и дальше — в ночь, в неизвестность, пусть бы никто не смог их отыскать, пусть…
Сквозь полуопущенные ресницы Ксения следила за ним, за выражением его крупного, сильного лица.
— Хочешь? — спросил он, протягивая фужер с вином.
— Благодарю, Лео, я люблю кавказские вина, а это выдержанное саперави вообще особенное, совсем не пьянит, и в то же время тело наливается солнцем, потрогай, даже кожа нагревается. — Она взяла фужер, осторожно отхлебнула и села рядом. — Скажи, Лео, я тебя очень огорчила?
— Нисколько, — запротестовал он, и ей стало не по себе от его какого то успокаивающего, ласкающего взгляда. — Все мы в свой черед сталкиваемся с непостижимым, с неразрешимыми загадками и стараемся перескочить пропасть в два, а то и в три приема… Такого, разумеется, еще никому не удавалось, и мы с тобой вряд ли составим исключение. Ну кто, в самом деле, объяснит, что такое русский народ? Почему про русский народ так много говорят и спорят?
— Допустим, Лео, не больше, чем о любом другом, будем объективны, — возразила Ксения, не сдерживая разгоравшееся в душе упорное желание противоречить, — она даже удивилась и приказала самой себе остановиться. — Впрочем, Лео, ты прав, смешно, такая прекрасная ночь, а мы забрели в мрачные дебри, сам дьявол ноги поломает.
Брежнев понял, но отступать уже не захотел.
— Надо же было когда нибудь поговорить, — заметил он миролюбиво после довольно продолжительной паузы, хотя уже с некоторой несвойственной ему в подобных обстоятельствах настойчивостью. — Между нами, Ксения, не должно оставаться малейших темных пятен, у нас не те отношения. Я не хочу тебя терять, не хочу даже думать об этом. Ночь сегодня объявляется ночью откровений, зачем тянуть?
— Нет, нет, кладу на уста свои печать, — засмеялась Ксения. — Я и без того тебя огорчила и ругаю себя. Ты, правда, прости меня, такова уж Евина природа…
Он по прежнему упорствовал и во что бы то ни стало решил оказаться более великодушным; он готов был пожертвовать временем отдыха, выслушать и серьезно обсудить все доводы, любые смелые мысли — и чем смелее, тем лучше. Глаза у него смеялись.
— Право же, Лео, не надо, — вновь попросила она. — Ей Богу, я жалею, у меня характер такой скверный, даже Рашель Задунайский заметил. Тебе, Лео, и самому лучше, чем кому либо другому, должно быть известно реальное положение вещей. Смешно, какая то вздорная баба должна просвещать главу государства! Нет, нет, уволь, просто прикажи на той неделе дать тебе сравнительную статистику хотя бы о соотношении русской и других национальностей в сфере высшего образования, пусть твои чиновники посчитают число академиков у русских, у других. В процентном исчислении от количества населения… ой, уйму еще можно всего вспомнить! Только к чему? Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих…
— Русские, русские, — добродушно проворчал Брежнев, продолжая находиться в превосходном расположении духа. — Кто виноват, сами себя поставили в дурацкое положение. Отхватили такой кус — два континента, и не только проглотить — разжевать не могут. Не надо тешить себя химерами — в жизни и в природе все гораздо разумнее, дважды два только четыре и никак не больше, остальное метафизика, всякая там благодать, богоносность, Третий Рим и прочая мистика. А потом из подобной галиматьи всякие контрреволюционные теорийки появляются, газетенки в подворотнях плодятся…
— Слишком уж в сторону, Леонид Ильич, я не о том говорю, — мягко возразила Ксения. — К сожалению, в чем то ты прав, у русского народа по ряду причин словно атрофировался инстинкт самосохранения, он как бы стремится к самоуничтожению, к историческому исчезновению. Послушай, пожалуйста, ведь все мы невежды, разве мы пытались хотя бы однажды заглянуть по ту сторону сущего, в неведомое, в тайну своего русского «я»? А ведь праславяне, и в особенности племя руссов — пеласгов, как потом поименовали их древние греки, а затем и римляне, — это исторические провозвестники и учителя и самих древних греков и римлян, они положили начало письменности в истории человечества, еще до шумеров и египтян… Пеласги, на древнегреческом аисты, основывали свои неповторимые цивилизации на земле, перелетая с места на место, порой на огромные расстояния, и никто до сих пор не может понять причин и природы этого движения. Микенская и этрусская цивилизации именно праславянские, они положили начало не только древнегреческой и римской культурам, они явились краеугольным камнем всей европейской цивилизации… Почему у тебя сделались такие страшные глаза, дорогой мой Леонид Ильич? Тебе кажется, что я брежу или нахожусь в жреческом экстазе? Да нет же, милый мой архистратиг! Если заинтересуешься, я познакомлю тебя и со старыми, еще дореволюционными работами, и с новыми — с продолжением проникновения во тьму… Необъятный, неопровержимый материал! Конечно же, ты не захочешь, тебе ведь нужно видеть только одни привычные, успокаивающие сны. Ты тоже, разумеется, в этом не виноват, вот только почему же у нас никакого интереса к самому важному, самому больному? Какая то медвежья спячка, знаешь, Лео, наши мужчины меня всегда удивляют. Да, да, правда ведь, что жизнь слишком коротка, не успеешь оглянуться и — прощай…
— Ксения, ты знаешь, который час? — спросил Брежнев, любуясь ее вдохновенным сейчас, летящим в озарении лицом — бледным, с сияющими глазами, и почти не слыша ее слов, тем более что не понимал их смысла. — Не волнуйся, я никогда тебя такой не видел…
— Погоди, Лео, послушай, — попросила она в безрассудной решимости приобщить его, именно его, к самому своему сокровенному и дорогому. — У меня сейчас редкое настроение, вселенская грусть… Боже, прости меня за кощунство, из меня словно вынимают душу, — взмолилась она и неожиданно истово, несколько раз перекрестилась. — Я не знаю, что происходит, Лео, пеласги собираются покинуть Землю совсем. Я вижу, они сбиваются в стаю, если их не остановить, они встанут на крыло и мы никогда их больше не увидим. Неужели тебе не страшно? Только куда им лететь? Ведь нигде больше не осталось свободного пространства, любой клочок занят… Милые, бездомные скитальцы… Боже мой, Боже мой… Или они уже исполнили предназначенное и теперь один исход — раствориться в космосе? И мы встречаем последний час человечества? Ну почему ты молчишь? Неужели Бог всех без исключения лишил разума? Тогда зачем же мы рядом?
И Брежнев, не зная, что сказать, молча обнял ее за прохладные шелковистые плечи и прижал к себе. Может быть, он впервые за время их знакомства действительно растерялся, нельзя было ни рассердиться, ни пошутить — скорее всего, она просто перебрала, слишком много выпила…
Заставив обоих вздрогнуть, ожил телефон, тот самый, что пробуждался лишь в самых исключительных случаях, к нему никогда нельзя было привыкнуть, — он был важнее женщины и больше смерти, он олицетворял собой беззастенчивость и непререкаемость власти. Он был самой властью, и Брежнев, помедлив и уже возвращаясь в привычное состояние собранности, протянул руку, взял трубку и высоко вздернул брови — на связи никого не было.
11
В специально оборудованном небольшом помещении рядом со своим парадным кабинетом Андропов вскрыл небольшой плотный конверт и достал из него второй — черный, глянцевитый. Из него в узкую аристократическую ладонь Юрия Владимировича выпала маленькая, почти миниатюрная кассета. Многие тайные службы мира не пожалели бы за эту невзрачную пуговицу целого состояния. Андропов несколько раз подбросил ее на ладони, словно взвешивая, и скоро, полулежа в удобном кресле, полуприкрыв глаза, внимательно, раз и второй, ознакомился с весьма занимательным и даже невероятным разговором генсека и главы государства со своей тайной любовницей, актрисой Академического театра. Странный разговор настолько поразил его, что он, не пожалев дорогого времени, прослушал его, переключив скорость звука на самую медленную, еще раз. Материал был передан ему по неподконтрольным для его собственных служб каналам, от некоей независимой, сочувствующей организации; о ней он ровным счетом ничего не знал, не мог и не хотел, как всякий умный человек, знать; он просто безоговорочно понимал необходимость не только прислушиваться к этой надмировой силе, но и, не впадая в ненужные умствования, выполнять ее иногда искусно завуалированные пожелания и советы. Невидимая и неведомая рука вела его уже давно, и только благодаря ей он еще ни разу, даже в венгерских событиях, не оступился и не сорвался.
Сухо щелкнув, магнитофон умолк, и наступила тишина. Юрий Владимирович продолжал оставаться в кресле, сидел не шевелясь, только в голове рождались и распадались, тут же возникая в новых комбинациях, самые различные планы и схемы.
«Ох, уж эти русисты, никак не угомонятся! — подумал он с приятным раздражением. — Какой только галиматьи не сочинят, обухом из головы не вышибешь… Ну, хорошо, хорошо…»
Шли секунды, и он слышал, как они отрывались и падали во мрак.
12
После удачного дела, сулившего принести более двухсот тысяч, Сергей Романович несколько месяцев колесил по необъятным просторам советской державы, а затем, на всякий случай, некоторое время отлеживался в одном из своих московских убежищ и все ожидал, когда же знаменитая певица вспомнит о своем обещании. Он был сентиментален и даже тщеславен, выше денег ценил искусную работу, выполненную с подлинным аристократизмом, и гордился этим. И в то же время, с чуткостью матерого зверя, он напрочь обрубил все свои внешние связи, — виртуозное и необычное дело с прославленной народной артисткой не могло не вызвать широких и долгих всплесков кругом, тут, если шило каким нибудь образом высунется из мешка, если сама народная не выдержит и растрезвонит, — а какая баба в подобном случае удержится, — проснется ревность не только у губошлепов на Петровке. Пожалуй, и на Лубянке завозятся, завздыхают. Здесь, в Кривоколенных переулках и тупичках Старого Арбата, где тени прошлого, сплетаясь друг с другом, перевоплощались иногда в самое причудливое настоящее, в просторной квартире в одном из дореволюционных домов доживала свой век вдова крупнейшего специалиста и профессора по венерическим заболеваниям Давида Самойловича Михельсона, лечившего, по темным и тайным слухам, все первое советское правительство, включая и его главу. Затем, как это и водилось в те революционные времена, профессор был незаметно ликвидирован, по утверждению тех же подпольных каналов, чуть ли не самим Дзержинским после того, как все старания профессора помочь самому Владимиру Ильичу оказались тщетными; профессор же, кроме того, сумел где то вроде бы неосмотрительно нарушить святая святых — тайну эскулапа.
Сама же вдова, бывшая горничная одной из самых любимых фрейлин последней русской императрицы и знавшая самого Распутина, кстати, в те же заветные и обвальные времена и познакомившаяся со своим будущим мужем, была личностью еще более примечательной. После стремительного исчезновения супруга она тайно возненавидела советскую власть, ЧК, лично Феликса Эдмундовича и твердо решила при малейшей возможности вредить и наносить богомерзкой власти урон; в то же время она, будучи от природы весьма умной женщиной, одаренной и жизнерадостной, преобразилась в одну из самых интеллектуальных и уважаемых столичных дам, и, каким то образом став крупнейшим подпольным специалистом по драгоценным камням, она могла с точностью до сотой процента определить классность и вес камня, а следовательно, и цену. Кроме того, она увлекалась всякими тайными мистическими учениями о судьбах уникальных именных камней и связанных с ними людей; несмотря на жестокие времена, она приобретала все больший и больший вес и влияние в полупризрачном, но всесильном мире подпольной Москвы, города кровавого, темного и досель никогда на земле не бывалого, вобравшего в себя всю глубокую тайну, тоску и ярость пронесшихся над землей времен и порожденных ими бесчисленных народов, смешав и сплавив их в себе. Да и какая же уважающая себя столица может существовать и процветать без подполья?
Впрочем, в голове страждущей отмщения и справедливости вдовы старые обиды и неурядицы расплылись и потускнели в свете новых интересов, и бывшую безутешную и скорбную вдову, жаждущую тайного отмщения, давно уже все считали добрейшим и кротким существом и называли ее лишь почтительно ласково. Свет наш Мария Николаевна, — говорили о ней ее многочисленные знакомые, или же и того ласковее — наша арбатская заступница и княгинюшка Мария Николаевна, и стоило только упомянуть эти слова, как тотчас становилось понятно, о ком идет речь, на лицах говоривших появлялись мечтательные и теплые отблески, и собеседникам как бы припоминались самые лучшие минуты собственной жизни.
Как у каждого нормального человека, у Марии Николаевны были и тайные, скрытые от всеобщего обозрения и внимания, горизонты. Так, например, она со временем оказалась каким то образом, непостижимым и для нее самой, крепко связанной и с властями предержащими, и к ней время от времени порассуждать о жизни, узнать о здоровье и нуждах одинокой женщины, а то и испросить совета наведывались официальные лица в немалых чинах. Разумеется, о кровавом Феликсе со временем было почти забыто, и важные люди приходили к Марии Николаевне запросто, хотя почти всегда неожиданно и вроде бы по самым незначительным поводам; в редких случаях и саму Марию Николаевну приглашали для разговора в театр или куда нибудь в консерваторию, а то и на ипподром, — одним словом, Мария Николаевна с годами все больше ощущала свою нужность и необходимость самым противоположным и даже враждующим сторонам; как говорили, она действительно была нужна всей Москве, и втайне этим гордилась.
Под крышей у Марии Николаевны было совершенно безопасно, здесь еще никто и никогда не пострадал, и Сергей Романович, сидя за столом напротив хозяйки и поглядывая на ее красивые до сих пор, холеные руки, унизанные старинными перстнями, про себя отмечал ее живые острые глаза, правда, несколько уже обесцветившиеся, и в который раз пытался хоть что нибудь понять в натуре этой удивительной женщины, и в свои семьдесят лет сохранившей способность преображаться в присутствии молодого мужчины.
Они пили чай с маковым калачом, еще на столе стояла бутылка хереса и два фужера. Сергей Романович то и дело подливал хозяйке. Сам он сладких вин не терпел, а водку и коньяк здесь с утра не давали. Шел легкий и привычный разговор о последних событиях на Москве, но и Сергей Романович, и хозяйка словно чего то ждали и время от времени начинали как бы к чему то прислушиваться.
— Ах, Сереженька, ну что ты меня нынче все пугаешь? — сказала наконец Мария Николаевна. — Я тебя, милый друг, не узнаю! Успокойся. Меня еще никто и никогда не обманывал, и никто никогда не посмеет допустить подобной неосмотрительной глупости. Это была бы его последняя глупость!
Мария Николаевна говорила весело и с неколебимой решительностью, и Сергей Романович, хотя его последнюю неделю и одолевали тайные сомнения, рассмеялся.
— Надоело взаперти, простору хочется, — пожаловался он, и хозяйка, лукаво взглянув, легонько погрозила пальчиком — точь в точь невинная, капризная девочка.
— Знаем мы, чего вам хочется, дорогой мой! — сказала она и опять мило и успокаивающе улыбнулась. — Придется еще подождать чуть чуть, деньги всегда успеешь на ветер пустить. Ох уж современная молодежь! Все куда то рвутся, рвутся, то целину осваивать мчатся, то в космос сломя голову несутся, вроде бы на земле, в той же Москве, ни дела, ни целины им нет! Глупости! Одни глупости!
— Ну, за такие проценты могли бы и поживее поворачиваться, — подумал вслух Сергей Романович и вновь вопросительно глянул. — Билеты не забудут? Давненько я у теплого моря не был…
— Ах, молодость, молодость! — вновь вздохнула Мария Николаевна. — Сказано же было, друг мой, у нас ничего забывать не положено и нельзя, — ты у меня не в первый раз. Да и проценты для такого дела самые обычные. Сам знаешь, сюда входит и квартирка, икорка, коньячок, Сереженька, а ты его за месяц здесь, дай Бог памяти…
— О чем вы, княгинюшка Мария Николаевна? — спросил Сергей Романович с некоторым изумлением. — Подобные мотивы в нашем общении до сих пор отсутствовали, мы с вами слишком высоко взлетели.
— Сереженька, браво, браво, ты такой умный для своих лет, — польстила хозяйка на всякий случай, хотя и не совсем поняла гостя. — А что же с тобой будет в зрелые годы?
— Если нам суждено будет достичь столь манящих вершин, мы, скорее всего, поглупеем и остепенимся. Хотя, дорогая княгинюшка, судя по результату вашей собственной жизни…
— Негодник! — полыценно воскликнула хозяйка и выпила еще хересу. — Мой трагический супруг, незабвенный Давид Самойлович, бывало, говаривал мне, будучи в хорошем настроении, нечто подобное. «В тебе, Машуня, говорил он, есть что то от искусительного, затаившегося бесенка, нечто такое запретное есть, знаешь. С тобой, Машуня, никогда не соскучишься…» И тебе, Сереженька, не надо сейчас скучать, приглашаю тебя сегодня в театр, в Академический, вот вечерок и скоротаем. А завтра уж обязательно все прояснится. И мне, милый мой юный друг, лестно будет с таким кавалером в свете появиться. Загадочно и таинственно! Мы должны были с приятельницей идти, а она прихворнула. Соглашайся, милый мой, поскорее, пока я не передумала.
— А я согласен, меня не надо упрашивать, — решительно заявил Сергей Романович; ему недавно из самых надежных рук стало известно о том, что происшествие на даче у знаменитой народной певицы не получило никакой казенной огласки, все осталось под спудом, а день тому назад, на концерте по телевидению по первой программе, Евдокия Савельевна Зыбкина выполнила свое обещание, исполнила, что вызвало массу догадок и пересудов в московских артистических кругах, да и не только в артистических, в честь некоего ночного незнакомца «Пуховый платок», и даже Мария Николаевна, давно и прочно настроенная в отношении певицы весьма скептически, была удивлена теплотой и проникновенностью ее голоса и признала в разговоре со своим гостем, что Зыбкина сама из себя выскочила. А Сергей Романович даже почувствовал некое угрызение совести и, растроганный до крайности, предложил за ужином выпить за подлинные русские таланты. И Мария Николаевна, проницательно глянув, согласилась; все таки, если бы заглянуть поглубже, пришлось бы признать, что хозяйка была несколько влюблена в своего временного квартиранта.
К вечеру, облачившись в бежевую пару, повязав галстук, Сергей Романович еще больше помолодел; он был предупредителен и вежлив со своей дамой, и Мария Николаевна окончательно растрогалась и еще до спектакля попросила пригласить ее в буфет и угостить хорошим шампанским, а когда они заняли свои места в третьем ряду партера, она совсем разволновалась, достала платочек и бережно притронулась к глазам.
— Мне кажется, Сереженька, сегодня какой то особенный день, — призналась она проникновенно. — Грустно, милый мой мальчик, жизнь стремительно проносится!
— Я слышал, время не имеет значения для женщины, — улыбнулся Сергей Романович и прищурился на тяжелый занавес, слегка колышущийся от скрытого движения воздуха, отчего эмблема прославленного театра — широко раскинувший острые крылья по всему занавесу альбатрос или буревестник — тоже приобрела законченную устремленность и даже нечто еще более пророческое: птица словно готовилась вот вот возвестить о чем то окончательном, касающемся судеб всего мира и человечества. Подумав об этом, Сергей Романович пришел в еще более хорошее и веселое настроение; он положил ладонь на руку своей дамы, лежавшую на подлокотнике кресла и сверкавшую крупными красивыми камнями.
— Сложись судьба иначе, дорогая княгинюшка Мария Николаевна, я бы не отказался промчаться вместе с вами на лихих рысаках по этому нашему великому времени, пусть бы это длилось хоть несколько мгновений! Рысаки в яблоках, вы — в дорогих мехах и алмазах! — торжественно возвестил он, и Мария Николаевна легонько стукнула его по руке.
— Шалун, Сереженька, шалун! — сказала она и слегка погрозила, хотя ей и было приятно, — Однако, дорогой мой, я сегодня все таки предчувствую далеко не ординарный день, что то случится!
Сергей Романович не успел ответить, хотя на языке у него вертелась еще одна любезность; по театру прошло особое, предшествующее только исключительно важным событиям, движение воздуха, и тотчас весь зал, до предела заполненный празднично настроенными людьми, пришел в некоторое приятное возбуждение и волнение. Пошли приглушенные шепотки, понеслись многозначительные взгляды, многие головы повернулись к центральной ложе, задрапированной тяжелым вишневым бархатом; дружно, ряд за рядом, и партер, и в амфитеатре, и на балконах, все встали, и раздались гулкие аплодисменты. В центральной ложе появился сам Брежнев, за ним смутно светлело еще несколько лиц, среди которых угадывались Суслов и Громыко. Приветливо улыбаясь, Леонид Ильич кивнул в пространство перед собой и сел, и тотчас послышалась негромкая музыка, пошел занавес, буревестник ринулся вверх и исчез, и на сцене в старых боярских хоромах стали ходить и разговаривать важные царские и государственные мужи, почти все в бородах и шапках, в парче и самоцветах. Давняя, уже два с лишним столетия тому назад отшумевшая жизнь потекла в притихший зал, и, естественно, каждый воспринимал ее по своему. Многие в этот вечер пришли поглядеть на разгоравшуюся все ярче звезду обворожительной Ксении Дубовицкой, игравшей Ирину, жену царя Феодора Иоанновича, и не пожалели; и сам царь, и царица были ослепительной парой, людьми не от мира сего, стоявшими и державшимися против накатывающегося вала ожесточения и злобы только добром и своей беззащитностью; вдруг в зале пахнуло всепокоряющим чувством какой то особой человеческой нежности, вздымавшейся до самоисступления, когда приходилось защищать и отстаивать самое дорогое — любимую женщину.
Следившая краем глаза за своим кавалером Мария Николаевна тотчас отметила его повышенный интерес именно к Ксении Дубовицкой; как только она появлялась на сцене, Сергей Романович вжимался в кресло и уже не отрывался взглядом от умной, одухотворенной царицы, от ее любящего, страдающего, почти пророческого лица, — однажды ему показалось, что царица смотрит именно на него, что их глаза встретились в каком то немом узнавании и приятном изумлении, и он ощутил, как сильно и жарко забилось сердце. Ему представилось затем и вовсе невероятное, словно бы она ждет его и он приходит, и они одни в чудных палатах, и она поднимается к нему навстречу и медленно протягивает руки…
Несколько покосившись в сторону Марии Николаевны, он замер, и в антракте, вновь угощая свою даму шампанским и мороженым, он сказал:
— Низко вам кланяюсь, княгинюшка, хороша царица, знаете, не женщина, какой то бес, вроде бы молчит, не смотрит, а у тебя по сердцу так и скребет… А фигура! А? Да вы не ревнуете ли, княгинюшка Мария Николаевна?
Отхлебывая холодное шампанское и заедая его еще более холодным мороженым, что указывало на отменное здоровье, Мария Николаевна загадочно посмотрела на своего кавалера и, еще более разжигая его интерес, интригующе улыбнулась.
— Милый мой мальчик! Не надо! — сказала она с материнской заботой. — Сие деревце не по тебе, да и зелен ты еще, не дотянешься до такого яблочка. Видел, кто в театр то пожаловал, в центральную ложу? Думаешь, ему делать больше нечего, только царя Феодора смотреть?
— Как? Да он же старик, труха сыплется! — возмутился Сергей Романович, тотчас все схвативший и понявший и даже картинно вознегодовавший. — Какая самонадеянность и безнравственность! Не может такого быть!
— Еще как может! — заверила его Мария Николаевна, довольная его непритворным изумлением, и отхлебнула шампанского. — Жизнь, она и есть театр, мой милый юноша, не надо заблуждаться. Ты только только вступаешь на подмостки, ну, и слава Богу, не заглядывайся слишком уж высоко…
— Вы меня сразили, княгинюшка, — вздохнул, явно мрачнея, Сергей Романович. — А я ведь человек отчаянный, вы знаете, у меня своя ахиллесова пята, порой мне становится отчаянно скучно, мне требуется забыться. Я ведь по своей природе поэт, да еще лирический, иногда на стихи тянет, пишу, пишу, и — в огонь. Я под настроение и в пропасть могу шагнуть с самой светлой улыбкой…
— Не пугай, Сереженька, что ты! — запротестовала Мария Николаевна. — Не надо завидовать старшим, грех, грех непростительный! У тебя впереди вечность, а у него… Старость, Сереженька, такая угрюмая штука! Я его понимаю и приветствую! — выразительно повысив голос, она трагически устремленно вскинула голову, словно увидев привидение, и вновь отпила глоток шампанского.
— К нему, вероятно, и следует быть снисходительнее, — возразил Сергей Романович, потеплев и окончательно размораживаясь и отлично понимая, о чем и о ком идет речь. — Ну, а к ней? Невозможно и нельзя такое прощать, уверяю вас, оскорбительно для самой жизни!
— Ох как высоко! Не смеши, Сереженька, какой ты еще зеленый! — восхитилась Мария Николаевна. — Я тебе завидую, тебе еще предстоят самые изумительные открытия… И одно из них, пожалуй, друг мой, самое великое, — попытаться совершить невозможное — постичь душу женщины. Боже мой, какой восторг! Тебя ожидает такой бешеный, влекущий ад! И никакой возраст мужчине здесь не помеха — так до самого конца, жизнь ведь не останавливается никогда, даже если ты, не дай Бог, помираешь…
Пожав плечами, Сергей Романович проводил свою величественную даму в фойе и, попросив разрешения, отправился в курительную. Раздумывал над словами своей давней благодетельницы, прозвучавшими как то особенно уж неожиданно, он недолго; он действительно был еще слишком молод для таких мудрых обобщений, дающихся порой только опытом долгой и трудной жизни. Но если бы он мог сейчас одновременно присутствовать в самых различных помещениях и закоулках хотя бы одного Академического театра, он бы убедился в правоте и трезвости слов своей спутницы, многоопытной и мудрой женщины, — жизнь в самом деле никогда и нигде не прекращалась и не останавливалась, и если в артистических уборных отдыхали, злословили по поводу присутствия в театре самых заоблачных верхов государства и пытались определить, какими последствиями обернется это в театре для каждого лично, причем каждый из занятых в спектакле стремился как бы невзначай попасться на глаза именно Ксении Дубовицкой и переброситься с ней одним двумя ничего не значащими словами, то сам признанный глава и движитель прославленного театра Аркадий Аркадьевич Рашель Задунайский был приглашен в особую залу, соединенную только с центральной ложей и, как правило, всегда закрытую и находящуюся на особом режиме и под постоянным спецконтролем. Здесь сам министр культуры подвел слегка косящего от скрытого волнения Аркадия Аркадьевича к главе государства, и Рашель Задунайский, подтверждая сложившееся о нем мнение как о предприимчивом и талантливом руководителе, сразу же пошел на опережение событий.
— Здравствуйте, здравствуйте, Леонид Ильич, — сказал он задушевно, пожимая протянутую мягкую ладонь и слегка задерживая ее в своей. — Мы впишем сей светлый день золотыми буквами в историю нашего театра. Я давно хотел обратиться к вам, Леонид Ильич, с одной просьбой. Нас давно притесняют за излишнюю склонность к прошлому, вот и Петр Нилыч подтвердит. И правильно нас критикуют, знаете, Леонид Ильич, мы и сами мечемся в поисках современных тем и авторов — так непросто, так нужно! Знаете, Леонид Ильич, что бы вы сказали, если бы наш театр инсценировал «Малую землю»? Гарантирую, прекрасный бы, глубокий, народный получился бы спектакль! Нужный! Героический! Современный! Соглашайтесь, Леонид Ильич! Мы никогда не уроним ваше славное и дорогое имя!
Несколько озадаченный таким напором, втайне польщенный, Леонид Ильич оглянулся на Суслова, взглянул и на министра культуры, как бы прося о совете и о помощи, о содействии и защите, затем, доброжелательно прищурившись на Рашель Задунайского, вдохновенно и артистически изящно стряхивавшего у себя с лацканов пиджака что то невидимое, и в душе одобряя и понимая действия руководителя театра, пригласил:
— Прошу по рюмочке, Аркадий Аркадьевич. Не будем торопиться. У вас прекрасный театр, вполне возможно, что современности и не хватает. Дело, я полагаю, вполне поправимое. За дальнейшие успехи вашего театра! — подытожил Брежнев, и Аркадий Аркадьевич бодро тряхнул остатками шевелюры за ушами и на затылке и лихо опрокинул рюмку коньяку. Стараясь не упустить момент, не тратя времени на закуску, отмахнувшись от бутерброда с паюсной икоркой, кем то подсунутого ему, он сразу же вновь нацелился на главу государства с самым искренним намерением поведать ему о жгучей необходимости Академического театра, единственного в мире по своей классической направленности, иметь свой филиал, где бы они могли обкатывать современную тематику, но бдительный Петр Нилыч, холодно поблескивая глазами, каким то образом уже оказался между хозяином театра и главой государства. С ласковым и добродушным видом он стал отодвигать Аркадия Аркадьевича в сторонку, приветливо улыбаясь ему и приглашая в удобный момент пожаловать в министерство культуры лично к нему и там решить и оговорить любой вопрос.
И тут же бодро грянул первый звонок. Рашель Задунайский, вздрогнув и переменившись в лице, помчался за кулисы в твердом намерении успеть сказать несколько слов самой Дубовицкой; как бывает иногда с глубоко творческими натурами, у него вдруг вспыхнуло воображение, и он увидел перед собой одну из мизансцен совершенно иначе, чем до сих пор; он несся по переходам и лесенкам с вдохновенным лицом, но, как это и случается в действительности, магический круг в театре именно в этот знаковый вечер замыкал собой некий один и тот же центр и всех уравнивал в правах, хотя и касалось это множества самых разных, чужих и незнакомых друг другу людей. Что там значил сейчас даже сам всемирно признанный мастер Рашель Задунайский со своими честолюбивыми амбициями, планами и замыслами в отношении своего стремительно накатывающегося шестидесятилетнего юбилея? Ровным счетом ничего. Здесь все в этот вечер были равны.
И тот же Сергей Романович, решивший успеть выкурить в антракте сигаретку, не подозревая об этом, тоже был втянут в вихревое, стягивающееся к центру движение, незаметно и властно захватившее его и неслышно понесшее дальше.
Он уже хотел бросить догоравшую сигарету в урну, когда кто то тронул его за плечо; с приветливой готовностью оглянувшись, он увидел своего старого напарника по ряду дел, известного в подпольном мире под кличкой Обол. Легкая тень пробежала по лицу Сергея Романовича, правда, уже в следующий момент он успокоился.
— Закурить? Пожалуйста, — сказал он, вытаскивая из кармана пачку сигарет и протягивая ее Оболу, ладно подстриженному, в добротном костюме, и пропахшему, казалось, насквозь модным «Шипром» — одеколоном всех уважающих себя мужчин средних лет и в Москве, и далеко за ее пределами. — Ты что дуришь? — спросил он, слегка понижая голос, продолжая приветливо улыбаться, и щелкнул зажигалкой. — Что нибудь стряслось?
— Да ничего, — ответил Обол, затягиваясь, и, помедлив, незаметно кося глазами, слегка отступил в сторону, в угол; курительная комната тонула в сизых волнах табачного дыма, вентиляторы не успевали вытягивать дурманящий смрад. — Знаешь, увидал, не удержался, — усмехнулся Обол, и его круглое, почти безбровое лицо доверительно качнулось. — Случайная встреча, я здесь по одному дельцу, сказать — не поверишь. Из за бугра заказ.
Заставив себя встряхнуться, Сергей Романович остро глянул, он хорошо знал своего давнего напарника и не верил в случайные встречи.
— Рассчитаемся на днях, — сказал он, вторично отмечая какой то новый, незнакомый ранее налет на всем облике Обола, не находя этому объяснения и настораживаясь еще больше. — Я тебя сам найду…
— Ты зря, — сказал Обол, показывая обиду. — Я с тобой сроду в кошки мышки не игрался. Правду говорю, одно дело наворачивается, шик с оркестром…
Ничем не выказывая своего интереса, Сергей Романович лишь исподлобья глянул и с готовностью, дружески кивнул; Обол мог быть только исполнителем, и Сергей Романович, перебирая в уме возможные варианты, предложил сходить в буфет, пропустить по стаканчику коньячку, сдобренного шампанским. Обол судорожно глотнул и с усмешечкой отказался.
— Ты что, не знаешь, кто сегодня в театре? — спросил он и повел глазами по сторонам. — Здесь сегодня на каждого зрителя по три легавых…
— Тс с с! — остановил его Сергей Романович, по прежнему безмятежно улыбаясь. — Ничего особенного, они тут по своему казенному делу, что им до нас с тобой? Пойдем, ничего ведь не изменится, а нам праздник души. Хотя как хочешь, я пошел, надо горло промочить, больно уж зацепило… А какая царица, какая Иринушка! Роскошь, никакими словами не выразить… Совлечь бы с нее царскую мишуру, — жизни можно не пожалеть! А, Обол? Пока, я пошел, не могу, сердце горит.
Полуоткрыв от изумления рот, Обол придержал давнего и проверенного дружка за рукав; на какое то мгновение ему стало не по себе, прорезалось в душе смутное предчувствие, почти откровение, и он, ничего более не говоря, двинулся рядом с Сергеем Романовичем, невольно привлекавшим своей молодостью и красотой взгляды не только женщин, но и мужчин, очевидно, натур утонченных и возвышенных, обязательно посещавших каждый знаменитый театр. Скоро два старых приятеля уже стояли у высокого мраморного столика и пили задиристую смесь коньяка с шампанским. В верхнем буфете, выбранном Сергеем Романовичем из опасения встретить свою даму, стоял солидный, сдержанный шум; люди ели мороженое, пили пиво, лимонад и чай, угощали женщин шоколадом и конфетами. Несмотря на такую мирную, даже несколько сонную обстановку, у Сергея Романовича нежданно негаданно проснулась тревога. Он словно почувствовал на себе цепкий, недобрый взгляд со стороны, и хотя он твердо знал, что ничего опасного рядом нет, он, поправляя галстук, незаметно осмотрелся.
«Да нет, здесь, видимо, нечто из другой оперы, — сказал он сам себе и неожиданно остро глянул в начинавшие слегка разъезжаться глаза Обола. — Откуда у него прорезалась такая прыть? Черт знает, кто у него сейчас за спиной…»
Доверительно усмехнувшись и кивнув Оболу, Сергей Романович принес еще два таких же фужера с золотисто мерцавшей, приятной и благородной смесью и предложил:
— Ну, старый друже, по последней, скоро третий звонок. Значит, завтра позвоню, получишь свой ломоть. Я пока ложусь на дно, чувствую, прилип к этой Иринушке, я ее хоть за семью запорами возьму…
— Не дури, — с некоторым даже испугом посоветовал Обол и для большей убедительности значительно поморгал. — Ладно уж, я тут тоже ради этой дамочки, присмотреться надо. У нее какой то камешек есть, еще с мрачных царских времен закатился, говорят, обалдеть можно, пять зеленых лимонов сулят. Верное дело, есть заказец. Что ты, другой не найдешь?
— Прытко, прытко, ну у, пры ытко, — протянул Сергей Романович, и его глаза вспыхнули, заискрились из самой глубины. — А что ж ты, друг мой сердечный, в чужой заказник лезешь? Вроде умный человек…
— Да я и хотел с тобой поговорить, посоветоваться, — торопливо сказал Обол. — Я сам такой кус брать отказался, от своих же ханыг не отобьешься. Замочат… Хорошо бы нам вдвоем…
— А у тебя и другая стеженька есть? — с быстрой и жесткой усмешкой поинтересовался Сергей Романович. — Давай, выкладывай с самой изнанки. Да и откуда такие жареные пирожки? Знаешь, пожалуй, погодим до завтра, а встретимся, потолкуем в надежном месте, а то здесь и народу, кроме нас с тобой, не осталось. Спектакль начинается. Смотри, Обол, — с ласковой вкрадчивостью добавил Сергей Романович. — Не вильни ненароком в чужую подворотню, ты меня знаешь.
И Обол, стараясь не опустить глаз, согласно кивнул. Уже сидя рядом со своей дамой, слегка попенявшей ему за столь продолжительное отсутствие, Сергей Романович, отяжелев, затих и нахмурился; обаяние спектакля пропало, растворилось, и он, неизвестно на кого, даже слегка обиделся. Навалилась почти детская, глупая, искренняя обида, но от этого легче не становилось, в летучем пустяке проступило нечто глухое и тяжкое, неподконтрольное никакому разуму. Сергей Романович стиснул подлокотники кресла.
«Вот, вот, — сказал он себе, глядя на мишуру и суесловие жизни, разворачивающейся на сцене все неизбежнее. — Да, бояре, цари, вожди, генсеки, министры… Для них все и всегда, для других, для меня, например, или для Обола, — шиш с маком. А почему, собственно? Кто, какой сенат постановил и завизировал? Земной? Небесный? Говорят, судьба… А что это за зверь? Вот ходит себе по сцене Иринушка, царица бессеребреница, все о Боге да о Божественном толкует, а дома — камешки, именные бриллиантики не в один миллион долларов… Если верить Оболу, за ними по всему свету охотятся. А почему и не поверить? Как такое понимать? Откуда? Тот же товарищ Брежнев преподнес из царской еще сокровищницы? Так какое он имел право на такую щедрость? Или и тут по еврейски — что увидел, то и мое? И это тоже, значит, мое? А вот здесь мы еще посмотрим!» — внезапно повеселел он, в каком то особом предчувствии подступавшего одиночества в лживом и порочном мире окрест.
Его состояние уловила чуткая Мария Николаевна и своим опытным и зорким взглядом раз и другой с интересом ощупала четко застывший профиль своего молодого соседа.
13
Была истина и была вера, и была жизнь с ее суетой и тщеславием, с ее мелкими и злыми неурядицами и обидами, и все как бы разделялось на две половины. Истинно подлинная жизнь для Ксении начиналась на сцене, она окрыляла и одухотворяла ее, наполняла смыслом и бесконечные серые будни межвременья, и тогда само время исчезало, не было ни лет, ни досадных, утомляющих забот, а была неиссякающая, вечная жизнь без начала и завершения, была одна вечная река, несущая свои таинственные воды в неведомое, и Ксения сама, грешная, земная баба, со всеми своими слабостями и пороками, бесследно растворялась в неостановимой реке бытия, и сама становилась жизнью и смертью, но в этот вечер, когда Академический театр почтил своим присутствием сам глава государства, даже вечно недовольный Рашель Задунайский был заворожен. Ксения в своем перевоплощении в образ несчастной царицы как бы переступила черту возможного — она словно объяла чутким страдающим сердцем, пытаясь его смягчить, весь жестокий мир вокруг, и старый, прожженный театральный сатрап, привыкший к безраздельному владычеству в своем призрачном мире, почувствовал некое смятение; эта ясная и могучая душа уже навсегда выпорхнула из под его тяжелой власти в тот простор духовной свободы, куда он все время стремился прорваться, но так и не смог. И Рашель Задунайский невольно подумал о цепенящем, бесстыдном, недопустимомдля открытого проявления таинстве жизни, творящемся у всех перед глазами, и почувствовал кожей, всем нутром, что это самый великий, вершинный момент и его пути. Когда занавес упал и после жуткого, могильного провала зал обреченно вздохнул и только затем взорвался, — Ксения молча, никого не видя и не замечая, пошла к себе, сама не осознавая, что же произошло и почему она никак не может разорвать неведомую, тяжкую нить, намертво связавшую ее сегодня с залом, с темной человеческой бездной. Она и шла как то слепо, на ощупь, даже слегка выставив перед собой ладони, чтобы на кого либо не натолкнуться.
И тогда сам Аркадий Аркадьевич Рашель Задунайский, оказавшись у нее на пути, завладел ее бессильно повисшими руками, несколько раз жарко и восторженно их поцеловал и, приводя окружающих в изумление, неловко шлепнулся на колено и, не скрывая навернувшихся слез, прогудел:
— Спасибо, царственная, несравненная, благодарю, Ксения Васильевна… Я потрясен — невероятно! Непостижимо! Гениально!
— Что вы, что вы… Пожалуйста, не надо, встаньте, — не сразу, словно еще никак не могла очнуться, пролепетала она. — Вы меня пугаете… Встаньте, встаньте, пожалуйста… Прошу…
По юношески бодро вскочив, он поцеловал ее в лоб, и она не успела отстраниться; рев в зале достиг предела, и Рашель Задунайский, неуловимо направив Ксению в обратную сторону, властно и нежно подтолкнул ее в нужном направлении.
— Не могу, — взмолилась она с начинающим гаснуть лицом. — Ради Бога, я не могу…
— Можете, можете, надо, — коротко и ласково, сам страдая, сказал он, и глаза его сияли.
Покорно вздохнув, она выпрямила голову и пошла кланяться, по прежнему ощущая все ту же неразрывную нить, мучительно соединяющую ее с осатаневшим залом, требовавшим ее покаяния и гибели, хотя она знала, что это не мог быть зал полностью, что это был только один человек, и, конечно, не Леонид Ильич, а кто то другой, ей неизвестный.
В уборную ей принесли роскошный букет свежих роз, бархатно темных, почти траурных, и она, поблагодарив, облегченно вздохнула; кроме цветов и очередного подарка, красиво упакованного в глянцевитую плотную бумагу, других неожиданностей не было.
— Машина вас ждет, Ксения Васильевна, — сказал ей посланец, приятный и уже знакомый молодой человек. — Я, если не возражаете, провожу вас домой.
— Очень признательна, — кивнула она. — Я сейчас, только переоденусь. Моя Устинья Прохоровна отправилась навестить больную подругу, хорошо будет сейчас побыть одной… Не пускайте ко мне, пожалуйста, никого, мне трудно разговаривать…
— Слушаюсь и повинуюсь! — Высокий посланец с готовностью исчез за дверью, и через полчаса он, внеся в переднюю ее квартиры цветы и подарок, молча раскланялся и, минуя лифт, бодро застучал каблуками, сбегая по лестнице вниз, а Ксения, бессильно опустившись в старое уютное кресло прямо в передней, застыла; глядела в высокое трюмо в раме черного дерева напротив и ничего не видела, даже себя, рыхлой грудой отражавшуюся в начинавшем мутнеть от времени толстом стекле.
«Надо бы дверь закрыть», — мелькнуло у нее в голове, но время остановилось, и она, отдавшись покою и тишине, с наслаждением откинула голову на спинку кресла; странный, непостижимый вечер, такого еще не случалось. Ей явлен знак, несомненно, что то должно произойти, что то переломное…
Она вздрогнула, открыла глаза и подумала, что ей померещилось, но стук в дверь повторился. Стянув на шее ворот плаща и тут же подумав о вернувшейся от больной подруги нянюшке, она обрадовалась и, сразу успокаиваясь, сказала:
— Входи, баба Устя, входи! Что я тебе расскажу… Боже… что это значит?
Она хотела встать, но не смогла, очередной приступ слабости разлился по всему телу, ноги онемели и не слушались — она лишь сильнее вжалась в кресло.
В дверях стоял высокий молодой человек в светлом костюме с букетом оранжевых хризантем, и на лице у него дрожала неуверенная улыбка, белели ровные зубы, глаза были широко распахнуты и лучились. В следующий момент сердце у нее вспыхнуло и оборвалось; незнакомое, мучительное чувство охватило ее. От незнакомца словно шли волны теплой, ободряющей энергии, он был красив какой то особой, завораживающе строгой мужской красотой, и она почему то решила, что раньше уже видела его, не могла не видеть. И притом совсем недавно.
— Не пугайтесь, — услышала она негромкий приятный голос. — Я просто должен взглянуть на вас, сегодня вечером вы душу мне перевернули. Иначе я не мог…
Она нашла в себе силы спокойно, даже безмятежно улыбнуться; происходящее нельзя было объяснить, но этого и не требовалось, глаза незнакомца, светившиеся нежностью и обожанием, сказали ей обо всем. Не желая того, она потянулась на непреодолимый зов, и все в ней смешалось и рухнуло, и невозможное стало реальным, необходимым и мучительно простым. «Боже, не смей, не смей! — попыталась она оборвать. — Не сходи с ума!» — и в то же время каким то безошибочным чувством знала, что в лице этого одуревшего от внезапно вспыхнувшей страсти молодого незнакомца к ней пришло спасение и сопротивляться бессмысленно и невозможно.
— Верю, так тоже бывает, — проронила она негромко, не отрывая от молодого человека взгляда и заставляя себя встать и шагнуть ему навстречу. — Раз уж вы пришли, помогите мне снять плащ. Цветы предназначены, надо думать, мне? Спасибо… признательна…
Он передал ей букет, ухитрившись задержать ее руку в своей и поцеловать, губы у него были сухие и жаркие.
Он осторожно снял с нее плащ, стараясь не прикасаться к плечам, и повесил на стоявшую у двери старинную круглую вешалку, увенчанную шляпками и зонтиками; он не знал о предстоящем даже через минуту, но все равно он не смог бы только попрощаться и уйти, он уже знал, что эта женщина, неожиданная и до сих пор совершенно ему чужая, была теперь его судьбой. Чувствуя ее неотступный взгляд спиной, он повернулся.
— Благодарю, — сказала она, теперь уже с некоторым удивлением, зарываясь лицом в хризантемы. — Пожалуй, теперь не помешало бы представиться…
— Сергей Романович Горелов, — тотчас отозвался он. — Коренной москвич, скоро стукнет тридцать… Так, вольный художник. До сих пор — вольный…
Слегка склонив голову и внимательно выслушав, Ксения замерла в раздумье с полуулыбкой на губах, словно осуждая самое себя за что то недозволенное.
— Значит, Сергей Романович, — вслух подумала она, и от новой неожиданной мысли об очередном, ворвавшемся в ее жизнь темном вихре, в один миг взбунтовавшем всю ее душу, отозвавшемся потаенной дрожью в каждой клеточке тела, она еще больше похорошела. — Вы живописец, композитор или пишете пьесы?
— Пишу пьесы? — переспросил он и, раздумывая, морща лоб, круто сдвинул брови. — Пожалуй, хотя, простите, скорее всего, я работаю маслом. Люблю неуловимые переходы от света к тени… И густые тона мне тоже нравятся… знаете, сочный мазок…
Стараясь понять и привыкнуть, Ксения еще больше склонила голову, — теперь ее глаза превратились в темные бездонные провалы, и в них лишь слегка угадывался потаенный горячий блеск.
— Очень интересно, значит, маслом, — сказала она. — Знаете, Сергей Романович, я хочу предложить вам выпить чаю. Глупо, правда? Лучше выпить вина, прошу в гостиную, там в баре что либо обязательно отыщется. Проходите же, проходите! Я только поставлю в вазу цветы, жалко будет, если они умрут… Прекрасные хризантемы, никогда не видела таких рыжих… и крупных…
Она помедлила, по хозяйски пропуская неожиданного гостя впереди себя в гостиную, большую, просторную, со светлым, под слоновую кость, роялем, со старинными темными картинами, затем она принесла в ковшике воды, осторожно, по одной, опустила в высокую вазу хризантемы.
Все это время Сергей Романович молча стоял, делая вид, что заинтересованно рассматривает Левитана, с ветром в вершинах берез и беспокойной весенней водой, разлившейся по начинавшей освобождаться от снега земле, хотя на самом деле он ничего не видел. Все ненужное и запретное в его жизни отхлынуло, как бы перестало существовать, и он просто боялся оглянуться и выдать себя. Он сказал себе, что эта женщина должна и будет принадлежать только ему и что это бесповоротно изменит его жизнь. В следующий момент он вздрогнул, в тишине прозвучал и поплыл тихий, медленный аккорд — Ксения мимоходом тронула клавиши радиолы.
Он оглянулся. Хозяйка уже поставила на стол несколько бутылок и цветные фужеры; она тоже двигалась словно в каком то тумане, усталость прошла, и тело, в предчувствии чуда, обрело девичью легкость и стремительность. Ей опять стало страшно.
Поставив на стол вазу с виноградом, она попросила:
— Налейте же вина, Сергей Романович. Я вас не оскорбила? Кажется, это мужское дело… Вот штопор. Коньяк тоже открывайте, немножко не помешает. Где то был еще соленый миндаль…
Окончательно привыкая друг к другу, они выпили густого темного вина, и Ксения, пристально глядя на него, вновь подумала о своей такой странной беззащитности и незащищенности.
— Ах, Сергей Романович, Сергей Романович! — сказала она, придвигая к нему вазочку с соленым миндалем. — Ничего не понимаю. Мне бы надо просто попросить вас уйти, а я почему то не хочу… Вот вы возникли из московской ночи, и я вам верю… сразу поверила. А ведь вы можете оказаться каким угодно страшным злодеем… Ваше здоровье, Сергей Романович! — Она подняла бокал, темное вино в нем задрожало, мглисто заискрилось.
— Разве злодеи появляются таким образом? — спросил он и тоже слегка приподнял бокал. — За вашу красоту, за вашу душу, за ваш повергающий любую гордыню Божий дар, Ксения Васильевна! И за счастье видеть вас сейчас, быть с вами рядом!
Она почувствовала прилившую к лицу кровь.
— Не надо, я и без того сама не своя, не понимаю, что это со мной творится. И потом, так поздно, совсем глухая ночь, все нормальные люди в Москве давно уже спят. А что же мы с вами творим? Простите, а вас никто не заметил, не окликнул, когда вы входили в подъезд? — неожиданно поинтересовалась она, и он ответил понимающей усмешкой.
— Нет, — сказал он успокаивающе. — Я ведь просто миную двери, прохожу…
— И опять не надо, Сергей Романович! — попросила она, но ее глаза, полуоткрытые губы говорили другое, — они уже оба не могли всего лишь раскланяться и расстаться.
— Может быть, и не надо, — отозвался он, не отрывая от нее горячего взгляда. — Только так будет нехорошо, не по божески. Хотите, я расскажу о себе все, все, самое тайное…
— Ах, зачем? — остановила она. — Мне все равно, кто вы и откуда появились. Разве дело в этом? Вы должны танцевать, — предположила она, окончательно решаясь и отбрасывая все мешающее и ненужное сейчас. — Я приглашаю вас, Сергей Романович, на погубительный и прелестный «Венский вальс». Нам нужно успокоиться, музыка для этого самое верное средство.
Она обошла стол, положила руку ему на плечо, — у него были радостно сумасшедшие глаза. Они прильнули друг к другу, их подхватило, втянуло в себя, закружило и понесло медленное, завораживающее движение; они ощутили ждущие, напряженные, звенящие тела друг друга, зовущие, молодые и жадные. Она уронила голову ему на плечо и тепло дышала ему в шею. Они тихо скользили вокруг стола с хризантемами, и хрустальная, в бронзе и позолоте, люстра под высоким потолком тоже стала кружиться.
Сергей Романович наклонил голову, прикоснулся жаркими губами к высокой точеной шее.
— Я больше не могу, — прошептал он ей в самое ухо. — Можно вас взять?
Не отрывая головы от его плеча, она еще плотнее, всем телом прильнула к нему.
— Конечно. Чего же вы ждете? — спросила она тоже шепотом.
14
На следующий день к прославленному режиссеру Аркадию Аркадьевичу Рашель Задунайскому ворвалась немыслимо потрясенная завтруппой, обычно милая и сдержанная женщина, Марьяма Гасановна, все, касающееся своего театра, знавшая и всегда все успевавшая. На этот раз у нее были белые глаза, и она молча сунула чуть ли не под нос Рашель Задунайскому изрядно помятую и неопрятную бумагу. Тот от неожиданности откинулся, хотел было разразиться своим знаменитым русским матом, только опытная Марьяма Гасановна опередила.
— Нет, нет, Аркадий Аркадьевич, нет, вы сначала ознакомьтесь с новым, необыкновенным шедевром! — повысив голос, потребовала она. — Эпохальный документ, войдет во все театральные анналы! Читайте, читайте! Возмутительно! Неслыханно! Что она о себе возомнила, эта гениальная и незаменимая?
Близоруко поднеся к глазам предъявленную бумагу, Рашель Задунайский, едва скользнув глазами по первым строчкам, почувствовал удушье, затем резво вскочил, затряс руками, дунул себе на грудь, на плечо, одновременно затопав, и возопил:
— Вон! Вон! Все вон!
— Господи Боже мой! Аллах всемилостивейший! — взмолилась Марьяма Гасановна, и глаза у нее сузились, стали как два сверкающих бритвенных лезвия. — Вы на кого кричите? Немедленно прекратите хулиганить, а то я на стол положу и свое заявление! Опомнитесь, Аркадий Аркадьевич! Я ее, что ли, заставила писать? Я этого больше не потерплю — все мне на голову!
— Машину, немедленно! — вторично задохнулся Рашель Задунайский и стал пугающе багроветь. — Я сам к ней поеду, посмотрю в глаза! Я взову к ее совести! Пусть она со мной поговорит! На ней репертуар держится! Машину, машину!
— Напрасно, Аркадий Аркадьевич! Уже звонили… нет ее в Москве! Не надо было некоторым недальновидным деятелям ручки ей целовать и падать на колени! — не удержалась от давно копившегося в душе сарказма Марьяма Гасановна и для большего впечатления взглянула прямо в бешеные зрачки Рашель Задунайского. — Отбыла, изволите видеть, в неизвестном направлении, вот так ведут себя настоящие знаменитости! — вновь не удержалась от колкости завтруппой. — Ее работница отказалась что либо определенное сообщить, — вы, очевидно, забываете, с кем нам приходится иметь дело… Захотелось ей в отпуск за собственный счет — и все, никаких проблем! Плевала она на коллектив, на театр, на репертуар, на нас с вами! У нее ведь даже сегодня «Гроза»… Надо снимать спектакль, вот до чего доводит целование ручек! Я, если помните, говорила, что даже ей необходим дублер…
Окончательно перепугав женщину, Рашель Задунайский рухнул обратно в кресло и, пытаясь что то выговорить, несколько раз беззвучно показал превосходную вставную челюсть кремлевской работы, открывая и закрывая рот, затем обрушил на стол перед собой сокрушительный удар кулака, внезапно примолк, ошалело повел глазами, дунул себе на грудь и на плечи и, немного придя в себя, вдоволь набушевавшись и у себя в кабинете на срочном совещании с директором, и на очередной репетиции, он все таки примчался к коварно исчезнувшей знаменитой актрисе на квартиру, добился, чтобы Ульяна Прохоровна ему открыла, и постарался хоть что нибудь выведать и понять. Хитрая старуха на все его вопросы отделывалась ничего не значащими словами, слезливо ныла о сатанинском помрачении, несла бабью околесицу о всяческих злобных происках врагов бедной одинокой женщины, кляла мужское коварство и неблагодарность.
— Не могла же она вот так взять и исчезнуть! — не выдержал наконец измученный трудным днем Рашель Задунайский, и в его голосе послышался демонический клекот. — Упорхнула неизвестно куда непорочной голубкой и ничего не оставила? Ни клочка бумаги, ни слова? Пардон, любезная, кто в такую несуразицу поверит?
— Ничего Не оставила, — скорбно закивала, сокрушенно вздохнув, Устинья Прохоровна и в подтверждение своей искренности всхлипнула. — Уж не приключилось ли с нею чего смертельного? Женщина беззащитная, видная, мало ли злодеев на свете, мало ли завистников… Слабую женщину каждый обидеть норовит, много ли ей надо? Вторые сутки глаз не могу сомкнуть, только только прижмурюсь, такие страсти в голову лезут, кровь леденят, — жуть, жуть! Собралась нынче в церкву, свечку поставлю Божей матери заступнице…
— Ну, а может, кто заглядывал к вам последнее время, кто нибудь из таких, не совсем привычных, а, Устинья Прохоровна? — попытался хитрый Рашель Задунайский зайти с другой стороны, но упрямая старуха и вовсе обиделась, увидев в словах настырного гостя совсем уж непристойный смысл; окончательно разволновавшись, она замахала руками, заголосила, запричитала Бог знает что, ухватилась за сердце.
— Никого, батюшка, не было, что ты, что ты! К нам сроду никто из таких не заходит, как можно! Мы женщины честные! Теперь то и своим верить нельзя, а таким разным присобаченным и подавно! Как можно? Господи упаси, у нас защитников нету, заступиться некому, одна заступа — сами!
— Так может, в милицию надо обратиться? — предположил Рашель Задунайский, стремясь хоть чего нибудь добиться и настоять на своем, и Устинья Прохоровна, сразу построжев, зло сверкнула на него глазами.
— Вам, батюшка, виднее, вы вон какое начальство, а нас всякий обидеть может, — пожаловалась она, поджимая губы. — Вам бумага на театр от нас отправлена, а там вы как хотите себе делайте, вы люди ученые, а я что? Темная старуха, мое дело вон за порядком следить, а там что начальство придумает, мне не достать, ростом не вышла…
Несмотря на весь свой неиссякаемый природный оптимизм, Рашель Задунайский сник, устало помолчал, льстиво оставил старухе роскошную коробку конфет, бутылку фисташкового ликеру в красивой, с ленточкой, упаковке, скорбно отказался от предложенного Ульяной Прохоровной чаю и уехал, проклиная себя, театр, обольстительных актрис, их высоких покровителей, да и еще кое кого в придачу, и лелея в груди испепеляющие планы мести. И как бы закрепляя их страшной клятвой, энергично и шумно подул себе сначала на грудь, затем на плечи.
Часть третья
1
Ни в мире, ни в человеке, пожалуй, за последние несколько тысяч лет так ничего существенно и не изменилось, и каждому больше всего хотелось счастья. И если случившееся с Ксенией Дубовицкой можно было точнее всего назвать помрачением рассудка, безумием, значит, это и было самое высшее благо жизни, это и было счастьем.
Приоткрыв глаза, Ксения сквозь полусомкнутые ресницы почувствовала тяжелое, осеннее кавказское солнце, увидела четкое, хоть и далекое очертание гор — они повисли в безоблачном высоком небе длинной цепью, — вершины их сияли пугающе раскаленной белизной. Море рядом глухо и мерно шумело. От счастья быть и ни о чем не думать она зажмурилась, поворачивая лицо к слегка переместившемуся солнцу, но тотчас что то заслонило от нее солнце, и она слепо улыбнулась. Это подошел он, Сергей Романович, — он только что выкупался, и от него горьковато пахло морем, солью и дурманящей свежестью — так пахнут только здоровые мужчины в молодости. Он опустился рядом с ней на теплый, почти горячий песок и как то властно и нежно поцеловал в шею и в губы. Вокруг не было ни души, только они вдвоем, море и небо — они ушли далеко от поселка, в незнакомое место, в самую глушь. Все никак не могли насытиться друг другом, и это уже превращалось в какую то неутолимую жажду; Ксения не узнавала себя и старалась ни о чем не думать, — в ней впервые пробудилась зрелая сильная женщина, которая слепо и безраздельно отдавалась внезапно вспыхнувшей страсти, и теперь, едва он прикоснулся к ней губами и его руки сжали ей плечи, она не могла сдержать сладостную, опустошительную дрожь; подчиняясь, она вся потянулась ему навстречу, ей хотелось его растворить в себе, и затем жгучий, пронизывающий трепет охватил ее лоно, и она, застонав, почти потеряла сознание, и сладостный, жгущий мрак, в который она проваливалась все глубже, повторялся и повторялся, и когда наконец наступило утоление и она пришла в себя, вся опустошенная и легкая, она долго не могла ничего сказать и только слабо и благодарно поглаживала его широкую влажную грудь.
— Странно, — сказала она, отгоняя подступавшую дремоту и глядя в небо. — Мне вдруг такое подумалось… захотелось ребенка, именно от тебя, Сергей Романович… Вот дура! Размечталась, а?
— Почему же? — ответил Сергей Романович, с готовностью вскидываясь на локоть, и его зрачки расширились, замерцали. — Чем мы хуже других? Было бы просто чудесно…
— Замолчи, — попросила она. — Я сказала глупость. Ты же все обо мне знаешь, я все тебе рассказала. Этому ребенку никто бы не позавидовал, зачем ему с самого начала быть обреченным?
— Вот именно сейчас ты говоришь дело, — сказал он, хотя понимал, что ей хотелось услышать нечто совсем другое. — Ты всегда говоришь удивительно неопровержимые вещи, хотя это и не всегда приятно. Знаешь, давай не думать про завтра, нам хватит сегодняшних забот.
— После всего, что было, можно и умереть, — вслух подумала она, перескакивая совершенно на другое, как это часто бывает со счастливыми людьми. — Пролетело почти два месяца после нашей первой встречи, а я все никак не могу опомниться… Нам, пожалуй, надо опять куда нибудь переместиться, еще подальше, может быть, в самую дикую тундру…
— Ну конечно, в Аджарию, допустим, у меня там есть один верный приятель, — засмеялся Сергей Романович, затем, помолчав, с любопытством покосился в ее сторону. — Слушай, Ксюша, а почему у тебя вдруг возникло такое желание? Здесь вроде бы совсем не плохо… Мне очень нравится! Какая пустыня и какое море! Ни души!
— Мне тоже очень нравится, — призналась она и стала ощупывать его лицо кончиками пальцев, прошлась по бровям, по носу, по губам и подбородку, скользнула ниже — на шею и грудь. — Не могу себе представить, что я буду делать, когда ты исчезнешь, я просто и сама пропаду…
— А я должен обязательно исчезнуть? — поинтересовался Сергей Романович, и в нем, пожалуй, впервые после Москвы прорезался некий тревожный просвет — ему захотелось открыть глаза и взглянуть за пределы только одного сегодняшнего дня, но он тотчас задавил и отбросил прочь этот чужеродный всплеск, он еще был слишком молод, и в нем еще таилась надежда на чудо, как видимо, в чем то уже начинавшая сбываться. — Мы еще посмотрим, дорогой дядя! — неожиданно пригрозил он кому то неведомому и враждебному. — Мы тоже не лыком шиты!
Широко распахнув глаза, Ксения ладошкой прикрыла ему рот.
— Тише, Сережа, тише, — попросила она. — Ведь в мире сейчас такого безлюдья не бывает… Оно меня пугает, — так ведь не может быть… Последние два три дня меня преследует нечто навязчивое, я иногда чувствую на себе чей то посторонний, чужой взгляд, — недобрый взгляд. Я безошибочно знаю, что кто то рядом есть, чужой, злобный, следит за каждым моим шагом, за каждым движением… С тобой не случалось ничего подобного?
— Случалось, — не сразу отозвался он, пристально глядя в густую золотистую синеву безоблачного неба и прислушиваясь к мерным вздохам спокойного моря, и, заставив себя улыбнуться, добавил: — Вот и пусть позавидует, что тут можно еще добавить?
— С этим шутить не стоит, — возразила Ксения, — я знаю, что теперь меня уже нашли и больше не отпустят…
— Какая ерунда! — засмеялся Сергей Романович и, вскочив на ноги и запрокидывая руки за голову, сильно, с наслаждением потянулся. Небо и горы, почти вплотную придвинувшиеся к небольшой бухточке, к чистой, ослепительно белевшей полосе песка, закружились, и он шире расставил крепкие молодые ноги с круглыми коленями и лодыжками; он сейчас ни о чем не хотел думать, все прошлое отступило и рухнуло; он даже за свою недолгую жизнь усвоил, что от сильных мира сего лучше всего держаться подальше, всякого неосторожного обязательно отметят несмываемым клеймом, но с другой стороны, его всегда неостановимо тянуло именно в эти провалы, к этим черным дырам, и эти порочные наклонности у него, видимо, в крови, ему просто было необходимо попробовать свои силы в самых экстремальных, как говорится, условиях. И это ему нравилось, стоило только разгореться подобной фантазии, тотчас начинало шуметь и кружить в голове, сладко кружило и в сердце…
Он повернулся к морю и замер. Неожиданно, словно взрывом или слепящим всплеском света, перед ним мелькнуло лицо отца Арсения, его пронзительно вспыхнувшие, вбирающие глаза; чудный полубезумный странник словно хотел что то сказать ему, и, несмотря на молчание, на его плотно сжатые губы, в голове у Сергея Романовича уже начинали звучать какие то слова, но и теперь самого главного он вспомнить не мог, и, разрывая наползавшее оцепенение, не желая подчиняться ничьей посторонней воле, никакому пророчеству, он, широко раскинув руки, запрокинув голову, закружился волчком, взрывая песок. И небо, прошитое ослепительно белыми вершинами гор, нескончаемым хороводом ринулось в другую сторону, море стало тяжело нависать над берегом и готово было вот вот опрокинуться на него, но Сергей Романович никак не мог остановиться.
— О о! О о! — гулко закричал он в каком то первобытном упоении жизнью, и горы и море тотчас ответили ему согласным, все усиливающимся и под конец слившимся в одну высокую ноту стоном, и тогда он свалился на песок рядом с Ксенией, все так же широко раскинув руки, и Ксения, давно уже привставшая с земли и смотревшая на него загоревшимися глазами, стремительно и ловко бросилась на него, прижимая его к земле всем телом, и стала часто и сильно целовать, и уже потом, после очередного безумия, отдыхая и все никак не решаясь отпустить его, близко глядя в глаза ему, сказала:
— Я не знаю, кто ты на самом деле, и, очевидно, никогда не узнаю, просто ты моя погибель. И я рада этому, я люблю тебя и сошла с ума… Пусть! Ты — самое светлое и великое в моей жизни!
— У меня есть амулет, — сказал он, окончательно подпадая под ее темные чары. — Он перешел ко мне от старой старой цыганки…
Внезапно вспомнив слова отца Арсения, определившего ему срок жизни всего лишь еще в три года, он отверг их без раздумья; вполне вероятно, что он опровергает приговор всей дальнейшей жизнью, не все ведь пророчества сбываются. Произошла неожиданная пауза в разговоре, и, почувствовав на себе тревожный взгляд Ксении, он заторопился.
— Я отдам этот браслет тебе, — сказал он с царской щедростью. — Кусок старой кожи с тремя халдейскими знаками. Как только вернемся в Москву, я тебе немедленно его преподнесу и раскрою значение каждого из знаков… ну, а завтра мы еще чуть чуть передвинемся поближе к югу, у меня есть на примете прекрасное местечко возле Кобулети, — закачаешься… И никаких мрачных мыслей — наш праздник, я никому не позволю его испортить!
— Послушай, Сережа, откуда у тебя такие деньги? — спросила Ксения, и тут же, вспомнив, что еще в самом начале, перед бегством из Москвы, они клятвенно договорились не задавать друг другу никаких вопросов, вскочила, обняла его и, словно извиняясь, поцеловала. — У меня тоже есть амулет, — сообщила она, — тоже остался в Москве. Когда нибудь я расскажу тебе о нем. Вы с ним очень похожи — неизвестно откуда появились и неизвестно куда затем исчезнете…
— Главное в другом, тебе не кажется? — спросил он. — Мы появились и встретились — вот вещий знак! Предлагаю позавтракать, я проголодался. Вон там, под симпатичными кустиками… Посмотрим, что там в корзинку нам насовали. Уж вино обязательно будет, в горле пересохло. Пошли, пошли, трусишка, — усмехнулся он, и далекие горы, все так же стывшие в неприступной белизне, теперь, казалось, еще дальше отодвинулись. Сергей Романович нахмурился, ему начинало надоедать такое высокомерное величие, но он тут же, потешаясь над своим неоправданным гневом, заставил себя взять корзину и степенно направиться к избранному месту.
2
Наваждение медленно, как и все на свете, проходило, и Ксения все больше обнаруживала в себе самые неожиданные темные закоулки и провалы, правда, в них она и сама не решалась как следует заглянуть, в них и нельзя было всмотреться до конца — до того они были бездонны и необъяснимы. Первоначальная игра все чаще оборачивалась обыденностью, ее жизнь еще никогда не переплеталась с мужской сутью и мужской настойчивостью, с ее биологической животной обнаженностью, и она начинала ловить себя на том, что все больше попадает в зависимость, по сути дела, от случайного и малознакомого человека и что ей даже нравится именно такой ход событий, и это начинало ее тревожить. Ей нравилось его молодое, сильное, жадное до бесстыдства тело, приводившее ее в исступление, она любила его руки, губы, глаза, его бесшабашность и беззаботность, его непреодолимую тягу к бродяжничеству. Но после почти пятимесячного блуждания по Кавказу, сначала по Грузии, затем по Армении и по побережью уже весеннего Каспия, она, проснувшись однажды, словно от толчка, в одном из рыбацких поселков уже под Астраханью, начала вспоминать все до мельчайших подробностей в их отношениях с самого начала и долго лежала с открытыми неподвижными глазами, прислушиваясь к его ровному и тихому дыханию рядом, ощущая спокойное тепло его тела. Вздохнув, она нащупала его руку и с удовольствием тихонько погладила — он не проснулся. Где то резко и тоскливо закричал верблюд. С моря дул сильный, порывистый ветер, и стены дома гудели и, казалось, шевелились. Послышался недовольный мужской голос, и затем вновь остался один ветер, — она не испугалась, не ужаснулась, она просто спросила себя: «Ну, а дальше что?» Она всегда отличалась самостоятельностью и не терпела никакого постороннего вмешательства в свою жизнь, но природа жизни оказалась сильнее рассудка и воли, — она понимала, что наступит время и ей захочется вернуться к себе, в Моекву, захочется увидеть старую, преданную нянюшку, которая теперь сходит с ума, несмотря на ее короткие письма из разных мест, и поболтать с нею, захочется даже увидеть незабвенного Рашель Задунайского, но она также безошибочно знала, что все происходящее с ней — это некий необъяснимый, фантастический вихрь, фантом, что так в нормальной жизни не бывает и не может быть и что ей все это время потворствовали какие то неизвестные ей силы. Ничего случайного в жизни, тем более в государстве, никогда не было и не будет, сказала она себе, продолжая нежно поглаживать плечо и руку молодецки спящего Сергея Романовича. Одни сеют, пашут, другие строят, третьи грабят и убивают, четвертые ловят грабителей, пятые просто руководят, шестые охраняют властей предержащих и границы государства. А еще есть армия, летают самолеты, есть больницы, сумасшедшие дома, и все это одно государство, и в нем не бывает случайного. Не может быть, чтобы меня не обнаружили и не разыскали за столько времени, а значит, нас кто то незримый сопровождал и оберегал, — значит, за нами с самого начала следили, и ни разу никто не проявился, не окликнул, не мелькнул перед глазами даже случайно. А зачем? Почему? Ведь должна же быть причина, в человеческое милосердие с их стороны трудно поверить…
И тогда проснулось и начало разрастаться острое чувство опасности, переходящее в безотчетный страх, леденящий рассудок.
Сжимая грудь руками, она приподнялась, села, вскинула голову, прислушиваясь. Сильный, неровный весенний ветер шел с моря, откуда то из неистощимых глубин Азии, из тех самых, которые еще никто не смог постичь и определить, осмыслить, из самого первобытного чрева человечества, и ее безрассудный страх только усилился, переходя в оцепенение. Некоторое время она не могла шевельнуться, тело одеревенело. Она знала, видела, ощущала, как со всех сторон приближаются смутные тени их преследователей, они вырисовывались во мраке страха, сковавшего волю и сознание, уверенно, с беспощадной откровенностью, — они были безлики и оттого казались еще беспощадней. И тогда она закричала. Правда, ей только показалось, что она закричала, но и этого было достаточно, — ее страх приобрел реальную основу, пробудив все ее силы, и она, стараясь окончательно прийти в себя, еще немного помедлила. Затем встала на колени, склонилась к Сергею Романовичу, взяла его за плечи и сильно встряхнула.
— Вставай! — потребовала она пропадающим шепотом. — Вставай скорей! Они уже близко, совсем рядом! Я их уже слышу!
Он перестал дышать и быстро сел, схватил ее руки, сжал их.
— Что с тобой! Приснилось страшное?
— Тебе необходимо скрыться! — потребовала она. — Теперь я все поняла! Ах, какое безрассудство! Какое безумие! Я не хочу, чтобы они тебя убили, немедленно собирайся и уходи! Скройся! Я не вынесу такой жертвы! Боже мой, Боже мой, какое безумие!
Еще ничего не понимая и не соображая, он попытался остановить ее руки, завладел ими, прижал к себе, несколько раз поцеловал, но странная тревога начинала сочиться и в нем; Ксения продолжала несвязно и горячечно шептать о своем предчувствии, о своих неожиданных прозрениях и мыслях, и ее лихорадочный страх понемногу начинал развеивать сладкий дурман, уже много месяцев окутывающий и убаюкивающий и его сознание; Сергей Романович насторожился и тоже стал прислушиваться к порывам ветра, и ему уже начинали чудиться какие то звуки и голоса, и даже вздохи и крадущиеся шаги, — в полузадернутое шторой окно прорывались неясные, неровные отсветы, точно где то что то горело. Но затем он возмутился; он прижал к себе Ксению, поцеловал, рассмеялся.
— Сгинь! Сгинь, нечистая сила! — весело и звонко потребовал он, стараясь успокоить и ободрить перепуганную женщину, которая становилась ему все дороже и ближе, но ничего не добился, а лишь усилил разливавшиеся вокруг волны тревоги и неуверенности. Ксения стиснула его светлевшее в неровном мраке лицо узкими горячими ладонями.
— Боже мой, Боже мой, Сережа! — прошептала она, и в ее голосе послышалось отчаяние; она приблизила глаза почти вплотную к его лицу, и он ощутил ее необъяснимый, почти животный, а скорее мистический страх; она вся дрожала, зрачки разошлись, и глаза казались огромными провалами, — их безмолвная борьба продолжалась недолго. — Пусти меня, — попросила она в следующую минуту, слегка оттолкнула его и ощупью стала одеваться. Он откинулся навзничь и остался лежать, — такого в их отношениях еще не случалось, и он ничего не мог понять. Вслепую отыскав сигареты, он закурил, тревога в нем усиливалась, и тогда он, от природы по звериному чуткий человек, впечатлительный, мгновенно реагирующий на малейшее изменение в отношении себя со стороны окружающего мира, притих. Что то случилось, надвигалось что то нехорошее; он это тоже понял и ощутил глубинной, темной сутью своей природы, не поддающейся объяснению и логике; опять некстати вспомнился отец Арсений и его нелепое пророчество — женщина, как всегда, оказывалась права, и близился судный час. А за что? За какие такие грехи? — тут же спросил он себя, но прежняя уверенность и беспечность не вернулись, и он, затушив сигарету, вскочил.
— Ксюша! — позвал он, и она подошла и села рядом, а он, обняв ее за плечи, замер. Она была уже не здесь, где то далеко, и ее нельзя было вернуть, — он неслышно вздохнул, он уже знал, что так с женщинами бывает. Находясь рядом, они в то же время обладают способностью как бы растворяться, становиться чужими, невидимыми, так что и эта райская птица, сказал он себе, вероятно, одна из самых диковинных на его пути, тоже исчерпала свой срок и ее потянуло в новые дали.
— Я знаю, о чем ты думаешь сейчас, — внезапно, заставив его внутренне поежиться, сказала она. — Это все неправда, просто твое распаленное, больное воображение, Сережа. Мы должны сейчас быть жестокими друг к другу, или же мы оба погибнем. Нас изведут, убьют… Такого дорогого человека, как ты, Сереженька, у меня еще не было и уже больше не будет, я не смогу жить, если с тобой… Нет! Молчи! Нам необходимо немедленно расстаться! У нас не осталось времени! Прошу тебя, Сережа! Ты можешь выполнить только одну мою просьбу? Молча, без объяснений? А? Сережа…
— Хорошо… Не надо ни о чем больше, я уже ухожу, не беспокойся. Ты же знаешь, мне нечего собираться, все мое всегда со мной. А ты… у нас почти не осталось денег, их не хватит даже на один билет до Москвы, я думал…
— Сережа, дорогой мой, как же я тебе благодарна! Обо мне не беспокойся, на мое колечко хозяйка вчера бросала весьма выразительные взоры, — представляешь, даже в лице слегка переменилась. Помнишь, приносила нам вино и виноград? Здесь дело, как говорил классик, в шляпе. Сережа…
— Мне не хотелось бы, кольцо очень красивое и дорогое…
— Плевать! Есть в жизни вещи дороже…
Тут Ксения кинулась ему на грудь, разрыдалась, затем запрокинула заплаканное, залитое слезами лицо, и Сергей Романович, к своим тридцати годам прошедший и верхние этажи, и темные подвалы жизни, привыкший к ее жестокости, почувствовал подступавшее ожесточение.
— Не надо, Ксюша, ты меня не хорони, — попросил он, целуя ее мокрое лицо. — Я — живучий, мы еще встретимся. А теперь, убей меня Бог, я хочу попрощаться с тобой по настоящему, зря ты одевалась…
— Сережа, Сережа, ты же обещал… Сережа…
У нее не было сил сопротивляться, да она и не хотела; ветреный, ненастный рассвет рвался с моря, бросавшего на берег вал за валом; ветер достиг сумасшедшей силы, и прочный каменный дом, казалось, вздрагивал и охал, крыша грохотала, и порывы ветра каким то образом проникали сквозь прочные стены и гуляли по комнате. Ксения обхватила его крутую шею, прижимаясь к нему все сильнее, и провалилась в резкую, слепящую тишину — она падала долго и не сразу смогла прийти в себя, с ней словно случился обморок, она слышала усиливавшийся ураганный ветер, слышала море, но открыть глаз не могла, и голос ее не слушался. Она подумала, что уже умерла, и даже как то обрадовалась этой мысли — теперь ни о чем не нужно было беспокоиться, теперь ей абсолютно ничего не нужно, и даже сам Рашель Задунайский ей теперь не страшен; она освободилась сразу от всех своих забот и обязанностей. И в то же время она почувствовала свое полное одиночество и заставила себя открыть глаза и приподняться — никого рядом больше не было. Помедлив от растерянности, она истово несколько раз перекрестилась.
3
Она стояла у двери своей московской квартиры и все никак не решалась нажать на кнопку звонка. Наконец она с трудом подняла онемевшую руку, и услышала из за двери знакомый, больной голос, хрипло отозвалась, и увидела смятенное, постаревшее лицо Устиньи Прохоровны с сумасшедшими глазами, готовыми выскочить из орбит; предупреждая готовый вырваться вопль, старушка зажала ладонью свой темный рот и, пятясь назад в прихожую, несколько раз перекрестилась, шепча «Господи, помилуй, Пресвятая мати Богородица, с нами крестная сила, изыди, изыди, нечистая!», затем с неожиданной силой втянула бледную Ксению в прихожую, с силой захлопнула дверь, кинулась на шею своей любимице и не то зарыдала, не то захохотала, и очевидно, уже вовсе неосознанно бросилась к двери и защелкнула ее на замок. «Все, все, никого не пущу, — бормотала про себя Устинья Прохоровна, — пусть дверь ломают… Нету нас дома, нету — и все тут! И не будет! Нету!» И Ксения еще раз почувствовала, сколько пришлось претерпеть за последнее время этой кроткой душе, но случившееся и не поддавалось обычным меркам, Ксения и сама, даже если бы и захотела, не смогла бы ничего объяснить. Она прошла в гостиную, рассеянно оглядевшись, опустилась в кресло рядом со старинным бронзовым торшером в виде Афродиты, выходящей из моря, — светильник был искусно укреплен на голове богини. Пришедшая немного в себя Устинья Прохоровна пододвинула к торшеру и свою низенькую скамеечку, хотела присесть рядом и тут же вновь всполошилась, бросилась на кухню.
— Чаю, чаю, сейчас чаю поставлю! Господи Боже… что же это такое творится, — бормотала она себе под нос, часто появляясь в дверях гостиной и встревоженно вновь и вновь оглядывая Ксению, словно опасаясь, что нашедшаяся беглянка вот вот опять исчезнет.
— Няня, не надо, ничего не надо, иди сюда, посидим, — попросила Ксения. — Давай лучше немного выпьем, надо успокоиться. У тебя есть вино?
— Полно! — тотчас откликнулась Устинья Прохоровна. — Кто же его тут пил? Как было, так все и стоит… Господи, Пресвятая Богородица… что ж это я, совсем очумела… Господи, Ксюшенька, а вещи у тебя, что, на вокзале остались?
— Веши? — удивилась Ксения, и легкая тень тронула ее глаза. — Нет никаких вещей, все при мне. Ты только ничего пока не говори, не спрашивай, я тебе потом все расскажу…
По прежнему ахая и сама с собой беседуя, Устинья Прохоровна придвинула к креслу, где устроилась Ксения, небольшой чайный столик на колесиках, принесла несколько, на выбор, бутылок вина, бокалы, орешки и конфеты, затем она притащила хрустальный графинчик с простой рябиновой настойкой, и они, с молчаливого одобрения Ксении, выпили именно этой настойки, сразу пошедшей по жилам живительным теплом, — Ксения бросила в рот соленую фисташку и блаженно вжалась в спинку старого, еще родительского кресла. Устинья Прохоровна тотчас принесла плед и укутала ей ноги, — в Москве стояла сырая и прохладная погода; старуха, после всех мытарств и передряг, давно уже приготовившаяся в душе к самому плохому, то и дело отворачивалась и вытирала слезы. Самым мучительным для нее до сих пор была неизвестность, невозможность что либо понять и объяснить, но сейчас она была преисполнена любовью и обожанием к единственно дорогому на свете существу. Старушке скоро показалось, что Ксения задремала, и она стала ходить на цыпочках, приготовила на всякий случай ванну, затем разобрала постель, в то же время перебирая в голове все свои скудные припасы и придумывая, как бы выкрутиться и приготовить на обед вкусненькое, — с возвращением Ксении жизнь для нее вновь обретала смысл, и она пыталась отогнать по прежнему одолевавшие ее тревожные мысли. Она услышала голос Ксении, позвавшей ее, и бросилась в гостиную. Увидев устремленные навстречу огромные, тревожные, незнакомые глаза, непривычно светившиеся, Устинья Прохоровна запнулась; она даже оробела, хотя старалась этого и не показать.
— Сядь, нянюшка, — попросила Ксения. — Давай еще по капельке — у тебя прекрасная рябиновая… Как я рада тебя увидеть, нянюшка… Ну, родная моя, за твое здоровье!
Устинья Прохоровна, трижды суеверно поплевав себе через левое плечо, приняла еще рюмочку рябиновой и положила в рот маслинку, — внутри все начинало оттаивать и согреваться, освобождаться от страха.
— Ты какая то другая стала, Ксенюшка, — сказала Устинья Прохоровна. — Похудела, похорошела, у тебя глаза как у Божей матери, чудные глаза, прямо святые… чистый свет…
— Я, нянюшка, кажется, беременна, — скупо улыбнулась Ксения, затаенно прислушиваясь к чему то своему, не обращая внимания на вновь истово перекрестившуюся Устинью Прохоровну, откинувшуюся назад и от изумления полуоткрывшую рот. — Теперь я другая стала… совсем, совсем другая…
— Спаси и помилуй! — ахнула Устинья Прохоровна. — Во он оно что! Да кто же этот твой окаянный? Господи, вот бабья то долюшка, вот оно, оказывается, какая жеребенистая до отчаянности! Неужто сам… Господи, помилуй, спаси, Матерь Пресвятая! Неужто сам, этот бровастый мерин…
— Нет, нет, нянюшка, что ты такое придумала! — живо встрепенулась Ксения и, замахав на старушку руками, залилась неожиданно веселым, звонким смехом. — Куда хватила, старая! Совсем уж считаешь меня круглой дурой! Ай, нянюшка…
— Ну, прости, горемычная, прости, что с меня взять, стара, глупа, — стала виниться Устинья Прохоровна, уже прикидывая, как теперь может перемениться ее медленная, устоявшаяся жизнь и как закувыркается весь прежний уклад. — Баба и есть баба, даже самая высокоумственная и именитая, хоть семи пядей во лбу, а все она баба. Как кто нащупает слабое место, так и рухнет! Гляди помру, не томи ты старуху, а то грудь от нетерпения вспухнет… Кто же он, твой королевич? Господи, помилуй, спаси и охрани…
— Да я в самом деле, нянюшка, не знаю, кто он. — Теперь уже совсем развеселившись, Ксения вновь потянулась к рюмке, но проворная Устинья Прохоровна, хоть и еще раз переменилась в лице от последних слов своей воспитанницы, тотчас эту рюмку перехватила и строго сказала, что нечего невинное дитя заранее губить и калечить, кто бы у него отец ни был.
— Час от часу не легче! — воскликнула старушка, зорко ощупывая всю фигуру Ксении взглядом.
— Успокойся, нянюшка, — постаралась подольститься к ней молодая женщина. — Такого королевича у меня действительно еще не было, я словно в рай небесный нежданно негаданно попасть сподобилась… Что ты, нянюшка?
Стараясь пресечь святотатство, Устинья Прохоровна зажала было уши ладонями, но бабий искус оказался для нее непомерен, и зажала она уши, слегка растопырив пальцы, чтобы все слышать.
— Знаешь, нянюшка, я бы за ним в любую пропасть, в любой провал ринулась, и минуты бы не думала, это мой человек, мой мужчина… Такого другого судьба уже не пошлет, не расщедрится…
— Так в чем же дело? — стала вновь допытываться Устинья Прохоровна, движимая извечной бабьей солидарностью. — Все они сначала приходят неизвестно отколь, из темной ночи, а если он уж вонзился в душеньку, ты его сразу хватай, хватай и держи покрепче! Хоть за что хочешь держи! Господи Боже мой, Пресвятая Матерь вседержительница! А как это по Божески будет — девочка лепетунья, беленькая беленькая, светлый лучик, все лепечет, лепечет… Или уж мальчик, такой лобастенький, все расспрашивает, расспрашивает — хозяин на земле! Ох, видать, надо еще рюмочку, сердце заходится! А ты сама, Ксенюшка, так, вроде пьешь, а сама и не пей, нельзя, ты сейчас, родная моя, беречь свое дитя должна, ты за него и перед людьми, и перед Богом в ответе… Ну…
От бессонной ночи в шумном поезде, пропахшем вяленой соленой рыбой, Ксению сморило, и она так и задремала под привычную воркотню Устиньи Прохоровны, и старушка увидела в этом особый знак и еще больше размечталась.
4
В Москве, городе особом, где жизнь и работа не останавливались ни на мгновение ни днем, ни ночью вот уже в течение многих веков, где сама историческая суть города лепила духовную суть и образ человека, начиная с его первого крика, а то и еще раньше, — было много непостижимого для людей иной, не столичной породы. Несмотря на то, что серединная Россия, колыбель русского народа, становилась все запущеннее и безлюдней, сама Москва неудержимо росла и крепла, она давно уже стремилась не только ввысь, но все глубже и пространнее уходила в землю; теперь уже и под самой Москвой, как ее опрокинутое отражение, вырастал еще один город, со своими дорогами, дворцами, убежищами и своей, тайной и явной, жизнью, со своими обычаями и обрядами, и никто бы из властей предержащих не решился утверждать, что он контролирует жизнь этого города полностью, — в таинственном чреве города из века в век шла своя непрерывная, кропотливая, не зависящая ни от какой смены властей и режимов, глубинная деятельность по наращиванию и укреплению самой души города, ибо города такие же живые организмы, как и любое другое живое существо, как дерево или река, и им тоже издревле, по непреложному закону бытия, начертан свой путь явления в мир, свой путь движения и развития, завершения и ухода, и этого никому переменить не дано, ни человеку, ни природе, ни космосу, — никто и ничто не может нарушить основ и смысла самого мироздания. И разумеется, за все приходится платить, и если где нибудь в брянской или рязанской деревушке из полутора десятка дворов все досконально знают своих соседей, начиная с их дедов и прадедов, начиная с любой родинки, даже в самом потаенном месте, то в таком городе, как Москва, сложился и все более укореняется иной тип умственного и сугубо городского человека, который никого вокруг себя, даже в соседней квартире, не знает, да и не желает знать, хотя он обязательно знает или мнит, что знает, все происходящее в Москве, в стране и даже в масштабе всего человечества, и это все в большей степени составляет смысл его жизни. Самое же главное, что такое опрокинутое сознание начинает все больше считаться самой сутью русского человека и самого русского инстинкта. Такая точка зрения, очевидно, была выгодна коренному или хотя бы и ассимилированному москвичу, она позволяла ему оправдывать свое присутствие в мире, пользоваться столичными привилегиями и быть душевно стойким и крепким, — немалую лепту в такое положение дел вносили и всяческие революционные учения, как правило, чужеродные для истинно русской души, и всякие философствующие мудрецы, упорно возвещавшие о всеотзывчивости русской души вплоть до ее полного растворения, на благо человечества, в иных племенах и народах. И зримей всего это ощущалось именно в Москве. В самом деле, с какой стати истинному москвичу знать о страдающем через стенку соседе, кто он, зачем и что с ним происходит, если в далекой Африке или в угнетенной Аргентине необходимо возвести, во имя социальной справедливости, сеть первоклассных госпиталей для несчастных жителей, веками страдающих под гнетом мирового империализма? Там, в самом сердце Африки, вообще беспредел — восьмилетняя одаренная девочка Зимзи вот уже год томится в гареме местного царька, и, разумеется, нужно сделать все возможное и вызволить ее оттуда. Необходимо, конечно, окончательно восстановить и разрушенную немцами Варшаву — друзья поляки, столько пережившие, должны ощутить руку дружбы и поддержки, а еще братьям чехам необходимо проложить, даже вопреки их желанию, метро в Праге — задыхаются, бедолаги, в этой европейской теснотище. Сами понимаете, при чем здесь какой нибудь больной сосед за стеной? Вот таким, всю планету окормляющим, и становился московско русский, как говорится теперь по новому, менталитет, и здесь ничего невозможно было поделать, — в Москве складывался новый тип человека всемирно отзывчивого, ничего не знающего и не желающего знать даже о себе самом, не только о соседе за стенкой, но неукоснительно знающего обо всем происходящем и вообще в Москве, и в самых ревниво оберегаемых ее покоях, допустим, в том же Кремле, и, конечно же, во всем угнетаемом мире.
И неудивительно, что в Москве, после возвращения Ксении, о ней заговорили сразу же; пожалуй, о ее возвращении заговорили даже раньше, дня за два, за три до этого, но объяснить подобную московскую проницательность невозможно, приходится лишь развести руками и воскликнуть: э э, господа товарищи, здесь не надо гадать, ведь все таки речь идет о Москве, о городе непостижимом и многослойном, где в каждом уголке, в каждой душе человеческой рядком присутствуют и сам господь Бог, и Князь тьмы и где они принципиально не вмешиваются не в свое дело, а действуют строго на своей территории, отчего коловращение вселенского электричества только усиливается и московский воздух начинают пронизывать возбуждающие слухи и вести.
Первым, чуть ли не на второй день после возвращения Ксении, подал о себе весть Академический театр в лице его главного режиссера Рашель Задунайского; с опаской взяв трубку телефона, упорно молчавшего вот уже много дней подряд, Устинья Прохоровна неуверенно пискнула: «Але е», — и, послушав, сделала страшные глаза.
— Да кто вам наговорил, батюшка, что за глупость! — повысила она голос. — Нету ее, нету, вам говорят, никто не приходил, сама от горя изнываю, вот вот под гробовую доску пойду… Что? Да стара я, батюшка, врать, тьфу! Мне скоро ответ перед самим Всевышним держать! И не думайте, и не приезжайте, в церковь ко всенощной ухожу, свечку за мою страдалицу поставлю… Нет, нет, не успеешь, батюшка, никак не успеешь, я уже одетая стою! Господи Боже мой, что ж это за мучение!
Едва Устинья Прохоровна успела швырнуть трубку на рычаг, как зазвенело вновь, да еще как то особо раскатисто и вызывающе, и вкрадчивый мужской голос уважительно попросил пригласить несравненную Ксению Васильевну.
— Да вы не туда попали, у нас такая не проживает, — огрызнулась Устинья Прохоровна и затем совсем отключила телефон, выдернула вилку из розетки и с торжеством возвестила: — Нате, съешьте теперь! Ишь, нечистый их разбирает! Не успел человек порог переступить, а они, нечистая сила, тут как тут! Сатанинский нюх им даден! Надо тебе, Ксюшенька, если хочешь нервы свои сберечь, ко моим родичам на Псковщину — там ни один рогатый не достанет. Отоспишься, отъешься на свежем молочке да на мясце, на яичках прямо из гнездышка, на хорошей картошечке, душа отболит, очистится. А тут разве дадут? Да и как угадаешь, кто трезвонит, может, твой королевич позвонит, а, как тут трубку не брать?
— Мой королевич, нянюшка, звонить не станет, — успокоила ее Ксения. — Давай не будем гадать, завари лучше чаю покрепче.
— Отчего же так? — не согласилась Устинья Прохоровна. — Что, ты и с этим не поладила?
— Я тебе потом расскажу, — пообещала Ксения. — Как голос то у нашего громовержца Рашель Задунайского?
— Масленый такой, лисичкой юлит, медок, медок, — засмеялась Устинья Прохоровна и пошла на кухню с самым победительным и бодрым видом — чай был ее страстью, но как только она оказалась одна, лицо ее тотчас переменилось, на него набежало еще больше морщин, седые брови обвисли и глаза замерли, остановились в одной точке. В жизни происходило нечто такое, чего она никак не могла понять и принять; вокруг их уютного бабьего мирка, затерянного в московской шумной и говорливой пустыне, после возвращения Ксении словно установилось особое предгрозовое затишье — ни ветер не шевельнет, ни дерево не зашумит, ни в дверь никто не стукнет. Так не могло быть в живой жизни — Устинья Прохоровна не верила в такую благодать, особенно после приключившегося с ее воспитанницей затмения всех чувств. Большие люди, большое начальство не любит таких выкрутасов, да и кто же их любит? Даже какой нибудь мужичонка с рваным задом, и тот, как подступит, завоет зверем, за топор или нож хватается. А тут…
Окончательно ошалев от своих горестных мыслей, старуха несколько раз охранительно перекрестилась, обругала себя, решила, что нечего поперек батьки в пекло лезть, беду накликать, и принялась сооружать чай; воду для этого она кипятила, опустив в чайник большую серебряную гирьку, весом в два фунта, а то и побольше, припаянную к серебряному круглому стержню, расписанному замысловатым мелким узором, в котором явно угадывалось нечто ведовское; очевидно, в свое время в каком нибудь богатом московском доме эта непонятная сейчас штуковина служила для растирания и размешивания пряностей и орехов, других снадобий для приготовления всяческих соусов и приправ, но однажды, услышав про чудодейственные свойства серебра, Устинья Прохоровна, предварительно убедившись в подлинности благородного металла, приспособила ее для кипячения воды для чая; правда, и заваривала она чай тоже по своей особой методе — вначале сильно нагревала на сухом огне фарфоровый чайник, затем насыпала в него заварку и, опустив в чайник серебряную ложечку, неспешно, с определенными, одной ей ведомыми перерывами, начинала лить кипяток; сей исконно московский напиток всегда получался у нее вкусным, ароматным, освежающим и бодрящим, и даже сам сердитый Рашель Задунайский не раз принимался выспрашивать у нее секреты, — она отшучивалась, посмеивалась и тайны своей не выбалтывала, как ей этого иной раз ни хотелось.
За своим любимым занятием она совсем успокоилась; в конце концов, ее дело десятое, решила она, пройдет время, и все само собой образуется; жить то дальше молодым, им и решать, как да что, и сама Ксюша не совсем уж дура набитая, когда надо, хоть кого отбреет, поставит на место. Что ж, всякое бывает, вот накатила на нее тьма египетская, бабья тьма — ничего страшного, авось Господь Бог еще годков пять шесть отпустит, вытянет она и ребеночка, хорошо бы девочку, меньше от них всяких шалостей, да и спокойнее они до поры до времени поднимаются, ну, а там уж как Бог даст…
В гостиную Устинья Прохоровна вернулась необычайно тихая и просветленная, самое главное для себя она определила и решила. Так, в тишине, прошла неделя и вторая; Ксения по прежнему не решалась подходить к телефону, никуда не выходила, валялась на большом кожаном диване в гостиной, читала старые книжки; иногда Устинья Прохоровна заставала ее перед трюмо в спальне — Ксения сидела и молча пристально себя разглядывала. Почувствовав за спиной постороннего, тотчас оборачивалась, начинала говорить что нибудь пустячное. И телефон на какое то время замолчал, хотя затем звонки возобновились с удвоенной силой, и Устинья Прохоровна стала уговаривать молодую женщину сходить в театр, напоминала о деньгах, давно иссякших, — перебивались они теперь кое как. Устинья Прохоровна уже оттащила в скупку несколько хозяйских золотых безделушек и усилила режим экономии, вместо дорогих фруктов перешла на овощи, вместо говядины с Тишинского рынка обходилась перемороженным мясом из недалекого продовольственного где нибудь в Столешниковом — молодой мясник, бывший инженер, переменивший свою профессию из за невозможности достойно существовать на интеллектуальную зарплату и еще со студенческой поры влюбленный в талант Ксении Дубовицкой, давно знал Устиныо Прохоровну, отличал и всегда находил ей кусочек помясистей и понежнее, и при этом всегда интересовался, когда в Академическом возобновятся спектакли с божественной Ксенией. Устинья Прохоровна бормотала в ответ: «Скоро, скоро, Сева!» — благодарила и поспешно удалялась, радуясь, что есть еще на свете хорошие люди, не все они перевелись. И вот однажды, вернувшись из очередного похода и горестно раздумывая над непонятным поведением Ксении, словно напрочь переродившейся после своего необъяснимого бегства из Москвы и всякий раз с явной досадой пресекавшей робкие попытки Устиньи Прохоровны разговорить ее и хоть что нибудь выяснить, старуха, вытирая ноги о коврик перед дверью, от неожиданного толчка в сердце испуганно вздернула голову и выпрямилась. Вначале она подумала, что заехала этажом выше, дверь показалась ей чужой и враждебной. По привычке перекрестившись, она уставилась на крупно светлевший номер, но долго не могла вспомнить, под каким же номером значилось их с Ксенией жилище, и, еще раз перекрестившись, сотворила заклятие.
— Свят, свят!
Как это иногда бывает, слух у нее к старости чрезвычайно обострился, и она услышала за дверью жизнерадостный, молодой мужской голос, сразу показавшийся ей неприятным и даже враждебным; отомкнув замок, она решительно вошла и намеренно громко хлопнула дверью. И увидела непривычный беспорядок в прихожей — на столике перед зеркалом лежал растрепанный букет до рогущих камелий, тут же красовались две бутылки шампанского, валялись какие то свертки и коробки. И сразу Устинья Прохоровна увидела гостя — высокого, статного, с белой грудью. В ответ на ее неприязненный взгляд Сергей Романович с радостным возгласом: «А вот и наша дорогая Устинья Прохоровна!» — рванулся к ней, подхватил на руки со всеми ее сумками, легонько прижал к себе, закружил и, с чувством расцеловав, бережно опустил на твердую землю.
Задохнувшись не то от возмущения, не то от восторга, Устинья Прохоровна свалилась, ошалев и выпустив из рук сумки, в кресло, схватилась за грудь; в дверях гостиной показалась Ксения, до неузнаваемости преобразившаяся, помолодевшая и похорошевшая, — глаза сияли; Сергей Романович, ринувшись к ней и вскинув ее на руки, покружил и ее, — Устинья Прохоровна никогда не слышала раньше такого заразительного счастливого смеха.
— Ox, ox, спаси и защити! — взмолилась старушка, когда все несколько успокоилось и стихло. — Значит, это ты такой и есть?
— Я, Устинья Прохоровна, я! — весело отозвался Сергей Романович. — Вот такой и есть, ни прибавить, ни убавить! Только что с самолета и сюда, ни одной секунды не помедлил!
— Куда уж там прибавлять! Хоро ош, орел! — протянула Устинья Прохоровна, не то осуждая, не то одобряя такую похвальную поспешность и нетерпение. — Ну, дорогие детки, вижу я, что надо готовить праздничный обед, так что отправляюсь на кухню. Добыла я через доброго человека филейчик телячий, уж так и быть, побалую вас настоящей московской запеканочкой с зеленью, лучком…
С этими словами она незаметно исчезла, и Ксения с Сергеем Романовичем остались наедине. Взяв гостя за руку, Ксения провела его в гостиную, усадила на любимый диван и, не выпуская его руки, устроилась рядом, прижалась головой к его плечу и закрыла глаза.
— Ты как то изменилась, Ксюша, что то с тобой произошло.
— Да, — согласилась она. — Не знаю, как дальше жить, только вопрос в другом. Я все время чувствовала, что ты рядом… Да, лучше бы ты не приходил, Сережа, — вздохнула она, слегка вздрагивая. — Просто какое то безумие, а причины никак не пойму. Нет, нет, лучше бы ты больше совсем не приходил…
— Почему? — беспечно поинтересовался Сергей Романович. — Чем же я тебя так огорчил?
— Ах, Сережа, Сережа! — улыбнулась она скупо. — Нельзя искушать судьбу… У меня предчувствие — будем благодарны и за случившееся, могли бы и совсем не встретиться. Да и что мы знаем друг о друге?
— Все самое необходимое, что должны знать, — быстро сказал Сергей Романович. — Женщина о мужчине, и наоборот. Хочешь, я расскажу тебе самую подробную свою биографию, не утаю ни одной мелочи?
— Если бы жизнь вернуть к благословенным временам детства! Увы! — ответила Ксения. — Ничего не надо, да я и не хочу ничего знать. Я одурела от какого то немыслимого бабьего счастья, и достаточно! Ну, а кто ты и откуда и даже куда, поверь, совершенно безразлично! Я тебе опять говорю — у меня предчувствие, мы видимся с тобой последний раз, Сережа… пожалуйста, не надо, только ничего не говори!
— Откуда такие черные мысли? Ерунда, Ксюша! — сказал он. — Все ведь зависит только от нас самих, ей Богу, хочешь, сейчас же вновь исчезнем и больше нас никто никогда не отыщет? Вот только московской поджарки попробуем…
— В жизни ничего не повторяется, Сережа, — вздохнула она и, торопливо вскочив, не отпуская его руки, повлекла за собой к двери спальни. — Пойдем, пойдем, — говорила она словно в бреду. — Нам надо торопиться, у нас не остается времени… Знаешь, такого со мной никогда раньше не было, я все время думаю о тебе, ты мне даже снился много раз… Сережа, Сережа, милый, ты меня успокой, обещай никогда больше не приходить…
Он подхватил ее на руки, прижал к себе, толкнул дверь плечом, и когда Устинья Прохоровна заглянула в гостиную поинтересоваться у гостя насчет подливки, там было пусто, и старушка, пожевав начинавшими западать губами, окончательно смирилась — мужик был, действительно, породист, и лицом, и статью взял, и глаза соколиные, ясные; от такого можно и с ума сойти, далеко до такого всяким театральным шаркунам, каждый из себя царя корчит, а штаны то на поверку пустые, ничего там нет, кроме пустяшного гонору…
Рассудив таким образом, вполне по своему опыту и убеждению справедливо, Устинья Прохоровна вновь отправилась на кухню, а после обеда, накормив молодых, налюбовавшись ими, она ушла в свою камору с часок подремать; суженый Ксении нравился ей все больше и своей обходительностью, и своей веселостью; с этой благолепной мыслью она и задремала. А в гостиной продолжалась своя молодая жизнь, и Ксения, движимая каким то древним женским чутьем, вернее, инстинктом, раздвинула густые бамбуковые нити, отделявшие просторный фонарь, увитый зеленым плющом, еще одной гордостью Устиньи Прохоровны, и, поманив за собою Сергея Романовича, подошла к письменному столу. Она ничего не хотела от него скрывать; наоборот, она даже и в малости не могла его отблагодарить за ту щедрость, с которой он одарил и обогатил ее скучную, серую, как теперь оказалось, придуманную жизнь, и Сергей Романович, выслушав начало «Венского вальса», скоро уже держал в руках загадочную вещь — то ли брошь, то ли кулон чудной красоты, с огромным черным бриллиантом в центре. При первом взгляде на баснословную драгоценность он почувствовал легкое головокружение, он не только сразу же безошибочно почувствовал неимоверную цену невиданному камню, достойному украсить любую царскую корону, — для него сейчас это явилось сущей безделицей. Случилось нечто другое, как бы в один миг перевернувшее всю его прежнюю жизнь, беспутную и безалаберную; он тотчас неосознанно уловил заключенный в камне скрытый смысл и, сразу же внутренним чутьем угадывая, повернул брошь нужной для полного выявления самой сути камня плоскостью; и перед ним ожили, стали шевелиться и двигаться змеи, приближаясь, подчиняясь в своем движении какому то завораживающему ритму. Сергей Романович слегка побледнел.
— Бриллиант? Почти черной воды? — спросил он больше для того, чтобы прийти в себя. — Невероятно! Ничего подобного никогда не видывал!
— Такого почти никто не видывал, — подтвердила Ксения, с напряженным вниманием наблюдавшая за его лицом; она сразу поняла, что он без особых усилий проник в тайну камня, в его скрытую жизнь, и вдруг ей стало жутко и одиноко. Успокаивая себя, она переждала.
— Тебе очень нравится, Сережа? — В ее голосе послышалось легкое напряжение, — он почувствовал, взглянул.
— Да, — уронил он. — Я с детства увлекаюсь камнями, еще школьником облазил все Подмосковье, собирал всяческие редкости. У меня была неплохая коллекция песчаных агатов — так мы их называли.
— Сережа, я дарю эту вещицу тебе, — быстро сказала Ксения. — Молчи! — тотчас повысила она голос. — Я так хочу, это, наконец, мой каприз — я так хочу! Ты в чем то схож с черным камнем, я только сейчас заметила…
— Ты с ума сошла! — не сдержавшись, воскликнул он, вскинув голову, и от изумления даже рассмеялся, затем положил драгоценность на край стола. — Ты же знаешь, что это невозможно! Такие шуточки, Ксюша, мне очень не нравятся… Право…
— Но почему? — потянулась к нему Ксения. — Ты чего так испугался? Вещь перешла ко мне от матери, как хочу, так и распоряжаюсь. Хорошо, хорошо, — заторопилась она, — не надо так хмуриться, просто знай одно: если тебе понадобится камень, он тебя ждет здесь в столе. В любой день и час. Он твой и может, кто знает, послужить доброму делу. Мало ли какие сюрпризы преподнесет будущее. Ты ведь теперь понимаешь, что тебе сюда нельзя приходить, милый мой незнакомец Сергей Романович! Ты же ступил в запретную зону, я боюсь, Сережа, не за себя — за тебя боюсь! Ну, Господи благослови…
И тогда он понял, что она окончательно уходит, что он никогда не сможет понять и покорить эту женщину, и в охватившей мир тишине вновь поплыли звуки старого вальса; стол, как живое существо, заставляя Сергея Романовича мистически вздрогнуть, задвигался, зашевелился и вновь успокоился.
5
Они не смогли расстаться сразу и, несмотря на уговоры и просьбы Ксении, в которых присутствовала и немалая доля извечного женского лукавства, оставались вместе и день, и второй, и третий, и только к концу недели Сергей Романович, по привычке избегавший телефона, несколько раз набрал номер и, оглянувшись на Ксению, весело сказал:
— Представляешь, начальство разрешило мне еще денек отсутствовать. А завтра сразу же в командировку, правда, всего на неделю. Придется уже сегодня оформлять документы.
— Вот и хорошо, я за это время должна кое с кем встретиться, возобновить старые знакомства, — сказала она. — В театр я сейчас возвращаться не хочу, будет трудно все объяснить. А ты, Сережа, далеко собираешься? — спросила она, окончательно принимая игру и стараясь ему помочь, с присущей ей чуткостью тотчас уловив в его голосе неуверенность.
— Да нет, — сообщил он, улыбаясь. — Урал, Челябинск, Магнитогорск. Сегодня у нас четверг? Обещаю ровно в этот же час на той неделе, в шестнадцать ноль ноль, позвонить в дверь. Привезу тебе какую нибудь малахитовую безделицу, у меня и там полно знакомых, отыщут что нибудь оригинальное. Если очень постараться, там можно откопать что нибудь изумительное.
— Сережа, ты же знаешь, мне ничего не надо, не будем тратить время на пустяки, — попросила Ксения и, не сдерживая порыва, крепко обвила руками его шею, наклонила ему голову, близко заглядывая в глаза. — Ты мне одно подари — дай обещание не приходить сюда до тех пор, пока окончательно все для себя не решишь. Слышишь, все, окончательно и бесповоротно.
Внутренне вздрогнув, он не стал ничего говорить, поцеловал ее, попрощался с Устиньей Прохоровной и, больше не оглядываясь, вышел. С некоторых пор с ним творились непонятные и странные вещи, и он не смог бы их объяснить, если бы и захотел; он, допустим, мог легко убедить себя, что его жизнь вне существующих законов, вполне закономерна и естественна, так же, как и любая другая жизнь, что в ней нет ничего предосудительного; он мог пойти и дальше и убедить себя в том, что придет время — и восторжествует именно его формула жизни, его истина, и поскольку еще никто не нажил богатства праведным путем, значит, и силы, регулирующие некое уравнительное, пусть насильственное, но постоянное правило в перераспределении, не только закономерны, но и обязательны, и никакая власть, никакие карательные силы, создаваемые этой властью прежде всего для защиты самого верхнего, самого воровского, элитарного слоя властей предержащих, не помогут. Настанет срок, и естественные силы перераспределения не только возобладают, они станут основой самого общежития — другой силы в природе человека просто не существует. Но если он мог убедить в этой любопытной теории самого себя, он не мог переступить сей порог в общении с Ксенией, хотя уже давно чувствовал необходимость этого. Она никогда не расспрашивала о его прошлом, она не проявляла интереса и к его нынешним делам, но его нельзя было обмануть. Она просто ждала — упорно, терпеливо, как может ждать только женщина; возможно, она боялась спугнуть; она и сама никогда ничего о себе не рассказывала, и между ними как бы установился негласный уговор — не интересоваться прошлым друг друга, тем более, не досаждать один другому постоянным назойливым вниманием в повседневной мелочной суете. Они понимали, что их встреча была случайностью, но не могла не произойти — они не могли обойти друг друга стороной; оба были умны и смогли оценить необъяснимую на первый взгляд смелость друг друга и обоюдное желание вырваться в другие, неведомые пространства, невзирая ни на что. Минутный порыв, почти каприз, вдруг превратился в упорное стремление выстоять и победить, отстоять свою свободу, свое право выбора наперекор вся и всему; именно это стремление, вначале неосознанное, превратило их как бы в заговорщиков, но и он, и она знали, что когда нибудь должно наступить пробуждение и они встанут лицом к лицу, посмотрят друг другу в глаза по особому, и такой неотвратимый миг откровения может оказаться и самым тяжелым испытанием, вполне возможно, предвестником взаимной ненависти. Одним словом, они расстались в этот раз с каким то подспудным чувством тоски и неуверенности, и Сергей Романович, поколесив по Подмосковью, навестив кое кого в самой первопрестольной и получив необходимые сведения, убедился, что ему по прежнему опасаться нечего. Он всю неделю провел в запущенной материнской квартире, перешедшей к нему по наследству, в которой еще незадолго до смерти матери пристроилась ее дальняя родственница, двоюродная тетка, довольно суматошное существо, — она не ужилась со своими внуками, и покойная мать пожалела ее, приютила, и Настуся, как все, несмотря на возраст, звали ее, как бы и осталась в квартире одной из ее непременных принадлежностей.
Право, Сергей Романович сам не знал, почему его потянуло к старому храму, — в Москве было немало мест, где бы его горячо приветили; он просто почувствовал в самом себе какой то предел, что то случилось, и он не мог переступить пролегшую в его душе заповедную черту, в нем вдруг словно надломился главный стержень, и он два дня лежал навзничь на старой тахте, вспоминал забытые запахи, звуки и, упершись глазами в потолок, перебирал в голове всю свою прежнюю жизнь, начиная со смерти матери, заглядывая порой и в еще более давние времена, и Настуся, обрадованная его появлением, старалась под любым предлогом заглянуть к нему, принести чаю, о чем либо спросить, пожаловаться на свои многочисленные хвори и напомнить о его обещании пристроить ее в какой нибудь дом призрения для стариков. Занятый своим, он почти не слышал и не замечал ее, и она никогда не обижалась, — она была странным существом, уже давно привыкшим жить незаметно не только для других, но и для самой себя, — ее присутствие было нелегко сразу обнаружить и в небольшой комнатенке, и Сергей Романович всегда испытывал некоторую растерянность, неожиданно сталкиваясь с нею, казалось бы, в пустом пространстве, где нибудь у стены, возникающей в каком нибудь уголку или даже сидящей за столом, — он бы мог поклясться, что секундой раньше ее там не было и не могло быть. Это было московской особенностью, выработанной именно у русских старушек необходимостью жить незаметно, не напоминать лишний раз о занимаемой ими драгоценной жилплощади и не раздражать своим присутствием других — и своих родственников, и всемогущих домоуправов, жэковских слесарей и плотников, участковых милиционеров, соседей, с упорством ожидающих освобождения желанной жилплощади; Сергей Романович, устав от своих мыслей и все так же лежа на спине на второй день к вечеру после своего возвращения, думал именно о судьбах московских стариков и старушек. Он понимал, что уходит от главного, но его зацепило; с некоторых пор он ведь и сам старался жить как можно незаметнее и давно стал похожим на ту же Настусю, — вот и все объяснение.
Он усмехнулся своему сравнению, — Настуся не могла даже в мыслях кого нибудь ограбить, здесь причина явно иная. Просто в таком чудовищном городе, как Москва, даже младенцы стали появляться на свет Божий с одинаковыми, стертыми лицами, а уж о лицах в старости, особенно после неудачной жизни, и говорить нечего. Это закон усреднения, действующий во всяком чудовищно разросшемся городе, иначе и быть не может, в противном случае и сам такой город не сможет существовать.
Какое то движение отвлекло его внимание; он скосил глаза и вначале ничего не увидел, хотя безошибочно определил присутствие рядом в комнате постороннего.
— Настуся?
Послышался чуть уловимый шорох совсем в другом месте, и он, повернув голову, различил почти слившуюся со стеной незнакомую невысокую фигуру, и уже только потом проступило знакомое лицо. Приглушенно кашлянув, Настуся изобразила улыбку и сказала:
— Я, я, Сережа… там тебя к телефону, что сказать то? Женский голос, она уже раза два или три звонила, Марией Николаевной называется, важное дело, говорит. Пусть мне, говорит, позвонит, он мой номер должен помнить.
— Ну, Настуся, ты же знаешь, меня нет, я в командировке, — недовольно сказал Сергей Романович, приподнимаясь, и от укоризны, прозвучавшей в его голосе, Настуся стала еще незаметнее, стала как бы на глазах растворяться в пространстве или сливаться со стеной, на фоне которой стояла, — ему стало жалко старушку и неудобно перед нею, и он отвел глаза.
— Я так и отвечаю, Сереженька, — заторопилась Настуся, — нету его, мол, в отъезде, а где, не помню, он мне не докладывает, дело молодое, что ему, говорю, пока то еще не переиграло, не монах, говорю… Я…
— Спасибо, спасибо, Настуся, — остановил старушку Сергей Романович, по прежнему жалея ее, и, чтобы окончательно успокоить и показать, что он и не думал сердиться, попросил сварить по чашечке кофе, и затем они сидели на кухне, и Настуся совсем преобразилась. Пахло крепким кофе и свежим лимоном, Настуся с торжеством извлекла из холодильника остатки торта, принесенного ей в подарок Сергеем Романовичем, и получилось целое пиршество, — сам хозяин даже непривычно погрустнел.
— Мама вспомнилась, — сказал он в ответ на расспросы старушки. — Я ее совсем стал забывать. Нехорошо что то…
— Грех, грех, — согласилась с ним и Настуся, осторожно отхлебывая дымящийся горячий кофе. — Только ты сам себя не терзай, Сереженька, покойные матери по всякому пустомыслию не приходят, они в свой час и срок объявляются, когда совсем уж невмоготу… Ты радуйся, значит, ровно твоя жизнь выстраивается…
Он с удивлением и пристально взглянул на нее, словно впервые увидел, и, встретив незнакомый, умный взгляд, растерянно улыбнулся.
— Вероятно, так, Настуся, — сказал он. — Хочу на кладбище съездить, цветов отвезти, все никак времени не выберу…
— А ты, Сереженька, выбери, выбери, все брось и выбери, — подхватила Настуся, окончательно оживляясь. — Как она тебя любила, Боже ты мой праведный, так ведь и не приняла ее душа никого больше, а ведь совсем молоденькой, в самой поре осталась, как Роман Андреевич, твой отец, в сорок первом сгинул… Знаешь, Сереженька, ты очень на него похож…
— Скажи, Настуся, — попросил Сергей Романович, останавливая старушку, — правда ли, что у нас в роду чуть ли не какие то князья были, древней древней крови, чуть ли не…
— Что ты, что ты, Сереженька! — испуганно замахала на него Настуся, отодвигая от себя тарелочку с кусочком торта. — Как можно в такое время! Мы с твоей матерью и заикнуться боялись про такие дела, как можно! Господь даст, придет время, все на свои места встанет, а сейчас…
— Настуся, ну полно, полно, мы же одни…
— Пережил бы с наше, по другому глядел бы, Сереженька, — вздохнула Настуся. — Окаянное время нам пришлось прожить — куда! И отец твой от того же корня оказался, где то там, еще до Алексея Михайловича, разделились, а потом, вишь, опять сошлись… Да ты погляди на себя в зеркало, разве такая порода ни за что, ни про что, с болотной кочки выводится? Чуть ли не к Шуйским да Лопатиным выходит, а то и еще дальше…
— Дальше то вроде бы и некуда, — задумчиво сказал Сергей Романович. — То то я подчас каких то чертей в себе начинаю чувствовать, так и норовят что нибудь выкинуть, мир удивить…
— Господь с тобой, Сереженька, — окончательно перепугалась Настуся. Они еще посидели и поговорили о разных пустяках, и в этот же день к вечеру Сергей Романович уже был у обрадованной вдовы Марии Николаевны Михельсон за столом, оказавшимся уже накрытым к его приходу, и, потягивая коньяк, слушал щедрые и бесконечные московские новости, а сама хозяйка, любуясь на стоявшие в вазе свежие розы, принесенные гостем, неожиданно вспомнила что то полузабытое и приятное и осторожно поднесла к глазам платочек. В ответ на беспокойство своего молодого гостя, — а она никогда не была равнодушна к его почти вызывающей мужской красоте и уму, а главное, неизвестно откуда взявшейся утонченной интеллигентности, мужественности и серьезности — в подпольном мире Москвы о нем, несмотря на молодость, давно уже ходили легенды, хотя никто ничего определенного так и не мог сказать, — в ответ она только улыбнулась. Оба, и гость, и хозяйка, хотя и принадлежали в своем мире к высшей элите, неукоснительно подчинялись неписаным законам этого беспощадного и сурового мира, предписывающего не доверяться полностью никому, даже самому себе, и поэтому они и на этот раз разморозились не сразу; Мария Николаевна, хлебнув изрядную дозу своего любимого сухого хереса и выслушивая фантастическое вранье Сергея Романовича о своем столь продолжительном отсутствии в Москве, поощрительно кивала, соглашаясь, и только глаза ее выдавали — в них нет нет да и проскакивала мудрая ироническая или даже сатирическая искорка.
— Ах, Сереженька, ах, как невероятно интересно! — внезапно воскликнула она, встала, отключила телефон, прошлась по квартире, что то еще, одной ей ведомое, поправляя, и в ответ на немой вопрос гостя кивнула: — Ничего, ничего, Сережа, не беспокойся, так, на всякий случай. Береженого Бог бережет! Врешь ты, милый мой мальчик, очень складно, только я ведь недаром тебя разыскивала и хотела видеть. Мы не чужие друг другу, прошу тебя отбросить свою вечную самонадеянность и выслушать старуху — уж я-то видела в жизни такое, что тебе и во сне не пригрезится, дорогой мой… Ты, как у нас говорят, прокололся, ступил за запретную для любого простого смертного черту, прямо на минное поле, как говорили саперы — у меня был в войну один полковник из такой команды, где то уже после победы оступился. Видный был мужчина… Ах, Сереженька, Сереженька, поверь, нет никакого смысла вот так распинаться, держать, молить…
— Вы о чем, княгинюшка, что вы! — подал голос и гость, потянулся через столик, благодарно сжал руку хозяйке, и она в ответ одарила его неким подобием улыбки — неровная тень прошла по ее крупному, ухоженному, несмотря на возраст, почти без единой морщинки, лицу. — Вы же знаете, княгинюшка, я не отношусь к таким легкомысленным людям, любое ваше слово, любой намек я ни разу не пропустил мимо ушей, что вы! Разве я похож на пресловутого Иванушку?
— Нет, Сереженька, нет, уж на дурачка ты окончательно не похож, — с готовностью согласилась хозяйка и, с какой то незнакомой серьезностью, долго молча смотрела на него в упор, точно забыв о себе и о госте, а он, как бы подпадая под ее настроение, молча ждал. Он хорошо знал хозяйку и видел, что она не только встревожена, но и напугана, и не хотел торопить события; слегка улыбаясь, он еще налил Марии Николаевне хереса, а себе коньяку, задумчиво взял сизую крупную маслину, бросил в рот, пожевал, стараясь отгадать истинную причину непривычного поведения хозяйки, обычно уравновешенной и непроницаемой.
— Сереженька, ты ее очень любишь? В самом деле цыганская страсть с кинжалами и кострами? — словно очнувшись, спросила Мария Николаевна, поднимая рюмку с хересом.
— Что то я ничего не соображу, действительно, что ли, поглупел, — попытался отшутиться, изумленный в душе, Сергей Романович. — Право, вы о чем, княгинюшка?
— Хватит, хватит петли то накидывать, — засмеялась хозяйка и отпила из рюмки. — От твоего фантастического курбета с этой высокой знаменитостью вся Москва перебесилась! Тут такое говорили и говорят — волосы дыбом! Нет, Сереженька, мальчик мой, не сносить тебе головушки! Ты что же, не знал, из какой генеральной постели ее выхватил? Ну, чего онемел? Такое, дорогой мой, никому не прощается… Ты бы мог ограбить банк или разгромить золотую кладовую — здесь все можно понять и объяснить, но такое… Как ты мог только додуматься до подобного безумства? Как тебе удалось? Да ты чего, дорогой мой, веселишься? Ты, видно, и правда с ума сошел! — расстроилась хозяйка и залпом допила свой херес.
Некоторое время она старалась удержаться, но затем замахала на своего гостя рукой с платочком и как то нервно расхохоталась, не в силах остановиться даже от резонной мысли испортить лицо; она все помахивала платочком, словно стремилась остановить его в чем то бессмысленном и недозволенном, и между приступами хохота у нее вырывались неразборчивые восклицания и слова.
— Нет, нет! — все больше изумлялась она. — Я как услышала, не поверила, едва в обморок не грохнулась! Нет, нет, говорю, да такого же быть не может! Это ведь ни в какой сказке не отыщешь! У самого Брежнева умыкнул? Да кто он такой, этого же быть не может! Это наш то Сережа, свет Романович? Господи спаси, нет, я не верю, помру от смеха! Ай да Сергей Романович!
Почувствовав, что у нее поползла краска с ресниц и бровей, Мария Николаевна мгновенно остановилась, долго рассматривала испачканный в помаде платочек, попросила налить еще вина, пожелала гостю здоровья и счастья и выпила.
— Знаешь, Сереженька, а я бы очень хотела узнать, как это все у вас получилось… Нечто невероятное. Ну, тебя я еще могу понять, но вот ее… Она что, тоже с ума сошла?
— Я был о вас несколько другого мнения, княгинюшка, — не остался в долгу Сергей Романович, и у него проступил густой румянец. — Скажите на милость, чем же я хуже какого то партийного старикашки? Вы же умная и знаете, на этом поле брани абсолютно все равны, и слава Богу, что это так! А то бы человечество давно выродилось, — именно в женщину природа и Бог, если хотите, и заложили этот спасительный инстинкт сохранения рода человеческого. Именно поэтому такие курбеты, как вы изволили сказать, княгинюшка, и происходят сплошь да рядом. Слава — женщине!
Тут Сергей Романович встал, выпятил грудь, по гвардейски поднял рюмку с коньяком и выпил; хозяйка, залюбовавшись им, спохватилась, поблагодарила от имени всех женщин и, сразу посерьезнев, с затаенной нежностью остановилась долгим взглядом на лице своего гостя.
— Я давно тебя поняла, — сказала она, — с тобой, Сереженька, не соскучишься… Молодец! Будет что вспомнить! Скажи, не стесняйся, я уже старуха, мне можно сказать, — что же ты теперь собираешься делать, как будешь жить? Моя матушка, царство ей небесное, всегда говорила, что шила, мол, в мешке не утаишь, — я так, от бабьего ненасытного любопытства спрашиваю, не думай… Дальше то что?
— А я и не думаю, княгинюшка, о таких пустяках, — засмеялся гость и закружился по комнате — сердце у него отпустило, забавная старая женщина, считавшая себя подлинной аристократкой, сама того не желая и не предполагая, вдруг возмутила в нем самое потаенное, к чему он и сам не решался прикоснуться и обходил до сих пор за тридевять земель стороной. Но так уж был устроен человек — пришла пора и больше нельзя было вертеться вокруг да около, и он, вероятно, потомок одной из древнейших фамилий на Руси, постояв перед большим напольным зеркалом в старой раме и довольно налюбовавшись на свою озадаченную физиономию, словно пытаясь отыскать в ней признаки благородных наследственных кровей, наконец, заговорщически подмигнув сам себе, вернулся к столу, еще выпил с хозяйкой и пощипал кисть винограда, красовавшуюся на столе.
— Знаете, княгинюшка, если бы я сам мог знать и объяснить! — сказал он задумчиво, с какой то затаенной теплотой и даже гордостью. — Я одно знаю, что то во мне рухнуло, сломалось, я уже не тот, я теперь сам себя не знаю и даже подчас боюсь. Только и не в этом главное, княгинюшка Мария Николаевна, не в этом! — Тут он поднял глаза на хозяйку, и она, жадно и удивленно слушавшая его, слегка отшатнулась — раньше у него никогда не было таких глаз, просветленных, лучащихся каким то чистым, почти хрустальным светом, и этот странный свет больше всего и ужаснул хозяйку. — Я раньше вроде бы и не знал, — продолжал свою исповедь Сергей Романович, — и только теперь вдохнул солнца, обжегся… Я, княгинюшка, небо увидел, знаете, в самые выси взлетел и спускаться оттуда не хочу, не могу! И жить по прежнему я уже не хочу и не буду! Что же здесь плохого или преступного, скажите мне, моя мудрая наставница и охранительница, в чем здесь преступление? Молчите?
— А что я скажу безумному? — Мария Николаевна слабо улыбнулась, по прежнему глядя на него с каким то новым, пронзительным чувством открытия, и вдруг погрустнела, поникла. — Ты меня, Сереженька, хорошо знаешь, у меня душа для друзей открытая, нараспашку. Ох, грех тяжкий, — суетливо перекрестилась она и стала в чем то похожа на тетушку Настусю, — от этого сходства гость окончательно смешался и пожалел хозяйку. — Сроду я никому не завидовала, а тут ох какая меня нехорошая мгла окутала! Нет, Сереженька, не думай ничего плохого, это была особая зависть к твоей Магдалине, и даже не женская, не бабья, я и сама не знаю, что это было… Подобного в своей жизни я и припомнить не могла… Господи милостивый, помилуй и прости… да и как не позавидовать? Ох, наша бабья порода! А зависть — великий грех, сколько надо отмаливать…
Тут гость, не выдержав, смиренно опустил глаза, поджал губы, вздрагивающие от сдерживаемого смеха, и несколько раз кивнул.
— Грех, грех, княгинюшка, непростительный, — подтвердил он. — Но я вам, так и быть, прощаю, это у вас от щедрого сердца, а здесь же какой грех?
— Значит, новая жизнь, — сказала хозяйка, молчаливо, одним взглядом, поблагодарив своего гостя за отпущение грехов; в ней уже началась иная, напряженная работа, в голосе прорезалась ирония, во взгляде появилось нечто жесткое. — Значит, из грязи да прямо в князи? Знаменитая жена красавица, знакомство на самом верху, приемы, путешествия, цветы и овации? Уж не размечтался ли ты, как новый Савва Мамонтов, открыть свой собственный театр и возить свое диво по всему свету на гастроли?
— Мария Николаевна, княгинюшка…
— Да что княгинюшка, что княгинюшка! — взорвалась хозяйка, и лицо у нее сделалось злым и неприятным, в нем проступила глубокая старость и бессилие перед этой непреодолимой силой разрушения. — Помолчи, послушай, ты еще мокрогубый щенок и больше никто. Я тебе сейчас всю правду скажу, не обижайся, Сереженька. Так не бывает, как ты задумал, ведь ты умный, в этом недостатке тебе не откажешь. Будь ты мне безразличен, я бы тебя не искала, у меня свой дальний смысл был, я хотела тебе свое дело передать, всю тайную Москву на ладошке преподнести — бери и володей! А это такая сила, перед которой ничто не может устоять… Мы бы твои всякие там детские шалости — ф фу у! — дунули бы и развеяли, следа бы от них не осталось. А теперь, Сереженька, страшно мне стало… Сиди, сиди, соберись, пожалуйста, и послушай, авось и пригодится.
— Какая артподготовка, — усмехнулся Сергей Романович, глядя на хозяйку с удивлением и недоверием. — Слушаю, и очень очень внимательно.
— Мой тебе совет, Сереженька, немедленно все бросить и годика на два исчезнуть, лечь где нибудь на донышко, — не стала больше ходить вокруг да около Мария Николаевна. — Только не здесь, а где нибудь подальше, в Ростове, в Одессе, мало ли где! И чтоб тебя сей же ночью в столице не было, исчезни, о своей дорогуше не печалуйся, заступник у нее найдется и похлеще тебя. Если что нужно, скажи, за этим дело не станет, ты же знаешь…
И тогда у Сергея Романовича, с напряженным вниманием и недоумением слушавшего хозяйку, впервые дрогнуло сердце и знобящий ветерок тронул затылок, — он почувствовал нежно шевельнувшиеся волосы, он слишком хорошо знал хозяйку, знал, что, желая ему добра в своем понимании, она сейчас говорила правду, знал, что ей одной из первых в Москве становятся известными самые тайные и секретные сведения даже из первых эшелонов власти, даже из Кремля, казалось бы, из самых глухих кабинетов, но она не осознала и уже не сможет осознать главного — что в нем самом давно уже сместились полюса и возвратиться в исходное, привычное для всех положение они уже никогда не смогут, даже если бы он и захотел.
— Так плохо, княгинюшка? — спросил он, удерживая на лице застывшую улыбку, которая уже никого бы не могла обмануть.
— Я все сказала, больше нечего сказать, умный поймет, а дурак…
— Не надо, — попросил гость. — С какой стати бежать? Никакого злодейства за плечами, здесь в первопрестольной у меня немало друзей, если что…
— Да ты в самом деле голову потерял! — повысила голос хозяйка и приказала налить еще вина и, вновь отведав хереса, укрепившись таким образом для дальнейшего разговора, пересела от стола в удобное кресло и, казалось, задремала, прикрыв глаза. Гость, давно уже встревоженный и озадаченный, молча ждал, пытаясь хоть приблизительно определить предстоящий поворот разговора, и хозяйка, словно угадав его мысли, заворочалась, заохала, устраиваясь удобнее.
— Знаешь, Сереженька, — сказала она, — я, право, проклинаю себя и тот час, когда черт дернул меня за язык и я пригласила тебя в этот проклятый театр… Вот уж оказия!
— Ну, Мария Николаевна…
— Молчи, молчи, ради всего святого! — попросила хозяйка, и в ее голосе прозвучала неподдельная боль, почти ощутимая тоска, — гость замер. — Молчи, несмышленыш! Да, ты не совершил ничего такого уж недозволенного, но ты, мальчик, совершил самое тяжкое — переступил черту, заходить за которую никому не дозволяется! Ты, дорогой мой, вторгся в святая святых властей предержащих, низвел их до своего уровня, унизил своим молодым безрассудством, — как же теперь будет глядеть на Леонида Ильича Брежнева, на этого надутого индюка, его ближайшее окружение? То самое окружение, которое абсолютно все знает и все в государстве определяет? Разве оно позволит унизить своего идола, который по воле судьбы якобы возглавляет само Российское государство? Нет, ты мне скажи, если ты такой умный, что ты сам стал бы делать на их месте?
— Да что ему, других баб мало, этому старому, пардон, пердуну? — в свою очередь пошел в атаку гость. — Нет, где это видано, чтобы какой нибудь старикашка…
— Так, так, можешь не продолжать, — оборвала хозяйка. — Не такой он уж и старикашка, в его возрасте самая злость в амурных делах и одолевает, вот приведет тебе Господь дожить, вспомнишь мои слова. Так, понятно… Теперь о друзьях. Скажи мне, мальчик, какие же у тебя могут быть друзья? Очень тебе советую, не верь ты никому, кроме себя… Даже своему дуролому, Оболу то, меньше всего верь, что, на тебя от любовного бешенства совсем затмение нашло?
— Зело, зело откровенно, милая княгинюшка, — невольно подражая высокому стилю хозяйки, с заметной злостью подхватил гость, встряхивая, словно просыпаясь от дурного сна, головой. — Благодарю вас, только и сам отлично знаю цену своим друзьям… Дело в другом, вы тут совершенно перевернули мне душу, во мне вся жизнь из конца в конец заново перемоталась, все вспомнил… А зачем? Спасибо, княгинюшка, знаете, я очень очень благодарен вам. — Загремев стулом и сорвавшись с места, гость бросился перед хозяйкой на колени, неловко завладел ее руками и несколько раз поцеловал их, крепко прижимая к своему лицу и ощущая сладковатый запах незнакомых духов. — Никуда я не поеду и ни от кого скрываться не стану, я ведь тоже человек и мужик… Не могу иначе. Не могу без нее, вы, дорогая моя княгинюшка, простите, вы лишь еще больше ободрили меня. Во мне сейчас столько радости — я мир могу перевернуть!
Гость возбужденно и с вызовом засмеялся, а хозяйка, откинувшись на спинку кресла, сильно побледнела и, не отрываясь, пристально глядела в его разгоревшееся лицо застывшим взглядом. И затем губы ее шевельнулись, и она окончательно решилась.
— Знаешь, Сергей Романович, меня ты не обведешь вокруг пальца. Ведь в Москве так никто и не знает, кто ты такой на самом деле и какую жизнь ведешь, ты словно оборотень какой, везде успеваешь и нигде тебя вроде бы и нет. А тут ты попался на крючок… Скажу тебе еще одно: ты должен знать, почему переступил самое недозволенное, что именно здесь сработало. Слушай, слушай! У твоей избранницы хранится древний амулет, думаю, один из самых дорогих в мире черных бриллиантов… Это роковой камень, он тебя и притянул. Его судьба прослеживается уже в течение многих веков… Что с тобой?
— Ничего, — с трудом вытолкнул он из себя, — от внезапного потрясения он боялся взглянуть на хозяйку, холодная судорога свела горло. — Ничего, продолжайте…
— Там, где появляется этот роковой камень, тотчас начинаются самые тяжкие бедствия, войны, мор, кровь — целые моря крови… Об этом знали посвященные люди и много раз пытались сатанинский камень уничтожить. И он каждый раз исчезал в самый последний момент. Господь с тобой, Сереженька, знать, судьба у тебя такая, на роду тебе написано. Я все, что могла, сделала, — я ведь тоже русская старуха. Старалась, старалась… Если ты любишь и если сможешь, избавь эту женщину от проклятого камня, не поддайся его дьявольскому прельщению. Его только нужно трижды перекрестить и бросить в огонь — тебе многое от Господа Бога простится… Ну, хватит, дай я тебя благословлю и поцелую, — я совсем уморилась с тобой! Спасти тебя уже нельзя, ты теперь соприкоснулся с черным камнем… Встань!
И Сергей Романович, не в силах разжать занемевшие губы от какого то мистического ужаса, встал, и Мария Николаевна трижды поцеловала его в щеки и в лоб.
6
После посещения Марии Николаевны Михельсон, несколько придя в себя, Сергей Романович окончательно понял, что не сможет жить своей прежней привычной жизнью; вдруг ему стало неинтересно и скучно все его прошлое, и более всего он сам; он как бы заболел странной и незнакомой досель болезнью, и на него все чаще и чаще находила тоска. Среди суматошной, многолюдной, никогда не знавшей покоя Москвы он оказался в безлюдье и одиночестве; теперь он подолгу бродил по городу, часто оказываясь в самых заброшенных его уголках; вокруг веселились, ссорились, куда то спешили по своим муравьиным делам люди, смеялись и плакали дети, бродили слепые от счастья влюбленные, сидели у подъездов и на скамеечках бульваров прощающиеся с жизнью старухи, но он, где бы ни оказывался, всегда был один, и это начинало его беспокоить, тем более, что завоеванное раньше необходимо было непрерывно отстаивать и защищать; каким то шестым чувством он уже ощущал, что его начинали вытеснять из его старых владений в самом центре первопрестольной, по прежнему цепким, наметанным взглядом он приметил три или четыре смутно знакомые физиономии, мелькнувшие в человеческом потоке, в первый раз где то у Ивана Федорова, вторично в Столешниковом, затем у «Праги», и сам удивился, до чего ему это стало безразлично. Уже катилась не его жизнь и шло не его время; просто очередной сон жизни кончился, как обязательно кончаются любые сны, даже самые фантастические и запутанные, — его теперь подхватил и понес иной, внутренний поток, и хотя он не знал, куда его вынесет, он обрадовался и оживился — близился итог, вот вот должно было наступить разрешение, и он втайне хотел этого и чувствовал облегчение.
Однажды, проголодавшись и подкрепившись парой шпикачек прямо у жаровни на улице, он все так же бесцельно побрел дальше по Садовому; он подумал, что пора постричься; прикинул, куда ему лучше зайти, на Пушкинскую к знакомому мастеру или тут же рядом, за углом, на Горького, — здесь у него тоже был свой постоянный мастер, даже с установленной таксой в двадцать пять рублей, — и через полчаса он уже сидел в кресле, закутанный в белоснежную простыню. Глядя на себя в зеркало, он думал, что в нем опять ожило и сработало проклятое прошлое; старый мастер, хорошо знавший себе цену, важный и любопытный, как все истинные мастера, сразу узнал давнего клиента и обрадовался, хотя и не показал этого, а лишь приветливо поздоровался и стал готовиться к довольно продолжительной процедуре — клиент был солидный и с самого начала коротко кивнул:
— Все, полное меню, Самуил Яковлевич, а то знаете, я по вас уже соскучился.
— О о, я и без лишних объяснений помню, — с достоинством ответил парикмахер, заправляя за воротник клиента еще одну салфетку, затем выглянул за портьеру, отделявшую от рабочего места зал ожидания, и попросил кого то предупредить, чтобы к нему сегодня очередь больше не занимали. — Вы, пожалуй, еще больше возмужали, — заметил он, вновь принимаясь за дело, — вы у меня месяцев десять не были.
— Меня не было в Москве, — успокоил ревнивого мастера Сергей Романович. — Долгая командировка, сначала на полгода, затем опять — Сибирь, Бог знает какая глушь, я к вам, Самуил Яковлевич, чуть ли не с самолета — представляете, я вас как то даже во сне видел.
— Вполне логично, — подтвердил парикмахер. — У вас красивая голова, классический профиль, напоминающий античность, но, увы, я взглянул на вашу прическу, и у меня, как говорят русские мужики, мороз подрал по коже! Какой варвар вас так искромсал? Понятно, какая то Сибирь, но кому нужна эта Сибирь, раз там не умеют даже выправить височки? Что там делать приличному человеку? — Тут Самуил Яковлевич властно и умело приподнял голову клиента, слегка развернул ее и взялся за расческу и ножницы. — Так, так, так, придется еще раз подтвердить истину, что для художника нет невозможного, немного терпения, и вы вновь станете похожи на античного героя, именно античного, заметьте себе, а не на ту нелепость, в которую историческое несчастье превратило нынешних греков.
— Все меняется, ничего не поделаешь, — засмеялся Сергей Романович, погружаясь в особое полусонное блаженство. — Даже в Москве сколько переменилось за какие нибудь десять месяцев, я даже многое не узнал…
— Мне всегда нравились наблюдательные люди, — подхватил Самуил Яковлевич, профессионально цепко оглядывая своего клиента в зеркале, разделяя его буйную рыжеватую гриву ровным пробором надвое и вновь принимаясь за ножницы. — Мой тесть, достопочтенный Арон Иокимович… на той неделе в среду, представляете, ему исполнилось сто четыре года, и моя жена сделала превосходную фаршированную щуку… так вот, мой тесть Арон утверждает обратное. Такой почтенный возраст, его можно простить, а я кожей чувствую все эти ненужные перемены, я бы не стал утверждать, как достопочтенный Арон, что все это к добру. Вы слышали, конечно, сколько теперь развелось разных вредных писателей, и каждый из таких норовит переправить свою галиматью за кордон. У меня старшая дочь Розалия замужем, тоже за писателем, сочиняет репризы для цирка и для самого Никулина. Ну и что? Что там смешного? Видите ли, баран вырядился в тигриную шкуру и напугал волка… Ну и что? Так в жизни не бывает… Так вот, Розалия приносила мне колоссальную рукопись некоего, тоже писателя, Солженицына, нечто такое раковое. Это, говорит, папа, любопытно, посмотри, как мы плохо живем и уже зреют гроздья гнева. Стал я смотреть — о о, вы представить себе не можете, какая это несусветная гадость! Где это видано, чтобы свою же родную страну поливать вонючей грязью? И все ведь, с первой до последней буковки, нагло врет! Если бы так было, как утверждает этот писатель, как бы мы смогли первыми подняться в космос или разгромить Гитлера? Дура ты, говорю, Розалия, хотя и моя родная дочь, ни я, ни твоя мама никогда не страдали отсутствием головы. Никаких здесь виноградных гроздьев, никакого гнева, одна помойка! Вот, говорю, что значит, когда в стране нет настоящего хозяина! Вы можете что угодно толковать мне про Сталина, но при нем такой глупый писатель, как этот ваш Солженицын, находился именно там, где ему и надо было быть, а не пудрил людям мозги… Или таким дурам, как ты, Розалия! Народ тоже должен заниматься своим делом — трудиться! Хотел бы я увидеть человека, который бы осмелился мне возразить, что я говорю не так!
— Так, так, Самуил Яковлевич, — не удержался от улыбки Сергей Романович. — Лично я абсолютно с вами согласен, как говорится, на все сто!
Полюбовавшись на дело рук своих и дав клиенту осмотреть свою голову со всех сторон, поднося небольшое зеркало к нему то с затылка, то сбоку, и дождавшись, когда и сам придирчивый клиент осознает величие происшедшего и запечатлеет это на своем лице, Самуил Яковлевич принялся намыливать ему щеки и подбородок и править бритву.
— Прекрасно, прекрасно, Самуил Яковлевич, — не сдержал своего восторга клиент, продолжая рассматривать себя в зеркале. — Подлинное, высокое искусство!
— Благодарю, молодой человек, у меня свои твердые убеждения все делать с высшим знаком, — признался Самуил Яковлевич, слегка розовея. — Некрасивых людей не бывает, нужно только заметить и выявить в человеческом образе главное! А этот Солженицын, новоявленный писака, все видит наоборот, у него от природы испорченное, даже извращенное зрение, и таких надо изолировать от здоровой массы, не то жди беды. Ведь о чем только не говорят сейчас люди, можно с ума сойти! Недавно от своего давнего друга, вполне порядочного человека, такое услышал… Якобы из под Елисеевского магазина до самой Старой площади туннель проложили, и теперь московский горком во главе с товарищем Гришиным отоваривается подземным путем… Спрашивается, к чему товарищу Гришину такая канитель — отовариваться подземным путем? Кто это ему запретит поверху ездить? И знаете, что мне ответил этот умник? Для того, чтобы его никто не видел, говорит… Что? Как вам это нравится? Люди, хоть куда заберись, все равно увидят, вот что главное. Вы тоже, пожалуй, уже слышали, что у самого Брежнева где то на Волге, в Завидово, что ли, есть такое местечко, вроде бы целый гарем выстроен, а, как вам это нравится? Вроде бы потому и пропадает сейчас, даже на Москве, множество молодых, непорочных девушек, а все начинается с малого, с какого нибудь Солженицына, а там и пошло полыхать на всю Одессу, а если представлять себе правильно, на всю страну! Все мы мужчины и знаем, что это такое, но зачем же стулья ломать? У великого Соломона тоже было триста жен и семьсот наложниц, но никто не делал из этого никакой трагедии. Все дело в возможностях и способности, от этого мир еще никогда не рушился. Простите, головку чуть чуть назад… благодарю. — Подчиняясь, Сергей Романович совсем разомлел и больше уже почти не слышал Самуила Яковлевича, дарившего своими откровениями далеко не каждого клиента; и хотя Сергей Романович находился сейчас в редком за последнее время прекрасном расположении духа, он именно теперь ощутил некий переломный момент и задержал дыхание. Пришло решение; стараясь скрыть свое состояние, Сергей Романович прикрыл глаза. Чуткий и нервный Самуил Яковлевич тотчас отвел руку с бритвой.
— Что нибудь беспокоит? — спросил он и, увидев глаза клиента, в свою очередь, озадачился, умолк; так иногда тоже бывает, что люди, даже мало знакомые друг с другом, могут неожиданно и случайно, по взгляду или жесту, почувствовать край пропасти, а то и заглянуть в нее, поежиться и прошептать вроде бы давно забытую молитву.
И действительно, Сергей Романович вышел из модной парикмахерской, сердечно и тепло распрощавшись со старым мастером, с завидным изяществом опустив в карман его халата несколько десяток, и, обновленный, словно весь его состав переменился, он зашел в ближайший, «Центральный», ресторан и с удовольствием пообедал. Он не стал пить, к плохо скрытому неудовольствию официанта, ничего крепкого, заказал лишь бутылку сухого вина, и затем, посидев на скамейке у фонтана возле Пушкина, понаблюдав за шумными и непоседливыми ребятишками, которых неусыпно пасли бдительные бабушки и мамаши, хотел уже двигаться дальше: в нем начинал просыпаться знакомый ему зуд нетерпения. Скосив глаза, он увидел Обола — в хорошем костюме, с модной прической и приветливой улыбкой. Он не удивился, пододвинувшись, жестом предложил сесть.
— Выкладывай, — коротко сказал он, поздоровавшись. — Ты за мной второй день шастаешь, я тебя сразу засек. Родное московское небо надоело? Хочешь увидеть звезды небесные с обратной стороны? Ну что ж, такое тоже сбывается, если сильно захотеть. Так, Обол? — ласково поинтересовался Сергей Романович, и от его дружеской серьезности Обол заерзал, согнал с лица приятельскую ухмылку и, шумно втянув носом воздух, чихнул.
— Ты надушился, голова кружится, — сказал он с завистью и заторопился. — Погоди ты, сначала послушай, а то сразу грозиться! — Поведя головой и осмотревшись, заметив неподалеку уткнувшегося в газету гражданина в приплюснутой кепочке, Обол закурил, сплюнул за скамейку, крутанув головой. — Тебя черт куда то чуть ли не на год унес, а мне жить надо, а я один, сам знаешь, ни туды и ни сюды. — Тут он, еще раз зорко стрельнув глазами по сторонам, подсунулся к товарищу ближе, вплотную, и прошептал ему на ухо всего несколько слов, отчего невозмутимый Сергей Романович непривычно побледнел, — почти незаметно, но Обол не упустил и этой мелочи, и ему на какое то время тоже стало не по себе. Он хорошо знал сидящего рядом человека, думал, по крайней мере, что знал, — достаточно было одного неосторожного движения, одного лишнего звука, и тщательно сотканная умными головами паутина будет разорвана, распадется, рассыплется, и он, этот франт, вновь окажется в недосягаемости.
— Знаешь, я тебе одно скажу, — пробубнил, понижая голос, Обол, снова незаметно осматриваясь. — Хочешь отвязаться — швырни им этот чертов камень сам, дело далеко заехало, не отстанут. Интерес то громадный! Ну, я пошел, а то мы с тобой как в стеклянной банке, насквозь просвечивает. Ни к чему такой цирк…
— Сиди, — проронил Сергей Романович скупо и обещающе, и Обол, дернув плечом, сразу ощутил себя словно на пронизывающем ветру.
Конечно, можно было встать, усмехнуться и отправиться своей дорогой, но далеко ли ему будет суждено ушагать? И Обол, бесстрашно взглянув Сергею Романовичу в глаза, остался сидеть, ожидая дальнейшего.
— Ладно, Обол, за мной должок не залежится, — сказал Сергей Романович. — Еще одно — когда?
— Ну, придумывать не буду, я для них пока чужой, не очень то губы растопырили, — усмехнулся Обол. — А я и не набиваюсь, черт с ними. Думаю, ждать долго им не с руки, вот сам и рассчитывай, — добавил он, встал и протянул руку. — Если что, как кликнуть?
Сергей Романович ничего не ответил, тоже встал, дружески похлопал старого напарника по плечу, и они расстались, растаяли в шумной по праздничному людской толчее, и никто бы и в горячечном бреду не мог предположить, что в бесконечном круговороте самой простой, будничной и даже низкой жизни, в ее немыслимых хитросплетениях, именно встреча этих двух, давно уже бывших не в ладах с законом москвичей означила нечто совершенно непредвиденное и что их невнятный разговор вызвал в привычной московской жизни широко расходящиеся круги, мимолетные, скоро исчезающие следы и движения, которые затронут интересы людей из самых разных слоев, начиная с верхов и кончая глубоким подпольем, что, в свою очередь, еще раз подтвердит старую истину о тесном единстве всего человеческого общежития, в какие бы социальные формы оно ни облекалось, и то, что без боли и ущерба из него невозможно вычленить и вынуть даже самую ненужную и порочную его часть.
— К черту! — в сердцах сказал Сергей Романович, когда у него в голове стали вертеться самые дикие мысли; встреча с Оболом была, конечно, не случайной, он и сам ждал чего то подобного, просто еще раз подтвердилось его решение, теперь оно еще больше укрепилось, сигнал был принят.
Он побрел по Москве наобум, куда глаза глядят; вроде бы даже забыв о своем решении, он шел и шел из улицы в улицу, из переулка в переулок, по бульварам и набережным, потом вновь забредал в путаницу тупиков старой Москвы. В какой то момент у него мелькнула мысль, что эти его блуждания таят в себе определенный смысл, вполне возможно, пришло время окончательно проститься с прошлым, со знакомыми с детства дворовыми переходами, по которым можно было пройти чуть ли не всю Москву из конца в конец…
Пришел вечер, зажглись фонари и погрузили город в таинственный полумрак, и вся его жизнь приобрела какую то особую сумеречную наполненность — Сергей Романович всегда, даже в детстве, любил ночь, любил Москву именно ночью, когда она сбрасывала с себя маску театрального притворства, самодовольства напоказ, и когда потихоньку проступало ее истинное лицо — лик кающейся, пытающейся замолить свои прегрешения блудницы, доходившей в этом до благоговейного экстаза; может быть, именно в таком состоянии она и становилась недоступной и в то же время желанной даже в самых отвратительных своих пороках и прегрешениях.
У Сергея Романовича было в жизни много таких вечеров и ночей, но сейчас он всем своим существом ощущал нечто особое; он сейчас любил этот город нерассуждающей звериной любовью; ему бы надо было немедля, очертя голову бежать из него, из каменных непроходимых недр этого застывшего неласкового чудовища, но он не мог вырвать себя из его тела, бесстыдно раскинувшегося на десятки и сотни километров, он был его неотъемлемой частицей и знал, что если бы какая то сила вырвала его из этого города и бросила в чужое пространство, он бы тут же задохнулся.
В одном из глухих, старых арбатских дворов он задержался и послушал, как пожилая женщина пытается привести в чувство изрядно набравшегося мужа — приподнимает его за плечи, трясет изо всех сил, затем, спохватившись, вновь швыряет на скамейку, не забывая предупредить, чтобы он не свалился в грязь.
— Нет, окаянный, погибель ты моя проклятая, — привычно и даже не слишком бурно выговаривала она. — Скотина! Рожа! Кровопивец! Ты скажешь, зараза, как ты мог потерять ботинок? Только на той неделе купили! Нет, все, или ты признаешься, у какой из своих шлюх обретался, или я тебя знать больше не знаю, на порог не пушу! И в трест завтра же напишу, пусть все узнают, что ты за фрукт! Пусть тебя там с Доски почета выскребут!
— Веру уша… Веру уша, ну что ботинок, ну плевать на него, новый купим… Ве еруша, — мямлил провинившийся, — нагнись, я тебя поцелу ую…
Тут Сергей Романович не стал больше слушать, посмеялся над глупой и тщетной женской надеждой заставить мужа вспомнить, где он посеял ботинок, и побрел дальше в ожидании новых открытий. Город с каждым часом все более успокаивался и затихал. Неожиданно, едва он пересек Садовое кольцо с непрерывно бегущими по нему цепочками автомобильных огней, в лицо ему пахнуло свежестью, тотчас упал веселый ветерок и в небе негромко прогрохотало. Он взглянул на часы и удивился. Время подбиралось к полуночи. Он тут же приказал себе успокоиться — он уже был у цели. Остановившись под одной из арок, он подождал. Отдаленный гул машин ему не мешал — гроза шла где то стороной, и он услышал тишину ночного города, она подтверждала его решимость и успокаивала. Он верил ночной тишине — вокруг было безлюдно и спокойно. Он прошел еще немного по Садовому, нырнул в знакомую арку, двором прошел в нужный переулок — во дворе было темно, и он увидел высокие, искрящиеся звезды. Остановившись у черной, вот уже много лет наглухо запертой двери, он, прислушиваясь, помедлил, затем как то необычайно легко тяжелая дверь, со множеством врезанных в нее в разные времена и многослойно закрашенных замков, приоткрылась. Затхло потянуло подвалом, гнилью, кошками, пыльной паутиной; Сергей Романович проскользнул в приоткрывшуюся щель, и дверь встала на свое место. И сразу же в темном дворе произошло какое то таинственное движение, в разных его углах мелькнули смутные тени, и все вновь успокоилось.
Поднявшись на шестой этаж и остановившись перед знакомой дверью, Сергей Романович прислушался; на лестничной площадке тускло светила лампочка, затянутая проволочной сеткой, — полуночная тишина успокаивала. Его не ждали, хотя он и думал, что ему обрадуются — в этом он мог не сомневаться. Дурманящая нега отдалась в затвердевших, напрягшихся ногах, во всем теле; он достал ключи, в последний момент передумал и потянулся к тусклой кнопке звонка. И сразу же отдернул руку. Откуда то сверху послышались веселые голоса, кто то упомянул нелестным словом домоуправление, опять испортившийся лифт, далее до Сергея Романовича дошел звук сочного поцелуя и женский податливый смешок, и дальнейшее уже не представляло выбора — внизу тоже хлопнула дверь и пробубнил что то недовольное голос вахтерши. Сергей Романович быстро открыл дверь ключом, беззвучно прикрыл ее за собой, придерживая внутреннюю пуговку замка, чтобы он не слишком громко щелкнул. Он прижался спиной к двери, затаился — мимо, сдерживая голоса, прошли сначала сверху, затем проследовала, очевидно, уже пожилая, запоздавшая пара снизу. Сергей Романович подождал еще немного и, осуждая про себя беспечность двух женщин, так и не позаботившихся, несмотря на его советы, о дополнительных запорах на входной двери, ощупью пересек прихожую, особенно остерегаясь у дверей в камору Устиньи Прохоровны и на кухню, и, остановившись у полуоткрытой двери в гостиную, вновь прислушался; мелькнула мысль о сумасшествии. Он скользнул в дверь и двинулся вдоль стены к фонарю со старинным письменным столом: он должен был уничтожить черный камень, предотвратить исходящую от него опасность для самого дорогого человека — для женщины, готовящейся стать матерью его ребенка. В следующую минуту он с трудом удержал крик и крепко прижался похолодевшей спиной к стене, — сердце оборвалось, мучительный звон словно разорвал голову; уже понимая, что опоздал, и теряя всякий контроль над собой, он бросился к светлевшему между круглым столом и диваном очертанию какого то длинного предмета, уже безошибочно зная, что это такое, и все равно не веря и не соглашаясь.
Он изломанно, словно во сне, опустился на колени, протянул непослушную, почти ледяную руку. Тело Ксении давно остыло и уже начало деревенеть, волосы на затылке слиплись от крови, подсохшей и взявшейся коркой, — удар был профессионален и точен. По прежнему замедленно, как в кошмарном сне, Сергей Романович отодвинулся, — тут же неподалеку лежала и Устинья Прохоровна, светлея маленьким старушечьим лицом, с растрепанными редкими волосенками, без своего обычного платочка на голове. И вторично он почти потерял сознание, затылок и глаза тронула нежная изморозь; он опоздал, и нужно было действовать молниеносно, здесь побывал кто то куда почище примитивного грабителя. Вдруг вспомнилась Мария Николаевна, ее последние слова, — пожалуй, назад через дверь ему уже не выйти, все уже перекрыто, можно было лишь выпрыгнуть из окна и подвести черту. И как это бывает в преддверии последнего шага, в нем тотчас сработал некий защитный механизм, вспыхнула и в одно мгновение высветилась вся прежняя, чуть ли не с пеленок, жизнь, и мать, и университет, и первая девушка, и пророчество отца Арсения, и страх Ксении… «Обол, Обол! — прозвенел в нем высокий, рвущийся незнакомый голос, хотя это беззвучно выкрикнул в запоздалом прозрении он сам. — Обол, сука!» И тогда в нем что то окончательно сместилось, на него рухнуло непривычное чувство полнейшего освобождения, и прежде всего от самого себя, — времени больше не оставалось, в любую минуту могли взломать дверь — он уже ощущал рядом присутствие чужой, враждебной силы, добычу уже затравили и теперь только ожидали удобного момента.
Почти парализованный, он все никак не решался сдвинуться с места; он чувствовал на себе застывший взгляд Ксении и непомерным, тупо отдавшимся в мозгу усилием воли встал, прошел в спальню, сорвал с кровати какое то покрывало и накинул его на убитых женщин. Ему сразу стало легче; не зажигая света, он прошел к старинному письменному столу в фонаре — здесь явно чего то искали и не успели привести все в надлежащий порядок. Отодвинув штору, он присмотрелся — на противоположной стороне улицы, неровно покачиваясь, горел фонарь, отбрасывая широкое пятно света на тротуар и на проезжую часть улицы, — было совсем безлюдно, город словно вымер. И тогда он спиной ощутил на себе неподвижный, уже знакомый взгляд и не обернулся. «Не смей! — сказал он себе. — Ты ведь и сам уже умер, тебе нельзя стало жить, и ты умер. Выполни последнее, а дальше…»
Сдерживаясь, он судорожно всхлипнул, он ведь даже и предположить не мог, что люди до такой степени подлы, — почти непреодолимое желание распахнуть окно и ринуться вниз захлестнуло его. Одно мгновение — и все кончится. Только они там за дверью, на лестничной площадке, пожалуй, именно этого и ждут; от неожиданного слепого всплеска ненависти у него задергались губы. Нет, сказал он себе, такого подарка они не получат, память единственной настоящей женщины, встретившейся ему в жизни, он не осквернит и не даст осквернить, он пройдет все до конца. За что они так, что они с Ксенией сделали…
Он стал лихорадочно ощупывать старинный стол со множеством ящичков, декоративно отделанных затейливой резьбой по красному и черному дереву; он почти сразу нащупал нужную деталь, нажал на еле заметный даже на ощупь выступ и сразу же услышал тихое шуршание в тайном и темном чреве стола, и в еще более сгустившейся тишине прозвучала уже знакомая музыка. Сергей Романович, оскаливаясь, страшно улыбнулся: вывернувшийся откуда то из нижней части стола тайник был пуст — правда, бархатный футляр был на месте, но сам черный камень исчез.
Водворив тайник на место, он, под звуки затухавшего «Венского вальса», прошел в прихожую, включил свет и, не раздумывая ни секунды, распахнул входную дверь. На лестничной площадке был выключен свет — несколько человек, застывших в самых разных углах, увидев в проеме двери в квадрате света безоружного, сразу выступили из темноты, не опуская пистолетов.
— Входите, — пригласил Сергей Романович, выставив вперед руки и отступая в сторону. Щелкнули наручники, и кто то сильно, с явным желанием вырубить преступника на время, ударил его в скулу и сразу же в солнечное сплетение, и он, переломившись от вспыхнувшей боли, еще попытался удержаться на ногах и не смог.
7
Народ был многослоен и непостижим, и никто, будь он хоть семи пядей во лбу, не мог определить истину о происходящем в самом чреве народа, хотя там, в этом таинственном и вечно неспокойном чреве, обязательно что то происходило — без этого не могло состояться само движение всей природной, в том числе и космической жизни, пронизывающей своими токами бесконечность времени и пространства. Николай Григорьевич не мог понять, почему ему именно в этот момент пришли какие то абстрактные мысли, ненужные и бесполезные, о каком то гипотетическом народе, — народ сейчас, благодаря длившемуся вот уже несколько десятилетий миру, поддерживаемому огромной ядерной военной мощью, наконец то начал дышать свободнее, все больше людей ездят к морю отдыхать, получают квартиры, женятся, рожают детей, — страна приходит в себя после опустошительной войны, сильно помогла и сибирская нефть, и газ. Все так, ну и что?
Он не согласен даже со своими самыми близкими друзьями, вдруг вставшими в оппозицию; в конце концов, истинная наука развивается все-таки вне всякой политики, каждый настоящий ученый должен заниматься своим делом — процесс жизни многогранен и складывается из немыслимого множества составляющих.
Почему то Николаю Григорьевичу, младшему Голикову, вспомнился старший брат Арсений, очень близкий когда то человек, друг и наставник, еще совсем недавно сам без малого академик и Нобелевский лауреат, истинный ученый с задатками гения, как все ему пророчили еще в школе. И вот на самом взлете неожиданный срыв, — говорят, проклял свое прошлое, ударился в богоискательство и, вообще то, просто спятил, и вот уже несколько лет и следа его не могут отыскать… Хотя, впрочем, и это в порядке вещей, гений ведь и есть своего рода безумие и может проявиться в самой неожиданной форме. Никто не знает, в каком направлении поиска можно наткнуться на истину, да и что такое истина? Сам хаос не оборотная ли сторона порядка? Для него сейчас самая главная задача — установить причины появления радиолокационной ямы, со странной периодичностью возникающей время от времени в этом важнейшем оборонном районе, держащем в зоне досягаемости в случае ответного удара весь тихоокеанский сектор с его многочисленными объектами, в том числе и весь американский континент. И здесь не могло быть мелочей — в последний раз локаторы взбунтовались неделю назад, и не успела высокая комиссия прибыть на место, все вновь пришло в норму, и теперь приходилось ждать, ничего другого не оставалось.
В бухту, хорошо укрытую почти отвесными скалами и склонами сопок, по глубоким непролазным ущельям сбегали небольшие северные ручьи и речки, через удобный пролив заходили суда. Пролив был длиною в две мили, и стихии, часто бушевавшие в океане, не могли пробиться в бухту, только мелкая рябь во время сильных штормов и ураганов покрывала спокойную поверхность, прибывала и убывала вода во время приливов и отливов. К берегам в тепло и к теплу густо подходили медузы, прибой выбрасывал их студенистые тела на берег, и они медленно таяли на воздухе, превращаясь в слизистые бесформенные хлопья — на солнце и они исчезали за несколько часов бесследно.
Николай Григорьевич прислушался — тишина и покой здесь были обманчивы, — вчера он с группой топографов, синоптиков, дозиметристов, инженеров электронщиков облетел большой район побережья на вертолете; они приземлялись в самых диких местах, брали пробы, и сейчас все анализируется и просчитывается, но думать именно об этом не хотелось; он хорошо знал, что последние недели были слишком напряженные и суматошные и требовалось погрузиться в иную сферу, освободить голову — результат мог прийти неожиданно. И вообще, какая удивительная, безграничная мощь природы здесь, у черта на куличках, за десять с лишним тысяч километров от Москвы, от ее чада и дыма, от ее постоянных интриг и загадок, — хрустально прозрачный воздух и великий океан рядом, он дышит, живет богатырски размашисто и размеренно — что ему человек со своими муравьиными делами и замыслами?
Вспомнив, как недавно крупный хариус сорвался у него с крючка, Николаи Григорьевич улыбнулся; чтобы не бултыхнуться в воду, ему приходилось прижиматься спиной к почти отвесной гладкой скале, с углублениями у подножья, вылизанными прибоем. Поплавок из гусиного пера и пробки вот вот должен был нырнуть, рыба опять, брала, и, судя по всему, большая рыба; у Николая Григорьевича, страстного рыболова, все посторонние мысли вылетели из головы, глаза вспыхнули, по всему телу прошел нетерпеливый зуд — нужно было не упустить мгновения и подсечь. Странный зуд появлялся от напряжения и раньше — Николай Григорьевич знал за собой такую слабость. Неловко присев, поскользнувшись, он все таки подсек — удилище выгнулось дугой. Не отрывая глаз от воды, он перехватил леску руками и стал подводить, — рыба металась у его ног, буравя, поднимая воду, и Николай Григорьевич все никак не мог приловчиться и боялся, что добыча опять сорвется. Это был пятнистый темно зеленый красавец хариус килограмма на два, — вытащенный наконец на берег, он медленно светлел, из него на глазах уходили живые краски подводных глубин и брюшко переставало отличаться от спины по цвету. Хариус прыгал и прыгал — пришлось стукнуть его головой о камень. Он сразу затих, опять стал менять цвет, темные крапинки на его чешуе блекли и окончательно исчезали. Николай Григорьевич подтянул к берегу длинную медную проволоку с нанизанными на нее рыбинами, присоединил к ним очередную добычу и стал вновь возиться с удочкой. Было еще совсем рано, погода стояла изумительно яркая, непривычная для жителя Москвы; на базе говорили, что месяца полтора два в небе здесь совсем не появлялось облаков, и только солнце оживляло его холодную густую просинь — даже на трехметровой глубине океана можно было различить, как покачиваются на каменистом дне причудливые водоросли и шевелят песок. Солнце вышло из за сопок низко, и ущелье, в котором рыбачил Николай Григорьевич, как бы раздвинулось, повеселело. Стала видна тайга, взбиравшаяся на склоны, — лиственница, ель, осина; островки осины сквозили, а ели стояли редко и хмуро в осине и лиственнице. Залюбовавшись игрой света вокруг, Николай Григорьевич отложил удочку, вымыл пахнущие свежей рыбой руки, — азарт пропал. Опять пришли мысли о необходимости как можно скорее разобраться в ситуации, выяснить, не постарались ли здесь американские спецслужбы навести тень на плетень, не сконструировали ли какую нибудь подводную, с выходом на поверхность, или космическую игрушку. Дождавшись, пока руки высохнут, Николай Григорьевич закурил, вышел из под скалы и сел на большой, свалившийся сверху обломок красного гранита, — за две недели пребывания он, хотя и редко сюда выбирался, полюбил это уединенное местечко; устраиваясь удобнее, он столкнул вниз несколько камней и прилег на локоть. Папироса все таки пахла сырой рыбой, и это раздражало…
— А, вот вы где шаманите! — неожиданно раздался за его спиной гулкий, знакомый голос капитана, приставленного к нему для связи. — А я уже стал беспокоиться, — нет и нет. Здравия желаю, товарищ академик… Много?
— Доброе утро, капитан, — сказал Николай Григорьевич. — Вон, под обрывом, полюбуйтесь. Если бы такое где нибудь под Москвой…
Подтянув к берегу тяжелую связку рыбы, капитан привычно оценивающе глянул.
— Ничего, — одобрил он. — Гольцы хороши, ишь, стреляют… Отнести повару, пусть зажарит, что ли…
— Мне говорили, ругается кок, — улыбаясь, сказал Николай Григорьевич. — Не знает, куда деваться от рыбы, не едят…
— Жалко такое добро выбрасывать, — посетовал и связист. — Я предлагал как то коптильню организовать — глядишь, на долгую зиму свой бы балычок, не разрешили — нельзя демаскироваться. Простите, я вам не помешал? Хотя какое это имеет значение? Мне предписано находиться возле вас безотлучно. Так что нравится или не нравится… Я и без того нарушаю приказ…
Показывая, что он все понимает и не в обиде на человека, должного неукоснительно выполнять свои служебные обязанности, Николай Григорьевич предложил связисту закурить московских; ему с самого начала понравился этот человек, спокойный, ровный, умеющий в нужный момент исчезнуть или появиться словно из воздуха.
— Да, нелегкая здесь служба, — вслух подумал Николай Григорьевич. — Так оно все и идет… Ждут год, два, три ради одной минуты, даже секунды, затем уходят, приходят другие и тоже ждут. Сопки, небо, океан — к этому быстро привыкаешь. Вы знаете, Вадим Петрович, замечательная способность у человека именно к привыканию, — повторил он понравившееся слово, в то же время пододвигая слегка, чтобы выровнять, тяжелый, в зеленовато тусклых прожилках камень, уже порядком приглаженный морем, сорвавшийся сверху, может быть, тысячу, а может, и больше лет тому назад. — Да, привыкание…
— Мне еще полгода осталось, Николай Григорьевич, — сказал связист, щурясь от тяжелого блеска воды. — Не знаю, мне пока нравится здесь. В такой красоте побудешь — на весь век душу очистишь. И — авторитет заработаешь…
— Душу, говорите, очистишь? — остро глянул Николай Григорьевич. — У вас то, Вадим Петрович, еще, пожалуй, и грехов никаких — чистый родник… Да и авторитет теперь дело непростое, можно и промахнуться…
— Ну, можно и постараться, — с готовностью отозвался связист, бездумно и весело засмеявшись. — Как говорят — подсуетиться… Женюсь, в академию пойду…
— Сразу? И жениться, и в академию?
— Одно другому не помешает, Николай Григорьевич, хватит и на то, и на другое…
Услышав долгий, протяжный звук, они враз подняли головы, и связист круто свел длинные светлые брови, отчего на лице у него появилось совсем детское выражение недовольства и обиды.
— Надо думать, нечто неожиданное, — сказал он, быстро все оправляя на себе и застегиваясь.
— Мир полон неожиданностей, — успел изречь Николай Григорьевич — и в тот же миг прерывистый рев, залепивший уши, сразу заполнил и бухту, и ущелье, и небо. Сирена помолчала и опять начала реветь, но Николай Григорьевич со своим связистом уже бежали, тяжело топая сапогами и спотыкаясь. Ущелье было теперь до краев налито солнцем и рыжим, искристым блеском гранита, и вода, перенасыщенная тяжелым светом, лениво и медленно шевелилась у берегов. Здесь, на самых дальних окраинах страны, день, родившийся над просторами великого океана, только только входил в силу, катясь все дальше по своему извечному пути, пробуждая просторы Сибири. Страна была так велика, что к Москве еще только приближался вечер — почему то именно эта случайная мысль шевельнулась у Николая Григорьевича, когда он вслед за связистом пробегал мимо одного из часовых; другой, у входа в туннель, прикрытый сверху широким козырьком скалы, остановил их и тщательно сверил фотографии на пропусках с их лицами. Николай Григорьевич знал, что в нужное время по сигналу часовые отступят внутрь, вглубь, приведут в действие нужные механизмы и огромная глыба гранита выдвинется и закроет туннель, и тогда на базу можно будет попасть только через запасные входы и выходы. И эта мысль мелькнула и бесследно исчезла, — туннель уводил вниз, многократно разветвляясь, горели многочисленные табло, указывающие, что можно делать и чего нельзя. «Готовность один, номер один, — стучало в висках Николая Григорьевича. — Значит… Впрочем, ничего это не значит, теперь в мире постоянно такая готовность, что из этого?»
Гранитные стены туннеля с бледно красными прожилками скользили, сливались в глазах; хватаясь за грудь, Николай Григорьевич привалился к стене и что то пробормотал, оправдываясь, — ему было неловко перед связистом, тотчас встревоженно вернувшимся назад и топтавшимся рядом.
— Ничего, ничего, сейчас… все сидячая работа, — пробормотал Николай Григорьевич; мимо них проскользнули двое в комбинезонах, и он узнал знакомых электриков, потом увидел связистов, тянувших по туннелю ярко желтый кабель; он знал, что вся разумная жизнь в бухте и ее окрестностях ушла теперь под землю, под гранитные навалы сопок, и только бесшумные локаторы тщательно прощупывают небо, в аппаратах мгновенной связи бьются сверхчувствительные токи, ожидая необходимую информацию. Совсем недавно здесь обитали ракетчики, теперь они со своим громоздким добром перебрались в еще большую глубь, пожалуй, теперь и у них беспокойнее, чем обычно, — вероятно, это еще одна психологическая встряска по району, а может, и по всей системе, прикрывающей небо над огромным пространством, плановое напоминание о том, что в этом мире действительно нельзя успокаиваться, особенно там, где никакого успокоения быть не может, где дорого может обойтись любое упущенное мгновение. Но может быть, что нибудь и другое: в мире, начиненном скрытым огнем, надо быть реалистом и философом, нужно поддерживать психическое равновесие, иметь надежную и точную опору под ногами на скользящей земле, где поэзия добра и любви и величайшие достижения науки соседствуют с животными, первобытными инстинктами, где бесконтрольная власть всегда достается людям с извращенной и больной психикой, нацеленной прежде всего на достижение власти, а потом уж удержание ее любой ценой, но, очевидно, здесь ничего не переменить, сколько бы хороших и умных слов ни говорилось…
Поежившись, Николай Григорьевич еще раз успокаивающе улыбнулся связисту; он представил себе, что теперь везде, на всех материках, даже в самых, казалось бы, неожиданных и неподходящих местах, раздвинулись многометровой толщины железобетонные и свинцовые перекрытия, освободившие сотни и тысячи горловин, в океанах приготовились подводные лодки, затаившиеся в глубинах, в воздух подняты сотни ракетоносцев, и достаточно слабого шевеления человеческой руки, чтобы везде вырвались клубы огня и дыма, и над сопками, над степями и океанами, в лесных дебрях, на севере и на юге всего на один неуловимый миг повиснут…
— Пойдемте, капитан, — сказал Николай Григорьевич, и уже в просторном операционном зале с рядом массивных опор, поддерживающих гранитные своды, официально именуемом Центральной, или Ц-1, он, опустившись на предложенный стул, отдышался окончательно. Здесь был мозг целого района, его глаза и уши, с сотнями больших и малых, светящихся и мигающих сейчас экранов, с почти бесшумно работающими вычислительными машинами, с аппаратами, автоматически принимающими сводки погоды, с моделью земного шара, с четко обозначенными на ней угрожающими объектами противника, — этим уникальным прибором, копирующим вращение и движение самой планеты, с электронными картами, непрерывно выдающими нужную информацию. Здесь мыслили в глобальных масштабах, здесь в поле видения держали весь земной шар, здесь знали все о передвижении военных кораблей, о взлетах и движении спутников, самолетов на военных базах так называемого условного противника, и в этом тоже было свое мрачное вдохновение и даже очарование.
Стояла тишина, все застыло в напряжении — и электроника, и машины, и люди, — и только вентиляторы чуть шевелили воздух. И хотя Николаю Григорьевичу ко всему этому было не привыкать, он подумал, что во всем этом есть сейчас что то пронзительное, пустынное, ни на что не похожее, некое преддверие апокалипсиса, его предчувствие, и все это было от особой подземной тишины, хотя, с другой стороны, обстановка сейчас как то привычно успокаивала, она словно свидетельствовала, что все готово к предупреждению и отражению, она как бы сосредоточивала в себе всю мощь человеческой недоверчивости и настороженности, и Николай Григорьевич с удовольствием подумал, что в долгом ожидании есть свои полезные и хорошие стороны; ждешь, ждешь, сказал он себе, и привыкаешь, словно к обыкновенной работе, как пахарь к плугу или каменщик к мастерку, и от этого в тебе самом сохраняется трезвость и рассудительность, умение ждать, ждать, ждать — сегодня, завтра, всегда, и больше всего ты желаешь, чтобы это тревожное ожидание никогда не оборвалось и не перешло в иное состояние.
Он подошел к центральному пульту управления, и ему навстречу встал всевластный хозяин этого подземного царства генерал Корзухин, поздоровался.
— Все спокойно, — сообщил он. — Как обычно, у южной оконечности Камчатки лежат на дежурстве две американские подлодки, у Сахалина третья. К ним уже подходят на всякий случай наши охотнички. От Окинавы к юго востоку идет учение — авианосец, два ракетных эсминца США и катера так называемой Японской самообороны, в остальном же все спокойно. Скорее всего, внеплановая проверка…
— Дай то Бог, — сказал Николай Григорьевич. — Конечно, с Москвой связаться теперь не получится?
— Мы уже вошли в нулевую готовность, — сообщил генерал, и в его рыжеватых зрачках мелькнули задорные искры. — Я представляю, что сейчас везде творится…
— Да, — сказал Николай Григорьевич. — Все замерло в ожидании самого главного сигнала, и даже на рыбалку теперь не выберешься. Придется коротать время в пещере, весьма и весьма романтично. А погода то какая установилась! Чудо! — вздохнул он, и оба по сигналу дежурного оператора быстро подошли к экрану одного из радаров, засекшего неизвестный космический объект на высоте трехсот километров и мгновенно подключившего к нему внимание еще десятка следящих вычислительных устройств. Все шло своим обычным путем; свежий ветер с океана слегка усилился, к полудню малиновые, с черным блеском, гранитные скалы наполнились розовым светом, и от этого теплые отсветы падали и на воду. В бухту зашел одинокий кит, его фонтаны взлетали то в одном, то в другом конце пустынной бухты. Людей не было видно, они ушли под землю, в каменные лабиринты, и затаились там, скрытые от всего мира, но слышавшие все и видевшие все, что в нем, этом тревожном мире, происходило.
8
В тот вечер в Москве шел дождь, которого никто не ожидал, и центральные улицы заблестели в электрическом свете, словно специально вымытые и прибранные. В направлении Минского шоссе по ним промчались несколько темных лимузинов, выскочивших из Спасских ворот Кремля; дальше за Москвой их путь продолжался уже в темноте, по закрытым для всеобщего движения дорогам; к ним навстречу выходили усиленные патрули охраны, затем открывались шлагбаумы или ворота, и они двигались дальше, до новой проверки. Все действительно оказалось, как и предполагал генерал с далекой военной базы на тихоокеанском побережье, застигнутой внезапно объявленной тревогой, гораздо проще. В черных лимузинах, привычно промчавшихся по Москве и затерявшихся в дебрях Подмосковья, находились сам Леонид Ильич, Косыгин и министр обороны маршал Устинов; их внезапная поездка не была запланирована, случилась неожиданно, подняла на ноги и переполошила охрану и службу безопасности; тотчас все было доложено Андропову, и он, несмотря на понятную тревогу, тоже не мог ничего сразу узнать — даже маршрут движения правительственных лимузинов сразу за Москвой каким то образом вышел из под контроля службы безопасности, и хотя это, как выяснилось позже, после проведенного строжайше секретного расследования, было чистой случайностью, глава всемогущего ведомства безопасности сделал соответствующие выводы и стал плести свою паутину еще тщательнее и осмотрительней — теперь уже как бы в двух плоскостях. Одну, хорошо ощутимую и рельефную, — для людей самого генсека, специально приставленных для контроля, а другую, неосязаемую для посторонних, — только для себя; даже принимавшие участие в этой работе преданные люди ничего не знали об окончательной цели производимой ими работы, так как она была расчленена на чужеродные, без видимой связи друг с другом, фрагменты и могла составить единое целое лишь по воле своего истинного творца — только он сам мог состыковать отдельные части и привести в движение в необходимый момент весь единый и безотказный механизм.
Всю дорогу от Москвы Леонид Ильич был молчалив и недоволен: во первых, у него поломались личные планы на вечер; во вторых, он не любил и остерегался неожиданных экспериментов, всегда таивших в себе нежелательную непредсказуемость; в третьих, после очередной встречи с Андроповым ему стало совершенно ясно, что его водят за нос в отношении Ксении Дубовицкой, якобы взявшей отпуск за свой счет и неизвестно куда запропастившейся; ему намекнули как бы между прочим, что это, скорее всего, московские сплетни, но за ними Леониду Ильичу, с некоторых пор осознающему и чувствующему себя в исключительном, по сравнению с остальными, положении, виделась и некая мещанская ухмылочка, пусть даже и сочувственная, — Леонид Ильич был весьма чуток на такие нюансы и всегда соответственно на них реагировал.
Нахохлившись на своем привычном месте на заднем сиденье, он всю дорогу думал не о предстоящем ознакомлении с новым сверхсекретным, всего месяц назад введенным в действие центральным пунктом, сосредоточившим управление всей ракетной мощью страны, к которому сейчас спешно прокладывали одну из подземных линий чуть ли не из самого Кремля, а именно о том, что могло случиться с Ксенией, женщиной редкой красоты и своеобразия, правду о которой от него явно скрывают. И это ему сейчас особенно не нравилось; он не мальчик, он должен знать истину, что бы ни случилось; для этого ведь и существуют многочисленные службы, и значит, налицо вопиющий непорядок. Или он сам начинает стареть, или где то что то разладилось. Вероятно, дело и того проще — вокруг вновь завязывается хорошо продуманная, с далеко идущими последствиями, тайная игра, — любителей кругом хоть отбавляй.
Прерывая мысли Леонида Ильича, от напряженного раздумья недовольно пошлепывающего губами, машина остановилась у глухого и высокого бетонного забора — по его верху змеилось несколько рядов колючей проволоки и светили прожекторы. Незнакомый Леониду Ильичу генерал, появившийся неизвестно откуда, предусмотрительно распахнул дверцу машины, негромко поздоровался и пригласил выходить.
— Что такое? — переспросил Леонид Ильич. — Приехали?
— Да, дальше, товарищ маршал, пешком, дальше транспорту двигаться нельзя, — сказал генерал, и по его лицу скользнул блик света от фар еще одной подошедшей машины. Вначале Леонид Ильич не понял генерала, неловко выворачивая шею, взглянул снизу.
— Вот как, совсем запрещено?
— Так точно! — отозвался генерал слегка извиняющимся голосом, втайне весьма довольный разговором с главой государства. Леонид Ильич, несколько озадаченный, услышал неясный шум ветра в вершинах старых сосен; знакомые и понятные слова генерала подействовали успокаивающе, и Леонид Ильич, категорическим жестом отвергая помощь, бодро выбрался из машины, увидел рядом Косыгина, Устинова, еще нескольких военных и, окончательно смиряясь, негромко поздоровался. Устинов тотчас выдвинулся вперед, представил ему генерала, начальника командного ракетного пункта, а тот, в свою очередь, представил других военных. Пожав каждому руку и тотчас забыв о них, Леонид Ильич осматривался вокруг и вновь начинал недоумевать, куда и зачем его привезли, и что интересного, достойного внимания главы государства может быть в таком захудалом месте, за примитивным бетонным ограждением, и, главное, почему нужно было ехать сюда глядя на ночь.
Опасаясь вновь прийти в дурное расположение духа и не желая этого, Леонид Ильич различил неподалеку знакомую фигуру Казьмина, хотел окликнуть его и не успел; вроде бы он все это время стоял на одном месте, никуда не двигался, и вот неожиданно и сам он, и сопровождающие оказались в довольно просторном, ярко освещенном помещении, высокие блестящие своды словно сами собой надвинулись на людей, и Леонид Ильич, неотступно сопровождаемый генералом, ничего не успел спросить у Стаса Казьмина, окончательно подчинился теперь необходимости идти, слушать и смотреть и, время от времени, задавать скупые вопросы; происходящее вокруг начинало захватывать. Опустившись на лифте глубоко под землю, они долго осматривали просторные и в то же время экономно рассчитанные склады с запасами продуктов, воды, даже составляющих воздуха для дыхания, автономную атомную электростанцию для работы в экстремальных условиях, комплекс помещений для гарнизона, и когда, наконец, попали в святая святых, в центр управления, у Леонида Ильича блестели глаза — здесь присутствовали торжество и размах человеческой мысли, воплотившейся в поражающее воображение сплетение кабелей, проводов, шлангов и трубопроводов, в сверкающие сталью и эмалью отсеки, в свинцовые перегородки и массивные двери метровой толщины и, главное, в неимоверное множество никогда не виданных им ранее механизмов, вычислительных машин, экранов, пультов, аппаратов, каких то непрерывно вращающихся сфер и полушарий. Это был чудовищный, невообразимый мир оборотной стороны человеческого сознания, нацеленный прежде всего на разрушение и уничтожение; мелькнула мысль о чуждости человеку этого царства техники и электроники, о наличествовании здесь какого то особого нравственного и психического состояния у людей. Даже если бы сам он внезапно исчез, здесь ничего бы не изменилось: перед неостановимой агрессией технократического гения, возможно, делающего свои последние трагические шаги по дороге в небытие, абсолютно все равны — и он, глава государства, и безвестный пахарь или шахтер. Но почему должно все закончиться именно катастрофой, остановил он себя и взглянул на сопровождающего его генерала — здесь, глубоко под землей, глаза у него неуловимо переменились, лицо как бы подсохло и слегка удлинилось, — и опять у Леонида Ильича мелькнула мысль об ином, человеческом мире, населенном живыми людьми совершенно иной породы; и, по своему поняв взгляд главы государства, генерал раздвинул губы в осторожной улыбке.
— Мы, Леонид Ильич, находимся в своеобразной гигантской капсуле, на глубине двухсот пятидесяти метров, — сказал он и, уловив пробежавшую по лицу Брежнева тень, приказывая себе не замечать никаких эмоций со стороны высоких гостей, слегка сощурился. — В свою очередь, капсула помещена во вторую, такую же сверхпрочную, а между ними толстый слой жидкости особого свойства. Благодаря этому никакие землетрясения, никакие другие катастрофы не смогут вывести из строя управление, не нарушат связи. Сооружение — единственное в мире, — его создатели, разумеется, достойны самых высоких государственных поощрений…
Придвинувшиеся ближе Косыгин и Устинов молча слушали, Косыгин слегка хмурился, затем, одобряя, кивнул.
— Двести пятьдесят метров, — несколько запоздало подал голос и Леонид Ильич, поднимая глаза к блестящим ребристым сводам сферы, напоминающей какой то гигантский диск. — А что же там вверху?
— Там, Леонид Ильич, глухой лес, озеро и даже небольшая речка протекает, — с готовностью сообщил генерал. — Ну, и за несколько километров отсюда запасные и основные входы и выходы, по сути дела, огромный подземный район, изолированный от внешнего мира и способный функционировать в самых экстремальных условиях самостоятельно. До трех лет. Системы связи продублированы многократно, они устроены по новому, уникальному принципу самовозобновления, — даже если поверхность над нами будет оплавлена на большой площади, даже очень большой площади, — вторично подчеркнул генерал, — мы будем по прежнему все прекрасно видеть и слышать. Наши команды будут поступать на объекты в любой точке земного шара, в космосе… да, куда угодно, где есть соответствующие приемные устройства. После наладки еще одного центрального дублирующего пункта управления мы вообще станем недосягаемы во всех отношениях.
— Скажите, Петр Авксентьевич, — негромко спросил Косыгин, сразу переключая внимание, — скажите, вы действительно держите под контролем весь атомный потенциал возможного противника? Где бы он, этот потенциал, ни находился?
— Да, каждый известный нам объект подобного рода находится в поле нашего неусыпного внимания, а наиболее опасные взяты под двойной и тройной контроль, так же как и на двойное, тройное упреждение. Имея такое оружие, такую глобальную систему слежения и оповещения, не приходится опасаться никакой внезапности, — твердо закончил генерал, и в голосе у него прозвучало скрытое волнение, затаенная гордость за свое неслыханное могущество. Леонид Ильич понимающе распрямил плечи, в свою очередь, ощущая нечто подобное легкому головокружению, — он любил армию и военных и немало способствовал укреплению оборонной мощи страны, сильно подорванной было бездарными амбициями Хрущева, возомнившего себя Бог весть каким реформатором и стратегом и чуть было не угробившего страну; усталость у Леонида Ильича прошла и какое то тихое вдохновение все усиливалось; находясь здесь, глубоко под землей, в центре одного из самых могучих технических организмов, созданного волей человека, он неожиданно, что в последнее время случалось все реже и реже, ощутил свое растворение во времени, свою необходимость быть и действовать. Он тем и отличался от своего самонадеянного предшественника, что никогда не отделял своих действий от общего движения народа, и хотя он всегда сознавал, что самое последнее движение, от которого земля обратится в хаос, будет зависеть и от него, от его воли, он в то же время понимал, что это роковое движение будет крайней волей самого народа и что он, если это случится, выполнит свой долг без малейшего сомнения и колебания. И поэтому все другие досадные мелочи, и семейные, и бытовые, да и все прочие, многажды компенсировались главным — служением большой народной идее, заключающейся в движении ко всеобщему счастью и равенству… Тут Леонид Ильич внутренне осекся; в самое неподходящее время прорезалось знакомое, дорогое, правда, как в тумане, несколько размытое лицо, губы, улыбка, взгляд, заставивший замедлиться сердце и потянувший, повлекший за собой, — Леонид Ильич тайно еще больше взволновался и решил не ждать дальше, а при первой же возможности разрубить этот узел, все поставить на свои места. Вновь сосредоточиться на происходящем он уже не смог и с некоторым недоумением стал слушать продолжавшийся оживленный разговор между генералом, начальником центра, Косыгиным и Устиновым, и на каждый взгляд, брошенный в его сторону, согласно кивал. Из слов Косыгина он лишь теперь уяснил, что вся спешная, незапланированная поездка была предпринята из за каких то разногласий — военные требовали гораздо больше денег, чем соглашался выделить Косыгин, и Леонид Ильич, по излюбленной своей привычке не обострять ситуацию, а попытаться примирить две конфликтующие стороны, негромко кашлянул и сказал:
— Будет вам, будет, на такое дело у кого же поднимется рука отказывать? Как нибудь выкрутимся…
— Да не надо, не надо, Леонид Ильич, обещать всегда легко, а потом? Откуда? — довольно резко отозвался Косыгин, но тут же, сам давно захваченный интересом к открывшейся ему стороне многогранной жизни, жестом остановил хотевшего что то возразить Устинова и вновь глянул в глаза генерала — в глаза человека фантастического подземелья, да, пожалуй, и фанатика своего дела.
— Скажите, генерал, а сколько вам нужно, — спросил он и повел слегка головой, как бы проясняя свои слова, — чтобы объявить боевую готовность на всей территории страны и… Одним словом, на всех наших объектах? По сведениям, американцы якобы утверждают, что мы сможем обнаружить их лишь на подлете к Москве…
— Ложь! Дезинформация! — сказал генерал, и у него в глазах появился молодой, задорный блеск. — Нам нужно всего несколько секунд после приказа — нажать несколько кнопок и…
— Ну так действуйте, генерал, покажите ваши возможности! — предложил Косыгин, и Леонид Ильич изумленно поднял брови, а Устинов, выжидающе уставившись на главу государства с какой то затаенностью на широком лице, приподнял плечи.
— Мне нужен приказ, — оживился генерал, и глаза у него сильно замерцали. — Это довольно дорого, сами же шкуру спустите…
— Ну, ну, — миролюбиво остановил Устинов. — Объявите внезапную, внеплановую тревогу, нулевую готовность. Пусть немного встряхнутся.
— Слушаюсь! — неожиданно вытянулся и козырнул генерал, и Леонид Ильич, не успев вмешаться, не успев даже открыть рта, увидел, как лицо генерала залила бледность и у него в руках, неизвестно откуда, оказался какой то продолговатый предмет — только тут за спиной генерала Леонид Ильич заметил еще трех военных, сейчас словно вышагнувших на свет из тени. Генерал щелкнул крышкой своего аппарата и нажал на открывшуюся выпуклую панель, после чего оглянулся на стоявших у него за спиной дежурных офицеров, что то коротко сказал им, и они тотчас, словно испарившись, исчезли. На первый взгляд ничего как будто не переменилось, лишь титановая обшивка стены прямо перед стоявшими высокими государственными мужами поползла в стороны, открывая еще один стратегический пульт с невероятным количеством светящихся оживших панелей, кнопок, экранов, датчиков; тайный задавленный восторг внезапно подкатил к сердцу Леонида Ильича, и хотя вначале у него и было желание немедленно прекратить начатое действо, он не произнес больше ни слова и лишь наблюдал, слушал и гордился происходящим. С ним рядом вместо генерала появился моложавый седой полковник и стал объяснять происходящее, переводить на понятный язык слова и команды, теперь то и дело звучавшие вокруг.
Подошвами ног Леонид Ильич почувствовал глубинный толчок, легкой волной отдавшийся во всем теле, и полковник тотчас сказал:
— Все. Мы полностью отключились и вошли в автономный режим сроком до трех лет. Все управление по отражению нападения и ответное возмездие центр переключил на себя.
Леонид Ильич удивился, ахнул и ничего не сказал, — было интересно и непривычно жутковато.
В этот же день, ближе к вечеру, в гранитном ущелье и на берегах далекой океанской бухты, укрытой самой природой от любых бурь и штормов, вновь послышались голоса. Теперь в бухте оказались уже два кита — их фонтаны взлетали в разных концах бухты, и люди гадали, пытаясь понять причину появления этих морских существ. Ущелье постепенно наливалось густым малиновым свечением, а затем, как и всегда, солнце провалилось за сопки, но их вершины еще долго чернели в малиновом, непрерывно и неотвратимо терявшем свою силу предзакатном огне.
В речки, сбегавшие в бухту, еще продолжала идти на нерест кета, почему то выбившаяся из общего потока и запоздавшая совершить дело жизни вовремя, — оно, это дело, даже бесполезное теперь и непонятное для человеческого разума, но изначально определенное и намеченное, не могло не совершиться, прекрасное и в своей трагической бесполезности.
9
С некоторых пор Леонид Ильич стал замечать даже у самых близких и доверенных людей из своего окружения ранее не наблюдавшуюся замкнутость, переходящую порой в откровенную, плохо скрываемую отчужденность; прежде открытые, по первому же его намеку охотно вступавшие в общение помощники, дежурные офицеры охраны, партийные чиновники, выполнявшие указания и распоряжения только лично главы государства, люди, возглавлявшие отделы контроля за важнейшими ведомствами и структурами государства и партии и опять же подотчетные только высшему должностному лицу этого государства, теперь несколько переменились в своем с ним общении. Пожалуй, это не столько настораживало Леонида Ильича, сколько забавляло и огорчало, — причина заключалась все в том же, в его увлечении актрисой Академического театра, давшей ему от ворот поворот, чего никто, и тем более сам он, не ожидали, вдобавок бросившей театр и даже куда то сбежавшей на несколько месяцев из Москвы с какой то довольно сомнительной мужской личностью. Разумеется, об этом многие из его окружения знали — те, кому это было положено по службе и кто так или иначе был обязан это знать и в то же время как бы не знать и делать вид, что ничего подобного никогда не было, нет и быть не может; они должны были сообщать ему о происходящем точно и ясно, и, если потребуется, с самыми интимными подробностями, но они просто не имели права думать об этом по строжайшим служебным инструкциям, несмотря на доброту и даже в чем то панибратский демократизм, давно выработанный Леонидом Ильичом в отношениях с окружающими и обслуживающими его людьми, начиная с поваров, горничных и парикмахеров, то есть с людьми, стоявшими гораздо ниже его на социальной лестнице. Хотя и в этом случае он сам уже твердо, как бы инстинктивно определял черту, за которую никто не мог переступить. И все, кто стояли по другую сторону этой невидимой, ежесекундно осязаемой черты, были всего лишь обязаны выполнять свои служебные функции и никогда, ни в коей мере не переступать в высший мир, тем более не пытаться его осмыслить или осудить. Но такое положение вещей создавало и массу ненужных неудобств; Леонид Ильич, несмотря на свое высокое положение, на свои права и обязанности, во всем остальном оставался обыкновенным человеком, по своей природе он был здоров и любвеобилен, развивался и старел по тем же биологическим законам, несмотря на экологически безупречную пищу и воду; у него, как и у каждого здорового и сильного мужчины, жил в крови первобытный неистребимый зов, тайно побуждающий его к стремлению, как говорится, иметь всех женщин племени, и с этим ничего нельзя было поделать, здесь и глава государства, и простой крестьянин были уравнены еще до своего рождения.
И согрешившему главе государства, когда ему был преподнесен пусть очередной, но далеко не безразличной ему женщиной ошеломительный подарок, — было трудно переживать все это в одиночестве и молчании, хотя ничего другого не оставалось; он не мог разрешить себе быть смешным и сравняться с людьми по другую сторону черты. Сам Леонид Ильич, пожалуй, столкнулся и с другой неожиданностью и втайне был недоволен собой: оказывается, Ксения вошла в его душу глубже, чем это полагалось в таких случаях. Вероятно, начинаю стареть, думал он с усмешкой, вновь и вновь возвращаясь в мыслях к неприятному делу; он убеждал себя, что она женщина свободная и имеет право поступать, как ей угодно, что смешно ревновать молодую, ослепительно красивую женщину, но одно дело думать, а другое — чувствовать. Было все таки обидно, — так демонстративно, не таясь, променять его на какого то московского прощелыгу, а ведь еще толковала что то о русской идее, о славянском единстве и братстве, о каких то праславянских началах, вот и слушай после этого женщин. Самая лучшая из них никогда не поднималась выше данного ей Господом Богом рубежа — любовь, муж, любовник, дети, да это и к лучшему, недаром в политике все больше укрепляется, по сути дела, принцип естественного отбора — каждому свое, природу не переупрямишь, и не нужно таким неблагодарным делом заниматься.
Почти всю жизнь находясь в центре коловращения поистине грандиозных дел и свершений и давно чувствуя себя если не непосредственным их творцом, то полновластным хозяином обязательно, и давно привыкнув к такому положению и мироощущению как к чему то обычному, входящему в повседневную жизнь, Леонид Ильич и к неплановому посещению Центрального ракетного командного пункта отнесся как к чему то обыденному; в стране всегда строились новые города, начинали работать новые заводы и шахты, воздвигались гигантские гидроэлектростанции, все больше осваивался космос; Центральный ракетный командный пункт управления стратегическими силами, как он официально назывался, хотя глава государства и был не в настроении и фактически ничего не понимал в сложнейшей военной технике, поразил его воображение. Масштабы увиденного на время отодвинули его личные неприятности. Он съездил на выходной в Завидово, удачно поохотился на лосей, завалил двухлетнего бычка, сам вел машину, несмотря на обычные возражения Казьмина, и чувствовал себя превосходно, но уже в понедельник с утра вновь начались мелкие неприятности. Жена жаловалась на дочку, просила в последний раз поговорить и вразумить ее; дочь стала пить, как последний мужик пропойца, опять пропадает, днюет и ночует среди циркачей, ни отца, ни матери не признает, людей не стыдится. И Леонид Ильич по своему обыкновению постарался все сгладить и успокоить; он не мог тратить силы на свое беспутное потомство и давно внутренне уже отгородился от него, раз и навсегда определив границы своего участия в родственных делах — так, лишь бы соблюсти приличия; он не скупился ни на посты для них, ни на квартиры и дачи, но в какие то изматывающие душевные контакты впутываться не хотел и не мог. Он давно закрыл глаза на необузданные чудачества дочери, на нечистоплотность сына; в конце концов, для великого государства это были жалкие крохи, и оно не пострадает, а единственная возможность как можно дольше сохранить себя была проста — откупиться от алчного, ненасытного потомства, — что поделаешь, такова жизнь.
Пообещав приехать к обеду и тем окончательно утихомиривая и примиряя с собой жену, женщину умную, давно уже привыкшую не замечать того, чего ей не нужно было замечать и что могло бы повредить ее отношениям с мужем, Леонид Ильич, вполне довольный собой, едва успев появиться в своем кабинете на Старой площади, увидел Суслова; тот вошел, не замечая ни дежурного помощника, ни секретаря, и Брежнев, едва взглянув на него, сохраняя в лице привычную благожелательность, приказал себе собраться.
Пройдя к своему привычному месту, не ожидая приглашения хозяина, Суслов сел, и Леонид Ильич, ощутив вдруг некую неуютность в давно обжитом кабинете и стараясь двигаться легче, устроился напротив раннего и незваного гостя, сидевшего с хмурым лицом и злыми глазами. Роли как бы переменились, и Леонид Ильич безошибочно знал сейчас, что это так и есть. Среди узкого круга самых высших лиц в государстве, кроме официальной, общеизвестной иерархии, существующей более всего для отвода глаз у народа, была еще и другая, подлинная иерархия, включающая свои особые градации и ранги, свои негласные установления, в которой он, Брежнев, всегда был и останется подчиненным.
— Что нибудь особенное стряслось, Миша? — спросил Брежнев негромко и миролюбиво и, подчеркивая свое особое внимание к предстоящему разговору, быстро закурил; Суслов недовольно поморщился и вместе с креслом отодвинулся, насколько это было возможно, а сам хозяин торопливо и неловко помахал перед собою рукой, разгоняя дым.
— Случилось, Леонид Ильич, — сказал Суслов, не пытаясь скрывать своей недоброжелательности. — Я давно тебя предостерегал, теперь мне опять приходится брать на себя роль няньки, словно у меня и без того дел не хватает! У меня вчера был разговор с Андроповым и Щелоковым, пришлось срочно собраться, все бросить… И один, и другой под всякими липовыми предлогами уклонились от встречи лично с тобой и прямого объяснения… Пожалуй, и правильно сделали, не все же могут…
— Ну подожди, Миша, говори сразу, — попросил Брежнев. — Какого черта, в самом деле?
— День тому назад, то есть в субботу, у себя на квартире зверски убита народная артистка Академического Дубовицкая, вместе со своей няней, что ли, — сказал Суслов. — На месте преступления взяли якобы ее очередного, прости, любовника, я бы сказал еще проще, кобеля. — Тут неприятный и безжалостный гость вызывающе выпятил подбородок и с каким то неосознанным злорадством раз и другой повторил очевидно понравившееся ему определение, добавив к нему и совсем уж матерное, непечатное словцо, хотя и видел, что хозяину кабинета это причиняет почти физическую боль. — Сейчас идет расследование, одно наслаивается на другое, выплывает еще одна дичайшая история. Уверяют, что у убитой актрисы должен быть один из известнейших в мире бриллиантов, как тебе это покажется? Но его так и не могут обнаружить, хотя дело, на мой взгляд, совсем в другом, — подчеркнул Суслов, и глаза его затаенно сверкнули, — в нем вновь что то неуловимо изменилось, сухое, изношенное тело наполнила дикая, неуправляемая энергия, и Брежнев, захваченный врасплох, с опавшими плечами, сжавшийся, словно парализованный, увидел перед собой незнакомого человека, непреклонного в своей жестокости и фанатизме, который в достижении цели не остановится ни перед чем. Собрав всю свою волю и лишь слегка побледнев, Брежнев молча ждал; он не смог бы сейчас что либо сказать, даже если бы и захотел; он не мог себе представить Ксению мертвой, зверски убитой. Какая чепуха, какая несуразица, этого никак не может быть, говорил он себе, хотя понимал, что любые заклинания здесь смешны и неуместны. Да и за что ее было убивать, за этот дурацкий бриллиант, о котором он слышит уже второй раз? Или третий? Ведь он сам вроде бы уже смирился, стал забывать о ней, мало ли у него в жизни было женщин. Почему это случилось? Это нечто совершенно особенное? И тут же вклинился мистический бриллиант… И потом, что, ее прикончил ее же, как сказал Миша, очередной… И какой у вестника зла и горя отвратительный, скрипучий, ехидный голос! Даже если так, при чем же здесь сам он, глава могучей державы, и зачем ему о такой мерзости знать?
Мысли у Брежнева наскакивали одна на другую, путались, рвались, но он по прежнему внешне ничем этого не показывал; кончилась одна сигарета, он тут же зажег новую. Казалось, что теперь он не слышал и не видел страшного вестника и боялся, что тот никогда не замолчит и будет говорить бесконечно, хотя ничего больше говорить было не надобно.
— Оказалось, что она была беременна, — прорвался к хозяину кабинета чужой ненавистный голос, и судорога прошла у него по лицу, — он не смог сдержаться. Гость, кажется, и теперь не захотел обращать внимание на состояние собеседника, и тогда Брежнев, напрочь забывая о неписаных установлениях дисциплины в той самой тайной иерархии закрытых клубов и лож, которые пронизывают и объединяют все властные элиты мира, несмотря на последнее отчаянное усилие воли, сорвался, швырнул только что зажженную сигарету в пепельницу, промахнулся, и тлевшая сигарета отлетела далеко на ковер. Неумолимый гость смотрел с холодным любопытством, и хозяин принудил себя встать, поднять сигарету и затушить ее в пепельнице.
— Ковер может прогореть, жалко, — пробормотал он и, почти оскалившись, нехорошо усмехнулся. — Хотел бы я знать, Миша, что ты на самом деле думаешь? — спросил он, еще понизив голос. — Не то, что ты сейчас скажешь, а что на самом деле у тебя в голове?
— Какого черта, что может быть у меня в голове! — вновь подосадовал Суслов. — Как сохранить равновесие на высшем уровне — вот что в голове! Ты потолкуй с Андроповым и Щелоковым, ты им веришь, непременно сам потолкуй, покруче с ними, а то эти два волка готовы вцепиться друг в друга намертво! Они в своей обоюдной ненависти никого не пожалеют, ни меня, ни тебя, ни государство! И такой разговор необходимо провести не откладывая, прошу тебя, не тяни… Да ты меня совсем не слушаешь! — тонко и визгливо вскричал Суслов, подавшись вперед, и в голосе у него прорвалась долго сдерживаемая злость. — У тебя бессмысленные, пустые глаза!
— Подожди, подожди, — попросил Брежнев, с усилием шевеля неожиданно непослушными, занемевшими губами. — Я ее не видел почти год. Не думаешь ведь ты, что здесь мой грех?
— Я ничего не думаю! — вновь почти взвизгнул Суслов. — Мне безразлично, чей здесь грех! Будет опорочена партия, опорочено советское государство — вот что важно! Ты, Леня, совсем спятил! — внезапно задохнувшись, закричал он, и теперь, когда до него полностью дошел смысл последних слов Брежнева, опешил, и довольно долгое время гость и хозяин смотрели друг на друга молча; борьба шла только взглядами, и хотя она длилась всего несколько мгновений, высокие собеседники успели сказать друг другу многое. Так, в глазах у Михаила Андреевича гнев пропал, появилось обыкновенное человеческое удивление, в свою очередь, сменившееся этакой хитринкой, словно бы он вслух в определенной мужицкой интонации произнес знаменитое русское «хе хе», которое, как известно, может обозначать все что угодно, от вычисленного заранее рождения у соседки и до внезапной вести о скоропостижной кончине начальника, как обычно, мнившего о себе слишком много и вот окончившего свой гордый путь все теми же двумя метрами, которыми кончают и все простые смертные, никогда ничего особенного о себе не мнившие. И Леонид Ильич, в свою очередь чутко уловивший это всеобъемлющее «хе хе» в отношении себя, вполне самоотверженно и честно согласился, и так же молча ответил, что в жизни все бывает, случается и не такое, и нечего на пустом месте огород городить.
Не отводя взгляда, гость нахмурился.
— Ну знаешь, твое легкомыслие переходит всяческие разумные пределы, — сказал он.
— Ты вот что, Миша, ты не думай слишком далеко, — ответил хозяин, и голос его прозвучал глухо и враждебно. — Здесь твои шаблоны никуда не годятся, здесь нечто совсем другое. Ты волен поступать как хочешь, как тебе должно и предписано, — тут он вновь задержал тяжелый взгляд на лице собеседника, — а я не могу, я решил его увидеть, взглянуть на него…
— Кого ты имеешь в виду? — поинтересовался Суслов, хотя мгновенно уловил истинный смысл услышанного, и, вытянув шею, наклонил голову набок и впился зрачками в хозяина кабинета, — в нем появилось нечто змеиное — еще мгновение, и последует смертельный удар. — Ты имеешь в виду этого…
— Именно его, — резко оборвал Брежнев, не желая еще раз услышать оскорбляющего его слух слова или определения. — Да, своего более счастливого молодого соперника… да, да, хочу просто посидеть с ним, выпить, переброситься парой слов… Дикое, странное желание, а справиться с собой не могу, не в силах, думай, что хочешь… Разумеется, это не входит в мои высокие обязанности…
— Ты окончательно сошел с ума, Леня, остановись! Я тебя по дружески прошу! — сказал Суслов. — Поверь, именно этого тебе делать нельзя и незачем. Не позорь себя, партию… Тебе не простит история…
Окончательно повергая собеседника в замешательство, глава государства махнул рукой.
— Да пошел ты со своей историей, — задушевно посоветовал он, добавляя нечто такое, от чего в глазах у Михаила Андреевича вновь вспыхнули жгучие искры. — Да и что такое история? — в свою очередь поинтересовался глава государства, грузно, с помощью рук, встал, не обращая больше на старого друга и соратника никакого внимания, как если бы его вообще не было рядом, и направился к своему рабочему столу.
Суслов вскочил вслед за ним, сделал какое то порывистое движение, словно хотел что то невидимое схватить, но Брежнев уже нажал на одну из кнопок вызова.
10
Так бывает: человек открывает глаза и видит себя в иной, неизвестной жизни, в каком то непривычном и незнакомом месте, когда родной дом, каждая неровность на полу или на стене, любое пятнышко на потолке оборачиваются чем то чудовищно, фантастически чужим и в то же время неодолимо притягательным.
Было бы неправомерно утверждать, что Сергей Романович после всего случившегося не хотел больше жить, — он был еще слишком молод и полон сил, и его жизненный состав еще далеко не исчерпался и не иссяк.
В тот день, когда Леонид Ильич встречался в своем кабинете с Михаилом Андреевичем, следователь по особо важным делам, полковник Василий Парамонович Снегирев, с самого утра вел бесконечный, многочасовой допрос во всем блеске своего остроумия; несколько раз он загонял подследственного, казалось, в абсолютно глухую ловушку, но тот все время находил возможность выпутаться из нее, и это еще больше распаляло следователя, человека, не раз доказавшего расследованием самых трудных дел, что он недаром ест свой нелегкий хлеб. Ему нравилась травля такого экзотического, крупного и необычного зверя, и где то, в самой неприступной глубине души, он тайно даже уважал своего противника, а если идти еще дальше, то и завидовал ему немножко. Дело выходило, даже выламывалось из каких то рутинных, обычных нарушений закона и уже после первого же знакомства с ним начинало приобретать гигантские, пугающие даже опытного следователя очертания, но постепенно все эти особенности как бы сгладились и растушевались, и Снегирев был втянут в иную плоскость, в иную сущностную ипостась — в сложнейшую схватку с самой личностью обвиняемого — и проиграть не мог, не имел права, да и не хотел. В разработке этого необычного даже для подпольной Москвы дела было задействовано несколько специальных групп, и материал подваливал непрерывно; несомненно, кто то отсеивал его важнейшую часть, не подлежащую для широкого ознакомления, еще наверху, однако и того, что попадало в руки непосредственно разматывающего паутину следователя, вполне хватало, чтобы действовать весьма осторожно — происходящее касалось самого главы государства, и любая малейшая неточность, любое неосторожное движение могли кончиться катастрофой и для самого охотника, — следователь был стреляный воробей и плел паутину, в центре которой поместил обвиняемого, не спеша; хотя сверху требовали скорейшего завершения и на сильные выражения не скупились. Но жертва, к которой Снегирев с самого начала стал испытывать уважение, в любом случае должна была дозреть, а паутину нужно было сплести с надежным запасом прочности, она не должна была разорваться, и чем симпатичнее оборачивалась попавшая в нее жертва, тем мягче и эластичнее должна была становиться паутина, — следователь олицетворял собой самую гуманную и человечную власть закона и должен был соответствовать; нужно было начинать строить исподволь, издалека и с удовольствием, ведь именно последнее и являлось главным условием успеха в любом деле. И еще: несмотря на самую строгую секретность, подобное дело не могло долго оставаться втайне, нужно было, на всякий случай, учитывать и это…
Сергей Романович выкурил уже несколько любезно предложенных ему сигарет, и у него сохло во рту; заметив его взгляд, Снегирев налил из графина воды и молча пододвинул стакан к обвиняемому. Тот благодарно кивнул и жадно выпил.
— Еще? — спросил Снегирев.
— Можно, — с готовностью отозвался Сергей Романович и с удовольствием выпил еще один стакан чистой и прохладной воды.
Следователь подождал и, еще больше подчеркивая свое дружеское расположение, долго смотрел мимо подследственного в окно, где во внутреннем дворике высилась темная ель с сильно искривленной верхушкой. Снегирев впервые заметил такую особенность и пытался понять, по какой причине стройное дерево неожиданно стало расти вкривь. Так ничего и не решив, он рассеянно улыбнулся — срок завершения расследования был дан жесткий и стремительно приближался. Его уже дважды предупреждали, что никакого продления не может быть. И он опять дружески улыбнулся Сергею Романовичу, но в то же время в этой улыбке сквозило уже нечто новое, — подследственный тотчас это уловил, отметил, и в нем началась своя особая работа. Прежде всего он еще и еще раз недоуменно спросил себя, чего, собственно, от него хотят, почему так намеренно петляют вокруг да около и почему тянут, ведь у них сколько угодно возможностей завершить дело в любой момент; не могут же они не знать, что он никакой не убийца, что все весьма грубо сфабриковано, и сколько бы ни выколачивали из него признаний, на суде он может повести себя иначе, от всех своих прежних показаний может отказаться, а причины для этого всегда найдутся… Вот только будет ли суд вообще?
В лице у него ничего не дрогнуло, хотя такая мысль мелькнула у него впервые; пожалуй, он начинал приближаться к пониманию истинного положения дел, и это внутренне даже укрепило его; да, да, сизый голубь, сказал он себе, пожалуй, на сей раз тебе не выбраться, слишком уж круто замесила судьба, занесла в непролазные дебри, и ты самонадеянно переоценил свои силы, безжалостная машина смяла тебя, такого красивого и удачливого, считавшего себя умным, проницательным и неуязвимым, смяла, скомкала и отшвырнула прочь как ненужный мусор.
— На чем же мы остановились, Горелов? — подал голос следователь, отрываясь от каких то своих бумаг и потирая уставшие глаза. — Мы рассуждали о чем то интересном.
— Как же, мы с вами все в жизни и поведении человека свели к двум главным действиям. К инстинкту охотника и инстинкту зверя. Жертвы и палача. На этом вроде бы и основываются вся так называемая цивилизация и поступательное движение человечества. Ну, а те, кто пытается подобный порядок опровергнуть, вроде меня или мне подобных, тотчас получают неопровержимые свидетельства своей неправоты. Получают под самыми различными предлогами, опять таки вроде меня. Вот о чем мы с вами и рассуждали, гражданин следователь…
Не принимая такой официальщины в общении, Снегирев слегка поморщился, коротко взглянул.
— Но, уважаемый Сергей Романович, к сожалению, я так и не смог убедить вас в обратном, — сказал он, подчеркивая последнее слово. — Вся ваша жизнь сложилась весьма нетипично для нашего общества, ведь признайтесь, человек не может жить без определенной цели, если хотите, без идеала? Сотни, тысячи, миллионы человеческих судеб в нашей стране опровергают ваши индивидуалистические убеждения… Неужели вы действительно ни во что не верите? И у вас нет ничего святого? Ни женщины, ни ребенка, ни Иисуса Христа? Но я этому не верю, так не бывает.
— Что вам нужно от меня, гражданин Снегирев? — спросил Сергей Романович с явной иронией. — Вы же сами знаете, что никого я не убивал и не мог этого сделать, я бы прежде всего убил себя, но я, вынужден признаться, еще хотел жить… Что поделаешь, слаб человек… Самое страшное мое преступление в другом — я переоценил свои силы, просто я сумасшедший и поверил, что все под нашим благословенным небом равны…
— Вы знаете, Горелов, вы — фантаст, вы рассказываете истории, которым невозможно верить, — сказал следователь, откидываясь на спинку стула, и улыбнулся. — Придумайте что нибудь попроще, пожалуйста, поправдоподобнее. Сами посудите, вы стучите в дверь знаменитой на весь мир артистки, она вас тотчас впускает, и вы, незнакомый ей досель человек, становитесь ее любовником… Она все бросает — театр, дом, свои былые привязанности… довольно, подчеркнем, высокие, и бежит с вами черт знает куда! Ну, Сергей Романович, ну, простите, ей Богу, бред! Ну, невозможно даже представить…
— И не надо представлять, — остановил следователя Сергей Романович. — Возможно, все это мне в самом деле приснилось… так, наваждение, мираж, помрачение ума! Бывает ведь… Тем более что сама она уже ничего не может ни подтвердить, ни опровергнуть…
Соглашаясь, следователь машинально передвинул перед собой бумаги, взглянул на часы и почти весело сообщил:
— А у меня для вас, Горелов, сюрприз. Вы уж меня простите за неожиданность. Вам сейчас предстоит встретиться еще с одной своей давней знакомой, хотя вы раньше довольно категорически это знакомство и отвергали. Мы ее любезно пригласили приехать хоть на минуту, и она согласилась. Не волнуйтесь, сидите, сидите, пожалуйста…
Повернув голову, Сергей Романович увидел входившую в кабинет Снегирева в сопровождении молодого высокого капитана Евдокию Савельевну Зыбкину; она молча, даже неприязненно поздоровалась с хозяином кабинета, взглянула на Сергея Романовича и почти тотчас отвела взгляд, опустилась на предложенный стул и с некоторым вызовом вскинула крупную красивую голову. И тут началось нечто совсем никем не предусмотренное: знаменитая певица щелкнула замочком своей сумочки, достала какой то флакончик, открыла его, нервно понюхала, глубоко втягивая в себя воздух, бросила флакончик обратно в сумочку; она сразу узнала Сергея Романовича, но ничем не выдала себя, она и предположить не могла, что попадет в такой странный и неприятный переплет, и она уже негодовала на себя, на то, что легкомысленно дала себя уговорить взглянуть мимоходом на какого то человека и тем самым помочь важному делу, касающемуся самых первых лиц в государстве; в один момент в голове и в душе Евдокии Савельевны пронесся целый вихрь самых различных мыслей, чувств, воспоминаний и предположений; все в ней перемешалось, все слухи, захлестнувшие Москву после гибели знаменитой артистки, тайной любовницы самого Брежнева, сплелись в один чудовищный клубок, и она уже хотела возмутиться, что ее тревожат по всяким пустякам, отрывают от важных творческих дел, но она, как давно многие убедились, действительно была умной женщиной. Раз уж так получилось, решила она, нужно было выждать и, главное, оставаться спокойной. Она еще раз равнодушно обежала все вокруг взглядом, отметила начинавшего красиво лысеть со лба следователя и вновь встретилась глазами с Сергеем Романовичем. Тут и произошло, пожалуй, самое главное. Нет, она не прочла в его глазах ни мольбы, ни зова помочь, посочувствовать, ни покорности в своей участи, ни смирения; она словно натолкнулась на какое то холодное, стальное лезвие, сверкнувшее ледяной голубизной, и губы его дрогнули, слегка затвердели от какого то презрения, едва ли не отвращения ко всему миру, в том числе и к ней, явившейся свидетельствовать и судить.
Крутая высокая шея, уходящая в бугристые плечи, широкая грудь, длинные ноги, круглые молодые колени — все это в один момент обнаженно и откровенно охватила она своим опытным женским оком и еще раз поразилась: от ее давнего ночного незнакомца, стоящего на краю пропасти, исходила непонятная гипнотическая, завораживающая сила. И Евдокия Савельевна, успокаивая себя, затаенно о чем то несбывшемся пожалела, неприметно вздохнула. «Вот так порода, — мелькнула у нее короткая мысль. — Не перевелись еще на Руси настоящие мужики, а как заматерел… в самую восковую спелость вошел…»
Дальше она не захотела откровенничать, оборвала себя, но в душе у нее что то словно надломилось и покатилось, покатилось, затухая, как распев какой то дорогой мелодии, медленно угасавшей.
— Горелов, скажите, вы знаете эту гражданку? — нарушая затянувшуюся тишину, спросил следователь, не упускавший ни одной мелочи из происходящего; своим особым профессиональным зрением он умудрялся сразу видеть и лицо Зыбкиной, и легкую ироническую улыбку подследственного. — Вы когда нибудь встречали ее?
— Кто же не знает Евдокии Зыбкиной? — удивился Сергей Романович. — Я вырос под ее песни, надеюсь, они будут со мной до самого последнего мгновения. Знаете, я все таки русский человек и другим быть не хочу и не могу. А в жизни — нет, не встречал, не посчастливилось, к сожалению.
— Мне хотелось бы предупредить вас вторично, что ваши показания фиксируются, — сообщил следователь, и легкая тень, как стертая улыбка, набежала на его лицо — он словно о чем то сожалел. — Вы ничего не хотите добавить?
— Я сказал все, я ни разу не встречался с гражданкой Зыбкиной, вот так, как сейчас, лицом к лицу. Только по радио или телевизору…
— Хорошо, хорошо, — следователь кивнул и взглянул на Зыбкину. — Простите, Евдокия Савельевна, я вынужден поинтересоваться у вас о том же самом. Вы встречались когда нибудь с гражданином Гореловым? Не торопитесь, посмотрите на него еще раз повнимательнее, такое лицо из памяти трудно вышибить.
Был странный белый момент, когда все чувствовали приближение какой то очистительной искры; вот вот все должно было вспыхнуть и взорваться, пролиться облегчением и все поставить на свои места. Не отрываясь, не мигая, Сергей Романович, все с тем же презрительно холодным ожиданием, таившимся где то в полных, резко очерченных губах, смотрел на Зыбкину, но смотрел как то слепо и отрешенно, и тогда она, подчиняясь чему то большему, чем доводы разума, равнодушно шевельнула руками.
— Нет, я этого человека никогда не видела, — сказала она с неожиданным внутренним ликованием, мгновенно стершим вспыхнувшую было обиду за неверие в себя. — У меня прекрасная профессиональная память, я даже долго помню лица людей в первых рядах на моих концертах. Правда, правда, у меня хорошая память на лица, особенно на красивых, как вы сказали, породистых мужчин… Кто из нас без греха? Простите, этого молодого человека я никогда не встречала.
— Так, так, так, — больше от удивления, чем от растерянности, с понимающей полуулыбочкой зачастил следователь и жестом остановил собирающуюся встать свидетельницу. — Еще одну минутку, Евдокия Савельевна, я приношу вам тысячу извинений. Дело требует, простите, еще один небольшой вопрос, — добавил он, извлекая из ящика стола небольшую плоскую коробочку, раскрывая ее и придвигая к Зыбкиной. — Взгляните, пожалуйста, вам ничего не напоминает эта безделица?
И Евдокия Савельевна, и Сергей Романович узрели и тотчас узнали старинный массивный золотой браслет с редким крупным сапфиром продолговатой формы, изъятый в известную ночь в зимнем лесу на собственном дачном участке у знаменитой певицы какими то грабителями; взглянув на сверкающую драгоценность, Евдокия Савельевна вновь почувствовала кожей у себя на шее прикосновение тонкого, холодного, завораживающе безжалостного острия и сразу ощутила недостаток кислорода. Следователь, все так же приветливо улыбаясь, не отрывал взгляда от лица свидетельницы, и Зыбкиной пришлось собрать всю свою волю.
— Пожалуй, дорогая штучка, — спокойно и равнодушно сказала она. — У меня в свое время было нечто подобное, но потом, в одной из гастрольных поездок, потерялось. Кажется, в Грецию я ездила с концертами. Но это не мое, и сапфир был иной формы, идеально круглый, да и алмазики помельче.
— Есть сведения, уважаемая Евдокия Савельевна, что вас, примерно года два назад, ограбили в собственном саду, на даче, так ведь? — полувопросительно сказал следователь. — Тогда вы как раз получили звание народной и готовились к важному приему, на вас были драгоценности…
— Простите, дорогой мой, — изумилась Зыбкина и даже возмущенно потянула в себя воздух. — Меня никогда никто не грабил… Это сплетни моих ненавистников и завистников!
Теперь следователь уже не выдержал и пристально взглянул свидетельнице прямо в глаза; Евдокия Савельевна, давая ему понять, что она и рада бы помочь, но не может, а лгать не собирается, улыбнулась одной из самых обольстительных и обещающих своих улыбок. Следователь машинально кивнул, тронул кончиками пальцев взмокший лоб и тоже нервно улыбнулся, правда, по прежнему несколько иронически, а Сергей Романович в ответ на обращенный вслед за тем уже лично к нему аналогичный вопрос даже обиделся:
— Шутите, гражданин следователь… Где же я мог такое видеть? Такие цацки не для нашего брата. Равенство равенством, да у каждого свои возможности.
Следователь помедлил, побарабанил по столу костяшками пальцев, предоставляя всем время несколько одуматься, и постарался подступить к капризной, неизвестно почему закусившей удила знаменитости с другой стороны, стал поругивать людей, распространявших клеветнические слухи, рассказал об одном случае из своей богатой практики, в то же время поигрывая драгоценным браслетом, вертя его в пальцах, машинально то поднося близко к глазам, то отдаляя, но Евдокия Савельевна от этого сделалась еще более каменной и в отместку за обрушившиеся на нее тяжкие испытания стала интересоваться судьбой молодого подследственного, по бабьи охать, и следователю волей неволей пришлось прервать их общение.
Спрятав браслет обратно в коробочку, а коробочку в стол, и дивясь непостижимой женской стойкости, следователь по особо важным делам Снегирев встал и сам проводил знаменитую женщину до дверей кабинета, и здесь случилось еще одно не предусмотренное никакими уставами и протоколами действо, больше всего поразившее и даже несколько взволновавшее опытного следователя. Евдокия Савельевна у самой двери порывисто обернулась, сказала: «Ах, простите, простите, не могу так!» — стремительно, несмотря на свою полноту, приблизилась к Сергею Романовичу, поспешно вставшему со своего стула, наклонила его стриженную по мальчишески, колючую круглую голову и поцеловала в лоб. Волна дорогих заграничных запахов окутала растерявшегося Сергея Романовича, и от какой то расслабляющей нежности на глаза у него набежали слезы.
— Что вы! Что вы! — сказал он тихо, с трудом удерживая себя от желания бухнуться перед ней на колени, схватить ее руки и прижаться к ним лицом.
— Время разбрасывать камни и время собирать камни! Я тебе, Сергей Романович, обязательно спою колыбельную, ведь у тебя тоже была или есть мама… Что тебе спеть, скажи… и ничего не бойся… — глухо закончила Евдокия Савельевна и поспешно, не говоря больше ни слова, выплыла вон, и в строгом помещении, стены которого, казалось, источали боль и страдания огромного числа людей, повисла странная тишина, и сам охотник, и его жертва ощутили некий особый момент. Произошло нечто переломное, и важнее этого уже ничего не могло быть, но дело оставалось делом, и следователь, заняв свое привычное место, позвонил, приказал подать два стакана чаю, и разговор продолжался, правда, теперь уже в иной плоскости.
Поболтав ложечкой в стакане, Снегирев отхлебнул чаю и задумался. На свете не было и не могло быть ничего тайного, что со временем не стало бы явным, — он хорошо знал эту истину, но он также знал и другое. Это никогда не могло остановить ни одно преступление, ни одно беззаконие, наоборот, любая власть держалась только благодаря возведенному в неопровержимый атрибут цинизму, — да, да, варварский примитив, но на нем зиждется древо так называемой цивилизации и прогресса, и вокруг этого примитива наворочены горы законов и конституций, и все они призваны на самом деле ограждать и защищать только горстку счастливцев, баловней судьбы, сумевших вовремя вскарабкаться на самый верх; сама порода человека двойственна и порочна, и никакие эволюции и революции изменить сие не в силах. Чего она, собственно, испугалась, эта народная? Или здесь нечто другое? Экземпляр мужчины действительно выдающийся, редкий, такие как раз и рождаются для улучшения породы, на племя, бабы это мгновенно чувствуют. И не нашим кхекающим высшим жрецам здесь соперничать, вот именно, естественный отбор идет по своим непреложным законам, сколько бы здесь ни мудрили философы и политики, а потому многие вещи кажутся весьма и весьма любопытными…
Коротко взглянув в сторону подследственного, следователь по особо важным делам Снегирев, сосредоточившись, запретил себе думать дальше; ему тоже полагалось идти до определенной черты, за которой начиналась особая зона, закрытая и глухая, и не ему нарушать издревле установленные законы.
— Знаете, Горелов, нам все таки необходимо хоть немного продвигаться навстречу друг другу. Допустим, уважаемая Евдокия Савельевна запамятовала, или даже, допустим, ее никто не грабил, не раздевал недалеко от собственной дачи, да еще в тот самый вечер, когда у нее на приеме собралось чуть ли не все правительство. Допустим, вы в первый раз видите старинный золотой браслет с дорогими камнями ценой в несколько сот тысяч. Главное, что следствие все эти факты установило, хотя мы и не собираемся больше тревожить такую знаменитость, как Зыбкина. Пусть себе поет на радость советскому человеку, Бог с ней! Но ведь тебе, Горелов… Сергей Романович, уже не отвертеться, и не бабьи цацки здесь главное…
— Ну, так может, гражданин следователь, вы мне и расскажете, в чем главное? — оживился подследственный, оглядываясь, куда бы поставить недопитый чай.
— Сидеть, сидеть! — каким то иным, чем до сих пор, тоном приказал ему следователь, сам подошел, взял у него из рук подстаканник с тонким стаканом и поставил на стол. — Слушай, Сергей Романович, очень внимательно слушай и не перебивай, дело государственное, и недаром тобой занимается именно государственная безопасность. По твоим следам идут сейчас лучшие наши агенты, от них не укроется любая мелочь, они обнаружат твой даже неуловимый след и запах. Все дело в том, что человек не может обретаться на земле бесплотно, на этом основан весь сыск. Так и есть, уважаемый Сергей Романович, человек всегда, везде, где бы он ни прошел, оставляет следы, много следов. И не обязательно только на земле, на снегу, на словах, то есть предметные следы. Он оставляет их и в сознании, в памяти других людей — вот в чем невозможность что либо скрыть. Весь твой короткий и бурный жизненный путь уже прослежен и зафиксирован, главное ведь не в том, что ты, несмотря на свои блестящие природные данные, на образование, решил порезвиться и скатился на дно. Так бывает. Несравненная Евдокия Савельевна тебя пожалела, она ведь баба не промах, это между нами, знает в жеребчиках толк. А ты, как говорится, губы развесил. Над тобой, Горелов, висит другой меч, ну к чему нам тратить дорогое время?
Пауза намеренно затягивалась, и Сергей Романович, полуприкрыв глаза и напряженно вслушиваясь в рассуждения словоохотливого следователя, почувствовал и уловил момент — вскинул голову и спросил:
— В чем же я должен признаться? Может быть, подскажете?
— На какую иностранную разведку или на какую антисоветскую зарубежную организацию вы работаете — вот что главное, Горелов, — быстро сказал следователь со странной двойственной усмешкой — ее можно было принять и за ироническую, и за насмешливую. — Какие цели перед вами были поставлены? Наконец, когда, как и кем была произведена ваша вербовка? И когда вы, в свою очередь, завербовали гражданку Дубовицкую Ксению Васильевну, ставшую вашей любовницей и после отказа работать с вами убитую, как становится ясным, именно вами на ее квартире? Зверски убитую, надо добавить… Но это, опять таки, только деталь. Ведь вы именно в кругах творческой интеллигенции ставили себе целью создать антисоветскую шовинистическую русистскую организацию. Убитая Дубовицкая ведь и раньше отличалась некоторыми странностями, открыто говорила, что Россией правят всему русскому чуждые силы, что пора, мол, положить всему этому конец, так что семя упало на подготовленную почву… Вы ведь знали, что Дубовицкая находится в интимной связи с главой государства, и именно через нее метили нанести свой главный удар, а когда она отказалась, дальнейшее не заставило себя ждать. Кстати, Горелов, у Дубовицкой хранился наследственный именной бриллиант огромной цены, во всех каталогах мира он значится под именем «Черный принц»… Вы ничего не знаете о его судьбе? Или вы скажете, что ничего не слышали о нем?
С возраставшим изумлением выслушав новую версию следователя, Сергей Романович некоторое время не мог ничего ответить; он почувствовал себя нехорошо, во рту пересохло, и воздуху не хватало — он никак не мог вдохнуть поглубже.
— Кажется, мир сошел с ума, — с трудом выдавив улыбку, наконец сказал он. — Пожалуй, я теперь могу попасть в самый центр событий и стать вторым Иисусом Христом…
— Не беспокойтесь, вам это не грозит, — все с той же блуждающей усмешкой заверил его следователь. — Подобное не в интересах нашего государства, — тут следователь высоко поднял правую руку, как то загадочно повел у себя над головой указательным пальцем, вычерчивая какую то одному ему ведомую фигуру. — Но если…
— Но если? — как эхо, повторил Сергей Романович, завороженно следя за мистически застывшим большим пальцем правой руки следователя, вдруг преобразившегося и грузно отяжелевшего.
— Если вы, гражданин Горелов, поможете выявить нам членов антисоветской организации и согласитесь работать в интересах советского государства… У вас впереди может быть такая долгая жизнь. Почему бы вам не назвать в первую очередь сообщников, ну, хотя бы по делу Зыбкиной Евдокии Савельевны? Вы же не один были. И дело не только ведь в ограблении, это ведь, скорее всего, маскировка…
— Молчите, ради Бога, — остановил его Сергей Романович, по прежнему ощущая острую нехватку воздуха. — Я все абсолютно понял…
И какая то детская, поразившая своей беззащитностью, улыбка набежала на его лицо.
11
Недоступная, забранная в несколько защитных слоев лампочка цод потолком камеры горела день и ночь; пожалуй, впервые за много дней Сергей Романович пришел, хотя и скрывал это даже от себя, в смятение духа. Из всей беспредельной, непрерывно будоражащей и зовущей своими звуками и запахами жизни осталось замкнутое пространство и режущий, приводящий в неистовство голый свет под потолком. И бессилие что либо предпринять, вернее, ощущение своего бессилия.
«Все бессмыслица, все ложь, — сказал он себе, стараясь отвлечься от рвущегося сквозь крепко стиснутые веки мертвого света. — И человек ложь, и Бог ложь, и сама жизнь — отвратительный обман, вот именно, болезнь природы, осознать которую как вопиющее издевательство дано только именно человеку. Хотя зачем же забираться в такие абстрактные дебри? Это уже крайняя степень деградации, распад воли и сознания… Такого подарка он им не сделает».
Он не смог бы сейчас точно определить, кого он имеет в виду — каких либо конкретных людей вроде своего следователя Снегирева, продавшее его московское воровское подполье, судьбу, связавшую его незримыми нитями с самыми высокими людьми в государстве, или же весь мир вообще; ему не давало покоя и необъяснимое поведение Зыбкиной на последнем допросе, и он, разрывая наползавший туман забытья, все время возвращался к этому случаю, пытался отыскать в нем оборотный потаенный смысл; нет, нет, он никогда не был героем, но его всегда, как он себя помнит, мучил вопрос, почему ему нельзя того, что можно другому. По сути дела, этой несправедливостью, всеми правдами и неправдами узаконенной в живой жизни только между людьми, и объясняется невозможность гармонии и движения к идеалу, и никакие учения, теории, никакая принудительная сила здесь не помогут. Природа человека порочна, и по другому он просто не может, и его личное падение с нравственных высот началось еще в ранней юности, когда он, попав в компанию сверх всякой меры обеспеченных, таких же прыщеватых, как и он сам, начинавших томиться плотью бездельников, не смог внести свою часть за очередной кутеж в пустующей квартире какого то высокопоставленного дипломата; сам хозяин находился в это время в Англии, а его отпрыск, которого все ласково называли Стасиком, кстати, тогда считавшийся самым закадычным другом ему, бесшабашному Сережке Горелову, оставался почему то в Москве под присмотром давно выжившей из ума полуидиотки, его бабушки, не снимавшей ни на минуту большой, с широкими полями, шляпы даже за столом и непрерывно вспоминавшей свое дворянское происхождение, свою молодость и первую любовь с одним из князей Голицыных. Вот тогда и свершилось падение, он просто взял у матери накопленные по десятке с каждой получки и приготовленные в уплату за какой то старый долг деньги и не сознался. Ну, а дальше…
Дальше Сергей Романович не разрешил себе вспоминать, это было сейчас неважно, даже излишне, да и этот случай из его ранней молодости ничего не сможет объяснить; жизнь всегда раскладывает карты по своему, и тот же прыщеватый Стасик, сразу после института женившись на одной из своих однокурсниц, тоже из элитарной дипломатической породы, укатил, ни мало ни много, в Италию — развивать и совершенствовать свой интеллектуальный вкус, как он выразился на прощанье. Да, всем жизненных благ не могло хватить, и карты ложились в строго выверенной закономерности, но можно было жить и на темной стороне и чувствовать себя не хуже — здесь присутствовала своя притягательная, дурманящая и дразнящая глубинные инстинкты правота; только здесь можно было ощутить всю подлинную, неповторимую, именно мужскую особенность права силы, и никакими прилизанными конституциями, писанными прежде всего для власть имущих, этого не достичь. Да, да, и в этом подпольном мире можно было процветать, нужно было лишь не переступать запретной границы, и прежде всего в себе самом… Когда же, с кем же он нарушил этот непреложный закон равновесия? С Зыбкиной или Ксенией? Пожалуй, и с той, и с другой. Но именно Ксения оказалась последней каплей, чаша переполнилась, вот и хлынуло через край. И уже ничего переделать нельзя, пусть не свистит следователь по особо важным делам, пусть не наворачивает винегрета из политики, народа и всяких там своих и заграничных шпионов, дело значительно проще. Может быть, впервые естественное, подлинное право силы, как и должно быть и будет со временем в жизни, бросило вызов припудренной фальши, отвратительной лжи, торжественно именуемой законом и нравственностью, тем самым законом и той самой нравственностью, при которых силы целых поколений, их рабский труд употребляются на старческий разврат, на бессмысленное продление, с точки зрения разума, бесполезного существования определенного круга пресытившихся людей, захвативших власть.
«Чушь! Чушь! — тут же вспыхнуло в воспаленном мозгу Сергея Романовича. — Просто тебе страшно, ты знаешь, что обречен и должен умереть, тебе уже не выбраться, а тебе еще хочется покуролесить на белом свете, побуянить… Можно, конечно, сделать вид, что согласен на сотрудничество, как предлагает следователь, терять нечего, можно потребовать личных гарантий от вышестоящего начальства, пожалуй, оно даже согласится выслушать, подтвердит и пообещает. Можно будет вывернуться, залечь на дно, пусть попробуют отыскать…»
Сергей Романович съежил губы в усмешке — цена слова давно была ему известна. Правда, за долгие бессонные ночи, проведенные в раздумьях, в попытках осмыслить случившееся, он уже распутал многие загадки; теперь он был твердо уверен, что московское воровское подполье давно и тесно срослось и с милицией, и со службами государственной безопасности, и что именно самые доверенные люди, тот же Обол, та же скупщица дорогих камней Мария Николаевна, княгинюшка из Кривоколенного, были обыкновенными стукачами, сексотами, всего лишь отвязанными суками, и что именно благодаря им он сейчас здесь, бессильно трепыхается, как муха в паутине. Его уже не выпустят даже из боязни, чтобы он не перебулгачил воровскую московскую знать, ведь равновесие в таком городе, как столица, тоже не безделица и дорогого стоит. Но и это для него сейчас ерунда, главное в другом. За что они так зверски обошлись с Ксенией? Вот клубок, он должен его размотать для себя хотя бы, ему нельзя уходить с таким невыносимым грузом в душе. Неужели все дело в нем и он главная причина? Или здесь присутствует роковая случайность? Ну чем им могла помешать молодая женщина? Или причина еще проще — дорогой бриллиант? Неужели даже в верхах все пало так низко и безнадежно?
Чтобы не ощущать больше мучительного света, он резко перевернулся лицом вниз, крепко стиснул голову ладонями, но свет, мертвый и неотвратимый, не исчезал, он сочился теперь в глаза через затылок, через кости черепа. Сергей Романович глухо замычал от муки и бессилия, рывком перекинулся на спину и подробно, пристально огляделся. Зацепиться было не за что — гладкие ровные стены, высоко под потолком узкая зарешеченная щель недоступного окна. Железная тяжелая дверь с бессонным зрачком — на него, как на диковинного зверя, могли глядеть в любой момент, глядеть и равнодушно посмеиваться. И вновь от сдавившего сердце чувства совершеннейшего своего одиночества, полнейшей заброшенности в мире, когда до тебя нет дела ни одному живому существу, ему стало совсем уж не по себе. И тогда пришла самая простая и самая удивительная по своей мудрости мысль; он сказал себе, что смерть величайшее благо, спасение, что ему после Ксении незачем и нельзя больше жить и необходимо что либо придумать и завершить все поскорее.
Он стал думать, как все можно ускорить, перебирал самые невероятные варианты и неожиданно успокоился; он сказал себе, что он давно уже умер и происходящее его больше не касается; правда, несмотря ни на что, сейчас бы он с удовольствием выпил кружку холодного пива, темного, свежего, ну, да на нет и суда нет, нехорошо искушать судьбу, ведь неизвестно, что за сюрпризы она ему приготовила за первым же поворотом.
Он отвернулся от стены, лег на бок и сунул ладонь под голову; казалось, в ту же секунду он услышал лязг двери и недовольно приподнялся, затем торопливо вскочил и, попятившись, даже выставил вперед руку, как бы пытаясь что либо отодвинуть. Он знал, что этого не могло быть, но в то же время он всем своим существом мучительно обрадовался. Вся кровь у него отхлынула от сердца, и он растянул губы в бессмысленной улыбке; словно сквозь горячий сухой туман, он видел лицо внутреннего дежурного, окинувшего камеру и самого заключенного профессиональным взглядом, тряхнувшего связкой ключей и даже слегка кашлянувшего. Рядом с ним был некто второй, в длинном обтрепанном плаще, — Сергей Романович его сразу узнал, хотя поверить не мог и лишь таращил глаза.
— К вам, Горелов, гость, — сказал дежурный и сразу же вышел, дверь за ним нешумно закрылась, и сухо щелкнул замок.
Сергей Романович, от скрытого волнения невольно тиская руки и, чтобы справиться с собой, прижимая их к груди, шагнул к неожиданному гостю, воскликнул:
— Не может быть! Отец Арсений! Или я схожу с ума? Боже мой…
— Успокойтесь, успокойтесь, уважаемый Сергей Романович — сказал отец Арсений, в свою очередь сделав движение навстречу хозяину скорбной обители. — Я же обещал прийти к вам еще раз, чтобы поговорить и ободрить… вот час и пробил, вот мы и встретились.
— Понимаю… Значит, скоро? — спросил Сергей Романович, и глаза его вспыхнули, расширились, впились в лицо пришедшего, затем он заторопился, заставил себя сдвинуться с места и стал приглашать гостя проходить и садиться, хотя садиться, кроме как на откидной топчан, было и некуда.
— Скоро, — подтвердил отец Арсений, шагнув в глубь узкой камеры и безразлично усаживаясь на топчан. С некоторым недоверием Сергей Романович продолжал следить за ним, словно ожидая, что дорогой гость вот вот растает в воздухе и исчезнет и он опять останется один. Тем временем новое необъяснимое дело захватило его внимание, и он, стараясь не показывать своего волнения, стал озираться по сторонам. Давящие узкие стены камеры как бы раздвинулись, и теперь вокруг чувствовалось совершенно свободное пространство, и в то же время Сергей Романович знал, что если бы он и попытался, он бы не смог сделать и шагу в призрачную и ненужную больше свободу — он был прикован к своему гостю какой то невидимой, неодолимой цепью. И оставаться рядом с отцом Арсением было для него важнее всего на свете, было много дороже собственной жизни — от чудного гостя исходил некий мягкий, успокаивающий свет, обещавший исцеление души истиной, обещавший открыть неведомое, успокоить и все объяснить.
— Я благодарю вас, отец Арсений, — сказал Сергей Романович, пристраиваясь рядом с гостем и стараясь не прикасаться к нему, чтобы не обнаружить обман — этого он бы сейчас не вынес. — У вас твердое слово, подобное теперь так редко бывает…
— Я вижу, ты сомневаешься, так? — спросил отец Арсений, подняв глаза и угадывая самые тайные мысли Сергея Романовича. — Не сомневайся, я действительно пришел, вот рука, возьми…
— Зачем же, зачем? — заторопился Сергей Романович, страшась оскорбить своего гостя малейшим подозрением. — Я и без того верю, отец Арсений. Зачем же? Что вы! Меня другое терзает — зачем же я жил? Зачем пришел в этот мир? Другим от меня тоже только горе и беды… Зачем? Если бы я мог, я бы убил себя еще тогда, когда не успел нагрешить… Ты приходишь слишком поздно, зачем мне твоя рука…
И тогда гость сам протянул руку и узкой худой ладонью слегка коснулся плеча узника, затем прикоснулся к его пылающему лбу со сдержанной по отечески лаской. И в груди у Сергея Романовича прорвался тяжело набухший и мешавший дышать ком, он почувствовал у себя на щеках теплые слезы и, стыдясь своей слабости, жалко, по детски облегчающе и торопливо всхлипнув, хотел сползти на пол, на колени. Опережая его намерение, отец Арсений остановил.
— Нет, нет, — сказал он медленно и значительно. — Никаких лишних слов. Я пришел подготовить и благословить, я ведь обещал и не мог иначе…
— Как же вам удалось проникнуть сюда? — не удержавшись, спросил Сергей Романович, и у него мелькнула нехорошая мысль об очередной провокации, о том, что и этот странный человек может оказаться на государственной службе и сейчас подослан к нему с определенным заданием, что он, так же как и Обол с княгинюшкой Марией Николаевной, давно завербован органами и все объясняется весьма примитивно. Им необходимо что то еще выведать у него, не получилось впрямую, пошли обходным путем…
Пристально взглянув в грустные, отстраненные глаза ночного гостя, взглянув даже с каким то любопытством, Сергей Романович вздрогнул. Он понял, что отец Арсений читает у него в душе, словно в открытой книге, и не стал тратить время на оправдание; если его гость способен читать чужие мысли, он должен понять и его сомнения и простить.
— Значит, очень скоро, — заторопился Сергей Романович, нащупывая главное и возвращаясь к нему. — Нет, нет, не подумайте, отец Арсений, я уже не боюсь. Жаль, что я так ничего и не сделал. Все готовился, готовился, блуждал во тьме, а к свету так и не вышел… Не хватило чего то, да и сил не хватило, недаром говорят — слаб человек…
— Не надо, не клевещи на себя, — остановил его отец Арсений. — Ты прозрел, перевесило все остальное. Не пытайся доказать обратное, даже малейшая толика любви и добра, брошенная на чашу весов Всевышнего, в конце концов перетянет горы порока и ненависти. Ты помог сохранить равновесие мироздания, и потому я здесь… Утешься!
— Скажи, отец Арсений, — вкрадчиво заговорил Сергей Романович, в твердом намерении увести разговор от своей особы и тем себя обезопасить и укрепить. — Ты много думал, много искал, скажи, нашел ли ты в человеке душу? Или каждому так и предназначено изначально пожирать ближнего и тем процветать? Скажи, Бог есть?
Странная и далекая усмешка набежала на лицо отца Арсения.
— Все те же детские заботы, детские страдания! — пробормотал он и несколько раз перекрестился и перекрестил узника. — Гордыня, гордыня человеческая! Неверие! Пока маловеры блуждают во тьме, пришло царство зверя, и каждую ночь в полуночную пору над Кремлем загорается его клеймо, его знак — число зверя. Ты, Сергей, сын человеческий, еще одна жертва во искупление русского неверия, русского легкомыслия и всеядности… Но ты сам пробился из мрака к свету и был приговорен слугами сатаны, твой тяжкий крест — спасение твоей души, нужно скорбеть о другом. Ты — начало последней и небывалой русской скорби, и она уже у порога… Мир содрогнется от крови и ужаса, но ты и жертва, и палач, твоя капля переполнила чашу, и ничего остановить уже нельзя, Россия будет погружена надолго во тьму, но именно там будет храниться и вызревать зерно… Я потому и здесь, ибо у каждого народа свои заступники перед лицом Всевышнего… К русскому народу послан я, тоже был подвергнут сомнениям и испытаниям, выстоял и прозрел, и укрепился душою. Повторяю: не скорби…
Непонятными и даже ненужными показались узнику все высокие и холодные слова странника, но он ничем не выдал себя, ему было страшно остаться опять в одиночестве, и он молчал, и лишь ширилась в душе тоска; он думал, что и в словах отца Арсения нет истины, и что…
— Истинно, истинно, перед лицом Господа нет ни эллина, ни иудея, — подхватил он невысказанную мысль узника, и от его всеведущей пронзительности Сергей Романович, как ни крепился, побледнел, откинулся головой на холодный бетон стены. — Пойдем, вставай, — приказал странник, приподнял руку, и в тот же момент стены вокруг как бы опали, рассыпались, и пространство, бесконечное и радующее, распахнулось окончательно, и Сергей Романович увидел какую то дорогу, и не было у нее ни начала, ни конца. — Вставай, пойдем, — повторил странник, и жуткая оторопь охватила узника: он осознал, что перед ним дорога без возвращения назад или даже к себе.
— Зачем? — посетовал он устало и безнадежно. — Неужели мне мало и без этого? И ты еще говоришь о милосердии, отец Арсений! Неужели лицемерие и есть твое хваленое милосердие? Зачем ты пришел?
— Я ведь обещал прийти к тебе в жизни еще один раз, ты забыл? — сказал отец Арсений. — Меня нельзя забывать, ведь у Бога нет ни царя, ни раба, и страждущая душа для него дороже любого праведника…
— Сколько же я слышал таких праздных и лживых слов! — вздохнул Сергей Романович и опустил глаза, он смертельно устал, и хотелось свалиться прямо на пол и забыться хотя бы на несколько минут.
— Вставай, вставай, пойдем, — в третий раз настойчиво, но теперь уже значительно мягче, с сочувствием предложил странник, и словно посторонняя сила подняла Сергея Романовича, тело приобрело звенящую легкость, теплый благодатный ветер омыл его душу, и он, сбросив с себя все тяжкое и лишнее, шагнул на сверкающую дорогу, и тогда чувство светлой тоски охватило его. Из него словно вынимали душу, — так в настоящей жизни не могло быть, и он это хорошо знал; сон, сон, подумал Сергей Романович, но эта скорая и самому ему не понравившаяся мысль лишь мелькнула и бесследно исчезла. Он услышал даже слова, прозвучавшие только в нем самом, хотя он знал, что не мог этого сказать. «Обрети Россию прежде всего в самом себе, человек, — услышал он отчетливо и ясно. — Если не ты сам, то кто же?»
Он оглянулся; странник пристально глядел на него, словно подталкивая дальше. И Сергей Романович не стал ничего спрашивать, он сделал еще шаг и еще, и дорога приняла его. И тогда он пошел один в сверкающем сквозящем пространстве — вокруг не было ни души. Отец Арсений тоже исчез, и было совсем хорошо; ему нравилась бескрайняя, слепящая белизной пустыня, разрезаемая прямой, как стрела, дорогой, — он уходил в безграничное, невозвратное пространство. Слышалась тихая, завораживающая мелодия, она тоже зарождалась и звучала в нем самом, омывала душу убаюкивающей нежностью, и он забыл о себе, он уже сам становился дорогой, ведущей за пределы времени, к самому изначальному зерну всего сущего.
И радость самому стать дорогой проснулась в нем и заполнила все его существо, и когда он с последней, затухающей дрожью понял, что исчезает и его больше нет, он увидел на дороге перед собой темный полог; под ним что то было, и он слегка горбился. Нерешительно наклонившись, Сергей Романович с замершим сердцем дернул за край полога и закричал от тоски и нежности. Он увидел и узнал самого себя, но совсем маленького, лет четырех или пяти, узнал свои глаза, улыбку и попятился.
Ребенок встал и приложил палец к губам, как бы о чем то предупреждая.
— Какой большой, — протянул он изумленно, с детской беззастенчивой пристальностью окидывая Сергея Романовича взглядом. — Что, плохо тебе?
— Теперь уже нет, — ответил Сергей Романович, начиная оттаивать и приходить в себя. — Теперь будет только хорошо… Что ж делать, раз не все получилось…
— Ты жалеешь?
— Немножко, — признался Сергей Романович. — А что?
— Зря! — возразил ребенок. — По моему, ты молодец, ты здорово держался. А на мелочи… ну их, не обращай внимания. Правда, можно и по другому, ведь ты можешь все исправить, ты же хотел убить меня, вот все сразу и переменится. Так просто… Только знай, я — не только ты, я еще и твое продолжение. Отец и сын в одном лице…
— Замолчи! Ничего этого ты не можешь знать, замолчи, — попросил Сергей Романович, с непередаваемым ужасом глядя сам на себя через бездну лет и чувствуя подступающую к сердцу темную, тяжелую волну, готовую задушить.
* * *
Он вскочил с узкого топчана, и режущий мертвый свет ударил в его глаза, в мозг; он еще успел заметить, как медленно и бесшумно затворилась дверь камеры, пропуская фигуру в длинном брезентовом плаще, — мелькнула в узкой, исчезающей щели длинная пола и пропала. Сорвавшись с топчана, он бросился к двери — она, как всегда, была холодной и неприступной.
12
Ничего подобного с ним давно уже не было, весь состав его жизни словно переменился, вспыхнул и взбунтовался; он только по многолетней привычке держал себя в руках, ходил на работу, терпел около себя приевшихся своей угодливостью людей; такого в его жизни, насколько он помнил себя, вообще никогда не случалось. И не мужская поздняя ревность, не обида проснулась в нем и диктовала, нет. Был тот провал, когда никакая воля не могла помочь, и разум отступал, и даже ирония по отношению к самому себе ничего не могла изменить. Он не привык размышлять о непривычных материях — не хватало времени, в этом он инстинктивно оберегал себя. Зачем ему было мучиться, есть ли Бог или его нет? Если он есть, он есть, от его, Леонида Ильича Брежнева, признания или отрицания здесь ничего не могло измениться. Случилось нечто более глубокое и необъяснимое. До сих пор он был уверен, что ему подвластно в окружающем мире все, кроме смерти, что он знает главное, и вдруг оказалось, что он ничего не знает даже о самом себе и ничего не может, — подобное потрясение на время выбило его из привычной колеи. И дело здесь было не в ближайшем окружении, не в Суслове, не в Андропове, просто он лицом к лицу стал перед реальной жизнью, о которой давно забыл, с ее изнанкой, горячей и мутной, с грязью и кровью, с изнанкой, подстилающей все без исключения в человеке. И он не мог иначе, он должен был пройти на этот раз все до конца, здесь он отступать не хотел и не мог. И, оставшись наедине с Сергеем Романовичем, вопреки всем инструкциям, правилам и здравому смыслу, и даже лично убедившись, что они действительно одни, втайне гордясь собой, Брежнев заставил себя окончательно сосредоточиться. Гость все так же стоял у двери — как его ввели, остановили, так он и остался, пока хозяин устраивался, что то приказывал и о чем то вполголоса говорил Казьмину, и при этом даже раздраженно повысил голос. Гостя, которого перед этим спешно вымыли, постригли, выбрили, одели с ног до головы, подобрав ему приличный костюм, происходящее не интересовало, он уже был по другую сторону черты. Хотя он все видел и слышал, он видел и слышал как то по особому. Душой он еще не отошел от отца Арсения и все время ощущал его присутствие рядом и даже иногда с легкой извиняющейся улыбкой оглядывался, и ему было безразлично, в яви ли было или в бреду их свидание, — оно было, и в этом он не сомневался.
В просторном, слегка затемненном помещении были всего лишь стол и два кресла, они стояли в хорошо освещаемом месте. И в глубине своего сознания, продолжавшего как бы автоматически отмечать и фиксировать происходящее, Сергей Романович, сам того не желая, не упускал ни одной мелочи. Он ожидал всего что угодно, но только не этого, и почувствовал удивление.
— Проходи, садись, — услышал он медленный голос хозяина и увидел его рядом. — Проходи, проходи, ты, вероятно, очень недоволен…
— Отчего же, совсем нет… Правда, несколько удивлен, — ответил Сергей Романович вежливо, даже изобразивши улыбку, прошел и сел на указанное место и опять растянул губы в легкой улыбке — хозяин от этого несколько замешкался, поправил галстук и натужно кашлянул. — Я даже предполагал нечто подобное, только, конечно, не встречу с вами лично, — продолжал невольный гость, словно пытаясь окончательно убедить хозяина, и тот с готовностью несколько раз кивнул.
— Вот как, это хоро ошо, — протянул он, наконец усаживаясь на свое место и выкладывая на стол пачку сигарет и спички. — Ты не возражаешь, если я закурю?
— Кури, — неожиданно разрешил Сергей Романович и насмешливо прищурился. — Угостишь — я тоже подымлю…
— Пожалуйста, кури, — обрадовался хозяин, решивший не замечать ничего грубого и обидного и придвигая необычному своему гостю сигареты и спички, и пока тот жадно закуривал, с затаенным интересом разглядывал его строгое красивое лицо; в какой то момент их глаза встретились, и Леониду Ильичу показалось, что во взгляде его молодого соперника промелькнула именно насмешка, но затем сразу же сменившаяся жалостью. Тут Леонид Ильич оторопел, возмутился и, маскируя свою неуверенность, поспешил закурить; он не хотел и не мог быть жалким, не имел на это права, и подумал, что он зря настоял на этой встрече, пожалуй, он переоценил себя, и теперь надо соответствовать, хотя в то же время он безошибочно чувствовал, что эта встреча для него была необходима; он должен был пройти через это горнило и очиститься прежде всего ради самого себя; он сейчас даже гордился собой, он пренебрег всеми дурацкими правилами и поступил по совести, — тихо, тихо, тихо, сказал себе Леонид Ильич, чувствуя, как в нем вновь поднимается еще одна волна неожиданной зависти к своему молодому удачливому сопернику.
Усилием воли заставив себя усмехнуться и намекая на некую, теперь уже нерасторжимую связь между ними, он сказал:
— Ну, свояк, давай забудем всякие тонкости, посидим, поговорим, как два мужика. — Тут он почти машинально нажал кнопку звонка и бросил тотчас вошедшему помощнику: — Чайку нам и по рюмке… да, да, лучше коньяку… а? — вопросительно взглянул он на своего гостя, и тот согласно кивнул.
— Ну, свояк, вот уж и вправду по царски! — одобряя, сказал Сергей Романович, и его худое подвижное лицо начало слегка разгораться, из него ушло холодное напряжение, но глаза стали еще более глубокими, какими то втягивающими и как бы прощающими, и Леонид Ильич, приглашая гостя выпить, несколько замешкался. Он ощутил себя странно непривычно, каким то совершенно незащищенным — перед ним был человек, уже переступивший за черту жизни, он и смотрел сейчас именно так и, находясь в недосягаемости, жалел; да, да, хозяин вновь почувствовал именно жалость к себе со стороны своего гостя и, стараясь не поддаваться нехорошему чувству, взял рюмку, приподнял ее, кивнул, приглашая гостя последовать своему примеру, и они выпили.
И все таки пересилить себя до конца хозяин не смог.
— Значит, свояк, ты вор? — не удержавшись, спросил он с грубоватой приветливостью и, встретив понимающий взгляд гостя, хотевшего что то сказать, махнул рукой. — Подожди, подожди… Вот все бумаги и документы. — Он положил ладонь на несколько аккуратно сложенных в стопку папок перед собой. — Черным по белому начертано…
— Нет, свояк, я не вор, что ты! — услышал Леонид Ильич спокойный и мягкий голос и насторожился еще больше. — Я просто иногда пытался исправить явную несправедливость. Нельзя же так, чтобы одни пухли от жиру, а другие не имели бы в жизни даже самых примитивных радостей. Согласись сам, это никуда не годится. Я просто по своей натуре русский человек, и мне всегда было обидно за русскую неустроенность и какую то обреченность. А кто имел право приговорить к небытию целый народ? Уж конечно ни Маркс, ни Ленин, ни ты, уважаемый свояк, на это никем никогда не уполномачивались, не правда ли?
Тут в глазах хозяина зажегся острый огонек — вспыхнул и пропал; теперь становилось яснее, на какой почве сошлись Ксения и этот московский хлыщ…
— Смотри ка, каков гусь лапчатый, мой благоприобретенный своячок! — воскликнул, покачав головой, Леонид Ильич и от изумления тотчас потребовал еще по рюмке коньяку и, подождав, пока за официанткой закроется дверь, пригнулся над столом, понижая голос. — Ты, надо думать, умный человек, иначе она не заинтересовалась бы тобой… почему же ты говоришь какие то мещанские глупости? Неужели ты в одиночку, будь ты хоть семи пядей во лбу, думал справиться с целой системой, которую совершенствовали тысячелетиями? Ты меня разочаровываешь, уважаемый свояк.
— Что ты, я ничего такого не хотел, — ответил гость, тихо и светло улыбаясь, как улыбаются расшалившемуся ребенку. — Знаешь, мне хотелось и нравилось это делать, и тут уж ничего не попишешь. Но ведь не затем меня сюда привезли, тебе, очевидно, не так просто было встретиться со мной. Что то важное тебя заставило.
— Да, — сказал Леонид Ильич, на глазах старея. — Хотя и то, о чем я тебя спрашивал, мне нужно было знать. У меня такая служба, мне многие говорят об одном по разному, ведь и про тебя я могу узнать правду только, пожалуй, от тебя самого. Так что здесь все понятно… Да и куда тебе торопиться? Сиди, отдыхай, завтра такого уже не будет, — сказал Леонид Ильич с неожиданной тоской.
— Я знаю, такое не повторяется никогда, — спокойно согласился гость, и его затуманившийся взгляд ушел куда то мимо своего высокого собеседника, прошивая массивные стены и останавливаясь где то в только одному ему ведомом пространстве. — Было бы странно, если бы такое повторялось…
— Значит, я прав в своих предположениях, когда думал о тебе, — сказал Леонид Ильич. — Ты, очевидно, еще и помогал сумасбродным русским патриотам, как они сами себя величают? Придумали черт знает какую ахинею… Ну, этим, как они там себя называли… Мне говорили… да… перечисляли даже известных людей. Воззвания против власти сочиняют… Помогал ведь?
— Чепуха, свояк, никого из таких людей я не знал и не знаю, — быстро сказал Сергей Романович. — С какой стати? Я человек свободный, летал где хотел и как хотел.
— Скажи, Горелов, ты вот говоришь, летал где хотел, — вновь заговорил Леонид Ильич и выжидательно прищурился. — А ты Бога хоть где нибудь встретил, ну хоть на один миг? Ведь если ты не признаешь земных установлений, должен ты хоть чем нибудь руководствоваться?
Гость быстро взглянул и вновь отвел глаза и долго молчал; хозяин, все так же прищурившись, терпеливо ждал.
— Ты, свояк, спроси об этом, если сможешь отыскать его, у отца Арсения, — сказал наконец Сергей Романович, и судорога перехватила его горло. — Есть такой человек… Если очень захочешь, найти его будет можно, хотя и трудно. Такой странник, бродяга. Бродит, бродит из конца в конец… все о нас, грешных, знает. Мне почему то кажется, что он захочет с тобой потолковать. А вот ты, пожалуй, и не захочешь. У тебя в жизни, очевидно, немало такого, о чем бы ты хотел навсегда забыть…
— Зачем же нам с самого начала браниться, — недовольно сказал Леонид Ильич. — Такого у каждого немало, о чем хотелось бы забыть, только не забывается. Я вроде бы уже слышал о таком. Да, именно отец Арсений, так, так, — вслух подумал он и, надвинув брови, уставился на стол перед собой. — Только как же его обнаружить, говорят, его никак нельзя увидеть, если он того не захочет…
— Здесь, свояк, дело проще, — сказал Сергей Романович. — Если ты сам очень уж захочешь, отец Арсений без всяких там казенных розысков может объявиться. Вот будешь сидеть, дремать, возможно, после важных заседаний, а он возьмет и войдет — здравствуйте…
Недоверчиво покосившись на бойкого гостя, Леонид Ильич пожевал губами; чего то главного не хватало, оно было где то совсем близко, но не давалось и тревожило.
— Не туда мы с тобой забрели, — вслух подумал Леонид Ильич. — Какой то пустой у нас с тобой разговор. Ну, странник, ну, бродит, мало ли на свете чудаков? Пусть себе бродит, страна большая, места всем хватит с избытком.
Гость ничего не ответил, лишь, выражая сомнение в истине последних слов своего собеседника, шевельнул руками, и Леонид Ильич, раздражаясь неизвестно почему, скорее всего из за своего гостя, из которого приходилось вытягивать каждое слово словно клещами, решил больше не петлять, и, хотя между ними уже и установилась некая внутренняя связь, обещавшая новые неожиданности и смещения, хозяин не стал больше выжидать.
— Я понимаю, понимаю, Горелов, тебе сейчас трудно и нехорошо, что же поделаешь? — сказал он. — Тебе не хочется разговаривать со мной, я вижу, а зря, Горелов, ведь ты мне в сыновья годишься. Мне ведь не надо никаких твоих раскаяний и признаний, мне надо кое что понять для себя самого. Может, я тебе смогу и помочь, мне лишь надо понять…
— А мне ничего не надо, и не дадут тебе, как ты говоришь, помочь, зачем обманывать себя и других? — коротко и сухо отозвался гость.
— Кто это посмеет не дать? — раздраженно вскинулся Леонид Ильич и, не дожидаясь объяснения обидных слов, в ответ на движение гостя, пододвинул к нему сигареты. — Кури, кури… Ты ведь знал, что она связана со мной? Не так ли?
— Конечно, знал, — ответил Сергей Романович, разминая сигарету, и в нем начало просыпаться что то больное и злое, — он все больше не понимал, зачем его принуждают к бесполезному, оскорбляющему память дорогой женщины разговору.
— Как же ты не поостерегся? — поинтересовался Леонид Ильич, втягиваясь, вопреки желанию, в досадное и унизительное противоборство и уже не в силах остановить себя.
— Ну, свояк, здесь, на этом поле брани, все равны! Хватит, Леонид Ильич, глупой игры… Что вам от меня нужно? Подогреть остывающую кровь? Время то не остановишь, старость тоже…
— Старости никому не избежать, старость узаконенная форма жизни, — подчеркнул Леонид Ильич довольно миролюбиво. — Ты тоже, Горелов, никуда не денешься…
— Ну, я здесь исключение. Старости у меня не будет, — с некоторым вызовом заверил Сергей Романович, — мое преимущество здесь неоспоримо, сознайтесь…
— Зачем ты убил ее? — быстро, заметно напрягаясь, спросил Леонид Ильич, неуловимо подавшись вперед и под встречным взглядом гостя бледнея.
— Я не убивал ее, я ее любил, — сказал Сергей Романович с пугающим спокойствием, и тогда его собеседник, уже понимая с тайной обреченностью исход и осознавая непреложное право гостя не быть судимым, а самому судить, старчески ссутулился и сник. — Вот так, Леонид Ильич, — донеслось до хозяина словно издалека, из плотного тумана. — Как бы я мог ее убить, ведь мы ждали ребенка, она хотела все бросить, найти тихую, спокойную работу. Опоздали, слишком близко подошли к запретной черте, но теперь уже все равно, теперь уже…
— А черный камень? — вкрадчиво спросил Леонид Ильич, обрывая мучивший его сейчас и выводивший из себя тихий голос. — Может, все из за него? Куда он мог деться?
— А а, черный камень, — сказал Сергей Романович, недоверчиво взглянув. — Исчез… Я хотел его уничтожить, растереть в пыль, так, чтобы вся Москва узнала, тем оградить и защитить ее и ребенка… Только проклятый камень исчез… Россия еще не прошла свой крестный путь…
— Вот, вот, Россия! Куда конь с копытом, туда и рак с клешней! И ты, Горелов, веришь подобной чепухе? — с горечью сказал Леонид Ильич. — Что за парадокс! Московский вор печется об интересах России, — что то новое и неслыханное! Мистика, Горелов, мистика! — Нервное возбуждение у Леонида Ильича все нарастало, он чувствовал, что говорит не о том, и ему было неловко, судьба столкнула его с непривычной, чуждой и пугающей жизнью; тут же мелькнула мысль о беспутной дочери, погрязшей в распутстве, но он подумал, что ее и судить то не за что, яблочко от яблоньки недалеко падает, как говаривается в народе, когда же и пожить, если не в молодости?
С некоторым недоумением, изо всех сил сопротивляясь, словно кто то навязывал ему это насильственно, вспомнил Леонид Ильич и о вечно недовольном сыне, на проделки которого в заграничных закупках тоже приходится глядеть сквозь пальцы, а ведь никакой вор и мошенник и за десять своих жизней не смог бы навредить государству больше, — одним словом, черт знает какие чувства и мысли нахлынули на главу государства, сделавшего всего лишь один легкомысленный шаг в сторону от наезженной дороги и позволившего своей подспудной тоске открыто вырваться на свободу, — и об этом как то отстраненно и осуждающе подумал Леонид Ильич, чувствуя себя все более неуверенно и неуютно и в то же время не в силах оборвать затягивающуюся встречу; уже сотни и тысячи незримых нитей срастили двух этих разных мужчин, старого, надеющегося на долгую и полноценную жизнь, и молодого, переступившего последний порог.
— Ты прикажи меня увезти, — попросил Сергей Романович, — тебе же этого хочется, только ты не решаешься. Брось, наплюй на всяческие условности, о чем тут рассуждать, какая совесть? Вам ведь все равно придется меня убить, иначе нельзя, ты же мне не веришь и никогда не поверишь…
— Нет, нет, я верю! — повысил голос Леонид Ильич и потянулся к своему гостю. — Не знаю почему, с самого начала верю… И сразу знал, что не ты, вот потому и решил увидеть тебя и спросить… вот, лицом к лицу. Мне так хотелось понять главное, что погубило такую женщину…
— Что или кто, — уточнил Сергей Романович уже только для того, чтобы не показаться совсем невежливым, и тогда что то случилось; им больше нельзя было оставаться рядом, хотя и разойтись было пока невозможно — не было завершения.
Коротким жестом предложив гостю оставаться на месте, Леонид Ильич встал.
— Ладно, умирать собирайся, а хлебушек сей, — сказал он. — Кто захочет, поймет, а кто не захочет… Ну что ж, Сергей Романович, прощай, не поминай лихом. Авось когда нибудь еще и встретимся… молчи… И вправду, ты теперь будешь всю жизнь искать этот чертов камень. Может, и найдешь, разобьешь его в пыль, я тебя понимаю. Ну, я же сказал — прощай…
Гость отстранение и безразлично кивнул и даже попытался оскалиться в иронической улыбочке, должной показать его высокому собеседнику, что он тоже понимает умные, хоть и злые шутки и способен их оценить. И тотчас словно из самой стены, из двери, ранее не замеченной Сергеем Романовичем, вышел высокий и стройный человек лет сорока и по военному строго застыл у самой этой двери. Леонид Ильич подошел к нему и некоторое время что то вполголоса ему говорил, затем, не оглядываясь на своего гостя, исчез: кто то невидимый распахнул перед ним и так же бесшумно затворил дверь.
— Пойдем, Горелов, — услышал Сергей Романович негромкий голос и почему то сразу окончательно успокоился. — Нет, нет, не туда, Горелов, идите за мной и не отставайте.
На ходу повернувшись, Сергей Романович все с тем же тупым безразличием пошел вслед за высоким незнакомцем по пустынным коридорам и переходам и в одном из темных двориков, похожем на глубокий колодец, сел, как ему было указано, в машину, и через несколько часов быстрой и непрерывной езды, уже где то далеко от Москвы, так же, когда ему было сказано, не говоря ни слова, вышел. Машина стояла на узкой дороге в старом глухом лесу, ветерок к рассвету затих и тьма сгустилась до предела.
— Что происходит? — с усилием разжал стиснутые зубы Сергей Романович. — Неужели нужно было ехать так далеко…
— Возьмите, Горелов, — услышал он в ответ, и рядом с ним, у самых его ног, был поставлен небольшой чемоданчик — от неровности земли он тотчас завалился на бок. — Здесь есть все на первое время — документы, деньги, я даже бутылочку сунул… Станция недалеко, через час другой пойдут электрички. Еще одно: никогда никому не рассказывайте о случившемся, забудьте прошлое, перечеркните его. Не было, и все. Вас никто не будет искать.
Начиная понимать, Сергей Романович ногой отпихнул от себя чемоданчик; глаза начинали привыкать, и он различил силуэт высокого незнакомца, за несколько часов в дороге не проронившего ни слова.
— Что, при попытке к бегству? — хрипло спросил Сергей Романович и кашлянул — горло сводило судорогой.
— Глупо, Горелов, глупо… Будь здоров, — послышался из темноты все тот же негромкий спокойный голос, и вскоре стукнула дверца машины, которая, высветив вспыхнувшими фарами дорогу и старые мшистые березы и дубы по сторонам, тронулась с места и пропала. И только тогда Сергей Романович очнулся и бросился следом, размахивая руками.
— Стой! Стой, стой! А меня спросили? А я хочу этого? — выкрикивал он с ненавистью, и внезапно, когда перед ним вспыхнул знакомый, ослепляющий, выжигающий все изнутри свет, он, закрыв глаза ладонями, свалился на лесную дорогу и по мужски беззвучно, без слез заплакал, и почувствовал, что рядом кто то есть.
— Отец Арсений… ты? — трудно, не сразу спросил он и затаил дыхание. Лес молчал, в лесу жил предрассветный покой.
— Встань, встань, — прозвучало у него в мозгу или в сердце. — Неужто так слаб? Встань, оборотись дорогой, я же говорил — она приняла тебя…
И тогда, завозившись, помогая себе руками, он, по детски беспомощно всхлипнув, сел; в вершинах деревьев стало сереть, зато, стекая вниз к самой земле, мрак, тяжкий, дышавший сыростью и многолетней прелью, еще больше усилился, он стал почти осязаемым, его можно было зачерпнуть пригоршней и бросить себе в лицо, смыть всю горечь и грязь и уже никогда больше не оглядываться назад.
Часть четвертая
1
У всякого умного и дальновидного политика вырабатывается свой принцип отношения с народом, со своим ближайшим окружением, с государством, во главе которого каждый из них тайно или явно стремится стать, и, наконец, самое, пожалуй, интересное и главное, со своим собственным «я», и не многие, даже из самых проницательных и гениальных, могли отделить свое собственное «я» от угрожающе огромной, бесконтрольной, как правило, власти, которая была дарована им не только благодаря их собственным усилиям и талантам, собственной борьбе, но в большей мере в силу стечения обстоятельств и движения самой жизни, формула которой была заложена кем то или чем то еще изначально. И каждый из таких политиков в том или ином роде — мистик, тайно или явно убежденный в собственной призванности и значимости, в своей харизме, — без подобной веры было бы невозможно осуществлять и само право власти, ее движение к каким то придуманным кабинетными мудрецами целям, как правило, не совпадающим с интересами самого народа, более того, чуждым и ненужным ему, далеким от его подлинных нужд и чаяний. Без этого нельзя было являться олицетворением власти, быть во главе народа, вести его вперед и, самое главное, ощущать свою почти божественную значимость, жить, наслаждаться, развратничать, и все за счет того же народа, держать за его же счет огромные, истощающие страну армии и силы личной безопасности, подчинять своим личным интересам лучшие достижения науки, щедро оплачивать целый рой придворных трутней, восторженно и самозабвенно готовых за свой обильный подножный корм воспевать кого угодно и что угодно и всегда способных замутить народное сознание и доказать, что черное есть белое, и наоборот. И опять таки, все для блага того же народа, добывающего руду, алмазы, золото в мрачных многокилометровых подземельях, поливающего потом поля и нивы, возделывая, по уверениям придворных мудрецов, хлеб свой насущный, заваливающего трупами поли сражений, затем искалеченного, с оторванными руками или ногами, сидящего на перекрестках улиц, на базарах и вокзалах и просящего милостыню, — того самого народа, который всеведущ, хотя и слеп, беспомощен, хотя и страшен в роковые минуты бешенства, способен смести горы и совершить невозможное. Проницательный политик пытается предвидеть и чувствовать такой почти непредсказуемый момент, уловить его и объяснить тому же народу его историческое значение, его смысл, а затем повернуть события в нужную, запланированную сторону — и опять таки во благо себе и той зауми, которая кем то подпольно вложена в головы людей. Допустим, зачем было тевтонскому ордену, Наполеону или Гитлеру завоевывать Россию? Разве это нужно было немецкому или французскому народам, нужно было какому нибудь Гансу или Жаку? Но их смогли убедить, что это жизненно необходимо для них самих и их детей, отвлекли их внимание и энергию от действительно насущных для них дел, от заботы о сытном куске хлеба с маслом, заставили идти за тридевять земель и умирать, их убедили в необходимости подтянуть пояса потуже, наделать ружей и пушек и указали на источник их бед — на далекую Россию, неведомую им и ненужную, — с тем же успехом можно было указать им и на Африку, на Китай или Индию, как это уже и было прежде. Просто политикам, взорлившим к вершинам власти, нужно было найти и оправдать, прежде всего в собственных глазах, смысл своей жизни и деятельности, — ценность тысяч и миллионов других человеческих жизней была им чужда и непонятна, для людей вершинной власти народ, как всегда, являлся лишь самым дешевым и удобным строительным материалом, и его незачем было жалеть или экономить. А философы и поэты всех мастей тем временем, не слыша самих себя и захлебываясь от восторга, строчили трактаты, поэмы, романы о героизме, о преданности отечеству и флагу, и никакие неподкупные весы не смогли бы точно определить, чья тяжесть вины больше — первых или вторых.
Русские цари с незапамятных времен собирали и копили несметные богатства, строили огромное, невиданное и тем самым пугавшее весь остальной мир государство в самом центре земли, на стыке многих народов и культур, верований и глубоких внутренних, подземных движений человечества, и это строительство постепенно переросло в особую цивилизацию, в особую евразийскую культуру, в прорыв космического осязания смысла бытия и Бога в себе, но вся чугунная тяжесть прошлого западной цивилизации, тысячелетиями строящей свою идеологию и укрепляющей свое эгоистическое, желудочное господство над остальным миром, и на этот раз пересилила. Для заглушения ростков расцвета новой цивилизации грядущего был применен самый изощренный трупный яд. Он был изначально впрыснут в мозговые центры нарождающегося нового и нес в себе тщательно завуалированные формулы тупиковых движений и поисков, оглушающе провозглашаемых как необходимость революций и коренных преобразований якобы именно для блага народа и во имя его светлого будущего. И как жук древоточец, невидимо вторгаясь в плоть цветущего дерева, здорового и сильного, не трогает до времени его коры, так и тайный яд революций, настоянный еще по древнейшим шумерским и египетским рецептам, рецептам тайного разрушения, и в данном случае действовал безотказно; до поры до времени дерево росло, высилось и зеленело по непреложным законам природы, и только с виду нетронутая и невредимая его кора прикрывала уже изъеденное, обреченное на гибель тело, и первым признаком этого становились новые, молодые побеги, начинающие пробиваться уже от самых корней дерева, задыхающихся под землей от нехватки воздуха. Они появлялись и на самом обреченном дереве и вокруг него в самых неожиданных местах, образовывая подчас непроходимые заросли, где один побег беспощадно душил соседние. С близкой гибелью центральной, гармонизирующей все вокруг силы, в едином с виду организме все начинало идти вразнос. Вершинное проявление такого отравления неизличимым ядом проявилось в России в семнадцатом году, — в разрушении всего созданного русским народом за многие тысячелетия. Искуснейшие древоточцы типа Троцкого окончательно отравили своими смертоносными токсинами цветущее древо Российской империи, парализовав его волю и тягу к разумным устремлениям и действиям, превратили самодеятельно и активно созидающий свою неповторимую душу народ в забитое и покорное, безликое стадо, заронили в него микробы бешенства распада и самоуничтожения, — окончательные результаты этого тайного и губительного замысла во всю силу проявились только в конце кровавого и трагического для России, российской цивилизации и русского народа двадцатого века, прошедшего для человечества под зловещим знаком невозможности иного пути, кроме приоритета вседозволенного индивидуализма и растворения в нем любого народа и любой веры и личности. Старое, как это часто бывает, на время заглушило и пересилило непривычное и пугающее движение, растворило его в своих дряхлых ценностях и догматах — мощь народа обратилась в свою противоположность, в разрушение самое себя, в пустоту одичания. На какое то время восточный гений Сталина сумел уловить тревожный момент и попытался разорвать липкую паутину, но коварная болезнь уже перешла в стадию необратимости.
Леонид Ильич, так же как и его предшественники, никогда не думал и не говорил о народе в подлинном его значении, как о творческой исторической личности, — народ и для него, воспитанника своей эпохи и партии, являлся прежде всего некоей абстрактной и безликой общностью, призванной для воплощения в жизнь многочисленных и самых различных, порой взаимоисключающих решений и планов, поступающих откуда то сверху, из некоего высшего центра — иные именовали его довольно расплывчато и иностранно неким определением типа «политбюро», другие же были уверены в существовании вообще некоей высшей силы, чуть ли не божественной, а третьи — и таких было большинство — открыто и тайно были убеждены в присутствии такой силы в них самих и считали, что это именно они вершат судьбами страны и истории.
С надеждой и даже радостным страхом, что все исполнится и будет хорошо, проглотив несколько успокаивающих снотворных таблеток, Леонид Ильич закрыл глаза, постарался вспомнить, какой сегодня день, месяц и год, и не смог. Он нисколько не огорчился, лишь мелькнуло привычное, заботливое и милое лицо личной медсестры Тони — молодой женщины, теперь единственно понимавшей и жалевшей его вот и сегодня она сразу же принесла несколько запасных пилюль снотворного, едва он успел намекнуть. Да еще какого то, говорят, самого безвредного и мягкого. Что то английское, заграничное, что ли…
Он вяло попытался вспомнить название заветного спасительного лекарства, но блаженное и желанное состояние полузабытья уже подступало, действительность, надоевшая и всегда тайно пугавшая его, с ее грубостью, необходимостью все время быть подтянутым, добрым, деловым и всезнающим, окончательно отступала, лишь отвлеченно мелькнула знакомая прямая тень главы всемогущего ведомства, постепенно прибравшего все к рукам, но даже это оставило его равнодушным.
Приходили странные, порой пугающие до жути расплывчатые сны, и теперь он только слегка тревожился, что же или кто же навестит его в эту ночь и будет ли она к нему доброй и милосердной… И хорошо, что жена теперь предпочитает подольше посидеть у телевизора, а затем, стараясь ему не мешать, не разбудить, если он уже спит, ложится отдельно, — Леонид Ильич почему то успел подумать и об этом. Своими снами он не мог и не хотел делиться даже с ней — это была его тайна, его вторая и, конечно же, последняя жизнь, и принадлежала она только ему. Ни жена, ни дети, ни внуки ни при чем, здесь они такие же посторонние, как и все остальное ближайшее и жестокое окружение, заставляющее его тянуться из последних сил к какой то никому не ведомой цели.
«А вдруг случится чудо и я просто хорошо и крепко засну?» — подумал он с редкой в последние годы ясностью и определенностью мысли, и это сразу же испугало его самого, и подступавшее ощущение покоя и раскованности рассеялось и улетучилось.
Он повернулся на бок, закряхтел, закашлялся и привычно, уже не думая, протянул слабую руку, нащупал большую, чтобы нельзя было промахнуться, панель звонка. Дополнительный свет зажегся почти мгновенно, дверь беззвучно приоткрылась, и в спальню вошел дежурный генерал, подтянутый и бодрый, привычно остановился перед широкой кроватью, нелепой сейчас, когда на ней лежал один беспомощный и немощный старик, по прежнему мнящий себя главой огромного могущественнейшего государства, старик, которого, словно намеренно издеваясь, все вокруг обманывали, внушая ему, что он еще в полной силе и никто другой не может его заменить.
— Садись, Стас, — обрадовался Леонид Ильич, увидев знакомое лицо и спортивную, по молодому тренированную, несмотря на возраст, фигуру вошедшего. — Свет убавь, не надо столько…
— Хорошо, Леонид Ильич… Слушаю вас, есть распоряжения?
— Как там? — спросил, неопределенно шевельнув бровями, хозяин, но Казьмин понял.
— Все спокойно, — сказал он. — Виктория Петровна досматривает телевизор, «Время» идет. Никаких особых звонков не было.
— Сколько тебе лет, Стас? — неожиданно спросил Леонид Ильич, хотя буквально за неделю до этого сам поздравлял генерала с очередным днем рождения и преподнес ему в подарок именные часы, но Казьмин, прошедший большую и неповторимую школу и давно уже относившийся к главе государства, к этому на глазах дряхлеющему старику, как то по особому, с чувством покровительства молодого и здорового человека старому и больному, с которым в их общей жизни было много связано, все так же бодро и даже весело ответил:
— Сорок два, Леонид Ильич. Уже внуку три года.
— Сорок два… такой молодой! — почему то удивился Леонид Ильич и, тут же забыв о своих словах и о своем удивлении, оживился еще больше. — Знаешь, Стас, вот выпадет снежок, рванем с тобой в Завидово… На лыжи и за сохатым… а?
— Обязательно, Леонид Ильич! — бодро отозвался Казьмин, в душе продолжая жалеть немощного, больного, давно выпавшего из действительности старика. — Помните, в позапрошлом году, какого вы зверя взяли? Ух, красавец! Семилеток!
— Покури, Стас, — попросил Брежнев обрадованно, вспомнив, зачем именно он вызывал дежурного генерала, и еще больше повернулся на бок, готовясь к предстоящему наслаждению. — Может, я потом и засну. У тебя какие?
— «Мальборо», Леонид Ильич, — ответил Казьмин, вскрывая пачку сигарет, каким то образом уже оказавшуюся у него в руках. — Легкие, приятные…
— Ну, давай, давай, пока Витя не застукала… садись, садись…
Опустившись у изголовья на прочную дубовую банкетку, Казьмин разжег сигарету и, глубоко затянувшись, выдохнул дым прямо в лицо Брежнева, и тот, в свою очередь, стал жадно хватать его открытым ртом и втягивать в себя, в давно и безнадежно отравленные, больные легкие; в груди у него что то попискивало и поскрипывало, но глаза начинали проясняться, лицо твердело, и он скоро совсем оживился. Он шевельнулся и, как ему показалось, быстро вскочил, оделся. Лицо дежурного генерала истончилось и растаяло, и Брежнев сразу же забыл о нем. Его позвал знакомый властный голос, и он даже вздрогнул от мучительного наслаждения подчиниться силе, стократно превосходящей его собственную: пришел давно втайне ожидаемый час полного освобождения, и нужно было очиститься чем то высоким и неподкупным от скверны жизни. И он вышел в какую то странную, призрачную ночь, в пустынный город — его вел внутренний голос, и он, пробираясь из улицы в улицу, переходя площади и мыкаясь в путанице переулков, ни разу не ошибся. Правда, у него не исчезало тревожное ощущение, что за ним кто то непрерывно следил, неотступно шел шаг в шаг — кто то, не знающий ни жалости, ни сострадания, и у него во всем теле на мгновение отозвалась знакомая азартная дрожь, словно это он сам шел по следу подранка и вот вот должен был его нагнать. Зверь уже терял последние силы, метался из стороны в сторону и скоро должен был рухнуть окончательно. Сейчас этим смертельно раненным зверем был он сам, и, странно, совершенно не ощущал своей обреченности, он даже ни разу не оглянулся, хотя бы для того, чтобы насмешливо рассмеяться в глаза своему преследователю. Они оба шли к финишу, и если самому подранку уже ничего, кроме завершения, не нужно было — он уже имел в своей жизни все возможное и невозможное, то охотник из за трудной многолетней погони и сам уже давно выбился из сил, и к финишу могла добрести только его тень, да и она в этом случае тут же должна была размыться и исчезнуть, и у коварного и упорного охотника для дальнейшей жизни тоже ничего не останется — никакой радости победы он не испытает. И если раньше Брежнев не мог спокойно смотреть в глаза своему многоопытному палачу, не мог видеть без содрогания его холодное, застывшее лицо, то теперь это было ему безразлично — все таки переиграл подранок, а не выбивающийся в азарте погони охотник. И все должно было завершиться по высшей справедливости: и старому, смертельно подраненному зверю — свое, и охотнику — свое, расчеты между ними завершены, и все счета оплачены. И этот хитроумный иудей со своими очками линзами может отправляться к самому сатане, он туда давно рвется, да было все недосуг, а теперь ничего ему не поможет…
И Брежнев как то сразу и бесповоротно забыл о своем начальнике тайных сил Андропове, оказавшемся с таким глубоким тройным дном, словно отрубил, и даже ощущение опасности прошло. Его сейчас ждала более заветная и высшая цель и высший судия, и перед его лицом — Брежнев знал это всегда, знал кожей — ему и предстояло отчитаться за всю свою долгую жизнь, за все сделанное и упущенное, хотя он никогда раньше не думал, вернее, старался не думать об этом. Но сейчас все было огромно и прозрачно, сейчас пришла судная ночь, и ему все будет явлено — все начала и все пределы, и ни малейшей крупицы скрыто не будет, и он от огромности происходящего словно оцепенел.
2
Он сейчас как бы растворился во многих делах и лицах, во всем происходящем и присутствовал везде, все видел и слышал и поэтому больше всех страдал.
Положенный час пробил на Спасской башне, часы отзвонили последнюю четверть безвозвратно уходящего дня, и у дверей мавзолея сменился караул — два молодых курсанта замерли, сжимая в руках свои караульные карабины, — здесь, в самом центре страны, они сейчас были призваны олицетворять своим бдением главную мощь господствующей идеи, и вместо того, чтобы заниматься полезным и нужным для жизни делом, любить женщин, играть с детьми, работать, учиться думать и постигать, они стояли с замершими лицами, искоса поглядывая на постоянно, и далеко за полночь, толпившихся перед мавзолеем людей. Четверть часа пролетала быстро, но в этот раз они ощущали какую то странную тяжесть своих легких карабинов — их приклады нельзя было оторвать от земли, они как бы намертво прикипели к самому ядру старой площади. Но ни один из курсантов не выдал себя, даже друг перед другом, тем более что неожиданно площадь перед мавзолеем очистилась, обезлюдела, и лишь где то на противоположной ее стороне, вдоль приземистого длинного здания с широкими окнами, текла тоненькая струйка прохожих, направляясь к новой гостинице, ярко пылавшей сотнями окон. Курсанты относились к происходившему по разному — один продолжал держать свой карабин за ствол и лишь время от времени, словно не веря случившемуся, незаметно подергивал карабин вверх, пытаясь оторвать приклад от какой то захватившей его свинцовой тяжести; второй же, еще с детских лет увлеченный историей и мечтавший ликвидировать трагический разрыв в истории славянства между христианством и язычеством, почти не обращал на случившееся внимания, — в его молодой голове под форменной фуражкой кружились иные мысли, и он думал о мумии человека, вот уже несколько десятков лет выставленной на всеобщее обозрение, конечно же, без согласия самого усопшего вождя. Смерть есть величайшая из тайн бытия, никто ничего о ней не знает, и никто не вправе вторгаться в эту тайну, даже вот таким образом, как сейчас, когда это пытаются объяснить бессмертием идеи и необходимостью ее укрепления, — именно так думал честолюбивый молодой человек, и эти мысли, в свою очередь, как то болезненно и ненужно отражались в сознании самого Брежнева, и он страдальчески морщился, пытаясь их остановить…
Но курсант не сдавался и окончательно решил, что бессмертных идей нет и не может быть, что все это чушь и что придумавший эту загробную жизнь, пожалуй, просто непереносимо ненавидел покойного, хотел укрепить этим свое собственное положение и, по сути дела, жил инстинктами — в данном конкретном случае им руководил культ предков, и божественное их почитание приравнивалось им к защите самого неба.
С некоторым легким торжеством Брежнев, слышавший эти крамольные для молодого солдата мысли, поискал глазами своего вечного преследователя и, не обнаружив его, вновь стал вслушиваться и вглядываться в происходящее и с большим внутренним нетерпением ждать чего то еще более волнующего, а молодой курсант, тот самый, что мечтал об истории и университете, окончательно решил года через два три после демобилизации написать документальную работу по интересующей его теме, — и тут все выскочило у него из головы. Он хорошо видел исказившееся от ужаса лицо своего напарника, да у него и у самого словно остановилось дыхание и тело превратилось в ледяную глыбу. Из судорожно сведенных пальцев каким то образом выскользнул карабин, стукнувшись о гранитную стену и шаркнув по ней вниз. Дверь мавзолея стала медленно приоткрываться, из нее волной пахнул тепловатый специфический воздух, затем в дверном проеме сгустился и обрел вполне реальные очертания силуэт человека в кителе, с застывшим знакомым лицом, и у Брежнева от этого явления тоже оборвалось и часто застучало сердце. Не глядя на часовых, с неподвижно устремленными перед собой глазами, Сталин, вышедший из мавзолея, легким и беззвучным шагом свернул за угол, а створы двери подземного святилища, на верхней трибуне которого Брежнев не раз в течение последних двадцати лет стоял, приветствуя по праздникам народ, безмолвно сомкнулись, и курсанты, стоявшие на карауле, еще чувствуя какой то особый, не отпускающий холод, оцепенело переглянулись. Они тоже не слышали, но самой своей кожей ощущали, как грозный вождь неторопливо поднимается по гранитным ступеням на мавзолей, — часовой, выпустивший из рук карабин, дрожа всем телом, быстро подхватил его, — площадь перед мавзолеем оставалась по прежнему пустынной.
И тогда караульные курсанты, переведя дыхание и выждав, невзирая на наличие сверхчувствительной электроники, не удержавшись от искушения, пошептались об удивительном событии.
«Он, я сам видел это. Сам Сталин!» — шепнул первый, тот, что грезил об истории.
«Конечно, он, — отозвался второй, тараща округлившиеся глаза. — Только почему же из этих дверей? Сталин же лежит отдельно, помнишь, его при Хрущеве… Ну, отсюда…»
«Помню, молчи, — оборвал первый и предположил: — Наверное, там, под землей, все друг с другом связано. Это ведь очень древняя земля».
«Может, сразу доложить? — спросил второй. — А то как то жутковато…»
«Доложи, доложи — очнешься в психушке, — отрезал первый, — доложи. А я, если что, ничего не видел — так, ветер, фонари, — померещилось. Тише, молчи, он наверху стоит, я его чувствую… Через камень давит…»
«Может, тревогу дать?»
«Спятил… не трогает — и молчи… Проболтаешься, дурак, откажусь — ничего не видел, ничего не знаю», — вновь отозвался первый, и оба ощутили отяжелившую сердце и мешавшую дышать тишину, плотной волной накрывшую Красную площадь, Василия Блаженного, Москву и распространявшуюся все дальше и дальше — центр этой неживой тишины находился у них над головой и вот вот готов был проломить камень и обрушиться и на них, и на притихшего в нетерпеливом ожидании Брежнева, и на весь остальной мир.
Но ничего этого не знал и не мог знать сам Сталин, стоявший на верхней площадке мавзолея, у гранитного парапета, на своем привычном месте, — он внимательно и зорко осматривал знакомое пространство, и его сердил огромный, горящий сотнями окон белокаменный четырехугольник, вознесшийся за храмом Василия Блаженного неизвестно когда и почему. Тяжелая, словно налитая свинцом, голова отходила медленно; он ощутил чье то присутствие у себя за спиной и, не оглядываясь, уронил враждебно:
«А ты зачем пожаловал? Уж тебя то я никак не ожидал…»
«А я сам, товарищ Сталин, — не сразу отозвался Брежнев, пробравшийся на мавзолей неожиданно и для себя. — Как же я мог? Вы мой самый дорогой гость. Я должен был лично встретить… Я много лет честно стоял с вами плечом к плечу, — меня вы должны понять».
«Тебя? Вот уж действительно загадка, — сказал Сталин, внимательно присматриваясь и, видимо, в первый момент что то вспоминая. — Странно, какой то один бесконечный сон. Зачем человек так слаб, не в силах даже проснуться…»
«Да, со мной тоже так бывало, — сказал Брежнев, всматриваясь в необозримую, светящуюся в тихом перламутре, преобразившуюся площадь, безоглядно окаймленную режущими лучами бесчисленных прожекторов, уходящих далеко за пределы самой Москвы и как бы приподнимающих из провальной чаши тьмы над самой землей всю площадь с Василием Блаженным, со стрельчатыми башнями Кремля. Закрывавшее небо и раздражавшее Сталина кубическое здание, неуместное рядом с древним собором, провалилось, зато поднялся на своем старом месте храм Христа Спасителя, и не только поднялся, но как бы и утвердился над башнями Кремля с правой стороны, тускло сияя в небе всеми своими куполами, и Брежнев с беспокойством косился в сторону грозного гостя, — тот тоже боковым зрением видел в перламутровом блеске ночи мерцание широкого главного купола храма, вставшего из небытия, и всем своим видом выражал то ли недоумение, то ли мучительную радость.
Тишина стала еще глубже и ощутимее, как бы осела на резные, растревоженно заструившиеся маковки Василия Блаженного, соединившего в себе мудрую древнюю мощь азиатских пространств и энергичные устроительные устремления Европы, и тогда на площади как бы дополнительно высветился каждый истертый подошвами многих поколений булыжник, каждая песчинка стала почти осязаемой, наполнилась своей жизнью. Вопреки обычному многолетнему порядку, из за реки по мостам, обтекая собор, на площадь стали вливаться бесчисленные людские массы, заворачиваясь в крутые завитки и приподнимаясь у высокого основания храма настигающими, захлестывающими друг друга тугими валами. Первые их сгустки, плотные, взлохмаченные каким то особым ветром, с рваными, то и дело ныряющими и пропадающими стягами и транспарантами, вываливаясь на площадь, выравнивались и поворачивали лица с темными дырами ртов, забитыми застывшим ревом, в одну сторону — к мавзолею. Клейкой непрерывной массой людские потоки заполняли площадь из края в край, сливались в одну серую шероховатую массу уже на другом конце площади, но светлевшие пятна лиц по прежнему выворачивались назад, к некоему непреодолимо притягивающему их центру, и Сталин, с нечеловеческой, угнетающей его зоркостью отчетливо видел эти лица во всех подробностях… Это опять привело его в раздражение, он привык к другому масштабу, подобные мелочи всегда мешали ему сосредоточиться на главном. Он что то недовольно проворчал, из чего Брежнев с трудом понял, что сейчас главным были не отдельные лица, а давняя мечта жизни Сталина — общее движение, глубинное, ровное, неотвратимое, в котором все и вся становится лишь энергией самого движения, потому что он, Сталин, один из немногих, видел цель, знал путь ее достижения и сумел получить средство, позволяющее даже преодолеть заветный рубеж. И здесь не могло быть ни жалости, ни раскаяния, только нищий пересчитывает подаяние, трясясь над каждой копейкой, а у него в руках оказалось оружие глобальное — усилие миллионов людей, объединенных одним стремлением, одним порывом, сплоченных в целостный, невиданный доселе организм, не знающий границ, национальных различий, молящийся одному Богу — единому для всей земли будущему. И кто бы что ни говорил, именно он, Сталин, и никто другой, спас страну и ее народ от рабства и унижения.
Брежнев заметил, как Сталин слегка отодвинулся от него, по прежнему молчаливого и какого то заторможенного, правда, с большим интересом и вниманием продолжавшего наблюдать за нескончаемой, плотной человеческой лавиной, катившейся через площадь, и, подавляя ненужное сейчас чувство раздражения, сдвинул брови — ему хотелось бы постоять над площадью и Москвой в полном одиночестве, но это было бы не то ощущение, — и самый слабый посторонний отзвук был необходим душе. Безликая масса на площади была ему безразлична — такой же материал, как глина, камень, цемент; Брежнев понимал, что это был только созданный волей Сталина, одинокого и страшного человека, однородный и монолитный мир и что этот так и не разгаданный никем человек не знал иных страстей и устремлений, кроме движения к вечному идеалу равенства, братства и свободы, — другого пути к великой цели не существует, и ему действительно незачем оправдываться. Все, что о нем говорили и говорят, — ложь и чушь; именно Сталин был нужен народу и делал объективно полезное дело. Зло многомерно так же, как и добро, и не его вина, что по жизни приходится идти по колено в крови и грязи. Особенно таким, как Сталин, давший народу веру, цель, равенство в ее достижении — ему, Брежневу, вот уже много лет вознесенному по воле случая на самую вершину безграничной власти, можно себе в этом признаться. Народ — тот же дикий лес, время от времени его необходимо прореживать, подвергать санитарным рубкам, как говорят лесники, иначе он сам себя задушит и заглохнет. И сам народ отлично это понимал и понимает, и где то, потаенной стороной своего дремучего сознания, ценит и благодарит, вот только не у каждого, добравшегося до таких ослепительных высот власти, хватает на это силы воли, характера, решимости — вот что надо было бы перенять у этого могучего человека. Только как?
Брежнев невольно, сам того не желая, выдвинулся из за спины Сталина и стоял теперь с ним рядом; бесчисленные и бесконечные людские волны по прежнему катились через площадь, только движение обрело несколько иной, замедленный ритм.
Теперь и Сталин, и Брежнев узнавали знакомых, близких, родных; мелькнула фигурка женщины в грубом черном платке, матери Сталина, и вожди, прежний и нынешний, как бы слившись в одно чуткое и фантастическое существо, уловили отчужденный и отстраняющий взгляд старой женщины, привыкшей к суровой и простой жизни. И даже Сталин почувствовал в холодной и пустой груди разгорающуюся искру тепла; до сих пор он был мертвым — и ожил, и стал чувствовать по живому. Он взглянул на своего непрошеного спутника, продолжавшего стоять, оборотясь лицом к площади, и почувствовал какое то единство с ним, этим весьма смутно припоминавшимся человеком, но затем накативший приступ нечеловеческого, унижающего страха привел его в ярость, и он, от бессилия что либо изменить, с искаженным страданием и ненавистью лицом, подчиняясь чьей то чужой воле, стал вновь неотрывно смотреть на площадь, на все тот же катившийся мимо безоглядный людской поток. И оба они, стоя на самой высокой в мире трибуне, теперь опять узнавали своих родных и знакомых, и давно ушедших из жизни, и еще здравствующих. Прошла, опустив глаза, вторая жена Сталина, и он потянулся было окликнуть ее, но сдержался, и взгляд его вновь застыл и остановился, — теперь он смотрел на нее с неостывшей неприязнью за предательство — ее неожиданный уход в совершенную недосягаемость, в недоступность даже для него, и Брежнев понимал и прощал его. Прошел Киров, подняв руку в дружеском приветствии, узнали они и Лаврентия Берию, увидели и шедших рядом с ним Ворошилова, Молотова и Калинина — с этими у Сталина было не много хлопот, это были преданные ему, надежные работники, но их, тоже не выделяя в тесноте и давке, проносил мимо безликий людской поток. Затем Брежнев окаменел — он увидел самого себя, рядом с Троцким и Лениным, — они, все трое, о чем то оживленно беседовали и сразу в один миг повернулись к трибуне мавзолея и подняли руки, приветствуя застывших там своих молчаливых соратников и продолжателей, и сердца Брежнева еще раз коснулся цепенящий холод. «Знак или нет?» — подумал он, кося глазом в сторону Сталина, но тот стоял, угрюмо и безразлично насупившись, и не сразу что то невнятно пробормотал. И Брежнев понял, что судьба дарит ему редкую возможность соприкоснуться с самой вечностью, заглянуть в ее сокровенную тайну, за черту небытия. И он не удержался.
«О чем вы сейчас думаете, товарищ Сталин?» — тихо спросил он, пугаясь своей дерзости.
«Зачем? Зачем они мне сейчас? — глухо отозвался, отвечая на какие то свои мысли, Сталин. — Случись жить вторично, я бы ничего не стал менять».
«Вы совершенно правы. Я никогда никому об этом не говорил, но не думаете ли вы, что человека и его жизнь лучше всего считать пустой комедией? Ведь до трагедии она никогда не дотягивает — наша жизнь…»
Сталин повернул голову, тяжело глянул.
«Ишь ты, — сказал он неопределенно. — Да ты, видимо, не так прост, как хочешь представиться. Я всегда думал, что присутствию человека в этом прекрасном мире не хватает сущего пустяка — смысла. Как ты полагаешь?»
«Зачем же так мрачно? — опять сам себе удивляясь, сказал Брежнев. — Вы отмеченный свыше человек, у вас все по другому. Какой сегодня особый, провидческий срок — вам, единственному за всю историю, выпала участь увидеть свою жизнь еще раз — с начала и до конца… Разве не удивительно? — Тут Брежнев кивнул на бурлящую людскими водоворотами площадь. — Увидеть и еще раз все оценить. И это, пожалуй, самое главное — пусть потом судят, нарушен или нет закон равновесия… Судьи…»
«Бред, бред! — не согласился Сталин и взглянул вторично — как то пронизывающе. — Судьи? Никогда и никто не мог понять этой страны и этого народа. У края пропасти Россия всякий раз обновлялась, становилась еще более неподъемной… Ах, черт возьми, какая это невыносимая тяжесть! Посмотри, схватка с Россией опять проиграна — разве рабы могут смеяться? Они же — смеются! Над кем?»
«Да что вы! Что вы! — стал успокаивать Брежнев. — Какой смех? Все так основательно, серьезно…»
«Смеются, смеются! — повторил Сталин, теперь отчего то пропадающим шепотом, начиная хлопать себя здоровой рукой по карманам кителя. — Ты же видишь — смеются! Послушай… куда то запропастилась моя трубка, что за пакость! Невыносимо, наконец!»
«Ну ей Богу, товарищ Сталин, поверьте моему чувству, вы ошибаетесь, — стал уверять Брежнев. — Вы были, есть и навсегда останетесь светочем народной любви, отрубите мне голову… Ну, а в остальном всем нам приходится терпеть — замысел часто не совпадает с результатом… Что поделаешь, не мы первые, не мы последние…»
Уловив напряжение в лице своего грозного собеседника, Брежнев, желая несколько сгладить свои дерзкие слова, простодушно улыбнулся и слегка развел руками.
«Что ты мелешь? — грубовато поинтересовался Сталин. — Я ничего не понимаю…»
«Я говорю о космосе…»
«Ради Бога, не дури мне голову. Лучше помоги, может, моя трубка у тебя?»
«Простите, товарищ Сталин, никакой трубки у меня нет, — опять стал оправдываться Брежнев. — К сожалению, и не было. Я бы сейчас и сам с удовольствием закурил… даже в глазах ломит… Хотя дело в другом — никто никогда не мог определить, на чем зиждется закон равновесия добра и зла. Мне тут недавно толковал один головастый академик… Есть такой — Игнатов… Никак не успокоится. Говорит, на таком законе и держится миропорядок. И что сами судьи растерянны, они должны отыскать и определить свою ошибку… И они, мол, обязательно найдут».
«Судьи то — кто?» — внимательно выслушав, спросил Сталин, угрюмо обдумывая услышанное и впервые поражаясь своему терпению.
«Я тоже спрашивал, но этот заумный муж одно талдычит — это, мол, никому не может быть известно, — пожал толстыми плечами Брежнев. — Одно твердит: мол, судьи зашли в тупик, и все тебе. Но они, мол, должны в конце концов обнаружить свой просчет, иначе разум будет обречен. Нет, нет, недолюбливаю я этих академиков! — внезапно подосадовал он. — Так тебе мозги закренделят! Потом их и за год не раскрутишь!»
«Мне не хватило каких нибудь десяти лет, — пожаловался и Сталин. — Я бы их всех привел в чувство… Ты ведь знаешь, меня убили… Вот я гадаю уже сколько времени — кто? Кто?» — повысил он голос, и в его глазах, метнувшихся к собеседнику, вспыхнула ненависть. И тут же погасла — своим зорким восточным оком он выхватил из проползавшего мимо человеческого месива своего старшего сына Якова, с иссохшим до черноты лицом, в тот же момент и сын Яков повернул голову в сторону мавзолея, и оба они, отец и сын, не знали, что можно было друг другу сказать, хотя оба они и понимали, что встретились не случайно, и даже Брежнев, с необычайно обострившимся чувством восприятия происходящего, несколько озадачился — какой бы там сын ни был, все же своя кровь и плоть, свое имя. И все дальнейшее в этой встрече разворачивалось для него как нечто неприятное и ненужное, но он не мог ничего поделать, не мог даже отвернуться — кто то словно приковал его к месту, даже растворил в самом Сталине, и он стал думать и чувствовать, как сам Сталин. Все в жизни случается, думал он, даже такое вот дело, и то, что они оказались отцом и сыном, действительно было нелепым стечением обстоятельств, и раз уж так случилось, то и их нынешняя встреча посередине ночной Москвы, очевидно, ни к чему не обязывала. Но почему? Из всего совершенного за одну короткую человеческую жизнь для самого Сталина происходящее сейчас было чем то невесомым, мимолетным — слабая, чахлая травинка среди навороченных до поднебесья гор…
Сталин подумал об этом и нахмурился, в его лице опять проступило раздражение. Кто то, кому он не мог противостоять, напоминал ему о чем то давно забытом и ненужном, запрещенном даже для памяти, и от бессилия что либо изменить и, главное, от старания не выдать своей ярости здесь, на виду у народа, лицо Сталина покрылось неровными темными пятнами. Он собрал всю свою волю, пытаясь остановить или хотя бы придать происходящему иной ход, и от неимоверного усилия обмяк, привалился плечом к неподатливому плечу Брежнева, и тот словно окончательно слился с сутью и даже плотью своего учителя и старшего товарища. И Сталин ничего больше не мог ни увидеть, ни сделать самостоятельно, даже приподнять руку, — сын Яков теперь шел прямо к нему сквозь расступавшуюся перед ним людскую массу; кто то невидимый бесшумно, без всякого усилия раздвигал или, скорее, разрезал перед ним узкий, тотчас заплывавший после него проход. Поднявшись на трибуну, Яков остановился перед отцом, и тот скользнул взглядом по лицу сына и рыжим, выцветшим от времени пятнам крови, проступившим на его одежде, напоминавшей широкий балахон, — теперь отец мог представить, как все было у сына в последнюю минуту, — потеки давно высохшей крови бесформенными следами распространялись по груди, наползали на живот. Стреляли наверняка, долго мучиться Якову не пришлось. Но незачем было и встречаться — ничего нового они сказать друг другу не могли, и потом, отцу была неприятна откровенная, радостная, почти ликующая любовь сына, светившаяся в его глазах, ставших мягко обволакивающими, озаренными. Не выдержав, Сталин резко спросил:
«Зачем ты пришел? Зачем? — повысил он голос и, закипая давним чувством гнева, стукнул кулаком по гранитному парапету. — Лучше бы тебе не приходить!»
«Я знаю, — отозвался сын молодым, чистым голосом, по прежнему с трудом скрывая радость от встречи. — Просто я не мог удержаться, ведь мы не встречались так давно… Что же в этом плохого? Прости, отец, я ничего не мог изменить, мою жизнь всегда вела чужая воля. Я знаю, ты меня все таки по своему любил… потому и расплатился мною за все содеянное. И я тебе не судья — ты так смотришь… Все уже прошло — не надо. Там было невыносимо, — неожиданно пожаловался он, вспоминая серое чужое небо, чувство обреченности в ожидании самой последней минуты, когда немцам наконец надоест уговаривать и убеждать, и невыносимо тихая улыбка осветила его лицо. — Мне так хотелось жить… но это тоже прошло».
И тогда раздражение у Сталина сменилось тоской — безысходной и глубокой.
«Жить, — глухо, как эхо, повторил он слово, ставшее всеобъемлющим и страшным. — А что она такое — жизнь? Никто этого никогда не узнает, ведь каждому приходится умирать…»
«Жизнь больше смерти, — возразил сын, неожиданно смело и независимо, подчеркивая равенство между ними, и отец почувствовал это. — В жизни у каждого своя судьба, свой путь, в смерти же все равны. Жизнь, отец, больше смерти».
Сдерживаясь, обдумывая услышанное, Сталин долго молчал, не отрывая глаз, ставших пронзительными, какими то ищущими, от худого лица сына, слова которого о равенстве в смерти всех и каждого ему не понравились; собственно, встречаться им было уже поздно, подумал он, поздно и незачем, они и раньше никогда не были открытыми друг для друга и даже сейчас оставались далекими и чужими людьми. И сын, словно почувствовав, уже собирался повернуться и уходить.
«Погоди, — глухо попросил Сталин. — Подойди ближе…»
Сын послушно сдвинулся с места, шагнул вперед, и отец здоровой рукой неуверенно пощупал еле заметные неровности в одежде, залипшие от старой крови, — следы от пуль…
«Тебе было очень больно?» — спросил он осевшим голосом, ищуще заглядывая в лицо сыну и находя в нем только самому ему что то знакомое и необходимое.
«Я не помню, кажется, нет, — беспечно ответил сын. — Так быстро все… А затем тишина, покой, почти счастье… Ты не бери в душу, ты ни в чем не виноват».
«Иди», — с видимым усилием уронил Сталин, и хотя главное от встречи с сыном еще не вызрело и не прояснилось, сына уже не было, его унес все тот же катившийся во всю ширину площади людской поток. Перед мавзолеем опять кипело людское море незнакомых, как бы с обожанием вывернутых в его сторону лиц, но в его собственных глазах стыла тоска и безразличие.
«Все, все прошло!» — негромко, почти неслышно произнес он, но Брежнев услышал и очень оживился — тоска Сталина подтверждала не только его собственные мысли, но и какое то его собственное освобождение.
«Да, товарищ Сталин, — подтвердил он, находя особые, несвойственные себе слова и втайне радуясь этому. — Коммунистам всегда было трудно, однако никто из них никогда не кричал на пустых дорогах и площадях… Это нехорошо, этого никак нельзя», — посоветовал он уже как старший, проживший большую жизнь и познавший больше, и эти его предостерегающие короткие слова озадачили Сталина. — Да, да, товарищ Сталин, никакой это не суд, всего лишь свет пришел…»
И Сталин, подавшись вперед, застыл. Он увидел себя лежащим в одних толстых носках и в пижаме у себя в столовой на даче, голова у него была неловко вывернута, в полуоткрытых глазах копилась влага и ужас, и он натужно хрипел. Какие то лица, полустертые, тяжкие, мельтешили над ним. Видел это и Брежнев, и сердце его заходилось от неизъяснимого чувства ожидания: Сталин не мог двинуть ни рукой, ни ногой и, попытавшись внутренне сосредоточиться, уже не обращал внимания на немыслимое унижение и хотел кого нибудь из проплывавших мимо в разреженной сероватой мгле позвать и приказать ему остановить происходящее. Этот кто нибудь был в круглых очках и с большими сизыми ушами, но он лишь приблизился, замахал неправдоподобно большими ушами и в нетерпеливом ожидании заглянул в ледяные, неподвижные, страдающие глаза Сталина, и тогда Сталин, а вместе с ним и Брежнев, все поняли. И тут же послышались доставляющие страдание, но усыпляющие и даже дарующие темное наслаждение слова, звучавшие как бы в них самих и возвестившие об истине. «Примите сущее, — послышался гулкий и вечный голос. — Примите сущее отныне и во веки веков, и ядите: сие есть тело Мое, и пейте из чаши сей, пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя, за многих изливаемая во оставление грехов. И да не минет никого чаша сия… аминь».
И тогда у Сталина вырвался долгий крик и словно пробудил его — он как бы вздрогнул и опомнился, затем коротким взмахом руки, отозвавшимся радостным ожиданием во всем его существе, на одно мгновение остановил движение на площади, уходящей в беспредельность, — плотная, послушная масса народа тотчас всколыхнулась и потекла в обратную сторону. Лишь на какой то короткий миг заставив Брежнева отшатнуться, эта людская масса взбучилась, схлестнулась встречными крутыми потоками, затем опала и ровно, упорядоченно устремилась теперь уже от гостиницы «Москва» к мосту, обтекая красноватую громаду Исторического музея. И это было уже другое движение и другой его состав. На площадь теперь выкатывались человеческие скопища с лопатами, ломами, топорами в руках; мешая друг другу, толпы людей толкали перед собой тачки и вагонетки; исхудалые до костей, с провалившимися глазами, они двигались плотной, спрессованной массой, и нельзя было понять, двигались ли они или просто тяжко копошились на одном и том же месте. Просто в берегах площади взбухало и пузырилось густое человеческое тесто — в этом сплошном вязком месиве живыми оставались одни лишь смеющиеся лица и глаза. Теперь и Брежнев с мистическим ужасом видел, что вся площадь смеялась — слитный, все поглощающий гулкий звук безбрежного, раскатистого смеха нависал над Кремлем, над Москвой, над всей землей, и от этого волосы на голове Брежнева встали дыбом. Ища объяснения и защиты, он обернулся к Сталину и тут же вновь отшатнулся — оскалившись и приподняв усы, Сталин громко хохотал.
«Нет, нет! — воскликнул он с дикой удалью, и глаза его бешено сверкнули. — Это же вулкан! Разбуженный вулкан! С ним никогда никому не справиться! Сама первозданная стихия! Ты только послушай, какой божественный гул! Музыка самих небес! Последний судный день — какой же дирижер здесь нужен!»
И он, торопливым жестом остановив хотевшего что то сказать Брежнева, вновь повернулся к площади — перед ним сейчас разворачивалась вторая, обычно погруженная во тьму ипостась жизни, и Брежнев видел, что эта потаенная сторона жизни ему ближе и нужнее — именно она еще раз подтверждала его путь, его борьбу и его правоту. И корни этого движения уходили в изначальные истоки человеческого рода — перед мавзолеем проползала сейчас оборотная сторона всего сущего, в пороках, в темных и тайных, нерассуждающих порывах плоти, залитая кровью, озаренная и сжигаемая ненавистью. И Сталин вновь обернулся к своему потрясенному случайному спутнику — даже ему, мыслящему эпохами, потребовалось нечто конкретное и понятное. И хотя Сталин сейчас ничего не говорил, Брежнев услышал его тихий размеренный голос, голос человека, привыкшего, чтобы к нему всегда, в любых обстоятельствах, прислушивались, и в этом голосе пробивалась потаенная жгучая радость, и в то же время звучало в нем почти страдание от осознания вновь открывшейся истины.
«Нет, нет, к врагам необходимо прислушиваться прежде всего. И намного внимательнее, чем к друзьям. Тем более что на такой высоте никаких друзей не бывает и быть не может. Все это иудейская чушь — друзья и соратники, — просто ловкая маскировка. Нет, нет, дорогие мои, я всего лишь продолжил начатое, я не мог иначе, должно было дать исход возникшему движению, погасить ненужную инерцию старого, и дело здесь не во мне, а в самой природе человека, в самой природе революции, — сам я долгое время вынужден был оставаться только слепым исполнителем… Но беспощадным! А он, он, с волею и памятью которого приходилось и приходится бороться вот уже несколько десятилетий, который лежит сейчас здесь, внизу, закованный в гранит, тоже ведь ничего не мог… И не смог никогда! И никто никогда не сможет! Ход жизни сильнее любого отдельно взятого человека, даже если он гений, и тот же давний странник, с которым ему пришлось столкнуться в Сибири много лет назад и имя которого он забыл, был прав в своих сумасшедших откровениях — природа человека оказалась сильнее природы революции. И смерть есть смерть, сколько бы поколений живых ни приходило к стеклянному гробу взглянуть на иссохшую мумию, никакого символа из этого не получится. Живой никогда не сможет поверить мертвому, и он именно для этого и положен здесь, внизу, в самом людном в Москве месте. Мертвых богов не бывает, недаром тысячелетиями держится вера лишь в живых богов, и в этом убедить народ было необходимо. Следовало бы высечь на этой глыбе гранита еще одну надпись: «Поклоняйтесь живым!» И это открытие, сделанное именно им, Сталиным, больше и неопровержимее, он ведь и сам логикой борьбы был поставлен перед необходимостью попытаться переделать саму природу человека».
Странный, неизвестно откуда исходивший голос стал слабеть и отдаляться и скоро совсем затих, и Брежнев пожаловался:
«Я совершенно ничего не понимаю. Мы всего лишь ваши ученики и последователи… Нам то как быть?»
«А ты всмотрись внимательнее, — посоветовал Сталин. — Здесь же и объяснять ничего не надо. Смотри, смотри и слушай этот вселенский смех».
Они опять застыли у гранитного парапета, подпадая под магическую власть происходящего, — перед ними проходили сотни, тысячи, десятки и сотни тысяч раздетых донага и расстрелянных от Петрограда до Магадана в подвалах и застенках Чека; шли студенты, гимназисты, профессора и священники, артисты и литераторы, офицеры и юнкера, шли дети и матери, старики и внуки, девочки и безусые мальчишки, ползла плоть народа; шли соловецкие лагеря с их подразделениями, словно разверзлась братская могила старой русской интеллигенции, наконец то отыскавшей свою запредельную истину… и теперь восторженно оравшей:
«Свобода! Свобода! Свобода!»
Они шли с раздробленными затылками и переломанными в пытках руками и ногами, с перебитыми позвоночниками, с вывороченными суставами, и в глазах у них сияло безумие восторга от свершенного ими — они не могли идти, но сейчас шли, и на лицах у них стыла маска гомерического смеха от апокалипсического чувства, что они все таки перевернули мир…
Шли дрогнувшие в боях со своими же братьями и отцами полки красных бойцов, беспощадно расстрелянные по приказу самого гения русской революции — Лейбы Троцкого, всегда, до самого своего конца, со смертной праведностью ненавидящего Россию и ее суть, — этот всемирный иудей, скрывающий свою подлинную палаческую суть под маской интернационалиста и живущий и действующий только по свирепо нелепому закону Талмуда, всеми правдами и неправдами старался внедрить свою веру и свой закон прежде всего на немереных пространствах России, — где нибудь в Англии или Швейцарии он об этом и думать не смел.
Шли ремесленники и купцы, князья и крестьяне, шли рабочие и беспощадно уничтоженные пленные белых армий. И среди необозримых масс русских, сливаясь с ними, шли грузины и поляки, немцы и латыши, финны и китайцы — в смерти они обретали наконец нужное единство, сливались в один необходимый для новой веры народ. И все они, казалось, безудержно смеялись, заражая друг друга своим необъяснимым весельем, и это становилось невыносимым…
Первая волна, сцементированная революцией, ставшая фундаментом следующего разворота событий по воле самого Сталина, уже прокатилась, и тогда хлынула, заполняя площадь, серая крестьянская Русь, немая и безоглядная, даже сейчас страшная в своей горючей немоте и видимости покорности. «Господи, отелись!» — взывали одурманенные пророки, вовлеченные в неудержимую бесовскую пляску всемирных блудниц, и их дикие вопли эхом отзывались в самых отдаленных тундрах и весях России: шли восставшие из вечной мерзлоты Магадана и Колымы, с ладонями, вросшими в рукоятки кайл, в ломы и заступы, шли спецподразделения, пробивавшие туннель под Татарским проливом и соединившие славный остров Сахалин с материком. Над древней площадью сгустились сейчас призраки прошлого, разбуженные происходящим, — булыжник, покрывавший пространство площади, крошился под размеренной и тяжкой поступью миллионов, сама площадь прогибалась и проседала, и мавзолей, казалось, сдвинулся с места, словно тот, кто лежал в нем, силился и не мог встать, и от его нечеловеческих усилий взглянуть на дело рук своих ходуном ходили гранитные плиты. Все повторялось в мире, все вновь выходило на круги своя. Над площадью плыли портреты — Сталин только сейчас обратил на них внимание. Они не были похожи на него, в холодном их облике не было ни страсти, ни страдания — утяжеленное, штампованное, раз и навсегда застывшее лицо; Брежнев даже поразился, как все эти многочисленные изображения удручающе одинаковы, и, взглянув на подлинник, находившийся рядом, вздрогнул, столкнувшись с горячим, отстраняющим взглядом, хотя вслед за тем странная растерянная улыбка раздвинула вялые старческие губы прославленного вождя.
«Не там ищешь, — пробормотал он, иронически щурясь. — Думаешь, я — Сталин? Гляди, — приказал он, протягивая руку и указывая на свой проплывающий мимо величественно внушительный портрет. — Вот он — Сталин, другого не придумаешь. Другого нет и никогда не было. И не будет! Но почему опять хохот над площадью? Мне что то не по себе, взгляни, ради Бога, я ничего не понимаю…»
Какая то судорога вновь передернула его лицо — боль земного слабого человека, прожившего чужую жизнь, да еще и не под своим именем. Но он не опустил глаз — сутулая фигура Горького, текущая мимо, маскирующаяся под самую злобную рвань и нищету, а вернее, под бесплодный и бездарный русский нигилизм, привлекла его внимание. Знаменитый писатель, в окружении своих босяков, сифилитиков, проституток, спившихся купцов и заводчиков, с красным пролетарским знаменем в руках, приветствуя вождей, вздернул древко знамени еще выше, растрепанные его усы приподнялись в рабочей улыбке.
«Скажешь, этот тоже ошибался? — спросил Сталин уже как то совсем по свойски. — Или лицемерил? Этому то зачем? Или, как скажут потом, тоже сломали, опять, мол, стрелочник, то есть я, виноват? Мол, за язык тянул, угрожал?»
«Не знаю, — честно признался Брежнев. — Разве он один? Таких хоть пруд пруди. Я с такими, товарищ Сталин, тоже намучился, мы одного такого за границу выставили, так он там вселенскую вонь развел, чуть ли не весь мир удушил своим смрадом. Обиженного из себя корчил, был преисполнен ненависти, и опять же почему то именно к русскому народу. Всю жизнь рвался к самому страшному — к духовной диктатуре. Недалеко ушел от своего учителя — того же пролетарского писателя Максима Горького…»
Глядевший на своего собеседника с некоторым удивлением, Сталин спросил:
«А зачем же было выпускать? Вот уж не по государственному. Весьма неразумно. Есть и другие пути заставить работать на благо общества и государства, впрямую со злом работать никак невозможно, да и незачем».
«Время, время изменилось, товарищ Сталин, — пожаловался Брежнев. — Паршивое стало время, люди совсем измельчали, какое это стало нехорошее время! И потом… появился один в очках — всю жизнь стоит за спиной, дышит и дышит в затылок! Сущая паутина, все вокруг оплел, шагу никуда не ступишь…»
Сталин задумчиво пожевал губами, потрогал усы, ему тоже всю жизнь было знакомо нечто подобное: все время кто то ждущий за спиной. Чего ждущий?
Сталин коротко и зло усмехнулся.
«Таких тихих хищников надо вымораживать как тараканов, — сказал он. — На одно зло всегда найдется другое, еще более сильное, а то и более подлое зло и поглотит первое».
«А потом?»
«Так до бесконечности, — сказал Сталин равнодушно, как нечто давно для себя решенное и выстраданное. — Это и есть способ и возможность управлять даже взбесившимся миром. Никакой особой тайны, подавлять зло тем же злом — вот истина. Так устроена природа человеческая…»
«Истина, истина, — проворчал Брежнев. — Истина в наших детях, какие мы — такие и наши дети…»
«Это ты к чему?» — подозрительно шевельнулся Сталин, и его собеседнику от беспощадного рысьего взгляда, прожегшего насквозь, стало совсем неуютно, но он не испугался, лишь холодно вздрогнул.
«Ваша любимая дочь тоже переметнулась за кордон, ее даже этот цепной пес Андропов не смог раскусить — хе хе, проморгал, — быстро, с неожиданной легкостью выпалил Брежнев. — Вот я к чему… Да и что было можно с ней сделать?»
И тут он попятился, или, вернее, его словно кто оттолкнул.
«И ты, столько лет стоявший у кормила государства, еще и спрашиваешь? — не стал сдерживать своего бешенства Сталин. — Чего же ты стоишь? Ломаной копейки не стоишь! Тебя самого нужно было к стенке, такую слизь! Да ты знаешь, мудак, что в схватке за власть не бывает ни близких, ни родных? И дочерей с сыновьями тоже не бывает! Это государственная измена, надо было оторвать ей голову и выбросить на помойку собакам!»
«Товарищ Сталин, да что вы такое говорите? Это же ваша единственная дочь! Влюбленная женщина…»
«Молчать! — угрожающе повысил голос Сталин, и какой то гортанный раскат повис над Кремлем и Москвой. — Женщине нечего делать в политике, пусть занимается своим истинным делом — рожает детей! Вот ее задача! Да и как это при такой службе безопасности не удержать бабу, будь она хоть и царского роду? Кто у вас возглавлял ЧК? Да его на месте расстрелять надо!»
«Ну, вот так получилось, не смогли пресечь…»
«Не смогли или не захотели? — вновь загремел голос Сталина. — Опозорить меня захотели, а заодно и советскую власть?»
«Вот уж никогда бы так не смог повернуть дело, — растерялся Брежнев. — Неужели кто либо мог строить такие коварные планы? Вот уж никогда бы не смог…»
«А что ты вообще смог, старый остолоп и бабник? — сказал Сталин, и на лице у него появилось выражение ни с чем не сравнимой брезгливости. — Пропала держава… все разворовали, к такой матери!»
«Товарищ Сталин, я просил бы вас не употреблять…»
«Помолчи!» — коротко приказал Сталин, пораженный новыми обстоятельствами. Он увидел себя, Ленина и Троцкого в центре площади, в самой гущине человеческого месива. Они двигались рядом, спрессованные толпой, Брежнев увидел рядом с ними и себя и стал протирать глаза, а затем испугался, подумав, что он уже тоже умер, а значит, ничего страшного больше не будет и можно ничего и никого не бояться. Но Ленин почему то стал грозить именно Брежневу и махать на него рукой; Сталин же покосился, ничего не сказал и вновь стал рыться в карманах, отыскивая свою трубку.
«Вы его так ненавидели, товарищ Сталин? — спросил Брежнев, подсовываясь поближе. — Хотя, простите, какое мне дело… Все мы кого нибудь ненавидим…»
«Нет, нет, здесь совсем другое, — ответил Сталин с готовностью, не обращая внимания на энергически взмахивающего своим кулачком Владимира Ильича. — Зачем победителю ненавидеть побежденного? Все знают, он считал себя всеведущим, хотя никогда им не был. Если он начинал сомневаться, сразу же впадал в крайность, мог даже заявить, как однажды, что мы проиграли революцию. И потом, его ошибки слишком огромны, чтобы считать его святым. Это всегда в нем поражало, хотя я не разрешал себе ни разу даже усомниться — революционной беспощадности мы все учились именно у него. Он попросил у меня однажды яду, даже умереть хотел на котурнах. Кто же знал, что мы имеем дело с маниакальной идеей собственного величия? А ведь потом было уже поздно, разрушительные идеи, зарождаясь, проходят определенный путь развития — вокруг их вдохновителей собирается огромное число ненависти, грязи, подлости, — я сам не сразу понял истину, что победить зло можно только злом…»
«Понятно, на вашу долю выпал самый пик, — с готовностью подтвердил Брежнев. — Только не надо поспешных выводов, судьи еще не высказались».
Новая волна, хлынувшая на площадь, выдавила предыдущую за пределы, за храм Василия Блаженного, и они больше не видели ни себя самих, ни Владимира Ильича, ни Лейбу Троцкого, — все они тоже оказались лишь слабым бликом во тьме времен. Правда, сами они вдвоем, Сталин и Брежнев, представляли страдательную, мученическую сторону жизни и потому еще больше укрепились духом. Им предстояло узнать еще многое, выпить чашу предательства, самим во сто крат больше предать и выдержать и позор начала войны, когда союзники по пакту оказались враждующими сторонами и поняли, что слишком похожи и не смогут уместиться рядом даже на двух солидных материках.
«А нам больше и незачем торопиться, — неожиданно сказал Брежнев. — Какое нам дело до каких то судий? Что за чепуха! Поедем лучше ко мне, потратим немного времени, будет еще одна любопытная встреча… Угощу на славу… Это за городом, почти рядом с вашей старой резиденцией…»
«К черту встречу! Начинаешь мне приказывать? — вырвалось у Сталина. — Лепечешь, лепечешь… Никого больше не хочу видеть!»
«Простите, но я тоже кое чего добился после вас, — обиделся Брежнев, чувствуя непривычно странную, почти пронзительную свежесть головы. — Вы можете меня не слушать, но почему же и не поинтересоваться? Правильно, по вашим следам все и шли. Вы хорошо усвоили гениальный урок, и я с вами согласен: главное — не давать никому опомниться, вызвать в едином организме противоборствующие силы и столкнуть их. Прием весьма однообразен и даже примитивен, но что поделаешь, не мы же с вами создали природу человека. А вот у меня в этом отношении ничего не получилось…»
«Вижу, что ты так ничего и не понял, — безнадежно вздохнул Сталин. — Только зря тратил на тебя время…»
«Почему же не понял? — усомнился Брежнев, подзуживаемый каким то бесом противоречия. — Вы решили довести до конца заветы своих учителей, утвердить новую веру и ошиблись в высшем законе космоса: еще ни один разрушитель не смог удержать в своих руках ход событий, такова природа самой жизни…»
«Это я-то разрушитель? — иронически и очень спокойно переспросил Сталин. — Я, воссоздавший Российскую империю чуть ли не николаевских времен? Я, вернувший все, что промотал Ленин, и даже больше? Ну, говори, говори дальше…»
«Вы всего лишь счастливый баловень истории, — сказал Брежнев с некоторой завистью, начиная чувствовать непереносимую, щемящую во всех изболевшихся костях тоску. — Она ведь часто вверяет себя не тому… Хотя я знаю, о чем вы думаете… Не надо нам ссориться, зачем? Я знаю, вы не раз отказывались от власти, а затем все же давали себя уговорить… Тоже старый, испытанный еще задолго до пришествия Христова прием. Сила власти непреодолима, от власти может отказаться только психически больной, тот же русский юродивый… Мы связаны одной веревочкой, и всем нам отвечать перед высшим судом. Все наши различия исчезнут, а общее — останется…»
«Ишь ты! Мудрствуешь? Значит, всем одинаково? — с какой то холодной иронией поинтересовался Сталин. — Значит, я, разрушая, объективно создавал гораздо больше, а значит, и двигался вперед, а ты, допустим, создавая непрерывно, все непрерывно подтачивал, и нам с тобой — одинаково? Ну, хорошо, допустим и такое… А он? — с неожиданной ненавистью спросил Сталин, тяжело топая в камень. — Он — чистый и непорочный, другие в крови, а он в горних высотах? Эта политическая блядь вместе со своим международным кодлом? Это справедливо? Не лицемерь, даже если это твоя икона! Попытаться встать над человечеством, высасывая из собственного пальца различные химерические идеи и теории, а всю черную, тягловую работу свалить на других, откинуть весь опыт тысячелетий, отринуть самое природу человека, заставить его жить вопреки законам самой материи, самого космоса — разве это не проституция, не преступление? И главное, во имя чего? Чтобы жирели и размножались в мире всякие Лейбы? Чтобы им отдать власть над миром навсегда и бесповоротно? А по какому праву? Значит, даже лжепророк всегда прав, и виноват только рабочий вол? Хотя сам он разве смог удержать контроль над событиями, несмотря на все свое человеческое и политическое блядство?»
«Вы же знаете, в этом всегда особый счет, — сказал Брежнев, по прежнему движимый сейчас какой то слепой силой и защищая прежде всего самого себя. — Здесь другое — никто не волен в своем предназначении… На него упал тяжкий жребий начала. Разве можно вменять человеку в вину сам факт рождения? Мне думается, каждому будет определено самой точной мерой, и ему тоже: пытка светом предстоит каждому. Только никто из нас уже не узнает об этом…»
«Вот здесь ты, пожалуй, прав, — согласился Сталин. — И это очень досадно. То, ради чего и приходит человек, остается для него за семью замками. В чем же тогда свет и справедливость?»
«Но ведь он тоже ничего не узнает о себе…»
«Тогда в чем же смысл?»
Брежнев беспомощно вздернул плечи, и тут бледное сияние над Красной площадью стало меркнуть и вскоре в безоблачном черном небе стали проступать острые пики кремлевских башен и маковки храмов.
3
И он перенесся на просторную, ярко освещенную правительственную дачу. Был вечер, и было оживленно и людно. К проходной то и дело подкатывали большие черные машины, важно замедляли ход и плавно останавливались. Но иные из них сразу же проскакивали в ворота дальше, к самому парадному входу, из других же люди выходили у ворот и следовали дальше пешком. И сам Брежнев все это каким то особым образом видел и за всем пристально наблюдал, словно стоял на какой то высоте или на специальной вышке, плавающей в сплошном тумане, время от времени разрываемом ветром. «Странно, странно, — думал он, стараясь понять, где он находится и что это вокруг него происходит. — Никак не могу вспомнить… А впрочем…»
Двухэтажная дача ярко светилась всеми окнами, обслуживающий персонал четко и слаженно занимался своими обязанностями. Главное происходило в большом продолговатом зале на первом этаже с рядами кресел вдоль стен, с огромным и длинным овальным столом — посередине этого роскошного стола стояла большая корзина черных свежих роз, источавших едва уловимый, слегка горьковатый запах. И как неожиданно оказалось, стол возглавлял он сам, Брежнев; несмотря на умение собраться на людях и показать, что он еще не так стар и дряхл, чтобы уходить в сторону и уступить место другому, у него сейчас было изношенное, дряблое и больное лицо с густо кустившимися бровями, в котором проступали все пороки, весь разврат его долгой лицемерной жизни, и он, опять таки каким то странным и непонятным образом, видел все это со стороны и страдал и, несмотря на всю свою власть, никак не мог этого прервать и остановить. Правда, скоро он приободрился: сам он никогда не считал свою жизнь безнравственной, наоборот. Он и сам знал, да и все его окружающие уверяли, что вся его жизнь и деятельность настоящего ленинца являет нравственный и патриотический пример и подвиг, и если бы кто то осмелился указать на его якобы безнравственность и лицемерие, он был бы сейчас сильно удивлен, обижен и рассержен. Так уж складывалась система, и здесь ничего не поделаешь. Право высшей власти есть особое право, продолжали течь в голове Брежнева тягучие, спотыкающиеся мысли, и только враги советской власти и партии могут говорить о какой то там безнравственности верхов и их порочности и вредности для жизни. Все, что делалось и делается наверху, всегда одобряется и приветствуется советским народом, якобы одурманенным водкой, тяжелой, каторжной работой, вроде бы низко и недостаточно оплачиваемой и поэтому якобы породившей всеобщее повальное воровство. «Чепуха, чепуха, — говорил себе он. — Наоборот, у нас хороший, сознательный народ, если надо, горы своротит, моря новые создаст, такого народа нигде больше нет и не будет, и не надо слушать врагов и всяческих отщепенцев и прихвостней, — жизнь прошла недаром, и об этом еще обязательно скажут, это еще будет отмечено и засвидетельствовано в истории».
И он еще больше приосанился от таких хороших и приятных мыслей, и хотя так и не мог понять, почему он сидит во главе стола, почти уже отсутствующий в большой и реальной жизни (это он тоже как то смутно и урывками осознавал), он все таки радовался своему положению, и даже понимал и чувствовал, что с ним сейчас происходит нечто возвышенное, не совсем обычное. У него на груди сияло созвездие из пяти золотых звезд, на галстуке красовался алмазный, миллионной стоимости, орден за победу в войне, и он порой ощущал на себе бросаемые украдкой чьи то неодобрительные взгляды. Перед ним теперь плыли и клубились прямо таки заманчивые, усыпляющие сны, и в них невозможно было отличить бред от истины, и другой стороной своего угасающего сознания он понимал и это, только как то очень уж отдаленно и смутно. А между тем события разворачивались дальше. Всматриваясь в казавшиеся одинаковыми лица за столом, Брежнев пытался припомнить совсем почти стершихся из памяти людей, — не смог и невольно рассердился, повернулся к генералу, стоявшему у него за спинкой кресла, хотел о чем то спросить, и тот было почтительно наклонился, но Брежнев уже забыл о своем желании.
Рядом с ним сидел Устинов, хотя ему положено было по установленному, незыблемому порядку сидеть за столом дальше, человека через три; чей то досадный недосмотр опять рассердил главу государства, — с проснувшейся тревогой он, из под нависших бровей, раз и второй ощупал Устинова взглядом, раздумывая, отчего бы это он так подозрительно близко придвинулся и не пора ли с ленинской прямотой указать ему его законное место. Знаем мы эти родственные штучки, в раздражении сказал себе Брежнев, жены женами, а спать, хе хе, все равно врозь, власть — дама весьма и весьма капризная, не успеешь моргнуть — переметнется…
От непривычного мыслительного усилия перед Леонидом Ильчом опять все поплыло. Мелькнула мысль о достойном завершении большой, трудной и славной жизни, он прижмурился, скрывая глаза, чтобы не было видно подступивших слез, и, уже приготовляясь к предстоящему, еще больше вжался в спинку кресла. Вызванный им самим восторженный старческий, даже мистический озноб ободрил его, и он вновь задорно уставился на Устинова, по прежнему не понимая, как тот оказался не на своем месте, и тотчас, к облегчению уже самого Устинова, начавшего тревожиться из за непонятных взглядов Леонида Ильича, случилась новая перемена. Внимание генсека отвлек человек с совершенно лысым крупным черепом, сидевший на другом конце стола, и опять Брежнев не удивился, хотя без труда узнал Хрущева. Но сразу же его недоумение лишь усилилось — через стул от Никиты Сергеевича примостился хмурый, явно чем то недовольный Маленков, а возле него — сам Молотов, а дальше…
Подобравшись, Брежнев тяжело потянулся к генералу и невнятно спросил:
«Где мы?»
«На загородном правительственном приеме, Леонид Ильич, — тотчас с готовностью пояснил генерал, привычно наклоняясь к уху хозяина. — Вы сами назначили на сегодня, все по именным приглашениям — ни одного постороннего лица.
«Хм, а по какому случаю?»
«В честь очередного перекрытия великой реки Волги…»
Подняв брови выше, Брежнев, однако, ничего не сказал; стол теперь был заполнен, сидели хоть и в креслах, но тесновато, почти все лица казались знакомыми, только точно определить было невозможно. Чуть наискосок от Никиты Сергеевича сидел, кажется, Михаил Андреевич, — сосредоточенный и сухой, как таранка, он почему то перекладывал из гнезда в гнездо крупные бриллианты в изящной, инкрустированной перламутром шкатулке из черного дерева, при этом самые любимые он, наслаждаясь, подносил ближе к глазам, и взгляд его, словно на трибуне во время ответственных моментов, исступленно загорался, — Брежнев шевельнулся, хотел спросить дежурного генерала, почему это Михаил Андреевич, уже год назад как умерший, находится здесь, но передумал. А может, тот еще и не умирал, решил он и еще больше ободрился. Коллекционируя, как истинный мужчина, легковые автомобили и охотничьи ружья, он снисходительно относился к слабостям своего старого и верного друга, и, вновь про себя усмехнувшись, сосредоточил внимание на соседе Суслова, с высокомерным научным лицом, — это был один из умнейших людей в государстве, поэт и главный охранитель его устоев Андропов Юрий Владимирович, и с ним в судьбе Брежнева было связано много интересного, но в этот момент Брежнев почему то вспомнил именно поездку на Ставрополье; была чудесная, увлекательная охота, кажется, на кабана… или, может, на фазанов… именно там Юрий Владимирович настойчиво старался обратить его внимание на молодого, энергичного первого секретаря крайкома, очень и очень даже расторопного молодого человека… как его… ах да, обрадовался он, вспомнив. Это был Миша Горбачев, выходец из самых низов, комбайнер, комсомольский работник, жох парень, это стало ясно с первого взгляда — старого воробья не проведешь. Он теперь, умненький рабочий Мишата, кажется, уже и в Москве с помощью милейшего Юрия Владимировича, да и Мишу Суслова он, пожалуй, вокруг пальца обвел, как говорится, парень без мыла в задницу влезет, надо будет непременно прояснить, что он тут делает… Да, но зачем он все таки понадобился именно Андропову, у этого очкарика ведь ни одной мелочи не бывает зря…
Внимание Брежнева отвлекло нечто уже вовсе странное и непонятное: дверь в стене напротив беззвучно отъехала в сторону, и в ее широком проеме появился человек в сапогах, кителе и фуражке. Тотчас все в большом зале замерло, — головы повернулись к двери, и взгляды безотрывно приковались к вошедшему. Брежнев хотел встать, не смог, и генерал за спиной успокаивающе шепнул:
«Актер, Леонид Ильич, актер из пьесы… Только что смотрели, пришел представиться лично…»
«Безобразие! — от души возмутился Брежнев, почти ничего от волнения и внезапной слабости не выговаривая и с трудом ворочая онемевшей челюстью. — Скверная, пошлая пьеса, дурной актер… Кто пригласил? А ты куда смотрел? А ты зачем здесь? Немедленно вон! Убрать! Раз гри ми ро вать! Сейчас же! Здесь! На глазах!» — указал он на стол перед собою, на внезапно появившееся перед ним огромное блюдо со стерляжьим заливным, обильно украшенное свежей зеленью, маслинами и кружочками лимона, — здесь он запнулся, сглотнул — он давно не позволял себе, из опасения повредить здоровью и больному сердцу, ничего подобного.
«Леонид Ильич…»
«Молчать, генерал! — крикнул Брежнев, распаляясь еще больше и не позволяя увести себя в сторону. — Полное разложение! Куда смотрит Демичев? Где он? А цензура? Большего безобразия я за всю свою жизнь не помню! Что за актер?»
«Да конечно же, безобразие, распустились! — негромко и веско подтвердил Устинов. — Ничего святого!»
Все в зале замерло; молодые люди, абсолютно одинаково одетые и словно проступившие из стен, кинулись выяснять, потому что никто, оказывается, не знал истинной причины происходящего явления, хотя странный актер, с которого сдирали парик, пытались стереть грим появившиеся откуда то женщины в халатах, вел себя как ни в чем не бывало, с явно повышенным любопытством разглядывал собравшихся за столом и, к вящему негодованию хозяина, даже слегка улыбался. Именно в этот момент, отвлекая внимание Брежнева, в руках у Никиты Сергеевича появился детский резиновый шарик с задорным рисунком симпатичного розового цыпленка с широко открытым клювиком.
И Никита Сергеевич, прицелившись, сказал:
«Хе хе, а ты, Миша, большая сука… ну да ладно, держи, высохшая сволочь!»
И он тотчас перебросил шарик через стол Суслову, а тот, в свою очередь, сверкнув глазами, издал своим режущим голосом короткий звук, который нельзя было определить иначе, как выражение подлинного удовольствия.
«От предателя и разложенца слышу! — выкрикнул Михаил Андреевич еще пронзительнее, почти с подвизгиванием. — Сам дерьмо! Возомнил себя Лениным! Получай обратно! Братья, оп ля!»
И шарик вновь оказался у Никиты Сергеевича, и тот, побагровев жирным голым затылком в толстых складках, уже нацелился на самого хозяина стола и государства.
«А ты тоже, Леня, хорош гусь! — сказал он. — Я тебя сколько раз из дерьма вытаскивал, все вверх, вверх тебя за ослиные уши тянул изо всех своих рабоче крестьянских сил, а ты, сучонок, дождался!»
«Неправда! — закричал и Брежнев, захлебываясь от возмущения. — Я здесь ни при чем, решение президиума политбюро! И я, и ты, Никита, должны были подчиниться!»
«Знаем мы это политбюро! — отпарировал Никита Сергеевич. — Видели, с чем его едят! Как же! Хватит заливать! Гоп ля!» — радостно выкрикнул он и переправил шарик прославленному маршалу Ворошилову, тоже оказавшемуся здесь же за столом неизвестно как и почему. От изумления перед этой непонятной игрой Брежнев все остальные, даже злобные, клеветнические нарекания Никиты Сергеевича забыл. Ему и самому захотелось получить заветный шарик, и в тот же момент шарик и перепрыгнул к нему.
«Гоп ля!» — с удовлетворением сказал он и, прицелившись, ловким щелчком переправил вожделенную штуковинку милейшему Лазарю Моисеевичу, выглядывавшему из за широченного плеча какого то маршала. Лазарь Моисеевич тоже очень обрадовался, поймал шарик и решительно заявил, что это его законная собственность и он, как самый старший здесь, никому его больше не отдаст. Все стали возмущаться и требовать продолжения игры, но упрямый Лазарь Моисеевич наотрез отказался, и тогда Брежнев, вспомнив свое положение и значение, обратился к нему с мягким увещеванием — ему стало жалко упрямого старика, но правда и справедливость должны были быть восстановлены. И Леонид Ильич витиевато заговорил о партийном долге и совести, о необходимости коллективного подхода к проблеме и просил Лазаря Моисеевича, как старейшего здесь коммуниста и ленинца, подать нужный пример другим, и даже раздражительный Никита Сергеевич согласно закивал и поддакнул.
Освещение в зале как бы переключилось; со всех сторон к центру пошли официанты с подносами, недалеко от стола обозначилось возвышение, и в легком газовом облаке, сквозь которое просвечивали юные, свежие тела, заскользили, плавно извиваясь, танцовщицы, — еле слышимая восточная мелодия, томная и зовущая, наполнила зал плохо скрываемым сладострастным томлением. Ворошилов приосанился, поглядел на Никиту Сергеевича и почему то подмигнул именно ему. Официанты наливали вино и ставили закуски, пока только холодные, но кое кто уже потребовал осетровой селянки и жульенов. Брежнев встретился с ускользающим взглядом молодого красавца в безукоризненном костюме с белой грудью, с торчавшими из под руки бутылочными горлышками. И Брежнев обиделся на свою старость, на проскочившую мимо, словно ненароком, жизнь и указал на шотландское виски. Тотчас ему и был составлен задиристый напиток из виски с содовой, и он потянул его ко рту, заранее шевеля от наслаждения непослушной нижней челюстью, и приготовился было причаститься на свободе, без предостерегающего, заботливого ока верной супруги. Правда, дело закончилось вхолостую, бокал задрожал в его руке и тотчас кем то был подхвачен и поставлен на стол. Артист, игравший в недавней пьесе роль Сталина, так и не разгримированный, все намеревался втиснуться за именитый стол в своем первозданном виде.
Это окончательно возмутило Брежнева, и он, указывая на самодовольного и наглого актеришку, возомнившего о себе Бог весть что, сердито и слабо стукнул ладонью по столу.
«Убрать! Убрать!!» — зашелестело и понеслось вокруг, и вот уже забывшегося нахала окружили со всех сторон, и вслед за тем произошло нечто совсем уж невероятное. Белогрудых официантов и подтянутых охранников в штатском отшатнуло в разные стороны, сам артист исчез, а на его месте оказалось сразу двое: словно бы еще более преобразившийся в Сталина прежний артист и рядом с ним какой то человек, мучительно напоминающий Брежневу очень близкого и старого знакомого, с крупными залысинами, кутавшийся в нечто длинное и серое, почти до пят. И в тот же момент атмосфера в зале опять переменилась, то ли дружно мигнули запрятанные за карнизами и по другим укромным местам светильники, то ли ворвался откуда то порыв знобящего ветра.
То, что явился именно сам Сталин, сразу поняли все — свежий холодок заструился вокруг стола. Застигнутые моментом, застыли, полуобернувшись в одну центральную точку с ожиданием и любопытством на лицах, официанты, все, как на подбор, спортивного типа; даже стронулось и переместилось само пространство — иной ток заструился в воздухе и по иному соединил людей, и еще живых, и уже ушедших, и они оказались друг перед другом в равных правах и в равной ответственности. Времена сомкнулись, не было больше ни жизни, ни смерти, ни народа, который они вот уже несколько десятилетий с упоением вели вперед, наставляли и просвещали, ни Бога, которого они, следуя заветам своего гениального вождя и учителя, отвергли и в конце концов безоговорочно раз и навсегда отменили. Ничего больше не было, а было нечто необъяснимое, нечто такое, что было больше народа и больше Бога, и даже больше самой вечности.
Изношенное сердце у Брежнева слабо ворохнулось и заныло; он с тревогой подумал, что за столом почему то нет Косыгина, за спиной которого он не знал ни забот, ни горя, а затем появилась опасная мысль о самом Боге… Его то почему отменили? А вдруг…
Правда, раздумывать особо было некогда, от удивительной свистопляски кружилась голова, и это ощущение радостного омовения, почти пытки светом, исходило — все это знали и чувствовали — от человека с глубокими залысинами, стоявшего рядом со Сталиным.
«Вот тебе и нет Бога, — опять растерянно и тревожно забилось в голове у Брежнева. — А это тогда что такое? А может, я уже там, за земным кордоном? Тогда почему же этого никто не заметил, никто меня не предупредил и ничего не сказал?»
Краем глаза он уловил, как навстречу Сталину полетела бодрая, с лукавым хохлацким прищуром, обещающая все что угодно, улыбка Никиты Сергеевича, раньше всех, со всей чуткостью своей натуры уловившего первые, смутные еще колебания текущего момента; вслед за тем словно посторонняя сила приподняла руку и у самого Леонида Ильича, пригасила золотое сияние на груди, но беспощадный взгляд Сталина уже успел охватить весь стол, заметить каждое лицо, знакомое и незнакомое, отметить каждую подробность. Многих он не узнавал и не торопился по старой проверенной привычке показывать свое незнание.
«Вот, Coco, здесь твои ученики, — с готовностью пояснил загадочный и невольно притягивающий к себе спутник Сталина, и Леонид Ильич с непривычной, несколько пугающей ясностью, как бывает иногда только во сне или в бреду, слышал и понимал его слова. — Все они вышли из тебя, все циники и лицемеры. Ты хотел их видеть, что ж — они перед тобой. Убедись, что и последние твои доводы рухнули, — измельчание налицо. Есть цинизм высшей политики и есть цинизм собственного брюха. Теперь ты видишь, что все в братстве правящих связаны — живые и даже навсегда отстраненные имеют приятную возможность общаться и в конце концов, несмотря на лютое соперничество, находят общий язык и договариваются».
«Отстраненные? Что ты имеешь в виду? — не удержался от резкого удивления Сталин. — Конечно, легко стоять в стороне и судить, — совсем по домашнему проворчал он и, присматриваясь к возглавлявшему стол, с явной заинтересованностью спросил: — Этот, что ли, сменил меня, надо полагать? Что то не припомню таких способных… даже не Жуков, а? Откуда бы? Была еще одна война и он ее выиграл?»
Раздражаясь, Сталин задавал вопросы отрывисто и резко, его тяжелый взгляд словно насильно приподнял Леонида Ильича, стоявшего теперь на старчески слабых, вздрагивающих ногах, незаметно поддерживаемого дюжим генералом и покорно не отрывающего слезящихся глаз от грозного призрака, и в то же время пытающегося неразборчиво напомнить страшному пришельцу о том, что войну выиграл народ, и что была и Малая земля, и Новочеркасск, и что не надо этого умалять, но голоса его не было слышно, и, возможно, он даже не говорил, а всего лишь думал, и от этого бессилия слабел все больше.
«Нет, Coco, ты ошибаешься, — опять раздался пугающе ясный голос спутника Сталина. — Тебя сменил твой талантливый выученик, вот он. — Он повернулся в сторону Никиты Сергеевича. — Погляди — он невинно щурится. Уже потом, через десять лет, Никиту Сергеевича заместил Леонид Ильич — вернее, позволил себя уговорить другим товарищам по партии и борьбе… Понимаю, огорчительно все это, но ничего не поделаешь, историю, как мы все со временем убеждаемся, переменить нельзя».
«Как? Этот шут? — спросил Сталин, даже не пытаясь скрыть своего изумления. — Невозможно… этого не могло быть никогда! Он же ни одного раза в жизни не взглянул на небо, он его даже не видел… Хотя постой, мне что то припоминается… Это, кажется, они с Лаврентием заходили ко мне в самый последний момент… постой, постой, эти пухлые, потные от страха пальцы… стой, стой…»
«Не надо, Coco, — остановил его спутник. — Я же предупреждал — историю никому не дано переделать…»
«Но ведь так тоже невозможно!»
«Кроту не надо солнца, чтобы жить и благоденствовать в самой земле… Сколько куч на ее поверхности он оставляет!»
Стыдливо опустив лысую жирную голову, Никита Сергеевич извлек из под стола шарик с цыпленком и пустил его наискосок Климентию Ефремовичу; отчего то возмутившись, тот бухнул кулаком, и шарик, взвившись вверх, исчез, очевидно зацепившись за какую нибудь шероховатость в туманном потолке. Окончательно пораженный, Сталин теперь уже заставлял себя сдерживаться, еще раз, проверяя расстановку сил, цепко и жутко окинул стол пронзительным, режущим взглядом.
«Ну, а что ты еще скажешь?»
«Нет никакого смысла радоваться или негодовать, Coco, — подал голос его загадочный спутник. — Свершившееся свершилось. Даже судьи движутся ощупью, ошибаясь и отбрасывая. Человеку же вообще не дано заглянуть в свой завтрашний день, так уж устроено».
«Скверно устроено, необходимо переделать! — подхватил Сталин, по прежнему переводя взгляд то на Никиту Сергеевича, то на Леонида Ильича, словно выбирая, на ком окончательно остановиться. — Мы все это поломаем, дорогой мой апостол. Уж я бы с ними поиграл в одну веселенькую политическую игру, в кошки мышки. Особенно с этим жирным хомячком, с Никиткой, уж я бы пощекотал ему бритвой по горлышку… Ух, как бы я с ним поиграл! Вот откуда, оказывается, расходилась гниль! Я начинаю даже верить — рожа то, рожа, самая народная рожа!»
Брежнев растерянно заморгал, а Никита Сергеевич опять застенчиво отвернулся, даже голову от усилия завалил набок, делая вид, что никак не может просморкаться, отчего на затылке у него вздулись толстые багровые складки. В руках у него оказался все тот же шарик с розовым цыпленком, и он конфузливо перещелкнул его Лазарю Моисеевичу, но Сталин уже окончательно нацелился на Леонида Ильича, и тот под его взглядом, чувствуя внезапно исчезнувшие ноги, рухнул в кресло. Не отрываясь от золотых звезд на его груди, словно вновь и вновь пересчитывая их, Сталин резко спросил:
«А это что еще за недобитый троцкист?»
Отбив от себя назойливый шарик, взлетевший вновь под самый потолок, Лазарь Моисеевич улыбнулся провалившимся ртом.
«Коба, ты меня прости, но здесь ты ошибаешься. Какой троцкист? Революционная чистота и аскетизм кончились вместе с тобой, и миргородские свиньи вновь с удовольствием улеглись в свою теплую лужу. Троцкист… Что ты! Просто широко торгует нефтью и газом с Европой и Америкой, миротворец, за мир горой, какой же троцкист? Одних подаренных дорогих машин имеет штук двадцать, целый автопарк… А уж о другом, золотишке или дорогих камешках, и говорить нечего. Сын, Юрий Леонидович, торгует по заграницам, себя тоже не обижает, а дочка — Галина Леонидовна — блядь и распутница, пьет как лошадь, мы бы всем комиссариатом раньше не могли и за год выпить столько… Она даже хотела из твоей Грузии корону царицы Тамары стащить! А он ее орденом наградил! Так то, Коба, я все за ними записываю… Какой это троцкист…»
Чувствуя, что у него останавливается сердце, Леонид Ильич окончательно похолодел и, будучи не в силах даже возразить ябеде Кагановичу, как бы даже умер, но Сталин уже перенес свое внимание на старого своего соратника и друга.
«Опять ты меня, Лазарь из деревни Кабаны, учишь? — мгновенно повернулся он в сторону говорившего. — Ты, оказывается, марксист, а я? А ну, давай посмотрим с другой стороны: мерзавец Троцкий хотел расплатиться Российской империей за господство над миром, а этот, значит, торгует, распродает страну тем же силам без всякой крови? Что Троцкому Россия? Чужая, ненавистная страна, с него и взятки гладки. А этот? Чем он лучше? Как и чем он может торговать? А народ, надо полагать, по прежнему рукоплещет! Мне думается, здесь без международного заговора не обошлось, здесь надо копнуть глубже! А ты, постой, Лазарь… знал и молчал? Почему? Уж не в этой ли игре ты и сам? Ты знаешь, как у меня за это отвечают? А, Лазарь из деревни Кабаны? Кажется, твоя деревенька где то неподалеку от хлева и этого жирного хомячка?» — кивнул он в сторону Никиты Сергеевича, продолжавшего независимо багроветь шеей и затылком.
«Коба, ну перестань злиться, — миролюбиво попросил Лазарь Моисеевич. — Ты же знаешь — на мне ни пятнышка. Да ты вспомни, как я поступал с врагами советской власти, как был беспощаден…»
«Постой, постой, — оборвал Сталин, приближаясь и наклоняя голову, затем глубоко и пристально заглянул Кагановичу в глаза, как человек, озаренный откровением. — Уж не ты ли оказался той самой змеей… я просмотрел?»
В зале произошел неприятный шум; Лазарь Моисеевич приподнялся, растянул крашеные усы, дернул ими, что должно было означать торжествующую улыбку, выставил вперед сухонький рыжеватый кулачок и через весь стол показал Сталину фигу. Зал приглушенно охнул, ахнул, а великий вождь, оскалившись, шагнул вперед и шлепнул по этой фиге ладонью, и после этого Лазарь Моисеевич обрушился на свое место.
Все происходившее вокруг стола Брежнев видел теперь как в тумане — глаза заволакивала горячая пелена, хотя в ней порой и появлялись разрывы и просветы, — так, незадолго до дурацкой, если не больше, выходки Лазаря Моисеевича хозяину стола бросилось в глаза напряженное лицо Михаила Андреевича — тот доставал из своей дорогой шкатулки какие то кругленькие штучки и, торопливо бросая их в рот, тут же проглатывал, — приглядевшись, Леонид Ильич ахнул.
«Вот пройда! — сказал он сам себе. — Да это ж он свои безделицы прячет… ну и ну, — хитер!»
А вторично перед Брежневым мелькнуло лицо Лаврентия Павловича, распухшее и какое то истовое, — всесильный в свое время человек, во многом обеспечивший государству атомную безопасность, сейчас, протягивая над столом руку, требовал внимания и что то беззвучно кричал — по крайней мере, сам Леонид Ильич ничего не слышал.
Утихомирив Лазаря Моисеевича, Сталин негромко заговорил:
«Дурак… Значит, твоя работа… А где Лаврентий? Он должен быть здесь… Лаврентий!» — повысил он голос, в котором прозвенело знакомое почти всем собравшимся бешенство, но вслед за тем, покосившись на своего спутника в длиннополом одеянии, он подошел к Брежневу, намертво вросшему в кресло. Тот уже успел, пока Сталин был занят перепалкой с Кагановичем, снять почти все свои звезды и алмазный орден и по примеру Михаила Андреевича припрятать их, затолкать в карман пиджака. Он испуганно и неотрывно смотрел на грозного гостя. Окончательно рассердившись из за неожиданного мелкого мошенничества хозяина стола и уже протягивая руку за последней звездой, оставшейся на его широкой груди, Сталин, сквозь строй окаменевших официантов, словно сквозь матовое стекло, увидел несколько смутных человеческих фигур, как бы проступивших из стены, — лица их были скрыты под тонкими, сросшимися с кожей масками, и лишь в прорезях для глаз пробивалось живое, напряженное мерцание. Увидел их и Леонид Ильич, все они показались ему смутно и отдаленно знакомыми — по крайней мере, он был уверен, что всех их раньше или позже встречал и видел. А одного из них он даже определенно узнал. «Да это же ставрополец Миша Горбачев, комбайнер… Точно он, и пятно на лоб свисает… Этому проныре что здесь нужно? Опять хитромудрый Юрий Владимирович свои петли плетет? Надо бы его со всей партийной прямотой спросить… Где же он сам?»
И Сталин, забыв о золотых звездах на груди хозяина — так его поразили проступившие из стены фигуры со стертыми лицами масками, — оглянулся на своего спутника за объяснением.
«А а, в масках, — протянул тот с готовностью. — О них еще мало что известно, никто не знает, что там за каждым стоит, добро они принесут в мир или зло. Но они, как сам видишь, уже на пороге и ждут — это хитрые лисы, вернее, даже шакалы. Закажи — и за кусок падали завоют на любой манер… вон, видишь, тот, второй слева…»
«Да ведь все они одинаковы, на одну колодку! Что можно различить?»
«Внешне одинаковы, — улыбнулся длиннополый, с залысинами. — Тот, второй слева… вглядись… И следующий рядом с ним — вглядись, вглядись, — особый знак, непредвиденная судьба… Чувство предвидения входит в познание — закон космоса един. Смотри, Coco, у него на голове проступает пятно…»
У Брежнева еще нашлись силы внутренне ахнуть — неотступный спутник Сталина указывал именно на Мишу Горбачева, комбайнера и комсомольского вождя, но это был полный абсурд, и Леонид Ильич даже попытался усмехнуться детским рассуждениям незадачливого пророка. Сразу было видно, что сей мудрец не прошел и начальной, жестокой и беспощадной, стадии отбора в партийных верхах, той негласной и безошибочной школы, в которой отсев осуществляется безукоризненно безопасно для всех вместе и для каждого, добравшегося до этого верха, в отдельности, и еще Леонид Ильич подумал о себе: мы, дорогой наш учитель и бывший вождь, тоже не лыком шиты, вы сами нас всех многому научили.
И Сталин, после довольно продолжительного раздумья, во время которого он не отрывался от проступивших из стены теней в масках, сказал:
«Значит, этот, второй слева, на очереди? Не перевелись жаждущие и страждущие? Троцкист? Хазарин?»
«Не признается, хотя несомненно из них… Теперь назовут иначе — воитель духа или даже архитектор мира», — с улыбкой отозвался длиннополый спутник.
«А может, моя трубка у него? — предположил Сталин, приходя в сильное беспокойство. — Нельзя ли это как нибудь выяснить? Должна же она у кого нибудь быть! Мне будет очень неприятно, если он станет совать ее в свой рот… Да и зачем нам показывают всю эту мелочь? Прошу тебя, отыщи мою трубку, тебе это ничего не стоит, а мне она очень нужна!»
«Ну, Coco, ты свои вредные привычки оставь, — дружественно и даже несколько покровительственно заявил длиннополый и начертал у себя над головой какой то загадочный и мистический знак, в результате чего и выхватил откуда то сверху, из воздуха, свернутую тугой трубкой бумагу. — На, посмотри сам. Мы с тобой на чужом пиру, пусть они здесь разбираются сами. Неужели ты действительно ничего не понимаешь?»
«А что я должен, прости, понимать?»
«Ну, хотя бы, откуда ноги растут, — пожал плечами его спутник и бросил взгляд на съежившегося Леонида Ильича. — Ведь этот миротворец далеко не из самых худших, он даже попытался после хрущевского шабаша воздать тебе должное, но что он может? Весь всемирный каганат встал на дыбы — очень они на тебя обижены из за последних твоих фокусов с космополитами, так что относись к нему со снисхождением… Сам то ты смог устоять против этой каганатской силы? Созданная тобой же система и его превратила сначала просто в шута, а затем и в идиота. Точка поставлена, Россия теперь очень не скоро придет в себя и подымется. Это лишь начало ритуальной хазарской пляски на ее костях, и ты здесь один из самых почетных гостей и пайщиков, — уж не обижайся. Смотри на все спокойно, не забывай о железной партийной дисциплине — сам ее внедрял стальной рукой. Эксперимент должен продолжаться именно здесь, в России, хотя ее согласия никто и не спрашивал — ни твои учителя, ни ты. Так что же сердиться на этого угасающего старика?»
«Но эти, в масках, должны же что нибудь открыть новое, справедливое, — нельзя же вечно ненавидеть и разрушать!» — уже с непривычно просительной интонацией и даже как то безнадежно предположил Сталин и вздрогнул от веселого смеха своего спутника.
«Они ведь из той же земли и воды, они отравлены страхом голода и смерти и оттого беспощадны. Чтобы жить самим, они не пожалеют ничего и никого, а потом, давно протоптанные тропы всегда привычнее и проще — не так опасно. Золото, золото — ты посмотри, золотая грязь для них истинное блаженство души, высшее наслаждение… Ты полагаешь, такие могут приобщиться к тайне высшего космоса? Ну нет… Не скоро теперь падет в русскую землю доброе семя, должен сначала подняться из нее человек…»
«Никто не в состоянии указать срок? — спросил Сталин, понижая голос. — Перед визитом сюда ты мне говорил другое».
«Никто, я тоже не могу… прости», — сказал длиннополый, и в глазах у него засветилась печаль, — Сталин не захотел этого заметить.
«Не знаешь или не хочешь?» — угрюмо настаивал он, недовольно оглядываясь на Леонида Ильича, внезапно горько расплакавшегося от обрушившегося на него потрясения, отчетливо осознающего недопустимость такой позорной слабости и бессильного что либо поделать, несмотря на поддержку Устинова, незаметно подсовывающего своему шурину бокал с вином. И Сталин тотчас отметил и эту мелочь, но не забыл и о своем вопросе и вновь требовательно оборотился к своему спутнику.
«Да, Coco, не знаю и не хочу, — тотчас сказал тот, вызывая у Леонида Ильича новые опасения надвигающейся беды. — Поверь, очень не скоро. Со временем система сработает и сама все отладит. Этим молодцам в масках наскучила прямая линия, надоело по ней маршировать — ведь в каждом из них запрятаны такие черные бездны и вихри! Все сместилось — истина прямой линии кончается, но, как я уже говорил, система сама все смягчит и в конце концов выправит. Ты ведь тоже после гражданина Ленина вынужден был вернуться к истинным народным ценностям — их я и называю системой. Кто не вступит с ними в противоречие, тот и окажется на коне. Система извечных народных национальных ценностей вечна и обязательно сработает сама, наступают моменты, когда сильная личность ей больше не нужна и даже вредна, опасна, — в этом и есть главное».
В глазах Сталина метнулись рыжеватые искры, пожалуй, все впервые увидели его недовольство схоластическими рассуждениями своего спутника; тотчас, пересиливая свое бешенство, он, словно внезапно вспомнив о неоконченном деле, оглянулся на заслушавшегося непонятных слов и оттого несколько успокоившегося Леонида Ильича и молча, без единого слова, сорвал с него последнюю золотую звезду и опустил себе в карман.
«Вы же мертвый, товарищ Сталин, — бессильно пожаловался Леонид Ильич. — Не имеете никакого права бесчинствовать здесь! Я здесь хозяин и не допущу… Я этого не заслужил! Верните заслуженное всей честной трудовой жизнью!»
«Подождешь! Ишь, заговорил! Да я живее всех вас живых, я с вами еще поговорю, воры и ренегаты! — глухо пригрозил Сталин и приказал: — Водки всем! Водки, живо!»
«Это хорошо — водочки, — мелькнуло в голове у Леонида Ильича. — А то уж больно он грозно, вот выпьем, поговорим, может, и отдаст звездочку то, должен он понять, что это вполне заслуженно… Да и на что она ему?»
По всему залу ловко засновали молчаливые и бесстрастные официанты. Со стопкой водки к Сталину тотчас подшелестел именно сам откуда то вынырнувший Лаврентий Павлович, уши у него еще больше отвисли, и он, дергая лицом и гримасничая и, очевидно, не только объясняя Сталину положение дел, но и жалуясь на кого то, то и дело нервически поправлял очки и что то торопливо шептал вождю в самое ухо; тот даже оглянулся и поискал глазами сначала Лазаря Моисеевича, затем Никиту Сергеевича.
«Ну, пройда! Вот тип! — ахнул Брежнев. — Еще почище моего интеллигента… а? Во дает!»
Собравшиеся на торжественный прием опять замерли, и Леонид Ильич окончательно решил в удобный момент поставить вопрос о возвращении законной награды, — холодная, обессиливающая ярость вновь передернула лицо Сталина, и он, указывая куда то мимо стола, на стену с фигурами в масках, тоскливо крикнул:
«Вот он, вот! Палач! Он не дал мне свершить задуманное! Покарайте его!»
От его гулкого голоса в самых дальних углах зала отпрянули тени, исчезли, слились со стенами фигуры в масках и опять заплакал Леонид Ильич. И лишь спутник Сталина остался невозмутим.
«Поздно, Coco, я тебя не узнаю, все точки поставлены, — примиряюще сказал он. — Ты обращаешься сейчас не по адресу, ведь отлично знаешь — каждому свое. И всему приходит конец, — расстанемся же по мужски, с легкой улыбкой — жизнь не стоит большего. Лучше посмотри, какая эйфория, какая всепоглощающая любовь! Разве тебе мало?»
«Бессмертному вождю народов, товарищу Сталину — ура!» — не растерявшись, повысил голос Лаврентий Павлович с горящими энтузиазмом и ненавистью глазами, и весь зал вместе с официантами грянул троекратное «ура»! с такой силой, что мигнул и погас свет, и наступила непроницаемая тьма, пронизанная жгучими, сеющимися искрами.
4
Погас и вновь забрезжил тусклый свет, вначале где то далеко и туманно, а затем словно переместился в него самого и стал тихо разгораться, — Леонид Ильич открыл глаза, ни о чем не думая и даже ничего не осознавая пока. Он очень не хотел просыпаться и начинать думать, ему нравилось вот такое, ускользавшее сейчас состояние своего отсутствия в действительности — оно не предвещало неожиданностей и потрясений. Но рядом уже кто то был, кто то из его постоянных и назойливых «доброжелателей», все пытавшихся отобрать последнее, что у него еще оставалось, — возможность забыться и успокоиться, а следовательно, и продолжить нормальную жизнь, и, кто знает, дождаться появления какого либо нового чудодейственного лекарства или эликсира: наука то движется гигантскими шагами, и естественный век человека определяется уже и в сто пятьдесят, и в двести лет, да и эта симпатичная Джуна что то опять обещала, — отрывочные, приятные мысли окончательно привели его в хорошее настроение, туман стал потихоньку рассеиваться, и скоро он различил белевшее качающееся пятно, а с ним рядом прорезалось и зашевелилось второе.
Брежнев помедлил, приглядываясь, и спросил:
— Стас, кто с тобой?
— Никого, Леонид Ильич, я один. Доброе утро.
— Слушай, Стас, — медленно, но все более осознанно заговорил очнувшийся от ночного дурмана, по прежнему немощный старик, защищаемый и оберегаемый всей мощью богатейшего и могущественнейшего на земле государства, и хотя слов его почти невозможно было разобрать, Казьмин их чутко улавливал. — Понимаешь, опять чертовщина, все снится, снится, а глаза открою — и ничего не помню… Или мы с тобой где то сейчас были?
— Нигде мы не были, Леонид Ильич, — стараясь не выдать своей жалости, бодро отозвался генерал, как всегда, несший свое дежурство безукоризненно, повидавший в своей работе немало и привыкший ко многому. — Так бывает… Вы немного вздремнули, правда, недолго. Что то вас беспокоило, а я задержался… охрану проверял.
— Ты не уходи, пока я опять не засну, — попросил Брежнев, и Казьмин увидел у него в руках категорически запрещенное новым лечащим врачом сильное снотворное. Откуда оно появилось, генерал не заметил и забеспокоился; не подав виду, он тут же налил в стакан витаминизированной воды и, наблюдая за неловкими и вызывающими щемящее чувство неловкости попытками немощного генсека извлечь из упаковки желанное лекарство, добродушно, как то по домашнему предложил:
— Давайте помогу, вы еще не проснулись…
— Ох, если бы не проснуться, доспать до утра… О ох! — с вожделением протянул Брежнев, начиная ощущать себя спокойно и уверенно рядом с надежным и сильным человеком, которого он знал вот уже много лет и которому безоговорочно доверял. И Казьмин, словно угадывая мысли хозяина, успокаивающе улыбнулся в ответ, — он уже успел в самый короткий срок незаметно завладеть упаковкой снотворного, вынув ее из неловких рук своего подопечного, уже неспособного даже вышелушить таблетку из плотной фольги, и в то же время с ловкостью фокусника подменил упаковку со снотворным на имитацию, специально изготовленную для подобных случаев, и Брежнев в следующую минуту с благодарной признательностью проглотил совершенно бесполезную, зато безвредную таблетку и, тяжело пошевелившись, стал ждать прихода благодатного сна. И на всякий случай, для верности, попросил:
— Давай, Стас, еще немножко покурим… а?
— Может, хватит, Леонид Ильич? — неуверенно предложил генерал. — Вы и без того теперь заснете…
— Ну, не жадничай… Давай выкурим одну, и иди отдыхать. Сигареты уж такие вкусные, не жадничай. Вот помру, еще вспоминать будешь, жалеть…
— Что вы, Леонид Ильич! — искренне возмутился Казьмин и щелкнул зажигалкой.
— Помру, помру, — пробормотал Брежнев, с наслаждением глотая душистый дым и закрывая глаза. — Только ты не торопись, Стас, ночь еще долгая. Что же ты возмущаешься — все помрем, и я помру, вот тогда вы все еще вспомните…
— Леонид Ильич…
— Ну, иди, иди теперь. Спасибо, Стас. Лекарство не унеси случаем, — напомнил Брежнев и покосился на тумбочку.
— Можно я еще побуду…
— Нет, иди, Стас, спокойной ночи.
— Спокойной ночи, Леонид Ильич…
И генерал, ловко и незаметно сунув в карман похищенное снотворное, почему то сдерживая дыхание, вышел и, вернувшись к себе, занес в дежурный журнал все до мельчайших подробностей, с точным до минуты указанием времени, проверил по электронной связи все посты и только потом разрешил себе ослабить узел галстука и прилечь навзничь возле столика, утыканного телефонами. Дежурство, в общем то, было обычное, и день обычный, и, конечно, прав генсек, настанет срок, и жизнь его оборвется. И лучше, если бы это случилось чуть раньше, а не теперь, когда он превратился в развалину.
Казьмин скупо усмехнулся; продолжая находиться в непривычном для служебного долга состоянии тревоги и досады на себя за ненужную, даже преступную сумятицу в мыслях, он попытался переключиться на другое. Все это одни лишь слова, говорил он себе, а реальное положение совершенно другое. На таком посту человек, кто бы он ни был и до какой бы степени физической и духовной деградации ни дошел, представляет собой некий мистический центр, — он не только глава партии и государства, он еще и катализатор духовного и нравственного состояния общества, как бы ни потешались и ни издевались над этим инакомыслящие, и все эти высокие категории связаны в имени этого человека воедино, и от этого тоже зависит спокойствие и благополучие огромного государства, судьбы сотен миллионов людей, еще даже и не родившихся…
Тут генерал Казьмин снова позволил себе усмехнуться — на этот раз его ироническая усмешка относилась прежде всего к самому себе. И тогда он сказал себе, что не надо лицемерить и ханжествовать, что русская земля не клином сошлась и в ней любому найдется еще более достойная замена, — просто, препятствуя такому естественному ходу вещей, каждый из тех, кто на высших уровнях власти, боится прежде всего за себя и за свою будущность. В пересменках на таком высочайшем уровне всегда закономерно и безжалостно перемалываются и ломаются многие судьбы, и недаром само состоявшееся и сработавшееся окружение изо всех сил держит генсека на своем посту до последнего вздоха, да и потом еще старается не сразу объявить о случившемся неизбежном… Ведь смерть всегда неожиданна, всегда не вовремя и сразу же меняет баланс сил: нередко самое главное и незыблемое меняется полюсами со своими антиподами. Хочешь не хочешь, а начинается смена поколений элиты, и вперед иногда вырываются силы, ранее неведомые, никакими службами безопасности не обнаруженные и не зафиксированные, и тогда весь старый, хорошо отлаженный порядок рушится, а по русскому обычаю, и цинично осмеивается, подвергается глумлению и даже заушательству. По русскому? Но с каких это пор внедрилась в русское сознание такая мерзость?
Чувствуя, что перешагивает за недозволенную черту, Казьмин вздохнул, прикрыл глаза.
Хорошо, не будем, сказал он себе. А что обслуживающий персонал в такие моменты пересменок? Охранные службы? Допустим, вот сам он, генерал спецслужб Станислав Андреевич Казьмин? По сути дела, пришел в органы, вырос там, воспитался и поднялся до генеральских высот именно при Брежневе, а к таким приходящие на смену в самом высшем эшелоне относятся особенно настороженно, ведь такие, как он, поневоле слишком много знают и слишком уж глубокие у них наработанные связи и возможности. Вот и летят головы, трещат судьбы, но что это значит для правящей касты? Они ведь ничего, кроме самих себя и себе подобных, не замечают и не могут замечать — такова их суть. Перешагнув за последнюю черту на пути восхождения и оказавшись на самой вершине, они необратимо меняются: к ним приходит самое страшное в мире — безграничная власть. И дурак тотчас становится умным, какой нибудь простофиля — гением, а склонный по природе своей к жестокости и насилию — сильной и добродетельной личностью.
Раздалось два непродолжительных, каких то неровных звонка, и все крамольные мысли без следа выскочили из головы дежурного генерала. Он пружинисто вскочил, машинально подтянул узел галстука, быстро взглянул на себя в зеркало.
«Надо же, не заснул, — с досадой и огорчением подумал он. — Опять придется курить».
Накинув куртку и выходя из штабного домика, Казьмин неожиданно услышал порывы резкого предрассветного ветра — деревья, почти уже облетевшие, охали и по предзимнему покорно шумели. В просветах туч мелькали редкие звезды.
И он удивился — не заметил, как проскочило лето и наступила осень, и скоро опять мотание в Завидово, егеря, жадно следящий из машины за стрельбой своих охранников беспомощный, угасающий, но по прежнему считающий себя здоровым и сильным старик генсек, со всех сторон убеждаемый именно в этой мысли и, пожалуй, в глубине души действительно уверенный, что ему подвластна даже смерть…
В Москву, в обширное Подмосковье, со всеми его хранимыми тайнами, пришла еще одна осень, новый порыв ветра поднял вокруг генерала сухие, отжившие свое листья, — образовался целый вихрь — странный, призрачный и мгновенный.
5
И была еще одна бессонная ночь, вернее, для самого Брежнева эта ночь как бы никогда уже и не кончалась, в ней просто прорезывались иногда лишь слабые просветы, в которых появлялись и вновь скоро исчезали лица знакомых и близких, что то при этом говорилось, хотя тут же все и забывалось. И опять Казьмин, по настоятельному, капризному требованию уже впадавшего в слабоумие старика, по прежнему незыблемо стоявшего во главе державы, ужасавшей остальной мир своим могуществом и монолитностью, выкурил несколько сигарет. Каким то особым инстинктом, еще сохранявшимся в его изношенном, дряблом теле, угасающий генсек сам себе, без врачей, нашел средство продлять желанную ночь бесконечно и тем самым уходить от ненужной ему более и неимоверно утомлявшей действительности. Сердито глотая уже почти не действующие снотворные, он вслед за тем начинал жадно глотать полуочищенный сигаретный дым, хватая его полуоткрытым, почти парализованным ртом, проталкивал в изболевшиеся за долгую жизнь, слабые еще от рождения легкие, и происходило чудо возвращения в настоящую жизнь, ту, которую он бесконечно любил и за которую так отчаянно боролся, жизнь спокойную и ясную, без постоянного ощущения близившегося конца, присутствующего тайком, — он это тоже безошибочно чувствовал, где то совсем рядом. И в голове у него светлело, отчетливо вырисовывались, начинали оживать и говорить давно забытые люди, они приходили и уходили. Совершался законный круговорот бытия, и никто к нему не приставал и не мучил необходимостью куда то ехать, а затем, слепо глядя в слившуюся массу множества лиц, о чем то непонятном и ненужном говорить, хотя бы о том же советском народе, о его успехах и победах. Правда, иногда он и сам, каким то образом начиная чувствовать у себя за спиной огромную страну, тот же населяющий ее народ, всегда что то ждущий и требующий, но вполне, по всем заверениям, надежный, в конце концов окончательно успокаивался и начинал гордиться собой и тем делом, которое так неукоснительно исполнял. И то, что он ощущал и принимал как незыблемое и вечное, другим для него и не могло быть. Десятки атомных подлодок, способных испепелить любого противника, несли боевое дежурство во всех морях и океанах планеты; в ракетных шахтах, неуязвимых для любого нападения, застыли сотни серебристых молний, готовых взлететь в любое мгновение для удара возмездия и в считанные минуты обрушить кару на лихую головушку даже в самой отдаленной части земного шара; в космосе же, в свою очередь, кружили десятки совершеннейших аппаратов, следя за любыми передвижениями крупных людских масс и техники на земле. И самое главное — все тот же надежный и талантливый народ, сплоченный идеей братства и равенства, основой основ всего сущего, упорно и неусыпно созидал свое будущее подвигом труда и упорством знаний.
Прорывались и неприятные мысли и моменты, и он сильнее хмурился и говорил себе, что без этого в жизни не обойдешься. Да, да, говорил он, неизбежно встречаются и недовольные, есть бандиты и убийцы, и даже предатели, но они ведь были всегда и везде, это как родимые пятна, и с ними приходится жить и мириться. И если бы произошло невозможное, если бы он даже смог выслушать кого нибудь из умных, проницательных людей, поведавших бы ему о реальном положении дел, и затем осмыслить услышанное, он бы никогда не поверил, что государство, во главе которого он находился, и ведомая им партия, охватывающая все без исключения слои общества, проникающая во все его поры, находятся в самой активной стадии гниения и распада, что глобальная идея безнационального, бесклассового общества, втайне направленная на обеспечение процветания и господства лишь одного еврейского племени, изначально была ложной и вредоносной для устроения жизни на огромных пространствах бывшей Российской империи, а значит, эта идея и не могла способствовать успешному движению и развитию, и что она, как это и было задумано породившими ее силами, работает именно на разрушение тысячелетних народных связей на этом евразийском пространстве, и это прежде всего связано с насильственным ослаблением и изъязвлением основной силы, тысячелетиями державшей на себе тяжесть государственного устроительства и гасившей в себе все евразийские противоречия и конфликты, — силы и природы русского народа, ибо именно он, русский народ, был центральной осью всего этого пространства; его глобальной, национальной исторической идеей было создание особой цивилизации, отличной от остального, прежде всего западнического, европейского мира, сотворение особой духовной культуры, и поэтому, изъязвив и источив эту державную ось до полного ее распада, могучая и незыблемая с внешней стороны партия неумолимо должна была рухнуть вместе с государством химерой, созданным ее ложной идеей в отношении несущего на себе всю систему материкового основания.
И если бы кто нибудь надумал и осмелился сказать об этом умирающему старику, тот бы не только не понял и не согласился с подобными доводами и размышлениями, он бы естественно и вполне законно возмутился, да это было бы и бессмысленной жестокостью по отношению к нему. И хорошо, что к нему даже и близко не подходили способные на это люди; более того, он и не подозревал о их существовании, и это тоже было для него хорошо. И даже переступая за порог реальности, погружаясь в особый мир Зазеркалья, он ухитрялся вначале попадать в мир приятный и необременительный, и, очевидно, так уж была устроена у него голова.
И сейчас, после того, как его верный Стас, и сам накурившись до одури, выждав несколько минут, ушел к себе, успокоившийся генсек и глава государства, и на этот раз объегоривший время, чувствуя необычайный подъем сил, уже бежал по тихому и солнечному зимнему лесу на лыжах, гнал подранка кабана. Морозный ветерок бил в лицо, теплый приятный пот щекотал шею и грудь, — он далеко опередил запыхавшуюся охрану и егерей и теперь, слыша сзади их встревоженные возгласы, задорно улыбался — теперь всем еще раз становилось ясно, что он еще здоров и крепок и любому молодому даст сто очков вперед. А все эти заумные врачи — просто перестраховщики, с такой высоты ведь никому не хочется падать, во всех отношениях больно…
След, с расплывающимися все больше кровавыми пятнами, уходил через небольшую поляну в болотистую кочковатую низину, низкорослые елки в толстых снеговых шапках раздвинулись, почти касавшееся горизонта краем маленькое солнце почему то оказалось справа, затем впереди и стало слепить.
Замедлив бег, Брежнев привычно и настороженно сжал приклад винтовки — подарок тульских оружейников, лучших в мире мастеров и умельцев, — винтовочка была десятизарядная, с полуавтоматической подачей, легкая и удобная, несмотря на три вороненых, из особо прочных сортов стали ствола, два нарезных на крупного зверя, и один — на мелкую дичь.
Он пошел медленнее, подраненный матерый кабан — зверь коварный и безрассудный, может и сбоку зайти, и сзади наброситься. Правда, свежий след с яркими пятнами крови, как бы горевшими на белизне снега, особенно на солнце, уходил через низину прямо в мелкие густые заросли, и Брежнев, помедлив всего секунду, зорко оглядываясь, двинулся дальше. Азарт усиливался, кровь била тяжелыми толчками, и ноздри, улавливая пресноватый, знакомый запах свежей крови, раздувались.
Сдвинув шапку на затылок, он приоткрыл потный лоб; сейчас он забыл о своем положении, о возрасте, о необходимости соблюдать кем то раз и навсегда установленные для него правила жизни и поведения, — может быть, именно сейчас, в азарте погони и опасности, он только и жил настоящей, достойной мужчины жизнью и был абсолютно свободен от всех лживых, фарисейских правил, законов и прочей галиматьи, и безграничная свобода кружила голову и туманила сердце, он пил ее жадно и безостановочно и никак не мог утолить странную, все разгорающуюся жажду.
«Надо бы хлебнуть глоточек из заветной фляжки», — подумал он и тут же отверг эту мысль, медлить было нельзя и опасно, ему и без этого было хорошо и просторно, он наконец сливался душой с понятным и теплым миром, в который всегда рвался, с миром леса, снега, высокого неба и абсолютного безлюдья, с миром крови и смерти, изначально заложенным в натуру, в сущность всего живого, с тем мистическим, почти сладострастным трепетом своей безоговорочной власти над другой жизнью, после удачного выстрела как бы переходящей в своего палача, — пожалуй, никто из его ближайшего окружения никогда не знал и никогда не узнает уже этого запретного для морали слабого человека чувства высшего наслаждения — наслаждения убивать и затем вбирать, впитывать в себя трепет затухающей жизни, уходящей именно по твоей воле, — это было действительно высшее чувство власти и высшее вдохновение жизни, и этого не могла заменить даже самая страстная близость с женщиной. Так уж устроено, и никто в этом не виноват, этого переменить нельзя, несмотря на многомудрствования десятков и сотен поколений философов и лжемудрецов, писателей и гуманистов, якобы присланных свыше обустроить и облагородить этот мир…
И тут он ощутил близость зверя — чувство опасности приятным холодком тронуло сердце. Солнце совсем обнизилось и скользило нижним, холодно раскаленным краем по заснеженным вершинам старых елей на горизонте, и Брежнев, невольно замедляя шаг, сдерживая нетерпение, мял прозрачно голубоватый снег лыжами, настороженно двигаясь к густому чернолесью. Что то говорило ему, что в заросли входить не стоит, слишком велик риск, и позади никого, отстали, даже голосов больше не слышно.
Он усмехнулся — больше над собой, он любил такие острые моменты, поднимавшие со дна души всю терпкость прежней жизни, безрассудство молодости, неутолимую жажду женщины, стихийные порывы все время куда то стремиться и спешить. И тогда он еще раз как то неопределенно шевельнул губами: а были ли вообще безрассудство и молодость? Когда, в чем? Может быть, в студенческих попойках? Или в расчетливом вхождении в благополучную, обеспеченную еврейскую семью? Или потом, после его возвращения из очередного служебного отсутствия, в котором обязательно находилось время и место и для мимолетных мужских шалостей — ну, вроде того, что отошел за кустик, помочился и забыл? Неужели и это можно назвать святым безрассудством? Но ведь женщину, с которой постоянно, несколько лет находишься рядом, на мякине не проведешь, хотя она это и старалась скрыть. Его каждый раз встречали покорные и страдающие глаза жены, и тогда он говорил себе, что все это пройдет, и удивлялся — а чего ей, собственно, не хватает? И тут же, успокаиваясь, забывал.
Клубок каких то противоречивых и нескладных мыслей был совсем некстати, и он, рассердившись неизвестно на кого, прикрывая рукой лицо и глаза, решительно разорвал всем телом стену кустов, попытался остановиться и не смог. Лыжи, словно сами собой, стремительно понесли его дальше, в голубое мерцавшее пространство сумерек — за первой стеной высокого кустарника оказалась совершенно ровная, нетронутая снежная равнина, какая то уж очень ровная, — ей не было ни конца, ни края, она простиралась пугающе бесконечно, и он видел во все концы пронзительно далеко — так с ним раньше еще никогда не бывало. И след подранка, роняющего пятна крови, исчез. И это тоже было нехорошо, нужно было остановиться и повернуть назад, но он и этого не мог, какая то посторонняя, не подчиняющаяся ему воля диктовала ему свои условия, влекла его все дальше и дальше в раскаленную снежной голубизной пустыню, и теперь он начинал испытывать нечто новое, полностью затягивающее и растворяющее в себе. И он сказал себе, что это предчувствие самого великого — завершения всего в жизни, порог, переступив который он попадет в иной, неизвестный мир, и оттуда уже не будет дороги назад.
Он спокойно и рассудительно, как это с ним бывало в самые сложные и ответственные моменты, сказал себе, что это так и должно быть и что он давно этого ждал. На мгновение оглянувшись, он увидел перед собой иную картину, иное пространство — весь результат своей долгой и загадочной жизни, вобравшей в себя чуть ли не полностью весь двадцатый век, с его потрясениями, войнами и революциями, с его титаническими катастрофами и преобразованиями, и во всем этом был и его существенный вклад — хотел кто этого или нет, но так распорядились судьба и история. Перед кем он должен отчитываться или, тем более, оправдываться? Какая чепуха! Они все еще о нем пожалеют, может быть, впервые за весь век, в этой загадочной и странной, как говорят, России люди за последние два десятилетия свободно вздохнули, появилось кое что и в магазинах, никого, кроме самых злобных и отчаянных, не преследовали и не сажали, страна по многим показателям опередила эту пресловутую, спесивую неизвестно почему Америку. Да, кое что изменилось и не в лучшую сторону, но это пустяки по сравнению с достигнутым, да это сейчас его и не интересовало…
Вздрогнув, он оглянулся и успел отпрянуть в сторону, — туша смертельно раненного зверя пронеслась мимо него, один из клыков кабана зацепил его мягкий, теплый сапог и вырвал из него клок кожи. Брежнева обдало горячим запаленным дыханием, запахом крови.
Зверь остановился, стремительно развернулся и с легкостью и неуловимостью пули вновь бросился на своего страшного врага, и тогда Брежнев, привычно и спокойно вскинув винтовку, выстрелил. И уже заранее знал, что попал, — зверь, мертвый, словно пролетел над землей десяток метров и рухнул почти у самых ног охотника, взрывая пушистый снег и ломая подвернувшийся молодой ольшаник. Смертельная судорога раз и второй подбросила его тело, послышалось долгое и трудное хрипение, и затем все кончилось, — гордый охотник шагнул вперед и поставил ногу на тяжелый загривок зверя, поросший длинной и жесткой щетиной. Через толстую подошву и плотный теплый мех он почувствовал последнюю дрожь уходящей жизни, и она отдалась в нем каким то ответным, сладострастным трепетом и даже наслаждением, — он победил не только могучего лесного зверя, но отныне он одолел и саму жизнь…
Он помедлил и затем хрипло, возбужденно засмеялся, и тотчас, словно только того и ждали, вокруг посыпались егеря, охранники, врачи, помощники, подоспел один из самых надежных и верных друзей чуть ли не на протяжении всей жизни — Черненко, незаметный и незаменимый Костя, замелькали знакомые и незнакомые лица, послышались тревожные вопросы, раздались восхищенные голоса; двое или трое, и среди них Стас со вспотевшим лбом и почему то без шапки, толклись возле него и что то, перебивая друг друга, спрашивали, но Брежнев лишь возбужденно смеялся, почему то перебросил винтовку Стасу и, одним взмахом руки приказав всем оставаться на месте и довести добычу до дела, шагнул дальше в белизну высоких зарослей, — он двинулся на неодолимо прозвучавший в нем зов неотвратимого и близкого завершения и, с явным облегчением продравшись через заваленные снегом кусты, очутился на зеленой и просторной улице. Никто, к его радости, не задерживал его, никто, пожалуй, даже не заметил его очередного исчезновения. И он сразу же ощутил сильнейшую неуверенность, хотя остановиться и повернуть назад по прежнему не мог и не хотел. То, что он только что сделал и что должен был еще выполнить, его больше не интересовало, он просто обо всем прежнем забыл, а его неуверенность была другого порядка — его куда то все сильнее неудержимо тянуло, хотя цель еще окончательно не оформилась в душе. И все таки его ожидало нечто изначальное, ему наконец то должен был открыться подлинный смысл и тайна его жизни, и странное нетерпение, похожее на томительную жажду, пробудилось в нем с новой силой, горло пересохло и болело, — он напряженно к чему то прислушивался: то ли к себе самому, то ли к незнакомому и чудовищно пустынному городу, но скорее всего опять к предстоящему…
Несколько растерянный, он осматривался по сторонам — это была Москва, и он был в Москве, — он узнавал некоторые дома и площади, только не понимал и не помнил, когда он успел вернуться из Завидово, и почему оказался среди ночи один, и почему улицы бессонного города столь угнетающе безлюдны.
Москву охватывал сильный ветер, и в блеклом, неприятно размытом пространстве стоял непрерывный шум, почти стон молодых, теперь уже совсем облетевших тополей, двумя непрерывными рядами уходивших вдоль бесконечной широкой улицы; он шел по самой ее середине, где хождение запрещено, шел, надвинув шляпу на глаза, чтобы ее не сбросило ветром.
Быстро темнело, и в освещенных фонарями местах он замечал шевелившиеся и перелетавшие с места на место обрывки газет со своими портретами, смятые пакеты из под молока, окурки, — все казалось серым и грязным. В порыве нетерпения он стал оглядываться, ожидая, что за ним кто нибудь обязательно крадется и что можно тотчас приказать подать машину, но было по прежнему пусто и безлюдно, и он, не задерживаясь, шел все дальше и дальше, и его охватывало поразительно новое ощущение чистоты и свежести. Теперь он, полностью поглощенный своим внутренним состоянием и нетерпеливым ожиданием встречи с чем то необычайным, всепрощающим, не замечал уже ничего вокруг; он словно сбросил с себя непосильный груз последних лет жизни, снова стал молод, силен, и в нем ожили надежда и нетерпение — исцеляющий чудесный свет затоплял душу.
Он не знал, сколько прошло времени, безлюдная улица наконец кончилась, но он твердо знал, что пришел, хотя и теперь не мог вспомнить ничего определенного. Он недоуменно топтался перед темной, размытой громадой двухэтажного загородного особняка, почему то с заделанными помятой цинковой жестью окнами, но внутреннее чувство вновь безошибочно подсказывало ему, что он пришел.
Недоуменно обойдя вокруг дома по бетонной дорожке, засыпанной сухими листьями, он взошел на широкие ступени между двумя дорическими колоннами, — широкая парадная дверь оказалась заколоченной крест накрест двумя досками. Он потрогал одну из них кончиками пальцев и брезгливо отдернул руку — доска оказалась в какой то слизи. Поморщившись и достав носовой платок, он вытер пальцы и опять побрел вокруг особняка; в одном месте дорогу ему перегородила большая яма, и он, осторожно приблизившись к краю, заглянул в нее. На дне угадывалась черная неподвижная вода, но какой то проблеск в ней притягивал, — пустота ширилась в груди. Он ничего больше не хотел, он просто смертельно устал, и лишь какая то слабо тлевшая в душе искра мешала ему, хотя и это его теперь мало беспокоило. Самое главное, он — пришел.
Обогнув яму, он двинулся дальше, — у старого, в два обхвата, ясеня, стоявшего за углом особняка, он опять озадачился и задержался, знакомый голос позвал его. Потрогав грубую кору старого дерева, он нахмурился — несомненно, он уже видел это дерево, только когда, где? И опять вздрогнул — вновь послышался слабый знакомый голос, и он плотнее прижал ладони к дереву, почувствовав еле еле уловимую теплоту — соки к осени остановились и в теле дерева, хотя оно еще жило. «Ну ничего, ничего, — сказал он успокаивающе, поглаживая ладонью дерево. — Это ведь не так страшно… это — просто. А потом, у тебя всего на одну зиму, сущий, брат мой, пустяк, не успеешь отоспаться — опять зашумишь…»
Оглянувшись, он поразился: теперь парадная дверь была распахнута и сияла таинственным и зовущим светом, и вокруг уже не было никакого разрушения и беспризорства. И он, не раздумывая, по молодому обрадовавшись, почти кинулся на мучительно влекущий зов. Он узнал и лестницу — опорные, литые чугунные столбы, сплошь в затейливом орнаменте, уходили вверх, он нащупал холодные широкие перила и вновь заторопился, без передышки взбежал на второй этаж, толкнул знакомую дверь и — отшатнулся. В призрачном полумраке большой комнаты он узнал грустно и одиноко стоявшую у окна женщину, но она никогда его так не встречала. У нее никогда не было такого холодного, отталкивающего и даже презрительного взгляда.
«Ксения, — сказал он, увидев несущиеся ему навстречу и отстраняющие глаза. — Что с тобой? Почему ты так смотришь? Здравствуй, Ксения!»
На ее лице, от маломощной свечи, горевшей где то в стороне, лежали и двигались нездоровые тени, и предчувствие невосполнимой потери охватило его.
«Ксения, — повторил он. — Здравствуй… Ты что, разве не ждала?»
Она с каким то странным, болезненным любопытством глядела на него, затем, помедлив, разрешила:
«Садись, Леонид, раз ты уж пришел… Садись в свое кресло».
«Ксения…»
Под ее взглядом он сразу же поник — с ней было неуместно любое, самое малейшее проявление фальши, но он по прежнему ничего не понимал и, выигрывая время, стараясь понять причину ее холодности, неопределенно сказал:
«Да, время сложное, непостижимая игра противоречий. Что будет? Начался какой то гигантский цикл. — Он поднял голову, ищуще улыбнулся. — Что я говорю, прости меня, Ксения… Ты, конечно, чувствуешь, со мной творится непонятное… еще никогда так не любил…»
«Я не настолько проницательна, — возразила она. — Не понимаю, о чем идет разговор…»
«Ты такая талантливая и красивая, — вздохнул он. — Зачем ты ввязалась в эту бездушную и бесстыдную политику? Поверь мне, дорогая моя и неповторимая, ты никогда и ничего в мире не изменишь, изменить что либо может только добро и любовь…»
«Мы все хотели жить и оставаться счастливыми и чистыми, а этого нельзя. — Она смотрела на него по прежнему отстранение — Ах, эти белые одежды! Взгляни, Леонид, они ведь сплошь покрыты пятнами грязи и крови. Невинной крови. Но уж лучше такая истина, чем ваша елейная, отвратительная ложь. Любовь, добро! Какая любовь и какое добро?»
Он глядел на нее в изумлении — такой прекрасной и недоступной он ее никогда раньше не знал, и его просветлевшие глаза сказали об этом. Она постаралась ничего не заметить, и ему стало обидно и больно. За что? Ведь он так ее любил, так берег…
«А, понимаю, — сказал он тихо. — Это еще одна твоя роль, еще один характер русской женщины, идущей вслед за своим избранником на каторгу… Но что это изменило или изменит в России?»
«А в России ничего и не надо менять, — отрезала она. — Слишком много развелось пророков — все учат, учат, и все почему то именно Россию… Что она так всем приглянулась?»
Он пропустил непростительную резкость мимо ушей и даже улыбнулся — с умной женщиной, к тому же обворожительной и любимой, нельзя было спорить, но он и теперь не удержался и все таки спросил все с той же беспомощной усмешкой:
«Ну, а что такое сама Россия? Разве кто знает? Ты, Ксения, знаешь?»
«Конечно, — отозвалась она с какой то надменной и вызывающей грацией. — Россия — это я!»
«Полно, Ксения, озорничать, — попросил он примиряюще. — Давай оставим решение этого вопроса истории, а сами что нибудь выпьем… У тебя не найдется рюмки коньяку? Раз ты хочешь, будь самой Россией, ты имеешь право… На все… Только где же ты так долго пропадала? Я не видел тебя уже целую вечность… И соскучился, ужасно соскучился…»
И вновь она взглянула недоверчиво и насмешливо.
«Полно, Леонид Ильич! В нашем с вами возрасте пора думать о душе да о Боге…»
«Ну уж нет! — энергично, со вспыхнувшей внезапно молодой страстью запротестовал он. — Нам еще рано сдавать рубежи… да и зачем?»
Они встретились глазами, и у нее слегка шевельнулись губы, она что то сказала, — он не расслышал.
«Что, Ксения? Ради Бога, что?» — спросил он, понимая, что времени уже не осталось и уже подбирается и копится вокруг мрак, и лишь в воздухе или в голове дрожит еще, замирая, отраженный звон чего то огромного и непостижимого, уже пронесшегося мимо. И тут душа Брежнева и сама жизнь как бы оборвались. Он хотел сказать последнее и самое важное — и не мог, да и руки мертво обвисли — не шевельнуть, некто безжалостный и неотвратимый взял и вынул из его души самое необходимое — возможность надеяться, ждать и радоваться своему ожиданию. Он различил в дальнем углу затаившуюся в мглистом тумане сутулую знакомую фигуру и побледнел. Теперь он боялся взглянуть в сторону женщины, — если бы они оставались одни, вдвоем, все еще можно было бы исправить, но вот так, под холодным взглядом человека в больших, словно приросших к его лицу очках, с вызывающими отвращение тонкими губами, все окончательно рушилось…
Но был и момент колебания, проснулся давно утраченный зуд, и мозг все разметил и определил: один прыжок — и этот с извивающимися губами тихий палач ударится головой о стену, а выхватить у него револьвер — сущий пустяк. Пристрелить этого прохвоста, действующего якобы от имени закона и народа, не займет и секунды… ну, а дальше?
Многое бесповоротно упущено, ведь вся охрана, и внутренняя, и внешняя, подчинена именно этому субъекту в очках — вездесущая, неодолимая сила, да ведь и Стас ежедневно перед ним отчитывается… Стас! Стас? Неужели и он…
Брежнев растерянно повернулся, увидел лицо единственного дорогого в мире существа, шагнул к Ксении и стал успокаиваться. Ему никто не мешал, и лишь назойливый и непрошеный гость в очках стал вырисовываться резче и почему то стал улыбаться.
«Ксения, Ксения, я сейчас все объясню…»
«Благодарю тебя, не стоит, — с видимой досадой оборвала она. — Ничего не надо. Возвращайся к себе, здесь, чувствуешь, сыро, еще простудишься. Будь счастлив, Леонид… Уходи, уходи, отчего ты такой несносный? Уходи, все уже сделано, и ничего воротить нельзя, так не бывает…»
Последние слова окончательно сразили Брежнева, и он словно оказался в центре какого то пустынного и холодного пространства, а сама Ксения, в сопровождении все того же незваного гостя в очках, стала удаляться и таять, и тогда Брежнев, бросившись следом, схватил ее за плечи и рывком повернул к себе.
«Говори, что случилось? — потребовал он. — Говори!» — повысил он голос, и безрассудное бешенство метнулось в его лице — назойливый тип в очках мгновенно отступил в тень.
«О о! Таким я еще тебя не видела, — удивилась Ксения и легким движением слегка отступила. — Но зачем же лицемерить, Леонид? Ты же сам меня и обрек, и убил, а теперь зачем же эта пошловатая игра? Она тебе не к лицу, мне за тебя даже стыдно…»
«Что ты говоришь, Ксения!» — почти закричал он, но мучительная сила прозрения уже сверкнула в нем, и губы у него помертвели. Он уже верил в истину ее страшных откровений, и у него не было права даже на ненависть, она могла еще больше оскорбить, он, впервые ясно и беспощадно, увидел свой путь, и какой то пронизывающей тьмой дохнуло на него, и вся кровь в нем замедлилась. Пришло бесславие, и отныне все будет не так, как должно было быть, и он уже никогда не сможет свободно и открыто взглянуть в глаза ребенку или любимой женщине…
Он хотел возмутиться, остановить себя, — не смог и прижался спиной к холодной стене, прорвавшиеся спазмы стиснули сердце. Ему хотелось тут же и в самом деле умереть, но он даже заплакать не смог, не получилось — наоборот, оттаявшие губы у него сложились в брезгливую улыбку и горячая ненависть обожгла глаза.
«Какую ты чушь несешь! — крикнул он, и лицо женщины перед ним от этого страшного и гулкого возгласа шатнулось назад. — Я тебя убил? Да ты для меня была дороже всего на свете! И я тебя убил? Ты бредишь!»
«Хуже, Леонид! — услышал он знакомый напряженный голос, заставивший его вновь болезненно вздрогнуть. — Если бы ты убил меня сам! Но ты меня продал, и продал трусливо — передал в гнусные, грязные руки… Одного твоего слова было достаточно — и убийцы бы остановились, но ты промолчал. Ты ведь знал, знал, а теперь посмотри, что они со мною сделали! Смотри, смотри! А, бледнеешь! Не грохнись в обморок, как старая баба!»
Удушье стиснуло ему горло, и он едва не потерял сознание.
И тут он услышал ее странный, леденящий душу хохот. Сама она лежала теперь перед ним обезображенная и мертвая, с синюшно вспухшим горлом, и ее хохот отдавался во всех пустых углах.
«Ксения, дорогая моя, опомнись!» — нашел в себе силы выговорить он, лишь бы заглушить и отодвинуть от себя этот невыносимый ее хохот, но в следующую секунду потолок над ним зазвенел и рассыпался, затем и открывшееся небо стало опадать рваными бесшумными хлопьями.
Из бесконечного черного туннеля, перед тем как всему окончательно погаснуть, вышла сутулая знакомая фигура в больших очках, остановилась над ним, наклонилась.
Близился поздний ноябрьский рассвет.
6
Близился рассвет, пронизывающе посвистывал в голых деревьях ветер. Генерал Казьмин, закончив заполнять дежурный журнал, подошел к окну; как и вчера, и неделю тому назад, и месяц, все было знакомо, привычно и прочно. Так же будет и завтра, и еще через день.
Он усмехнулся этой нелепой своей мысли, но лицо у него осталось неподвижным и бесстрастным, и это тоже ему не понравилось, — даже наедине с самим собою он не мог позволить себе открытой улыбки — он давно уже превратился в глухой черный ящик с непроницаемыми поверхностями: ни внутрь, ни изнутри не проникнет ни звука, ни отблеска света. А зачем? И от простой открытой жизни отделен глухой стеной, каждое слово, каждое движение заранее выверены и несколько раз просчитаны, а ведь настанет момент, и придется отступить в сторону и задуматься всерьез. И что тогда? Что вспомнишь? Вот это постоянное напряжение, не покидающее и во сне? А ведь другой хозяин уже на пороге, нетерпеливо постукивает в дверь, уже и слегка запыхавшееся дыхание слышишь — торопится, боится не успеть. И правильно торопится, желающих, несмотря на почтенный возраст, непочатый край, и никого из молодых, смелых и профессионально подготовленных, да старички и не пропустят никого, старость эгоистична до патологии, в старости человеку кажется, что он чего то главного в жизни недобрал, и он изо всех своих слабеющих сил старается это восполнить. Вполне вероятно, что это сильнее других касается людей, раз и навсегда отравленных вкусом неограниченной власти. Сколько смешного, порочного и нелепого намешано в человеке, сколько в нем, даже самом умном и добром, как тот же Леонид Ильич, всего понемногу. И оказывается, самое тяжкое и непростительное зло заключено в беззубой старческой доброте, только лишь бы уберечь себя от излишнего беспокойства. И лучше об этом не думать, кажется, и Баченков явился, пора сдавать смену, и домой. Домой, домой, нельзя так распускаться, непозволительная роскошь…
Казьмин с приветливой и дружеской улыбкой оторвался от окна, когда вошел его сменщик — подтянутый, выбритый, готовый подхватить служебную эстафету и целые сутки нести ее дальше в некую туманную бесконечность. Никаких особых новостей не было ни у того, ни у другого, обычный и четкий ритуал сдачи дежурства был давно отработан до мелочей, лишь в самую последнюю минуту Баченков неожиданно попросил:
— Слушай, Стас, задержись, пожалуйста, на минутку, а? Очень прошу тебя, пойдем разбудим вместе, потом и поедешь себе…
— Ты что, сон плохой видел? — улыбнулся Казьмин. — Все в полном порядке, сам из Завидово вчера пригнал… ночью немного покурили, Виктория Петровна ушла наверх в одиннадцать, так что…
— Ну пойдем, Стас, дед сразу просветлеет, ты же знаешь, он к тебе привязан…
Казьмин, стараясь припомнить, какие шероховатости, вызвавшие недовольство хозяина, случились на предыдущем дежурстве Баченкова, кивнул, — впрочем, решил он, сейчас и думать об этом не стоило, и сам Леонид Ильич давно уже не помнил регламента следующего дня и сердился только из за мелочей, из за малейшей путаницы со временем, и скорее всего здесь какая нибудь бытовая мелочь, вызвавшая легкое недовольство со стороны Виктории Петровны, — такое уже случалось, правда, очень редко, и раньше.
Они вошли в дом — хозяйка, тихая и грузная, одиноко завтракала внизу, и Казьмин с какой то ласковой доброжелательностью кивнул ей и сразу успокоился, — в этом уютном, с давно установившимся консервативно патриархальным бытом доме и они являлись частью большого брежневского клана, хотели они того или нет, и на них распространялось не только верховное покровительство, атмосфера лести и заискивания со стороны других государственных служб и структур, множества часто незнакомых людей, впряженных в череду нескончаемых дел, денно и нощно ткущих полотно государственной жизни… И все это было понятно и закономерно, и для умного человека не представлялось чем то особенным. Но на них также распространялось и особое мнение народа о верховной власти, и подчас как о ее холуях, исполнителях грязных и неправедных дел, — подобные настроения всегда присущи большинству простого народа, и это тоже не должно было волновать умного человека. Государство есть государство, во главе его должен был кто то стоять, а следовательно, должна была быть и охрана, и обслуживание власти. Жизнь многомерна. На какую то долю секунды Казьмину захотелось подойти к одинокой, уставшей от долгой жизни, страдающей от собственных детей, уже ко многому равнодушной женщине, сказать ей что нибудь теплое и доброе, но это было бы нарушением давно установившихся норм и правил. Рядом с главой государства или в его семье здесь всегда ощущалось присутствие некоей третьей силы, невидимой, неуловимой и все равно всемогущей, она стояла у каждого за спиной, у ребенка и старика, у самого хозяина и у обслуживающей официантки, с почтительным волнением подающей ему завтрак или ужин, у садовника и начальника личной охраны, и сейчас Казьмин особенно сильно ощутил давящее присутствие этой безымянной третьей силы. Здесь нельзя было сделать ни одного лишнего шага в сторону — даже случайное движение тотчас будет замечено, зафиксировано и занесено в некое хранилище для дальнейшего анализа, но Казьмин даже наедине с собой не разрешал себе думать об этом, хотя давно уже определил центр этой третьей силы, ожидавшей только своего часа, чтобы немедленно выйти на поверхность и во всеуслышание заявить о своем давно выстраданном, а потому и безоговорочном праве.
Оторвавшись от чашки с чаем, Виктория Петровна сказала:
— Будите, будите его, Стас, вон уже девять, завтракать пора…
— Ничего, пусть немного отдохнет…
— Все эта охота дурацкая, — проворчала хозяйка. — Все думает, что молоденький, а годы то не переспоришь.
Она еще что то, совсем по домашнему, и больше для самой себя, совсем по старушечьи пробормотала, а Казьмин со сменщиком, поднявшись наверх, вошли в спальню — шторы были задернуты, и в сером полумраке вырисовывалась широкая кровать. Неслышно ступая, Баченков стал с шумом раздергивать шторы, а Казьмин, подойдя к хозяину, лежавшему на спине, слегка встряхнул его за плечо.
— Леонид Ильич, вставайте… Пора. Слышите, Леонид Ильич…
В следующее мгновение он, внутренне вздрогнув, замер, холодный ветерок дохнул ему в лицо; тяжелая, крупная голова Брежнева, скользнув по подушке, свалилась вбок, — глаза были все так же закрыты, и теперь лишь во всем лице, с еще крупнее проступившими сильными дугами бровей, большими губами и носом, в складках испещренных частой щетиной щек проступило нечто потустороннее — между живым и мертвым отчетливо и сквозяще проступила черта, окончательно разъединившая всего минуту назад близких, понятных и нужных друг другу людей. И еще у Казьмина опять появилось неприятное ощущение присутствия третьего, совершенно постороннего и в то же время необходимого, и этот третий был совсем не Володя Баченков, еще неловко путавшийся со шторами…
Время сместилось бесповоротно, из мрака грядущего вышагнул некто, давно в нем таившийся, и теперь стоял рядом, и насмешливая улыбка играла у него на губах. И как бы протестуя и не соглашаясь, Казьмин тряхнул безмолвного хозяина за плечо — большое тело Брежнева беспорядочно зашевелилось и задрожало под покровом одеяла, и это опять было не движение живого организма, а просто некое колебание и перемещение безучастного ко всему вещества, — Казьмину почему то вспомнилось, как пересыпается с места на место потревоженный ветром сухой песок, как бежит его текучая струйка и замирает на другом месте неподвижным прохладным холмиком.
— Володя, — негромко окликнул Казьмин. — Леонид Ильич, кажется, приказал долго жить…
— Что? — переспросил Баченков и тут же оказался рядом. — Ты… не расслышал, прости… Что?
— Готов, умер, — сказал Казьмин, сильно хлопая покойника по щекам ладонью, затем приподнимая его за плечи и встряхивая. — Давай на телефоны, коменданта сюда… Внизу Виктории Петровне ничего не говори… Погоди, давай положим на пол… Хотя нет… беги…
Мгновенно и неудержимо побледнев, Баченков бросился вон, и дальнейшее для Казьмина слилось в один непрерывный, мутный, куда то стремительно мчавшийся поток. Он делал все по инструкции и непрерывно, как автомат, все еще пытался вернуть усопшего к жизни; вместе с прибежавшим комендантом они положили тяжелое и еще не остывшее тело на пол; через марлю Казьмин пытался вдуть в остановившиеся, давно уже отболевшие легкие воздух, а комендант в это время разводил и сводил руки покойного и сдавливал ему ребра. Так прошло полчаса или больше, и живые не смогли бы ответить, если бы их спросили, зачем они мучают и терзают уже умершего человека, вернее, его бесчувственное тело, человека, наделенного при жизни и даже уже в невменяемом состоянии безграничной, чудовищной властью над другими, молодыми и здоровыми людьми, влияющего на их судьбы, и даже на судьбы и участь их еще и не родившихся детей и внуков. Но этого спросить у них было некому, и они упорно продолжали выполнять свое никому не нужное дело, и только когда изо рта у покойного тонкой струйкой брызнула сукровица и залила рубашку Казьмина, он выпрямился, откинул волосы с потного лба и замер, роняя руки и невольно вытягиваясь, — у двери стоял Андропов. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. И Казьмин почувствовал облегчение, в конце концов случилось то, что должно было случиться, чего все с минуты на минуту ожидали, и дальше события пойдут своим чередом. Их ход уже давно предопределен и подготовлен — Казьмин, почти непрерывно много лет находившийся рядом с покойным даже в самых закрытых для постороннего взгляда моментах его жизни и деятельности, знал и понимал это много лучше других, но он также знал, что не обмолвится об этом ни единым звуком даже самому близкому человеку, — входящая в права новая сила была беспощадна и холодна, она пришла надолго, пришла для разрушения всего прежнего, и для нее нет ничего святого или запретного. Одно лишнее слово — и ты бесследно исчезнешь, как до этого уже исчезали сотни и тысячи; начиналась новая, большая и кровавая игра. Бывало и так, что начнут исчезать твои самые близкие и дорогие, те, ради которых ты, собственно, и живешь, и работаешь, а в развитии событий ровно ничего не изменится. Появился подлинный хозяин, и не все ли равно, кому служить? Выбора нет, разве только выхватить пистолет и всадить одну пулю в него, а другую в себя…
— Ну, что здесь? — глухо и ровно спросил Андропов, быстрым и каким то неуловимым движением поправляя очки, — в голосе ни одной живой ноты, словно спрашивала сама судьба.
— Вот… думаю, умер…
Стал слышен ветер за окнами дома, комендант, давно уже стоявший неподвижно, шевельнулся, стал приводить в порядок свою растерзанную одежду, затем вновь с бодрой готовностью вытянулся и замер, хотя на него никто не обращал внимания — каждый из присутствующих здесь думал сейчас только о себе. И если Казьмин, все эти долгие годы выполнявший рядом с покойным тайную волю стоявшего сейчас у двери с виду бесстрастного человека с железной волей и выдержкой, хотел он сам того или нет, чувствовал тайное облегчение и даже опустошение и думал, что он все закрытое в этом человеке, своем настоящем хозяине, знает, но что этого никак нельзя показать и что теперь надо ждать неожиданного поворота в жизни и приспосабливаться к новым трудным условиям, то сам Андропов, давно и нетерпеливо ждавший именно этого момента и исхода, ненадолго как бы разрешил себе ощутить наслаждение свободой и свершением самой заветной своей мечты. Долгожданный час пробил, но он слишком долго готовился, и сейчас не было даже чувства завершения, словно открылся зияющий, черный обрыв и в него было трудно заглянуть. Да, да, одна усталость и ощущение черной бездны под ногами. И нерассуждающая вспышка ненависти к этому слепому, безглазому чудовищу, с необъятным, беспорядочно колышущимся телом, по имени — русский народ, который, по всему чувствовалось, после очередной многолетней спячки опять начинал стихийно пробуждаться и даже прозревать. Прозревать? А зачем? Для нового всплеска зависти и ненависти во всем мире?
И в цепкой, ничего не упускающей памяти высветилась уходящая глубоко в прошлое, до мельчайших деталей рельефная картина, скорее похожая на схему или карту, — это был заранее определенный и разработанный во всех подробностях путь длиной в целую жизнь, путь к нынешнему горнему пику. У него осталось не так много времени для воплощения задуманного, зато под ногами теперь твердая, надежная почва.
Блеснув стеклами очков, скрывающими холодные глаза, Андропов повернулся и вышел в коридор, Казьмин последовал за ним и здесь коротко и четко, по военному сухо, доложил о случившемся.
Внимательно выслушав, не задав ни одного вопроса и лишь, как показалось Казьмину, сочувственно кивая, Андропов поднял глаза.
— Не нам, не нам, а имени твоему, — негромко сказал он, выражая какой то особый смысл, ведомый только ему, и у Казьмина, в свою очередь, закаленного в своем многолетне тлевшем, но никогда не угасавшем горниле рядом с покойным ныне генсеком, в лице не дрогнул ни один мускул. — Да, да, не нам, не нам, а имени твоему, — вновь обронил Андропов. — Будем мужественны, здесь, видимо, ничем уже не поможешь. А как Виктория Петровна?
— Была в столовой, завтракала. Я не решился сообщить…
— Правильно.
Повернувшись, Андропов пошел по коридору к лестнице вниз, как всегда невозмутимый и непонятный. Новый вестник грядущих катастроф и перемен, он удалялся словно в прозрачной, неосязаемой капсуле, и Казьмин проводил его глазами. Большой загородный дом, так досконально и подробно им изученный, начинал менять свое лицо, свою сущность, — еще немного времени, и сюда вселятся новые хозяева, может быть, и не такие важные и высокие, но самому ему это будет уже безразлично. Законы его родного ведомства всеобъемлющи и таинственны, в них заложена бессмертная формула творчества беззакония.
От собственного, неуместного сейчас откровения Казьмин почувствовал себя совсем неуютно; он посторонился, пропуская подоспевших реаниматоров, тащивших с собой различные аппараты и приборы, и дальнейшее окончательно отодвинулось от него и уже не вызывало ни участия, ни интереса.
7
Отзвучали траурные марши, приличествующие случаю речи, истощился и поток жаждущих взглянуть на покойника, стоявшего во главе великой страны чуть ли не два десятилетия подряд.
Попрощаться с покойным съехались со всех концов света, говорили речи, пили и ели, прощупывали, на какой улов в дальнейшем можно будет рассчитывать и надеяться. Многочисленные родственники и друзья тоже не теряли времени даром, — с молчаливым неодобрением вполголоса обсуждали первые шаги нового главы государства, а Галина Леонидовна, выходя из себя и жалея своих арестованных друзей и собутыльников, не скрываясь, заявляла, что под полой у отца выросла ядовитая змея, теперь взбесилась и жалит, даже не дождавшись, по христианскому обычаю, похорон…
Одним словом, все шло как положено — страна продолжала жить и работать, уже пробуждались и рвались на поверхность неизвестные ранее энергии, и начинались неуправляемые и неконтролируемые реакции в самой народной стихии, всегда являющейся основой любого государства и источником поступательного движения. Новый глава страны, давно уже ею фактически безраздельно управляющий, тотчас, не дожидаясь даже похорон, запустил цепную реакцию смещений, перестановок, перемен не только в ближайшем окружении своего предшественника, долгожителя и верховного партийного жреца, но одновременно и своей жертвы, в тело которой ему удалось незаметно и глубоко внедриться и произвести в нем необратимые, тотальные разрушения, — со свойственной людям его породы решительностью и неоглядностью Андропов тотчас приступил к реализации своих давно вынашиваемых планов. Он очень торопился, времени у него почти не оставалось — все ушло на подготовку к завершающему шагу, к последнему упоительному штриху в гигантской панораме преобразования мира, растянувшейся чуть ли не на целое столетие. Он сразу же решил организовать два встречных потока — и с самого верха, и из низов; в первую очередь, он приказал арестовать самых дорогих для любимой дочери Брежнева людей, ее цирковых любовников, валютчиков и аферистов, под сенью семьи бывшего главы государства пристроившихся к роскошной, вольготной и расточительной жизни, тем самым объявляя, что отныне закон будет действовать невзирая на лица; с другой же стороны, в низы уже шли сухие и четкие директивы о моральной и идеологической подготовке широких масс народа — необходимости ужесточить трудовую дисциплину, приступить к строжайшей экономии во всех без исключения областях хозяйства и потребления, перейти к более жесткому государственному планированию.
Галина Леонидовна, пользующаяся в последние годы неограниченным кредитом и давно забывшая о таких пустяках, как деньги, сталкиваясь с неожиданными и непреодолимыми теперь проблемами, от изумления всякий раз напивалась больше обычного, — как говорилось в ее высокопоставленном кругу, до зелененьких мальчиков, а затем с завидным постоянством бубнила любому подвернувшемуся под руку собутыльнику о захвативших власть неблагодарных мерзавцах.
— Что, дождались перемен? — спрашивала она, дыша легким неистребимым перегаром. — Вы все еще вспомните отца, еще как пожалеете! И этот дурак народ пожалеет! Хоть хлеба да мяса за эти годы досыта нажрался! Всякая кухарка в Крым мчалась отдыхать, что, не так? Вон как жиром обросли — никто землю пахать не хочет, все в космонавты да в артисты метят! Ох как пожалеете!
Кто то из дачных знакомых, слегка иронизируя, рассказал об этом академику Игнатову, и тот, внимательно выслушав, нехотя бросил:
— Боюсь, что эта несчастная женщина очень близка к истине, хотя, мне думается, не здесь главная правда…
— А где же, Нил Степанович?
— Боюсь, что самый главный вопрос — о сохранении русской нации как физической личности — будет теперь окончательно похоронен, — сказал Игнатов и добавил: — А это начало конца не только эры христианства, но и самой белой расы…
— Вы серьезно? Нил Степанович… погодите, куда же вы?
— Простите, молодой человек, у меня встреча, — не останавливаясь, бросил Игнатов, свернул за угол, в соседнюю улицу, в надежде побыть одному и сосредоточиться, и почти тут же столкнулся со своей соседкой по улице — Зыбкиной, вышедшей перед вечерком прогуляться, — она была в новой роскошной шубе из голубого песца, по последней моде, чуть ли не до пят. Несмотря на начинающую одолевать ее полноту, она была легка и подвижна и, увидев академика, искренне обрадовалась, заговорила о тревожных слухах, взяла его под руку.
Игнатов успокоительно улыбнулся.
— Милая вы моя Евдокия Савельевна! — сказал он, приостанавливаясь и бережно целуя ее руку. — Ну что вы такое говорите! Ваш талант, ваш божественный голос никаким девальвациям не подлежит, он никаким политическим переменам не подвластен, право, успокойтесь.
Она покачала крупной красивой головой, из под пухового платка сверкнули серые, несмотря на годы, таившие в себе зовущую прельстительность глаза.
— Дорогой Нил Степанович! — негромко, с опасением оглядываясь, сказала она. — Не знаю… не знаю… Такое говорят — беспощадный жрец идеи… Я уж подумываю, что с дочкой теперь делать? Только на нее и приходится работать, то одно валится, то другое.
— Ну уж, Евдокия Савельевна, стоит ли так? — с легкой иронией спросил Игнатов. — Они пришли, они уйдут, а мы то с вами останемся. Потом, как утверждают старые люди, новая метла чище метет. А я этому верю. Надолго ли хватит? Ваше дело петь, услаждать страждущее человечество, и ни о чем больше не думать.
— Вы переоцениваете мои возможности, Нил Степанович, — мило посетовала Зыбкина. — Думать! Вот уж в этом недостатке меня никто не может обвинить… Да и не бабье дело — думать. Вот еще!
— Вы на похороны то поедете, Евдокия Савельевна?
— Я постараюсь обязательно, я так многим покойному обязана… Хотя у меня завтра весь день расписан, прямо минута в минуту, — обязательно постараюсь вырваться… Какое горе для близких, как это тяжело, — пожаловалась она проникновенно и по женски искренне, и простодушный академик, уже и в самом деле готовый было поверить, лишь в самый последний момент уловил в ее красивом лице все ту же извечную женскую игру, словно какую то неуловимую зыбь на южной морской глади, когда солнце то показывается, то исчезает в легких высоких облаках. «Врет ведь драгоценнейшая Евдокия Савельевна, не приедет, зачем он ей теперь», — подумал он, и ему почему то стало обидно.
— Я вас понимаю, Евдокия Савельевна, — сказал он суховато, с ученым, несколько отстраненным видом. — Вы человек известный и значительный, я бы на вашем месте не стал подвергать себя ненужному риску. Еще простудитесь. Вы будете нужны любому вождю, у вас за спиной любовь народа, а это не фунт бубликов. Но я, Евдокия Савельевна, — взглянул он исподлобья, — обязательно пойду. Я всего лишь рядовой ученый, уж я-то должен присутствовать на похоронах целой великой эпохи в истории человечества. Просто хотя бы как свидетель, такое не каждому выпадает на долю! Завтра ведь будут хоронить не маразматического старичка, давно уже пережившего самого себя и выжившего из ума, — нет, нет… Завтра завершается неповторимое, светлое время, неудавшийся поиск человеческого гения. Ах, простите, не буду нагружать вашу хрупкую поэтическую душу. Именно потому, что они, эти верховные партийные жрецы, отринули приоритет и главенство русского начала в этом глобальном поиске, все и должно было завершиться разгромом и хаосом. Ничего уже, никакие перемены не помогут и не спасут, — судный день близок, завтрашние похороны лишь мрачная прелюдия русской гибели…
— Что вы такое говорите, Нил Степанович! — испугалась Зыбкина, пытаясь легким прикосновением к руке ученого несколько успокоить его. — Вы, видимо, очень хорошо знали Леонида Ильича, вас с ним связывает, очевидно, что то серьезное… Не стоит так расстраиваться, он ведь был уже в хороших годах, что вы! Знаете, Нил Степанович, зайдемте ко мне, у меня водочка есть на смородиновых почках — прелесть… Посидим, помолчим, я вам что нибудь грустное спою. Поверьте, мне ведь и самой грустно грустно, вот словно шла, шла куда то и оборвалась в пропасть. — Она вздохнула, неожиданно перекрестилась, и на глазах у нее показались слезы. — Пойдемте, Нил Степанович, в таком настроении человеку плохо быть одному.
— А что? Может быть, вы и правы, — заколебался Игнатов. — Хотя, понимаете…
— Не надо, не отказывайтесь, — стала просить Зыбкина. — Я сегодня совсем одна, мне что то даже страшно в дом входить. Такой огромный, пустой… А тут еще все время думаю про эту трагедию с Дубовицкой… Помните, из Академического, такая талантливая была. Впрочем, что я спрашиваю, конечно, помните. Вот вам и талант… Как все кончилось! Ужас! Пойдемте, Нил Степанович, успокойтесь! Давайте за вашей супругой зайдем, чтобы не беспокоилась…
— Не стоит, можно просто позвонить. У нас сегодня внуки гостят… а я сам — с удовольствием.
Неровными порывами шел сильный ветер, и высокие сосны сдержанно и дружно гудели; прорываясь к самой земле, порывы ветра заставляли ежиться и прятать лицо.
* * *
Такой же холодный, даже с пропархивающим редким снегом, ветер бил в лицо и бредущему по нескончаемой своей дороге отцу Арсению. Теперь проснувшийся и зазвучавший в нем неодолимый голос влек его к Ладоге, к холодному морю; в одну из бессонных ночей ему привиделись тихие подземелья, упокоения иноков и старцев, святых провидцев и пророков, воинов и мучеников духа, — он пока ничего не обрел и не отыскал в живых и теперь своим обострившимся инстинктом, вернее, страдающим духовным чувством определял по непрерывным сигналам и зову из прошлого одному ему ведомый путь обретения утраченной души. И это было самое главное — ничего иного для него в мире не существовало, в отличие от миллионов смирившихся и даже не подозревавших о своей утрате, и продолжавших жить как ни в чем не бывало, отец Арсений никак не мог даже остановиться, — его душой стала дорога, бесконечная и неизвестная.
8
В холодном, предзимнем небе было пусто, лишь изредка проносились в нем терзаемые сильным ветром все те же вездесущие московские вороны, — они были любопытны и, в отличие от людей, замечали все. На русские башни Кремля, увенчанные чуждыми призраками враждебной для этой земли, от рождения и до завершения рассчитанной и окостеневшей жизни, невидимо и неслышно оседала вечность.
Гроб с телом усопшего опустили в могилу, и новый властелин полумира, сверкнув толстыми стеклами очков, первым бросил в нее горсть русской глины, отряхнул тонкие длинные пальцы с идеально обработанными ногтями и стал натягивать перчатку. Безукоризненная симметрия плывущих над Кремлем, над Москвой, над Россией, над всем миром вечных звезд приятно успокаивала. Он заметил, как вдова усопшего торопливо и неловко наклонилась к подушечке с Орденом Победы, с помощью стоявшего рядом военного выпрямилась и бережно опустила дорогую безделушку к себе в сумочку.
Тонкие длинные губы Андропова почти незаметно, саркастически дрогнули, а холодные, ничего не упускающие глаза стали еще более сосредоточенными.
И никто не заметил высокого, уже начинавшего седеть человека, затаившегося в густой толпе на тротуаре возле ГУМа; кутаясь в теплый длинный плащ, он молча наблюдал за происходящим, — это был Сергей Романович Горелов, оказавшийся в эти дни в Москве.
Когда гроб опустили в могилу, он снял кепку, и губы его слегка шевельнулись — он что то коротко прошептал.
1999 г.

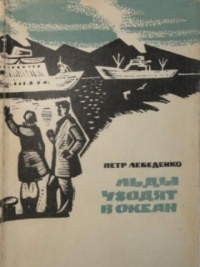

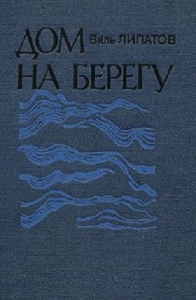

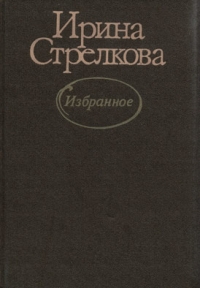
Комментарии к книге «Число зверя», Пётр Проскурин
Всего 0 комментариев