Петр Проскурин Отречение
Книга первая
1
В душный предвечерний час низкое солнце золотило, уходя, купола и кресты храмов Кремля; на Гоголевском бульваре было шумно и людно — после жаркого дня киоски с мороженым, водой и квасом были давно опустошены и подступавшая вечерняя прохлада несла некоторое облегчение, хотя нескончаемые человеческие потоки по-прежнему куда-то спешили. Академик Обухов и Петя, встретившиеся по делу, увлекшись разговором и ничего не замечая вокруг, прогуливались в некотором удалении от метро под пыльными, давно не видевшими дождя деревьями; Обухов, получивший очередной отказ в задуманной экспедиции на Зежский кряж, просил Петю, пока суть да дело и вопрос рассматривается, теперь уже в самых высших инстанциях, до возвращения на Дальний Восток съездить на кордон с дозиметром, попутно взять биологические пробы. Петя молча слушал, затем кое-что записал в блокнот для верности; покосившись, академик помолчал и добавил:
— Повидайте Игната Назаровича, от него вчера письмо пришло какое-то путаное, вспоминает мои лекции, о настоящем же положений подозрительно вскользь. Обещает при первой возможности приехать, рассказать… Вот только ждать нельзя.
— Конечно, конечно, Иван Христофорович, — согласился Петя. — Мне и деда надо повидать. Воскобойникова я люблю, надежный человек, с ним спокойно становится. Я одного не пойму, почему одни кричат, а другие совершенно ничего не слышат? Боюсь, нас с вами тоже никто не услышит…
— Услышать должен не человек, а человечество, — сказал Обухов и поморщился. — И здесь пахнет нефтью, остатками жизни… да, мы уже говорили с вами как-то о термодинамически новых мирах, они не примут живущего по биосферным законам человека, они его просто уничтожат. Надо кричать, как вы весьма энергично выразились, Петр Тихонович. Другого пути нет.
— Встряхнуть человечество не так просто, пожалуй, необходима глобальная катастрофа. Не поздновато ли придет прозрение? — вслух подумал Петя.
— Вы еще не представляете себе возможности живого вещества, — возразил Обухов. — На живое вещество, полагаю, тоже распространяется статус вечности. Весьма печально, если разум на нашей маленькой планете будет отброшен назад во тьму. Хилиазматический Марксов социализм — путь в никуда, в ничто, это становится теперь ясным даже дураку.
— Сколько ересей было и прошло, — примиряюще улыбнулся Петя. — Человечество все время погрязает в каких-то очередных новых ересях, затем отряхивает их и топает себе дальше.
— Такой еще не заводилось, — сердито сказал Обухов, закладывая большие пальцы в карманы своего жилета и сразу приобретая бодрый, воинственный вид. — Гипнотизация вселенским равенством, путь этой машинной марксистской ереси — вырождение и гибель человечества. По крайней мере для России эта заморская ересь не подходит и не могла подойти. Чужеродный опыт на российской почве принес уродливейшие результаты! Посмотрите, что они сделали с отечественной наукой! А с русской культурой? А с самой Россией?
Некоторое время они шли молча, на очередном повороте Петя сошел с дорожки, пропуская вперед Обухова.
— Мне как-то не по себе последнее время, Иван Христофорович, — признался он. — Вы занимаетесь Бог знает какими второстепенными частностями… Свою работу по живому веществу почти забросили, ее ведь, кстати, никто сейчас в мире больше не сделает. Не справитесь вы с ними, поверьте, Иван Христофорович, они должны сами отмереть…
— Чушь, чушь, Петр Тихонович, — опять не согласился Обухов. — Очередная ересь, вера в невозможное, тот же хилиазм, он у нас у всех в печенках. Посмотрите же здравым взглядом на эту гниющую страну, вы в состоянии пройти мимо?
— Не могу понять корней сталинизма, — сказал Петя. — Что есть сам Сталин?
— Дело не в Сталине, с его весьма скудным культурным слоем и с мощнейшими инстинктами, — раздраженно возразил Обухов. — Дело в породившей его системе. Породила и вознесла, и никаких ершей. Сейчас, уже на нашей памяти, вылепила еще более идиотскую модель… Старческого хилиазма.
— Все-таки в Сталине чувствуется личность, — сказал Петя. — Не в пример нынешним деятелям… Сколько я отца спрашивал, все обещал, откладывал, уклонялся, а ведь не раз встречались… В специальной литературе — сплошная ложь, панегирик. И в романах…
— Романы лгали и лгут, не забивайте вы себе мозги мусором, коллега, — сухо засмеялся Обухов. — Попытка понять Сталина — попытка понять истину о трагедии России. Опаснейшая штука, коллега! Не советую, мгновенно оторвут голову. От Сталина ведь обязательно пойдешь дальше, назад, вглубь, и сюда, в наше достославное время. В этом вопросе каждый выплывай как знаешь. Небывалый в истории случай запланированной и упорно проводимой верхами массовой дезинформации. Корень зла — все в том же хилиазме!
— Об этом ведь даже написать невозможно! Само словечко какое завиралистое! Хилиазм! Ну, кто услышит? Что, вот сейчас станешь на бульваре и начнешь проповедовать? Э! Граждане! Послушайте!
Несколько человек оглянулись и даже приостановились, ожидая дальнейшего, но Петя, поймав изучающий и даже подзадоривающий взгляд Обухова, оборвал, раскланялся, извинился, и они двинулись дальше; Обухов, взглянув на часы, заторопился, вспомнил о необходимости принимать гостя из Швеции.
— Есть, есть люди, талантливейшая молодежь! Одержимая! Вот Вениамин Алексеевич Стихарев, вы прекрасно его знаете. Очень одарен. Одержим… Вокруг него уже складывается направление… Вот, пожалуйте, год, два и успешно продолжит…
— Докторская у него, конечно, выдающаяся, — согласился Петя. — Вот только зачем вы уговорили его в свои заместители? Либо администратор, либо ученый.
— Вы оцените мое решение позже, Петр Тихонович…
— Я позвоню вечером часов в девять? — спросил Петя. — Успеете прочитать?
— Звоните ближе к одиннадцати, — ответил Обухов, — а, впрочем, лучше сразу и приезжайте, обговорим конкретно.
Они миновали вход в метро, пересекли бульвар на углу Волхонки и уже хотели расходиться, но Обухов неожиданно придержал собеседника за плечо.
— Жаль, жаль, у нас всегда не хватает времени, — сказал он, и в голосе у него прозвучали какие-то незнакомые Пете мягкие интонации. — С одной стороны, хорошо, а с другой — жаль, жаль… Знаете, я ведь такой старый, помню еще времена совершенно доисторические, метро называлось тогда именем Кагановича…
— Кагановича? — удивился Петя.
— Вот видите… Любимые места юности, я здесь неподалеку на Староконюшенном жил, — опять все с той же неуловимой грустью сказал Обухов. — Напротив, видите, дымится хлорированная грязная лужа, именно там стоял храм Христа Спасителя. Я очень любил сидеть на ступеньках его лестницы, с другой стороны, у реки. Весь какой-то бело-розовый, торжественный, возносился к небу, как молитва или хорал… Как-нибудь расскажу. Видите, коллега, бывали времена и покрепче, в целом народе смогли разбудить, раскачать инстинкт к самоуничтожению, к тотальному разрушению основ. И стихия разрушения продолжается, сейчас уже больше по инерции, не знаю, достаточно ли будет только нашего русского опыта? Или через этот испепеляющий огонь должен пройти весь мир? Полагаю, нам надо делать свое, вы понимаете, коллега, свое, то, что у каждого горит в душе. И не поддаваться никакому бреду — делайте свое!
Прищурившись, Петя пытался представить себе храм и почти не слышал последних слов академика.
— Живое вещество живым веществом, Петр Тихонович, а человечество должно и может найти силы спасти образ и подобие Божие — человеческую индивидуальность. Человечество уже глядит в бездну… Ведь человечество и человек, несмотря ни на что, абсолютно свободны в вопросе последнего выбора между жизнью и смертью… Теперь, на нашем уровне знаний это становится абсолютно ясно. Спасение в нас с вами. Раз мы с вами живы, значит, и Россия жива, и Москва жива. Надо жить и бороться. Русский народ уже бессмертен, он явил человечеству высочайшую духовность — этот заслон не смогла разрушить полностью даже эта всесильная мафия всемирных кочевников, по их собственному глубокому убеждению, всевластных архитекторов вселенной. Удар был страшен, ничего, семя осталось, значит, жизнь выстояла. Ничего, коллега, ничего!
— Иван Христофорович, а когда здесь еще стоял храм, вы сами чувствовали Бога в душе? — неожиданно спросил Петя, глядя совсем по-детски, как-то отстраненно, и академик, засмотревшись на красоту Петиного тонкого лица, мягко тронул его за плечо.
— Петр Тихонович, что с вами?
— Не знаю, — растерянно ответил Петя. — Странное чувство. Мне захотелось вспомнить мать совсем молодой, рядом себя — мальчиком, вот не смог… ничего не вижу. Странно, странно — какой-то туман плывет перед глазами.
— Бывает, — совсем тихо сказал Обухов и незаметно подвинулся ближе. — Знаете, забытое возвращается, уверяю вас, вот посмотрите, у вас еще есть время убедиться. Что-то душно сегодня, совсем дышать нечем. Наверное, будет гроза… До вечера… жду.
Кивнув, Петя остался стоять, обтекаемый толпой, захваченный какой-то своей мыслью, всем своим существом ощущая сейчас свою малость, свою ненужность в этом огромном вечном городе и в то же время радуясь, что он есть, что он существует, что ему хочется ощущать себя в непредсказуемой стихии людского водоворота. Перейдя улицу, он прошел по одному из спусков к бассейну, нашел свободную скамью, сел и надолго задумался.
Золотые купола храма плыли над Москвой, сияя чистотой в ясной безоблачной синеве неба, связывая дни и ночи, недели и десятилетия в одну неразнимаемую цепь. Угадывались они в любое время года, и в бесснежные зимние сумерки, и в летние душные ночи. На ступенях вокруг храма, особенно со стороны Москвы-реки, любили сидеть не только убогие и униженные, нуждающиеся в помощи и защите. Сюда приходили и счастливые — здесь они полнее чувствовали и сильнее любили; приходили сюда приобщиться к вечности и утешиться и старики, уже готовящие себя к уходу, — истинная красота и гармония всегда были целителями страждущей души. Никто ведь еще не выяснил, почему человек в детстве и ранней юности летает во сне, летает упоенно и самозабвенно, словно попав наконец-то в свою подлинную родную еще до появления на свет стихию, и почему он, повзрослев, торопится вновь обзавестись детьми, чтобы и в них продолжить ощущение полета и свободы от земли, почему он возводит рвущиеся в небо храмы, как бы невесомые и бестелесные, готовые вот-вот, если бы не удерживала их беззаветная и трудная любовь человека, тут же взлететь ввысь и раствориться в безмерном пространстве, свободном от ненависти и боли. И недаром же с теми, кто безоглядно верит, происходят необъяснимые чудеса, не соразмеренные никакой формулой удачи и везения, потому что формула чуда еще не открыта и никогда не будет открыта, ибо после этого тайна чудесного самоуничтожится. И в мире издревле идет непримиримая, беспощадная борьба между людьми, рожденными с тайной в душе, заставляющей их летать во сне, мучиться вечным зовом неба и страдать, возводить светоносные храмы и рожать подобных себе сыновей, зачатых от начала тоже с тайной чуда, и теми, кто ненавидит любое желание оторваться от земли, оторваться от себя в стремлении совершить чудо; у таких людей обязательно заложена, тоже от начала, какая-то чернота в крови и душная тьма в сердце, они боятся света и редко выходят под солнце, чтобы не высветилась истинная их сущность; это люди ночной и всегда тайной жизни, не верящие даже самим себе, и оттого от них в мире распространяется зло. И в самом деле, отчего один умирает, споткнувшись на ровном месте, а другой, срываясь с отвесной горы, с головокружительной высоты, остается жив и даже невредим?
Храм возносился в самой середине земли и в сердцевине Москвы, и в особые, неизвестные непосвященному дни он становился, многократно отражаясь в пространствах неба и реки, виден далеко окрест со всех рубежей русской земли; храм зарывался своим подножием в древнюю землю московского Чертолья, хранящую тайны многих веков, изрытую давно заброшенными ходами; здесь в любом, мрачном, полуосыпавшемся подземелье, которых достаточно сохранилось в этих местах и в наши дни, еще бродят кровавые, не обретшие покоя и до сих пор тени Ивана Грозного или Малюты Скуратова; здесь в его глухих узилищах каленым железом, палаческим кнутом да дыбою, под хруст боярских костей созидалась и приращивалась плоть и сила Руси; здесь взятые в железа и распятые на каменных склизких стенах усыхали и становились прахом спесь и земное честолюбие, и светоносный храм легко и воздушно возносился здесь на крови и прахе прежних поколений, дабы вечно возвещать истину о несокрушимости русского духа в ратоборстве, в защите отчей земли, в творческой мощи созидания и строительства, в высокой духовности помыслов и предначертаний грядущего. Устроительством храма, несмотря на его громадные, казалось бы подавляющие размеры, стройно и мягко уравновешивалась и усиливалась стрельчатая, многоглавая, рвущаяся ввысь панорама самого Кремля; по большим праздникам, в дни поминовения в храме помещалось до пятнадцати и двадцати тысяч человек, и каждый мог написать на его стенах дорогие имена, никем это не возбранялось. Облицованный бело-розовым мрамором и гранитом, покрытый на своих пяти главах золотом, храм невесомо парил над всей Москвой с ее густыми улицами и холмами, был виден далеко окрест, верст за двадцать и более, блистая в ясную погоду своим центральным громадным куполом. Освещенный через верхние узкие окна, облицованный внутри до самых хоров гладким мрамором, по карнизу которого вдоль всего храма шел ряд стеариновых свечей, — храм был особенно возвышен и строг и полон какого-то особенного настроения в момент, когда соединяющий свечи белый фитильный шнур загорался от поднесенного соборным сторожем на длинной палке огня. Огонек бесшумно и быстро перебегая от свечи к свече, словно от одного, уже ушедшего, поколения к другому, то ниспадая в пространстве между свечей, то отражая бег неумолимого времени в зеркальном пространстве мраморных стен, — храм являл собою материализовавшуюся наконец соборную мощь России — прошлое, настоящее, будущее ее народа — устроителя огромной и трудной земли, народа-воина, сумевшего отстоять, оборонить свою землю, народа-творца, стремившегося воплотить в храме высочайшую гармонию своих духовных устремлений, ощущение прекрасного в самой своей трагичности и вечности бытия. Целый пласт русской национальной культуры, казалось навечно впечатанный камень, мозаику, золото, иконопись, фрески, отразил мощный поток всей русской истории.
Казалось, храму стоять вечно. Тысячи землекопов и лошадей выбирали и вывозили землю из котлована вплоть до твердого, материкового основания, искуснейшие каменщики клали столбы, стены, пилястры, употребляя при этом вызревавшую годами в закрытых творилах известь на яичном желтке; вдохновенные художники расписывали своды, стены и арки больших и малых врат, оконные арки порталов, углы храма, паруса несущих столбов и ниши пилонов; художники своими творениями свидетельствовали этапы становления Руси, ее воинского и строительного подвига с самого ее начала; скульпторы украшали храм множеством наружных и внутренних горельефов, устанавливая и укрепляя их мраморами и специальными железами, заливая их от порчи водами жидким свинцом. Только на исполнение горельефов понадобилось семнадцать лет…
Наступила майская ночь перед открытием храма, тускло отсвечивали все двенадцать запертых бронзовых дверей, замерли колокола в куполах-колокольнях, большой, торжественный, призванный благовестить земле радость жизни, праздничный, воскресный, палиелейный, должный славить высший промысел, будничный, призванный веселить и укреплять человека в работе и вере, и все остальные вместе, сливающиеся в согласном многоголосом хоре, в торжестве жизни перед небытием. В легком серебристом звездном сумраке, разливавшемся по всему беспредельному пространству храма (в храме сейчас совершалось таинство воссоединения и укрепления всей Русской земли), проступили бесчисленные неясные тени ратников, заполнившие огромное, ставшее беспредельным пространство храма, они сошлись сюда из дали времен с копьями, мечами и щитами, с истлевшего железа на цветные мозаики из Лабрадора, шохонского порфира и цветных итальянских мраморов, выстилавших пол храма, падала густая ржавая роса и драгоценные мозаики начинали розовато светиться изнутри. Каждый на своем месте проступили из темноты: и Александр Невский, и преподобный Сергий Радонежский, благословляющий на битву великого князя Димитрия, и стоящих позади него Пересвета и Ослябю с мечами и препоясываниями в руках, и просветитель России святой Владимир, и просветители славян святые Кирилл и Мефодий, и еще множество славных мужей, положивших деяния свои и души в основание Руси, неразнимаемым трагическим замком сковавшей Европу с Азией и возвестившей миру согласие веротерпимости… По нижнему коридору храма пробежала живоносная искра, и в нишах его стен отчетливо проступили на всех ста семидесяти семи мраморных досках золотые письмена, повествующие о сражениях с французами, вплоть до взятия Парижа, с именами участников, получивших высшие награды, Георгиевских кавалеров, погибших и раненых офицеров и, как всегда, безымянно сообщающие общее число выбывших в каждом сражении нижних чинов. И тогда, неизвестно кем зажженные, замерцали бесчисленные свечи по всему храму, а в его колокольнях началось движение воздуха, тихо и ровно загудели колокола — каждый вплетал в общее звучание свой голос. От крестов и до гранита ступеней, ведущих к дверям, и ниже, к реке, храм исполнился тихого, ровного света и словно белый, теплый пламень облил его. Стали видны несметные сонмы ратников, не уместившихся в самом храме и стоявших в сомкнувшихся рядах и бесконечных порядках вокруг него в своих дружинах, полках и ратях, занявших из края в край все видимое пространство земли вокруг, и подходили еще новые и новые, и не было им числа, и это было памятью самой земли. Когда к Москве подступил майский рассвет, храм уже был каким-то иным — его золотые купола, первыми загоревшиеся над Москвой в предвестии нового дня, тихо плыли в недосягаемой высоте, — храм уже был приобщен к высокой и светлой тайне, переданной ему на вечное хранение самого народа, вознесшего его над Москвой и землей, дабы народ не заплутался во тьме, не истощилось бы его чрево и его дух, не погиб бы он, не видя больше света впереди. Святое и великое рождается и происходит в тишине и тайне — никому неведом завтрашний день и самые вещие письмена запечатлены во мраке грядущих времен…
И поэтому, когда над Москвой утром впервые ожили и заговорили колокола храма, возвещая так долго ожидаемый для всего русского народа момент, шпалеры войск выстроились от самого Кремля, от Боровицких ворот и до храма по набережной Москвы-реки, и далее вокруг храма; когда прибыли депутации от прославленных в войне полков, от казачеств Донского и Оренбургского, от всех губерний, снаряжавших народное ополчение, депутации от Москвы и Бородина, от городов, в которых происходили сражения, от Витебска, Кобрина, Красного, Смоленска, Вереи, Малоярославца, Вязьмы, Дорогобужа, Несвижа, Волковыска, Минска и Ковно и деревни Студянки; когда во время литургии, крестясь, утирали украдкой скупые слезы уцелевшие в немногом числе седые ветераны с медалями Отечественной на мундирах; когда наконец прибыл сам император Александр III и двор, и храм, окруженный снаружи широким помостом, обитым красным сукном, заполнило духовенство с хоругвями всех церквей Москвы; когда неисчислимые толпы ликующих и просветленных высокой минутой москвичей и гостей со всех концов России, крестясь и любопытствуя, затопили обе набережные и все прилегающие к храму свободные площадки, улицы и переулки, то все это и многое другое было уже лишь продолжением ночного таинства.
Преосвященный Амвросий Харьковский по окончании божественной литургии в своем обращении к народу напомнил слова пророческие, сказанные Иисусом Христом апостолам: «Я послал вас жать, над чем вы не трудились, а вы в труд их вошли», и это были слова заповеди не только императору и царствующему дому, но и всему народу о том вечном законе жизни, что все, вновь приходящие, наследуют созданное трудами их отцов, а затем возвращают долг свой сыновьям. И не оскудеет в народе вера в добро и в высшую справедливость, и касается она и монарха, помазанника Божьего, самого первого человека в государстве, и самого сирого и убогого — таков закон человеческий и воля космоса.
Стоял храм в центре земли, шли к нему из года в год стар и млад со своим горем и со своей надеждой, из года в год писалась незримая вечная книга времен, переворачивались ее страницы, жил народ, загорались и гасли свечи в храме, начинались и кончались войны, приходили и, отбыв свой срок, уходили поколения, сыновья сменяли отцов, внуки дедов, рождались люди с гордыней и алчностью в крови, шли по жизни, слепые от сытости, пиная умирающих от нищеты и болезней, и уходили люди такими же нагими, как и пришли, и провожали их проклятиями и стонами, А храм стоял, потому что каждый из приходящих на землю жаждал в душе вечности, и не было человека, не подвластного чувству красоты.
Гремели революции, замордованные, озверевшие, обманутые толпы, упиваясь силой ненависти, в слепом ожесточении поражали друг друга, сын убивал отца, брат брата, писатели с упоением описывали это как очищение; Россия из края в край покрывалась гноем, распадались связи столетий, воды рек текли, отравленные трупным ядом революций…
А храм стоял, овеваемый всеми ветрами, бушевали зимние метели, почти скрывая его, опять приходили весны, солнце играло в его золотых куполах, и, хотя внешняя жизнь в нем совсем прекратилась, большинство его служителей уже были убиты или сосланы на медленное умирание в Соловецкие лагеря, его внутренняя, нематериальная жизнь не замирала ни на минуту; невидимые связи прорастали все гуще и глубже в толщу народа, лучшие силы которого были разметаны жестокими ветрами по лику земли и тоже были обречены. Распятая Россия проводила бесноватые двадцатые, и потекли, набирая свой тяжкий и непредсказуемый бег, тридцатые, уже в самом начале заставившие мир оцепенеть.
А храм стоял, впитывал в себя необозримых пространств боль, страх, безмерную кровь и еще более безмерное горе, его мраморы и купола темнели, у колоколов его вырвали голос, они онемели, но не умерли — храм был памятью, верой народа, но даже эта его безмолвная жизнь раздражала и вызывала яростную ненависть.
И вот однажды, в самом начале осени, недалеко от храма остановились пять легковых автомашин; из них не спеша, с хозяйской гибкой ленцой, но цепко, не пропуская ни единой мелочи и частности, вышла охрана в штатском и незаметно заняла положенные ей места и точки; народу вначале казалось много, люди рассматривали и сверяли планы и карты, оживленно обсуждали их и даже спорили; позднее, во второй половине дня к храму подкатило еще несколько автомобилей уже более высокого ранга и опять с охраной, теперь густо оцепившей храм полностью; особая спецгруппа тщательно, не торопясь, по военному четко просмотрела все внутренние помещения храма. Сталин и Каганович, негромко переговариваясь, время от времени останавливаясь, обошли вокруг храма; Каганович напористо и весело объяснял, энергично жестикулируя и указывая на отдельные части храма, и даже издали было видно, как он напряжен. В своей обычной одежде, — в куртке и сапогах, без фуражки Сталин осматривал купола и горельефы храма, слегка щурился, ветерок трепал его густые, сильные, с проседью волосы — он их изредка, с удовольствием крепко приглаживал ладонью. Как никто другой сейчас, он понимал и желание Кагановича быть убедительным, и тем более именитых авторов проекта Дворца советов Иофана, Щуко и Гельфрейха, с которыми он накануне обстоятельно и долго беседовал, придирчиво вникая в их грандиозный, дорогостоящий замысел; но вместе с тем он отлично, в подробностях, знал другое, и в нем, как и всегда, шла непрерывная, нелегкая внутренняя работа: он взвешивал, анализировал, отбрасывал аргументы один за другим, вновь возвращался к отброшенному, и даже Каганович, считавший, что он хорошо знает Сталина и во многом влияет на него в полезную для дела сторону, не знал этой напряженной внутренней работы Сталина и думал, что хозяин сейчас доволен и со всем предстоящим согласен, хотя это было далеко от истины. Вот Сталин действительно исчерпывающе знал Кагановича и стоявшие за ним силы; за власть, тем более за безоговорочную, нужно уметь платить; окружающая его банда заставляла его спешить, бросаться из одной крайности в другую, и он хорошо понимал, что им, никогда не сталкивающимся с опытом управления огромной страной, необходимо держать народ в оглушенном, заторможенном от постоянного страха состоянии; но это же самое нужно и ему самому, нельзя дать пароду опомниться, прийти в себя и начать разбираться во всем случившемся; варварский план Кагановича, вызревший на зоологической ненависти к культуре и истории русского народа, вполне приемлем и, возможно, даже необходим, хотя, конечно, начинать генеральную реконструкцию Москвы, имея в кармане шиш, — политическая авантюра, игра, преследующая далекие, тайные цели; и опять, хочешь не хочешь, в эту игру надо включиться и даже поддерживать ее…
— Коба, а может, не заходить? — не совсем решительно спросил Каганович, останавливаясь у тяжелой бронзовой створки врат западной стороны, кем-то уже услужливо распахнутых для прибывших вождей. — Тебе надо отдохнуть, вечером…
— Я сам знаю о своих делах вечером, — оборвал Сталин. — Можешь подождать или уехать, если дела торопят.
— Коба…
Не слушая больше, Сталин не спеша шагнул в слабо освещенное ясное и мягкое пространство храма, залитое сеющимся из бесчисленных окон главного купола светом; за ним прошел и Каганович; едва шагнув в дверь, он, взглянув на Сталина, бывшего без фуражки, тотчас снял свою, открывая уже внушительную пролысину со лба до затылка, и все время, пока они находились в храме, держал ее в руке; он, хотя и уловил насмешливый взгляд Сталина, только переложил фуражку из одной руки в другую. Сейчас, несмотря на самоуверенный и по-прежнему спокойный вид, он, сильно озадаченный, старался не пропускать даже самой малости в поведении хозяина; это был один из непредсказуемых поступков Сталина, и его нельзя было ни вычислить, ни предугадать. Действительно, зачем хозяину было приезжать сюда самому, отказаться от сопровождения, от пояснений специалистов; пожалуй, скорее всего, это один из очередных непонятных и жутковатых спектаклей с его стороны, и сейчас важнее всего сохранить спокойный непринужденный вид, воспринимать происходящее совершенно естественно, идет обычная, повседневная, трудная государственная работа, с ее кровью, потом и грязью, хозяин волен поступать, как ему угодно.
Медленно пройдя нижним коридором мимо бесконечного, казалось, ряда мраморных плит, в хронологическом порядке излагающих сражения русских войск с французами, Сталин с Кагановичем вышли из-за алтаря под большой купол храма, и Сталин остановился. Главного иконостаса уже не было, кое-где у стен громоздились уродливые и чуждые царящей здесь гармонии как бы уносящегося ввысь почти беспредельного пространства грубо сколоченные леса, над ними зияли безобразные пятна штукатурки, оставшиеся после снятия фрагментов из настенных росписей; разрушение уже началось, и Сталин почувствовал раздражение. Подняв голову, он долго смотрел на распростершего руки по всему подкуполью Саваофа, окруженного сиянием и клубящимися облаками. От непримиримых глаз грозного Бога, пронизывающих любую твердь, устремленных, казалось, прямо в душу, перехватило дыхание, от напряжения он почувствовал шум крови в висках. В то же время в нем поднималась и какая-то мутная волна неуверенности перед предстоящим свершением. Шевельнулась и зависть; все здесь, возносясь к небу, безжалостно отторгало его от себя, от какой-то чистой, божественной красоты, правда уже оскверненной начавшимся разрушением. Такую красоту и божественную соразмерность могла создать только истинная вера в совершенство человека; именно в этот момент в его замкнутой, вечно настороженной от постоянной безжалостной борьбы душе сверкнула какая-то святая искра, и он поймал себя на том, что ему захотелось перекреститься. Он с трудом оторвался от всевидящих глаз Саваофа и стал смотреть на лик Сергия Радонежского, благословляющего в одной из ниш великою князя Московского Димитрия перед Куликовской битвой. В нем продолжало расти непривычное, расслабленное и угнетающее его чувство своей непричастности к этому стройному, продуманному миру святости и чистоты, в то же время в нем происходили уже некие неподвластные ему смещения. Каганович, давно изучивший привычки хозяина, обладающий в его отношении какой-то повышенной звериной чуткостью, тихо спросил:
— Хочешь побыть один, Коба? Хотя, пожалуй, я спросил глупость, прости…
— Здесь никого больше нет? — поинтересовался Сталин, невольно понижая голос, зазвеневший в пустом пространстве храма ясно и как-то по-молодому звучно.
— Мне дважды повторять не надо, Коба, — напомнил Каганович вполголоса. — Отвечаю головой…
— Подожди меня за дверью, — сказал Сталин и, оставшись в одиночестве, долго стоял, привыкая, все на том же месте, пытаясь вспомнить что-то далекое и дорогое, сам не понимая, что с ним происходит и почему он тратит время впустую. Затем глубоко в душе зазвучал тихий, грустный, родной, давно забытый мотив, глаза посветлели и заблестели; простенькая, полузабытая грузинская песенка о пахаре и земле пробилась в нем, и он понял, что стоит где-то у края бездны. И другие слова, уже не о земле, не о сладком сне наработавшегося молодого пахаря, стали рождаться и звучать в душе Сталина; он даже тихонько бормотал их вслух, запоминая; это были слова о храме и о нем самом, о минуте взаимного согласия и прощения ради будущей веры людей и будущей их любви, этого никто не мог понять, кроме самого, уже обреченного храма и его, Сталина, без колебания бросившего на весы истории себя и свою великую веру. «Храм, храм, храм, — бормотал он, — вечный храм неба, но человек выше храма, выше Бога, ведь без человека немыслимо бессмертие, только человек может ощутить сладостную пытку бездны».
Внезапно туго натянутая струна оборвалась, и показавшееся ему открытием и даже откровением отступило; вот теперь действительно остались на земле только храм и он сам, совершенно от всего свободный; опал груз трудной, упорной, глухой, лишь сосредоточенной на самой себе, жизни, все же остальное, что он пережил и, главное, что он знал, исчезло и не стало ни мучительных внутренних неурядиц, ни возни с ордами голодных, неустроенных людей, ни необходимости тащить на себе свору пророчествующих паразитов, сплетающихся в змеиные клубки оппозиции и заговоров, ни этой невидимой, легкой и самой прочной на свете сети, наброшенной на него с его же согласия, из которой ему так и не удастся, видимо, теперь выбраться до самого конца, — необходимо не забывать судьбу Ленина, одна отравленная пуля — вот и кончена гениальность. Исчезло сейчас и то, приводящее его в ярость, ощущение, что им управляет кто-то невидимый, держа за свой конец нитки, что он всего лишь кукла и приходится безоговорочно подчиняться… и он даже, пожалуй, знает своего кукловода, он даже смог бы избавиться от него одним неоглядным ударом, но сколько после этого отпущено господом Богом ему самому? День, неделя? Ну, может быть, месяц…
Пьянящее чувство безграничной свободы, ни заседаний, ни Троцкого, ни Европы с ее головоломками, с ее социал-демократизмом, пляшущим на такой же тонкой, прочной нити… Только он сам и храм, приговоренная к небытию красота.
И теперь ему уже хотелось еще большего, еще более полного слияния с возносившимся в строгой гармонии творением, с гармонией магических чисел, рассчитавших и утвердивших плавные, округлые, переливающиеся друг в друга, как сама жизнь, формы.
В какой-то, по робости и наивности, детской надежде быть понятым и услышанным, он подал голос. Храм молчал, ни отзвука в ответ, и он понял, что храм не принял его, отверг, и тогда, бросая вызов враждебному окружению, он крикнул громче — глухая, стылая тишина храма даже не дрогнула. Все время ощущая на себе пронизывающий взгляд из подкуполья, он, несмотря па охватившее его предостерегающее чувство опасности, понимая нелепость происходящего, но подчиняясь безрассудной бунтующей, переполняющей его силе, вновь впился сузившимися рыжими зрачками в огненные, беспощадные глаза Саваофа. Расплавленными сгустками падали минуты, выжигая в душе последнюю надежду на чудо, на прощение — Бог не хотел и не мог уступить, всеведущий взгляд Бога, казалось, свободно проникал в тайная тайных мрака одинокой души, куда никому в никогда не разрешалось даже приблизиться, и Сталин, маленький, почти неразличимый в величественном пространстве храма, в одну секунду покрывшись холодным потом, не выдержал. Скверное, хриплое ругательство сотрясло его самого бессильной ненавистью, и он, заслоняясь, поднял руку, вытер бледный лоб а затем, не решаясь больше искушать судьбу, что-то недовольно и зло пробормотал, теперь уже в адрес Сергия Радонежского, и, заставляя себя не торопиться, пошел к выходу, ощущая почти непереносимо острое желание поскорее выбраться, выбежать из этого давящего замкнутого пространства. Он даже не понял сначала, что пошел другим путем, и дверь оказалась закрытой; он в растерянности остановился, и мысль о предательстве, о том, что его просто хотят взорвать вместе с храмом, сразу пришла к нему. Он замер, осматриваясь. По полу в разных направлениях бежали электрические шнуры. Не торопясь, каждую минуту опасаясь оступиться, задеть что-нибудь опасное, он неуверенно двинулся в другую сторону и вышел к главным вратам. Они тоже оказались закрытыми. Он в недоумении остановился, ему послышался чей-то мучительно знакомый голос, уже когда-то слышимый, — он не мог спутать его ни с каким другим. Голос советовал ему идти прямо на старое место под главный купол, затем в заалтарную часть и налево. Сталин мог бы поклясться, что голос раздался наяву, по крайней мере, он не раз слышал его раньше. С тихой улыбкой, какая может появиться у человека, лишь когда он твердо уверен в своем полном одиночестве, Сталин пошел в указанном направлении и едва свернул в проход, ведущий в заалтарную часть, увидел рванувшегося ему навстречу Кагановича.
— Коба! Прости, так долго!
— Я сказал ждать меря за дверью, — медленно, борясь со взглядом Кагановича, напомнил Сталин. — Что-нибудь случилось?
— Ничего, я не мог больше ждать. А если бы…
— Никаких «если бы» не может быть и не будет, — отрезал Сталин, все-таки заставляя Кагановича опустить глаза. — Слышишь, Лазарь, ведь это все — тысячи лет. Как ты думаешь?
— Я думаю, Коба, главное — чтобы на тысячи лет вперед люди стали счастливыми, а это все никому не нужная рухлядь, засоряющая людские души. Мы выстроим свои дворцы. Кроме того, я же говорил тебе о кознях масонов… сам Новиков консультировал проект… А этот академик Тон, главный архитектор храма…
Не дослушав, Сталин коротко усмехнулся:
— Я все помню, ничего нового… Тебя с твоим родственником Иофаном можно лишь приветствовать за смелость и принципиальность, — в голосе у хозяина появилась какая-то непривычная раздумчивость, и Каганович еще больше насторожился. — Масоны строили храмы по всей Европе, по этой причине их до сих пор никто не взрывает. Ты, кажется, из бедной еврейской семьи, Лазарь, — спросил он после паузы, — Из киевской деревни Кабаны?
Каганович понимающе улыбнулся.
— Жизнь научила меня многому… научила быть и безжалостным, если нужно революции. Зачем нам в центре Москвы ритуальный масонский знак? Что касается родственников…
— Ты сейчас полон ненависти, — сказал Сталин примиряюще. — Я, Лазарь, понимаю, твоя ненависть нужна народу и Советской власти. Одно не годится: вокруг тебя слишком много бывших бедных евреев из малороссийских деревень… Неправильный подход к большому делу. Этот храм должны уничтожить сами русские… И несмотря на масонов.
— Коба…
— Ты, кажется, не все расслышал, Лазарь из деревни Кабаны? — спросил Сталин со своей особенной улыбкой, изрытые оспой мясистые щеки потянуло к вискам.
— Что ты, Kоба! — заторопился Каганович. — Мы все учли. Здесь даже главный инженер, взрывник — Иванов Иван Павлович. А комиссар спецгруппы — сын московского купца Тулич, православный, человек проверенный, преданный делу революции… Фанатик. Свой.
— Хорошо, хорошо, — хмуро оборвал Сталин и, не оглядываясь, почему-то не решаясь оглянуться, первым двинулся к ожидавшим поодаль автомобилям; солнце уже ушло куда-то за Москву, но купола храма еще ослепительно горели, словно все больше раскаляясь в закатном огне. Сталин так и не оглянулся. Москву бесшумно накрыла короткая майская ночь с неожиданной быстрой грозой, и отблески молний острыми зигзагами отражались в куполах храма. Откуда-то из тьмы вышел и приблизился к главному входу в храм заросший до самых глаз сумасшедший монах, весь в мокром, облепившем его рванье. Он что-то бормотал, затем, опустившись на колени и низко склонившись, поцеловал гранит и долго, до завершения грозы, молился и продолжал бить поклоны. Затем и он исчез. Храм остался в беспредельном одиночестве. Никогда больше не ожили, ликуя или тревожась, его колокола, никогда больше не осветили его стен теплые огни свечей, не потревожило благозвучное славословие. Храм был обречен.
И тогда вокруг храма и в его коридорах, хранилищах, притворах, на хорах и в алтаре, на его клиросах и папертях, во всех его иконостасах и пределах началось тайное воровское движение, хотя все самое дорогое, ценное и подъемное уже было давно вывезено и навеки утрачено. Приоткрывались то одни, то другие бронзовые двери, из храма исчезла последняя драгоценная утварь, расшитые золотом, серебром и каменьями хоругви, плащаницы; выламывались из своих гнезд дорогие иконы, пропадали дары и тяжелые от золота и украшений древние книги. Наконец, за океаны уплыл распиленный главный иконостас храма, проданный за гроши; оголяясь изнутри, храм, сопротивляясь, начинал все трагичнее и пронзительнее звучать под московским небом, особенно после снятия его крестов и волоченой кровли куполов.
И тем больше взоров и сердец он продолжал притягивать к себе; и в непогоду, и в летние долгие дни на его широких ступеньках, низко спускающихся к воде, розовых от предзакатного солнца, по-прежнему собирались люди; храм, несмотря ни на что, продолжал оставаться местом паломничества, здесь любили бывать совершенно бесцельно, обретая покой, смотреть в текучие воды реки, в летящее небо над куполами, на все еще кое-где поблескивающую позолоту.
Пришла зима, в голодной, замерзающей столице пронзительно выли метели. Извозчиков уже начинали потихоньку вытеснять автомобили, все безжалостнее сносились старые купеческие районы и русский ампир аристократических кварталов; Москва уже собиралась тихонько, по-черному, без елок и радужной новогодней канители встретить подступающий Новый год, а затем и Рождество. Часто гремели глухие взрывы, в густых клубах дыма и поднятой пыли рушились целые переулки и улицы. А как-то, взглянув на близлежащие к храму Волхонку и Пречистенку, жители увидели, что храм окружен сплошным высоким забором с предохранительным козырьком наружу. Темные слухи, один зловещей другого, волной накрыли Москву, слухи переносились мгновенно, за ними не могли уследить самые рьяные службы сыска и пресечения, устрашающе разросшиеся в последние годы; вокруг забора засвистели, заплясали декабрьские вьюги; заканчивался, повитый кровью и голодом, тридцать первый, и подступал тридцать второй, еще неведомый, но уже окрещенный моровым годом, над страной заплясали апокалипсические видения.
Студент Иван Обухов, освобожденный от занятий по случаю похорон скоропостижно скончавшегося отца для устройства семейных дел, торопливо шел знакомым с детства переулком; да, теперь им с матерью пришлось уплотниться из трех, оставленных им в восемнадцатом году комнат в одну большую, бывшую гостиную. С помощью нового, многодетного соседа-слесаря Иван соорудил в гостиной невысокую переборку из фанеры, оклеив ее с двух сторон обоями, чтобы мать, сразу рухнувшая после похорон мужа, имела свой уединенный угол; Ивану было жалко мать, уютную, домашнюю женщину, жившую только мужем и сыном и теперь пытавшуюся зарабатывать вязанием теплых носков и молодежных береток, входивших по своей дешевизне и простоте изготовления в те годы в моду. Но не мать и не бытовые неурядицы едва не свалили самого Ивана, а неожиданный уход отца, во всем бывшего для сына примером; это был редкий случай, когда сын с отцом как бы представляли нечто единое в духовном плане, они любили одни и те же книги, один и тот же балет, могли часами рассуждать, спорить о воззрениях русских философов-космистов, все больше о Федорове, пытались в его фантастическом идеализме нащупать иные, еще неизвестные ныне формы существования материи и тем самым понять и оправдать, разумеется, чуждые прагматическому марксизму или приземленности ленинизму философские, истинно космические концепции бытия; не менее страстно обсуждали они русскую философскую мысль девятнадцатого века, ее раскол, наметившийся еще с переписки Гоголя, и тут само собой перекидывался мостик еще глубже — к Аввакуму и Никону, к живоносному «Слову о законе и благодати»; Тютчев почитался у них как философская космическая вершина среди всех остальных поэтов; оба они еще и еще раз убеждались в непрерывности и закономерности течения жизни, грубо разрываемой у них на глазах новейшими декретами, самонадеянно объявлявшими, что все в природе и бытие человека начинается заново, практически с нуля, что наработанная тысячелетиями культурная и философская субстанция человечества отменяется, отменяются и Бог и небо, и главным становится идея превращения человечества в одномастное стадо с генеральным планом его казарменного процветания отныне и вовеки веков. Подобное можно было бы принять за бред, за навязчивую идею неизлечимого шизофреника, если бы оно не утверждалось на глазах у всего мира огнем и кровью, невзирая на любые жертвы и разрушения…
Отец страдал от варварства, как он решительно выражался, творимого в Москве новой властью, иногда не выдерживал, срывался, и тогда между отцом и сыном возникало некое отчуждение; отец был слишком резок и категоричен в оценках. Сейчас глуховатый голос отца, оживши, мучил Ивана, но это мучение было необходимой, утешающей болью.
«Шайка, самая настоящая шайка авантюристов и демагогов, — размеренно и четко говорил отец, теребя бородку. — Обманом захватили власть в огромной стране, ненавидят и презирают все русское, ненавидят саму эту землю, а она ведь поит и кормит народ! Он возрос на этой воде, на этом хлебе! Они воплощают чужеродные теории на русской почве — результаты больше чем уродливы, результаты катастрофические для здоровья народа!»
«Послушай, папа, не впадай в крайности. Нельзя же отрицать правомерность и необходимость революции…»
«Революции? — взвился отец. — Ты говоришь — революции? Лучше скажи — вражеская оккупация, тотальное разрушение культуры, истории порабощенного народа! Позор! Позор!»
«Успокойся, пожалуйста…»
«Даже Москвы не пожалели! — прервал отец, теперь уже ожесточенно терзая свою бородку. — Объявили столицей мира! А кого спросили? Тебя? Меня? Соседа? — Отец ткнул пальцем куда-то за спину себе в степу. — Русский народ спросили? Черта с два! Превратили прекрасный город в чудовищную казарму, просматривается из конца в конец с кремлевской вышки. Концлагерь! А кого спросили?»
«Право, успокойся, папа… Нельзя же так, у тебя только вчера было плохо с сердцем…»
«К черту сердце!»
Иван шел по Москве в легком, почти без подкладки длиннополом пальто, замотав шею толстым, теплым шарфом, связанным матерью, без перчаток и шапки, и, несмотря на довольно сильный мороз и ветер, не чувствовал холода; он вспоминал и думал, и перед ним неотрывно стояло лицо отца. И не такое, каким оно было в гробу, успокоенное и вечное, удерживающее от себя на почтительном расстоянии, а живое, с небольшой профессиональной бородкой, с умными, живыми глазами, с каким-то «сюрпризом», как любил говорить старший Обухов, намереваясь озадачить младшего неожиданной мыслью или догадкой по тому же Федорову или, на худой случай, по эсхатологическому устремлению русской души Бердяева… «Ах, отец, отец, — подумал Иван, а вернее, словно кто-то посторонний больно шевельнулся в нем и коротко простонал: — Зачем? Как же нелепо! Как же зря!»
Младший Обухов всегда был честен в проявлении своих чувств и привязанностей, это сыграло потом не такую уж и положительную роль в его судьбе — ученого и человека; он и сейчас, бесцельно бродя по начинавшей обледеневать Москве, и, уже выйдя на набережную, поднявшись куда-то по заснеженным широким ступеням, вдруг уткнувшись в высокий забор с широким козырьком поверху, растерянно остановился. Дальше идти было некуда, ему уже что-то громко и зло кричали от угла забора; к нему бежал солдат в жиденькой шинелишке, в сапогах и с длинной винтовкой, запретительно махая рукой, приказывая ему отойти от забора и следовать дальше своим путем. Было странно и больно и страшно, но именно в этот момент, он, кроме саднящей, кровоточащей утраты, почувствовал и освобождение от отца; в нем словно все разделилось надвое, и тогда он сказал себе, что это черное и страшное чувство скорее всего оттого, что теперь уже впереди никого больше нет, теперь только он сам остался впереди.
— А ну, гражданин, проходите! — запыхавшись, почти прокричал ему подбежавший солдат с заиндевевшими бровями и ресницами, с явным недоверием глядя на обнаженную голову, на пунцовые уши, нелепо торчащие над шарфом странного прохожего в легком длинном, каком-то поповском пальто. — Здесь нельзя, закрыто на ремонт!
— Пожалуйста, — равнодушно сказал Обухов. — Я что-нибудь сделал не то?
— Проходи, проходи! Здесь задерживаться нельзя, — вновь потребовал караульный, и в тот же момент к Обухову с другой стороны подошел уже старший, весь в коже, в ремнях и с маузером на боку, с узким лицом — из-под козырька теплой, с наушниками фуражки льдисто светлели острые глаза.
— В чем дело? — спросил узколицый, обращаясь больше к караульному, чем к Обухову, одним взглядом окидывая, словно фотографируя, нелепую, длиннополую фигуру студента.
— Да вот, товарищ Тулич, пришел и стоит…
— Простите, ничего я не пришел и не стою, — счел нужным пояснить Обухов. — Просто я часто здесь ходил, а теперь здесь забор. Вот и все…
— Придется обойти, — коротко бросил Тулич, — вот направо по набережной и дальше.
С молчаливой иронией поблагодарив за дельный совет, Иван пошел по ступеням вниз и уже с набережной оглянулся; караульный и его начальник в крепкой, подбитой чем-то теплым коже продолжали смотреть ему вслед, а вверху в метельном, ветреном небе, в разрывах туч над забором возносилась громада храма, в снежных вихрях в облаках угадывался его изуродованный верх. И тогда усилившееся до какой-то пронзительной ноты чувство утраты обожгло Ивана, выдавило на глаза слезы, и он, отвернувшись от ветра, опасаясь еще раз оглянуться, почти побежал прочь, нырнул в первый подвернувшийся переулок, затем в подворотню и опять оказался во дворе, забитом народом и военными — жителей всех близлежащих домов на время эвакуировали. Плакали дети, переругивались с милиционерами женщины; затаившиеся, но так и не сломленные московские старухи, обмотанные платками, крестились и грозились страшным судом; какой-то взвинченный нервный старик в пирожке и пенсне неожиданно остановил Обухова, когда тот проходил мимо.
— Вандалы! Вандалы! — прошипел он и без того растерянному студенту. — Поистине, диавол явился в мир!
— Простите. — Студент протиснулся в темный, заледенелый мусором дворовый проход, по прежнему видя перед собой беспощадные, льдистые, безоговорочно обрекающие глаза военного в коже, глаза явно нездорового человека, и продолжал их помнить долгое время, и через неделю, и через месяц, пока повседневная жизнь, ее заботы, молодость, горячие схватки на факультете не вытеснили из памяти эту тяжелую мимолетную встречу на зимней набережной возле храма. Сам же Тулич, комиссар отряда особого назначения, тут же забыл о длиннополой нелепой фигуре студента, одного из бесчисленных московских жителей. До назначенного срока оставались всего сутки, и нужно было проверять все, вплоть до последней мелочи. Конечно, за техническую сторону дела отвечали другие, но и здесь необходимо было смотреть да смотреть; надежным людям из спецгруппы Тулича, знающим подрывное дело, особые инструкции предписывали находиться и при пробивании шпуров в теле храма, и при начинке их взрывчаткой, и при подводке детонирующих электрических шнуров, и при установке приборов для регистрации колебаний почвы во время взрывов.
Каждые два часа приходилось докладывать о выполненной работе и своему начальству, и Кагановичу, и когда, наконец, подошел срок, у Тулича, от почти недельного недосыпания, от каменной пыли и резкого зимнего ветра, была непрерывная резь в глазах, и он часто кашлял. Но теперь с каждой минутой близился намеченный час, и Тулич, стоявший недалеко от техника-подрывника, сделал шаг в сторону, стараясь не упустить из виду главный барабан храма; Каганович, тоже выбрав самую удобную для наблюдения точку Боровицкого холма, откуда хорошо просматривался и храм, и происходящее возле него, торопливо поднес к глазам цейсовский бинокль, неоднократно от нетерпения отлаженный. Главный купол храма, придавленный низким небом, резко рванулся к глазам, и Каганович, слегка невольно отшатнувшись, быстро повел биноклем, выправляя его, и стал опять неотрывно смотреть на купола; в этот самый момент техник, невзрачный, маленький, непрерывно шмыгая красным от простуды носом, вопрошающе оглянулся на Тулича, и тот, преодолевая в себе минуту странной слабости, взглянул на часы и кивнул. Словно обрадовавшись освобождению, техник торопливо повернул ручку взрывной машины. Почти тотчас верхние окна главного барабана брызнули осколками стекла, из нижних окон, выдавленных взрывом, поползли клубы тяжелой бурой пыли и дыма, но храм лишь слегка вздрогнул. Маленький техник, виновато покосившись в сторону начальства и отсморкавшись, стал подсоединять к своей неказистой машинке концы очередной линии проводов, помеченных вторым номером. Он нервничал, гримасничал, то и дело испуганно поглядывая на Тулича, шмыгал носом; через полчаса он вторично крутанул рукоятку своей машины. Теперь и Тулич, и расставленные вокруг храма в разных местах караульные, и даже Каганович на своем наблюдательном пункте на Боровицком холме, казалось сросшийся с биноклем, увидели тяжело вздрогнувший главный барабан — был подорван второй несущий столб. Из верхних и нижних окон опять выдавило густые клубы дыма и пыли, неровной лавиной потекшие вниз к основанию храма; взрывная волна ушла в глубины и пустоты древнего Чертолья, докатилась по тайным, давно заброшенным и забытым подземельным ходам до самого Кремля и теми же путями — к дому Пашковых. В одном из забытых древних подземелий от сотрясения просыпались со стены, сразу же обращаясь в прах, державшиеся в старых ржавых железах, навечно замурованных в стенах, истончившиеся от времени человеческие кости; неведомая даль веков перекликалась с происходящим.
Храм не хотел умирать совсем, послышалось гудение его немногих уцелевших и теперь потревоженных колоколов. На окрестные улицы и дворы стал высыпать народ — дети, старухи, женщины, старики. Весть уже катилась по Москве, и везде, откуда был виден храм, появлялись люди, они выходили на балконы, прилипали к окнам домов, крестились и плакали. Среди белого дня, на виду всей Москвы, на глазах народа, рушили храм, воздвигнутый во славу отцов и дедов, во славу их обильно пролитой на ратных полях крови, — это подавляло окончательно.
Чувство скорби и мрака поползло над оскорбленной и обесчещенной Москвой, проникая сквозь все преграды и достигнув, наконец, самих инициаторов и исполнителей этого злодейского дела, заставившего ужаснуться просвещенный мир.
Предвидя нагоняй от самого хозяина, Каганович стал звонить и, подогревая себя, кричал в трубку о предательстве, о самых невероятных карах и наказаниях за саботаж, а затем и вовсе зашелся в дикой матерщине, к ужасу и без того потерявшего дар речи главного инженера «Союзвзрывпрома», ведомства уникального и архиреволюционного, призванного продолжить безжалостное разрушение отжившего мира российского и мирового мракобесия. Главный инженер, проклиная себя за недогадливость заболеть на несколько этих смутных и грозных дней, в ответ только нечленораздельно выкрикивал на разные лады: «Лазарь Моисеевич! Лазарь Моисеевич! Исправим! Сделаем! Лазарь Моисеевич! Исправим! Сейчас же исправим! Головы сниму!»
Когда Каганович бросил трубку, взмокшего с ног до головы главного инженера бил нервный озноб; еще большая растерянность и паника охватили непосредственных исполнителей. Простуженный техник наотрез отказался от дальнейшей работы; у него в одночасье обметало губы, веки покраснели и распухли, и разбираться в клеммах и проводах пришлось другим. Шли дорогие минуты, и на Боровицком холме уже опять появилась коротконогая черная фигура Кагановича с биноклем; за ним в почтительном отдалении толпилось еще несколько человек, пританцовывая от мороза и проклиная непокорный храм, все они, и помощник Кагановича по горкому, и начальник его личной охраны, и два консультанта, взятые на всякий случай, и трое связных, все, как один, в довольно высоких чинах, думали сейчас о своих неудобствах и с нетерпением ждали завершения и возможности разойтись и разъехаться по другим своим делам, и никто из них, в том числе и сам Каганович, и представить себе не мог, что рубеж этот будет отмечен всем человечеством как акт вандализма, что та самая партия, которую они провозглашали самой прогрессивной и передовой силой в мире, этим своим очередным деянием будет еще раз заклеймена как бессмысленная разрушительная сила и что народ, который они уже во многом обескровили и привели в нужное для своих целей покорное и тупое состояние и о котором они думали как о безропотном и безгласном строительном материале, но который все равно хранил в не доступных никому тайниках запасы сил на самый крайний, последний случай, хранил неприкосновенные возможности возрождения, никогда им этого не простит и не забудет. И никто из многочисленных изолгавшихся и тайно ненавидящих друг друга вождей и подумать не мог, что стихия народного бытия сама по себе являлась сокровенной тайной, что только сам народ, в отличие от любых гениальных теоретиков, как правило, бесплодных, генерирует и хранит в себе опыт подлинной, реальной жизни, и его душа развивается только исходя из гармонии и смысла личного национального опыта, и что любой человек, даже самый никудышный, с порочными началами, волей-неволей, но подчинен именно этому закону, и даже творя злые дела, действует согласно ему. Очевидно следует добавить, что именно вожди, залитые с головы до ног кровью, и не могли так думать — каждый выполняет то, к чему его подготовила жизнь, и ничего иного он сделать не может.
Твердо уверенный в несознательной симуляции, Тулич хотел арестовать заболевшего техника, но тот взглянул на него просящими, совершенно больными, страдающими глазами маленького испуганного человека, и Тулич махнул рукой; подготовка к подрыву третьего опорного столба завершилась, и оставалось лишь повернуть ручку. Техник уже исчез, все вокруг стояли с тусклыми, напряженными лицами, стараясь не глядеть друг на друга. Мгновенно оценивая обстановку, стремясь к скорейшему освобождению от тягостного дела, Тулич подозвал пробегавшего мимо рабочего с веселыми, радостными глазами.
— Ну-ка, друг, давай поверни!
— Что повернуть-то? — переспросил рабочий с детской готовностью, теперь уже совершенно обрадованный вниманием такого высокого начальства и окидывая собравшихся быстрым взглядом.
— А вот ручку… ну, ну, давай, давай, — указал Тулич на взрывную машинку, и рабочий, с той же веселой, охотной улыбкой на лице, резво крутанул указанную железку. Глухой и сильный взрыв надсадно, изнутри, толкнул землю, застонавший огромный барабан храма, слегка накренившись во взлетевших вокруг него и выше его смерчах пыли и дыма, словно поддерживаемый ими, мгновение неподвижно висел в воздухе, и у Тулича замерло сердце. Барабан целиком, заваливаясь южной стороной, набирая скорость, уже рухнул с пушечным гулом, поднимая новые тучи пыли и дыма; заглушая шум города, пробился из земли и повис над Москвой долгий, затухающий стон, и тогда храм умер; близлежащая Москва болезненно вздрогнула, и Каганович на Боровицком холме в стремлении приблизить к себе происходящее возбужденно потянулся вслед за биноклем.
— Ух ты, как ахнуло! — глуповато восхитился рабочий, подняв жидкие светлые глаза на Тулича, и все еще по-детски, словно жалея отпускать подвернувшуюся забавную игрушку, поглаживал рукоятку взрывной машинки.
— История… Всего лишь вздох истории, парень, — тихо отозвался Тулич и, чувствуя тяжелую, валящую с ног усталость, шагнул к телефону докладывать. Он не успел, прибежавший из оцепления караульный громким сиплым голосом сообщил, что от взрыва завалился забор и на развалинах храма каким-то образом оказался поп, лезет выше и выше, не оглядывается даже на выстрелы. Бросив трубку, Тулич, тяжело топая, метнулся вслед за охранником; отмечая особым боковым зрением возникающие зыбкие человеческие ручейки и на той стороне набережной, и на этой, он, протопав по звонким, промороженным доскам лежавшего на земле забора, замер. Перед ним возвышалась еще дымившаяся бесформенная гора из изуродованных стен, столбов, железа, балок, створок врат, колоколов; главный барабан храма, сорванный силой взрыва и рассеявшийся при ударе о гранитный тротуар, лежал чуть в стороне. От стройного, величественного, божественного по своей гармонии здания осталась уродливая, перемешанная взрывами груда камня, и Иисус Христос, уцелевший в арке над средними вратами, посерел от пыли и смотрел в помутившийся перед собою мир уже ничему не верящим и ничего не выражающим взглядом. Надпись под ним «Азъ есмъ дверь», мгновенно выхваченная взглядом Тулича, еще больше ошеломила его, едва не пробудила дикий пароксизм смеха, но он тут же забыл об этом. Высоко на развалинах храма, на высоко торчавшем обрубленном взрывом столбе, над грудой обломков, искореженных металлических креплений темнела маленькая темная фигурка в развевающемся от ветра черном подряснике. Каким образом человек взобрался на совершенно отвесный столб и оказался на такой высоте, было загадкой. Ветер усиливался, летел сухой, редкий снег; человек в черном подряснике, с летящими длинными волосами простирал руки к городу и что-то кричал — ветер относил его слова в сторону.
Тулич полез по обломкам выше, сорвался, расцарапал руки и выругался. Человек на столбе проклинал расстилавшийся перед ним город в его жителей, и всю землю вокруг этого адского города, предавшегося сатане. Подобравшись ближе, Тулич теперь хорошо слышал голос человека на столбе и хорошо различал его искаженное мукой, залитое слезами лицо. И человек, проклиная, теперь обращался к Туличу, которого он каким-то образом заметил среди развалин. Слова, падающие раскаленными сгустками и возвещающие гибель богомерзкой земли и погрязшего в скотской мерзости ее народа, тупо отдавались в мозгу у Тулича. Он знал, что за ним со всех сторон наблюдают, и знал единственное, необходимое здесь средство. Он попытался вступить в переговоры, советовал опомниться, спуститься вниз, но тот, простерев руки в сторону Кремля, проклял его кровавые звезды, иноземного царя ирода, обольстившего народ и ведущего всех к поруганию и гибели. И в туманившемся мозгу у Тулича мелькнуло, что это тоже плата за первородные грехи революции, ничего больше нельзя было остановить и тем более повернуть назад. Спасаясь от подступившей, застилающей голову, уже знакомой ему черноты, понимая, что этого под десятками ждущих взглядов допустить нельзя, Тулич вырвал из кобуры маузер, вскинул руку и, почти не целясь, выстрелил. Черная, нелепая фигурка на столбе, надломившись, обрушилась вниз; человек в черном еще успел взглянуть в сторону Тулича, и затем его тело глухо и как-то сыро ударилось о камни. Тулич вложил маузер в кобуру, ловя вздрагивающими пальцами кнопку, застегнул ее и хмуро, слегка дергая правой щекой, приказал бойцам из оцепления и своему заместителю Куркину:
— Убрать… Выявить личность…
— Тебе, комиссар, выспаться надо, — с грубоватой заботливостью сказал Куркин, простуженно покашливая. — Теперь что ж… наша работа кончилась…
Тулич ничего не ответил, дождался смены и к вечеру, когда Москва еще только начинала осознавать случившееся, решил пойти ночевать не на Сретенку к давно знакомой женщине, бывшей с ним в самых дружеских отношениях и давно намекавшей, что им пора пожениться, а почему-то к матери, на Петровку — его словно сами собой понесли туда ноги. Увидев перед собой мать, маленькую, в черном платьице и темном капоре, он стащил с себя фуражку и поцеловал ей сморщенную, чистую руку, она же — привычно ткнулась сухими губами ему в вихрастый затылок.
— Как давно я тебя не видела, сынок, — сказала она. — У меня морковный чай есть… очень полезный… кусочек вареного сахару, на старинные кружева выменяла… раздевайся, сынок. Как же от тебя табачищем несет — что за времена на Москве! Опять что-то взрывают… Господи Иисусе, сохрани и помилуй. Как хорошо, что ты Виталик, вспомнил…
— Служба, мама, — простуженно, в нос сказал он, расстегивая ремень и сразу опускаясь на небольшой диванчик и закрывая глаза.
К вечеру в Москве разыгралась декабрьская метель, на московские вокзалы со всех сторон плелись и ползли бездомные, чумазые, закоченевшие; их оказалось много со всех концов потревоженной России, никакие вокзалы или трущобы, никакие подвалы и вентиляционные колодцы не могли их вместить. Стремясь получить хоть каплю тепла и жизни, они замерзали прямо на улицах, в подъездах, на люках канализации; ослепшая от крови Россия, слабея с каждым новым судорожным рывком в неизвестность, уже не могла остановиться.
В этот же вьюжный декабрьский день, с небольшим перерывом на легкий ужин, в своем просторном, теплом кабинете работал Сталин; он умел и любил работать; недалекие взрывы с Чертолья дошли и до него, он почувствовал вздрогнувшие стены и пол — недоуменно поднял глаза и, сразу же вспомнив, недовольно нахмурился, и, когда потом взрывы повторялись, уже не отрывался от дела. Внимательно просматривая обязательную ежедневную сводку важнейших внутренних событий, он кое-где ставил отметки. Лицо у него привычно отяжелело; открыто выступающих против не убавлялось, но другого пути не было. Он придвинул к себе другую папку, подготовленную советниками по крестьянскому вопросу, раскрыл ее, внимательно перечитал письмо Горького с заверениями в полнейшей поддержке и одобрении революционным, глобальным переменам в деревне. «Странно, — думал Сталин, — романтические, удаленные от реальной жизни люди понимают всю глубину и необходимость происходящего, а ученые, экономисты — нет. Схоласты, а то и похуже. Вот именно „переворот почти геологический, — опять повторил он про себя удачное определение знаменитого писателя, — неизмеримо больше и глубже всего, что было сделано партией“. Полная поддержка и понимание! „Уничтожается строй жизни, существующий тысячелетия, строй, который создал человека крайне уродливо своеобразного и способного ужаснуть своим животным консерватизмом, своим инстинктом собственника“. Что ж, такие, как Горький, приходят к пониманию революции не сразу, зато прочно, надо привлекать их к работе с большей настойчивостью и открытостью.
Сталин сделал несколько быстрых пометок в рабочем блокноте, закурив, отошел к окну и почти сразу же, вспомнив, поспешил обратно. Пришли срочные сообщения о событиях в Германии, за ней особенно пристально начинали следить не только в Англии, Франции, Италии и Соединенных Штатах Америки, на политическую жизнь в этой стране уже начинали влиять в нужном направлении тайные могущественные международные центры, на много лет вперед планирующие войны, и для этого с изяществом цирковых фокусников меняющие президентов и правительства почти в любой, даже кичившейся своей, якобы полнейшей демократией, стране. Сталин, получив донесения от секретнейших агентов и сопоставляя их, пытался разобраться в сверхзапутанной головоломке, всегда находящейся в основе любой политики и дипломатии; он тут же стал думать о скрытых мировых силах, пытающихся удерживать под своим неустанным контролем его самого и направлять его планы и действия в нужную только для себя сторону.
Отодвинув шифровки, он встал, прошелся по кабинету, придерживая больную, нывшую к непогоде руку у своего локтя, затем, сложив секретные бумаги в синюю картонную папку, тщательно завязал ее, отнес и запер в личный сейф, убрал ключи, стараясь больше не думать о неприятном: о степени своей зависимости от тех же могущественных международных центров; ими для России давно уготована участь колонии, не важно, каким путем это будет достигнуто, через изнурительные войны с соседями или через внутреннюю, еще более опустошительную, обессиливающую революцию….
Сталин почему-то неприятно и некрасиво поморщился от своей мысли, она тотчас связалась у него со своей собственной ролью в идущем процессе; он почувствовал, что он не один, рядом с ним находится кто-то еще, и по всей видимости, уже давно, с час или больше. Медленно повернув голову, он увидел у дальнего окна смутную фигуру, в темном одеянии, ниспадающем длинными складками с плеч, высокий чистый лоб, внимательные, вбирающие и грустные глаза. Сталин сдержанно улыбнулся, это было его давнее желание — иметь собеседника, с которым можно было бы быть до конца откровенным; он словно и ожидал этого именно сегодня. Гость заговорил, и Сталин сразу узнал его голос, не раз уже звучавший и раньше. Теперь Сталин молча и обреченно смотрел, стараясь себя успокоить и оправдать, понимая, что отныне его жизнь пойдет совершенно иначе.
«Надо бы тебя поздравить, свершилось, Coco, — дружески сказал гость, отрываясь от стены и останавливаясь у стола, по другую его сторону от хозяина кабинета. — Я готов начать твою летопись… Хотя, между нами говоря, о тебе догадывались уже давно».
«Знаешь, я не виноват в случившемся, — ответил, подумав, Сталин. — Лучше бы тебе писать за другими…»
«Не беспокойся, за каждым пишется, — заверил его незнакомец с приятной улыбкой, и на лбу у него появилась глубокая вертикальная морщина, отчего черты лица обозначились резче и яснее. — Каждому воздастся по вере и по делам его».
«Какие высокие слова, — с досадой вздохнул Сталин и с неосознанным вызовом добавил: — Не слишком ли много шума из-за пустяка? Что случилось? Мы только в самом начале…»
«Мог бы прописных истин не напоминать, — ответил гость, от которого исходило тихое успокоение. — Тебе уже никто не сможет в твой срок помешать. Твое — тебе…»
«Расскажи свою басенку другому, — желчно возразил Сталин, — ты, очевидно, просто плохо знаешь людей…»
«А никто не знает, ты тоже их не знаешь, не надо себя обманывать, — показывая характер, не унимался незнакомец, он ничуть не смущался тяжелого предостерегающего взгляда хозяина. — В лучшем случае, можно постараться понять, хотя и это довольно непростая задача… Ты, конечно, не веришь мне, но это дело времени. К сожалению, прозрение к человеку приходит поздно. Даже к самому умному… Может быть, истина в этом, а?»
«Ничего, время выявит правого, — не согласился Сталин. — И почему ты такой кислый? У тебя зубная боль? От твоего вида энтузиазма не прибавится. Разве я этого ждал?»
«Ты думаешь, общение с тобой такая уж приятная вещь?» — усмехнулся одними глазами незнакомец.
«Я ничего подобного от других не слышал, ты, надо думать, забываешься», — оскорбился Сталин, в то же время не решаясь отвернуться, чтобы не упустить из виду своего гостя.
«Все ты слышал, Coco, не надо лгать, — опять приятно улыбнулся незнакомец. — Ты себе цену знаешь. Ты тоже не ахти какой весельчак. Так что будем квиты».
«А может, нам лучше сразу и расстаться? У меня и без тебя голова трещит», — сказал Сталин, чувствуя непривычную странную бодрость, даже юношескую свежесть — его тело окрепло, голова прояснилась, и старая боль из слабой руки ушла.
Гость не успел ответить — вошел помощник и сообщил, что в приемной товарищ Каганович.
«Прими его, он принес радостные вести», — неожиданно сказал гость, опережая заработавшегося допоздна хозяина кабинета, хотевшего отложить встречу, и тогда Сталин хмуро кивнул, соглашаясь, и так же хмуро, повернувшись к двери, встретил Кагановича с оживленным приветливым лицом, в туго затянутой ремнем гимнастерке, на ходу приглаживающего остатки волос за ушами. Он улыбался, и только врожденная жестокость таилась в морщинах у губ и в глубине глаз — восточных, более непроницаемых, чем у самого Сталина. Еще с порога почувствовав настроение хозяина, он не успел поздороваться.
— Говори, — сразу же резко сказал Сталин, не приглашая ни проходить, ни садиться, впиваясь тяжелым взглядом куда-то в переносье пришедшему, но закаленный боец, каким давно уже был Лазарь Моисеевич, не дрогнул даже в своей приветливой и радостной улыбке.
— Знаешь, Коба, величайшее мы сегодня дело свершили, по-большевистски открыто и прямо, для всего мира, главное, для российского народа, — возбужденно заговорил он, однако не переступая указанной ему черты и продолжая стоять недалеко от двери. — Задрали мы сегодня подол матушке России, сам наблюдал — славно, славно задрали, закачаешься! Ты вчера говорил про необходимость съезда колхозников, вот и надо поручить Ярославскому пропагандистскую сторону. Возить на место храма на экскурсии… Пусть и развалины работают. Теперь только не останавливаться — дальше, дальше, дальше! Только так!
Напряженно, теперь с некоторым любопытством, Сталин продолжал смотреть на Кагановича, безошибочно угадывая его самые тайные мысли и надежды, в которых тот никому, даже самому себе никогда не признается, завиралистые и гордые мысли о человеке, вышедшем из бедной еврейской семьи и волею судеб, но больше силой своей воли выбившемся на самый верх и теперь вершившем делами огромной страны, всегда им ненавидимой, и ненавидимой с каждым годом все больше, о человеке, поднявшемся с самых низов, из самой грязи жизни, умело и ловко направляющем действия и самого Сталина, избранного тайными мировыми силами для окончательного разрушения России и расчистки места под иное, всемирное и вечное строительство, но и на таком, дух захватывающем, вираже Сталин не выдал себя ни единым движением или тенью в лице. Его взгляд, устремленный на своего ближайшего сподвижника, даже смягчился; ну, ну, сказал себе Сталин с неожиданным удовольствием, московское метро твоим сияющим именем мы, конечно, назовем, а вот кто кого переиграет, еще посмотрим, ведь даже там, где ты уверен в своем первоапостольстве, вершится, прежде всего, моя воля, без меня больше ничего и никогда не будет делаться в этой стране. Народ должен привыкнуть к любым поворотам, любым жертвам, ему зла не хотят. Порезвись, Лазарь, по-настоящему, по-крупному обламывать рога надо не дожидаясь особых причин. Опять ведь только своих тянет, уже и Ярославского пристегнул… Ну, ну, ничего, давай, давай… Бери себе Москву со всеми ее первопрестольными игрушками, бери, бери, попробуй искорени старую, дикую веру, ты мне отдаешь гораздо больше — власть, и отдаешь мне себя со всей своей сатанинской силой, и еще неизвестно, кто выиграет, наша с тобой игра стоит свеч. Имея в руках такую страну, можно и потягаться… Будет власть, придет нужная вера, вопрос второй.
Многое пронеслось у него в голове в одно мгновение, но тотчас тайный холод коснулся его. Ошарашивая Кагановича, он негромко и отчетливо сказал:
— Молчи, дурак… Такие дела делают молча, не орут на площадях…
— Мы одни, Коба, — растерянно напомнил Каганович, не чувствуя ни малейшей своей вины.
— Молчи! Нам не в чем и незачем оправдываться. Нас оправдает история, будущее, только и орать незачем! Орет неуверенный в себе, в своих решениях и поступках… Мы никогда одни не бываем! Не можем быть! С нами обязательно всегда кто-то есть! — теперь, явно противореча своим словам, уже даже в каком-то безрассудном бешенстве выкрикнул Сталин, дергая усами и оскаливаясь, и Каганович, почти никогда не бледневший, стал медленно и неудержимо сереть; он очень не любил неуравновешенных срывов хозяина, в такие моменты ему все чаще начинало казаться, что ему больше не справиться с собой и не удержать готовый вырваться из тщедушного, невзрачного горца адский огонь, давно угаданный и определивший выбор хозяина, огонь, начавший бы без разбору пожирать вокруг и чужих и своих.
На этот раз Сталин успокоился неожиданно, через минуту, ничего не объясняя, он отпустил Кагановича, а сам уже опять думал о Европе, в самом центре ее начинало побулькивать какое-то зловещее варево, что ему активно не нравилось. Нужно было бы во что бы то ни стало заставить эту старую шлюху особенно-то не разъерошиваться, заставить ее почаще оглядываться и сюда, на восток.
Сталин давно забыл о поверженном храме, о Кагановиче, а вот сама Москва, после безраздельного пятилетнего хозяйничания Лазаря Моисеевича, окружившего себя такими же, как и он сам, выходцами из народных низов, вроде просветленно романтического Никиты Сергеевича Хрущева или приземленно реалистического Николая Александровича Булганина, и защитившись ими и их безоговорочным романтическо-реалистическим энтузиазмом по коренной переделке старого мира, Лазарь Моисеевич со своими московскими соратниками и вождями, с каким то страстным, почти необъяснимым сладострастием уничтожил в первопрестольной более двух тысяч красивейших исторических памятников, и Москва была исключена из числа десяти красивейших столиц мира. Правда, она оставалась по-прежнему непокорным и непостижимым городом, и все ее жизненно важные, определяющие ее дух и ее самосознание народные движения ушли теперь глубоко вовнутрь (здесь вожди и соратники оказались бессильны), неустанно продолжая развиваться и осуществлять главнейшую свою задачу — собирать и укреплять душу самого народа; глубинные национальные движения сделались теперь окончательно не подвластными никаким правительствам, тем более никаким проходимцам и политическим авантюристам. Вначале же на пугающем весь мир своими размерами кладбище русской культуры должны были вновь отрасти и укрепиться корни.
2
Лес расступился неожиданно; одолев глухой дубовый кустарник, росший в этом месте сплошной стеной, Петя невольно остановился, заморгал. Тяжелая лесная сырость и духота кончились, потянуло сухим ветерком. Он резко прыгнул через толстую, поросшую густым мхом валежину, подвернул ногу, присел и, зверски оскалившись, выругался. Что-то заставило его поднять голову; в глазах у него мелькнуло недоверие. «Ну и ну», — тихо сказал он, поднялся и, прихрамывая, сделал несколько неверных шагов.
Каменные руки, вырвавшиеся, казалось, в безотчетном порыве из самой земли к высокому сквозящему небу над мелколесьем, озадачивали, и Петя, расстегнув ворот рубашки, не замечая липнувших к потному телу комаров, долго, пока не закружилась голова, смотрел на молящие кого-то о милосердии плоские, грубо вырубленные ладони, рождающие ощущение неуверенности, и скоро во всем небе остались только они одни. Солнце низилось, ладони окаймляло холодное летучее пламя; у Пети вдруг оборвалось сердце, каменные ладони качнулись, надломились, тяжко обхватили его и взметнули к небу. Длилось это какое-то мгновение, затем осталась лишь темная уходящая боль, едва не остановившая сердце. Со всех сторон егопо-прежнему окружали глубокое, бархатно-синее, быстро угасающее небо и застывший в мертвом молчании лес; зажмурившись, он рванулся назад к земле и, вцепившись в нее, долго не мог заставить себя открыть глаза. «Вот чепуха! — возмутился он. — Не хватало мне еще этой лесной чертовщины… Откуда?» Внутренний голос приказал ему успокоиться; ничего особенною не произошло, просто аукнулась давно отлютовавшая, по словам деда Захара, в этих лесах война. Так тоже бывает, сам он здесь ни при чем, сам он здесь нечто случайное, ненужное…
Каменные руки одиноко и отстраненно вздымались в синее, еще больше отодвинувшееся, глубокое небо, но Петя по-прежнему, не решаясь оторваться от земли, лежал на спине, жуя какой-то горчивший стебелек; жизнь все-таки малопредсказуема, он уже в этом убедился. Вот и после гибели отца в авиационной катастрофе он так и не смог полностью прийти в себя; просыпаясь глухими ночами от ощущения присутствия рядом именно его, отца, начинал, как вот сейчас, перебирать всю свою прежнюю жизнь, судить себя, хотя и перебирать особенно было нечего и судить не за что. Случившееся же с ним сейчас среди глухих зежских лесов тоже, вероятно, выходило за рамки объяснимого и даже разумного: его непреодолимо тянула, словно бы вбирала в себя разверзшаяся мучительная даль, и он приказал себе больше не смотреть на вздымающиеся ладони в вечернем, быстроопадавшем небе над лесом; его плотно окружал щебет птиц, и шелест листвы, и стрекот кузнечиков, и какие-то другие, ухающие, приглушенные, словно разлитые в самой земле звуки, живущие только в низких болотистых местах — и то в предвестии солнечной ровной погоды. Пахло грибной сыростью и почему-то дымом; пожалуй, он забрел слишком далеко от дедовского кордона в незнакомую, самую глухую часть зежских лесов; пора возвращаться.
Он встал, раздвигая заросли мелкого дубняка, начинавшего забивать весь остальной подрост, пробрался к самому мемориалу. Каменные ладони вздымались вверх из основания, скрытого в земле; Петя теперь близко увидел бетонный язык пламени, с трудом пробивавшийся из буйной летней зелени и тем самым как бы усиливавший ощущение трагичности жизни, обреченности человеческой тщеты: «Мы тоже жили, — словно бы прозвучал из самого камня чей-то задушевный стон. — Мы жили, а теперь стали травою и лесом. Родимые! Вы слышите нас? Нас сожгли всех вместе — детей, женщин, стариков — в пору золотых листьев, в сорок втором, в конце сентября, но мы были! Были! Вы прислушайтесь, и вы нас услышите…» Петя замер и даже затаил дыхание; крик действительно жил в самом камне, давным-давно умершие, умолкшие голоса сочились, текли из камня глухим шелестом. Мертвая деревня, уничтоженная немцами в последнюю войну вместе с жителями, деревня-призрак, робко проступала из буйного разлива летней зелени; обозначая бывшую улицу, тянулась цепочка бетонных кубов — одинаковых, серых, наполовину скрытых свежей, изумрудной травой.
Петя нерешительно ступил на нехоженую, густо заросшую улицу и почти сразу же вновь остановился. Мертвая лесная деревня называлась когда-то Русеевкой, о чем он тоже узнал из надписи на памятной плите, языком огня пробивавшейся из земли; он поймал себя на том, что все время на разные лады повторяет про себя это тихое, успокаивающее слово: «Русеевка, Русеевка… Русеевка». Медленно, стараясь, ничего не упустить, он заставил себя двинуться дальше; ему еще никогда не было так неловко, стыдно перед жизнью за свою ненужность, бесполезность; почему-то по-прежнему не шел из головы отец, казалось до самой последней минуты все время что-то упорно, непрерывно отыскивающий и обжигающийся (даже ожоги жизни были для него смыслом движения) и в один момент своей бессмысленной и нелепой гибелью опровергший и себя, и все свое прошлое. Всегда неспокойная стихия утихла, слилась в один серый цвет, в одну ровную, едва дышащую поверхность, от горизонта до горизонта одинаковую и безжизненную; и Петя не мог этого понять, не мог с этим примириться, и попытки со стороны родных и близких растормошить его не помогали. Он даже себе не мог признаться в главном, все его существо перевернула одна-единственная, внезапно открывшаяся истина: слова отца, не раз говорившего ему о необходимости спешить, не терять в жизни напрасно ни одного часа, ни одной минуты, казавшиеся в свое время всего лишь раздраженным ворчанием уставшего, замученного вечной спешкой и необходимостью долга человека, обернулись теперь знобящим смыслом неминуемости и собственного своего ухода.
Шагая по безлюдной, умершей много лет назад улице, подумав именно об этом, Петя поежился от предвечерней свежести и решил пройти улицу, означенную бетонными, побелевшими от солнца глыбами из конца в конец; тишина и безлюдье засасывали его…
На упорный, неотступный взгляд он наткнулся внезапно и, повернув голову, увидел у одного из бетонных кубов что-то вроде навеса из кольев, ветвей и сухой травы, а возле него старуху, сидевшую на земле, привалившись спиной к бетонной глыбе, с которой она как бы срослась, и если бы не ее упорный взгляд, Петя прошел бы мимо, не заметив се. Старуха, не мигая, смотрела на него; Петя подошел вплотную, поздоровался вполголоса. Старуха по-прежнему молчала; она была в низко повязанном темном платочке, в широкой, застиранной кофте, с жилистыми, в сильно проступавших венах руками, сцепленными под грудью; на ногах у старухи красовались матерчатые легкие туфли, похожие скорее на тапочки. Петя присел рядом.
— Кто вы, бабушка? — спросил он тихо. — Вам, вероятно, нужна помощь? Что вы здесь делаете?
Старуха слегка приподняла морщинистое лицо, ее узловатые пальцы что-то мелко перебирали.
— Жду, милый, жду, — сказала она спокойным, приятым голосом, и хотя по выражению ее лица, уже совершенно отрешенному, свойственному человеку, приготовившемуся к последнему покою, Петя понял значение ее слов, он не удержался от дальнейших расспросов.
— Вы здесь одна, бабушка? А если что случится?
— Она сюда умирать явилась, — услышал Петя надтреснутый голос и теперь не удивился появлению невысокого, тоже старого уже человека, в подпоясанной веревочкой длинной рубахе, босого, только что вышагнувшего из густой зелени и еще придерживающего ветку орешника; на лице у него подрагивала легкая снисходительная усмешка, и даже не усмешка, а усмешечка над слабостью хорошо знакомого, надоевшего и в то же время необходимого, близкого человека. И тут Петя остро прищурился, потер виски ладонью; несильный ветерок тронул кусты, и они зашевелились: безлюдная, пустая улица, обрамленная тяжелыми бетонными глыбами, словно ожила и стала заполняться смутными тенями людей.
— Зачем же именно здесь умирать? Здесь и похоронить некому.
— Тут всего много, — не согласился старик. — Птички, мышки, всякие паучки… муравьишки… и покрупнее водится… Земля без живности не земля… В войну сколько вот народу перебито, и следа не осталось… ни маковой росинки… Утром водицы хотел испить, вон ее образить, приуготовить… Пошел к родничку под камнем… во-он, тут недалеко, — указывая, старик дернул сухой головкой в нужную сторону, — а водицы и нету, пропал родничок, как и не было его… и песочек просох в ямке… Еще деды наши пили из него, а тут — пропал… ушел в землицу-то.
— Пропал? — почему-то сильно озадачился сообщением старика Петя.
— Сгинул, вроде живая душа, в одночасье… Отстрадала свое, отмучилась — и все тебе, один чистый песочек… Промытый, беленький песочек… божеский…
По лицу старика потекла неуверенная и пугливая усмешка; старуха же, словно пробудившись, повела белесыми глазами, с затеплившимися в них тусклыми огоньками.
— Не жди, Никишка, не жди, найдется добрый человек, присыпет землицей, — сказала она, обращаясь к старику, и Петя по ее тону тотчас понял, что подобный разговор между ними ведется не первый раз.
— Ничего не пойму, — признался Петя, выждав. — А где же ваш дом, близкие?
— Нету у нее никаких родных, и дома нет, — сообщил старик Никишка. — Из дома призрения утекла… из стариковского приюта, значится… она еще от войны потусветочной огневицей прозывается…
— Странно все это звучит, — задумчиво сказал Петя. — Потусветочная огневица… что это такое?
— Она из полымя выскочила, как немцы их в колхозном складе запалили… С дочкой на руках и выскочила… Дочка мертвенькая, задохлась от дыма, много ли дитенку малому надо… она прижимает к себе, мертвенькую-то, не вырвать, ножонки-то у нее обгорели, черные, растрескались… У нее душа подпаленная, так и не отошла… Третье лето умирать сюда утекает… Огонь ее отсель не отпускает, держит…
— Нынче уж помру, — уронила старуха с какой-то просветленной уверенностью. — Нельзя мне дальше… А ты уходи, уходи, убивец, как тебя земля-то еще носит, не просела под тобой? Вот тебя — огнем бы, огнем…
— Ты, Фетинья, не кори, не кори! — внезапно визгливо огрызнулся старик. — Я свои прегрешения десять раз отслужил! Теперь с меня снято и печатью заверено! Чего придумала! Тут и моя земля, — повел старик рукою окрест, — во-на сколько всего, что огнем-то меня палить? Меня на этой земле и без того полымем насквозь прохватило… Кто тебя похоронит тут, Фетинья, коль прогонишь? — внезапно старик понизил голос чуть ли не до вкрадчивого шепота, посмотрел с хитринкой; говоря, он то и дело оборачивался к Пете, мигая своими маленькими глазками, приглашая его в свидетели, в союзники, и Пете, хотя он пока ничего не понимал, стало неприятно.
— Запел, запел, оборотень окаянный, — пробормотала старуха. — Пошел глаза застить… Передо мной-то не егози, у таких-то своей земли не бывает… она их не сдюживает, таких-то…
— Крест, крест на себя положи, Фетинья! Какой ж это я такой особенный? — опять тоненько закричал старик, от возбуждения заливаясь старческим бледным румянцем и подходя шага на два ближе. — Крест положи! Я из какой земли вышел, из германской, а? Ты, Фетинья, озверела, давно ли по-другому говорила? И язык у тебя не отсохнет под самый корешок, мы ж с тобой сколько прожили… Я тебя тут какой день кормлю, пою… с тобой мучаюсь… а ты?
Впервые шевельнувшись всем телом, расцепив руки и упершись ими в землю, старуха помогла себе пододвинуться ближе к стене, с усилием подтянула к себе ноги, и на ее посуровевшее лицо наползла тень; прикрыв глаза высохшими, почти без ресниц веками, она опять окаменела, обозначилась резче, и в какое-то мгновение в лице ее словно проступил прежний далекий облик; поджались, построжали безвольные губы, прояснились глаза, и Петя увидел, что эта старуха Фетинья, несомненно, была когда то красавицей. Он услышал тихий, непрерывный, отдающийся во всем его существе мотив, успокаивающий и смывающий с души все ненужное, мешающее, и понял, что наконец-то и его коснулся, по словам деда Захара, голос и дух леса, и что именно здесь, в молчаливых корнях, и пышных вершинах, в земле и в небе — повсюду рассеян прах его предков…
— Ты, Никишка, меня перед кончиной не срами, — громко и ясно сказала старуха, продолжая свой спор. — За свои прегрешения сама отвечу…
— А-а, прегрешения! — обрадованно подхватил старик, словно получив подтверждение каким-то своим зыбким и неясным мыслям.
— Были, были, — сказала старуха в том же состоянии просветления и решимости. — Жила с тобой, убивцем, одолел ты меня, бабья моя порода пошатнулась, а ты и раскрылестился, налетел… Господи, прости, и грехи-то бабьи, пустяшные, что за грехи такие?
— Вот-вот… Ты на одного на меня не вали… Ты меня судить не можешь, Фетинья, — быстро возразил старик Никишка. — Ну, а коли я тебя и обидел чем, ты по-христьянски-то, по-христьянски — прости… И я тебя прощу…
По-прежнему помогая себе руками, охая и бормоча что-то, Фетинья тяжело взгромоздилась на больные, опухшие ноги и теперь стояла, опираясь на шероховатый бетон. От усилий платок сдвинулся у нее на плечи, и седые, совершенно белые, бесцветные, редкие волосы рассыпались, невесомо заструились под жарким легким ветерком.
— Грешница я, Никишка, великая грешница, — тяжело вздохнула она, — ты правду сказал, Никишка… Только ты меня с собой не равняй, ко мне сейчас он приходил, слышишь, сам приходил проститься, — понизила она голос, и лицо ее еще утончилось. — Он мне простил, он мне знак такой сделал…
— Кто? — не сразу хрипло спросил старик.
— Игнат приходил, муж мой покойный…
— Тю-ю, сдурела, старая, — даже попятился Никишка, зверовато оглядываясь по сторонам. — Игнат сгнил давно, костей за полвека, поди, не осталось…
— Приходил, — упрямо повторила старуха. — Вот здесь стоял, — добавила она, сосредоточенно указывая перед собой и в подтверждение даже слегка притопывая. — Вот такой же молодой да ладный приходил… стоит, глаза звездочками, прямо глядеть в них страх божий… Тина, говорит шепотом, Тина, пришел я… Долго ты дожидалась, я и пришел… Вот как его видела, — кивнула она на Петю. — Грех мой тяжкий он отпустил… он знак мне сделал особый…
— Не мели своим бабьим языком! Сдуру у тебя все, сдуру! — махнул рукой Никишка. — Приходил, отпустил… много ты знаешь, отпустил, привязал… Ты его вот и видела, — с нескрываемой злобой мотнул он кудлатой головой на Петю. — Кто окромя мог тебе приблазниться?
— Я Игната видела, мужика своего, совсем молоденького… веселого видела, — упрямо стояла на своем Фетинья и, неожиданно отделившись от бетона, шагнула к Пете, и тот не успел отступить; цепко ухватив за плечо, старуха потянула его к себе и совсем близко, в упор стала разглядывать лицо. Упрашивая ее не пугать хорошего человека, Никишка тоже заволновался и даже сделал попытку втиснуться между Петей и старухой, разъединить их.
— Какой же это Игнат, — выдохнула Фетинья наконец, — от Игната зеленым полынцем несло, а тут другой, нет, не нашенский, чей-то; ты, Никишка, всегда бестолковый был, никакого от тебя проку. Какой это Игнат? Городской чей-то, у него-то и дух другой, не-ет, не наш, — протянула она. — Ты бы мне селедочки принес, а? — совсем другим, земным, обыденным голосом попросила она Петю. — Как хочется-то селедочки, хоть бы хвостик во рту повозить.
И тотчас настроение у нее вновь переменилось, и она, взяв его за руку, повела, а за ними, озабоченно что-то бурча себе под нос, заторопился и старик Никишка; догнав их и поравнявшись с Петей, приноравливаясь к его шагу, сбоку и снизу вверх заглядывая ему в глаза, сказал:
— Слышь, парень, ты ей не верь, она всякого намелет, лишку зажилась на свете, блазнится ей, все блазнится… Вишь, Игнат к ней приходил, вон чего ей приблазнилось! Как же, жди, придет! Не верь… не верь… слышь, парень… не верь… Ничего ей не верь, жила долго, свое понятие отжила…
Не отпуская Петю, Фетинья шла одним ей ведомым путем, ни разу не остановившись; миновали улицу из бетонных глыб, и лишь каменные руки, сколько Петя ни оглядывался, по-прежнему тянулись во все больше густевшую и темневшую синеву неба. У старухи словно прибавилось сил, движения ее обрели уверенность, лицо разгорелось, глаза прояснились, и лишь дышала она хрипло, с надсадой, и по лицу пошел крупный пот. Еще издали Петя увидел наполовину разрушившийся и все равно поражающий толщиной ствол старого дуба; сучья с одной стороны у него, захваченные каким-то недугом, обескорились, побелели, иструхли и бессильно обвисли, на земле валялись полусгнившие их остатки; другая же половина дерева еще густо зеленела. Петя пригляделся: метрах в четырех от земли дуб разделялся на два ствола, и вот один из них, обращенный к югу, умер, второй же, северный, не тронутый порчей, бугрился сильной корой, и раскидистая его крона шумела высоко в небе.
Фетинья остановилась у дуба и некоторое время осматривалась; Петя молча ждал рядом, с какой-то новой заинтересованностью отмечая любую подробность вокруг.
— Я вот здесь с дитем на руках бежала, а Никишка, убивец, за дубом стоял. Он в полицаях служил, а здесь в оцеплении стоял, как немцы людей жгли в складе-то. Вот я на него и набежала, — значительно сказала Фетинья, обращаясь к Пете, и по ее глазам, в упор устремленным на него и ничего не видящим, Петя понял, что она действительно принимает его за кого-то другого; Петя коротко и неловко взглянул на старика, уставшего от непривычно быстрой ходьбы и часто дышавшего открытым беззубым ртом; его обтянутые сероватой кожей ключицы высоко поднимались и опадали; он порывался что-то сказать, не мог, задыхался и со злостью смахивал пот с лица сильно заношенным рукавом рубашки.
— Ты слышишь, слышишь? — неожиданно горячо и хрипло зашептала старуха, вновь хватая Петю за плечо, и в ее глазах плеснулся темный ужас; Петя постарался высвободиться из ее рук и не мог. — Слышишь, они… они… гонятся… трещит! Трещит!
— Успокойтесь, успокойтесь, — сказал Петя, — я ничего не слышу… вам просто кажется — в лесу никого больше нет… Вот только мы трое, уверяю вас… да, да, никого нет, — повторил он, не в силах выдержать слепой, уходящий взгляд старухи, не верившей ему, вероятно вообще не слышавшей его и занятой только своим; вотчина деда Захара, зежская лесная глухомань на этот раз раскрывала перед Петей нечто совсем уж сокровенное, окончательно принимала за своего, и у него от этой неожиданной мысли проснулось и окрепло почти физическое чувство общности и сопричастности с происходящим. Он, разумеется, знал, кто такой «полицай», но до этой встречи для него это понятие было чем-то далеким, отстраненным и даже нереальным; у него уже сложилась своя теория, и он любую жестокость стремился объяснить не физической природой самого человека, а стечением обстоятельств его жизни, и вот сейчас он встал в тупик при виде этих двух немощных, умирающих стариков, совершенно случайно встретившихся ему в лесу, полных неутихающей ненависти друг к другу.
— Я Дуняшу несу, а у нее ноженьки-то головешками, она криком кричит, заходится, а этот убивец из-за дуба — шасть, и стоит с автоматом! Слышишь, слышишь? — Старуха с расширившимися, остановившимися зрачками настойчиво трясла Петино плечо. — Слышишь, кричит… кричит! А Никишка, убивец, держит! Схватил и держит!
— Брешешь, ведьма! — не выдержал старик. — Не могла она кричать, мертвую ты волокла с собой! Я тебе зарыть ее помог!
— Убивец ты, душегуб!
— Никого не убивал и тебя тогда пропустил! — тихо сказал старик с отчаянием и безнадежностью в голосе. — А свою вину я в штрафбате отпахал, сама знаешь! Там один закон был — до первой крови! Гляди! — задрал старик подол рубахи, и Петя увидел его впалый живот и тощую грудь, сплошь уродливо обвитые шрамами. — Лучше в я тогда подох, все одно жизни не было. Один сын и тот на край света забился, отца с матерью видеть ему тошно… Его бы на мое место тогда, в сорок первом, я бы еще поглядел…
— Молчи, Павлушу не трогай, не погань! — набросилась на него Фетинья, и у нее от злобы даже задрожал подбородок. — У него твоего ничего нет, у него одно обличье от тебя, а душа у него другая! Ты тут никого не разжалобишь, это моя подлая бабья природа сказалась… Не трожь… Мало ли как в мире кровь перехлестнется… Тебе от этого света в душе не прибудет!
— Ведьма! Ведьма! — не сдавался старик. — Все ты, все от тебя… Кабы знал я волчье твое сердце, стукнул бы тогда в кустах — и амба… Все равно один ответ перед богом держать, ох ты мать моя родная, — всхлипнул он, не выдержав, задохнулся и затих, размазывая по щекам слезы грязной ладонью, и Фетинья тоже притихла, задумалась и сказала:
— Уходи, Никишка, хочу я без тебя час свой последний побыть, застишь ты мне, Никишка, свет Божий, уходи, уходи… Мне за все земное отшептаться надо… Закрою глаза, делай что хочешь, а теперь уходи… и ты уходи! — кивнула Фетинья в сторону Пети. — Уходите… а то меня земля не примет! Родные вы мои, тяжко душеньке, отпустите… иссохла я, нельзя мне больше с вами-то…
Последние слова Фетиньи, вырвавшиеся уже в бессвязном, бессильном шепоте, все вокруг окончательно замкнули: и лес, и каменные ладони над ним, и прошлое, представшее перед Петей до боли обнаженно, и стариков в их тягостной привязанности к жизни друг подле друга. Он понимал, что не вправе судить, он лишь знал сейчас, что ему действительно необходимо уйти и освободить от себя этих стариков, пытавшихся, может быть, в последний раз что-то самое важное для себя понять.
Стараясь не оглядываться, Петя повернул в сторону заходящего солнца, спускавшеюся за сплошную, бесконечную стену леса, и быстро пошел прочь; его никто не окликнул, и с каждым шагом он как-то совершенно иначе начинал себя ощущать; он устал и хотел есть; в желудке подсасывало, и временами появлялась легкая тошнота. В конце концов интерес Обухова к зежским лесам, его непременное и постоянное желание обязательно увидеться и поговорить с дедом Захаром в свое время найдет объяснение; главное свершилось в другом, думал Петя, что-то важное свершилось в его собственной душе, пусть он не может пока ничего даже самому себе объяснить. Появилось и окрепло какое-то новое движение, и, конечно, не, потому, что он набрел на мертвую лесную деревню и встретил тоже мертвых, по сути дела, стариков, пытающихся разделить между собой прошлое. Это всего лишь совпадение, так вышло, и больше ничего и понимать не надо…
На другой день к вечеру, отощавший, необычно легкий и голодный, он вышел к небольшой железнодорожной станции и первым же поездом уехал в Холмск, затем в Москву и только оттуда отправил деду на кордон короткую, весьма озадачившую лесника телеграмму, объяснив свой неожиданный отъезд необходимостью срочно вернуться к работе.
3
Открыв глаза, Захар прислушался; он проснулся раньше обычного — солнце еще не всходило. Пришел июнь, самая яркая пора лесного цветения, а с некоторых пор (Захар заметил за собой такую особенность) ему становилось не по себе именно в это время года; одолевала тяжесть прошлого, даже если он и пытался сопротивляться. Слишком долгая дорога оставалась у него за плечами, она представлялась ему бесконечной, вызывающей чувство бессилия, собственной ненужности; и хотя он пытался отгородиться не только от прошлого, но и от настоящего, это случилось как-то само собой, по извечному закону жизни; обнаруживались все-таки еще не замурованные временем отдушины, в них врывались нежелательные, ненужные уже отзвуки сотрясавших мир бурь, и, если уж говорить открыто, они-то и бередили душу; проходил день, другой, иногда неделя или даже месяц — и опять все бесследно исчезало, не оставляя никакого следа. Так было и год, и два, и три назад; и к этому он уже привык: теперь он жил как бы в двойном измерении и, если бы и захотел, не смог бы отделить прошлого от настоящего; прошедшее как бы повторялось, и с этим ничего нельзя было сделать.
Вот и сегодня, едва открыв глаза и втянув в себя запах обжитого и давнего жилья, старого соснового дерева, приобретающего со временем устойчивую смолистую крепость, скисшего молока, налитого в большую миску для кота, так и оставшеюся невыпитым, Захар подробно перебрал вчерашний день. В открытое, затянутое от комарья частой проволочном сеткой окно, сочились запахи лесной прели, земли, свежей листвы и сирени, завезенной сюда прежними лесниками и буйно разросшейся в южной части расчищенного от леса пространства на кордоне и кое-где начавшей в этом году необычайно рано отцветать. Всего этого Захар давно уже не замечал, как не замечал и своей жизни, работы, воздуха вокруг, земли под ногами.
Он заворочался, завздыхал, столкнул с кровати пригревшегося у его бока здоровенного серовато-палевого кота Ваську, очень самолюбивого, стойко выдерживавшего ожесточенные баталии с крысами, невесть откуда появившимися и расплодившимися в последние два года на кордоне. Кот мягко шлепнулся на все четыре лапы, несколько раз вздрогнул кончиком хвоста, проявляя сильнейшее недовольство и обиду, фыркнул и отправился в соседнюю комнату, а оттуда, привычно приподняв круглой мордой шевелившуюся от свежего ветерка занавеску на окне, огляделся и бесшумно спрыгнул в кусты раздражающе пахшей сирени, подступившей вплотную к окнам большого, полупустого дома, затерянного в глуши старых зежских лесов. Захар не обратил внимания ни на кота, ни на его вполне справедливую обиду; да и все запахи словно в один момент отхлынули от Захара и, истончившись, рассеялись; он опять повернулся с боку на бок, покряхтывая и вздыхая, недовольный собой, ломотой в костях, и в то же время неосознанно приготовляясь к новому дню, к непрерывным делам и заботам кордона.
По давней привычке он ощупью поискал на табуретке рядом с изголовьем кровати кисет с табаком и спички, не нашел и вспомнил, что со времени, когда он поселился здесь и завел пасеку, бросил курить; рука его натолкнулась на кружку с водой, поставленную Феклушей, раз и навсегда взявшей на себя эту обязанность и он, опять пробормотав что-то неразборчивое, остался лежать, вперив глаза в еле проступавший потолок; темен был мир, и темна была его душа сейчас, темна и не хотела света, но он уже знал: дай только себе поблажку, начнет душить беспросветная, ненужная тоска. Еще помедлив с минуту, он тяжело приподнялся, скинул сильнее занывшие в коленях ноги с кровати (быть, быть непогоде!), сел, ожесточенно почесал грудь, заросшую седым жестким волосом, затем, как был, в исподнем, привычно откидывая в темноте щеколды с дверей, вышел па крыльцо. Неслышно появился Дик — величиной с доброго теленка пес — и, ожидая первого слова хозяина, внимательно смотрел на него, выставив острые уши и опустив хвост.
— А-а, Дикой, — сказал Захар, называя пса давним, полузабытым еще щенячьим именем, которого, собственно, уже никто, кроме самого пса и Захара, не помнил. — Ну, как тут дела? — спросил Захар, и умный пес, стараясь угадать настроение хозяина, еще внимательнее взглянул ему в глаза и весь напрягся в ожидании дальнейших слов. Широко зевнув и ничего не говоря больше, оставив Дика раздумывать на крыльце, Захар скрылся в душной темноте просторных сеней, куда Дик без особого приглашения никогда не заходил. Дик тотчас повернулся в сторону неуловимо тянувшего откуда-то из глубины леса ветерка и сел; позади у него был дом с самым дорогим на свете, с Захаром, а перед ним, как всегда, простирался неведомый, каждый раз новый, загадочный, часто враждебный лес — тут Дик вспомнил злобного хромого волка, своего давнего врага, и, сам не осознавая, негромко зарычал, и шерсть на загривке у него приподнялась. Проверяя, он повел носом, втягивая в себя воздух; лес молчал, и Дик успокоился.
Вышел Захар, уже одетый, застучал тяжелыми сапогами по доскам крыльца; бодрый звук словно разбудил весь кордон: и наступавший со всех сторон лес обозначился тяжелее, и совсем ясно послышалось бормотанье бегущего неподалеку, еще полноводного от весны лесного ручья. Дик деловито зевнул и отправился вслед за Захаром по неотложным утренним делам; прежде всего Захар открыл дверь большого сарая и выпустил в загон на росную молодую траву корову Зорьку, и, пока она медленно, важно — по своему степенному характеру — выходила из сарая, Дик стоял рядом и внимательно за нею следил. Зорька была сегодня не в духе и первым делом, угнув голову к земле и выставив острые рога, хотела боднуть Дика, но тот, давно уже приученный к подобным каверзам, одним прыжком оказался в тылу у Зорьки и, радуясь новому дню, великолепной игре жизни, оглушительно залаял и прикинулся, что вот-вот вцепится Зорьке в зад, а она, высоко взбрыкнув, вскидывая ноги (из переполненного вымени у нее тугими струйками брызнуло молоко), прыжками промчалась в загон, в открытые настежь широкие ворота из осиновых жердей. Выполнив свою обязанность, Дик тут же вернулся к хозяину и опять уселся неподалеку от него, выбрав такое место, чтобы видеть одновременно и самого Захара, и ворота загона; Захар, изо дня в день наблюдавший эту игру, усмехнулся, тяжело опустился на дубовый кряж; от души чуть отпустило. Он любил ранние часы наедине с собою, когда, ни о чем не думая, можно было посидеть, слегка поеживаясь от утренней свежести, как бы привыкая к новому, надвигающемуся дню. Так было и вчера, и позавчера, и месяц назад — встретить повое утро в душевном покое, в освобождении себя от счетов с прошлым, от ненужных тревог и мыслей; но вот именно сегодня этого-то и не получалось. Во-первых, без всякой на то внешней причины вспомнилась Ефросинья уже перед самым концом, сломившаяся сразу после гибели своего любимца Николая, всего то и протянувшая после этого чуть больше полугода, да и вспомнилась как-то необычно — словно ненароком глянула на него из предрассветной лесной тьмы, глянула и скупо усмехнулась. Что-то, мол, загостился ты без меня, старый, на белом свете, пора, мол, пора, жду!
Слова эти неслышно прошелестели в душе у Захара, и стало как-то светлей, покойней на сердце, и он подивился про себя, потому что подобного не испытывал давно, уже несколько лет. «Ну что ты, Фрося, торопишь, — сказал он с понимающей усмешкой, — придет время, явлюсь. Теперь недолго, может, завтра, а то и нынче к вечеру… Так что жди, поторапливать нечего, тому срок сам собою назначен…»
Посторонний, еле-еле означавшийся звук перебил его мысли, заставил насторожиться, выпрямить голову — где-то очень далеко рубили дерево.
— Помереть не дадут спокойно, — недовольно проворчал лесник Дику, неотступно следовавшему за ним и оказавшемуся, как всегда, рядом; именно по его напрягшимся острым ушам лесник понял, что не ошибся, хотя больше не услышал ни одного постороннего тревожащего стука. Падения дерева тоже не было слышно, и он, к неодобрению Дика, ожидавшего привычную команду: «Ну, пошли, Дикой», остался сидеть. Даже если дерево свалили, подумал лесник, так пусть его лучше увезут из лесу, ворье сейчас пошло добросовестное, ветки уберут, пень срезанной кочкой прикроют — даже наметанный глаз не всегда заметит. Успокоив себя подобными мыслями, Захар, по-прежнему чувствуя неодобрение пса, по поворачивая к нему головы, сказал:
— Ладно, ладно, тебя не хватало… Давай Серого ищи, гони на место… Тоже мне, прокурор нашелся…
Внимательно выслушав хозяина и чуть выждав, не будет ли еще приказаний, пес по-волчьи бесшумно исчез в предрассветной тьме; тут Захар почувствовал, что новый день начался и окончательно потек своим привычным путем. Подступавший со всех сторон к кордону лес стал обозначиваться неясными рыхлыми громадами, как бы вырываться из тьмы; блеск редких звезд в небе слабел, да и густая синева неба размывалась, гасла; и в один момент, словно по неслышному сигналу, лес наполнился голосами птиц, пересвистом, звоном, щебетом, страстным гуканьем, нежными трелями; лесник угадывал знакомые голоса малиновок, щеглов, синиц; затревожилась, заскрипела где-то в низине болотная цапля, застрекотал бекас, и ему отозвались сороки… Невидимая пока еще из-за леса заря разгоралась; обозначились трубы над крышей дома, поверх слитной массы леса все резче пламенела малиновая полоса заревого огня — новый день начинался обычно. Привычно всматриваясь в охваченные призрачным, холодным, все время меняющимся пламенем вершины деревьев, Захар был сейчас один во всем мире, и все происходящее вокруг совершалось помимо него и его не касалось; яснее проступали новые потаенные уголки; в доме началось движение, и вскоре на крыльцо выскочила Феклуша с подойником в руках и пронеслась к загону; с застывшим раз и навсегда светлым безмятежным выражением лица она мелькнула мимо Захара, словно его и не было совсем; лесника лишь обдал легкий ветерок да сопровождавший Феклушу неотступно горьковатый полынный запах; Захар привык к нему, он служил для него как бы мерой покоя, прочности, мерой продолжения жизни, связывающей его пока еще с прошлым, с бурной, отдаляющейся молодостью, хотя теперь, насколько это было возможно, он и сторонился все больше утомлявших его людей.
Заря ширилась, охватывая небо над лесом, теперь по-другому, размашистее и щедрее, золотя поверху нечастые острова дубов и кленов; солнце, все еще из-за леса невидимое, уже взошло; момент этот означился безошибочно точно, и означился тем, что отхлынули, исчезли последние тревожные отголоски ночи.
Услышав тяжелый и все крепнущий топот, лесник тихо, поощряюще свистнул; Дик гнал к дому Серого, и вскоре сытый молодой конь, тяжело проскакав мимо, влетел в раскрытую дверь сарая, и было слышно, как он там несколько раз шумно встряхнулся; Дик же подбежал к хозяину и лег неподалеку, дыхание у него стало спокойным и ровным. Лесник прошел в сарай, распутал Серого, тихонько заржавшего ему навстречу, надел на него уздечку, накинул седло, висевшее тут же, на стене, на деревянном колышке, затем вывел коня к колодцу, налил в колоду свежей воды. Серый понюхал воду, шумно фыркнул и лишь окунул в студеную воду мягкие губы; он напился раньше из лесного ручья. Так было вчера, позавчера, неделю назад, и здесь присутствовало нечто нерушимое; с этого момента и для Серого окончательно отступала ночь с ее опасностями, настороженностью и непредсказуемостью, он тоже полностью переходил во власть хозяина и для него начиналась вторая половина жизни: дальше он как бы забывал свои желания и жил только волей человека.
Оставив оседланного коня у колодца, лесник пошел в дом; Серый, часто и сильно обмахиваясь хвостом, тотчас двинулся за ним и остановился у крыльца, ожидая; мимо прошла с тяжелым подойником, сверху повязанным марлей, пахнущая парным молоком Феклуша. Серый спокойно покосился на нее, но Дика, пытавшегося прошмыгнуть на крыльцо, встретил воинственно. Фыркнул, тряхнул головой и даже вознамерился поддеть его задом; пес заворчал, ловко увернулся, припал к земле, следя за каждым движением Серого. И эта игра повторялась между ними чуть ли не каждое утро, они привыкли к ней и находили в ней определенный вкус и радость.
Совсем высветлило; солнце ударило по верху леса и стало прорываться к земле, окончательно слизывая тяжелую молочную росу. Куры за сараем подняли отчаянный переполох, и Дик насторожился, приподнялся и замер па полусогнутых, напружинившихся лапах, готовый при малейшей необходимости ринуться вперед и навести порядок, но куры — существа взбалмошные, непостоянные и глупые — неожиданно утихли; Дик, однако, быстро обежал сарай, усиленно водя носом, и, ничего не обнаружив, вернулся к крыльцу. Лесник с ружьем за спиной уже сидел в седле, и Дик почувствовал глубокое, тайное волнение. Он присел и горящими глазами смотрел на хозяина, что-то говорившего вышедшей на крыльцо, явно недовольной происходящим Феклуше. Пес не то что хозяин, умел ждать; он, правда, не совсем все понимал сейчас, но как только Захар, прерывая на полуслове разговор с Феклушей, шевельнул поводья, Дик сорвался с места и оказался впереди, и то, что Феклуша не успела дать ему поесть (в чем и была причина ее затянувшегося объяснения с Захаром), лишь усилило легкость и стремительность его тела, обострила и без того поразительное чутье; с этого момента Дик весь отдался чувству движения, чувству проснувшейся беспредельной свободы, и этому его состоянию не мог помешать ни Захар, ни глухой мягкий топоток копыт Серого по сырой, глушившей любые звуки земле. II хотя Захар по-прежнему оставался для Дика высшей непререкаемой, даже божественной силой, мир для Дика теперь разделился. По одну сторону оставался хозяин, по другую — лес с его всегда тайной, неведомой жизнью, с его волнующим запахом опасности. Лес был много древнее Дика, а сам пес древнее человека, и здесь у каждого были свои связи и свои различия, переступить которые им было не дано.
Серый пошел иным, убористым шагом, и лесник, сразу подобравшись, увидев появившегося неподалеку Дика, очнулся от своих мыслей; он был теперь близко у цели. Слышались негромкие голоса, дробный частый перестук двух топоров; затем хрипловатый, казавшийся особенно лишним и ненужным в сиянии разгоревшегося ясного утра, мужской голос скверно выругался и прикрикнул: «Ну, нажми давай, черт!»
Серый остановился; поправив ружье, с забытым удовольствием чувствуя настороженность и легкость сухого тела, лесник спрыгнул на землю и, привыкая, слегка топнул одной, затем другой ногой. Дик немедленно подошел, сел неподалеку и стал внимательно смотреть на хозяина. Захар вполголоса приказал Дику ждать, а сам, скрываясь за деревьями, пошел на голоса и шум.
На небольшой лесной прогалине стоял, работая вхолостую, легкий колесный трактор с низким прицепом, и четверо мужиков, орудуя дубовыми кольями, накатывали на прицеп длинные, метров по восемь-десять, отборные сосновые бревна. Одного из них, с давно не бритым, заросшим и припухшим от самогона лицом, лесник хорошо знал — это был Фрол Поскрехин, по прозвищу Махнач, из соседнего, в пяти верстах от леса, села Воскресеновки; известный далеко вокруг своим бандитским норовом, он уже дважды побывал в тюрьме, хотя даже это не пошло ему на пользу; возвращаясь, он всякий раз потихоньку принимался за старое. Было ему уже лет под пятьдесят, и лесник видел сейчас его напрягшуюся, побагровевшую от усилия шею, скошенный лохматый затылок; поддев с комля очередное бревно вагой, он, с помощью двух, лет под двадцать, парней затаскивал бревно на прицеп; второй, более легкий конец бревна уже лежал на месте, и его придерживал колом четвертый — мужик лет тридцати пяти; он же и руководил работой. Наметанным взглядом лесник отметил про себя, что порубщики — люди неопытные и, пожалуй, воруют лес не так уж и часто. На это указывали и высокие пни от сваленных трех высоченных, отборных сосен, и то, как шла погрузка: вместо того чтобы вначале забросить на прицеп всем вместе тяжелый конец бревна, делалось наоборот, и лесник, приблизившись почти вплотную к прицепу, с забытым интересом наблюдал. И очевидно, именно потому, что он весь был совершенно на виду, его никто не замечал, и, только когда комель бревна был взвален наконец на прицеп, уложен на место, Махнач, отдуваясь, обернулся и от неожиданности некоторое время ничего не мог сказать, затем, еще больше багровея шеей, присел на последнее, подтащенное к прицепу и приготовленное для погрузки бревно и с искренним изумлением произнес:
— Надо же, лесник, ну, мужики, оказия! Глянь-ка, сам Захар-Кобылятник… во, черт рогатый! Во, как сыч уставился…
Последние, совершенно уже беспомощные слова застали его товарищей врасплох; Махнач был главным, и все бестолково заметались. Один бросился к трактору, второй, самый молодой, схватил стоявшую чуть в стороне, рядом с бензопилой, двустволку и выжидающе замер, а третий, тот самый, что командовал погрузкой и всей своей сноровкой и видом выдававший свое нездешнее, городское происхождение, с красивым, даже иконописным лицом, спокойно прислонился к прицепу и, посмеиваясь, как бы затаился в ожидании. Под четырьмя парами внимательных, настороженных глаз лесник спокойно подошел, любовно похлопал ладонью по шелушившемуся боку ровного соснового бревна, прикинул его длину на глаз.
— Хорош лесок, — вполголоса, как бы сам себе сказал он, еще раз по-хозяйски оглядывая прицеп с бревнами. — Поди, кубиков на десять навалили… а? Как думаешь, Фрол? — обратился он прямо к Махначу, доставшему и закурившему измятую сигаретку; тот закашлялся, затем зло плюнул себе под ноги.
— А ты, дед, откуда знаешь, как меня звать? — теперь уже с нескрываемой злобой спросил он, и глаза его, еще секунду назад растерянные, бегающие, вспыхнули и тяжело, с откровенной угрозой остановились па леснике.
— Знаю, кто ж тебя, такого знаменитого, не знает, — не сразу отозвался Захар и опустился на то же бревно, что и Махнач, только в отдалении от него; ружье у него оставалось за спиной, торчало стволом в небо, и он лишь поправил приклад, чтобы сидеть было удобнее; казалось, он расположился надолго, и это окончательно вывело из себя Махнача; вскочив, он ожесточенно, обеими ногами затоптал брошенную сигарету; понимая, что победа остается за тем, кто быстрее овладеет положением, он быстро, воровато огляделся; взгляд его еще раз остановился на сухой фигуре лесника с жилистой, стариковской шеей, с выпиравшими из-под выношенного пиджака костлявыми плечами, с длинным лицом, изрезанным глубокими, заросшими седой щетиной морщинами, — и первоначальный страх его прошел, его начала разбирать досада. Вскинув тяжелую голову, еле сдерживаясь, не упуская лесника из виду, он привычным, цепким взглядом снова скользнул вокруг; он еще не понимал намерений старого лесника, но что-то в последний момент помешало ему издевательски захохотать; Захара по-прежнему хорошо знали далеко окрест, и не только в своем районе, но и в соседних, во всей области, а после гибели его ученого сына Николая за спиной у Захара стояла, простиралась какая-то немереная, жуткая глубь, и, хотя он спокойно помаргивал сейчас начинавшими выцветать глазами, Махнач окончательно смешался. Парень, схвативший было при появлении Захара ружье, тоже как-то неловко, поспешно сунул его назад в кусты, затем, не отрывая ярких изумленных глаз от Захара, придвинулся к нему ближе и остановился, как-то бессмысленно улыбаясь; остальные двое чувствовали себя не лучше — ведь ко всему, что в самом деле присутствовало в жизни Захара, в его судьбу намертво вросло и много такого, что приписывала ему просто народная молва и чего никогда в его жизни не было и не могло быть. Так, например, после смерти своей старухи Ефросиньи вместо того, чтобы воспользоваться всяческими положенными ему от государства благами, он сделал нечто совсем уж непонятное и труднообъясняемое: забился в глухомань Зежских лесов и не побоялся поселиться на кордоне, где незадолго перед тем зверски вырезали всю многочисленную семью лесника Власа, что уже само по себе прибавило в народном мнении к судьбе Захара фантастическую окраску. А со временем слухи разрослись до невероятных размеров, особенно когда за дело принялись досужие, полные энергии от невиданных свалившихся на них пенсионных благ, старухи из окрестных сел в очередях за молоком или хлебом. Судачили о многом: и о том, что он на старости лет живет с известной дурочкой Феклушей и у них каждый год рождается получеловек-полузверь, которого они тайно и скармливают рыбам в лесных озерах, а все больше топят свое диковинное потомство в том самом Провале, где дна, тони хоть сто лет, не достигнешь; и что сам Захар в определенные дни, перескочив трижды сам через себя, бродит по чащобе медведем, и лучше в такие моменты ему не попадаться — становится он кровожаден и никого не щадит, ни старого, ни малого; а то часто, стоит ему только захотеть и взглянуть — и любой встречный тотчас каменеет, ни рукой ему не двинуть, ни пальцем шевельнуть; и что с этим он ничего не может поделать, лишь страшно кричит по ночам от звериной тоски; и что определено ему такое за старые грехи и за то, что пошла от него порода, решившая вознестись выше самого неба, и что его самого ожидает совсем уж нечеловеческий конец: без смерти обратиться в ночного зверя и до скончания земли бродить и томиться в лесной чаще, пугать и доводить до умоисступления сбившихся с пути и блуждающих по лесу, и особенно девок и молодых баб, до которых в своей жизни был он неугомонный охотник. Само собой, мало кто верил всем этим шушуканьям сельских краснощеких пенсионерок, поневоле томившихся от безделья — от ранней пенсии, от не растраченной еще в работе силы, от отсутствия давно перемерших от самогона собственных мужиков. Но кое-что и прилипало, усиливая и без того множившиеся круги, тем более что именно в год появления Захара на кордоне зежские леса облюбовал молодой, ужо начинавший матереть медведь; когда и как он появился, никто не знал, но со зверем в самых неожиданных местах встречались, и он уже получил уважительное прозвище хозяина. Все это мелькнуло в голове Махнача и его подручных и в какой-то мере объяснило безрассудное поведение Захара, его бесстрашие перед лицом четырех здоровых мужиков в глухом лесу; очевидно, это почувствовал и сам лесник.
— Ну что, мужики, — спросил он, вдавливая каблуком сапога окурок в землю и тщательно его перетирая, — будем делать? Кой черт вас под руку пнул? Гляди, от дурости… каких четыре дерева загубили… в заповедном месте-то…
Как-то тяжело, словно всхлипнув всей грудью, Махнач вздохнул и опять опустился на бревно, теперь уже ближе к Захару, покосился на него раз и другой.
— Дед, а дед, неужто ты нас того? — спросил он, выразительно придавив кору бревна плоским ногтем большого пальца.
— Ты давно, Фрол, из-за решетки выбрался? — вместо ответа спросил лесник.
— Ты меня, дед Захар, за старое-то не трожь, — засопел Махнач и угрюмо плюнул перед собой. — Старое тут ни при чем.
— Я тебя, Фрол, не за старое, за новое спрашиваю, — сказал лесник спокойно. — Кому-кому, а тебе пора бы закон знать. Не насиделся, дубинушка?
— А что мы такое сделали? — возмутился Махнач, опять переходя в наступление. — Ты вон своих всех по Москва расселил, живут себе там поживают, побольше нашего воруют. Даже царское добро из музеев порастащили, пограбили всякие там народные благодетели, и никто вроде не видит, никакой милиции на них нету. Раньше-то и цари так не безобразничали, свой карман от государственной-то казны различали…
— Ну вот-вот, один Фрол Поскрехин все тебе видит, — сказал лесник с неожиданным интересом, поворачиваясь к Махначу.
— Народ видит, — гнул свое Махнач. — Рыба с головы гниет, а закон должен быть один на всех. Им там вверху все можно, любую пакость тебе покроют, а ты тут за какое-то паршивое бревно распинаешься… А уж лес — он совсем ничей, что твой, что мой, что вон его, — кивнул он на одного из своих товарищей; лесник, слушая, вроде бы согласно кивал и все с большим интересом поглядывал на Махнача, разгоревшегося, даже помолодевшего от прихлынувшего вдохновенья. — Ты, дед Захар, народу поперек горла не становись, ты хоть и заговоренный, брешут, вроде в огне купанный, а народ и тебя пересилит.
— Народ, может, и пересилит, да что-то народа я тут не вижу. Может, ты народ? — спросил лесник, про себя удивляясь, в какую диковинную сторону может повернуть человека тюремная наука. — Ну ну…
— Я тоже народ, — важно сказал Махнач и в подтверждение своих слов с ожесточением вонзил скособоченный каблук в мягкую лесную землю. — А с народом, дед Захар, ты лучше не шути. Народу, хоть он и дурак, тоже продых надо давать. Так что иди, откуда пришел, никого ты не видел, ничего не слыхал… старый ты, дед Захар, глухой, слепой, тебе помирать надо… загостился. Понятно?
— Понятно, — сказал лесник. — Что правда, то правда… Только я не виноват в том…
— Вот и хорошо, — обрадовался Махнач и облегченно вздохнул. — А если что, мы тебя, дед Захар, не обидим… Ну будь здоров, а то солнце вон куда подбирается. Договорились?
— Нет, Фрол, не договорились, — вздохнул и лесник. — Нельзя нам договориться, ты ведь по волчьи живешь и их тому же учишь, — махнув рукой, указал он на ждущих в стороне сотоварищей Махнача, тотчас ставших глядеть куда-то вразнобой, только не на лесника и не друг на друга. — Добро бы на хорошее дело, — тяжело шлепнул лесник по бревну, шелушащемуся тонкими, дрожащими от малейшего движения воздуха струйками коры, — а то ведь на баловство. Продадите да пропьете. Ты вот распинаешься, на Москву киваешь, на всякое там высокое начальство, а ты лучше на себя-то глянь, четыре здоровых дерева загубил… Пришел бы на кордон, я бы тебе больные, вредные для леса показал — бери, только вывози… А так бардак получается, я тебе, Фрол, в лесу безобразничать не дам, я перед ним в ответе. Ты глазами не жги, так и быть, на первый раз я вот этих дуроломов пожалею. — Лесник кивнул в сторону все так же переминавшихся с ноги на ногу парней и решительно встал, еще раз подчеркивая, что разговор закончен. Встал и Махнач, тяжело свесив длинные руки с увесистыми кулаками; крутая, жилистая шея у него медленно багровела. Между ним и Захаром словно появился какой-то непроходимый водораздел; по своему необузданному, дикому характеру Махнач давно должен был сграбастать занозистого лесника, сорвать с него ружье и отправить восвояси, хорошенько пнув в тощий зад. Однако он знал, что не сделает этого, вообще никакого вреда леснику не сделает, потому что удерживал не сам лесник и не закон, бывший на его стороне, а что-то другое, что стояло за спиной у самого деда Захара и что нельзя было объяснить словами, но чего никак нельзя было и переступить. Махнач от бессильной злобы со всего маху саданул носком сапога в сосновое бревно, на котором только что сидел, сморщился от боли и, припадая на ушибленную ногу, бешено заковылял в сторону; глаза у него туманила боль. Он тяжело глядел на самого молодого, осмелившегося захохотать напарника, вязко сплюнул в его сторону. Смешливый парень сразу затих. Махнач спросил Захара почти спокойно:
— Порешили, что делать будем, дед?
— Порешили, акт составим, — сказал лесник. — Подпишете, лесок скатите и мотайте на все четыре…
У Махнача от такой наглости, казалось, опять перехватало дыхание, и он, сдерживаясь, изобразил па лице улыбку.
— Так прямо и подпишем? — протянул он, продолжая скалиться. — А где же твоя бумага? Ты, может еще и писать умеешь, дед Захар?
— И бумага найдется, — пообещал лесник и полез в боковой карман. — И писать умею…
— Ну дед, вот дед! — восхитился Махнач и в ту же минуту одним махом оказался рядом с Захаром, сорвал с него ружье и отшвырнул. Голова лесника, когда Махнач срывал с него ружье, дернулась, он сильно толкнул Махнача в грудь, но тот лишь крякнул, играючи, как-то небрежно — от сознания собственной силы — заломил леснику руки за спину и, широко раскрывая рот, криком приказал:
— Ганька, веревку!
На лесника из глубокой, жаркой пасти шибануло теплой сивухой; Захар попытался вывернуться из цепких медвежьих рук Махнача, но не осилил и через несколько минут был крепко прикручен к толстой высокой сосне, а Махнач стоял перед ним и насмешливо скалил ровные, крепкие зубы.
— Что, дед Захар, достукался? — спросил он с легкой издевкой. — Ну вот теперь и постой, почешись…
— У-у, харя пьяная! — отозвался лесник, все еще не веря случившемуся и оттого передергивая плечами, как бы пытаясь выскочить из опутывающих его веревок. — Я тебе почешусь, я тебе почешусь! Я тебя еще достану! Я на тебя намордник-то вот еще какой накину!
— Черта с два ты меня теперь достанешь, дед! — похвастался Махнач. — Давай, мужики, скатывай лес, пусть он им подавится, старый черт!
— Я в другой раз тебя укараулю, — пообещал лесник, не в силах смириться со своим позорным и неожиданным поражением и все еще тяжело дыша начавшей в последний год побаливать грудью. — Разве ты человек? Зверь, тебя по-звериному и брать надо… Справился, бугай чертов!
— Не ерепенься, дед Захар, — теперь уже вполне миролюбиво говорил ему Махнач. — Другого раза не будет, я не такой дурак еще раз к тебе припожаловать. Гы-гы-га! — ржал он на весь лес, довольный исходом дела. — Я в других местах дело себе выщупаю… нашел дурака связываться с тобой! Раз тебя пристукнуть по-христиански никак невозможно, пусть с тобой черт одной удавкой связывается. Гы-гы-га! Да я и знать ничего не знаю, что, скажу, сбесился, какой лес? Да я ни в какой лес уже сто лет не ходил, иди доказывай! Гы-гы-га!
Пока Махнач изгалялся, остальные трое из его компании, донельзя довольные оборотом дела и решением своего главаря, в один дух разгрузили прицеп: столкнуть бревна на землю не составило большого труда. Сам Махнач, уже совершенно успокоившийся и даже примирившийся с убытком (сосновые бревна он намечал выгодно загнать в соседнем селе Полуяновке и сговорился в цене), поднял из травы Захарову двустволку, под укоризненным взглядом лесника по-хозяйски оценивающе оглядел ее, даже зачем-то пощупал, пробуя на крепость, приклад. Затем вынул из стволов патроны и, сильно размахнувшись, забросил их в густо заросшую травой и кустарником низину; лесник проследил за ними глазами.
— Вот так-то лучше, — сказал Махнач, затем, вспомнив, подошел к леснику, ощупал ему карманы, ничего не нашел и остался доволен; он уже втянулся в своеобразную игру, и ему нравилось быть возле Захара.
— Ты хоть рожу отверни, — попросил лесник, — бардой гнилой разит… Тьфу, дух перехватывает!
— А ты, дед Захар, не завидуй, — миролюбиво посоветовал Махнач, и под его густыми, косматыми бровями, словно от какой-то неведомой радости, просияли до сих пор озабоченные и злые глазки. — Ты в свое время, говорят, тоже немало почудил… тоже не святой, вон бабу себе какую умыкнул на кордон! — последнее Махнач выговорил с особым значением и, оглянувшись на товарищей, громко заржал.
— Дубина, ох дубина, — процедил лесник. — Неужто у тебя начисто совести никакой не осталось, всю ее по кочкам растащило?
— Угадал, угадал, подчистую, дед Захар, всю! — весело подтвердил Махнач. — Такого товару теперь днем с огнем в нашем государстве не сыщешь! Ишь чего захотел!
— А ты за целое государство чего распинаешься-то? — опять не сдержался лесник. — Ты с какого бока к нему присобачился? С бандитского?
— Ничего, дед, ничего, потерпи, — опять обрадовался Махнач и, с издевкой помахав на прощанье рукой, вскочил на прицеп, где его уже ждали остальные. Легонький, верткий трактор с места словно шарахнулся от испуга, метнулся в одну сторону, в другую и быстро исчез за уплотнившейся вдали красноватой массой сосен; проводив его глазами, лесник остался стоять, чувствуя начавшие затекать от сильно затянутых веревок руки. «Ну босяк, ну бандит народ пошел, — подумал он почти без всякой злости. — Никого не боится, ни Бога, ни черта!»
Захар хотел хлопнуть комара на лбу, даже рукой дернул, затем, вспомнив, отрывисто, коротко свистнул. И тотчас откуда-то из-за спины у него вывернулся Дик, сел напротив, преданно и неотрывно глядя хозяину в лицо, по-своему, по-собачьи, упрекая его. Позови лесник Дика раньше, все могло быть по-другому, он не помнил, чтобы пес хоть раз нарушил его приказ, так уж между ними установилось в жизни.
— Ну что ж, — задумчиво вслух подумал лесник. — Оно, может, так и лучше, нонешний-то народ какой — зверье, им и человека-то загубить ничего не стоит, а про собаку и говорить нечего..
Внимательно выслушав, пес остался сидеть, все так же неотрывно глядя на хозяина; лесник, еще раз попробовав крепость веревок, напрягся всем телом, закряхтел и обмяк.
— Бандюги, — проговорил он, задыхаясь, и заставил себя стоять спокойно; что-то тупо ударило под ключицу и горячим обручем сдавило виски; подождав, пока отпустит, лесник опять обратился к Дику: — А Серый где, а?
На этот раз Дик слегка шевельнул ушами, и лесник понял, что Серый тоже где-то рядом; неловко ворочая шеей, он попытался разглядеть, в каком месте затянуты на нем узлы, но этого ему увидеть не удалось: Махнач вязал по всем правилам и узлы на веревке затягивал сзади, за спиной; Захар стал думать, что предпринять и как освободиться, в то же время почти неосознанно пробуя и пробуя веревку на крепость, шатаясь слегка всем телом из стороны в сторону. Солнце теперь поднялось уже достаточно высоко, и здесь, где сосны росли редко и не соприкасались вершинами, воздух становился суше; сильнее, ядренее запахло свежей смолой. Шум трактора уже давно затих вдали, и теперь вокруг рождались и жили только лесные, порой почти совершенно недоступные неискушенному слуху звуки. И еще, отряхиваясь от слепней и комаров, неподалеку звякал уздечкой Серый; лесник повернул голову, увидел коня, подбиравшего с земли мягкими губами молодую шелковистую траву, и подумал, что придется посылать Дика на кордон за Феклушей, хотя ему очень не хотелось пугать ее, это непонятное существо, незаметно пристроившееся и пригревшееся к концу жизни подле него, и он, постаравшись дать отдохнуть занывшему, измятому телу, обвиснув на веревках, закрыл глаза. Дик подождал и лег, положив голову на передние лапы. Помаргивая, он то и дело вскидывал то один, то второй глаз на хозяина, в то же время не упуская из виду Серого, пасущегося на молодой, сочной траве. Лесник почувствовал лицом начинавший тянуть порывами теплый ветерок; душу у него понемногу отпустило, он уже сам готов был над собой посмеяться, такого с ним и близко не случалось за все время работы на кордоне, но это было бы полбеды. Нехорошо другое, люди достали его и здесь, когда он уже привык думать, что совершенно освободился от них и что отмеренные ему дни пробегут незаметно, тихо, уйдут, словно летняя дождевая вода в песок, утечет вместе с ней и он, и кроме этого ничего ему больше не надо. Раньше-то себя можно было и обмануть, все жить хотелось, сделать что-нибудь хотелось, а теперь другая пора пришла, все насквозь видится. Вместе с гибелью Николая, а затем и с уходом вскоре после этого Ефросиньи в душе что-то оборвалось; может быть, именно тогда всей тяжестью своей жизни он понял, что и в мире, и в себе ничего нельзя переделать, изменить, что в мире есть что-то более важное и вечное, чем бесполезная борьба с самим собой и с другими, ему подобными, и что именно к этому вечному, притягивающему своей неразгаданностью, только и надо стремиться. И еще он понял, что кто то посторонний и безжалостный, как когда-то скрывавшийся в сплошной метели, всю жизнь направлял его путь, определял повороты и конечный результат, каким-то удивительным образом бил наотмашь всякий раз безошибочно выбирая самую сердцевину, самую боль. Но если этот посторонний в самом деле был, то куда он затем исчез и как же это он сам ни разу не попытался устроить ему очную ставку, встретиться один на один, не попытался от него избавиться? Вот, к примеру, куда сейчас запропастился неизвестный вершитель, почему он, старый человек, ни за что ни про что стоит привязанный к дереву; ведь это в нем самом есть что-то такое неуступчивое, с чем он и сам сладить не может; хотя бы сегодня стоило ему попытаться как-то поладить с этими охламонами, выслушать Махнача по-другому, схитрить чуть — и все бы закрутилось в обратную сторону.
Лесник открыл глаза и вскинул голову; он было задремал и даже отчетливо помнил расплывшуюся по небу, клубящуюся черную тучу и, как это бывает во сне, совершенно беззвучно распоровшую небо лиловую молнию.
Его взгляд сразу же выхватил по-звериному бесшумно крадущегося куда-то Дика; шерсть у него на загривке приподнялась, хвост вытянулся палкой и был по-волчьи неподвижен.
— Стой, Дик, — приказал лесник. — Лежать, говорю тебе, слышишь? Ну, а ты чего? Не тронет, не дрожи, — повысил он голос, обращаясь к тому самому смешливому Ганьке из компании Махнача, боязливо вышагнувшему из-за сосны в отдалении, когда Дик все так же бесшумно, бесплотной тенью опустился в траву, носом по направлению к опасности. Ганька мялся и не шел ближе, и Захар повторил:
— Сказано, не тронет… Забыл что-нибудь, а, соломенная душа?
— Не-е, чего забыл, — отозвался Ганька, продолжая с опаской коситься на Дика. — Развязать послали, можно подойти-то, дед Захар?
— Вот как, ну спасибо, спасибо, — оживился Захар, с интересом глядя на осторожно, нехотя приближавшегося парня: шажок сделает и запнется, еще шажок — и опять запнется. — Пожалели, что ль?
— Махнач говорит, иди развяжи, нас он теперь не достанет, — уже смелее сообщил Ганька, в то же время далеко стороной огибая приподнявшего голову Дика. — А то, мол, подох… помрет, то есть, дед, беды с ним не оберешься, на том свете за него, говорит, сыщут и спрос держать заставят. Ну его, мол… старого… кхы… то есть, деда этого…
Внимательно выслушав объяснение Ганьки, лесник развеселился; не торопясь Ганька развязал, распутал все узлы, аккуратно сложил и с крестьянской обстоятельностью связал веревку и повесил ее себе через плечо, затем они с Захаром присели на бревно, будто между ними ничего не было; Ганька неожиданно разговорился, стал рассказывать о своей жизни, о недавней неудачной женитьбе (баба оказалась порченая и норовистая, на коне не объедешь); Захар слушал и с чувством досады думал, что ничего нового и стоящего на свете люди так и не придумали.
4
Из-за неожиданного происшествия Захар возвратился на кордон поздно: солнце перевалило за полдень. Феклуша не выбежала его встречать к воротам; придержав Серого, он внимательно осмотрелся. Несомненно, на кордон опять нежданно-негаданно явился кто-нибудь из Москвы, может быть, заполошный внук Петр, может, сама Аленка припожаловала. Дик что-то тщательно вынюхивал на узкой земляной дороге, теряющейся среди леса и соединяющей кордон с остальным миром. Понаблюдав за ним, лесник тронул коня; едва он успел въехать в решетчатые, слегка приоткрытые воротца, на крыльцо выскочила Феклуша, больше обыкновенного растрепанная и вся какая-то взбудораженная; глаза у нее сияли в пол-лица. Схватив повод у Захара, она стала что-то объяснять, но от переполнявшего ее возбуждения лесник ничего не понял; соскочив с коня, махнув рукой на сарай, показывая, чтобы Феклуша отвела на место Серого, он быстро окинул подворье взглядом, Феклуша не унималась, притопывала босыми ногами с растрескавшимися пятками, махала рукой, дергала Серого за повод, отчего конь тоже стал беспокойно перебирать ногами. Не упуская из виду сразу же устремившегося к крыльцу и замершего перед ним Дика, лесник сказал:
— Отведи коня, Феклуша, потом, потом расскажешь! Ну что тебе еще? Веди, веди, коня…
Он на полуслове оборвал: из сеней на крыльцо вышел мальчик лет шести, в коротких штанишках, с болезненно-белыми ногами и таким же нездоровым лицом. Что-то в лице мальчика было мучительно знакомое, но Захар не успел ничего подумать или почувствовать. Не сводя зачарованных глаз с Дика, мальчишка резво сбежал с крыльца и, не долго думая, очутился возле отпрянувшего назад огромного пса; худая ручонка зарылась в густую бурую шерсть, стала ее ворошить, и лесник предостерегающе окликнул пса, приказывая сидеть, но Дик и сам от изумления и обиды совершенно потерялся, лишь верхняя губа у него приподнялась, сморщилась, обнажая крепкие желтоватые клыки, и из горла вырвалось теплое, обиженное ворчание — такого ему еще не приходилось терпеть. Радостно и звонко засмеявшись, мальчик теперь уже двумя руками крепче обхватил шею собаки; ошалело мотнув головой, освобождаясь от непрошеной назойливой ласки, Дик все с тем же горловым, задавленным ворчанием отбежал от греха подальше, сел было, высунув язык, и, конфузясь, потряс головой, освобождаясь от незнакомого, вызывающего желание чихнуть, запаха; тут же, спасаясь от непрошеного гостя, вновь бросившегося к нему, он в два прыжка достиг изгороди, перемахнул через нее и пропал в кустах.
Лесник перевел дух, а Феклуша затопала, заплясала и, приговаривая себе под нос что-то ласковое, нежное, дернула повод и повела коня в сарай, все так же пританцовывая, что служило у нее признаком радости и благополучия. Захар же направился к мальчику, исподлобья смотревшему теперь ему навстречу. Несмотря на давнее, усилившееся после сегодняшнего утреннего знакомства с Махначом и его компанией желание держаться от людей подальше, лесник начинал чувствовать к неизвестно как и зачем появившемуся на кордоне маленькому человеку уважение: его безрассудная смелость с Диком понравилась леснику и взволновала его, всегда любившего детей. И хотя он давно отвык от них, ему неожиданно захотелось ощутить, вспомнить руками, именно руками, шелковистые, пахнувшие теплом волосы на голове ребенка. Мальчик, рассматривая подходившего незнакомого старика с ружьем за спиной, слегка запрокинул голову, и у лесника стукнуло сердце — он узнал яркие, иссиня-серые мрачноватые глаза; непостижимо далекий отсвет молодости затеплился у него в душе, и горло неожиданно больно дернулось: он вспомнил, как бережно держал на руках своего младшего и вглядывался в его точно такие вот мрачноватые глаза, опушенные густыми ресницами.
— Пойдем сядем, чего нам стоять-то? — скупо сказал лесник мальчику. — Вон ты какой, оказывается. Денис Брюханов… ну-ну…
У крыльца дома в тени привольно разросшейся яблони-дикушки, оставленной почему-то старым хозяином кордона без прививки, Захар сел на старую, прочную скамью. Мальчик, еще не проронивший ни слова, тоже вскарабкался на скамью и чинно свесил ноги в затейливо вязанных, нездешних, длинных — чуть ли не до колена — носках и таких же пестрых, с заграничным клеймом, маленьких точно игрушечных кедах; он болтал ногами, с любопытством подглядывая искоса на Захара. От неожиданной трудности начать разговор лесник достал из-под скамьи заготовку и стал плести хлыстик из сыромятной кожи; мальчик оживился, с пристальным интересом наблюдая за подробными, неторопливыми действиями лесника, и тот, не выдержав, засмеялся.
— А ты, Денис, разговаривать умеешь? — спросил он, пробуя прочность плетения. — Язык у тебя есть?
Денис засопел, еще больше поджался и, перестав мотать ногами, не по-детски тяжело нахмурился; легкая краска начала заливать его лицо и шею.
— Ладно, ладно, — заторопился Захар, отмечая про себя такую не свойственную ребенку обидчивость. — Ишь ты какой… ершистый… Ты как сюда-то залетел? С каким ветром?
— С бабушкой Аленой приехал, — не сразу ответил мальчик, махнув рукой в сторону крыльца. — У нее голова заболела, она лежит… У нее часто голова болит…
— Во-он оно что, — медленно сказал Захар, — значит, голова… Ну ничего, пройдет, пройдет… У нас воздух хороший, лесной.
— Ты, дедушка, почему такой старый? — неожиданно спросил Денис, пристально и беззастенчиво рассматривая лесника.
— Время пришло, — ответил Захар спокойно, пытаясь угадать, что там в Москве случилось и зачем Аленке понадобилось приезжать с внуком на кордон в спешном порядке. — Знаешь, Денис, я долго-долго жил и стал таким вот старым-старым…
— А зачем ты жил так долго? — опять спросил Денис.
— Кто его знает, — так же серьезно отозвался лесник. — Никто такого дела не знает, и я сам не знаю…
— А я знаю, — заявил Денис. — Это оттого, что ты — дедушка. А собака эта твоя?
— Собака моя, — обрадовался лесник. — Диком зовут… Дик… а по-нашему, по-простому — Дикой…
— А почему она убежала? — нахмурил брови Денис. — Она испугалась?
— Она тебя испугалась, — сказал лесник улыбаясь. — У нее даже зубы оттого заболели.
— Зубы? — поразился Денис и добавил мечтательно, показывая палец: — У Дика вот такие большие зубы!
— Зубы у него большие, — согласился лесник. — Дик теперь смотрит на тебя.
Денис оживился, завертел головой; слова Захара обрадовали его.
— Сиди, сиди, — опять сказал лесник, наблюдая за подвижным лицом мальчика. — Дик подумает-подумает и придет, только ты его за шерсть-то не дергай. Он обидчивый, себя уважает, привык, чтобы его вот так не дергали за усы…
— А что, Дик обиделся? — помолчав, спросил Денис, раскрывая глаза шире. — Я же совсем не больно…
— Понимаешь, не то чтобы он так уж обиделся, — поспешил успокоить мальчика лесник. — Просто увидел он тебя в первый раз, не привык еще, не принюхался…
Показалась Феклуша, стремительно, подлетела к крыльцу все с тем же выражением изумления и счастья па лице и замерла возле Дениса. Захар взглянул в ее смятое радостью лицо; ничего, оказывается, не кончилось и все опять только начинается. Вот откуда-то из бездонной глубины детски непроницаемых безжалостных глаз на него глянуло что-то перехватившее дух: он на мгновение увидел собственное исчезновение, перед ним был вестник конца и его оправдание — нерассуждающее, спокойное. Вот чем его так поразило с первого же взгляда появление правнука, и помогла ему это понять сейчас Феклуша. Мысль была больная и не новая, нельзя было только дать разрастись ей в себе.
— Феклуша, хватит тебе выплясывать, — сказал он сдержанно, стараясь не обидеть ее и еще больше не разволновать. — У тебя там что-нибудь сварено?
— Есть, есть! — с готовностью закивала Феклуша все с теми же непривычно сияющими глазами и, по-молодому проворно взлетев на крыльцо, исчезла.
— Есть хочешь, Денис? — спросил лесник. — Пойдем…
— Я уже ел. — отказался мальчик, — я не хочу.
— Пойдем, молока выпьешь, — сказал — лесник, припоминая, что нужно делать и говорить в таких случаях. — Молоко свежее, хорошей травкой пахнет… Ты такого и не пробовал.
— Пробовал… Феклуша давала, — с готовностью сообщил Денис.
— Раз так, оставайся, — согласился лесник. — Только никуда далеко не уходи, лес кругом… я потом тебя проведу и все покажу…
— А волк есть? — спросил Денис, как-то боком, по-птичьи взглядывая на Захара.
— Есть, в лесу все есть, — вздохнул лесник, проскрипев досками на крыльце и скрылся за дверью. Феклуша уже махала ему, высунувшись наполовину из окна, звала к столу, на котором дымилась глубокая миска щей и стоял кувшин с молоком, глиняная кружка. Аленка, судя по Феклуше, старавшейся двигаться тише, расположилась в соседней, большой горнице, как ее называли на кордоне, и лесник успокаивающе кивнул Феклуше, показывая, что не будет шуметь, достал из настенного шкафчика хлеб, нарезал его. Это была его обязанность, Феклуша хлеб никогда не резала и даже отворачивалась, когда это делал Захар или кто-нибудь другой. Покосившись на двустворчатую дверь в горницу, лесник беззвучно положил нож и стал хлебать щи, невольно прислушиваясь к звукам, доносившимся в приоткрытое окно; перед глазами у него по-прежнему стояло упрямое породистое лицо правнука с крупными сильными бровями, с яркими серыми, совершенно дерюгинскими глазами. Привычный, размеренный бег времени нарушился, и лесник все больше хмурился. Ему не нравился обрушившийся как снег на голову внезапный приезд Аленки, то, что она вот так, не известясь, взяла и явилась, а ведь они уже не виделись лет пять, не меньше (подняв глаза к потемневшему от времени дощатому потолку, беззвучно шевеля губами, он посчитал); выходило, что не виделись они с дочерью даже больше, чуть ли не все шесть. Правда, письма от Аленки приходили регулярно, чаще, чем от сыновей. Захар отметив это как нечто существенное, словно впервые увидев, медленно обвел взглядом просторную, высокую комнату с окнами на обе стороны, с большой русской печью и с плитой, приткнутой вплотную к печи; бревенчатые, гладко выструганные стены, хорошо и ровно проконопаченные в пазах, всегда успокаивали его, придавали чувство уверенности. Он налил и выпил кружку густого, прохладного молока, принесенного Феклушей из подвала, и вышел на крыльцо. Феклуша как раз вынесла поесть Дику, и теперь Денис стоял рядом с ней, и оба с одинаково заинтересованным выражением на лицах смотрели, как Дик, выхватывая куски из большой плоской миски, казалось, не разжевывая, тут же их проглатывает. Солнце заливало кордон, куры нежились в пыли, распустив крылья, и надо было бы забраться куда-нибудь в тень, отойти от наполненного событиями дня, подумать, как поступить с порубщиками; почти сразу же обернувшись, лесник увидел в чем-то изменившееся и в то же время незабываемое родное лицо дочери и в первый момент стушевался; несмотря на часто получаемые от нее фотокарточки, он огорчился, что она тоже как-то подсохла, стала другой, в чем-то уже похожей на Ефросинью, свою мать. Аленка, со своей стороны, тоже, правда, больше от неожиданности, с некоторой даже растерянностью присматривалась к отцу: она ожидала увидеть глубокого старика, но Захар от лесной жизни, от постоянного движения и простой здоровой пищи выглядел значительно моложе своих лет. Перед Аленкой стоял, прищурившись, крепкий, высокий и сухощавый мужчина, с густой шапкой спутанных темно-русых, с сильной проседью, волос, с изрезанным морщинами лицом, и ему можно было дать и пятьдесят, и шестьдесят: от него веяло крепкостью и здоровьем.
— Здравствуй, отец, — чуть помедлив, как-то пристально, словно со стороны глянув ему прямо в светлевшие глаза, сказала Алена, торопливо шагнула и ткнулась головой в плечо. Он слегка обнял ее за плечи и, ничего не говоря, тут же отпустил. Она почувствовала его состояние и, опять глянув ему в глаза, слегка улыбнулась: — Сердишься?
— Долго ты собиралась, — отмахнулся он. — Я уже и ждать перестал, думал, может, на похороны только и выберешь время…
— Ладно, что ты! — как-то просто, по родному остановила она его. — Зачем? Я же писала, у меня тоже все клубком, не размотаешь… А у тебя тут хорошо-то как! — протянула она, жадно осматриваясь, запрокидывая голову к высокому, словно вымытому дождями небу. — Я и забыла, что небо бывает такое чистое… Как воздух!
Почувствовав па себе испытующий взгляд отца, Аленка как бы опала.
— Мне так нужно было поговорить с тобой, — сказала она. — Я совсем запуталась, я и к тебе потому приехала…
— Долго думаешь погостить? — осторожно и не совсем уверенно спросил Захар, пытаясь вспомнить что-то необходимое, нащупать верный тон в разговоре.
— Дня два… три, возможно, — помедлив, ответила она. — Я бы тут, кажется, совсем осталась, если бы от меня только зависело. От воздуха, что ли, голова разболелась… я даже, кажется, заснула, ты прости, отец…
— Ладно уж, — остановил ее Захар, понимающе улыбаясь и продолжая против своей воли отмечать новые и новые подробности в облике дочери; его всегда удивляло желание людей говорить о том, что и без слов было ясно.
— Хозяйство у тебя какое, — озадачилась Аленка, оглядываясь вокруг. — Ты писал, правда, из письма не все можно понять, надо увидеть. Скажи, отец, а тебе не трудно? Тебе ведь уже…
— Куда за семьдесят, — подсказал Захар, видя, что ей непросто вспомнить. — Хозяйство хозяйством, — тут же перевел он разговор на другое, — ничего нет трудного. Одному вроде сначала дико показалось, а там вон Феклуша прибилась… Ничего… лес, он тоже живей живого. От людей, от их пустозвонства — одна оскомина, заморился я от них, дочка. А тут чистота, небо да лес… Феклушу-то помнишь?
Она промолчала. Захар лишь заметил ее брезгливо поджавшуюся нижнюю губу и тоже как бы слегка отодвинулся; нужной, откровенной близости пока не получалось: что-то мешало им обоим. Аленка, пожалуй, впервые почувствовала неосознанную тревогу — все могло еще обернуться какой-нибудь новой неожиданностью. Она и раньше не знала, правильно ли поступает, бросаясь сюда, в глушь; нельзя ведь до конца рассчитывать на семидесятилетнего старика, пусть и отца, все равно ведь глубокий старик, не может он взять на себя такую нагрузку — стать окончательной решающей инстанцией в клубке ее запутавшихся отношений с миром. Человек с годами меняется, природу не переделаешь: отец отцом, а жизнь жизнью; каждый рассчитывается сам за свои ошибки, вольные и невольные. Пока ничего не надо говорить, что-нибудь придумается, решила она, к старому отцу можно и без всяких причин приехать, просто навестить, повидать. И отцу, пожалуй, не за что на нее обижаться: она всегда его помнила и после похорон матери сразу же пыталась увезти в Москву, переключить его внимание на внуков, но безуспешно — и не ее в том вина. Очень хорошо, что отец вновь обрел в своей жизни устойчивость, необходимое равновесие, она рада за него, хотя и этого не скажешь прямо, Бог знает что он может подумать…
Захар по-своему расценил их затянувшееся молчание, начиная понемногу привыкать к ее присутствию рядом, к ее изменившемуся облику.
— Денек-то, видишь, какой светлый, праздничный… Успеем поговорить-то. Помнится, когда-то ты лес любила…
Благодарно вскинув глаза, она кивнула, хотела спросить, не опасно ли мальчику рядом с такой огромной и дикой собакой, но тут же подумала, что, если отец спокоен, значит, и спрашивать незачем; она лишь коротко поинтересовалась, что приключилось на кордоне с Петей.
— Как тебе сказать,. — ответил Захар, слегка шевельнув ладонями. — Какой-то он смутный. Посадками на гарях да вырубках интересовался, дня три в семхозе просидел, у нас питомник так называется, семена, посадочный материал — на несколько областей… Элитное хозяйство… Приглядывался я к нему, ничего не понял. Вроде с чудинкой парень… В лесничестве у нас два дня торчал, вот Воскобойников приедет, расскажет, слышно, он все больше с ним что-то хороводился… А затем пропал, я, говорит, хочу по местам старых боев побродить… пошел и пропал, ни слова ни полслова тебе. Хорошо, хоть телеграмму отбил уже из Москвы, а то что хочешь, то и думай… Какой-то он мне показался… гм! — замялся Захар, встретив страдающий, больной взгляд дочери, выбирая словцо попроще, помягче, стараясь не обидеть, не причинить ненароком лишней боли, прокашлялся. — Он того… пьет, что ль?
— Долгий разговор, отец, — ответила Аленка, как-то сразу старея лицом. — Раньше было, а сейчас не знаю, в Москве он только наездами, а что там у него в Хабаровске — не поймешь… Мы еще поговорим об этом…
Захар проводил ее взглядом, поняв, что нечаянно зацепил за самое больное, и Аленка медленно, в раздумье вышла за изгородь, через все те же наполовину распахнутые решетчатые воротца, и сразу оказалась в лесу.
Беспредельная, какая-то провальная тишина, вернее, пустота вокруг нее, да и в ней самой, после гибели мужа ширилась с каждым новым днем; теперь Аленка по вечерам избегала возвращаться в пустынную, гулкую, сразу ставшую непомерно громадной квартиру. Под любыми предлогами она допоздна задерживалась на работе, у друзей, придумывала себе всякие мыслимые и немыслимые дела, но возвращаться домой все-таки приходилось, нужно было хоть недолго спать, переодеваться, как-то поддерживать свои силы; останавливаясь перед высокой щегольской дверью, она всякий раз с робостью, почти со страхом медлила. Она с нетерпением ждала пятницы, когда вечером Денис на субботу и воскресенье вновь возвращался домой (его отводила и приводила соседка-пенсионерка за небольшую плату); теперь Аленка все чаще подумывала перестроить всю свою жизнь, забрать Дениса из садика совсем и самой заняться его воспитанием. В конце концов постепенно вновь появится атмосфера семьи, дома, утраченного смысла жизни. Аленка чувствовала, что на этот раз никакая работа, никакая наука не поможет, не спасет; только после катастрофы она поняла, кем был для нее Брюханов… Проходили дни, недели, месяцы, и пустота, одиночество становились все глубже и невыносимее; не хватало сил решиться на самый необходимый, спасительный шаг — оставить на время работу и заняться Денисом. От отчаяния, от беспросветной черноты ее душу мог спасти ребенок, именно Денис, она должна была вернуть ему все, что недодала собственным детям; и вот однажды в середине недели, сославшись на недомогание, она ушла домой из института посреди рабочего дня, отменив все намеченные дела и встречи. Больше откладывать было нельзя; она уже видела, как совершенно иначе начнет жить с этого дня и как обрадуется Денис, этот маленький человек, — ведь они уже привязаны друг к другу и ничего лучше этого придумать нельзя.
Чувствуя себя помолодевшей, выйдя из лифта, она остановилась, отыскивая в сумочке ключи; высокий прямоугольник двери, обитый золотистым дерматином, хранил тишину и тайну; ей теперь всегда казалось, что стоит ей переступить порог — и случится чудо; порой ей и в самом деле слышался из-за двери голос Брюханова. И на этот раз что-то темное горячо толкнуло в душу, но Аленка не позволила себе распуститься; аккуратно повесив на вешалку пальто, она, хотя было еще достаточно светло, зажгла везде свет. В гостиной, празднично преображая комнату, вспыхнула и засияла нарядная хрустальная люстра; с неосознанным удовольствием (Тихон настоял приобрести для гостиной самую дорогую, роскошную люстру из тех, что имелись в магазине), прищурившись, она полюбовалась на затейливо переливающиеся хрустальные подвески, затем не торопясь пошла по всей квартире из комнаты в комнату, и за ней всюду вспыхивал свет. Она с любопытством заглядывала в самые темные углы и закоулки, открывала дверь даже в кладовку, примыкавшую к кухне, куда она уже бог знает сколько времени не забредала; она осматривала свое жилище словно бы заново — для какой-то иной, новой жизни. — и везде встречала запустение; и на нее опять навалились отчаяние и безысходность. Поскорее выбравшись в гостиную, она села к большому овальному столу, за которым когда-то в разные счастливые минуты собиралась вся семья. Куда и зачем она все время спешила? Аленка ненавидела сейчас себя за эту непрерывную спешку в надежде ухватить за хвост призрачную и, как теперь ясно, несуществующую жар-птицу. Зачем нужна была дикая, непрерывная гонка — ее докторская? Сколько минут, часов, дней, лет, наконец, недосчитались они с Тихоном, человеком, как выяснилось, единственно ей нужным? Ведь она могла бы ездить с ним всюду, помогать ему словом, улыбкой, прикосновением, она могла бы просто не дать ему умереть в трудный, невыносимый момент. Боже! Боже! Прости! Не счесть, сколько на ее памяти было таких моментов… А сколько она вообще не знает, а должна была бы знать… Счастье незаметно: сидеть рядом, чувствуя родное плечо, просто молчать, знать, что твои мысли поймут без слов. Всю жизнь мужик тянул. как вол, и, конечно же, с ним всегда должен был находиться кто-то свой, близкий, понимающий… Она сама убила его раньше времени… И ведь ни разу, никогда за целую жизнь он не укорил ее… А дети? Что они видели от нее? Дорогие игрушки? Теннисные корты, лучшую школу в Москве? Ежегодное лето в Крыму, море? Тихон по своей занятости вообще света белого не видел, она же в вечной своей гонке откупалась и старалась подороже платить за призрачную видимость свободы… Только ведь и свободы-то никакой не было, дети слышали от нее лишь о необходимости честно трудиться, да и видели их с отцом только за работой, вот они и разбежались кто куда, лишь бы поскорее из дому… И у Пети от этого такое раннее повзросление, стремление поскорее окунуться во взрослую жизнь, стать самостоятельным. А Ксения вообще при первой же возможности выскочила замуж вторично, лишь бы прочь из дома, подальше от придавленных вечной работой отца с матерью, от собственного ребенка, чтобы не чувствовать рядом с ними тяжесть невыполненного долга.
Вот теперь-то и сама она поняла наконец детей, поняла сына, а еще больше — дочь. Боже мой, Боже мой, Господи, за что, не так уж я и грешна, сказала она, обращаясь к кому-то всемогущему, всевидящему и всепрощающему; прорвалось что-то от Густищ, от матери, от бабки Авдотьи, от той поры, когда она, забившись вьюжной ночью на теплую печь, с замиранием сердца слушала рассказы о нечистой силе, о ведьмах и домовых. Нехорошо, нехорошо, вот и собственную дочь она никак не может простить за сиротство Дениса, можно примириться, по простить… Нет, совершенно ничего не восприняли ее дети ни от деда с бабкой, ни от отца с матерью; вполне вероятно, что новое поколение и появилось уже с усталостью в крови от перегрузок родителей, что же с них спрашивать. Теперь-то это доказывается научно: синдром генетической усталости, и его последствия нельзя вытравить уже никакими материальными благами, за что же на них сердиться? Чем они виноваты? Просто надо скорее решить с Денисом; вот сейчас, немедленно собраться — и за ним, не откладывая ни минуты…
Аленка торопливо забегала по квартире, ей захотелось быть сегодня особенно красивой и молодой. Схватила одно платье, второе, постояла перед зеркалом, примериваясь, — и руки у нее вновь опустились: в глаза бросилось отекшее, утратившее здоровые, естественные краски лицо, набрякшие веки, разладившаяся прическа, и она бессильно присела на небольшой диванчик. Так вот сломя голову тоже нельзя, сказала она себе, нужно хотя бы внешне привести себя в порядок, покрасить, что ли, волосы, съездить к своему мастеру. О каком тут душевном равновесии может идти речь? Дети ведь очень чутки, тотчас чувствуют малейшую неуверенность, фальшь. Ничего не случится, если пойти за Денисом завтра, нужно хотя бы выспаться, если возможно…
Отыскав старенький ситцевый халатик, Аленка влезла в него и, вернувшись зачем-то в гостиную, едва не закричала: в углу на квадратной высокой подставке, задрапированной черным бархатом, ясно выделяясь, темнела погребальная урна с прахом мужа. Нервы расходились, успокаивая себя, сказала Аленка, поднимая руки к подбородку, галлюцинация, мираж, нужно хотя бы громко заговорить — и все исчезнет. Приказывая себе повернуться и выйти, она продолжала стоять, не в силах шевельнуться; необъяснимое, холодное чувство ужаса сковало ее; прошлое возвращалось, урна была такой же, как и в реальности — в день похорон, — и стояла точно так же, и точно так же Аленка знала, что в урне всего лишь горсть земли с места катастрофы, потому что самолет взорвался, врезавшись в склон горы, и от него буквально ничего не осталось… И, однако, перед ней сейчас прорезывалась на черном бархате урна Брюханова, это его хоронили; она, вопреки настойчивым советам, поступила по-своему, настояла ради детей ненадолго вернуть в дом память об отце; она хотела, чтобы — даже символически — он уходил в свой последний путь именно из родного дома… «Врачу, исцелися сам!» — сильно бледнея, приказала себе Аленка, и видение растаяло, исчезло; с трудом передвигая отяжелевшие ноги, оставляя везде за собой открытыми двери и включенный свет, она прошла к себе и легла. Нужно пересилить себя раз и навсегда, подумала она, у нее нет права на слабость, это отвратительно — сразу же опустилась, превратилась в старую, неряшливую бабу… И Брюханов то же самое ей сказал бы…
Зажмурившись от отвращения к себе, она затихла и, кажется, скоро задремала; звонок в дверь показался ей нереальным; звонок требовательно повторился, и она, помогая себе руками, поднялась, пошла открывать.
— Боже мой, вы? — озадачилась она, отступая от двери, увидев Шалентьева с темно-красными гвоздиками, подтянутого, сильно похудевшего, чисто выбритого.
— Простите… Я почему-то был уверен, что застану вас дома… Здравствуйте, Елена Захаровна, — сказал Шалентьев, и она, стараясь не показывать своего недовольства, стянула ворот своего старенького ситцевого халатика, пригласила войти; неожиданный гость был старым знакомым, бывал при жизни Тихона и в доме, и на даче, не раз встречались на официальных приемах. Она вспомнила, что двумя годами раньше, до катастрофы и гибели Брюханова, Шалентьев похоронил свою жену, — и несколько смягчилась, хотя его появление сейчас представлялось ей чем-то лишним и ненужным, насильственно вырвавшим ее из привычного уже состояния апатии и безразличия: в ее горе ей никто не мог помочь, и справиться с собой, победить подступивший хаос она все равно могла только сама…
Не говоря ни слова, не предлагая садиться, она непонимающе смотрела на цветы, и Шалентьев терпеливо ждал, ничем не объясняя свой поступок и не оправдываясь; увидев до неузнаваемости переменившейся, пополневшее, неподвижное лицо Аленки, он понял, что поступил правильно, и не потому только, что их связывала общая утрата, что он был мужчиной и обязан был прийти сюда, в этот дом, с поддержкой и помощью, и давно думал об этом, но и потому, что прийти было необходимо лично, ему самому, И он видел сейчас не заношенный, ставший давно тесным халат (он знал, что у людей бывают любимые вещи, с ними трудно расстаются), не постаревшее лицо женщины, всего несколько недель назад уверенной в себе, царственно красивой и сильной, не седину, проступившую в ее неприбранных волосах; он видел сейчас ее страдание, ее безразличие к жизни, раз и навсегда, казалось, потушенный изнутри свет, выделявший ее в любом окружении, и еще раз подумал, что поступил правильно.
— Я не вовремя, я знаю… простите, — сказал Шалентьев. — Не сердитесь на меня, Елена Захаровна. Если вам уж очень неприятно, вы скажите, я и пойду.. Право, что ж делать…
Она небрежно сунула гвоздики в высокую запыленную вазу, не придав значения его словам, показавшимся ей ненужными, но она не могла не почувствовать его непридуманного сочувствия, прикрытого легкой, как бы извиняющейся улыбкой, и, по-прежнему не принимая общности своей и его беды, не желая впускать в свое горе постороннего человека, вежливо кивнула и, глядя мимо него отсутствующим взглядом совершенно машинально, по привычке предложила ему выпить чаю.
— Спасибо, не откажусь. Если вам это не в тягость, — неожиданно для нее, а еще больше для себя согласился Шалентьев, зная, что она ждет его вежливого отказа, и посмотрел ей прямо в глаза; и тогда впервые за последние недели к ней пробилось, казалось, недоступное более для нее живое чувство из навсегда ушедшего мира; она даже не захотела скрыть своего удивления и растерянности, стягивая ворот тесного халата.
— Пройдите в гостиную, Константин Кузьмич, извините, у меня не убрано. Сейчас заварю чай, — сказала она все так же безразлично, еще надеясь, что ее неожиданный гость поймет неуместность своей настойчивости, откланяется и уйдет, и, не сразу смиряясь, добавила: — Включайте, если хотите, телевизор, курите, Константин Кузьмич… Извините.
«Какой странный…» — подумала она, взглянув в его крепкий, коротко стриженный затылок, когда он проходил мимо нее из прихожей в гостиную, и затем, переодеваясь с зашторенными окнами, на ощупь, без зеркала (у себя в спальне она теперь не выносила яркого солнечного света и почти никогда не раздвигала штор на окнах), она двигалась скорее автоматически, по отработанной годами привычке при необходимости все делать быстро; неожиданно вспомнив крепкий, коротко стриженный затылок Шалентьева, она безразлично подумала о странностях жизни и поправила чулок на ноге. Перед гостем она появилась в сером джерсовом платье, со стянутым узлом волос, в которых еще резче проступала седина, с несколько посветлевшими глазами и с замкнутым, по-прежнему холодным лицом. Так же машинально, безразлично она отметила про себя быстрый, одобряющий взгляд Шалентьева; он взял с подноса чашку, молча поблагодарил.
— Хотите есть? — буднично спросила она. — Правда, только холодное, ветчина, сыр… Водки выпьете?
— Ни того, ни другого, — отказался он. — Чай — прекрасно… Не обращайте на меня внимания, Елена Захаровна…
— Хорошо, — просто ответила она, и Шалентьев, отмечая безразличность ее тона и в то же время улавливая молчаливое согласие на его дальнейшее пребывание в ее доме, сел в кресле свободнее, откинулся на спинку; Аленка принесла сигареты и зажигалку, закурила, и они надолго замолчали, думая каждый о своем; вдруг нашла минута тишины и покоя.
— Я сегодня у Малоярцева был, у Бориса Андреевича… вызывали, — неожиданно сказал Шалентьев, и по его ровному бесстрастному голосу Аленка поняла, что его больше всего занимает сейчас именно его недавний разговор с Малоярцевым. — Одно дело быть третьим, четвертым или далее вторым, совсем другое — стать первым…
— Кто-то ведь должен быть и первым, — вслух подумала она, уже предвидя решение и внезапно жалея его. — Вы ведь хорошо знаете дело… Лучшей кандидатуры не найти.
— А вы, Елена Захаровна, знаете Малоярцева? — опросил Шалентьев, с напряженным ожиданием взглянув в лицо Аленки.
Она помедлила, погасила сигарету в пепельнице, с некоторой досадой и даже болью ощущая забытое чувство своей нужности, причастности к большой жизни и возвращения в круг привычных интересов и неосознанно сопротивляясь возвращению этого чувства.
— А-а-а… Я понимаю теперь — ваш приход, Константин Кузьмич, — больше для себя вслух подумала Аленка. — Не ждите от меня многого… Вы лучше меня знаете обстановку, людей… Малоярцев был и будет, это не от вас зависит, а следовательно, надо или работать именно с ним, или отказаться и уйти…
— Я не потому пришел, — горячо возразил Шалентьев, едва дождавшись, когда Аленка договорит. — Впрочем, не стану врать, — сразу же добавил Шалентьсв, — не только потому, ведь ближе Тихона Ивановича у меня никого не было и нет. Я к вам не просто так зашел, вот огонь увидел во всех окнах и зашел. Нет, нет… Подумал, может, стены помогут, должно же от человека что-то остаться…
— Спасибо вам, Константин Кузьмич, — тихо поблагодарила Аленка. — Я и сама так думаю, часто с ним разговариваю… Конечно, он поможет вам принять верное решение… Он будет рад вашему решению, Константин Кузьмич, был бы рад, — уже тверже, увереннее произнесла она, чувствуя, как напряженно ждет и ловит гость каждое ее слово. — Знаете, Константин Кузьмич, выходите в первый ряд! Не ждите. В конце концов, если вы откажетесь, ваше место займет другой и, скорее всего, не имеющий таких неоспоримых прав, как вы. И быть может, менее порядочный… Тихону это было бы больно. Так будет лучше и для дела, и для вас…
— Вы думаете? — тихо переспросил Шалентьев, в то же время с облегчением чувствуя, что с его души сваливается саднящая тяжесть.
— Я уверена, — твердо сказала Аленка, еще больше светлея глазами и неожиданно, опять-таки больше неосознанно стараясь ободрить и поддержать, слегка улыбнулась; при всей внешней сдержанности Шалентьева, его значительности, умении держать себя, она безошибочно ощутила в нем внутренний сбой, неготовность принять решение, но она так же безошибочно знала, что жизнь требовала именно незамедлительного решения… Она сейчас как бы обрела дар провидения и точно знала, что необходимо делать ее гостю; она видела и свои прошлые ошибки и просчеты и даже в гибели мужа винила себя; будь она с ним рядом, он бы просто не мог погибнуть; бывает ведь и так, что минута решает все, и вся жизнь может быть опрокинута из-за какой-то одной минуты, а ей в нужный, самый критический момент не хватило решимости, она не захотела заставить себя бросить все свое и быть только с ним, жить только его жизнью…
Лицо Аленки, до этого какое-то расплывшееся, обрело твердость; резче выделились брови, серые глаза, обращенные как бы в себя, стали жестче, заискрились. В эту минуту между нею и Шалентьевым установилась и закрепилась необходимая внутренняя связь, возникающая именно перед лицом страха жизни и оказывающаяся потом прочнее всякой другой связи. И Аленка, стараясь в самом зародыше подавить нелепую, безжалостную мысль об этом, означающую лишь бессмысленное и ненужное продолжение пути, новое страдание и новую возможность утраты, напряженно затихла, постаралась стать как можно меньше, и в лице ее, казалось, тоже прекратилась всякая жизнь. Шалентьев, занятый сейчас своим, ничего не заметил.
5
Уговорившись с отцом оставить внука до осени на кордоне, Аленка как-то сразу укрепилась душой и повеселела; Захара же куда больше теперь занимала судьба Дениса, маленького, смышленого человечка, и он, не скрывая, ждал отъезда дочери; и в то же время при виде черной щегольской «Волги», подкатившей к кордону, он был неприятно удивлен. Сразу подтянувшись и помолодев, дочь познакомила его с человеком лет пятидесяти с лишним, примерно одного с ней роста, худощавым, с ежиком совершенно седых волос.
— Вот, отец, прошу любить и жаловать, Константин Кузьмич Шалентьев, — коротко представила мужа Аленка. — Мы хотели сразу вместе к тебе приехать, не получилось… Константин Кузьмич последнее время очень занят…
— Ладно, Елена Захаровна, мы как-нибудь сами разберемся, — ободряюще улыбнулся Шалентьев, адресуясь к мужской солидарности тестя, и в его приветливом лице при кажущейся мягкости словно бы проступила железинка; глаза оставались улыбчивыми и в то же время как бы слегка подернулись ледком; ожидая, по рассказам жены, встретить глубокого старика, он увидел хорошо сохранившегося, сухощавого, жилистого человека, несомненно, в солидных годах, но ему можно было дать и шестьдесят… Всмотревшись пристальней, Шалентьев понял причину. На продубленном загорелом лице лесника необычно молодо светились глаза пронзительной ясной голубизны, придавая лицу лесника постоянное выражение живого интереса ко всему происходящему. С первых минут своего пребывания на кордоне Шалентьев почувствовал отчетливое, как бы процеживающее внимание новоприобретенного тестя к каждому своему слову и, несмотря на весь свой опыт общения с людьми, никак не мог перехватить инициативу разговора. Несколько раз поймав на себе остерегающий взгляд жены, он вообще перешел на пустяки, впрочем, совершенно искрение восторгаясь красотой окружающего ландшафта, и тесть, приняв правила игры, облегчающие первые минуты и часы знакомства, согласно кивал и поддакивал; Шалентьев никак не ожидал встретить здесь, в немереной лесной глуши, такой редкий экземпляр — тесть не допускал высокомерно-снисходительного панибратства в отношении себя и сам не делал ни шага навстречу.
Разговаривая с зятем, лесник, в свою очередь, подумал, что новый муж дочери похож на затаившуюся рысь с холодными светлыми вертикальными зрачками, готовую бесшумно и мягко прыгнуть тебе на загривок, и, несколько смягчая свой приговор, вслух примиряюще сказал:
— Леса у нас хороши, со всех концов отдыхать едут… Только успевай гляди, на опушках-то одни кострищи… Дикий народ нынче пошел, после себя — хоть потоп. А у нас и рыбка в озерах водится… Что ж, хоть завтра провожу, не пожалеешь…
— Нет, Захар Тарасович, завтра никак по получится, а вообще-то при случае не откажусь, люблю, — сказал Шалентьев, опять остро глянув, не обидится ли тесть. — Понимаете ли, должен вас огорчить, Захар Тарасович, изменились обстоятельства — и нам с Еленой Захаровной необходимо быть как можно скорее в Москве. Надо сразу же и трогаться, чтобы вернуться засветло. Надеюсь, Захар Тарасович, вы нас простите… Придется тебе собираться, Елена Захаровна, — сказал он полушутливо-полуофициально, оборачиваясь к жене и разводя руками, показывая свое огорчение и в то же время извиняясь за невозможность поступить иначе, — но Аленка мгновенно почувствовала, что ни муж, ни отец не приняли друг друга, и, стараясь не усиливать неприязни между ними, ничего не стала расспрашивать.
— Я готова, Константин Кузьмич, — в тон мужу ответила она. — Жаль, конечно, всю жизнь спешишь, спешишь, когда только кончится эта гонка! Давай перекуси чего-нибудь, попей лесного молока…
— Ты же знаешь, я не пью молока, с детства желудок не принимает, — ответил он с веселым, бесовским блеском в глазах.
— Скажи, уже пообедал в Зежске, — засмеялась Алепка, еще пытаясь что-то подправить и изменить в добрую сторону. — Да, отец, а где же Денис? Надо же проститься… Денис! Денис! — позвала она, оглядываясь кругом.
— Мальчонка, видать, за Феклушей увязался, она вчера к Провалу собиралась, — вспомнил лесник и, увидев враз переменившееся, с опустившимися некрасивыми морщинами у рта, лицо Аленки, добавил мягче: — Ну чего душу тянуть… прощайся не прощайся, уезжать надо…
Сдержав слезы, Аленка ушла собрать вещи, а Захар с Шалентьевым присели на скамью под старым дубом; лесник вполне равнодушно отметил про себя, что зять даже не захотел, хотя бы для приличия, пойти в дом; Шалентьев неожиданно загрустил, заговорил о Денисе, пожалел, что не сможет увидеться с ним и попрощаться; лесник по-прежнему больше молчал, лишь что-то про себя буркнул, и его глаза слегка потеплели при виде вывернувшегося откуда-то Дика.
— Вы нас должны понять, Захар Тарасович, самое главное ведь понять, — заговорил Шалентьев. — Мы уже не молоды, и Елена Захаровна, и я, у нас другой ритм жизни… Я слышал от Тихона о вашей дружбе с ним. Сильный был человек, тянул немыслимый воз… Теперь же вот я впрягся.. Надеялись на передышку, хотя бы на недельный отдых, не получилось. Хорошо тут у вас, лес, деревья, закат, тихие мысли, покой… Вы не сердитесь, Захар Тарасович, на нас, не мы завели такой порядок в жизни.
— Я не обижаюсь, откуда ты взял? — сказал лесник. — Живите, мне что? Вы мне не мешаете…
За простыми словами тестя Шалентьеву неожиданно для него самого приоткрылся их иной, более глубокий смысл: старый лесник как бы ненароком напоминал зятю о том, что, сколько ни торопись и что о себе ни воображай, жизнь идет своими путями и ничему он, Шалентьев, не помешает, и что торопится он и не позволяет себе остановиться и задуматься лишь только из какого-то страха перед жизнью. И еще тесть, не сказав ни слова об этом, прямо и откровенно дал понять, что он. Шалентьев, ему совершенно не интересен и не нужен. «Потрясающе, — подумал Шалентьев, больше всего задетый именно этим невниманием и равнодушием к своей особо, с преувеличенным интересом рассматривая в то же время пестрых кур. — Черт знает что такое! Тут нервы натянуты до предела, измотался совсем с этим ожиданием… Наконец-то подписано назначение, и сейчас бы недельку в Форос на водные лыжи, вернуть себе форму, а тут тебе этот… волхв выступает, любимец богов, его тесть… собственной персоной. Черт знает что такое! И вижу-то его в первый раз и, вероятно, в последний… Зачем он мне и зачем мне о нем думать? Нет, в самом деле, без демагогии, все эти родники, фольклорные ансамбли, возрождение традиций, все это, конечно, прекрасно и необходимо, но к нему, Шалентьеву, а значит, и к Елене, не имеет прямого отношения. Каждому свое. Дай Бог в своей-то епархии как следует разобраться. А посему надо разумно расходовать силы. Что знает этот кудесник о нашей борьбе, о наших перегрузках? И вообще, что он знает, кроме своих делянок, охоты, пасеки, рыбной ловли, комбикорма? Что он может знать? Прочь, прочь отсюда, и впредь уговорить Елену побережнее обращаться с отпуском, дней в году много, а отпуск один…»
Усилием воли Шалентьев заставил себя не оборачиваться к леснику и смотрел теперь в глубину подступавшего к кордону леса.
— А что, Захар Тарасович, — сказал он с неподвижным лицом, — надо как-то приехать недельки на две, побродить не спеша с ружьишком, послушать тишину… Честно говоря, никогда не был в таком громадном лесу… Что, если когда-нибудь вырвусь и приеду, примете? А если еще и к озеру, с удочкой посидеть… Люблю.
— Приезжай, удочки найдутся, — коротко кивнул лесник и, увидев выводящую из дома Аленку с чемоданчиком, легко для своих лег поднялся. — Подожди, дочка, из отцовского дома нехорошо уезжать с пустыми руками, сейчас меду принесу… майского.
— Спасибо, отец, — опережая мужа, тоже вставшего ей навстречу, поблагодарила Алена, сдержав невольно подступившие непрошеные слезы, она глядела в сутуловатую спину отца, свыкаясь с непривычными, пронзительными мыслями о том, что видит его, вероятно, в последний раз и что она вот-вот останется старшей в роду; Шалентьев что-то сказал ей, но Аленка не поняла, и, когда вернулся отец, она, взяв тяжелую банку с загустевшим медом из рук, прижалась к нему, быстро оторвалась и, пряча лицо, пошла к машине. Захар не стал ее удерживать, ничего не сказал, лишь про себя вздохнул и пожелал счастливой дороги.
— Дениса, Дениса береги, отец, — попросила Аленка, приоткрыв дверцу и взглянув напоследок; затем машина тронулась, и Аленка, не скрываясь, дала волю слезам, не обращая внимания на мужа. Отъехав от кордона подальше, Шалентьев остановился и, обернувшись назад, глядя на ее припухшие тяжелые веки в верхнее зеркальце, ободряюще улыбнулся:
— Ну, Елена свет Захаровна, немного успокоилась? Что ж ты ее так обнимаешь, как сестру родную? Давай в багажник определим… будет надежнее… А то еще, не дай Бог, разобьется, пропадем ведь без лесного меда… обивку придется менять… Перестань, лучше взгляни, чудо ведь кругом, — предложил он, указывая на старый горбатый мостик через ручей и на цветущее разнотравье луга, раздвинувшего в этом месте лес. — Давай свою банку, не всю же дорогу в руках ее держать…
— Оставь, — отстраняюще отодвинулась Аленка. — Устроил спектакль… Не замечала за тобой склонности к мистификациям…
— О чем ты? Спектакль? Какие мистификации?
— Мы отлично могли бы переночевать у отца. И уж в крайнем случае пообедать… В дом даже не зашел…
— Ты же не знаешь всего…
— Знаю… тебе звонили, поставили в известность… Назначение подписано… Ну и что из этого?
— Мы взрослые люди, Елена, я не могу притворяться. И никогда не умел, — примиряюще улыбнулся Шалентьев; ему не хотелось расставаться с хорошим настроением и вступать с женой в пререкания; именно сейчас, на гребне большого успеха и победы, ему больше всего хотелось мира и согласия. — Потом когда-нибудь, если позволят обстоятельства, сойдемся ближе с твоим отцом… Поверь, не мог, действительно не мог, — убеждал он ее, и чем убедительнее звучал его голос, том вернее чувствовалась фальшь его слов. Да он и не считал для себя нужным притворяться, он был рад, что они наконец одни, что этот неразговорчивый хмурый старик, ее отец, уже отошел в прошлое и можно наконец сосредоточиться на каких-то нужных вещах или просто помолчать вместе. К нему вернулось энергичное, собранное настроение, которое он в себе любил, и даже отчужденное молчание жены сейчас не мешало ему.
— Лена, ты ведь знаешь, в каком диком напряжении я был все время. А сейчас? Разве будет легче? Я понимаю, отец есть отец, я уважаю твое чувство. Только ради чего же я должен ломать себя и играть комедию? Ни мне, ни тем более ему это не нужно. Твой отец все понял как должно. Не в пример своей дочери…
Лицо у Аленки дрогнуло.
— О-о, Константин Кузьмич, как ты ошибаешься, — сказала она, слегка растягивая слова; слезы ее совсем высохли, и она сейчас была такая, какою ее знал и любил Шалентьев; она как-то незаметно успела обмахнуть лицо пуховкой и стянуть растрепавшиеся волосы в тяжелый узел, отчего ярче проступили черты ее зрелой строгой красоты.
— Это почему же?
— Слепому душой на твоей высоте нечего делать… Там ведь не только интегралы, сталь, электроника, там, как и везде, между прочим, игра амбиций и самолюбий, везде люди, свои Захары Тарасовичи… Я бы не стала относиться к ним с таким подчеркнутым презрением. На них ведь все держится, не на нас с тобой, не заблуждайся.
— По-моему, мы в последнее время слишком много говорим о нуждах и потребностях, — жестко сказал Шалентьев. — А ведь еще нужно уметь заставить людей работать… просто работать. Кстати, мы сейчас вообще говорим не о том. Надо наконец определиться. Переезжаешь ты ко мне или опять неопределенность? Смешно, взрослые люди…
— Конечно, перебираюсь я к тебе, и за мной неотступно следует взгляд Конкордии Арсентьевны, твоей матери. Вот уж всю жизнь мечтала о такой опеке.
— Ну-ну, не так горячо, утрясется, — отозвался не вдруг Шалентьев, — Кстати, отцовскую квартиру хорошо бы сохранить за Петром. Помотается-помотается, а там ему захочется обрести свое жизненное пространство. А у матери, ты ведь знаешь, — есть своя отдельная жилплощадь. И я, не в пример некоторым нерешительным особам, могу ей об этом напомнить… Кстати, ты могла бы и меня понять, необходимо переждать, все перемелется… Мать все время запугивает меня своей близкой смертью…
— Ты завел разговор не ко времени, — не приняла его тона Аленка. — Прошу тебя, не надо сейчас…
Согласно кивнув, Шалентьев включил скорость; машина тихонько, словно пробуя колесами шаткие бревна настила, взобралась на горбатый мостик, осторожно перевалила через него; Шалентьев сразу же прибавил скорость, и до самого Зежска они не разговаривали, каждый думал о своем, лишь на старой, вымощенной булыжником еще при Иване Грозном Зежской площади между ними опять произошла короткая размолвка, на этот раз из-за сущего пустяка — из-за газированной воды. В ответ на слова мужа о дурном качестве воды Аленка с видимым удовольствием выпила два стакана и, приведя пожилую усталую киоскершу в замешательство, даже сердечно поблагодарила ее. Дальше машина вновь мягко шла по широкой, удобной автостраде, а они сидели напряженные, враждебные, без малейшей попытки к сближению, к примирению, и Аленка впервые за время их недолгой совместной жизни чувствовала непреодолимое желание освободиться из-под влияния сидевшего впереди нее сильного, жестокого человека и думала о том, как трудно в их возрасте привыкать друг к другу, в то же время пытаясь пересилить себя, свое дурное настроение и не дать разрастись ненужной и глупой размолвке. Именно в это время Шалентьев, как это с ним случалось в минуты душевного напряжения, вначале ушел в себя, помрачнел, затем с несвойственной ему прямолинейностью заявил о своем недоумении и несогласии оставлять мальчишку на кордоне, пусть даже на самый короткий срок; с неожиданной горечью он вспомнил свое бесприютное детство, тяжелый, нестираемый след в душе, обиду, которую он так и не простил матери…
Откинувшись на спинку сиденья, Аленка прикрыла глаза, притворяясь задремавшей; нагревшаяся в ее ладони банка с медом успокаивала, и она не хотела расставаться с нею. «Старею, — подумала она безразлично. — Что мы все-таки нашли друг в друге и нужно ли нам быть вместе? Или все случилось от бездушия и эгоизма детей? Оба мы одинаково боимся одиночества, старости и после гибели Тихона схватились друг за друга как за спасение, и это самое простое и логичное объяснение. Он-то, он что во мне нашел? Сильный человек, обаятельный, когда хочет; любит борьбу, власть, много добился и еще большего добьется. Мог бы найти лучше, моложе, сейчас именно таким, как он, девчонки на шею вешаются…»
Подавив желание взглянуть на себя в зеркало, Аленка рассердилась: слишком мало еще прошло времени с тех пор, как они с Шалентьевым вместе, все еще может измениться, и нечего заниматься самоедством, тем более что в самой себе она копаться не любила. И конечно же, прав Костя — отец умен, самое главное он прекрасно понял, все увидел своими глазами; и ей сейчас плохо и стыдно больше всего именно перед ним.
Проводив дочь с мужем, Захар и в самом деле недолго думал о них; Шалентьев ему не поправился, и не только не понравился, но и рассмешил своей какой-то ненатуральной сверхозабоченностью и деловитостью; лесник отвык от подобных людей, считающих себя единственно необходимыми для жизни, вокруг которых должно крутиться все остальное. При встрече с зятем в душе у него сработал некий защитный механизм, и Шалентьев попал на ту самую полку, куда старый лесник помещал подобных ему людей, помещал, чтобы сразу же о них забыть и больше ими не интересоваться, словно их никогда по было; в душе, не прерываясь, продолжалась своя, важная нужная для него работа, он разговаривал, отвечал на вопросы зятя, даже улыбался, но Шалентьев для него уже как бы не существовал.
Едва шум мотора красивой, щегольской, как будто только что сошедшей с конвейера, с лаковым отливом, машины, лишней и ненужной здесь, в спокойной зелени леса, затих, лесник отправился к навесу, с напиленными к зиме дровами и принялся их колоть: хочешь не хочешь, лето кончится, придут холода, в жизни свой определенный порядок и его нельзя отменить. Егор вызывался на той неделе помочь. Может, и зря отказался, лето, мол, еще долгое, сам справится…
Раздумывая таким образом, он ничего по вечной хозяйской привычке из происходящего вокруг не упускал — ни появившегося невесть откуда, вертевшегося поодаль Дениса, ни Дика, посматривающего на зависшего над кордоном ястреба, ни кур, бегущих в укрытие; одной рукой придерживая, другой взмахивая топором, лесник привычным движением раскалывал чурбак за чурбаком; работа его успокаивала, проясняла голову, и за работой незаметно проскочило часа два. Разогнувшись, придерживаясь за ноющую поясницу, он, привычно воткнув топор в старую колоду, присел сам.
— Ну что смотришь, иди подсаживайся, — сказал он, искоса присматриваясь к Денису, определяя, какой породы в нем больше, и вспоминая Брюханова, его неожиданную, жуткую смерть где-то в немереных высотах над Сибирью. — Вот так-то, брат, — добавил лесник неопределенно поглаживая доверчиво пристроившегося рядом мальца по голове. — Сначала нас пускают на белый свет, потом выкидывают вон, греби себе как можешь, потонешь — туда и дорога…
Внимательно и сосредоточенно выслушав, Денис поднял на лесника серые, с золотистым отливом, глаза.
— Ты тоже меня бросишь, дедушка? — спросил он, не меняя позы, и лесник, с трудом преодолев желание схватить мальчика на руки, прижать к себе, натужно прокашлялся: что-то в самом деле перехватило ему горло.
— Мелешь всякую чепуху, Денис, — сердито хмурясь, сказал он. — Я вовсе не про тебя, я совсем про другое подумал… Никто тебя не бросил и не собирается бросать.
— Меня Валька Тешкин дразнил, — все тем же ровным, ничего не выражающим голосом сказал мальчик. — Ты, говорит, никому не нужен, давай, говорит, убежим с тобой в Индию, в джунгли…
— Какой еще Валька? — потерянно спросил лесник.
— У нас во дворе с бабушкой живет. У него отец с матерью за границей работают. В Индии завод строят.
— А-а, черт бы их всех побрал! — не выдержал лесник, выдернул топор из колоды и поднялся. — Знаешь, люди от безделья бесятся, ты знаешь, ты того… не верь своему Вальке… Мало ли кому что в башку втемяшится… Слышь, у нас в лесу зима долгая, холодно… волки бегают, знаешь, сколько дров надо? Ты мне помогай, я колоть буду, а ты по полешку бери, вон под навес складывай… а?
— Нет, что ты, дедушка! — сказал Денис. — Лучше давай позовем сторожа или вахтера, или еще кого-нибудь. Давай с тобой лучше конструктор соберем… есть катер-самоход на батарейках… Бабушка мне целый чемодан оставила.
Неторопливо поставив очередной чурбак торцом, лесник с резким придыханием расколол его, отбросил в сторону, поставил следующий.
— Ты можешь сидеть, — не прерывая работы, сказал он, — а я не хочу зимой мерзнуть, у меня кости старые, тепло любят… Я-то думал, мне помощника Бог послал и сам черт нам теперь не брат, а ты вон что… Слышь, вахтеров нам нанимать не на что, им голый шиш не покажешь, им денежки выкладывай. Я сам восемьдесять рублев получаю. У нас с тобой руки-ноги имеются, на что они? Ты как хочешь, а я уж по-своему…
Не обращая больше никакого внимания на притихшего мальчика, лесник снова не спеша принялся за дело; помедлив, Денис посопел, затем подошел к вороху наколотых дров и, нерешительно взяв сухое желтоватое березовое полено, понес его под навес. Сделав вид, что ничего не заметил, лесник еще шибче принялся махать топором, хотя ему давно пора было передохнуть, поясница ныла — и во рту пересохло. Денис таскал дрова все азартнее, пыхтел, стараясь взять теперь три-четыре полена сразу, и, кое-как затолкав их на место, тотчас мчался обратно.
— А я тебя перегоню, дедушка, — неожиданно заявил он Захару, и тот, обрадовавшись передышке, выпрямился. — Я все теперь перетаскаю…
— Перетаскаешь и перегонишь, — согласился лесник, молодо светлея глазами. — Отчего не перегнать, ты же вон какой молодой, сильный, а я свое оттопал.
— Ты, дедушка, не останавливайся! — потребовал разохотившийся, раскрасневшийся от быстрой работы мальчик. — Давай честно, кто кою перегонит…
— Ну вот. сам себе заботу схлопотал, — проворчал лесник и, сдерживая руку, с удовольствием принялся за дело; характер правнука пришелся ему по душе, и они, старый да малый, старались еще часа три; наконец, отдуваясь, лесник опустился на колоду.
— Уморил ты меня, Денис, — сказал он. — Кончай, пора умываться да обедать. Где ты там? Иди сюда…
Оборвав на полуслове, он встревоженно шагнул к мальчику, державшему перед собой правую руку ладонью вверх, с торчавшей в ней глубоко ушедшей большой занозой.
— Вот те на, — сказал лесник, присев. — А ну-ка терпи… Вот мы ее сейчас… Ра-аз!
Пошла кровь и вмиг залила маленькую, перепачканную в земле ладошку; сильно побледнев, поджав губы, мальчик неотрывно глядел на нее.
— Ничего-ничего, не бойся, пусть промоет, — сказал лесник. — Та-ак, молодец парень… а теперь зажми ладошку-то покрепче в кулак… мы сейчас ранку прижгем… пощиплет немного… Ты не бойся…
— А я и не боюсь, — ответил мальчик.
— Вижу, — с уважением сказал лесник, подхватил отбивавшегося правнука на руки и направился к дому; Денис, устав от воздуха и движения, прижался к деду и скоро заснул, а лесник, выйдя после обеда на крыльцо посидеть и подумать, не сразу увидел Фому Куделина, иногда приезжавшего к нему на кордон из Густищ выпросить то дровишек, то сена, а то просто так — от тоски и непонимания жизни. И на этот раз Фома завернул на кордон от беспокойства; привязав лошадь к изгороди, стоя у ворот, он долго пытался усовестить Дика, внимательно и настороженно слушавшего Фому, но решительно преградившего ему дорогу к дому: едва Фома пытался приоткрыть решетчатые ворота, шерсть у Дика на загривке становилась пышнее и во всей его поджарой, могучей фигуре намечалась как бы готовность движения — и все это в совершеннейшем мертвом молчании.
— У-у, зверюга лесная! — ругнулся Фома, вытягивая из-за изгороди худую морщинистую шею. — Ты что ж вытворяешь? Ежели ты собака и хозяина стережешь, подай голос, чтоб хозяин тебя услыхал… Природа! А так что в немоте караулишь? Черт веревкин, глаза-то какие ярые, вроде он уже горло тебе перекусил, кровушки напился! У-у, зверюга! Природа!
Еще подождав и посмеявшись, лесник окликнул Дика, и вскоре, поздоровавшись, они сидели с Фомой на скамейке под дубом и Фома выкладывал деревенские новости, а Дик, положив острую морду на лапы, внимательно и неотступно следил за шумным гостем, мешая ему разойтись по-настоящему. Время от времени Фома замолкал, ожесточенно теребил свою куцую, сбивавшуюся вправо бороденку и сердито косился в сторону пса. Стоял предвечерний безветренный зной; листва на деревьях ослабла, и даже жесткие листы дуба слегка обвисли. На лице у Фомы выступила испарина; самые важные повости — про сгоревшего на прошлой неделе, в сорок семь лет, от самогонки старшего сына Микиты Бобка и об одном из беспутных парней, три дня назад арестованном за пьяную драку и увезенном в город — ужо были рассказаны; и дело, ради которого Фома приехал на кордон по просьбе зятя Кешки Алдонина (узнать, где можно будет рубить на зиму дрова), тоже было уже решено. Оставалось напиться студеной вкусной колодезной водички на дорогу и распрощаться; он уже открыл было рот, но так ничего и не произнес, у него лишь глаза тревожно округлились, словно он увидел перед собой нечто диковинное, из ряда вон…
— Захар, а Захар, — сказал он, вытирая взмокший лоб рукавом, — а ты ничего не слыхивал?
Лесник молча смотрел на него, ожидая, и Фома заволновался сильнее.
— Траншею копают из самого Холмска в Зежск, а там еще дальше, туда! — неопределенно махнул рукою Фома, вытирая лоб рукавом. — Уже мимо Густищ, мимо Соловьиного лога прострочили. Я сам ходил глядеть, вот стала жизнь, Захар! — потряс бороденкой Фома. — Идет себе машина агромадная, а за ней канава получается… хоть какие коренья рвет, камни вон выкидывает… а? Природа! Говорят, газ пойдет, и никаких тебе дров и торфа! Как так, Захар? Жили-жили, и деды жили, и прадеды жили и ничего не знали? Какой такой газ? Видать, опять жульничество… Природа! Где ты на весь мир эвонного газу наберешься?
— Занесло тебя, Фома, опять в тартарары. Ну что ты можешь знать на курином своем нашесте? — посмеиваясь, спросил лесник. — Вот народ, вместо радости черт знает что напридумают…
— Ладно тебе, Захар, ты сам кто таков будешь? — обиделся Фома. — Я на курином нашесте, а ты на каковском? Может, ты и правду говоришь, все ближе к начальству, — тотчас вильнул Фома в некий, показавшийся ему подходящим, закоулок; он вспомнил. зачем приехал на кордон, и решил, что себе в убыток огород городить не стоит. — Ты мне скажи, Захар, в наши-то Густищи этот самый газ проведут?
— Само собой проведут. Мимо прут, как же не провести?
— А вот и не будет этого! — твердо подвел черту Фома, весь подобравшись; у него даже голос переменился, зазвенел и глаза заблестели. — Природа!
— Опять ты за свое…
— Не проведут! — упрямо повторил Фома. — Потому как этот газ, народ говорит, прямиком в Турцию тянут, а на русского человека начальству наплевать! Испокон веков так было, потому как все начальство у нас подряд непутевое! Природа!
— Зачем в Турцию-то? — озадачился лесник.
Фома больше подсох лицом, и во взгляде его появилось стариковское нерассуждающее упрямство.
— Зачем, зачем! — с досадой отмахнулся Фома. — Ткнули пальцем в небо и копают себе. Потому — в Турцию… Надо же куда-то его тянуть, этот газ. Лишь бы только не своим, мне один знающий человек словечко такое сказал. Уж он знает! Природа! А ты слыхал, откуда его берут, газ-то этот?
— Из земли, поди, — миролюбиво предположил лесник, и Фома утвердительно потряс в воздухе корявым пальцем.
— То-то! — сказал он. — Из земли! Там, в земле-то, потом пустота во все концы разрастается! Природа! Государство русское затем туда и рухнет, ничего не останется… Народ говорит, а народ знает… Природа!
— Ты, Фома, вроде еще лет двести жить собираешься, — скупо усмехнулся Захар, вызывая явное неодобрение своею беспокойного гостя. — Колготишься-колготишься, старый хрен, а зачем? Тебе-то что?
— Слова твои, Захар, босяцкие, — не остался в долгу Фома, и от возмущения его контуженую ноздрю заметно потянуло вправо; он сморщился, пронзительно чихнул, и лесник, забывший об этой особенности своего гостя, вздрогнул. — Вот видишь, моя правда, — продолжал Фома. — Совсем ты в своей глухомани одичал… Вот помру — и заботам конец, а пока живой… как по-другому?
На этом деловая часть их разговора оборвалась; Фома понес уж совершеннейшую чепуху, вначале вспомнил о Варечке Черной, отправившейся в лес поискать первых грибов и столкнувшейся там нос к носу с самим хозяином и тот вроде бы опустил свои тяжеленные лапищи ей на плечи, раскрыл жаркую пасть, дохнул на нее синим огнем и сказал: «Ложись, баба!»; и что после этого и рухнула она в темень, и ничего более не помнит. А когда очнулась, то никого не увидела, лишь земля кругом была вся изрыта, и даже кусты с кореньями повыдраны, и что Варечка Черная божится и крестится, что подломил ее в глухом нечистом месте не хозяин, а сам Захар-Кобылятник.
От неожиданности лесник покрутил головой, с некоторой долей удивления буркнул в адрес Варечки Черной что-то не совсем пристойное, что-то о голодной куме, а затем Фома стал вспоминать довоенное время, Захара в председателях, свое насильственное переселение с хутора в Густищи и оттого загубленную во цвете лет молодую жизнь, лесник слушал, поддакивал; к вечеру жара спадала и в лесу становилось оживленнее и веселее.
6
У Пети с университетских времен сохранялся постоянный круг знакомств; кто-то, разумеется, женился или выходил замуж, кто-то уезжал в другой город, с головой уходил в науку, в работу и отпадал от их университетской команды, но атмосфера студенческих лет, студенческого братства, споров, взаимовыручки, желания внести в жизнь оглушительно новое, свое, нащупать еще одну ступень к совершенству сохранялась, и Петя дорожил ею. Бывая в Москве теперь лишь наездами и нерегулярно, он все-таки старался не пропускать редких вечеров, обычно по субботам, когда собирались его университетские однокашники. Он звонил, узнавал и обязательно приходил. С последнего курса Петя окончательно положил себе правилом жить только на свои деньги, не брать ничего у отца с матерью; над ним посмеивались, говорили, что его психология совершенно нетипична, что он просто опоздал родиться и ему в самый раз жить в годы первых пятилеток; особенно донимал его один из самых его близких друзей, Сашка Лукаш, человек яркий, напористый, энергичный, умевший при всякой погоде остаться на гребне успеха, как-то незаметно, между делом, неожиданно для всех защитивший кандидатскую. В обществе наконец-то разгорелась жажда ощутить подлинные корни исторического прошлого русского народа, и мешать этому и дальше становилось опасным; Лукаш безошибочно уловил момент и, удивив всех своих друзей и родных, в очень короткий срок написал работу о денежно-товарных отношениях в Киевской Руси, замеченную и легшую в основу его кандидатской. У Пети с Лукашом со студенческих лет не угасало соперничество; в свое время они активно боролись за лидерство на курсе, и тогда Петя легко одерживал верх, но в последние годы главенствующее положение перехватил Лукаш; легкость успеха теперь прочно перешла к нему, ему все давалось, казалось, совершенно без усилий, и это Петю тайно ранило; себя он начинал считать бесталанным, невезучим человеком, каким-то непонятным образом оказывающимся на обочине жизни. То, что давалось Сашке Лукашу словно шутя, ему приходилось вымучивать, и даже в отношениях с женщинами. У Лукаша, казалось бы, неразрешимое разрешалось свободно, безболезненно, с какой-то веселой легкостью; у Пети уже первая любовь обернулась чуть ли не трагически. В понятном стремлении к самостоятельности, в желании иметь хотя бы небольшие свободные деньги Петя, чтобы не кланяться матери и особенно отчиму, иногда читал лекции па социологические темы в обществе «Знание», пробовал писать статьи (социология только-только входила в моду); Лукаш тотчас накрыл его своей новой работой, вторжением в самую жгучую современность, с анализом влияния экономического фактора материальной заинтересованности на производительность труда на двух ведущих автомобилестроительных заводах страны — в Горьком и в Москве. Так иногда случается в жизни, что два человека, оказываясь рядом, результатами своих усилий, сами того не желая, начинают мешать друг другу и даже взаимно уничтожать один другого; неожиданный, всех удививший отъезд Пети сначала в Томск, а затем в Хабаровск, скорее похожий на бегство, многое переменил в их отношениях. Наведываясь теперь время от времени в Москву, Петя становился крепче, свободнее в суждениях и поступках, гораздо меньше зависел от прежней своей институтской компании, проявляя ко всем, включая и Лукаша, ровное, устойчивое заинтересованное дружелюбие, не выделяя никого и никого не обходя вниманием. Лукаш, в свою очередь, ревниво переживая эту перемену, старался не пропускать даже мимолетных встреч с Петей; подвыпив, Петя становился размашистее, угловатее, щедро, без утайки выворачивал все, что у него было за душой, и порой даже какая-то одна его мысль, выношенная в тишине, в удалении от столиц, позволяла Лукашу держаться на плаву и слыть в своей среде думающим, оригинально мыслящим человеком. Петя со своей стороны тоже узнавал от Лукаша много столичных новостей; оба они еще пока не уступали друг другу первенства и только одного никак не мог выяснить Лукаш: какие планы были у Пети на будущее.
Возвратившись в Москву из поездки на кордон к деду, Петя несколько дней провел взаперти, не отвечая на телефонные звонки и почти не выходя из дому. Он не мог забыть мертвой деревни и встреченных там стариков, нечаянно приоткрывших ему незнакомую сторону бытия; он и раньше знал, что была война, что любая война оставляет после себя безобразные рубцы, в том числе вот такие, как эта мертвая деревня Русеевка в глубине зежских лесов, но одно дело знать войну по рассказам, по книгам и фильмам, и другое — столкнуться самому с ее тяжким проявлением через тридцать с лишним лет и ощутить на себе ее мертвящее дыхание. У Пети не шла из головы старуха Фетинья с ее судьбой, ее глаза, ее голос, ее уверенность в необходимости и целительной силе самой смерти…
Приведя несколько свою душу в порядок, он много просиживал за столом, упорядочивая уже написанное и собирая разбросанные там и сям мысли и положения начатой перед отъездом статьи. На неожиданный звонок в дверь он думал было сначала не отзываться, но Лукаш, невысокий, плотный, с открытой заразительной улыбкой, уже шагнул через порог, уже шел к нему, широко раскрыв объятья, словно опасаясь, что хозяин вот-вот улизнет, как его ни удерживай.
— Наконец-то! Попался, бродяга! Почему дверь не закрыта, ты думаешь, здесь тебе тайга? Значит, Елена Захаровна права, хорошо хоть меня стукнуло ей позвонить. Ну, здравствуй, Брюханов! — начал Лукаш оживленно, и в его небольших серых глазах словно что-то захлопнулось. — Да что ты такой кислый? Что, не понравилось в российской глубинке у деда? Ты когда вернулся? Почему не звонишь? — заключил он на высокой и даже несколько неестественной ноте.
Он потряс руку Пете, бросился в кресло; крепкий, в меру румяный, он всем своим существом выражал радость и довольство жизнью, но Петя знал, что Лукаш зря своего времени не тратит и просто так не приходит, и, не присаживаясь, ходил по комнате, слушая и изредка поглядывая на нежданного гостя, оживленно рассказывающего о последних московских новостях, связанных с их общими знакомыми. В ответ он сдержанно кивал; неожиданно обернувшись, он поймал в лице Лукаша какое-то новое, незнакомое, какое-то вбирающее выражение, но тот, мгновенно справившись с собой, знакомо улыбнулся, и Петя, пряча глаза, смутился.
— Нет, определенно, у тебя, я вижу, настроение оставляет желать лучшего, — безапелляционно подвел черту гость. — Уж часом не влюбился ли ты? Молчишь? Я тебе телефон оборвал, по нескольку раз в день звоню. Перспективнейшее дело наклевывается! Погоди, погоди, ты пока не выступай, ты слушай. Я хотел тебе написать, не успел. Месяц назад в журнале «Вестник экономики» сменился главный редактор… Нет-нет, подожди, ты знаешь, кто пришел? Хороший мой знакомый — Вергасов Павел Тимофеевич, имя известнее, доктор, у него очень приличный учебник по философии. Он предложил мне войти в редколлегию и возглавить отдел социологических исследований. Ты ведь до этого… до филиала Обухова, работал на заводе социологом… Ты же хорошо пишешь, старик! Я, разумеется, тотчас вспомнил о тебе, не хмурься, подумай. Я же знаю твои возможности, почему бы тебе тоже не нацелиться на какой-нибудь из отделов? Получишь реальную независимость и даже больше того — власть… Отдел для тебя — это только начало. Я уверен, надо брать дело в свои руки, да и Вергасов сразу же сделал ставку на молодых, он прямо заявил: мне нужны молодые мозги, способные к поиску и эксперименту, пусть даже к риску… Что же ты молчишь?
— Я слушаю…
— Вергасов хорошо знал твоего отца, — сказал Лукаш со значением в голосе, вскочив с кресла. — Связи везде необходимы, особенно в новом деле. Шеф, как только услышал твою фамилию, заметно взбодрился… В самом деле, что с тобой, Петр… Петр Тихонович? Ты как будто недоволен, а ведь такая карта выпадает не часто… Слушай, у тебя там в холодильнике ничего нет?
— Взгляни сам… кажется, оставалось.
— Не очень-то ты любезен, — проворчал Лукаш, заглядывая в холодильник и разочарованно присвистывая. — Тебе, пожалуй, приснилось, здесь шаром покати, ничего, кроме минералки!
— Значит, ничего и не было, — отозвался Петя равнодушно, настраивая радиоприемник; Лукаш, искоса поглядывая в его сторону, открыл минеральную воду, выпил, поморщился и, повозившись, опять, казалось надолго, устроился в кресло, ожидая развития событий. Петя спиной чувствовал его оценивающий взгляд и думал о том, что людей приходится принимать такими, какие они есть, и с этим ничего не поделаешь. И Лукаша никто не переделает: всегда стремится опередить события, всегда куда то рвется, старается захватить побольше пространства вокруг; что ж, если рассуждать спокойно, это здоровое стремление, тем более что вокруг все предельно обветшало, никакого свежего движения, никакого смелого порыва. Все застыло, обвяло в ожидании окончательного распада, любая ищущая мысль тотчас отвергается, и, естественно, такие активные натуры, как Сашка Лукаш, ищут выхода, разрешения. У него острое, практическое направление ума, пусть предельно суженное, зато проникающее, действенное, и никто ведь не виноват, что в нем самом, в Петре Тихоновиче Брюханове, как его уже начинают называть все чаще и чаще, угнездилась какая-то трещина и все в мире ему кажется неверно устроенным… Может быть, прав Лукаш — что, в самом деле, толку думать о мировых скорбях, о вечном несовершенстве человека? Присутствие в мире людей, подобных Лукашу, безусловно оправдано — хотя бы потому, что они знают, чего хотят, и, самое главное, знают, как быстрее достигнуть своей цели; биологически они всегда правы, им, разумеется, и во сне не может пригрезиться, что они не нужны на этом свете, что вот-вот им на смену появится некто, имеющий право сказать: пора, уходите, ваше время кончилось, большие и нужные дела вы превратили в постыдный фарс, все подчинили служению своим низменным инстинктам…
Представив себе изумление Лукаша, услышавшего о себе такое суждение, Петя усмехнулся и выключил приемник.
— Твое предложение мне не подходит, не ко времени. Я пытаюсь хоть что-нибудь понять в происходящем. Сидя в Москве, этого не сделаешь, это город тысяч физиономий, город-лицемер…
— Ну вот, теперь тебе Москва не угодила! — Глаза Лукаша сузились. — Твои первые статьи замечены именно здесь, не в Томске, не в Хабаровске, а именно здесь! Вызвали споры, полемику именно здесь… в первопрестольной. Москва ему нехороша! Другому успех достается каторжным трудом, когда жизнь уже истреплет его… Конечно же, ты из отмеченных, ты не будешь всю жизнь тупо, покорно, упершись в землю лбом, тянуть ярмо. Вергасов — во-от такой мужик, он следит за тобой, знает твои работы, едва услышал о тебе, сразу заявил, что ты журналу будешь полезен как некая возбудительная… он сказал — провоцирующая субстанция… Представляешь?
Петя не представлял.
— Ну и глупо! — отвел светлые, почти невидимые брови Лукаш. — Слушай, Брюхан, не строй из себя шибко принципиального, ладно? Все ты прекрасно понимаешь! При таком отношении главного к тебе и режим будет щадящий, и свободного времени хоть отбавляй, любые командировки: в за рубеж, и по нашей обширнейшей отчизне. Ну что ты высидишь там, в краю первопроходцев, декабристов и каторжников?
— Понимаю, требуются мои мозги, — сказал Петя. — В полное, безраздельное пользование и владение? И за это мне будут пожалованы повышенные жизненные блага и льготы… Так, что ли?
— Ты сегодня не в своей тарелке, старик, — огорчился Лукаш, пружинисто, одним рывком вскакивая. — Пошел, а то мы разругаемся. С твоей-то головой сидеть на периферии… Не обрубай окончательно, в конце концов подержим ставку, пока у тебя мозги улягутся на место. А пока будешь писать для нас в любом объеме…
— Ну хорошо, хорошо, я подумаю. — Петя легко, без заметного усилия вдавил Лукаша назад в кресло; тот охнул, подломился и сел. — Я подумаю, — повторил Петя. — Я только одного, Сань, не понимаю, зачем? Ты вот решил исправить мир с помощью своего журнала и веришь в конечный результат. Молодец. Я же твердо и бесповоротно убежден: человека нельзя ни исправить, ни улучшить, он таков, каким его запрограммировала природа, и здесь любой социальный строй бессилен. Издержки материи.
— Не-е-ет, это ты брось, Брюханов, знаю твою теорию, сейчас про кроманьонцев своих заведешь. Ты меня не собьешь, Брюханов. Я — марксист!
— Знаю, знаю, ты — марксист-демагог, вас тьма-тьмущая расплодилась на всех этажах. Только ведь вы вашей деятельностью человека все равно не улучшите, не-ет!
Лукаш точно не слышал слов Пети, спор этот между ними был застарелый, давний, в ответ он еще раз напомнил просьбу Вергасова прийти завтра в любое удобное для Пети время познакомиться.
— Ты пойми, Сань, у меня уже день расписан, билет на самолет в кармане, мне еще надо тысячу дел переделать, целый список поручений, половину мать на себя взяла — хорошо хоть ее симпозиум перенесли, а то бы пришлось одному вертеться. Надо к ней забежать… еще кое с кем повидаться, — отбивался Петя, начиная в ответ на настойчивость гостя утрачивать свое благодушие. — Нет, ну просто нет времени, в другой раз давай, а?
— Другого раза может не быть! — не сдавался Лукаш. — Сдай билет, на день, на два отложи вылет…
— Нельзя, опоздаю в экспедицию, Обухов просил меня быть к сроку, а я, понимаешь, уважаю этого человека, — сказал Петя. — Ну извинись перед Вергасовым, ну объясни! Если у меня что-то напишется, выстроится — есть кое-какие соображения, — обязательно пришлю… Еще хотел к деду на кордон смотаться, посмотреть, как там племянник себя чувствует…
— Когда ты таким заботливым родственником заделался?
Улыбаясь, Петя промолчал; пожалуй, он, если бы и захотел, не смог бы никому объяснить своей внутренней установившейся связи с племянником; почему-то они были нужны друг другу, и сам Петя ощутил это, как только увидел красное, сморщенное младенческое личико, еще совершенно бессмысленное и ненужное в этом мире. Но в тот момент он, не удержавшись, откровенно изумился и даже высказал сомнение в необходимости и разумности случившегося, и лишь через год, когда ребенок неожиданно улыбнулся склонившемуся над его кроваткой Пете, его охватило странное, ни с чем не схожее чувство встречи с самим собой в самом начале пути; у племянника уже ярко светились голубые глаза, он смотрел еще по-младенчески прямо, не мигая, и Петя не выдержал его взгляда.
Внимательно слушая, Лукаш вертел между пальцами зажигалку, его меньше всего интересовали сейчас семейные или родственные связи Пети и его суждения по этому вопросу, да и не верил он в искренность своего собеседника, полагая, что тот преследует какие-то свои цели и ненужными разговорами намеренно отводит в сторону; Лукашу больше всего хотелось знать истинные намерения Пети, заставляющие его уклоняться от прямого и откровенного разговора, он заявил своему старому другу, что его племянник прекрасно вырастет и без него, и, заметив мелькнувшее на лице у Пети ироническое выражение, тотчас, беря быка за рога, прямо перевел разговор на Обухова. Перед Петей скоро составился довольно реалистический портрет ученого мужа, осмелившегося пойти наперекор «всей Москве», «всей науке», возомнившего себя чуть ли не спасителем человечества, явно страдающего манией величия и по сути дела изгнанного вон и отправленного в ссылку, чего никак не могут понять некоторые великовозрастные недоросли, околпаченные умелой демагогией сего ученого мужа.
— Обухов — настоящий ученый и не собирается никого спасать, — резко возразил Петя, не обращая внимания на прозрачные намеки в свой адрес, — что за абсурд — спасти человечество! Просто он не укладывается в стандарт, говорит, что думает, вот и вся его шизофрения! А правды у нас не прощают. Спасти человечество! Просто человек ведет будничную, необходимую работу. Ведь считали же когда-то и Циолковского, и Вернадского сумасшедшими… Слушай, Сань, давай договоримся, я не буду слушать всякую ерунду об Иване Христофоровиче, просто он слишком поторопился прийти к динозаврам, вроде нас с тобой, понимаешь, поторопился родиться… И потом, мне наплевать, что о нем думают другие, и ты в том числе. Главное, с ним рядом интересно, тоже начинаешь ощущать себя некоей величиной. Не веришь? Гм, думаешь, неужели это я — тот самый маменькин сынок и пропойца, который когда-то с неким прохиндеем Санькой Лукашом воровал в отцовской библиотеке ценные книги и волок их в букинистический на пропой… Тихо, тихо! Я еще не сказал главного… Понимаешь, мой старый друг и собутыльник, с ним рядом, с Обуховым, — интересно, неудержимо тянет заглянуть за горизонт, куда-то туда, где таится что-то… пусть даже самое невыносимое… А там кто знает… Такие, как Обухов, не укладываются в стандарт… Зачем, допустим, при его глобальном уме ему сейчас потребовались какие то реликтовые блохи в горячих ключах, какие-то там эндемики… Все равно ведь через два-три года там все уйдет под воду навечно, навсегда. Он же весь дрожит, так боится не успеть.
— Вот именно, — подхватил Лукаш, уже посмеиваясь беззлобно и как бы намеренно вызывая товарища на еще большую откровенность. — Никто не может понять, чем же именно он занимается, а вместе с ним и ты…
— Не один я, у него таких, как я, энтузиастов и последователей хватает, — ушел от прямого ответа Петя. — Я всего лишь обрабатываю и суммирую данные исследований филиала… и поверь, мне интересно, хотя я и зачислен в штат всею лишь рабочим,.. Абсурд — видите ли, даже ставки младшего научного сотрудника не дают… В конце концов, какая разница, кем числиться? Наступит время — и паши изыскания будут на вес золота, какое там золото! Им просто цены не будет… Вот он сейчас и спешит с экспедицией: на реках громоздят каскады электростанций — и огромные площади, совершенно уникальные в экологическом отношении, навсегда уйдут под воду. Когда-нибудь люди, опомнившись, по материалам академика Обухова будут восстанавливать планету… Пусть пройдут даже миллионы лет! Даже если люди улетят в другие миры…
— Бред какой-то, — не выдержал Лукаш. — Я теперь понимаю, почему у тебя везде разбросаны груды каких-то математических выкладок… раньше я совершенно не мог взять в толк… Ну, хорошо, ну допустим… Но я не понимаю, что тебе мешает написать об этом в наш журнал.
— В свой срок, очевидно, и напишу. Знаешь, Сань, человеческая раса, то есть мы с тобой — самый неэкономный и эгоистический вид жизни, и, если человечество вовремя не остановится и не определит разумные пределы своих потребностей, оно сожрет себя. Исход неизбежен… Впрочем, что это я! — недовольно оборвал себя Петя, заметив в лице Лукаша мелькнувшее, уже знакомое ранее, по прежним их спорам, выражение жестокости и недоверия, но теперь это скорее всего была прорвавшаяся тайная и давняя зависть.
— Бред какой-то… немыслимо для целого института. Жалкий филиалишко… кустарщина какая-то…
— Ну почему же? — опять чуть свысока улыбнулся Петя. — Электронику выколачиваем для филиала. Обещают ЭВМ, правда, уже изрядно устаревшую. Все равно полегче станет. Кстати, периодическая таблица и явилась для Ивана Христофоровича… Гм, гм, — сказал Петя, спохватываясь и обрывая. — Знаешь, Сань, ты прости, мне в самом доле пора…
— Нет-нет, продолжай, — с какими-то мягкими, не свойственными ему интонациями в голосе попросил Лукаш. — Я должен понять, я так не могу, мне нужно искать. Я думаю, мы договорились, ты ведь не отказываешься от сотрудничества в нашем журнале? На корню беру все написанное тобой, понимаешь, все беру! Договорились? Жаль, только-только коснулись чего-то интересного… Кстати, я тоже потихоньку щупаю по совету шефа одну тему… формирование паразитических формаций в новых социальных условиях… ты знаешь, слегка копнул и какой там крутой кипяток!
Внимательно дослушав, Петя засмеялся (в этот его приезд в Москву его не отпускало ощущение счастья), вытащил из-за дивана большую спортивную сумку, поставил на стол, стал загружать ее заранее заготовленными свертками и пакетами.
— Покупок столько, черт его знает, какие везде очереди. Ребята такой список соорудили… И ведь не откажешь! Там же ничего нет. Одних джинсов семь штук, кроссовок на всю партию. Не подскажешь, где они водятся?
— Теперь везде, — четко, сузив глаза, сказал Лукаш, сдерживая себя и ничем не проявляя обиды и лишь отмечая про себя, что старый товарищ мог хотя бы из приличия поинтересоваться его научной темой. — Мода на них проходит… Валяй в центр… там джинсы какие хочешь, итальянские, западногерманские, американские… Бери не хочу… С кроссовками труднее. Но тоже бывают. Ты что, действительно так переменился? У тебя и деньги уцелели?
— Представь себе, — невозмутимо сказал Петя, про себя наслаждаясь недоверием, прозвучавшим в голосе Лукаша. — Я у Обухова и срываться почти перестал. Если уж совсем горло перехватит… а так — просто не хочется, и все тебе.
— Ну ты титан, Брюханов! — протянул Лукаш по-прежнему недоверчиво. — Что же, теперь только через год увидимся?
— Думаю, раньше, — добродушно улыбнулся Петя. — Месяца через три-четыре я опять буду по делам.
Он ничего не добавил, и Лукаш, не мудрствуя лукаво, стал прощаться; уходя, уже на пороге, он небрежно, как бы мимоходом бросил:
— Да, чуть было не забыл, знаешь новость? Лерка Колымьянова со своим нарциссом разошлась… Встретил ее недавно, ух злая, красивая, как черт… Говорит, богатого жениха ищу… Привет от тебя передать?
— Вот и женись, тебе в самый раз, ты у нас самый перспективный, — тоже с улыбкой сказал Петя, в то же время чувствуя вспыхнувшие щеки.
— Так я передам от тебя привет, бывай, старик! — кивнул Лукаш на прощание, продолжая упорно связывать себя и Петю в одно целое, и вышел.
7
Три дня шел дождь, и такая погода грозила затянуться, пока не переменится густой юго-восточный ветер, несущий с теплого Японского моря неисчислимое количество влаги; знал это и Петя, за несколько дней экспедиции сразу же забывший и о мертвой деревне, и о Москве, и о Лукаше; впервые напросившись в такую дальнюю экспедицию, Петя и близко не предполагал, что будет входить в круг его обязанностей и что точно он должен будет делать. Экспедицию доставили к намеченному пункту на вертолетах; лагерь разбили на высоком, каменистом берегу быстрой таежной реки, берущей начало где то в горных распадках, и Обухов, как только прояснилось и тайга слегка просохла, тотчас разослал людей по заранее, намеченным маршрутам. Ушел и сам, решительно отклонив настойчивое требование Пети послать его в один из маршрутов в паре с молоденьким, едва оперившимся биологом Веней Стихаревым, о котором в окружении академика уже говорили как о восходящей звезде, открывшим новый радиационный способ считывания экологической информации биомассы; и Петя, пожалуй, впервые с начала работы у Обухова бурно выразил свое недовольство, и тот, уже готовый к походу, в брезентовой куртке, в свои шестьдесят с лишним лет подвижный, вникающий в любую мелочь, неугомонный, теребя небольшую бесформенную бородку, непреклонно, пункт за пунктом обосновал необходимость именно Пете оставаться в лагере. Вниз по реке, всего километрах в сорока, работала экспедиция археологов, да и вообще в этой местности полно людей, особенно заготовителей, ободрил академик и добавил, что они как раз и вырубают лес, обреченный на затопление, и к ним в случае необходимости всегда можно обратиться за помощью.
— Вы что же, полагаете, что я боюсь? — буркнул Петя, стараясь не обращать внимания на синеглазого Веню Стихарева, увязывавшего огромный, чуть ли не в рост его самого рюкзак; академик, бывший со всеми без исключения, даже, пожалуй, и сам с собою, только на «вы», тотчас как-то совсем по-домашнему, по-отечески потрепал Петю по плечу и, отведя его в сторону, подчеркнуто доверительно, как где-нибудь в утопающем в коврах кабинете, усадил на подвернувшийся замшелый камень и рядом устроился сам.
— На дорожку, на дорожку. — сказал он с улыбкой, сбоку посматривая на строгий профиль хмурившегося, недовольного и явно не скрывающего своего недовольства Пети. — У меня к вам, Петр Тихонович, давняя просьба… Еще и еще раз просчитайте наши зежские дела. Не дай Бог, чтобы вкралась ошибка! Кстати, оттуда, от Воскобойникова, ничего нового нет? Вот посмотрите, непременно что-нибудь проскочит, народ бессонен, от народа ничего не скроешь. Моя давняя боль — зежские леса… Есть серьезные основания тревожиться… Перед отъездом сюда у меня было тяжелое объяснение по все тому же кругу вопросов. Если мы упустим момент… окончательно нарушится экологический баланс европейской части России, и не только одной России, у природы границ не существует. Нельзя опоздать, понимаете, нельзя… При первой же возможности снова командируем вас туда… Там сейчас самый центр, нервное сплетение всего региона…
— Силы очень уж неравны, — буркнул Петя, начиная отходить и по-прежнему не глядя на академика. — Не хватит вас на все…
— Почему — вас? — обиделся академик. — Нас… всех нас. Вы знаете, Петр Тихонович, у каждого есть своя заветная мечта, дорогая, самая дорогая, — продолжал он после недолгой паузы, и в узком прищуре глаз холодно сверкнуло. — Моя давняя мечта — зежские леса… Я ведь давно-давно живу, многое наметилось с юности, да, да, Петр Тихонович, здесь размах, простор, нетронутый, непочатый край работы, и все-таки самая кровавая схватка предстоит нам с вами там — на старых пепелищах. Да, да, именно там, в российском Нечерноземье, как сейчас называют эту землю… Пустыня движется оттуда, она достанет человека и здесь, если он не опомнится и не остановится… Из ядра столь безжалостно и долго выкачивали, что оно уже давно стало пустотельным, бессильным. У него уже не осталось никаких удерживающих центростремительных сил. Это противоречит физическим законам, национальные окраины вот-вот начнут обламываться…
Обухов вскочил, поднял и Петю, отвел его в сторону от людей, к реке; тут Петя отметил силу и цепкость длинных и тонких пальцев академика, сжавших его локоть.
— Думайте, думайте, думайте! — говорил Обухов, цепко придерживая Петю за локоть. — Мы должны научиться считать, мы должны точно знать в неопровержимых данных, что мы теряем и что приобретаем, затапливая уникальнейшие, огромные площади бесценной земли… Мы перестали считать. Математика, цифры, неопровержимость цифр может остановить человечество от дальнейших безумий. Мы с вами должны научиться считать и научить других.
— Строительство уже идет, и никакие цифры его не остановят, — упрямо возразил Петя. — И если нам даже удастся разработать более или менее точный метод…
— Программа наша рассчитана не на одно наше с вами поколение, Петр Тихонович, — раздумчиво произнес Обухов. — Истина остается истиной и через тысячу лет… С цифрами, с фактами в руках мы их все равно одолеем… И я вас очень прошу, кто бы сюда ни заявился, — тут академик сердито топнул ногой в каменистую землю, — вы не знаете, слышите, совершенно не знаете, где я и есть ли я вообще, и тем более если сюда пожалует моя жена, что вполне вероятно… Карты маршрутов у тети Кати, она знает, от нее никто ничего не добьется.
Тут Петя, уже не скрывая веселого изумления, глянул в глаза академика, и тот, подмигнув, рассмеялся.
— Видите ли, Петр Тихонович, все дело в биологическом чувстве опасности. Просто оно пришло ко мне раньше других — сама жизнь в опасности, и опасность исходит от нас самих. В зежских лесах намечается расположить мощнейший источник энергии, вот о чем мне стало известно, Петр Тихонович… вот о чем у меня душа болит… я всюду был, пишу во все возможные инстанции. Но камень преткновения в академике Александрове. Атомные электростанции — «фата моргана» президента, он предан своей идее и не свернет ни на полшага. И верхний эшелон власти он давит своим авторитетом. Я надеюсь на коллективный разум. Не самоубийцы же там окопались… Хотя я все больше и больше убеждаюсь в лености и отсутствии элементарного любопытства заглянуть хотя бы на полвека вперед. Просто грабят природу и не утруждают себя расчетами хотя бы на ближайшие два десятилетия… Благо, есть что грабить, привалила дуракам удача… Да, впрочем, России со времен Петра Великого, вашего тезки, так больше и не повезло по-крупному… Вы что-то хотите сказать, Петр Тихонович?
— Ничего особенного, Иван Христофорович, только одно, — ответил Петя; впервые столкнувшись с предельной откровенностью Обухова, он не понимал до конца, чем она вызвана. — Без энергии невозможно движение, источники энергии истощаются, другого пути нет, и вы это лучше других знаете…
— — Знаю, — подтвердил Обухов, — к сожалению, знаю. Любой источник энергии связан с ущербом для окружающей среды, я это тоже слишком хорошо знаю, если так будет продолжаться, прочность экологических систем просто не выдержит. Вот и получается, Петр Тихонович, парадокс: за жизнь, за человека нужно бороться с самим человеком… Впрочем, заговорил ведь с вами совсем по другому поводу. Выслушайте серьезно, не примите за старческое чудачество…
— Иван Христофорович…
— Ладно-ладно, — остановил его Обухов, — я же знаю, как вы меня зовете. Шестьдесят два есть шестьдесят два, все законно. Дело не во мне, от каждого из нас зависит исход. Что поделаешь, так случилось… стать на сторону добра, поддерживать разумное в жизни — теперь уже подвиг. Я одного хочу, чтобы рядом со мной люди делали выбор осознанно, не ссылаясь потом на незнание… И у вас еще есть выбор…
Проводив последнюю уходящую на заданный маршрут пару, Петя продолжал раздумывать над разговором с Обуховым, решив тем временем получше познакомиться с оставленным на его попечение солидным хозяйством; обойдя палатки, он посидел у стола, сбитого из неструганных березовых жердей. Слова Обухова не шли у него из головы. Между тем тетя Катя развила в опустевшем лагере бурную деятельность; тетя Катя, которую все без исключения звали в экспедиции именно так и не иначе, была никакая еще не тетя, а вполне моложавая женщина, всего лишь лет на десять старше самого Пети, сухощавая, энергичная, безраздельно отдающая себя работе. Она числилась заместителем Обухова по хозяйственной части, прекрасно справлялась с рацией, виртуозно и бесперебойно выходила в эфир, занимала также должность повара, исправно и умело оберегала своих подопечных от заболеваний, оказывала в случае необходимости срочную медицинскую помощь, заведовала экспедиционной аптечкой. У тети Кати было миловидное лицо, обрамленное коротко стриженной русой челкой, пухлые щеки с ямочками и небольшие яркие карие глаза. Тетя Катя всех в экспедиции, кроме самого Обухова, называла только по имени и только на «ты» и лишь самого академика величала, тщательно выговаривая каждый звук, Иваном Христофоровичем; поговаривали, что тетя Катя предана академику собачьей нерассуждающей преданностью и ездит за ним во все экспедиции.
Между тем день разгорался; лагерь был разбит на открытом месте, и все-таки таежный гнус начинал донимать; поеживаясь от потянувшего с реки промозглого ветерка, Петя сходил в палатку и нацепил на голову накомарник; после обеда (пшенной каши с мясом) тетя Катя, улыбаясь всеми своими ямочками, выдала ему тюбик с неприятно пахнущей мазью, посоветовала тщательно натираться, прежде чем идти в тайгу, и попросила сделать запас сушняка. Кивнув, Петя взял топор и отправился, на заготовки; сушняка было много набито по берегам речки на каменистых отмелях; в распадках сопок, заросших густым ельником, тоже хватало валежника. Охапку за охапкой Петя таскал топливо на стоянку, к большой палатке, к навесу, под которым была устроена своеобразная кухня с плитой, сложенной из дикого камня. Скоро ему стало жарко; сбросив куртку и раздевшись до пояса, он с наслаждением вымылся пронзительно холодной речной водой; комары и таежный гнус остервенело набросились на него, и он поспешил натянуть на себя одежду и набросить на голову накомарник. От непривычной работы в плечах ломило, ладони саднило. Необозримые безлюдные пространства вокруг все больше захватывали его: бесчисленные, уходившие к северу, все выше и выше, к самому небу сопки с их каменными то желтоватыми, то розовыми осыпями-проплешинами, с их распадками и отвесными обрывами, с их у самого горизонта, в немыслимой дали, ослепительно бело горевшими под солнцем остатками ледников, почти полностью исчезавших к концу лета и дававших начало бесчисленным таежным ручьям и речушкам. В другую же сторону, к югу и западу, все понижаясь и наконец сливаясь с горизонтом, уходили разливы тайги, испещренные рукавами рек; над всеми этими немереными пространствами в ослепительно чистом, хрустально-синем небе сияло наполненное тяжелым золотом солнце. Взобравшись на причудливый каменный вырост, нависший над рекой и открытый любому, даже самому легкому ветерку, вслушиваясь в голос реки, с грохотом катившейся из поднебесья, бившейся и тершейся о берега, без устали ворочавшей валуны и гальку, Петя почувствовал себя еле различимой, необходимой нотой в общем, слитном и согласном звучании земли и неба. Близился вечер, и солнце висело совсем низко над сопками, размывая и растворяя их вершины в ширившемся, обнимавшем все большее пространство зареве неестественно бледного огня; Петя, задержав дыхание, наблюдал за невиданной картиной, начиная уже уставать от переизбытка красок, от своей неспособности сразу вместить, понять и принять весь этот сказочно прекрасный мир гармонии, согласия и тишины.
Петя прислушался, он отчетливо различил странный, долгий, как бы хрустальный звон, словно сквозь все видимое пространство сопок и неба прошла извилистая трещина. Петя недоуменно оглянулся. Солнце уже ушло, и теперь веер малиновых с золотом лучей напряженно бил из-за потемневших, резких контуров далеких сопок; был тот зыбкий момент противостояния дня и ночи, который всегда отзывается в живом существе смутным ожиданием; кажется, стоит всего лишь шевельнуться — и что-то непоправимо расколет, разобьет эту тишину и согласие. И точно, в этот самый момент через тайгу и небо опять пробежала хрустальная трещина; выждав, Петя спустился к палаткам, и тетя Катя тотчас позвала его ужинать, пока все было спокойно; Петя вопросительно взглянул в ее всегда приветливое ясное лицо и уловил в нем какую-то задумчивость и тревогу.
— Я тут, пока ты сушняк таскал, получше осмотрелась, — сказала тетя Катя в ответ на его взгляд. — Там, вверху, — просторная площадка, камень… там бы надо было лагерь ставить…
— А что такое? — спросил Петя, прихлебывая чай, решив не высказывать вслух своей неясной тревоги. — Низковато?
— Низковато, да и вообще не нравится мне что-то, — сказала тетя Катя, тряхнув головой, как бы поясняя тем самым, что ей не нравится вообще все вокруг; ямочки ее стали заметнее. — Давит какая-то тяжесть, давление, что ли, меняется, — легонько вздохнула тетя Катя, незаметно успевая при этом убирать со стола, подливать Пете свежую заварку, придвигать ему нарезанный, остро пахнущий сыр из дополнительных запасов. — Ешь, ешь, не стесняйся, воздух свежий, а ты мужик вон какой справный, в оглоблю вымахал. Петр Тихонович, ты заметил, к вечеру потеплело, духота опустилась, гнус вон что выделывает… Ты полог получше подоткни… а то кровопийцы спать не дадут. Да, Петр Тихонович, — опять неожиданно спросила она, вновь называя его по имени-отчеству и тем самым как бы возводя в более высокий ранг, — мы как, ночевать вместе будем?
— То есть как это вместе? — спросил Петя, прищурившись и вскинув глаза на тетю Катю, и тут же в ответ на ее улыбку что-то буркнул, глянул в сторону и принялся искать зажигалку; смех у тети Кати оказался заразительный, немного глуховатый.
— Я спрашиваю про палатку, в одной палатке или каждый у себя? — разъяснила тетя Катя. — Все таки тайга, глушь, вон куда забрались, сюда, видно, человек-то и сроду не забредал. Так что спи спокойно, Петр Тихонович, не бойся… А вот ружье под руку подсунь…
— Чего мне бояться? — Петя пропустил ее последние слова мимо ушей, припоминая что-то обидное для его мужского самолюбия, сказанное ею раньше. — Бояться тут нечего… Если хочешь, я свой полог в большую палатку перетащу, пока светло… могла бы и раньше сказать…
— Ладно, ладно… Тайга есть тайга, зверь ненароком наведается… А так что ж… Я тоже не из пугливых, — заверила его тетя Катя, и, несмотря на весь ее решительный вид, Пете сделалось ее жалко; какая-то чужая, тайная боль коснулась его, и он едва удержался, чтобы не сказать в ответ какую-нибудь дежурную глупость, от которой обоим стало бы неловко. Люди, как всегда, ничего не знают друг о друге, каждый занят собой, и он мог бы узнать что-то о ней, ее личной жизни, хотя бы Ивана Христофоровича спросить, раз она всюду с ним ездит.
— Я костер люблю, — тихо сказала тетя Катя. — Хочешь, Петр Тихонович, костер разжечь? И гнусу станет меньше… Чай можно вскипятить, чай от живого огня дымком, избой пахнет… я могу просидеть у костра ночь напролет… Что, Петр Тихонович?
— Я — с удовольствием, — сказал Петя, отмечая про себя ее, ставшую уже неистребимой, потребность о ком-то неустанно заботиться, оставаясь при этом совершенно незаметной; едва разгоревшийся вначале слабый огонек жадно поглощал сухие сучья, быстро и как-то внезапно потемнело, и разговаривать не хотелось. И тетя Катя, и Петя думали каждый о чем-то своем; он был благодарен тете Кате за душевную чуткость, и, если бы не гнус, лезший сплошной, ноющей, неодолимой массой в глаза, в нос, в кружку с чаем, он был бы совершенно счастлив. Такой дикой, нетронутой, какой-то пронзительной красоты он до сих пор не встречал; от света костра мрак вокруг усилился, сливаясь в сплошную, плотную блестящую черную мглу, подступившую со всех сторон, но стоило поднять глаза — и над этим беспробудным безбрежным мраком четко прорисовывались контуры сопок, их острые вершины, как бы облепленные со всех сторон мерцанием звезд. Кто-то, кому нет названия и имени, продолжал в густом, душном мраке ночи таинство продления жизни, и попытка людей вмешаться (Петя подумал о своей экспедиции, о честолюбивых планах и надеждах академика Обухова) — всего лишь бесплодное, жалкое высокомерие «мыслящего тростника», бессильные подступы и пробы к продлению и утверждению самого себя. Надо жить, просто жить, сказал себе Петя, устраиваясь в палатке на ночь (все-таки гнус одолел их у костра и заставил, несмотря на двойные накомарники, противомоскитные маски и чудодейственную мазь тети Кати, которой она натерлась, поскорее затушить огонь и разойтись), он зажег стеариновую свечу и по совету тети Кати положил рядом с пологом карабин, чтобы тотчас, в случае необходимости, можно было сразу его нащупать. Раздеваться в самой палатке не было никакой возможности: едва свеча засветилась, тотчас поднялось дружное, непрерывное гудение и комары густо полезли на свет; Петя ужаснулся. Тело от духоты давно стало влажным и липким; наконец, решившись, он стащил с себя накомарник, сапоги, брезентовую куртку, рабочие брюки и, поспешно схватнв горящую, распространявшую уютный, тепловатый запах свечу, поднырнул под марлевый полог; первым делом он тщательно подоткнул края полога под матрац, безжалостно уничтожая пробравшихся и в это последнее убежище комаров, вновь и вновь все тщательно, до малейшей складки осматривая, и, затаившись, конечно же, тотчас услышал зазвучавшую под пологом, непередаваемую завораживающую музыку; казалось, слетелось комарье со всего света; стоило Пете слегка тронуть ткань полога, многомиллиардный хор начинал звучать с нарастающей, оглушительной, стихийной силой — это была, наверное, самая древняя музыка на земле, отупляюще завораживающая, со своими подъемами и спадами, и ее нельзя было ни выключить, ни приглушить, от нее некуда было деться, к ней просто необходимо было притерпеться и привыкнуть. Петя дунул на свечу: душный, звенящий мрак стал стихать; и Петя сказал себе, что день прошел хорошо, осмысленно, идаже тетя Катя приоткрылась совсем с незнакомой стороны; кто знает, возможно, ему и нужна именно такая вот женщина рядом, как эта тетя Катя, с ее способностью и быть и не быть, с ее неназойливой и бережной заботой, ведь нельзя же ему так всю жизнь прожить одному, И нельзя, и нехорошо; ведь вот даже простое, непритязательное общение с женщиной у таежного костра пробуждает черт знает какие мысли…
С хрустом, длинно потянувшись, Петя, опасаясь нарушить полог, спохватившись, подобрал ноги; вновь воевать с комарами ему не хотелось. Ему представилась совершенно реальная и в то же время глупая, немыслимая картина: он с тетей Катей, теперь уже его законной женой, за семейным овальным столом, сплошь утыканным по краям чистыми русыми детскими головеньками, и даже племянник Денис, кажется, присутствовал…
Петя тихонько засмеялся, на него незаметно наползла теплая мгла, тонкое комариное пение отдалилось и затихло, и все исчезло. Он заснул с ощущением покоя и счастья и, казалось, тут же проснулся, как от толчка. Что-то рушилось, грохотало и выло, и он еще во сне подумал, что это в лагерь, очевидно, наведался тот самый таежный, обещанный тетей Катей зверь; все еще не проснувшись, он бессознательно потянулся за карабином, затем рывком сел. Тетя Катя, стоя на коленях, сильно и часто дергала его за ногу; он узнал ее голос — в кромешной мгле совершенно ничего не было вндно. Парусина палатки оглушительно хлопала, кто-то стонал и грохотал, и — непрестанный воющий гул продолжал валиться откуда-то сверху; слышался рев близко несущейся воды.
— Скорее! — кричала тетя Катя, по-прежнему сильно дергая его за ногу. — Скорей, Петя, скорей! Говорила, лагерь выше ставить! Так нет же, нет, все умные… Скорей!
— Да что такое? — в свою очередь закричал Петя, освобождая ногу и выбравшись из-под полога, поспешно, на ощупь одеваясь.
— Вода подступает, сверху катится! Все унесет! — сквозь вой и треск прокричала тетя Катя. — Говорила ведь, говорила! Куда там! Мужики! Что бабу слушать?! Да скорей же ты, тоже растелешился, что тебе тут, столичный люкс? Скорей, перетаскиваться надо!
— Сапога не найду, — сквозь зубы ругнулся Петя. — Ага! Вот! — обрадовался он попавшемуся под руку фонарику, включил его и тотчас увидел пропавший сапог. — Вот черт! Под руками! Перетаскиваться в такую темень? — спросил оп. — Тут же сам черт ногу сломит…
— Вот горе с этими городскими! — закричала тетя Катя. — Уже прорезывается, сереет, скорей, скорей! Ты что копаешься! — торопила она, и Петя, кое-как надернув сапоги и натянув куртку, выскочил вслед за нею из палатки. Дальше всю полноту власти взяла на себя тетя Катя, и Петя безоговорочно, нерассуждающе ей подчинился, косясь на притиснутое к земле, тяжелое, воющее небо. Затем он уже не успевал даже оглядываться кругом, пока затаскивал очередной груз вверх на сопку, на примеченную еще с вечера тетей Катей просторную каменистую площадку, и, задыхаясь, спускался вниз; тетя Катя тотчас наваливала на него новую ношу, она распределяла, что спасать и уносить в первую очередь, с чем можно погодить; только тут Петя оценил ее сметку и расторопность, ее энергическую натуру; несколько раз она сама, тяжело нагруженная, поднималась с самым ценным грузом, который не рискнула доверить Пете, на верхнюю площадку; ухитрилась каким-то образом снять палатки, все наскоро кое-как увязать и даже успела в момент, когда Петя совсем уже изнемог и обессиленно опустился на камень, сунуть ему кружку горячего кофе из термоса, а сама, не теряя ни минуты, как муравей, потащила волоком наверх очередной тяжелый тюк. Залпом выпив кофе, Петя догнал ее, тяжело отдуваясь, взвалил тюк на спину и уже привычный, хорошо теперь различимым в белесой утренней мгле следом снес его наверх, бросил в общую груду и тут же побежал вниз: минутой раньше он думал, что больше не двинется с места, ноги подламывались, в груди стояла острая резь, перед глазами плыло, и вдруг он почувствовал новый, неожиданный прилив сил; тело окрепло, дыхание выровнялось; сбегая вниз за очередным грузом, он кричал что-то бодрое и нелепое. Не переводя дыхания, сбегал наверх несколько раз подряд, оставалось перетащить самую малость, и тетя Катя металась по опустевшему лагерю, опасаясь забыть что-нибудь стоящее, бросая последние мелочи на разостланный брезент. На месте стоявших палаток кое-где оставались крепления; тяжело бухая отсыревшими сапогами, Петя срывал эти крепления и перебрасывал их выше. И тетя Катя закончила свою часть работы. Оттащив последний мешок с мелочами наверх на новое место, она совершенно без сил свалилась рядом с мешком, на землю и теперь тупо глядела сверху вниз на бегающего по старой опустевшей стоянке Петю: он был без фуражки, время от времени запрокидывал лицо к небу, к тучам, со свистом, впритирку к земле несущимся с юга. Уже рассвело, и тетя Катя хорошо видела выражение лица Пети и подумала, что мужик, хоть и москвич, оказался толковым и надежным, на такого можно положиться. Тут она заметила, что Петя уже по щиколотку в выступившей из берегов воде и из-под его ног при каждом шаге взлетают фонтаны брызг; вскочив, тетя Катя отчаянно замахала руками и, пытаясь перекричать вой ветра и рев несущейся сверху воды, волочившей по дну ущелья множество камней, окликнула Петю, но тот не услышал и продолжал разбирать и перебрасывать каркасы палаток на более высокое место. Не помня себя, тетя Катя бросилась вниз; каменная глыба, высоко торчавшая из земли, на какое-то время скрыла от нее происходящее на берегу; задыхаясь, она обежала каменный вырост и теперь уже с более близкого расстояния закричала, отчаянно замахала руками, предупреждая об опасности. Уже по колено в воде, он и сам стал шаг за шагом отдаляться от берега реки, и тетя Катя облегченно перевела дух; пробираясь среди катившейся воды, Петя ободряюще поднял руку и, увидев шагах в четырех от себя воткнутый в ствол осины ладный, уже знакомый ему топор, свернул в сторону, быстро выдернул топор из дерева, радуясь ощущению собственной ловкости, собранности и силы; новый, отчаянный, захлебывающийся крик тети Кати он услышал, но что-либо понять и даже оглянуться не успел — его рвануло, ударило и поволокло катившимся сверху по ущелью новым взбухшим валом из воды, валежника, сора, камней; перед ним лишь на мгновение мелькнуло косое, рваное, звенящее небо, затем его перевернуло, потащило куда-то вниз, опять вверх, стало швырять из стороны в сторону, и он почувствовал, что голова его чем-то намертво зажата, вот-вот лопнет; вспыхнула мгновенная острая боль, в глаза полыхнуло жгучим огнем. Он понимал теперь, что он под водой и его куда-то неудержимо несет, он стал отчаянно рваться, руки его сами собой за что-то хватались, он извивался всем телом и, уже почти теряя сознание, почувствовал, что его вновь подхватило и втянуло в себя какое-то крутящееся, чудовищное колесо. «Ну вот и кончилось все», — мелькнуло в нем слабеющим, разорванным бликом; какой-то странный, перламутровый свет обступил его со всех сторон — и боль прекратилась, ушла из тела. «Как все просто», — опять отдалось в нем; и он еще вяло, неосознанно шевельнулся, как бы удобнее устраиваясь, и тотчас голову и правое плечо у него выдавило на поверхность, в просвет продолжавшего нестись вниз, сцепившегося переломанными стволами, корнями, сучьями таежного залома из валежника, и Петя, глотая воздух изболевшейся, сдавленной грудью, долго еще не мог шевельнуться и осмотреться. Он знал, что перед этим он уже умер и что случившееся затем — неправда, но его начавшее оживать тело теперь действовало и боролось само по себе, рука как бы сама собой все крепче и крепче обхватывала измызганный ствол дерева с торчавшими во все стороны, остро обломанными сучьями, несущийся в потоке в невероятном переплетении с другими деревьями, пнями, корягами; еще подождав, он, раздирая кожу на груди и животе, выбрался наверх и плашмя прижался избитым телом, по-прежнему не чувствующим ни боли, ни холода, к какой-то коряге, измочаленной до хлопьев. Окончательно сознание возвратилось к нему вместе с медленно подступавшим чувством ужаса самой реки, бешено гудящей внизу и несущей неисчислимые массы мутной пенящейся воды; ощущение отвратительных, тяжких, безжалостных глубин внизу, под собой, на какое-то время почти парализовало Петю. Залом в этот момент близко проносился мимо скалистого, обрывающегося отвесно в воду подножия сопки, наполовину скрытой опустившимися и тоже стремительно несущимися сплошными облаками: преодолевая слабость и тошноту, Петя с усилием приподнял голову. Он хороший пловец, но здесь ничего не поможет, на уходящую в облака стену не вскарабкаться; он вновь затих и почти сразу же с какой-то внезапной, пробудившейся, почти первобытной жадностью стал всматриваться в проносящийся мимо отвесный берег. И тут же, на очередном крутом повороте реки Петя едва поверил собственным глазам: вырвавшись из тесного каменного горла, река круто поворачивала и сразу же широко и привольно разливалась; открывался безбрежный речной простор; он даже успел отметить, что сильный ветер срывал верхушки волн и что берега сразу же широко раздвинулись, стали пологими. Но все это он увидел еще до вздувавшегося на выходе из тесного ущелья водяного вала, и тут же несущийся залом под ним задрожал, затрещал и взлетел, казалось, к самым облакам и сразу же рухнул вниз, рассыпаясь под чудовищным, тягостно стонущим ударом немереной водной массы. Петя не успел даже испугаться; уцепившись все за ту же измочаленную корягу, он вместе с ней стремглав полетел вниз, его словно сковала со всех сторон мертвая окончательная тяжесть; он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ощущая в то же время одно лишь сумасшедшее движение, опять его несло, швыряло, рвало во все стороны и наконец выбросило наверх, и он оказался среди разлива сравнительно спокойной, волнуемой лишь сильным непрерывным ветром воды. Озираясь, он увидел множество плывущих рядом деревьев с застрявшими на них сучьями и сорванной корой, с торчащими над водой и тоже обломанными корнями; залом, увлекший его вместе с собой, на выходе реки из тесного каменного горла рассыпался, и теперь все, что минуту назад представляло собой единую массу, плыло по отдельности. Правый берег был не так уж и далеко, метрах в трехстах, и Петя набирался решимости расстаться с надежной корягой, хотя хмурый, утопавший в пелене дождя берег не сулил ему, почти голому, без припасов и спичек, ничего хорошего. Можно было попытаться, конечно, пока не сожрет гнус, добраться по берегу до тети Кати, но черт знает как далеко его унесло. Выжидать было нельзя, тело коченело от холода.
Почти в полуобморочном состоянии он соскользнул в воду и сразу, чувствуя силу и быстроту течения, толчком отбросил себя подальше от коряги, стал быстро, наискосок течения грести к берегу; тело постепенно стало разогреваться. Петя больше ни о чем не думал, не разрешал себе думать; теперь ему нужен был всего лишь кусочек твердого, надежного берега — единственная ценность и смысл всего сущего; сейчас его избитое, изломанное тело продолжало жить жаждой ощущения близкой земли, только бы ткнуться в нее губами, лицом, грудью, только бы почувствовать ее твердость — и пусть жрут комары, пусть коченеет тело и останавливается дыхание…
С трудом заставляя себя шевелить все больше немевшими руками и ногами, он видел вокруг себя только бесконечную воду, волны били в лицо, вода падала сверху; порывистый дождь все усиливался, переходя в ливень, и скоро Петя потерял из виду берег, скрывшийся в сплошной, рушащейся стене дождя, и опять каким-то последним, не поддающимся осознанию усилием воли он сделал еще один безотчетный рывок и, задыхаясь, захлебываясь, глотая воду, различил перед собой неясно надвинувшийся берег. Сначала он не поверил, и только иной, в чем-то переменившийся рев дождя, какие-то иные, непрерывные, материальные звуки, несомненно связанные с твердой землей, убедили его; теперь он уже видел подмытые, почти упавшие на воду деревья; корни их еще держались за землю, а вершины уже полоскались в воде, загнутые в одну сторону стремительным течением. Попытавшись коченеющими руками схватить скользкие ветви, Петя сорвался, и его проволокло понизу, под валежником; ударившись грудью о полузатопленный суковатый ствол, он вновь ухватился за подвернувшиеся сучья и теперь все-таки удержался, хотя новая, отчаянная борьба только начиналась; упорное течение уже затаскивало его под очередной топляк; ноги, тело до подбородка были уже там, и все теперь зависело от рук, от того, хватит ли сил выбраться наверх. Пережидая, пока в глазах прояснится, пройдет серый полумрак, он перевел дыхание; появилось нехорошее ощущение тошноты и холодные судороги в желудке. Из-под сорванных ногтей сочилась кровь, руки, скользя по разбухшей коре, окончательно срывались… И тогда он услышал свой слабый крик; течение подхватило его, поволокло, переворачивая под полоскавшимися в воде, подмытыми деревьями, колотя о них то головой, то плечами, и он каждый раз, ударяясь о что-то тяжелое и скользкое, уже теряя сознание, все же пытался схватиться за подворачивающиеся сучья и коряги, руки его действовали как бы отдельно, сами по себе; он уже не помнил, когда его вынесло из-под навала деревьев и поволокло, перекатывая по отмели, и опять-таки руки его, сами собой, отдельно от сознания, цепляясь за песок и камни, сделали свое дело — его вытолкнуло на отмель, прибило к большому камню; его последним ощущением было чувство долгожданной земли, остановки, пробившееся к нему в самый последний момент сквозь коченеющие пальцы, и затем где-то слабо тлевший в нем и согревавший его крошечный огонек окончательно погас.
Пробуждение его опять-таки началось с этого крошечного, едва тлевшего огонька, теперь появившегося уже где-то вовне; Петя увидел, почувствовал его, не открывая глаз, через кожу век. А затем до него дошел тонкий, слабый запах; это уже начинался какой-то бред. Перед ним из туманного пятна образовалось мучительно знакомое, ненавистное и по-прежнему притягательное лицо и склонилось к нему ближе; с трудом шевеля распухшими тяжелыми губами, Петя постарался отодвинуться подальше.
«Зачем ты пришла, — сказал он. — Я тебя не звал… Когда я ночами торчал у тебя под дверью, ты не замечала, издевалась… а теперь вот пришла… Уходи, Лера… нехорошо тебе быть здесь…»
«Ты так изменился, — сказала она с недоверием. — Неужели ничего не осталось, все выгорело?»
«Все, дотла, — подтвердил он, не скрывая своего горького торжества. — Ты давно, бесповоротно выбрала, ты сама выбрала… Уходи, Лера, уходи…»
«Куда? Здесь же кругом одни топи, туман, непроходимая, ужасная тайга, — сказала она. — Я ничего не знаю, я пропаду…»
Вжавшись в подушку, Петя заерзал головой, замычал: гримаса боли раздвинула его черные бесформенные, вспухшие губы, но тонкий, слабый запах духов (Петя даже помнил этот запах) не исчезал, и тогда он заставил себя приоткрыть глаза. Неясный и нелепый бред продолжался; он увидел в мутном полумраке чье то расплывающееся вздрагивающее, точно в отражении из текущей воды, лицо и шевельнул распухшими губами, и тотчас до него дошел тихий женский голос.
— Кажется, очнулся, — прозвучал над ним чей-то далекий, отчетливый и словно бы уже знакомый голос, и теперь Петя увидел над собой показавшиеся ему невероятно большими, блестящие, густо опушенные ресницами глаза; сознание возвратилось к нему; совсем юное еще, девичье лицо с нежным овалом подбородка теперь проступило полностью, и глаза засияли ярче, и тут Петя подумал, что никогда раньше не видел такой красоты и нежности, и сказал себе, что наконец-то пришла она, и что он ее долго и бесплодно искал, и вот она появилась, и в ней теперь вся его жизнь, вся дальнейшая жизнь без нее казалась бессмысленной, она связана с ним каким-то больным и глубоким чувством сопричастности к таинству и мраку исчезновения. Он испугался, что она может исчезнуть так же внезапно, как и появилась, и, по-прежнему с трудом шевеля чугунными губами, стал невнятно что-то говорить, попытался дотянуться до нее, хотя руки по-прежнему не слушались и куда-то пропадали, затем он всхлипнул, недоверчиво затих и услышал все тот же голос:
— Очнулся… дорогой вы мой… вот спасибо! Нет, это было бы ужасно…
И на него хлынул мягкий обволакивающий свет ее лица.
— Кто… вы?
— Потом, потом! — сказала она. — Успеется! Я сейчас вас горячим напою. Вы третьи сутки ничего не ели.. Только вода.
— Третьи сутки?
— Молчите… потом, потом все… расскажете, что с вами случилось… А теперь… вот, давайте, давайте…
Она ловко и бережно приподняла его тяжелую, неповоротливую голову и стала поить с ложечки, и затем он опять впал в забытье, теперь ненадолго, и часа через два, вновь придя в себя и лежа с закрытыми глазами, подождал, вспоминая и вслушиваясь. Она была рядом, и Петя, растягивая неслушающиеся, вспухшие губы в безобразную улыбку, сказал:
— А я знал, что вы здесь, я даже во сне вас слышал…
— Как вы себя чувствуете?
— Очень жарко, — сказал Петя. — Я хотел бы сбросить одеяло, оно меня просто жжет… Ничего не понимаю, я, кажется, совершенно голый… У меня даже словно и кожи нет, один огонь… странно…
— Ничего странного, — сказала она, наклонилась и положила руку ему на лоб. — У вас сильный жар… я даю тетрациклин… как вы переносите антибиотики?
— Дайте мою одежду, — попросил Петя. — Мне встать нужно.
— Одежду? На вас ничего не было, — сказала она задумчиво. — Почему-то один левый сапог… И клочья майки… Лежите, вам нельзя пока вставать. Вас сильно побило… сплошные кровоподтеки… Если вам что нужно, вы мне скажите, не стесняйтесь… меня и оставили специально дежурить с вами… Меня Олей зовут…
— Оля… Оля… вот как, Оля, — сказал Петя, повторив ее имя несколько раз подряд и не отрываясь от ее лица. — Кто же вы… Оля?
— Лежите, лежите, сейчас узнаем, сколько у вас, — сказала она, сдвинула слегка одеяло и положила ему под мышку термометр, и в ее лице появилось напряжение. — Знаете, на вас было страшно смотреть… Это все, конечно, пройдет… Река от непогоды разлилась, вас к нашим палаткам прибило… Представьте себе, ведь расскажи, не поверят, что такое бывает, — продолжала она в ответ на его молчаливое ожидание. — Мы археологи, мы здесь Барвайские пещеры перед затоплением описываем — наскальные рисунки… Понимаете, я должна была в Крыму работать, я художник-реставратор, но здесь такой аврал.. Меня вызвали…
— Я знаю, это ты меня нашла и спасла, — сказал Петя с разгоревшимся от жара лицом и блестящими глазами. — Я это точно знаю, — повторил он настойчиво, и она вновь успокаивающе положила ему на лоб прохладную, узкую ладонь.
— Вы знаете, вы меня перепугали, я совершенно одна на дежурстве оставалась, — сказала она. — Нельзя быть таким большим и тяжелым… просто безбожно… Еле-еле затащила в палатку, даже заплакала от злости… А вас как зовут?
Петя повернул голову и потерся своей колючей щекой о ее руку.
— Ты красивая, — сказал он с трудом, глаза у него по-прежнему ярко блестели. — Ты очень красивая… Ты меня Петром зови… Только, пожалуйста, не уходи.
— У вас просто очень высокая температура, Петя, — сказала она каким-то озадаченно-изумленным голосом, мягко и в то же время настойчиво высвобождая свою руку из-под его щеки. — Ну да, так и есть — сорок… Сейчас я вам дам тетрациклин…
Она пошла в угол палатки за лекарством, спиной чувствуя его горящий, лихорадочный взгляд и на полпути невольно оглядываясь и успокаивающе улыбаясь ему.
8
Петя вышел из больницы через месяц с небольшим; в экспедицию он вернуться не мог, хотя и рвался; врачи категорически запретили ему думать об этом в ближайшие полгода; наоборот, настоятельно советовали ехать в Москву, затем в Крым на два-три срока. У него после тяжелейшего воспаления оставались затемнения в легких, но Петя врачам не верил, и только постоянная, непроходящая слабость и привязавшийся глубокий кашель не давали ему поступить по-своему. Он потихоньку работал в филиале, приводил в порядок и систематизировал поступающие время от времени материалы из экспедиции, осмысливал и пытался обобщать и свой прежний опыт работы на заводе, дважды выступал в газете со статьями, по все это сейчас было не главное для него. К нему привязалась другая, совсем уж безжалостная болезнь, и он не находил себе места и томился; теперь в бессонные часы все чаще перед ним появлялось лицо Оли, и хотя он хорошо и ясно помнил их первую встречу и сказанные им слова о ее красоте и о своей любви к ней, но теперь все, что произошло раньше с ним и с Олей, как-то отступило, поблекло и казалось чем-то придуманным и даже никогда не происходившим в реальности, связанным всего лишь с его разгоряченным от болезни воображением. Петя всегда знал, что и Оля была, и ее удивительные глаза были, и руки были (он иногда, задумавшись, даже чувствовал ее руки, и ему становилось не по себе от такой глубокой, сильной памяти), и он, конечно же, говорил о ее красоте и о своей любви, он ей оставил свой адрес и телефон. Все это было, было, и ему, надо думать, тоже предстоит обычный, узаконенный путь жизни, но ему еще не пятьдесят и даже не сорок, и он еще успеет; сейчас нужно думать о другом, о главном: ведь Обухов, несмотря на окружавшую его плотную завесу официального недоброжелательства, непризнания, каких-то порой совершенно чудовищных слухов, — действительно новое направление в науке, совершенно новая отрасль знания и социального прогнозирования, и, если года два продержаться с ним рядом, можно будет и свое слово найти и сказать. Должны же люди подумать и бестрепетно, разумно посмотреть в свое будущее, продолжал развивать свои мысли Петя, вспоминая травлю вокруг имени Обухова, заставившую того, по сути, бежать из Москвы.
Он с нетерпением ждал завершения экспедиции и возвращения Обухова. В так называемой экологической таблице концентрации величин Обухова он нашел ряд неточностей и однажды вообще обнаружил иную, более убедительную и результативную логику построения всей таблицы; вначале он был ошеломлен и не поверил себе, но долгий и кропотливый математический анализ подтвердил его правоту; Петя увлекся, еще и еще раз перепроверял полученные данные. Но вот однажды, находясь в самом горячем этапе теперь уже окончательной, как он думал, перепроверки принципиально нового построения таблицы Обухова, он, услышав телефонный звонок, взял трубку больше от неожиданности; ему давно никто не звонил на работу, и телефон сутками молчал. Он сразу узнал голос, и у него тепло и нежно отозвалось в груди, и пришлось помолчать, собраться.
— Здравствуйте, здравствуйте, Оля, — сказал он наконец. — Я сразу вас узнал… Узнал и не поверил…
— А я решила вам позвонить, — сказала Оля, — узнать, как вы себя чувствуете.
— Ничего страшного, давно работаю. Все хорошо, спасибо. А вы, значит, в Хабаровске? Что у вас?
— Я завтра улетаю, я проездом здесь, — сказала она. — Я очень рада за вас, ведь обошлось! Какая история… Ну что же…
— Оля, Оля, когда мы встретимся? Мне хочется вас видеть, — заторопился он, понимая, что говорит совершенно не то, что раньше хотел и думал сказать, и не в силах остановиться. — Может, сегодня вечером у входа в парк? Походим, на Амур посмотрим. Здесь самое замечательное — осень… Должен же я вас поблагодарить, в конце концов, я вас в ресторан приглашаю!
— Только не это, — засмеялась Оля. — Никаких благодарностей и ресторанов…
— Оля, любые ваши условия, как вы хотите, — опять сказал он, не в силах заставить успокоиться и выровнять свой голос, и только когда она согласилась и они через два часа встретились в условленном месте, он пришел в себя и держался свободно. Увидев его, Оля простодушно изумилась:
— Вот вы какой, оказывается! Здравствуйте, Петя. Вас же тогда увезли заросшего… распухшего… у вас тогда и лица-то не было… так, что-то запекшееся, черное… страшное… Я вас едва узнала сейчас… но узнала! — тотчас поспешила она поправиться, протянула ему руку, и он понял, что она действительно удивлена, обрадована и несколько растеряна; и в ответ ей он радостно, благодарно, открыто улыбнулся.
С Амура дул сильный и теплый ветер; они прошли парком и, увидев незанятую скамейку у самого обрыва, сели, в глазах у Оли по-прежнему не проходило удивление и какое-то ожидание. Она еще никогда не была в этом парке и не видела Амура в его предосенней, уже начинавшей слегка хмуриться мощи, но еще с ясным, очень прозрачным высоким небом и редкими белыми-белыми облаками в нем. Внизу на пляже люди загорали, по Амуру шли самоходные баржи, теплоходы, сновали буксиры. Вдали виднелась тонкая нитка железнодорожного моста; противоположный берег, неправдоподобно далекий, и еще дальше за ним туманные пространства, окаймленные еле угадываемыми сопками, и непрерывный теплый ветер, обтекающий все это немерное пространство, произвели на нее неожиданное впечатление первозданности, и у нее слегка закружилась голова.
— Как много здесь всего, ветра, солнца… всего-всего, — сказала она тихо.
— Да, много… Но неужели завтра? И билет, конечно, в кармане? Скажите, Оля, а если мы сейчас рванем в аэропорт, вы сдадите свой билет… и останетесь на пару дней?
— Это ваша благодарность? — спросила она, поворачивая к нему лицо и слегка улыбаясь.
— Чем богат, самое мое дорогое, больше у меня ничего и нет, смотрите, — широко развел руками Петя, как будто обнимая все пространство вокруг.
— Спасибо. Я просто не могу принять такой щедрый дар, мне он не по средствам. Чем я отплачу? Спасибо, Петя…
— Я ведь тоже москвич, — у Пети появилась в голосе легкая хрипотца. — Если позволите… я иногда наезжаю в Москву по делам… я бы завез вам какой-нибудь дальневосточный пустячок… нет, нет, уже совершенно материальный… Что-нибудь вроде женьшеня или баночки красной икры… Хотите свежемороженого тайменя, из него получается восхитительная строганина… Зимой, разумеется…
— Вы, оказывается, романтик, и даже слишком щедрый для нашего времени, — сказала она. — Скоро вы забудете о пашей встрече вот здесь, у великого Амура. Расстанемся и больше вряд ли когда-либо свидимся. Вы, наверное, часто вот так… верите в то, что говорите? Улыбаетесь?
— Я верю в судьбу… и в себя, — сказал Петя. — Оставьте московский адрес и телефон, раз уж вам никак нельзя задержаться… Вы мне доверите ваш адрес? Да, Оля, я романтик… с экономическим уклоном. Закончил МГУ. По убеждению академика Обухова Ивана Христофоровича, имею некоторую склонность к аналитическому мышлению… Я у него работаю, здесь, в филиале… В Москве у меня дом, родные, мать…
Петя еще раз некоторое время перечислял свои достоинства и недостатки, такие, например, как неодолимая потребность к уединению и перемене мест. В ответ Оля рассмеялась.
— Что-то вы не похожи на схимника, — сказала она. — Вы так общительны… Как интересно, вы, значит, работаете у Обухова?
— Я у него самый незаменимый человек, — с невозмутимым видом сказал Петя. — Он без меня шагу ступить не может. Я же сказал, что вам со мной очень повезло! Да… а вы, Оля, знаете академика Обухова?
— О нем последнее время много спорят, — сказала Оля. — Одни считают пророком, мостом из прошлого в будущее, другие…
— Отрицают, — продолжал Петя, уловив небольшую заминку. — Это как раз и указывает на крупное явление… Оля, а вы действительно не хотите пообедать?
— У меня просто нет времени, совсем не осталось…
— Не смогу ли я вам помочь? — поинтересовался Петя, и они, помолчав, засмеялись; они в этот день обедали и разговаривали; Оля рассказывала о своей работе, о предстоящих раскопках в Крыму возле Феодосии и в районе Керчи; несколько раз и, конечно, в самый неподходящий момент Петю мучили изнуряющие приступы сухого, резкого кашля; Оля, прервав свой рассказ, вдруг спросила его, каким образом он оказался так далеко от Москвы…
— А ведь знаете, это одна из самых постыдных страниц моей биографии, — признался Петя. — Случилось давно-давно, я был еще глуп и мне хотелось самому, понимаете, самому зарабатывать и освободиться наконец от тяжелых отцовских денег. У меня здесь дядька жил… он и сейчас здесь, простой строитель… он теперь как раз эту самую двойную знаменитую Урганскую гидростанцию возводит… Ну… вот я и рванул к нему после девятого класса, устройте меня, прошу, куда-нибудь на пароход матросом… И вы знаете, Оля, позор… позор… несмываемый позор! Больше двух недель не выдержал… сбежал… До сих пор как вспомню, обжигает… Ну а знакомство, понимаете, историческая встреча с Амуром состоялась… Ну вот… потом я уже должен был вернуться на Амур и доказать… самому себе, конечно, что я могу! Это было необходимо… вы меня понимаете?
— Я — понимаю, только вы еще нездоровы, у вас даже лоб мокрый, — сказала Оля, и, когда они, наконец попрощавшись, расстались, Петя еще долго бродил по городу, иногда присаживаясь и отдыхая где-нибудь на тихой скамейке. Спал он в эту ночь плохо, несколько раз его опять начинал бить кашель, и на другой день он разболелся, почувствовал сильный озноб. Несмотря на все свои нелестные мысли о женщинах, он не хотел выглядеть слабым перед Олей и не поехал на аэродром проводить ее; он заставил себя высидеть дома до вечера, когда двадцать пятый рейс на Москву, которым улетала Оля, ушел, и отправился бесцельно бродить по городу. Сентябрь перевалил за свою половину; пронзительная, какая то сквозящая, тревожащая красота амурской осени разлилась по городу и чувствовалась во всем, и прежде всего в высоком небе, еще более отдалившемся и ставшем ярче, гуще синевою; было много тяжелого солнца, игравшего в окнах домов, в стеклах проносившихся по улицам машин; казалось, солнце каким-то особым мглистым составом заполняло даже затемненные места и тупики города, солнце сгущалось и переливалось в рыжей листве деревьев, стекало с людских потоков и уходило в нагретый, душный асфальт. Петя опять чувствовал себя неспокойно, он забрел на городской рынок, шумный, залитый опять-таки тяжелым, густым солнцем, купил несколько розовых помидоров у старика-корейца, с истинным артистизмом закрывавшего от восторга темные, узкие глаза, с безволосыми красноватыми веками, нахваливавшего свой товар: «Хорсо! ох, хорсо!», сочно прицокивая всякий раз при этом языком и коротко облизывая губы. Кореец бережно положил помидоры в полиэтиленовый мешочек, и Петя побрел дальше; его тянуло в парк, на берег Амура, и он, несмотря на усталость и взмокшее от слабости тело, заставил себя пешком пройти главную улицу из конца в конец до парка. Скамейка, на которой они вчера сидели с Олей, была сплошь облеплена шумной стайкой девочек-старшеклассниц, и Петя, поморщившись, прошел мимо. Ему хотелось побыть совершенно одному, и он, отыскав уединенное местечко, с наслаждением съел самый большой розовый помидор.
Петя всегда любил музыку и, наблюдая завораживающую игру ветра и солнца в осенних листьях, слышал сейчас отрывки какой-то знакомой мелодии; нежные серебристые звоны жили, казалось, в самой игре ветра, солнца и листьев, жили в гудках теплоходов и барж, в сердце Пети, в самом городе… Но Петя думал о другом городе, о неоглядном и вечном, родившем и воспитавшем Петю, городе его счастья и надежд; он любил мучительно тот свой город и гордился им, его историей и его славой; его родной город всегда оставался самим собою, и, несмотря на упорные, непрекращающиеся попытки исказить, изуродовать, изменить его облик, его русскую физиономию, перестрадав, очистившись, всегда каким-то образом вновь возвращался к изначальной своей сути, которая была таинственна, неуловима и необъяснима, но без которой не было подлинной, глубинной жизни и присутствие которой есть сама вечная душа народа, со всеми ее взлетами и провалами.
Петя любил Москву и всегда знал, что ее подлинная бессмертная душа больше ее физической сути, что она уходит корнями к истокам души самого народа и потому бессмертна, нетленна и прекрасна; безобразные рубцы, ожоги зломыслия и откровенной ненависти, наносимые ей время от времени, никогда не достигали своей конечной цели, и Петя, вслушиваясь в музыку, слышную только ему, гордясь и страдая, полной мерой ощущая сейчас наряду с бессмертием и величием далекой Москвы и свое собственное бессмертие и величие.
Она сейчас летела в Москву, и Петя думал о Москве; он представил себя рядом с Олей, допустим, на скамейке, на своем любимом Тверском бульваре, спиной к новому зданию МХАТа, на редкость не вписывающемуся в двухэтажную старинную застройку Тверского бульвара, и лицом — чуть наискось — к Литературному институту; у Пети к современной литературе тоже выработалось своеобразное отношение: он ее без крайней нужды старался не читать. Она вопиюще противоречила даже самым элементарным законам экономики и вызывала глухое раздражение, в этом ему почему-то нравилось обвинять именно Литературный институт. Но и новое здание знаменитого театра, и Литературный институт тоже являлись частью Москвы, и он, несмотря на свое предубеждение, любил их тоже, даже на расстоянии.
Запрокинув голову, Петя смотрел на далекое, ясное этот предвечерний час, все больше сгущавшееся темной синевой небо над сопками Хекцира; вздохнув, он подумал о невидимых спутниках, несущихся в леденящих пространствах космоса, отечественных, чужих — американских, французских, китайских, — пытающихся, в свою очередь, проникнуть в тайну жизни и бессмертия громадной, необозримой страны, и усмехнулся наивности и бесплодности мысли инженеров и конструкторов, создавших и запустивших спутники именно с такой целью. Душу России не могли понять и переменить тираны, обладавшие, казалось бы, неограниченной властью над нею, отдававшие этой задаче всю свою жизнь; они шли сквозь кровь и неимоверные страдания и не приблизились к заповедной цели ни на один вершок; душа России оставалась для них тайной за семью печатями. Суетное, мелкое, злобное, обращенное во тьму, не могло постичь вечное, божественное в ее природе…
Оторвавшись от своих мыслей и подняв голову, Петя увидел перед собой старика, вернее, он даже не понял вначале, кто перед ним, мужчина или женщина — что-то среднее, не имеющее пола и возраста. Петя убрал руки со спинки скамейки, пришло ощущение, что где-то он уже видел этого старика, встречал его, вероятно, даже во сне, но все-таки встречал; сохраняя на лице спокойствие и безразличие, он еще раз окинул фигуру незнакомого взглядом. «Ну и чучело, — подумал он, стараясь заставить себя посмотреть на незнакомца с юмором. — Чего только не встретишь в смутный час природы. Где же все таки я его видел пли встречал? Стоит только всплыть полузабытому детскому воспоминанию — и оно исчезнет, растает в воздухе, и все чары рассеются… Чур тебе!» Странный, от немыслимой худобы казавшийся бесплотным в своем длинном вылинявшем плаще, незнакомец, однако, выказывая признаки жизни, пожевал тонкими, бесцветными, пропадающими в густой паутине морщин губами.
— Вы позволите мне присесть, молодой человек?
— Садитесь, — ответил Петя, слегка подвигаясь и намереваясь встать и уйти, но не успел; старик, назвав его по имени и отчеству, сказал, что им необходимо поговорить, его глаза, небольшие, под исчезнувшими, почти безволосыми бровями, странным образом приковывали к себе.
— Простите… откуда вы меня знаете?
У старика из груди вырвался не то стон, не то всхлип, очевидно означавший смех, и он, по-женски придерживая и разглаживая полы плаща, сел в подчеркнутом отдалении от Пети.
— Я вас, Петр Тихонович, знаю еще до появления па свет, — ответил он, и Пете бросились в глаза непомерно большие для лица оттопыренные уши. — Вашего отца тоже знал, смею уверить, вы на него похожи… Просто идеальное внешнее повторение… Слепой слепок…
— Ну, и батюшку моего знаете! Совсем интересно!
— Тихона Ивановича я знал, Петр Тихонович, совсем молодым, — вежливо и ровна сказал старик. — Я его знал еще в тридцать пятом году нашего столетия… Согласитесь, не многие здесь, в Хабаровске, могут этим похвастаться…
— В тридцать пятом году нашего столетия? — повторил Петя, пытаясь встряхнуться, освободиться от усилившегося ощущения нереальности происходящего. — Кто же вы? У меня мало времени… простите…
— Останьтесь, вы не пожалеете, — сказал старик, и лицо его опять пришло в мелкое движение. — Я не искал встречи с вами, так уж вышло… Я люблю приходить сюда, к Амуру… не скрою, мне не безразлична наша, казалось бы, случайная встреча. Почти не осталось времени, молодой человек, я не успею сделать окончательных выводов, вот что меня угнетает… Да, простите, пожалуйста… Яков Семенович Козловский, — представился старик, привстал, слегка приподняв видавшую виды, с узкими полями, шляпу, обнажая совершенно лысый желтоватый череп. — Будем знакомы…
От неожиданности Петя пожал протянутую руку, и от ощущения, что он прикоснулся к чему-то давно уже не существующему, внутренне содрогнулся; от его хорошего настроения и следа не осталось. «Хоть что-то проясняется. Козловский так Козловский», — подумал он с некоторым облегчением, и у старика, уловившего эту перемену в настроении Пети, глаза совсем спрятались, он, словно пережидая какую-то невзгоду, съежившись, молчал; Петя покосился в его сторону раз-другой, заметил, что на правой руке у старика на трех пальцах нет ногтей.
— Кстати, Петр Тихонович, — неожиданно подал голос Козловский, — вы слышите, какая музыка объяла мир? Амур-то, Амур… Прислушайтесь… Вечная, уносящая мелодия…
— Музыка? — поразился Петя еще одному совпадению. — Объяла мир?
— Вы любите музыку?
— В общем… да… хотя не всякую и не в любое время.
— А я всегда слышу и мучаюсь, — признался Козловский с какой-то стеснительностью в голосе, словно извиняясь, и вновь замолчал, ушел в себя; можно было бы сейчас встать и уйти, Козловский бы ничего не заметил, но Петя, сам не зная почему, продолжал сидеть и ждать; он обратил на себя любопытство двух прошедших мимо красивых, броско одетых девушек, залитых с головы до ног предвечерним солнцем; попутно они оглядели нелепую, фантастическую фигуру Козловского, что-то сказали друг другу и засмеялись, и Петя опять вспомнил Олю; взгляд Козловского он почувствовал кожей, словно к нему опять притронулось что-то невыразимо холодное и отталкивающее, из потустороннего мира.
— Слушаю вас, Яков Семенович, — сказал он, сдвигая брови. — Однако мне пора, было приятно с вами познакомиться…
— Простите, Петр Тихонович, дряхл становлюсь, — заторопился Козловский и сунул правую, изуродованную, без ногтей, руку в карман плаща. — Вы правы, ближе к делу… Минутку… соберусь с мыслями… Перенеситесь, молодой человек, в своем воображении в тридцатые годы. Мне было примерно столько же, сколько вам сейчас. Вы печатаетесь, я слежу за вашими публикациями, у вас свежее, незамутненное воображение…
— Вам и это известно?
— Конечно, я только потому и нашел вас, — сказал Козловский. — Ваши статьи, и особенно последние, в местной прессе, заставили меня разыскать вас, поспешить с окончательными выводами о жизни… я бы не стал вас беспокоить, но я скоро ухожу, совсем ухожу… Я ведь совершенно вас не знал, не думал… никогда не думал. Представьте, мелькнула мучительно знакомая фамилия… Когда вспомнил, уже не мог удержаться… от разговора, встречи с вами… вы уж, Петр Тихонович, простите, я не хотел и не хочу как-то омрачить вашу душу, мешать вам жить и здравствовать…
— Но мне действительно пора, меня ждут…
— Да-да, разумеется, я вас не задержу, Петр Тихонович. Всего несколько минут… Так вот, в тридцать шестом году, когда я работал на строительстве Зежского моторного завода (я проектировал и отвечал за водоснабжение будущего гиганта), меня, начальника строительства Чубарева и еще двоих спецов (нас так называли) арестовали. Тогда такое случалось… Ваш отец, Петр Тихонович, служил в то время первым секретарем райкома… Зежского района, я имею в виду. Кстати, вы ведь, очевидно, знаете, о чем речь? — он на секунду задержался взглядом на лице Пети и опять погрузился в свое. — Ну конечно же, знаете… Так вот, Чубарев, несомненно, крупнейший специалист, был в то время душой, нервом всего дела, без него стройку сразу, разумеется, залихорадило. И ваш отец, Петр Тихонович, тогда предпринял все возможное, чтобы Чубарева освободили, — поехал в обком, доказывал, убеждал, ручался за него своим партийным билетом. И Чубарева освободили. Дело касалось лично вашего отца, его работы, честолюбия, наконец, карьеры, он знал, что все обвинение в адрес Чубарева — абсурд, нелепость, и в конце концов добился своего. Ну, а я и те двое… Кто мы такие? Мелкая сошка. О нас даже и не вспомнили, меня освободили и полностью реабилитировали уже в середине пятидесятых… Жизнь прошла там… по ту сторону добра, и не имеет смысла… А теперь скажите, Петр Тихонович, что за человек был ваш отец, хороший или дурной? И что он привнес в жизнь, добро или зло?
— Безнравственно спрашивать об этом именно меня, — резко сказал Петя, вставая.
— Почему же? — обрадовался Козловский, заметно оживляясь; лицо у него задвигалось, пришло в сильнейшее волнение, он всем своим тщедушным телом обратился в сторону Пети; и тот, стараясь не дать прорваться в себе мелочному, ненужному, спокойно и ясно встретил взгляд Козловского; какие-то необъяснимые, больные переплетения давно отзвучавшей и канувшей в небытие жизни неожиданно связали его с судьбой старого и, очевидно, очень больного, несчастного человека, и Петя, укрепляя свою решимость оставаться спокойным и дальше, опустил глаза.
— Простате, Яков Семенович, у вас есть родные… близкие? Возможно, вам необходима какая-нибудь помощь?
— Вот мой адрес, если вы захотите со мной встретиться, — вместо ответа сказал Козловский, и в руках у Пети, против его воли, оказался небольшой, вырванный из записной книжки листок. — А жалости и помощи уже не потребуется, Петр Тихонович. Вечерами я всегда дома, знаете задыхаюсь, не переношу вечерней сырости, энфизема, легких почти не осталось… Прощайте…
Проводив взглядом неимоверно худую, длинную спину старика, долго маячившую перед глазами, Петя задумчиво повертел оставленный ему листок с адресом и телефоном, уже было скомкал его и хотел бросить в урну, затем тщательно разгладил па колене, сложил вчетверо и спрятал в бумажник. День кончился, и небо стало гаснуть; на набережной гулящих людей становилось больше: что-то случилось, внезапно подумал Петя, прислушиваясь к намечавшемуся беспорядку в самом себе. На сумасшедшего Козловский не похож, на авантюриста тоже… И что ему от меня надо? Отравить душу и таким образом отомстить? Как же он меня отыскал и почему именно, здесь, в Хабаровске? Надо выбросить все это из головы и забыть, решил он, встал и, затерявшись в оживленном людском потоке, тихонько побрел к выходу из парка, поглядывая по сторонам и невольно отмечая про себя взгляды девушек. Внутренний ход мысли в нем не обрывался; ничего особенного не произошло, просто пришлось нежданно-негаданно переступить еще одна порог жизни, думал он; вся жизнь человека состоит, пожалуй, из таких вот неожиданностей, порог следует за порогом, и человек никогда не знает, что поджидает его за очередным поворотом; и случайность, как сейчас стало ясно, может высветить жизнь совершенно с непривычной стороны, заставить душу страдать и работать. Слова Козловского об отце не шли из головы; так что же? Такова жизнь — нет полностью правых, нет полностью и виноватых.
Неделя пролетела в работе незаметно, он закончил давно задуманную и начатую статью о законодательстве по наследственному праву, подвалила и новая партия материалов из экспедиции, просчитать которые и обобщать Обухов требовал сразу же, так что дел хватало, и Петя почти забыл о Козловском. Но вот однажды, отодвинув от себя очередную заказную статью для экономического ежегодника (он анализировал последние статистические данные об изменениях в экономике Китая), он что-то заскучал и, бесприютно послонявшись по комнате, быстро собравшись, через полчаса был уже у Козловского; какие-то дежурные, расхожие фразы у него были заготовлены и тут же вылетели из головы, едва он переступил порог и встретил тусклый, безжизненный взгляд хозяина; Козловский жил в небольшой однокомнатной квартире один, и Петя тотчас почувствовал это по каким-то неуловимым признакам.
— Простите, Яков Семенович, — сказал он, поздоровавшись и не сходя с небольшого вьетнамского плетеного коврика, лежавшего у самого порога. — Я вижу, у вас недавно была уборка… у вас снимают обувь?
— Как хотите, — отозвался Козловский. — Я могу постелить газеты…
С неожиданной гибкостью хозяин и в самом деле успел взять с нижней полки старинной резной этажерки, стоявшей в передней, пачку старых газет, развернул одну из них и, нагнувшись, положил на пол; его узкая, костлявая спина под рубашкой проступила дугой, и Петя торопливо сбросил с ног туфли.
— Не беспокойтесь, освободиться от обуви всегда полезно, Яков Семенович, — говорил он, проходя в комнату и устраиваясь на указанном хозяином месте. — Ноги отдохнут…
За время с их первой встречи Козловский изменился; ожидая, пока хозяин, завозившийся с газетами, тоже сядет, Петя бегло осмотрелся. Стол под старенькой клеенкой, узкая, похожая на топчан кровать с железными гнутыми спинками, недавно покрашенная в зеленое, два стула, полки с книгами и небольшой круглый аквариум рядом с балконным окном. Козловский спросил из-за двери о самочувствии, и Петя вежливо поблагодарил.
— Я ждал вас раньше, — сказал Козловский, садясь на свободный стул, придвигая его удобнее, ближе к Пете. — Я уже думал, что не дождусь вас…
— Яков Семенович, — без обиняков прервал его Петя. — Расскажите мне об отце. Что мы ходим вокруг да около!
— Не торопитесь, Петр Тихонович, вы не то, не то думаете, — сказал Козловский, сердито оборачиваясь к Пете. — Совсем не то! Простите, я все-таки сооружу чай с вашего позволения, только чаем и держусь последнее время…
Он вышел на кухню, оставив дверь полуоткрытой, загремел чайником, зашумела вода из-под крана, и Петя почувствовал, что верно сделал, отыскав старика, и что не прийти сюда он просто не мог, от него это не зависело.
Как у любого человека его возраста, у Пети было немало тайных честолюбивых страстей, мыслей темных, пугавших подчас его самого желаний, о которых он не очень распространялся; да, он был честолюбив и вынашивал далеко идущие планы, хотя и посмеивался над теми из своих друзей, (скажем, над Лукашом, всегда считавшимся самым близким его товарищем), что очень уж беззастенчиво рвались вперед; да, он чувствовал в себе силы и возможности для больших свершений, но так же отлично понимал, что, не пройдя необходимого пути, не выработав в жизни строгого, последовательного суждения, нельзя рассчитывать на существенный успех. Выросший и воспитанный в обеспеченной среде, в семье, где всегда горячо обсуждали самые передовые, больные вопросы, он еще и до университета стал понимать, что главное заключено не только в работе и интересах отца и матери, не в интересах их многочисленных знакомых и связях, а в чем-то объединяющем их разрозненные усилия. Став постарше, войдя в своеобразную, кипучую стихию студенчества, он, быть может, впервые впал в другую крайность — в отчаяние перед беспредельностью жизни, перед ее беззащитностью и всемогуществом. Встреча с Козловским опять всколыхнула установившееся было в нем шаткое равновесие; он никогда, даже самому себе не признался бы, что первой и самой близкой причиной его тяги к продолжению общения с Козловским был отец, культ отца, безоглядно утверждаемый в семье матерью, всегдашнее тайное желание сына стать с отцом вровень и раздражение от бессилия, невозможности достичь его уровня. Петя знал, как далеко ему до отца, он был изрядно ленив, несобран, достаточно распущен, трудности в достижении цели всегда расхолаживали его; в сравнении с отцом, с крупной целеустремленной личностью, какой был отец, он всегда остро осознавал свою несостоятельность и остро переживал это. Тайно он всегда хотел быть похожим на отца и как можно больше знать о нем, и сейчас он ожидал от Козловского чего-то совершенно нового и сокровенного, может, быть, самого необходимого для своей жизни и своею дальнейшего самоутверждения.
— Я не герой, не фанатик и даже не борец, — сказал хозяин, возвращаясь и обрывая смутные отрывочные мысля Пети. — Я был слишком обыкновенным и ничего не хочу от вас, Петр Тихонович. Заставить вас что-то переоценивать, нарушать течение вашей жизни… Ни Боже мой! Нет, нет! И если бы не ваши статьи с таким… фанфарным, мажорным блеском, мне бы и в голову не пришло искать вас… Зачем? Я свое прожил, вы только начинаете… Я не буду уверять вас, Петр Тихонович, — продолжал он все тем же ровным бесстрастным тоном, — что там, в местах не столь отдаленных, я понял высший смысл жизни… Не знаю, есть ли он вообще? Не буду уверять вас и в обратном… Когда-то один пролетарский пророк изрек: человек — это звучит гордо… Если вы верите в эту чепуху, на здоровье — верьте! Уж мне-то пришлось увидеть человека голеньким, совершенно без одежек, даже без набедренной повязки. Смею вас уверить, весьма поучительное зрелище, я и о себе тоже, понимаете, и о себе! Поверьте, и это не главное. Что ж ему, человеку, ставить в вину его природу, он лучше от этого не станет… Я, знаете ли, жил спокойно, я уже все решил для себя, природу человеческую нельзя изменить, я это знаю твердо, я и за свою жизнь никого не виню… И вот мне попадаются на глаза ваши статейки… Правда, я на них наткнулся совершенно случайно, а уж потом стал перебирать в памяти, кто ж это такой — Брюханов — и почему я на нем споткнулся? Вера, вера в них, в ваших писаниях, опять вера в нечто высокое в человеке, в его высокое предназначение, — вот что меня зацепило. Вы знаете, без смысла Бога присутствие человека в природе антигуманно, противоестественно… С такой мыслью я и сжился, и уходить с ней, мне казалось, легче… Какая разница, как ты прожил жизнь и каков ее итог, если человек обыкновенное животное, та же покорная, безгласная скотина? Все сразу и оправдано, все сразу и становится на свои места! Зачем вы, Брюханов, пытаетесь заставить поверить в гармонию и смысл в беспробудном и вечном хаосе, в естественном состоянии именно живой материи? Зачем вы обманываете себя и других… сколько же можно лгать? Вы меня понимаете?
— Простите, нет, — честно признался Петя. — Скажите, Яков Семенович, вы действительно знали моего отца? Близко знали?
— А, понятно, — кивнул хозяин и подвинулся к гостю со своим шатким стулом. — Издали видел, на митингах, на совещаниях слушал… близко лично не знал… нет, не знал, я был рядовой спец, всего лишь инженер… проектировал водоснабжение завода… Нет, вашего отца я, можно сказать, не знал, вы меня не так поняли, Петр Тихонович… Я не его буквально имел в виду, а все его поколение победителей, они за все хватались, за Севморпуть, за беспосадочные перелеты… хотя, простите… что вы на меня так смотрите? Не торопитесь с выводами, это трагедия нашего времени… Знание вообще не признает конечных выводов, оно диалективно, оно не может останавливаться…
— Я знаю, вы должны меня ненавидеть, но отец не виноват в вашей судьбе, я вам не поверю, что бы вы мне ни говорили, — сказал Петя, словно бросаясь головой вперед в темную, бездонную дыру, давно уже его мучавшую и влекущую. — Я не понимаю вашего отношения ко мне, не понимаю смысла нашего общения… Что с вами?
Подавшись назад, Петя замолчал, не в силах оторваться от задрожавшего лица хозяина, запоздало жалея, что нечаянно, сам того не желая, переступил запретную черту и обидел старика; он хотел уже извиниться за свою резкость и уйти, но странное, неприятное сознание своего поражения, даже своей вины, заставило его лишь сильнее вдавиться в спинку стула. И Козловский, в первую минуту невыносимо обиженный, тоже едва удержавшийся, чтобы не попросить своего гостя немедленно уйти, вдруг успокоился; в его каморку пожаловал гость из другой жизни, из другой, неведомой эпохи, раскованный и совершенно свободный от необходимости скрывать свои мысли и чувства.
И лицо у хозяина еще раз задрожало, а безобразно искалеченные пальцы судорожно забегали по краю стола, затем нырнули вниз; и тогда он, попросив своею молодого гостя не обращать на него внимания, усилием воли заставил себя успокоиться и сказал, что Бог все-таки есть, и слава Богу, что это так, а не иначе…
— Бог и знание… разве не абсурд? — вздохнул Петя, решивший ничему больше не удивляться и лишь стараться сохранить ясность мысли.
— Нет, нет, не абсурд! — живо подхватил Козловский, явно обрадовавшись оживлению в разговоре. — Вот вы верите людям, отрицающим Бога, а Бог возник не случайно, он из самой природы человека возник. А значит, он нужен и он есть. Я вам больше скажу, Петр Тихонович, — и нас потянуло друг к другу не без участия Бога, для чего-то важного, необходимого была нужна наша встреча, от этого в физическом сознании мира что-то неуловимо… изменится, пусть вначале неуловимо… И я не стал противиться зову, я подчинился. Вот встретился с вами и не жалею…
— Мы с вами забредем в Бог знает какие дебри, — поежился Петя. — Я всего лишь хотел побольше узнать об отце, только и всего.
— Правильно, молодой человек! Об отцах нужно знать и тайное и явное, — сказал Козловский с тем же просветленным волнением в лице. — Всякий умный человек… ведь вы умный человек, надо полагать по вашим писаниям? Да, умный человек на все свои загадки ответ ищет и находит в отцах. Послушайте, Петр Тихонович… вот проскальзывает в ваших писаниях какая-то Русь, Россия… Забудьте об этой химере, не обманывайтесь сами и не вводите в заблуждение других. Россия давно пала жертвой чудовищного эксперимента. И уже едва ли воскреснет. Я бы мог привести тому сотни подтверждений, но я уверен, что вы и сами додумаетесь до многого… Да это, в конце концов, не важно, Россия или что то еще… Ничего вечного нет. Я хочу успеть сказать вам главное… А главное для каждого в одном — умении видеть и говорить правду. Правды боится или человек с нечистой совестью, или просто трус. Нет-нет, я не думал обвинять вашего отца, что он мог? Он всего лишь продукт своего времени… исполнитель, железная метла… Он, естественно, многого не знал, не мог знать, а вот вы сейчас, вооруженные знанием до зубов, что же делаете с истиной вы? Меня держало на свете одно: дожить до того времени, когда громко, открыто, с горечью и с достоинством скажут правду… Я ошибся, как это ни горько, я не доживу до этого, и правду о нашем времени скажут, быть может, через сто или даже больше лет… Вот вы что думаете, Петр Тихонович, может ли один и тот же человек безвинно проливать моря крови, причинять целым народам неимоверные страдания и в то же время быть правым и двигать прогресс? Могут ли законы совести и морали в просвещенном обществе истолковываться по-разному, диаметрально противоположно? Вот, допустим, если я убил человека, я — злодей, меня преследуют, судят… На меня смотрят с ужасом… меня приговаривают, я становлюсь изгоем… А вот если кто-либо другой обрекает на смерть тысячи и тысячи невинных людей, если он венчает пирамиду, если он…
— Вы имеете в виду Сталина? — спросил Петя, чувствуя, как его окутывает темная, душная волна ненависти и мрака, и вновь жалея о своем приходе сюда.
— Кого же еще, Сталина, разумеется! — сказал Козловский, еще больше съеживаясь, опадая, быстро и бессильно сжимая старческие кулачки до восковой бледности в суставах, поднося их к исказившемуся ненавистью лицу. — Не могу! Трус! Я — трус! Ничтожество! Жалкая тля! Я до сих пор не могу без цепенящего страха произносить это имя… Я ведь и в Москву не смог вернуться… а я ведь москвич, я любил первопрестольную, а теперь я ее ненавижу и боюсь… смертельно боюсь! Вот я и остался здесь, на краю земли, а туда, в Москву, не посмел… Сердце сводит судорогой… Скажите, вот вы, молодые, не боитесь повторения? Шуму было много, но причины-то не устранены, об этом даже говорить не смеют. Вы что ж, думаете, в мире перевелись маньяки? Будьте уверены, очередной не замедлит явиться…
— Успокойтесь, Яков Семенович, — попросил Петя. — Какой смысл так волноваться? Было, ну было! Я вам больше скажу, я много слышал споров, много читал об этом, много думал… Ничего интересного, простите за откровенность, в этой эпохе не было. Эпоха грубого политического примитивизма, на первом плане зоологические методы борьбы за личную власть, прикрытые демагогией и удобной трескотней, все в чем-то друг друга убеждают, куда-то зовут, вместо того чтобы просто хорошо и честно работать… И никто никому не верит — значит, нужно искать трагическую ошибку где то в самой генеральной идее. Иначе ведь ничего нельзя переменить, вот главное… вот что я пытаюсь нащупать хотя бы пока для себя… Ну, скажите, пожалуйста, зачем нам этот ваш питекантроп — Сталин? Да никому из нашего поколения он уже не интересен и не нужен…
— Переменить, правда, ничего нельзя, правда! — ухватился за подброшенную мысль Козловский. — Я вот вам наговаривал на себя, Петр Тихонович… Нет на свете человека, не тоскующего о продолжении, всего лишь закономерность человеческой природы… Я один, совершенно один… Скоро уйду, совсем уйду, никого после себя не оставлю, ни одного дорогого существа…
— Яков Семенович… Ну успокойтесь, пожалуйста!
— Хорошо, не буду, — тотчас, с какой-то опять-таки судорожной поспешностью согласился хозяин. — Я хотел лишь одного — оставить после себя нечто глубоко выстраданное, вот и разыскал вас. Нет нет, не решайте сразу. Я прошу вас, Петр Тихонович, выполнить единственную мою просьбу… вот сейчас, сейчас… вот, вот, минутку, — торопливо говорил он, в то же время извлекая откуда-то из ящика стола небольшой плоский сверток. — Вот, Петр Тихонович, возьмите, здесь моя жизнь… Как она есть… И вы тогда решите, возможно ли одному и тому же человеку быть одновременно и виноватым и правым… Вот вам груз целой жизни… Вы только обещайте мне никогда никому не отдавать этого, не выбрасывать, не уничтожать… Обещайте же!
— Нельзя так волноваться, Яков Семенович, — стал успокаивать его Петя. — Как же я могу обещать? Да и не надо мне ничего. Поберегите себя… Мне не нравится ваше состояние… Давайте вызовем врача, неотложку?
— Нет-нет, обещайте! — испугался хозяин. — Вы должны! Врача, неотложку не нужно, я привык к одиночеству, сам справлюсь…
— Ну хорошо, хорошо, обещаю, — заторопился Петя, опасаясь, что старику станет совсем худо и жалея его. — Только…
— Ни слова, ради всего святого! — остановил его Козловский. — Идите же, идите… И давайте условимся, Петр Тихонович, — добавил он, и лицо у него остановилось, одеревенело, губы съежились и сжались. Позвоните мне дня через четыре, а еще лучше — загляните… Дня три меня дома не будет, я хочу в Благовещенск съездить… у меня там дело… я должен… Ну… прощайте же!
Петя.. ушел со странным чувством неуверенности и ненужности этой встречи; дома он заглянул в почти пустой холодильник, зажарил яичницу, поел, задумчиво прочитал очередное письмо из Москвы; Лукаш до небес превозносил последнюю статью Пети и требовал присылать еще, и Петя, отложив мелко и четко исписанный Лукашом листок, несколько отмяк. Сверток, принесенный им от Козловского в грубой помятой оберточной бумаге, неумело перетянутый несколько раз шпагатом, лежал тут же, на другом конце стола, и Петя поймал себя на мысли, что не хочет и боится разворачивать его; с иронической усмешкой к себе из-за своих переживаний по поводу этой почти мистической встречи он решил позвонить Лукашу, разрядить гнетущее настроение, но Лукаша не оказалось дома. В окнах синел подступивший вечер; он стал вслушиваться в непрерывный, живущий и в массивных стенах старинного, купеческой постройки дома вечерний шум города. «Не будь трусом, — внезапно отчетливо сказал он себе. — Сейчас же посмотри, что там, в этом свертке, почему он такой тяжеленный, трус несчастный, посмотри! Зачем же скоморошничать перед самим собой?»
Решительно разрезав старый, измочаленный шпагат, он развернул слой бумаги, за ним еще один и еще; в руках у него оказалась тяжелая, желтовато-бледная, гладкая металлическая пластина. Он перевернул ее другой стороной, и на лице у него появилась недоверчивая улыбка. Перед ним был женский портрет, вернее всего лишь нежное девичье лицо какой-то неизъяснимой прелести; чем больше он всматривался, стараясь понять, каким образом сделан портрет, тем яснее и реальнее проступало лицо девушки, оно как бы увеличивалось и приближалось; ему даже показалось, что черты лица на портрете напоминают Олю. «Ну, это уже совсем какая-то мистика», — подумал он и осторожно опустил неожиданное приобретение на стол, затем поставил портрет, прислонив его к стене; скорее всего это был отзвук далекой трагедии, решил он, шагая из конца в конец по комнате, вслушиваясь в затихающий на ночь город, время от времени подходя к столу с портретом, открывая в нем новые подробности и всякий раз чувствуя душевное успокоение.
Он лег спать с твердым намерением при первой же возможности вернуть Козловскому портрет; он не мог принять от незнакомого человека столь дорогой реликвии, да и старик, вероятно, уже одумался, и, возможно, уже сам жалеет о своем непонятном порыве. Несколько дней промелькнуло в работе; Петя тщательно просмотрел готовую рукопись Обухова «Экология и гидроэлектростанции», провел сравнительный анализ на основе имеющихся данных и сам был озадачен результатами изъятия из хозяйственного оборота громадных площадей: лугов, леса, пашни; он было уже и забыл о странном знакомстве в парке над Амуром, если бы не портрет. Возвращаясь домой, он, присаживаясь к столу, снова и снова всматривался в ставшие уже привычными и необходимыми за прошедшие дни нежные девичьи черты. Кто она, думал он, эта женщина, с такими совершеннейшими чертами лица, — мать Козловского, невеста? А может быть, просто некий идеал, утешавший и мучивший его всю жизнь?
Наконец, в один из хмурых октябрьских дней он собрался, тщательно завернул портрет в пергаментную вощеную бумагу, положил в портфель и отправился по знакомому адресу. На звонок сразу же, точно ждали его прихода, открыли, и он, хотя уже понял, заставил себя шагнуть через порог. Несколько человек, все примерно в одном преклонном возрасте и, как ему показалось, на одно лицо, тихо переговаривавшихся до его прихода между собой, повернулись к нему. Неуловимый, специфический запах ухода, всегда присутствующий в помещении с покойником, охватил Петю; помедлив, не произнося ни слова, ничего не объясняя, он во всеобщем молчании подошел к гробу, стоявшему на двух тумбочках в углу, у самого окна, и горло у него больно задергалось. Лицо Козловского разгладилось и успокоилось, черты стали крупнее и резче, выражение приобрело значительность. Покойник уже был одет и приготовлен, в ногах и на сложенных на груди руках лежали неяркие осенние цветы, в углу, прислоненная к стене, стояла крышка гроба и рядом — большой жестяной венок с черными лентами.
— Когда? — спросил Петя глухо, ни к кому в отдельности не обращаясь, не поворачивая головы и не отрываясь от лица покойного.
— Вчера, — ответил ему слабый, надтреснутый голос. — Завтра с утра хоронить… в десять часов автобус… А вы, молодой человек, простите, кем ему приходитесь?
— Никем… просто знакомый.
— Спасибо, что пришли, почтили память, — сказал низенький седой человечек со слезящимися глазами, суетливо ищущий что-либо поправить рядом с покойником, и все вежливо помолчали. Петя остался стоять у гроба в горестном недоумении, его никто не трогал, никто к нему не обращался, о нем точно забыли; собравшиеся снова стали тихонько переговариваться между собой, делились воспоминаниями о покойном, и Петя постепенно начал различать их голоса, теперь уже окончательно привыкая к случившемуся. Низенький со слезящимися глазами угомонился наконец и, уже не находя ничего, что бы можно было поправить вокруг, сел в уголок, и к нему, пододвинув стулья, пристроились остальные трое, и какое-то время длилось особое молчание, охватывающее живых только возле покойника. Чувствуя себя в высшей степени неуютно, Петя хотел уйти — и не мог, что-то удерживало его; в комнате копились сумерки, ползли по углам. Отыскав глазами свободную табуретку, Петя тоже сел неподалеку от стариков, и опять на него никто не обратил внимания. «Очевидно, так и положено, — сказал себе он, — сидеть возле умершего и молчать. В этом что-то есть. Коричневые душные сумерки… ощущение пропасти, невероятная даль души… Так в свое время будет и со мной, и те, кто придут и вот так же сядут рядом, еще сейчас мне и незнакомы, и неизвестны… Кто же они будут и зачем придут тогда, когда меня уже не будет?»
Петя прикрыл глаза; и сам он, и комната, и покойник, и Хабаровск, и далекая Москва, и весь мир — все куда-то неостановимо уносилось в зыбком, сквозящем пространстве, и он опять подумал, что уже больше ничего не будет — ни света, ни Оли, ни ощущения прохладной, нежной кожи ее рук; вот так, очевидно, уходят миры и кончаются фантазии человека о самом себе. В это время кто-то из стариков, отрывая его от тягостных мыслей, сказал негромко:
— Вот и еще один из нашего скорбного братства отмучился… наш Яша отмучился… Не верится, братцы, он ведь по душе всех нас моложе и щедрее…
Петя оглянулся, но определить говорившего не смог; старики опять уже сидели сосредоточенно и молча; затем все тот же низенький со слезящимися глазами, оправив на себе ворот рубашки и узел старенького заношенного галстука, пробежал беспокойными сухими пальцами по пуговицам пиджака.
— Почему отмучился? — с обидой обращаясь к высокому, с невероятной величины нависшими, седыми бровями, почти закрывающими глаза, спросил он. — Яша среди нас, может быть, единственный еще умел радоваться жизни и хотел жить… Он язычником был… проказник!
— Смех сквозь слезы, — пробурчал высокий.
— Знаешь, Виталий, я не говорил, до сих пор не могу опомниться, меня оторопь берет, — сказал низенький. — Яша и умер по-своему, только он один мог так хлопнуть дверью… Сижу я позавчера за инструментом, что-то нахлынуло на меня, вспомнилась наша Черная Речка… стучится в сердце, стучится, какая-то мелодия рвется… А тут внучонок прибегает, тебя, дед, к телефону срочно… Яша требует… У меня в семье его все Яшей звали… Беру я трубку и слышу: «Ты, — говорит, — Андрей, обязательно завтра утром приходи, я тебе сюрприз приготовил… у меня, — говорит, — дверь открыта, ты и заходи без звонка… Я слово с тебя беру… завтра ровно в десять». И положил трубку. Мне вроде и недосуг, и чувствовал я себя скверно, а как не прийти? Он у нас ведь за генерала в нашем колымском братстве… да и потом, совершенно один на свете, души близкой нет… Вот и приезжаю, сын ехал в свою контору, меня попутно подбросил… Звоню — молчит, опять звоню — опять молчит. Толкаю дверь, она и не заперта. Я и вспомнил сразу, не звони, говорит, — просто заходи… Вхожу, а он лежит на кровати… в костюме, в ботинках… при галстуке… а в головах букет гвоздик в кувшинчике… Руки на груди сложены, а в руках запечатанный конверт, вон он, сейчас возле аквариума на окне… Адрес московский… Надо не забыть, опустить потом в ящик… «Ну, Яша, — говорю, — хватит дурачиться… зачем ты меня звал-то?» Говорю, и вроде не я это говорю… сам-то понял… и зачем звал, понял, и какой сюрприз приготовил — понял… остановиться, же не могу… захотелось мне лечь рядом, закрыть глаза и больше не вставать…
— Яша — личность, по-своему и умер, — сказал еще кто-то, сидевший от Пети дальше всех и положивший подбородок на круглый набалдашник суковатой массивной палки. — Один из всех нас не побоялся смерти в глаза смотреть… А как он песни нашего братства пел…
Низенький со слезящимися глазами задавленно всхлипнул — и тотчас послышался тяжело отдавшийся стук палки в пол, и тот же голос, теперь уж окрепший, властно произнес:
— Ты, Андрей, не смей сырость разводить, давай нашу колымскую…
Вначале еле слышно послышался напев, один какой-то суровый, скорбный непрерывный звук, и Пете вначале показалось, что зародился он где-то вдали, а не в этой тесной и душной комнате, переполненной сейчас прошлым. Старики пели со стиснутыми губами, и звучание этой песни без слов все усиливалось, начинало казаться, что глухой, задавленный, непокорный мотив пробивается откуда-то из-под самой земли.
9
Прилетев, через несколько дней в столицу, Петя первую неделю ни о чем, кроме дела, не думал и не вспоминал, мотался по главкам и министерствам, по институтам и управлениям, подстерегая и вылавливая нужных людей, часами торчал в приемных и обольщал секретарш, рассказывая им дальневосточные байки, приправленные балычком и прочими дальневосточными деликатесами; с его молодостью и внешностью нравиться всем было нетрудно. Имя академика Обухова тоже действовало; одни, втайне ему сочувствуя, помогали, другие, ненавидя, не хотели связываться, третьи делали вид, что вообще не знают ни о каком Обухове и его идеях, но так как экология становилась все более модной, то и третьи, четвертые и даже десятые, представляющие себе эту самую модную ныне экологию вполне материально, прежде всего в виде закрытого министерского пайка, обязательно с красной и черной икрой, с осетровым, а еще лучше — стерляжьим балычком и непременно с копченым лосиным языком, а то лучше и губами, тоже не хотели прослыть ретроградами и если не помогали, то и не мешали. Петя почти физически ощутимо чувствовал, как порученное ему дело медленно и громоздко переползает из инстанции в инстанцию, скрипит, громыхает, постанывает, согласуется, обрастает вопросительными, отвергающими и разрешающими резолюциями, перебрасывается со стола на стол, из кабинета в кабинет, из главка в министерство и наоборот; только теперь Петя понял, какому беспощадному наказанию подверг его, любя и доверяя, академик Обухов, поручив умереть, но сдвинуть с мертвой точки дело с вычислительной машиной.
Как-то перед вечером, проводив Лукаша, заскочившего как всегда неожиданно поболтать, а заодно вытянуть очередную идейку или, в худшем случае, статью, Петя раздумывал над тем, не обратиться ли ему за советом и помощью к отчиму, мучительно раскладывая все «за» и «против». Время от времени настойчиво и подолгу начинал звонить телефон; Петя и слышал и не слышал его, думая о своем; телефон зазвонил опять, Петя машинально взял трубку и, едва услышав голос, тотчас весь подобрался.
— Вы… невозможно поверить… что это вы… я вас сразу узнал, — сказал Петя каким-то незнакомым низким, хрипловатым голосом. — Здравствуйте, Оля… Я звонил, я просил Анну Михайловну передать… Хорошо, просто замечательно… мне необходимо вас видеть… Сейчас, можно сейчас? Ну, давайте через час у Пушкина?
Напряженно прислушиваясь к молчавшей трубке, он задержал дыхание; какие-то несколько секунд решали нечто очень важное. Трубка долго молчала, и наконец он услышал тихий, несколько неуверенный ответ:
— Хорошо, Петя, я приду.
— Я буду ждать, — возбужденным голосом, забывая о сдержанности, прокричал он в трубку и некоторое время стоял посреди комнаты с сильно бившимся сердцем, затем стал торопливо собираться. Пока он брился, выбирал рубашку, галстук, то и дело поглядывая на часы, волнение его все возрастало. И только уже выходя из метро и еще издали увидев, вернее, каким-то шестым чувством выделив ее среди других, одиноко стоящую несколько в стороне, в светлом легком плаще, с непокрытой головой, он испытал странное чувство облегчения. Она пока не видела его, и он, замедлив шаги, не отрывая от нее взгляда, несколько минут за нею наблюдал; она по-прежнему отрешенно стояла в голубовато-прозрачном луче фонаря, и толпа обтекала ее. Он точно определил момент, когда она должна была почувствовать его и оглянуться, и, встретив взгляд, озаривший ее лицо каким-то ясным и трепетным светом, тотчас понял, что все ожидаемое им от этой встречи свершилось. Петя не стал ей ничего говорить; слов, способных передать охватившее его чувство, он не знал, их, очевидно, просто не было, и он стоял и молча смотрел.
— Здравствуйте, Петя, — сказала она.
— Спасибо, Оля. Вы позвонили… позвонили! Но как вы угадали, что я приехал? — спросил он и, тут же забывая о своих словах, взял ее за руку, и они куда-то пошли, ничего не видя и не замечая вокруг, хранимые особой силой и энергией, свойственной именно влюбленным, окутывающим их невидимым, но ясно ощутимым покровом, отводящим от них все тяжелое, все ненужное и мешающее. Взявшись за руки, они пошли вниз по Тверскому; они сейчас видели и чувствовали совершенно одинаково; встретив старую, очень старую женщину в жакете с меховым воротником, очевидно, мерзнувшую и в теплую погоду, они тотчас погрустнели, увидев и себя через много лет; они посторонились, встретив молодую мать с колясочкой, и опять подумали об одном и том же, и Оля, попытавшись убедить себя в необходимости думать независимо, отдельно от Пети, не смогла этого сделать. «Так нельзя, — тотчас сказала она себе, — ведь я совершенно ничего о нем не знаю. И встретились мы случайно, и позвонила я ему случайно, я ведь о нем совершенно до этого часа не думала и не вспоминала… И действительно, почему я ему позвонила, что меня толкнуло? Просто какое-то наваждение, надо немедленно приказать себе остановиться и серьезно во всем разобраться, заставить себя подумать»
Что-либо изменить было уже совершенно невозможно, и то, что они не могут остановиться, ясно отразилось на их лицах, и встречные понимали это и завидовали им. Они по-прежнему ничего не замечали вокруг, и лишь Петя, случайно подняв голову, увидел в просвет между деревьями далекую луну.
— Смотри, Оля, луна! — поделился он своим открытием с девушкой, и она тоже изумилась, постояла, приподняв голову, и, ощущая в сердце какую-то звенящую, счастливую струну, призналась:
— Знаешь, я совершенно ничего не понимаю…
— Я тоже, — сказал он; не разнимая рук, оба безумно рассмеялись.
В пору душевного озарения, длившуюся день, второй, третий, Пете в ожидании еще большего счастья все удавалось; время словно исчезло, он не замечал его, дни и ночи смешались; он жил какой-то переполненной, захлестывающей его, изнуряюще-полной жизнью. Лукаш все-таки втянул его в одну из дискуссий в журнале и часто звонил, торопя с очередным материалом; Петя сразу стал всем нужен, родные тоже отмечали в нем перемены к лучшему, и лишь Аленка, в редкие минуты встреч улавливая в глазах сына неестественно острый блеск, тревожно приглядывалась, спрашивала о самочувствии, и он, в свою очередь, лишь недовольно вскидывал брови; Аленка всякий раз неловко умолкала, сын теперь даже ее вопроса не мог понять. И все-таки, не забывая о глубоком нервном срыве, случившемся с сыном после первой любовной трагедии, она заставила его однажды спокойно посидеть и выслушать ее; шутливо, как бы вскользь, она заметила, что у мужчины есть и еще одна, может быть, главная обязанность в жизни по улучшению и обустройству мира, и что он правильно поступил, согласившись наконец вернуться в старую отцовскую квартиру, и что силы надо уметь распределять разумно; Петя, казалось бы слушавший ее вполуха, засмеялся, сверкнул белыми, ровными зубами.
— Я вижу, куда ты гнешь, мать, и наука тебе впрок не пошла, — сказал он, — только ведь ничего не выйдет, прошлое никогда не возвращается и не повторяется.
— Ты уверен?
— Абсолютно! — бодро отозвался он, вскочил и, обойдя кресло с матерью, обхватив ее сзади за плечи, в порыве нежности потерся подбородком о ее затылок. — Знаешь, мать, я сейчас так всех люблю, мне кажется, мое нынешнее и незаслуженное счастье — сон. Вот проснусь я и — обрыв, сон кончится. Ольга об этом знает, она понимает меня, мы решили пока не регистрироваться. Подождем с год… Так, на всякий случай, чтобы потом не разочаровываться.
— И Ольга этого хочет? — спросила Аленка с некоторым сомнением. — Год! Бесконечно долгий срок, особенно для девушки в вашем возрасте. Я бы не стала медлить. Уверена, ты намудрил, твои фантазии.
Петя недовольно засопел, отошел, и она, повернув голову, увидела его сдвинутые брови.
— Я подумаю, — быстро сказал он в ответ на ее взгляд.
— Подумай, Петя, подумай, — опять слегка улыбнулась Аленка. — Оля, очевидно, в самом деле тебя любит, если, согласилась ждать целый год. Я очень рада за тебя. Учти, Петя, она будет тоже ведь узнавать тебя лучше и лучше…
— Что ты имеешь в виду?
— Я? Совершенно ничего, — отозвалась Аленка. — Я рада за тебя, ты вытащил счастливый билет… Не упусти же его… И потом, было бы нелишним нас познакомить…
— Успеется, дай нам самим разобраться.. Мне ведь надо еще поработать в Хабаровске, у Обухова…
— Забери с собой Олю, там тоже нужны археологи…
С вечным превосходством молодости, уверенный в себе, Петя не спал отвечать, тут же забывая о ее словах; Аленка по-прежнему с какой-то неосознанной тревогой за него (ни его победный вид, ни его слова не убеждали ее) неприметно вздохнула.
— Опять бутылок на кухне собралось, — обронила она словно бы невзначай.
— А, ерунда, ребята с факультета забегали, пива принесли, — недовольно поморщился Петя. — Мы с Лукашом над одной статейкой посидели… Слушай, мать, ты же умный человек, кончай за мной шпионить, ты-то должна понимать, пеленки и распашонки давно кончились, перед тобой не дети — взрослые люди… Зачем отравлять жизнь себе и другим? Расскажи лучше, как у тебя? Что с книгой? У тебя грандиозная проблема… Если ее удастся пробить… Хочешь, я познакомлю тебя с Вергасовым? Это как раз по профилю нашего журнала…
— Ты мне зубы не заговаривай! — отказалась она. — Вергасова я и без тебя знаю, когда надо будет, сама с ним познакомлюсь. Ты лучше скажи, когда меня с Олей познакомишь?
Петя опять отделался шуткой, и Аленка ушла, ему действительно ни с кем не хотелось делиться Олей, его все больше охватывала потребность ежедневно видеть ее, разговаривать, быть рядом, ощущать ее дыхание, запах волос, кожи, все больше узнавать подробности ее жизни, слушать ее рассказы о прожитом дне; он. все настойчивее приглашал Олю к себе домой, она так же настойчиво отказывалась. Рассердившись, он как-то бросил:
— Ты боишься… меня?
— Значит, плохо приглашал, — ответила она, и глаза у нее из серых стали темными, провальными. — А ты сам не боишься?
Молча пройдя несколько кварталов, ничего не замечая вокруг, они вошли в массивный серый дом постройки тридцатых годов с внушительной, на три этажа, аркой, лепниной и прочими архитектурными излишествами, миновали пожилую привратницу, приветливо поздоровавшуюся с Петей, профессионально цепко, запоминающе скользнувшую взглядом по лицу Оли. Просторный лифт с зеркалами в медных рамах поднял их на четвертый этаж, и Петя, повозившись с замком, открыл тяжелую высокую дверь, неожиданно легко и беззвучно распахнувшуюся. «Кто он и зачем? Что я делаю?» — спросила Оля себя, встречая его горячий, нетерпеливый взгляд.
— Подожди, — почему-то шепотом сказал он, одним неуловимым гибким движением подхватив ее на руки и сильно прижав к себе; неслышно ахнув, Оля крепко обняла его, и теперь его глаза были совсем рядом, она ощущала лицом его прерывистое дыхание. Он поцеловал ее, шагнул через порог, движением плеча захлопнул дверь и опять поцеловал. И она, отдавшись во власть его рук, его нетерпения, ни о чем больше не думала, не могла думать; ее поразило его лицо, странно застывшее, с неподвижными, устремленными куда-то мимо глазами; в безотчетном порыве она, осторожно касаясь, стала целовать его глаза, руки.
— Скажи, что сделать, чтобы тебе было совсем хорошо? — прошептала она. — Совсем, совсем хорошо?
Он взял ее за плечи, заставил лечь рядом; от ощущения ее прохладного, податливого тела у него нарастало желание.
— Ты лежи, ты у меня в гостях, — сказал он, быстро вскакивая. — Хочешь соку?.. Апельсиновый… У меня вино есть… бутерброды… с сыром…
— Только соку… или воды, пить хочется…
Он встал, высокий, гибкий и тонкий, с наслаждением, до хруста в суставах потянулся всем красивым, соразмерным телом, и она сквозь полусомкнутые ресницы еще и еще ощущала его взглядом, любуясь; на потемневшем массивном подносе, оставшемся от отцовских времен, он принес сок в высоком, запотевшем стакане, бутылку вина, сыр и хлеб; сейчас каждое его движение, каждое сказанное им слово отзывалось в ней обожанием, желанием в нем раствориться, принадлежать ему каждой клеточкой своего тела.
— Ешь, — сказал он, пристраивая поднос на кровать. — Я тебя больше не выпущу… не пытайся протестовать… Ешь…
— Смотри не пожалей, — пригрозила она почти серьезно. — Ой… есть как хочется…
Петя поднял фужер с вином.
— Ну, здравствуй!
— Здравствуй…
Не обращая внимания на звонивший телефон, они быстро прикончили сыр с хлебом, и Петя вновь отправился на поиски еды, заглянул в холодильник, затем в кухонные шкафы; в буфете в гостиной отыскалась давно кем-то начатая и забытая коробка конфет и несколько ссохшихся в камень пряников.
— Сюда никто не может войти? — неожиданно спросила Оля, неотступно ходившая следом за ним. — Здесь нет еще одного выхода? Такая ужасно нелепая квартира… слишком большая… я таких и не видела. Сколько книг! Кто же столько может прочесть?
— Старое отцовское гнездо… отец был в ранге министра, — сказал он, обнимая ее за плечи и слегка прижимая к себе. — Больше половины здесь — справочная литература. Для работы… у отца — оборона, металлургия… У матери — медицина, у меня — экономика, философия, социология… Я тоже не люблю здесь теперь бывать… пепелище… У нас было по комнате на человека… это считалось нормально для положения отца… Так что квартира была не слишком большая для отцовского уровня, кстати, за мной сейчас остались две комнаты — вот эта и отцовский кабинет с библиотекой. После его гибели все раскололось… что ты на меня так смотришь? Большая половина квартиры — у сестры с зятем. Они — в Париже… Вот та комната, гостиная, тоже им принадлежит, но сестренка просто не заперла ее, гостиная, она всегда у нас была общей площадью…
— Какое-то безумие… никогда со мной подобного не случалось, — сказала она и вновь потянулась ему навстречу; так прошел день, ночь, улучив момент, когда Петя отправился в магазин купить какой-нибудь еды, она позвонила тетке и на работу, сказав первое, пришедшее на ум, сообщила, что у нее бюллетень, думая вовсе не о работе и не о тетке, а о том, почему так долго не возвращается Петя. Встретив его на пороге с тяжелой хозяйственной сумкой в руках, повисла у него на шее; так и проскочил угарный остаток недели; они не отвечали ни на телефонные звонки, ни на звонки в дверь (кто-то раза три или четыре приходил и настойчиво звонил); Оля ушла с истончившимся лицом, с огромными беспокойными глазами, и Петя, вымыв посуду, кое-как прибрав свою комнату, попытался читать, но тут же бросил. Спать он тоже не мог и, присев к столу, часа за два набросал черновик давно задуманной статьи, правда, остро дискуссионной, о праве наследования при социализме, о плюсах и минусах существующего законодательства в данном вопросе; он увлекся, стал более тщательно, пункт за пунктом прорабатывать и обосновывать положение за положением и спохватился лишь к вечеру. В окнах уже сгущалась синева, телефон молчал. Беспокойно походив по гостиной, прислушиваясь и поглядывая на телефон, он быстро подошел к нему и решительно снял трубку. Набрав номер и услышав голос Оли, помедлил.
— Петя, ты? — услышал он ее далекий и грустный голос. — Прости, никак не могла позвонить… Это было ужасно, с тетей истерика… Петя, слышишь, ты меня не оставляй, будь со мной. Я тебе позвоню… Я сегодня не смогу прийти…
— Почему? Что, ну скажи, что?
— Ужасно, мне ее так жалко, она ведь старая и совсем больная, — говорила Оля, понизив голос. — Ты не представляешь, что мне пришлось вынести… Я тебя люблю, слышишь? — перешла она на шепот. — Больше не могу говорить, завтра в семь у тебя… Слышишь?
— Ага, не очень там давай себя терзать, — сказал он. — Тетка свое отжила, жду.
Положив трубку, он побрился, с наслаждением постоял под прохладным душем и, надев лучший свой костюм, светлый, спортивного покроя, через час уже был в небольшой прихожей перед Олей, обтянутой стареньким тренировочным костюмом, с мокрой тряпкой в руках.
— С ума сошел! — сказала она ему тихо, с нестерпимо вспыхнувшими и засиявшими глазами. — Уходи! Что ты наделал! Ты не представляешь, что сейчас начнется!
— Кто пришел? — раздался низкий, страдающий женский голос. — Ольга, кто пришел?
— Я сейчас, тетя, — отозвалась девушка, по-прежнему не отрывая от Пети взгляда. — Это… Это…
— Ваш новый родственник, Анна Михайловна, — громко сказал он. — Здравствуйте… можно войти?
На пороге в прихожей появилась невысокая седенькая женщина с нахмуренным воинственным лицом, с обмотанным в виде чалмы полотенцем на голове; она решительно обошла вокруг Пети, оглядывая его с головы до ног, как-то по-птичьи склонив голову, всем своим взъерошенным видом напоминая растревоженную, спугнутую с гнезда птицу. Неуверенно улыбаясь, Петя поворачивался вслед за нею, готовый ко всему, ко всякой неожиданности.
— Ольга! Брось же тряпку! — потребовала Анна Михайловна, обратив свой гнев на племянницу. — Приглашай гостя проходить, приведи себя в порядок и ставь чай! Мне тоже надо чуть-чуть взбодрить себя… простите, очень болит голова… давление подскочило под двести… Вам, к счастью, этого не понять… Надо полагать, вы и есть герой романа… тот самый Петя?
Удовлетворившись согласным кивком гостя, Анна Михайловна повела его в комнату, чуть ли не насильно усадила в старенькое кресло в углу и, забыв о голове, о давлении, о своем намерении взбодрить себя, остановилась напротив новоявленного родственника, скрестив руки на груди.
— Вот вы, значит, какой гусар, — сказала она теперь уже иным, потеплевшим голосом.
— Я люблю Олю, — сказал он, чувствуя себя под ее взглядом не слишком уверенно и даже начиная жалеть маленькую женщину за ее внутреннее смятение и боль, прикрываемую бодрым голосом, и проникаясь невольной симпатией. — Мы любим друг друга, Анна Михайловна… вы должны понять… не сердитесь на Олю…
— Вот, вот, вот, — перебила Анна Михайловна. — Любим, и все! Как будто до вас никто никогда не любил! Вы же не в пустыне, вокруг вас живые люди, изношенные, больные сердца…
— Анна Михайловна…
— Тетя, ну пожалуйста…
— Вот, вот, вот, именно старые изношенные сердца, — со злорадной настойчивостью повторила Анна Михайловна. — Было время, юноша приходил в дом родителей девушки, знакомились… а сейчас все где-то происходит, на этих ужасных массовках, в этих чудовищных дискотеках, немыслимая, отвратительная стадность… Массовый балдеж… Слово-то какое ужасное! — с удовольствием подчеркнула новое для себя словечко Анна Михайловна. — Ольга, что же ты?
— Иду, тетя, иду, сейчас заварю чай, — донесся из полуоткрытой двери в кухоньку голос Оли.
Тотчас появившись, она набросила на стол свежую скатерть, поставила расписные пузатые фарфоровые чашки; Анна Михайловна стала помогать ей и в ответ на возражение Пети вновь перешла в наступление, решительно заявив, что где-нибудь на своих ужасных массовках они могут поступать как угодно, а в порядочном доме все должно идти прилично. Когда сели за стол, Анна Михайловна, перехватив взгляд племянницы, вспомнила о полотенце, обмотанном вокруг головы, и ушла приводить себя в порядок; Петя, покосившись на дверь, придвинувшись к Оле, легонько прижал ее к себе, поцеловал; они улыбнулись друг-другу, как заговорщики, окончательно развеселились.
— Петя, скажи, о чем ты сейчас думал? — спросила она, удерживая себя от желания взять его за руку.
— Знаешь, я неожиданно вспомнил, как увидел тебя в первый раз…
— Как странно, я тоже об этом сейчас подумала, — призналась она, и в ее голосе ему послышалось что-то чужое, даже отстраняющее.
Появилась Анна Михайловна, совершенно преобразившаяся, в темном строгом платье с глухим высоким воротом, причесанная, с сережками в ушах и старинной камеей, извлекаемой на свет только в самых торжественных случаях. Анна Михайловна даже слегка подкрасила губы, напудрилась и помолодела. Маленькая, взволнованная, торжественная, она села на свое место, придвинула к себе чашки и стала разливать чай. Петя молча взял чашку; Оля, чему-то своему улыбаясь, тоже задумалась, и за столом установилась тишина; Анна Михайловна помедлила, пытаясь овладеть положением, зорко взглянула на племянницу, затем на гостя (не поссорились ли здесь во время ее отсутствия?) и сказала:
— Прошу, вот варенье… малиновое, свежее, мне подруга привезла с дачи… Вы любите, Петя, малиновое варенье? Ведь мне можно так вас называть?
— Конечно! — обрадовался он, и в душе у него опять шевельнулось теплое чувство к чуткой маленькой женщине, смотревшей на него с таким доверием и грустью.
— Я на вас, Петя, еще не видя вас и ничего о вас не зная, ужасно рассердилась, — продолжала Анна Михайловна. — Я понимаю, как это несправедливо, но и вы должны меня понять… Откуда-то появляется разбойник, молодец — косая сажень в плечах и грабит посреди белого дня! Забирает единственное, самое дорогое! Каково? Я понимаю, молодость эгоистична, так уж устроена жизнь… Однако что же я? — встрепенулась Анна Михайловна. — Вот вам пример, старость тоже не хочет смириться, хотя ей ничего другого и не остается… вот, вот… вот…
Искренне огорчившись за неумение сдержать себя, Анна Михайловна совсем по-детски расстроилась, стала оправдываться, и Петя, выручая ее, попросил еще чаю, затем сказал:
— Мне кажется, Анна Михайловна, мы с вами станем друзьями… вот увидите!
— Дай Бог, дай Бог! — еще больше оживилась хозяйка и, совсем уже растрогавшись и не желая себя сдерживать, подхватилась, обошла стол и чмокнула Петю в затылок. — Дай Бог! — повторила она, возвращаясь на свое место. — Вы, Петя, должны знать, Ольга — вся моя жизнь, больше у меня ничего нет и не будет… Так уж получилось…
— Анна Михайловна…
— Погодите, Петя, погодите, — остановила Анна Михайловна, — я просто объясняю. Ольга выросла у меня… Ее отец, мой единственный брат, и мать Ольги ушли из жизни почти в один год… правда, брата так уж отделала война, живого места не было… Вот она у меня и осталась на руках, а было ей чуть больше годика… Из соски кормила.
— Тетя, ну зачем? — попыталась остановить ее Оля. — Опять расстроишься, поднимется давление, состряпаешь себе неотложку, бессонную ночь…
— Я своего брата обожала, красавец, не в пример мне, высокий, сердце золотое… Инженер-строитель, на войне саперами командовал… Знайте, Петя, если вы Ольгу обидите, вам не будет прощенья! Сироту грех обидеть…
— Тетя!
— Ну, молчу, молчу, — как-то испуганно и покорно кивнула Анна Михайловна, чувствуя подступавшую усталость. — Простите… Ну, день такой особенный, вот и понесло, понесло…
— За что же прощать, — рассудительно сказал Петя, чувствуя себя необычайно хорошо и уютно. — Мне тоже вам надо много важного рассказать… Это ведь так естественно, у меня вот тоже что-то голова кружится, — показывая, как это происходит, смешно зажмурившись, он повел головою сначала в одну сторону, затем в другую; в ответ на откровенность ему тоже хотелось сказать сейчас о себе самое главное, сказать все — и тайное, и неприятное; он знал, что именно сейчас, именно здесь правильно поймут и простят; ясный и в то же время как бы предостерегающий, останавливающий взгляд Анны Михайловны заставил его замолчать. К тому же и Оля, вскочив и обхватив его сзади за плечи, не давала ему подняться и, смеясь, тепло дышала в голову.
— Нет, что же это такое? — спрашивала она с обидой. — Прямо какой-то вечер воспоминаний! Вы оба, дорогие, мои, просто удивительные зануды!
— Ольга! — строго сказала Анна Михайловна, намереваясь рассердиться; у нее ничего не вышло, и она тоже тихо и грустно засмеялась.
День на день не приходится; каждую свободную минуту Петя теперь стремился проводить с Олей, у нее в доме; Анна Михайловна совершенно расположилась к нему и принимала как родного, и его стало невозможно застать дома у себя; однажды, когда Оля на неделю уехала, он перед самым вечером заскочил на минутку к себе на квартиру и, открыв дверь и увидев перед собой мать с тяжелыми сумками в руках тоже только что вошедшую, даже не смог скрыть своего недовольства.
— Здравствуй, — сказала Аленка, сунув ему по пути сумки. — Неделю к тебе названиваю, уже беспокоиться начала. Тебя или дома нет, или ты не берешь трубку… Ну как ты? Хотела тебя поздравить, читала твою последнюю статью в «Вестнике»… Свежо пишешь… Есть мысли интересные. Молодец!
— Так ведь стараюсь, мать, — кивнул Петя, пристраивав сумку рядом с зеркалом.
— Ну-ка, не ленись, в холодильник на кухню неси, — сказала Аленка. — Я всего на минутку, здесь продукты, ты же, несомненно, голоден..
— Ну почему непременно голоден? — спросил он, однако понес сумку на кухню. Аленка, бросив легкий светлый плащ у зеркала на стул, прошла за ним. Открыв сумку, Петя заглянул в нее и присвистнул. Поверх множества свертков и пакетов красовались две бутылки виноградного сока; взяв одну, Петя тщательно изучил этикетку.
— Ого, кажется, у нас большой разговор наклевывается? — насмешливо присвистнул он. — Могла бы по этому случаю что-нибудь и посущественней прихватить…
— Как же, только об этом и думала… поставь лучше чаю, — попросила Аленка, — я ореховый шербет в Елисеевском купила. Можно — и соку… только разбавить… Да, сын, хотела с тобой посоветоваться, поговорить спокойно… Я улетаю на конгресс, в Париж…
— Можно и поговорить, — вполне резонно заметил Петя, сдвигая широкие темные брови. — Ты не забудь, передай привет сестренке, не забудешь?
Аленка кивнула и села на небольшой жесткий диванчик возле холодильника; открыв бутылку, Петя достал фужеры, налил.
— Знаешь, Петя, я много думала, прежде чем прийти к тебе, ты уже давно взрослый, самый мой близкий человек на свете…
— Мать, слушай, а можно не так торжественно? Без таких долгих предисловий, прямо к делу?
— А можно спокойней, без хамства?
Взяв сок, она отхлебнула; Петя присел к столу в ожидании; мать никогда раньше не страдала нерешительностью, что же случилось, в конце концов?
— Мы с Константином Кузьмичом знаем и уважаем друг друга давно, он одинок, я теперь совершенно одинока. Ты и Ксения стали чужими, далекими, впереди старость — угасание, одиночество… Что с тобой, Петя? — быстро спросила она, делая к нему невольное движение.
— Со мной ничего, — отрезал он, с отцовскими в безрассудном гневе глазами; потемневшие зрачки у него еще больше сузились, брови были напряженно изломаны. — Со мной ничего, — раздельно, уже спокойно повторил он. Твоя личная жизнь меня не касается, так же, как и моя тебя… Какая разница — кто! Пусть будет Шалентьев… И потом, зачем ты затеяла этот разговор? В конце концов, повторяю, это твое личное дело…
— Петя, я устала, устала от жизни, устала быть одна… А Шалентьев… С ним интересно, он талантливый человек, крупная, сильная личность…
— Ну как же иначе? Как мы обойдемся без крупной личности, без министерского пайка?
— Не хами, ты как будто на рожон лезешь, ищешь ссоры! Не буду я ссориться с тобой. Ближе тебя у меня никого нет, не надо, Петя, — устало попросила Аленка. — У нас хватает с кем воевать. Я решилась переехать к Шалентьеву, естественно, он хочет остаться у себя. Тебе же я советую перестать метаться, твое законное место под старой отцовской крышей… Потеряешь квартиру, потеряешь прописку. Петя, подумай, это ведь очень серьезно. Надоест же тебе когда-нибудь мотаться, захочется в Москву. Ксении с ее мужем хватит и половины, да они себе строят кооперативную, вот что я хотела тебе посоветовать, — тихо сказала Аленка. — Никак не остепенишься, Ксения — за границей, совсем чужая. Денис растет без родителей, в зежских лесах.. Как в какой-то злой сказке.
— Ладно, мать, — примирительно протянул Петя. — Не бери себе в голову. Я подумаю…
— О Денисе надо подумать. Его место тоже здесь. Дед не успел его усыновить…
— Я как только прочно закреплюсь, заберу Дениса, усыновлю его, мы с ним поладим, — сказал Петя.
— Ты сначала сам встань на ноги, устрой свою жизнь, найди себя! У тебя свои дети будут, еще натешишься… Странное из вас поколение вышло — я так и не могу понять, чего вы недополучили?
— Знаешь, мать, возраст здесь ни при чем. Биологический возраст — всего лишь запас энергии, вот ее расход — функция социальная, суть именно в этом. А недополучили мы многое! — сумрачно усмехнулся он, опять став разительно похожим на отца. — Мы недополучили от вас чувство страха, умение думать одно, а говорить другое, называть черное белым и наоборот! Вы ведь боитесь до конца, до точных определений додумать, что же в самом деле произошло со времена Сталина, остановились на полпути и национальную трагедию подменили на шоу с переодолением… А ведь и нужно-то решить один коренной вопрос: признать, что эксперимент не удался… и поискать иного решения.
— Петя! Не смей! Как же можно обо всем так, с размаха, без души, без сердца, не безродный же ты…
— Не надо, мать, — попросил он. — Мы в самом деле взрослые, что тебя оскорбляет? Пытаемся отыскать ответ на многие вопросы, на которые вы так и не ответили… Задумайся, подлинная летопись кем-то пишется, в душе народа пишется. Может быть, у нас и самый лучший в мире строй, опять-таки дело в другом: все живое должно развиваться и совершенствоваться в борьбе, даже самое лучшее.
— Знаешь, Петя, очень прошу, поговори с Константином Кузьмичом, он ведь очень умный человек, интересуется тобой, читает все твои статьи, — подумала вслух Аленка. — Мне трудно с тобой, с некоторых пор я не понимаю ни твоего поведения, ни твоих мыслей…
— Лестно, лестно, — сказал Петя, он весь подобрался, словно приготовился к прыжку. — Значит, интересуется,.. Действительно, почему бы не поговорить?
— Что за тон, какое-то жалкое фиглярство! Перестань паясничать! — сощурившись и глядя на сына в упор, попросила Аленка. — Кстати, у него как раз тяжелейшая полоса… ты несколько дней можешь подождать? Он срочно улетает, вот вернется из этой командировки…
Аленка хотела сказать, что на этом маршруте как раз погиб Брюханов, но не смогла, промолчала.
— Тем более! Тем более! — подхватил Петя, пробежался по просторной кухне, вернулся с кипящим кофейником. — Тебе чаю или кофе? Встреча с Константином Кузьмичом, надо полагать, даст мне самые верные основополагающие ориентиры…
— Он тебе добра хочет, босяк ты этакий! — не выдержала Аленка. — Ну что ты с ним делишь? Два умных человека, вы должны стать сильнее оттого, что сошлись в одной семье, а не отравлять друг другу жизнь комариными укусами. Нет разве других, более важных, по-настоящему интересных, достойных человека дел и свершений? Вот опять ты кашляешь… Когда ты пойдешь к врачу? Все, я больше не могу, завтра поведу тебя сама, сделаем хотя бы флюорографию…
Едва продышавшись после приступа кашля, весь взмокнув, Петя отрицательно замотал головой.
— Кашель — ерунда, пройдет, никуда мы с тобой не пойдем, я записан на прием к начальнику главка. Я о другом! — он отпил из чашки горячего чаю. — Скажи, мать, отец был честным человеком? Понимаешь, со мной что-то случилось, что-то плохое… Я ничему не верю. И понимаешь, не один я. Я тону, мать, мне кажется, что я никому не нужен и все, все, понимаешь, все на свете фальшь, ложь, фарисейство! Никому ничего не нужно! И никто никому не нужен. Все бесполезно, все глухо, все ложь. И мне кажется, что идет это от каких-то старых-старых грехов отца, твоих, вашего поколения. Там, на востоке, я встретил человека… инженера. Он отсидел двадцать лет. Понимаешь, ни за что! В это трудно поверить. В Москву он уже не вернулся… Умер там. А отец мог его освободить из-под ареста. Он работал с Чубаревым на Зежском мотостроительном и знал отца.
— Не мучай себя, сынок. Отец был честным человеком. И если он не спас этого инженера, значит, не мог. Он многим помог в жизни и сделал много добра. Один единичный случай, даже если он был, не может перечеркнуть всю жизнь.
— Но ведь у Козловского тоже была одна только жизнь, — тихо сказал Петя, и оба замолчали; к ним возвращалась, казалось, давно уже и бесповоротно утраченная душевная близость, и Аленка боялась шевельнуться, спугнуть эту минуту тишины. Зазвонил телефон, никто не поднялся, не взял трубку.
— Это, наверное, Оля. Я как-то без тебя говорила с ней по телефону. Такая славная… Сейчас такие все резкие, угловатые, а эта девушка славная… Она — дальневосточница? Там встретил? Ну расскажи, пожалуйста… Что ты все отмалчиваешься да отмалчиваешься…
Петя опять ничего не ответил, и разговор как-то само собой переключился на другое, на предстоящую поездку Аленки в Париж, на Ксению, опять на Дениса, на деда Захара, опять на квартиру, затем перешел совсем на спокойные ноты. Петя сказал, что о квартире сейчас разговаривать преждевременно, надо подождать, когда Ксения будет в Москве.
— Не знаю, сын, — вздохнула Аленка, собираясь уходить. — Ты чего-то не договариваешь — какая уж тут откровенность? Когда сможешь,. сам расскажешь обо всем… придет время, сам себе и ответишь… Звони все-таки, заходи, переломи себя. Я ведь совсем одна осталась, ты же у меня один сын, другого не будет.
Проводив мать, он опять долго не обращал внимания на часто звонивший телефон, словно не слышал его; листая журнал, он пытался понять, почему действительно не хочет сказать матери все откровенно о своем нездоровье; затем он неожиданно подумал об Оле; он что-то видел во сне, снова, кажется, Олю, в купальнике, загорелую и веселую, и рядом с нею своего отчима, Шалентьева Константина Кузьмича, в плавках, с волосатым толстым животом. Отчим явно заигрывал с Олей, и Петя от обиды проснулся, сел на диване и потряс головой. Кто-то настойчиво подолгу звонил в дверь; чертыхаясь, Петя пошел открывать и вернулся с подтянутым, энергичным, красиво подстриженным Лукашом; его рыжеватые волосы были уложены в модную прическу. Распространяя вокруг себя довольство и энергию, увидев на столе недопитый сок, Лукаш тотчас извлек из своего «дипломата» бутылку дорогого армянского коньяка, тут же открыл, достал из буфета две чистые рюмки; в ответ на недовольную гримасу хозяина пригладил обеими руками и без того безукоризненно уложенные волосы, и его широкая сияющая физиономия придвинулась к Пете почти вплотную.
— Ни слова! Сегодня ты должен! — потребовал он. — У меня сегодня большой день…
— Что же случилось, старик? — все так же вяло опросил Петя и взял рюмку; ему и самому захотелось выпить.
— Сегодня подписан приказ о моем назначении первым заместителем редактора, Брюханов! Конечно, по твоим меркам ничего особенного не случилось, однако я звезд с неба не хватаю, я простой смертный. Можешь меня поздравить…
— Поздравляю… от души, — с некоторой иронией сказал Петя и, помедлив, выпил. — Счастливый ты человек, Сань. Я, право, по-хорошему тебе завидую… Я уже вижу в снежной замети… далеко-далеко, как прорисовывается чей-то величественный монумент…
Смеясь, Лукаш тут же еще налил Пете, капнул чуть-чуть себе, и они опять чокнулись, и Петя опять выпил; чувствуя, как отпускает голову и мир вокруг него становится веселее и шире.
— Еще, еще одну! — потребовал Лукаш, наливая. — Бог троицу любит… Ну давай, поехали! — подбодрил он и, дождавшись, пока хозяин выпил и, устраиваясь удобнее на диване, подобрал под себя ноги, отнес рюмки на стол; остановившись затем посредине комнаты в картинной позе, он откровенно, даже с некоторым вызовом сказал: — Да, я, Брюханов, счастливый, хотя монумента, пожалуй, и не состоится, у нас ведь не терпят активных, творчески мыслящих людей, у нас никто не должен высовываться. А я вот все равно — счастливый! А почему? И с горем, и с радостью — я сразу к людям! Вот как сейчас к тебе… И не надо никаких монументов, оставим их вождям, пусть с нами пребудет всего лишь чувство борьбы. Выпьем еще?
— Давай…
Пете стало легко и свободно, ненужные мучения и страхи от него отлетели; симпатичное широкое лицо Лукаша сияло, стало милым и умным, и Петя не мог понять своего недоверия к нему десятью минутами раньше, хотя по-прежнему безошибочно чувствовал какую-то всегда исходящую от Лукаша опасность. В то же время Пете казалось, что Лукаш искренний друг и что если он и не забывает себя,_ то у него, у Пети, не станет вырывать кусок изо рта. Одним словом, уверовав в необходимость их творческого союза, он охотно рассказывал о своей работе, дальнейших планах; к вечеру Лукаш все-таки вытащил его из дому. Они славно поужинали в уютном и шумном ресторанчике журналистов; Лукаш совсем размягчился и расщедрился; не забывая подливать в рюмки, он вспоминал школу, детство, строил планы на будущее, они с Петей, объединившись, переворачивали все вверх дном в экономике; из него фонтаном били самые смелые, фантастические идеи и предложения о совместной работе. Петя попытался поделиться с ним мучившими его мыслями, коротко рассказал о Козловском. Недолгое внимание на лице Лукаша сменилось откровенной иронией.
— Какая же у тебя чушь в голове, Брюханов! — сказал он, посмеиваясь. — Нашел о чем думать и кого вспоминать! Сталин! Тридцать седьмой год, репрессии… Кому это сейчас нужно и интересно? Ну было, все было. Сталин был, несомненно, деспотом и тираном, но не он первый, не он последний. У деятелей такого размера иные нравственные нормы, они не подпадают под ординарные представления. И не какому-то попавшему под колеса истории Козловскому судить о Сталине, абсурд! Это уже прошлое, пойми, прошлое, история.
— Подожди… иные нравственные нормы? — спросил Петя. — Не понял.
— Не надо, не надо! Не понимай! У нас свои цели, нам копаться в дерьме прошлого попросту некогда, нельзя. Следующее поколение уже в затылок дышит, вот-вот перехлестнет. Давай лучше о нашем проекте реформы наследования подумаем, — отмахнулся Лукаш.
— О нашем? — переспросил Петя и тут же в ответ на наивно-непонимающий взгляд Лукаша, в глазах у которого что-то вспыхнуло и захлопнулось, тут же добавил: — Ну да! Мы ведь договорились о совместной работе! Слушай, Сань, а все-таки к Сталину и к его эпохе необходимо выработать более точные определения и мерки… ведь черт знает что получается…
— Перестань смешить, Брюханов! — опять остановил его Лукаш. — На кой черт забивать голову ветошью? Все растет из опыта, личного опыта человека, народа, государства, строя! Кто спорит? Ну, попробовали и — дальше! дальше! Нельзя останавливаться, вот главное. Ты хоть это понимаешь, садовая твоя башка?
— Сань…
— Пошел к черту! У меня праздник… пока твоя Оленька склеивает черепки на юге… понимаешь, — зашептал Лукаш, наклоняясь к самому уху Пети, и у того вскоре сделалось заговорщическое выражение лица; выслушав, он все же отрицательно замотал головой:
— Врешь ты все… Перестань, не верю я тебе, Сань…
— Сама звонила, приглашала, — уверял Лукаш. — Нет, я тебя не понимаю… неужели тебе неинтересно появиться этаким чертом… победителем… А-а, стой, неужели все перегорело?
— Нет, нет, не уговаривай, — наотрез отказался Петя, посмеиваясь. — Я должен очиститься… понимаешь…
— От чего отчиститься-то? — оторопел Лукаш. — Давай держи, по последней и покатим… в самом деле, смешно, подумаешь, святой… Как полста стукнет, очищайся, самый раз будет…
— Я себя неважно чувствую… нехорошо что-то… Скверно у меня в душе, ты, Сань, дубина, не понимаешь, — упрямо стоял на своем Петя, но в конце концов Лукаш переселил, и дальнейшее Пете вспоминать на другой день было нехорошо и стыдно; он опять много пил, теперь уже оказавшись все-таки против своей воли на Арбате у сестер Колымьяновых; едва увидев Леру, он тотчас почти протрезвел и сразу понял, что приезжать сюда было нельзя и добром это не кончится. Он хотел повернуться и тотчас выйти; взгляд, которым обменялись Лукаш с Лерой и который он успел перехватить, остановил его. Его намеренно затащили в некий враждебный мир, и он не собирался тотчас, всем на потеху, удариться в бегство, и, конечно же, Лукашу нужно было бы намять бока за его подлость, но в конце концов наплевать… У них тут какие-то свои делишки, и Лукаш просто использует его в своих целях, и Лерка посматривает на Лукаша вполне сознательно…
Решив ничему не удивляться, быть совершенно спокойным, Петя, однако, не рассчитал своих сил, и едва хозяйка подсела к нему в стала как ни в чем не бывало расспрашивать его о жизни, он, спасаясь от самого себя, потребовал вина, коньяку; в приступе красноречия он овладел всеобщим вниманием безраздельно, как когда-то в университетские годы, то и дело вызывая взрывы хохота, с какой-то болезненной обостренностью подмечал малейшую мелочь; даже отметил момент, когда его впервые откровенно поманили зеленоватые, с рыжеватым отблеском глаза, момент, за который лет пять назад он отдал бы все…
Внутренне задохнувшись, он оборвал свой ухарский рассказ; испугался темной, поднявшейся в душе волны.
— Я ни о чем не жалею, Брюханов, — сказала Лера, тоже угадывая все происходящее с ним без слов, и лишь глаза у нее потемнели и стали огромными. — Сашка хорошо придумал, привез тебя сюда… Я ведь никогда не хотела сделать тебе больно… обидеть тебя… Просто я такая, какая есть… Теперь ты знаешь все. Вот все сразу и кончится…
— Да, ты вот такая, — сказал Петя, растягивая слова. — И ты мне должна… много должна…
— Ну так давай выработаем условия, давай определим, сколько же именно? — спросила она, поднося ему рюмку дрожащей золотистой жидкости, и глаза ее опять тянули в неведомую, порочную даль.
— Все равно не рассчитаешься, жизни не хватит! — ответил он, с вызовом чокнулся с ней, совершенно забывая о присутствии Лукаша…
На другой день, уже дома, он вспоминал все разорванно и смутно и долго страдальчески морщился, ворочаясь с боку на бок. Теперь он твердо знал, что болен серьезно, и не только простудой, а болен нравственно, душою болен, и что эта болезнь еще более разрушительна, чем физическая, и дело не в Лукаше и не в Лере Колымьяновой, а в нем самом, ведь он думал, что она давно стала ему безразличной, и вот вдруг такой поворот. Хотя, собственно, какой такой особый поворот? Да, нехорошо, да, низко по отношению к Оле, и все же в нем что-то окончательно порвалось и очистилось: завершился, разрешился долгий, болезненный кризис; так должно было быть, и нечего об этом больше думать. Однако вернувшаяся через неделю Оля, загоревшая, жизнерадостная, счастливая, не узнала его; он встретил ее вяло, даже не побрился, от него несло вином; Оля кинулась к нему, начала его обнимать, тормошить, несколько раз поцеловала, и руки у нее опустились.
— Петя, ты болен, — сказала она тревожно, ласкаясь к нему. — Вот отчего ты мне не писал, не звонил.
— Нет же, нет, я здоров, пройдет, — сказал он равнодушно, и глаза у него оставались незрячими, опустошенными.
— Говори, что с тобой приключилось, я все равно от тебя не отстану, пока не скажешь, — мужественно потребовала она, и Петя невольно улыбнулся.
— В самом деле, ничего особенного, просто устал. Много работы… Вот журнал решил провести интересное социологическое исследование… Лукаш меня втянул, даже из сна выбило, третью ночь не могу спать…
— Я не дам тебе столько работать! — с жаром сказала Оля, опять целуя и тормоша его, зарываясь руками в густые, шелковистые волосы. — Я тебя усыплю, милый! Ты сегодня будешь спать как ребенок… Я тебя только прошу, ты ничего не скрывай, говори все, все…
Он закрыл глаза, чувствуя отвращение к себе, однако молодость и жизнь взяли свое; но на другой день он опять почувствовал ко всему отвращение и не мог этого скрыть. Оля ничего не понимала, ходила потухшая и задумчивая, затем поделилась своими огорчениями и заботами с теткой, и Анна Михайловна, не откладывая в долгий ящик, потребовала встречи; Петя пообещал, даже час назначил и, конечно, не пришел, и Анна Михайловна, маленькая, стремительная, разбрасывая все на своем пути, решила сама ехать к нему и дать хорошую выволочку; племянница с большим трудом удержала ее, уверяя, что дело здесь серьезнее и глубже, дело не в ней, Ольге, и не в распущенности и порочности Пети, а в нем самом, женщина здесь не замешана, что…
Ей удалось успокоить и убедить горячую и скорую на расправу тетку, хотя сама она оставалась в растерянности и недоумении. Она безошибочно чувствовала, что Петино состояние не связано с какой то другой женщиной, что причина кроется глубже, и необходимо было сначала самой успокоиться и дать всему свой ход; лучшего рецепта не мог бы порекомендовать и самый опытный врач.
10
Самолет ровно шел на большой высоте; несмотря на скорость, казалось, он просто завис в хрустальном голубом пространстве; стекла иллюминаторов справа сияли чистыми, тяжелыми сгустками первозданного огня, за ними начиналась непреодолимая магия первичности, чистоты исчезновения.
Петя давно уже приспособился к неожиданным перемещениям в своей жизни и теперь почти не реагировал на них; просто его в очередной раз словно взяли и выдернули из привычной, ненадолго устоявшейся московской жизни, швырнули в кипящий водоворот, и он как бы в один момент пролетел по кругу дня и ночи, увидев и отметив сразу множество несовместимых вещей, и продолжал нестись дальше, окончательно привыкая и к отчиму, и к тому, что находится в его личном самолете; Петя думал, как иногда все неожиданно и быстро, даже помимо желания, свершается. Просто отчим, вернувшись поздно вечером и выслушав восторженный рассказ матери о приходе пасынка, ночью позвонил ему и, узнав, что Пете необходимо было посоветоваться кое о каких делах, предложил слетать с ним. в командировку — туда-обратно. — и по дороге поговорить. «Отвлекать не буду», — коротко прокомментировал Шалентьев свое предложение, и Петя сразу согласился.
Глядя сейчас в редеющий седой бобрик отчима (посапывая, тот знакомился с какими-то бумагами в папке из хорошей тисненой кожи, время от времени резко перебрасывая просмотренные листы справа налево), Петя не очень-то ловко чувствовал себя; стараясь скрыть неуверенность, отхлебывал принесенные красивой пышноволосой молодой стюардессой взбитые с апельсиновым соком сливки, он глубоко ушел в себя; он попал в другой, еще более жестокий, еще более убыстренный мир, где людям некогда было остановиться и обдумать сделанное, в этом новом мире имелись личные самолеты, существовала непреложная необходимость для пожилого человека срочного прыжка из одного конца страны в другой, с одного полушария в другое, потому что в этом мире каждую минуту непредвиденно изменялась политическая ситуация, над пространствами всех пяти материков дули непредсказуемые политические ветры и в противостояние возможных ударов в свою очередь намечались регионы опустошительных катастроф…
Мысленный взор Пети, его от природы богатое воображение обнаженно представили себе континенты, испаряющиеся в смерчах бушующего огня, бесконечные коробки городов, взявшиеся расплавленной коростой железа и бетона.
Незаметно потерев виски, он решил больше не давать ходу своей фантазии; он почти физически страдал от своих мыслей, но не думать не мог, тем более что летели они с отчимом тем самым маршрутом, в конце которого произошла катастрофа и погиб три с лишним года назад отец; отчим предупредил его об этом, и Петей сейчас владело мучительное желание пролететь над местом гибели отца, почувствовать и понять, как это могло случиться.
Шалентьева сопровождала свита человек из пятнадцати экспертов, помощников, заместителей и даже двух связистов, и все сопровождающие находились в соседнем, общем салоне; здесь же, в уютном небольшом салоне, оборудованном под кабинет, они были вдвоем; время от времени кто-нибудь из экспертов, попросив разрешения войти, клал перед Шалентьевым очередную депешу и, бесстрастно взглянув на Петю, уходил; очевидно, случилось что-то непредвиденное и у отчима не было возможности оторваться от срочных дел; не поднимая головы, с упорством и неутомимостью автомата, он перерабатывал непрерывно подваливавшую информацию. Глядя сбоку на его бугристый широкий лоб, Петя, быть может, впервые ощутил к нему уважение. Пожалуй, именно здесь, в непрерывном, стремительном, затягивающем движении, было неловко думать только о себе, о дисгармонии души и прочих личных вещах…
— Ты меня прости, — сказал в короткую передышку отчим, отодвигая очередную кипу просмотренных бумаг. — Никак не ожидал такого оборота дел… Видишь, невозможно и поговорить… Мне, по всей видимости, дня на два придется задержаться… Если хочешь, я тебя сегодня же отправлю обратно…
— Как вам удобней, Константин Кузьмич. Если не помешаю, — улыбнулся Петя, — хотел бы с вами вернуться. У меня время терпит. Все равно надо ждать решения министерства по поводу ЭВМ… Я думаю, если страна наша разорится, так только от чудовищного нашего бюрократизма…
Шалентьеву принесли еще несколько радиограмм, и он, быстро просматривая их, на глазах тяжелел; брови сдвинулись, у рта обозначились крупные складки; таким непримиримым, сжавшимся Петя видел отчима впервые, и Шалентьев опять откуда-то из своего далека, блестя глазами, сказал:
— Скоро посадка… Да, в иные моменты время прессуется до степени нуля. Если захотеть, можно многое увидеть и понять… Распределение в мире несправедливо, одни живут себе внешней жизнью, только небо коптят, их стихия — болтовня, другие пожизненно впряжены в ярмо — тянут, тянут, холка трещит… Одни собирают и через силу складывают камни, другие их тут же вновь разбрасывают — неизвестно, кто так распределил. Иногда обидно становится, например, за твоего отца, нестерпимо обидно…
Петя внимательно и молча слушал, окончательно свыкаясь с мыслью о своем внутреннем сближении с отчимом, и опять-таки впервые, через его воспоминания об отце, как-то по-новому ощущая тяжесть власти и физически ощутимую постоянную усталость от этой тяжести, тайное желание пощады, помощи и понимания; минута слабости кончилась — и тотчас на лице отчима вновь набежала неизбежная маска; холодность, недоступность и легкое раздражение за неожиданную слабость, выражающаяся в полунасмешливом прищуре глаз, в неподвижности подбородка.
В салон, попросив разрешения, вошел штурман, собранный, лет тридцати пяти; взглянув на Петю, он повернулся к Шалентьеву:
— Ровно через минуту под нами будет Аюракский хребет, Константин Кузьмич… Видимость хорошая, чисто, нужно смотреть влево на самые высокие вершины, они как бы отдалились от общей цепи в сторону… Здесь… у их подножия, справа… Да, вот они и есть… проходим… Вы видите, Петр Тихонович? Если хотите пройти в кабину… мы успеем…
Поблагодарив, Петя остался на месте, по-прежнему не отрываясь от холодного стекла, тотчас забыв об отчиме, о штурмане и пытаясь вызвать в себе то чувство любви к отцу и чувство своего запоздалого раскаяния, которое часто охватывало его при мыслях об отце. Но все в нем сейчас молчало, и сердце, и душа; с каким-то болезненным желанием стараясь ничего не упустить из проплывавшей внизу далекой картины гористой земли, он, все сильнее прижимаясь лбом к стеклу, неловко выворачивал шею; он видел сейчас отдельно сгруппировавшиеся белые острые вершины, они поднимались и стыли в синеве намного выше всего остального хребта, перечеркнувшего плоскогорье с юга на север, но опять-таки ни сердце Пети, ни ум не хотели признавать, что это то самое место на земле, где не стало отца. Здесь, вероятно, до катастрофы никогда не ступала нога человека, и короткую, мгновенную вспышку, оборвавшую несколько десятков человеческих жизней, таких важных для каждого в отдельности, природа в этом мире тайги и первородного камня, надо полагать, совершенно не заметила, и от этой неуютной и ненужной сейчас мысли Пете стало холодно. «И в чем же смысл, и где путь? — спросил он у себя. — Почему я здесь, зачем мне необходимо видеть эту бесконечную, гористую землю, без единого признака человека… На это, кажется, нет и никогда не будет ответа, просто больно сердцу. Да кто я такой, чтобы судить о жизни? Никто, никто не знает, кто он есть и зачем, и никто ничего не может ни объяснить, ни понять… Ведь вот почему-то в последние годы я не мог, не хотел называть его не только „папой“, как в детстве, даже грубоватое „отец“ я старался не произносить, мне было трудно себя заставить это сделать, я не мог, и, встречаясь, я обращался к нему безлично. Ему было больно, и я знал это, знал, и не мог, не хотел, и ведь единственная его вина заключалась в том, что он дал мне жизнь. Теперь я знаю, что это было что-то детское, глупое, болезнь роста, болезнь самоутверждения, это давно прошло, кончилось, мне стыдно, но он-то ничего не знает и никогда теперь не узнает, а ему, наверное, от этого было труднее жить. Странно: так мучиться, а сейчас я ничего не чувствую, я ожидал какого-то волнения, очищения и вот — совершенно ничего… Даже неловко взглянуть в сторону Константина Кузьмича… А ведь представлялось необходимым и важным… что же он чувствовал в последний момент, о чем подумал? Что вспомнил? Или этого делать нельзя… есть запретная черта, и стремление переступить ее — кощунство?»
Разворачиваясь, самолет накренился, и земля плавно ушла вниз и назад, и Петя теперь видел один сияющий яркий голубоватый простор; оторвавшись от стекла, он с облегчением вздохнул и встретил взгляд отчима.
— Заходим на посадку, — сказал Шалентьев, устало щурясь. — Я бы согласился еще два дня лететь, можно было бы подремать, подумать… А то ведь такие стали скорости…
— Вы не первый раз летите этим маршрутом, Константин Кузьмич?
— Не первый. — Шалентьев коротко взглянул, поняв, о чем думает сейчас пасынок. — Сами того не ведая, мы лишь закладываем семена… прорастают они потом… потом, когда уже самого сеятеля давно нет…
— И с нами так будет?
— Уверен, — ответил Шалентьев, и короткий их разговор оборвался; самолет теперь заметно терял высоту, и Петя опять стал смотреть вниз, на землю, думая о какой-то странной пугающей похожести в выражении глаз отчима и Козловского в момент их последней встречи, оказавшейся и прощанием; но что, что же такое они знают, отчего в них присутствует внутреннее, неоспоримое право жить и почему им не страшно жить? Чувствуя, что еще одно усилие, еще немного — и он поймет, что вновь свяжутся оборванные начала и мучающая его пустота заполнится прочным надежным смыслом, Петя с напряжением вглядывался в неотвратимо надвигающуюся землю и волнующуюся поверхность воды.
Картина непрерывно менялась; самолет, заходя на посадку и делая над океаном размашистый разворот, снижался, и все новые и новые подробности проступали внизу. На высоких вершинах сопок неровными пятнами белел снег, лежал он и в более низких впадинах, ослепительно блестела кромка прибоя, кипевшего вдоль причудливо изрезанного берега, казалось, совершенно безлюдного, первозданного, в неповторимом хаосе скал, обрывов, вкрапленных тут и там отмелей. Она тянулась безгранично далеко, пропадая в темной, тяжелой синеве океана и в более светлой и воздушно-легкой — неба. На земле преобладали пока темные цвета: зеленые, коричневые, серовато-размытые; Петя никак не мог собрать открывавшуюся внизу картину воедино. Шалентьев, поглядывая на Петю и завидуя его незнанию и молодости, приготавливаясь к встрече и выстраивая план предстоящих действий, еще и еще раз продумывая расстановку сил, участвующих в игре, старался предугадать исход; он продолжал думать об этом и после посадки, здороваясь со встречавшими его людьми, и по дороге в небольшой, затаившийся среди сопок, почти у самого океана, крошечный городок, наполовину ушедший под землю, в каменные скалы. Давно уже выработав в себе способность собраться мгновенно, Шалентьев и теперь уже был готов к схватке, хотя его несколько отвлекло присутствие пасынка, но их наметившееся внутреннее сближение с лихвой восполняло все неудобства. Шалентьев попросил поместить Петю в соседний номер и, перед тем как уехать по делам, зашел к нему, осмотрелся.
— Ну, погуляй тут, подыши океаном, а к вечеру мы, Бог даст, и рыбалку соорудим.
— Велика у вас империя, Константин Кузьмич! — сказал Петя с явным уважением. — Куда забрались — на край света… Точки приложения у вашего ведомства — ого!
— Точки приложения определяет обыкновенная электроника, — сказал Шалентьев, не скрывая, что ему приятно энергичное оживление пасынка. — Не теряй зря времени, пока меня не будет, походи по окрестностям, не пожалеешь. Великолепнейшая рыбалка… жаль, ты не интересуешься…
— Спасибо, Константин Кузьмич. За все спасибо. Обо мне не беспокойтесь, я скучать не умею.
— Я знаю, Петр, — серьезно и спокойно сказал Шалентьев. — Нельзя понять России, не ощутив ее расстояний, ее души… Будь гостем, не стесняйся, тебя здесь покормят… Там у них в клубе и бильярд есть… Сутки как-нибудь пройдут, а завтра к вечеру улетим… На обратном пути мы с тобой все наверстаем.
Петя согласно кивнул, но ощущение внутреннего сближения и дальнейшая потребность такого сближения между ними еще усилилась и окрепла; Шалентьев отправился по своим делам, и Петя подошел к просторному окну с двойными рамами. На другом берегу бухты, километрах в пяти, бугрились склоны сопок; редколесье, взбегающее почти к самой белизне острых вершин, ослепительно сияло под солнцем. С некоторой иронией по отношению к самому себе Петя вспомнил свою полудетскую теорию факта предрасположенности к нему, Петру Тихоновичу Брюханову, лично самой судьбы, когда все в нужный момент разрешается именно в его пользу. Такую мысль впервые подбросил ему как бы шутя Сашка Лукаш (помнится, они заканчивали девятый класс), завидуя его успеху у девушек, и с тех пор эта нелепая мысль нет-нет да и всплывала в сознании в самые трудные, критические моменты. Со временем Лукаш во многом, в том числе и по части девушек, далеко перещеголял своего друга-соперника и давным-давно забыл о своих юношеских бреднях, а вот Петя почему-то помнил. Нестершаяся память, услужливо порывшись в своих тайниках, не замедлила подсунуть ему еще одну из самых болезненных и стыдных страничек жизни; отец как-то вошел в его комнату и, помявшись, стал выталкивать неловкие фразы — видно было, что ему самому нестерпимо больно и стыдно; лицо у Пети пошло неровными пятнами, губы задрожали; рушилась и какой-то невыносимой, немыслимой грязью оборачивалась первая любовь, и он, не выдержав, ненавидя в тот момент ни в чем не повинного отца, со злобой закричал, что он не верит, не верит ни ему, ни матери, не верит ни одному ах слову, что они лгут, что они ханжи и лицемеры, что она, она только его любит и не может так подло поступить.
Охваченный порывом нарастающего бешенства, когда сам человек превращается в сгусток хаоса и тьмы, сквозь застилавшую глаза муть он видел неподвижное, затвердевшее лицо отца и его беззвучно шевелящиеся губы. Он оглох, ослеп, на него обрушилась давящая оглушающая тишина; отец что-то говорил, но слов не было слышно, ничего не было слышно, ни одного звука; Петя, готовый сию же маиуту покончить с собой, выброситься в окно, сделать что-нибудь непоправимое, увидел медленно, неотвратно приближающееся, почему-то огромное лицо отца; в следующий миг отец словно тисками сдавил его плечи и несколько раз встряхнул. Дождавшись, когда глаза у сына прояснились, он с трудом разжал стиснутые зубы и, сдерживая голос, сказал, выделяя и подчеркивая одно и то же слово.
— Она не только так поступила… Когда я попытался поговорить с ней, она не стала слушать и просила передать тебе, что любит другого и всегда его любила. Ты был только ширмой. Женщины жестоки. Они еще не такое умеют. Так бывает в жизни, она тебя не любит и никогда не любила… Она выбрала, они уже зарегистрировались. — Отец перевел дух и махнул рукой. — К черту! Не сходи с ума, ты же мужчина…
— Уйди, — попросил Петя. — Кто вас просил, зачем вы вмешались? Я бы сам во всем разобрался. Зачем ты слушаешься мать?
— Мы не могли поступить иначе, мы хотели помочь, это так естественно…
— Уйди… Ты ведь тоже не знаешь, что делать…
— Я уже тебе сказал, быть мужчиной. Посмеяться над собой и забыть — вот что нужно, — неожиданно резко сказал отец, еще раз близко, пристально и долго взглянув сыну в глаза, и ушел, а Петя, бессильно свалившись на диван, пролежал несколько часов. Он не знал, сон ли то был или мутная явь; то из одного угла, то из другого, а то просто из стены появлялся он, муж, сутуловатый, волосатый, с ухмыляющейся знакомой рожей, Сенька Амвросимов, сын личного кремлевского повара самого… и от него сейчас тянуло острым украинским борщом с чесночными пампушками… Петя, сжимая кулаки, бросался на приступ, целя именно в рожу, но муж в самый последний момент исчезал, и, когда Петя, ненавидя себя за слюнтяйство, за истерику, которую он никак не мог остановить, валился на диван, муж появлялся вновь. И все в том же обличии — навеселе, с закатанными рукавами и расстегнутым воротом; весь его вид говорил о довольстве жизнью… и Петя, зажмуриваясь, вновь срывался с места… В последний раз муж возник из кувшина с водой, стоявшего на столике у двери; крышка стала увеличиваться, и скоро у двери опять стоял муж, то есть все тот же Сенька Амвросимов, плутовски, нахально, как-то одним глазом намекая на что-то очень интимное, известное только им двоим, подмигивал; запах украинского борща усилился, и Петя, отвернувшись к стене, стиснул зубы, закрыл глаза и провалился уже окончательно то ли в беспамятство, то ли в тяжелый беспробудный сон.
Стоя у окна, у застывшей величественной бухты, окаймленной островерхими сопками, где-то за несколько тысяч километров от Москвы, Петя насмешливо улыбнулся прихоти собственной памяти; чушь, чушь, сказал он себе, так, издержки роста, каким детством это все кажется… Если бы можно было вернуть отца, сказать ему об этом…
После непритязательного сытного обеда он пошел осматривать городок из нескольких десятков в основном двухэтажных домишек; на улице из конца в конец маячили две или три фигуры в теплых комбинезонах и сапогах, детей не встречалось совсем, и Петя в странном непривычном безлюдье вышел к бухте и долго брел ее берегом, наслаждаясь тишиной, покоем, легким, солоноватым ветерком, нежарким, уже осенним солнцем, низившимся к вершинам сопок. Под его ногами свежо и непривычно похрустывали пустые раковины. Путь ему неожиданно преградила высокая, причудливой формы скала, напоминавшая фантастическое животное, пьющее из бухты, выгнув длинную извивающуюся шею; загоревшись внезапным азартом, Петя решил взобраться на самый верх каменного исполина и после ряда неудачных попыток, ободрав руки, все-таки добился своего и не пожалел. Ему открылось необозримое, тяжелое выгнутое зеркало воды, со всех сторон окаймленное отвесными склонами сопок, рваными, словно вчера сброшенными сверху, нагромождениями скал, кое-где прорезанными речками и ручьями; почти идеально круглая бухта соединялась с океаном проливом километра в три; стихии, часто бушевавшие в океане, не могли пробиться в бухту, и здесь даже в самые бурные штормы только мелкая рябь покрывала спокойную поверхность воды, да еще во время приливов и отливов вода заметно прибывала и убывала. Солнце низко висело над сопками и над бухтой, сгущаясь к берегам, держалась рыжевато-искристая мгла, ощутимая, медленная, и вода, перенасыщенная тяжелым светом, лениво шевелилась. Петя задержал дыхание; вода и скалы с каждой минутой неуловимо меняли окраску, и внезапно появившиеся в хрустальном небе сильные и стремительные птицы с косыми упругими крыльями стали падать на воду и вновь, с резкими, скрипучими криками, взмывать в небо. Солнце уже цеплялось нижним краем за вершину сопки; видимость еще улучшилась, и Петя, присмотревшись, различил в отдалении несколько длинных веретенообразных предметов, мирно лежащих на воде; даже издала они внушали смутное уважение и чувство неведомых, холодных океанских глубин, ставших покорными человеку; и еще дальше, уже на противоположном берегу виднелись расплывчатые очертания каких-то построек, почти сливающихся с горами. Бухта жила своей, скрытой от непосвященного, затаенной жизнью; гранитные скалы, освещенные заходящим солнцем, искрились, казались облитыми тончайшим нежным пламенем. И ему мучительно захотелось разделить видение этой просветленной красоты именно с Олей, захотелось, чтобы она была в эту минуту рядом.
11
Захваченный и даже несколько обиженный ходом незнакомой жизни, совершенно независимой от него, Петя во всей своей внутренней сумятице, пока еще многое для него определявшей, попал в отдаленную северную бухту в общем-то случайно; Шалентьев же, вполне сознательно взявший пасынка с собой в надежде с ним сблизиться, прилетел сюда по сверхнеотложному, важнейшему делу; ему предстояла тяжелая борьба, целым рядом обстоятельств в нее были втянуты самые разнородные силы, и Шалентьева ни на минуту не отпускало чувство опасности. Присутствие пасынка рядом, как ни странно, короткие разговоры с ним, даже его молчание ободряли и укрепляли Шалентьева. В отличие от Пети, постоянно занятого своими личностными конфликтами, в его возрасте естественно считавшего именно себя центром мироздания и все измерявшего своими внутренними неурядицами, Шалентьев хорошо знал, как мало от него лично зависит в сложном и трудном мире, и стремился не упустить ни одной, даже самой маленькой возможности продвинуть и улучшить доверенное ему дело. Там, где Петя видел поражающую воображение огромную, экзотическую океанскую бухту, в навалах сопок, в неповторимых сочетаниях и контрастах осенних красок, первозданных и пока еще почти не тронутых человеком, и радовался этому, Шалентьев видел прежде всего некую рассчитанную и важнейшую, необходимую точку в цепи стратегической обороны, в создание которой он вложил толику своей жизни и судьбы; в отличие от Пети он знал о немыслимых силах, таящихся и в самой бухте, окаймленной навалами сопок и скал в пламенеющем оранжево-красном осеннем цветении, и под скалами, в каменных лабиринтах тоннелей и шахт. Раскованные малейшим движением человеческой воли, силы эти были способны испепелить целые материки, и степенью именно этого тяжкого, непереносимого знания Шалентьев теперь судил людей и их поступки, хотя хорошо понимал, что не имеет на это права. Он оправдывал себя лишь непреложным законом его положения, его должности, неукоснительно определявшими людей его, пусть даже самый невинный поступок, простое человеческое движение, и ничего нельзя было изменить, пока он оставался на этом посту. Уже за полмесяца до своего, казалось бы, неожиданного прыжка за несколько тысяч километров от Москвы к океану, в один из незаметных военных гарнизонов, значившихся, однако, в самых секретных стратегических картах противоборствующих сторон, Шалентьев знал о причине, заставившей его совершить этот прыжок, но до самого решающего момента не мог бы и самому себе определенно ответить, как он будет держаться в сложившейся ситуации, скажет ли он свое «да» или «нет», и, как ни странно, такая неопределенность вызывалась отчасти и присутствием пасынка. Побывав на объектах вместе с группой прилетевших с ним экспертов и выслушав их, он за два часа до официального заседания попросил Лаченкова, представлявшего всемогущее ведомство Малоярцева и прилетевшего на объект неделей раньше, встретиться и заранее обговорить основные положения; увидев медлительного, с бледным нездоровым отечным лицом Лаченкова, с огромным желтым, сильно потертым портфелем, он, приветливо улыбнувшись, пошел ему навстречу.
— Садитесь, Степан Лаврентьевич, — пригласил он, косясь на желтый портфель и проникаясь враждебностью, точно к живому существу, к этому объемистому вместилищу самых непредсказуемых резолюций, приказов, установлений, решений, готовых каждую секунду вырваться на волю и обрести громадную гибельную, разрушительную силу. — Пожалуйста, к столу, к столу, здесь удобнее…
— Гм, — вопросительно вскинул белесые, редкие, почти незаметные брови Лаченков и в ответ тоже собрал узкие нервные губы в улыбку, но на лице у него от этого лишь усилилось выражение недовольства. — Благодарствую, сяду, сяду, Константин Кузьмич, ох, куда мы с вами забрались, в наши-то с вами годы…
— Ну, какие еще наши с вами годы, Степан Лаврентьевич, — принимая предложенную игру, в тон ему сказал Шалентьев. — Цветущий зрелый возраст. Ведь на месте вас не застанешь… Неделю назад позвонил, отвечают — в командировке, на юге, а сейчас во-он где, уже здесь, снова за несколько тысяч верст… Пришлось напрячься.
— Гм, гм. — Лаченков сделал новую попытку сложить губы в улыбку. — Рад вашему хорошему настроению…
— А это, Степан Лаврентьевич, от одной, неизъяснимо сладостной надежды: обещали вечером устроить рыбалку. Я ведь, к вашему сведению, самозабвенный рыбак… в последний раз… дай Бог памяти, держал удочку в руках что-то около года назад…
— Непростительно, Константин Кузьмич, лишать себя в наш век положительных эмоций — непростительно! — простодушно посетовал Лаченков, вздергивая белесые невидимые брови и с интересом вглядываясь в Шалентьева. — Что же ваши молодцы так плохо за вами смотрят?
— Так ведь инструкцией не предусмотрено, Степан Лаврентьевич, — приветливо улыбнулся и Шалентьев, начиная невольно наслаждаться предложенной игрой и осознанно отдаляя момент окончательного решения.
— С удовольствием составил бы вам компанию, Константин Кузьмич, — вздохнул Лаченков и щелкнул замком портфеля, извлекая из него изящную папку с бумагами. — Никакой я не рыбак, просто с удовольствием посидел бы рядом, смотрел бы на воду и дышал… дышал… дышал. Где там! Вот, с вашего разрешения, Константин Кузьмич, через три часа должен улететь… Меня срочно ждет с докладом Борис Андреевич… Не будем затягивать, прошу ознакомиться, Константин Кузьмич. Ничего, в другой раз, надеюсь, мы с вами найдем время и для души, не первый раз встречаемся, надо думать, и не в последний…
Взяв у Лаченкова бумаги, Шалентьев вяло полистал их, в некоторых местах задерживаясь и внимательно, подробно вчитываясь; Лаченков бесстрастно ждал, все так же безуспешно пытаясь сложить губы в улыбку, отчего лицо его казалось особенно напряженным и неестественным. Их связывали давние отношения, еще со времен покойного Тихона Ивановича Брюханова; оба хорошо знали привычки друг друга, главное, были уверены, что хорошо их знают; Лаченков, сам выходец из орловских крестьян, попадая в высокое общество, ощущал всегда свою неуверенность, закомплексованность, не знал, куда девать руки, как справляться с лицом, как придавать ему приятное светское безличное выражение, если тебе совсем не до этого, если на душе кошки скребут от очередного разноса шефа; втайне он не любил Шалентьева за его потомственный аристократизм, небрежность и значительность интонаций, непродуманное изящество движений, умение держаться естественно и ровно при самом высоком начальстве, тогда как он, Лаченков, всегда выглядел деревянным истуканом. И сейчас, исподтишка наблюдая за нервными, сухими, ухоженными пальцами Шалентьева, лениво и точно перекидывавшими бумаги, Лаченков втайне завидовал ему и наслаждался предстоящим унижением своего противника — все равно, хочет он этого или нет, а этот патриций будет вынужден согласиться, сказать свое «да»; против воли Малоярцева пойти, как и раньше, не осмелится; пусть его побесится, покипятится, завьется винтом, пусть сам себя клюнет в одно место… А покориться придется.
Отлично понимая, что прав Шалентьев, а не он, Лаченков, прав в своем внутреннем несогласии, почти бешенстве, которое вон как дергает лицо Шалентьева, несмотря на все его умение владеть собой, отлично понимая, что если удастся сейчас сломать Шалентьева и вырвать у него согласие, то пострадают большие и важные государственные интересы, Лаченков, однако, ничего другого не ждал и не хотел от Шалентьева, как только этого фальшивого и в то же время обязательного, ничем иным не заменимого «да»; просто Лаченков слишком хорошо знал положение дел и не видел для Шалентьева другого выхода, сказать «нет» было равносильно самоубийству. А если уж раскручивать до конца откровенно, то сказать «да» Шалентьеву нужно было не только ради личного самосохранения, но и в силу выигрыша серьезных, хотя и временных государственных интересов. По-прежнему наслаждаясь затягивающимся молчанием, Лаченков лишь гадал, сколько времени еще потребуется для созревания этому аристократишке, рафинированному интеллигенту Шалентьеву, пять минут или же вдвое больше, целых десять?
И Шалентьев знал, что Лаченков сейчас наслаждается его душевным дискомфортом и что иначе он чувствовать себя не может, но сам не испытывал к Лаченкову враждебности или хотя бы неприязни; Лаченков другим быть не мог, он являлся всего лишь слепым исполнителем, безукоризненно вышколенным и отшлифованным обстоятельствами и требованиями самого времени; и Шалентьев, с самого начала зная о вынужденной необходимости сказать именно «да», о невозможности поступить по другому и все же проклиная себя за некстати проснувшуюся нерешительность, тянул и медлил на потеху ждущему и наслаждавшемуся Лаченкову.
Храня невозмутимое спокойствие, он наконец взял ручку, придвинул к себе бумаги, готовясь поставить свою визу и подписать, и Лаченков, внутренне торжествуя, весь подобрался. Глаза у Шалентьева сделались льдистыми, он уперся взглядом в переносье Лаченкову, там, где сходились его белесые невидимые брови.
— Знаете, Степан Лаврентьевич, я, к сожалению, подписать актов о приемке объектов не могу, всех десяти объектов, — сказал он, испытывая минуту душевного просветления и даже наслаждения и слыша свой глуховатый голос как бы со стороны, откуда-то издалека; впрочем, и голос этот был не его голос, а чей-то другой, посторонний и незнакомый; он даже слегка склонил голову, прислушиваясь. — Не могу, Степан Лаврентьевич, не подпишу, — добавил он, болезненно остро наслаждаясь своей решимостью и обреченностью.
— Изволите шутить, Константин Кузьмич, — сдвинул бесцветные брови Лаченков, в то же время ощущая какой-то обрыв в сердце; земля вначале слегка шевельнулась, затем ринулась из-под ног, и на несколько мгновений собственное тело словно перестало существовать.
— Объекты не готовы, я не возьму на себя ответственность, Степан Лаврентьевич, — сказал Шалентьев. — Вы сами знаете, насколько она велика, не по моим плечам…
— Нет, вы шутите, — опять не поверил Лаченков и от бессмыслицы происходящего ему, наконец, удалось сделать невероятное; уголки его губ как бы сами собой приподнялись и на его лице появилась довольно приятная, какая-то простецкая, с собравшейся на желтых висках кожей, орловская, хавроньина, как определила бы жена, улыбка; она, словно приклеенная, держалась затем в продолжение всего остального разговора; Лаченков пытался уверить Шалентьева, что он всего лишь шутит, а тот все тверже старался убедить и Лаченкова, и, казалось, больше всего самого себя, что шутить такими важными делами глупо, а он, как никогда, сейчас в здравом уме. Когда он это повторил еще раз, они оба почувствовали тупик, дальше расстилалась непролазная топь и глушь без единого просвета на горизонте. Улыбка на лице Лаченкова бесследно исчезла, и портфель, который он все время держал у себя на коленях, как бы уменьшился, окончательно потерял всякий цвет..
— Ну что же, Константин Кузьмич, вы, надо думать, тщательно взвесили свое решение, — сказал он строго, по-военному вытягиваясь перед Шалентьевым. — Товарищ Малоярцев, направляя меня сюда с соответствующими инструкциями, руководствовался прежде всего государственными интересами… И не только нашими отечественными, но и стратегической глобальной концепцией равновесия… мне придется…
— Да, конечно, разумеется, придется… Я все взвесил, Степан Лаврентьевич, — ответил Шалентьев, начиная чувствовать под ложечкой сосущую пустоту, и тоже встал, выпрямился. — Если у вас есть письменное указание о принятии объектов в их натуральном состоянии…
— Вы опять шутите, Константин Кузьмич, — помедлив, справившись с новой оторопью, теперь уже с явным неодобрением сказал Лаченков, собирая бумаги со стола и укладывая их обратно в папку, а папку в портфель. — Завтра так и доложу… Я, разумеется, постараюсь обрисовать положение реалистически… Честь имею, — неожиданно для себя и скорее от окончательной нелепицы происходящего буркнул он, прощаясь всего лишь коротким кивком; и у Шалентьева мгновенно вспыхнуло какое-то далекое и тревожное воспоминание, глаза сделались узкими и острыми; что-то в жизни повторялось.
— Минутку, Степан Лаврентьевич, — быстро сказал оп, опережая и останавливая готового уйти Лаченкова. — Скажите, а мы не могли встречаться с вами где-то раньше… до этой нашей совместной работы? Во время войны или где-то в предвоенные годы?
— Нет, не могли, Константин Кузьмич, — четко, с ноткой враждебности ответил Лаченков, вновь пытаясь улыбнуться и затвердевая лицом.
— Ну хорошо, так, что-то мелькнуло… видимо, показалось. Прошу прощения, Степан Лаврентьевич…
— Бывает, Константин Кузьмич, — подтвердил Лаченков, открывая противнику путь к отступлению, еще к одному шагу назад; он даже переложил свой потертый портфель из одной руки в другую, выражая полнейшую готовность вновь сесть к столу; его странная улыбка гасла и уходила.
— Докладывать придется, Степан Лаврентьевич, — вздохнул тихонько Шалентьев, сделавшись необычайно задумчив, и они расстались, оба в полном душевном дискомфорте: Лаченков перед предстоящим объяснением с высоким начальством и от мыслей, что из этого выйдет, Шалентьев — от тяжести неожиданного, неумного и несвоевременного, как он уже считал, шага; дело свое он любил и уходить в отставку не собирался. Неприятное чувство обрыва не проходило, и лишь к вечеру, недовольно морщась и двигаясь вслед за поплавком, он почувствовал некоторое облегчение; чтобы не бултыхнуться в ледяную воду, ему приходилось прижиматься спиной к почти отвесной гладкой скале с углублениями у подножия, вылизанными прибоем. Поплавок из гусиного пера и пробки вот-вот должен был нырнуть, рыба брала, и, судя по поплавку, крупная, тяжелая рыба; нужно было не упустить того мгновения, когда поплавок нырнет и пойдет вниз, и, стараясь не упустить момент, он время от времени сердито морщился; его продолжала раздражать мысль о Лаченкове, и он, остановившись, прочнее расставив ноги, упершись в каменный выступ, некоторое время неподвижно глядел на бегущую прозрачную воду. «Нет, я не ошибаюсь, мы где-то встречались, я его раньше видел… Давно… очень давно, но где и когда? — допрашивал он себя. — Сверкнувший ненавистью взгляд исподлобья… и заученная рыбья улыбка… скорее рыбья гримаса… Этот голый череп… Стоп, стоп, тогда копна пшеничных спелых волос… где? где?»
Поплавок, неожиданно скрываясь, резко пошел вниз; Шалентьев неловко присел, подсек; удилище выгнулось дугой. «Есть, есть!» — вскрикнул он и, перехватив леску руками, перебирая ее, стал подводить. Рыба металась у его ног, поднимая, буравя воду, а он от волнения и нетерпения никак не мог приловчиться и боялся, что рыба сорвется и уйдет; на крючок попался внушительных размеров красавец хариус; вытащенный, наконец, на берег, он на глазах менял цвет, из темно-зеленого становился светлым, из него уходили живые краски подводных глубин, брюшко переставало по цвету отличаться от спинки; он прыгал и прыгал по камням, и его пришлось пристукнуть, и он сразу затих, опять стал менять цвет, темные пятнышки на его зеленовато-серебристой чешуе бледнели и исчезали. Возбужденный и счастливый, Шалентьев вернулся к старому месту, где обосновался для ловли, подтянул к берегу обрывок длинной медной проволоки с нанизанными на нее пойманными рыбинами, присоединил к ним хариуса и стал вновь возиться с удочкой. Сидевший неподалеку на покатом лобастом камне Петя, с большим интересом наблюдавший за отчимом, быстро встал, подошел ближе полюбоваться добычей; Шалентьев, оживленный, быстрый, отбросив свою обычную сдержанность, молодецки-задорно подмигнул, и Петя с уважением к хорошо выполняемому, серьезному мужскому делу поздравил его.
— Много бы я отдал за два дня здесь, в ущелье, — сказал Шалентьев. — Полцарства за тишину…
— А что, нельзя? Не выходит?
— Ты сам первый меня осудишь… Не выдержишь ведь…
— Я-то выдержу, — улыбнулся Петя. — Мне здесь нравится… Такую благодать теперь и за деньги не встретишь…
— Нельзя, — сказал Шалентьев, забрасывая удочку и сразу же вновь отключаясь и погружаясь в радостный мир ожидания и внутреннего азарта, известного лишь истинный рыбакам и охотникам.
Солнце незаметно переместилось, и ущелье вместе со сбегавшей в бухту прозрачной холодной горной речкой раздвинулось, посветлело; оно теперь насквозь пронизывалось длинными, косыми лучами; вокруг повеселело, в тайге, трудно взбиравшейся по склонам, стали различаться отдельные островки лиственницы, ели и осины; в воде, даже на трехметровой глубине, отчетливо различались причудливо шевелящиеся водоросли, камешки и песок; река под нависшими над водой скалами ржаво отсвечивала. Петя опять вспомнил Олю, ждущую и недоумевающую, и вздохнул; даже затаившиеся здесь, среди тишины и покоя, грозные силы, вызванные к жизни разумом и волей человека, запрятанные в глубокие шахты и тоннели, совершенно не ощущались, здесь люди просто ждут, думал он, ждут месяцами, годами, одни, отбыв свой срок, уходят, другие сменяют их и вновь ждут, ждут, ждут… Так они живут здесь и привыкают — ждать… В мире, начиненном огнем и ненавистью, действительно нельзя иначе; здесь, в окрестностях этой сказочно прекрасной бухты, вся жизнь, по сути, сосредоточена под землей, под гранитными навалами сопок и только бесшумные локаторы бессонно прощупывают каждый клочок неба, в аппаратах мгновенной связи бьются сверхчувствительные токи в ожидании необходимой информации. Здесь отсчет идет на секунды, на их доли. В мире, начиненном скрытым огнем, необходимы это своеобразное уравновешивание различных сторон психики, надежная и прочная опора под ногами на весьма прочной, как кажется, земле; человек зарылся здесь в камень, а наверху разумная, естественная жизнь идет себе да идет вокруг, ни о чем не подозревая; кричат, дерутся из-за добычи чайки, растут деревья, расцветают самые немыслимые краски… Глаза разбегаются от красоты..
От неприятного стягивающего ощущения в плечах Петя поежился; он неожиданно представил себе начало, вернее, те десять секунд или минут до начала конца, ради которого, вернее, чтобы не упустить его и успеть ответить, не покладая рук работал его отец, работает сейчас и отчим, работают сотни тысяч, миллионы людей. Это было немыслимо, но было именно так, и переменить что-либо было нельзя.
Ему представились теперь раздвинувшиеся многометровой толщины железобетонные плиты, открывшие ряды шахт; достаточно одного слабого движения человеческих пальцев — и из глубоких шахт, с непрерывно перемещающихся где-нибудь в лесных дебрях или в пустынях платформ тягачей, из подводных лодок вырвутся серебристые стрелы и всего на один неуловимый момент повиснут над сопками, над океанами и степями, над лесистыми зарослями… на севере и на юге, на востоке и западе… Приказ будет распространен и приведен в исполнение в считанные секунды, и ничего не подозревающий мир еще несколько минут проведет в неведении, в последней тишине, потому что в недосягаемых высотах уже будут в неостановимом движении тысячи бездушных, неумолимых чудовищ, и затем начнут плавиться, испаряться огромные города из бетона и стали, и горы, и равнины уродливо запузырятся и закипят…
«Все, что вышло из земли, уйдет в нее и сольется с нею…», — сказал он, припоминая старую истину, и неожиданно решил, вернувшись в Москву, сразу же пойти к Оле и предложить ей немедленно зарегистрироваться, он вспомнил, как женственно, гася свет, бесшумно она движется по комнате в прозрачной ночной сорочке, сквозь которую просвечивает тело, и тихо засмеялся. Нет, нет, сказал себе, вот этим он не будет делиться ни с кем, и с отчимом тем более. Тот, само собой, внимательно и вежливо, по своему обыкновению, выслушает, но посчитает его недалеким, недорослем; человек, у которого в руках такая власть и сила, смотрит на мир иначе, мерит жизнь другими категориями, не очень-то приятно выказать перед ним свою несостоятельность, инфантильность души, перед человеком, знающим то, что он знает, и сохраняющим поразительную ясность духа, жизнелюбие и открытость. А может быть, только с ним и нужно поговорить?
Успев за это время выхватить из воды еще пяток крупных хариусов, Шалентьев, теряя интерес к легкой и непрерывной удаче, отложил удочку, вымыл пахнущие рыбьей сыростью руки, сел на большой, свалившийся сверху обломок красноватого гранита и закурил; устраиваясь удобнее, он столкнул вниз несколько камней и прилег на локоть. Пахшая рыбой папироса раздражала, и он осторожно достал из пачки новую, прижег ее от горевшей; старая, брошенная в воду, тут же погаснув, уплыла. Отдыхая, чувствуя приятную усталость в теле, он курил и тер руки мокрым песком. Азарт проходил; оглянувшись, он позвал пасынка полюбоваться уловом, присел на корточки у самой воды, подтянув тяжелую связку с бултыхавшейся, отчаянно молотившей хвостами, поднимавшей целые радуги брызг добычей, они с удовольствием рассматривали гольцов и хариусов, отодвигая ладонью одну рыбину от другой. «И вот жизнь, вот рыбалка! — говорил он как бы сам себе, в то же время поглядывая на пасынка и приглашая его разделить свою радость. — А этот каков, посмотри, а? Зверь! Красавец! Царь! А этот? Чуть не ушел! Тянул, в несколько лошадиных сил, а? Фантазия!» Петя поддакивал, восхищался как умел; как бы узнав друг о друге что-то хорошее, чего не знали и не могли узнать раньше, они дружно засмеялись своей детской радости и, несмотря на разницу в возрасте, сделались совсем близкими друзьями. Шалентьев оставил связку с рыбами; устроившись на камнях рядом, они закурили и тихо глядели на бегущую воду. Они мало знали до сих пор друг друга, у каждого из них была своя жизнь, и Шалентьев, будучи старше и опытнее, видел и понимал, что пасынок выстраивает свою линию жизни отчаянными рывками, и если Аленка, все чаще делясь с мужем в минуты слабости самым сокровенным, сетовала на детей и говорила, что из них ничего путного не получилось, Шалентьев был совершенно иного мнения и сейчас, поглядывая на пасынка, убеждался в этом все больше. Петя, его сестра, другие, им подобные, выросли совершенно в иных условиях, получили другое воспитание, чем, допустим, сама Аленка; что же тут особого? Войны они не видели, лишений тоже, у каждого поколения свои рубцы, свои пропасти, и отцам никогда не прожить и не решить за сыновей. Шалентьев отвлекал себя мыслями о пасынке, чтобы не думать о себе, о своем возвращении в Москву, о вызове к Малоярцеву и разговоре с ним; он знал слишком много и не тешил себя иллюзиями. Все тонуло в словах и лозунгах, страна задыхалась от парадных речей, и все живое и деятельное, любая энергичная мысль замыкались на благодушной старческой расслабленности и старческой кастовости; давно отжившие своё старцы сидели на самых горячих, самых ответственных местах и заботились только о незыблемости раз и навсегда установленного миропорядка, о собственных выгодах, о том, чтобы спокойно досидеть до конца и получить торжественное погребение… Во что это обходилось казне и государству, их не интересовало; старость была скрупулезно расчетливой и безжалостной в борьбе за продление, за каждый лишний глоток воздуха, за каждый в общем-то уже ненужный орден… Старость давно превратилась в своеобразную жреческую касту, давящую все живое; и со склеротическим эгоизмом упорно узаконивала это превращение. Можно было много раз изумляться и восклицать: ну порядки, вот порядки, страна дураков, умопомрачительная страна! Но что с того? Все равно ничего нельзя было изменить; может быть, действительно здесь присутствовало нечто азиатское, непреодолимое, навечно вошедшее в плоть и кровь; под парадной неизменной улыбкой — бушующий, вот-вот готовый прорваться вулкан; все загнано куда-то в преисподнюю, все шито-крыто, и на припудренных мертвенных лицах стариков отсвечивала кем-то заданная все та же умиротворяющая улыбка, словно они и дальше приуготовлялись к тихому участию в бесконечной комедии жизни…
Доходя до такого примерно вывода, Шалентьев одергивал себя. Зачем? И в самом деле, ни одному мыслящему человеку нельзя было понять, почему, допустим, о покойном президенте Рузвельте, о его нелегкой физической немощности и далеко не светлой его деятельности были опубликованы сотни монографий и художественных произведений, часто взаимно исключающих друг друга, а о современнике Рузвельта тоже давно покойном Сталине, о его личности не появилось ни одного всеобъемлющего обобщающе-объективного научного исследования; все подлинно достоверное о нем продолжало оставаться за семью печатями. Мало того, отсветы этой трагически-преступной исторической личности нет-нет да и промелькнут на том или ином, ныне здравствующем первом лице государства; и порой потусторонний отсвет придаст живой и теплой до сего времени физиономии фантастическую разукрашенность и нелепость, и она тут же начинает канонизироваться и возводиться слаженным многоголосым хором в степень божества.
Являясь по природе своей умеренным скептиком, Шалентьев не видел в своих мыслях ничего предосудительного; на его посту здоровое критическое начало лишь помогало душевному равновесию; ему необходимо было верить в некую самоохранительную и руководящую формулу, заложенную природой в человеческий разум, даже несмотря на изрядные успехи геронтологии в продлении человеческой жизни. Он верил и говорил себе, что если человечество однажды сгорит, то он в этом не будет виноват, даже наоборот.
Покосившись на пасынка, Шалентьев заставил себя уйти от ненужных и опасных абстракций и сосредоточиться на более понятных и необходимых вещах; жизнь не терпела шаблона, и отцы, сталкиваясь подчас с непредсказуемыми бунтами сыновей, не могут ничего понять. Отодвигая носком кроссовок от себя подальше красноватый, обкатанный прибоем за миллионы лет камень, он заворочался и уже открыл было рот, намереваясь спросить пасынка о тревожащих его проблемах, но тот, безошибочно угадывая момент, опередил.
— Знаете, Константин Кузьмич, — сказал Петя с блестящими от молодости и своей решимости глазами, — знаете, разговор уже состоялся. Больше никакого разговора не надо. Я видел — там внизу ничего не осталось, тайга, земля, камень… Я еще не понимаю, что же я точно узнал и что во мне переменилось… Не хочу торопиться…
— Тебе, быть может, и не надо, а мне? — спросил Шалентьев с легкой усмешкой. — Мне казалось, ты хотел говорить со мной; ведь и ты что-то значишь в моей жизни… Или я ошибаюсь? Если так, что ж, я понимаю… У тебя впереди вечность, поступай как знаешь, если тебе что-то мешает…
— Нет, почему же! — возразил Петя все с тем же ясным незамутненным выражением лица и рассказал о встрече с Козловским, о его трагической судьбе, каким-то фантастическим образом переплетшейся через отца с жизненным путем его самого; о перевернувшей все привычные мерки смерти Козловского; тут он, с самого начала приказавший самому себе оставаться спокойным и даже невозмутимым, оборвал; что-то опять его остановило. Он не мог рассказать отчиму абсолютно всего, он это ясно почувствовал; что-то мешало пойти до самого конца, до донышка души.
— Я не герой, — помолчав, сказал он мрачно. — Обыкновенный человек, живущий по закону большинства. И этим все сказано. Обыкновенный. Это я здесь понял. Мог и не рождаться, ничего бы не изменилось. Самый обыкновенный. Буду работать… Надо делать свое дело и не мешаться под ногами у других… Никак вот машину для филиала не выколотим… Упирается все в этого нашего Малоярцева… нам нужна машина третьего поколения, а он на все лапу наложил… Какая там экология! Его, по-моему, зачинали искусственным путем в стерильной пробирке, вот он начисто и лишен самого элементарного в человеке… Нет, Константин Кузьмич, я не страдалец, мне вычислительная машина нужна, хочу материал для диссертации добрать… защититься мне, черт возьми, надо, денег никогда не хватает… жениться вот хочу!
— Эк тебя прорвало! Подожди, не все сразу. Давай по порядку, — с легкой иронией одобрил Шалентьев. — Ты просто взрослеешь, Петр. Говорят, мужики до тридцати лет растут… а? Хорошо!
— Думаю, Константин Кузьмич, каждому надо начинать с самого себя. Определить для самого себя цель. Что же делать, если все сгнило, остались одни лозунги… Никто же ничему не верит…
— А вот это зря! Оттого, что грязные руки захватали, запачкали нашу идею, суть ее не изменилась. Лучшего человечество пока ничего не придумало, да и вряд ли придумает в ближайшее тысячелетие!
— Хотел бы верить так, как вы, Константин Кузьмич, — задумчиво сказал Петя.
— А без веры нельзя жить. Другого пути у человечества нет. Без веры в необходимость разума, добра человечество самоуничтожится. Осталось недолго. Мне тоже многое не нравится, нужна очистительная метла. Я знаю только один путь: нужно работать, нужно работать, работать, работать, всем и каждому над собой, улучшать себя и общество в целом…
Тут Шалентьев ясно представил себе свое возвращение в Москву, объяснительную записку и реакцию Малоярцева, почти физически ощутил на себе тусклый взгляд уже отрешившегося от жизни человека, но продолжающего нести ее главные функции, — понуждаемого чужой, непреклонной волей составившегося долгими годами безжалостного окружения; Шалентьев ясно представил себе, как заработает этот идеально отлаженный механизм, немедленно избавляющийся от малейшего отклонения от трафарета, от любой посторонней примеси…
— Рядом с тобой вон какая глыбища — Обухов… Он сейчас в опале, по сути дела, изгнан из Москвы, в академии о нем слышать не могут, но ведь открытий его не закроешь… Считай счастливым билетом, который ты случайно вытянул, что тебя прибило именно к нему. Потом ему будут ставить памятники, восторгаться — у нас это умеют! Сколько он крови и мне, и твоему отцу попортил, да что — нам, самому Малоярцеву! — неожиданно весело сказал Шалентьев. — Ого! Однако — человечище! Не уважать его просто нельзя… А твой отец! Я хорошо знал Тихона Ивановича, Петр… Тебя мучает степень вины твоего отца в судьбе Козловского… Но ты должен понять, для политика вообще ни принципов, ни совести, ни других подобных расплывчатых вещей попросту не существует, идеальная власть невозможна, всегда будут издержки. Отец твой стремился к тому, чтобы их было меньше. Если бы не было таких людей, как твой отец, жизнь вообще превратилась бы в кошмар, в хаос… Памяти твоего отца тебе стыдиться не надо…
Петя слушал, не поднимая глаз; он бы, если бы даже очень захотел, не смог бы сейчас взглянуть в лицо отчима; стараясь уйти от лишних объяснений, он ворошил у своих ног мелкую, разноцветную с частыми вкраплинами слюды, гальку. Никто не мог постичь и объяснить начала и завершения, и человек, сам того не осознавая, продолжал жить и действовать по законам космоса; непреоборимая сила вела его все дальше и дальше, приговорив к вечному закону движения в противостоянии противоположных начал, вплоть до самоубийства, до взаимоуничтожения; и даже, казалось бы, сугубо человеческий, сугубо трагический закон знания был заложен и развивался по непреложному пути самой природой космоса, опять-таки до самоуничтожения…
Ожидая, Шалентьев глядел на пасынка, и тот, указывая на сопки, на бухту, на притаившийся в распадке городок, плотно укутанный сейчас предвечерней, первозданной тишиной, и почему-то понижая голос, спросил:
— Константин Кузьмич… это, ну, что затаилось здесь… ведь когда-то оно может сорваться, зарычать, завыть… полететь? Или все-таки это бессмысленная жестокая игра, мираж… нужный немногим избранным, так сказать, посвященным, всего лишь для власти над многими?
На разноцветную гальку, шурша ею, равномерно накатывала прозрачная, во весь берег, длинная волна; Шалентьев долго молчал, неотрывно глядел куда-то на противоположный, еле угадывающийся в сиреневой дымке берег бухты.
— Нет, Петр, не избранным, всем это нужно, просто нужно для сохранения жизни. Знаешь, я практик, теоретика из меня не получилось. Но я уверен, тотальная война невозможна, — буднично сказал он наконец. — Я слишком хорошо знаю право сильного — мы должны быть готовы к войне. Только я хотел бы дожить… а если все-таки случится, мы не имеем права опоздать с ответом. Не знаю почему, но успеть мы должны… Вот и все. Мне теперь порой начинает казаться, что какой-нибудь дьявол существует и с большим любопытством следит за всеми нами… Я порой даже начинаю различать перед собой его ехидную рожу, слышу его трескучий, издевательский хохот… Вот и ты на меня сейчас как смотришь… Ладно… Пройдет! Все пройдет… Только не пытайся совсем уж обессмыслить жизнь отца, да и мою тоже… Какой-то смысл в нашем деле все-таки был и есть.
Больше они не разговаривали и вернулись в городок молча, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами; с океана шли сумерки и слышался низкий, тяжелый гул.
12
Малоярцев действительно почти ничего не решал сам непосредственно, ему достаточно было лишь выразить свое отношение к складывающейся ситуации, к тому или иному вопросу — и его заместители, референты, помощники, секретари тут же улавливали главное, уясняли и запускали отлаженную машину; все остальное происходило и решалось как бы само собой, но происходило и решалось только так, как хотел того Малоярцев. Иначе возглавлять, направлять и контролировать важнейшее государственное дело и долго оставаться во главе его было просто невозможно. Малоярцев никогда не забывал о своем рабочем происхождении и любил при всяком удобном случае рассказать об отце, о том, как отец его, столяр, известный на весь уезд мастер (которою иногда даже приглашали реставрировать дорогую мебель в губернский город) приохотил его к труду, к мастерству, к чудесному запаху дерева, смолистого, напоминающего целебный настой — липового, отдающего недозрелым антоновским яблоком, и красного дерева, заморского, с его тонкими, почти неуловимыми запахами далекой, неизвестной, нездешней жизни; запах именно запах смолистых стружек часто снился Малоярцеву в продолжение всей жизни и особенно когда вплотную подступила старость и стали исподволь подкрадываться болезни и мысли о неизбежной, неотвратимо приближающейся смерти. Малоярцев давно уже не помнил ни отца, ни его сильных рук с задубевшей кожей ладоней, о которых он часто рассказывал; он давно забыл и небольшое местечко в предуральских, тогда еще густых лесах, где родился, и лишь запах свежего дерева, неповторимый аромат смолистой сосновой стружки особенно в последние годы все усиливался во сне. Где-то, тайно даже для себя, Малоярцев знал, что, когда появится вкус смолистой стружки, разольется во рту ее терпкая, слегка вяжущая горечь, его, Малоярцева, трудное земное странствие завершится; он, естественно, ни с кем не делился этими своими мыслями, ему нравилось, просыпаясь ночами, представлять себе свой последний час, растерянность друзей и близких, весь дальнейший маскарад прощания и затем последнее прибежище после своего столь долгого и бурного, наполненного скрытыми страстями, взлетами и падениями пути, и на вялых губах у него блуждала тихая, прощающая улыбка. Он хорошо знал человеческую породу, знал свое место и положение в той служебной иерархии, весьма сложной, пирамидой всегда возвышающейся над простой, естественной жизнью и безапелляционно полагающей, что именно она определяет жизнь и управляет ею, и мог позволить себе по вечерам, оставшись один, пофилософствовать, находя в этом утешение и оправдание собственным делам и поступкам за бесконечный и утомительный день; он все больше дорожил теперь вечерними часами одиночества; вот и сегодня, если не считать обстоятельного и не совсем приятного доклада Лаченкова, вернувшегося из командировки, день прошел сравнительно гладко, и он лег в постель ровно в одиннадцать; на этом настаивали врачи. Жена, излишне рыхлая, не любившая движения и весьма активно боровшаяся с подступающей старостью и болезнями, пришла проститься перед сном в длинной ночной сорочке, расшитой по вороту и подолу шелком; она присела на край кровати, тяжело наклонилась, с легким вздохом поцеловала Малоярцева; во избежание ненужного объяснения и даже препирательств, он, отвечая, вяло шевельнул губами.
— Как, Боренька, мы себя чувствуем сегодня? — спросила она, подчеркивая свою заботу о нем, и прикоснулась к его лбу сухой, горячей ладонью, знакомо пахшей сладковатыми духами.
— Хорошо, хорошо, — сказал он, вынужденно выполняя эту каждодневную церемонию и не скрывая легкого оттенка раздражения; не принимая его настроения, жена заученно улыбнулась, дрогнули одутловатые щеки, и разговор их был закончен до следующего вечера, хотя Малоярцев видел, что жена хочет сообщить ему какую-то не совсем, очевидно, приятную новость; они так долго были вместе, что теперь просто читали мысли друг друга; Малоярцев знал также, что жена, в нарушение — установившегося между ними негласною уговора — никогда перед сном не говорить о делах, ждет его разрешения или хотя бы молчаливого согласия на вопрос с ее стороны. Малоярцев промолчал, и она, подождав еще немного, молча выключила верхний свет. Он лежал и смотрел перед собой; жена еще надеялась, что он окликнет ее, и медлила, оправляя завернувшуюся штору. Он лежал, не шевелясь, прямо глядя перед собой, и она, все так же неслышно ступая, бесшумно притворила за собой дверь. И тогда он почувствовал облегчение и как-то сразу успокоился. Кровать в его спальне была строгой, чуть шире обыкновенной солдатской, по стенам в скупом нижнем свете проступало несколько еле угадывающихся сейчас гравюр, и только стая разноцветных телефонов на приземистом просторном столе и особый аппарат, закодированный на мгновенную связь со строго ограниченным кругом лиц в случае необходимости, указывали на обособленное положение обитающего здесь человека. От телефонов, плохо различимых сейчас в полумраке, всегда исходило ощущение тяжести их присутствия рядом, вернее, ощущение их возможности в любое мгновение дня и ночи разбудить спокойное, размеренное течение жизни и сделать ее невыносимой. Привыкнуть к этому он так и не смог, о присутствии телефона он не забывал никогда, даже во сне. Повернувшись на бок, он потянулся выключить свет, рука его остановилась на полпути, затем безвольно упала. Он внезапно и, самое главное, безошибочно почувствовал, что пришедшая ночь не принесет ему ни успокоения, ни отдыха; разговор с Лаченковым не мог пройти бесследно, сделал свое, хрупкое равновесие нарушилось, и теперь никакие снотворные не помогут. Вернее, нужное их количество просто невозможно проглотить, завтра ряд важных дел и встреч, и нельзя быть уж совсем дураком, с тупой чугунной головой. И тогда что-то темное, мохнатое, вызывающее легкое чувство подташнивания, пришло и поселилось в нем, постепенно заполняя все его существо и вытесняя последние остатки спокойствия и трудного душевного равновесия. И он обреченно прикрыл глаза; свет нельзя было гасить, он уже по собственному опыту знал, что в темноте началась бы совершеннейшая чепуха. Защищаясь, он сложил вялые губы в гримасу, должную означать пренебрежительную усмешку к происходящему, к себе, к своему состоянию, вообще ко всему миру, ведь по сути дела ничего важнее рождения и смерти и короткого пробега между этими двумя рубежами не было и быть не могло. Какой бы власти и положения ни достиг человек, ему не избежать ухода; природа мудра, она пресекает жизнь человека на самой критической точке, в момент, когда его жизнь становится ядовитой и человек начинает отравлять не только себя, но и все вокруг. Тогда всевидящий, вездесущий судья приходит и, глядя в глаза своей очередной жертве, обрывает истончившуюся нить. И в чем же состоит в такой, именно в такой момент смысл и достоинство человека? Нащупать роковую кнопку и вместе с собой взорвать мир? Благо, такая возможность, если ее подготовить, кое у кого теперь есть… Или молча и покорно ждать и безропотно уйти, как уходит трава под снег или как умирает не подозревающее о смерти животное? Или метаться, выть и стонать на весь божий мир; да, да, возможен и такой выход — ведь у смерти тысячи ликов, и ни одна смерть не похожа на другую.
Малоярцев тяжело повернулся на бок, затем опять на спину: как-то неловко думать о вечном, о космических категориях и лежать на боку; просто смешно. Предстояла бесконечно длинная бессонная ночь, и нужно набраться терпения, в конце концов когда-нибудь же наступит утро. Каждый проживает свою жизнь, мир существует лишь потому, что есть он сам, индивидуум, и каждому важен именно он сам, его желания, иногда стыдные и порочные, его биологический и социальный опыт, и даже вот это бренное, давно начавшее разрушаться тело, пожалуй, это бренное, слабое тело — больше всего. Наедине с собой можно в этом и сознаться; устраиваясь удобнее, он опять заворочался и почувствовал неприятную, сосущую тяжесть в желудке; он стал вспоминать, что подавали на ужин. Ну да, конечно, ему настойчиво посоветовали съесть несколько ломтиков ананаса, а свежие фрукты впрок ему давно уже не шли; как же он не воспротивился и так опростоволосился? Совсем распустились, никто не хочет работать, выполнять положенное; нет, нет, в демократию с людьми играть не приходится, тут же тебе и на шею сядут, никакого сладу с этим народом. Если рассчитывать, то только на самого себя… Разумеется, врач могла бы и остановить, надо присмотреться к ней повнимательнее… Необходимо исключить возможность ошибки. Здоровье человека, взвалившего на себя такую непосильную ношу, тоже не шуточное дело! А ей-то что? — тотчас с раздражением спросил он себя, и густые пышные брови его сошлись в сплошную линию. Все-таки он был реалистом и остается им, и нечего валить с больной головы на здоровую. Так уж устроено: все когда-нибудь кончается, и этого нельзя переменить, надо прямо и бесстрашно глядеть в глаза предстоящему и честно сказать себе, что придет время — и свершится непреложный закон жизни: ты перестанешь существовать. Никакой врач ничего здесь сделать не может, страх перед свежими фруктами — всего лишь попытка обмануть себя… Глупо, смешно и стыдно, и никакие массажи, никакие травы, снадобья и целебные источники не помогут, строжайшая диета тоже…
И тут Малоярцев ощутил нечто совсем уж странное, и теперь совершенно замер, прислушиваясь к себе; он даже дыхание задержал. Его неприятно поразила необычная ясность мысли, какое-то отрешение от себя и от этого — облегчение и даже опустошение. «И хорошо, и хорошо!» — сказал он, с легким всхлипом втягивая в себя воздух, и тут же на лице его, привыкшем к неустанному самоконтролю, за долгие годы ставшем неотъемлемой его маской, пробилась слабая размягченность; казалось, вся его жизнь, все его прошлое и настоящее собралось и переплелось в один узел, сосредоточилось в одном моменте и, самое главное, теперь он не боялся предстоящего, вернее, думал, что не боялся: в нем началась и все время усиливалась непривычная, изматывающая, в то же время необходимая внутренняя работа; он совершенно забыл, что все началось со съеденных по недосмотру врача немудрящих свежих ананасов; теперь его мучила мысль о бесполезности и ненужности своей жизни, о никчемности всего прожитого, и это открылось ему и открывалось все больше в беспощадной наготе и беспомощности и заслоняло остальные его страхи и переживания. Он не верил этому и не мог поверить; согласиться с этим — значило бы немедленно умереть. И в самом деле, не мог он, прожив такую длинную, бурную, полную потрясений жизнь, прожить ее совсем уж бесполезно; так не бывает. Просто в механизме жизни что-то сломалось, и она шла не так, как ей надобно бы идти, чтобы все закончилось в свой срок, естественно и просто. Оп устал, устает ведь и металл; но ведь заяви он завтра о своей усталости и желании уйти на покой, на заслуженный, как принято сейчас говорить, отдых, сбросить с себя непосильную ношу — уйти ему по-хорошему не дадут, и просто даже отойти на время, взглянуть на все со стороны не дадут. Что тут подымется, какой шабаш; он причмокнул вялыми губами, прогоняя подленькую, тщеславную мыслишку о своей значимости; чего уж подличать перед самим собой! А почему, собственно, нельзя завтра решительно и бесповоротно заявить о своем уходе, о том, что он уже не может и не должен возглавлять большое и важное дело, что ему хочется просто отдохнуть, обрести наконец право распоряжаться собой, привести наконец в порядок свои записки, воспоминания, не те, которые за него пишут, а свои, личные, выстраданные, накопленные долгим опытом жизни и партийной борьбы, что люди с их нескончаемыми делами, заботами, требованиями ему смертельно надоели и надо давно решиться и отойти в сторону. В конце концов, он даже заслужил отдых и покой перед смертью, он ведь тоже всего только человек, и ему тоже хочется обыкновенных человеческих радостей; он представил себе, как сходит с поезда на родном полустанке Чугуево, и никто его не встречает, и вокруг занятые каждый своим, не знающие его люди, и он совершенно свободен и один, один, и может идти куда хочет и делать что хочет…
Подтянувшись к спинке кровати слабым движением обеих рук, Малоярцев опять невольно пожевал пересохшими губами, в питье его ограничивали — барахлили почки; Да, завтра он настоит на своем отпуске, пусть недельном. Стать хоть ненадолго, хоть на одну неделю обычным смертным, простым естественным человеком, со всеми присущими ему радостями, слабостями и печалями; он на минуту озадачился, куда он, собственно, направится и что станет делать, приехав в Чугуево, и растревоженная память тотчас услужливо подсказала ему, что он всего лишь отыщет тот дом или хотя бы то место, где стоял дом отца, место своего рождения; неожиданно болезненно ярко он вспомнил холодный, просторный сарай с длинным, крепким верстаком, переплеты желтоватых рам, прислоненные к стеве, аккуратно сложенные там же, у стены, заготовки для различных столярных и плотничьих работ и изделий, стружки, сдвинутые в сторону от верстака, и неповторимый запах свежего, чистого, сухого дерева, еще более усиливавшийся и приобретавший резковатый вкус от гревшегося на печурке в жестянке и слегка парившего столярного клея…
Отец представился смутно и как-то нереально, в брезентовом, заляпанном лаками и клеем фартуке, с головой, перевязанной, чтобы не мешали пышные русые космы, засаленной тесемкой, и вроде бы чем-то недовольный; от неожиданности и ясности прошлого, проступившего как бы в нем самом, Малоярцев больше и больше утверждался и укреплялся в своем решении; перед ним, весь в изумрудной молодой зелени, явился берег речки, и в просвете в густых зеленых кустах — голая девичья фигура, совсем рядом — протяни руку и коснешься почти светящейся кожи, небольшой, с темными сосками груди, заставившей во рту пересохнуть, вспомнил и свой зачарованный, блуждающий и в то же время бесстыдный подробный взгляд на ничего не подозревающую, только что вышедшую из воды девушку и привычными, спокойными движениями отжимавшую длинные волосы; ничего не упустил этот жадный взгляд, ощупавший с головы до самых ног все расцветшее в светлых капельках сбегавшей воды девичье тело; небольшая, в горошину величиной, коричневая родинка под грудью особенно его поразила, и он почувствовал сухой, поплывший перед глазами туман и опустился на землю; он не мог дальше просто смотреть и ничего не делать; а что можно было сделать, он еще не знал, скорее всего, просто боялся. Если бы так продолжалось и дальше, с ним могло случиться что-то совсем уж плохое, и он с горящим, пропадающим сердцем прижался к земле, а когда неожиданный обморок прошел, на берегу уже не было ни души, и все тело у него стало ватным, неровным, и даже слегка подташнивало. Встряхивая головой, пересиливая себя, он разделся и, бросившись в прохладную, чистую воду, долго нырял и плавал.
От далекого воспоминания он еще острее почувствовал свое ставшее уже привычным равнодушие, безразличие ко всему; конечно, все уже прошло, сказал он себе, и ждать больше нечего, теперь нужно лишь не раскисать и честно глядеть в глаза предстоящему, встретить его достойно. Жаль, конечно, что все в мире так нелепо устроено, жаль уходить, жил, работал, как вол, всю жизнь куда-то карабкался, не видел света Божьего, и вот теперь придет другой, молодой, жадный, без всякого усилия отодвинет в сторону и станет на его место, на готовенькое, и опять начнется новый круг, новая стезя. Жаль, конечно, очень жаль. Но раз ничего иного нет и не предвидится, нужно уметь заставить себя подчиниться.
Блеклые губы Малоярцева раздвинулись в усмешке; оп представил, какая буря поднимется, когда он заявит о своей отставке, какие безжалостные, маленькие, злые сделаются глаза у жены, собравшей вокруг прожорливый клан родственников, друзей и просто прихлебателей и давно уже перепутавшей, где проходит черта дозволенного, кончается свое и начинается государственное. Он затаился: да, самой непреодолимой преградой для задуманного будет жена; вот уж где придется выдержать характер!
Он окончательно затих: слишком хорошо знал, что стоит за женой и за ее окружением, и даже если ему достанет решимости настоять на своем, его просто раздавят, и первой на это пойдет именно она, женщина, в которую он когда-то был, кажется, без памяти влюблен, а теперь это — грузная, приземистая, властная, жадная старуха, привыкшая, пользуясь его положением, ни в чем себе не отказывать, устраивать на выгодные места бесчисленных племянников и племянниц и даже позволяющая себе, как шептались за его спиной, покупать любовников…
Вновь мелькнула слабодушная мысль о своей несвободе, о неспособности совершить хотя бы этот маленький самостоятельный шаг. Голова оставалась холодной, мозг продолжал все бесстрастно рассчитывать; своей головой он мог гордиться. Он ведь никогда не забывал, как и на ком женился, вернее, на ком его женили, пусть даже с его согласия, в двадцать лет она была, надо признать, хороша: высокая, рыжеволосая, вся огонь и движение — вот только куда все это делось? Действительно, куда? А впрочем, и об этом рассуждать незачем, если бы он даже попытался забыть, ему тут же бы напомнили; он должен был неукоснительно выполнять свое, раз и навсегда вмененное ему в обязанность, и за это ему многое полагалось, в том числе и вольности в интимной, мужской жизни, когда ему попадала (и не раз!) вожжа под хвост, и видимость огромной власти… Диапазон был необозрим; сам он никогда не пытался представить себе его во всем объеме, да и сейчас не представляет. Скорее всего, ни одна власть, теоретически даже самая прогрессивная и гуманная, не может обойтись без этих уродливых наростов, появляющихся само собой из здорового организма, как появилась его жена, создавшая вокруг него, а следовательно, вокруг громадного государственного механизма, пошлое, паразитическое окружение, в конце концов, подточившее и разложившее его самого.
Мыслей было много, непривычных и горьких; он то закрывал глаза и начинал дремать, то вновь вздрагивал и просыпался, он не мог толком потом понять, то ли явь это была, то ли душный кошмар, когда он в мучительном приступе сердцебиения потерял сознание и умер, и увидел собственные похороны; гроб его везли на лафете, и широкое неподвижное лицо его, с закрытыми глазами, застывшим большим носом, обращенное к низкому небу, хотя и принадлежало ему, Борису Андреевичу Малоярцеву, было совершенно чужим; Малоярцев знал, что это его лицо, но не узнавал себя. Звезды, ордена и медали, свои и иностранные, несли длинной вереницей генералы, венкам не было числа; всех подобающим образом окутывали скорбь и печаль, и только на его лице проступили сейчас все тайные пороки и страсти, умело скрываемые им при жизни; украдкой взглянув в лицо жены сбоку, он содрогнулся. Нос у нее еще больше выдался, в припухших глазах-щелках блуждали темные злые огоньки, один уголок рта приподнялся, второй слегка опустился; она сейчас напоминала голодную старую птицу, упустившую добычу. И сердце Малоярцева мстительно забилось; только теперь он понял, до какой степени всю жизнь ненавидел и боялся эту женщину. И больше всего, пожалуй, потрясло Малоярцева другое: рядом с женой, придерживая ее за локоть, опустив голову, шел высокий, молодой еще мужчина, и Малоярцев, присмотревшись, узнал в нем сына, погибшего при неизвестных обстоятельствах уже лет тридцать назад; Малоярцеву точно не сообщили причин его смерти, вернее, он никогда и не пытался их узнать, инстинктивно боялся этого, и вот сейчас, увидев близкое, с опущенными глазами, лицо сына, Малоярцев молча заплакал. Непонятная, загадочная смерть сына, причин которой он, занятый, как всегда, неотложными государственными делами и партийной борьбой, в общем-то так и не доискался, была его самым непростительным преступлением. И тогда в гулкой пустоте сердца он почувствовал на себе взгляд сына, оставившего мать, подошедшего к гробу и склонившегося над ним. И Малоярцев не выдержал, с каменным усилием приподнял веки, и глаза их встретились. И губы сына дрогнули и скривились в вынужденной полуулыбке-полуусмешке. «Ну что же, — спросил сын, — ты получил от жизни все, что хотел? Ты доволен?»
«Не спрашивай, — ответил Малоярцев, чувствуя не проявленную при жизни и только сейчас проснувшуюся отцовскую нежность и поражаясь остроте незнакомого чувства; оно почти погасило его мозг, отдавшись в нем острейшей болью, — так захотелось поднять каменную руку и хотя бы слегка прикоснуться к лицу сына. — Не спрашивай… мне нечего тебе ответить, мне очень плохо… Я виноват перед тобой, Игорь, очень виноват…»
«Брось, отец, — усмешка исчезла с твердых, по-молодому резко очерченных губ сына. — Мы все перед кем-нибудь виноваты, родились вот и потребовали свое, вот уже и виноваты… Я ведь знаю, это с твоего молчаливого согласия меня убили… Теперь ведь уже все равно, ничего не переменишь, о чем говорить… Мне очень тебя жаль… тебек до самого конца будет невыносимо жить… и еще невыносимее тебе будет умирать…»
«О чем ты, Игорь?» — затосковал Малоярцев, каменным, безмерным, разрушающим усилием воли все-таки поднимая руку и касаясь пальцами тугой и прохладной щеки сына и чувствуя это прикосновение как опять ударившую по всему телу, в ноги, в грудь, мозг острую, нестерпимую боль.
«Я о жизни и о вине перед нею», — ответил сын.
«Я ничего не понимаю, — сознался Малоярцев. — Ты стал умным…»
Сын ничего больше не сказал, и лицо его отдалилось; вновь мир заслонила скорбная музыка, и четкий, беспощадно размеренный и неумолимый шаг почетного эскорта, вышагивающего по сторонам медленно движущегося лафета с гробом, утопавшим в живых, на всякий случай и сейчас стерильно обезвреженных, без малейшего запаха, белых цветах; Малоярцев никогда не видел таких. И тут он заметил, что траурная процессия движется каким-то непривычным путем; когда она свернула в сторону от Красной площади, он из-за разговора с сыном не заметил. Он попытался запротестовать и сразу увидел жену, ее ожесточенные, непрощающие глаза.
«Все правильно, — говорила она какому-то высокому человеку с мрачным и брезгливым лицом. — Какая ему Красная площадь? Ему хватит и Ваганькова, да и то чересчур! Продолжать движение как приказано!»
«Что ты мелешь? — попытался урезонить жену Малоярцев. — Столько работать — и Ваганьково? Где же справедливость?»
«Ты умер, так лежи молча, — повысила голос жена. — Много вас найдется командовать. Смалодушничал, не выполнил возлагаемых на тебя надежд — получай по заслугам! Продолжать движение! На Ваганьково!»
Не выдержав, Малоярцев проснулся; сердце колотилось, губы пересохли и потрескались; торопливо, помогая себе руками, он сел и долго приходил в себя. «Что за чушь может присниться! — говорил он. — Откуда, ах ты, Боже мой… Боже мой… чего только в человеке не наворочено? Столько гадости… Надо переключиться на что-нибудь положительное, иначе произойдет какая-нибудь новая пакость…»
Ум его заметался, отыскивая выход, сердце нещадно стучало; ненавистное, отвратительное лицо жены стояло перед глазами, преследовало, и весь гнев Малоярцева обратился против нее; тотчас ему припомнилась ее недавняя, нелепая затея заниматься оздоровительным бегом на отдыхе в Крыму; развращенная беззаботной жизнью, располневшая, ленивая во всем, что не касалось главного — надзора за мужем, она словно преобразилась, стала каждое утро поднимать его ни свет ни заря, и они вдвоем бежали вдоль высокой изгороди, по самому длинному маршруту, да она еще и приговаривала, задыхаясь и обливаясь липким потом: «Веселей, Боренька, веселей! Ать, два! Ать, два»; за ними в отдалении, костеря их в душе, трусцой следовали два охранника; Малоярцев как-то случайно услышал, как один из этих парней назвал жену «железной кобылой» и пожелал ей таких реальных и немыслимых благ, что Малоярцев проникся к этому парню самой дружеской симпатией, и после этого ему даже стало веселев и свободнее бегать. Дотянувшись до стоявшего на столике у изголовья высокого стакана, накрытого салфеткой, он глотнул воды; и хотя было рано, часов пять утра, он и не пытался вновь заснуть, лежал, вяло листал последний номер американского журнала «Бизнес уик», посвященный почти целиком якобы весьма вольному прогнозированию развития военных систем на ближайшее десятилетие; читал он почти бегло, но сейчас в голову ничего не шло, он не понимал значения самых простейших слов, и наконец, в сердцах оставив журнал, молча смотрел в потолок. И вот в этот самый неподходящий момент вновь нехорошо стукнуло сердце, распахнулась какая-то безжалостная даль, разметались потолки и стены, и он увидел себя без всех своих атрибутов, регалий, без почтительного многочисленного окружения, готового на ходу ловить его любую благоглупость и тут же провозгласить ее откровением; распахнулась безжалостная даль, и он увидел себя на самом краю жизни, жалкого, немощного и лживого, всю жизнь говорящего одно, а делающего другое; он был настолько мерзок и двоедушен, что вначале не узнал себя, ему сделалось страшно узнать себя. Но это был он. И тут перед ним понеслась нескончаемая вереница лиц, напрасно им загубленных, тех, кого нужно было поддержать и выделить, потому что они могли бы составить гордость своего народа, гордость России, и всеми правдами и неправдами отодвинутых в тень, затравленных, отчаявшихся, спившихся, сошедших с ума… Конечно же, конечно, он свинья, подлая свинья, на народ ему наплевать, он давно забыл, что это такое — какой-то народ… Свинья! Какая свинья! Он едва удержал крик, распяливший его рот с рядом золотых зубов, облицованных фарфором. «Нет, нет, нет, нет! — закричал в нем тяжкий и страшный голос. — Этого ничего не было, это не могло быть, просто это ночь такая, кошмар, безумие!» Нужно взять себя в руки, ничего изменить нельзя, так устроена жизнь, и ему все равно до конца придется думать одно, а говорить другое, страстно хотелось на все наплевать и сделать по велению собственной души — и никогда не осмелится на это, как с тем же Шалентьевым… Ведь отлично известно, что в истории с этим Обуховым, возомнившим о себе черт знает что — всему начало Брюханов, ну а расхлебывать придется Шалентьеву, и сам он, Малоярцев, пальцем не пошевелит, чтобы изменить положение, и не потому, что он несправедлив; просто в создавшейся ситуации иначе нельзя; что для этой безжалостной машины судьба какого-нибудь Шалентьева, пусть он хоть семи пядей во лбу?
На работу, даже после парикмахера, врача и массажиста, он приехал вялый и бледный, с отвращением думая о долгом и нудном дне, о собственной бесполезности и никчемности в жизни, и его плохое самочувствие было всеми замечено, только никто не решился этого показать, тем более выказать какое-либо участие. И это окончательно привело его в состояние ипохондрии: увидев перед собой Лаченкова и рядом с ним Шалентьева, которым сам же назначил время, вспоминая, зачем они сейчас явились, долго недоуменно смотрел на них, с трудом подавляя готовое прорваться раздражение и гнев, затем скупо пригласил их проходить и садиться, жалея себя за необходимость сдерживаться, проявлять интерес, осведомленность, и заинтересованность в деле, совершенно ему безразличном, продолжать чувствовать себя частью хорошо отлаженной безостановочной и неумолимой машины; коротко взглянув в непроницаемое лицо Шалентьева, он перевел взгляд на Лаченкова и повторил приглашение садиться; во рту появился сырой привкус свежих ананасов. Он уже заранее все прикинул, распланировал и принял решение; он знал Шалентьева давно, знал его возможности, связи, и указать ему его место, дать почувствовать разницу между ними не представлялось сейчас возможности. Однако он не собирался терпеть своеволия у кого бы то ни было, в том числе и проявления неожиданной принципиальности, вредившей большому государственному делу, и никакого прекраснодушия быть здесь не могло. Тем более что три дня назад состоялся разговор на самом верху, и было решено ввести для дезинформации еще несколько, мягко говоря, не готовых объектов; дело заключалось в ином. Поступок Шалентьева просто привлек к нему более пристальное внимание, появилась необходимость присмотреться к нему поглубже и решить окончательно, и об этом, конечно, никто не должен знать или хотя бы подозревать — ни сам Шалентьев, ни Лаченков, ни другие. Это золотое правило любого крупного деятеля выверено не одним тысячелетием, оно не раз выручало, действовало безотказно, и все же в Шалентьеве сегодня что-то раздражало, вот только что — определить было трудно. Одинаково внимательно и спокойно выслушав и своего эксперта Лаченкова, уже привыкшего взваливать на себя и вытягивать самые трудные и сложные дела, и Шалентьева, Малоярцев сделал вид, что на минуту задумался, затем, не говоря ни слова о своем отношении к услышанному, приветливо и поощряюще и в то же время по привычке слепо поглядел в узкое, худое лицо эксперта, пытавшегося быть приветливым, и отпустил его. Лаченков, тот самый человек, ставший почти механическим придатком к хозяину, через который до Малоярцева доходило малейшее дуновение внешнего, как правило, враждебного мира, хорошо знавший положение дел во всей обширной епархии Малоярцева и сейчас крайне заинтригованный и даже озадаченный, однако безошибочно чувствовавший ситуацию, не позволил себе хотя бы намека на проявление какого-либо чувства; лишь губы у него помимо воли сложились в подобие слабой улыбки, тотчас отмеченной Шалентьевым как некий предупреждающий знак неведомой и близкой опасности. Попрощавшись с Лаченковым с тайной благодарностью и ожидая, пока вставший из-за стола Малоярцев, разминаясь, пройдется по просторному, обитому панелями мореного дуба кабинету, Шалентьев готовился к трудному и принципиальному разговору; чувство опасности усиливалось, и исходило оно от бесшумно и неуверенно ходившего по кабинету старого и больного человека, совершенно безразличного ко всему, кроме собственного самочувствия, живущего лишь по инерции и никак не желавшего уступить место другому, более крепкому и молодому, способному полностью взвалить на свои плечи и выдержать усиливающуюся тяжесть движения, гонки, и не только выдержать, но и двигаться дальше, — и в этом заключался один из самых загадочных парадоксов времени. Стоило для этого, конечно, переворачивать мир вверх дном, ставить все на дыбы, лить столько крови. Что толку делать революции, если таков исход? Очевидно, в самом человеке, на пути его разрушительного движения природа заложила некий непреодолимый барьер; ткнула носом — и стой до поры до времени, жди неизвестно чего и зачем… И черт его понес в эту растутырицу; сидел бы себе в институте, над своей теорией магнитных полей и завихрений, глядишь, худо ли, бедно — на членкора бы и вытянул, а то и в академики бы прошел. И как ведь не хотел… поддался умелой осаде Брюханова, его заверениям — и вот результат. Дадут по шее, и ступай себе с Богом подальше… и дела жалко, вот ведь ходит это удивительное чучело, интеллигент в первом поколении, а чего он ходит? Сказал бы прямо, садись, пиши заявление… нет, ходит, ходит, показывает, насколько ему трудно что-либо решить… и в самом деле — умный человек, только пересидел самого себя, но ведь кто же это в наше время может понять?
— Вот, Константин Кузьмич, вы, вероятно, страдаете, отчаянно жалеете себя, надо думать, — заговорил Малоярцев, застав Шалентьева врасплох. — А я ведь тоже себя жалею, Константин Кузьмич, у каждого свои козыри. Что же делать? Я полностью на вашей стороне, одобряю и поддерживаю вашу принципиальность. Твердость, честность и опять — твердость! Мы с вами не в бирюльки играем, нам вверено беспрецедентное, глобальное дело, нам с вами демагогией заниматься нельзя! Вы молодец, Шалентьев! — чувствуя болезненный и ненужный приступ красноречия и понимая это, Малоярцев не хотел сдерживаться; после трудной, почти бессонной ночи требовалась разрядка. — Лаченков, со свойственным ему автоматизмом, конечно же, здесь же, здесь не прав. Подобную ситуацию в каждом отдельном случае необходимо рассматривать творчески. У меня к вам, Константин Кузьмич, более важный разговор, по поводу Зежского спецсектора… Спецгруппа, кажется, безошибочно, окончательно подтверждает расчеты? Вы ведь знаете, миллиардные затраты, и здесь немыслима малейшая неточность, не говоря уж о просчете или ошибке… Константин Кузьмич?
— Здесь абсолютно выверена любая мелочь, — сказал Шалентьев и даже вздохнул. — Так уж устроена, оказывается, земля, таковы непреложные законы ее движения… Именно эта точка понадобилась, к сожалению… К концу следующей недели на стол лягут баллистические карты…
— Почему «к сожалению»? — спросил Малоярцев с интересом. — У вас иное мнение? Какое же?
— Просто прекрасные места — эти Зежские леса, — сказал Шалентьев. — Красивее я, пожалуй, просто не знаю. Неяркое, неповторимое и русское… Жалко. У нас там уже ведутся подземные работы… И уже сколько потерь… Только начало, вы же, Борис Андреевич, как никто другой представляете размах работ… Тихие ясные речки, ручейки, озерца просто исчезнут… В тамошних местах у меня тесть живет, лесником служит, — и он помедлил, решая, стоит ли говорить дальше или пора уже сворачиваться и уходить, но Малоярцев глядел на него с живым вниманием. — Вам его фамилия, конечно же, известна, Борис Андреевич, — это Дерюгин… Помните, в одном из самых первых, так называемых энергетических экспериментов в космосе погиб его сын… очень талантливый физик.
— Как же, отлично помню! Ведь именно его идея ныне успешно разрабатывается и во многом осуществляется, — сказал Малоярцев. — И не только нами, к сожалению… Так, кажется, и называется — эффект Дерюгина? Или я ошибаюсь…
— Нет, Борис Андреевич, вы не ошибаетесь…
— Мне говорили о вашей женитьбе на вдове Брюханова, — сказал Малоярцев, подошел и сел совсем близко к Шалентьеву, за один с ним стол, — это была, конечно, тяжелая потеря… Что ж делать, жить надо… и вы правильно решили… Она — красивая женщина? Простите, если..
— Ничего, ничего, — тихо сказал Шалентьев. — И, сами понимаете, Борис Андреевич, давно вышагнул из юношеского возраста… Не знаю, красива ли моя жена, но мне с ней интересно… и когда мне хочется сойти с ума и перестать существовать, ее присутствие рядом убеждает в обратном. Кстати, все Дерюгины уникальны, выдающаяся фамилия, сам же отец совершенно уникальная личность, несомненно, целый замкнутый в себе мир, самобытный, неповторимый и независимый ни от кого и ни от чего. Он от природы выше всех. Я его сначала не понял и думал, ну, еще один доморощенный философ на завалинке, знаете, на Руси ведь никогда не переводились такие… Но в нем действительно что-то от глубинного русского характера… что-то такое медвежье, что ли… как только оказываешься рядом, сразу начинаешь уважать… Простите, что это я! — спохватился Шалентьев. — Время идет.
— Пустое, Константин Кузьмич, — остановил его Малоярцев и даже руку, худую и вялую, пододвинул по столу ближе к Шалентьеву, как бы намереваясь придержать его. — Время, время… Мы его рабы, разумеется, и все-таки… все-таки! Что такое, допустим, русский характер, вообще — русский? Что это такое? Для меня это всегда было пустым звуком; для меня жизнь строилась и строится на иных принципах. И опять — все-таки! — повторил он. — Все-таки никто ничего не знает, и того же Эйнштейна, придет время, опровергнут и вслед за тем сами блистательно ошибутся… Таков уж путь знания, и ничего переменить нельзя, Константин Кузьмич… Ведь и смерти нельзя отменить… ваш тесть, надо думать, весьма уже стар?
— Как сказать, Борис Андреевич, — ушел, хорошо зная Малоярцева и его болезненную мнительность по поводу своего возраста, от точного определения Шалентьев, пытаясь понять причину необыкновенной откровенности Малоярцева. — Ему где-то за семьдесят… мне кажется, это ни о чем не говорит. Иногда сутками не слезает с лошади на своих объездах… и так… я думаю, не чуждается ничего в жизни. Я, говорит, за время работы в лесу трех коней изъездил, ну, а вот четвертый теперь — не знаю, молодой ли… Самое удивительное, Борис Андреевич, в другом, мой тесть, я убежден, единственный в мире человек, который и в самом деле не боится жизни и даже, возможно, знает, что она такое и зачем он сам присутствует в ней.
Заметив мелькнувшее на лице хозяина кабинета недоверие, Шалентьев забарабанил пальцами по столу.
— Этого не расскажешь, Борис Андреевич, — сказал он тоном человека, готового, несмотря на сомнение, отстаивать свои слова. — С моим тестем нужно побыть рядом, больше ничего.
— Природа любит загадки, — пожевал вялыми губами Малоярцев. — Случается всякое, вероятно, ваш тесть и не боится жизни… Может быть… И сама жизнь — весьма парадоксальна… каких только неожиданностей не приберегает за пазухой… Что же? Мне, кажется, придется самому наведаться в этот спецрайон… может быть, и к вашему тестю попутно…
Шалентьев отдал должное оригинальности мысли Малоярцева, начиная томиться долгим и беспредметным разговором, и тут хозяин кабинета, еще более дружески и доверительнее потянувшись к Шалентьеву, задумчиво усмехнулся.
— Константин Кузьмич, до сих пор не понимаю — действительно ли Брюханова ввели в заблуждение относительно важности зежского спецрайона или это всего лишь сердце сыграло, так сказать, чувство к родным местам? — спросил он и, выбравшись на прямую, доверительно улыбнулся Шалентьеву, уже принявшему сигнал тревоги и теперь почти убежденному, с какой стороны повеяло опасностью и что именно во время их долгого и, казалось бы, беспредметного, ненужного разговора пытался нащупать и наконец определил для себя оказавшийся действительно дьявольски проницательным, специально подпустивший в разговор розоватой пены хозяина кабинета. И Шалентьев прямо и открыто поглядел в устремленные на него старые, уставшие, умные и беспощадные, совершенно холодные сейчас, без единого проблеска человеческого чувства глаза. Выругавшись про себя за непростительную опрометчивость, Шалентьев и бровью не шевельнул, и его все та же приветливая и ровная улыбка дала понять Малоярцеву, что перед ним достойный противник.
— На мой взгляд, Борис Андреевич, у Брюханова долг превышал все остальное, — сказал Шалентьев. — Просто еще отсутствовала общая картина, оставалось много темных пятен…
— Я так и думал, — подтвердил хозяин кабинета. — Хорошо, Константин Кузьмич, очень хорошо, наши мнения в данном… важном вопросе совпадают… а то, знаете ли…
В то же время, когда Шалентьев садился в машину, ожидавшую его у подъезда, у Малоярцева уже вновь был Лаченков; он стоял вытянувшись, что-то время от времени торопливо черкал в небольшом блокноте, поднося его близко к глазам и усиленно морща желтоватую, от неяркого освещения казавшуюся серой кожу на висках.
— Необходимо, Лаченков, и еще одно, не надо, не записывайте. Продумайте, потом посоветуемся. Зежский спецрайон… что там в действительности стряслось при Брюханове? Мне хотелось бы иметь совершенно исчерпывающую картину. Почему отложили изыскательские работы? Мне помнится, Константин Кузьмич Шалентьев уже состоял заместителем…
— Был назначен за год до этого, — подтвердил Лаченков и, почувствовав, что губы стягиваются в непроизвольную улыбку, и опасаясь озадачить и даже рассердить этим хозяина, неожиданно для себя добавил: — Конечно, вам с вашей высоты видно все, так что я здесь не рискую… Я ведь всего и знать не могу.
Не отрываясь от очередных срочных бумаг, Малоярцев отпустил его, не поднимая головы, и странная улыбка на губах Лаченкова исчезла лишь за дверьми кабинета; молодой секретарь в приемной уже ничего не заметил.
13
У Аленки выдались весьма суматошные лето и осень, и, стараясь все и везде успеть, она ничего и нигде толком не успевала и не могла успеть; близкие, интересовавшие ее люди — родственники, знакомые, коллеги — каждый из себя представлял целый мир, и за всем она просто не могла уследить. И хотя она понимала, что и сын, и дочь, теперь совершенно отделенные от нее, взрослые люди, живущие по своим законам (Аленка, если об этом заходил разговор, всякий раз утверждала, что взрослым детям нельзя мешать), сердцем она никак не могла привыкнуть к свершившемуся и где-то глубоко в душе страдала и мучилась от мысли, что дети, и особенно дочь, получились совершенно не такими, как она надеялась, и что ничего исправить уже невозможно…
Париж не произвел на нее особого впечатления; вернее, она не успела ни увидеть, ни тем более почувствовать Парижа, она лишь почувствовала всю глубину и отличие чужой, непривычной жизни через дочь и сейчас как-то отстраненно смотрела на нее, красивую, вполне независимую и гордящуюся этой своей независимостью перед матерью, своим ровным золотистым загаром, дорогим, изысканным платьем, произношением, не отличимым от парижского. И Ксения, не выказывая этого вслух, гордилась тем, что стала почти парижанкой; и на приемах, и в уличной толпе она всегда выделялась своей броской внешностью: яркая, чуть полноватая блондинка с темными непроницаемо-бархатными брюхановскими глазами. И в одежде, и в манере держаться она ненавязчиво подчеркивала нестандартность, романтичность своей красоты. При всех капризах моды она оставалась, что называется, в своем образе, сохраняя собственный, только ей присущий стиль. Вполне сознавая свою привлекательность, Ксения очень умело и с бесспорным тактом пользовалась ею; при исполнительности и вполне сносных деловых качествах мужа, выходца из потомственно-дипломатической семьи, приобретенных во французской спецшколе и Институте международных отношений, этом необходимом атрибуте кастовой аристократической среды, в которую за несколько поколений переродилась определенная часть партийно-чиновничьей верхушки, а также при устойчивых деловых связях, котирующихся значительно выше и института, и спецшколы, и собственных способностей, — этого было немало. Так что Ксения и ее муж являли собой преуспевающую пару — вполне законченный продукт современного молодого, рвущегося к власти поколения. Время, реалии жизни и постоянная занятость родителей сделали свое, и из красивой ласковой девочки, болезненно привязанной к отцу, а потому, может быть, и более избалованной, Ксения незаметно превратилась в своевольную девицу, уже на первом курсе института выскочившую замуж за такого же, как она сама, неоперившегося юнца, своего сокурсника с аристократическими замашками, дорогой проигрывающей аппаратурой и белым «мерседесом» отца (крупного физика-теоретика). То, что не успели родители в воспитании дочери, успешно доделала среда кастового, негласно закрытого для обычной молодежи учебного заведения, предназначенного для отпрысков привилегированной верхушки общества — научной, дипломатической, партийной, чиновно-бюрократической и отчасти артистическо-писательской. Родительские дачи, служебные машины, международные молодежные туристические центры загранрейсы на международные фестивали — все было к услугам этих неустоявшихся пресыщенных юнцов, уже в самом начале пути объевшихся престижными благами жизни, молодые так же быстро разбежались, как и сошлись, не оставив в душах друг друга никакого следа, и только Денис являлся немым укором бурно начавшегося сексуального взросления Ксении: сейчас, сидя за небольшим столиком напротив подчеркнуто спокойной и довольной жизнью дочери, Аленка тоже спокойно и почти равнодушно смотрела на нее, отвечала на ее вопросы и что-то незначительное и пустое рассказывала об общих знакомых (спрашивать о брате Ксения не решалась, ждала, пока об этом заговорит сама мать), и в то же время в душе у Аленки что-то больно и неотступно саднило; перед ней, словно наяву, вновь вставало прошлое; она увидела лицо Тихона, мучительнее всех пережившего случившееся, — он внутренне замкнулся, совершенно не замечал дочь и перенес всю свою нежность на внука, но в вечной своей гонке так и не успел официально усыновить его, как собирался. Сама Аленка подошла к делу просто и деловито, заявила, что все заботы о внуке берет на себя до завершения дочерью института, и, утешая мужа, по-деревенски проголосила ему неожиданно вспомнившуюся из далекого детства частушку о том, что «на дворе стоит туман и висит пеленка, вся любовь твоя — обман, окромя ребенка». Тихон изумленно глянул на нее, рассмеялся, махнул рукой, затем его иссиня-черные глаза вновь затянула какая-то неспокойная муть…
Ксения легко перенесла свое отлучение от сына, но урок, преподанный ей легкомысленным юным супругом, крепко затвердила в своей хорошенькой головке. Расставшись с ним, она к родителям не вернулась, с грехом пополам переползала с курса на курс, продолжая жить отдельно, на отцовские деньги, в уютной солнечной однокомнатной квартире с большой лоджией, которую через своих хозяйственников выхлопотал для дочери Брюханов после запоздалой регистрации юных молодоженов.
К счастью, когда Ксения училась уже на последнем курсе, к Брюхановым зачастил подтянутый щеголеватый блондин, года два назад закончивший институт военных переводчиков, сын их старинных, не слишком близких приятелей Муромцевых. Муромцев-старший к тому времени получил повышение по службе, а вместе с ним и служебную дачу в поселке брюхановского ведомства, и Ксения теперь довольно часто встречалась с Муромцевым-младшим на корте и в просмотровом кинозале дачного поселка. Дело сладилось — и вскоре молодая пара уже уносилась в авиалайнере в первую в своей совместной жизни загранкомандировку в Тунис. Проводив дочь впервые так далеко, Брюхановы, к своему стыду, почувствовали только облегчение и, не сговариваясь, удвоили свои заботы о Денисе. Затем для молодых последовали Португалия, Бельгия, а теперь вот и Франция… уже без Брюханова. По роду своей службы он не имел возможности навещать дочь в тех странах, где она проживала с Муромцевым, и, может быть, именно потому определенную привязанность друг к другу отец с дочерью сохранили, но все душевные связи отца с Ксенией окончательно прервались со смертью Брюханова. Ксения безутешно, по-детски рыдала на похоронах отца, прилетев по телеграмме, данной Аленкой. Опухшее от слез, без следа косметики лицо дочери очень напомнило Аленке маленькую Ксению, вышедшую из зарослей малины с безухим зайцем прямо к матери, крадучись пробравшейся на брюхановскую дачу сразу после своего разрыва с Хатунцевым. Тогда еще не было Пети и кровная связь с дочерью была могущественнее всяких иных уз; Аленка и второй раз поспешила родить больше из страха, из ужаса потерять этот маленький, жалкий, единственно только от нее зависящий комочек; они были жизненно связаны друг с другом, необходимы друг другу, и, казалось, только смерть могла разорвать эту связь. Смерть и разорвала. Смерть отца. После смерти Брюханова Аленка потерялась, ей казалось, что история с дочерью ускорила уход мужа, и она ничего не могла с этим поделать, и ничего связать уже не удалось, хотя Ксения провела с матерью десять дней после похорон; она осталась бы и на значительно больший срок, она глубоко почувствовала свое сиротство и потянулась к матери всей силой впервые пережитого горя, но Аленка боялась длительного общения Ксении с Денисом, боялась, что дочь заявит свои права на сына. Надо было тогда им откровенно поговорить, объясниться начистоту; к несчастью для обеих, этого не произошло; Ксения уехала, глубоко обиженная, и с тех пор ни разу не сделала попытки к сближению; правда, и забрать сына она тоже ни разу не пыталась…
— Как бы я хотела узнать, что ты обо мне думаешь, — неожиданно дошел до Аленки голос дочери, и она тотчас услышала тихую, спокойную музыку, льющуюся откуда-то издалека, и увидела лицо дочери; они сидели друг против друга на уютных диванчиках с мягкими спинками в теплом мягком свете оранжевого абажура, и Ксения с ровным дружелюбием вглядывалась в лицо матери.
— А ты, Ксения, успела загореть, — сказала Аленка не опуская глаз. — Тебе очень идет.
— Да, мы съездили с Валерой в Бретань. Знаешь, я быстро загораю. Мы открыли у машины верх, и я, пока вела машину, загорела.
— Ты водишь машину?
— Да, вожу. Это нетрудно. У тебя бы тоже получилось, стоит захотеть. Тебе бы пошло.
— Ты что, серьезно? К моим заботам прибавить еще эту карусель… А где же брать время?
— На главное ведь хватает.
— Что считать главным…
— Ну, мама, не кокетничай. Ты у нас специалистка по главным вопросам жизни… Что-что, а главного в жизни ты не упустила…
— Ты так говоришь, Ксения, как будто сидишь в привратницкой и считаешь спущенные петли.
— Почему спущенные, мама?
— Ну, так звучит убедительнее..
— Ага, понятно… Да нет, мама, я ни на что не жалуюсь, — дочь поправила прядку волос, но в бездумности ее тона, в нарочитой небрежности откинувшейся на спичку диванчика позы Аленке почудилась скрытая боль.
— Ну как ты все-таки?
— Как видишь. А ты?
— Слушай, Ксения, если мы будем вот так отвечать на вопросы друг друга новыми вопросами, мы никуда не причалим, не надо, дочка, — попросила Аленка мягко, стараясь перебороть и свою неприязнь, и враждебность дочери к себе. — Мне нужно так много рассказать… Ты, как всегда, будешь отмалчиваться и отшучиваться, а потом станет ясно, что время наше кончилось и мы так ничего друг другу не сказали.
— Что ты хочешь знать, мама?
— Все! Все о тебе.
— Всего никто не знает… Тем более о себе… Валерка опять получил повышение, стал такой важный, особенно когда в форме. Он на хорошем счету, атташе постоянно выделяет его в докладах. С ним все в порядке.
— А с тобой? — спросила Аленка настойчиво, стараясь все-таки пробиться поближе к глубоко запрятанному в душе дочери.
— И со мной все в порядке. Мам, ну что ты? Куда ты гонишь? Ну давай, мам, посидим, помолчим, поглядим друг на друга… Это так редко бывает. Расскажи что-нибудь о доме. Ты как сама, мам?
— Да вот замуж вышла на старости лет…
— Я не об этом, я это знаю. Хорошо тебе? Легче стало?
— Это нелегкий вопрос, дочка. На него непросто ответить… да и есть ли вообще ответ? Он — обрубок, я — обрубок, — вздохнула Аленка, непривычно сумрачно усмехнулась. — Сумеем ли мы срастить наши души?.. Думаю, нет. В нашем возрасте полностью, думаю, это невозможно. Стало полегче, это безусловно, иначе бы я, кажется, и не смогла выжить. Ты должна приехать и увидеть Константина Кузьмича, хотя ты должна его помнить… он бывал у нас по службе. А впрочем, возможно, ты его и не видела, в последние годы жизни отца тебя почти не было дома… Этого и не расскажешь, я чувствую по-своему, а ты приедешь и увидишь все совсем по-своему.
— Я же не главное, мама, главное ты, чтобы тебе было хорошо.
— Мне, Ксения, хорошо быть уже не может, отца и прожитой с ним жизни никто и ничто мне не заменит. Константин Кузьмич, к счастью, умен, он и не пытается этого делать. А жить надо и работать надо… Но, Ксения, давай оставим это для Москвы. Ты ведь приедешь, да? Сама все увидишь, вот тогда и поговорим… Я имею в виду твое последнее письмо о Денисе. Я хочу сейчас узнать побольше о тебе. Ты по-прежнему референтом в отделе культуры?
— Да, мама, но давай лучше не будем, это так неинтересно. Отвечать на звонки, встречать знаменитых людей из Союза, подносить цветы…
— Но подожди, дочка, — запротестовала Аленка. — Ты так этого добивалась!
— Да, добивалась, добивалась любой узаконенной штатной работы, — не стала отрицать Ксения. — И старалась изо всех сил… Хочу быть свободной и ни в чем не стеснять себя, не зависеть от мужа в каждой копейке… Но это так не-ин-те-рес-но! — совсем по-детски протянула Ксения. — Когда другие женщины сидят дома годами и перемывают друг другу кости и только копят деньги, тогда и это хлеб. Во мне что-то сместилось, все-таки ваше воспитание дает о себе знать… Мне все чаще начинает казаться, что жизнь проходит мимо…
— Подожди, дочка, не всегда так будет. Вернешься домой и займешься работой по душе, — сказала Аленка, не веря в то, что говорит, и зная, что и дочь не верит ни одному сказанному ей слову, и, однако, продолжая выдерживать кем-то заданные правила игры. — А как твои успехи в керамике? — спросила Аленка, вспоминая о последних увлечениях дочери разного рода художественными поделками: она лепила и обжигала глиняные фигурки под дымковских кукол, переводила на кальку рисунки с греческих амфор и затем раскрашивала коричнево-черными красками по мокрому алебастру настенные тарелки и панно.
— Мама, я не знаю, я делаю, что могу, но у меня все время ощущение, что жизнь проходит… мимо меня, и я замурована и гляжу на себя со стороны и ничего не могу с этим поделать…
— И потому ты хочешь взять Дениса? Чтобы заполнить им пустоту? Знаешь, дочка, ты не учитываешь, что он уже личность, сложившаяся личность. И знает, чего он хочет.
— И чего же он хочет? — спросила Ксения, и ее потемневшие глаза, как бы заледеневшие изнутри, впервые выдали ее волнение.
— Никогда не догадаешься, — сказала Аленка нарочито спокойно. — Хочет жить у деда Захара. Это и для меня неожиданность. Я в него всю душу вложила, а он прикипел к деду Захару, как будто тот его околдовал, опоил зельем.
— Ну знаешь, мама, мал он еще, чтобы загадывать загадки, мало ли что он еще придумает! — в голосе у Ксении появился резкий, неприятный оттенок. — Здесь превосходная школа с бассейном, с кортом, фехтованием. Расположена в старинном парке, в зеленой зоне. Первоклассные учителя. Лучшие преподаватели, столичные и ленинградские, рвутся сюда, за рубеж… Это намного лучше, чем в Москве. И плюс язык, он же будет владеть французским в совершенстве. Начинать учиться нужно здесь… Фу ты, опять стали! — нервно сказала она, взглянув на часы. — Только что купила новые, швейцарские, на распродаже. Мам, ты не знаешь, почему мне не везет с часами?
— Наверное, потому, что ты слишком хорошо знаешь, чего хочешь, — не осталась в долгу Аленка. — Что поделаешь, не во всем же и не всегда должно везти, так не бывает…
— Вот куплю, ну самые лучшие, дорогие! Походят немного и начинают то спешить, то отставать, а то вовсе станут. Маринка Клюева, мы дружим, шестой год обыкновенную нашу родимую отечественную «Чайку» носит. И — ничего, ходят, минута в минуту!
— И ты купи обыкновенные, отечественные, за наши, советские рубли. Хочешь — вот мои возьми? — Аленка отстегнула браслет. — Будут напоминать тебе обо мне.
— Да я и так о тебе всегда помню, мам…
— Ой ли? Твои письма-открытки… иногда мне кажется, ты их под копирку пишешь…
— Что поделаешь, мам. Валера тоже обижается, я совсем не могу писать письма, они у меня не получаются…
— Давай договоримся, Ксения, оставь Дениса…
— Мы ни о чем не будет договариваться…
— Не упрямься, дочка, Денис — не игрушка, не этрусская ваза. Это живой человек. И ему может быть больно, понимаешь, — больно!
— Мне тоже может быть больно! Не будем говорить о Денисе…
Подошел официант с дымящимся блюдом, торжественно устроил его посреди стола, сказал что-то, глядя на Ксению, сверкнув белыми зубами, и пропал. Аленка и не ожидала ничего хорошего, но все таки в глубине души надеялась на чудо, на ответное сердечное движение со стороны дочери, на какой-то, хотя бы мимолетный проблеск близости, но опять ощутила холодную, не пускающую дальше определенной черты отстраненность; ничего изменить уже было нельзя, и она вновь почувствовала застарелую, навалившуюся усталость. Ей хотелось просто посидеть, поболтать о пустяках, как болтают с посторонними безразличными людьми, по той или иной причине оказываясь вместе, и, выждав приличествующее время, с облегчением распрощаться и затем час-другой полежать у себя в номере. Она уже не обращала внимания ни на ювелирно оформленные блюда, ни на бутылку старого бургундского, торжественно, словно святыню, завернутую в сверкающую салфетку и преподнесенную с подобающей почтительностью. Аленке, как говорится, ни к селу ни к городу вспомнился грустный и немного смешной случай из детства дочери, что-то про ежа, жившего тогда на даче под верандой, и дочь, молча отпивая вино, с тихим, неподвижным лицом слушала, затем ее длинные, умело подведенные брови дрогнули, изломанно приподнялись, и в лице появилось знакомое Аленке упрямое выражение.
— Мы совсем не о том говорим, — сказала она, — ты, мам, не о том думаешь… и я не о том…
— Я уже не знаю, о чем говорить с тобой, дочка, — тихо вздохнула Аленка.
— Я тоже не виновата, что я такая, — сказала Ксения с лицом, по-прежнему отрешенным и напряженным. — Я не умею по-другому, я — другая, понимаешь, мам, другая, совершенно другая! А ты не хочешь этого понять. Мы разные, и в этом не виноваты, ты же умная, неужели ты до сих пор с этим не примирилась?
— У тебя что, неладно с мужем?
— Ах нет, нет! — в лице Ксении промелькнула уверенная улыбка. — С Валерой у меня как раз все нормально, мы отлично понимаем друг друга. Это главное в жизни, понимаешь! Я, мам, думаю о другом, у таких сильных родителей, как вы с отцом, у детей почти нет выбора… У них лишь два пути: или идти за вами, подбирая без разбора все вами наработанное, хватать любую крошку с родительского стола, или во всем идти родителям наперекор, все ваше отвергать… искать свое, может быть, как раз противоположное!
— Интересно, чем мы с отцом вам поперек дороги встали! — возмутилась Аленка, забывая о своем намерении посидеть с дочерью тихо и мирно.
— Не надо упрощать, мам, — попросила Ксения, — ты же умный человек… может быть, я выразилась неловко, но я очень, очень хочу, чтобы ты меня поняла…
— И я этого хочу, — в тон ей сказала Аленка. — Вот только все у нас остывает. Давай поедим немного, не пропадать же добру, это же все, наверное, стоит уйму денег! — указала она на столик. — Я хочу выпить… посмотрим, чем тут удивляют… Ну, со свиданьицем, дочка, как говорят у нас в Густищах…
Они замолчали; стараясь не дать разрастись в себе бесполезной, ненужной сейчас обиде, Аленка выпила вина и съела кусочек ароматного мяса с какой-то острой приправой; что ж, не получилось, как было задумано, так тому и быть; дочь сразу же захотела оградить себя от родительской воли, и, вероятно, она по-своему права, резко противопоставив свой мир, свои интересы, — с этим было трудно, по необходимо смириться: слишком уж она были похожи, мать и дочь.
— Ты, Ксения, всегда боялась прямых вопросов и ответов, — наконец сказала Аленка, отодвинув хрустальный бокал с нагретым в руках густым терпким вином. — И, однако, они существуют, эти вопросы. И на них, на решении именно этих вопросов держится жизнь. Если вечно их отодвигать и прятаться, жизнь развалится, как карточный домик. Я человек прямой и сразу скажу: Дениса я вам не отдам. Он живой, понимаешь, не кукла. Живой человек, его все любят. Не заставляй меня говорить тебе резкости. И пора тебе понять, что, кроме тебя и твоих потребностей, существует еще огромный мир, населенный такими же, как ты, людьми. И брату давно надо написать, нехорошо у тебя с ним получается… Ты ведь о нем даже не спросила…
Провожать Аленку Ксения на аэродром не приехала.
С первого сентября Денис должен был пойти в школу, и Аленке не хотелось омрачать этот торжественный и радостный в жизни каждого человека день; она твердо решила забрать внука с кордона во второй половине августа. Вернувшись с симпозиума, она сразу же оказалась втянутой в нескончаемую вереницу срочных дел и никак не могла вырваться из Москвы; несколько раз она просила Петю съездить за племянником, но того уже дважды торопили возвращаться в Хабаровск, и он, потеряв несколько дней с Шалентьевым, не успевал со своими последними, необходимыми делами в Москве; отделываясь от поездки, он напридумал гору всякой всячины, уверяя, что съездить за Денисом на кордон никак не сможет, и Аленка, рассердившись и резонно подозревая, что дело не только во времени, в один из вечеров пришла на старую квартиру, без предупреждения открыла дверь своим ключом. Квартира была пуста (Аленка почувствовала это сразу); привычно щелкнув выключателем в прихожей, она опустилась на небольшой низенький диванчик. Она устала за день и теперь, закрыв глаза, попыталась расслабиться и хоть немного отойти; она уже досадовала на себя за излишнюю горячность. Прежде чем идти сюда, нужно было позвонить, вот теперь и сиди в пустой квартире, а ведь сколько нужных, необходимых дел могла бы сделать… Две важные встречи отменила, в театр билеты пропали…
Безнадежно махнув рукой, Аленка решила немного отдышаться, разложить принесенные продукты в холодильнике и уйти, она давно устала от своих мыслей, на лбу у нее появилась горькая складка; она улыбнулась, вспомнив шутку одного из знакомых биологов, академика Обухова, нынешнего кумира Пети, неожиданно как-то явившегося на дачу вместе с Тихоном; они проговорили тогда о чем-то ночь напролет. Академик, когда разговор коснулся почему-то детей, вполне серьезно изрек, что человек так ни в чем и не изменился. И если бы детеныша кроманьонца переместить в современное общество, он бы вырос вполне современным молодым человеком и мог бы даже стать доктором наук или модным поэтом. Из современного дитяти, даже самого высокого происхождения, получился бы отменный косматый людоед с мощными челюстями…
Стараясь быть к себе безжалостной, Аленка, как всякий живой и мучающийся человек, все-таки так до конца и не смогла понять главной своей ошибки и, сама того не осознавая, продолжала считать, что давно уже выросшие и совершенно отделившиеся от нее дети по-прежнему в чем-то продолжают принадлежать ей, но они уже не принадлежали и не могли принадлежать матери, они уже давно начали свой самостоятельный жизненный отсчет, и, чем упорнее она старалась повлиять на детей, тем враждебнее и решительное они от нее отдалялись. От такого простого непонимания она лишь сильнее и мучительнее страдала; но сделать с собой ничего не могла.
Вот и теперь она шла к сыну с твердым намерением высказать ему, наконец, не только все наболевшее, но и повидаться, не спеша поговорить, рассказать о Ксении, от встречи с которой она до сих пор не могла прийти в себя. Натолкнувшись на пустые стены, она окончательно расстроилась; душевный запал проходил вхолостую, и она уже собралась уходить. Бродить по брошенной квартире, где у нее в прошлом было так много счастья, которое, она знала, никогда не повторится, было невыносимо; все равно что взять и явиться на собственное кладбище полюбоваться просевшим холмиком земли на своей же могиле…
Взглянув на крошечные золотые часики на запястье (подарок Брюханова к десятой годовщине их свадьбы — она привыкла к вещам, как к людям, и по возможности старалась не менять своих привязанностей), рассеянно расписавшись в прихожей на запыленном зеркале в старинной тяжелой раме черного дерева, которое они с таким восторгом, с таким ожиданием вечного счастья купили с Тихоном вскоре после ее разрыва с Хатунцевым и возвращения к мужу и дочери в Москву, Аленка решительно двинулась к выходу. Она не успела погасить свет; дверь бесшумно распахнулась, и Аленка увидела девушку лет двадцати, высокую, пышноволосую, с красивыми длинными ногами, подчеркнутыми короткой, выше колен, мини-юбкой, в бархатном черном жакете. Сын весело шагнул через порог с какими-то свертками, и с лица у него при виде матери неудержимо сползало радостное оживление. Все трое растерялись, затем Аленка заставила себя улыбнуться.
— Вот славно, дождалась, наконец. Уже хотела уходить… Здравствуйте, молодые люди, не хмурьтесь, я ненадолго.
— Моя мать, Елена Захаровна, но у нас все зовут ее Аленой Захаровной, познакомься, Оля, — сказал Петя. — А это просто Оля. Привет, мама. Как живешь?
— Отлично, — в тон, бездумно-весело ответила Аленка, заметив по его лицу и манере держаться с легким вызовом, что он навеселе, и от этого сразу становясь внутренне жестче и суше. — Может быть, лучше пройдем в гостиную? Неудобно гостью держать в прихожей…
— Разумеется, о чем разговор! Оля, проходи. — быстро и решительно, опять-таки не скрывая легкого раздражения, сказал Петя. — Прошу, прошу…
— А я не помешаю? — девушка, призывно улыбаясь, глядела мимо Аленки только на Петю, и тот, отвечая ей такой же долгой неотрывной улыбкой, минуя взглядом мать, ободряюще кивнул.
— У меня от тебя нет секретов, Оля, ты же знаешь…
— Ну и отлично, раз у вас нет друг от друга секретов какие могут быть возражения? — ответила Аленка, считавшая себя хорошей физиономисткой и уже оценившая приятельницу сына по каким-то своим, известным ей приметам, отрицательно.
Все прошли в гостиную, в молчании расположились вокруг стола; чувствуя опасность, Петя предложил согреть чаю но Аленка отказалась.
— Мне пора, с удовольствием бы осталась. Я хотела просить тебя, Петя, все-таки выбрать время и съездить за Денисом… Ты ведь можешь на день, на два задержаться с отъездом… в конце концов, как бы ни был ты занят, Денис тебе не чужой… А мне самой совершенно некогда… Ну выручи меня, прошу… Денису через две недели в школу, это же первый класс. Нельзя омрачать такое важное для человека событие. Я, конечно, могу кого-нибудь попросить, заплатить, только ведь это страдающая, живая душа, ты должен понимать…
— Понимаю, — опустив глаза, задержавшись взглядом на китайской напольной вазе с синей решетчатой эмалью, Петя вздохнул.
— Вот и хорошо, раз ты понимаешь в таком развеселом состоянии, — все тем же ровным голосом сказала Аленка. — Когда именно ты думаешь ехать, я кое-что хочу послать с тобой деду…
— Тебя устраивает двадцатое?
— Вполне… Как раз и Денису для школы успеем все подготовить… Спасибо.
— Не за что, — буркнул Петя и, сверкнув глазами, подошел к буфету, достал три высокие хрустальные рюмки, начатую бутылку рябиновой настойки на коньяке, налил и, неожиданно покачнувшись, едва удержался на ногах, ухватившись за край буфета, оглянулся и деланно засмеялся: — Черт, нога подвернулась…. Прошу вас…
— Ну-ну, — усмехнулась Аленка, пытаясь сгладить возникшую неловкость, заметив промелькнувшую в лице девушки тень страдания.. — Не лучше ли поставить чаю? Ты и без того хорош, кажется…
— А состояние мое, дорогая родительница, тебя не касается, кажется тебе или не кажется, я давно из пеленок выдрался…
— Боже мой, что за язык… ты обиделся? Если так…
Аленка не договорила, ее прервала Оля, по-прежнему неотрывно, но теперь уже как-то отстраняюще смотревшая мимо Аленки на Петю.
— Я пойду, у меня сейчас встреча, — сказала она. — Я, вероятно, некстати, вам нужно решить свои неотложные дела…
— Разве это для тебя что-нибудь меняет? — спросил Петя, внезапно в упор взглянув на девушку, и в глазах у него метнулось бешенство. — Это что-нибудь меняет?
— Безусловно, меняет, — теперь уже с какой-то прикленной улыбкой ответила Оля. — Я же вижу, у вас какой-то свой семейный разговор… Я не хочу мешать… зачем? Ты вот за Денисом должен поехать… Не понимаю, почему ты так разволновался?
— Ах, ты не понимаешь…
— Петя! — предостерегающе сказала Аленка, заметив у сына начинающие подергиваться губы.
— Не беспокойся, — не поворачиваясь в ее сторону, отпарировал он. — Объясни, пожалуйста, Оля, что ты имеешь в виду…
— Оказывается, я должна тебе еще что-то объяснять? Я?
— Конечно! То есть нет… Я хотел… Просто так получилось… Я тебя и не понимаю… Я думал, что давно уже сказал тебе о Денисе… Кажется, даже предлагал тебе поехать вместе…
— То, что ты думал, не считается, и дело совсем не в твоем племяннике, — сказала девушка, поднимаясь со стула и выходя из-за стола. — Денис здесь ни при чем. Просто я вспомнила о неотложном деле, мне сегодня должны привезти из Киева посылку… Мне необходимо быть к киевскому поезду… Ты проводишь меня немного?
— Нет, — ответил он, по-прежнему сильно хмурясь и не двигаясь, не глядя на нее. — Уходи…
— Петя! Что произошло? — храбро ринулась в бой Аленка, с грохотом отодвигая свой стул и вскакивая на ноги. — Объясни…
— Не вмешивайся, мама..
Пока девушка шла по гостиной, потом одевалась в прихожей, он сидел все так же, не шевелясь, глядя прямо перед собою, но, как только мягко щелкнул входной замок, он поднялся с места, подошел к серванту, в руках у него оказалась начатая бутылка коньяку и фужер. Он налил его до краев.
— Петя, не надо! — Аленка беззвучно подошла, намереваясь отобрать у него коньяк. — Все образуется, посмотришь…
— Не трогай меня сейчас, не приближайся, слышишь? — почти закричал он, и не слова сына, а их интонация заставила ее остаться на месте. Он залпом выпил и сразу же налил еще, опять выпил, затем бережно поставил, беззвучно закрыв дверцу серванта; Аленка, застыв, даже как-то профессионально наблюдая за ним, словно потеряла дар речи, в висках сразу заныло и в затылке появилась тяжесть.
— Ах, Петя, Петя, — покачала она головой, когда сын с незнакомым, остановившимся выражением лица и лихорадочно блестевшими глазами тяжело прошел через комнату и почти обрушился на стул. — Видел бы тебя сейчас отец…
— О чем ты? Ты же знаешь, я безвольный, слабый! — он пытался говорить с вызовом и одновременно с улыбкой над своей слабостью.
— Тебе надо лечиться, сынок. Видишь, сам ты уже не можешь остановиться. Лечиться необходимо, Петя… Иначе ты пропадешь…
— Как же, поставила меня в совершенно дурацкое положение! Видите ли, пьяница! Ты ведь намеренно это сделала! — не удержав спокойного, насмешливого тона, выкрикнул он. — Может быть, ты сейчас разбила мою жизнь, Оля этого не простит… вот без нее я точно пропаду! Знаешь она какая… она потрясающая! Я таких не встречал! В отличие от тебя она может жить жизнью другого человека, составить ему счастье. Разве ты поймешь… зачем я говорю, зачем?
— Может быть, к лучшему, что Оля теперь знает… Если она такая, как ты говоришь, она не отвернется, как раз наоборот… И потом, ты ведь и пришел с ней выпивши, она скорее от этого ушла… Да еще снова полез наливать… Ни одна уважающая себя девушка не станет мириться с таким пренебрежением к себе! Боже мой, когда это только началось?
— Нет, зачем ты это сделала? Зачем ты все вокруг себя разрушаешь? — охваченный неудержимым желанием высказать наконец все накопившееся в душе за последние два года после смерти отца, он уже не мог остановиться. — Ты искалечила жизнь отца, а теперь взялась за меня, не можешь удержаться, все вокруг себя тебе надо подчинить… Такой у тебя характер… агрессивный…
— Скажи, чем я искалечила жизнь твоего отца? — тихо, сдерживаясь, чувствуя, как не хватает воздуха, с трудом спросила Аленка.
— Ты ведь сама знаешь…
— Я от тебя хочу услышать! — потребовала, слегка повысив голос, Аленка. — От своего собственного сына… Говори!
— Не кричи на меня! — сорвался и Петя и стал неудержимо бледнеть. — Ты ведь тоже никакая не жар-птица, ты только рядом со своими могущественными мужьями выглядишь выше среднего! Ну какой ты врач?
— Сколько бы ты ни нагородил жестокостей, это не ответ! Чем я искалечила жизнь отца?
— Ладно… что там считаться!
— Нет-нет, говори, это слишком страшно… Ты замахнулся на самое святое… Отвечай, я требую…
— И скажу, скажу! Бросила его в самый трудный момент, ушла к другому! Предала!
Размахнувшись, Аленка сильно ударила его по лицу; голова у сына откинулась.
— Ты! Ты будешь… ты пожалеешь об этом! — рвущимся голосом выкрикнул он, дернул головой раз, второй, торопливо отошел к окну и прижался лицом к холодному стеклу. — Уходи, пожалуйста, — глухо попросил он, стараясь успокоить вздрагивающие руки, пряча их за спину и сильно, до хруста сцепляя пальцы; затем, оторвавшись наконец от подоконника, прошел к дивану и свалился на него ничком, плечи у него затряслись; присев рядом, Аленка осторожно положила руку ему на затылок и сразу почувствовала, как он болезненно съежился.
— Не смей, — сказала она, сама едва удерживаясь от подступивших слез. — Не смей плакать, ты не имеешь права, у тебя у самого когда-нибудь будет сын, он должен вырасти мужчиной. Если она тебя действительно любит, она должна знать… она вернется… обязательно вернется, вот посмотришь, — продолжала Аленка, уже переживая за свою несдержанность и горячность. — Такое тоже бывает, ты сейчас какой-то, сынок, весь нелепый, работать по специальности не хочешь… наводнение тебя куда-то уносит, все одно к одному… Чуть ли не до туберкулеза дело доходит… и со всеми ссоришься… Зачем? И с девушками… что это такое! Ты хоть бы похитрее вел себя, что ли… Весь в отца, тот тоже притворяться не мог, хоть его режь… разве можно так жить? Какой-то вечный странник, иметь такую квартиру в Москве, такую поддержку… Я тебя хоть завтра устрою, ну чего тебя, сынок, носит по свету?
— Не надо меня никуда устраивать, мам, — неожиданно попросил Петя, тепло и понимающе взглянув на нее. — Ты лучше мне про Обухова расскажи. Ты что-нибудь помнишь? Надо же, он мне ни разу ничего не сказал про отца…
— Ты сейчас лучше поспи, — сказала Аленка. — Я тоже почти ничего не помню об этом… Кажется, вначале они очень дружно работали, потом разошлись… Отец дома о своих проблемах и делах не очень-то распространялся…
Она говорила, тихонько поглаживая волосы сына, словно стараясь убаюкать его, как в далеком детстве, и он затих.
— Надо перестать пить. Совсем. Ради Оли, ради твоей будущей семьи. У тебя все впереди, вся жизнь… интересная работа… ты талантливый, у тебя сильная голова, надо ее беречь. В жизни так много интересного… Ты обязательно найдешь свое призвание, да ты его уже нашел… Остается одно — работать. В этой области еще ничего не сделано… Ты один из первых… Я почему-то уверена в твоем успехе, все зависит только от самого тебя, сынок…
Не выдержав, оп повернулся на спину, прижался лицом к рукам матери.
— Перемучиться надо, сынок, перетерпеть, все образуется. Вот посмотришь — все будет хорошо… Спи, до завтра…
— Ничего, — неожиданно ясно и спокойно сказал он, глядя на мать, — Вот дня за три закончу свои дела, подпишу наконец эту треклятую машину и сразу же улечу. Никого и ничего мне больше не нужно… Пошли они все…
— Петя! — предостерегающе повысила голос Аленка, и он, пробормотав: «Хорошо, хорошо, мать, не буду…», отвернулся к стене; подождав еще, она оглядела привычным взглядом знакомую гостиную, отметила все больше воцарявшееся в старой квартире запустение и подумала о том, что надо бы выкроить время и прибраться здесь. Аленка, не разрешая себе расстроиться окончательно, сдвинула брови.
— Я хотела рассказать тебе о Ксении… я ведь с ней встречалась, в ресторане сидели, — неожиданно сказала она и осеклась; сын рывком приподнял голову, глаза у него сухо горели.
— И не подумаю слушать! _ — заявил он почти с ненавистью, с каким-то глубоким страданием. — Я ее ненавижу… эту…
— Не смей! — прервала его Аленка, предупреждая, страшась услышать то, что ей нельзя было слышать от сына, и он сразу опал, уронил голову назад на подушку, крепко зажмурился. И она, подождав, обессиленная окончательно, укрыла его старым пледом, вылила остаток коньяка в раковину, затем вернулась, еще постояла несколько минут над улыбавшимся чему-то во сне сыном, думая о том, что ему давно пора бы определиться в жизни, и хорошо, если бы его новая приятельница оказалась с характером и сумела прибрать этого верзилу к рукам, а то вокруг него всегда группируются какие-то непонятные, самые разношерстные люди, часто без определенных занятий, и что это верный признак начинающейся деградации личности. К себе она отправилась, совершенно отчаявшись от своих мыслей, мучаясь вопросом, откуда Петя мог узнать о Хатунцеве и как унизительно больно услышать об этом именно от сына. И откуда такая беспричинная злоба с его стороны, какая-то грязь, мелочность… Боже мой, этого она не вынесет, это конец…
Промучавшись еще несколько дней, она потихоньку стала приходить в себя, и затем привычный ход жизни и работы притупили остроту поднятых со дна души воспоминаний; Петя же, проспавшись и стыдясь произошедшего, избегая встреч с матерью, решил побыстрее все закончить и уехать, и последние несколько дней пролетели для него словно в каком-то угаре; внешне оставаясь спокойным и невозмутимым, срываясь лишь при попытках матери вызвать его на откровенность, он испытывал такое чувство, словно одновременно двигался в разные стороны. Фактически так оно и было. Он отчаянно кашлял, но упорно отказывался обследоваться, чем ставил Аленку совсем уже в тупик, заканчивал статью, часто бывал на заводах и на предприятиях, продолжая собирать материал для кандидатской; в то же время он предложил Лукашу ввести в журнале новую рубрику сравнительного анализа между лучшими отечественными и японскими или американскими промышленными предприятиями родственного профиля, но главный редактор, сардонически хмыкнув, не раздумывая долго, мягко и бесповоротно отверг эту идею и через Лукаша сообщил, что всему свой срок, что журнал и дальше будет с удовольствием публиковать статьи, связанные с экологией. Петя пожал плечами, заупрямился, проявил характер и, обосновав свое предложение, явился в редакцию и положил несколько мелко исписанных страничек на стол редактору, несмотря на явное его неудовольствие. Отложив кипу гранок, утомленный редактор снизу вверх, сквозь большие, модные очки укоризненно посмотрел на длинного, плечистого, слегка покашливающего верзилу; внимательно прочитал раз и второй принесенный им меморандум, и, когда вторично поднял голову, глаза его сделались по-китайски узкими и радостными, ласково-преданными.
— Я же передавал вам, пока слишком рано, — сказал он решительно, отодвигая бумаги от себя. — Заберите, вы нужны журналу, а журнал вам. Я себе не враг и вам тоже, Петр Тихонович… идите, идите, вы же видите, какое количество работы… Придет время, мы с вами и не такие идеи закрутим… вобьем, заколотим, как вам будет угодно!
— Ну знаете! — взорвался Петя, и лицо у него пошло пятнами. — Это же, простите, Павел Трофимович, трусость. Чем скорее мы начнем изучать международный опыт в организации экономики…
— Знаю, знаю, однако ничего не выйдет! — прервал его Вергасов, вновь придвигая к себе истерзанные гранки. — Простите, ничем не могу помочь…
— Ну так я вообще больше никогда ничего вам не пришлю, — понижая голос, сказал Петя, невольно заражаясь от редактора нервозной решительностью и непримиримостью, и даже попытался сделать такие же приветливые глаза. — Верните мне, пожалуйста, статью, ту, что вы ставите через номер. Я настаиваю!
— Не всегда же у вас будет такое настроение. А впрочем, как хотите, я распоряжусь… У вас все, Петр Тихонович? — спросил редактор все тем же, как показалось Пете, китайским голосом, и его заграничные очки сверкнули и погасли, а Петя вылетел из кабинета не прощаясь, и, столкнувшись нос к носу с Лукашом, сделал зверское лицо, крикнув ему напоследок: «Надо полагать, одна шайка-лейка здесь окопалась!», проскочил мимо, и больше в редакции его никто не видел. Лукаш позвонил ему дня через два; узнав его по голосу, Петя молча положил трубку; часа через три Лукаш позвонил еще и, опережая реакцию на другом конце провода, не здороваясь, торопливо сообщил, что причитающийся гонорар выслан на домашний адрес Пети и что им необходимо встретиться. Чертыхнувшись, Петя опять бросил трубку; Лукаш послушал гудки, улыбаясь, тоже положил трубку и сказал стоявшему рядом Вергасову:
— Дожмем, Павел Трофимович, никуда он от нас не денется… Он ведь, по сути дела, совершенно беспомощный… где он найдет такую лафу? Я вас уверяю, — добавил он, заметив набежавшую на сухое и надменное лицо шефа легкую тень, — игра стоит свеч…. я к нему загляну… И потом, он где-то в экспедиции попал в тяжелый переплет, едва выкарабкался, сейчас, кажется, болен. У него что-то с легкими, сильно застудился, но упрям. У него явно какой-то сдвиг в башке, все только сам! Вчера его мать звонила, просила поговорить, она считает, что ему необходимо серьезно лечиться.
— Ничего, какие там болезни в ваши годы, — сухо возразил Вергасов. — Пусть окончательно успокоится… Несомненно, избалован, но ведь действительно талантлив, сам все разрешит и определит. Чую в нем задатки, а я еще никогда не ошибался, — внезапно разговорился обычно немногословный и замкнутый шеф, и Лукаш услышал много интересного; и хотя в душе у него и шевельнулось чувство личной обиды за себя и за свой, по определению шефа, широко распространенный тип тягловой лошади, Лукаш остался доволен; все-таки основную, главную ставку шеф, по его же словам, делал именно на тягловых, способных из месяца в месяц, из года в год, методично и не останавливаясь, тянуть телегу познания и прогресса; люди же, выдающиеся по своим данным, быстро выдыхаются и очень неподатливы; требуются огромные усилия, чтобы заставить их идти в общем потоке, но для борьбы с ними, слава Богу, за много тысячелетий выработаны свои методы… И один из них — видимость свободного поиска и свободного, ничем и никем якобы не ограниченного выбора пути…
Тут Вергасов остро глянул поверх очков в лицо Лукашу, убедился, что тот внимательно слушает и понимает суть дела, подумал, что не ошибся, остановив выбор именно на нем, и продолжал развивать свою теорию дальше; Петя же в это время был занят совершенно другим, и мучили его весьма далекие от научной карьеры, от журналистики и экономики мысли и чувства, и были они связаны прежде всего с Олей, с их ставшими неровными, почти мучительными отношениями, и многое в его поведении, казавшееся даже хорошо знавшим его людям неестественным, странным, а то и взбалмошным, объяснилось именно этим обстоятельством. Петя мучился неизвестностью и ревностью, но ложная гордость не позволяла ему позвонить первым; то он, забросив все дела, стоически, считая себя мучеником, а ее мегерой, ждал, просиживая у телефона часами, а то вдруг лихорадочно хватался за книги, бежал в библиотеку, заказывал немыслимое количество книг и материалов, зарывался в них с головой, просиживал до самого закрытия зала, а затем шел домой пешком, ничего не видя вокруг и ничего не соображая; приходя домой, он первым делом подходил к телефону, долго глядел на него, словно пытаясь выяснить с помощью этого своего магического созерцания некую роковую тайну, готовый в любую минуту схватить что-нибудь тяжелое и расплющить ненавистный аппарат. Звонили мать, Лукаш; несколько раз звонил из Хабаровска Обухов, давал советы, как себя держать дальше и куда обращаться, и всякий раз заботливо справлялся о здоровье; Петя подозревал, что дело не обошлось без вмешательства матери, а когда, наконец, Обухов прямо предложил шестимесячный отпуск для окончательной работы над диссертацией и добавил, что он, то есть Петя, может на него рассчитывать, как на каменную гору, в любом случае, у Пети больше не осталось сомнений. Он решил объясниться с матерью как можно серьезнее, попросить оставить его здоровье в покое; он бы так и сделал, если бы не продолжавшаяся все сильнее занимать его и даже мучить неопределенность в отношениях с Олей. Порой он готов был немедленно ехать к ней и требовать решительного разговора, но тотчас начинал презирать себя и говорил, что, если девушка может вот так отрубить, значит, она никогда не любила и не может любить. Он все чаще начинал ненавидеть ее, вернее, думал, что ненавидит, и только незавершенные дела удерживали его на месте: он знал, что в любую минуту может сорваться и улететь. И вот однажды, измотанный долгим и нудным ожиданием в приемной одного из главков по поводу виз на получение необходимой счетной техники для филиала, он наслаждался покоем, тишиной и прочностью старой квартиры и возможностью ничего не делать и молчать; когда телефон зашелся долгим и задорным звонком, он в первое мгновение даже не сообразил, что произошло, и, отодвинув стакан с чаем, подошел к телефону, он безошибочно знал (так уж устроены влюбленные), что неожиданный звонок связан с Олей или даже что звонила она сама. Настойчивый зов телефона завораживал, от него в сердце распространялась легкая, летящая теплота; медля, наслаждаясь, затем испугавшись опоздать, он схватил трубку.
— Слушаю, — сказал оп, стараясь говорить спокойно и даже равнодушно. — Конечно, я, Брюханов… Здравствуйте… что? Подождите, зачем же так? Я сейчас же приеду…
— Я вас не впущу, — звенящим голосом сказала на другом краю Москвы Анна Михайловна, и он услышал, как она всхлипнула. — Приходить незачем, поздно. Я вас не впущу!
— Анна Михайловна, успокойтесь… Что случилось? Вы можете мне сказать?
— Не мо-огу! Не-ет! Не-ет! — торжествующе-бессильно пропела она. — Вы просто совершенное ничтожество! Вам незачем ничего знать! Не пытайтесь больше, слышите, не пы-тай-тесь больше сюда даже приблизиться! Я вас оскорблю! Выгоню!
— Анна Михайловна…
Петя услышал короткий треск: трубку бросили, оборвав его на полуслове, и он, посидев с минуту, совершенно растерянный, не зная, что и думать, быстро вскочил, кое-как собрался, выбежал на улицу мимо знакомой, благообразной привратницы, не поздоровавшись и даже не заметив ее, что заставило старушку надолго прервать бесконечной вязание, поймал такси и через полчаса уже топтался у знакомой двери, с тяжелым сердцем, непрерывно звоня. Дверь распахнулась, и он увидел Анну Михайловну, всю какую-то необычайно растрепанную, маленькую и невероятно воинственную; не дожидаясь приглашения, Петя шагнул через порог, и тут внезапно миниатюрная, почти игрушечная старушка, с трясущимися от гнева губами, стала подпрыгивать, беспорядочно стучать Петю в грудь невесомыми кулачками и стараться вытеснить его назад за дверь.
— Как вы смеете! Как вы смеете! — говорила она, сверкая глазами. — Вы сюда не войдете! Никогда больше не войдете! Не войдете! Не войдете! Не войдете!
— Войду! — буркнул оп, невольно задирая голову повыше, чтобы разгневанная хозяйка не могла достать ему до лица, и медленно протискиваясь по коридору все дальше. — Войду, — повторил он. — Можете вызывать милицию. Что с Ольгой?
— Нахал! Бессердечный человек! — заявила Анна Михайловна, последний раз подпрыгнув и толкнув Петю в грудь назад к двери, затем, тяжело дыша, свалилась на стул возле зеркала и стала молча и бессмысленно смотреть на молодого верзилу, основательно исхудавшего за неделю неврастении и тоски, с трудом сдерживающего приступ кашля; жалея ее, он сказал:
— Вы меня мучаете, Анна Михайловна… Скажете ли вы наконец, что с Олей? Где она сама? Что случилось?
— Я должна вас спросить, я! — вновь повысила голос Анна Михайловна. — Боже мой, Боже мой, упустить такую девушку! Да, да, мне нечего вас оберегать, я все скажу! — мстительно продолжала она, заметив, как Петя вздрогнул. — Я настоятельно советую ей побыстрее выйти замуж за другого! За человека, который ее любит еще со школьной скамьи, который ее обожает и готов для нее… на все, понимаете, на все! И она просто дура, что не сделала этого до сих пор.
— Анна Михайловна…
— Нет, нет, выслушайте меня до конца! Не делайте взволнованный и страдающий вид, не стройте из себя благородного юношу! — остановила его она и, немного отдохнув, вновь пошла в наступление: — И даже это не главное, вы, безжалостный человек, растоптали в ней личность! Понимаете, личность! Такая гордая, с такой прекрасной душой — и вот ей встречается на пути такое… такое… бесчувственное млекопитающее в штанах, представляется этаким непорочным ангелом — и она забывает все; она готова на все! И идет на все! Она ничего больше не видит, и не хочет знать. Боже мой, Боже мой! Слышите, немедленно освободите ее душу, немедленно! Я требую!
— Как же я освобожу! — теперь уже пришел в волнение и Петя и потребовал: — И не смейте меня оскорблять! Я этого не выношу!
— И не подумаю! — заявила хозяйка вскакивая и снова подступая к нему. — Вы получаете по заслугам! Вы… вы…
— Стойте! Вы ведь добрый человек, вы и мухи не обидите… Зачем же так? — с невольной укоризной и обидой оборвал ее Петя; у него губы задрожали, и тогда Анна Михайловна, всхлипнув, сама ткнулась маленькой головкой ему под мышку и расплакалась.
— Скверно! Как это скверно! — говорила она сквозь слезы. — Зачем же люди мучают друг друга… Как вы могли! Как вы могли!
— Да что, что я мог! — выходя из себя, почти закричал Петя, с трудом сдерживаясь, чтобы не схватить ее за плечи и как следует не тряхнуть. — Что же я, наконец, сделал? Что? Говорите…
— Вы еще и актер! Вы еще и не знаете! — не желая сдаваться, возмущалась и Анна Михайловна. — Она не успела уехать в командировку, а вы уже у другой, вы уже… Она даже ребенка от вас не захотела! Она… Боже мой, что я говорю…
— У другой? У какой другой? Какого ребенка? Что за галиматья… Подождите… Да не прыгайте вы, ради Бога! — окончательно сорвался Петя, затопал и, чувствуя, что краснеет, все же не дрогнул под пронзительным взглядом безмерно разгорячившейся старушки, поймал ее руки, легонько сжал их. — Не было этого, ложь! Ложь! Как вы можете не верить… мне! — выдохнул он, сам себе изумляясь и клянясь в первую же встречу свернуть Лукашу шею («Он! Он, мерзавец! — стучало в голове. — Больше некому!»), и в то же время увлекая хозяйку из прихожей в комнату. — Нам необходимо поговорить! — требовал он. — Отвратительная мерзкая ложь! Так вот оно что! А я мозги вывихнул, никак ничего не пойму! Нет, этого так нельзя оставить! Как же она могла! Нет, вы окончательно все с ума сошли. Успокойтесь, вы успокойтесь, вы же видите, я спокоен, я — ничего… Ах, черт возьми! Это был бы непременно сын… Понимаете — сын!
— Что за чушь! — слабенько выкрикнула окончательно обессилевшая хозяйка. — Откуда такая уверенность?
— А я говорю — сын! Я знаю!
Не выпуская инициативы, Петя провел старушку, ослабевшую от чрезмерных перегрузок, в комнату, придерживая за сухонькие плечи, и бережно усадил, предложив согреть чаю; привыкшая всю жизнь ухаживать за другими и не замечать себя, она окончательно расстроилась, размякла и расклеилась, по ее словам, пришла в совершеннейшую негодность. Намереваясь разрядить обстановку, чрезмерно наэлектризованную, для дальнейшего необходимого разговора, которую сама же и создала, она немного поплакала, посморкалась в платок, затем, взглянув в зеркало, покачала головой, тронула себя под глазами и стала хлопотать вокруг Пети, предлагая ему поужинать и выпить чаю, а он все пытался выбрать момент и откровенно спросить об Оле; он даже вновь начал сердиться на старушку, отчего она по-прежнему молчит и ничего не хочет ему сказать, не так ведь трудно было и догадаться, каково у него на душе. Но и сама Анна Михайловна, отлично зная, чего ждет Петя, не могла сказать ничего определенного; она уже много раз выговаривала себе за свою несдержанность, распущенность, как она сама определяла свое поведение, и совершенно не знала, как же вести себя дальше, о чем теперь говорить с этим молодцом с мрачно горящими черными глазищами, которому она неизвестно зачем на свою голову позвонила, тем более что племянница строго-настрого запретила ей. И дальше они вели себя каждый сообразно со своей тревогой: хозяйка усиленно старалась обратить внимание гостя на банку малинового варенья, собственноручно приготовленного еще прошлым летом во время недельного гостеванья у старой подруги на даче, с добавлением листьев вишни и цветов липы, а он то и дело старался перевести разговор на старую, еще дошкольную фотографию Оли, висевшую в черной резной рамке на стене, но Анна Михайловна всякий раз пренебрежительно говорила, что работа неудачная и не стоит на ней задерживаться. Время шло, и он уже подумывал встать и распрощаться, и как раз в это время раздался, шум в прихожей, послышались веселые, оживленные голоса, и Анна Михайловна, тревожно взглянув на Петю, стремительно встала и вышла из комнаты, оставив дверь открытой. У Пети в груди заныло и что-то черное, бархатистое, жаркое плеснулось перед глазами; он встал, проклиная себя за медлительность, шагнул было к двери, но тут же отошел к окну. Оля кого-то уговаривала остаться и выпить чаю, и молодой, сильный мужской баритон, от которого у Пети все сразу же стало на дыбы, благодарил; что-то робко и невпопад сказала Анна Михайловна, и Петя, старавшийся удержать на губах легкую улыбку, увидел вначале Олю, затем мужчину лет тридцати, чуть пониже себя, с пышной соломенной шевелюрой. По лицу Анны Михайловны Петя тотчас понял, что и для нее появление племянницы с неизвестным светлоголовым, светлоглазым улыбающимся кавалером полнейшая неожиданность и что она попала в незавидное положение.
— О-о! — сказала Оля совершенно чужим голосом. — У нас гости… Здравствуйте, Петр Тихонович… Знакомьтесь, Виталий, это старый тетин знакомый, Петр Тихонович Брюханов, они давно дружат… А это Виталий Эдуардович Аксенов… доктор паук, уже нашумел, из края в край исколесил матушку Азию, — закончила Оля с нарочитой торжественностью в голосе, отступила на шаг в сторону, словно стремясь несколько иронически оценить дело рук своих; мужчины же, обменявшись взглядами, безошибочно почувствовав друг в друге соперника, быстро, стремясь поскорее завершить неприятную им и ненужную церемонию, пожали руки. Виталий сказал при этом: «Очень приятно», а Петя, лишь слегка кивнув, вновь отступил к окну, на выбранную для наблюдения позицию. У него от пришедшей определенности даже настроение улучшилось: вот все и разъяснилось, говорил он себе с облегчением, как все просто и обычно. Не надо искать никаких причин и не надо ничего объяснять; и мать не виновата, наоборот, надо перед ней извиниться; случилось то, что и должно было случиться. Появился весь вон какой удивительно соломенный, обожженный пустынями Виталий — и круг замкнулся. Высокие материи и категории кончились, налицо перспективный доктор наук, а с него, с интеллектуального путаника и бродяги, что возьмешь? И Лукаш здесь, надо думать, ни при чем, так уж сложилось, и некий мифический ребенок, так встревоживший нервную Анну Михайловну, скорее всего плод ее расстроенного воображения…
С любопытством наблюдая за поднявшимися хлопотами, Петя успокоился, вернее, убедил себя в своем равнодушии к происходящему; стоять дальше, когда уже все сидели, было неудобно и неловко, и он незаметно пристроился на диване; Оля же, занятая исключительно доктором наук, только на него и глядела, только с ним и разговаривала, но Анна Михайловна, выбрав момент, когда племянница накладывала Виталию в блюдечко знаменитое малиновое варенье с вишневым листом и липовым цветом и о чем-то тихо говорила ему, оказавшись рядом с Петей, тоже понизила голос почти до трагического шепота:
— Если вы сейчас уйдете, я перестану вас уважать! Навсегда! Будьте мужчиной и борцом!
И хотя глаза у старушки блестели, верный признак близившегося взрыва, Петя, теперь уже сам призывая ее смириться с неизбежным, благодарно улыбнулся ей; он уже твердо решил через минуту встать, попрощаться и навсегда забыть сюда дорогу, но Оля, ничего сейчас не упускавшая, оставила доктора наук и, глядя в их сторону, засмеялась:
— Тетя, тетя, ты, верно, совсем заговорила Петра Тихоновича, а ему и домой пора, у него такая гора дел и обязанностей… Ты не забыла?
— Ольга! — негодующе сказала Анна Михайловна. — Я попрошу тебя не лезть в чужие дела! Это, по крайней мере, неэтично!
— Тетя, что ты, зачем же эти ложные приличия? Ведь Петр Тихонович и в самом деле, кажется, умирает со скуки…
— Тебе кажется! Ты, милая племянница, перекрестись! — не осталась в долгу Анна Михайловна, и Петя, еще раз оскорбленный откровенным и грубым желанием отделаться от него поскорее, забывая о только что принятом решении, к торжеству старушки, заявил, что он, пожалуй, еще выпьет чашку чая, и пересел ближе к столу.
Удачно, сверх ожидания, завершив в Москве свои дела, Петя до своего, несмотря на категорические возражения Аленки, возвращения в Хабаровск, успел даже съездить за племянником к деду на кордон; сделал он это весьма неохотно, хотя Дениса он любил и был сильно привязан к нему; в обратной дороге он много и с удовольствием рассказывал заметно окрепшему за лето мальчику о дальневосточной тайге и реках, о наводнениях на Амуре. Когда Аленка подхватила потяжелевшего за лето на дедовских харчах внука на руки и закружила его по комнате, Петя с облегчением занялся другими делами и вскоре ушел; в глубине души он побаивался своего племянника и с трудом выдерживал его какой-то особенно пристальный, прямой взгляд. Сразу помолодевшая Аленка, забросив на время свои выкладки и схемы (она возглавляла спецгруппу, работающую по заданию института над таблицами контрольных данных городской наркологической службы), принялась деятельно готовить Дениса к школе и внимательно к нему присматривалась, пытаясь понять, что за изменения произошли в характере мальчика за два месяца пребывания на кордоне. Несомненно он физически окреп, поздоровел, заметно вытянулся; из пухлощекого, рыхлого горожанина превратился в загорелого крепыша с густо исцарапанными руками и ногами. Внук наотрез отказался, например, чтобы она, как раньше, собственноручно купала его; непривычно, сумрачно, совсем по-брюхановски нахмурившись, он заявил ей, что уже не маленький и вымоется сам, без ее помощи. В ответ Аленка затормошила внука; он отчаянно отбивался от ее ласк и, получив наконец свободу, принялся неторопливо, обстоятельно, как и все, что он теперь делал после возвращения от деда, затачивать разноцветные карандаши подаренной ему в числе других сокровищ черно-белой, овальной, в форме пингвина точилкой. Взбивая мусс и одновременно поглядывая на подходившее тесто для беляшей (она решила полакомить внука его любимыми кушаньями), — Аленка с удовольствием слушала рассказы про кордон, про белое-белое поле и про Дика и думала о своем; она старалась никогда не вспоминать своего сумасшествия, время своего разрыва с Брюхановым и ухода к другому, когда дочь на какое-то время осталась фактически без отца и без матери, на руках доброй, но недалекой старухи — Тимофеевны, без конца причитавшей над девочкой о ее несчастной сиротской судьбе; вот когда, пожалуй, и обозначилась самая первая трещина, ведь мужчина может простить женщине измену, а ребенок матери предательство не прощает никогда; здесь срабатывают какие-то иные, неведомые и непредсказуемые биологические силы и связи. Много ли у нее оставалось времени для детей от работы, от мужа, от ее многочисленных общественных нагрузок, от желания нравиться, а главное, пробиться выше, доказать какую-то свою исключительность? Кому доказать? И кто возьмется взвесить весомость сделанного ею, кроме нее самой? Куда пойдут стрелки? Надо честно и бесстрашно — самой себе в глаза… С другой стороны, сколько людей она поставила на ноги, вернула им радость в жизни… Именно, именно… вот утешение и оправдание, делала одно, упускала другое, просмотрела души двух самых близких существ, потому что не смогла, не сумела отдать принадлежащее им по праву естества — всю себя без остатка, все свои помыслы… За все в жизни приходится платить, но такая плата слишком непосильна, она чувствует, что еще чуть-чуть — и не выдержит, надломится.
Аккуратно доев все до последней капли и даже вычистив тарелку досуха кусочком хлебного мякиша, Денис совсем как-то по-иному, чем раньше, сказал: «Спасибо», и Аленке так ясно представился отец на кордоне за своим дубовым столом, как если бы она видела его перед собой на самом деле; сердце ее захлестнула нежность; именно этот мальчуган, беззастенчиво, пристально устремивший сейчас на нее свои золотистые глаза, послан ей жизнью как милость, как единственная возможность оправдать самое себя, успокоиться и очиститься от своей вины, если она была, в нем сейчас главный ее долг и искупление перед жизнью, не выполнив которого ей нельзя будет спокойно уйти, несмотря на все сделанное.
— Денис, — позвала она дрогнувшим голосом, — ну, расскажи еще, как вы там жили, как там у деда? — попросила она и, по выражению глаз, по оживившемуся лицу внука уже зная ответ, испугавшись кольнувшей ее ревности, поспешила добавить: — Да что я спрашиваю! Сама бы там жила, век не уезжала… дед у нас совершенно замечательный… Ничего не скажешь, с дедом нам здорово повезло. Пожалуйста, Денис, не грусти, осень скоро промелькнет, затем зима пройдет, не успеешь оглянуться — весна на носу. А там, глядишь, снова на кордон поедешь, правда? Хочешь снова к деду на кордон? Вот и хорошо. Если будешь слушаться и хорошо учиться, можешь жить все лето у деда…
— Правда? — как о несбыточном счастье, переспросил мальчуган, бросаясь к ней с разгоревшимися глазами. — Правда, бабушка?
— Правда, ну, конечно, правда, Денис, — быстро, не задумываясь, ответила она, стараясь подавить подступивший неведомый страх. — Я так по тебе скучала… Ты ведь меня не забыл, правда? Тебя здесь так все ждали, я даже билеты в цирк сколько раз покупала, думала, приедешь вот-вот, и мы сразу в цирк… А деда Костя с тобой в уголок Дурова собирается, знаешь, там звери стирают белье и лечат друг друга… Давай, давай иди мойся, я тебе чистые трусики и майку приготовила… Ты теперь взрослый человек, ученик первого класса, и все теперь умеешь делать сам. А чего не умеешь — научишься… Так наш дедушка говорит, дед Захар, верно?
Не много прошло времени со дня приезда Дениса, но он с каждым днем все больше озадачивал Аленку своей какой-то необычной для ребенка собранностью, деловитостью и вдумчивостью. Она вспоминала своих собственных детей и не находила в них ничего общего в сравнении с внуком. И она не ошиблась: мальчик с большим интересом, как-то враз, без усилий стал бегло читать и писать, еще лучше рисовал, и она с улыбкой часто наблюдала, как он по вечерам, высунув от напряжения кончик языка, сопел над альбомом. Стараясь теперь как можно больше быть дома, она устраивалась с работой где-нибудь неподалеку; изредка они переговаривались; она начинала находить удовольствие в этих тихих домашних вечерах, особенно когда Шалентьева не случалось дома. Денис все больше втягивался в учебу, и лишь иногда она замечала в нем какую-то недетскую серьезность: сидит над раскрытой тетрадкой или книгой с устремленными прямо перед собой невидящими, застывшими глазами.
— Денис, Денис, — окликала его она, — ау, ты чего задумался?
— Да нет, бабушка, я ничего, так, Дика вспомнил, — вздрагивая от неожиданности, не вдруг отзывался Денис; глаза у него гасли, и он опять принимался за свои тетрадки и книжки. Она никогда не лезла к нему в душу, но, памятуя о своих собственных детях, старалась незаметно участвовать во всех делах внука, естественно втягивая в свои заботы и Шалентьева; и тот, занятый своими трудными и сложными мыслями и планами, вначале нетерпеливо отмахивался, но вскоре невольно оказался вовлеченным в совершенно новый для него по краскам и восприятию, непосредственный, порой удивительно сложный и загадочный мир детства, где так же, как и в высокой политике, каждый новый шаг нужно было завоевывать, а самое главное, закреплять упорными терпеливыми стараниями, где каждую минуту могли произойти неожиданности и после любого промаха приходилось начинать все сначала. Денис часто утомлял Шалентьева своими вопросами и проказами, но тем не менее Шалентьев уже чувствовал какую-то внутреннюю нерасторжимую связь с упрямым, своевольным мальчишкой, только в возне с Денисом на время как бы разжимались жесткие тиски необходимости, а после пытливых непрерывных вопросов неугомонного мальчугана, часто ставящих Шалентьева, человека в общем-то рационального, неулыбчивого, наглухо замкнутого на самом себе, в тупик, ему как бы приходилось переосмысливать раз и навсегда затверженные основы бытия. В общении с мальчиком он чувствовал себя помолодевшим, обновленным и сильным, и тем неожиданнее и резче была его реакция, когда однажды, в один из вьюжных февральских вечеров, Аленка позвонила ему и упавшим, бесцветным голосом сообщила, что Денис исчез; в первую минуту он даже решил, что ослышался.
— Вот уж глупая шутка… Как исчез?
— А так, не вернулся из школы, до сих пор его нет. И привратница не видела… Приезжай домой, я все обзвонила, я с ума схожу…
— Погоди, погоди, — остановил он жену. — Какая-то чепуха… Очевидно, зашел куда-нибудь… Мальчишки… Малышевым звонила? Он с этим… Эдиком дружен…
— Звонила, звонила, — не дала договорить ему Аленка, неосознанно отмечая про себя неожиданную осведомленность мужа. — И Павлику Петрову звонила, и Вале Абрамову… Послушай, Костя, ты сам не волнуйся… самое неприятное в другом. Он сегодня и не приходил в школу. Я классному руководителю звонила и в школе была, никто его сегодня не видел. Учительница думала, заболел. Я там все вверх дном поставила.
— Ну, это уж совершенно невероятно! — Шалентьев не знал, что думать. — Ведь школа-то в двух шагах, через двор, даже на улицу выходить не надо… Ну ты успокойся, отыщется, ничего, с ним не могло случиться… Хорошо, хорошо, выезжаю. Ничего без меня не предпринимай….
В эту ночь в Москве не стихала метель; тесные переулки и широкие новые проспекты, просторные гулкие площади и тесные старые московские дворики насквозь пронизывали озорные снежные потоки, и все тонуло в белесой беспорядочной сумятице; самые яркие фонари слепо просвечивали огромными, зыбкими, почти фантастическими шарами; такой метели давно не помнила Москва, и не только Аленка с мужем, не отходившие от телефона, бодрствовали в эту ночь. Многие старые люди, страдавшие подагрой и бессонницей, измученно ворочались с боку на бок, вновь и вновь включали свет, прислушиваясь к неутихающим порывам ветра за окнами, косым, хлещущим в стекла снежным потокам, вспоминали времена молодости, румяную довоенную Москву с низко плавающим в сухой морозной мгле огненно-красным поплавком солнца, ругали ученых, испортивших своими космическими экспериментами климат, оправдывающих сделанное бесконечными, неслыханными циклонами, областями высоких и низких давлений. Может быть, старые, пожившие на свете люди были в чем-то и правы; за современной наукой давно уже числились не одни только достижения; все больше становилось грозного в природе, пугающего, необъяснимого; погода в эту зиму на планете действительно как будто поменяла времена года и части света. Весь земной шар был охвачен катаклизмами: в Австралии бушевали гигантские лесные пожары, по Южной Америке катилась волна мощных землетрясений, Европу заносило многометровыми снегами, а на северо-востоке Азии один за другим просыпались вулканы, И метель, обрушившаяся на Москву в эту ночь, тоже была необычайной по своей сокрушающей силе и охвату. Пробушевав сутки и не думая стихать, распространяясь на северо-запад, она захватывала все новые и новые области, набирая силу, срывала линии электропередач, сковывала движение поездов и автотранспорта. Спутались все графики, и поезда, отходившие от Москвы, намертво останавливались на перегонах из-за мощных снежных заносов.
Скорый поезд из Москвы по расписанию стоял в Зежске всего три минуты. Дежурная проводница из пятого вагона, задыхаясь от рвущих, сбивающих с ног порывов ветра, держась за поручни, выбравшись на перрон, выпустила трех пассажиров и сейчас же торопливо нырнула в тамбур. «Прямо конец света», — подумала она, зябко ежась и подбрасывая в печку уголь, в то же время опасаясь того, что на такой дикий рейс никакого угля теперь не хватит, и пассажиры скоро станут скандалить, и будет нервная и нехорошая ночь. В этот момент опять, теперь уже словно сама собой, резко распахнулась дверь вагона, в тамбур ударил ветер и клубящийся снег. От неожиданности проводница вскрикнула — опять какой-нибудь полоумный, опоздавший на посадку в ее вагон, но на перроне, насколько она могла разглядеть сквозь крутящуюся снежную круговерть, никого не было видно, и она, поднатужившись, поспешно водворила дверь на место и намертво защелкнула ее. Тут поезд тронулся и, как длинное гигантское чудовище с мутными полукружьями глаз, обрывая с себя кипящие клочья метели, с трудом отвоевывая метры пути, натужно пополз в густую тьму, а на пустынном зежском перроне остался едва удерживаясь на ногах, так неожиданно пропавший и наделавший столько переполоху Денис. От метельных потоков в трех шагах ничего не было видно, фонари вверху беспорядочно мотались огромными, еле различимыми слепыми кругами. Мальчик привалился спиной к засыпанному снегом какому-то дощатому строению и перевел дух. В первую минуту он испугался, затем из бушующего вокруг хаоса в его потрясенном сознании, в бешено колотящемся сердчишке выделилась одна нота; он почувствовал приближение чего-то самого чудесного в своей жизни; ветер, веселый, плотный, наполнивший его радостным ожиданием, вот-вот должен был подхватить его, поднять высоко в воздух и пронести высоко над землей, над лесом, до самого кордона, где его непременно встретят дед Захар, Дик и Серый; он заберется к Серому на теплую широкую спину, и они будут скакать по снежному лесу. Он приготовился, расставил руки пошире и даже несколько раз подпрыгнул; и он не ошибся. Белое, плотное крыло метели подхватило его, подбросило вверх и, крепко, словно жаркими сильными руками, обхватив со всех сторон, куда-то понесло; сердце у него гулко и радостно забилось. Он увидел внизу частые, разноцветные огни и звезды; несущее его упругое крыло чуть ослабло, и ощущение полота и высоты резко оборвалось; перед Денисом оказался улыбавшийся ему, приветливо махавший хвостом Дик.
«Денис, а Денис, ты ничего не знаешь? — сказал ему Дик. — Вчера у нас на кордоне был сам хозяин…»
«А дед Захар? Где дедушка Захар?» — спросил Денис, легко перепрыгивая с тугого метельного крыла ближе к Дику и обнимая его за напрягшуюся шею; Дик тут же лизнул его в щеку теплым шершавым языком и ничего не ответил. Денис увидел деда сам; тот колол дрова, ловко ставил березовый кругляш перед собой, крякал, взмахивал топором — и кругляш разлетался надвое.
«Дед, дед, постой, я тебе помогу!» — звонко крикнул Денис и, не услышав своего голоса, озадаченно оглянулся на Дика, но того уже не было рядом; и тогда Денис, поскользнувшись, с остановившимся от восторга сердцем полетел куда-то вниз, прямо в сплошное море горевших огней и звезд.
Когда он пришел в себя, до него откуда-то издалека, еле слышно стали доходить голоса, чьи-то внимательные, участливые лица склонились над ним.
— Крепкий мальчонка… это черт знает что такое… я бы таких родителей вздрючил как следует… родительских прав лишил… Моя вон вторую девку рожает… везет кому не надо… Мне бы такого мальца… Украл бы, ей-Богу…
— Будем надеяться, что натура свое возьмет, сильно его прихватило… осторожней, товарищ старший лейтенант, осторожней… Так оно и бывает в жизни, кому не надо — везет, а другой так своего часа в жизни и не дождется… Осторожней, говорю вам! Он, кажется, в себя приходит, — встревоженно проговорил мягкий женский голос, и Денис различил лицо склонившейся над ним пожилой женщины в докторской белой шапочке, плавными и сильными движениями растиравшей ему грудь, живот, ноги; специфический, неприятный запах ударил ему в ноздри, он сморщился и чихнул.
— Ну вот, будь здоров! — весело прозвучал над ним еще одни, тоже как будто знакомый голос, очевидно, того самого старшего лейтенанта, который хотел его украсть, и туг Денис увидел заветренное, темное молодое лицо, затем погоны, большие руки и сразу почувствовал к этому человеку полнейшее доверие и даже потянулся к нему. Женщина в белом улыбнулась им обоим, ловко приподняла Дениса, дала ему сладкого горячего, обжигающею чая и стала одевать.
— Что за зима сегодня! — неизвестно кому пожаловалась она со вздохом. — Моих знакомых до самой трубы занесло, они на окраине живут. Я такого не видывала… Вторые сутки буран, ведь уже восемь утра, а в окнах сплошная тьма… Не знаю, как домой добираться… транспорт не работает… автобусы не ходят…
— Зима настоящая, русская, — с неожиданным удовольствием подтвердил старший лейтенант, продолжая искоса, незаметно наблюдать за мальчиком, и тот, ощущая неизвестно откуда исходящую опасность, внутренне напрягся.
— Ну вот так, дружок, — сказала женщина в халате, закончив одевать Дениса. — Теперь, пожалуйста, полежи спокойно. Отдохни. Угораздило же тебя потеряться… Зовут-то тебя как?
— Денисом…
— Мужественное имя… Откуда же ты ехал? И куда? Или ты, парень, наш, зежский? Что с тобой случилось?
— Ничего не случилось, — не глядя на нее, хмуро ответил Денис. — Я к деду на кордон ехал… он здесь на кордоне, дед Захар…
— Ты ехал один? — спросила женщина в халате, и Денис, уловив в голосе у нее недоверие, окончательно насторожился. — Тебя что же, в Москве посадили в поезд одного и поручили проводнику? Давай посмотрим твой билет.
— Меня так посадили, без билета, — сказал Денис, чувствуя, что дело принимает нежелательный оборот. — Меня до Зежска посадили, а потом у меня пять рублей есть — до кордона доехать…
— Хорошо… До какого же кордона, ты знаешь? — спросила женщина в белом, и глаза у нее стали грустными и жалеющими; она подумала, что даже за таким вот маленьким человечком уже кроется какая-то трагедия, и он не хочет о ней говорить, и спросить прямо об этом его тоже нельзя, можно стронуть нечто совсем уже запретное в детской душе, и Денис, хотя и не мог бы ничего объяснить словами, почувствовал доверие к женщине в белом халате, с грустными, понимающими, усталыми глазами, и установившуюся между ними связь.
— Демьяновский кордон, — сказал оп. — Там дед Захар…
— Прекрасно, молодец, Денис, — сказала женщина в белом и уже старшему лейтенанту: — Вы позвоните, пожалуйста, Серегин…
— Позвонить? Кому же? Какой-то кордон, какой-то дед… Слушай, Денис, давай мы с тобой поговорим по-мужски, начистоту… Никто тебя обижать не собирается…
— Подождите, подождите, Серегин, — остановила его женщина в белом. — Вы и звоните в лесничество, лесничему… Кажется, Игнат Назарович Воскобойников… да вот же справочник, уточните… Уж он свои кордоны должен знать… Вы звоните, мы пока немного перекусим, у меня несколько бутербродов есть… есть горячий чай в термосе.
Старший лейтенант подчинился, сел к столу с телефоном, долго листал пухлый, с обтрепанными углами справочник, набрал номер; сначала на его лице промелькнуло недоверие, затем оно стало строже, суше; отвечая кому-то и задавая вопросы, он раза два с любопытством взглянул в сторону жующего Дениса, занятого хлебом с колбасой и чаем.
14
Лесничий Игнат Назарович Воскобойников, человек еще сравнительно молодой (ему пошел тридцать пятый), работал в Зежске уже более десяти лет, и его хорошо знали не только все лесники, лесозаготовители, но и браконьеры; знало его, разумеется, и областное начальство; к нему внимательно присматривались и в Москве. Человек беспокойный, рожденный и выросший в лесу, пробившийся из глухой слепненской лесной деревушки в двадцать два двора к высшему образованию, раз и навсегда влюбленный в лес, молодой лесничий слишком много думал, искал и предлагал, слишком много делал такого, чего другим не приходило в голову; своей деятельностью и инициативой он вызывал не только интерес, но и немалые заботы. Его оставляли в академии, он наотрез отказался и уехал в свою зежскую глухомань; через два года своего жития он перенес одно из сильнейших в своей жизни потрясений (его жену и трехлетнего сына из личной мести едва не убили двое браконьерствующих братьев из соседней деревеньки), и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не помощь именно Захара Дерюгина, лесника с Демьяновского кордона, хмурого молчаливого старика; первые несколько лет Воскобойников был с ним буквально на ножах и упорно старался выжить его из леса, и только вышестоящее начальство, давно уже негласно соблюдавшее неписаное, неукоснительное правило не трогать старого лесника, как бы даже и не замечать его существования, вразумило молодого горячего специалиста. Но эти времена, слава Богу, давно уже прошли; услышав о Денисе, лесничий, к счастью оказавшийся на месте, тотчас поспешил на вокзал, в медпункт, и увез мальчика к себе, и теперь с интересом присматривался к сидевшему за столом Денису, вокруг которого хлопотала и ахала жена, усердно пичкая его обильным завтраком; Воскобойников решил, пожалуй, одну из самых трудных задач в своей жизни. Денис, запомнивший его по единственной встрече летом в прошлом году на кордоне, тоже украдкой наблюдал за ним; лесничий ему тогда, летом, понравился, и особенно своей доброй, хорошей улыбкой, и Денис почему-то сразу поверил, что тот поможет ему добраться до деда. В другое время Воскобойников тотчас уловил бы провалы в путаных объяснениях мальчика, но сейчас, занятый больше вчерашним приглашением в управление и разговором с людьми весьма высокого ранга и положения, а самое главное, смыслом и сутью этого разговора, о котором он не мог не только поведать, но даже намекнуть и собственной жене, он, выслушав сбивчивые, неясные объяснения Дениса насчет его неожиданного появления в Зежске, переглянулся с женой и успокаивающе кивнул.
— Ладно, ладно, Дениска, — сказал он, слегка щурясь и весь освещаясь ясной открытой улыбкой изнутри. — Мне самому позарез нужно увидеться с твоим дедом… И как можно скорее… Вот только как мы с тобой туда добираться будем? Видал, какая буря? Старые люди говорят: снежная зима — хлебушек в закрома, так-то… Ладно, — опять повторил он, — что-нибудь придумаем, метель вроде стихает… Ну, парень, силен, удивишь ты деда… Сам ему все и расскажешь… а я-то что, я тебе верю, значит, иначе было и нельзя. — Лесничий потянулся, взъерошил волосы на затылке Дениса, проникаясь к этому мальчугану с золотистым отсветом в глубине серых, с легкой прозеленью глаз невольным уважением. Вообще необычайно чуткий к любому проявлению жизни в лесу, старавшийся дойти до главного в самом, казалось бы, необычном явлении, он тоже, как и врач на привокзальном медпункте, почувствовал, что нельзя вмешиваться в этот случайно открывшийся ему сложный и, несомненно, болезненный к внешнему насильственному вторжению процесс становления детской души, хрупкой и беззащитной и в то же время уже в самом начале своего пути так ярко разгоревшейся. Все должно пройти свой путь обретения…
Попросив жену собрать Дениса, потеплее одеть его, а самое главное, никому ни о чем не говорить, ни соседям, ни знакомым, он сходил на работу, отдал нужные распоряжения и во второй половине дня, дождавшись прекращения метели, они отправились в путь. Над непостижимо девственными, голубовато-белыми, словно горящими под низким солнцем, пространствами земли установился неожиданный глубокий покой, и лишь изредка срывалась и тут же вновь опадала легкая поземка; грейдеры уже расчищали бетонку от заносов, и они до Густищ добрались на машине, затем пробивались верхом на лошадях, утопавших в снегу по брюхо, и лесничий опять радовался обилию снега, а у Дениса or восторга перехватывало дыхание, и он, неумело ерзая в седле, счастливо вертел головой, стараясь ничего не упустить по дороге; но держался он цепко (на кордоне летом он под наблюдением деда несколько раз уже ездил на Сером верхом) и, несмотря на усталость, отказывался остановиться и передохнуть. Добрались до кордона они уже совсем к вечеру; крылатая, огненно-нежная — на мороз — заря охватывала лес; снег на елях отсвечивал прозрачной синью, и тени от деревьев четко отпечатывались в одну сторону — на восток. Въехав на кордон (ворота уже были расчищены) и встреченные молчаливым Диком, лесничий с Денисом тотчас увидели вышедшего из дома Захара в накинутом на плечи нагольном полушубке; над крышей дома, укутанной толстой, искрящейся шубой, предвещавшей мороз и ясную погоду, неподвижно перечеркивая стылое небо, стоял высокий столб дыма.
— Ну, Тарасыч, принимай гостя! — закричал весело Воскобойников и хотел было помочь Денису выбраться из седла, но тот, крикнув: «Сам! Сам!», скатился кубарем наземь и бросился, прихрамывая, к деду.
— Вот так гость! — сказал лесник растерянно; Денис крепко обхватил его за шею и ткнулся губами в жесткий, заросший седой щетиной подбородок; Захар, не зная, что и подумать, прижал его к себе и вопрошающе уставился на лесничего. — Игнат, да ты что молчишь? — наконец не выдержал он.
— Сам тебе расскажет, Тарасыч, — сказал лесничий, весело блестя глазами. — Я у тебя заночую, можно? Коней надо поставить….
— Сейчас… Денис, погоди, погоди, гляди, вон Дик страдает… обижается….
Он опустил Дениса наземь, и кордон охватила несвойственная ему неразбериха и сумятица. Денису требовалось все немедленно осмотреть и проверить, он не отставал от Захара, расседлывавшею, ставившего лошадей на место и задававшего им корм, за ним неотступно следовал Дик, тут же неподалеку ошалело вертелась выбежавшая из дому Феклуша; лесник, несколько ошарашенный непривычной суетой, сердито приказал, ей готовить ужин, и она неслышно умчалась. Набив кормушки душистым лесным сеном, к которому лошади дружно потянулись заиндевевшими мордами и стали хватать его мягкими ловкими губами, лесник покосился на правнука, стоявшего с крепко сдвинутыми бровями, и спросил:
— Ну что? Давай говори. Что ты все стоишь да молча сопишь… Говори….
— Я к тебе, дед, насовсем жить…
— Так, — но сразу отозвался лесник, присел на решетчатую скамью для конской сбруи и приладил рядом тускло горевший фонарь. — Иди-ка сюда, Денис, а то я тебя совсем не вижу… Иди… иди….
Он повернул упирающегося мальчугана за плечи к себе, внимательно всматриваясь ему в лицо, усадил рядом.
— Так, — повторил он, не зная, что дальше и делать. — Ты что ж, сам собою удрал? А о других ты подумал? А что там теперь с твоей бабкой творится? А с дедом Костей? Да ты знаешь, какой там теперь тарарам? Ты что, хочешь, чтобы меня за решетку посадили? Нет, Денис, так не делается. Я свое уже отсидел… Мне туда больше не хочется на старости лет…
— Дед, дед, — робко пытался остановить его Денис, но лесник, досадуя больше всего на свою запретную, больную, ненужную радость, понимая, что это нехорошо с его стороны, все говорил и говорил, пока немигающий, взгляд правнука не прервал его непривычную длинную речь.
— Ты это что так на меня глядишь, а? — озадачился он и наклонился пониже.
— Дед…
— Ну… что опять натворил? Давай, выкладывай….
— Дед… а ты правда в тюрьме сидел?
— Тьфу! Вот обормот! С тобой, парень, я гляжу, не соскучишься, — окончательно озадачился лесник, опять пересиливая свое желание подхватить мальчонку на руки, прижать к себе, замереть и просто посидеть без всяких забот и мыслей.
— Дед…
— Ладно, Денис… придет время, поговорим и об этом.. А теперь недосуг, нехорошо, там в доме гость, Игнат Назарович, а мы с тобой забились на конюшню… А человек-то хороший. Пошли, Денис… пошли…
— Дед, не хочу в Москву, — быстро и зло сказал Денис, и лесник, досадливо крякнув, нахлобучил ему шапку на самые глаза.
— Вот опять — я, только я да я! Хочу, не хочу! — подосадовал лесник. — А как другие?
— Дед…
— Ладно, тебе говорю! Пошли, пошли, — сказал лесник и, прихватив фонарь, встал; лошади хрустели сеном, и пахло, несмотря на звонкий февральский мороз, теплом и летом. Завороженные глубоким искрящимся звездным небом, дед с правнуком молча постояли рядом, и что-то темное, нерассуждающее бесшумно пронеслось в душе лесника; что-то стиснуло ему грудь, перехватило дыхание; крепче сжав еще хрупкое, ребячье плечо Дениса и опережая его расспросы, он, опасаясь выказать перед ним свою слабость, молча повел его в дом, и Воскобойников, увидев лицо лесника, споткнулся на начатой фразе.
— Я, Тарасыч, на своем привычном месте расположился, — сказал он после паузы. — Там у тебя грибной дух…
— Сейчас ужинать будем, — ответил лесник, подстраиваясь под его бездумный тон и по-прежнему незаметно для себя сжимая плечо Дениса, словно опасаясь потерять его. — Феклуша, давай, что там у тебя… Ставь на стол.. Раздевайся, Денис, свою комнату знаешь, иди-ка, там никто ничего не трогал….
Денис, чувствуя за его словами нечто большее, не удержался, подпрыгнул от восторга, издал воинственный клич и умчался к себе; за ужином он, угревшись, мгновенно уснул, и Захар унес его в постель на руках, тщательно укрыл цветным лоскутным одеялом и, вернувшись, не глядя на Воскобойникова, хмуро ответил на его немой вопрос:
— А я что могу! Не хочет Москвы, и все тебе… А там теперь с ума сходят… Кто же подумает, что такой шпингалет посреди зимы к деду в лес отправится да еще и без билета, без одежонки стоящей? Ты, Игнат Назарович, завтра будешь в Густищах, лошадей поведешь, телеграмму, ради Бога, отбей, а то московская родня с милицией сюда явится, по всей стране розыск объявят… Большой судьбы, видать, явился на свет человек, да ведь до того еще вырасти надо, душу в сохранности пронести… А как? Мне долго ли теперь небо коптить? Что тут придумаешь?
— Знаешь, Тарасыч, оно само собой уляжется, вот посмотришь, — сказал лесничий, прихлебывая из крепкой фаянсовой белой кружки душистый отвар лесной груши с медом. И хозяин, слушая, остро глянул лесничему в глаза: Воскобойников всегда ему нравился своей степенностью и привязанностью к родным местам, и даже тем, как он его называл, с удовольствием, казалось, выговаривая «Тарасыч». — У ребенка-то душа зорче, верно ты говоришь, главное бы ее не сломать, а то ведь сколько нынче по свету горбатых развелось! Ходит важно, умел, рассуждает одно к другому впритык, под рубаночек, слова не вставишь, чины на нем, звания, все выделанное, вылощенно, а душа горбатая, как что, так и кричит от тоски да злобы…
— А как? Как, Игнат, душу-то уберечь, не сгорбатить? — спросил хозяин, подождав, не выскажет ли лесничий еще каких-нибудь потаенных мыслей. — Ему учиться надо, как же тут быть? Надо его, чертенка, как-то образумить… что придумал, а? Ну не наткнулся бы на него милиционер еще немного, а? Ну нет, к чему мне такая припарка?
— Думать надо, Тарасыч, — сказал Воскобойников. — Рядом с тобой он человеком вырастет, а так… Знаешь, ты не спеши с решением… К чему тебе припарка? А ведь, если вдуматься, в конце концов, ради чего мы живем? Не ради же одного только желудка. Есть ведь что-то и другое, а что оно — другое? Одно я знаю: рядом с тобой, Тарасыч, прямое деревце поднимется, и глазу, и сердцу будет любо…
— Ты, Игнат, посмеяться вздумал? — нахмурился хозяин. — Из меня самого труха сыплется, какое там еще деревце? Учиться мальцу надо, учиться, вот что!
— Думать надо, — опять повторил Воскобойников.
— Дочки моей не знаешь, — с усмешкой качнул головой Захар. — Она тут не то что кордон, все зежские леса на воздух подымет, один дым останется. Ты, верно, знаешь, кто у нее нынче-то в мужьях, Игнат…
— Знаю, — сказал лесничий. — Я теперь еще и мальчонку, внука ее, знаю… тут еще бабушка надвое сказала, Тарасыч… Феклуша, ты иди спать, — слегка повысил оп голос на проносившуюся мимо в который уже раз Феклушу, но договаривать ему пришлось вслед, в пустоту; та мелькнула и пропала. — Нам уже ничего не нужно, чего она мечется?
— Ты ее теперь не угомонишь, — сказал Захар. — Всю ночь возле мальца прокрутится… Пусть ее, много ли у нее в жизни радости… Тоже судьба, не позавидуешь, ворочаю, ворочаю иной раз мозгами, а так ничего и не придумаю. Зачем такой человек приходит в мир, живет на свете? Хотя… если подумать зла от нее никому никакого….
— Ого-о! Никому зла не сделала… В наше время, Тарасыч, это уже добро. Да и во все времена так бывало.. А добро не проходит бесследно….
Они еще поговорили о новостях в Зежске, лесник спросил, правда ли, что зежский моторостроительный по-прежнему добивается выделения ему зоны отдыха на одном из самых красивых лесных озер, Утином озере, и сказал, что, если туда, на Утиное, пробьют дорогу, можно будет махнуть рукой, лес начнет захламляться и реки сохнуть. Воскобойников заметно поскучнел, и глаза его сделались отсутствующими; они говорили об этом не первый раз; директор зежского моторостроительного поставил своей задачей заполучить Утиное озеро, и действовал и прямыми, и окольными путями, хотя ему пока всякий раз наотрез отказывали — зежский лесной массив входил в особую природоохранную зону, в ней категорически запрещалось любое строительство.
— Знаешь, Захар Тарасович, — сказал лесничий, неприметно вздохнув, — я к тебе поговорить и приехал… Крутиться вокруг да около не стану… Тут дела похлеще… начинаются. Не знаю, как тебе и сказать…
— А так и скажи, Игнат, как есть…
— Только разговор наш, Захар Тарасыч, строго между нами, ты ничего не слышал… Хотя разговор наш с тобой особо оговорен…. и даже у тебя, как бы это сказать… просят помощи… Зежский лесной массив, Захар Тарасович, военные облюбовали, и видимо, всерьез и надолго. Зачем-то им понадобилась именно эта точка… У них своя стратегия, и здесь… начинают какое-то подземное строительство. Сверху, на земле, ничего и не переменится, лес себе и лес, как я понял, все будет делаться под землей. Затронут и северную часть Демьяновского кордона. Тут ничего не поделаешь, зежские леса объявляются абсолютно закрытой зоной… Из лесников, Тарасыч, останешься один ты, все остальные под теми или иными предлогами заменяются. Сюда придут другие люди.
— За что же это мне такая честь? — хозяин сгорбился на стуле, сильнее обычного чувствуя тяжесть, казалось бы, стремительно пронесшихся лет; в ответ Воскобойников лишь развел руками — мол, к сказанному ничего добавить не сможет, и Захар подумал, что лесничий, очевидно, и сам до конца еще не понял, всего он тоже не знает…
— Ты на меня не обижайся, Тарасыч, — попросил Воскобойников. — Я тебе все без утайки сказал… Знаешь, Тарасыч, оно, может быть, и к лучшему, теперь уже доступа в лес никому не будет… все поставят под телевизионный обзор, а леса что, леса будут себе стоять пока… А почему тебе такая честь, видимо, тоже высчитано. Тебя в этих местах каждый знает, тебе верят… Народ-то никуда не денешь… Вот и объяснение. Пока Дерюгин на месте, все на месте, какое тут еще объяснение?
— Вот беда, — совсем расстроился Захар. — Хоть бы помереть спокойно дали… Вроде и заслужил…
— Тебе говорить о смерти рано, Тарасыч, — сказал. лесничий, кивая вслед прометнувшейся мимо Феклуши. — Рядом с тобой такой парень поднимается… Жить надо, Тарасыч, нам долго жить надо, всему наперекор! Мы еще много чудес увидим на Руси, надо долго жить, и хоть каких-нибудь результатов дождаться… А то, о чем я тебе сказал…
— Давай-ка расходиться спать, Игнат, — оборвал лесник, тяжело встал, накинул на плечи полушубок и вышел во двор. Все услышанное разбередило его, всего было слишком много; и сами леса, и подземное строительство, и грядущие перемены в родных местах, впрочем, лично от него здесь мало что зависело, а вот неожиданное появление правнука, его дикий поступок (каким образом удалось мальцу незаметно проскочить в поезд и добраться до Зежска?) перевернули все вверх дном в душе, и нужно было теперь время, чтобы разобраться в случившемся и что-то важное для самого себя решить.
Крепкий, безветренный мороз и высокое ясное небо в частых, ярких звездах встретили Захара; он постоял на крыльце, затем, твердо проскрипев промерзшими ступеньками, медленно пошел по двору. Скрип снега разносился звонко и далеко; Дик вышел из конуры и издали следил за хозяином. Вокруг был привычный, прочный мир, но и в нем уже что-то окончательно и неостановимо готовилось стронуться. И застарелое чувство боли вновь потянуло Захара к звездам, он словно ждал ответа именно от них и, остановившись посередине двора на широком открытом пространстве, долго, пока у него не закружилась голова, смотрел вверх, и какие-то неясные, темные мысли кружили ему душу. Что, что там может быть, думалось ему в знобящей тоске воспоминаний о своем младшем и потому, быть может, самом дорогом, о своем Кольке, о тайной своей гордости и неизбывной боли, что там есть такое и почему люди никак не могут успокоиться и рвутся туда, не страшась даже смерти? Проходит по земле человек и уходит, и зачем он тогда приходит? Не там ли, среди недоступных звезд, таится отгадка, и не потому ли рвутся туда люди? И тот же пострел, Дениска что учудил… Тоже, поди, хочется ему куда-то к своим звездам, не желает никакой тебе Москвы, подавай ему лесную темень… А похож на своего дядьку Николая как две капли воды, ничего не скажешь… не приведи Бог, если еще и по судьбе окажется похожим… похож, похож, правда, продолжал думать свое лесник, он еще тридцать раз изменится, пока вырастет, почему он должен быть на кого-то похож? Сам на себя и будет похож, и не надо ничего наперед загадывать, в чем тогда интерес жизни? А вот что я скажу своей дочке, Елене Захаровне, когда она примчит на кордон? Вот о чем думать надо, старый, а чем там начинят подземелья зежских лесов, не твоего ума дело… Уж чем-нибудь да начинят, если уж мир окончательно со своего колышка стронулся, того и гляди земля, как тот арбуз, на части разлетится…
Вернувшись в дом, сбросив настывший полушубок, лесник прошел к Денису, нагнувшись, осторожно поправил на нем одеяло. И тут правнук неожиданно крепко обхватил его за шею, быстро и неловко прижался горячими губами к его колючей щеке и вновь юркнул под одеяло, и у старого лесника на время как бы пресеклось дыхание, сердце враз остановилось и погорячело и воздух в грудь не проходил. Постояв и дождавшись облегчения, он поворчал на правнука, напоминая ему, что он не девка, а как-никак парень, скоро мужик, и всякие там фигли-мигли ему ни к чему, и ушел к себе; почти всю ночь проворочавшись с боку на бок, он, поговорив утром с Воскобойниковым о делах, попросил его сразу же дать телеграмму в Москву, проводив его, наказал Денису оставаться с Феклушей на хозяйстве, запряг Серого в легкие козыри, бросил в них сенца помягче, сверху прикрыл его попонкой, тут же пристроил поудобнее ружье и укатил в Густищи. В хлипкой городской обуви парнишке посреди зимы на кордоне делать было нечего, и нужно было доставать ему валенки, какой-нибудь тулупчик из овчины, пока суд да дело. Снегу навалило много, дорогу сильно перемело, и от Серого скоро пошел пар. Держался крепкий, градусов в двадцать пять, морозец, и под холодным белым солнцем, вставшим над краем леса, снега больно сияли; иногда, освобождаясь от тяжести снега, срывавшегося с еловых лап и вызывавшего движение стылого, неподвижного после долгого ненастья воздуха, то одно, то другое дерево беззвучно вздрагивало и окутывалось клубами тончайшей, сверкающей снежной пыли, затем лес вновь успокаивался в солнечном безмолвии. Удобно устроившись, привалившись к спинке козырей, лесник не шевелился; из головы не шел Денис. Привычный, знакомый и всегда новый лес окружал его, и он, казалось, не глядя, замечал любую мелочь вокруг: следы зайцев, выходивших ночью после ненастья кормиться, попадались довольно часто, и он отметил это; несколько раз дорогу переходили лоси, направляясь в сторону поставленных еще летом в случае бескормицы стожков сена; и лисью строчку он не упустил, а там, где прошли волки, остановил Серого и, проваливаясь в снегу чуть ли не по пояс, отошел с дороги в сторону, пытаясь установить численность стаи; звери ставили ногу след в след, и, лесник каким-то внутренним чутьем, приобретаемым лишь долгой жизнью и опытом, определил число волков; их прошло здесь перед утром, придерживаясь обочины небольшой поляны, где снегу было поменьше, не менее пяти.
Выбравшись назад на дорогу, отряхнувшись и вновь завалившись в козыри, Захар тронул коня, успевшего отдохнуть; чувствуя зверя, тот фыркнул, пошел споро, и часа через полтора лес кончился, распахнулось сияющее белизной холодное поле под настывшим безоблачным небом, стало видно повисшее над самым лесом маленькое колючее солнце. На верхушках чернобыла, торчавших из снега, висело несколько толстых праздничпых снегирей, выбиравших семена и о чем-то тихо, почти неслышно перекликающихся; они перепархивали с былки на былку, ярко вспыхивая под солнцем, и леснику почему-то опять вспомнился Денис.
Выбившись на широкую бетонку, уже расчищенную бульдозерами, Серый повеселел, несколько раз шумно встряхнулся, гремя сбруей, и уверенно, не дожидаясь приказа хозяина, повернул в сторону Густищ; теперь оставалось совсем недолго, пятнадцать верст, и лесник, втянув голову в воротник, снова затих, окидывая знакомые, много раз изработанные и перепаханные вдоль и поперек им за свою долгую жизнь поля. Он лишь заколебался, не повернуть ли Серого в обратную сторону, на Зежск; однако в городе валенок для мальца не достать, тотчас подумал он, а в Густищах они обязательно отыщутся, пусть на размер, на два побольше. Подобрав вожжи потуже (по бетонке довольно часто пробегали теперь машины), лесник прижимал Серого вплотную к обочине; последние годы он все неохотнее ездил в Густищи, старался бывать там лишь по неотложной надобности, и даже как-то подумал в сердцах, что в родном селе и корня от своей крови не осталось, укоренился, пустил отростки один приемыш, Егорка, да и с тем он все больше и больше расходился; и хороший вроде мужик, а вот не лежит душа, оказался характером подкаблучник, околпачила баба со всех сторон, через ее бабьи глаза на мир и глядит; от большой своей грамотности в десять классов сделалась магазинщицей и мужика от поля отрывает, вишь ли, соляркой от него несет… Сделался каким-то экспедитором, чуть ли не каждый день в городе… Смолоду не разбирала, а теперь, поди, цаца, завоняло ей… И дети растут чертополохом, все им дай готовое, все в рот положи, крестьянская работа им не хороша, на сторону глядят, как бы побыстрее паспорт в зубы да в бега… Деньги в село хлынули, а людей меньше и меньше, тут, может, Егорку и нечего винить, поветрие такое, намудрили что-то с землей с самого начала, да и с человеком тоже, надломили в нем становую жилу, теперь никакими деньгами ее не срастить…
Лесник заворочался, засопел, припоминая старую прибаутку о той самой корове, которой лучше всего пристало бы не мычать, а помолчать, в сердцах звонко подстегнул Серого туго натянутыми ременными вожжами и скоро уже въезжал в Густищи, как раз недалеко от двухэтажного, два года назад сложенного из кирпича магазина, с просторным, красиво застекленным тамбуром; едва успев свернуть с дороги, он сразу же оказался в непривычном многолюдстве; магазин в Густищах по притягательности и вечерами давно перекрывал клуб, даже в дни показа кино; именно сюда стекались новости и слухи, здесь сговаривались после работы встретиться мужики (Валентина, продавщица, сноха Захара, держала специально для этого дюжину простых граненых стаканов); здесь с утра до вечера нередко вспыхивали самые жуткие и бессмысленные драки и разыгрывались потешные, живот надорвешь, семейные неурядицы, и издерганная, измочаленная крестьянской работой какая-нибудь вышедшая из себя бабенка, вдоволь накричавшись и напричитавшись, с торжеством волокла своего не вяжущего лыка суженого домой, вырвав его из лап собутыльников. У магазина по ночам, а часто и днями, если их забывали выключить, горели два ярких больших фонаря, создавая над этим означенным торговым заведением в непогоду тусклое сияние, а в морозы некую радужную, сияющую, корону.
Пристроившись подальше от площади, забитой тракторами с прицепами, машинами, мотоциклами с колясками и без колясок, лесник бросил коню охапку душистого лесного сена, накрыл спину Серого попонкой; затем, незаметно сунув ружье поглубже, на самое дно козырей, направился к магазину. Его уже давно заприметили, и толпившиеся у дверей люди глядели в его сторону, да и те, кто выходил из магазина, тоже останавливались и с приветливыми лицами ожидали его — поздороваться и перекинуться словцом-другим; почти каждый в Густищах одалживался у него и дровами, и сеном; старая пуповина между густищинцами и Захаром истончилась, но никак не рвалась, и, хотя о нем и о его жизни в лесу, в том числе и самые умные, рассказывали немыслимые байки, старым лесником втайне, пусть и с некоторым намеком на собственную чудаческую слабость, гордились и причисляли его уже к некоему преданию, без которого не существует души любого старого русского села. «Чудак, чудак старик, — говорили друг другу густищинцы, — у него после гибели младшего, Кольки, мозги не туда сдвинулись… Мог бы где хочешь жить в тепле, в сытости, а что выбрал? Ну да он таким вывихнутым и на Божий свет явился, а уж перед концом его не переделаешь… Чудит дед, ох, чудит!»
На полпути к магазину лесника перехватила шумная компания мужиков, расположившаяся на одном из санных прицепов; еще сворачивая с дороги, лесник заприметил своих старых знакомцев, Фрола Махнача, двух или трех его подкомандных, да еще двух человек незнакомых и решил было вначале не обращать внимания и не замечать их, и, когда его окликнули с прицепа, он продолжал идти, не поворачивая головы, делая вид, что ничего не слышит и не видит; ему не хотелось связываться с пьяными охламонами. Махнач окликнул его вторично, и Захар, оглянувшись, после некоторого раздумья подошел к прицепу; с ним наперебой весело поздоровались, и он, пробормотав в ответ что-то вроде «Ну, ну, бывайте, бывайте, мужички», уставился на раскатанные на досках прицепа в несколько слоев веселенькие, в мелкий цветочек обои; на них красовалось с полдюжины бутылок водки, лежали яблоки, соленые огурцы, нарезанное крупными кусками мороженое соленое сало и хлеб и вразброс стояли граненые стаканы; тут же бутылки три или четыре валялись опорожненными. Наметанный глаз лесника тотчас заметил и застрявшую в щелях дощатого настила прицепа медно просвечивающую под солнцем тонкую сосновую кору; Махнач со своими пропивал украденный и кому-то уже сплавленный лес, теперь, лесник хорошо это знал, запрятанный, заваленный снегом, до весны не найдешь.
— Не твой, не твой, дед Захар, ты не хмурься, — весело, с ярко горевшими от мороза и водки щеками, опередил его Махнач. — Совсем в другом конце брали… Давай, дед, пристраивайся… Эй, Ганька, набулькай деду, да не жалей, не трясись…, Ну, дед Захар, принимай, от чистого сердца! Бери, бери, мы люди привольные, нам хорошему человеку не жалко!
Стащив рукавицу, лесник взял холодный, налитый до самых краев, стакан, помедлил под испытующими, любопытствующими взглядами и, словно подталкиваемый каким-то ловким бесом, старым испытанным приемом, в один длинный глоток, влил обжигающую с мороза, отливающую синью водку в горло, усадисто крякнул, вытер рукавицей губы, затем взял успевший слегка подморозиться огурец, откусил, пожевал, неожиданно подмигнул щупленькому Ганьке, полуоткрывшему рот и вытаращившемуся на старого лесника. Тут всеобщее молчание сменилось шумным оживлением, Ганька, притопывая валенками, одобрительно захлопал по полам своего полушубка, а сам Махнач расплылся в уважительной улыбке.
— Ну дед, ну дед! — сказал он в высшей степени одобрения. — Какой же ты в силе-то был, а, дед?
— В твои-то годы, Фрол, я делом мужицким занимался, какое от роду мужику дадено, — сказал лесник, намереваясь распрощаться с веселой компанией и идти дальше. — Все одно ведь попадешься, других за собой потянешь… Подумали бы вы, ребятки… И чего не хватает?
— Ладно, ладно, дед, опять за свое! — зашумел Махнач, перехватывая момент и сразу; же поворачивая разговор в другую сторону. — У тебя свое было, у нас теперь свое, меняться с тобой не собираемся, ты лучше скажи: что это там, в лесу-то, затеяли, а? Вышки-то зачем ставят, сам видел, железная башня торчит в одном месте — под самые тебе небеса! А-а? Какую они, еще там чертовщину удумали? Говорят, — скоро и в лес не зайдешь, сразу тебя в два прихлопа вышибут назад. Ты, дед Захар, ничего не слыхал?
— Слыхал, как же не слыхать. Про таких, как ты, и удумали, — засмеялся лесник. — Будет на тех башнях телевизор стоять, вот кто-нибудь вздумает вроде тебя, такого ловкого, в лес, сразу личину куда надо и передадут. Такая штука вроде сама по себе на пятьдесят верст видит и ночью тебя, и днем, а через пятьдесят верст другую засобачат, и так — округ всего леса…
— Ну ты, дед, бреши да меру знай, — не поверил Махнач и даже постарался подмигнуть дружкам, вот, мол, старый хрыч заливает. — Такого еще не выдумали, сразу кругом леса…
— Ну, за что купил, за то и продаю, — сказал лесник и, отказавшись выпить вторично, поблагодарил и направился в магазин; тотчас он и попал в компанию знакомых старух с бидонами, возглавляемых Фомой Куделиным в длиннополой старой шубейке, в толсто подшитых валенках и тоже с вместительным, литров на восемь, бидоном; старуха Фомы в последние годы полуослепла и совсем обезножела, и Фома вынужден был выполнять всякую бабью работу, ходить и за молоком, хотя, и продолжал держать в хозяйстве по старой привычке двух коз; зимой козы, сколько Фома ни советовался с ветеринаром, ягниться не желали, а потому и не доились. Все давно уже ожидали привоза молока; едва лесник оказался среди них, старухи тотчас смолкли, заулыбались, зашумели, стали здороваться.
Выпив с мороза водки, Захар разогрелся, в лице у него проступил темный румянец; весело, с некоторой насмешкой над собою оглядев знакомые лица, он неожиданно приосанился, лихо потопал ногой и оглушительно гаркнул:
— Здорово, здорово, молодки! Ух, разгорелись, ягодки вы мои лесные! Да вам как годок кто отбавляет, щелк да щелк назад тебе! Даже бабка-то Салтычиха, а? Вот как размалинилась, полыхает… Родить-то никто не хочет, а, молодухи пенсионерские, а?
— Здравствуй, здравствуй, — Захар, — зашумели наперебой старухи, сдвигая шали и приоткрывая лица. — Как был бесстыжий, так и остался… Мелешь, мелешь без ветра… Мы-то что, а вот тебя и старость не берет, вон еще ногами, как молодой, перебираешь! С каждым годом молодеешь, а нынче как красная девка расцвел…
— Молодец! Расцвел! — согласился лесник, вновь притопывая затвердевшими с мороза валенками. — Я к вам нынче свататься, как не молодеть? Ну, какая согласная? А?
— Захар, Захар… Меня в сваты бери! — вызвался Фома, гремя бидоном и тотчас пробиваясь вперед. — Я тебе самую сочную, какая потолще, высватаю! Хочешь, вон бабку Салтычиху? Глянь, заждалась, природа! Не гляди, что старовата, всего сто пятый пошел, она вон еще за молоком по морозу шастает… природа! Она еще хочет!
— Тю! Два сапога пара! Пошла мельница! Драный козел! — опять зашумели старухи, и древняя бабка Салтычиха, пристроившаяся в уголке тамбура, по возрасту действительно столетняя или даже чуть больше, любопытствуя, о чем это говорят вокруг, приоткрыла ухо, затем глянула на свою вечную подругу Чертычиху, примостившуюся рядом, и громко спросила:
— Слышь, кума, чего-то они ржут? Молоко привезли?
— Подвезли, подвезли, — подтвердила Чертычиха, в свою очередь освобождая ухо от шали и вызывая новый приступ веселья.
— А то я тебе вон Стешку Бобок уломаю, — предложил Фома, входя в раж. — Или у нее вон дочка, жила, жила где-то в Питере, а теперь характерами, говорит, не сошлись. Хочешь, дочку у Стешки захомутаем? Городская, губки красит… Ничего, видел второго дня, фасон держит! Природа!
— Можно, — согласился Захар, с каким-то неожиданно пронзительным теплом вглядываясь в знакомые лица вокруг. — Можно и двоих сразу, и мать, и дочку…
Тут ему не дали договорить, зашумели, забренчали бидонами, и он, протискиваясь к двери магазина, шутливо отбивался и, каким-то образом вновь оказавшись в самом центре, наконец повысил голос:
— Тише вы, тише, невесты! Да никого я вас не возьму и задаром! Обрадовались. У меня вон корова на дворе стоит, а вы молочка привозного ждете! Вот когда кто свою корову заведет да ко мне на кордон пригонит, тогда и посмотрим… Да вы и корову-то разучились доить — срам один! Раньше на таких еще пахали — а тут на тебе, нахлебники! За казенным молоком набежали, ждут не дождутся, тьфу!
— Мы не старухи, мы советские пенсионерки, — крикнул кто-то из угла. — Ты нас, лесной черт, не срамоти, мы по закону молоко пришли получать, мы свое отработали! Это наши бабки с дедками дураками были, боялись колхозов, а мы-то теперь умные, знаем, с какого краю каравай кусать…
— У-у, кобылы гладкие, — не выдержав; ругнулся лесник на старух, разрумянившихся от авантажного разговора. — Ну, принесете вы готового молока, а дома-то что делать будете? Бока на печке протирать? Да кому вы, такие-то, замуж нужны?
— Зачем бока, Захар Тарасыч? — умильно, с наивной ласковостью спросила Варечка Черная. — У нас в каждом дому, почесть, телевизия теперь играет. Щелкнул пальчиком и гляди себе, куда душа просит, такое кажут, сердце заходится… То-то мы прожили! Прокопались в навозе и ничего тебе не знали, а люди-то, люди, белые, светлые, только песни играют да ножками-то белыми дрыгают, дрыгают… а им сейчас тебе и звезду за это на грудь, и две… И мужики-то молодые, прямо голые, чуток чем обтянется и дрыгается тебе, дрыгается, и ничего им более не надо… Хоть перед смертью-то наглядеться на такую жизнь… я прямо, Захар Тарасыч, как сяду, так и не оторвусь… Уж спасибочко тебе, Захар Тарасыч, земное за такую жизнь, — тут Варечка Черная загремела бидоном и, оказавшись перед лесником, отвесила ему низкий, поясной поклон.
— Да мне-то за что? — опешил он, отмечая про себя, что бывшая товарка его покойной бабы, Ефросиньи, стала за последние годы вдвое шире.
— Как же, как же, Захар Тарасыч, — все тем же сладким, вкрадчивым голоском продолжала Варечка. — В колхоз ты нас, сивых да придурковатых, сбивал, как же… вон Фому-то из-под самого лесу выдернул… как же! Кто про такой рай и думал? Правда, Захар Тарасыч, ты и себя-то не забыл, вон как родственнички твои расселись, все в городах, по Москвам, да все в начальничках, и тут у нас в Густищах невестушка твоя не как-нибудь, вон в магазине сидит торгует, все тебе что надо достанет, гладкая вон какая невестушка твоя, Валентина, прямо аж светится… не промахнулся, не промахнулся, Захар Тарасыч…
— Ты, Варвара, как была темной долбежкой, так и осталась. И телевизор с голыми мужиками тебе не помог! Тьфу, язва! — окончательно разошелся лесник. — Кто же думал, что такая срамотища из тебя получится? Никто этого не знал! Мало, видать, твой законный вожжами-то тебя учил! Вот мне ты в руки не попалась, я бы тебе давно рога обломал, одни корешки оставил, чтобы ты языком своим не молола.
— Ой, бабы! — попятилась Варечка, прикрываясь бидоном… — Чтой-то с ним такое? Ох, ударит, бес лесной….
Старухи зашумели, засмеялись, сдвигаясь вокруг расходившегося лесника плотнее; уже и Фома начал их полегоньку осаживать, но тут к магазину, грохоча, подкатила машина, привезла с десяток бидонов молока, и старухи, тотчас забыв о Захаре, стали аккуратно разбираться в очередь; и лесник тоже вспомнил, зачем приехал, и, досадуя на себя за ненужный, бесполезный разговор, поспешил к Валентине, пока она не занялась раздачей молока. Он застал ее за прилавком, действительно полноватую, уверенную в себе, давно уже, как говорили люди и как ему самому казалось, подчинившую мужа и верховодившую в семье; увидев свекра, Валентина тотчас перепоручила дела своей молоденькой напарнице и подчиненной, провела его в теплую служебную каморку, раздела, усадила к столику с электрическим самоваром, налила чаю, достала пряников, мягких, дорогих конфет в золотых обертках, присела было расспросить, но тут же, несмотря на одолевавшую полноту, живо, по-молодому вскочила.
— Может, тебе, батя, покрепче-то чего? — спросила она, кивая на чашку с чаем. — Холодина-то какая, может, согреться чуток?
— Спасибо, спасибо, Валентина, не хочу, — остановил ее лесник. — Успел, зазвали, прямо на прицепе рядом с магазином устроились, и мороз им не указ… Ну, зазвали, угостили, хотел вроде подурачиться, целый стакан и хлопнул… В голове вроде ничего, а под грудиной печет… Вот дурак старый… Ты бы мне, Валентина, водички какой дала…
— Кто же такие ранние? — спросила Валентина, тут же извлекая из угла, из-за приземистой тумбочки, бутылку с лимонадом, открывая ее и наливая в стакан; лесник взял, жадно выпил, приглушая неприятно разгоревшееся жжение в желудке, и, помедлив, покачал, осуждая себя, головой. — Вроде нынче наши еще не набегали…
— Да Фролка Махнач с Воскресеновки со своей бандой. Видать, лесу кому-то привозили краденого, пропивают, как же… А на дворе переметает, поди отыщи теперь… Народ! Всякую совесть потеряли… в открытую тащат…
— Народ, — вздохнула и Валентина, присоединяясь к словам свекра и полностью поддерживая его. — Работать никто не хочет, а каждому по высшей тебе раскладке подавай… Одни вон пенсионерки замучили, из магазина не вылезают… Товар на складе еще в Зежске, а то и в Холмске лежит, так нет, они уже знают, когда его в магазин привезут, караулят сутками. Варечка-то Черная одолела, ковер требует три на два с половиной, голову продолбила. «Да зачем тебе, бабка, ковер такой перед смертью, — спрашиваю, — всю твою хибару накроет!» «У людей, — говорит, — есть, а я, меченая тебе какая, без ковра буду? Нет, ты мне ковер привези, я хуже других жить не хочу! А кто помрет раньше, ты или я, так это еще и неизвестно, тут бабушка надвое сказала». Вот и поди, докажи ей.. Ох, батя, и не говори, народ пошел, на черте рытом его не объедешь! Да что ж чай-то? — спохватилась Валентина, и красивые дорогие сережки у нее в ушах синевато сверкнули. — Может, чего поесть? Колбаска есть, консервы хорошие… из какого-то тунца. Вчера домой брала две банки, пробовали — приятный вкус… Да ты, батя, к нам-то заглянешь? Егор поминал вчера, что-то говорит, батя долго не кажется…
— Поминал, поминал, — проворчал лесник — Мог сам наведаться, вроде и годков ему поменьше моего… Ох, Валентина, гляди, испортишь мужика вконец, тоже все ему готовое, без забот да трудов — тут хорошего не жди… Да и ты на магазинном царстве не вечно… детки тоже, гляди, присматриваются к отцу с матерью…
Помрачнев, Валентина замолчала, стараясь не глядеть на свекра; старика развезло от стакана водки, но он говорил дело, то, о чем она сама не раз думала, и хотя знала, что свекор за все неурядицы в семье винит именно ее, она сейчас на него не обижалась; старый человек и рассуждает по-старому, забился в свой лес и думает, что в мире на месте все топчется. Мужик не кобель, потянуло на блуд — на дворе на цепи его не удержишь, срам один, сыны по девкам пошли, и он, сивый бугай, как свободная минута, сразу тебе в этот распроклятый Зежск, сотню причин напридумает, а причина-то одна… Когда ж ему к отцу собраться, некогда, ожидает змея подколодная, ластится… и шум-то поднимать — перед сынами сраму не оберешься… Нечего о своих болях и свекру рассказывать, пусть себе как хочет думает.
— Постой, постой, — сказал в это время лесник. — Что-то ты, Валентина, не нравишься мне сегодня… Что там у вас опять стряслось… С Егором что?
— Ничего, батя, правда ничего. — сказала она, опять начиная улыбаться слегка подкрашенными губами. — Егор сегодня в городе, с утра укатил… Все какие-то запчасти на бригаду выколачивает… чего не кататься, машина своя, сам себе и шофер, и механик… Экспедитор… Знатный человек… Чего только не напридумывают мужички, лишь бы от черной работы улизнуть…
— Ну, ну, — не поверил лесник, решая про себя при первой возможности наведаться к Егору в дом; случайно глянул в окно, уже голубевшее от ранних зимних сумерек, заторопился, вспомнил о неотложном деле с валенками для Дениса, и Валентина, явно обрадовавшись перемене разговора, переспросив размер, тотчас и принесла две пары детских валенок на выбор и вначале даже денег не хотела брать, но свекор лишь глянул из-под нависших бровей и положил деньги на столик.
— Поздно уже, Валентина, другой раз расскажу, — остановил он любопытствующую невестку. — Жизнь, ее, черта, ни в какую мерку не уложишь… вот и Дениску я не пойму, ему вон еще соску сосать, а он тебе какие кренделя заворачивает… Ладно, ладно, лесом-то ехать верст двадцать, там фонарей не развешано… Кости ночью ломило, опять, жди, завьюжит…
Неодобрительно глядя куда-то поверх головы невестки, отмечая, что она и волосом, и бровями стала вроде бы много темнее, он неожиданно спросил:
— Дурит, значит?
— Ты о чем, батя? Кто дурит? — растерялась она от неожиданности. — Ну ты не думай…
— Ладно, ладно, — остановил ее лесник, поднялся, стал, посапывая, натягивать нагревшийся рядом с печкой жаркий полушубок.
15
В меховой шубе и круглой, торчащей в разные стороны, как сорочье гнездо, пушистой енотовой ушанке, разрумяненная от чистого воздуха и мороза, холодно сосредоточенная, Аленка появилась на кордоне дня через три. Поражений она не терпела и теперь не собиралась отступать; она не стала никого ругать, поздоровалась сразу со всеми, сбросила шубу и ушанку, не сводя глаз с ощетинившегося Дениса, сидевшего за столом, подошла к нему, взъерошила волосы, опустилась рядом и замерла, остро чувствуя свое бессилие и одиночество. От жестоких морозов последних дней на окнах наросла толстая щетина снега, и в доме, несмотря на яркий солнечный день, держался успокаивающий сумрак; она поспела к обеду, Феклуша только разлила дымящиеся щи.
— Ах, малыш, малыш, — сказала она, глядя на внука с некоторым изумлением, точно не решаясь узнать знакомые черты… — Нехорошо ты с нами со всеми поступаешь, мы же тебя все так любим… Хочешь остаться неучем?
— Не надо, чтобы все меня любили, — со свойственной детям жестокой непосредственностью сказал внук, все-таки чувствуя себя виноватым и отводя глаза. — Я не маленький… буду учиться здесь…
— Что? Что? — улыбнулась ему Аленка, стараясь оставаться спокойной и даже несколько ироничной. — Где же ты здесь станешь учиться? У белки в дупле или у медведя в берлоге? Здесь и школы-то нет… Разве тебе плохо у нас? Чем же мы тебя так обидели? Ты что, совсем не любишь меня?
— У тебя и без меня всех много, и дядя Петя, и тетя Ксения, и дедушка Костя, и все твои знакомые у тебя на работе. А у дедушки Захара никого, я один. Я с ним буду жить, мне вон какие валенки купили, — окончательно ставя точку, ушел от прямого ответа Денис, указывая на сушившуюся возле печки выстроенную в ряд зимнюю обувь, и тут лесник, осторожно покашливая, напомнил о том, что щи стынут. Аленка получила миску щей и ложку, поблагодарила Феклушу, сдерживая себя, и, все-таки уязвленная до глубины души, встала, вымыла руки, весело стянула через голову толстый свитер: в доме было хорошо натоплено. И обед прошел довольно мирно, правда, почти в совершеннейшем молчании; к ее ногам жался раскормленный полосатый кот, не боявшийся на кордоне никого, даже Дика, и она, чувствуя успокаивающее тепло, сунула ему под стол косточку с хрящиком из борща; на нее действовала странная магия этого просторного прочного дома со стенами из толстых, почти черных от времени бревен, какая-то древняя власть засыпанного снегом леса, совершенная оторванность от привычных дел и забот — здесь сразу пришли мысли об их нелепости и ненужности. Она решила ничему на этом колдовском кордоне не подчиняться и выстоять, и сразу же после обеда оделась потеплей и пошла гулять; сияющий лес встретил ее ослепительным, оглушающим безмолвием; Дик проводил ее за ворота, внимательно и долго смотрел вслед, затем вернулся к себе под навес. Проваливаясь в нетронутом снегу чуть ли не по пояс, она долго и упрямо пробивалась куда-то вперед и, оказавшись на лесной полянке с царственной медноствольной сосной посередине, остановилась. На раскидистой вершине сосны снег лежал белым неровным облаком. Взглянув вверх, она прикрыла глаза — вершина куда-то плыла в морозной сини неба. И впервые за последними годы ей захотелось перестать сопротивляться сбивающим с ног порывам жизни, захотелось подчиниться тому, что случилось; в конце концов, сколько можно идти наперекор всем и всему, бороться, приказывать себе, преодолевать невозможное? Зачем? Именно зачем, переспросила она кого-то неведомого, вездесущего, затаившегося сейчас рядом, как это всегда казалось, особенно в тягостные, почти невыносимые моменты. Запас душевной прочности и стойкости у любого, пусть даже самого сильного человека, ограничен: свой она, видимо, израсходовала и даже, пожалуй, перебрала… Пора остановиться, вот она напрягается, напрягается, а сопротивление больше и больше, все ощутимей потери; почему же так безжалостно наказание?
Пробив дорогу в довольно глубоком снегу и подобравшись к самому стволу, старой сосны, она стащила теплые перчатки, плотно прижала ладони к заледеневшей скользкой коре дерева и с наслаждением вдохнула в себя едва уловимый стылый запах горьковатой смолы, полузабытый запах лета. Потянувший откуда-то ветерок шевельнул лес, по снегу заструились пушистые, легкие змейки; на торчавшие неподалеку высокие стебли репейника, несомненно занесенного сюда с кордона, прилетели и уселись три снегиря и стали не спеша, важно выклевывать семена. За ними появилась и стайка хлопотливых чижей. Солнце уже снизилось; попадая в его лучи, снегири в белизне снега неправдоподобно ярко вспыхивали, и Аленка долго, пока они, управившись с репейником, не вспорхнули и не перелетели на новое место, не могла отвести от них глаз.
Вечером, убедившись, что внук уже спит, она осторожно укутала его сверх одеяла своей шубой — в доме похолодало; вернувшись к отцу в горницу, села рядом. Лесник молчал, вслушиваясь в начинавшие оживать стены; к ночи поднялся ветер. Аленке хотелось курить, но она терпела, нужно было идти в холодную, пустую половину; Захар помог ей и заговорил первым.
— Ну, дочка, что ж нам теперь делать? — спросил он, жалея ее и в то же время пытаясь глубже понять. — Ты же ученый человек, книжки пишешь, — он кивнул на небольшую полочку, прилаженную рядом с окном в переднем углу и тесно заставленную книгами. — Других уму-разуму учишь, вон ты как алкоголиков своих разделала, по полочкам разложила. Сроду такого не слыхал, какой от него вред, от змия-то, ну пьет народ и пьет, один столб, говорят, телеграфный не пьет… Ясное дело, плохо это, тут и Дениска сообразит. Но чтоб весь народ — под корень, целую державу… такого и не придумаешь… А вот вы, ученые люди, доперли, осмелились, все-то вы знаете… Ну и как же ты, с другого-то боку, так и не поняла, чего твоему родному внуку не хватает рядом с тобой? Чего ты ему недодаешь, дочка?
— Вот и помоги мне разобраться, отец, я за тем и приехала. Чего ему не хватает? Одет, обут, отдали в одну из лучших школ, муж в нем души не чает, хоть бы сейчас усыновил… Что ты по этому поводу думаешь?
— Ну, ясно, мудрые головы, — кивнул неодобрительно лесник. — При живом-то отце… Вот что удумали!
— Да какой же отец! — возмутилась Аленка. — Его и след развеялся, этого отца, он и думать о сыне не думает, он ни разу не написал, не поинтересовался. С самим собой никак не управится… Стороной слышала, никак жениться не может, все у него что-то не получается. Ты знаешь, мне все кажется, что у нынешней молодежи какой-то комплекс неполноценности. Вот и Тихон уже несколько лет как погиб, а Петя до сих пор от него в какой-то зависимости… Не знаю, не знаю, правда, у него процесс в легких, ему надо серьезно лечиться, ведь останется инвалидом… Вполне вероятно, многое в его психике объясняется болезнью. Ничего сделать с ним не могу, как ошалел, хочет мир удивить… а чем его теперь удивишь? Попробуй на таком расстоянии, на одни телефонные разговоры разоришься… А Ксения? Если бы ты видел эту бездушную, красивую и холодную куклу, у нее одни франки да доллары на уме, тряпки да вещи, тряпки да вещи. Откуда это у нее? На родную мать глядит, а в глазах… говорить не хочется, стыдно… Но Бог с ней, она отрезанный ломоть… со своим этим упитанным индюком… Дипломат! Бог с ними, — опять повторила Аленка. — Меня Петя беспокоит… нельзя же так относиться к себе… Его бы полечить надо серьезно и немедленно женить, все бы у него и наладилось! Ну кому он будет нужен больной? Если в ты знал глубину моей боли, отец! За что, за что?..
— Ну поскакала,. поскакала блохой, не о тебе сейчас речь, — остановил ее лесник. — Нечего себя жалеть, ты свое получила, а сыну твоему жить и дочке твоей жить. Теперь их пора… Вам, бабам, только бы женить, а там хоть бурьяном зарастай, окрутили и ладно. Мужик работает? Да и какая болезнь, коли лечиться не хочет? Подопрет хорошенько, живо все отыщет, и больницу, и докторов. Работает, чего-то добивается, и пусть, и оставь его в покое, взрослый мужик, сам разберется. А ты лучше вон, — лесник кивнул в сторону комнаты Дениса, — ты про его душеньку не забывай… Ты думаешь, он не смыслит главного? Он вам с муженьком заместо игрушки нужен, остылую вашу жизнь подогреть… вот что его ждет…
— Отец! — сказала Аленка, сильно бледнея. — Ты понимаешь, что ты говоришь? Остановись, слышишь?
— А ты меня не останавливай, дочка, — не опуская глаз, с досадой сказал лесник. — Я у себя в доме… вот тебе Бог, а вон порог… Я его что, насильно сюда тащу? По глазам вижу, думаешь, вот старый пень, никак не уймется Правильно думаешь, пока не помер — живу, и жить буду…
— Я уйду, — сказала Аленка, чувствуя, что не выдержит, сорвется, наговорит непоправимого, и потому приказывая себе следить за каждым своим словом. — Я уйду, конечно, но уже навсегда, слышишь, навсегда…
— Напугала, — заупрямился и Захар. — Вот и хорошо, найдутся и без вас добрые люди, глаза закроют…
— А Денис? Ты сейчас сам думаешь о Денисе, отец?
— А что Денис? Вырастет, проживет…
— Если дальше так пойдет, именно ты искалечишь ему жизнь, — сказала Аленка, заставляя себя перейти на более спокойный тон. — Непоправимо искалечишь, он сам повзрослеет и начнет понимать, что к чему; не-ет, отец, он тебя не поблагодарит!
— Кому же это я искалечил жизнь, дочка? — сумрачно усмехнувшись, спросил Захар. — Тебе? Твоему брату Николаю? Или своим внукам — Ксении и Петру? А может, Илье, Егору или Василию, твоим братьям?
— Отец, не надо так далеко? — взмолилась она. — Ты просто нужен мальчику, иначе я, я никогда тебя не прощу… Ты хоть меня слушаешь?
— Слышу, слышу, — неохотно отозвался лесник, сам стараясь не обострять разговора. — Ты думаешь, мне в мои годы вот как хочется колготиться… Я не для того на кордон ушел, уморился я от людей, дочка, у меня люди давно вот тут, на самом сквознячке, — выставил он перед собой широкую, плоскую, суховатую ладонь и слегка пошевелил пальцами. — Я о них вроде самое потаенное и скрытое знаю… И с парнишкой нет никакой моей вины, раз ты сама не можешь удержать внука рядом, чего-то в тебе ему не хватает… В самой себе и поищи, дочка…
— Самое больное, самое потаенное видишь… Может, ты колдун? — с какой-то темной тоской в душе спросила Аленка. — Может, тогда скажешь, чего же такого во мне не хватает?
Выпрямив плечи, голову, лесник прислушался; ветер в стенах дома жил своей жизнью. Перед ним сидела его родная дочь, уставшая, пожилая женщина, но он сейчас не ощущал с ней родства и знал, что жалеть ее нельзя. Он знал, что его слов она ждет, словно приговора, и, сколько мог, медлил. Затем, неприметно вздохнув, как можно спокойнее сказал:
— Человек растет, как подсолнух, на солнышко тянется, туда и поворачивается… Что тут делать, так она, жизнь, порешила. Даже коль ты сама родила, он — твой, пока ты его у груди держишь, а дальше оторвется — и тогда он ничей, он — свой, он для себя солнышко отыскивает, тепла ему хочется, а как это получается, я, дочка, не знаю… Тепло-то приходится навсегда отдавать, за так… Вот ты и… мозгуй… Опять же, неужто вы в своих городах совсем глухие да слепые?
Слушая с остановившимися, словно поблекшими глазами, Аленка хотела небрежно усмехнуться, сказать отцу, что несет он чепуху, что за его словами — обман и пустота, но почему-то не осмелилась. Тихая тупая боль вошла в сердце и перехватила дыхание; она хотела протестовать, доказывать обратное — и не смогла; она сейчас увидела себя как бы со стороны, глазами отца, увидела беспощадно и ясно даже самое тайное в себе.
— Ну что ж… пора спать… что ли, — сказала она, пугаясь дальнейшего, и, помогая себе руками, встала, увидела в дверях Дениса в ночной рубашонке, с торчавшими из-под нее босыми ногами.
— Ты… ты зачем здесь? — спросила она и бессильно опустилась на скамью. — Нет, нет, нет, все остальное на завтра, и говорить будем завтра, и решать завтра… Слышишь, какой ветер поднимается? Спать, малыш, спать…
Большой дом затих, как бы затаился в глухой, снежной ночи, и только ветер все усиливался и усиливался; Аленка вслушивалась в него, ворочаясь с боку на бок почти до самого утра, но встала бодрая и подтянутая, решившая не отступать, и ей на этот раз после упорной борьбы, уговоров, разъяснений, просьб удалось настоять на своем и увезти внука назад в Москву. Она поклялась обоим, и отцу, и внуку, что на лето сама привезет Дениса на кордон, а там, как хотят, так пусть и поступают; она больше слова не скажет. Так оно затем и определилось. Лето Денис жил на кордоне, затем, когда начинались школьные занятия, его переправляли в столицу, но после третьего класса он наотрез отказался возвратиться в город, и леснику пришла в голову спасительная мысль: устроить его на зиму, пока совсем подрастет, в Зежске у своей дальней родственницы на квартире. Все это потом обрело определенную закономерность и утвердилось до самого окончания Денисом десятилетки, но именно в зиму знаменитого побега Дениса из Москвы решилось главное, и в наступившее затем лето он уже опять жил у деда на кордоне в общении с людьми, связанными множеством видимых и невидимых нитей, именно здесь ежечасно и ежедневно происходило много важного, так или иначе затрагивающего затем жизнь и судьбу Дениса, хотя он совершенно об этом не подозревал. И с каждым годом его все труднее было затянуть в Москву; несмотря на самые соблазнительные посулы, он, как правило, проводил лето с дедом, самостоятельно бродил по лесам, помогал Захару заготавливать еловые да сосновые шишки на семена, знал самые грибные места на много верст в округе, довольно успешно постигал всякую лесную науку, знал, что такое рубки прореживания и осветления, мог озадачить Аленку и мудреным словечком «бонитет»; бывал (отсутствует строка текста в книге — OCR) миновения, по определению густищинцев, он всеми правдами и неправдами увязывался с Захаром на густищинский погост, всякий раз выдумывал предлог в ночь на девятое мая быть на кордоне. Петя тоже теперь обязательно наведывался при первом удобном случае к деду и каждый раз изумлялся разительным переменам в племяннике, и, хотя мальчик всегда встречал его с радостью, Петя чувствовал, что они все больше и больше отдаляются друг от друга, и в короткие дни, а то и часы общения ничего нельзя было восполнить или переменить, и Петя, поговорив с дедом, выслушав его, тактично и заметно отступил, тем более что у него у самого дела шли через пень-колоду, ничего пока в жизни не выстраивалось, и он вполне резонно рассудил, что, прежде чем кого-либо воспитывать и направлять, надо было хотя бы разобраться в самом себе. Одним словом, с появлением Дениса жизнь на кордоне переменилась, помолодела, стала шумной; то и дело на кордон нежданно-незвано заявлялся кто-либо из Москвы, и леснику, отвыкшему от многолюдья, не раз и не два пришлось задуматься над тем, как много может внести в жизнь даже ребенок, из которого еще неизвестно что получится.
Наведывался на кордон после первого знакомства с лесником, тоже не раз и не два, и Шалентьев, и всегда не предупреждая; понемногу они присмотрелись друг к другу и даже стали испытывать взаимный интерес; и это не было неожиданностью для самого Шалентьева, привыкшего ничего в жизни не упускать, любившего хорошо работать и, если это казалось ему необходимым, умевшего заставить работать на себя любую мелочь и умевшего подать эту мелочь как нечто значительное и важное. Таковы были природа его таланта и предназначение в жизни.
После первого неудачного знакомства с тестем и долгой, трудной размолвки с женой Шалентьев сам почувствовал, что в его системе жизни что-то не сработало, забуксовало. Он привык анализировать и исправлять, и несколько раз сам, под предлогом заботы о Денисе, а следовательно, о жене, побывал у тестя на кордоне, начиная с досадой для себя ощущать возрастающую духовную зависимость от сумрачного, старого лесника. «Непостижимо, — усмехался он. — Мое новое родство из области чистой фантастики… Во что же выльется более тесное знакомство?»
Иронизируя над собой, он в то же время трезвым критическим взглядом практического, не привыкшего к сантиментам человека видел ситуацию и с другой стороны; в конце концов от родственников (власти матери, хотя с ней и приходилось считаться и несоразмерно много отдавать ей времени, над своей душой он не признавал) он был совершенно избавлен, и теперь перед ним открывался неведомый, захватывающий своей новизной, а иногда отталкивающий своей животной открытостью мир, до сближения с Аленкой известный ему скорее умозрительно, со стороны. Ему даже нравилось изображать из себя занятого, очень счастливого человека, отягченного многочисленными родственными узами, самоотверженно, с оттенком иронии в отношении себя выполняющего свой долг, а если точнее — несущего свой крест. В его окружении считалось естественным нести свой крест, это была как бы некая отличительная особенность лиц высокого круга не только в исполнении их служебных функций, но и в семейных обстоятельствах; вокруг Шалентьева, хотя об этом и не принято было говорить, роились неблагополучные, трудные дети, их надо было поддерживать на плаву, куда-то устраивать и продвигать, и говорилось об этом хотя и с осуждением, но как о совершенно закономерном, неизбежном явлении. «Куда от своего… денешься», — обреченно разводили руками одни, попроще, гордившиеся своими крестьянскими и пролетарскими корнями; «Диалектика», — глубокомысленно покачивали головой с легкой улыбкой другие, поискушеннее.
Но кто же такой действительно был сам Шалентьев Константин Кузьмич, человек несомненно талантливый в влиятельный? Сам он никогда не заблуждался и определял себя как некий придаточный механизм, вовлекавший в сферу своего влияния все новые и новые пространства и слои; он считал, что это тоже немало, коль уж большого ученого из него не получилось и он стал просто функционером от науки, занимал целый ряд ответственных постов, после последнего своего нового назначения оставался главным редактором одного из периодических изданий и, конечно же, не забывал и общественную деятельность… Одним словом, был он человек в самом зените своей карьеры и, что существеннее всего, упорно готовил свое дальнейшее продвижение, и это, пожалуй, и являлось главной профессиональной его чертой. Он должен был двигаться вперед, другого смысла в его жизни не было; совершая очередной шаг вперед и выше, он не забывал, когда это было необходимо, обронить словечко-другое о том, что он осознает свои возможности и свой потолок, и осознает сие прекрасно. Он так именно и говорил: «сие». Он не мог (да и не хотел!) равняться с покойным Брюхановым самоотдачей, самоотречением, но свое дело знал и умел показать себя, блеснуть в нужный момент, выгодно очертить круг вопросов, подчеркнуть свою бескомпромиссность вплоть до беспощадности, и за это ему многое прощалось, даже некий внутренний снобизм.
Волей-неволей получив вместе с Аленкой и ее уводящие Бог знает куда родственные связи, Шалентьев наконец, избавился от этого мешавшего ему излишнего аристократизма, невольно обращавшего на себя внимание и ставящего его в неравноправное положение с окружающими; сначала его забавляла эта перемена, и он по-прежнему внутренне безоговорочно отодвигал от своего сокровенного «я» все раздражающее и мешающее привычным нормам его душевного комфорта. Пожалуй, самую острую неприязнь и чувство опасности вызвал у него вначале именно тесть; о нем Шалентьеву слишком много говорила сама Аленка и о леснике он составил некое абстрактное, отрицательное представление как о доморощенном философе на деревенской завалинке (хотя что такое завалинка, он вначале представлял себе весьма смутно), коими всегда была богата и славилась Русь. Впервые увидев тестя, Шалентьев был неприятно разочарован и даже слегка обижен, когда не по стариковски цепкий, оценивающий взгляд Захара скользнул по его лицу, тотчас, как бы в одно мгновение все до самого дна в нем высветил и, не найдя ничего интересного, равнодушно скользнул в сторону. «Эту реликвию давно пора бы под стекло, куда-нибудь в музей партизанской славы, уездного значения, — тут же неприязненно определил подходящую для тестя роль Шалентьев, — а он еще, видите ли, на должности числится, как будто государство — богадельня с бездонным карманом… Весь лес вокруг, надо думать, разворовали при таком почтенном страже…» Шалентьев подумал, посмеялся про себя и махнул рукой; не вступать же в нелегкую борьбу с этим зежским мудрецом в самой глуши непроходимых лесов, что непременно вызвало бы недоумение (потому что у кого же нет «сродственников» в самых неожиданных глухих углах России? Обязательно окажутся!) или, что еще хуже, уничтожающую иронию. И сама Аленка, придет пора, станет относиться к старику спокойнее и проще, без всякого ложного пиетета, все на земле проходит свой круг.
Представив, как могут посматривать именно в таком вот повороте и фокусе люди его положения, Шалентьев поежился; между ним и лесником уже образовалась и существует некая связь, и не в его силах прервать ее; и тогда, пытаясь разобраться в характере тестя подробнее, вернее, из-за тайной и становившейся все глубже отцовской тяги к Денису, к этому непредсказуемому мальчишке (Шалентьев никогда бы не признался, что просто из-за примитивного чувства ревности), он при любой возможности стал бывать на кордоне.
И как-то, в очередной раз появившись там, и опять без жены, долго подступал к леснику и так и эдак, остался ночевать, и уже за ужином тесть спросил напрямик:
— Ты, Константин, нонче неспроста вертишься-то… С Аленкой что-нибудь?
— Нет, что вы! Здесь полный порядок, — сказал Шалентьев со своей обычной уверенной и одновременно простодушной улыбкой, мелькнувшей словно бы случайно. — Давно хотел спросить, не надоедает ли вам, Захар Тарасович, на кордоне? Один да один… Феклуша ведь не в счет…
— Ну, ну, ну, давай выкладывай, что там у тебя в голове? Давай, — подбодрил тесть, дивясь про себя непривычной обходительности зятя.
— Хорошо, я скажу вам, Захар Тарасович, откровенно прямо, — слегка улыбнулся Шалентьев, опять не сводя с лесника светлых внимательных глаз. — Почему бы вам не съездить со мной в Москву? Это у вас отнимет три-четыре дня, — добавил он. — С дочерью повидаетесь, на внуков поглядите…
— Зачем я понадобился в Москве, Константин? Кому?
— Понимаете, Захар Тарасович, я с вами хитрить не буду, с вами надо говорить прямо, я давно понял. Прослышало о вас мое нынешнее начальство… Не будем касаться официального положения этого человека, как раз это не имеет в данной ситуации такого уж самостоятельного значения… просто хочет встретиться, потолковать… поговорить с вами наедине… Уверяю вас, не пожалеете…
— Ну-ну… что ж, пусть приезжает, вот и потолкуем…
— Захар Тарасович, вы, кажется, не совсем понимаете, о ком идет речь…
У Шалентьева сделалось странное, какое-то тихое и даже высушенное, словно бы шелестящее лицо, и он назвал имя человека; правда, на лесника оно не произвело должного впечатления.
— Ну-ну, Константин, — опять сказал лесник спокойно, — что ж… встретиться можно, если приспичило… Вон, ты говоришь, вроде и человек хороший… Слышал я… в войну вроде возвысился… Да и Тихон кое-что про него говорил… Шуму да треску много, а вот что он хорошего для жизни сделал? Ну, тебе он зачем-то нужен, а я тут с какого боку? Так, зятек? Ты не обижайся, пусть приезжает, коль надо…
— Он… сюда? — теперь уже с нескрываемым чувством некоторого восхищения тестем спросил Шалентьев, словно не веря собственным ушам. — Захар Тарасович, я же вам сказал, кто это… И вы сами, оказывается, еще раньше слышали…
— А что тут такого? — нахмурился лесник. — Я постарше буду, а дорога, что отсюда до Москвы, что от Москвы досель, до кордона, одинакова… Есть разговор, пусть и приезжает…
Шалентьев не ответил; начиная чувствовать раздражение против тестя и досаду на себя за то двусмысленное, ложное положение, в которое сам себя поставил, вызвавшись свести и связать воедино хотя бы в мимолетном разговоре два противоположных мира, он, пожалуй, допустил серьезный просчет; преследуя свои, далеко идущие цели, он не учел основного — рискованности задуманной опасной игры, в которую сразу же втянулись слишком разнородные силы. Можно было легко выйти из игры, заявив о своем промахе, с нем не случается досадных оплошностей? Но это и было самой досадной и непредсказуемой опасностью; привыкшие к большой власти люди не терпят подобных ошибок со стороны своих, пусть даже доверенных лиц; тут Шалентьев, взглянув на себя именно как на доверенное и приближенное лицо, сардонически вздохнул. Тайно он давно ждал заветной минуты, еще одной возможности перешагнуть из одного горизонта в другой, в самый высший и решающий, и это ожидание являлось смыслом уже нескольких лет — его жизни, и каждый раз у самой последней черты ему что-то мешало… Вот и теперь этот упрямый старик и не подозревает степень той высоты, на которую ему предлагают, не ведая того, подняться; возможно, следует все прямо и сказать? Если умен действительно, поймет, а если нет…
Глядя на тестя и не видя его сейчас, Шалентьев мучился давней застарелой своей болью, в то же время инстинктивно отыскивая безопасный выход из создавшейся ситуации; он видел себя сейчас как бы со стороны в странном, как ему казалось, в каком-то ложном окружении, словно в каких-то нелепых декорациях; массивные мрачноватые бревенчатые стены давили, лампочка под жестяным абажуром часто помигивала, почти не давая света, в печке фантастически гудел огонь, а в окна и стены дома, билась резвая февральская метель. Сюда ему пришлось добираться от Зежска с помощью бульдозера; его долго уговаривали повременить с поездкой на Демьяновский кордон из-за снежных заносов. Родившийся, и выросший в большом городе, не знавший и не любивший природы, он и сейчас, в ранний зимний вечер, чувствовал себя на кордоне неуютно и неуверенно, хотя в нем и проснулось некое тайное узнавание происходящего; время от времени ему начинало казаться, что он уже где-то и когда-то испытывал нечто подобное, где-то все это уже видел. Прихлебывая душистый чай с медом, Шалентьев думал, страдал и наслаждался; тесть ему больше не мешал, и он, открыв для себя прелесть молчания, лишь недовольно хмурился на Феклушу, то и дело выскакивающую за дверь, в холод, в каких-то немыслимых опорках на босых ногах, и сама Феклуша, и ее поведение, ее полнейшая нечувствительность к морозу приводили Шалентьева в оторопь, и он старался не замечать ее и как бы не видеть. Молодой шофер (Шалентьев звал его по имени-отчеству — Станислав Владимирович) сразу же после ужина оставил своего шефа с хозяином кордона наедине и ушел спать; несмотря на молодость, он давно слышал и делал только то, что ему было положено слышать и делать, это входило в его работу, Шалентьев, привыкший к постоянному молчаливому присутствию шофера где-нибудь поблизости, почти его не замечал, но сейчас почему-то вспомнил о нем и подумал, что рядом с ним в этой глухомани, заваленной снегом, находится лишь один-единственный нормальный человек. Его охватило незнакомое и даже дикое желание послушать зимний вьюжный лес, и он, решив никого не беспокоить, обмотал шею шарфом, нахлобучил меховую дорогую шапку и, плотно застегнувшись, вышел. И лесник, растревоженный разговором и сильнее прежнего заскучавший по Денису, пошел к себе и лег; сон и к нему тоже не шел — непонятно как-то говорил с ним сегодня зять. Всякую попытку насильственного вторжения в свою жизнь со стороны, даже в малейшей степени, Захар отвергал, и теперь, вслушиваясь в разыгравшуюся к ночи метель, в согласный, упорный стон леса, исходивший, казалось, из самых стен дома, он расценивал слова зятя как очередное чудачество людей, пробившихся в высокое начальство и потому оторванных от реальной жизни, избавленных от всех ее будничных забот. Скоро устав раздумывать и прикидывать что да как, он махнул рукой, хотел было встать и пойти включить свет в сенях и во дворе, но в последнюю минуту решил, что зять, верно, захотел, побродить по ночному зимнему лесу и свет перед домом помешает ему. В доме было тепло и сухо; Феклуша тоже угомонилась, предстояла долгая зимняя ночь с короткими провалами в забытье, с частыми пробуждениями и бесконечными неясными, тревожными мыслями; он повернулся на один бок, на другой, пристроил получше нывшие от ненастья колени, опять закрыл глаза.
Шалентьев же в это время, справившись наконец с запором и выбравшись на крыльцо, в первый момент попятился, затем, подталкиваемый непонятным, пьянящим чувством новизны, закрыл дверь, и тотчас на него сразу со всех сторон яростно набросился ветер, стал захлестывать сухим, колючим, свежо пахнувшим снегом. И еще своей беспредельностью и мощью его изумил обвальный, веселый, слитный шум векового леса, заполнивший весь мир, небо и землю. Он стоял, слушал, и в него, постепенно заполняя душу, сочилось чувство полнейшего одиночества и своей безнадежной затерянности среди бескрайнего мира, и это было почти безошибочное ощущение; только один Дик, скрывшийся в такую непогоду в теплой, обжитой будке, недалеко от сараев, все-таки почувствовал Шалентьева, проснулся, хотел пойти справиться, в чем дело, но затем передумал; гость не торопился покинуть крыльцо, и умный пес остался в своем убежище, а Шалентьев, ослепленный метелью, выбрал удобное положение, поднял воротник и, нахлобучив поглубже шапку, стал ощупью спускаться по заваленным снегом ступенькам; скоро ему удалось слегка отдалиться от дома; ветер тотчас стал дуть в одном направлении, и Шалентьев повернулся к нему спиной; ему по-прежнему казалось, что вокруг, кроме беснующегося, несущегося куда-то сплошной массой снега, ничего нет, вокруг разливалось белесое, слегка мерцающее сияние, и он то и дело различал перед собой какие-то стертые контуры; минуты через две он уже ясно угадывал то угол дома, то столб, то тревожно мечущийся в потоках снега силуэт дерева. Пробиваясь неизвестно куда, то и дело проваливаясь выше колен, несмотря на набивавшийся в теплые, высокие ботинки снег, холодивший ноги, он все сильнее чувствовал охватывающий его какой-то непривычный восторг жизни, и это был восторг человека, посвященного в самые глубокие и тягостные тайны, недоступные большинству людей, обернувшиеся сейчас своей неприятной, пугающей стороной. Надо было заставить себя остановиться, перестать мучиться, терзаться и вернуться в теплоту дома. У человека его ранга там, где мысль перехлестывала за разумную черту, таилось поражение, он четко сознавал это, но остановиться по-прежнему не мог. Да, да, говорил он себе, зачем наши старания и ухищрения перед собою и другими сделать нечто невозможное, удивить и себя, и других, зачем? Перед лицом вечного мрака все ложь и нелепица, и права Аленка в своем почти языческом почитании отца, его жизни и его мыслей. Он на меня сегодня по-особому смотрел, и я, далеко уже не молодой человек, от его взгляда испытывал стыд и горечь; он ведь не знает, вернее, не хочет знать (и в этом его счастье!) необходимости подавлять себя, в любой момент подчиняться чужой воле… Он отвечает лишь за себя и не понимает, не может понять невыносимости ответственности за огромную страну, за десятки миллионов судеб, черт знает еще за что…
Ночная лесная метель по-прежнему вызывала в нем неизъяснимое наслаждение; совершенно вслепую двинувшись дальше, он скоро натолкнулся на дерево, приложил обе руки к шершавому стволу и долго слушал ладонями неясную, стонущую музыку, стекающую с вершины к корням дерева, в укутанную снегами землю. Это дерево, очевидно, стояло еще лет триста назад и будет жить, пожалуй, еще и сто, и двести лет, если с ним не приключится какая-нибудь беда; оно будет стоять и тогда, когда даже сама память о нем, о Шалентьеве, да и не только о нем, о всех его знакомых и близких, исчезнет. Как все странно в жизни, очень странно, вздохнул он, опять невольно обращаясь к своим переживаниям, и, спохватившись, оглянулся. Его снова захлестнуло, ослепило снегом, и он напрягся, даже дыхание задержал, пытаясь определить, в какой стороне остался дом; и опять ему показалось, что шум метели по прежнему все возрастает, стонущий лес и ветер заполняли теперь все пространство, и услышать какие-либо иные звуки было невозможно. Шалентьев стал мерзнуть; стараясь припомнить, в какую сторону шел от крыльца и где теперь находится, он вновь двинулся наугад; сила метели, казалось, по прежнему нарастала, ее порывы валили с ног, и он несколько раз падал и с трудом поднимался. Дом словно исчез, бесследно растворился; в какую бы сторону Шалентьев ни пробивался, везде металось взбесившееся белое пространство, метель показывала ему теперь свою изнанку; он понял, что дома не найдет; остановившись, отворачиваясь от ветра, он несколько раз крикнул, хотя понимал, что именно это совершенно бесполезно. Он не испугался; он просто представил всю нелепость того, что может произойти, и еще ему теперь казалось, что прошло уже много-много часов и что эта непроглядная ночь будет длиться вечно, до тех пор, пока он не окоченеет и его не занесет снегом. И тут что-то переменилось в белой крутящейся мгле. Появилось какое-то темное пятно, в следующий момент он вскрикнул от радости, узнав Дика, и тотчас, полусогнувшись, крепко ухватился за его широкий ошейник.
— Дик! Дик! — сказал он, с трудом шевеля застывшими губами. — Дик! Домой, Дик, домой веди… Дик, домой, домой…
Дик повернул совершенно в противоположную сторону, и Шалентьев, проваливаясь в снегу, двинулся следом; минут через десять, еще сам себе не веря, он уже был у крыльца, но все еще не решался выпустить ошейник и, обессиленно присев на ступеньку, обнимал недоумевающего Дика за шею, зарываясь лицом в густую, скользящую, забитую снегом шерсть… В этот момент и вспыхнул над крыльцом свет; обеспокоенный долгим отсутствием зятя лесник все-таки включил внешнее освещение; от загоревшейся над крыльцом лампочки метель стала еще более фантастичной. Отдышавшись, Шалентьев отпустил Дика, начинавшего проявлять явное нетерпение и недовольство, выпрямился, взялся за резной столб, поддерживающий навес над крыльцом, некоторое время еще завороженно следил за ошалелыми белыми вихрями; снежная буря возбудила в нем какие-то неведомые, незнакомые силы и инстинкты, лицо горело, и холод больше не ощущался. Вернувшись в дом и встретив внимательный взгляд тестя, не скрывая своего восхищения, он покачал головой:
— Никогда ничего подобного — не испытывал, Захар Тарасович… Подлинное чудо…
— Погулял, Константин? — спросил лесник. — Я уж подумал, не искать ли идти, свет зажег…
— Погулял! — засмеялся Шалентьев, с трудом растягивая в улыбке непослушные, еще не отошедшие от мороза губы. — Заплутался… Отошел от дома буквально на десяток шагов — и уже не мог найти дорогу назад. Я, пожалуй, испугался, — продолжал он с несвойственным ему возбуждением рассказывать, — меня выручила собака… Этот Дик! Такой умный пес! Я закричал, он и пришел, привел меня к крыльцу… Удивительно, удивительно устроено в природе! Как же он чует в таком кромешном аду? — Шалентьев говорил беспорядочно, перескакивая с одного на другое, и никак не мог остановиться; сбросив пальто и шапку на лавку, согреваясь, он, возбужденно бегал взад и вперед перед молчавшим лесником; он был благодарен сейчас тестю, что тот внимательно его слушает.
— Я понимаю, Захар Тарасович; вам смешно, вы человек естественный, всю свою жизнь в природе, — говорил он. — Войдите в мое положение, едва отошел от дома — и не могу найти дорогу назад, должен умереть, вот не могу найти, и все! Представляете? Нелепость какая! Но я о другом в этот момент думал, другое понял. Я понял, что истина везде, и вверху, в небе, и внизу, в земле, и во всем вокруг меня, а не только во мне самом, в моих мыслях и переживаниях, как мне раньше казалось. Даже в нелепости помереть в двух шагах от теплого дома — тоже истина! И она вне меня! Вы меня понимаете, Захар Тарасович?
Лесник кивнул, хотя ровным счетом ничего не понял; он видел, что зять замерз и никак не может справиться с дрожью, и предложил ему чаю с малиной.
— Ну что вы, Захар Тарасович, какой чай среди ночи? — отказался Шалентьев. — Я и без того возбужден. Знаете, наступает час — и человек понимает что-то главное в жизни и в себе. А главное — в истине жизни и смерти, в борьбе двух начал, а все остальное выеденного яйца не стоит. Прах, прах… Суета сует, как сказано в древней книге. Кстати, Захар Тарасович, вы в Библию не заглядывали?
— Заглядывал, — ответил тесть не сразу. — Зверства много, мути и того больше, а до правды поди доскребись… Все оттого, что одни выше других хотят быть, вот и пугают, пугают…
Не взгляни Шалентьев пытливо в глаза леснику, разговор на том бы и оборвался, а здесь как-то само собой у Шалентьева вырвалось еще несколько замечаний — уже о самом хозяине.
— Я так и не понял вас до конца, Захар Тарасович, — признался он после некоторой паузы, — хотя многое почувствовал. Вы ведь должны знать, чем я занимаюсь, так ведь?
— Ну, если ты на месте Тихона сидишь, чего же тут не понимать? — не стал отнекиваться лесник. — Оно в жизни чудно устроено… Тебе вот от него все досталось…
— Так получилось, — просто сказал Шалентьев, отвечая на скрыто прозвучавшее в голосе тестя недоумение. — Я не об этом, Захар Тарасович, я о другом. Вы умный человек, отчего же вы будто не берете всерьез того, что я делаю? Что, вы все это считаете, ненужным, лишним?
— Давай спать, Константин, — после некоторого раздумья отозвался лесник. — Куда мне в такие-то выси… Ты на то и учен, а я? У меня свой круг, я его и дотаптываю потихоньку… Я о том и Тихону, бывало, говорил… Мое такое дело, вот зима кончится, лес зазеленеет — и хорошо, и ладно… Мне теперь каждый зеленый лист по весне — благодать… Съездим с Денисом на погост, к своим могилкам в день поминовения. На людей посмотрю, с народом потолкую… Какого еще рожна надо? У меня сердце прозрело вроде к жизни…
На другой день Шалентьев опять попытался уговорить тестя согласиться на поездку в Москву, и тот, начиная сердиться всерьез, теперь уже наотрез отказался.
16
Особенно запомнился Денису день поминовения в год окончания третьего класса, уже в Зежске; год во многом для него переломный; в эту весну рано сошли снега, в начале апреля брызнула первая зелень в лугах, нежной дымкой незаметно поползла по опушкам лесов; дороги быстро просохли и установились, и Захар, продав несколько бидонов меда, прикатил на кордон мотоцикл, не устояв перед заветной мечтой правнука, давно уже, втайне и от деда, и от милиции освоившего эту машину, гонявшего ее по часу, а то и больше где-нибудь на глухой окраине Зежска и платившего за это удовольствие умельцам постарше, уже обзаведшимся собственной техникой, по рублю, по два, если желающих было много. Взяв с правнука слово не выезжать пока за пределы кордона, лесник успокоился, и жизнь продолжалась своим чередом, но теперь, к неудовольствию Дика, старавшегося в такие дни держаться подальше от Дениса, тишина довольно часто прерывалась стонущим воем мотора, чистый лесной воздух наполнялся бензиновой гарью. И даже добродушная корова Зорька, попадая в облако синеватого дыма, оставляемого мотоциклом, тревожилась и, прядая ушами и взбрыкивая, спешила в сторону.
На майские праздники той же весной Денису пришлось пережить и еще одно потрясение; неожиданно в Зежск, ничего не сказав матери, приехала Ксения, и, когда Дениса вызвали с урока, сказав, что за ним пришли и просят его выйти, он вначале даже не понял. Увидев в конце длинного коридора стоявшую у окна высокую, красивую женщину, он приостановился; оба они — и мать, и сын — какое-то время медлили, затем Денис, сильно вытянувшийся за последний год, остановившись в двух шагах от матери, негромко поздоровался.
— Здравствуй, Денис, здравствуй, — ответила Ксения, стараясь говорить спокойно и ласково и не замечать холодности и даже неприязни со стороны сына. — Ты меня прости, Денис, но я не могла иначе, мне необходимо увидеть тебя и поговорить. Мы можем куда-нибудь выйти, прогуляться… посидеть где нибудь вдвоем?
— Недалеко сквер есть, — ответил он, все с теми же холодными, напряженными глазами. — Там сейчас никого… только если в Москву будете уговаривать…
— Нет, нет, Денис, — испугалась она и невольно сильнее прижалась к подоконнику. — Нам надо поговорить, очень серьезно поговорить, и я прошу тебя… от этого зависит, может быть, вся моя жизнь…
— Вся ваша жизнь? — переспросил он, по-прежнему стараясь осознать и почувствовать, что перед ним стоит его родная мать и что с ней нужно разговаривать и вести себя как-то иначе, чем с другими, и в то же время совершенно не чувствуя никакого волнения, и только лишь болезненное любопытство заставляло его изредка вскидывать глаза и смотреть матери в лицо.
— Да, вся моя жизнь, — повторила Ксения дрогнувшим голосом, стараясь, расположить сына к себе и даже заискивая перед ним. — Ты уже большой мальчик, ты поймешь…
В этот момент мимо раскрытого окна на третьем этаже школы, спиной к которому стояла Ксения, истошно крича, прометнулось несколько грачей; они мелькнули и пропали, но с Денисом после этого что-то случилось, и он окончательно как бы заледенел; тут у него проснулось и окрепло саднящее усиливающееся чувство обиды, и он стал вспоминать, сколько и когда он видел ее, свою родную мать, в жизни, и выходило, что раза три или четыре; его внутренняя боль и заледенелость усиливались, и он окончательно перестал слышать ее слова или, вернее, слышал ее как бы урывками, одно прорывалось к нему, другое нет. И Ксения, долго и горячо (прошло не менее двух часов с начала их встречи) пытавшаяся убедить его в необходимости переменить образ жизни, вдруг увидела и поняла, что он не слушает и не слышит ее, и, охваченная приступом отчаяния, заплакала, и только тогда Денис вроде бы очнулся от своего странного, словно бы летаргического сна, но опять-таки ни жалости, ни сострадания к этой молодой и красивой женщине, своей матери, не ощутил, и хоть однажды выговорить это трудное, мучительное слово «мама», жгуче бившееся у него где-то в мозгу, заставить себя не мог, и Ксения, поняв, небрежно смахнув слезы, тоже слепо, издали улыбнулась ему.
— Значит, у нас ничего не выйдет, так я поняла, Денис? — спросила она, и он как бы впервые за все время их встречи услышал ее голос и до него дошел смысл ее слов.
— Нет, не получится, — сказал он просто. — Я знаю, вам трудно… Я никуда не поеду.
— Я говорила, Денис, о Париже, — сказала она. — Я не могу примириться с мыслью о том, что ты столько теряешь…
— Что я там забыл, в Париже, — удивился он, и в его отливающих сейчас стальной синью глазах мелькнула легкая насмешка. — Мне с дедом хорошо. Вы это не можете понять.
Ксения не выдержала, приткнула его голову к своему плечу, поцеловала в спутанные густые вихры и, не желая окончательно разрыдаться, быстро, не оглядываясь, пошла прочь, и лишь издали, когда он уже не мог видеть ее глаз, оглянулась, помахала рукой. Он не ответил; теперь в груди у него шевельнулась по-настоящему тяжелая, задавленная обида, он рванулся за угол, чтобы больше ничего не видеть, перемахнул какой-то невысокий забор и, забившись в молодые заросли бузины, долго сидел с горячими глазами, до крови кусая губы, а поздно вечером, когда над лесом уже густо высыпали крупные, чистые звезды, добравшись до кордона и пристроившись возле лесника, сразу почувствовавшего что-то неладное в парнишке, отмалчивался на все расспросы и только слушал о предстоявшем завтра дне поминовения; родной и привычный голос деда успокаивал, лесник обстоятельно рассказывал, что и пирог уже готов, и яйца сварены, и две четверти старой медовухи уже покоятся в бричке, для большей сохранности заботливо обложенные сеном, — и Денис начал отходить. Убаюкивающее тепло дома, со веема его звуками и запахами, охватывало, подступало со всех сторон; перед тем как отправиться спать, он спросил деда, можно ли вообще человеку быть без матери на белом свете, и лесник, ничего не ответив, лишь хлопнул парнишку по плечу и засмеялся; в ответ вначале неохотно, а затем и от всей души расхохотался и Денис. И на другой день, где-то ближе к полудню, они подъехали к густищинскому погосту — обширному песчаному косогору в старых ракитах и тополях. Народу на погост съехалось и сошлось уже порядочно; на обочине стояло несколько легковых автомашин, рядом с ними торчали мотоциклы с колясками и без колясок, было и десятка два подвод; густищинцы съезжались отовсюду: из Зежска, из ближних и дальних окрестных сел и соседних районов, две машины были даже с холмскими номерами.
Пристроив Серого в ряд с остальными лошадьми, на конской стороне, Захар, одетый во все новое, в начищенных еще с вечера кожаных мягких сапогах, сшитых по заказу, ослабил чересседельник, бросил коню охапку душистого лесного клевера; Серый покосился темным блестящим глазом и, тихонько заржав, потянулся мягкими губами к сену. Лесник кивнул правнуку, который привычно по-хозяйски помогал привести в порядок сбрую на коне, поправил шлею, сунул кнут на днище дрожек под сено, подальше от чужих глаз. И какое-то странное, непривычное, давно не испытываемое чувство открытия охватило Захара, и он не смог бы его объяснить; просто на какое-то время ему показалось, что самого его больше нет и глядит он откуда-то издалека и видит не своего подросшего правнука в сшитых на заказ сапожках, с копешкой русых волос, а свое близкое завершение… И старый лесник, чувствуя, как подступает к сердцу тихое успокоение, огляделся; он был еще зорок глазами, и знакомый простор полей, разлив лугов, начинавшихся сразу за песчаным косогором, и неширокий синеющий проблеск речки Густь, петлявшей среди майского разнотравья и уже начинавшей входить после весеннего сполоха в берега, и дальше — стеной встающие на горизонте леса, крыши Густищ, вытянувшиеся неровной линией с другой стороны, высокое, майское небо с редкими сверкающими облаками — все вокруг показалось ему тоже в чем-то другим, переменившимся. Над Густищами выросла вторая водонапорная башня, чуть в стороне поднялись коробки откормочного свинокомплекса, между погостом и Густищами поля прострочила бетонная автострада на Москву, прозванная в народе Хрущевкой в память об эпохе, когда была сработана эта дорога; перемены, конечно, были, но не они сейчас раздражали душу; просто, как всегда в этот день, начинал подступать особый настрой, просыпалась и поднималась с неведомого дна какая-то голодная тоска, неосознанное желание наконец-то понять главное в жизни и успокоиться. Народ прибывал; подъехала шумная компания Алдониных, внуков Фомы Куделина, судя по их громким, несдержанным голосам, бывших уже с утра навеселе; затем потянулись смиренной чередой старухи из Густищ, глухо повязанные к случаю темными платками, все, считай, ровесницы Захара; каждая из них несла кто кошелку, кто узелок, кто щегольскую сумку с застежками на молниях, с ними вместе с толстой суковатой палкой пришел и Фома и, подслеповато помаргивая, огляделся, тотчас приметил и своих внуков, и Захара, издали помахал ему рукой; пока не было совершено главное, лесник не захотел отвлекаться и, сделав вид, что не заметил ни самого Фомы, ни старух, взял из брички кошелку с пирогом и яйцами, четверть медовухи и направился на погост, по-прежнему стараясь ни с кем не останавливаться и не разговаривать, лишь коротко кивая встречным в ответ; Денис пошел за ним следом. По всему погосту тихо двигались люди; одни поправляли могилы, просевшие за зиму и весну, другие чинили и красили ограды, третьи просто сидели на скамеечках у могил своих близких молча, с отстраненными, тихими лицами, некоторые, собравшись по нескольку человек, разговаривали; иногда откуда-то из-за погоста доносились и более громкие молодые, веселые голоса, но они были чем-то инородным и не мешали происходящему на старом густищинском погосте приобщению живых к древнему таинству поминовения. Захар, а вслед за ним и Денис прошли в тот угол погоста, где на небольшом клочке земли, обнесенном стараниями Егора кованой железной оградой, покоились ушедшие из рода Дерюгиных и густо стояли дубовые и железные кресты; невысокие цементные пирамидки, сделанные с добавкой гранитной крошки, слегка отшлифованные, вошедшие в моду в последние два-три года, теснили друг друга на самом видном месте, недалеко от входа. Захар придирчиво окинул взглядом ограду; и столбики, и железная вязь, выкрашенная в темный, спокойный тон, нигде не похилились, стояли ровно. Свежая, уже порядочно отросшая трава зеленела вокруг могил и крестов; отворив дверцу, стараясь ступать помягче, Захар вошел в ограду. На могиле Ефросиньи земля в одном из углов, в головах, слегка просела, и Захар, взяв лопату, тут же подправил могилу. Карточка покойной на фарфоре, вделанная в самую сердцевину креста, сильно поблекла, но черты лица хорошо различались; Захар протер гладкую поверхность фотографии рукавом пиджака и долго, с какой-то полнившейся в душе тишиной всматривался в знакомое лицо, узнавая и не узнавая его. Денис, успевший все обойти и осмотреть в семейной ограде, устроился на низенькой скамеечке и стал раскладывать на столике, приваренном к ограде, постелив предварительно небольшую скатерку, привезенные запасы, пирог, яйца, поставил стаканы, затем водрузил на стол бутыль с медовухой. Отломив кусок пирога, Денисо хотел пойти побродить по погосту, посмотреть, что делает народ, но взглянул на деда и остался; он вспомнил, что в прошлую весну дед указал ему на тесный Зеленый прогал между могилами Ефросиньи и своей матери, бабки Авдотьи, и сказал, что здесь его место, мол, давно облюбовал, и вот сейчас дед опять тихо, с преобразившимся, разгладившимся лицом, не отрываясь смотрел именно на этот узенький зеленый прогальчик между двумя невысокими продолговатыми холмиками, увенчанными крестами. Забыв о пироге, с проваливающимся куда-то сердцем Денис подошел к деду и дернул его за руку; лесник очнулся, глянул, все понял, и его ладонь опустилась на голову парнишки.
— Иди, иди погуляй, вон народу-то сколько понаехало, — легонько подтолкнул он Дениса. — Иди, я тут, пока наших никого нет, посижу.
По-прежнему медля, раза два нерешительно оглянувшись, правнук ушел, и лесник проводил его взглядом, просветлевшим, как бы промытым каким-то целительным душевным иастоем; перед ним вдруг высветилась немереная, пугающая своей неоглядностью и безграничностью даль, и не осталось тесного погоста на песчаном косогоре, окруженном вековыми, дуплистыми ракитами. Он увидел своих мать и отца, которого почти не знал и потому никогда раньше не мог вспомнить, — и не дряхлых, немощных, а молодых, в силе; и дальше увидел деда, умершего через три года после рождения внука, но Захар сразу же безошибочно его признал, дед был громадного роста, в косую сажень, и рядом с ним, и еще дальше за ним виднелись, проступали из сверкающей дали новые и новые лица, и Захар, всматриваясь, тотчас их узнавал и определял, кто они есть ему по родству… И он подумал, что это не к добру, нет, не к добру, повторил он, не чувствуя, однако, ни страха, ни удивления; просто пришла пора и ему посреди бела дня увидеть свой корень, свой род… И тут он, подняв голову и отыскав взглядом лохматую белесую голову Дениса, мелькавшую вдали, среди народа, одобрительно кивнул; горизонты сдвинулись и замкнулись; он услышал настойчивый, по-майски неровный посвист ветра в ракитах и, чувствуя слабость, опустился на скамейку. В мире не было ни начала, ни конца, и Захар, переждав немного, вновь принялся наводить порядок в ограде, подмел дорожку, выдернул угнездившийся возле могилы матери куст репейника, изрубил его жилистые, цепкие корни, вывернув их лопатой.
Неизвестно когда в Густищах повелась на погосте рядом с могилами отцов и матерей, дедов и прадедов увековечивать и пропавших в последнюю войну, и тех, на кого пришла похоронка, и тех, кто вообще сгинул без вести, затерялся на немереных дорогах войны и послевоенного лихолетья. Ставили те же простые цементные пирамидки с выдавленными в них еще при изготовлении по сырому материалу именами и с гнездами для карточек, если они у кого сохранились, и в некоторых оградах их насчитывалось до пяти и больше; а в самом дальнем конце погоста, где издавна хоронили Антиповых (это была одна из самых древних и плодовитых густищинских фамилий, из поколения в поколение производившая на белый свет одних только мужиков, невысоких ростом, злобноватых и стяжливых), тесным рядком стояло целых девятнадцать таких молчаливых и жутковатых своей многочисленностью свидетельств с полуисчезнувшими от дождей, метелей и ветров именами — все мужское поголовье Антиповых сгинуло на войне, пятеро же остававшихся после оккупации ребятишек подорвались в один раз, собравшись в тесный кружок возле мины в собственном огороде, и пирамидки сгинувшему роду Антиповых, как взрослым, так и малым, покупали и ставили всем селом — оставшейся в живых старухе Наталье Антиповой сделать это было не под силу.
И в семейной ограде Дерюгиных стояли две такие пирамидки, одна — старшему, Ивану Захаровичу Дерюгину, вторая — младшему, Николаю; оба они расположились рядком, и Захар долго стоял перед ними, тяжело опершись на лопату; он никак не мог вспомнить облик своего старшего, представлялось что-то смутное, туманное, совсем детское; и карточки от него не осталось. Захар помнил, что младший, Николай, в чем-то походил на старшего брата; Захар сдвинул сумрачные брови, заставляя себя вспомнить и про себя недоумевая, какая же нескончаемая жизнь взбороздилась за плечами: и двух сыновей давно нет, и внуки попереженились и о нем забыли, и правнуки подтягиваются в свой черед; Денис и тот, гляди, скоро заженихается. И едва он подумал о Денисе, тотчас все у него в душе связалось и определилось; он вспомнил своего старшего Ивана, пропавшего где-то за тридевять земель, до того ясно, что стало жутко, и сердце вновь засаднило; Денис-то был вылитый Иван, такой же крутой, высокий лоб, те же с рыжинкой золотистые глаза, те же пухлые губы и слегка прижатые большие уши; и самое главное, по характеру такой же: все внутри, и если сам не захочет, не пробьешься никакой силой…
И тогда старый лесник размяк слегка, чувствуя силу и вечность своей природы; ну ничего, ничего, говорил он себе, вновь и вновь окидывая глазами кресты и надгробия в дерюгинской родовой ограде, ничего, один уходит, а другой тут же тебе рядом и поднимается… Одного сразу с ног сшибает, другой кувыркается да кувыркается, и никакая его холера не берет, глядишь, огонек и засветится в глуши, что то оно и прибавится… Вот и Денис больно уж нутряной растет, из него путное что, поди, и завяжется, крепкий мужик подымется… Тут и баб рядом нет, некому кудахтать, один-другой такой подымется, разорение земли как-нибудь приглохнет, поворот в хозяйскую сторону полегоньку и получится…
Осуждающе покачав головой, лесник сам над собой усмехнулся; сколько раздавал себе зарок не лезть не в свое дело, не смешить добрых людей, а вот так ничего и не получается, старое нет-нет и прорежется; давно уж пора понять, что разор земли идет сверху, словно кто нарочно рогами вертит и не дает народу никакого продыху; как только жирок завяжется, тут же тебе еще один указ, опять соскребут до самой кости… Что это за такое учение, кому оно нужно? Шестьдесят с лишним лет прошло, и ни хлеба, ни мяса, народ разбежался, молодь от водки да самогона совсем остатки мозгов растрясла, кругом по селам поножовщина. Нет того дома, чтобы кто в тюрьме не сидел, это куда ж такое дело годится? Земля пустует, зарастает бурьяном, и не тронь ее, куста картошки не посади — что же это за учение такое, ежели оно не угробление честного народа? И кому нужно такое учение, чтобы народ спивался, воровал, в разврате гибель свою искал? Нет для человека ничего хуже безделья и дармового хлеба, тут же он тебе в скотину и переродится… И стоило ли за такую пакость кровь проливать, ни себя, ни других на щадить — земля-то русская из края в край в кровище плавает… Стоило ли, раз такое непотребство и лютый обман выходит? Образумятся внуки-то да правнуки, раскопают до самого дна, вот, скажут, гады неграмотные, хотели сами себя через голову перескочить, какого непотребства наворотили…
Тут лесник окончательно остыл; не к месту были сейчас все его мысли, и зарока не сдержал не лезть в непонятную растутырицу на земле; видать, правду сказала как-то Варечка Черная: давно мохом, старый пень, оброс, а туда же, взбрыкиваешь да пустыми мослами гремишь, добрым, людям на смех..
Пока лесник, взбудораженный своими мыслями, пытался разобраться в своей прежней жизни, погост заполнился людьми; больше всего пришло одетых в темное старух с узелками, с корзинками и сумками, с торчащими из них горлышками бутылок с водкой и святой водой; появились кое-где и солидные люди, стайки шумной молодежи; от Густищ по дороге к погосту тянулись и совсем уж немощные калеки, на костылях, безногие на платформочках с колесиками; в день поминовения, и все неимущие могли рассчитывать на щедрое угощение. Появилась почти согнутая пополам бабка Наталья Антипова, до войны стройная синеглазая молодуха с косами до пят; хрипло, со свистом дыша, она доковыляла до своих могилок, грузно опустилась на полусгнивший пенек и, отдышавшись, сползла на землю, кое-как утвердившись на коленях, долго молилась, каждый раз со стоном пытаясь выпрямить скрюченную спину. Чуть ли не на коленях, ощупью она затем обошла все надгробия и могилы, окропила их святой водой, а под каждую цементную пирамидку плеснула понемногу водки и положила по кусочку хлеба, каждый раз пришамкивая: «Отведай, родненький, отведай, голубок». Закончив свое важное дело, она неловко, как-то набок запрокидывая голову, и сама выпила, повозила в беззубом рту хлебную корочку и опять устроилась отдыхать на пеньке, умиротворенная и довольная; лесник подошел поздороваться с ней, и она закивала ему, не узнавая. Она уже почти не слышала и плохо видела из-за наросших на глазах бельм и долго добивалась, кто это с ней разговаривает, но так и не вспомнила, опасливо прижимая к себе узелок с остатками хлеба и пустой бутылкой. Пока Захар надсадно кричал бабке Наталье на ухо, пытаясь уразумить ее, подошел и Фома Куделин; его бабка Наталья сразу узнала по резкому голосу, послушалась и перешла в ограду к Захару, выпила медовухи и съела кусок пирога, растирая его деснами. Лесник с Фомой тоже выпили медовухи, одобрительно крякнув, попытались установить хотя бы приблизительно возраст бабки Натальи — и не смогли, вспомнили только, что она была лет на сорок постарше каждого из них; затем надолго замолчали, вслушиваясь в неясное жалобное бормотание древней старухи и пытаясь осознать несуразицу и несправедливость жизни, отчего-то взявшей да начисто и обрубившей многочисленный и крепкий корень Антиповых.
К полудню густищинский погост и вовсе преобразился; отдав должное могилам близких, надгробиям не вернувшихся с войны, обладив и обиходив родные могилы, люди теперь потянулись друг к другу, собирались по две-три семьи, выбрав места посуше, сообща выкладывала принесенные припасы; голоса становились громче, разговоры оживленнее; Фома Куделин и Захар тоже объединились; Фома стал было жаловаться, что баба его, Анюта, совсем обезножела, только и может, что из хаты выползти да на лавочке посидеть, все самому приходится: и за водой, и за молоком, и сварить надо; тут Фома стал нещадно ругать внуков, пошедших норовом в непутевого отца, своего зятя Кешку Алдонина; уж от них то помощи днем с огнем не дождешься, еще, охламоны, ладятся с бабкиной пенсии оторвать… Захар слушал и не слушал его; они устроились с южной солнечной стороны косогора, на просохшем, прогретом песке, подернутом редкой изумрудной травкой, подальше от высоченных ракит; к Захару часто подходили поздороваться, перекинуться словом-другим. Появился набегавшийся вволю Денис, с синяком под глазом; сердито посапывая, пристроился сбоку, принялся за пирог с яйцами; лесник сделал вид, что ничего не заметил. Тут подкатили на своей легковушке, поблескивающей свежим лаком, и Егор с Валентиной; оба принаряженные, Егор даже при галстуке; в ответ на молчаливый вопрошающий взгляд Захара Егор, раздавшийся на самогоне и хорошей еде в последние годы, с досадой махнув рукой, сказал, что сыновья умотали в Зежск по каким-то своим неотложным делам. Сходив поклониться на могилы, Егор с женой скоро вернулись, и Валентина, вытирая заплаканные глаза, принялась хозяйствовать, расстелив на земле большую клеенку, сверх нее белую камчатую скатерть, выставила на нее бутылки с вином и водкой, глубокие тарелки с холодцом, положила ножи и вилки; появились и селедка, давно уже в Густищах не виданная, и щедро нарезанная колбаса, и несколько банок вскрытых консервов, моченые, на диво сохранившие цвет и форму розоватые помидоры в глиняной миске, две вареные курицы… Наблюдая, Фома лишь причмокивал губами да похваливал расторопную бабу; Валентина между тем успела и с Захаром поговорить, и с Денисом, предупредила, что она кое-что собрала и на кордон и как бы потом не забыть отдать. Каким-то образом тут же оказалась и бабка Наталья — по словам Фомы, привлек ее колбасный дух; ее усадили поудобнее, дали испить винца, но вот от колбасы она отказалась и попросила селедки. К богатому застолью Дерюгиных потихоньку прибивались и другие, все больше одинокие, у которых никого не осталось; поминали по очереди, по старшинству, всех, кого помнили и кого могли припомнить. Фома вскоре раскраснелся, у него стала безбожно дергаться правая, контуженая ноздря; Захар, не зная, как подступиться к Егору с нужной стороны, спросить, с какой стати он к город зачастил, завел с ним разговор о хозяйстве, о земле, и тот в сердцах пошел костерить власть сверху и донизу, а затем погрустнел, сказал, что молодые из села бегут по-прежнему, как от чумы или какой дурной болезни, и остановить их ничем нельзя. Подходили знакомые и незнакомые Захару люди, с тайным любопытством поглядывали на него, уважительно здоровались; Валентина щедро угощала всех, достала из багажника машины еще полдюжины бутылок водки. Фома, проникшись особой заботой к старухе Наталье Антиповой, угощая ее селедкой, приговаривал: «Ешь, ешь, Наталья, ешь вволю, на том свете не посолонишься, не почмокаешь! Природа!», затем, окончательно распалившись и расчувствовавшись, распростер руки, как бы стараясь охватить всю молодо струящуюся под усилившимся после полудня ветерком зеленую громаду погоста, проникновенно и даже с торжественностью сказал: «Люди добрые! Не грешите, вот он, наш последний приют, вот наша невозвратная домовина! Не грешите, люди, покайтесь! Природа!» При последних словах Фома строго всех оглядел, и какой-то городской щеголь в кожаном пиджаке и в таких же блестящих, в обтяжку штанах горестно посочувствовал: «Ох, дед, правда твоя!» — и затем, хлопнув полстакана водки, захрустел ядреным огурчиком; Егор, понизив голос, сообщил Захару, что этот молодец из Зежска, зять Нюрки Бобок по внучке, говорят, даже какой-то инженер-испытатель на моторном, и добавил, что растреклятый тот завод всех красивых девок в округе как метлой подчищает…
Вот в это время всеобщей душевной расслабленности и пронеслось в ласковом майском воздухе некое тревожное дуновение. Люди примолкли, стали переглядываться, по всей южной части песчаного косогора, где расположились густищинцы семейными и родовыми кружками, постепенно стихли голоса и все начали смотреть в одну сторону; некоторые даже привстали, приглядываясь.
Происходило нечто совсем уж удивительное: со стороны Густищ, взрывая изумрудную зелень озимого поля, мчался на всех парах тяжелый, невероятно юркий колесный трактор; пер он, затейливо рыская из стороны в сторону, выписывая самые немыслимые петли и зигзаги. Густищинцы на косогоре стали тревожно переговариваться, гадая, что бы это могло быть; старухи даже высказали предположение, что это мчится колхозное и советское начальство гнать всех взашей на работу, а кто-то из стариков сказал, что чертова машина взбесилась и сама по себе гарцует. Описав гигантскую дугу вокруг всего погоста (шарахнулись, припадая на задние ноги и прядая ушами, лошади, затрещали оглобли), трактор почти вплотную подлетел к расположившимся на солнышке людям, так что многие из них кинулись в стороны и закричали. И тут взбесившаяся машина, как-то тычком припав на задние колеса, взвыла и остановилась. Тотчас дверца у нее распахнулась, из кабины выскочила гибкая, с горящими щеками, в вельветовых брюках в обтяжку первая густищинская красавица Верка Попова, поднявшаяся на селе за последние два года, за ней выхватился из кабины один из многочисленных внуков Фомы Куделина, белоголовый Алешка, сильно поддавший, отпустивший по-городскому длинные, давно не мытые кудри до плеч, дальше перед изумленными густищинцами развернулась совсем уж потрясающая картина. Верка тотчас ударилась в бег, но длинноногий в таких же щегольских новеньких вельветовых в обтяжку джинсах с заморскими бляхами парень тут же настиг ее, схватил за плечи, сжал так, что она не смогла и пошевелить руками, только молча рвалась и старалась пнуть его каблуком в ногу. «Ну, ну, ну, тише, любая моя, — он стискивал ее все сильнее. — Не вырвешься… у-ух, любая ты моя… не-ет, не вырвешься, хоть в три узла завяжись, моя будешь…»
Сгрудившийся вокруг народ поневоле обмер, залюбовавшись необычайным поединком этих двух красивых, здоровых молодых людей, ставших еще привлекательнее от желания доказать свое, взять верх друг над другом, затаил дыхание, и только древние старухи, как правило глухие и самые любопытные, старались непременно протолкаться в первый, ряд и занять место поудобнее. «Эй, люди! — крикнул Алешка Алдонин, не выпуская девушку. — Все знайте, решили мы пожениться, и Вера Григорьевна дала мне на то свое согласие… всех сегодня на свадьбу милости просим… всех!» Тут Алешка одним махом поворотил девушку к себе лицом, припал к ее губам, и ошалевшая совсем девка затихла; затем, нырком присев, освободилась, выпрямилась, изо всех сил размахнувшись, влепила парню увесистую, так что у него дернулась голова, оплеуху, кинулась к погосту и в одно дыхание оказалась высоко на старой дупловатой раките. Старухи заахали на разные голоса. Вспыхнув до корней волос, Алешка некоторое время стоял, задрав голову, с бешеными глазами, со сжатыми намертво кулаками и крупно взбугрившимися под легкой полотняной рубашкой плечами. В этот момент своенравная девка, очевидно чувствуя себя в полной безопасности, и показала ему сверху, с ракиты, фигу. Фома, подняв палку, затряс ею, что-то закричал и бросился было к внуку, оттолкнув с дороги Варечку Черную, но тот уже влетел в кабину своего трактора; мотор дико взревел; заставив всех вокруг шарахнуться прочь, трактор, встав чуть ли не на дыбы, взрывая землю, крутанулся вокруг оси. Люди кинулись врассыпную, старухи закричали, лесник, схватив подвернувшегося Дениса за плечо, тоже поспешно отступил в сторону, а тракторист, разогнавшись, задним мостом со всего маху саданул в старую ракиту, на которой, удобно устроившись на толстом суку, сидела Верка, победно поглядывая вниз и болтая длинными ногами; трухлявое дерево жалобно хрястнуло, от него отскочил кусок полусгнившего ствола, открывая черную сердцевину; все дерево сверху донизу затряслось, и Верка, хватаясь за сучья, завизжала. Отогнав машину метров на двадцать, Алешка Алдонин опять на предельной скорости бухнул железным задом в дерево, брызнули стекла кабины, вновь полетели отбитые куски ствола; побелев от страха, Верка полезла еще выше, а ракита заметно наклонилась в сторону погоста. Тут присутствующие молодые мужики и парни, придя в себя, переглянулись, незаметно подвинулись, и, когда полуспятивший от любовной горячки тракторист ударил в ракиту третий раз, несколько человек тотчас бросились вперед, и, пока Алешка переключал скорость, его сорвали с сиденья, выволокли вон, повалили наземь, заломив руки за спину, тут же крепко связав их чьим-то подвернувшимся полотенцем. Изгибаясь всем телом, тракторист пытался вывернуться, но на нем уже сидели двое дюжих мужиков, один на ногах, другой на плечах; в этот момент подбитая ракита хрястнула, затрещала и пошла потихоньку клониться к земле; кинулись спасать Верку, стараясь задержать падение раскидистого старого дерева, подпирая его палками, плечами, кто как мог. Исцарапанную, в разорванной кофточке, Верку наконец вызволили из под веток; вокруг нее столпились старухи и женщины; галдели, охали, посматривая на нее как-то особенно, словно видели впервые, а она, пытаясь улыбнуться вздрагивающими губами, не могла выговорить ни слова. И тут Нюрка Бобок, вздохнув, выражая общее мнение, покачала головой, и в голосе у нее прозвучала застарелая бабья тоска:
— Эх, девка, дура ты, девка… Покорилась бы… все одно такой возьмет. Какого тебе еще принца надо?
— Да я… да я его… да я шизика проклятого близко не хочу, ему лечиться надо, алкоголику, — зачастила Верка, обретая наконец голос, хотела еще что-то прибавить, махнула рукой, и потрясение и гнев в ее глазах сменились каким-то мягким рвущимся светом.
В это же время вокруг поверженного и усмиренного тракториста, время от времени еще пытавшегося вывернуться и сквозь зубы цедившего угрозы державшим его мужикам, становилось все оживленнее; Фома со своей суковатой палкой прорвался к внуку и, топая ногами, потребовал его принародно высечь.
— Сдирай с его портки заморские, — петушился он, подпрыгивая от возбуждения и тряся над головой увесистей палкой — Я его сам, сукиного сына, отхожу и отвечать не буду. Ишь, — стервец, взъерепился, девку не мог втихую уломать! Сдирай портки, мужики, природа! Сдирай до самого принародного сраму!
Кое-кто уже стал расстегивать ремень на трактористе; тот, извиваясь гибкм, сильным телом, не давался, скосив на Фому налитый темным бешенством глаз, еще пробуя освободиться, оскалился, затем неожиданно ясно и размеренно погрозил:
— Опозоришь, дед… убью, старого черта! Так и знай! В болото оттащу, никакая милиция не найдет!
В первое мгновение онемев, Фома, беспомощно оглянувшись на усмехавшегося Захара, бросился к распяленному на земле внуку с криком: «Стой! Стой! Я его сквозь портки пропеку, поганца!» — и, оттолкнув кого-то, брякнувшись на колени, стал изо всех сил молотить своей тяжеленной палкой по тощему, подскакивающему каждый раз при ударе заду своего одуревшего от любви внука; Алешка, оскалившись, грыз землю и молчал, а Фома, утробно приговаривая: «А-ах! A-ax!», работал до тех пор, пока штаны на внуке не лопнули и не брызнула кровь; тут кто-то схватил у Фомы занесенную для очередного удара палку; неловко дернувшись, Фома не удержался и ткнулся бороденкой в землю. Поднявшись, он увидел перед собой спокойные, смеющиеся глаза лесника, дернул изо всех сил палку к себе с намерением хорошенько огреть своего старого погодка, но Захар не отпустил; так они истояли, держась за палку каждый со своего конца.
— Хватит, Фома, — сказал Захар, — ты что? Ему на тракторе работать, с тебя за простой пенсию на год сдерут.
— Пусть попробуют! — взвился Фома. — За родного-то внука? Да я до самого Сталина дойду…
— Да какого Сталина-то? Он и сам давно туда отправился, куда письмо твое не дойдет. Развяжите парня, мужики, что вы его давите…
Вокруг заржали, а Фома внезапно обессилел; ему стало жалко внука, кстати самого любимого; правая ноздря у Фомы задергалась. Тем временем среди баб, окружавших и вразумлявших Верку, в одно мгновение, словно майский шальной ветерок, пронеслась весть, что Алешку Алдонина мужики насмерть забили; старухи заохали, запричитали, бабы гурьбой бросились с погоста прямо через канаву к сгрудившимся на косогоре мужикам, а впереди всех мчалась сама Верка, перепрыгивая могильные холмики, а затем перемахнув и через довольно широкую канаву, вырытую вокруг погоста от скотины.
Алешку уже освободили, дружески хлопали по плечам, а он, отряхиваясь, морщился, то же время стараясь сохранить на лице некую бесшабашность; в этот момент перед ним и оказалась Верка. В серовато-зеленых глазах парня словно метнулось какое-то рыжее пламя, так нестерпимо они вспыхнули; тут уже все решили, что начинается новый круг, но Верка, подавшись вперед, расслабленно и жалобно прошептав «Алешенька», обхватила его за шею и уткнулась в грудь. Бабы вокруг опять заахали, а мужики засмеялась, подзуживая и советуя Алешке Алдонину, что ему делать дальше. Рывком подхватив девушку на руки, тракторист в одно мгновение ловко втиснул ее в кабину трактора, вскочил сам, плюхнулся на сиденье, но тут же высунулся из кабины, нашел взглядом Фому, погрозил увесистым кулаком: «Ну погоди же, старый пень!», и трактор умчался, мотая незакрывающимися, с выбитыми стеклами дверцами. От изумления Фома надолго лишился речи и только трепетал контуженой правой ноздрей; лишь хватив полстакана водки, он стал приходить в себя и огрызаться в ответ на подковырки Захара; понемногу все вокруг, вдоволь наговорившись и обсудив случившееся, решили, что играть скоро Алдониным очередную свадьбу, а затем вспомнили, зачем они собрались сюда в день поминовения. До самых сумерек на погосте и вокруг него происходило теперь уже спокойное и даже несколько торжественное движение; густищинцы собирались в кружки, переходили от одного соседа к другому, перебивали один другого, вспоминали самые невероятные и диковинные случаи из жизни покойных родных; иногда даже тихонько, прикрывая для приличия рты ладонями, посмеивались; пополз с луговой низины, в разводьях многочисленных озер, толстый, волглый туман; кое-где, набрав сушняку, обитого зимними ветрами со старых ракит и тополей, стали разжигать костры. Вся медовуха у лесника была выпита, и он уже несколько раз собирался уезжать, но от него никак не отставал и Фома, и другие густищинцы; в то же время в легких майских сумерках старуха Фомы Анюта кое-как выбралась с помощью костылей на улицу, устроилась на скамеечке недалеко от крыльца, чтобы видеть и деревенскую улицу, и особенно хату, и ворота, и полуоткрытую калитку рядом с воротами. Опоздавшие куры, вытягивая шеи, спешили с улицы во двор на ночлег; Анюта по извечной и неискоренимой крестьянской привычке старалась ничего не упускать, но глаза у нее тоже совсем износились и видели все, особенно в наплывающих на село сумерках, словно бы задернутым легкой кисеей; курица проскочит — заметно, а какая она, пестрая или белая, не поймешь. В этот раз с погоста, со дня поминовения что-то долго не возвращались, и, думая об этом, Анюта всякий раз истово крестилась, начинала припоминать собственных покойников и просила Бога простить ей за ее убожество и невозможность самой побывать на родимых могилах, честь честью поклониться им, повыть над ними; одним словом, у Анюты было на душе пустынно и скучно, и село словно вымерло, только доносились откуда-то детские задорные крики и смех. Откинувшись на спинку скамьи, Анюта что-то пробормотала, вновь размашисто перекрестилась; привиделось ей нечто совсем уж несуразное; бесшумно приоткрылась половинка ворот, со двора выплыла какая-то широкая размытая фигура и стала тихонько продвигаться мимо Анюты, вытянувшей шею и старавшейся определить, что за несуразное видение проследовало мимо с явным намерением завернуть в прогон, начинавшийся сразу же за усадьбой Куделиных и ведущий к знаменитым густищинским березам — любимому месту гулянок молодых парней и девок; Анюта все же различила, что идут какие-то трое мужиков, взявшись под руки, но тут же усомнилась, подслеповато заморгала, даже сделала попытку привстать; мужиков было не трое, а двое, посередке же, видать, вышагивала высокая девка, повязанная платочком по-деревенски под подбородок и по новой срамной моде в узких штанах. Мысли Анюты тотчас обратились к непутевым внукам, и она негромко окликнула:
— Алешка… слышь, ты, что ль? С кем это ты, а?
— Да ни с кем… бабуш, — действительно услышала она голос внука, только какой-то больно уж вороватый. — Прошка тут со мной, братан…
— А посередке-то, посередке? — не удержавшись, опять спросила Анюта. — Кого вы там посередке поволокли?
— Да ты, бабуш, видно, совсем не видишь, — теперь уже весело отозвали внук. — Ты что, Верку Попову, соседку свою, не узнаешь? Мы в березки, там сегодня у нас митинг. Деду привет передавай, скажи, пусть к нам на митинг приходит, про свои фронтовые подвиги расскажет… Слышь, бабуш? Обязательно пусть приходит…
Анюте послышался задавленный смешок, и вся троица скорехонько свернула в прогон и пропала из глаз; тут только Анюта поняла, что ее в чем-то крепко надули, но гнаться за ними она не могла и осталась сидеть, дожидаясь где-то запропастившегося своего старика; быстрый летний вечер вспыхнул зарей над далекими зежскими лесами и как-то на глазах погас; ударил в саду соловей; на другой стороне села послышалась музыка из транзистора, веселые молодые голоса, затем всхлипнула и зачастила гармонь, молодежь нынче не признавала ни Бога, ни черта, вздохнула Анюта и, так никого и не дождавшись, кое-как уволоклась в избу; ей бы и в дурном сне не привиделось, что ее любимый внук Алешка, красавец, по которому сохли девки чуть ли не всех окрестных деревень и сел, да немало и зежских, городских тоже, в отместку за публичную порку, подговорив своего такого же шебутного братца Прошку, свел со двора у деда его самую любимую удойную козу, повязал ей на рога бабий платок, туго замотал морду сыромятным ремешком, чтобы она как-нибудь не бякнула, взгромоздил ее на задние ноги и подхватил, как человека, под передние. Коза, влекомая двумя здоровенными братьями, довольно бодро прошествовала по прогону именно в таком положении — на двух ногах; и только еще одной встречной старухе, известной в Густищах травнице и лекарке, возвращавшейся в сумерках в село со своего майского промысла с большой плетеной корзиной за плечами, столкнувшейся с братьями в упор и попытавшейся, разумеется, разглядеть прежде всего девицу в платочке между двумя братьями Алдониными, — ей-то и показалось уж совсем нечто непотребное. Привиделась ей вроде бы мерзкая собачья морда с рожками, тем более что братья картинно, как перед фотоаппаратом, замерли перед старухой и даже подбоченились, а сам Алешка заботливо поправил на девке платочек. У старухи затряслись губы, она хотела перекреститься, не смогла — желтый дьявольский глаз величиной с куриное яйцо, с вертикальным огненным зрачком, устремившийся на нее из-под платка, совсем лишил ее сил. Затем нечистое видение пронеслось мимо; старуха глянула вслед, увидела кривые тонкие ноги, вихляющийся короткий хвост и трусцой, то и дело оглядываясь, что-то бормоча себе под нос и охая, бросилась бежать к селу. Пока она разносила из конца в конец невероятную новость (братья Алдонины волокли в березки совершенно голую, обросшую шерстью девку, с хвостом и с собачьей мордой), любимая и самая удойная коза Фомы Куделина пала из-за своего хозяина жертвой мести. Выбрав укромное местечко, ей ловко перехватили горло, освежевали, подошла еще группа парней — и вскоре в березках за околицей Густищ стало потягивать запахом свежего, с пригоревшим лучком, шашлыка. Транзистор всем уже надоел, но у полухмельного гармониста никак не получалась где-то подслушанная, мудреная мелодия; он пробовал, пробовал, пока на него не рассердились, тогда он заиграл свои привычные страдания. Вперебой запели; на селе давно уже орали петухи, день поминовения кончился. Сам Алешка сидеть не мог и лежал перед костром на боку, его лохматая буйная голова покоилась на коленях у Верки, и она то и дело наклонялась и целовала его в давно уже припухшие губы.
На заре, когда в окнах уже начало сереть, Фома Куделин, с гудевшей от вчерашнего головой, ругая себя на чем свет стоит, вышел из душной избы на крыльцо в одних исподниках в надежде подлечиться свежим ветерком и майским духмяным разноцветьем. Что-то необычное привлекло его внимание — с высокими и плотными двустворчатыми воротами во двор, недавно им обновленными с помощью мастеровитого зятя, что-то случилось; Фома прищурился, пригляделся, ничего не понял и, сторожко ступая босыми ногами, подошел ближе. На воротах красовалась прибитая, распяленная на гвоздях козья шкура, а поверх нее, прихваченная за уши, торчала знакомая козья морда с оскаленными зубами. Темнели короткие, загнутые назад рожки, в открытых желтоватых глазах прыгали, отражаясь в большом деревянном корыте с водой, налитой для гусей, блики встающего над лесом солнца. Редкие волосы у Фомы поднялись дыбом, он хотел позвать кого-нибудь, — но голос пропал.
Лесник с правнуком возвращались на кордон поздно; Серый шел ходко, постукивали колеса по выбившимся из земли узловатым корневищам. Негромко и успокаивающе шумел лес, истошно кричали в залитых водой низинах утки; начинал пробовать голос соловей, пока еще неуверенно, вполсилы — поцокает, щелкнет, прервется на половине колена и опять щелкнет. Над узкой лентой петлявшей дороги, в прогалы среди расступавшихся вершин, горели на темном бархате ночного неба лучистые звезды — яркие, колючие, веселые светлячки… Денис, переполненный за долгий, шумный день впечатлениями, всю дорогу молчал и вдруг сказала что ровно через триста шестьдесят дней опять придет день поминовения, и лесник кивнул.
— Год нынче пролетает, вздохнуть не успеешь, — сказал он. — Щелк тебе да щелк, щелк да щелк…
Они вновь надолго замолчали.
— Дед, а, дед, — опять неожиданно подал голос Денис, — как ты думаешь, дед, они там… ну, внизу, в земле, что-нибудь слышали? Ну, бабушка Фрося… бабушка Авдотья…
— Как тут тебе сказать, — не сразу отозвался лесник. — Повсюду своя тайна есть… Может, оно и слышали… Как сам думаешь, так и есть…
— Слышали, слышали, — сказал Денис и замолчал.
Задолго до кордона их встретил Дик, он как бы сгустился неясной тенью из лесных сумерек и бесшумной волчьей рысью скользил рядом с дрожками…
17
Годы и в самом деле проскакивали стремительно и незаметно; мелькнуло лето, затем зима, прошел и еще один день поминовения, а через месяц после него на кордон к Захару пожаловал совсем уж неожиданный гость, сам Малоярцев. Он был сосредоточен и еще более углублен в себя, позавяз напичкан всяческими хворями, не хотел думать о них и все-таки думал; тайное неверие в предстоящий уход (как это может быть, почему?) в мир иной все-таки поддерживало его в приличной рабочей форме, и он, стараясь меньше видеть жену и общаться с нею, при первой возможности куда-нибудь уезжал. Перед самым явлением Малоярцева на кордоне стали происходить всякие любопытные дела, вызвавшие у лесника, успевшего забыть о своем разговоре с зятем больше года назад в метельную ночь, недоумение. Неожиданно появилась многочисленная бригада рабочих, вернее, целый строительный отряд с двумя десятками тяжелых машин, и в один день привела разъезженную, с глубокими выбоинами лесную дорогу от кордона до бетонной автомагистрали в полный порядок. Торчавшие из земли корневища были вырваны, выбоины засыпаны и утрамбованы, бугры срезаны, а перед самим кордоном как-то в одночасье появилась вымощенная хорошей щебенкой обширная площадка. Подойдя вплотную к изгороди, настороженно втягивая чутким носом неприятные машинные запахи, Дик неотступно следил за молчаливыми рабочими, всем своим видом показывая, что они, конечно, могут заниматься своими непонятными делами лишь за пределами обнесенного изгородью пространства, но, если они сделают попытку вторгнуться за изгородь, он будет вынужден действовать мгновенно и решительно. Захар, попытавшись расспросить рабочих, получил вежливый немногословный ответ, что они выполняют указание и больше ничего не знают. Рабочие исчезли внезапно, словно растаяли, а затем через несколько дней вокруг кордона то и дело стали маячить незнакомые молодые люди с военной выправкой; они бродили неясными тенями по лесу, попадаясь на глаза, тут же исчезали. Недоумение лесника и Дениса, за последний год вновь заметно прибавившего в росте, продолжалось недолго. В один из теплых июньских вечеров подкатил Шалентьев, привез Денису спортивный костюм, куртку на молниях, джинсы и начинавшие входить в моду заграничные кроссовки. Все это стараниями Аленки, несмотря на ее занятость, постоянно помнившей о внуке и в свою очередь не дававшей ему забыть о Москве, о необходимости не отставать от большой жизни, пришлось Денису впору; Шалентьев долго разговаривал с тестем наедине, пытливо, с некоторой тревогой заглядывал ему в глаза и пытался внушить «лесному человеку», как он называл про себя Захара, уважение к предстоящему.
— На кой черт и кому это понадобилось? — пробурчал наконец Захар, раздумывая, как ловко окрутил его зять вокруг пальца, вырвав согласие на встречу и разговор со своим важным начальником; Шалентьев в ответ лишь развел руками, и лесник, поворчав еще немного для порядка, отправился по хозяйству; человек, хоть куда высоко его ни забрось, оставался человеком и все норовил вскарабкаться еще выше, и тут уж ничего не поделаешь, тут природа, по определению Фомы Куделина.
Малоярцев приехал на другой день к вечеру в сопровождении помощника, секретарей, врачей, поваров, походной радиостанции и еще Бог весть какого сопровождения. Кордон стал тотчас напоминать военный лагерь, и лесник, от греха подальше, услал Феклушу в Густищи на целый день к родственникам, поспешил запереть Дика в сарай, а правнуку приказал сидеть в своей комнате и никуда не высовываться; и Денис, не привыкший к такому тону со стороны деда, обиделся, решил залезть на чердак, где у него имелись свои потаенные места, позволяющие видеть все пространство кордона, но, едва он, прокравшись по дому, протиснулся в узкий лаз, ведущий с летней половины дома на темный и всегда привлекавший его своей таинственностью чердак, чья-то тяжелая и цепкая рука властно опустилась ему на плечо и сильно сжала его. От неожиданности Денис опешил, сердце подскочило и забилось; он рванулся, но не тут-то было.
— Так-так… а что мы здесь ищем? — услышал он тихий голос и, неловко вывернув голову, увидел в полутьме чердака чье-то незнакомое строгое лицо.
— А тебе какое дело? — раздраженно сказал Денис, вновь попытавшись, и опять напрасно, освободиться от цепких рук. — Я здесь живу, а ты сам чего сюда забрался?
— Неважно, что ты здесь живешь, — уклонился от ответа незнакомец. — Важно, что ты сюда забрался… отвечай же — зачем?
— Пусти! — потребовал Денис. — А то я сейчас деда крикну!
— Ну, ну, ну, веди себя смирно, а то мне придется тебя запереть. И ничего ты не успеешь… лучше не пробуй, Денис, — потребовал незнакомец и вслед за тем тихонько окликнул некоего Потапова, приказав ему спустить Дениса вниз, в его комнату, побыть там с ним и успокоить. Из полумрака тотчас выплыла еще одна тень, этого самого Потапова, высокого и сутулого, но Денис отказался от сопровождения…
— Сам дорогу найду, — сказал он. — Не буду я сидеть в комнате, я лучше с Диком в лес пойду…
— Вот беспокойный товарищ, — усмехнулся первый незнакомец. — Говорят же тебе — нельзя. Раньше надо было уходить…
— А кто знал, что вас черт принесет? — рассердился Денис, уже понявший, что ему придется все же сидеть в пустой комнате и мучиться неизвестностью и что деду теперь не до него, и это действительно было так. Пока с Денисом происходили такие непредвиденные события и его водворяли в его комнату, к кордону подъехал сам Малоярцев, и тут произошли новые изменения. На кордоне было по-прежнему многолюдно, только все понаехавшие как бы стали невидимыми, их присутствие чувствовалось, но их нигде нельзя было ни заметить, ни тем более встретить; лесник, вышедший к воротам вместе с Шалентьевым к важному гостю, несмотря на внешнее спокойствие, все же окончательно озадачился и даже почувствовал в душе полную сумятицу, и откуда-то из далекого прошлого на него пахнуло знобкой тревогой.
Малоярцев с трудом выбрался из приземистой, тяжелой и длинной машины, вернее, его извлекли из удобного, набитого неназойливой электроникой чрева и осторожно поставили на ноги; вялый, грузный, в своем легком щегольском костюме, с мучнистым, недовольным лицом, он стоял опять-таки почти в незаметном окружении врачей, секретарей, помощников, готовых при первой необходимости прийти к нему на помощь. В один момент они проступили вокруг него отчетливо, но Малоярцев неуловимым движением густых, кустистых, необычайно черных бровей отослал их прочь. Он поздоровался с хозяином, затем с Шалентьевым, и лесник пригласил гостя в дом.
— Благодарю, благодарю, — сказал Малоярцев, — рад видеть вас.
Говорил он с трудом, неявно, словно с усилием вспоминая нужные слова, и взгляд у него был далекий и недоумевающий; он словно старался понять, зачем он здесь, и почему вокруг лес, и дует веселыми порывами теплый ветер, а над головой открытое, безбрежное небо.
— Очень хорошо, — опять сказал он, сразу начиная уставать от непривычных мыслей и ощущений. — Я теперь понимаю, почему вы отсюда никогда не выезжаете…
Последнее слово для него оказалось трудным, и он не смог его выговорить, сбился, попытался еще раз и затем, как бы иронизируя над своей беспомощностью и слабостью, шевельнул сухой и тонкой кистью руки с такими же сухими и длинными пальцами. И лесник, заглядевшись на эту бессильную руку, ощутил на себе цепкий, далеко не старческий взгляд; тотчас у него мелькнула мысль, что все не так-то просто, как ему показалось с первого взгляда, и перед ним под маской старческой расслабленности и добродушия таится совсем другая личина, и не одна, и надо держать ухо востро, а то сядешь в лужу и зятя с дочерью подведешь.
— Дела, дела, — тотчас вздохнул Малоярцев, чувствуя возникшую натянутость и пытаясь сразу же ее убрать. — Приходится и самому ездить… свой глаз надежнее… вернее, Захар Тарасович… А тут узнаю — у Шалентьева Константина Кузьмича близкий родственник рядом… вот и решил заехать, посмотреть. Мы ведь с Шалентьевым давно по работе связаны. Вот и хорошо, надежные работники, доверяешь, конечно, а проверять, Захар Тарасович, надо… Тонус, тонус ответственности поддерживать на должной высоте… Как вы думаете?
— Хозяйский глаз всегда на пользу, не помешает, — согласился лесник. — Так уж оно повелось… как же…
— Вот-вот, приходится проверять, — сказал Малоярцев, понимая, что его слова неприятны стоявшему рядом Шалентьеву, и как бы приглашая его присоединиться к разговору, высказать и свое личное мнение насчет хозяйского глаза и проверки, но тот стоял с детски светлым и спокойным лицом, и в нем не ощущалось ни малейшей тревоги: он как бы безоговорочно был согласен с любыми словами и мыслями Малоярцева.
Лесник опять пригласил гостя в дом, но тому совсем по-стариковски захотелось посидеть на лавочке под одевшимся в яркий и густой зеленый покров старым, царственным дубом, и Малоярцев, казалось, забыв и о хозяине, и обо всем остальном, неуверенно побрел именно к старому дубу. Лесник глянул на зятя; тот все с той же легкой, отстраняющей улыбкой повернул за Малоярцевым, и лесник двинулся следом. Гость, добравшись до намеченной цели, довольный и слегка разогретый своим подвигом, подумав, с осторожностью сел на скамейку — на потемневшую от времени широкую дубовую доску, укрепленную на двух пнях, с неровной осиновой жердью вместо спинки, тоже кое-как пристроенной к распоркам. Малоярцев продолжал молчать, и недоумение Захара росло; он опять взглянул на зятя и спросил, не лучше ли с дороги сесть за стол, отведать того, чем лес порадовал. И тут в глазах гостя появилось оживление, словно в глубине стоячей, неподвижной воды произошло какое-то движение. У Шалентьева в ответ на слова тестя в лице опять-таки ни один мускул не шевельнулся, а Малоярцев так же неясно, словно пережевывая какую-то невкусную кашу, поморщившись, сказал:
— Земля у вас знатная… прославленная. А сами-то вы давно в лесу?..
— Захар Тарасович, — тотчас подсказал Шалентьев.
— Я помню, как же… давно вы здесь, Захар Тарасович?
— Порядком, скоро десять лет…
— Погуляйте, пожалуйста, пока, Константин Кузьмич, — предложил неожиданно гость, — вы молодой человек, вам с нами скучно будет. А мы по-стариковски посидим, потолкуем… А вы, Захар… Тарасович, садитесь… справа, пожалуйста, садитесь… Я с этой стороны лучше слышу…
Тотчас, слегка поклонившись, Шалентьев отошел, а лесник сел на ту же дубовую доску, и Малоярцев, оттопырив нижнюю губу, с интересом и не скрывая того, некоторое время подробно его рассматривал; лесник, в свою очередь привычно хмурясь, словно откуда-то издалека спокойно оценивая, раз-другой взглянул на знатного гостя.
— Вы еще сильный, здоровый, — невнятно пробормотал Малоярцев, не скрывая своей зависти, — сразу чувствуется… Чем же вы живете, держитесь? Я знаю вашу биографию… У вас много родственников, а вы один… сыновья, внуки…
— Как же один, со мной вон правнук живет, — ответил лесник, подчиняясь чувству глубокого равновесия в себе. — Шустрый мальчонка, двенадцать скоро сравняется… Радует деда, вроде и корешки крепкие…
— И вам достаточно? — спросил Малоярцев, вяло поднимая широкие, наползавшие на глаза брови.
— А разве мало? — удивился Захар, так пока и не понимая гостя. — Для живого хватит, дом, тепло, парнишка растет рядом… другого ничего нет…
— Надо полагать, — есть, — возразил Малоярцев, почувствовав скрытое сопротивление и сразу внутренне подтягиваясь. — Так чем же вы держитесь?
— Да чем, никому не в тягость, и ладно, — сказал лесник, в то же время пытаясь нащупать и самое скрытое в собеседнике; оно было, и Захар в этом не сомневался, и неожиданно решил позлить гостя. — Еще и другим помогаю… что же еще? В лесу я сызмальства свой, сколько весной да осенью посадок… а они год от году выше, выше… Первое время помочь, а там они рвутся, не удержишь… С ними рядом проживаешь не одну жизнь. Война-то не только народ и леса проредила, плеши поменьше, опять душа радуется…
— Вот как, — уронил Малоярцев, начинавший уставать и теперь говоривший еще более неразборчиво. — Скажите… Захар Тарасович, а женщины? Они вас еще интересуют? Вот вы теперь вдовый давно, как же?
— Бабы-то? — теперь уже откровенно озадачился и сам Захар, опять вскидывая густые брови и определяя, ерничает ли гость или в самом деле пытается определить нечто важное, необходимое для самого себя. — Ну, теперь-то какие уж там бабы! — усмехнулся он. — Так… бес подступит, заворочается, оседлаю Серого, съезжу в Густищи, село свое родимое, тут двадцать верст всего… От войны баб одиноких много доживает… Да и то сторонкой, в сумерках, от людей-то неловко… Гляди, до Дениса дойдет, он-то не маленький, начинает понимать…
— Отчего бы вам тогда не жениться?
— Жениться? — переспросил лесник, выгадывая время. — Ну как жениться? Больно уж не по людски, не по-русски… Внуки-то уже переженились… Смех…
— Вот видите, еще в село ездите, — с грустью и даже с обидой сказал гость. — К женщинам, к бабам, как вы говорите, ездите… Я понимаю. Лес, здоровый образ жизни, простое питание, физическая работа, но ведь у вас была и иная жизнь, вы прошли сложный, большой путь. Ведь вы не можете думать о жизни вот так, на уровне примитивной биологии… вы много страдали… Мы с вами одного примерно возраста, так ведь? Скажите, отчего же вы еще ездите… к бабам, садитесь на коня, ощущая, очевидно, своим телом горячую кровь и плоть сильного животного, а я вот, несмотря на старания десятков лучших врачей, целых институтов, давно ничего не могу? И от чего зависит ваша ясность духа? Отчего вы не боитесь и не ждете, да, да, я знаю, не ждете предстоящего? — спросил он с остановившимися, сторожащими именно это предстоящее глазами и сразу как бы погас, ссутулился и стал еще дряхлее. — В конце концов, это и есть главное… Вот я достиг вершин жизни, вокруг меня суетятся сотни людей, они ловят любое мое слово… взгляд, я могу сделать все… почти все, — тут же поправился гость, уловив в лице своего собеседника, где-то в дрогнувших губах, легкую усмешку. — Да, да, а вот самого главного, полноты жизни, уже невозможно вернуть… И потом, многим ведь совершенно невозможно жить по-вашему, уйти в леса, в степи, в другие глухие места, жизнь требует продолжения, надо же кому то делать и то, что выпало, допустим, на мою долю… на долю таких, как я…
— Зачем? — неожиданно и для себя спросил лесник, почувствовавший к своему гостю, явно уставшему от непривычно долгой речи, сочувствие. — От старости никакое зелье не поможет. Падает отжившее дерево, пчелы сразу же меняют одряхлевшую матку… Я спокоен не от старости, Борис Андреевич, жизнь во мне уравновесилась, оттого я спокоен. Я по своим годам на самом законном своем месте, вот я ничего и не боюсь…
— А я, вы думаете, не там, где мне должно быть? — спросил Малоярцев, с еще большим старанием, чем прежде, выговаривая отдельные слова и в то же время прикрывая иронической улыбкой, которая никак у него не получалась, свое недовольство разговором. — Вы ведь, очевидно, и в самом деле знаете какой-нибудь секрет жизни, только не хотите его рассказать, скрываете… Или боитесь сказать.
— Скрывать-то нечего, Борис Андреевич, — ответил лесник, вначале хотевший отмолчаться. — И бояться тоже… Чего же мне бояться после такой-то жизни? Старый человек может помочь людям верным словом, да таких теперь немного… Так-то… А вот что, кроме вреда, дает для жизни на высоком месте старый и больной человек? Так уж устроено, он и думать ни о чем не может — свои беды да горести забивают. Вот вы как на меня глянули, а я-то правду-матку сказал и больше ничего… Я вот своему старому дружку Тихону Ивановичу Брюханову, первому своему зятю — да вы его должны знать, — частенько толковал: бросай ты все это к чертовой матери, не та у тебя закваска на таких высотах быть. Власть и смерть, они рядышком, тесненько вышагивают, ноздря в ноздрю, вровень… Одна другую норовит обогнать… Так оно и получилось…
— Так, так, так, — сказал Малоярцев, и мутноватые глаза у него просветлели, в них зажглись крохотные рыжеватые огоньки. — Но почему же именно рядом? Не знаю, не понимаю… нет. Именно в старости человек руководствуется не эмоциями, не безумными страстями, но рассудком. От скольких безумств удержали и удерживают мир именно пожилые люди, а то и старики. Земля давно, очевидно, сгорела бы в адовом огне, не будь стариков… Именно они и поддерживают равновесие добра и зла в мире и в самом человеке… А смерть с жизнью действительно всегда рядом, и власть здесь ни при чем… Почему только власть? Вижу, вы опять со мной не согласны…
— Я простой человек, — сказал лесник. — У меня за спиной и грамоты три класса, куда мне вашу мудрость понять…
— Мудрость не от образования, мудрость от самого себя, — тихо, чуть слышно уронил Малоярцев, с тихими, пустыми глазами, устремленными куда-то в лесную даль, и Захар впервые ощутил какое-то слепое равенство со своим высоким гостем; просто на удобной скамейке сидели рядышком два старых, отживших свое, никому не нужных человека и делились друг с другом своими неурядицами и тяжелыми мыслями о себе, о других, о жизни, всегда приходящими в эту пору в избытке. И он пожалел гостя из-за его неразумного страха.
— Старость, оно, конечно, того, не колокольня, много не назвонишь, — закивал он, словно утешая и себя, и гостя. — Жалко, мало человеку дадено, вспыхнуло, прогорело, вроде ничего и не было. А молодые идут себе, подпирают… Они нашего ничего не знают, им свое подай… Вон какой звон стоит, они-то в жизнь рвутся, как тому и положено… Вверху-то думают, что именно они и руководят всем. А как так они могут руководить, если им и баба уже ни к чему? Как же они могут что-то хотеть без этого? Молодых понимать? Нет, тут уж от жизни один цирк и остается… Вот коли такое понять, тяжесть сразу и кончится…
— Не кончится, Захар Тарасович, — упрямо, с мучительной безнадежностью выговорил Малоярцев.
— Пройдет, пройдет, — опять не захотел отступить лесник, глядя открыто и прямо. — Вы попробуйте…
— Нет, не пройдет, и пробовать нечего, — заупрямился и Малоярцев, почти совершенно прикрывая глаза тяжелыми бровями. — Кто знал настоящую, большую власть, навсегда отравлен тягостным ядом… Да и не дадут, — добавил Малоярцев, вдруг ощущая в своем неожиданном и необычном собеседнике союзника и чувствуя с его стороны полное понимание своим давно выстраданным мыслям. — Не дадут, не дадут! — повторил он сердито и безнадежно. — Вот вы не дадите, ваш родственник Шалентьев не даст, Лаченков не даст… другие… народ не даст… Не даст ведь, так?
Неопределенно пожав плечами, Захар ничего не ответил, и Малоярцев, сдержав привычным усилием воли готовое прорваться раздражение, тоже замолчал, тяжело и привычно задумываясь. Видите ли, о народе заговорил, сказал он себе осуждающе. А что такое народ и кто может его понять и объяснить? Народ, народ… Темна, непостоянна и непредсказуема стихия народа, его недра все поглощают и возрождают, и лучше не думать, и с таким умным человеком, как этот лесник, всуе не упоминать о народе… Народ… Народ… Откровенного разговора и не получается, а виной тому он сам; никак не может переступить некую запретную грань в душе, и на язык лезут какие-то холодные, общие и бесполезные слова; смешно и глупо, приехал за предельной откровенностью, и в то же время, мучаясь и сам того не желая, никак не может переступить необходимый порог, никак не ухитрится стать на одну плоскость с этим угрюмым лесником, заставить себя уравняться с ним в разговоре и не говорить свысока; отсюда — неудача. И зачем был этот глупый, опрометчивый шаг, что он думал найти и открыть? Теперь начнут шептаться, конечно же, станет известно жене, вызовет у нее подозрение и недовольство… Шалентьев, возможно, и прав, его тесть замечательный человек, знающий тайну, но как же заставить его заговорить, не на голову же перед ним становиться… Пора, пожалуй, пошутить, поблагодарить за короткий отдых и гостеприимство и отправляться восвояси; и чем скорее, тем лучше, меньше будет различных кривотолков…
И в этот момент что-то произошло, Малоярцев приподнял голову, пытаясь понять, то ли неслышный ветерок донес из прогретого леса свежий смолистый запах, то ли в нем самом проснулось давнее воспоминание детства… Запах смолистой стружки становился сильнее, и он глубоко втянул в себя лесной воздух; лицо у него порозовело.
— Больше вы ничего мне не скажете, Захар Тарасович? — спросил он изменившимся, помолодевшим голосом и с вызовом глянул в глаза леснику, и тот, как бы принимая скрытый вызов, нахмурился, затем уставился в землю перед собой.
— Что еще сказать-то, Борис Андреевич, у меня своя жизнь — маленькая, у вас своя… вон какая. О себе я могу сказать, да разве такому человеку интересно? — предположил он, пожимая плечами.
— Скажите, скажите, — потребовал Малоярцев, глядя на лесника в упор, в твердой уверенности, что наконец-то узнает главное, ради чего и приехал.
— Ну, раз интересно, хорошо, скажу, — неприметно вздохнул Захар, поглядывая на своего высокого гостя и в то же время как бы отделяя его от себя, от своей судьбы. — Я за свою жизнь одно уяснил, уж коли ты перестал понимать жизнь, не можешь ничего в ней изменить, лучше отойти в сторону, дать другим попробовать, народу-то вон сколько, все прибывает да прибывает… Я вот в лесники от своего непонимания ушел, думал дожить спокойно, а теперь и тут до меня жизнь добралась. Как же оно так выходит? Закроешь глаза, сложишь руки, и так ничего после тебя и не останется? Думал, хоть тут на старости лет порадоваться… Нехорошо получается опять… Усохнут-то леса, Борис Андреевич, коли столько бетону да дорог всяких в их сердце натолкают. Затем и ручьи с речками занедужат… Нельзя ли это ваше добро куда-нибудь в другое местечко пристроить?
— Что, леса? — спохватился Малоярцев. — Какие леса? Ах да, да… Ну что ж, разве это главное? И почему же другое местечко? Люди живут везде. А мне, вы думаете, разве не хочется оставить после себя что-нибудь вечное, нетленное? Еще как хочется, но, видимо, судьба не та… Ах, Захар Тарасович, Захар Тарасович, мне бы ваши заботы, — покивал гость, скрывая от хозяина охватившее его состояние неприязни, обиды и растерянности; ему еще никогда и никто не осмеливался говорить подобных вещей, и в то же время высказанное лесником было как бы и его частыми тайными мыслями; от этого появилось и досадное чувство незаслуженной обиды. — Все-таки, Захар Тарасович, самого главного вы мне так и не сказали, — добавил он, расслабляя лицо в легкой, понимающей улыбке. — Не захотели сказать, пожалели… Не понравился я вам…
— Не знаю я ничего главного, Борис Андреевич, — ответил, несколько растерявшись лесник, и тоже заставил себя улыбнуться. — Если оно и есть, это главное, здесь его не отыщешь, — добавил он, поворачивая голову из стороны в сторону, как бы окидывая взглядом все вокруг. Ему становилось неловко и за гостя, и за себя; с молодым блеском в глазах вновь покосился на высокого гостя, который ему в чем-то явно пришелся по душе, и, решив сразу же растушевать эту неловкость и двусмысленность грубоватой шуткой, указывая на высокую, одиноко возвышавшуюся вдали, в лесном прогале, старую сосну, оставшуюся посреди сведенной несколько лет назад делянки, он спросил:
— Вон, видишь сиротину, осталась ни к селу ни к городу?
Малоярцев неловко присмотрелся, кивнул:
— Это дерево-то? Вижу, вижу… Так что же?
— А вот оно сейчас возьмет и рухнет, — сумрачно усмехнувшись, пообещал лесник. — Давай вот попробуем, не успеешь досчитать до двадцати, оно и надломится, падет.. Ну, давай… раз… два…
Малоярцев хотел вспылить, но сдержался; то положение в которое он попал, даже начинало ему нравиться, и он уже готов был улыбнуться, грубовато по-мужски пошутить, сказать что-нибудь о двух старых дураках, распрощаться и ехать дальше, но, глядя в то же время на далекий и резкий силуэт старой сосны, четко выделявшийся в солнечной синеве неба, он, подчиняясь странному, безотчетному чувству своей зависимости от происходящего, от диковатого лесника, явно тяготившегося своим высоким гостем и не знавшего, что с ним делать, уже мысленно повел счет. «Раз, два, три… восемь… десять…» — постукивал в нем какой-то совершенно посторонний механизм, и он, испытывая неотступное и даже мучительное желание остановиться и отделаться от досадного наваждения, никак не мог оборвать и продолжал считать дальше. Губы у него медленно шевелились, и это уже становилось забавным; вместе с ним, мысленно подбирая словечко, которое помогло бы ему выкрутиться в нужный момент, вел счет и лесник. И когда все должно было закончиться, Малоярцев, в последний раз шевельнув губами, тотчас ощутил какую-то перехватившую горло тяжесть. И вгруди у него в один момент набухло и разрослось до боли в ребрах. И лесник, ошарашенно помедлив, полез в затылок не отрываясь от покачнувшейся, как бы вздрогнувшей одинокой сосны, начавшей затем клониться и падать; лесник даже по-молодому резко подхватился на ноги, пытаясь понять, что происходит, но понять ничего было нельзя. Просто минутой раньше в лесном прогале высилась себе высокая старая сосна, при своде делянки почему-то уцелевшая (видать, оставили на семенник), и вот теперь, без всякой на то причины, почти в совершенном безветрии она подломилась и рухнула, и ее больше не было в небе.
Не скрывая растерянности, лесник глянул на гостя; у того начинало отходить побагровевшее лицо, освободилось горло, и воздух теперь вновь проходил в грудь.
— Э-э, — сказал Малоярцев с натугой, с каким-то подобием мертвой улыбки, — вы, я вижу… Захар Тарасович, шу-утни-ик, бо-ольшой шутник…
— Да черт его знает, что там такое стряслось, — ответил лесник, по-прежнему крайне озадаченный. — Надо Дениса, внучонка, послать, пусть узнает, что там такое, верхом в один миг слетает… это тебе прямо оказия…
— Не надо, не надо, — остановил его Малоярцев, начиная волноваться и слегка картавить. — Ничего больше не надо… Зачем? И пора уже, пожалуй… что же дальше ждать… посидели, поговорили… да, поговорили…
Глядя на гостя, лесник не узнавал своего минутой назад, казалось, уравновешенного и спокойного собеседника; перед ним теперь был окончательно неприятный, больной человек с неровно, по-старчески раскрасневшимся лицом; стараясь отвлечь гостя, как иногда опытный врач отвлекает больного, переключая его внимание, лесник предложил ему попробовать квасу и добавил, что квасок на кордоне знатный, на меду, начальство из области бывало здесь, похваливало.
— Квас? Медовый, говорите? Начальство хвалит? — начал быстро и резко переспрашивать гость, и тут лесник увидел проступивших, словно из небытия, людей, приближавшихся к ним со всех сторон; еще минута — и они окружили вставшего Малоярцева.
Захар увидел среди появившихся самых разных и в то же время неуловимо чем-то похожих друг на друга людей, и своего зятя, в таком же, как и другие, состоянии озабоченности и деловитости. Вначале лесник не мог ничего понять, но к нему почти сразу же подошел еще один из окружения Малоярцева, с длинным и печальным лицом, все время пытавшимся улыбнуться (это был Лаченков), и почти насильно вложил в руки Захара красивый кожаный футляр с тульской именной двустволкой, а рядом на скамейку поставил, тоже в красивой и дорогой упаковке, новенький японский транзистор. Тут и Малоярцев, улыбаясь одними губами, пожал руку Захара, уже как бы не видя его, и растерявшийся от столь разительной перемены лесник, однако, выдержал глубокий, мгновенный, вспыхнувший взгляд гостя и даже, в большое удовольствие себе, напомнил о медовом квасе.
— В другой раз, Захар Тарасович, в другой раз! — не остался в долгу Малоярцев, и все двинулись к воротам.
Гость уехал с кордона совершенно больной, и Шалентьев, успевший недовольно пробормотать тестю что-то вроде «Нескладно, неловко получилось! Вы же мне обещали, Захар Тарасович…», тотчас услышал и ответ, вырвавшийся у тестя: «А-а, пошли вы все к такой… матери!» Опасаясь новых и ненужных осложнений, Шалентьев перевел разговор на Дениса, вспомнил о письме ему от Аленки.
— Ладно, кланяйся ей от старого лешего, — принимая от зятя толстый конверт, сказал Захар, начиная понемногу отходить. — Как она там?
— С Петром воюет, кажется, дожимает она его, — ответил Шалентьев, в то же время посматривая назад, в сторону ворот, стараясь определить минуту и своевременно, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, идти к машине. — У него что-то такое в легких нашли… Климат, говорят, надо менять, а он ни в какую… Пока уговорила его вторично в Крым поехать на месяц-другой…
— Червивый народ пошел, в такие-то лета Крым ему подавай, — нахмурился лесник, не скрывая своей неприязни и осуждения не только внука, но и всего происходящего вокруг. — До чего же людей на разный манер расклинило, ума не приложишь…
Не вдаваясь в дальнейшие рассуждения, накоротке пожав руку тестя, Шалентьев укатил прочь вслед за остальными, и на кордоне осталась тишина, недоумение и звонкий голос возмущенного Дениса, поспешившего прежде всего выпустить на свободу Дика.
— Дед, дед, скажи, — спрашивал Денис, успевший сбегать в просторный и светлый новенький туалет, выросший на кордоне вместе с гравийной стоянкой и дорогой. — Вот дают, а, дед? Дай ружье посмотреть. Ух какая коробка! Это что? Слышишь, дед, они и на чердаке сидят — три человека… Слышишь…
— Ладно, Денис, никого там нет, след простыл, — пробурчал лесник… Что тут важного, дурью маются… Знай учись себе да расти… Ты свой черед мозги сушить не торопи…
Недослушав, Денис опять сорвался с места и умчался, опасаясь упустить нечто неизвестное и еще более интересное.
Сон Черной Горы
В глазах человека, подернутых сейчас влажной дымкой, пробуждалось нечто осознанное; проваливались и опять вздымались горы, из сплошных клубящихся туч, из края в край пронизанных ослепительно-режущими голубоватыми молниями, горячимой потоками обрушивался серный дождь; мутные, кипящие водовороты, ворочая груды камня, скатывались в раскаленные расщелины, вырываясь оттуда вновь уже клубами пара; по всей громаде гор змеились огненные потоки лавы, диковинно вспыхивали среди скал в самых неожиданных местах жерла кратеров, выбрасывая пепел и воющие светящиеся камни, густо испещрявшие небо; он видел, как то в одном, то в другом месте мучительно, судорожно взбухала земля, и острые горячие скалы толчками, с гулом и грохотом рвались ввысь и вновь исчезали в темных, клокочущих провалах, и в просыпавшихся глазах человека играло, отражаясь, первородное неукротимое пламя. Беспорядочно махая перепончатыми крыльями, пролетело нечто непонятное — существо с растопыренными, когтистыми лапами; в раскрытой зубастой пасти мелькал острый тонкий язык. Человек с детским любопытством проследил за чудовищем, не вызвавшим ни страха, ни отвращения, проводил его взглядом лишь потому, что оно двигалось и грузный чешуйчатый хвост его извивался и тяжело шлепал по камням. В следующее мгновение внимание человека переключилось; с тупым недоумением он стал рассматривать свои грудь, руки, пальцы, поднося их совсем близко к глазам, затем медленно ощупал свое лицо, скользнул ниже, на грудь, на живот — и растерянно замер. Наполовину он еще был в камне; в горячем, влажном граните, поблескивающем свежими вкраплинами слюды, руки же у него были свободны, то и дело они неосознанно ощупывали скользкий камень вокруг, как бы пытаясь оттолкнуть его, отодвинуть подальше, но это было невозможно; нижняя половина его тела еще была самим камнем, и он не знал ее; в человеке пробуждалась какая-то неясная жажда, что-то мешало ему, подстегивала, и он начинал рваться, мышцы у него на руках вздувались, лицо передергивала ярость, и бушевавшие кругом стихии, потоки лавы с гор, взрывы вулканических бомб, каскады кипящей воды, море, с ревом бившееся о свое меняющееся ложе, — уже ничто больше не пугало и не привлекало его, весь он был сосредоточен в самом себе и на том, что он был сам и что с ним происходит. И в следующее мгновение толчок вновь со звоном расколол твердь; море тяжко взлетело выше берегов и гор и некоторое время низвергалось на землю, раздвигая скалы и еще больше разрывая горы пропастями; человек долго не мог прийти в себя; открыв глаза, он обнаружил много нового; теперь он полностью высвободился из лопнувшей скалы, и сбегавший к морю поток воды мутно и тепло перекатывался через него. Чувство свободы ошеломило его, и теперь первобытный ужас неизвестности сладко и жадно захватил его. Он рванулся в теплый мрак полутьмы, полусна, и от непривычного усилия в его темные, золотистые глаза хлынул зеленый хаос, бегущие, мутные волны моря, потрясаемого судорогами земли, скатывающиеся, громоздящиеся друг на друга горы, мгла раскаленного, багрово вспыхивающего неба… Какое-то неясное желание исказило его лицо, перехватило горло, и он закричал тоскливо и жалко; он ничего не просил и не ждал в этом мире, он еще был водою, камнем, мглой, но он уже был вырван из первородных стихий, и его давило удушье; он уже был готов опять слиться с камнем, но огненная стена надвинулась снова; обвальный грохот швырнул его в черную, серную пропасть, и в нем теперь впервые появилось чувство боли.
«Я душа твоя и совесть твоя. Вхожу в сырую глину и воскрешаю ее для каждодневного страдания жизни и смерти! Так будет отныне и во все времена!» — услышал он проникающий его голос, и каждое слово, словно глоток кипящей, раскаленной лавы, выжигал у него изнутри что-то мешавшее; и хотя он корчился в муке, все его существо просило огня еще и еще, пока весь он не истончился и не исчез…
Проснувшись в поту от своего странного бредового сна, Петя обалдело уставился на рвущуюся парусину палатки, резко и часто хлопавшую под тугим ветром с моря, просвечивающую от жаркого крымского солнца, и долго не мог вспомнить, что он находится на берегу моря, в Крыму, куда он вот уже второе лето приезжал по настоянию врачей дышать целительным йодистым воздухом и восстанавливать прихваченные простудной болезнью легкие. «Ну и сон, — посетовал он, с трудом шевеля запекшимися губами. — Какая-нибудь пакость непременно случится… Никак из головы не лезет вчерашняя чертовщина! Пожалуй, пора остановиться… Чертов Лукаш, зачем все это, не хотел же вчера никакого вина, ничего не хотел.. Точка! Конечно, точка», — решил он, в то же время чувствуя, что переменить что-либо сейчас весьма трудно.
Недавний сон продолжал жить в нем и даже как бы развиваться; Петя все сильнее испытывал неприятное и, главное, непривычно тягостное чувство своей неустроенности и разозлился; в берег с веселым раскатистым задором били волны, и в воздухе стояло солоноватое свежее дыхание моря.
— Посмотрим еще, кто кого! — пригрозил он неизвестному противнику и выглянул из-под полога; по морю катились крупные волны, просвечивающие густой темной зеленью на солнце, из-за, свежего резкого ветра на берегу было пустынно; редкие, там и сям темневшие человеческие фигурки показались ему какими-то странными, нереальными, размытыми тенями. Еще раз чертыхнувшись, он выбрался из палатки, в выцветших от морской воды и солнца плавках, ленивой трусцой пробежал до моря и боязливо попробовал ногой, докатившуюся до него, ослабевшую и опавшую воду, поежился, затем, помедлив, решительно рванулся навстречу вновь набежавшей волне и бросился под нее; вынырнув, сразу почувствовал себя бодрее и лучше; ночные кошмары как бы смыло и унесло море. Он забылся и уплыл от берега далеко, и лишь в очередную волну, взбросившую его на самый гребень, оглянувшись и не увидев берега, а различив только сиявшие горы справа, он решил остановиться. Ветер, дувший с моря, крепчал; перевернувшись на спину, закинув руки под голову, плавно взлетая и падая в голубую кипящую, сверкающую стихию, он стал смотреть в небо; что-то произошло ночью, вот только завершения еще не было, и в мире зрело решение. От блеска солнца он щурился, солнце прорывалось сквозь веки; он думал о притягивающей таинственной глубине под собой, он был уже не он и с радостью остался бы здесь навсегда, но на берегу его ожидало что-то важное, какая-то вторая его половина, и он поплыл обратно, с наслаждением погружая лицо в голубую воду. Пожалуй, впервые за долгие последние месяцы он поймал себя на мысли, скорее даже на ощущении, что слабость и болезнь от него уходят и все больше возвращается бездумная радость здорового, сильного и послушного тела; в самом ведь деле, с некоторым недоверием к происходящему подумал он, согласным движением рук и ног выскакивая из волны и бесшумно погружаясь обратно в упругую, пронизанную солнцем воду, вон куда заплыл и не заметил, продолжал думать он, раньше-то и рядом с берегом начинал задыхаться. Решил наконец удрать из санатория, от всех врачей, процедур, режимов, лекарств — результат налицо… Сколько можно… Хорошо, что вездесущий Лукаш вовремя подвернулся, предложил пожить вместе в пансионате… прямо какая-то мистика, никак они не могут окончательно отделаться друг от друга, что за судьба такая… Конечно, почти два года… нет, нет, даже больше… около трех лет потеряны, но ведь мать права, будет здоровье, все можно нагнать, и Обухов ждет, только теперь, кажется, вырисовывается истинный масштаб этого человека… да нет, все отлично, просто великолепно, надо вот только с Лукашом развязаться… пусть экспериментирует сам с этим паршивым материалом. Они уже с трудом терпят друг друга и даже не очень это скрывают; надо думать, вот-вот само собою все и развяжется…
Отдыхая, он опять полежал па спине, наслаждаясь обрушившимся на него в один момент ощущением полноты жизни, ее пьянящего зова, затем стремительно поплыл к берегу и скоро уже выходил на утекающий из-под ног мягкий песок недалеко от своей палатки; очередная волна — пенистый, грязный у берега вал — сильно ударила его в спину, подхватила и швырнула еще дальше; протирая глаза, он замер. У входа в его палатку маячила знакомая и какая то, как ему показалось, маленькая и потерянная фигурка. Он, сразу узнав ее и все-таки в первый момент не веря собственным глазам, не торопясь, ровным шагом пошел к палатке. Оля не встала ему навстречу; сидя на обкатанном морем валуне, завороженно, как птица, смотрела на него остановившимися, неподвижными, серыми с зеленоватыми искрами глазами; рядом с ней лежала щегольская, с блестящими застежками сумка. Он молча опустился на успевший нагреться песок; Оля не шевельнулась. Покосившись на нее, он стал беспорядочно чертить перед собой осколком раковины.
— Как же ты меня нашла? — все так же не глядя на нее, спросил он, окончательно уверенный, что все, предопределенное ночью, уже началось и теперь одно чудо будет следовать за другим.
— Только из-за такой вот встречи следовало приехать… Здравствуй, Петя, — она улыбнулась.
— Здравствуй, здравствуй, Оля, — сказал он все с тем же, не меняющимся выражением лица, хотя сердце его колотилось чаще и громче. — Ну как ты? Откуда?
— У нас недалеко тут раскопки. А ты как? — спросила она, с замерцавшими насмешливыми искрами в своих серых, с прозеленью, глазах.
Не в силах сдержать той внутренней ясной улыбки, озаряющей человека в минуту неожиданного счастья, он не ответил, он лишь долго и пристально посмотрел на нее и подумал, что именно сейчас, с ее появлением на берегу, с ним случилось самое важное в жизни и теперь все будет хорошо, но об этом нельзя говорить.
— Раскопки… Я знаю, тебя ждет какая-то большая находка, ты станешь знаменитой, — сказал он, уходя от самого важного в себе, от своего открытия, так круто и внезапно менявшего его жизнь. — Вот ты и меня нашла…
— Лукаш помог… Он здесь отпуск проводил, а его адрес мне Елена Захаровна сообщила… Нет, нет, ты не думай, — заторопилась Оля, — она мне сама позвонила… ее встревожило твое исчезновение. Петя, почему ты скрывал от меня свою болезнь?
— Ничего подобного, — сказал он, по-прежнему стараясь оставаться спокойным и ничем не проявлять своего волнения от ее присутствия рядом. — Ты видишь, я здоров… совершенно здоров…
— Вижу, ну и слава Богу! Знаешь, Петя, я сама себе не верю… не верю собственным глазам… После разговора с Еленой Захаровной я места себе не находила… Год прошел… Целый год! Подумать только! Нет, нет, молчи! Дай мне сказать все-все, что я передумала за это время, а то у меня запал пройдет, и я потом не наберусь храбрости… Я скажу тебе все-все и… поеду… Мне легче станет. Так тяжело это носить в себе… Я тебя очень прошу, Петя, ты мне не мешай сейчас, я все тебе скажу и поеду; мне надо в Феодосию, затем в Керчь…
— В Керчь? Зачем? — недоверчиво переспросил он.
— Я же там работаю на раскопках, — сказала Оля. — Я же тебе уже говорила…
— Пошлем телеграмму, — предложил он первое пришедшее на ум, стараясь не подпасть под обаяние ее голоса, ее мягкого взгляда исподлобья. — И потом, завтра воскресенье… Всегда можно что-нибудь придумать.
— У нас там, в экспедиции, воскресений не бывает, — напомнила Оля. — Не беспокойся… Я просто решила сегодня тебя увидеть, вот, знаешь, решила, и все! — с тихой извиняющейся улыбкой, не вяжущейся со смыслом сказанных ею слов, добавила она, и он понял, что ее смятение глубже, чем он предполагал. — Даже не знаю, почему я так поступила. Тетка всегда мне говорит: «Ты сумасшедшая, Ольга! У нас в роду все сумасшедшие по женской линии. Прабабка уехала с разбойником-уланом, прокутившим полковую казну. Без венчания. Потом родственники всем скопом выкупали их у какого-то восточного бея. Правда, улан был из хорошей семьи… Так сказать, случайный дикий побег на могучем, здоровом теле…» А в Керчь на раскопки мне давно предлагали поехать, вот я и поехала… Тетка, правда, ни одному моему слову не поверила. Женщины у нас в роду все сходят с ума от любви… Я загадала… От Феодосии еще автобусы не ходят, а загадала, если на попутку сяду, значит, повезет. Тебя увижу. Видишь, повезло! А ты по-прежнему, Петя, Лукашом болен. Странная зависимость. Ведь ты и умнее, и талантливее. Какой-то странный больной симбиоз… Захочет он — ты пишешь статьи, ведешь какие-то дискуссии. Он ведь тебя и поит, когда захочет, и ты пьешь. Мне кажется, что он не упускает тебя ни на минуту, даже если ты от него за тысячи километров, где-то в Хабаровске, он все равно знает и направляет каждый твой шаг. Он тебя все время отвлекает от главного. Ты для него как лестница в небо, такое бывает. Приспособился и лезет — себе выше. И притом, что бы ни случилось, он всегда оказывается в стороне, и всегда с каким-нибудь приварком. Нет, нет, он тебе не друг, и один ты с ним не развяжешься. Скажи, пожалуйста, ну зачем его черт сюда, допустим, принес? Уверена, он здесь из-за тебя торчит, что-то ему от тебя позарез нужно… А впрочем, прости, к чему я все это тебе говорю? Ты, еще Бог весть что подумаешь! — спохватилась она, вскинув голову, быстро и весело посмотрела на него, и от солнца глаза ее потемнели.
Он подождал; он понял, что она говорит совершенно искренне и что им обоим мучительно не хватает сейчас какого-то единственно верного душевного движения, даже одного слова, чтобы вернуться друг к другу окончательно, но такого слова не было.
— В самом доле, зачем нам сейчас Лукаш… Крым — местечко интернациональное, — сказал он. — И откуда ты знаешь Лукаша, ты его совсем не знаешь. Нормальный современный человек, в меру патриот, в меру циник… У нас _с ним хорошие отношения… Просто наши отпуска странным образом совпали. Один раз в жизни послушался мать, поехал сюда, в санаторий, — и сразу такой клубок намотался!
— Не жалей и не говори так, — неожиданно горячо и быстро сказала она. — Твоя мать умница… опять не то… Какое мне дело до Лукаша? Пусть катится к черту! Я хотела забыть тебя! Хотела! Я себя ненавижу — и вот я тут. Как тебе это нравится? В конце концов, почему не сказать правду? Куда от нее денешься. Я должна была тебе сказать. Сказать… А теперь все равно… Увидела, услышала… Надо успеть еще…
— Не горячись сейчас, Оля, — прервал он ее, и сердце стукнуло о ребра от собственной бесповоротной решимости. — Оба мы наглупили, надо остановиться. Год — псу под хвост! Согласись, лучше год, чем вся жизнь… Я не хочу, чтобы ты сейчас уезжала, ты тоже хочешь остаться. Давай ни о чем не будем загадывать, давай просто… Кому-то надо остановиться первому…
Они глядели друг на друга не отрываясь, и то, что они считали до этой минуты непреодолимым, показалось им смешным и даже ничтожным, и то, за чем стремилась и ехала сюда Оля, запоздало ужаснуло ее своей ложью, и все слова, приготовленные ею заранее, тоже были ложью, а правдой было только его присутствие здесь, рядом с ней, и весь прошлый год с его невыносимыми обидами отступил, потерял всякий смысл. Истинное в их жизни начиналось только с этой минуты…
Передвинувшись ближе, Петя высвободил ее руку из песка и прижался к ней лицом; песок еще хранил ночную свежесть; горы четким золотисто-темным контуром прорисовывались в чистом воздухе, зависнув всей своей громадой междутемной синевой моря и совершенно безоблачным небом.
Перебирая его выгоревшие, отдающие зноем волосы, она часто, едва притрагиваясь, целовала его; он закрыл глаза, совсем ослабленный ее порывом, счастливый. Гул разбивавшихся о берег волн жил где-то глубоко в земле, и это тоже сейчас успокаивало.
— Море, море колдует, — угадал он ее мысли. — Что-нибудь надо сделать, избить Лукаша, например… и мне вломят пятнадцать суток за хулиганство… нет, опять без тебя? Надо придумать что то другое… Ах ты, Оля, Оля… Что ты натворила… Оля? Выпустила джинна из бутылки… Знаешь, ты сейчас немного поспи, — предложил он. — Полезай в палатку и поспи, в такую рань ехала… А я схожу на набережную, принесу какой-нибудь еды, пирожков… тут очень вкусные пекут. Крымские пирожки похожи на чебуреки. Только надо успеть захватить… Мгновенно подметают…
— А не лучше ли все сделать вместе? И пойдем, и купим?
— Не бойся, я не исчезну, я совсем скоро, — сказал он и рассмеялся. — Полежи, если не хочешь спать. Я — мигом!
Она смотрела ему вслед, и он, почувствовав, оглянулся, помахал ей и, сорвавшись с места, по мальчишески подпрыгнув, побежал. Навстречу ему неслись зеленовато-томное, взрытое мелкою рябью море и рыжий, выгоревший за лето Кара-Даг. Он заставлял бежать себя дальше и дальше и больше не оглядывался; все правильно, бились в нем разорванные, опережающие друг друга счастливые мысли, слишком все неожиданно и хорошо. Так ведь не бывает… Или бывает? Откуда мне было знать? Если бы я пришел тогда еще раз, все уже прояснилось бы и целый год мы были бы вместе… Какой я болван! Я должен был еще и еще раз идти к ней, стучаться, просить, доказывать, клясться, подчинить ее, наконец! Она ведь женщина! А она ждала, потеряла всякую надежду… Какой я болван! Чудо, чудо, что она его нашла, что они встретились, несмотря на все нелепости, несуразности, на все черные провалы, летишь — дух захватывает, как на водных лыжах, и хорошо, что захватывает, ах как хорошо!
Святая гора словно парила в воздухе, в сияющем небе; ближе к поселку народ пошел гуще, многие уже купались или вышли на пляж делать зарядку; самые запасливые занимали под навесами места для дневного лежания. Выскакивая с пляжа на набережную, Петя едва не сшиб кого-то, облаченного в махровый длинный халат, и, только услышав сердитый знакомый голос, он, уже промчавшись мимо, не сразу остановился; изо всех сил сдерживаясь, чтобы не подхватить стоявшего у парапета Лукаша под мышки и не посадить его насильно на парапет, он подходил нарочито медленно.
— Здравствуй, Сань.
— Что с тобой? — спросил Лукаш, с любопытством присматриваясь к товарищу. — Мчишься, топчешь все под ногами? Слон!
Опять едва удержавшись от желания пощекотать Лукаша под мышками, Петя засмеялся неизвестно чему; он был сейчас великодушен и не хотел никакой ссоры.
— Я в «Ласточку», пока народу мало, — сказал оп. — Потом ведь не подступишься… Привет, Сань…
— Подожди, вы что, помирились наконец? — сказал Лукаш, и снисходительное выражение его лица показывало лучше всяких слов, что его не проведешь и что он знает причину возбуждения Пети. — Она нашла тебя наконец? Ну так приходите вечером, как договорились… Ждем вас, старик!
— На сегодня все отменяется, не ждите, — не скрывая своего радостного, праздничного настроения, отказался Петя. — Мы, Сань, не придем… Как-нибудь в другой раз, а сегодня…
— Да ладно, все понятно, — засмеялся Лукаш, перебрасывая купальное полотенце с одного плеча на другое, — смотри только изжогу не схвати от сладкого. Ты что, боишься старых грехов?
Приветственно взмахнув полотенцем, он сбежал по асфальтовой дорожке к морю, а Петя, не находя нужным отвечать, заторопился по своим делам; именно Лукаш не мог, вернее, не хотел сейчас понять его, его и винить за это нельзя; он в другой жизни, в другом измерении, вырвался из Москвы, где вынужден держать себя застегнутым на все пуговицы, наверстывает упущенное за целый год; да и с какой стати его осуждать?
Петя поспел как раз вовремя: кафе только что открылось и перед стойкой никого еще не было; лишь только старуха Настя, ночной сторож в пансионате «Голубое счастье», грустно и одиноко пила у столика кофе; она знала Петю и первой с ним поздоровалась, спросила о самочувствии.
Широко улыбаясь, он поблагодарил, складывая в полиэтиленовую сумку пирожки с мясом, минеральную воду, жареную печень, простоквашу, какой-то джем в банке, сигареты, вареную курицу и, наконец, сверху — в большом количестве оставшиеся от вчерашнего дня сливы.
— У вас гости? Вы такой веселый сегодня, — сказала внимательно наблюдавшая за ним старуха Настя. — Вы ведь сегодня будете у Юрия Павловича вечером? — осторожно спросила она, понижая голос и тем самым как бы приобщая себя к некоей высшей сфере жизни, в какой-то мере уравнивая себя и с ним, Петей, и с другими людьми его круга; и он понял ее и пожалел в душе.
— Нет, Анастасия Илларионовна, сегодня вряд ли, — сказал он, не в силах сдержать все той же широкой, открытой улыбки. — У меня другие планы…
— Вот видите, я так и знала, рада за вас, — сказала грустно старуха Настя.
По набережной шумно прошла поливальная машина, сметая упругими струями вчерашний сор, окурки, бумажки от конфет и мороженого, смятые листы газет и освежая уже начинавший разогреваться и слегка парить асфальт; посторонившись, Петя выждал, сбежал по лестнице к морю и опять увидел Лукаша, явно ожидавшего его возвращения.
— Ну, давай выкладывай, что у тебя? Все равно ведь не отстанешь, — сказал Петя, слегка придерживая шаг и вовсе не намереваясь приводить Лукаша к самой палатке. — Отдыхать надо свободно, старик, отдельно, чтобы не сталкиваться на каждом шагу с тобой, например, нос к носу! Видно, придется мне искать пристанища на биостанции, в дельфинарии, чтобы хоть Кара-Даг был между нами. В конце концов, отдыхаю как хочу, сплю с кем хочу… Какое тебе дело? Кажется, я не просил тебя быть своим душеприказчиком. И вообще, что ты ко мне прикипел? Живи себе на здоровье, как вздумается. Дыши! Ну болен я! Не могу я участвовать в твоих бесконечных попойках с твоим другом Долгошеем и с этими шлюхами… не хо-чу… И не потому, что я какой-то чистенький, святой, знаешь ведь, далеко не праведник… Ну не нравится мне твоя компания, и ты мне не нравишься.
— Каждый платит как может…
— Все, старик, я пошел, меня ждут, — сказал Петя, изо всех сил сдерживаясь, чувствуя, что еще немного — и он наговорит Лукашу в ответ на его неприкрытое стремление поиграть на нервах, вывести из себя кучу ответного вздора. — Что тебе надо? Тебе повеселиться хочется, ну и порезвись… Сказано — не пойду… Я лично, кажется, ничего тебе не должен, а если ты себя имеешь в виду — плати, если тебе охота пришла, твоя личная проблема…
— Да, пришла пора платить. И плати! — сказал Лукаш вкрадчиво, пересиливая себя, даже слегка улыбаясь и понижая голос. — А ты как хотел? Это таким, как ты, все сходит с рук. Белой кости! А мне за все приходится платить самому. Мне от этого всегда весело жить, понимаешь, весело! С рожденья, с детского сада, со школы! Ты хоть раз видел у меня прокисшую рожу? Тебя на машине в школу возили, а нас у матери было четверо. И я самый старший. Вы как на нас, на рабфаковцев, смотрели в университете? В упор не видели. Ого, сколько мне пришлось вертеться, чтобы ты меня заметил, Брюханов. Увидел наконец, что я существую! И думаешь, что-нибудь изменилось? Ничего! В груди рычит, а ты улыбайся каждой сволочи… вот как тебе сейчас… да и шеф последнее время озверел… у него пунктик — хочет поднять тираж, а от страха спотыкается на каждой строчке. И даже не подозревает, что на самом деле все его идеи — чистейший бред, не понимает, что время его и ему подобных прошло… и что пора на свалку. Пожил, пусть дает дорогу другим! — повысил Лукаш голос, и его глаза зло сощурились, приобрели льдистость и замерли, устремленные мимо Пети куда-то в безграничную, светоносную от утреннего солнца даль моря; тут Петя, захлебнувшись воздухом, надсадно раскашлялся, перегнулся пополам и в таком положении отошел к обрыву, прижимаясь к нему спиной, опустился на песок. Вытирая набежавшие от удушья слезы, он совершенно ясно и безошибочно понял, что да, пришла пора именно таких, как Лукаш, что пройдет совсем немного времени — и они займут главенствующее положение в жизни, что он недооценивает своего школьного друга, его собранности, устремленности, беспощадности. В лице Лукаша в жизнь вламывалась холодная, расчетливая сила, ничего не упускающая, все анализирующая, приближающаяся по бесстрастности и расчетливости к машине. Петя мысленно сопоставил Лукаша и увлекающегося, горячего Вергасова, представил тот момент, когда Лукаш займет место шефа, и поежился.
— Слушай, старик, прекрати этот стриптиз, — попросил он. — Пойми, твои проблемы — это твои проблемы. Не пытайся их перебросить на другого. Я только тебе скажу: с тобой рядом тяжело, ты все время что-нибудь отнимаешь…
Лукаш, невысокий, плотный, загорелый, поигрывая тренированными мышцами, полунасмешливо-полуиронически кивнул:
— Не забывай, Брюханов: или ты с умными людьми вместе, или вообще просвистишь жизнь, третьего-то не дано…
Петя не ответил; он уже не думал о Лукаше, он лишь с внутренним нетерпением ждал его ухода, и все, связанное в его жизни с Лукашом, сейчас не имело никакого значения — он жил своей особой внутренней жизнью.
Возникла долгая пауза, они глянули в глаза друг другу и тотчас поняли еще одно: игра кончилась, и от этого у Пети появилось на лице несколько обиженное и упрямое выражение и кашель сразу пропал, а у Лукаша зло надломились брови.
— Скажи, Брюханов, Бог есть? — спросил он, теперь уже стараясь окончательно прояснить их вконец запутавшиеся, зашедшие в глухой тупик отношения.
— И Бог есть, и черт есть, — ответил Петя, чутко улавливая и принимая скрытый вызов. — Вот только кого из них ты сейчас представляешь, не пойму пока…
— А един в двух лицах, — сказал Лукаш, — не суши мозги…
— Конечно, сверхзадача, — в тон ему ответил Петя. — Последний осел догадается… один твой интерес к моей писанине…
— Знаешь, а ведь за это и по морде можно схлопотать, — заявил Лукаш, и лицо его приобрело резкое, почти жестокое выражение.
— Попробуй, — предложил Петя, не меняя голоса и улыбаясь. — Самое время, по-моему, вспомнить старое… А лучше, если бы ты мне доходчиво растолковал, чего в конце концов ты хочешь от меня и от того же академика Обухова? Я ведь умный — пойму.
— Я только на это и надеюсь, — все еще пытаясь погасить вспышку, преодолевая себя, сказал Лукаш. — Просто песенка твоего гения спета, потихоньку зачахнет где-нибудь на задворках.
— Думаешь? С каких это пор тебя посетил провидческий дар?
— А неужели ты полагаешь, что это его открытое письмо сойдет ему с рук? Гуляет по рукам… возмутительное письмо!
— Ну почему же, наверное, не все там чепуха, если гуляет по рукам, не все же погрязли в косности, в ком-нибудь и аукнется… и откликнется.
— Его приглашали на самый верх, и он наговорил там черт знает что, вдобавок же сочинил второе письмо, теперь уже самому генеральному, наговорил несусветное и самому генеральному, обвинил и его, и вообще всю систему в несоответствии, — сказал Лукаш и помедлив, предоставляя товарищу возможность осознать важность услышанного. — И опять это приобрело широкую огласку. Конечно, он — академик, в конце концов без куска хлеба не останется… если его вообще как-нибудь не успокоят… А ты? Не боишься утонуть и больше не вынырнуть? Сразу же выплывает вопрос: каким образом сему ученому мужу, сему академику известно хотя бы о тех же зежских лесах? Важнейшее дело, тайна за семью печатями — и на тебе… Откуда?
— Говори прямо, что ты имеешь в виду?
— Ничего, — отрезал Лукаш, — я лишь излагаю и сопоставляю факты.
— А-а! Ну излагай, — великодушно разрешил Петя, пытаясь скрыть тревогу. — Правда, от тебя не ожидал, что ты так быстро обрастешь мхом, прочно вольешься в общие ряды, — не удержался и опять вскипел Петя. — Пойми, Обухов компетентен и прекрасно знает то, чем занимается всю жизнь. А эти старцы довели страну до ручки, разваливают экономику, фальсифицируют факты, и ты это лучше других знаешь. Только боишься, никогда в этом не признаешься.
— Нет, я думаю иначе, Брюханов, — тотчас возразил Лукаш. — Хорошо, хорошо, пусть бы занимался своей биомассой, хорошо… А этот его конфликт с ведомством Малоярцева? Тем более, повторяю, возможность разглашения этого? Неужели ты не понимаешь, что с Обуховым покончено? Неужели ты не понимаешь, что достойно человеку жить можно только в Москве?
— Я люблю Москву, не могу без нее и ненавижу ее, — с какой-то особенной улыбкой заявил Петя. — Надо полжизни угробить, чтобы встретить человека… В Москве можно задохнуться, с ума сойти от безлюдья…
Внимательно взглянув Пете в глаза, Лукаш, обдумывая, помедлил, затем сказал:
— Я ведь не об этом…
— А я по-прежнему не понимаю одного: именно тебе, тебе что за дело до Обухова? До его идей, до его борьбы? Ты же ведь, кажется, совершенно в стороне стоишь? Кстати, я мало чем тебе могу быть полезен… я ведь у Обухова и на ставке всего лишь рабочим числюсь… ящики таскаю, палатки ставлю… Какие я могу важные вещи знать?
— Ты прав, мы говорим как глухие, и дальше говорить нам бесполезно. Потом, говорят, унижение паче гордости… Подожду, пока ты прозреешь…
— Подожди, — миролюбиво согласился Петя, теперь уже окончательно охваченный тревогой; поскорей нужно бросать все это лечение и ехать к Обухову, круг вновь замыкался самым непредвиденным образом, и сейчас самое главное — не терять времени, не опоздать.
Все перетряхнув и убрав в палатке, Оля прилегла; густо пахло гниющими водорослями, и этот резковатый запах успокаивал; затаенно улыбаясь, она закрыла глаза; по крайней мере, он был теперь рядом и больше ни о чем не надо думать, себя-то не к чему обманывать, ничего не прошло, наоборот. Она в отличие от своей импульсивной, вечно занятой улучшением мира тетки (в последний год Анна Михайловна окончательно переменила отношение к Пете, считала его плохим и никчемным человеком, хотя сама же страдала от этого) знала, что никакой он не подозрительный тип, просто у него слишком обнаженная, прямо-таки ободранная душа, и если его сильно допекают, на него находит какое-то затмение и он начинает слепо метаться, ранит себя и других. И тетку, и подруг можно провести, вот себя не обманешь; теперь она безошибочно знала, что связана с ним мучительно и глубоко, он — ее мужчина, она любила и ненавидела его порой от чувства своей полной зависимости…
Потаенно улыбаясь своим порочным мыслям и желаниям, своей откровенности, она, томясь ожиданием, надумала искупаться; какое-то почти полубессознательное состояние помешало. Она не могла выбраться из несущего ее потока мыслей, и перед глазами сверкали и летели куда-то голубые вершины; она тихо задремала, хотя и во сне продолжала думать, вспоминать поспорить с самой собою, а самое главное, чутко ожидать его возвращения, и от этого даже несколько раз просыпалась и открывала глаза. Затем сильнее запахло морем и еще чем-то горьковатым, знакомым; нет, нет, это был его запах. Она почувствовала его прерывистое, сдерживаемое дыхание у себя на лице, но взглянуть на него не могла, боялась спугнуть. Он осторожно поцеловал ее в губы, опять и опять быстро прикоснулся к ее губам, прижался сильнее большим, настойчивым телом и уже больше не отрывался, была лишь возвратившаяся жадность и новизна открытия, все остальное ушло, и ему лишь показалась, что ударивший порыв ветра сорвал палатку, но теперь ничего не имело значения. Они долго бездумно лежали рядом, потом вспомнили о пирожках, и Петя тотчас стал выкладывать на небольшую клеенку принесенные запасы, разломил на куски курицу, оторвал крепкими зубами кусок белого мяса и, почти не разжевывая, проглотил. Оля лежала, закинув руки за голову, и он, почувствовав на себе ее взгляд, поднял голову.
— Ты почему-то похож сейчас на негра, — сказала она. — И сливы, пожалуй, немытые…
— Конечно, — подтвердил он. — Давай присоединяйся, ты хотела есть. Теперь сразу и завтрак и обед… Смотри…
Действительно, жаркое крымское солнце уже пробивало палатку с другой стороны; с моря потянуло прохладой; по верху палатки скользили легкие предвечерние тени. Встав на колени, Оля поцеловала его куда-то в нос, быстро сбегала к морю, зашла в воду по грудь, немного с наслаждением поплавала, затем постояла на песке, обсыхая. Тихий, мелодичный звон, перечеркнувший ленивую сейчас работу головы, словно голос надтреснутого колокола, зазвеневшего без всякой внешней причины, прозвучал у нее не то в сердце, не то в счастливо уставшем теле, прозвучал и оборвался; она оглянулась. Просто Петя, высунув лохматую голову из палатки, позвал ее; она попросила сходить его к водопроводу и все-таки вымыть сливы, и пока он выполнял, посмеиваясь, ее важное поручение, она успела переодеться, привести волосы в порядок, все время пытаясь понять, что за неясный звук у моря она услышала и почему он ее так встревожил. Вернулся Петя; она еще издали узнала и услышала его мягкие шаги, и они, теперь уже вместе, принялись за еду; пирожки, и остывшие, оказались вкусными и сочными, крупные сизоватые сливы отдавали запахом меда.
Неожиданно для себя Петя стал рассказывать о своих новых крымских знакомых, о том, что ему открылось в жизни за последний месяц, и она внимательно слушала.
— Здесь, в Крыму, много чудес, — сказал он, — привыкай… Правда, чудеса быстро кончаются. Чудо первое — у меня хорошие снимки легких. Из санатория я удрал, отпросился сюда, к «дикарям», на недельку, надоело больничное расписание… Чудо второе — ты…
— Только предупреждаю, я — чудо, которое не кончается… Не надейся на это, я тебя теперь ни на секунду не оставлю…
— Принято без возражений, — мгновенно согласился он. — А теперь пойдем побродим, жара немного спала, я привык много двигаться… В горы, что ли, податься чуть позднее! Сейчас еще жарковато…
Они выбрались из палатки под сильный ветер, доносивший и сюда, за сто, а то и больше метров от прибоя, водяную прохладную пыль; волнение на море к вечеру усилилось. Время пролетело невероятно быстро; солнце уже низко-низко склонилось над Кара-Дагом, и Святая гора стояла в густой шапке облаков. Они пошли к поселку мимо множества почти одинаковых палаток, легковых автомашин, образовавших собой целый город с правильными — прямыми — проходами, со своим узаконенным центром и окраинами. Народу было очень много, часто из палаток слышалась музыка; на Петю с Олей никто не обращал внимания. Они вошли в поселок; теперь у буфетов и ларьков вытянулись внушительные очереди; как обычно перед вечером, люди спешили насытиться; ветер, дувший с моря, прогнал жаркий день со всеми его тяжкими и нечистыми запахами многолюдности, было по настоящему свежо и прохладно.
Не переставая дурачиться, то и дело словно ненароком прижимаясь к ней по ходу, украдкой целуя ее то в ухо, то в шею, Петя привел Олю в уютный молодой парк, посаженный всего лишь несколько лет назад и успевший под щедрым крымским солнцем уже пышно разрастись; не останавливаясь, они прошли к детской площадке, и еще издали Оля услышала тоскливый, мелодичный глухой звук, неожиданно вспомнила, что уже слышала его у моря; сама не зная почему, она вздрогнула и вопросительно взглянула на Петю.
— Он, — сказал Петя тихо, с каким-то тайным значением.
— Он? — не сразу решилась переспросить Оля и зябко поежилась, но прохладнее стало лишь где-то в груди; вновь разнесся над парком тоскливый, долго не затухающий звук.
— Сейчас увидишь. Ты прости, мы на минутку, у меня тут обязательство одно есть, — сказал Петя, и они сразу же вышли на пустынную в предвечерний час детскую площадку, когда-то с довольно вместительным водоемом для лебедей и уток в центре; вот уже третий год бассейн из-за нехватки воды не наполнялся, берега его осыпались и поросли какой-то жесткой, как проволока, живучей южной травой, а фантастические сказочные фигуры, украшавшие бассейн, начали потихоньку разваливаться. Оля растерянно скользила глазами по всем этим сказочным существам; веселые люди, как правило, находящиеся в любом месте, успели поработать и тут; вместо метлы баба-яга держала в руках пустую бутылку с длинным горлышком, а у сказочной головы богатыря изо рта торчало суковатое полено, должное, очевидно, изображать сигару. Из невысоких зарослей кустарника выбралась и, с трудом шлепая узловатыми, потрескавшимися от зноя и отсутствия воды лапами, направилась прямо к ним большая грязная птица, часто вскрикивая от какого-то тайного возбуждения; это был лебедь, и Оля почему-то сразу же прониклась к нему острой неприязнью, в то же время несколько успокаиваясь; звуки, доносившиеся до нее раньше, были всего лишь криками этого существа.
— Он, Прошка, — пояснил Петя с оживлением, указывая на безобразного, неприятного, на безводье, тяжелого лебедя. — Ну что, правда хорош?
Сжав горло рукой, Оля зажмурилась: этого не могло быть, это было невозможно, но в облике злой птичьей головы проступило нечто знакомое — сходство с Петей; это было невероятно, но это было так. Оле показалось, что протяни она руку и коснись его лица, она бы наткнулась на скрипящие скользкие перья. Ну вот, начинаю сходить с ума, подумала она, стараясь не выдать себя и оставаться спокойной. Я слишком все близко принимаю, нельзя так; у Пети сейчас спад, представляю, как они здесь с Лукашом порезвились; надо немедленно увезти его в Москву, от Лукаша подальше… Кому скажи, посмотрят как на помешанную, нельзя же доводить дело до абсурда, думала она, и в то же самое время, несмотря на свое здравое решение быть спокойной и ничему не удивляться, помимо своей воли, не отрываясь, с явным замешательством продолжала следить за происходящим, замечая самые мелкие, казалось бы, ничего не значащие подробности и все больше утрачивая чувство реальности.
Лебедь Прошка подходил ближе и ближе, по-стариковски запинаясь искалеченными лапами в спутанной, сухой траве, человек и птица как бы окончательно сливались в нечто целое, единое; сильно встряхнув головой, Оля отогнала наваждение, и все стало на свои места.
Опустившись на траву, Петя достал небольшое пластмассовое блюдечко, плоскую флягу, кусок хлеба, покрошил его в блюдечко, а сверху полил из фляги, и Прошка тотчас, в каком-то почти человеческом возбуждении забормотал, вытянул длинную, тонкую шею и ловко стал глотать хлеб, высоко вскидывая тяжелый массивный клюв с черным пятном на самом кончике, там, где прорезывались ноздри… Петя добавил еще, и Прошка, теперь уже опустившись на землю, жадно склевал и это; вслед за тем его длинная шея стала как-то безобразно, беспорядочно извиваться, пока совсем не скрылась в траве; помня данное обещание ни во что не вмешиваться, Оля стояла молча; когда ей стало особенно неприятно, она подняла глаза к древним вершинам гор, резко выделявшимся в вечернем небе; и тогда мир с его повседневной суетой отступил, развеялся и осталась одна предостерегающая, почти пророческая тишина, словно перед началом нового, мучительного творения или перед гибелью всего; это шло время и черной, текущей тьмой несло с собою нечто из неосознанных, немыслимых глубин. Просто она привыкла иметь дело с холодными черепками, с камнем и глиной, с осколками прекрасного мрамора, все это можно было клеить, пронумеровывать, располагать в определенном, раз и навсегда заведенном порядке. Пожалуй, у нее и с Петей не получилось сразу из-за этого; она испугалась живой, стремительной, запутанной жизни с ее болью и грязью, но и то, что сейчас происходит перед ее глазами, сущее безобразие.
— Теперь ты поняла? Прошка-то алкоголик, — сказал Петя и прозаически вздохнул. — Курортные юмористы развратили… Какая-то сволочь начала систематически крошить ему хлеба с водкой… Поклевал — ему понравилось. Вот и пошло. Втянулся. А теперь, если долго не дают, кричит, сутками кричит, с души воротит… Только когда по-настоящему пьешь, знаешь, что это за мука… Когда хочется выпить… И вот что странно, его пара, лебедуха-то, Машкой звали, никогда к отраве не подходит. Она и сейчас в кустах во-он, видишь, белеет. Стоит и ждет. А он привык, поклюет и спит… вот… А Машка дождется, пока люди натешатся и разойдутся, подойдет и стоит рядом, караулит… Ты знаешь, мне часто кажется, что все в этом мире сляпано по одному образцу…
Быстро и незаметно темнело, над морем появилась луна, и странная птица все больше становилась похожей на грязный сугроб на траве.
— Нашли развлечение и здесь… Мне все это очень не нравится… Потом, мне кажется… он все слышит, — понизила она голос, кивая в сторону Прошки. — И понимает…
— Знаешь, Оля, ты меня прости… У нас счастливый день сегодня, у нас праздник, — сказал Петя, — может быть, самый большой праздник в жизни, и я стал совершенно сумасшедшим. Может, ты сердишься на меня, но я привел тебя сюда… почему-то я подумал, что тебе надо его увидеть… Почему человек так разрушителен и жесток? Ну хорошо, человек мучает сам себя, мучает, заставляет страдать другого себе подобного, за это мы и сами казним себя… Сами себя казним и милуем. Я хочу поделиться с тобой всем-всем своим… Знаешь, есть в жизни такое, что мы только смутно и отдаленно чувствуем и чего совершенно не знаем, не понимаем и оттого мучаемся… Последнее время я много думал о себе, о тебе, о близких… вообще о людях… Ты так на меня смотришь сейчас…
— Нет, ничего, продолжай, — сказала она, — просто я вспомнила твои рассказы про Обухова…
— Я знаю, я ошибся факультетом, нет ничего интереснее живой жизни, — сказал он. — Я понял это рядом с Обуховым… Рядом с ним начинаешь смотреть иначе и на себя — вот, пожалуй, главное. Представляешь, сюда ведь приходят позубоскалить… хоть бы кто-нибудь ужаснулся… даже дети забавляются, смеются… Что же такое человек и… зачем., зачем он? Я ничего не понимаю… не могу объяснить… А что, если эксперимент не удался? Круг замыкается, атомная бомба лишь логическая точка, жестокое, безжалостное отсечение?
Оля молча слушала; все, что бы он ни говорил, ни делал сегодня, казалось ей важным, необходимым и единственным. Она слушала и понимала его скорее сердцем; она могла бы ему ответить, что она счастлива, что любит его и готова пойти за ним куда угодно, что жить стоит именно ради такого дня и ей нет никакого дела до атомной бомбы, что она любит его и их любовь сильнее, могущественнее любой, придуманной людьми бомбы, что ее дело не думать сейчас о страхах, о несчастьях, о мировых катаклизмах, а нравиться ему, любить его, не отдавать его никому…
Пахло югом, пыльной, перегревшейся за день травой, полынью — в воздухе, несмотря на свежий ветер с моря, держался неуловимый запах нечистот, свойственный почти каждому курортному месту, где ощущается недостаток пресной воды.
— Ну ладно, пойдем, черт с ним, с Прошкой, — сказал Петя, встряхивая с себя наваждение. — Пойдем, а то, на грех, еще и Лукаш вынырнет, от него-то скоро не отклеишься. Пойдем куда-нибудь подальше. Сегодня на турбазе английский детектив, потом поужинаем… Правда, в ресторане здесь не очень-то уютно… Народу очень много… Думаю, прорвемся…
— Зачем? У нас же полно еды? — сказала Оля, слегка прижимаясь, к его плечу. — Мне вообще никуда не хочется… сутолока, духота, грохот… Давай лучше пойдем к морю — ты, я и море… А если еще лунные горы… Помнишь, ты хотел в горы? Ведь ничего лучше не придумаешь… Ничего лучше нет!
— Пойдем, — согласился он, тотчас пружинисто вскакивая с сухой, жесткой земли и помогая встать Оле. — Ты умница, — добавил он, обнимая ее и целуя раз и второй. Оля увидела через его плечо появившуюся из тени кустов старуху Настю, обходившую свое хозяйство, тотчас при виде привычной для прибрежного ночного парка парочки подавшуюся назад в кусты и сразу растворившуюся в них. Петя, не отпуская девушку, скользя по ее телу ладонями, как бы заново узнавая его, внезапно опустился на колени, прижался лицом к ее ногам и стал целовать их беспорядочно и жарко.
— Я почему-то о тебе думал, — признался он, запрокидывая лицо с мерцающими, сумеречными глазами. — Я все время о тебе думал, слышишь…
— Слышу, встань, пойдем отсюда, — попросила она, вцепившись ему в плечи и пытаясь его поднять; в пьянящем ощущении своей власти, кружившей ему сердце, он счастливо засмеялся.
— Какая же ты умница, — сказал он, не выпуская ее колен и все сильнее чувствуя дурманящий, непреодолимый бунт крови. — Молчи, не надо, ничего не говори… я не могу…
— Пойдем, пойдем, — потребовала она, а он, помедлив, преодолевая себя, вскочил. Вскоре они уже шли, залитые беспокойным лунным светом, по самой кромке прибоя; они остались одни в мире, и больше для них ничего не существовало, они не знали, куда идут, зачем, и была только мучительная, беспрерывная необходимость друг в друге, в ощущении друг друга просто физически; слова исчезли, остались только руки, губы, остались дыхание и тело; очнувшись, чувствуя затылком сквозь толщу прохладного песка неоглядность скрытой жизни моря, Петя увидел висевшую в темном небе луну, струившую тяжелый поток света, рассекавший спокойную сейчас, казалось, совершенно застывшую поверхность моря на две половины. Черта эта начиналась у самого берега и уходила в беспредельность. Он прищурился; полоса света из тусклого, тяжелого, с примесью золота приподнялась над застывшим морем, выгнулась и стала мостом, и тогда он понял, что ему надо встать и идти через этот мост. Теперь уже все море зажглось и охвачено было свечением, а мост над ним выделялся еще ярче и куда-то звал. И Петя знал, куда и зачем; мост был его жизнью. Пройдя на другой его конец, он лицом к лицу столкнется и сольется со своим изначальным «я»… «Встань и иди», — сказал ему некий внутренний голос, и он замедленно, словно во сне (хотя знал, что он не спит, находится въяви), встал, подал руку Оле, и они, помедлив, пошли. «Это не может быть жизнью, — сказал себе он, — в конце концов нет ничего изначального, там, на другом краю просто завершение и превращение в тьму и хаос, только почему же тянет быстрее бежать к другому краю?»
И тут иной голос прорвался к нему; кто-то тормошил его, звал.
— Вставай… Ты заснул… Мне даже захотелось тебя укрыть… Знаешь, он опять кричал… Вот опять… слышишь?
— А-а, Прошка, — сказал Петя. — Ну, знаешь, из пустяков не надо делать трагедий… Ну что ты, в самом деле…
— Какой же это пустяк, — возразила она, — просто духовное растление. На него же приходят смотреть дети…
— Что же с ним делать? Может быть, зажарить его да съесть? — стал размышлять Петя. — Мне как то пришлось в тайге двух уток подстрелить, ничего — справился. Дичь пернатая — вкусно. И в вине не надо вымачивать. Правда, я слышал, у лебедей довольно жесткое мясо…
— Как ты можешь смеяться? Его же видят дети! На него, пьяного, сбегаются смотреть дети, — повторила она страдающим голосом. — Это же растление… Дети привыкают к пьяному лебедю. Даже выговорить страшно!
— Да я не смеюсь, — стал он оправдываться. — Я сам о нем часто думаю… Но что же делать? Не знаю… Вот познакомил на свою голову!
— Давай унесем его в горы и там оставим. Представляешь, какой там для него простор? — предложила она. — Сколько света, ветра? Тучи рядом. Пустим с горы, в море… Пусть он еще хоть раз, хоть однажды ощутит себя птицей, лебедем, ощутит высоту, воздух, свободу! Ну, давай!
— Он же разобьется, погибнет, ну что ты? — неуверенно возразил Петя. — И потом, это же государственное имущество…
— А так не погибнет? Он тысячу раз гибнет! Каждый день гибнет! И никому нет дела… Слышишь, опять кричит, — сказала она. — Ужасно, ужасно… Его голос будет мне теперь сниться, закрою глаза, а он опять закричит… Я же серьезно, Петя, ты же сам хотел пойти в горы, попрощаться с ними…
— И я серьезно, — сказал Петя и, не удержавшись, успокаивая ее, улыбнулся. — Для тебя готов на любое преступление, даже на хищение социалистической собственности…
Вдали по морю бесшумным праздничным призраком, весь в огнях, прошел теплоход, и это тоже было их счастьем; они затихли, прижавшись друг к другу, слегка утомленные так невероятно много вместившим и все-таки мгновенно промелькнувшим днем.
Лукаш, напротив, весь остаток дня находился в желчном раздражении, ругал себя за несдержанность, за ненужную, не свойственную ему откровенность, и хотя все намеченное им самим до сих пор двигалось и исполнялось в срок, без срывов и перебоев, мелочная стычка со школьным другом весь день заставляла его возвращаться к мыслям о своей жизни, о себе, о своих отношениях с людьми; стараясь не встретить кого-нибудь из знакомых, он ушел подальше от поселка и почти весь день провел в одиночестве; он знал, что сам он приспособленное и умнее для жизни, чем Брюханов, и что тот никогда не пройдет его школы унижения жизнью и даже мысленно не сможет представить, какая это закалка; такому, как Брюханов, конечно, хорошо рассуждать о нравственности, он — счастливый человек, и, несмотря на раздирающие его страсти, у него редкостное внутреннее равновесие — и, конечно же, оно от чувства собственной значимости. Он неловок в жизни, однако, черт возьми, талантлив, у него мозги с той самой извилиной, что позволяет смотреть на мир и видеть его чуть-чуть иначе, чем остальные люди, а ему не надо каждый Божий день напоминать себе и другим о своем присутствии в жизни. И чем больше Лукаш думал и вспоминал об утреннем разговоре с Петей, тем сильнее разгоралось в нем чувство болезненного унижения; по привычке анализировать он пробежался в мыслях вокруг случившегося раз, и другой, и третий, сам пока не понимая, почему его так это задело. В самом по себе отказе Пети прийти вечером в компанию ничего обидного не было; и Лукаш понимал это. Приехала Оля, вот и очумел и ничего больше знать не хочет, что же здесь обидного? Каждый сходит с ума по своему. Или, может быть, опять в нем, в Лукаше, проснулась давняя школьная зависть? Но в чем теперь можно позавидовать Пете Брюханову, сильно пьющему человеку, по-прежнему не знающему, что ему нужно от жизни? Ведь все эти брюхановские фантазии о спасении и обновлении природы — чушь и краснобайство, никакого спасения человечеству не уготовано, каждый спасается и умирает в одиночку; природа будет окончательно и быстро разрушена, и начнется иной, пока непредсказуемый круг жизни, вот тогда начнется разврат и хаос, возвращение на круги своя, человек предстанет в своей настоящей сути, и выживет лишь сильнейший… Но дальше, дальше? Зачем все? Чтобы жрать и размножаться? Да, сегодняшнее настроение не объяснишь приближающейся экологической катастрофой… А может, и объяснять ничего не надо, просто встал не с той ноги или море показалось слишком резким, а Пете Брюханову — в самый раз, вот он и счастлив; а отчего ему, наконец, и не быть счастливым? Вероятно, это и так; он, кажется, нашел объяснение своему настроению в нежданно-негаданно вспыхнувшей острой неприязни к Брюханову. Были же ожесточенные, бессмысленные драки между ним и Петей, кажется, самый разгар их приходился на восьмой класс. В то время он словно с цепи сорвался (Лукаш, усмехнулся, вспоминая); чаще всего на большой перемене, словно притягиваемый магнитом, он подходил к Пете и, вызывающе улыбаясь одними губами, видя, как тот неудержимо бледнеет, с каким-то болезненным внутренним наслаждением, всякий раз стараясь, чтобы услышали другие, обзывал его министерским дерьмом и маменькиной сволочью. Ни слова не говоря больше, они выходили в школьный двор, в тупик между сараем с различным школьным инвентарем и высоким забором, снимали пиджаки, вешали их на торчавшие из забора ржавые гвозди. Правило было одно: не бить по лицу и ниже пояса. Петя в то время регулярно ходил в бассейн и раз в неделю в секцию бокса, был физически сильнее и вначале жалел Лукаша и сдерживался. Но уже на третий или на четвертый день одним ударом в грудь опрокинул Лукаша на землю почти в бессознательном состоянии и, схватив его за плечи, стал трясти; Лукаша вырвали из рук Пети перепуганные одноклассники, разделившиеся на две партии, до тех пор относившиеся к происходившему довольно заинтересованно и даже с одобрением. Но через день, слегка оправившись, Лукаш как ни в чем не бывало вновь, едва прозвучал звонок на большую перемену, подошел к Пете и все так же спокойно и внятно, сквозь зубы, обозвал его министерским подонком и маменькиным сынком; Петя на этот раз словно закаменел и лишь отметил боковым зрением замерший класс. Не говоря ни слова, он молча направился к выходу; кто-то вслед им посоветовал прекратить идиотскую игру, но ни тот, ни другой не среагировал, и все так же, в сопровождении трех или четырех секундантов, прошли в тупик между сараем и забором; оба услышали прошедший по соседней улице трамвай, и Лукаш, взглянув в лицо Пете и встретив его ответный ненавидящий взгляд, почувствовал головокружение; со звоном в ушах он качнулся, сорвался с земли и куда-то полетел, ему стало по-настоящему страшно, и он понял, что игра кончилась и детство кончилось. Петя ждал, и стоило заставить себя улыбнуться, сказать что-то шутливое, протянуть руку — все тотчас бы и кончилось; Петя ждал этого, и теперь настороженно следовавшие за ними, готовые в любой момент вмешаться одноклассники тоже ждали. Но какая-то сила приподняла Лукаша, исказив его еще не устоявшееся лицо ненавистью, и бросила на противника, и тот на этот раз ударил расчетливо в солнечное сплетение, и тщедушное тело Лукаша, переломившись пополам, рухнуло на землю; он хрипел, сдерживая тоненький вой, катаясь и ничего не видя от черной, застилавшей глаза боли. К нему кинулись, попытались поднять с земли, но Лукаш, все еще не в силах разогнуться, повернул голову и посмотрел на Петю расплывшимися, без зрачков глазами; с трудом расцепив зубы, тот вытолкнул:
— В следующий раз только открой рот, я тебя убью, Лукаш… Совсем нечаянно убью…
Никто не знает, услышал ли Лукаш предупреждение, но только жестокие и бессмысленные драки прекратились; года два Лукаш с Петей не разговаривали и не замечали друг друга и, только оказавшись на одном курсе в университете, вновь сошлись; как-то столкнувшись нос к носу, встретившись взглядами, неожиданно улыбнулись, затем расхохотались и подали друг другу руки.
С неожиданной остротой и ясностью припомнив прошлое, Лукаш отрезвел. Конечно же, прав Брюханов, пора браться за дело, порезвился и хватит, ну вот еще сегодня последний разок, раз уж наметили, — и баста, больше никаких вечеринок… Лера… хм… Лера… Черт, хороша, но с такой карьеры не сделаешь — сквозная труба, все в атмосферу впустую вылетит… Нет, все! Ну, сегодня куда ни шло, последний вечер, а там завязываю, сажусь за работу, передаю лисичек-сестричек в надежные руки и ухожу в подполье. За оставшиеся две недели кое-что можно еще успеть… И обижаться им на меня не за что, море, солнце, бездельников с большими деньгами, ищущих острых ощущений, хоть отбавляй…
У моря в этот предвечерний час оставались лишь самые закаленные любители загорать, крымский летний день многих утомлял своей знойной тяжестью, и Лукаш, выбрав тихое местечко, не торопился уходить. Несколько успокоившись, он мог теперь все взвесить и не спеша продумать.
Близившийся вечер неумолимо менял море и небо над ним: мягкие зеленоватые тени надвигались на берег, выжженные солнцем холмы затухали, становились расплывчатыми, отодвигались. Лукаш и сам не смог бы точно определить, чего именно он хотел от своего старого школьного товарища, но здесь, в Крыму, он оказался только ради него, это он знал точно. При желании Брюханов мог бы поделиться с ним многим, необходимым ему в жизни для движения дальше и выше, но не захотел. Это указывало на тревожный симптом, на какой-то сбой в привычном устоявшемся равновесии, и Лукаш стал отыскивать причину неудачи. Брюханов, конечно же, человек непредсказуемый, способен на любую неожиданность. Ну прокол, ну ладно, с кем не бывает, никто ведь не ожидал от него такой твердости и принципиальности. Кто же мог ожидать, что в самый неподходящий момент появится еще и Оля, окончательно спутает карты? Никто этого не ожидал, между ними, кажется, все уже было окончательно обрублено… В конце концов, надо и главное решить, чего же он сам хотел от Брюханова, зачем всеми правдами и неправдами добился отпуска и прилетел в Крым? Ну-ка, ну-ка, стоит пошевелить мозгами… Копечно, старик Вергасов в момент какой-то духовной расслабленности (это со стариками бывает!) намекнул ему, что можно сделать неплохую игру, оказать услугу весьма могущественному лицу, тотчас последует стократное вознаграждение… что этот скандальный академик Обухов окончательно взбеленился и лезет не в свои дела, путается под ногами… «Стоп, стоп, — оборвал себя Лукаш, пораженный новой неожиданной мыслью. — Но ведь так и не ясно, на кого именно намекал старик, напуская себе в лицо приятственного туману… Что ты точно знаешь? Да ничего!» Конечно, академик Обухов — нашумевшая, за последние годы привлекшая к себе нездоровое внимание личность, но ведь не в нем главная причина… Смешно? Значит, через него метят в кого-то еще, в кого-то выше… но в кого, кого! И старик Вергасов, и академик Обухов, и тем более сам он, маленький журнальный клерк Лукаш, все время живущий мечтой о крупной ставке, всего лишь пешки в этой игре.
Почти наслаждаясь одиночеством, Лукаш еще долго швырял камешки в море; он привел свои мысли в порядок, он знал, чего хотел в жизни, и, стоило ему переключить мысли в нужном направлении, он сразу успокаивался и как-то тяжелел. Вергасову шел семидесятый год, и вместе с возрастом прибавлялось и чудачеств; однажды, явившись в редакцию, тот собрал сотрудников и объявил, что отныне каждую неделю в определенный день назначает час обмена идеями, и чем абсурднее окажется идея, тем выше будет балл; в конце месяца, после подведения итогов, победившему устанавливается премия в сто рублей… Старик, пожалуй, доходит, хотя в ближайшем обозримом будущем никому ничего не светит, — в стране геронтологический бум, старцы в большой цене, и, хотя биологию не обманешь, своего придется ждать долго… Ну а более подходящего человека, чем сам он, Лукаш, в редакции что-то не видно… Если повести себя умно, кое-что можно и ускорить…
И Брюханов (если хоть немного знать его характер), несмотря на свой категорический отказ прийти на вечеринку к давнему приятелю Лукаша, директору пансионата, обязательно придет, скорее всего, не один, а с Олей, постарается окончательно разрубить с прошлым; пожалуй, главный поединок с Брюхановым еще впереди, но ясно одно, что никто из них не уступит.
На обратном пути в парке Лукашу попалась навстречу старуха Настя, ночная сторожиха из пансионата, с подобострастной ненавистью, как ей казалось самой, а на самом деле очень приветливо кивнувшая ему и даже вслух восхитившаяся его золотистым загаром. Лукаш сдержанно поблагодарил; солнце уже скрылось за горы, и парк, сухой и пыльный, начинал отходить от зноя и остывать; под деревьями копилась крымская пыльная прохлада. Переодевшись и заглянув через полчаса к сестрам Колымьяновым, Лукаш, небрежно сообщив от отказе Брюханова прийти к ним на вечеринку, внимательно следил за Лерой, сидевшей у небольшого трюмо, боком к нему.
— Очевидно, я что-то не так сделал, — сказал Лукаш, пытаясь побороть в себе какое-то странное, неприятное чувство скованности, появляющееся в нем всякий раз в присутствии Леры.
— Согласись, без своего, старого товарища ты всегда чувствуешь себя неуютно, — улыбнулась она. — Странный симбиоз, какой-то вечный твой двойник…
— Я сделал все, что мог, ты ведь знаешь его характер, — возразил Лукаш. — Упрется, ничем ты его не сдвинешь… Ты очень огорчена?
— Огорчен скорей ты сам, — быстро оглянувшись, опять улыбнулась Лера. — Ты ведь здесь не ради меня, как пытаешься себя уверить, а ради него, и за это ты его ненавидишь еще больше… Конечно, ты же не можешь спокойно жить, раз он опять кого-то любит и тебе не удастся помешать…
— Чушь! — повысил голос Лукаш, не ожидая такого открытого вызова с ее стороны. — Мы все-таки друзья, за что нам ненавидеть друг друга… Ах, какая, черт возьми, чушь, чего только не придет в голову женщине не в настроении…
— У каждого своя чушь, очевидно, — сказала Лера, по-прежнему с неуловимой насмешкой в голосе. — Только почему уж непременно только чушь? Раз я говорю, так непременно чушь!
— Лера…
— О! Как неприятно слышать правду о самом себе! — все тем же ровным, бесившем его, бесстрастным голосом произнесла Лера с чуть уловимой издевкой. — Но когда-нибудь же надо услышать, ну хотя бы и от меня! Почему бы нет? Почему бы не услышать ее от меня? Да, да, от меня? Ты ведь и преследовать меня стал только потому, что в меня без памяти влюбился Петя Брюханов…
— Ты вынуждаешь меня уйти, но я все равно останусь, — оборвал Лукаш, спокойно и сосредоточенно на нее глядя.
— Вот и отлично! Тогда уйду я сама! Но так уйду, чтобы тебя никогда больше не видеть… Слышишь, никогда! — тут голос ее как-то странно пресекся.
— Да вы что сегодня, все с ума посходили? Тебе голову солнцем нажгло? Перегрелась, девочка? Может быть, тебя следует слегка остудить? Хочешь воды? — спросил он, окидывая взглядом комнату и подходя к окну, к небольшому столику, на котором стояли графин и стаканы.
— Не суетись, — остановила она его все тем же неприятным, каким-то безжизненным голосом. — Ты опоздал, все уже само перегорело, одни головешки… и остужать нечего. Не знаю, радоваться или плакать… кажется, я освободилась, наконец, от тебя, окончательно освободилась, и это произошло почему-то именно сейчас, вот здесь, когда я поняла, что в самом деле происходит… Ведь ты и сюда меня вызвал как приманку… для того же Брюханова. Будь он проклят, и ты вместе с ним…
— С ума сошла, совсем спятила, у тебя истерика, — процедил сквозь зубы Лукаш, шагнул к ней, больно схватил за плечи и, заглядывая в глаза, с тихим бешенством попросил: — Опомнись! От тебя всего-то и требуется сейчас — замолчать…
Рна попыталась освободиться из его рук, но он сильно встряхнул ее и насильно усадил в кресло, и она обессиленная, затряслась от беззвучных рыданий.
— А я-то, дура, дура, летела, неслась на его зов! Бегала по Москве, хвасталась телеграммой, Лукаш меня зовет! Лукашу я нужна! Проклятая дура. А он меня позвал, чтобы подложить Брюханову. Пропадите вы оба… ненавижу, ненавижу! Да, да, да, ничего не было, слышишь, ничего! Ни твоих приставаний, ни моего отчаянного замужества за этим кретином на мерседесе, ни моего развода… И не ты, нет, нет, не ты сделал из меня проститутку, не ты поил и толкал ко мне в кровать Брюханова… И если бы не моя сестрица, не ее неразборчивость… Ничего не было, слышишь? И не ты вызвал меня обманным путем сюда, чтобы опять заполучить этого Брюханова, которого я ненавижу, ненавижу… Если бы это не повредило тебе, я бы его убила! Ну зачем, зачем он тебе нужен? Ты, конечно, по прежнему ничего не понимаешь, никогда не поймешь, потому что тебе нельзя этого понять! Подлец ты, подлец! Последний мерзавец лучше тебя! У тебя одно на уме: обойти Брюханова любой ценой, уничтожить его, сравнять с дерьмом!
Свалившись в соседнее кресло, Лукаш вцепился в подлокотники, намертво сжимая их побелевшими пальцами; боясь выдать себя, сорваться, оп слушал, не поднимая глаз; вот неожиданная буря, думал оп, ни с того ни сего рвануло… и ведь хороша, стерва, и знает, что хороша. Какой невыносимый нескончаемый день… надо напиться, что ли? Да ведь и мелет она черт знает что, неужели она действительно все себе так и представляет и он такая скотина?
И тут он почувствовал на себе ее почти обжигающий, бешеный взгляд.
— Ты спокоен, Боже мой, как ты спокоен, — сказала она. — Ты даже меня не слышишь…
— Лера, ну что ты, в самом деле, — ответил он, поднимая голову. — Ну кто же, скажи, может сердиться на женщину в безумия? Только самый последний кретин…
— Уходи, оставь меня, я должна побыть одна, — попросила она все еще вздрагивающим от напряжения голосом, глядя на него исподлобья чуть-чуть косящими, уже знакомыми, виноватыми и преданными глазами.
Однако подлинные чудеса в этот вечер еще только начинались. Старуха Настя уже в сумерках загоняла декоративных лебедей — так они именовались в описи инвентарного имущества — в их тесный загончик. Она довольно легко нашла птиц по торчавшей из сухой травы голове Машки, однако Прошка еще не мог ни сдвинуться, ни шевельнуться, хотя уже начинал отходить; он все не узнавал старуху Настю; он решил, что это появился Петя и опять принес облегчение, и ему даже смутно пригрезилось, что пришедший Петя и он сам одно и то же, у них уже был один ток крови, одни желания и чувства, что-то словно сковало их навсегда и не только сковало, но и соединило в одно целое; неясное желание забытого, пронзительного простора возбудило Прошку, и, не в силах противиться неодолимой тоске, он закричал и, в ответ услышав такой же тоскливый крик, увидел длинную, изогнутую шею Машки и, преодолевая тягостное оцепенение, помогая себе крыльями, со стоном оторвал тяжелое, словно приросшее к земле тело, двинулся следом за нею; с трудом ковыляя на своих уродливо растрескавшихся лапах за подругой в белоснежном оперении, с тонкой длинной шеей, оранжевым клювом, изящным утолщением в продолговатых ноздрях и с настороженными, злыми глазами, он привычно не упускал из виду старухи, подгонявшей птиц, и той все время почему-то казалось, что их не две, а три, и она то и дело озлобленно тыкала перед собой пальцем, пересчитывая и кляня их на чем свет стоит. Затем старуха Настя заметила нечто совсем уже невероятное. Она твердо знала, что солнце уже село, но тут оказалось иначе, и еще только приходит вечер, и солнце еще не садилось, а едва-едва склоняется к Кара-Дагу, и какое-то оно было необычное огромное и слепое, совершенно без лучей, хотя все вокруг и залито его мертвенно-бледным сиянием. И старуха Настя с синими мешками под глазами от избытка выпитого за день дурного вина, в длинном, застиранном, когда-то модном плаще, попытавшись разобраться в происходящем, ничего не поняла и благоразумно решила ни о чем больше не думать и ничему не удивляться, а делать свою простую работу; она растерянно поправила ворот платья, в глубокой прорези которого, довольно рискованной для ее положения и возраста, виднелась морщинистая шея и опавшие, свободно болтающиеся груди с темными сосками, и продолжала подгонять птиц дальше, и только по-прежнему никак не могла их пересчитать: перед глазами было то две, то три птицы, и третья все время норовила отстать и шмыгнуть в сторону, в разросшийся тутовник, и старуха Настя всякий раз больно хлестала ее длинной кизиловой палкой по спине, и она, возмущаясь, шипела и припускала крылья…
— Кыш-ш! Кыш-ш! — зло и хрипло закричала наконец старуха Настя. — Ух, бестолковые, скоро год, а все дороги не приметят! Одно слово — дикая птица! Кыш-ш! Я тебе вытяну шею! Ишь, еще огрызается, змей горючий!
И третий, опасаясь получить еще один удар палкой, догнал остальных, и вскоре лебеди оказались в тесном загончике, обнесенном со всех сторон высокой сеткой. Старуха Настя захлопнула проволочную дверцу загончика, по-прежнему не в силах решить, откуда же взялась третья птица, и в самом ли деле она есть, потянулась в сторону директорского особнячка, стоявшего тут же, в каких-нибудь десяти метрах за кокетливой изгородью из штакетника; при домике был небольшой тенистый садик. Из-за высокой зеленой живой изгороди из туи она не видела, кто был в садике, но оттуда доносились и мужские, и женские, очень оживленные голоса; вздохнув, старуха Настя почти бессознательно сделала шаг-другой к директорскому особнячку и тотчас подалась в сторонку; навстречу ей из растворившейся калитки вышли две женщины, сестры Колымьяновы, которых она ненавидела тайно и нерассуждающе, и от этого, сталкиваясь с ними где-нибудь, теряла дар речи и могла лишь безлико-обольстительно улыбаться в ответ на обращенные к ней слова. За сестрами из калитки вышел и сам Юрий Павлович в сопровождении Лукаша, своего лучшего друга из первопрестольной; старуха Настя насквозь видела и этого прощелыгу — Лукаша; он был из поколения, родившегося и поднявшегося уже после войны, и в представлении старухи Насти был сущий бес, ничему не верил и ничего из проплывающего мимо не упускал, на все смотрел со злой издевочкой, умел при случае душевно поговорить и вытянуть из тебя всю подноготную. В понимании старухи Насти это был весьма разносторонний человек со многими талантами, любивший подпустить в разговоре, особенно с близкими друзьями, какое-нибудь диковинное словечко вроде «зашайбил» или «округляк», или еще лучше — «всосал». Даже старуха Настя, пожившая на своем веку и не мало видевшая и слышавшая, не могла точно объяснить то или иное модное словечко, в разгар вдохновения изрекаемое Лукашом; так, знаменитое «зашайбил» представлялось ей чем-то игривым и даже двусмысленным, а вот слово «округляк» она любила, оно ей напоминало окатанный морской волной, прохладный на ощупь, красивый камешек, и его хотелось перебросить из ладошки в ладошку и тем самым как бы соприкоснуться с жизнью благополучных, уверенных в себе людей. А вот значение любимого выражения Лукаша «всосал» старуха Настя хорошо знала, потому что Лукаш не раз в ее присутствии рассказывал директору, как его ловкий приятель, которому Лукаш явно завидовал, всосал вначале большую денежную премию ни за что ни про что, а затем всосал даже и какой-то орден. Старуха Настя не любила Лукаша еще и потому, что именно вслед за ним притащились из той же Москвы сестры Колымьяновы и началась совсем уж невиданная карусель; был Лукаш лет на пять моложе самого Юрия Павловича, и старуха Настя его почему-то даже побаивалась, хотя к ней самой и к ее караульной службе он имел весьма и весьма отдаленное отношение. Он так весело и проницательно поглядывал на все вокруг, что старуха Настя, видя его, всегда как-то стушевывалась и старалась сделаться незаметнее; ей казалось, что, вперив в нее свои серые глазищи, он тут же оживленно и благожелательно начнет расспрашивать ее о житье-бытье и обязательно выпытает, почему она каждое лето приезжает в Крым и устраивается на работу в «Голубом счастье», и где она работала раньше, и как жила…
Одним словом, старуха Настя по непонятной причине боялась Лукаша и старательно его избегала; она ведь знала и о важной услуге, оказанной Лукашом своему другу директору, о какой-то статье в центральной газете, организованной именно Лукашом и ставившей Юрия Павловича Долгошея в пример остальным как умелого организатора курортного дела и заслуженного отдыха советских тружеников. Знала старуха Настя и о самой сокровенной мечте Юрия Павловича Долгошея — переехать в Москву, вначале даже пусть на самую немудрящую должность, хотя бы каким-нибудь районным товароведом, и в исполнении этой заветной розовой мечты именно Лукашу отводилась чуть ли не главная роль. Старуха Настя понимала и директора, представлявшего своему московскому гостю всяческие поблажки и привилегии; она давно знала о несовершенствах мира и о том, что переменить его никому еще не удавалось, а поэтому лучше помалкивать о том, что знаешь, и держаться подальше, в тени. Она и сейчас, едва увидев Лукаша рядом с директором, тихонечко, бочком, бочком хотела скрыться за ближайшим поворотом, только не успела; еще издали Юрий Павлович ее окликнул, и ей пришлось остаться на месте.
— Я, Саша, уже говорил вам, Настасья Илларионовна у нас душа всего заведения, — с мягкой улыбкой сказал Юрий Павлович, оглядываясь на Лукаша, державшегося возле красавицы Леры, одетой в невесомое платье из тончайшей немыслимой ткани, какую не могли бы, по мнению Насти, сплести даже самые умные современные машины. В первый момент старуха Настя даже решила, что никакой ткани вообще нет, но ткань, трепетно облегавшая грудь и все остальные прелести красавицы Леры, все таки существовала в действительности. И хотя старуха Настя тотчас безошибочно определила, что москвичи отчего-то не в духе и в большом разладе друг с другом, у нее застонала душа от желания привести всех в изумление какой-нибудь оскорбительной выходкой и унизить распроклятую красавицу, привыкшую вот так по-царски держаться и не замечать ее, старую женщину. Однако старуха Настя вовремя вспомнила о своей пенсии в пятьдесят три рубля, о тесной комнатушке в многонаселенной квартире в далекой и сумрачной Вологде, о южном солнце и морском ветре с запахом йода, незаменимо полезном для всех легочных болезней, глубоко вздохнула и сдержалась.
— В ее дежурство я совершенно спокоен, — тем временем продолжал Юрий Павлович. — Особенно за наш небольшой зверинец… фазаны, лебеди, обезьянка, попугай — все на своих местах… Вот у Прошки с Маткой свежая водичка — чудесно, чудесно! — Юрий Павлович тряхнул своей пышной, выгоревшей (он принципиально никогда, даже в самые жаркие дни, не прикрывал голову) шевелюрой, но у старухи Насти даже от такого внимания к ее скромной особе все-таки не прошла злость к сестрам Колымьяновым. Она лишь про себя и подумала, что ничего в жизни не изменишь, что ей уже под семьдесят… а они молоды, так и светятся, так и распространяют вокруг себя зовущие волны; рядом с такими любой мужик, если он мужик, потеряет голову. Старуха Настя уже давно прочно распределила соотношение сил, связав Юрия Павловича со старшей, Зоей, а Лукаша с младшей, красавицей Лерой, с такими же, как и у сестры, миндалевидными, светло-карими глазами и мягко приподнятыми уголками ярких полных губ, отчего лицо ее приобретало лукавое и в то же время влекущее выражение наивной беспомощности.
— Лебединую пару мы с трудом в прошлом году выколотили, — говорил тем временем Юрий Павлович с неуловимой и даже несколько иронической доверительностью, адресуясь прежде всего именно к Зое, слушавшей с неожиданно проявившимся интересом. — Хлопоты хлопотами, а красавцы какие! Одно удовольствие на них смотреть, — добавил Юрий Павлович, теперь притушенно взглянув в сторону Леры. — Шеи-то, шеи! Стать! Лебединая!
— Можно их погладить? — с милой непосредственностью протянула Зоя. — Верно, у них скользкие перья… Так хотелось бы потрогать!
— Конечно же, конечно, они же у нас совсем ручные, — сказал Юрий Павлович с молодым азартом. — Настасья Илларионовна, откройте загончик… Здесь у нас чисто, чистота — показатель номер один… Прошу! — посторонившись, он пропустил вперед Леру, неохотно шагнувшую в дверцу затем Зою, последним вошел сам; Лукаш, с широкой доброжелательной улыбкой, сделавшей его совсем юным, и старуха Настя остались за изгородью; она по-прежнему видела в загоне третью птицу, прижавшуюся к противоположной стороне проволочной изгороди, в самом дальнем углу загона, но предпочитала молчать и не сообщать никому о своем открытии.
— Какая прелесть, какая прелесть, ах! — восторгалась Зоя. — В самом деле можно, Юрий Павлович?
— Смелее, смелее, вот так, смотрите, — сделав решительное движение, Юрий Павлович приблизился к лебедям, присел и осторожно провел ладонью по крыльям Прошки, стоявшего как изваяние и лишь слегка повернувшего шишковатую голову; Юрия Павловича поразил круглый, холодный и настороженный глаз лебедя, вернее, его презрительное, человечье выражение. «Ох черт!» — ахнул он про себя, невольно отдергивая руку и сразу же с усмешкой опять поглаживая Прошку по крыльям. Выражая восхищение его решительностью, сестры переглядывались, приподнимаясь на цыпочки; Юрий Павлович еще раз оглянулся на Зою, приглашая последовать его примеру, и у нее сквозь смуглую кожу пробился легкий румянец; она решительно шагнула, вперед, склонилась над другим лебедем, над Машкой, одной рукой обхватила ее за шею, прижала к себе, а второй с наслаждением, неосознанно разряжая чувство мучительного напряжения и нетерпения, провела раз и второй по скрипучим, вздрагивающим от заключенной в них силы крыльям. Дальнейшее случилось в секунду, словно грянул белый ослепительный взрыв; змеиная шея лебеда откинулась назад, и в следующее мгновение сонный и жаркий воздух прорезал испуганный вскрик Зои; сердитая птица ущипнула ее за плечо и стала бить крыльями, внутри проволочной загородки поднялся какой-то вихрь; Прошка в свою очередь возбудился и накинулся, но почему-то не на Юрия Павловича, а тоже на окончательно перепуганную Зою, стал щипать ее в обнаженную до пояса, загорелую спину и, распустив крылья, пребольно хлопал ими по ее ногам. Случилась паника, все стали бестолково суетиться. Опомнившись, Юрий Павлович пинком отбросил Прошку в угол; на помощь ринулся пришедший в себя Лукаш и, подхватив побледневшую, с исказившимся от боли лицом Зою, бегом вынес ее в безопасное место, следом, пятясь, отбиваясь от ставших громадными растопыренных крыльев птиц, пытавшихся почему-то, как разъяренные собаки, ухватить именно его (они даже на хвосты приседали и подпрыгивали, вытягивая шеи), пропустив впереди себя Зою, выбрался наконец из загончика и сам Юрий Павлович. Старуха Настя, наблюдавшая за этой невообразимой катавасией, торопливо, показывая свое усердие, захлопнула дверку, заложила ее засовом и для верности прижала спиной, но тут же хрипло вскрикнула, отпрянула: найдя какую-то щель, Машка остервенело ущипнула и старуху Настю, а когда та отскочила, лебеди возбужденно застыли друг подле друга. Зою повели, заботливо поддерживая с обеих сторон, несмотря на ее протесты, в домик директора срочно промывать и смазывать пострадавшие места одеколоном и мазью; в последний момент старуха Настя заметила некрасивую гримаску и слезы в глазах Зои, оглянувшейся на загородку с лебедями.
Продолжая ворчать про себя, старуха Настя начала собираться в свой обычный вечерний обход парка, и тут ее окликнули с уютного крылечка директора; она с готовностью двинулась на зов, а Прошка, сторожко и неотрывно следивший за нею, затосковал, и крик его заставил старуху Настю схватиться за сердце; что-то на этот раз Крым не шел ей на пользу; но когда она вновь вышла из дома, лицо ее выражало озабоченность и даже некоторую важность, в руках она держала объемистую клетчатую хозяйскую сумку, в сумке же лежала торопливая директорская записка к нужным лицам; позабыв о всех своих страхах и обидах, старуха Настя проворно направилась по необходимым адресам и довольно быстро вернулась, тяжело перегибаясь под тяжестью сумки, затем вновь ходила куда-то, и скоро у Юрия Павловича стол ломился от фруктов, шашлыков, колбас и вин; по дороге, воровато оглянувшись в укромном месте, старуха Настя сунула в куст пару бутылок коньяку и прославленного Абрау-Дюрсо, после чего у нее даже злость на смазливую Леру окончательно прошла. Что ж делать, свои годы не вернешь, подумала она вполне резонно, а внешность у этой Валерии, что и говорить, выдающаяся, ножки, плечи — любой голову потеряет, вот только глаза у нее нынче какие-то — как у подстреленной, подумала старуха Настя, видать, в двух соснах заплуталась, не знает, кого ей выбрать.
Помогая накрывать на стол, расставлять закуски и мыть фрукты, затем раскладывать их в две синие, на высоких ножках вазы, старуха Настя умудрилась пару раз довольно основательно приложиться к коньячку; был к ее услугам и объемистый графин с крепчайшим коньячным спиртом; закончив дела, она с одобрением оглядела творение рук своих и, понимая, что нужно и честь знать, стала прощаться. Юрий Павлович, ничего не упускавший, тотчас налил ей стаканчик, но старуха Настя решительно отказалась, на службе не привыкла, мол, к этому пагубному зелью. Юрий Павлович одним взглядом зорко окинул стол, слегка нахмурился, отозвал старуху Настю в сторону и что-то пошептал ей; она сначала взглянула на него изумленно, затем кивнула и вышла, по собственному опыту зная, что, если загулявшему мужику, уже в изрядном подпитии, что втемяшится в башку, лучше не прекословить; остальные из их короткого разговора услышали всего лишь одно слово «сюрприз» и упоминание о каких-то премиальных… и, естественно, тотчас, занятые каждый своим, забыли об этом коротком эпизоде.
Сначала выпили шампанского, затем Зоя, решительно взявшая шефство над Юрием Павловичем, потребовала коньяку, и у передового директора мелькнула предательская мысль о жене, о том, как она сидит с детьми и, поблескивая стеклами очков в дорогой импортной черепаховой оправе, проверяет уроки; сыновья пошли в этом году в четвертый и пятый классы…
Поморщившись от неуместного воспоминания, Юрий Павлович решительно послал свою ногу в направлении соседки; колено Зои было круглое, теплое, и он с трудом удержал себя от глупого поступка: ему захотелось сползти со стула и под столом поцеловать это теплое круглое колено, но он лишь по-сумасшедшему взглянул прямо в глаза Зои, откровенно засмеялся и сам решительно выпил рюмку коньяку. Еще не наступило время.
— Когда-нибудь все кончается, — сказала она, влюбленно глядя на хозяина. — У нас сегодня прощальный вечер… так давайте еще выпьем.
— Зоя, или вам, Лера, — заверил он, посылая взгляд в сторону непривычно молчаливой Леры, не проронившей за вечер ни одного слова, — достаточно одного слова. Телеграммой, письмом, по телефону. И все повторится… Повторится столько раз, сколько вы этого захотите.
— Подтверждаю, — вмешался Лукаш, по привычке стараясь перехватить инициативу за столом и глядя на Леру, обращаясь только к ней; кажется, все окончательно выходило из-под контроля, перемешалось, привычные представления и отношения как-то в один момент менялись и даже рвались; Зоя, угощавшая виноградом директора, настойчиво клавшая ему в рот ягоду за ягодой и время от времени начинавшая громко хохотать, сейчас была особенно неприятна, и всякий раз, слыша ее нервный хохот, Лукаш страдальчески морщился. Лера хмуро курила, не участвуя в общем разговоре, вызывая все большее его удивление; всегда глубоко и безраздельно ему преданная и вот сегодня неожиданно взбунтовавшаяся, она и после случившегося тяжелого объяснения оставалась вялой, безучастной ко всем попыткам примирения; за своими мыслями Лукаш не заметил, как директор с Зоей куда-то исчезли и раздражавший его хохот прекратился.
Молчание их затягивалось, он не решался нарушить его, пожалуй, впервые в жизни не представляя, как вести себя, в полураскрытые окна сквозь шевелящиеся занавески врывались свежие порывы ветра и слышался шум прибоя.
— Праздника не получилось, я не виновата, — вынужденно улыбаясь, сказала она. — Извини!
— Да что с тобой наконец, Лера? — спросил он, мягко взял ее за руку и, отмечая ее вялость и безжизненность, бережно погладил. — Ну давай поговорим, Лерок, мы же с тобой старинные приятели, тысячу лет друг друга знаем. Ну скажи, ну что с тобой? Что на тебя нашло? Ну что, разве кто-нибудь заболел, умер? Нет же никакого несчастья. Зачем же его накликать? Я два года мечтал о море… и вот мы тут… вот оно, море, рядом, шумит. Слушай, Лера, может быть, все это какое-то наваждение, чья-то злая фантазия? Давай не торопиться…
— Ты хочешь сказать, что я спутала твои расчеты и ты недополучил свое? — спросила она. — За путевки… за то, что устраивал меня на работу после развода… Помог с квартирой…
— Ты никогда мне ничего подобного не говорила…
— Конечно, сам ты не мог догадаться, — усмехнулась она, одним гибким движением взяла бокал, отпила из него, поставила на место, все тем же гибким движением, с ленивой бесстыдной улыбкой стянула с себя блестящую чешую платья, скомкала его, швырнула в ноги Лукашу. — Не забудь поставить в счет — это ведь ты платил.
Лицо у него пошло пятнами; покусывая губы, он попросил ее больше не пить и не сходить с ума; и она, наслаждаясь внезапным, оглушающим чувством освобождения, лишь понизила голос и все с той же бесстыдной и мертвой улыбкой сказала:
— Нет-нет, я спокойна, я совершенно спокойна. Зачем же? Мне твоего больше ничего не надо. Я тебе все верну… все, слышишь! Работу сменю, за квартиру тебе все выплачу, до последней копейки… Слышишь?
— Лера! — закричал он, не сдерживаясь, и в его глазах метнулось бешенство; рванувшись к ней, он сжал ее голые плечи; какая-то сухая плывущая дымка мешала рассмотреть ее как следует, он было отстранился, но знакомая волна ее запахов, ее тело уже мутили его, он привычно срывал с нее все лишнее, мешающее, и она не сопротивлялась; стояла, опустив руки, и ждала, и уже одно это совершенно обессиливало; она относилась именно к таким, отбирающим, женщинам, хотя, казалось бы, отдавалась безраздельно, бездумно, до конца, тут таилась какая-то нелепость, загадка, черт знает что, и он, останавливая себя страшным усилием, высунул разгоряченную голову в окно; в глазах прояснилось, и он с досадой плюнул на пыльный куст сирени, подумал, что сейчас, пожалуй, было бы лучше всего как нибудь развязаться окончательно, выпить еще, притвориться мертвецки пьяным — и все само собой разрешится. Но в то же время он знал, что ничего само собой не разрешится, и прежде всего из-за него самого. Что бы с ним ни произошло, что бы ни случилось, он должен был сейчас пересилить себя, настоять на своем, он не знал, зачем должен это сделать, он лишь чувствовал необходимость настоять на своем, иначе дальше будет еще хуже, и не его мужское тщеславие тому причиной.
— Слушай, Лера, — внезапно обернулся он, сраженный неожиданно простой, спасительной мыслью. — Вернемся в Москву и распишемся… А?
— Боже ты мой, какое прозрение, — сказала она внешне спокойно. — Неужели я вымолила свое?
— Не юродствуй, ты баба породистая, красивая, тебе не идет. Ну, погорячились, выплеснулись…
— Кто ты такой, прости, чтобы определять мою породу? Муж, брат? Всего лишь… так, прохожий. Встретились и разошлись…
— Вот так взяли и разошлись? — не поверил Лукаш. — Кончай дурить. Ляг, поспи, мы оба устали… какая-то дикая, бесконечная ночь, — сказал он с неожиданным чувством потери. — С каждым в свой час случается, накатывает минута — и ты узнаешь о себе больше, чем за всю прошлую жизнь… Я не думал, что между нами возможно такое… Ты ведь сама решила, ты потом не пожалей…
— Слушай, Саша, не суетись, а? — попросила она. — Я ведь тебя ни в чем не виню… Ты прав… просто пришло время разобраться в своем хозяйстве. Смотри веселей, Саша, ничего не рухнет, мир не рухнет, два человека расстанутся, и все. Просто их время кончилось, наше с тобой время кончилось, ну что тут сверхъестественного? Жизнь ведь от этого не остановится… Как-нибудь привыкнем и начнем жить дальше… Ничего страшного… Давай посидим спокойно…
— Что ж, можно и посидеть, — согласился он, вновь подходя к окну и распахивая его настежь, затем опустился в большое удобное кресло рядом и подумал, что так оно и должно быть, и хотя он сам ничего больше не понимал и не хотел понимать и все, мучившее его всего несколько минут назад, отступило, развеялось, жизнь продолжалась, слышнее стали ветер и море, яркая, душная, какая-то оглушительная крымская ночь, с ее заботами, вконец измотала даже неутомимую старуху Настю, и она, все еще не решаясь выполнить распоряжение директора, приготовляясь душой, что-то бормотала про себя в темной каморке, где содержался всякий хозяйственный инвентарь — совки, метлы, лопаты, ведра и прочий хлам; и если бы кто оказался поблизости и прислушался, он был бы весьма заинтересован, потому что старуха Настя, то и дело вскидывая одурманенную голову, с воодушевлением рассуждала о каких-то законах и редких птицах, о мужиках, двуногих скотах, погубивших ее жизнь, о своем твердом нежелании вершить какое-то нехорошее, небожеское дело; со стороны можно было даже подумать, что в хозяйственной каморке находится не одна старуха Настя, а несколько человек.
«Ах, вам слово не скажи, сразу с претензиями, Юрий Павлович, — говорила она, вполне резонно решив не искушать лукавого и не упускать того, что само шло в руки. — Я разве против, само собой, лишние премиальные никому не помешают, эту порченую птицу давно надо извести. В один момент представлю, пальчики оближете! Только как вот ты ее отличишь в ночи-то одну от другой? Сколько я их пережарила, гусей, уток, один Бог ведает, холодное из них, скажу я вам, — объеденье! Гусей яблочками шпиговала, с орехами делала, а еще хорошо индюшечку с черносливчиком… а черносливчик отдельно чуть-чуть потомить в расплавленном сливочном маслице… да травки в меру… майоранчика веточку, сельдерея корешок. Ешьте, — будьте веселы, будьте здоровы, только о Боге не забывайте, вседержителю все ведомо, все грехи наши. Он им счет ведет. Ох-хо-хо, грехи наши!» Приготовив себя такими рассуждениями, старуха Настя оперлась обеими ладонями о колени и грузно поднялась, оттягивать предстоящее дальше было нельзя; она еще несколько минут потерзалась, укрепляясь душой, и, уже больше не раздумывая, вспомнив недавнюю незаслуженную обиду от неблагодарной птицы, с топориком в руках и куском мешковины скоро была у загончика с лебедями.
И директорский коттедж, и птичий загон стояли в стороне от освещенных аллей; старуха Настя действовала решительно и обдуманно. Входя в загончик с птицами, она удовлетворенно кивнула, вновь убеждаясь в своей правоте; лебедей было трое, только один из них виделся как-то смутно, в отдалении от двух других.
Старуха Настя, однако, сразу занервничала, в правом ухе у нее назойливо зазвенело. «Ишь, окаянный! — подумала она раздраженно о третьей, неизвестно откуда и когда приблудившейся птице. — Ишь, светит-то глазищами, вот тебе бы и отхватить башку!»
Над морем поднималась яркая круглая луна, и в темной душе старухи Насти, знавшей в жизни и блестящие взлеты, и не менее стремительные падения, зашевелилась неуверенность; в свете луны птицы казались плотными тяжелыми сгустками неведомого, дорогого металла. При появлении знакомой прямой фигуры старухи Насти в загончике, часто менявшей воду в тазике и приносившей корм — овес, остатки хлеба или каши из столовой, птицы не встревожились. Редко прибегавшая к Богу и молитве, старуха Настя несколько раз обмахнула себя крестом; нежданно-негаданно на душу накатило что-то горячее, светлое, что-то с самого детства осенило и размягчило ее; белая, добрая тень склонилась над нею…
Старуха Настя пожевала губами в поисках одного-единственного нужного слова — и не нашла; злодейское повеление директора точно сковало ее, явно мешало ей приобщиться к тайне, и все остальное произошло в считанные секунды. Мелко-мелко просеменив по загончику и все время ощущая на себе смущающий взгляд третьей птицы, она одним рывком схватила Машку за шею, выметнулась из загончика, проворно прижала длинную, извивающуюся шею к высохшей в камень земле и тяпнула топориком. Чтобы обезглавленное тело не слишком прыгало и кровило, старуха Настя наступила на него; она чувствовала ногой, как уходит жизнь; она еще полностью не осознала случившегося, странное ей померещилось, и она похолодела. Она увидела, как отделенная от тела голова со злым, не закрывающимся змеиным глазом сама собой подползла к извивающейся, кровившей шее — миг! — и вот лебедуха опять, как ни в чем не бывало, шипит, рвется из-под ноги и даже норовит злобно ущипнуть, и уже прицеливается…
У старухи Насти затряслось лицо; ухватив неверными руками тонкую длинную шею, она опять прижала ее к земле и теперь, больше от невыносимого, сковавшего всю ее страха, тяпнула топориком сильнее, и вновь под ногой у нее проснулся трепет затухавшей жизни. Она поскорей отпихнула коротко отрубленную голову от себя подальше… но не успела перевести дух, как перед ней сверкнула яркая кровавая вспышка — острая птичья голова прыжком встала на свое место, проклятая птица опять ожила и даже укусила старуху Настю за лодыжку.
Ополоумев от ужаса, она, уже не глядя, еще раз отмахнула птице голову и, кинув топорик в кусты, кинулась было бежать, и тут какой-то долгий, стонущий, тяжкий крик упал на парк, на горы и море. Все остановилось, и в этот миг что-то тяжкое, непереносимое отпустило голову и грудь старухи Насти. Поведя мутными глазами, она пошатнулась — стояла чуткая, почти прозрачная тишина, парк заливала луна, листья на акациях, платанах и тополях застыли в безветрии литым серебром. Совершенно затих ветер, и больше не слышалось моря. И тогда перед глазами у старухи Насти все безудержно завертелось! луна, горы, деревья, парковые дорожки, фонари, и она, ища руками опору, грузно осела на землю, не отрываясь от расползавшегося по мешковине кровавого, в свете луны черного пятна. Над Святой горой появилось никогда не виданное, танцующее бледное пламя. Судорожно трясущимися руками старуха Настя кое-как замотала тушку птицы и ее голову в мешковину, ногой нагребла на окровавленную землю пыли и сору и, оглядываясь, заспешила прочь… Не помня себя, она кое-как добралась с тяжелой ношей до директорского коттеджа и первым делом хватила коньяку прямо из горлышка припрятанной ранее с хозяйского стола пузатой заморской бутылки.
Спустя полчаса на кухне директорского коттеджа стоял дым коромыслом, в раскаленной духовке шипело и шкворчало, а сама старуха Настя, наведя чистоту и убрав отходы, стараясь ни о чем не думать, то и дело подходила к шкафчику и прикладывалась к бутылке с коньяком; больше одного глотка она не делала, боялась, и на этот раз совершенно не пьянела.
Зажаренная птица па большом майоликовом блюде смотрелась красиво. В меру подрумяненная, с хрустящей корочкой тушка, горделиво изогнутая, нафаршированная печенкой шея (старуха Настя действительно была мастерицей своего дела), затейливо украшенная фруктами, гроздьями иссиня-черного винограда, и даже обжаренная в духовке голова лебедухи не казалась теперь страшной и зловещей, а только красиво венчала это редкостное произведение кулинарного искусства.
Опорожнив бутылку досуха, старуха Настя сидела возле стола в приятной дреме у драгоценного подноса с горделивой лебедухой и почти не обратила внимания на шум и женские всхлипывания, на чью-то легкую тень, метнувшуюся по дорожке сада и скрывшуюся за кустарником. Следом на крыльцо выбежал Лукаш, сдерживая голос, негромко несколько раз позвал кого-то и, не получив ответа, тоже бросился бежать и исчез за изгородью.
Оля открыла глаза от мучительного ощущения конца и затем долго приходила в себя: она и во сне была неимоверно счастлива, и внезапный обрыв заставил ее, еще не проснувшись, мгновенно подхватиться и сесть. В мглистом полумраке палатки она никак не могла понять, где она находится и что с ней происходит. Она заставила себя протянуть руку к белому, круглому предмету, прикоснулась к нему и от волнения даже всхлипнула, окончательно просыпаясь; круглое и белое, так испугавшее ее, оказалось прохладным Петиным коленом. «Луна! Просто луна! — ахнула она, выходя из своего оцепенения и сразу же вспоминая. — Полнолуние. Просто в полнолуние мне всегда плохо спится. Да еще вдобавок море светится…»
Тотчас она услышала и море, ленивое, сонное, почти оцепенелое и, нащупав купальник, стараясь не потревожить спящего Петю, бесшумно раздвинула полог палатки и выбралась наружу. Ей захотелось искупаться в одиночестве и безмолвии, и она пошла к воде, застывшей в безграничных берегах, отсвечивающей тяжелым тусклым свечением; в самой середине неба и моря красовалась рыжеватая луна, казалось навсегда застывшая и неподвижная. Остановившись у самой воды, Оля подняла к ней лицо, крепко зажмурилась; завораживающий лунный свет рвался в нее, проникая в каждую клеточку; древние крымские горы со стершимися вершинами неясными грядами уходили к мглистым горизонтам. Оля оцепенело осмотрелась. Луна была невероятная, каждая песчинка под ногами жила и сверкала; случайно задев узкой, ступней пучок старых водорослей, она увидела побежавших к воде мелких крабов; тут она заметила и в самой воде, лениво, чуть заметно плещущейся у берега, светящуюся, неугомонную жизнь. Напомнила о себе и земля; знакомый уже, глухо, медленно затухающий крик донесся до нее, нарушая внутреннее состояние счастья и какое-то редкой, никогда ранее не испытываемой гармонии, покоя; именно этот непривычный звук разбудил ее. Нахмурившись, привыкая к острому запаху йода, она медленно вошла в море и поплыла, разбрызгивая тяжелую сверкающую воду, и уже далеко от берега, перевернувшись на спину и раскинув руки, замерла, и скоро странное незнакомое чувство полнейшего своего исчезновения, растворения в усиливающемся лунном потоке охватило ее, и она, сопротивляясь, стала говорить себе, что так не бывает, и луны такой не бывает, и одна ночь не может столько вместить, и просто с ней случилось нечто необъяснимое, все стронуло и перемешало…
Она любила быть в море долго, но теперь все время помнила о Пете, и мысль о том, что он может проснуться без нее, заставила ее поторопиться. Она вышла на берег и едва не вскрикнула: совершенно пустынный в этот самый глухой час ночи, затопленный луной берег ожил, и мимо нее прошел не глядя хмурый старик, костлявый, с худыми слабыми ногами в нелепо болтающихся шортах. Случайно взглянув на нее и по инерции сделав еще несколько шагов, он остановился и оглянулся; прошел мимо не мальчик уже, но еще и не юноша, тонкий, высокий человек в глухой и зыбкой поре безвременья и, слепо скользнув глазами по ее лицу, замер словно вкопанный; в неустоявшемся лице мальчика полыхнул густой до темной бронзы румянец, восхищенный взгляд окреп, в лице проступили черты мужчины. И почти сразу же Оля оказалась окруженной компанией полуголых, в одних плавках, бродячих студентов с огромными рюкзаками, волосатых, выгоревших, обросших молодыми бородками; не снимая рюкзаков, гремя подвешенными к ним котелками, они в один момент закружились вокруг нее в диком танце, уговаривая идти с ними в поход, признавались в любви и верности, предлагали руку и сердце, корчили уморительные рожи и всячески пытались обратить на себя ее внимание; отжимая намокшие волосы, она медленно шла в их шумном сопровождении к палатке, и улыбка на ее лице хранила ту же тихую и непостижимую тайну, И тогда самый неприметный и сообразительный из студентов воскликнул:
— Братцы, здесь нам не прохонжа… она же влюблена!
Новость вызвала новый прилив веселья и шума; стали требовать, чтобы она непременно указала, в кого из них влюблена; только теперь, казалось, заметив их, Оля, остановившись, оглядывая веселившихся студентов и ни к кому в отдельности не обращаясь, сказала:
— Влюблена, а что?
— В кого? В меня, вот в него… нет, скорее в Мишку? Или вот в того, с бандурой? Признавайся, девушка, пожалей наше мужское братство…
Оля хотела попросить их не волноваться напрасно и но успела; из палатки вышел разбуженный шумом Петя и, ничего не понимая, смотрел на нее в окружении полудюжины почти голых дикарей; забывая обо всем, она пошла к нему, и студенты покорно расступились.
— Б-а-а! — сказали они почти в один голос. — Теперь понятно, вопросов нет… Айда, друзья, вперед, осталось на земле нечто заповедное и для нас… только — вперед!
И вслед за тем вся бородатая компания дружно устремилась дальше, к Кара-Дагу, а Оля в ответ на недоумевающий и встревоженный взгляд Пети рассмеялась.
— Ты чуть-чуть не проспал, меня едва не утащила бродячая орава, — сказала она. — Очень симпатичные ребята.
— Вот как… кто же они? — нахмурился Петя, поглаживая ее влажные после купания плечи. — Слушай, Оля…
— Вероятно, первокурсники, ужасно храбрые и бывалые, — сказала она, кладя ему на грудь узкие прохладные ладони. — Еще совсем мальчишки… Ночь, луна, а вот они бродят. Ты спишь, они — бродят…
— Ну ты и скажешь — мальчишки… Мужчины, уже мужчины! — сказал Петя, строго поправляя ее. — За тобой, оказывается, глаз да глаз нужен… Мальчишки! На ходу подметки оторвут… Но почему ты сама не спишь?
— Не могла, — сказала Оля. — Не знаю, проснулась и не могла больше спать, пошла искупаться. Вода теплая-теплая, густая… Плыву и от луны сама себя вижу… А тут эти ночные призраки… Что за ночь сегодня… так не бывает, я знаю…
— Бывает, бывает, — стал уверять ее Петя. — И чего они по ночам бродят? Что такое с народом случилось? Бродят, бродят по ночам…
Взяв его руку, Оля повернула ее, поцеловала в широкую ладонь (он почувствовал ее теплое, сдерживаемое дыхание), положила его руку себе на грудь.
— Милый ты мой, несуразный, — прошептала она. — Я знаю, чего тебе недостает, только ты этого не найдешь… Истина — это я и ты, мы вместе… большей истины нет в мире, другой истины не придумали люди… В конце концов ты все равно вернешься ко мне, сколько бы ни метался и ни бродил, вот увидишь, вернешься. Хотя что же это я говорю? — спросила она и вздохнула. — А я почему такая? Мы долго не сможем вместе, я знаю, мы слишком разные… но я же не жалею… Ведь так хорошо можно жить… Да нет, что я говорю, наверное, так надо, ты в себе не волен и я тоже… Правда? А кто в себе волен? Я тебя не держу. Слышишь? Делай, как тебе лучше…
— Не говори чепухи, — попросил он, и рука у него отяжелела. — Не знаю, как ты, а я ничего больше и не собираюсь менять, с чего ты взяла? В последнем нашем разговоре Лукаш мне очень не понравился, намекает на что-то… чего-то он недоговаривает. Что-то там происходит в Москве вокруг Обухова, я же совершенно ничего не знаю. Совсем оторвался за время болезни… Но это же совершенно не касается наших с тобой отношений.
— Петя, а может быть, тебе нужно слетать на пару дней в Москву? — спросила она, приподнимаясь, чтобы лучше видеть его лицо. — На месте все сам и узнаешь, никакой Лукаш тебе не нужен и не страшен.
— Ты думаешь?
— Ну конечно! И сразу во всем будет ясность.
— А что? Может, ты и права… С билетами, правда, трудно.
— Чепуха! Достанем! Только знаешь что? У меня есть к тебе просьба… Обещай, что выполнишь?
— А что?
— Нет, ты обещай!
— Ну, конечно, выполню. Только скажи, что?
— Ну просьба, каприз… Хочу встретить восход солнца на Кара-Даге, на этой Черной горе…
— Ты, наверное, ведьма, угадала мое желание… Полнолуние, представляешь эту застывшую сказку?.. Давай быстро переоденемся и айда. Что с тобой? — спросил он, прижимая ее к себе. — Тебе холодно?
«Сейчас закрою глаза, — подумала Оля, — и все исчезнет. Ничего ведь нет и не было, мне все только приснилось. Ни моря, ни Пети, ни луны, ни этого тоскливого крика, ни этой несчастной, порочной птицы, все, все — мираж; все я сама придумала… Это не любовь… Болезнь, какое-то наваждение, так не любят, это болезнь…»
По привычке в трудные моменты крепко зажмуриваться она сжала до боли кулаки, так что ногти впились в ладони, затем потянулась, поцеловала его и стала быстро собираться; натянула на себя спортивный костюм, нашла сумки и сложила в нее необходимое; Петя тоже возился рядом, сопел, натягивая кеды, затем спросил, не забыла ли она взять воды.
Стояла редкая тишина, словно мир обезлюдел; даже море не слышалось. Близилось утро, и луна заметно побледнела, мягкие очертания гор начинали сильнее размываться в небе, терпко пахло выброшенными в шторм и начинавшими подгнивать водорослями.
Тоскливый крик опять донесся со стороны парка и снова неприятно тронул сердце, Оля даже не смогла усмехнуться своей странной слабости и подумала, что древний магический символ, маленький скарабей на груди что-то молчит… Все, сказала она себе, сейчас мираж рассеется, все станет на свои места… Сказать или не сказать про этого несчастного Прошку, думала она дальше, что-то он сегодня особенно нехорошо кричал; но тут Петя, застегнув полог и топая кедами по песку, проверяя, удобно ли обулся, сам услышал тоскливый крик, донесшийся со стороны поселка, и замешкался, провел рукой по волосам и стал размышлять вслух, не отнести ли в парк по пути хлеба с водкой.
— Давай лучше его самого прихватим, — сказала Оля, — это он меня и разбудил… В самом ведь деле, утащим — и все…
— Странно все это, — сказал Петя. — Нет, представляешь картинку? Сдохнет он там, в горах, или лисица его сожрет… Какая разница, здесь или там? Ты, наверное, шутишь?
— Нет, я не шучу, — сказала она с чисто женской непосредственностью. — И потом, мы же договорились, ты обещал…
— Ну, если обещал, отчего же, — сказал Петя уже совершенно иным голосом — тепло, чуть насмешливо.
— Конечно, обещал, — подтвердила она. — Потом, то, что происходит здесь, в парке, действительно отвратительно. Чтобы сделать доброе дело, не надо столько раздумывать…
Они понимали теперь друг друга с полуслова и шли быстро, бесшумно, как заговорщики. Пустынным берегом они выбрались к спящему, залитому луной поселку; уже в парке им стал слышен глухой нарастающий шум, и, сами того не желая, они оказались в центре ночной драки. Слышались придушенные всхлипы, тупые удары, порой прорывался яростный жаркий вскрик; густо мелькали сцепившиеся полуголые люди; в прохладе южной ночи остро тянуло запахами разгоряченных мужских тел; откуда-то из-за кустов выскочил бородатый великан с высоко поднятой гитарой; Петя успел оттолкнуть Олю под высокую тую, присел, и полуголый, в одних плавках, великан от неожиданности перелетел через него. Сухо треснула переломившаяся гитара, и упавший, подхватившись, с коротким рыком пошел на Петю, которого неожиданная, веселая нарастающая ярость бросила противнику навстречу, тело обрело уверенность, мгновенную реакцию, и великан, наткнувшись, казалось, на случайный несильный толчок, подломившись, грузно рухнул; почти в тот же момент на Петю обрушился удар сзади в голову чем-то тяжелым, и он, загребая ногами, пошел, пошел куда-то в сторону от бетонной дорожки. Подоспевшая Оля, подхватив его, не удержала, охнула и оползла с ним на землю. Она сильно испугалась, у нее даже перехватило голос, она хотела было бежать и звать кого-то на помощь, но Петя успел удержать ее.
— Как я его свалил, а? — изумился он сам себе, потряс головой, словно проверяя, все ли на месте. — Нет, ты видела, как я его в одно касание? Видела?
— Петя, я просто слов не нахожу. Открытие за открытием, оказывается, ты еще и драчун, — сказала она таким голосом, словно видела его впервые.
— Представляешь, рука… рука сама все вспомнила… я ведь в секцию бокса ходил, ну-ка, где они тут затаились? — спросил он, легко вскакивая на ноги, но она тут же вцепилась в него обеими руками, и оба, оглядываясь, расхохотались. Это было поразительно, драка прокатилась, рассыпалась, словно ее никогда и не было, в парке по-прежнему властвовала лишь луна, высвечивающая каждый листок, каждый камешек на дорожке.
— Фантастика, — сказал Петя, вновь и вновь озираясь по сторонам и прислушиваясь, — куда они все подевались? Ты что-нибудь понимаешь?
— Ах ты, забияка, тебе мало, да, мало? — спросила она, внимательно ощупывая ему голову. — Вот вот, начинает вздуваться… ну, счастье твое, крепкая же у тебя голова… я думала, надвое развалится. Надо бы пятак приложить, да где же его взять. Вот разве камешек… Пойдем, там в пансионате должна быть медсестра…
— Чепуха, пройдет, — засмеялся он. — Все равно не отступим, завтра надо за билетом…
— Нет, Петя, надо вернуться, тебе необходимо полежать.
— Ни за что! Нельзя отступать от намеченного… Пойми, ничего не повторится, ни эта ночь, ни Кара-Даг, ни даже эта драка. Поэтому нельзя изменять себе, чем бы это ни грозило.
Как два заговорщика, время от времени молчаливо подбадривая друг друга, они подошли к детской площадке в парке и остановились. Нигде не было ни души, лишь Прошка смутно и тревожно вырос перед ними, от луны его перья были темными, гладкими и блестящими.
— Ты готов? — негромко, с будничной деловитостью спросил Петя. — Если готов, пора… Мы поспеем на Кара-Даг как раз к рассвету… А почему ты один, где Машка? — добавил он, наклоняясь к лебедю и оглядываясь.
— Петя, я боюсь, он так смотрит… Может, не надо, а?
— Ну уж нет, раз решили, задуманное надо исполнять до конца…
Прошка тревожно вытянул длинную шею, ожидая; шагнув в сухую траву, Петя взял его, поднял и про себя удивился: старая птица оказалась неожиданно тяжелой.
— Ну, давай, старина, прогуляемся, хватит здесь ошиваться, тешить дураков, — попытался Петя подбодрить себя, пристраивая Прошку под мышку и вполголоса окликая Олю; боковой тенистой аллеей они выбрались из разросшихся крымских акаций и скоро уже быстрым шагом шли безлюдным берегом моря. Затем, минуя поселок, стали подниматься знакомой тропинкой в горы; Прошка, то опускавший голову до земли, то вновь поднимавший ее, тяжелел все больше. Петя остановился передохнуть и опустил Прошку на каменную сыпь рядом, и тот, неловко переступая ногами и устраиваясь удобнее, зашуршал галькой.
— Смотри, он меня принял за своего, ждет водки, — раздумчиво сказал Петя. — Тебе не кажется странным, он не кричит, не вырывается… а?
Примериваясь к тишине, он невольно приглушил голос; Оля промолчала; луна опускалась за рубчатую цепь гор; словно прилепившись к одной из острых вершин, ярко-золотистая, с неровными дымчатыми пятнами, она медленно уменьшалась, скрываясь; вот осталась лишь тонкая полоска серпа, горы на глазах словно втянули ее в себя. Горы сразу придвинулись, море потемнело, выпуклой, тугой чашей оно чувствовалось где-то далеко внизу, ни всплеска, ни огонька — сплошная глубокая, притягивающая тьма. Прошла незнакомая запоздалая тоска об оставшемся теплом и знакомом мире там, внизу, и чувство свободы от всего, что уже не принадлежало ей, словно очистило душу окончательно; ничего лишнего, ничего ненужного не оставалось, лишь тоненько-тоненько звенело в висках. Промытые звезды высыпали из глубокой тьмы, они перемигивались, переговаривались между собой в недоступной вышине, точно не было никогда ни земли, ни Пети с Олей, ни их маленьких земных дел.
— Ну что, что я тебе говорил? — раздался тихий голос Пети.
— Да, да, я еще никогда такого не испытывала, — отозвалась она. — Знаешь, мне кажется, нас вообще уже нет, мы были не нужны и сгинули…
Они опять надолго замолчали, отъединенные сейчас и друг от друга. Малейшие признаки человеческого присутствия окончательно исчезли, земные запахи растворились, даже места обитания диких туристов, расщелины, укрывающие обычно их палатки и безобразные следы кострищ с выгоревшей землей и остатками золы, обугленных костей, консервными банками и бутылками, были укрыты темнотой. Прошка тоже перестал возиться и переступать грязными склеротическими лапами и странным образом притих, точно что-то вспоминая. Много лет лишенная простора неба, естественного движения, грузная старая птица с грязными, обтрепанными перьями построжала и шумно встряхнулась, треща крыльями, даже оперение ее точно посвежело. Что-то помешало Пете взять отчужденно молчавшую птицу и двинуться дальше. Поглядывая на застывшего в сторожкой позе Прошку, плотно облитого темнотой, Петя и сам ощутил какое-то странное состояние легкости, невесомости; казалось, от малейшего дуновения ветерка он мог легко оторваться от земли и унестись неведомо куда. Различив чье-то шумное дыхание и цоканье копыт о щебенку и прикосновением руки успокаивая вскочившую было Олю, он остался на месте. Из темных кустов у подножия невысокой скалы вышла белая лошадь; то и дело обмахиваясь хвостом, она прошла мимо, постукивая копытами о камни, и скрылась.
— Ну вот, ночь чудес, — засмеялся он, встал и помог встать Оле, велел ей не отставать, взял Прошку, уже не удивляясь невозмутимости птицы и своему чудачеству (ему почему-то теперь казалось, что решение с Прошкой принадлежит ему одному), и они двинулись дальше. Время от времени Петя останавливался и, забывая об Оле, чутко прислушивался, точно опасаясь погони. Они поднимались все выше и выше, и вслед за ними неотступно двигалась какая-то черта, непроницаемо отделявшая их от остающегося внизу, привычного и уже чужого, больше им не принадлежащего, призрачно расстилавшегося внизу мира. Они теперь даже если бы и хотели, не смогли бы уже повернуть назад, внизу ничего не было, ни земли, ни моря, одна густая тьма.
Ничего не говоря, Петя всякий раз глядел в небо, на вершины выступающих из темноты гор, с каждой новой минутой резче и ближе врезавшихся в светлевшее небо и неудержимо притягивающих к себе… Он подчинялся их зову; он ощущал какую-то странную, властную силу, исходящую сейчас от старой птицы, точно приказывающей ему подниматься все выше и выше; теперь уже словно чужая, посторонняя воля управляла им, но страха не было, просто было нужно подчиниться сейчас непонятному властному зову гор и двигаться дальше. И дело даже было не в несчастном, погубленном людьми прекрасном существе, дело было не в Прошке, а в нем самом. Предстояло совершить что-то, необходимое для себя, для своей души, и он совершит это и поймет что-то необходимое для всей его дальнейшей жизни. Конечно же, права Оля, как всегда, права. «Да, да, — продолжал свой нескончаемый спор с кем-то Петя. — Да, да, я из породы современных молодых людей, молодых суперменов, которым с колыбели в обеспеченных московских семьях вдалбливалась в голову мысль об их исключительности, чуть ли не гениальности, что из того? Еще не научившись говорить, я уже уверился в этом. Хорошо, пусть школу за меня заканчивала мама, а в институт поступал папа; пусть затем они совместными усилиями одолели диплом для своего отпрыска, вся гениальность которого заключалась прежде всего в том, что его уже заранее совершенно ничего не интересовало. И то правда, что я был почему-то уверен, что мне ничего не надо добиваться, что все само собою придет, что я отмеченный и призванный некими высшими силами, осуществляющими контроль за равновесием на земле, что мой звездный час наступит в свой срок и я совершу предназначенное. Что из того, что пока ничего значительного не вышло? И пусть Лукаш меня ненавидит, это его дело, зато я теперь знаю, чего хочу… Завтра же… нет, теперь уже сегодня достать билеты и улететь в Москву, немедленно отыскать Обухова, а дальше все само собой образуется, — продолжал думать Петя, упорно и медленно поднимаясь выше и выше. — Лукаш пугает, многого недоговаривает… но что-то нехорошее, конечно же, происходит. Совсем не поздно начать все сначала, вот главное. Не откладывая, завтра же, то есть сегодня же сделать предложение Оле, жениться и сегодня же улететь в Москву, вернее, улететь вместе и больше не расставаться. Дудки, из глупой фанаберии упустить редкостную девушку и остаться с носом? И никакой избранности нет, нужно перестать метаться, взять с собой Олю и улететь к Обухову. Нужно всерьез браться за дело. Хорошо, что Оля прилетела сейчас, когда он чувствует себя значительно крепче. Крым сделал свое дело. Мать Алена, конечно же, ошиблась, все-таки он из породы везучих, пусть он ничего не может объяснить, теперь все в его жизни окончательно наладится, хватит, никаких болезней нет и не было».
Посильнее зажав под мышкой начавшего сильно рваться Прошку, пробормотав успокоительное: «Потерпи, потерпи», он обошел знакомый, вольно разросшийся у самой тропинки отсыревший кизиловый куст; здесь тропинка шла по крутой каменистой осыпи, он чуть не съехал вниз и, перегнувшись, с трудом удержался; в нем начинала подниматься досада на себя. «Зачем это я его тащу, идиот, — думал он теперь, — тоже гуманист выискался… надо найти щель потемней, сунуть его туда незаметно, сказать что вырвался, пропал, и дело с концом…»
Второй раз они остановились уже недалеко от цели, у почти рассыпавшейся от времени скалы, напоминавшей фантастического, вставшего на дыбы коня. Оля тотчас без сил опустилась на зашуршавшую щебенку, вытянув отекшие ноги и с трудом сдерживая слезы; она молча протянула бутылку с водой Пете, потом сделала несколько глотков сама и откинулась на спину, привалившись к обломку скалы. Осторожно опустив напрягшегося Прошку на щебнистую россыпь рядом с собою, Петя выпрямился. Вокруг простиралось ровное, слегка повышающееся в сторону близкого моря небольшое плоскогорье, сплошь усеянное причудливо выветрившимися скалами, наполовину разрушившимися; Петя любил это безлюдное место и часто бывал здесь. Его всякий раз зачаровывала мощная, необузданная фантазия природы, и он подолгу бродил среди сказочных, невиданных форм замков, крепостей, каких-то гигантских, каменных существ, и в разрушении не утративших порыва замершего словно на мгновение движения. Именно здесь он безошибочно чувствовал, что человек не зря терпел поражение в соревновании с неистощимой фантазией природы — его творения были всего лишь бледным отражением могущества неведомых космических сил; в душе начинал звучать какой-то торжественный гимн, голова кружилась, и сердце начинало усиленно биться; Петя опускался на камни и весь отдавался наполнявшей его, засасывающей, разраставшейся музыке гор…
Он и сейчас завороженно скользил глазами по причудливым скалам, как бы свободно плавающим в тусклом свете занимающегося рассвета; время от времени с крутых склонов как-то сама собой начинала ссыпаться мелкая щебенка, неудержимо захватывая в своем движении и мелкие камни. Трава, высохшая от летнего зноя и долгого отсутствия влаги, низкие, колючие кусты в редких расщелинах тоже принимали иногда причудливые очертания; все живое здесь растворялось в камне; он чувствовал себя чужим и враждебным этому мертвому царству камня и даже не от этого, враждебного всему живому, мертвого мира; в нем сейчас столкнулись два начала, две разные стихии, и с каждой новой минутой усиливалось страдание обновления, ему мешала старая оболочка… Ему послышался долгий, не сразу замерший звук, точно гора взялась снизу доверху извилистой трещиной, и тотчас каким-то внезапным эхом отозвался гулкий в пустоте гор, стонущий голос Прошки, не тоскливый, как прежде, а звонкий, молодой. Метнувшись глазами к молчавшей до сих пор птице, он озадаченно помедлил; Прошка стоял строгий, стремительный, весь облитый гладкими блестящими перьями, и Петя с забившимся сердцем оглянулся на девушку, полностью захваченную открывшейся ей фантастической красотой каменного безмолвия. «Ну же, ну! Давай, брат!» — заторопился он, и совершенно ничего больше не понимая, ощущая упругость и свежесть теперь словно горящих белым огнем перьев, шагнул по каменистой площадке, к самому краю бездны, дышавшей прохладой, отвесно уходящей в море, и сильно, от себя, швырнул Прошку вниз, в сплошную, бездонную тьму, подальше от края, чтобы он в падении еще до воды не разбился о камни. И сразу же до самых отдаленных горизонтов слетела тьма и открылось море; и случилось нечто непостижимое: Прошка, некоторое время падавший, уродливо кувыркаясь, с шумом развернул огромные, сильные крылья, невероятно круто взмыл, его словно освещал все время невидимый луч. Неотрывно следя за полетом этой странной птицы, Петя замер, и только когда белый вихрь стремительно ринулся из черной высоты прямо на него, он, угнув голову и попытавшись закрыться руками, отскочил от края пропасти. Было поздно, его охватил какой-то бешеный огонь, сильные крылья обрушились на него со всех сторон, и он, оглушенный и ослепленный, пытаясь удержаться, рванулся к земле, и из-под ног у него исчезла опора. Он просто забыл о ней в этот момент. Встречный воздух хлынул в него, разрывая горло и легкие; он уже в полете почувствовал, как уплотняется, вытягивается тело, исчезают ноги и руки, голова уходит в туловище; и все же, прежде чем удариться о воду, он заметил, что рядом с ним беспорядочно мелькают крылья Прошки, белый, искрящийся блеск в них тускнел — они падали вместе, отчаянно хватаясь друг за друга, переплетаясь руками и крыльями, и, взметнув высокий каскад холодно сияющих брызг, вместе исчезли. Море сомкнулось над ними, и только над безмолвными вершинами Кара-Дага все ярче разгорался рассвет. Полнеба уже полыхало бледным предрассветным заревом; и в самый последний момент Петя словно увидел продолжение своего недавнего сна — и громады гор, и само море охватил стремительный, ревущий, творящий новые, неведомые, ужасающе прекрасные миры огонь; в один миг горы раскалились, засветились, вспучились и взлетели в багровое, в рваных черных прожилках, небо — и остался один ревущий огонь.
«Так, значит, они все-таки взлетели…» — только и успел подумать Петя, окончательно, без всякой боли исчезая.
Книга вторая
1
Голубоватое пятно, вверху уменьшаясь, быстро отдалялось, и уже где-то на полпути стал подступать непонятный озноб — Денис едва удержался и не потребовал у деда поднять его назад, наверх к солнцу. И в то же время от плеснувшегося в нем предчувствия ухода в иной, потусторонний мир, с его совершенно неизвестными законами и правами, он, подтрунивая над собой, продолжал медленно и молча спускаться в промозглую сырость; дубовые плахи колодезного сруба, напитанные тяжелой подземной влагой, ползли мимо, отсвечивая тусклой прозеленью, слизь в глазах венцов, покрывшись кое-где бледным мхом, затвердела неровными вздутиями. Если Денис задевал стену колодца лопатой на коротком черенке или ведром, наросты обваливались и падали вниз. Узкое лицо деда, выделяясь сверху небольшим серым пятном, успокаивало; достигнув дна, утвердившись в вязком полужидком глее — особой синеватой глине, плотно затягивающей подземные родники в колодцах по всей зежской округе, Денис помедлил, осматриваясь и привыкая, затем, слегка повысив голос, крикнул ждущему вверху леснику, что ключ затянуло и вода совсем не идет. Часа два он работал молча, накладывая в ведра тяжелую синюю глину; лесник, включая лебедку, поднимал ведра наверх, опорожнял и тут же опускал обратно — куча вязкой, серебристо-иссиня отсвечивающей глины возле колодца, рядом с колодой медленно росла. По собственному опыту зная о тяжести работы внизу, на дне колодца, лесник уже несколько раз предлагал правнуку отдохнуть и погреться, но у того имелись своп планы, и он торопился; пока лесник выволакивал одно ведро, Денис успевал наполнить второе; глей становился тверже, и его приходилось отрубать небольшими кусками. Попалось несколько старых, давно упущенных ведер, съеденных ржавчиной, затем немецкий автомат, а дальше Денис наткнулся на небольшой железный ящик с ручками, похожий на несгораемую кассу, и, обкопав его со всех сторон, сообщил об этом наверх. Лесник забеспокоился, приказал тотчас бросить работу, ничего больше не трогая, поскорее подыматься наверх, и Денис, знавший о прошедшей по местам свирепой военной неурядице лишь по скупым рассказам старших, с трудом успокоил его; лесник спустил в колодец конец еще одной капроновой веревки, короткий лом, и Денису удалось, наконец, вырвать ящик из глея, надежно обвязать его. Выпрямившись, подняв голову, он неожиданно увидел крупную звезду, бледно светившую в далеком небе рядом с головой деда, торчавшей над краем колодца; он заторопился и скоро, с наслаждением чувствуя отсыревшей кожей лица теплый сухой ветерок, щурился на яркое солнца. С помощью той же лебедки выдернули на свет Божий загадочный ящик, внимательно осмотрели; по прежнему опасаясь подвоха от погулявшей досыта в этих местах далекой войны, лесник предложил оставить непонятный предмет в покое, а самим пока пообедать.
— Ты, дед, совсем пуганый, — улыбнулся Денис, отогреваясь после долгой работы в глубоком колодце и все еще блаженно щурясь на солнце. — Давай ломом ковырну, ясно же, вот крышка…
— Погоди! — вновь остановил его лесник. — Сказано, пообедаем сначала, в колодце-то что?
— До последнего венца добрался, а воды нет. Может, еще на штык снять?
— Дело покажет, — ответил лесник не сразу и недовольно, вновь вспоминая про жалобы в разных селах в округе на пересыхание самых глубоких колодцев. За столом, занятый своими неотступными мыслями, он, приготовляясь к основательной еде, не спеша выпил кружку квасу, шибанувшего в нос крепким медом; Денис же, разгоряченный работой, обжигаясь, наскоро похлебал дымящегося борща, съел миску мятой картошки с мясом, запил молоком и вышел; последний год правнук начал покуривать, и лесник подумал, что тут уж ничего не поделаешь, время свое берет, но едва успев проглотить несколько ложек наваристого, с молодым укропчиком борща, он услышал глухой звон и, бросив ложку, под встревоженным взглядом Феклуши выскочил на крыльцо. Он не успел крикнуть, правнук, набравший в последние два года перед окончанием школы и в росте, и в твердости характера, высоко подняв тяжелый лом, в очередной раз ахнул по загадочному ящику, поставленному для удобства на землю боком. Крышка отскочила, ничего особенного не произошло. Лесник, не зная, сердиться ему или махнуть рукой, раз уж дело сделано, хотел было возвращаться к столу и спросил:
— Ну что, пустой? Глина?
— Иди-ка сюда, дед, — отозвался Денис, не отрывая глаз от ящика. — Не пойму… Деньги, кажется…
Покачивая головой, лесник не спеша спустился с крыльца, подошел к колодцу и сразу же присел на корточки: ползущая из ящика какая-то серая вязкая масса была густо испещрена желтыми кружочками еще царских десятирублевок. Поняв по ошарашенному взгляду деда, по его голосу, несколько раз повторившему на разные лады свое излюбленное «ну и ну,», важность случившегося, Денис сбегал с ведром к колдобине, принес воды и плеснул в ящик, затем вместе с лесником стал выковыривать из него содержимое.
— Ну и ну, — опять не удержался Захар, — ну, едрена-матрена, а я-то думаю, ну и тяжесть, глеем, что ль, заплыл? Да погоди ты, полегче, попортишь чего…
— Да, дед, гляди, наган, — сказал возбужденный Денис, извлекая из ящика продолговатый пистолет с тяжелой рукояткой, украшенной золотыми, с затейливой насечкой пластинами. — Старый, вон как умели… Я его в керосин положу…
— Сказано, погоди, — подал голос лесник. — Давай, выворачивай остальной припас…
На очереди оказался полурасползшийся сверток в брезенте, со слипшимися намертво бумагами и пачками, очевидно, каких-то, судя по размеру и проступавшему на них рисунку, незнакомых денег, затвердевших в камень. Предположив, что это тоже, верно, еще царское старье, Денис тотчас хотел с ними и расправиться, но лесник остановил: они перенесли все под навес, бумаги и деньги разложили на ветерок для просушки, пистолетом решительно завладел Денис, с обещанием отчистить его до блеска, десятирублевки лесник, ссыпав в банку из-под краски, засунул подальше в угол, забросав сверху всяким хламом..
— Дед, а дед, — спросил Денис, продолжая любоваться пистолетом. — Как ты думаешь, откуда такое на кордоне?
— В наших местах в войну всякое было, кто теперь след-то ухватит? Может, по бумагам разъяснится, вроде проступают знаки…
— Где-нибудь в лаборатории, вероятно, разберут… Дед, а это что — золото?
— Думаешь, я много золота видел? — усмехнулся лесник. — Бес его знает… Видать, оно, сколько в глине пролежало, никакой черт его не взял — глаз колет…
— Здорово, — _обрадовался Денис. — Давай, дед, зубы тебе сделаем… знаешь, сразу другой коленкор… В самом деле, дед.
Сердито глянув на расходившегося парня, лесник не удержался и пощелкал себе согнутым пальцем по лбу.
— Вроде у тебя котелок надежный, а порой ляпнешь, хоть стой, хоть падай… Ты вот в город к вечеру собирался, смотри… цацки из дома не выноси… да, заскочи к Воскобойникову, скажи, дед просил приехать… больше ничего не говори, никому ничего не говори… слышишь, ни слова, а то от нас с тобой, да и от кордона один дрызг останется… Оглянуться не успеешь, придушат, народец-то вострый пошел…
— Тут, верно, на машину хватит. Хорошую девчонку с ветерком-то до самого Киева, эх! — шутливо предположил правнук, со смуглым молодым румянцем в лице и с переменчивой шалой синевой в смеющихся глазах, и лесник, хотя и сам довольно смутно определявший подлинную ценность свалившейся им на головы чьей-то захоронки, тоже не удержался от усмешки.
— Коли оно золото, не на одну машину потянет, девку на каждую достанет посадить, — предположил он, и Денис, поморгав, лишь длинно и выразительно свистнул; после этого они дообедали в обоюдном молчании, и лесник, пока пыл не пропал, попросил правнука вновь слазить в колодец, снять там целиковой глины еще лопаты на две, что и было сделано. После этого тихонько чмокнуло в одном из углов колодца, подземный ключ ожил, залопотал, вода стала разливаться по дну колодца и прибывать; выбравшись наверх, Денис несколько минут полежал на спине, затем, повозившись с пистолетом, по совету деда опустил его в керосин, а сам еще часа полтора складывал под навес наколотые накануне дрова, белевшие высокой грудой возле дровяного навеса. Несмотря на яркий, погожий, казалось, совершенно бесконечный день, лесник опасался дождя; ломило поясницу, и он, передохнув, помог правнуку закончить работу. Вымывшись в колдобине и переодеваясь в приготовленную еще с утра одежду для города, Денис, почувствовав на себе потяжелевший взгляд деда, оглянулся, встряхнул головой, откидывая назад непросохшие, съехавшие на глаза, выгоревшие волосы.
— Иди, посидим немного, — предложил лесник и кивнул в сторону скамейки. — Не торопись, свое наверстаешь, по молодости всегда кажется, не поспеешь…
— А я никуда и не тороплюсь, — небрежно сказал правнук, подошел, сел рядом, запрокинув голову, прижмурился на жаркое солнце. — У-ух, хорошо… знаешь, я на старых гарях лосей видел… матку с двумя телятами… земляники там — горстями насыпано.
Тотчас и Дик, до того наблюдавший за ними со стороны, положив голову на передние лапы, встал и перебрался поближе к хозяину; пес за последние годы заматерел и стал заметно стареть, теперь он уже не различал самые потаенные лесные звуки и шорохи, шерсть у него блекла, теряла блеск, незаметно приобретая неопределенный, буроватый цвет; шевельнув острыми ушами, пес, взглянув на лесника, скосил глаза на Дениса, затем, вслушиваясь в донесшийся откуда-то непривычный, посторонний звук, сел и втянул в себя воздух.
День перевалил за половину, по небу еле заметно тащились редкие, легкие белоснежные облака.
— Слушай, парень, ты что-нибудь надумал? — неожиданно подал голос лесник, давно готовившийся к предстоящему и неизбежному разговору и никак не решавшийся начать его, и теперь, чувствуя свою беспомощность, все больше сердился на себя. — У тебя за пазухой десять классов, о-ого! — протянул он, но правнук, по-прежнему находясь где-то далеко в своих мыслях, недоуменно поднял густые, темные брови, затем весело рассмеялся.
— А-а, понятно! Жизнь надо устраивать… так?
— Нечего зубы скалить, — почему-то ещё больше расстроился лесник. — Надо, время пришло, значит, надо… В жизни порядок должен быть.
— Какой порядок, дед? — спросил правнук, и в его затененных, налитых солнцем глазах заискрилось бездумное молодое озорство. — Я тебе, дед, надоел? — добавил правнук. — Избавиться поскорее от меня хочешь? Скажи, сам уйду, а то вон откуда заворачиваешь… Или ты москвичей наших наслушался, нажужжали про цель в жизни, про долг, всякая там ответственность перед обществом? А ты лучше сам съезди в столицу, присмотрись к ним получше! Один другому в глаза прямо не глянет, слова прямого не скажет, так и юлят вокруг да около! Все в суете да в беготне. Нет, дед, тяжело мне так, не хочу!
Подавшись в сторону внука, лесник, показывая, что не все слышит, даже ладонь к уху приложил. — этой хитростью он стал пользоваться последнее время, если не находил нужного слова в таких вот, как сейчас, неожиданных поворотах.
— Погоди стрекотать, — попросил он, опять встречая какой-то непривычно острый, по-мужски тяжелый взгляд. — Что-то не разберу… давай по порядку…
— Знаешь, дед, не хитри, — сказал, сдерживаясь и все же не скрывая своего недовольства, Денис, и у лесника стукнуло ко всему привычное сердце и покатилось, покатилось куда-то в обрыв; разгоревшееся лицо парня одним скачком отодвинулось, из затянутых плесенью глубин проступило и сверкнуло некое видение, счистилась грязь и муть десятилетий, плеснулась в душу струящаяся от зноя далекая степь, стремительно вынеслись из дымного, сухого марева безумные ненавидящие глаза, застывший в крике провал рта, и затем — короткий взвизг шашки, тяжелый, отдавшийся в руку, в плечо, во всем теле удар…
Неожиданно для себя провалившись в бездну прошлого, в изнурительные подробности давно отгоревшего дня, струящуюся, перегоревшую от зноя степь, лесник припомнил даже ощущение от удара шашки, с податливым хрустом вспоровшим ярко лопнувшее человеческое тело. Он не то чтобы испугался неожиданного видения, его поразило совпадение; в лице правнука как бы проступило, надломилось лицо того зарубленного им в незапамятные времена своего ровесника — всего один звериный удар… одно мгновение…
Опасаясь встретиться с правнуком глазами, лесник подозвал Дика и, опустив руку на его загривок, зарылся пальцами в густую шерсть; от блаженства и изумления пес затаил дыхание. Денис ничего не заметил; дед для него всегда был главным и самым надежным союзником в жизни, он давно стал для него отцом и матерью, стал чем-то даже большим — самой осмысленностью и надежностью жизни, хотя они никогда об этом не говорили, не ощущали даже такой потребности. Но сейчас ему стало тяжело рядом с дедом, он не понимал себя, своих запальчивых слов, не понимал, что с ним происходит — он никогда ничего не скрывал от деда…
— Ну, ладно, уеду… Место найдется, — пробормотал он не совсем уверенно, заметив сдвинувшиеся брови лесника и сам еще больше хмурясь. — Не веришь, не надо… Не знаю, разрывает в разные стороны… не успею сесть, куда-то тянет… Что такое, дед?
— Пришла пора, — сказал лесник сдержанно. — Говори не говори, все одна видимость, тут не словчишь. Сам мозгуй… Одно не пойму, когда ты успел вымахать с коломенскую версту? Вроде вчера вот такой, чуть выше колена, а глаза продрал, вроде ты за одну ночь в оглоблю вымахал…
— Ладно, дед, тебе так кажется, а мне совсем по-другому, — откровенно радуясь примирению, с облегчением засмеялся Денис, сверкнув крепкими зубами. — Мне-то совсем наоборот, с утра никак вечера не дождусь… тянется время, тянется, чего только не передумаешь… Дед, скажи, а ты хоть помнишь себя молодым… ну, с женщинами… ты, дед, не подумай ничего такого…
— Ну, наука нехитрая, одолеешь, — сказал лесник с усмешкой, неловко, с любопытством покосившись на правнука и тут же отводя взгляд в сторону. — Баба она тоже человек, меня, парень, бабы только и спасали от лютости жизни. Горло перехватит, ни дохнуть тебе, ни крикнуть, а коли настоящая баба рядом — отходит помаленьку, отогревается нутро…
Лесник замолчал, и Денис, подождав, не добавит ли он еще чего-нибудь к своим словам, некоторое время обдумывал услышанное.
— Знаешь, дед, я о другом спрашивал, — прикрывая смущение наигранным смешком, сказал он. — Такую женщину теперь, пожалуй, не сразу встретишь. Скорее всего, не сразу. Ну, а вот так… понимаешь, просто, ну… понимаешь…
— А-а, понимаю, — опять выручая его, улыбнулся лесник. — Ну, ты вглубь да вглубь, а оно по разному случается, бывает… вроде дождик слепой… брызнул, тут же обсох… Теперь, видать, бабы крепкие перевелись напрочь… В Зежск-то приедешь, на что уж ко всему привычный, глянешь, скулы сводит. Брови выдраны, волосы дыбом, штаны трещат. Голой-то, поди, даже лучше, справнее, чем в таком-то разе… Э-э, видать, пропал народ…
— Опять ты, дед, за свое! — теперь уже с некоторой снисходительностью заулыбался правнук, и лесник, подыгрывая ему, согласно кивнул. — Зачем же только со своей колокольни? Народ народом, девушки девушками… Телевизор поставили, а ты хоть раз смотрел популярные передачи? Сразу бы понял — мода есть мода, люди есть люди. Дед, знаешь, какая сейчас самая устойчивая тенденция среди молодежи среди таких вот, как я? Главное — не выпячиваться, оставаться где-то в середине, в тени.
— Про какую ты молодежь толкуешь?
— Про всякую, про свою! — не раздумывая отозвался Денис, заставляя лесника еще больше сердиться. — Думаешь, ушел на кордон, жизнь остановилась? Худо ли, хорошо — она идет. Вы меня совсем задергали, ты сегодня вон откуда заехал… Бабка пишет, дядя Петя грозится нагрянуть, а я ничего не знаю пока, ничего не чувствую… Как же мне в институт куда-то поступать? Какой институт? Зачем? Отслужу в армии, посмотрим… Я, дед, видать, самый обыкновенный обыватель получился, — весело и беззаботно рассмеялся он. — Хоть ты меня не торопи, дай осмотреться. Лучше, леса ничего не придумаешь, лучше леса ничего на свете нет. Пожалуй, по твоей стежке и потопаю себе…
Лесник несогласно засопел, завозился, но выручила Феклуша, появившаяся на крыльце и призывно махавшая руками. Она звала мужиков подкрепиться после тяжелой работы, пополдничать, и первым на ее призыв, как обычно, отозвался Дик; он приветливо шевельнул хвостом и, оглянувшись на хозяина, приглашая вслед за собой, затрусил к крыльцу, затем в недоумении остановился на полпути. Феклуша, увидев сложенные березовые дрова, пришла в восторг, слетела с крыльца, в один момент оказалась возле навеса, подобрала несколько забытых поленьев, сиявших под ярким солнцем особой белизной и чистотой, водрузила их на место, покружившись вокруг, всем своим видом выражая неизмеримое счастье, кинулась к Денису, ласково, едва касаясь, провела ладонями по его плечам и вновь уже мчалась к крыльцу.
— Ишь, рада, — проворчал лесник. — Тоже баба, кошка и кошка тебе, ей зимой тепло первое дело… С виду вроде живая да бойкая, а годов-то, может, побольше моего… Никто этого не знает. Ну, пошли, а то горько от жары…
— Больше овощей надо есть, — деловито посоветовал правнук. — Ты вот ученых уважаешь, по их мнению, витамины — вторая молодость, предохраняют даже от заболевания раком.
— Меня теперь никакой рак и без репы не угрызет, — засмеялся лесник. — Зубы искрошит, закаменело напрочь, вот, слышь, звенит, — в подтверждение своих слов хлопнул он себя в костистую грудь, топнул раз и второй в землю, и правнук, неожиданно охваченный волной острой юношеской благодарности, сдерживаясь, даже стыдясь своего чувства, сузил глаза.
— Ты, дед, молодец, — сказал он. — Хорошо мы с тобой живем, верно?
— Хорошо-то хорошо, а штуковины-то эти, как их, джинсы-то чертовы, опять пора справлять, из старых, того и гляди, выскочишь… Ну и растешь ты, парень! — покачал лесник головой, поднимаясь и обладнывая на себе пропотевшую от недавней работы нижнюю рубаху. — Мужик, бывает, до тридцати лет никак в кости не установится, прибывает. Помни, тогда самый срок и приспеет, любую влет бей, не промажешь.
Изумленно глянув снизу вверх на приосанившегося деда, Денис одним рывком вскочил, похлопал по карманам, отыскивая сигареты, махнул рукой и пошел к колодцу.
Они прямо из колоды умылись, каждый про себя продолжая думать о подступавших переменах в привычной жизни; на полдник они ели рассыпчатую пшенную кашу с топленым коровьим маслом; Феклуша приволокла из погреба горшок густой сметаны, кувшин с молоком, налила в большие глиняные кружки, заботливо пододвинула мужикам.
Гудела большая цветочная муха в окне; отяжелевший от обильной и сытой еды после долгой работы, Денис едва не задремал, испугался и ошалело вскочил.
— Ну, дед, привет, я помчался, опаздываю! — объявил он встрепанно. — Спасибо, Феклуша, спасибо, дед… Ночевать не ждите.
Гулко бухнула входная дверь; Феклуша, всегда жившая отраженным светом, взглянула на лесника, и тревога ее тотчас прошла; она стала размашисто и шумно убирать со стола. Послышался стрекот мотоцикла, и затем все стихло; вместо того чтобы на часок прилечь, как обычно, лесник вышел на крыльцо, прислушался к затихающему мотору; в душе его от недавнего разговора что-то стронулось, он совершенно отчетливо понял, что ему нужно сейчас сделать. Он свистнул Дика, приказал ему пригнать Серого и уж скоро, провожаемый Феклушей, открывшей ему воротца в изгороди, легкой трусцой скрылся в лесу.
2
Вокруг пошли знакомые поля, скоро вдали в зелени садов показались крыши; всматриваясь в знакомую картину, лесник невольно придержал коня. После гибели сына Николая и смерти Ефросиньи, не выдержавшей навалившейся новой тяжести, он ушел из Густищ, как тяжко раненный зверь, забился подальше от людей в лесную глухомань, с одним только желанием отлежаться, опамятоваться; люди со своим сочувствием, часто совершенно искренним, вызывали у него какую-то душевную оторопь; он сейчас даже не помнил, каким образом выплыл на свет Божий Демьяновский кордон, но он хорошо помнил первую ночь в пустынном заброшенном доме, слабый огонь в ночи (была уже поздняя осень, и на зорях вскидывались первые морозцы) и свое бессилие понять и объяснить неурядицу и несправедливость жизни. В ту же тяжкую ночь в беспокойном, мечущемся лесу он понял, что в его судьбе люди нисколько не виноваты, а виноват он сам, виновата его дурацкая натура в любом случае оказываться на виду у других, его характер переть напролом, подчас не разбирая дороги. Именно тогда он дал зарок знать только лес, свою работу, пока ноги носят, и вот уже больше десяти лет бывал в Густищах лишь короткими наездами; вглядываясь сейчас в крыши сел, в знакомые окрестности, он готов был повернуть коня обратно, рука у него уже напряглась, но Серый, умудренный своим опытом и возрастом, добросовестно протопавший больше двадцати верст, не захотел брать во внимание каприз хозяина и упрямо тянул к жилью и отдыху. Лесник дернул резче — Серый опять не подчинился, неловко выгнув шею, почти завернул голову назад, — и, отсвечивая потускневшим от времени белком глаза, он продолжал боком, упрямо двигаться к селу.
— Ах, паршивец, — сказал лесник, с пониманием отпуская поводья; конь, тряхнув головой, потянулся к сочной зелени клевера, и лесник, помедлив, с трудом выбрался из седла; привыкая к земле, он еще подождал, придерживаясь за луку седла, затем осуждающе добавил: — Брехлив ты стал, братец, вишь, оголодал он… Ночь для чего тебе дадена? Эх, старость не радость…
Взяв коня под уздцы, лесник потянул его за собой; и тот, думая, что его стараются по-прежнему повернуть назад, зло прижал уши и, готовясь сопротивляться, даже слегка припал на задние ноги, но, поняв, что понуждают его двигаться совершенно в иную сторону, еще раз тряхнул головой, шагнул вслед за хозяином раз и второй, а затем уже шел привычно и спокойно, лишь временами умудряясь на ходу сощипнуть с земли наиболее сочный кустик травы.
Солнце низилось над зубчатой, подернутой синеватой мглой кромкой далекого леса, когда лесник, предоставив Серому возможность попастись на сочной, зеленой траве, шагнул в широкий проход между двумя старыми, дуплистыми ракитами на густищинский погост, пробрался к нужному месту, опустился на узенькую скамеечку в железной, кованой ограде и надолго задумался, время от времени посматривая на тяжелый железный крест, на вдавленную в нем в скрещение перекладин сильно выцветшую, уже с трудом угадывающуюся фотографию Ефросиньи под стеклом.
Стояла тишина, и было полное безлюдье; старый погост находился верстах в двух от самого села, на песчаном косогоре, каким-то образом вклинившемся между лесом и озером, — «на песках», обычно говорили густищинцы, обозначая это место. «Живи, живи, а на пески собирайся, — вспомнилось леснику, и он скупо усмехнулся. — Вот, на пески отволокут, весь тебе и простор, туда с собой ничего не прихватишь, ни кубышки, ни бабы».
На могиле лесник увидел стеклянную банку с высохшими цветами, старую яичную скорлупу, пластмассовую пробку. «Портвейн пили, — подумал он. — Видать, Егорка со своей на Пасху, а то на Троицу приходили, вон и березовые ветки… явно на Троицу, — определил лесник, поднял голову, присматриваясь к еле раскачивающимся высоко вверху вершинам берез и ракит, прислушался. — А чего это я здесь очутился, а, Ефросинья? — неожиданно спросил он, и больше у нее, чем у себя. — Совсем по другому делу ехал, забрел не туда, ни сто тебе и ни двести, шиш в кармане получается». Он опять покривил губы в легкой усмешке, уже поняв, что обмануть себя не удастся; какая-то важная причина, какое-то непреодолимое внутреннее чувство заставили его вроде бы ни с того ни с сего все бросить и забыть и приехать на старый густищинский погост к могиле Ефросиньи; может, она зовет, подумал лесник опять, приспела, видать, пора; он давно приметил рядом с могилой Ефросиньи свободное местечко и, на глазок между делом прикинув, остался доволен. В самый раз хватит места, подумал он, отчего только душу не отпускает?
На его памяти в жизни прошло уже несколько поколений; одних вон Дерюгиных сколько появилось, и сыновья, и внуки, и правнуки, вот-вот жениться начнут, что же тебе быть-то недовольным. Уж кого-кого только в роду у тебя не было, куда только судьба семя твое не занесла, а тебе все неймется, все какой-то ненасытный червь грызет… И чего тебя черт с места сорвал нынче-то, ну вот приехал, ну, могилка, а дальше-то что?
Случайно глянув в сторону, он увидел за дубовым кустом двух парнишек лет десяти, внимательно в четыре глаза за ним наблюдавших, встал; солнце совсем обнизилось, незаметно для себя он просидел у могилы часа два, не меньше. Он вышел с погоста, свистнул Серого и вскоре, с любопытством осматриваясь по сторонам, подъехал к большому, в два этажа дому, к своей бывшей селитьбе. Хотя перед домом никого не (было, гостя заметили; тотчас возбужденные, повышенные голоса, вырывавшиеся из открытых окон, затихли, и на крыльцо, переходящее по новой моде не в сени, а в застекленную, просторную веранду, вышел осадистый мордастый мужик, в длинной, выпущенной из штанов рубахе, охнул, валко и грузно сбежал с крыльца.
— Никак батя! — обрадовался он. — Здорово, батя, вот дорогой гость, не ждали!
— Здравствуй, Егор, — ответил лесник, привязывая коня к жердине в заборе, — Опять шумите!
— У нас тут каждый день новость! — отозвался Егор с явной досадой и перехватил у отца повод. — Во двор заведу, сейчас, батя, сейчас. Клеверок свежий, только-только привез.
— Я ненадолго, — сказал лесник, проходя вслед за Егором, ведущим коня, в приоткрытые ворота. — Часок побуду и назад… Феклуша одна осталась, бояться чего-то одна к ночи стала.
— Ладно, ладно, батя, там видно будет. Седло сниму пока, пусть остынет, тоже потрудился, поди… Знаешь, сам хотел на кордон завтра поутру заскочить. Совсем мозга за мозгу заходит с таким народом…
— Ты, видно, забыл, зарок я дал, — еле приметно прищурился лесник, — ни родным, ни чужим ничего больше не советовать. Посижу, потихоньку погляжу…
— Ну, погляди, погляди, — мирно согласился Егор, как показалось леснику, с легкой досадой в голосе, ловко расседлывая Серого. — Завернул, и то слава Богу, народ уже черт знает что говорит.
— Ну, народ у нас громкий, только уши развесь, он уж насыплет, — проворчал лесник. — Я тоже когда-то думал — народ, народ… вот, мол, как народ, так и суд. Дурак был, про народ-то шумел… Ни народа, ни себя не знал… а вот теперь задумаюсь, посижу сам с собой, многое на место встанет… нет, Егор, ты меня не пытай, посижу, погляжу да поеду себе… Я нынче какой-то другой стал, вроде у меня нужная клепка из башки выскочила…
— Ладно, ладно, батя, — опять примирительно кивнул Егор, чувствуя прихлынувшую заботу к этому непонятному, неуживчивому под конец жизни, чудаковатому человеку, — Пойдем, баба вечерять собирает…
— Поужинать можно, — согласился лесник; он все с большим интересом присматривался к изменениям в родном когда-то доме, отметил про себя и новый кирпичный гараж, и забетонированную дорожку, ведущую от дома к сараю и к отхожему месту, и еще одну — в сад. На веранде, или «в сенцах», как про себя подумал лесник, стояло два вместительных, блестевших эмалью холодильника, год назад был только один, да и тот поменьше, и лесник искоса, с явным любопытством поглядывая на сына, все старался как-нибудь случаем не выказать своего неодобрения; он шел, деловито нахмурившись, старался глядеть прямо перед собой. Очевидно, от неожиданности, увидев перед собой человек шесть внуков, правнуков, невесток и еще неизвестно кого, он поздоровался за руку лишь с располневшей Валентиной, а всем остальным коротко кивнул:
— Ну, будьте здоровы….
От непривычного многолюдья и внимания к себе он еще больше нахмурился, прокашлялся в кулак и, решительно шагнув к большому, вместительному столу, покрытому выцветшей клеенкой и заставленному тарелками, опять заметил новшество — две новенькие газовые плиты, стоящие друг подле друга и сплошь утыканные самыми разнокалиберными кастрюлями, в которых что-то шкворчало, шипело, азартно булькало.
— Вон оно как, — тихо сказал он, адресуясь скорее всего к самому себе. — Значит, печку выкинули…
— Папаш, папаш, — тотчас подлетела к свекру Валентина, почувствовавшая какую-то неуютность, прозвучавшую в его голосе. — В прошлом году стали газ тянуть, вроде вначале и не по себе, а куда денешься? Печка сколько места занимает… полдома… грязь от нее, пыль… сажа летит… жили-то раньше в грязи и копоти, ох, эта печка — бабья каторга, ведерников наворочаешься, руки к вечеру отсохнут… Как это раньше-то жили? — посетовала Валентина и спохватилась: — Да ты садись, папаш, садись… Садитесь, мужики. Давай, зовите ребят, а то все и перестоит… Садись, Егор, давай, давай достань там чего-нибудь, гость у нас дорогой, — нараспев говорила Валентина, в то же время успевая делать массу разных дел, что-то поправить на столе, принести плоскую, красивую, плетенную с доброе решето тарелку с нарезанным хлебом, водрузить на край стола ведерную кастрюлю с парящим, распространившим вокруг крепкий аромат наваристым борщом. Егор принес из холодильника две бутылки водки, поставил на стол.
Устроившись на самом почетном месте, в красном углу, лесник наблюдал; здесь его многое раздражало, и он с трудом удерживал себя от какой-нибудь нечаянной резкости. Неосознанно стараясь не показать себя с невыгодной стороны, а пуще всего, чтобы в его настроении не углядели зависти, он попытался начать разговор с самым младшим, Витькой, мальцом лет десяти, с рассеченной и припухшей бровью; пожалуй, именно это обстоятельство и обратило на себя внимание лесника. Но Витька не пошел на откровенность, отвечал неохотно и односложно: «да, нет», «да, так», «да, ничего», и лесник обрадовался, когда, наконец, все уселись за стол и Егор налил отцу, себе; подумав, он налил и Пашке, парню лет семнадцати, с брезгливо оттопыренными губами, в модной, с отпечатанной не по-русски эмблемой футболке. Невестка, разливавшая борщ, покосилась на мужа, но промолчала.
— Ну, батя, давай, — сказал Егор, поднимая стопку. — Молодец, батя, заглянул… давайте за здоровье дорогого гостя… Ну, батя, давай! — вновь подбодрил он, обвел стол радостными глазами, торопливо выпил, и обед начался; вслед за борщом хозяйка подала тушенное с картошкой и с грибами мясо; затем на столе появился сладкий пирог и грушевый отвар. В конце обеда примостилась к столу и Валентина, налила себе борща, но есть не стала.
— — Ох, знатный у тебя борщ, отвел душу, ну, спасибо, спасибо, дочка, — сказал лесник с удовольствием. — Две миски выхлебал…
— Ты, папаш, почаще заглядывай, для тебя я еще и не так расстараюсь, — оживилась она. — Правда, папаш, приезжай, а то тут и спасибо-то ни от кого не дождешься.
— Во, обиделась, старуха, — заметил Егор, успевший как бы между делом пропустить одну и вторую стопку вне всякой очереди и теперь глядя на жену с расслабленным сочувствием за ее неустанную, с темна до темна бабью колготню.
— А Володька-то где? — спросил лесник.
— Ждали к обеду, давно должен вернуться, — опередила всех невестка. — В район вызвали. Хотели нынче-то собраться за столом всей семьей, поговорить, на тебе! Небось задержало начальство… Ну, и Анюта с ним увязалась, от мужа-то ни на шаг… отыскала нужду, вишь, сапоги ей понадобились! Отчего не разъезжать? Бабка с дедом дома, с утра до ночи топчутся, дети накормлены, ухожены…
— Ну, ладно, ладно, завела, — попытался остановить ее Егор. — Куда как расходилась… Ты радуйся, вон какая поросль-то крепкая! — с гордостью повел Егор головой в сторону двух очень серьезных мальчишеских физиономий. — Мужики, солдаты…
— Э-э! мужики! — подхватила невестка, в сердцах бросая ложку на стол. — Еще надо поглядеть, раньше срока-то нечего загадывать! Мужики! У мужика кроме штанов еще голова должна быть! Мужики теперь пошли — пить да пакостить! Да чего там ходить кругом да около. Мы, папаш, чего с Володькой-то? — спросила она, всем телом поворачиваясь к Захару. — А потому дело решать надо. Тебя, папаш, весь народ уважает, ты скажи… сам знаешь, младший из армии не вернулся, остался где-то у черта на куличках, целый день лететь теперь надо… И этот уезжать навострился, в Зежске место себе присмотрел. Что я, говорит, хуже других?
— Погоди, погоди, — остановил ее лесник. — Ты на козе-то, Валентина, не подъезжай. Я у вас теперь сторонний человек, ваших дел не знаю, сами думайте, — решительно ответил он, и уже хотел было встать, сказать спасибо и, пока не поздно, отправиться восвояси, и уже встал было, но, взглянув в растерянное, страдающее лицо Егора, опять опустился на свое место.
— Понимаешь, батя, тут такое дело, — обрадовавшись, сразу же горячо заговорил Егор, успевший как-то незаметно для всех хлопнуть еще одну, очередную стопку. — Тут вот Пашка десять классов через год кончает, ну, значит, надо дальше стремиться… Так? Так! А он уперся бараном, и ни в какую тебе! В институт не поступит, в армию загремит… родня у нас-то вон какая высокая, а его с места тягачом не стронешь! Пашка, слышь, Пашка, я тебе говорю! — повысил он голос. — Перед всеми говорю, пойдешь в институт, машину отдам, «жигуленок» новенький, слышь? Запишу на тебя и — баста! На всю катушку говорю, слышишь? Получай права и кати себе хоть в Америку.
— Слышу, не глухой, — пожалуй, в первый раз за столом басовито подал голос Пашка, неохотно и как-то брезгливо взглянув на деда.
— Ну, слышишь, а что думаешь?
— Что, что! Заладил — машина, машина, — ответил Пашка с явным вызовом, глядя при этом не на своего деда, сулившего дорогой подарок, а на лесника, и в глазах у него появился холодный, злой блеск. — Вон у Петьки Фокина, у Мишки вон Шахова давно машины и без института!
— Соглашайся, Пашка! — неожиданно сказал младший брат, с рассеченной бровью. — Не хочешь, я согласный, в институт поступлю, на права сдам… слышь, Пашка…
Тут Пашка не выдержал, со злостью двинул свою табуретку в сторону нежданного соперника, и младший не удержался, выскочил из-за стола, задохнувшись обидой; показывая характер, пересилив себя, он ярко по-мальчишески залился возбужденным румянцем, захохотал.
— Ты ему, дед, самолет подари! Реактивный лайнер, холостых баб да девок в лес подальше катать! Нужен ему институт!
Заметив готовившиеся со стороны старшего брата новые ответные действия, он метнулся в дверь, успев напоследок оглянуться, за что тут же и поплатился: бабка треснула его по затылку звонким алюминиевым половником, моментально выхваченным из кастрюли с борщом.
— Подумаешь! — крикнул Витька из-за двери. — Совсем не больно!
— Поговорили, — засмеялся лесник. — Шустрый! — неопределенно прибавил он, продолжая ощущать на себе раздраженный, дерзкий взгляд Пашки. — Ладно, спасибо за хлеб-соль, хозяева, пора мне, — лесник загремел табуретом, выбираясь из-за стола.
— Что ж ты не скажешь ничего, папаш? — засуетилась невестка. — Ты ж нам не чужой, хоть бы ты нашим дуракам глаза промыл… папаш, а папаш…
— Ты перед ним вприсядку пройдись, плясать так плясать, — неожиданно громко и весело предложил Пашка и тоже встал, оказавшись чуть ли не на полголовы выше давно уже начавшего усыхать лесника. — Дед Захар! Дед Захар! Как же — лесной пророк! Он присоветует! Ему одно — земля, земля, а на черта она кому нужна — эта земля? Вон полсела разъехались, а вы нас тут держите. Правильно отец решил в город перебираться! Все равно уедем!
— Ах ты поганец! — ахнула Валентина. — Без ветра мелешь, оглобля дубовая! Дед, дед, а ты что окаменел?
— Ладно, Валентина, будет, — с интересом остановил ее лесник. — Молчит парень — недовольны, заговорил — опять не так. Давай, давай, Паша, а мы послушаем.
— Вот и послушайте, — на той же высокой ноте подхватил вызов Пашка, стараясь удержать на лице задорную, вызывающую улыбочку. — Институт! Думаете, в институт легко пробиться? Только сынки из начальников проходят! Не по баллам, по спискам, списки у них хитрые есть! Своего выкормыша московского давно небось куда-нибудь в академию зачислили — вот там уж постарались! Как же, дед Захар! Дед Захар! А небось знаменитый дед не захочет поехать поклониться, вот, дорогие граждане, еще у меня дорогой родственничек, правда, не московского разлива, деревенского, а в институт и ему бы пора… Такому деду не откажут! Ведь не поедешь, а, дед Захар?
— Правильно, Паша, не поеду, — подтвердил растерянно лесник, не ожидавший нападения. — С какого бока должен я за такого жирного барсучонка просить? У отца с дедом с загривка не слезаешь, теперь на мне хочешь проехаться? Дениса от большого ума приплел, он-то чем тебе помешал? В кого ж ты такой ненавистный вышел? Совести у тебя капля осталась, хоть в одном глазу светит?
— У меня светит, — не остался в долгу, вспыхнув до корней волос, Пашка. — Лучше послушай про себя, вон народ говорит, невинных людей со своим дружком Брюхановым на Соловки загонял… больше семидесяти душ там успокоились… Говорят, душегубец ты самый настоящий, оттого тебе покоя на земле и нет. Я что — я чистый, на вашу машину плевал — сам заработаю! В лес поглубже забрался, сидит, думает, никто ничего не знает! А вон люди говорят, в лесу-то и живности никакой не стало, — вся от твоего духу разбежалась да разлетелась… дед, дед…
Леснику, продолжавшему слышать все до последнего слова, показалось, что окно напротив, перекосившись, затянулось серой пеленой; отыскивая опору, продолжая различать какие-то голоса и крики, он привалился спиной к стоне и увидел выскочившего из-за стола и сграбаставшего внука Егора. Отчаянно кричала, распяливая рот, пытаясь разжать железные руки мужа, невестка. «Задушит ведь», — мелькнуло в голове у лесника, и он, забыв о своем минутном, никем не замеченном легком недомогании, кинувшись к Егору, разыскал его глаза, упрямо сказал:
— Брось… отпусти… отпусти, говорят!
Ополоумевший Пашка грохнулся задом в пол, с ним рядом стукнулась на колени бабка, прижимая его голову к груди и что-то причитая; лесник сдернул с гвоздя пиджак и фуражку и вышел на крыльцо. За ним, тяжело дыша, выбежал и растрепанный Егор, молча посмотрел, как отец выводит коня из-под навеса, проверяет подпругу.
— Прости, батя, не со зла ведь, так, недоумок, — сказал он, избегая смотреть на Захара, и леснику стало жалко его. — Слышишь, батя…
— Дожились! — бросил лесник в сердцах. — Их бы кониной дохлой покормить, драниками из крапивы… Озверели! Вон куда метнул! Попал бы сам в ту растудырицу… Праведник, мать его перетак, на всем готовом! — тут лесник неожиданно притих, глаза его успокоились, затаились, он глядел на Егора, а видел прибитые осенним дождем к раскисшей земле почерневшие низкие избы под соломенными крышами, вереницы шатающихся в сумерках теней, бредущих день и ночь с Украины, робко заворачивающих к каждому светящемуся окну, к каждой двери — авось подадут. Внезапно встало перед глазами и лицо умершей в соломе роженицы с полузадушенным ребенком, прижатым к разбухшей, каменной груди, нежданно-негаданно выплыло и многое другое, то, чего вроде бы и не было, то, от чего хотелось бы откреститься и отвернуться. Обоз с раскулаченными, плач баб и детей, связанный Федька Макашин с бешеными глазами, вскоре и своя поездка в Москву на первый съезд колхозников, выходящего в сопровождении других вождей и соратников самого Сталина, и обвальный рев зала…
Передернув плечами, словно стряхивая наваждение, лесник глянул на переминавшегося рядом Егора, на двухэтажный дом и кирпичный гараж из своей, никому более неведомой дали, и в груди у него совсем отпустило: у каждого свой крест, каждый должен знать свое и незачем обременять своей ношей другого.
— Ладно, будь здоров, пошагал я, — коротко попрощался лесник, дернул поводья, и отдохнувший Серый послушно пошел за ним со двора; лесник ни разу не оглянулся, хотя Егор, страдальчески помаргивая и в то же время сжимая здоровенные кулаки в намерении проучить как следует взбесившегося внука, долго смотрел ему вслед; но сразу же за воротами леснику навстречу шагнул Фома Куделин, неожиданно гололицый, с непробритой редкой щетиной, просвечивающей из морщин. Лесник узнал его лишь по глубоко сидящим, маленьким, почти всегда недоверчивым и выжидающим глазкам.
— Давно жду, — с некоторой укоризной и даже обидой сообщил Фома, здороваясь. — Дай, думаю, пойду погляжу, может, больше не доведется…
— Дверей в доме не нашел?
— Я, Захар, с нонешними-то не схожусь, — пожаловался Фома горестно, — Дух у нас разный, он, нонешний-то, глядит сквозь тебя, вроде ты давно помер, нету тебя! — опять вздохнул Фома.. — Взять хотя бы Пашку, твоего внука, жеребец, гоняет с девками на машинах… страх, не то что мы росли… он тебе весь сытый, в ярости ничего не видит! У него от сытости все в гору дерет, природа, переедет тебя и не оглянется… Зачем ты ему, старый да трухлявый! Третьего дня вышел-то на улицу перед хатой постоять… а этот Пашка как из-под земли на своем рогаче вывернулся… Прямо впритирку прожег, девка какая-то сзаду на седле, пьявкой всосалась, визжит, стерва, от сладости, только волосья кверху! Так меня вонищей отшатнуло вон! Глаза протираю, а их и след простыл! Ну, бандит, думаю, ну, куда же он ее поволок-то среди бела дня?
— Фома, Фома, — покачивая головой, укорил лесник. — Совсем мы с тобой того… Как тот генерал… Ну куда может парень девку волочь?
— Я и говорю — нехристь, посеред бела дня, — стал защищаться Фома. — Природа, говорю…
У дома Фомы Куделина лесник накинул повод Серого на столбик изгороди, и они присели на скамеечку у крыльца; лесник отказался от предложения Фомы пойти угоститься чем Бог послал. По улице Густищ давно уже вовсю гоняли новехонькие «Жигули» да «Запорожцы», а середину широкой немощеной улицы по-прежнему занимали колдобины да ямы, в непогоду раскисающие и делающие проезжую часть абсолютно недоступной для любого вида транспорта, кроме трактора. Дома в Густищах уже несколько последних лет строили в два этажа, и лесник к этому привык, человек ко всему привыкает. Привык он и к тому, что улицу села густо усеивала самая различная домашняя птица: куры, гуси, утки, стаи важных, горбатых индюков. Выводки уже подросли, и молодежь то и дело взлетывала в самую последнюю пору. Обилие птичьей живности порадовало лесника, но вот детей почти совершенно не было, и вся улица казалась огромным и шумным птичьим двором. Сидевший рядом Фома, занятый другими мыслями, повозился, повозился, устраивая удобнее нывшие к непогоде ноги, и неопределенно сказал:
— Непонятно люди стали жить… Ни город тебе, ни деревня… в наши-то времена парней тьма, девок еще больше, летом чуть стемнеет, песни, гармошка — земля ходуном… На нижнем конце, на верхнем… друг перед дружкой, кто голосистей да веселей… А нынче-то молоко на губах не просохло, он в город лапти вострит… Вон у Бобковых младший после десятилетки в Холмск подался… Третьего дня сижу вот как с тобой, идет этот Микитка гоголем по улице, подходит, дорогими папиросками угощает… Дворником, вишь ты, примылился в Холмске, квартиру, говорит, сразу ему без всякой очереди, три года поработаю, а там, говорит, вольный казак… Вот и бегут… Молодежь, особливо девки, ушки на макушке, в город, в город… грамотные, все в десять классов, все им что-то там блазнится в этом городу… Стронули-то душу в народе в светлую эпоху, обратно и не установишь. Помнишь, кричали, прыгали и до войны, и после, аж пупки синели, ну и накричали земле карачун. А за девками-то и ребята… А мои охламоны? Тройняшки-то? Стану их совестить да стыдобить, а они тут же наповал срежут. Ты, говорят, дед, с того свету не квакай. А? У тебя, вон, говорят, от бороды сырой глиной несет, а ты за свое, молитвы читаешь. Уймись, пришел наш праздник… Все перебесились, на завод умотали. А? А я назло им взял и оголился, бороду смахнул… Как же по-другому? Да и тут ноне в Густищах что тебе? Какое веселье? Стемнеет, село из конца в конец в натуре без штанов голяком пройдешь, ни один человек не улюлюкнет. Какие там песни да гармошки? Окна и те нынче занавесками, на городской манер тебе, зашмургивают. Зашмурыгнут от соседа, деньги считают… А может, оно правильно, а, Захар? Тут какое твое слово на такую оказию?
— Какое тут слово? — не сразу отозвался лесник. — Тут как ни повороти, пальцем в небо…
Фома долго еще рассказывал о непутевых внуках и затем неожиданно спросил:
— Захар, а Захар, а на Густищи эту самую чертову бомбу, думаешь, швырнут?
— Дороговата для Густищ такая штуковина, — сказал лесник, поглядывая на задремавшего Серого — отгоняя мух, тот, звякая уздечкой, время от времени высоко вскидывал голову.
— А я думаю, швырнут, — не согласился Фома. — Богато жить стали, господские дома нагрохали, автомобилей нахапали… Видишь, индюков расплодили… А кому оно, такое богачество, по нутру? Швырнут, Захар, ох, как еще тарарахнут… тут притяжение, в лесу у тебя вот что-то роют, роют… Богачество штуковину эту сатанинскую к себе и притянет…
— Ну, мы с тобой настоящего-то богатства не видели, — сказал лесник, которому нравилось спокойно сидеть на скамеечке с Фомой и вслушиваться в размеренную предвечернюю жизнь села. — Нашел особое богатство — индюков…
— А я говорю, швырнут, — упорствовал Фома. — Ну, а на Густищи пожалеют, тут вон рядом завод важный… Они на завод нацелят, а она сюды в Густищи и завернет… притяжение, леса рядом… А там в лесах, говорят, народы чего-то опять мудрят, речки под землю уводят, говорят… Бабам по грибы теперь не пронырнешь, строго стало…
— В лесу, Фома, посветлее, чем у тебя в башке! — с сердцем сказал лесник, потому что Фома, сам того не зная, попал в самое больное место. — Бабы языками чешут… сам вон говоришь, делать нечего, деньги считают. Ей бы еще рожать да рожать, а она тебе пенсию от государства в сто рублей получает… Вот и мелет без воды…
— Ох, Захар, отбился ты от народа, — сокрушенно укорил Фома, усиленно помаргивая безволосыми веками и всем своим видом показывая полнейшее неверие. — Ты сам на кордонах все с начальством кумишься, свет по столбам за двадцать верст тебе приспособили… Вон дочка в Москве, говорят бабы, третьего генерала донашивает, вон ты куда с родней взгромоздился! Не-е, правды ты теперь не скажешь, Захар, ты теперь от народу отдельный стал…
— Что ты, Фома, брешешь-то, — подосадовал лесник. — Уродился с затинком и до самого краю… Никакая баба не уровняется, язык-то коровий, сам себя под зад достаешь…
— Не дави, Захар, дело самого высшего градуса, — веско перебил Фома. — Еще одно ответь, а я погляжу, какой ты ныне человек стал… Ну, ответствуй, от той самой бомбы начальство тоже во главе народа на тот свет отправится или само по себе в особицу уцелеет?
— Совсем мозги у тебя набекрень съехали, — сказал лесник, улыбаясь, радуясь в душе, что его одногодок и сотоварищ по такой невозможно провальной жизни и судьбе по-прежнему неугомонен и себе на уме. — У бомбы глаз нету, она не разбирает, в кого ей жахнуть…
— Думаю, начальство само по себе уцелеет, — упрямо заявил Фома и дернул подбородком. — Его никакая бомба не возьмет, такую бомбу, чтоб начальство порушить, ни один ученый не осилит, будь у него голова хоть с церковную маковку. Начальство, оно завсегда какую-нибудь хитростервозность придумает, юркнет тебе туда и отсидится…
— От такой бомбы и на том свете не отсидишься, мне внук Петро как-то рассказывал, бывал он кое где… Несешь, старый пень, черт-те что…
— Думаешь, народ ослеп, глаза ты ему отвел от своих лесных хитростей? Народ все знает, там в лесах подземельный город выкопали, туда даже целые ешелопы подныривают! Народ все знает, Захар. Туда ешелон молодых девок на днях загрузили, вот! Природа!
— Девок-то зачем, Фома?
— Как зачем? Как зачем? — теперь уже совсем встопорщился Фома, и сухонькая его, седенькая головка заплясала и задергалась. — Для начальству, вестимо! На земле-то все выгорит подчистую, начальство из-под земли опять народ плодить зачнет… Природа! Припасу всякого завезено, начальство про себе завсегда позаботится, а что без девок? На каждого партийного секретаря по сотне завезли, а на председателя по две… вот и будут себе мостырить да мостырить, опять пойдет народ из-под земли… заместо погоревшего, опять будет над кем начальствовать… А потом, как без девок? Нельзя без девок! Природа!
— Силен, Фома, силен! — с подлинным изумлением сказал лесник. — Ну, голова! Надо нам как нибудь еще посидеть с тобой, потолковать без спешки… с тобой не соскучишься.
— Народ говорит, — вздохнул Фома, глаза у него погрустнели, заслезились, и он бережно отер их заскорузлым пальцем — сначала один, затем другой. — Я намедни в Соловьиный лог ходил, дай, думаю, лозы нарежу, плетушки бабам понадобились… Помнишь землю-то под Соловьиным логом? Добрая земля, хоть на булку ее намазывай, огромадное поле. Хлеба волной ходили. Рожь сизая, матерая поднималась — коню с головой… Лесом ныне забило, осинка, березка пошла, не пролезешь. Так-то… А они в город… Чего не жить — детишкам тут вольность, а сами там… Клазета тебе вахфельная, за ручку дернул — унесло в трубу, никакого прибытку земле. У нас на ферме, на той неделе ходил, навоз насосом в канаву на луг гонят — струя разбойная, на ногах не удержишься. А там на лугу-то речка мертвая совсем — рыба подохла, раки расползлись, птица их долбит… Помнишь, раков-то у нас какая страсть водилась?
Проводив лесника, Фома еще долго стоял посредине улицы, сиротливо посматривая в оба ее конца, незаметно погружавшихся в тихий, вечерний сумрак.
3
Денис давно стал взрослее и опытнее, чем думали о нем родные, его мир стал сложнее и глубже, опыт далеко опережал самые смелые предположения лесника. И женщина уже года два назад вошла в его жизнь; правда, он не любил об этом вспоминать — первое и самое близкое знакомство с женщиной, вдвое, если не больше, старше его самого, надолго оставило в нем чувство отвращения, какую-то душевную оторопь перед ошеломляющей бесстыдностью, даже циничностью жизни. Долгое время потом его преследовало почти физическое ощущение собственной нечистоплотности, хотелось еще и еще раз вымыться; с дразнящей, неодолимо влекущей тайны женщины покров был сдернут слишком грубо, без соответствующего, пусть мучительного перехода, и даже Денис, прошедший суровую природную школу жизни на кордоне у деда, больше от нравственного потрясения не смог сразу выправиться, хотя, как и большинство молодых людей и даже подростков, он не раз говорил с друзьями о женщинах и так же, как и они, старался показать себя значительно опытнее, чем это было на самом деле. Эту одинокую и неустроенную женщину и молодые и старые звали неожиданно ласково Симой; внешне чистенькая, опрятная, с постоянной улыбкой на круглом лице, она работала в пивном ларьке недалеко от зежской средней школы. И началось с мелочи, с того, что, сдувая с кружки с налитым свежим пивом пышную пену, Денис чересчур пристально и внимательно остановился взглядом на глубоком вырезе платья у Симы на груди и, встретив ее взгляд, густо покраснел, рассердился на нее и на себя и сказал первую подвернувшуюся на язык пошлость, а в ответ услышал мягкий, какой-то воркующий голос:
— Ах ты, птенчик мой, мохнакрыленький! Я тебя давно приметила, выладнался, говорю, паренек, развернулся… Приходи… У меня и пиво кончается… Струсишь, поди? Не трусь, надо мужиком становиться…
Месяца через три полностью изгладились неприятные ощущения от первого знакомства, и какая-то неизвестная, стыдная сила вновь потянула Дениса к пивному ларьку, и он, выждав момент, отставил недопитую кружку и с бесшабашной наигранностью сказал:
— Сегодня приду… не прогонишь?
Опять мягко улыбнувшись, она покачала головой:
— Нельзя, кончился мой праздник…
— Отчего так, Сима?
— С бабьей-то дури мужа нашла, — вздохнула она. — Хоть и плохонький, да свой. Пьет, паразит… в промежутках-то человеком становится, ласковый, уважительный… Я тебя с подружкой сведу, голубок, совсем одинокая, годами меня моложе… Ой, как примет такого горяченького!
— Не надо, — отрывисто, сквозь зубы, сказал Денис, сам себя пугаясь, раздувая ноздри и стараясь удержаться от прихлынувшего приступа безрассудной ярости; чтобы как-нибудь совсем уж не оскорбить, а то и не ударить ставшую ненавистной женщину, он круто повернулся и вышел. С тех пор вот уже больше года он Симу не встречал, ее пивной ларек старался обходить стороной; в нем запоздало проснулась и стала потихоньку мучить его шальная, мутная мужская ревность, хотя он и стыдился и даже себе не хотел в этом признаваться; он не скоро потом обрел привычное равновесие.
Подъезжая к Зежску, Денис, беспричинно рассмеявшись, с веселой бесшабашностью тряхнул головой; прибавив газу, он, чертом пролетев по знакомым улицам, в тихом окраинном переулке остановился у знакомой калитки, открыл ее и ввел мотоцикл во двор под невысокий навес.
Солнце садилось; старые тополя, тесно стоявшие в ряд перед домом с незапамятных времен, густо покрытые грачиными гнездами, насквозь пронизывались косыми острыми лучами; грачи кричали, суетились, ссорились, непрерывно взлетали и опять садились; задрав голову, Денис с удовольствием полюбовался на жизнерадостных птиц, стащил с головы шлем, повесил его на место, тщательно стряхнул с себя набравшуюся за дорогу пыль. Он подумал, что Таисия Прохоровна куда-нибудь ушла по делам, но в тот же момент дверь, ведущая из коридора во двор, привычно пронзительно взвизгнула, и он увидел знакомое, аккуратное лицо, тщательно, на обе стороны расчесанные седые волосы и небольшие умные, всегда доброжелательные глаза.
— Я твой костюм приготовила, все-таки выпускной вечер… Галстук другой завязала, думаю, пойдет.
— Спасибо… Таисия Прохоровна… а для меня ничего нет? Письма?
— Нет, Денис.
— Никто не спрашивал? Катя… не заходила? Она должна была книжку передать…
— Нет, нет, никто не заходил, — ответила Таисия Прохоровна. — Умывайся, у меня такая утка с яблоками…
— Ого! Попозже, ладно? — сказал он, улыбаясь. — Нужно кое-что успеть сегодня… Захар Тарасович вам привет передавал, — уже в калитке оглянулся он. — Приглашает вас на свежий мед…
Женщина покачала вслед ему головой: для нее в жизни этого выросшего на глазах красивого, с твердым, поистине мужским характером, юноши не было секретов; вернувшись в дом, она села у себя в комнате, к раскрытому окну, выходившему в маленький садик с двумя старыми грушами и раскидистой яблоней, и грустно задумалась. За всякую радость приходилось платить, и Таисия Прохоровна, одинокая женщина, хорошо это знала, с тех пор как лесник определил Дениса к ней на квартиру на зимние месяцы, прошло почти десять лет, школа позади…
Женщина печально и тихо улыбнулась. Она хорошо знала Катю Прибегину, красивую, высокую девочку из старой интеллигентной семьи еще с дореволюционными земскими корнями — и отец, и мать у нее преподавали в зежском машиностроительном институте.. Таисия Прохоровна привязалась к Денису по-родному, и ею сейчас, хотя она хорошо понимала, что это смешно и неразумно, владело ревнивое чувство. Катя Прибегина ей не нравилась, по каким-то почти неуловимым, доступным только женщине признакам, она чувствовала, что эта действительно красивая, умная девушка никого, кроме себя, не любит и вряд ли в скором времени способна полюбить, что она эгоистична и замкнута только на самой себе и что Денис, видный, привлекательный парень всего лишь один из ее свиты, призванной оттенять и подчеркивать величие и неприступность, непорочную чистоту самой королевы. «Как бы не так, как же непорочность! — возмутилась от собственных же своих мыслей Таисия Прохоровна. — Непорочность! Скорее уж наоборот. Рафинированная и ослепленная собственным ореолом девица порочна уже своим вызывающим снобизмом. Очень жаль, Денис ослеплен первым своим чувством, ничего не способен видеть и анализировать, а говорить и доказывать бесполезно, он должен сам пройти свой круг, все через это проходят, он тоже пройдет, никого они в этом бешеном возрасте не слышат, не могут слышать».
Таисия Прохоровна с необычайной точностью определяла сейчас состояние Дениса; пробравшись окраинными улочками и огородами к давнему своему любимому месту на берегу речки, недавно подпертой чуть ниже еще одной плотиной, он лег навзничь на вытоптанную теплую землю и стал глядеть в небо; солнце село, хотя было светло и звезды еще не проступали; разросшийся, особенно за последние десять лет, город здесь почти не был слышен. Денису сейчас хотелось поиздеваться над собой, но ничего не получалось, он никак не мог взглянуть на самого себя с некой спасительной высоты, что уже не раз выручало его в самые трудные минуты; сейчас это не получалось, и все. У Таисии Прохоровны глаза тихие, обо всем ведь догадывается… Смешно и стыдно, примчался, как сумасшедший; она даже не подумала зайти, занести обещанные книги… да разве в этом дело? На кордон ни разу не приехала, познакомиться с дедом не захотела, дискотека да магнитофон. А ее постоянные расспросы о родных в Москве, про квартиру; откуда-то и про Париж узнала, хотя что удивляться, его деда Брюханова хорошо здесь помнят и вряд ли скоро забудут, вот и на него самого падает Божий свет, куда денешься.
С безнадежностью влюбленного он стал перебирать свои с ней отношения за последний год, вспоминая самые незначительные подробности, раньше попросту не обращавшие на себя внимания, теперь же отчетливо выплывшие из каких-то неведомых глубин; чертыхнувшись, рывком вскочив на ноги, он до хруста в суставах потянулся.
Безоблачное небо сплошь усеяли звезды, и Денис замер. Какой-то неведомый ранее страх тайной жизни, правда, всего лишь на мгновение, разлился в его душе; он тряхнул головой, повернулся к речке над обрывом и, поднеся ладони ко рту, сложив их рупором, прокричал по-сычиному, протяжно и гулко, прислушался и вновь замер в неожиданном предчувствии еще неведомой опасности. Он тут же забыл о своем ощущении; миг упал и прошел бесследно, и уже вновь все переменилось.
На другой день в сером костюме спортивного покроя, сшитом на заказ долгими настояниями Таисии Прохоровны, в галстуке, еще резче подчеркивавшем детскую неопределенность подбородка, он был одним из самых видных парней среди своих сверстников, пожалуй, даже самый видный.
Он держался рядом с одним из давних своих друзей с Левкой Куницыным, чуть ли не со второго класса решившего стать выдающимся строителем мостов, соединить Сахалин с материком и Азию с Америкой; близорукий Левка носил сильные очки, его уважали за определенность, за необычную целеустремленность, за какие-то непонятные в общем-то для остальных идеи о мостах и дорогах, соединяющих не только земные материки, но, ни много ни мало, будущие цивилизации разных планет. Левка и сейчас, занятый только своим, пришел на вечер в тех же затертых джинсах и не первой свежести пуловере; едва увидев Дениса, с ходу объявил, что по его расчетам при современных материалах и совершенной технике через некоторые большие реки лучше всего не перекидывать дорогостоящие мосты, а лучше всего проходить под ними.
— Смотри, я рассчитал один километр такого тоннеля… Хочу приложить к заявлению о приеме в институт…
— Недооцениваешь сам себя, — остановил его Денис. — Тебя и без расчетов любой институт оторвет.
— Я знаю, — спокойно согласился Левка Куницын, и тут Денис впервые заметил у него сильно отросшие темные, редкие усики, придававшие лицу диковатое выражение.
— Почему ты не побрился? — спросил он, переводя разговор на другое, и Левка удивленно, даже непонимающе вскинул глаза.
— Считаешь, мне уже нужно бриться?
— Погляди в зеркало, пора, пора, даже перезрел. День какой удивительный! Какие девчонки-то… а?
Внимательно оглядевшись, Лева пожал плечами.
— Напрасная трата интеллектуальной энергии еще никого не обогатила, не сделала лучше, — неожиданно сказал он. — И тебя тоже, кстати!
— Постой, постой! — перебил его Денис, не скрывая изумления. — Так устроена жизнь… Неужели ты и здесь предполагаешь открыть универсальную замену? Темный ты человек, Левка! Постой! — опять остановил он товарища, уже угадывая по его поджатым губам ответ и тут же забывая и о Левке, и о только что случившемся разговоре. Настроенный на одну волну, все с большим напряжением ожидавший, он тотчас почувствовал приход Кати и, едва взглянув в ее сторону, увидел ее всю в бледно-розовом удлиненном платье с голыми руками и плечами, как-то по-взрослому, чужому причесанную, и также сразу увидел, что пришла она не одна, а в сопровождении парня лет двадцати пяти, смуглого, чуть полноватого. Денис сразу безоговорочно его возненавидел. Не медля ни секунды, он подошел к Кате и к ее спутнику, и у Кати при его приближении дрогнули губы.
— Я тебя ждал, — признался он, еле заметно кивая. — Скоро начинается.
— Познакомьтесь, — предложила Катя, представляя своего спутника, со спокойной приветливостью смотревшего на Дениса. — Мой школьный товарищ Денис, а это Костя Пустовойт… просто Костя — тоже мой давний друг. Настроение у тебя прекрасное, выглядишь отлично. Как твой знаменитый дед, рад? — спросила она с невинным простодушием.
— Дед у меня как всегда — молодец! — широко улыбнулся Денис в ответ, в то же время боковым зрением не упуская из виду лица своего соперника; обострившимся до предела чувством он заставил себя сдержаться, не сорваться, не наделать глупостей и даже, в общем-то, как ему казалось, ничем не выдал себя, своего состояния.
Оставшись с Катей наедине в гуще танцующих, Денис слегка сжал ей руку и, не позволяя себе пьянеть от ее дыхания и близости ее маленькой груди, слегка отстранился, и она сразу почувствовала перемену — он танцевал с нею сейчас как чужой, хорошо вышколенный партнер в платной танцевальной школе; вопрошающе взглянув ему в лицо, отыскивая ответный, всегда точно обжигающий, а теперь не замечающий, ускользающий взгляд, она, хорошо понимая причину, спросила осторожно:
— Что-нибудь случилось?
— Конечно, сама ведь знаешь.
— Может быть, ты и меня просветишь?
— Ничего особенного, пожалуй, один потерял, второй нашел.
— Ты, конечно, нашел…
— Понимай, как тебе хочется. Каждый делает свой выбор…
Он небрежно взглянул на нее и увидел закушенные с досадой губы.
— Какой выбор? О чем ты, Денис? Не понимаю…
— Все ты понимаешь. Ничего… вполне соответствует…твой Пустовойт из преданных, энергичных мужей, поздравляю, ты не ошиблась.
— Костя — конструктор, — сказала, вспыхнув, Катя. — Просто наши семьи очень давно дружат. Зачем ты меня обижаешь, за что? У него отец недавно привез из Канады видеомагнитофон — подарил Косте на день рождения. Можно сходить что-нибудь посмотреть… Хочешь?
— Отчего же, можно и посмотреть! Привет!
— Денис! Куда ты?
Она положила ему руки на плечи, прижалась, и он почувствовал едва сдерживаемое прерывистое дыхание.
— Молчи, — прошептала она. — Не надо, ничего не говори… ничего умного ты не скажешь…
— А как же он? — спросил Денис, кивая на отчужденно и одиноко стоящего в стороне у стены Пустовойта.
— Он уйдет…
— Уйдет? — переспросил Денис.
— Да, уйдет, — сказала она с неосознанной жестокостью, и Денис на какое-то время растерялся; она поняла его растерянность как решение ответить отказом, снова рывком прижалась к нему и, подняв голову, почти касаясь его губ своими, прошептала: — Пожалуйста, не глупи, я же просила, ты все испортишь…
Он помедлил, его вспыхнувшие глаза словно омыли ее светлой, легкой волной, и она, еще больше хорошея и преображаясь под его настороженным взглядом, соглашаясь, слегка наклонила голову.
— Что?
— Жди меня на нашем месте… возле школьных каштанов… Не глупи, слышишь? Я сейчас…
Город встретил их тишиной, далекими, недоступными звездами, и они, словно разделенные какой-то непонятной силой, пошли рядом, как ходили много лет в школу или домой, стараясь не прикасаться друг к другу, и все равно время от времени, встречаясь то плечами, то руками, вздрагивали, быстро отодвигаясь один от другого; и ни она, ни он не думали и не хотели думать, что происходит, ведь главное для обоих уже решилось, и сейчас ими безотчетно владело лишь чувство самопожертвования и немой светлой боли; ими владело острое чувство необходимости сделать друг для друга что-то незабываемое, то, что светлой тенью сопровождало бы всю их последующую жизнь и помогало бы им в самые трудные минуты, но ни она, ни он не знали пока, что именно они должны сделать. Они подошли к ярко освещенному перекрестку, услышали издали взрыв возбужденного молодого смеха и, не сговариваясь, свернули в ближайший переулок.
— На наше старое место, да? — спросил он, обнимая ее за плечи, и она, молчаливо и безоговорочно выражая свое согласие, доверчиво прижалась к нему. Над их головами, заслоняя небо, почти смыкались вершинами старые, с незапамятных лет стоявшие тут, кое-где доцветавшие каштаны, в редких просветах ярко горели звезды.
— Отчего так получается… ведь мы не хотим этого… Кто определил нашу судьбу?
— Не надо, по-другому ведь не будет, ты же сама не хочешь по-другому. Разве тебе плохо сейчас?
— Мне хорошо… больно… из-за тебя, Денис! — торопливо, не слушая его, заговорила она, пытаясь оправдать себя, а больше оправдаться перед собой. — На тебя хорошо любоваться со стороны, а рядом с тобой, понимаешь, совсем рядом, я начинаю себя терять. Ну, понимаешь, совсем перестаю себя чувствовать… отдельно. Наверное, тебе нужна совсем, совсем другая… Она могла бы на тебя влиять… У меня ничего не получается… Твое поле сильнее! Только ты не хочешь бороться, плывешь по течению.
— У нас какой-то детский разговор, — поморщился он, останавливая ее. — Ты же не за этим пошла со мной!
— И за этим тоже, — с безотчетным вызовом сказала она. — Ну, как ты не понимаешь? Ведь должна же я тебе объяснить, что нам мешает. Ведь мешает же!
— Ничего не надо объяснять, — попросил он. — Ну, послушай, ты совсем ничего не слышишь?
— И тебе совсем, совсем не больно? — помедлив, неожиданно спросила она.
— Ничего, пройдет! — сказал он не сразу, прижимая ее, податливую теплую, к себе и в то же время чувствуя невозможность прежних доверчивых, безоглядных отношений. — Что ты волнуешься? Не бери себе в голову, я сделаю все, что ты хочешь, вот посмотришь!
Он быстро поцеловал ее в плечо; она притихла, и он почувствовал ее затаенный внезапный страх. Они уже вышли за город и стояли на высоком обрыве; внизу, укрытая сейчас белесыми, едва проступавшими размывами тумана, петляла речка — речка их детства и юности, первых, тайных встреч и надежд, первых неосознанных и торопливых прикосновений; здесь редко стояли старые деревья, уцелевшие еще от последней войны; теперь, правда, они старились одиноко и беспризорно, вокруг них постепенно образовались дикие и беспорядочные заросли кустов, но несмотря на запущенность этого места, оно было любимым, заветным для многих, и в городе его почему-то прозвали «монашеским раем»; еще до войны на обрыве возвышался полуразрушенный, с разобранными на кирпич монастырскими кельями и оградой Покровский монастырь. Фронт, несколько раз прокатившийся через Зежск, окончательно пригладил все вокруг. О монастыре теперь напоминала лишь часть невысокой, Бог весть как уцелевшей ограды старинной кладки, окруженной редкими, тоже чудом уцелевшими старыми деревьями; в последние годы их стали даже оберегать и подсаживать к ним новые; по обрыву поставили редкие цельнолитые чугунные скамьи — теперь местные любители сильных ощущений не могли ни изломать их, ни переставить по своему наитию.
Было излюбленное дерево и у Кати с Денисом; их старый в три обхвата узловатый вяз, с начинавшей усыхать вершиной, одиноко возвышался в самой глухой части обрыва, туда редко кто забредал и в светлое время дня, — открыл его Денис несколько лет назад, еще совсем мальчишкой. Оглядывая сейчас раскинувшиеся внизу луга, речку в размывах тумана, обрыв и темневшие, вздымавшиеся в небо темными громадами деревья, и сам он, и Катя как бы еще и еще раз оглядывали всю свою недолгую (им казалось, очень долгую!) жизнь; он отпустил руку девушки, и они как-то одновременно подумали о своем вязе, о необходимости проститься с детством, с чем-то другим, неясным, ускользающим, не имеющим названия, навсегда связавших их робостью и чистотой, до глупых щенячьих слез невыносимо дорогим.
— Пойдем? — спросил Денис чужим, охрипшим голосом, и она опять понимающе взяла его за руку.
Пробравшись на уединенную, закрытую с трех сторон небольшую площадку под старым, дремучим вязом, укоренившимся у самого края довольно крутого обрыва, они, глядя друг на друга, остановились; от какого-нибудь пронесшегося в ночном небе отсвета иногда взблескивали, озарялись и различались яснее их глаза.
Они сели рядом, утонув в невероятно глубокой тишине ночи. Катя обняла его и стала тихонько, еле-еле касаясь, целовать все в одно и то же место, где-то возле уха, в тепло пахнущие волосы. Денис оцепенел. Он чувствовал разливавшуюся в теле темную, жгущую силу; мучительно стиснув плечи девушки, едва угадывая смутно ждущее, запрокинутое лицо под своими губами, чувствуя опрокидывающуюся на него темную громаду земли, с тягостным звенящим усилием удерживая себя, он неожиданно резко отстранился. Катя, помедлив, тихо опустилась навзничь, затылком в густую, прохладную траву.
— Боже, звезды… Ты слышишь?
— Пора идти. — отозвался он хрипло. — Видишь, какая темень перед зарей…
— Зачем ты так, ничего не хочешь понять, — услышал он нежный, укоряющий шепот. — Сегодня ты можешь все… понимаешь, все… я так решила, так должно быть… Знаешь, у тебя глаза золотые… совсем золотые…
Тут она, гибко привстав, обняла его, стала целовать; он никак не мог освободиться от ее рук и сказал сквозь зубы:
— Нет же, нет… Не хочу… так… слышишь? Не хочу!
Он почувствовал ее замерзшие пальцы и, зная, что обидел, даже хуже, оскорбил ее, нащупал ее безвольную, беспомощную, почему-то очень холодную ладонь, поднес ее к губам и подышал, согревая.
— Я тебя слишком люблю, — прошептал он. — Не могу так…
— Сейчас же уходи! Ненавижу, уходи!
— Ты что?
— Уйди, я тебя ненавижу! Я тебе никогда не прощу! Какой ты мужчина!
Она охнула, пригнувшись от тяжелой затрещины, а он, бросившись на землю ничком, вцепился в траву; вот она сейчас уйдет, и станет легче, станет совсем легко, подумал он, перекатывая горящую голову по прохладной земле с боку на бок. И почувствовал у себя на голове знакомую тяжесть ее руки.
— У тебя лицо мокрое, — тихо сказала она, обхватив его за шею, притянула к себе, поцеловала и сразу же оттолкнула. — Смотри, смотри…
Над простиравшимися внизу бескрайними лугами показалось еще слепое солнце; помедлив, быстро увеличиваясь, оно выдралось из-за горизонта, подскочило в небо и тотчас ударило во весь простор остро и ярко, река внизу, в тихих излучинах, вспыхнув, загорелась, и закричали гуси.
4
Из Густищ лесник возвращался поздно, в сплошной вязкой темноте; приветствуя родной двор, Серый тихонько заржал, и Захар тотчас увидел быструю подвижную тень рядом — почти за версту от дома хозяина встретил Дик.
Лесник устал, и больше с расстройства, чем от дороги, он хмуро и неохотно выслушал пытавшуюся что-то ему объяснить взволнованную Феклушу, и, хотя мало что понял, успокаивающе ей покивал и услал спать. Сам он выпил кружку парного молока, не обращая внимания на липших комаров, посидел во дворе, прислушиваясь к лесу (стояла непривычная в это время года, почти невероятная тишина), и тоже лег. Уже засыпая, он вспомнил про Дениса, о том, что они так и не поговорили толком и что от этого все равно никуда не деться; уже совершенно проваливаясь, он услышал лай Дика, похожий больше на вой, хотел открыть глаза, но сон окончательно сморил его. И тогда кордон затих; мягкая лесная тьма укрыла мир, и у Дика от какого-то неосознанного беспокойства поднялась шерсть на загривке. Он бесшумно вылез из своей конуры и стоял, напружинившись и замерев; в ноздри ему тек древний запах опасности, и он опять неслышно зарычал, губы свирепо вывернулись, открывая желтые, вздрагивающие клыки. Рычание было беззвучным, оно как бы рождалось внутри и пропадало в жарко напрягшемся горле. В летней душной тьме повисло ощущение близкой опасности — древний запах вражды и страха, хлынувший в ноздри с неслышным порывом колыхнувшегося у самой земли воздуха, заставил пса припасть на задние лапы, податься назад. Это были не волки, бесшумные и беспощадные разбойники, их Дик за свою жизнь встречал не раз и не боялся, даже с одним из них дрался и вышел победителем; теперь же на кордон пожаловал старый бурый медведь, нареченный неизвестно кем и когда хозяином. В своих бесконечных, вместе с лесником, скитаниях по лесу Дик иногда начинал чуять где-нибудь неподалеку присутствие хозяина, его тяжкий, заставляющий жаться поближе к человеку, никогда не забывавшийся запах.
В любом другом случае Дик не преминул бы броситься навстречу неизвестной опасности, постарался бы оказаться к ней как можно ближе, все достоверно разузнать и выяснить — этого требовала его бескорыстная и долгая служба человеку. Но сейчас он подчинялся более древним, жившим в его крови, законам; между его обязанностями по отношению к человеку и тем, что происходило во мраке леса, легла граница, проложенная извечным правом именно хозяина леса, ее нельзя было переступать.
Внимательно и настороженно обойдя кордон, часто останавливаясь, втягивая в себя влажный воздух, Дик, слившись с мраком, застыл на пригорке у самой изгороди, где тянул по-над самой землей сыроватый сквознячок; встревожившее его чувство опасности окончательно не исчезало, лишь стало слабеть, и за пределы кордона выходить было по-прежнему нельзя. Вначале он пошел было к крыльцу, затем передумал, безошибочно выбрав место между колодцем и сараем с коровой; сюда, в этот своеобразный центр, как бы стягивались все запахи и звуки, все мельчайшие движения на кордоне тоже пересекались и тоже скапливались именно здесь. Он еще постоял, затем припал к земле и замер, готовый к любым неожиданностям, но больше ощущение тревоги и опасности не повторилось. Старый медведь, хозяин леса, действительно подходивший к кордону и, как правило, всегда избегавший облюбованных человеком мест, и на этот раз не стал рисковать. Едва ощутив присутствие дыма, гари, человеческой нечисти, он, приподнявшись на задних лапах, усиленно втянул в себя воздух, поработал чутким носом, затем бесшумно опустился на землю и растворился во тьме, он всегда направлялся в это время года в другой конец знакомого ему уже в течение долгих десятилетий леса, но его отпугнула с привычной тропы новая лесосека; зимой деревья свалили и увезли, и хозяин, изменив старый маршрут, вновь наткнулся на кострища, на отвратительные запахи человека, дыма и дегтя и опять повернул в сторону. Вот тогда на него и потянуло непреодолимым ароматом свежайшего меда. От неожиданности хозяин присел; ему давно уже не приходилось лакомиться медом, и он, старый и опытный, совсем по-щенячьи облизнулся, не раздумывая, задирая нос и поводя им из стороны в сторону, опасаясь упустить соблазнительный запах, двинулся вперед, и вскоре начинавшее слегка слабеть чутье безошибочно привело его на пасеку, находящуюся недалеко, в полверсте от кордона, на уютной лесной поляне, окруженной цветущими старыми липами, с широким, свободным от леса просветом, выводящим в обширное редколесье, привольно покрытое в этом году цветущими лесными травами, кипреем, зверобоем, шалфеем, кашкой, шиповником и малиной, медуницей, репейником, земляникой… Пасека из двадцати двух ульев была искусно обложена высоким валом сушняка, и хозяин не стал искать прохода — слишком уж невыносимо тяжко несло спелым медом. Разбросав в стороны несколько старых пней и кучу веток и освободив проход, хозяин пролез на пасеку, присел и прислушался. В ближайшем улье из переполненных сот тяжело капал мед — слишком обилен был взяток в этом году, и лесник запаздывал: уже дня три-четыре назад нужно было начинать качать мед. Хозяин повел носом и безошибочно выбрал именно соседний улей; приподнявшись, он лапой сшиб улей на землю. Улей завалился набок, крышка с него соскочила, тотчас вокруг вяло зажужжали пчелы; не обращая на них никакого внимания, хозяин вывернул лапой тяжелые соты; жадно чавкая, захлебываясь от наслаждения, он уткнулся в них мордой, поедая мед вместе с воском, детвой и влипавшими в мед, разъяренно и обессиленножужжавшими клубами пчел.
Очистив один улей, хозяин принялся за второй. Жадность в насыщении постепенно уменьшалась, от полного, отяжелевшего желудка во всем теле распространялась умиротворенность, и на какое-то время, несмотря на облепивших его со всех сторон шевелившихся в шерсти, лезших в уши и глаза пчел, хозяин задремал, прикрыв нос лапами. Это случилось и от старости, и от обильной лакомой пищи; ранний туман, выползший из леса на прогалы, заполнивший поляну, окончательно обессилил пчел, они теперь только путались в шерсти у хозяина и жалко попискивали, безуспешно пытаясь освободиться и взлететь; хозяин же от вкусной и редкой пищи видел смутный и сладкий сон, к нему словно вернулись прежние силы; он чуял противника рядом и готовился к схватке; глотка у него уже начала напрягаться и вздрагивать — вот-вот должен был вырваться утробный, заставивший замереть все живое вокруг яростный рев…
Хозяин открыл глаза неожиданно; явь донесла до него приближение иной, подлинной опасности, и он, легко и бесшумно встав, чуть помедлив, определяя, откуда повеяло тревогой, бесшумным призраком исчез в тумане, выползшем из лесу на поляну; ничего не хрустнуло, не пошевелилось, и тут же из густого тумана показалась голова лесника, затем его плечи; следом вынырнул из тумана Дик и застыл — шерсть у него на загривке встала дыбом, из-под приподнявшейся губы выглянули клыки. Пес не любил пасеку и пчел, старался без особой нужды близко не подходить сюда. Но сейчас он забыл о пчелах. Он тотчас безошибочно определил место, где спал хозяин, затем по его следу беззвучно прошел к лесу. Лесник тихим свистом позвал его назад и послал на кордон; напряженно глядя в глаза Захару, как бы пытаясь внушить ему что-то важное, Дик медлил.
— Иди, иди, — повторил лесник, — пока роса не спала. А то они тебе устроят жизнь…
На этот раз пес не послушался, вышел за пределы пасеки, сел под куст и стал ждать. Пока в лесу не исчез запах опасности, уходить и оставлять хозяина одного было нельзя; Дик, постепенно успокаиваясь, слышал хождение, возню и сердитое бормотание лесника. Чувство опасности отдалялось, таяло, размашистый и стремительный молодой рассвет охватывал лес, уже давно звеневший птичьими голосами, туман таял, и, хотя восхода солнца не было видно из лесной глуши, все вокруг неуловимо менялось. Умолкли одни голоса и зазвучали другие, стали раскрываться дневные цветы и свертывались ночные, появились первые бабочки. Пчелы еще не отправлялись за взятком, густой шевелящейся однообразной массой, словно живой корой, они покрывали летки и небольшие деревянные козырьки перед ними; пчелы чистились после сна, пробовали крылья, вентилировали ульи, выволакивали из жилья ночные отходы и умерших, занимались тысячами других незаметных необходимых дел.
Лесник поправил и водрузил на свои места разоренные ульи, проверил в них маточники, сменил поломанные рамки. Случившееся мало его расстроило; присмотревшись к оставленным зверем следам, он почувствовал тайное удовлетворение: на задней левой лапе у зверя не хватало двух пальцев, зверь оказался старым знакомым, и Захар в душе обрадовался. Между зверем и лесником давно уже установилась какая-то внутренняя и прочная связь; может быть, хозяином зверя прозвал впервые сам лесник, хотя видел его мельком два или три раза несколько лет назад, еще в те годы, когда окончательно перебрался из Густищ на кордон; время от времени лесник встречал его следы — поломанный малинник, разоренный муравейник, перевернутую валежину, но вот уже два или три года вообще не попадалось никаких признаков хозяина, и лесник уже стал думать нехорошее. И теперь, несмотря на два разоренных улья, он по-настоящему обрадовался: умный и осторожный зверь, сумевший дожить до старости в лесу, где людей с каждым годом становилось все больше, вновь объявился. Лесник не был суеверен, однако, оказавшись почти в полном одиночестве, он, длинными осенними и зимними ночами раздумывая под вой и стон ветра о жизни, о себе, почему-то всякий раз вспоминал о хозяине, представлял его в берлоге; он хорошо знал глухое урочище, забитое старыми, поросшими многолетним мхом валунами, сплошь заваленное буреломом, сквозь который рвалась к небу новая, в несколько этажей поросль, где часто зимовал хозяин. В это место по осени или по зиме никогда не забредал человек, осенью из-за болот, окружавших урочище чуть ли не со всех сторон, зимой из-за снежных заносов. С годами лесник все сильнее чувствовал свою внутреннюю, нерасторжимую связь с хозяином; иногда, если это чувство становилось чересчур уж сильным, лесник, стараясь обрести исчезнувшую в тоскливый час душевную устойчивость, посмеивался над собою, но в глубине души по-прежнему считал связанным себя каким-то странным и прочным образом с хозяином; пока живет и здравствует хозяин, будет жить и сам он, Захар Дерюгин. У него будет причина оставаться в мире, а если хозяин пропадет, для него исчезнет что-то главное и заполнить пустоту уже будет нечем.
Наведя на пасеке порядок, заделав валежником пролом в ограждении, лесник вернулся на кордон; солнце поднялось довольно высоко, воздух прогрелся, порывами потянул теплый южный ветер, почти всегда приносящий дожди и грозы; тотчас лес густо тронул дружный, согласный шум.
Не успела Феклуша поставить на стол миску с кашей и кувшин с молоком, послышался стрекот мотоцикла, и через минуту появился Денис, словно не слыша и не видя ничего вокруг, постоял посредине комнаты с отрешенным лицом, хмурясь, держа за ремешок шлем, затем неожиданно, совсем по-детски пожаловался:
— Эх, дела, дед! Ну да черт с ними со всеми! — сказал он, с грохотом швыряя шлем в угол на лавку. — Пойду умоюсь, есть хочу, как волк!
Феклуша бросилась вслед за ним с полотенцем; лесник, ожидая, взглянул на часы. День начался удачно, ему давно не было так покойно, хорошо и светло на душе. Сдвинув слегка густые, седые брови, он отдыхал, и когда Денис размашисто-шумно уселся за стол, придвинул к себе миску с пшенной кашей и стал с азартом есть, он с улыбкой посоветовал:
— Не спеши. Еда — дело серьезное, мечешь вроде с испугу.
— С испугу и есть, дед, — в свою очередь засмеялся Денис. — Подожди, расскажу… поем, расскажу…
Отодвинув миску, лесник, пошучивая над аппетитом правнука, выпил кружку медового квасу; в поведении Дениса он отметил про себя какую-то растерянность и раздраженность; нечто похожее чувствовала, видимо, и Феклуша; чаще обычного подбегая к столу, она замирала на мгновение и, круто поворачиваясь, мчалась обратно; когда она в очередной раз подлетела к столу, Денис поднял голову, пристально взглянул на нее. Руки у Феклуши тотчас взметнулись, словно она хотела взлететь, в лице проступило нечто птичье.
— Во-о! — сказала она. — Большой… старый… сам… у-у… травушка белая, белая, а он сам: уф! уф! уф! сам!
— Что-то я не пойму, — тихо вслух подумал Денис и взглянул на лесника.
— Медведь ночью приходил, — пояснил тот, и Феклуша, подтверждая, часто закивала. — Две колоды выел… помнишь, я тебе говорил, старый мой знакомец, хозяин… без двух пальцев на левой задней… Вот Феклуша и хочет тебя поостеречь… она… хозяина боится, не любит… ну, ладно, поели, пора за дело, картошку пора еще раз перепахать, а то припозднимся… Дожди, теплые росы, ботва прет напропалую… Ты как, никуда не мчишься?
— Перепашу, — сказал Денис, — нечего дурью маяться. Слушай, дед, а хозяин?
— А что хозяин? — медленно, как бы нехотя переспросил лесник, глядя в сторону.
— Опять ведь придет, стоило попробовать…
— Ну придет так придет, — все с той же неохотой ответил лесник. — Загадывать нечего — видно будет…
— Ну, как знаешь, — неопределенно заметил Денис. — Игнату Назаровичу я записку оставил с твоей просьбой приехать… его самого не застал, по делам мотается…
Денис хотел что-то добавить, в последний момент сдержался и вышел и весь день, несмотря на усталость после бессонной ночи, работал, перепахивал картошку, сгонял под вечер в Густищи на мотоцикле за почтой, привез кипу газет, несколько писем, в том числе и от бабки. Взглянув на обратный адрес, он равнодушно бросил его к себе на стол, а сам лег на диван.
От легкого ветерка в раскрытое настежь окно лезли мохнатые белые лапы; Денис рывком приподнял голову и облегченно перевел дух, это была всего лишь распустившаяся сирень. Он успокоенно повернулся на другой бок, мгновенно заснул и проспал весь остаток дня и всю ночь; заглянувшая к нему в комнату по старой, неистребимой привычке Феклуша накинула на него легкое пикейное покрывало, и он в этот момент чему-то улыбнулся во сне. Феклуша, размахивая руками, словно помогая себе стать невесомее, вышла, а Денису в это время снился длинный бесконечный тягостный сон, вначале приснилась Катя, затем мать, которую Денис едва-едва помнил, и рядом с ней оказался дед в длинной, ниже колен белой рубахе и босой; от удивления Денис долго его рассматривал и все никак не мог подойти к нему и заговорить, но на другой день вечером, неожиданно вспомнив свой сон, заглянул в комнату лесника; собираясь ложиться, тот уже стащил тяжелые сапоги и сидел в нижней, действительно длинной белой рубахе, босой, шевеля пальцами ног и перебирая газеты.
— Заходи, заходи, — пригласил он. — От бабки указов много?
— А-а! Ничего особенного. Ты, наверное, устал, дед, посижу с тобой. Можно? Хочешь, телевизор включим? Вроде кино какое-то должно быть…
— Не заходи обочь в десять верст, давай по-свойски, — предложил лесник с доброй усмешкой, потаенно любуясь крепким, угловатым правнуком. — Я в самом деле прикорну, спина заныла к вечеру, на дождь, видать. Ну, что у тебя стряслось? — грубовато и прямо спросил он, откидываясь на подушку.
— Знаешь, дед, удивительная штука, не знаю, поймешь ли ты…
— А ты скажи, авось пойму, — опять не удержался от усмешки лесник. — Не накручивай…
— Знаешь, о тебе разное говорят, — осторожно начал Денис. — Вроде ты на старости лет… ну, сам понимаешь. Вроде за свою жизнь такое наворотил, а теперь и забился в глушь — грехи замаливать. И других, мол, с пути истинного совращаешь. Ты, говорят, это уже на меня, от своего полоумного деда тоже недалеко ушел. Я-то понимаю, сейчас время такое дикое, одно какое-то остервенение… люди, как стадо…
— Что-то ты рано в людях завяз, — сдвинул брови лесник. — Люди всякие… Все больше дети к яркому, недозволенному тянутся… Знают, обожжет, а тянутся. На меня-то не гляди, у меня все кончено, а у тебя длинная дорога… иди себе, не оглядывайся, срок тебе не приспел назад пялиться.
— Понимаешь, дед… Ну, как бы понятнее объяснить, — сказал правнук, завозившись на своем месте. — Ты, дед, на меня сейчас не гляди, хочу сказать одно, а на языке мусор, знаешь, что-то я запутался…
— Девки? — спросил лесник просто, и Денис взглянул на него с некоторой опаской.
— Девушка, — сказал он не сразу.
— Раз пришла пора, значит, пришла. Ладная девка-то?
— Дед, я серьезно… Ты сейчас со мной на равных говори, — потребовал Денис.
— Я всегда с тобой только так и говорил! — запротестовал лесник. — Брось, с дедом-то чего тебе делить? Давай по-мужицки — прямо…. Вот так и так… чего пары-то зря расходовать? А? — после паузы с какой-то грустью и давно неведомой нежностью вздохнул он. — Ты, парень, особо не горячись, а то в самый первопуток одышка и прихватит…
— Слушай, дед, может, ты забыл, ведь тебя женщины любили, а? Отчего ты один живешь, отчего не женился?
Лесник вскинул голову, взглянул, весело, от души рассмеялся.
— Ну, знаешь, видать, в самом деле тебя до печенок припекло. Жениться в мои-то годы?
— Ладно тебе, дед! Вон на Кавказе и в девяносто женятся да детей рожают!
— На Кавказе! — еще веселее сказал лесник. — На Кавказе солнце жаркое, виноград сахарный. А у нас тут Россия-матушка — шибко не разгонишься…
— Слушай, дед, женщины-то тебя ведь любили? Все говорят…
— Как тебе сказать, парень, — опять не сразу ответил лесник. — Жизнь у меня вышла долгая, много пришлось выхлебать. — Он говорил непривычно медленно, словно ощупывая каждое слово. — Было всякое — вроде любили… Бабье нутро не враз угадаешь…
— Не угадаешь, — повторил вслед за ним Денис и подался вперед. — Дед, скажи, разве так бывает… любит одного, понимаешь, любит так… ну… всю себя отдает, понимаешь? А затем черт знает куда метит! Люблю, мол, тебя, а замуж пойду за другого! Как тебе нравится?
— Ну, а ты сам, того… хм, присох?
— Присох, дед, — совсем по-детски, со вздохом пожаловался Денис. — Глаза закрою, стоит перед глазами… Что делать, дед?
— Видать, в самом деле стоящая, — вслух подумал лесник. — С башкой девка.
— С башкой? Почему же именно с башкой?
— Тебе восемнадцати-то нет… по нынешним временам, ну какой ты муж?
— Дед, я ведь взрослый человек! — возмутился Денис, начиная всерьез сердиться.
— Ну, для одного ты взрослый, а для серьезного развороту — зеленый, не обижайся. А баба — она в таком важном деле всегда дальше мужика глядит. Ты лет через десять с лишком только и войдешь в настоящую силу, а ей ждать не с руки, ей уже сейчас свое бабье устраивать надо… ты на нее зуб не того, не точи, умные бабы — редкость, — опять со значением повторил лесник.
— Заладил свое, с башкой, умная! — подосадовал Денис. — Мне-то что делать?
— Возьми вон ружьишко, поброди по лесу, — посоветовал лесник. — Отболит, отвалится…
— Нет, дед, не отвалится!
— Отболит, парень, отвалится, — неспокойно заворочался лесник. — Иди, молока выпей — и в подушку головой… не томись… Твои невесты еще на горшке сидят…
Глянув исподлобья, Денис отвернулся, стараясь не выдать себя еще одним ненужным признанием, вышел; лесник погасил лампу, лег; прежде чем заснуть, он еще долго ворочался, кряхтел, перебирая разговор с правнуком.
Ночь выдалась с тайными, бесстыдными мыслями и желаниями. Денис не раз готов был уже выбежать во двор, вскочить на мотоцикл и мчать в город; тотчас же находились горячие убедительные слова и аргументы; ему казалось, что стоит ему их высказать — и все пойдет иначе. В открытое окно доносился одуряющий запах цветущей сирени; лес стоял бесшумный, в колдовском лунном разливе.
Наконец, он не выдержал, надернул сапоги, стараясь никого не потревожить, вышел во двор и замер. На какое-то мгновение ему показалось, что он попал в совершенно иной мир, с неизвестными ему законами красоты — такой луны и такого блестевшего холодным, недвижным серебром леса он не видел. Он медленно опустился на ступеньку крыльца под неистовый лунный свет и был виден теперь со всех сторон, со всех концов мира. Он подставил лицо луне, нависшей прямо над кордоном; да, пришла ночь, пришло откровение, и этот час и миг решат его дальнейшую жизнь.
Появился странный, седой, с переливающейся шерстью и с острыми ушами зверь; Денис, подавшись назад, сжался, напружинился, готовый вскочить, зверь приблизился, сел, подняв морду, и превратился в Дика. «Вот что! — потребовал теперь уже кто-то другой, безжалостный и холодный, за Дениса. — Вот что, ты должен выследить и убить хозяина! Вот и все! Хватит распускать сопли!»
Он встал, пересел ниже; теперь пес оказался рядом, и Денис видел холодно отражавшие лунный свет глаза какого-то потустороннего мира; он сам перешагнул дозволенную границу, и теперь он был и здесь, и там, в непонятном пока, безраздельно притягивающем мире, заполняющем его душу какими-то неясными, первобытными зовами.
«Ничего ты не знаешь, — думал Денис, положив руку на голову умного, терпеливого пса. — Живешь себе, ничего не знаешь о дискотеках, тяжелом роке, о водородной бомбе, об экологии, о лазерах, о прочей чертовщине. Когда тебе приспичит, ты дня три-четыре убегаешь без всякого спроса в Густищи на свои собачьи свадьбы. Я сегодня тоже сбросил кожу и должен сделать что-то такое, чтобы уважать себя. Мне хочется… черт знает чего мне хочется, я даже тебе не признаюсь, чего мне хочется. Я зверь больше, чем ты, Дик, и мне нравится ночь, лес… Ты слышишь, Дик? Ладно, не подлизывайся, с собой я тебя все равно не возьму, мне сейчас нужно справиться одному».
Надо было торопиться, он вскочил на ноги. Оставив короткую записку, что уходит дня на три-четыре, прихватив ружье, рюкзак, прицепив к поясу охотничий широкий нож, сопровождаемый бесшумным Диком, он вышел за ворота. Оглянувшись, он увидел в одном из окон дома свет; как обычно, раньше всех проснулась Феклуша. И Денис шагнул с дороги в темный, молчаливый лес; он задел прикладом ружья дубовую ветку, роса брызнула ему в лицо, за ворот; какая-то веселая злая сосредоточенность вела его. Он знал, что пес идет следом, и минут через десять остановившись, тихонько свистнул.
— Дик, домой, — приказал оп. — Я уж как-нибудь на этот раз без тебя, не обижайся. Домой!
Повернувшись, он зашагал дальше, и пес долго смотрел ему вслед, прислушиваясь в ожидании зовущего и разрешающего знакомого голоса. В рассветной тишине Дик слышал уходящего человека еще долго, затем, не отвлекаясь на посторонние, незначительные запахи, отправился на кордон, время от времени останавливаясь, оглядываясь назад и снова чутко замирая. Лес молчал, ушедший Денис, всегда надоедавший Дику шумной возней, исчез уже совершенно, и лишь его особый, молодой, свежий запах продолжал жить в Дике, но и он постепенно отступил, ослабел и стал рассеиваться, и пес повернулся к своим многочисленным делам: самые дорогие ему люди, и особенно Денис, всегда обладали способностью время от времени исчезать, и он к этому давно привык; если дело касалось леса, Дик мог и через день, и через два отыскать по следу любого; кроме того, между ним и Денисом или лесником даже и на расстоянии продолжала существовать некая внутренняя связь, и Денис тоже, приказав Дику вернуться на кордон, шел, некоторое время почему-то думая только о нем; затем стремительная, почти бесшумная ходьба отвлекла его. Он с самого начала взял направление к северо-западу — в самый глухой, безлюдный угол зежских лесов и безостановочно шагал несколько часов. Солнце уже было высоко, почти над самой головой, стало душно и сыро. Он вышел к знакомому лесному озеру, с грудами валунов по берегам; мелькнула мысль остановиться отдохнуть, искупаться и поесть и тотчас забылась. Теперь им полностью завладело одно желание: поскорее отыскать хозяина, ему казалось, что без этого он не сможет жить дальше. Он шел наугад, по наитию, забредая в самые непролазные места, день проскочил мгновенно, и он опомнился только с наступлением темноты. Потянул ветер, послышалось отдаленное ворчание грома, стало труднее дышать, и появилась масса комаров. «Не может быть, — сказал себе Денис, смазывая с лица и с шеи налипший гнус. — Отчего так быстро? Я должен был его встретить, я это знаю, хозяин теперь уже недалеко, где-то рядом, я чувствую его, он глядит на меня из своего мрака. Этот день не может кончиться ничем, не должен!»
Сумерки сгущались, он даже приблизительно не мог представить, куда его занесло, и стал выбирать место для ночлега. Снова поднялся ветер, лес готовился к иной, теперь уже ночной жизни, тени шевелились и двигались, обозначались темные таинственные провалы. Облюбовав старый, коренастый дуб, Денис сел, прижавшись к его стволу спиной с подветренной стороны; ружье и вещмешок он положил рядом. Есть не хотелось по-прежнему, лишь во рту пересохло, однако встать и идти отыскивать воду он уже был не в состоянии. Даже про небольшой дымокур от комаров он лишь подумал, нащупав в кармане брезентовой куртки коробок спичек. Луна еще не показывалась, лес погрузился в непроглядную, непроницаемую тьму; вершины деревьев слились в черный, шелестящий полог. Повозившись, устраиваясь удобнее, Денис поднял воротник куртки, стараясь хоть немного защитить зудевшую шею от комаров, закрыл глаза. Тотчас перед ним появилось лицо Кати, он почувствовал ее грудь, плечи; в следующую минуту все исчезло. Вздрогнув, он сильнее прижался к дубу, в затылке появилась боль от вдавившейся в него неровной коры. Денис безошибочно чувствовал на себе чей-то отстраненный пристальный взгляд, он только не мог определить, с какой именно стороны подбирается опасность. Все так же чувствуя па себе неотступный взгляд, протянув руку, он нащупал приклад, осторожно подтянул ближе и положил ружье на колени. Два жакана в стволах придали ему уверенности. Кто-то неподалеку во тьме ходил, он отчетливо слышал чьи-то тяжелые, приближающиеся шаги — хрустнула сухая ветка; он чутко поворачивал голову на любой посторонний звук, но, кроме ветра, ничего больше не слышал, и лишь взгляд, устремленный на него из сырой тьмы, взгляд иной жизни продолжал ощущаться; так и должно было быть, подумал он. Все в мире связано, он задумал зло, оно тотчас и двинулось следом за ним, и теперь ничего не остается, только ждать. Он удвоил внимание, он уже знал, что на него смотрит сам хозяин, по его холодной настороженности следовало ожидать самого худшего. Слегка прояснилось в лесу, какой-то призрачный, мертвенный отсвет, незаметно усиливаясь, лег на ближайшие деревья: над лесом поднималась луна, значит, уже перевалило за полночь и скоро начнет светать. От этой мысли Денис несколько ободрился; в тот же момент вновь что-то хрустнуло, он мгновенно повернул голову и, торопливо вскочив, замер со вскинутым ружьем. Буквально в пяти-шести шагах от него возвышался смутный, тяжелый силуэт хозяина, поднявшегося во весь рост, его массивная голова с кругло торчавшими ушами виднелась отчетливо и ясно; с медленно забившимся сердцем Денис стал целиться под левую лапу хозяина. Он выстрелил, но всего лишь мгновением раньше хозяин скользнул вниз, словно опустился в бесшумную темную воду, в два прыжка оказался рядом, и хотя Денис успел выстрелить вторично, ружье тотчас вылетело у него из рук; он услышал хриплый рев, и сразу же на него рухнула душная, косматая масса. Одной рукой, намертво вцепившись в шерсть под нижней челюстью хозяина, он пытался отодвинуть от себя открытую, шумную пасть, а другой — судорожно нащупать нож на ремне. Когтями передней лапы хозяин одним ударом располосовал крепкую брезентовую куртку, достав до ребер, острая мгновенная боль заставила Дениса озвереть. В тот момент, когда рука, вцепившаяся в челюсть хозяина, уже начала сдавать, Денису удалось нащупать рукоятку ножа и ударить изо всей силы в бок хозяина; тотчас вся туша, намертво придавившая Дениса к земле, с ревом дернулась, вновь обрушилась на него, длинные, тупые когти стали рвать его тело. От обреченности у Дениса силы утроились. Он сам захрипел, и, выправив нож, нацелив его лезвием вверх, помогая себе всем телом, нажал на рукоятку. По лесу разнесся рев, прямо в лицо Денису, почти ослепив его, хлынула вонючая жидкость; хозяин теперь рвал лапами уже не своего противника, а землю рядом с ним, и непрерывно ревел, его стекленеющие глаза начинало заволакивать. Денис из последних сил ударил еще раз, неожиданно легко, одним рывком высвободился из-под туши хозяина и откатился в сторону.
В лесу было совершенно светло; приходя в себя, пока еще ничего не в силах понять, он огляделся. Ружье валялось далеко от дуба, рюкзак тоже; сам он судорожно стиснул рукоятку ножа и не сразу, с трудом заставил себя разжать занемевшие пальцы. Проснувшийся лес звенел птичьими голосами. Опрокинувшись навзничь, раскинув руки, он некоторое время глядел в просвет между дубами, затем вскочил, бросился к ружью, тихонько присвистнул; оказывается, он действительно ночью дважды стрелял. Немного погодя, внимательно осматривая все вокруг, он заметил свежий медвежий помет неподалеку, оборванную кору на осине на высоте чуть ли не трех метров.
— Какая-то чертовщина, — сказал он, хмурясь. — Надо деду рассказать… Ладно, я до тебя все равно доберусь! — всматриваясь в зеленые густые заросли, он довольно неуверенно и быстро оглянулся, лес есть лес, его хвастливые слова, конечно же, кто-то слышал и, наверное, усмехнулся.
На второй день на кордон уже ближе к вечеру для безотлагательного разговора с племянником, по мнению Аленки необходимого, должного определить дальнейшую судьбу Дениса, приехал Петя; измученный бессонницей, бесконечным самоедством и борьбой с собой и, главное, оглушительным поражением академика Обухова, Петя приехал к деду на кордон, в смутной надежде обрести здесь хоть какую-то душевную устойчивость. Он, разумеется, выполнит все поручения академика; у Обухова свои горизонты, и возможности у него свои.
С некоторых пор Петя предпочитал заранее далеко не загадывать. Какая-то прилипчивая, неумолимая сила, природы которой он не мог понять, водила его по кругу; по сути своей он оставался прежним человеком, простым и отзывчивым в общении, в случае необходимости приходил на помощь, был душой любой компании, но даже самые близкие его друзья не могли представить степени разрушительной, неотвратимо подтачивающей его душу внутренней работы. К тому же опять подступила нехорошая полоса в отношениях с Олей, недавно так и сказавшей ему, что жизнь ее летит под откос и она не видит в их отношениях больше никакого смысла. Растерявшись, он даже ничего не смог возразить ей вразумительного, лишь затаил глубокую обиду. Трещина разрасталась, и только одно еще связывало и удерживало их; случившееся с ними на рассвете в Крымских горах, о чем они никому не рассказывали, да и друг с другом, не сговариваясь, никогда не вспоминали. Но и Крым, и обрывающиеся в бездну лунные ущелья, и слепящее безумие той ночи (да и была ли такая ночь, были ли горы, не приснилось ли?), все отступало дальше и дальше, растушевывалось в монотонности жизни.
Выйдя из машины у ворот кордона (пообещав оплатить обратный проезд, он взял в Зежске такси), Петя огляделся, отыскивая кого-нибудь, — его встретила тишина, низкое солнце шелестело в раскидистой вершине старого знакомого дуба, и даже Дик куда-то запропастился.
Оставив чемоданы на крыльце, обойдя дом и никого не обнаружив, он по старой памяти прошел в угловую комнату с окнами на глухой лес. На широком столе накопился тончайший слой пыли и лежало несколько залетевших, вероятно, еще с прошлой осени сухих дубовых листьев. Петя провел пальцем по крышке стола, посмотрел на оставленный след и, вздохнув, распахнул окно, пошел было взять чемоданы и попятился назад в сени: на крыльце сидел величественный остроухий зверь, усиленно втягивающий в себя воздух. Он внимательно смотрел на Петю и, узнав, улыбнувшись, оскалил желтоватые, крепкие клыки.
— Дикой! — растрогался Петя. — Здравствуй, дружище! А где дед, где Денис?
Услышав знакомое имя, пес в ответ слегка шевельнул хвостом и еще раз улыбнулся; тряхнув густой черной, тоже уже с обильной проседью гривой. Петя взял чемоданы и принялся устраиваться в облюбованной комнате.
Он еще не решил, говорить ли деду и племяннику об истинной причине своего приезда, вероятно, и придется чуть приоткрыться, без этого тоже не получится — дело есть дело.. Он обошел в сопровождении Дика усадьбу, сарай, заглянул на огород; часа через полтора, сидя на крыльце и наслаждаясь опустившейся на лес предзакатной свежестью, он увидел деда и, легко сбежав с крыльца, расцеловался с ним.
— Ну, рад, рад, — кивнул лесник, слегка хмурясь на непривычные нежности. — Опять один?
— Один.
— А мать? — спросил лесник. — Грозилась со дня на день… третью телеграмму получаем… А баба?
— Оля работает, хотела отгулы попросить, не дали, вот Елена Захаровна, пожалуй, может нагрянуть, — неодобрительно и даже отчужденно по отношению к матери отозвался Петя. — Мы больше по телефону, встречаться давненько не приводилось… С похорон Конкордии Арсентьевны, вот уже месяца два… Умерла в одночасье, мемуаров своих так и не закончила… помнишь? Тоже осколок революционной эпохи, все никак не могла успокоиться.
— Писала… С матерью у тебя неладно, Петр?
— Разная жизнь, дед, — ответил он. — разные интересы. Нет времени встретиться, поговорить, посмотреть друг на друга… Чемоданы в угловую, комнату оттащил, не помешаю?
— Приглянулось, живи, гостей ныне не густо… вначале из области наезжало начальство… из Зежска, бывало, налетали, побаловаться по старой памяти с ружьишком. Куда уж их, откормленных жеребцов, обихаживать в мои-то годы… потихоньку отстали! — очевидно вспомнив что-то забавное, лесник, махнув рукой, рассмеялся, глаза его, скрытые нависшими седыми бровями, посветлели. Петя, слушая, все больше оживлялся и веселел, глаза у деда по-прежнему оставались яркими, вбирающими в себя, светоносными; дед знал о нем все, знал даже неизвестное ему самому.
— Знаешь, дед, буду умирать, ты обязательно рядом окажешься, на тебя только и надеюсь…
Пытаясь разгадать скрытое в словах внука, Захар беззлобно посоветовал:
— Пей меньше… у тебя часто вот так мозга за мозгу заскакивает?
Глядя на подкладывающую в плиту дрова откуда-то вывернувшуюся Феклушу, на ее проступивший под кофточкой позвоночник, худые ключицы, Петя не обиделся, рассеянно спросил о племяннике, думая, что своим приездом нарушил тихое, спокойное течение жизни на кордоне.
— Хватит, Феклуша, — с той особой, снисходительно-ласковой интонацией в голосе, с которой он всегда обращался к Феклуше в присутствии посторонних, сказал лесник; с выражением полнейшей готовности повиноваться Феклуша, не поняв, повернула к нему маленькое детское личико.
— Хватит дров, говорю, что ты, быка собираешься жарить? — опять сказал лесник, и она с готовностью закивала и скрылась за легкой дощатой переборкой, ограждавшей место ее постоянного жилья.
— Странное существо, — со сквозящим холодком в душе Петя проводил ее взглядом, но лесник не поддержал разговора. — Я, дед, о делах постепенно расскажу, не сразу. Ничего, что мальчишка-то не возвращается? Темнотища на дворе…
— Не пропадет… В лесу переночует, ив в первый раз…
— Как-то непривычно у вас, — с уважением выждав, признался Петя. — Феклуша эта… Денис ночами в лесу бродит… он ведь совсем еще мальчик…
— Парень пошел хозяина искать, — лесник незнакомо жестко усмехнулся в седые, неровно выправленные усы и, встретив непонимающий взгляд внука, пояснил: — К нам на пасеку зверь повадился, ульи грабит, медок любит… Старый знакомец… Медведь… В округе хозяином жалуют. Позавчера два улья разорил, а Денис осерчал, за ружье да в лес. Зелен еще парнишка, горяч… Он хозяина по глухомани где-то нашаривает, а тот нынче в ночь опять на пасеку забрел — больно уж медок по душе пришелся. Придется по порткам всыпать хозяину…
— Прости, дед, — не удержался Петя, — Говоришь, мальчик ушел… зверя убить? Медведя?
— Ну да, что тут непонятного?
— Убить медведя?
— Мало ли что кому в голову втемяшится! — усмехнулся лесник. — С чем пошел, с тем и вернется.
— Так спокойно говоришь, — рассердился Петя. — Медведь же, не заяц!
— Вот, вот не заяц — медведь, хозяин! — подтвердил лесник с каким-то особым, одному ему ведомым значением. — Парню и за версту к нему не подступиться! Стар да умен хозяин… Лучше скажи, как сам-то живешь?
На минуту Пете опять показалось нереальным свое присутствие здесь, в тяжелых, потемневших от времени стенах, и сидевший напротив родной дед с непонятной жизнью, и племянник, выросший здесь, на кордоне, рядом с деревенской дурочкой и сейчас отыскивающий хозяина где-то в лесу…
— У меня все нормально, дед, мотаюсь по командировкам, пишу, потихоньку печатаюсь… Одним словом, нормально… Правда, дед! — Под недоверчивым взглядом лесника смугловатое брюхановское лицо внука вспыхнуло. — Время идет слишком быстро! Полоса, что говорить, непростая, все-таки, сволочи, разогнали нашу дальневосточную контору, Обухова, академика нашего, я тебе рассказывал, дожирают, а я… что я? Что я могу? Попытался написать честно, куда! Вернули статью. Шарахаются, как от чумного. Самая демократическая страна! Черт знает что! Елена Захаровна кое-как уломала, поезжай, говорит, проветрись, а то совсем спятишь. Черт знает что! — повторил Петя и сглотнул трудный, перехвативший горло комок. В чемодане у него лежала бутылка хорошего марочного коньяка, и он, вспомнив, быстро вышел и тут же вернулся, с деланной веселой усмешкой опережая остерегающие слова деда, бодро тряхнул бутылкой, поставил на стол.
— Обещаю тебе, дед, единственный раз. За встречу… Когда в последний раз виделись?
Лесник сдержался, промолчал; московский гость выпил, сам же хозяин, не притронувшись к своему стакану, поморщился.
— Ладно, Петр, — сказал он, — Отчего ты мать так величаешь? А?
— Елену Захаровну? — переспросил Петя. — Не знаю, дед… Ничего не могу с собой поделать. Отца не могу забыть! Отчим — мужик редкий, из тягловой породы, ты верно однажды определил, у тебя глаз наметанный, а вот накатит на душу, вся благодать к черту… Не могу! — он снова отхлебнул. — Отца не жалела, хоть бы она отчима поберегла, работа у него адовая, а она со своей профориентацией носится, как будто она ее изобрела. Да если бы даже и она открыла! Человек все так же топчется, — ни шагу вперед. Пожалуй, наоборот… Елене Захаровне ведь только она сама нужна, ее самовыражение, муж тянет, и ладно!
Лесник налил из глиняного кувшина парного молока в кружку, придвинул внуку, стараясь не показать своего неодобрения услышанному, но внук почувствовал, взял кружку и молча глотнул из нее.
— Выпей, выпей, осади горечь, нутро очищает. Твои завилюженные слова-то не по моей башке…
— Заговорил я тебя, дед…
— Отчего не послушать? — возразил лесник. — Очень уж сурово о матери-то… мать она мать, другой никому не дадено… Сам признаешь, Константин-то вроде ничего мужик, старого еще закала, совестливый…
Пристально взглянув деду в глаза, Петя хотел прощаться и идти спать, но было неловко оставлять деда расстроенным.
— Знаешь, последнее время звонит один чудик, — вспомнил Петя, переводя разговор на другое, — расспрашивает о тебе, утверждает, что он вроде бы твой старый знакомый, даже соратник… Некий Анисимов Родион Густавович… Имя-то каково! Просится приехать взглянуть, говорит, отца моего знал и даже укрывал в войну от немцев… Помнишь такого?
— Отыскался, значит, гусь лапчатый, — коротко, с долей неприязненной озабоченности усмехнулся лесник, — Родиона Анисимова хорошо помню, как же, — подтвердил он, теперь уже безошибочно чувствуя, что на этот раз внук принес на кордон, сам того не ведая, какой-то последний озноб, и, ничего не замечая, опять уже перескочил на свое, самое больное, стал рассказывать о подлых методах расправы с академиком Обуховым. Останавливая внука, лесник, удивляясь, сказал, что Родион Анисимов хотя и постарше его самого будет, а вот поди тебе, тоже еще, оказывается, жив и даже интересуется прежними своими знакомыми.
— А чего ему? — возразил внук. — Устроился в пансионате старых большевиков по первому классу, там двести лет можно проскрипеть — страну разорили, зато сами себя не забывают. Не поглядывай, дед, не поглядывай, думаю и говорю. Здесь у тебя-то, надеюсь, можно?
Внук разговорился, и лесник, посоветовав ему лучше хорошенько выспаться, ушел к себе, разделся и лег. Он устал от новостей, прихлынувших в его жизнь с самой неожиданной стороны, заставил себя думать про пчел и пасеку, волей-неволей надо отвадить от нее хозяина, не дать ему разорять ульи дальше. Придется, подремав часа два-три, перед светом кликнуть Дика и идти караулить; ружье у Дениса, ничего, без ружья тоже справиться можно, в разговоре с хозяином по-другому надо, с ружьем тут нельзя, не по совести…
Оп смотрел в черный потолок; его все чаще начинало мучить чувство вины за свой столь долгий век на земле; многочисленных родственников, внуков, правнуков (за исключением Дениса), дочь Аленку и даже когда-то любимого, самого дорогого сына Илью, он давно уже ощущал посторонними и далекими людьми; они не имели никакого отношения к его внутреннему миропорядку и, время от времени приезжая на кордон, казались ему все более чуждыми, втянутыми в свои мелочные дела, хотя какой-то отстраненной стороной сознания он понимал, что именно из того, что ему самому казалось ненужным, мелочным, и состоит их далекая, молодая жизнь.
В комнате посветлело, стал виден потолок, начавшая слегка провисать матица, угадывались ставшие еще прочнее, похожие от долгого усыхания на темную кость, доски. К рассвету взошла луна, и у лесника как-то сразу составился план действий. Он даже крякнул от удовольствия, хороша была придумка и на дальнее, и на ближнее время; живо собравшись, надернув сапоги, он сходил в сени, в кладовую, принес бочонок меду, выложил загустевшими янтарными кусками в небольшое деревянное корытце, оставшееся в хозяйстве еще от прежних лесников, обломив кончики, вылил туда же две большие ампулы снотворного, что сохранились с прошлого года от биологов, приезжавших изучать зежский животный мир, и долго размешивал. Феклуша высунула голову из-за своей перегородки; лесник махнул на нее рукой, и она послушно исчезла. Хитровато усмехнувшись, он опять отправился в кладовую, посвечивая себе фонариком, отыскал на одной из широких многочисленных полок, чихая от поднявшейся пыли, хрупкий, крошившийся в руках пучок лесных подснежпиков и, растерев в пыль, посыпал мед в корытце.
Ночь катилась своим чередом; установился самый-самый момент равновесия, лес стоял не шелохнувшись, залитый обильной росой; прислушавшись, лесник сдвинул брови; беспокойство шло изнутри дома, из угловой комнаты.
Он прошел коридором, толкнул дверь; Петя встретил его радостно-оживленный, он был в самом градусе, в голове роились смелые мысли, полет фантазии, не скованный предрассудками, уводил за все мыслимые горизонты. Лесник взял со стола новую, еще не начатую бутылку коньяка и, прищурившись, внимательно изучил этикетку.
— Баловство, баловство, — сердито пробормотал он. — Содрать с тебя портки, всыпать по первое число. Небось десять рублей стоит…
— Шестнадцать, дед, — не без гордости заявил Петя. — Видишь, армянский марочный!
— Ну вот, шестнадцать! Без всякой тебе радости, ворюгой в темноте… проглотил и выблевал! Мерзкое дело! Не буду! Не наливай. Сказано тебе, не наливай! Про себя подумай, у тебя грудь больная, сколько лечили! Не доводи меня, Петро, таких горячих навешаю, неделю не очухаешься! — пригрозил лесник и, не слушая уверений внука, что он давно здоров, как бык, что никакой груди у него и в помине нет, в сердцах употребив крепкое выражение, отобрал бутылку у внука. — Собирайся, хозяина пойдем учить…
— Сейчас, ночью? — опешил Петя.
— А ты считаешь, хозяин тебя днем будет ждать? — спросил лесник. — Собирайся, собирайся…
— Я не боюсь, я по тайге неделями бродил, не боялся, не чета твоим причесанным рощицам, — ощетинился Петя, сделав попытку завладеть бутылкой, однако лесник был начеку; под насмешливым взглядом деда Петя неохотно набросил на себя легкую куртку с молниями.
— Готов, дед, слушаюсь… пойдем учить твоего хозяина.
Лесник прихватил с собой корытце с медом, предварительно завернув его в чистую холстинку; к ним тотчас присоединился Дик, и лесник приказал ему оставаться на месте.
— Ты, брат Дик, оставайся, да, да, — оживленно повторил вслед за дедом и Петя, стараясь выразить умному псу свое самое доброе расположение. — Дом сторожи, Дик, дом — самое главное в жизни, ты — страж среди дремучего царства!
Он потянулся потрепать Дика по загривку, однако тому явно не нравился исходивший от Пети винный дух; отвернув морду, он бесшумно отступил прочь в темноту, и Петя нетвердо побрел за дедом, время от времени отгоняя сорванной на ходу веткой густо липнувших комаров. Предрассветный лес вокруг, редкий птичий звон, время от времена возникавший где-то в отдаленности, близившийся рассвет, уже слегка размытое ночное небо и начинавшие тускнеть далекие звезды над молчаливым лесом — все привело его душу в состояние душевной расслабленности. Мягкими, сырыми листьями по щеке Пети проехалась ветка орехового куста, затем тропинка сразу вышла на большую поляну, затянутую густым высоким туманом; лесник вдруг полностью погрузился в белесую, поглотившую его муть, и лишь поверху, слегка подергиваясь, поплыла его голова. Соображая, что происходит, Петя приостановился, затем бросился догонять; вот жизнь, вот правда, внезапно подумал он, в который раз решая переломить и переменить все в своей судьбе. Вот так и оборвать, говорил он себе, отсечь, до этой ночи ничего и не было, ни срывов по работе, ни беспорядочных случайных связей, ни своего бездомного положения и скитаний до женитьбы, ни тайного пьянства по ночам при Оле. Что за осиянный старик, неподъемный такой человечище, опять говорил себе Петя, загадочная душа. Вот каков Денис рядом с ним вымахал, что он может предложить племяннику взамен леса, тумана, здорового лесного сна, движения, превосходного желудка, зубов, аппетита, поистине мужского характера? Столичную карьеру, неврастению, умение изворачиваться и изо всех сил работать локтями? И в результате — больную, развращенную, озлобленную, подобно своей, душу? Нет, нет, зря он приехал, нельзя и заикаться об истинной причине приезда, нет у него права распоряжаться дальнейшей судьбой племянника. Дня три потянуть, сделать свое, забрести поглубже в лес, собрать пробы, повидаться с Веретенниковым и, сославшись на срочные дела, уехать.
Разволновавшись, Петя жадно втянув в себя сырой лесной воздух, чувствуя, что и шаг у него переменился, стал вкрадчивее, свободнее. Все-таки по материнской линии к нему, пожалуй, еще больше к Денису, перешло от дерюгинской породы нечто дремучее, лесное, даже звериное (утверждают ведь, что все возвращается через поколение!), и несмотря на свою утонченную интеллигентность, он всегда легко и свободно входил в древний мир леса.
Тропинка, невидимая в тумане, петляла, и Петя старался не терять из виду головы деда; туман кончился, вновь пошло сухое дубовое редколесье. Запыхавшись, он догнал лесника, взял его за плечо.
— Дед, подожди-ка…
Молча оглянувшись, лесник показал внуку кулак, выразительно призывая к полнейшей тишине; лес вновь расступился, открывая просторный прогал, уходивший в обширные луга; яснее стало небо, лесник с внуком вышли к пасеке, окруженной со всех сторон от ветра, от ненужного любопытства лесного зверя довольно высоким, чуть ли не в рост человека валом сухого колючего кустарника. Дальнейшие действия деда и вовсе оказались для внука непроницаемой тайной; они продирались сквозь кусты, вымокнув до нитки, обошли вдоль заграждения всю пасеку; при этом лесник раза три или четыре останавливался и все теми же ожесточенными знаками приказывал Пете молчать. «Знаю, знаю», — сквозь зубы шипел ему Петя, и они двигались дальше. Продолжало неуловимо светать; в одном месте, у поврежденного ограждения, с разбросанными во все стороны грудами сухих веток, лесник помедлил, затем вытащил из кармана горсть какой-то трухи, подбросил ее в воздух и тут же стал пристраивать корытце с медом. Петя завороженно присматривался к деду, чувствуя в нем присутствие недюжинной, хотя и непонятной ему силы, подчиняющей себе, вызывающей невольное уважение.
Пристроив приманку между двумя кучами сухого хвороста, лесник присыпал землю вокруг все тем же тусклым, летучим порошком, извлекая его щепотками из кармана. Опережая расспросы внука, он провел его между рядами молчаливо затаившихся ульев в дальний конец пасеки под просторный навес, забранный с трех, сторон горбылем и отделенный от самой пасеки густой зарослью лещины, так же молча указал внуку на грубый, прикрытый старым одеялом, широкий топчан, и Петя, подчиняясь, сел, затем, зевнув, лег навзничь. Сам лесник, расположившись на лавке у входа, сколоченной из тех же неструганых досок, словно растаял во мраке; Петя его больше не слышал, и самого его постепенно поглотила тишина; в такой тишине не нужно было притворяться даже перед самим собой. В конце концов, он не виноват, он ведь искал, мучился, бросался из крайности в крайность, хотел прожить честно и ярко, изо всех сил стремился доказать, а больше всего самому себе, что отцовские грехи и заслуги — отцовские грехи и заслуги, а он сам по себе, он должен пройти от начала до конца свой путь. И всякий раз кто-то словно брал и отбрасывал его назад, к нулю, отбрасывал, а сам стоял в отдалении и отстраненно наблюдал. Что-то главное в нем сломалось. Пример отца, не приспособившегося к условиям после Сталина, не согнувшегося под жестким прессом необходимости и в один момент рухнувшего, ничему его не научил, не отрезвил; он продолжает переть напролом, сделал несчастной хорошую, чистую женщину. Она терпит его пьянство, по всему ведь приходит конец, соберется и уйдет…
Петя осторожно приподнял голову, прислушался. Кажется, пришел хозяин, он появился перед Петей вначале размытой тенью, с громадным контуром головы, с приоткрытой пастью, отчего морда хозяина выражала явную благожелательность и даже какую-то хитроватую усмешку. Петя видел медведей в московском зоопарке и раза два или три в детстве в цирке; то было нечто очеловеченное, окультуренное и совсем не страшное, и, слушая рассказы деда о хозяине, он и представлял себе медведя именно таким — чуть ли не домашним и ручным. Но сейчас он сразу ощутил стынущей кровью присутствие рядом истинного хозяина, появившегося из душного марева. Громадный зверь, хозяин, по определению деда, шел бесшумно, словно тек в предрассветной сырой мгле, мускулы упруго-волнисто перекатывались у него под густой шерстью; от нерассуждающего сознания собственной силы хозяин шел напрямик; он зпал о присутствии Захара в своем, принадлежавшем только ему мире, и давно примирился с этим обстоятельством. Хозяин не раз и не два наблюдал из зарослей за жизнью кордона; иногда его неудержимо тянуло на раздражающий запах человеческого жилья; не однажды он слышал появление Захара где-нибудь в самой глухомани, куда человек не забредал годами; иногда хозяин подходил ближе и наблюдал за человеком; в такие моменты и лесник чувствовал присутствие хозяина где-то поблизости. Между этими двумя, столь разными существами, уже давно установилась, и оба об этом знали, и никогда не обрывалась своя особая внутренняя связь; по сути дела, она не обрывалась и в холода, когда хозяин залегал на зимовку. Таких укромных мест у него было несколько, и всякий раз лесник не мог успокоиться, пока не определялось место очередной зимовки хозяина, или у Провала под валунами, перевитыми столетними жилами корней дуба, или посреди Гусиных болот на небольшом сухом острове, густо покрытом приземистыми, старыми соснами, или же в Глухом буераке, самом отдаленном и трудном для наблюдения месте, находящемся почти в сердцевине Зежских лесов, среди обширно и густо разбросанных меловых взлобков, стиснутых, в свою очередь, то подступавшими к ним болотами, то густыми лесами, заваленными вековыми буреломами. Отсюда начиналось немало ручьев и речек, вливавшихся затем и в приток Волги, и в Днепр; именно здесь как бы проходила невидимая черта, разделявшая великую Русскую равнину некоей разграничительной линией, и можно было наблюдать, как два ключа, буквально друг от друга в нескольких шагах, давали начала ручейкам, текущим в совершенно противоположные края, один на восток, другой на запад…
Лесник не знал, что за причины заставляли хозяина выбирать место зимовки, но причины были, и они определялись, как потом выяснялось, после многолетних наблюдений и раздумий, особым норовом зимы, а затем и будущей весны. Залегал хозяин на Гусиных болотах — зима выпадала малоснежная, а весна ранняя, засыпал хозяин у Провала — снегу наметало лошади по холку, весеннее половодье подтопляло самые высокие места.
И в прошлый раз, приближаясь к пасеке, хозяин еще издали определил где-то неподалеку присутствие человека. Переходя небольшую ложбинку, он приостановился, присел, высунул из тумана тяжелую голову и, шевеля ноздрями, принюхался: присутствие человека, его запах заставили слегка шевельнуться шерсть у него на загривке. Лесника нужно было избегать и бояться, но именно этот человек для хозяина уже давно стал жизнью леса, и хозяин уже не разделял леса и человека с кордона, как не разделял зимы и лета; все было всем, переходило из одного в другое без границ и потрясений…
5
Вновь нырнув в туман, матерый, сильный зверь двинулся к пасеке: мед тоже был жизнью, и страсть к нему, к его пьянящей сладости и сытости туманила сознание, и ее трудно было превозмочь. В лесу неуловимо прибывало света, казалось, деревья сами собой приобретали смутные очертания, отделялись от общей массы, проступали в сплошной серовато-мглистой тьме; каждое мгновение прибавляло лесу новые краски и оттенки, вот уже стала различаться и сама мшистая земля; туман незаметно пропадал, в нем появились провалы, стали угадываться кусты, старые, полураспавшиеся пни, даже выступил высокий конус еще безмолвного муравейника.
Медведь отчетливо слышал запах меда, пчел; еще раз остановившись, он напряженно прислушался, подняв морду, но полнейшее безветрие подвело его; он бесшумно и привычно пошел вдоль заграждения из сухого хвороста. Теперь запах меда окончательно пересиливал осторожность, язык набух, отяжелел, пошла тягучая слюна, зверь низко, почти неслышно заворчал. У прохода, сделанного позапрошлой ночью, он задержался и вначале попятился; запах меда пропал, и прихлынуло чувство близкой опасности, но настоящего, подлинного страха, охватывающего его при встрече с человеком, не было. Со всех сторон сочился запах человека, и медведь некоторое время вспоминал. Он уже готов был попятиться, раствориться в рассветной мгле, в тумане и зелени, густыми волнами подступавшей к пасеке, по запах меда пробился опять, вначале слабо, затем усиливаясь, вновь захватывая весь мир. Чувство опасности отступило, размылось, лесной гость двинулся в проход и сразу наткнулся на корытце, оставленное лесником; ворча, зверь настороженно обнюхал его. Он уже не мог преодолеть себя, с недоверием попробовал из корытца и затем не мог остановиться, пока не вылизал все дочиста. Сразу отяжелев и двинувшись дальше, недовольно зарычал и, завалившись свинцово отяжелевшим задом в сторону, свесил голову, помедлил… его тянуло к земле, глаза закрывались.
Показалось солнце; с трудом растолкав внука, лесник повел его посмотреть на мертво раскинувшуюся на траве, внушающую невольное уважение косматую тушу зверя; он лежал на боку, прикрыв круглую голову передней лапой, с полуоткрытой пастью, с притупленными желтыми клыками и слегка высунутым языком; сон у Пети сразу пропал. Он обошел вокруг, присел, с недоверием, осторожно потрогал громадную темную подошву зверя.
— Махина! — от души восхитился он. — Такой шкуры на весь кабинет хватит, никакого ковра не надо… До чего же хорош, бандит! Дед, что теперь с ним делать? — спросил он хрипловатым шепотом. — Где у тебя топор? Давай сбегаю… Топором его… Топором! Топором по башке!
— Ух, прыткий, — с некоторой досадой и неодобрением осадил внука лесник. — Ишь, сразу топором! Кровь-то хоть живую видал? А ты знаешь, в Зежских лесах осталось пять или шесть таких зверей? А без зверя какой же лес? Нет, я его сейчас свяжу своим способом, от пасеки оттащим, к дереву приторочим, вот очухается, я с ним по-свойски, скажу: нехорошо, мол, хозяин, своих грабить, у нас с тобой такого уговора не было… Давай столкуемся, мир или война… Жалко с ним так, а по-другому не уговоришься, ничего, притерпится… Постой, постой…
Внезапно встревожившись, лесник, торопливо присев, стал рассматривать одну из задних лап матерого зверя и неразборчиво что-то бормотать и даже изумленно восклицать.
— Ты знаешь, чужой забрел, не хозяин, — задумчиво сообщил он, несколько погодя. — Видать, спугнули лесной стройкой, такое наворотили, кого хочешь выживут… Ну, этого шатуна надо проучить с резоном… житья от него не станет… ну, ну, голубчик… То-то, я гляжу, загривок у него вроде потемнее…
В руках лесника появилась длинная, смотанная в аккуратные кольца веревка; Петя с уважением смотрел, как дед ловко и быстро, в пять-шесть петель стянул лапы зверя, еще раз внимательно прощупал узлы и остался доволен. Вручив один из концов веревки внуку, он коротко бросил:
— Давай захлестывай через плечо… Потянем его с пасеки долой… давай разом, взяли! Ну-у, по ошли!
Невольно подчиняясь, Петя стал тянуть вместе с дедом, и когда они, изо всех сил упираясь, оттащили медведя метров за сто от пасеки, Петя покрылся липкой испариной, по лицу градом катился крупный пот. Тяжело отдуваясь, он привалился к дереву, вытер лоб.
— То-то, безделье да пьянка, — безжалостно припечатал лесник, присаживаясь у туши зверя и что-то делая с веревками, заводя один конец от стянутых передних лап к березе и закрепляя его там. С нарастающим интересом наблюдая, Петя никак не мог отдышаться, тяжело, со свистом втягивал в себя воздух. — Вот она, ваша городская жизнь, других горазды учить. Молодой, здоровый мужик, не серчай уж, зарос жиром, как боров, сердце в жиру, где уж тут не задохнуться…
Внук обиделся, промолчал, и лесник, закончив свое дело, выбрав место, присел отдохнуть; посапывая, Петя пристроился рядом, осматриваясь, — лес успел наполниться солнцем, птичьими голосами, звеневшими теперь со всех сторон.
— Парень теперь пол-леса обегал, а хозяина, может, и вовсе нет, чужак его поломал, вишь, наш-то онедужел от годков, а этот пан в самой силе, — кивнул лесник в сторону зверя. — Набрел на чужое добро, наглотался и сопит… Вот так-то, — добавил лесник, отстраненно глядя перед собой. — Еще пора не приспела, — теперь значительно и медленно, вкладывая в свои слова особый, только ему самому известный смысл, продолжал он. — Денис зелен пока, главного не смыслит… Ты, Петр, когда с пьянкой кончишь? — неожиданно круто сменил он разговор, — Видишь, лежит, а ведь зверь-то серьезный, видишь, что от зелья-то происходит. Чего ты ее хлещешь? Ты всю ее все равно не выпьешь, сколько ни тужись, она тебя поборет… Красивый, умный мужик, здоров, мозги на месте, племяшу дороженьку показываешь? Фамилию пакостишь…
— Опять пример! Фамилию пачкаешь! Не обещал я никому отцовские погоны всю жизнь таскать. Я свою жизнь живу, понимаешь, свою жизнь, и никому ничем не обязан! Из-под отцовского обвала еще не могу выбраться. А мне вон уже куда за тридцать! Везде его память, везде он, а я, я? Где я? Только узнают, и сразу другое отношение — вот, мол, пигмей… Куда гусь с лапкой, туда и рак с клешней. И потом, дед, об отце все чаще высказывают иное мнение, приходится учиться смотреть в лицо жизни весьма прямо. Нет, дед, ты и близко не представляешь современный город, его лабиринты и тиски, завидую я тебе, дед, оттого, что ты свободен совершенно, тебе никому ничего не надо доказывать! Ты, дед, счастливый! Ты формулу жизни открыл, стал выше всех философий… Дед, ну, скажи, что ты раскопал? Поделись секретом, мне очень нужно!
— Нет у меня никакой захоронки, Петр, — сказал лесник, ощущая ответный холодок в душе, — так далеко они друг от друга сейчас находились. — Только как тебе понять? Разные мы, разные у нас жизни… Ты вот не поверишь, а главного-то я как раз и не знаю, может, оттого жить интересно, всякое мерещится, вроде остатный разок копну — самое главное за хвост выволоку, упокоюсь… Ты вон какие науки одолел, а все слепой кутенок. Тайна в самом человеке запрятана….
— Дед, а дед…
— Погоди-ка, Петр, не время, гостек наш прочухивается, — оборвал лесник, и в самый раз; содрогнувшись всей своей массой, медведь глухо заворчал, дернулся и некоторое время еще лежал спокойно, приходя в себя. Внук с дедом ждали, изредка, шепотом перекидывались каким-нибудь замечанием; трудно и мучительно отходя от своего беспамятства, зверь никак не мог понять, где он, что с ним приключилось и почему ему не подчиняются лапы. Он ужо давно уловил запах опасности, лишь инстинкт и богатый опыт заставляли его притворяться и сдерживать себя — ведь он никак еще не мог определить главной опасности, и только различив скошенным глазом силуэты людей, он рванулся, пытаясь встать; веревка, опутавшая ему ноги и умело заведенная за ствол березы, осадила назад, и он ударился всем телом о землю. Тогда к нему пришел нерассуждающий ужас, он стал биться, судорожно дергаться, в спутавших его веревках, тоненько хрипеть и хрюкать. Такого жалкого голоса Петя от сильного матерого зверя не ждал и наблюдал с невольным любопытством и жалостью за катавшейся и бившейся беспорядочно тушей, готовый в любой момент удариться в бег; Пете казалось, что веревки вот-вот лопнут. Он часто поглядывал на деда, продолжавшего не отрываясь смотреть на зверя, на его попытки освободиться, и ему начинало казаться нечто невероятное: и дед и зверь как бы слились в одно целое. Петя чертыхнулся и потряс головой — дед разделился с медведем, начинавшим обессиливать; зверь больше не ревел и не хрюкал даже, а, задыхаясь, жалобно стонал. Из пасти у него била грязная пена, лапы дергались уже совершенно беспорядочно.
Лесник встал перед мордой зверя, и Петя, стараясь ничего де упустить, тоже невольно придвинулся ближе.
— Так-то, гостек, — тихо попенял лесник окончательно выбившемуся из сил зверю, неподвижно и затравленно глядевшему маленькими бурыми глазками. — Будешь, шатун, разбойничать? Уж по нужде бы, а то ведь от прихоти ломить… Нехорошо, так-то мы с тобой жить не столкуемся… Тебе лес нужен, мне нужен, вот и давай по-соседски ладить…
Тут лесник еще шагнул вперед и, остановившись перед самой мордой зверя, молча присел, словно собираясь развязать своего косматого пленника.
— Дед, не сходи с ума! — закричал Петя, но лесник далее не оглянулся и несколько раз стеганул зверя, норовя попасть по ушам, тоненькой лозинкой; медведь взревел, захрюкал, его тело выгнулось, забилось, морда метнулась к человеку, и до Пети дошел душный, смрадный запах испражнений.
Лесник встал, отбросил хворостину и, окликнув замершего от изумления внука, вместе с ним отошел от зверя к дереву с захлестнутым за него вторым свободным концом веревки. Он подхватил этот конец и сильно дернул; тотчас петли, опутывающие лапы и голову зверя, соскочили, но медведь, оказавшись на свободе, по-прежнему не шевелился, как бы ничему уже не веря. Лесник, с усмешкой приставив ладони ко рту, оглушительно гукнул, и зверь, в одно мгновение прянув, вертанулся волчком и, ошалев от неожиданной свободы, бросился прямо на людей. Петя шарахнулся за дерево, медведь же, круто изменив направление, нелепыми скачками, ежесекундно оглядываясь, умчался в чащу леса.
— Больше не припожалует, теперь ему до конца наука, озоровать не станет, умен лесной мужик…
— Ну, дед! — выдохнул Петя, с трудом приходя в себя, и лесник, взглянув на заметно побледневшего внука, на его взмокший лоб, засмеялся.
Денис вернулся лишь на третьи сутки к обеду, Петя успел побывать и у лесничего в Зежске, проведя с пим чуть ли не целый день, и у Провала, и у самой границы запретной зоны с дозиметром, взял там в разных местах воды и почвы для проб, набрал грибов и мхов (здесь не обошлось без скупых осторожных намеков и указаний Воскобойникова) и теперь, украдкой от лесника запаковав все в специальные футляры и емкости, а затем в чемодан, ждал лишь возвращения племянника. Заметно похудевший и неразговорчивый, Денис не стал ни о чем рассказывать, лишь хмуро, с плохо скрытой неприязнью поздоровался, выпил почти целый кувшин молока и завалился спать; лесник успокоил обидевшегося было Петю, приехавшего в такую даль ради племянника, посоветовал ему не торопиться, сказал, что характер у парня мужицкий, дна не достанешь, уж если что в голову втемяшилось, никаким обухом не вышибешь, и разговор между дядей и племянником состоялся только на следующий день. Они встретились к вечеру, за полдником, ели кислое молоко с рассыпчатой картошкой, затем свежий мед с пирогами и пили чай; поглядывая на хмурого правнука, лесник не выдержал, спросил, как там поживает хозяин и не передавал ли он старым знакомым поклона; Денис, и глазом не моргнув, широко улыбнулся, сунул кусок пирога в мед, заинтересованно наблюдая за свисавшими с него тягучими янтарными нитями, затем с удовольствием отправил в рот.
— Не заедайся, дед, — сказал он миролюбиво, отхлебывая чай. — Я его все равно достану…
— Знаешь, ты, парень, тоже не очень заносись. Два дня тому у нас на пасеке кто-то другой побывал, не хозяин. Всю ночь прогостил, — сообщил лесник, посмеиваясь. — Чужак забрел… Мы его с твоим дядькой ночь напролет угощали… Под утро взмолился: отпустите, говорит! Ну, ступай, гостек, ладно…
— У вас тут такие чудеса, расскажи в Москве, ни за что не поверят! — не удержался и Петя, поймав на себе быстрый взгляд племянника. — Однако об этом после. Я здесь по просьбе бабки твоей Алены, мы все твои родные, хотели бы, как это водится, помочь тебе определиться…
— Немедленно отправляться в Москву и поступать в университет? — смиренно предположил Денис, опустив глаза в блюдо с медом.
— Самое лучшее было бы, самое лучшее! — подхватил Петя, стараясь не обращать внимание на проскользнувшее в голосе племянника раздражение. — Время гнилое, нужны сильные, честные люди, ты даже не представляешь, какая везде борьба. Вон академика Обухова совсем замордовали… Ты хотя бы слышал, что творится у тебя под носом, в Зежских лесах?
— Строят закрытый объект, — сказал Денис. — Дальше Провала никому из местных хода нет. Наверно, какая-нибудь ракетная база… Говорят, шахты в километр глубины… Что ты так смотришь, дядя?
— Думаю… Через десять — пятнадцать лет ты мог бы подхватить и понести дальше идеи того же Обухова… Ты же любишь природу, а ему так нужны помощники.
— Слишком много идей и слишком мало дел, — опять не согласился племянник, и теперь в его словах прозвучала откровенная издевка. — Не хочу я никаких идей, осточертело. Хочу просто жить.
— Просто жить ты не сможешь, — пошел в наступление Петя. — Ты со своей бабкой поговори, она тебе объяснит, что значит разбуженный интеллект.
— Откуда ты знаешь, что я могу? И потом, я решил идти в армию, дядя, — сказал Денис, — вернусь, поглядим…
— И угодишь прямехонько в какой-нибудь еще один Афганистан, — подхватил Петя.
— И великолепно! Сам попрошусь! Там хоть настоящее дело будет, или ты, или он, — сказал Денис, стараясь не смотреть в сторону лесника, с большим вниманием слушавшего разговор и еще ни разу не подавшего голоса, затем вскочил и хлопнул дверью.
— Ты же считаешь себя взрослым человеком, Денис! Пожалуйста, вернись! — крикнул вслед ему Петя и обрушился на молчавшего по-прежнему лесника: — Ты вырастил законченного эгоиста, дед, пожалуйста, пример налицо!
Денис, еще слыша сердитые голоса, прошел к колодцу, посидел на краю колоды и решил спать в сарае, на сеновале; бесцельно побродив по кордону в сопровождении Дика, повалявшись в траве и несколько остыв, он все-таки не выдержал и вернулся в дом; в комнате, где остановился дядя, все еще разговаривали, и он, решительно толкнув дверь, вошел. Дед и внук разом повернули к нему головы, замолчали и глядели как-то странно.
— Вот, наш московский родич просит довезти его до бетонки, уезжает, — сообщил лесник, указывая на стоявший перед Петей на табуретке раскрытый чемодан. — Беда с вами… вы же разные люди… как же собираетесь вместе жить?
— Не надо, дед, — попросил Петя, комкая тренировочный костюм и заталкивая его в чемодан. — Мы ведь обо всем договорились… Приедет таксист послезавтра, отдашь ему деньги — двадцать пять рублей оставляю.
Лесник помедлил, опять избегая глядеть на Дениса.
— Раз так, пойду запрягать…
— Могу отвезти на мотоцикле прямо до станции, — неожиданно предложил Денис, опустив голову.
— Нет, с тобой я не поеду, — холодно и вежливо отказался Петя. — Мне с дедом надо еще поговорить.
— Я тебя так сильно обидел? — спросил племянник, быстро взглянув исподлобья, и в глазах у него вспыхнуло тусклое, тяжелое золото, но Петя, отметив силу этого, уже мужского, требовательного взгляда, выдержал и смотрел прямо.
— Нет, Денис, обидеть меня ты не можешь. Просто мы стоим на разных уровнях, нам не о чем разговаривать.
— А если я попрошу прощения, дядя? — сказал племянник, не отводя от Пети по-прежнему требовательного взгляда.
— Во-первых, ты мог извиниться и без моего на то позволения, — сказал Петя с некоторой иронией, — а во-вторых, я все равно уеду. Мне нужно быть у Обухова.
— Ну, дядя, прости, а? Ну, вожжа под хвост попала, ну, давай поговорим, а? — просил Денис, подступая все ближе, уселся рядом и как-то по-мальчишески, по-щенячьи ткнулся Пете в плечо.
Тут Петя бросил свой чемодан, взял племянника, вымахавшего чуть не под потолок, за плечи и, встряхнув, пристально заглянул в глаза.
— Я действительно должен ехать, — сказал он. — Я нужен там, вырвался буквально на три дня, тебя прождал. А с тобой, как видишь, щей не сваришь. Обухов, наверное, нервничает. У него очень, плохая полоса сейчас. Я должен быть там. Хорошо, отвези меня на станцию, пусть дед отдыхает, до поезда поговорим. И, пожалуйста, будь добрее, внимательнее к близким, к матери, а? — попросил Петя. — Ей очень не повезло, теперь совершенно одна, вернулась в Москву и одна… Сняла какую-то комнатенку в коммуналке, не захотела вернуться в отцовский дом. Не хочется никаких прежних связей, я ее понимаю… Она деда вот ненавидит, говорит, отнял у нее сына, тебя то есть. Хорошо ли так жить? В ненависти. Сейчас разменивает с бывшим мужем квартиру. Почему же не ответить хотя бы на ее письмо? Здоровый, сильный, умный, образованный юноша… Зачем такая жестокость?
Лесник вновь попытался уговорить внука переночевать и ехать на рассвете, но того уже нельзя было остановить, и он твердил о необходимости поспеть к ночному московскому, чтобы утром быть в Москве.
— Не сердись, дед, — попросил Петя. — Я бы и сам здесь с удовольствием погостил. Денис, кажется, и без нас справится, парень мне нравится, не надо его больше дергать. Молодец ты, дед! Прощай, береги себя, ты всем нам нужен, дед, очень нужен…
— Ладно, нечего языком чесать зря, решил уезжать, шевелись, пора.
Стрекот мотоцикла растворился и затих в негромком шуме ветра, и лесник облегченно вздохнул; накурили, надымили и были таковы.
— Вот так-то, Дикой, — пожаловался он, наполняя про запас колоду водой. — Поди их, теперешних-то, раскуси… Не признают ни черта, ни Бога… Ну, хорошо, нашего-то зеленопузого еще, того, шибануло, а этот? Голова сивая… На ночь-то глядя переть… Наш ветрогон потрясет его напрямую, по глухой дороге… Палку бы потолще, по горбу одного да другого!
Услышав про палку, Дик, внимательно слушавший хозяина, посмотрел по сторонам; кругом все вроде было в порядке, пофыркивал неподалеку конь, припозднившаяся Феклуша доила корову, и в подойник били звонкие струи молока. Дик привык верить хозяину безоговорочно; он встал и пошел вокруг кордона по ветру, но и лес был сегодня спокоен, чувствовалась лишь прибывающая тяжесть летней быстрой ночи. Дик давно уже привык, что люди в его жизни на кордоне появлялись и пропадали, некоторые исчезали совсем, некоторые возвращались; незыблемым и постоянным оставался на кордоне лишь сам хозяин, и это было вечным, все остальное Дика не касалось, но он все ж вышел к воротам, осторожно, издали принюхиваясь к дороге, сел и, насторожив уши, пытаясь разобраться, что происходит, вслушался — замиравший ноющий звук мотоцикла доносился откуда-то с непривычной стороны. И пес не ошибся — Денис и в самом деле повез сосредоточенно ушедшего в свои мысли дядю ближайшей дорогой, минуя автостраду, через проселки, и уже часам к двенадцати ночи они вывернули к одной из окраин Зежска, к так называемой Пушкарской слободе — теперь до вокзала оставалось минут двадцать. В эту сторону город еще не начинал строиться, как было сто или двести лет, так все и осталось: тихое кладбище, старый стрелецкий шлях в разрушившихся от древности ветлах, ракитах и тополях; его раз в году ровняли грейдером для связи с десятком вымирающих деревень и поселков, и в любой даже небольшой дождь он превращался в непроходимую трясину. В таких небольших среднерусских тихих городах, вроде Зежска, в глубинке, в самом центре России, цивилизация, несмотря на огромные заводы под боком и наращивание мощностей производства, обрывалась неожиданно, точно ее обрубали: и завод большой дымит вовсю, и рабочих хватает, и улицы есть хорошие, асфальтированные, и освещение на уровне, и автострада, бетонка, как ее называют, проложена уже после войны, а сверни на десять — двадцать шагов в сторону и погружаешься во все тот же российский библейский мрак, во все то же бездорожье, раскисшую по колено грязь на шоссейках и проселочных дорогах, видишь все тех же понуро бредущих из города в плюшках, кацавейках и резиновых сапогах баб с неизменными мешками через плечо и клеенчатыми неохватными сумками. Если повезет, высветлится где-нибудь нарядная кровля, напомнит о старых благословенных временах крестьянского изобилия, шумных ярмарках, осенних свадьбах, престольных гуляниях, кулачных боях, когда одна слобода грудью вставала против другой, — одним словом, ничто подобное уже ни разу не возвращалось и не возвратится, как, впрочем, ничто в жизни не возвращается и не повторяется.
Размышляя таким образом, Петя стоически выдерживал фантастическую тряску, вихляние и подскакивание, стараясь не разжимать от греха крепко стиснутых зубов и тем более не разговаривать и умудряясь еще придерживать чемодан, в любую минуту готовый вывалиться из кузова коляски; племянник оказался весьма темпераментным водителем, и Петя всю дорогу про себя чертыхался, серьезно опасаясь оказаться где-нибудь на обочине с переломанными ногами или вывороченной шеей.
Навстречу надвинулась громада старых тополей и ракит вдоль старого шляха, мелькнули какие-то огни. Денис, резко подминая затрещавшие кусты, свернул в сторону, выключил свет и остановился среди зарослей.
— Тихо, тихо, — услышал Петя его предупреждающий голос. — Выходи, дядя, давай, помогу… давай сюда вот, сюда… Сюда, за куст…
— В чем дело, Денис… мы же опоздать можем…
От города стремительно накатывалась лавина огней, рев тугой волной ударил в уши. Первым мимо с утробным воем промчался тяжелый мотоцикл, за ним волочился на металлическом тросе закрытый гроб, вихляясь, подскакивая и переворачиваясь с боку на бок на ухабах и рытвинах; за ним лихим эскортом мелькнуло еще с десяток машин разных калибров, с молчаливо застывшими в седлах темными фигурами, и все исчезло за ближайшим пригорком, только гул и вой, постепенно удаляясь, еще некоторое время немилосердно терзали уши.
— Чуть было не влопались, — негромко, как бы еще опасаясь, с явным облегчением сказал Денис, стащив шлем и вытирая рукавом взмокший лоб. — Ну, была бы история…
— Объясни мне, наконец, что это такое? — Петя тоже невольно понизил голос.
— Ничего особенного, выполняет свои ритуалы черная гвардия… Одним словом, резвятся мальчики. Ну, черная гвардия Сталина, — пояснил племянник. — Появилась такая… у наших, у зежских, сейчас гостят соратники из Холмска и Смоленска… а может, и из Москвы…
— Ты всерьез? — искренне не поверил Петя, хотя раньше и слышал о каких-то возникших в последние годы беспутных, почти подпольных организациях молодежи; сейчас он никак не мог отделаться от мелькнувшего мимо видения — прыгающего гроба, черных силуэтов мотоциклистов. — Гроб настоящий?
— Не только настоящий, думаю, с покойничком, — неохотно процедил племянник. — Вот только не знаю, как они их выуживают. Говорят, самых знатных… Сторожа на кладбищах от них как от чумы бегают. Садись, дядя, поехали… в самом деле опоздаем…
— Но такого не может быть! — не поверил Петя. — А милиция? Это ведь безнравственно!
— Милиция их боится, — уронил Денис, приободрившись. — У них все на автоматике, моторы стоят автомобильные, отщелкнул на ходу гроб, попробуй возьми его, догони… Садись, дядя, опоздаем…
— Но зачем?
— Скучно жить, — племянник включил зажигание; через полчаса они попрощались на пустынном ночном перроне, молча и отстраненно, словно им было неловко друг перед другом и нечего сказать. Поезд уже тронулся, Денис пошел рядом с вагоном, провожая глазами все чаще мелькавшие окна, затем сел на подвернувшуюся скамью, а Петя, тем временем устраиваясь, ворочался с боку на бок на своей узкой боковой полке, никак не мог успокоиться; фантастическая сцена с кавалькадой мотоциклистов и гробом не шла из головы. Хорошо, что наконец хоть отношения с Олей прояснились и обрели стабильность, теперь они вместе на законных, как говорится, основаниях, и хотя прежней, почти убивающей страсти и в помине не осталось, появилась ровная и постоянная потребность друг в друге, в теперешней неустойчивой жизни, это, пожалуй, дорогого стоит.
Несмотря на внешнюю тишь да гладь, на все разговоры о миротворчестве, внутренняя атмосфера в обществе накаляется, озлобленных и неверящих ни в Бога, ни в черта становится больше и больше. Лукаш в своем журнальчике из номера в номер пощипывает академика Обухова и его институт, отчим становится суше и философичнее.
За всю ночь он так и не сомкнул глаз; он неотступно чувствовал какую-то надвигающуюся беду, но даже приблизительно не мог представить себе, насколько вовремя он поспешил возвратиться в Москву; Оля, начинавшая все больше раздаваться и ходившая с неуловимой грацией и осторожностью беременной женщины, попросила тотчас после приезда позвонить Обухову и матери.
Через месяц Денис ушел в армию, и на кордоне сразу же все переменилось, притихло и погасло; как то уж очень скоро зарядили тягучие осенние дожди, монотонно шелестевшие сутками; осень проползла блеклая, неяркая и безрадостная, хозяин залег на этот раз на зимовку у Провала. Лес и дороги завалило глубокими, в сажень, снегами, даже к скотине, дать ей корму и напоить, приходилось пробиваться с трудом; весной кордон почти на месяца оказался отрезанным половодьем от остального Божьего мира, затем вода схлынула, и земля в одночасье задымилась первой зеленью, запестрела ярким весенним цветеньем; лесника стали томить одиночество и сомнения. С месяц или больше он крепился и, наконец, бесповоротно решил проехаться по всем своим родным и близким в последний раз и с неделю после этого трудного решения не спал, кряхтел, ворочался, вжимая голову в подушку, вскакивал, подходил к распахнутому окну — смутный, отдаленный шум леса, разрастаясь, придвигался, Денис первые месяцы писал часто, затем замолчал; сколько времени прошло, почти год, а никак не привыкнет без парня, пусто на кордоне, хмуро, и Дикой на глазах стареет. Видать, пошло по последнему кругу, слышно, кордон скоро снимут, мешает строительству; Зежские леса стали теперь закрытой зоной. Возле провала потопчешься и назад, а то ведь и схлопочешь горячего в зад, там не спрашивают, свой ли, чужой — вмажут, и будь здоров. Птиц заметно уменьшилось, чудно, зверь тоже уходит, покидает обжитые места, а птицу со зверем не обманешь, какое-то нехорошее дело люди затеяли. Что ж это за мертвый лес без живности? Вот, старый пень, надо бы Петру написать, сколько всего переговорили в последнюю встречу, а про это как отрубило. И совсем ни к чему себя обманывать, главная червоточина в другом, и ему теперь тоже не удержаться, будь что будет. Воскобойников кого-нибудь на время пришлет, за пасекой можно попросить Егора приглядеть, не все ему по бабам шастать бугаю, ох, здоров уродился, долго не износится. Раз душа заныла, нечего ей отказывать в последний раз на белый свет взглянуть, кланяться никому не надо, сам заработал, сам и промотаю, дорога-то неблизкая, от сынов своих да внуков он не возьмет ни копейки… А Воскобойников поймет, мужик не привозной, с человечьей-то душой, что тут сделаешь, проснулось старое-то, потянуло, не удержишь; хотя, если крепко подумать, какой у него может разговор с тем же Родионом Анисимовым получиться? Дурь одна и получится, стариковская причуда… А все это Петра дело. Аленка сколько раз говорила, липнет к нему без разбору и чистое, и нечистое, даже вот Родион Анисимов вынырнул. К внуку Петру, как на огонь в ночи, и ползут, и летят, а сам какой то неприкаянный, не знает, что с собою делать, куда себя пристроить…. Только Анисимов не к спеху, сначала надо сынов повидать, на Илью взглянуть, к Василию наведаться — немного осталось от прежнего-то богачества. Сами-то они не догадаются, письма по году ждешь. Зачем он им теперь? Вот Василий прислал с полгода назад какое-то смутное письмо, с глухой обидой на старшего брата, и как в воду канул.
Через неделю, окончательно уладив дела на кордоне, уговорившись и с лесничим, и с Егором, подарив Феклуше большой, красными цветами по кремовому полю платок, шерстяную кофту, новую плюшку и ботинки и наказав ей слушаться Егора и присланного лесничим на подмену молодого шустрого парнишку из студентов-практикантов, Захар уехал.
В Москве он не стал заезжать к родным и, просидев почти сутки на аэродроме, улетел в Пермь; набирая высоту, самолет накренился, и лесник увидел внизу среди перелесков, озер и речек, еще полноводных после весны, густо рассыпанные предместья Москвы, трубы, дымы, ровные ореолы дорог, непрерывные потоки машин. Кордон надежное, казалось, вечное пристанище, тоже остался далеко позади. А может, и не было ничего, ни Бога, ни черта, ни Густищ, ни кордона, ни его самого?
Самолет на усиленной тяге, отдающейся натужной дрожью во всем его стремительном теле, уходил выше и выше. Скоро внизу расстилалось безбрежное, ослепительное под солнцем, бугристое облачное покрывало.
6
Любое самое закрытое и тщательно охраняемое учреждение или ведомство в Москве имеет тайные, непредусмотренные входы и выходы, своего рода клапаны, способствующие незаметной циркуляции и обновлению атмосферы, появлению неожиданных сквознячков, а то и прострельных ветров и шквалов; очевидно, таково свойство жизни, в одном месте латаешь, в другом рвется, одно приобретаешь, другое теряется. Неосознанно спасаясь от чрезмерных перегрузок изработанного сердца и изнуренного, хотя еще сильного мозга, Малоярцев находил в подобных не столь уж и оригинальных одиноких рассуждениях отдых и успокоение. Когда в один прекрасный день ему доложили о появлении в приемной академика Обухова и его просьбу незамедлительно принять для важнейшего государственного разговора, Малоярцев, подавляя острую вспышку гнева, вызывая у секретаря чувство острейшей неуверенности и страха, сухо спросил, кто разрешил пропустить академика Обухова, и, только убедившись, что его личный аппарат не имеет к свершившемуся факту никакого отношения, чуть-чуть остыл. Отыскивая наилучший вариант, мозг работал послушно и четко. Академика Обухова, проникшего в приемную, словно вновь объявившегося на земле Иисуса Христа, нельзя было не принять. Внутренне настороженный, готовый к бою сей ученый муж вскоре и сидел у Малоярцева в кабинете и, выложив на стол перед собою папку с двумя щегольскими металлическими застежками и кое-как пристроив рядом беспокойные руки, излагал свое дело. Происходящее Малоярцеву сразу не понравилось, и он пытался угадать, какие еще сюрпризы могут выпорхнуть из потертой, видавшей виды папочки с новенькими застежками. Нервное беспокойство пальцев академика тоже раздражало хозяина кабинета, однако он не разрешил себе сосредоточиваться на мелочах; медленно и уверенно входя в рабочей ритм, терпеливо слушая Обухова, он сохранял на лице приветливое и доброжелательное выражение; даже легкая улыбка, как бы успокаивающая собеседника в острые моменты, время от времени появлялась в тусклых глазах Малоярцева. А разговор шел напряженный, с ловушками и тупиками, хотя начинался он весьма спокойно и вежливо, со взаимных приветствий и вопросов о здравии друг друга. Коснулось дело и положения в ученом мире, состояния отечественной науки; строптивому академику, судя по всему, надоело влачить жалкое существование, и он пришел просить о помощи; Малоярцев тотчас обежал мысленно свое обширное хозяйство, прикидывая и один, и другой, и третий варианты; тщедушный человек, забившийся перед ним в широкое кресло и как бы потерявшийся в пространствах кабинета, в хрустальных потоках света, обильно льющихся через стеклянную двойную стену, обращенную сейчас на солнце, давно уже был, сколь его ни урезали и ни теснили, величиной мировой, и только за последние полгода за рубежом появилось несколько его новых работ. Одна, правда, была перепечатана из советских источников, а вот другие… Уже дважды за океаном начиналась недостойная шумиха о преследовании советским режимом выдающихся ученых за инакомыслие, за критику существующего правопорядка, и в пример чаще всего приводилось имя академика Обухова; неделю назад Малоярцев и сам листал бессонной ночью последние опубликованные работы академика, что-то такое о реликтовых и динамичных признаках биосферной реальности второй половины двадцатого века; давно пора вернуть заблудшую овцу на стезю праведную, и хорошо, что Обухов пришел именно сюда, а не попросился на прием к самому. В конце концов истинная наука плевала на любые границы и политические системы, у нее свой непреложный путь, и заполучить академика Обухова в свои союзники заманчиво.
Принесли чай в серебряных подстаканниках, сахар, тонко нарезанные дольки лимона и крендельки, обсыпанные маком. Подчеркивая важность разговора, Малоярцев приказал секретарю никого не принимать и ни с кем, без крайней надобности, не соединять. Академик опустил дольку лимона в чай, придавил ее ложечкой, глаза у него озорновато прищурились.
— Превосходный чай, — кивнул он с одобрением. — Посидеть бы нам с вами, двум немолодым людям, за самоварчиком где-нибудь на природе, потолковать по душам… А мы никак не угомонимся, друг другу жизнь стараемся укоротить…
Принимая вызов, хозяин кабинета внутренне подтянулся, глаза его льдисто блеснули, а вялые губы сложились в доброжелательную улыбку.
— Мне возразить нечего, Иван Христофорович, конечно, жаль, да… жаль, — согласился он с искренним огорчением. — Приятные эмоции в этом кабинете, как вы верно изволили подметить, большая редкость. Слушаю вас, Иван Христофорович, давайте в комплексе, легче уловить суть.
Обухов, пришедший сюда больше по инерции, будучи не в силах остановить своего многолетнего бега, и мгновенно почувствовав настороженность всемогущего, по его представлению, хозяина кабинета, обрел здесь какое-то каменное спокойствие; конечно, перед ним опытный и безжалостный противник, не стоило ждать ни пощады, ни милости, но сейчас незачем было и притворяться, просто нужно идти прямо и до конца, несмотря на службы просматривания, записывания и подслушивания, несомненно, запущенные на всю катушку. И Обухов, не скрывая своих намерений, вздохнул, как бы еще раз сверяясь с самым верным и давним другом и союзником, с сожалением отодвинул от себя недопитый стакан с ароматным английским чаем, обильно сдобренным жасмином.
— Я к вам, Борис Андреевич, с теми же зежскими делами…
Отгоняя от себя какие-то тусклые и ненужные сейчас видения прошлого (какой-то лес, падающую в ясном небе вершину сосны), Малоярцев слегка кивнул, ожидая продолжения, хотя зежские дела для него самого были давно решены, закрыты и отодвинуты в далекое прошлое, — академик мог бы и сам догадаться и перестать толочь воду в ступе, есть ведь вещи непреложные. Выслушать его, конечно, придется; из академиков ведь его не уберешь, интересно, на что он может надеяться?
— Понимаю, понимаю, Борис Андреевич, — говорил между тем Обухов, невольно приободренный живейшим вниманием к себе со стороны хозяина кабинета, — понимаю, в наших роковых просчетах с зежскими делами большую роль играет наша некомпетентность…. Серьезнейшая на сегодняшний день проблема! Экология давно уже не только модное течение, не блажь ортодоксов вроде меня… природа живой, гармонически отлаженный организм, намного сложнее любого своего творения, в том числе и нас с вами, в нем есть свои нервные узлы, определяющие жизнедеятельность огромных регионов, особенно сильно срощенные с космосом. Зежские леса — легкие центральной России, именно от них зависит экологическое равновесие чуть ли не всей европейской части нашего государства. Здесь располагаются зоны наивысшей биологической активности. Именно здесь зачинаются крупнейшие наши реки. Если мы неосмотрительно нарушим гидрологический режим зежского региона, начнется необратимая деградация огромной территории от Балтики до Урала. Мы просто уподобимся самоубийцам… В природе существует закон равновесия, объективная истина, подобная скорости света или силе тя«готения, в подобных законах явлена космическая природа — данные законы неколебимы и в органической жизни, и в неорганической, в биосфере и в ноосфере…
— Знаком, знаком с вашими трудами, Иван Христофорович. Признаюсь, кое-что не по моим зубам, общие же контуры ясны. Смею заметить, вы излишне, на мой взгляд, драматизируете… Зачем же обрекать человечество? Оно еще за себя постоит! — заключил Малоярцев и продолжал проникновенно: — Уважаемый Иван Христофорович, я чуть ли не под микроскопом изучил, именно изучил вашу записку о зежском противостоянии. Вопросом почти полгода занималась группа высококвали-фицированных экспертов! Вас кто-то дезинформировал. Ну, поверьте старому волку: в зежском регионе никаких особых работ не велось, не ведется и не планируется в обозримом будущем, обычная хозяйственная деятельность…
Стараясь придать своему голосу задушевность и искренность, Малоярцев говорил то, что должен был говорить, хотя все им сказанное сейчас было откровенной ложью, и его собеседник это знал; и опять-таки, в силу различных причин и обстоятельств, ничего другого нельзя было сейчас сказать, и, подумав об этом, Малоярцев, охваченный приступом спасительного старческого красноречия, стал припоминать те узкие места, где могла бы приложить свои силы большая наука, и Обухов слушал его с задумчивым выражением лица, хотя набухшие складки на лбу выдавали его. Хозяин кабинета попросту тянул время, ничего существенного конечно же он не скажет и не решит, в намеченный срок извинится и, сославшись на занятость, на необходимые, срочные дела, любезно распрощается. Второй раз, в скором времена в этот кабинет, конечно же не попадешь. Но ведь он знал про хозяина кабинета многое — умный, вероломный и коварный противник, красиво, без зазрения совести лжет, но должна же быть и у этого высокопартийного человека в футляре какая-нибудь обыкновенная человеческая слабость, необходимо ее нащупать, иначе все старания, поход сюда, в партийный саркофаг, обернутся и на этот раз полным крахом. Нет, нет, у этой замшелой скалы нет и не может быть никаких слабостей, тут же подумал Обухов, сей великий человек одержим единственным желанием — досидеть в своем великолепном кабинете до конца дней. Власть — вот, кажется, единственная его слабость, и конечно же столь всепроникающее оружие нельзя сбрасывать со счета.
Хозяин кабинета мгновенно уловил некое нарушение равновесия в сгустившейся атмосфере, и у него уже стала пробиваться на лице прощальная улыбка; академик встрепенулся и вновь упрямо забарабанил сухими вальцами в край стола.
— Простите, Борис Андреевич, а главное, главное? Вы сейчас не коснулись основного…
— Чего же именно? — сухо поинтересовался Малоярцев, настраиваясь к своему собеседнику, продолжавшему намеренно ничего не замечать, еще более неприязненно.
— Зежский лесной массив расположен над юго-восточными горизонтами подземного водного бассейна, разумеется, известным вам под названием Славянского моря… Отсюда подпитываются все крупные реки европейской части Роcсии, — сказал Обухов. — Сей подземный бассейн уникален, контуры его границ точно не установлены, запасы пресной воды в нем равняются запасам Байкала, а может быть, и превосходят их. Последствия, Борис Андреевич, катастрофически непредсказуемы, если в подведомственном вам хозяйстве в Зежских лесах произойдет какой-нибудь сбой. Представляете? Прорвись эта ядерная гангрена в подземные горизонты, и десятки миллионов человек обречены. Страна будет обречена…
— — Заключения экспертов совершенно исключают ваша прогнозы, — быстрее, чем надобно бы, ответил Малоярцев, невольно для себя снова втягиваясь в ненужный разговор. — Кроме того, юго-восточный выступ подземного Славянского массива, по заключению специалистов, скорее всего, весьма незначителен, залегает почти поверхностно, есть мнение, отсечь его и ликвидировать. Геологические особенности региона позволяют сделать это без особых затрат. Вопрос уже обсуждался и решен положительно на самом высшем уровне. Опять напоминаю — речь идет о нормальной хозяйственной деятельности. Кстати, о вас, Иван Христофорович, вопрос тоже поднимался.
Удар последовал мгновенный и хозяин кабинета, предлагая почетную капитуляцию, явно предупреждал о бессмысленности дальнейшей борьбы, и Обухов, очевидно, молчал дольше, чем следовало бы; Малоярцев нажал кнопку, вполголоса сказал что-то вошедшему помощнику, и тот незаметно исчез. Теперь Обухов с отвращением к себе, к своему бессилию, слышал только редкое поскрипывающее собственное дыхание; он чувствовал необходимость срочно предпринять что-то совершенно необычное, выламывающееся из нормальных человеческих представлений. Никаких контрдоводов у него больше запасено не было, и вообще, вся эта банда, беззастенчиво и жадно грабившая и разорявшая страну вот уже не одно десятилетие на глазах у всех, окруженная непреодолимыми барьерами, бесчисленной и развращенной охраной, была недосягаема. Он имеет дело с бездушной, холодной, рассчитывающей намного вперед машиной, и необходимо принимать предложенные правила игры, все остальное просто не существенно. Логика, логика, еще раз логика. Ничем не выдать себя, не встревожить этого партийного монстра; каким-то шестым или десятым чувством он понимал, что наиболее безопасным для него было бы сейчас с достоинством, ничем не обнаруживая своего состояния, своих намерений, свернуть разговор и благополучно выбраться из залитого хрустальным светом кабинета; вместо этого он, окончательно освобождаясь от внутренней скованности, широко улыбнулся.
— А не собрать ли, Борис Андреевич, еще раз экспертную группу? Подключить ряд ученых, я бы мог порекомендовать… Ведь положение весьма и весьма серьезное. Абсурд и есть абсурд — отсечь вам, конечно, ничего не удастся. Анализы и пробы лесных почв и воды, доставленные из района строительства, показывают снижение полезного бактериального фона вдвое. Закон равновесия уже нарушен, еще немного — и разразится, экологическая катастрофа. К угроханным народным миллиардам придется добавить в несколько раз больше, спасая положение. Спасти же, повторяю, ничего не удастся. Это гибель центральной России.
— Какие анализы, какие пробы? Что за экологическая мистификация, Иван Христофорович? — изумленно поднимая широкие брови, спросил хозяин кабинета. — Я, разумеется, знаком с вашим законом равновесия, кстати тоже по зарубежным публикациям… Никаких проб быть не может, не надо меня разыгрывать, дорогой Иван Христофорович. Давайте забудем вашу шутку.
— Но я сам проводил экспертизу, простите, — сказал Обухов, отмечая умение хозяина кабинета держать себя в руках. — Закон равновесия в ряде ландшафтных очаговых вспышек основывается на здоровье бактериальной среды. У вас есть желание убедиться?
— Конечный результат может быть только один: благо и могущество государства.
— Вот, вот! — обрадовался и оживился Обухов. — Именно поэтому мы не имеем права ни одного шага делать с сиюминутных, утилитарных позиций — на земле и до нас с вами пребывало немало правительств, князей, императоров, царей и всяческих вождей, но всегда оставалась лишь одна первозданная и вечная сущность — народ.
— Народ, человечество, мир… А если мы уже зашли в тупик и выхода больше нет? — В набрякших веках Малоярцева сверкнули острые серые лезвия.
— Вы, кажется, начинаете противоречить самому себе, — заметил Обухов, и тень усмешки, коснувшаяся ухоженного лица Малоярцева, заставила Обухова откинуться назад. — Вот оно что, как же, как же! Не надо, не надо, Борис Андреевич, трактовать мои работы столь произвольно. Я утверждал и утверждаю, что человечество сейчас у критической черты, но, простите, я не утверждал, что у него нет выхода. Новые термодинамические поля, в которых оказалось человечество, означают начало совершенно иной философии бытия — вот где главная угроза! Человечество оказалось не готовым понять и принять новые реалии бытИЯ.
— Где же выход? Я не знаю ответа, — просто, несколько даже рисуясь своей простотой, огорчился Малоярцев, — Вот ведь есть что-то, не терпящее возражений, день и ночь, диктующее нам свою волю, но что? Кстати, Иван Христофорович, вы ведь так и не вступили в партию?
— Нет, не вступил, — резче, чем хотелось бы, ответил Обухов. — Что за поветрие? Партия, партия… Науке свойствен космический характер. Любая, самая передовая партия, мне думается, ограничена в своих целях, на определенной стадии развития неминуемо превращается из прогрессивной в регрессивную силу, такова объективная неизбежность, по-другому быть просто не может. Наука же развивается по закону космоса — беспредельность времени, пространства, материи…
— Завидую ученым, — признался Малоярцев. — Счастливцы, верите в свои химеры, уходите из жизни глубоко верующими людьми. Политика же — бесплодное, выжженное поле, здесь приемы отработаны тысячелетиями… действуют безотказно.
— Борис Андреевич, а вы не боитесь Бога? — неожиданно спросил академик, напоминая хозяину кабинета то, о чем он всегда хотел забыть — о возрасте, о необходимости беречь исчезающие силы; в кабинет просочился еле ощутимый запах свежих сосновых стружек.
— А вы, Иван Христофорович, сами-то не боитесь? — шевельнулся Малоярцев, не думая мириться с насильственным вторжением в свой устоявшийся мир неудобного и чуждого человека.
— Боюсь, Борис Андреевич, — признался гость, его пальцы вновь нервно забарабанили по краю стола. — Судить нас будут вместе. Ведь как разделить содеянное, где твое, а где чужое? — Он подумал о том, что перед ним сейчас сидит полномочный представитель международной кочующей мафии, вольно или невольно разрушившей основы великой державы, по сути дела, в семнадцатом году, и почитающей это за свой жизненный подвиг. Никуда она не делась, эта безродная ватага, суть ее все та же, она лишь идеально овладела мимикрией.
— Вы хотите вывести меня из себя? Не удастся, Иван Христофорович, — быстро предупредил Малоярцев, почему-то именно по беспокойным пальцам своего гостя, то и дело теребящим блестящие застежки лежащей перед ним папки, понимая, что самого главного собеседник так и не договаривает. — Я сам из владимирских крестьян. Не знаю, что отдал бы за неделю рыбалки. Речушка Трость — журчливая, в родниках… Я — русский, так же, как и вы, всегда им был. Мне тоже весьма жаль, что Россия вот уже скоро семьдесят лет даже не замечает своего собственного отсутствия в мире.
— Хотите непременно меня с собой объединить? Не лучше ли нам в таком серьезном деле числиться по отдельности?
— Числиться по-всякому можно, Иван Христофорович, — с нарастающим ожесточением не согласился Малоярцев. — В природе же мы с вами неразнимаемы и неразъединимы!
— Ни виноватых, ни правых, закон однородной массы — и никаких проблем? Так, что ли?
— Все философии, все, — с болезненной готовностью подчеркнул Малоярцев, — порочны, потому что отрывают человека от его основы — от хаоса мироздания. Демагогический идеализм! Неужели вы сами, уважаемый Иван Христофорович, не видите заранее запланированную кем-то обреченность? Опять скажете, занимаюсь плагиатом, пытаюсь расшифровать ваши собственные системы и гипотезы?
— Вы берете только одну половину и отсекаете вторую, — напряженно улыбаясь, напомнил Обухов, с невольным увлечением вновь погружаясь в вязкое словесное болото. — Присутствует не только борьба двух начал, игнорируется наличие третьей субстанции, управляющей этой борьбой и ее разрешением. Вы тоже, позвольте заметить, выступаете с западных позиций. Вам они очень удобны — успели занять место там, — сухой палец академика взлетел к потолку, — вверху и довольны. А нижние горизонты? Вы ведь не согласитесь поменяться местами?
— Невозможно, Иван Христофорович! — брезгливо поднял густые брови Малоярцев, откровенно удивляясь столь неразумной детской постановке вопроса. — Коэффициент тяжести не позволит, каждый находится в положенном ему уровне бытия. Сталин, сталинизм, культ личности… позвольте, позвольте — всего лишь спекулятивные версии для тех же самых нижних горизонтов. Порочна сама идея равенства всех и каждого — как же можно не видеть этого и спорить?
— Допустим, вот только в отличие от вас я ощущаю себя ответственным за все в жизни, — резко сказал Обухов, теперь уже и не стремясь удерживаться в необходимых рамках приличия. — И не пытайтесь меня уверить в закономерности наших злодеяний и беззаконий, в необходимости усеянной могилами невинных Колымы, да, да, не пытайтесь! И в том, что Сталин всего лишь одна из множественности вариантов революции, от этого не легче… А безжалостное, варварское разграбление среды обитания русского народа в течение многих десятилетий? Именно из российского региона вывозится ежегодно в десять раз больше, чем туда возвращается. Сталина давно нет, гениального вождя революции, уважаемого Ульянова-Ленина, обосновавшего якобы злодейскую историческую вину русских перед окраинными племенами и народами и законность ограбления и порабощения российского народа, — тоже, — тут в безжизненных глазах Малоярцева высветилось неподдельное изумление, даже скоротечный испуг, — но гениальная гнусность — планомерное уничтожение величайшей светоносной культуры продолжается! А Вавилов? Мой учитель, еще один погубленный русский гений… Говорят, он умирал в подземной камере, без окон и отдушин, в зловонии… Вавилов хотел накормить весь мир и мог, заметьте, мог это сделать, его уморили голодом — вот как оборачиваются попытки маниакальных доказательств недоказуемого пусть даже в искренних заблуждениях! Никакая, слышите, никакая самая справедливая революция не имеет права на пролитие невинной крови, а все остальное уже — оттуда, оттуда, все остальное — уже производное: и разорение земли, и тридцать седьмой, и отец народов, и остальные незваные крестные отцы. Этому нет прощения! Но я бы хотел вернуться к цели своего прихода к вам, Борис Андреевич, — быстро сказал Обухов, заставляя себя оборвать и остановиться — в разговоре наступил наконец перелом, словно лопнула туго натянутая невидимая струна, глаза их встретились, и обоим стало неловко; подтягивая к себе стакан с недопитым чаем, Малоярцев покосился на стоящие в углу кабинетные часы.
— Вы же не хуже меня знаете, Иван Христофорович, сложившуюся ситуацию я изменить не могу.
— А кто может?
— Никто, — снова покосившись на сухо отщелкивающий секунды бронзовый маятник, ответил Малоярцев. — Ни я, ни кто-либо другой не в силах остановить запущенные механизмы, — подтвердил Малоярцев, почти страдая и призывая несговорчивого собеседника проявить должное понимание, но тот, захваченный мыслью об окончательном крушении своих надежд, не захотел ничего заметить.
— Я обращусь к генеральному секретарю.
— Ваше право, уважаемый Иван Христофорович, — вежливо приподнял уголки вялых губ Малоярцев. — У вас, мне рассказывали, был еще один любимый учитель — Илья Павлович Глебов?
— В разрушении биосферы человек должен остановиться сам, должны сработать его защитные реакции, или его остановит внешняя апокалипсическая причина, — откровенно не замечая вопроса Малоярцева, сказал Обухов.
— Позволю себе процитировать вас, Иван Христофорович, вы же сами утверждаете: «Мы только готовим среду для иных форм жизни, такова беспощадная диалектика». Ваши слова?
— Мои, грубо вырванные из контекста. Обычный демагоческий прием. Уж простите, Борис Андреевич, позвольте встречный вопрос. Почему до сих пор на Зежскую возвышенность не разрешена даже минералогическая экспедиция? Почему категорически отказано в радиобиологической? — тут академик выхватил из внутреннего кармана пиджака сложенную карту, развернул ее и, пододвинув к Малоярцеву, уставил сухой палец в самый центр карты. — Если там действительно ничего не происходит, прикажите доставить меня вот в это место… всего на два-три дня… Хотя бы меня одного..
— Именно сюда? — не сразу переспросил Малоярцев, не без труда приподнимаясь и стараясь получше рассмотреть указанное на карте место. — Ну, поверьте, Иван Христофорович, там совершенно нечего искать, все давно открыто, описано…
Поморщившись на откровенную ложь, распалившийся академик, вызывая у хозяина кабинета ответный, холодный приступ ярости, высокомерным тоном любезно осведомился:
— Зачем вы живете?
— А вы? — с тем же высокомерием в голосе поинтересовался Малоярцев; глаза застлало каким-то горячим сухим туманом, он едва видел своего мучителя. — Вы, конечно, единственный патриот, русский, мессия, пророк! Вам нужен терновый венец? Страдальцем хотите умереть? Хотите пострадать за веру, за отечество? Вы верите? А я не верю?
— Вы, оказывается, негодяй больше, чем я предполагал, — резкий неприятный голос Обухова прорезал сгустившийся туман, Малоярцев с трудом удержался, чтобы не оглянуться.
Приходя в себя, Малоярцев с наслаждением утвердительно кивнул; Обухов приподнялся, открыл папку вздрагивающими руками и стал неторопливо выкладывать из нее какие-то коробочки, книжечки, подушечки, вкладыши с золотым тиснением. Малоярцев сразу же отодвинулся, пытаясь нащупать кнопку звонка, находящуюся на краю столешницы с внутренней стороны.
— Да не звоните, не звоните! Страус несчастный! Не звоните! — сказал Обухов с насмешкой. — Просто я вынужден поставить в известность… В знак протеста возвращаю награды, ордена, лауреатские знаки и прочее… Прошу передать правительству. Оставляю за собой право обнародовать форму своего протеста любыми доступными мне способами!
Вскочив, Обухов обеими руками придвинул все выложенное из папки хозяину кабинета. Опершись руками о край стола, Малоярцев отпрянул назад, поднялся во весь рост и злобным, сорвавшимся фальцетом закричал:
— Что вы себе позволяете? Как вы смеете? Вы ведете себя как мальчишка! Сейчас же прекратите! Немедленно заберите назад! Вы пожалеете, очень, очень пожалеете!
Лицо у Обухова передернулось, сильно бледнея, он тоже поднялся и внятно произнес, отчеканивая каждое слово:
— Вы не смеете на меня кричать!
Задыхаясь, он судорожно оттянул узел галстука; в кабинете внезапно установилась мертвая тишина, нарушаемая только сухим щелканьем маятника.
— Вы максималист, вот почему вам так трудно, — вдруг примиряюще улыбнулся Малоярцев. — В любом случае можете рассчитывать на понимание… Прошу прощения… Мой поклон супруге… Ирине Аркадьевне, так ведь, кажется, я не ошибаюсь?
— Не ошибаетесь, — внешне спокойно, отрешенно кивнул Обухов, чувствуя приступ почти убивающей усталости и непреодолимое желание поскорее выйти из этого кабинета. — Учтите, Борис Андреевич, ничего вы не остановимте, лавина сдвинулась. Либо вы уберетесь, уступите место другим силам, либо она вас похоронит.
Теперь они стояли друг против друга, два пожилых человека, измотанных долгим разговором, их разделяла только широкая зеркальная поверхность полированного стола.
— Да, но почему же все-таки — страус? — неожиданно с явной обидой спросил Малоярцев, хлопотливо, по-домашнему оглаживая себя по бокам и в самом деле напоминая в этот момент большую взъерошенную птицу.
— Не знаю, похоже, — буркнул Обухов и вдруг ясно увидел за спиной хозяина кабинета странную, многократно увеличенную тень, напоминающую тяжелую человеческую фигуру с массивными опущенными плечами, с крупной головой; вязкая сгустившаяся масса за сутулой спиной Малоярцева на стене заслонила собой портрет очередного здравствующего вождя — возникла и растушевалась, перед главами академика опять зарябили бесчисленные ордена и звезды на широкой груди генсека. «От напряжения, — сказал себе Обухов, — фантастически утомительный тип. Спокойно, Иван, спокойно! Нервы ни к черту. Тебе предлагают безоговорочную почетную капитуляцию — вот, мол, тебе единственная возможность выжить и продолжать работать». Отрешенным внутренним видением Обухов совершенно отчетливо вспомнил лето тридцатого года, когда их, стyдентов биологов и почвенников, отправили на Кубань в экспедицию, им нужно было выявить причины болезни, поразившей посевы пшеницы бесплодием. Полнейшее запустение некогда цветущего края, вымирающие деревни, просящие милостыню голодные дети в лохмотьях, со вздутыми животами, неубранные трупы в избах и вдоль дороги; неистребимый запах тлена затем преследовал его неотступно несколько месяцев. Еще он вспомнил обезумевшую Москву в дни похорон Сталина, слепые людские водовороты и себя, против воли втянутого в одну из таких безжалостных воронок в обезумевшей толпе, пытавшейся втиснуться в горловину Пушкинской улицы, и невозможность выбраться обратно, чувство животной обреченности, хруст собственных костей, спертый дурной воздух и плотно притиснутую к нему сплющенной холодной грудью задавленную мертвую женщину с мертвенно-белым качающимся лицом и открытыми застывшими глазами. Может быть, именно тогда он и понял, что смерть есть тайна и люди о ней никогда ничего но узнают. Он сейчас болезненно отчетливо вспомнил свое унизительное бессилие перед стихийной, подавляющей волю властью безликой, все сметающей на своем пути толпы единым устремлением чудовищного организма, руководимого и направляемого лишь энергией вышедших из под контроля стадных чувств, погрузивших огромный город в первобытный хаос. Тогда, в марте пятьдесят третьего, Обухова, мотало и било в московских переулках и улицах несколько часов подряд, и он, совершенно обессилев, уже только старался не опуститься на землю под ноги нескончаемой толпы, у него затекло, одеревенело тело, в груди сделалась угольная пустота Он уже был готов перестать сопротивляться, но вдруг боковым зрением увидел знакомое, крупное лицо Тихона Ивановича Брюханова, месяц назад проводившего у себя в ведомстве закрытое совещание ученых. Обухов закричал, рванулся к нему, но Брюханов скользнул по нему невидящим взглядом, и его потащило в сторону, в разверзнутый зев очередного переулка, и в следующее мгновение Обухов заметил, что белого, качающегося лица мертвой женщины рядом с ним больше нет, ее вовлек в свое движение тот самый встречный поток, несший Брюханова…
Прошло несколько тяжких нескончаемых минут, а Малоярцев с Обуховым еще стояли друг, против друга. Время тоже нельзя было разъять — пожилой, смертельно уставший, потерянный человек на краю необратимого решения и молодой вихрастый Ваня Обухов, полный надежд, энергии и сил, — это было все то же одно неразделимое целое. К нему сейчас возвращался неистребимый запах тлена в обезлюдевших пространствах Кубани и Дона, где их небольшая экспедиция провела тяжелейших два месяца среди эпидемий, трупов и голода.
С каким-то молодым отчаянным протестом Обухов всматривался в тусклые, погасшие глаза Малоярцева, уже понимая, что смотрит в глаза мертвеца. И уродливая, тяжело нависшая за его спиной тень померещилась ему не зря — ничто не изменилось в мире, и Сталин, уходя, неукоснительно выполнял главное, оставив, в свою очередь, в продолжение себя тысячи своих подобий.
Обухов опять вспомнил Вавилова, еще одного мученика и пророка, своего учителя, пославшего в тридцатом году их, группу студентов и лаборантов, на Кубань, вспомнил его классический закон гомологических рядов и от внутреннего холода предчувствия беды содрогнулся. Природа была беспощадна, эхо прошлого, усиливаясь, возвращалось все более разрушительными кругами.
Он никогда не разрешал себе роскоши думать о смерти; целиком захваченный сейчас очередной перетасовкой руководящего аппарата, он в сотый, тысячный раз медленно, обстоятельно сортировал в голове нескончаемую колоду карт, обозначавших конкретные, определенные лица; карты располагались несколькими кругами вокруг него, и каждая имела свое место, была помечена тайным, известным только ему знаком. Он помногу раз передвигал эти карты из внешнего круга во внутренний и наоборот; некоторые он изучал особенно тщательно, откладывая их в сторону, вновь и вновь возвращался к ним, по-разному группируя их отдельно, и вместе, и вновь смешивая и рассыпая, нейтрализуя одну другой самыми парадоксальными соотношениями в зависимости от значения каждой карты; его мозг, настроенный на одну волну, без устали просчитывал сотни вариантов.
Вот и сегодня он так и не смог заснуть; опасность была где-то совсем рядом, вот только никак не удавалось ее конкретно выявить. Бухарин с его лисьей изворотливостью? С его кликушескими заклинаниями о величии Ленина и разрушающими учение Ленина платформами?
Наслаждаясь покоем и одиночеством, Сталин улыбнулся своим мыслям, выпил немного вина, закурил; домашняя обувь с мягкими подошвами скрадывала его шаги; своим сокровенным собеседником мог быть только он сам; жена в последние годы слишком далека, раздражена и, как всякая женщина, мало что смыслит в происходящем, со многим происходящим вызывающе не согласна.
Такое с ним случилось во второй раз, и он, закаленный всей своей предыдущей жизнью и всегда готовый к самым жестоким, безжалостным, но необходимым решениям, пусть хотя бы за самый ничтожно малый шаг к вершине, а следовательно, и к разрешению намеченных для блага народа целей, — выученный железной самодисциплиной никогда не торопиться, курил и думал. Внезапно он остановился у окна и быстро оглянулся: уже знакомый ему собеседник сидел в удобном низком кресле, и это становилось интересным; перед гостем лежала кипа истрепанной, завернувшейся по краям бумаги, и он, перекидывая ветхие листы, что-то писал, время от времени поднимая тяжелую, с глубокими височными пролысинами голову. Сталин, остановившись возле двери, нахмурился; звать охрану было бессмысленно, хотя именно эта нелепая мысль мелькнула у него при виде неожиданного гостя. Он сейчас пытался лихорадочно припомнить время предыдущей их встречи и решил, что лучше всего повернуться и выйти; о прошлом, тем более о таком прошлом, он запретил себе думать; однако показать, прежде всего самому себе, свою слабость, вот так запросто встать и уйти, было тоже невозможно, нельзя, и тогда он глухо поинтересовался у пришельца, что его привело сюда, тем более что на этот раз его, кажется, никто не приглашал.
«Пожалуй, я всего лишь твое отражение, — без тени улыбки ответил незнакомец. — От меня ты не дождешься ни похвалы, ни порицания, но малейшее твое движение хранится во мне, ты уже давно забыл, а я берегу каждую твою ерунду, скорее всего я — старый мусорный ящик. Не удивляйся! Одиночество всегда чревато галлюцинациями, тебя, пожалуй, и детский смех давно не радует, ведь такие, как ты, не должны иметь детей. В мире и без того нарушено равновесие».
«К тебе не мешает присмотреться поближе. Пророк или шут? — угрюмо спросил Сталин, начиная привыкать и даже чувствуя странное удовлетворение и потребность в присутствии столь необъяснимого собеседника, хотя последние его слова больно задевали самолюбие. — Учитель?»
«Считай происходящее игрой своего воображения, — предложил гость. — У меня нет готовых ответов. На пороге новый день, его невозможно ни отменить, ни предугадать».
«И все-таки мне хотелось бы думать, что ты — пророк», — предположил Сталин с некоторой долей надежды и ожидания.
«Нет, Coco, зачем бы мне натягивать на себя чужую личину? Я скорее всего лишь твой летописец, я ведь уже говорил тебе об этом», — опять без единой краски в голосе повторил неизвестный.
«Значит, ты знаешь обо мне все? Даже то, что никому нельзя знать? — вкрадчиво спросил Сталин, впиваясь в лицо ночного гостя вспыхнувшими, рыжеватыми, словно у рыси, глазами. — Говори».
«Да, знаю, — подтвердил незнакомец, его ничем не замутненное лицо стало еще яснее, и Сталин, к своему удивлению и досаде, может быть, впервые за последние годы не выдержал этого младенчески ясного взгляда и, прочищая горло легким покашливанием, отвернулся. — Я всегда знал о тебе больше, чем ты сам».
«Тогда, может быть, ты знаешь и дальнейшее?» — подумав, не сразу спросил Сталин.
«Да, знаю. — Легкая тень легла на лицо гостя. — Но тебе об этом бесполезно думать. Ключи от рая давно утеряны. Тем более для тебя».
«Ненавижу этот народ! — вырвалось у Сталина помимо воли, он должен был сейчас кому-то пожаловаться. — Слишком терпелив и плодовит. Закованная в берега православия русская стихия больше, чем угроза… Да, слишком талантлив и необуздан, главное, непредсказуем. Трудно держать в узде. Никогда не верил и не верю в его смирение… Вынужденная личина, поверь, я не ошибаюсь. А во всем ведь должно соблюдаться равновесие…»
«Сегодня ты не в духе, и я, кажется, действительно не вовремя, я еще приду к тебе, — пообещал гость, и невыразительное, мясистое лицо Сталина передернулось. — Думаю, ты приготовишь мне немало приятных неожиданностей. Если у тебя нет желания общаться, не дергай меня напрасно, из этого ничего хорошего не получится».
Сталин все с теми же бешеными глазами резко повернулся; в дверях стояла жена в длинной ночной сорочке и в накинутой на плечи тонкой, почти невесомой шали; судорога метнулась по лицу Сталина.
— Не хватит ли на сегодня? — встревоженно спросила Надежда Сергеевна. — Нельзя же не спать сутками… С кем ты разговаривал?
Готовое прорваться у него раздражение, доходящее до грубости, особенно если она пыталась вмешиваться не в свои дела, как это не раз случалось в их отношениях и о чем он потом жалел, но никогда не мог заставить себя признаться в своем раскаянии ей, единственному близкому в жизни человеку, как-то растаяло само собой перед ее почти незаметно косящим теплым взглядом. Он посмотрел на нее чуть виновато.
— Иди, я скоро, — попросил он, сунув в рот давно погасшую трубку и ощущая успокаивающую привычную горечь табака и в то же время чувствуя необходимость подчиниться мягкой, обволакивающей настойчивости жены.
— Нет, с тобой нехорошо… ты опять нездоров, — сказала она, приближаясь, обняла, скользнув по его плечам руками, теплая, вся своя, привычная и необходимая; она еще что-то говорила ему о заболевших зубах дочери; он ответил ей, что утро мудренее ночи, в дверях украдкой оглянулся на кресло и, сам себя стыдясь, громко, натужно прокашлялся. Пожалуй, действительно выдалась тяжелая ночь, думал он в каком-то тупом раздражении против самого себя, хотя его уже начинали окутывать тепло и запах любимой женщины, и голова потихоньку освобождалась от свинцовой, сковывающей тяжести; ночь — мое время, отдых, свобода, так распорядилась судьба, думал он, не желая признаться даже себе, что именно ночь стала с некоторых пор его мукой и он всякий раз боится ее наступления. Только он знает, когда и почему это случилось, — пусть не хвастает летописец своим всеведением. Выйти бы из дому под открытое небо, скоро осень, прохладный августовский дождь за окнами…
Мысли его пошли в другом направлении, теперь дожди не только над Москвой, думал он, непогода охватила чуть ли не всю европейскую часть и может помешать военным учениям, об этом что-то на вечернем приеме говорили. Тут он вспомнил, что совершенно ни за что обидел жену грубостью во время этого приема военачальников, и неожиданно попросил:
— Я вел себя по-хамски, не обращай внимания…
Надежда Сергеевна опять почти неслышно скользнула ладонью по его плечу, по руке, успокаивая.
— Полно, Иосиф, пустяки, другое меня беспокоит, — внезапно вырвалось у нее. — Боюсь за детей, боюсь себя…
— Почему? — хмуро, на глазах меняясь, спросил он отяжелевшим голосом.
Она подняла на него глаза, и губы у нее обиженно дрогнули.
— Нет уж, зачем…
— Почему же, между нами необходима полная ясность, — сказал он, всматриваясь в ее лицо и стараясь не спугнуть и в то же время уже чувствуя ее сопротивление и несогласие. — Конечно, конечно, мы все добренькие, просвещенные, европейцы, гуманитарии, — с легкой насмешкой в голосе заговорил он. — Один я злодей и душитель…
— Иосиф, не надо с такой злобой, прошу тебя. Ты слишком возбужден… Пора тебе отдохнуть…
— Надо, надо! — резко оборвал он, теперь уже захваченный своей мыслью. — Когда-то требуется расставить точки. Я никому этого не говорил и не скажу, а тебе скажу: только моими усилиями, моей волей я удерживаю партию от распада и гибели. На партии уже слишком мною ошибок, крови, перекосов. Они неизбежны. Борьба есть борьба. И жертвы были и будут, безвинная кровь будет. Но партия должна жить, она постепенно очистится от чуждых элементов, от попутчиков. И она действительно станет несгибаемой, непобедимой…
Мучительно вслушиваясь, стараясь понять, Надежда Сергеевна плотнее запахнула на груди шаль, на тонкой, еще нежной коже едва угадывались мелкие, редкие веснушки.
— Другого пути, ты утверждаешь, нет. Ты убежден в этом?
— Убежден, больше, чем когда бы ни было, — подтвердил он. — Другого пути нет, такова диалектика.
— Партия, сохраненная такой кровью… А нравственное начало? — опять спросила Надежда Сергеевна, не опуская глаз. — Кто пойдет за такой партией и имеет ли она право вести за собой? Никогда не поверю, жестокость не может быть прогрессивной…
— Это не твои слова, Надя.
— Перестань, — мягко попросила она. — Ты же не на трибуне перед своими нукерами… Я тебе жена, каждая женщина хочет видеть своего мужа самым лучшим, уважаемым, добрым человеком.
— Добрым? — переспросил он, и с его лица сползла неровная усмешка. — Ненавижу абстрактную доброту, ее просто нет, Надя, не существует. Ее выдумали слабые люди, да, да, выдумали, — повторил он с видимым удовольствием, замечая, как ей неприятны его слова. — И что же я, по-твоему, должен делать? Разносить детям рождественские пряники?
— Я же тебя просила за Александра Юрьевича Никитина, — напомнила она, заражаясь его досадой и раздражением. — Сам ведь знаешь, с каким трудом он выбился, широко образованный человек, ученый — работы его известны за рубежом. Отправить его на какой-то канал, сунуть в руки лопату… Их семью прекрасно знает отец… Никакой вины за ним нет, я уверена. Партия от его освобождения не пострадает…
— Вот как… Что-то ты сегодня, моя хозяюшка, слишком серьезно настроена, — усмехнулся Сталин. — А плату берешь вперед или потом?
Вначале не поняв, Надежда Сергеевна вспыхнула, нервно переплела пальцы:
— Какой же ты грубый, Иосиф! Мог бы ты мне в Питере предложить подобное? Ты что, много платил в юности и никак не можешь простить? И платил-то, пожалуй, не из своего кармана, из партийной кассы… Успокойся. Не надо мне ничего, забудь, ничего я тебе не говорила…
— Ну, хорошо, хорошо, — теперь уже примирительно усмехнулся он, довольный искренностью вырвавшегося в ее словах страдания. — Я все-таки мужчина, грузин, отказать любимой женщине? Завтра поговорю, как же — Александр Никитин, — сказал он с каким-то тайным значением, и она тревожно взглянула; покладистость его не предвещала ничего хорошего, и она как-то беспомощно скользнула по его лицу чуть косящим взглядом, который он так любил; зная, что с его стороны может последовать самое непредсказуемое, жалея о своей несдержанности, она заставила себя улыбнуться:
— Давай успокаиваться, Иосиф, четвертый час ночи. Тебе рано вставать. Право, забудь о моей просьбе, до того ли тебе… Так, минута слабости, прости. Ты плохо выглядишь, устал.
Сунув в рот погасшую трубку, он неторопливо посасывал чубук; в редкие минуты их внутреннего согласия никто, кроме жены, не давал ему такого покоя и тишины, вот только временами все меньше и меньше и приходится, никто не поверит, выбирать… Чувствуя уже его отстраненность, Надежда Сергеевна почти физически ощущала, как трудно, с какими усилиями его мысль ищет нужное решение, и знала, что сейчас ему лучше не мешать. Он почти успокоился, весело, с хитринкой, с чуть насмешливым вызовом взглянул ей прямо в глаза, как умел только он, и она с нежной готовностью встретила его, это такое знакомое и любимое ею выражение чуть насмешливого вызова и ласки.
— Ну, навоевалась? Больше не настаиваешь на своем? — спросил он раздумчиво, мягко опуская тяжелую руку ей на плечо и слегка привлекая к себе. Ей припомнились далекие, петербургские годы молодости, когда они еще не были близки и когда в ней вспыхнула эта, по словам одной из близких подруг, преступная страсть к дикому горцу и вероотступнику. Путь, конечно, они прошли огромный, немыслимый, и они сами, и все вокруг неузнаваемо переменилось, но в ней продолжает жить, нет, нет, уже не любовь, просто детская надежда на чудо; она еще верит, правда, все слабее, может быть, уже не признаваясь самой себе в своем поражении, с которым она не хотела и не могла смириться, и время от времени вот как сейчас, срывалась и ставила под удар дорогих людей, ведь он никогда ничего не забывал.
— Прости, — сказала она, — все нервы, прости. Что-то я озябла, пойдем, Иосиф.
Не говоря ничего больше, он обнял ее за плечи, слегка прижал к себе, провел в спальню, иногда наклоняясь к ней и что-то шутливо, с легкой улыбкой говоря, окутывая ее привычным запахом табака; у них уже давно ничего не было, но сейчас она, безошибочно угадывая его состояние, его вспыхнувшее желание, неожиданную мужскую нежность, старалась ни в чем не помешать ему и затем, лежа рядом, сама еще не успокоившаяся, прижимаясь лицом к его разгоряченной коже, неожиданно остро пожалела себя — жизнь обманула ее, за все, оказывается, надо платить слишком дорогой ценой, но она ведь сама пошла на это и винить некого. Она продолжала любить, только помочь ничем не могла — он не принимал ее помощи, сразу же поставил между своей большой, основной жизнью и ею, безоглядно отдавшей ему и себя, и все свое, глухую, непреодолимую стену; он не терпел ни малейшего ее движения через запретную зону и, всякий раз чувствуя ее попытку нарушить это негласное условие, становился груб, приходил в ярость, и она всякий раз ждала, что он, показывая свою истинную деспотичную восточную натуру, изобьет ее, сделает с ней что-то ужасное; она всякий раз с холодком в груди почему то ждала именно этого. Тогда, вероятно, что-то бы прорвалось в их отношениях, становившихся все более болезненными. Она только уверяет себя, что любит, продолжает любить; как всякая женщина, она не может примириться с поражением… Нет, нет, восток в нем непобедим, она для него только женщина, самка, призванная природой к продолжению рода, он никогда не признает ее себе равной, не признает в ней личности, человека, никогда не сможет преодолеть в себе деспотизма, чувства собственной исключительности, но она-то знает, что говорят о нем другие. Он и сейчас уже где-то далеко в своих хитросплетениях, она чувствует, что мешает ему, хотя он уже никогда не отпустит ее от себя слишком далеко, не даст ей свободы, он будет стареть и все больше замыкаться на себе, на своей борьбе с целым миром; ни один живой человек не осмеливается приблизиться к ней, разве только Бухарин еще говорит ей какие-то нормальные человеческие слова. Глухое, удушливое подземелье, из него нет выхода — только задохнуться.
Со свойственной ему звериной чуткостью, Сталин уловил ее движение, повернул голову, и в свете ночника мглисто прорезались его глаза.
— Вдвоем мы так и не заснем, — сказала она. — Пойду… Тебе надо отдохнуть.
— Ты опять недовольна чем-то, — сказал он тихо, точно жалуясь. — Если в ты могла понять, как мне трудно…
— Я понимаю, только не знаю, что ты хочешь, почти ничего не знаю о тебе, — ответила она и осторожно убрала руку, положила себе под голову. — Ты меня к себе не пускаешь, от этого я и не могу тебе помочь…
Он не захотел понять, коротко засмеялся, привычно, по-хозяйски поцеловал, щекоча усами шею, и она слегка отстранилась — губы у него были горячими, влажными.
— Ты есть, ты рядом, вот твоя помощь, — сказал он так же по-хозяйски спокойно, и от его нежелания что-либо менять в их отношениях на нее опять неотвратимо накатило беспросветное, слепое отчаяние.
— Иосиф, Иосиф, — сказала она низким, пропадающим голосом, жалея его и ненавидя себя за свою женскую слабость. — Все пропало, Иосиф, все катится в пропасть… Ничего уже нельзя остановить, ты не хочешь понять неправильность твоего пути. Ты такой, как ты есть, я слишком поздно поняла это. Единственный выход и спасение — отказаться от твоих постов, не фарисейски, напоказ, а совсем, совсем, бесповоротно уйти в сторону от борьбы за политическое лидерство, но ты ведь не сможешь… не захочешь… я знаю!
— Ты, Надя, бредишь? — спросил он недовольно уже сонным, размягченным голосом. — Опять? О чем ты говоришь? Да, да, все твое окружение… твои интеллигенты… снобы от партии… Бухарчик… голову тебе мутят. Так же нельзя, неужели ты думаешь, что я волен что-либо переменить? Возьми себя в руки, ты же дочь рабочего, революционера, откуда у тебя такая… неустойчивость? Ты моя жена… моя! Давай спать… У меня завтра трудный день…
Он отодвинулся, устраиваясь удобнее и затихая.
— Пойду, — тихо сказала она теперь самой себе, и почувствовала, что он уже спит, и это поразило ее; конечно, однажды в хорошую минуту он пошутил, что женщина особенно хороша на перепутье, в минуты растерянности, и что он уже давно привык к женским слабостям и не обращает на них внимания, и внезапно запоздалая большая ревность шевельнулась в ней; стыдясь самое себя, она затихла с широко открытыми глазами, затем ее губы дрогнули в горькой усмешке: она только теперь понимала, как мало для него значили женщины, его разрушительная страсть власти темна и непонятна, выжигает все вокруг…
Она затаилась, боясь его разбудить, вслушиваясь в его ровное дыхание; она вспомнила его в самые первые годы их знакомства, совершенно другого, бесприютного, неухоженного, в хорошие, светлые минуты он мог беззаботно дурачиться, нуждался в женской заботе, понимании; он и теперь неприхотлив в быту, ей ничего лишнего не разрешает, хотя ей совершенно ничего не надо, правда, вот эти загородные дома… И в то же время с ним рядом тяжелее и тяжелее, любовь и страх — несовместимы, его раньше безобидные дурачества все чаще перерастают теперь в желчные оскорбления, он становится фанатически беспощадным, никому не верит. А его отношение к старшему сыну, несмотря на ее старания смягчить? С его стороны и здесь что-то явно болезненное, ненормальное, он, кажется, просто болен… Неудивительно при его перегрузках….
От простой беспощадной мысли она приподнялась в постели; в это время Сталин что-то пробормотал во сне по-грузински, затем сдавленным от ярости голосом отчетливо произнес:
— Нет, не поможет… надо добиться… добиться!
И в следующий момент рывком сел, не сразу, глухо прокашлявшись, спросил:
— Ты спишь?
— Нет, — ответила Надежда Сергеевна помимо воли, словно выныривая из-под какого-то удушающего колпака. — Воды выпьешь? Или лучше вина?
— Мне снилось что-то… я не говорил во сне?
— Нет, не беспокойся, — все так же односложно отозвалась она и совсем по-детски беспомощно всхлипнула. — Боже, какая все-таки тьма, какая тьма, — не продохнешь, — добавила она и, собрав все силы, встала, накинула на себя тонкую шаль и, ничего больше не говоря, мелькнув легкой, призрачной, невесомой тенью, исчезла в дверях. Облегченно откинувшись на подушку, Сталин закрыл глаза.
Надежда Сергеевна застрелилась через два с небольшим месяца после этого ночного разговора с мужем и лежала в гробу маленькая и спокойная; врачи придали ее лицу соответствующее выражение умиротворенности и даже какой-то навсегда застывшей усмешки; Сталин, не находя никакой логики в случившемся, как никогда прежде потрясенный жестокостью любимой женщины, с трудом держался и сам избегал встречаться с людьми, даже близко знакомыми и преданными ему. Преодолевая бушующую, готовую самого его испепелить ярость, он, наконец, заставил себя прийти попрощаться с телом жены и долго стоял у гроба в полном одиночестве; он пристально вглядывался в лицо единственно бывшей для него по-настоящему интересной и нужной женщины и в самой смерти оставшейся непокорной. Тяжело шагнув на ступеньку, ближе к изголовью гроба, он внезапно почувствовал слабость, лицо покойной поплыло. Он заставил себя переждать. В глазах прояснилось, только в ушах гулкими, редкими толчками крови отдавалась тишина опустевшего мира. Она отпускала его, теперь он знал это. Она ушла во тьму, и теперь между ним и этой беспросветной тьмой ничего больше не стояло — стена рухнула. Теперь он твердо знал, она любила его, не пожалела ни детей, ни его, решила освободить его от своего непризнания, а могла бы, между прочим, и остаться и раствориться в нем безраздельно, как делает большинство женщин. Her, она была слишком своевольна, не смогла покориться даже ему… Необходимо поручить выяснить, распутать клубок — правде надо уметь смотреть в глаза в любом случае. Кто бы мог предположить такой поворот? Поневоле задумаешься, к каким непредсказуемым поступкам в дальнейшем мог привести их внутренний, скрытый от всех спор? Сейчас любовь пересилила, кто знает, в кого из них был бы направлен следующий выстрел?
Оглушенный опрокинувшимся на него беспредельным одиночеством, Сталин поднялся еще на ступеньку выше, неловко взял голову покойной обеими руками и, подавляя в себе поднимавшиеся рыдания, несколько раз поцеловал мертвое, любимое, уже не принадлежавшее ему лицо, затем так же обеими руками с усилием оттолкнув себя от гроба, пошел прочь к выходу. Створки двери словно сами собой распахнулись, и собравшиеся за дверью, пришедшие выразить ему свое сочувствие, разделить горе, невольно отшатнулись при виде его лица. Оспины на нем взялись бурым налетом, точно налились кровью, глаза его, казалось, выжженные каким-то адским огнем, незряче натыкались на сочувственные, робкие утешающие взгляды.
И в таком состоянии он не упустил ни одной мелочи: ни своих нукеров, как она их совсем недавно определила, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Калинина, Ярославского, Хрущева, Булганина, при его появлении сразу же, словно по команде, повернувшихся в его сторону, ни родных покойной, ожидавших своей очереди проститься и еще теснее придвинувшихся друг к другу под его неподвижным, невидящим взглядом; отметил он истерические, почти женские рыдания и огненную бородку Бухарина и рядом с ним тоненькую девочку с детским, неустоявшимся лицом, его жену, пытавшуюся его успокоить. «Старый развратник! — подумал Сталин с желчью. — Спешит, хватает, как бы не надорвался». Он опять вспомнил слова покойной о необходимости уйти в сторону от политической борьбы и тем спасти себя, свою душу и еще больше замедлил шаг, тяжело шаркая подошвами. «Отказаться? От чего и зачем? Во имя чего? Ради этих нукеров? Да они так же рабски будут служить другому, тому же Бухарину и распахивать перед ним двери… Так ради чего же, ведь все они хуже его, потому что слабее. Они всегда боялись его, и льстили ему и потому все глубже и осознаннее ненавидели. Партию они тут же развалят. По-дурацки устроена жизнь, единственно необходимый человек уходит, а эти вот остаются… Жадная, ненасытная свора, каждый с комплексом, недополучил, недобрал, отодвинул… Зачем такие остаются?»
Ни на кого не глядя, с усилием напрягая плечи, Сталин медленно пошел к выходу; если и раньше его спасала только работа, то теперь судьба ему вообще больше ничего не оставила — лишь непрерывная каторга, необходимость ежечасно, ежеминутно решать тысячу неотложных вопросов, преодолевать упорное враждебное сопротивление, угадывать на три, четыре, десять ходов вперед замыслы своих политических противников, приводить в действие неповоротливый, непосильный маховик государства, готовый в любой момент, пробуксовывая, зловеще заскрежетать, ведь проснулся он с неделю тому назад с пугающим ощущением крошившихся зубов, он их усиленно выплевывал — блестящее, острое крошево забивало рот и мешало дышать, а вот крови совсем не было. Нехороший, ненужный сон…
В ночь после похорон он много выпил, но заснуть так и не смог; кроме непоправимости случившегося мешала еще какая-то заноза, связанная именно с покойной женой; что-то осталось невыясненным и незавершенным, и это не давало заснуть. И он знал, что пока не выяснит причину никакие дела и никакая работа не помогут.
Устав ходить, он прилег в маленькой спаленке небольшой двухкомнатной кремлевской квартиры, ставшей ему невыносимой без жены (он еще не успел поменяться с Бухариным квартирой, хотя уже переговорил с ним об этом), и в тот же момент вспомнил фамилию и даже имя, отчество человека, о котором просила незадолго до смерти Надежда Сергеевна. Вспомнился ночной разговор с нею, вся та ночь, выделяясь из череды многих похожих ночей, обрела конкретные черты и запахи. Разрешая себе невольную слабость (это касалось только его лично) и все более мрачнея, он стал припоминать каждое ее и свое слово, он тоже был человеком, имел право в одиночестве быть самим собою. Просто ему не повезло, рядом с ним оказалась всего лишь хрупкая, впечатлительная женщина, не выдержавшая непосильной ноши. Она тоже была из породы неисправимых идеалистов, отдавала приоритет просвещению, у нее оказалось слишком много ложных идеалов… теперь вот она опять не отпускает его.
Хмуро и недовольно он задремал, когда уже совсем рассвело, а через два дня у него в кабинете уже находился человек с худым продолговатым лицом, с подтянутыми щеками, с белыми, почти невидимыми бровями, наголо стриженный, в сером мешковатом костюме, явно с чужого плеча. Перед Сталиным лежало его дело, небольшая, помеченная крупно черневшим номером серая папка, хотя в ней он совершенно не нуждался — он уже знал о срочно доставленном к нему человеке все возможное и невозможное; разговаривал с ним Сталин холодновато и вежливо, стараясь обращаться безлично. И прежде всего Сталин почувствовал, что доставленный к нему по специальному распоряжению заключенный Никитин совершенно равнодушен к своей дальнейшей судьбе, что его спокойствие и равнодушие — не игра, не притворство, а врожденное присутствие в нем какой-то абсолютной победы и бесконечности. Сталина поразили глаза Никитина, застывшая в них неуловимая горечь и холодное спокойное бесстрашие. Глаза эти вызвали у Сталина неясную тревогу, и в то же время ему стало, как давно уже не было, по-настоящему интересно, и этот интерес обострялся невидимым присутствием покойной жены, Сталин ясно чувствовал, что она сейчас слышит и оценивает каждое произнесенное им слово. Заключенный, неловко и непривычно державший тяжелые ладони на коленях, уловил повышенный интерес к себе и сделал невольное движение встать, Сталин остановил его взмахом зажатой в ладони трубки.
— Сидите, сидите, сейчас принесут чай… Вы вправе недоумевать. Привезли вот сюда, а дальше? Я понимаю, вы народный самородок, сами всего добились, на все имеется свое мнение… Только пожить, а тут — обрыв… Так бывает… Вы вправе не соглашаться с происходящим, считать нас, большевиков, варварами. А что предложите взамен?
— Корректирующую силу, способную и обязанную контролировать действия партии. Бесконтрольная власть всегда ведет к преступлению, — спокойно, почти сразу и не раздумывая, ответил Никитин; ожидая ответа своего грозного собеседника, вежливо наклонил голову.
— Корректирующую силу? Что конкретно вы имеете в виду?
— Многовариантность в развитии общества. Любая гениальная идея скудеет, вырождается и умирает без равного противостояния, без постоянных усилий не только по завоеванию доверия народа, но и без борьбы с враждебными себе силами за тот же народ. Необходим давно проверенный механизм многовариантности, — закончил Никитин, одаряя Сталина тихой улыбкой и вновь опуская усталые глаза.
— Да, но если еще поставить перед собой вопрос: во имя чего? — тотчас парировал Сталин, по прежнему, находя странное удовольствие в разговоре со своим собеседником.
— Человек приходит в мир однажды, — не поднимая глаз, ответил Никитин. — Я думаю, должно быть, во имя этой единственной и неповторимой жизни. Впрочем, вы ведь не согласитесь со мной, у вас совершенно другая идея.
— Нет, не соглашусь, — коротко подтвердил Сталин, начиная понимать жену, дважды говорившую ему об этом, с виду ничем не примечательном, невзрачном узкоплечем человеке; он и сам поймал себя на невольном стремлении произвести на собеседника хорошее впечатление. — Взгляды наших доморощенных теоретиков далеки от марксизма… Нахватались верхов… Вы догадываетесь, надо думать, — зачем вы у меня? Не ради же словесной эквилибристики…
— Вам виднее, — снова вежливо согласился Никитин. — Я всегда был далек от абстрактного мышления, тем более от словесной эквилибристики… в подобной ситуации и подавно, — тут он опять позволил себе слегка улыбнуться. — Я прикладник, мостостроитель, благодарен судьбе, что могу высказать вам свои мысли. У вас, у большевиков, пока не налаживается, не получается моста между вами и народом и не получится…
— Вы так думаете? — с интересом спросил Сталин, закаленный партийными дискуссиями последних лет, взявший себе за правило выслушивать, по возможности, до конца. — Почему же?
— Большевики возвели провокацию и даже прямое предательство в основу своей политики, — сказал, наконец, Никитин, нервно переплетая длинные, изуродованные непривычной тяжелой работой пальцы. — Вспомните расстрел десятков тысяч офицеров в Петрограде и в Крыму. По сути дела, обыкновенные мальчики… Они поверили и пришли к вам, и что вы с ними сделали? А русские крестьяне? Вы тоже якобы отдали им землю, а затем пропустили их через мясорубку продразверстки и военного коммунизма и, наконец, окончательно разорили и обрекли на вымирание. А санкционированное Вашей партией истребление казачества? А зверскую расправу с царской семьей? Убивать невинных детей! Простите, это даже не варварство, какое-то ритуальное мракобесие! После Тютчева, Толстого, Достоевского этот фанатический мрак, хлебная монополия, апологетика принудительного труда, запрет на мысль и свободу… У вашей партии при таких методах нет будущего. Я уверен, наступит час, и она предаст и тех, кто ее сейчас отчаянно защищает, предаст своих — такова логика предательства. Десяток лет — и ее мозг будет поражен смертельным ядом вседозволенности… жажда власти неутолима, только смерть может ее насытить… Мы все в западне, и выхода нет, — закончил Никитин, и тогда Сталин заметил, что слушает его с каким-то чувством соучастия. В казалось бы, бесстрастном, ровном голосе заключенного, по мере того как он говорил, все отчетливее проступала затягивающая, страстная, проповедническая, даже пророчествующая нота, и Сталин, преодолевая в себе чужое, ненужное воздействие, откинулся назад, строго и пристально взглянул на Никитина. В глазах у него мелькнуло удивление и растерянность.
— Вы действительно так думаете? — спросил он с невольной угрозой, но его удивительный собеседник, кажется, даже и не заметил или не захотел замечать перемены в голосе Сталина, но пятна свежепримороженной, шелушащейся кожи заметно проступили у него на лбу и щеках. Он упрямо и дерзко закончил:
— Вы тоже так думаете, только никогда в этом не признаетесь. Самый же главный ваш просчет, содомский грех — безумное, гибельное для вас решение переделать естественную природу человека, разрушить его национальную природу. В эту бездонную пропасть рухнуло уже не мало революций, рухнет и ваша. Это не подвластно даже самому Господу Богу, простите.
Усилием воли подавив подступившую волну бешенства, Сталин несколько минут молчал.
— У вас в голове, все как в перевернутом бинокле, какая-то мелкобуржуазная каша, как баба собираете дикие слухи, — сказал он, снова после долгой паузы заставляя себя через силу настроиться на миролюбивый лад. — Вы читали Ленина, как мне кажется, в перевернутом виде и, кажется, исполнены решимости героически умереть. Мы не дадим вам такой возможности. Напротив, мы дадим вам возможность осознать свои заблуждения. Мы не так кровожадны, как вам кажется. Впрочем, мы с вами слишком отклонились в сторону от основного разговора.
Никитин смотрел по-прежнему упорно и прямо перед собой, теперь уютно устроив тяжелые, болевшие руки на колееях — они не отошли от непосильных перегрузок, от тачки, при малейшей неровности на почве выворачивающей до хруста суставы в плечах; высказавшись, он, сейчас опустошенный и освобожденный внутренне, наслаждался покоем. Все обстоятельства своей прежней жизни и ареста он давно перебрал скрупулезно, по зернышку, перебрал все свои знакомства с тех нор, как помнил себя, и когда Сталин как бы невзначай в разговоре коснулся покойной жены, Никитин был готов именно к такому повороту.
— Наденьку? — переспросил он с пробившейся улыбкой и тут же, спохватившись, погасил ее. — Простите, Надежду Сергеевну? Конечно, знал. Еще, правда, девочкой, прелестным подростком. Естественно, по возрасту я общался больше со старшей сестрой, с Анной Сергеевной, вообще… со всем старшим поколением этой семьи.
Он оживился, и Сталину было видно, что ему приятно вспоминать об этой далекой светлой поре своей жизни, в которую он, может быть, невольно для себя включал теперь и Сталина, что в самом Сталине вызывало скрытое сопротивление, но в то же время теплое участие, проявляемое совершенно посторонним человеком, волей-неволей и к нему, Сталину, смягчило напряженность момента; Сталин тоже слегка расслабился, думая, как помягче поступить дальше, и поэтому не был готов к неожиданному, дикому повороту в их разговоре.
— Говорят, вы ее убили, хотя я никогда не верил этому, теперь особенно, — тихо и по-прежнему ровно, глядя перед собой, сказал Никитин. Приподняв тяжелые веки, даже не успев еще полностью воспринять истинный смысл прозвучавших слов, Сталин подошел к своему собеседнику и, вплотную, пытаясь не поддаваться мутной воле ненависти, уже туманившей мозг, в упор спросил осевшим голосом:
— Кто говорит? Кто?
— Многие, — ответил Никитин, не опуская глаз, все так же бесстрастно и безнадежно, и Сталин, пересиливая невольную дрожь, почти примирительно подумал, что перед ним сумасшедший, сошедший уже давно в небытие человек и обращать внимание на его слова не следует.
— Да, — сказал Сталин глухо. — Убил ее все-таки я — не смог уберечь. Она была самым дорогим, необходимым мне человеком, ее никто не сможет мне заменить. До этого никому нет дела.
— Сочувствую, вы глубоко несчастный человек, трагедию нельзя было предотвратить, вы были слишком разными людьми. Но посмотрите, ваша боль отступит; рано или поздно всякая боль кончается, потерпите, она обязательно отступит. Вот увидите! Вам станет легче, — сказал Никитин, и впервые за время разговора мягкая улыбка согрела его бескровное тонкое лицо. — Ну а со мной? Тоже неизбежный исход… Здесь вы вряд ли будете вольны что-либо сделать. Законы борьбы, взятые вами за правила, методы истребления неугодных… Зачем вам такой, как я, пусть даже обреченный, живой свидетель? Наденька… простите, — торопливо перебил он сам себя, — Надежда Сергеевна, обратив на меня ваше внимание, невольно подписала мне приговор.
— Вы слишком большого мнения о себе, — не повышая голоса, все так же глухо отозвался Сталин, ощущая в себе ответное тепло и подчиняясь внутренней необходимости воскресить в сидящем перед ним странном непривычном человеке, уже давно глядящем на мир из невозвратной стороны и смирившемся с этим, угасшую надежду и желание жить, пробиться сквозь закаменевшую безысходность. Радуясь своему решению, Сталин подошел к столу, медленно набил трубку табаком из небольшой коробки и закурил. — Я просмотрел ваше дело, — сказал он, неторопливо попыхивая трубкой. — В нем много противоречивого и неясного, я попрошу еще раз вернуться к нему. Поставим вопрос по-другому, пусть тяжелый эпизод в вашей жизни даже и не вспоминается вам — его просто не было. Забудьте о нем. Живите честно и работайте… И товарища Ленина постарайтесь перечитать без искажающих очков… не путайте его с Троцким… Мы еще встретимся с вами и побеседуем в другой обстановке…
Никитин ничего не ответил, лишь встал, неловко опустив изуродованные, тяжелые, обвисшие руки, всем своим видом выражая недоумение.
— Вы не ослышались, — улыбнулся Сталин и кивнул, прощаясь.
Выходя из кабинета и чувствуя затылком неотпускающий взгляд, Никитин только у порога оглянулся, и Сталина опять поразили его глаза. В них по-прежнему не было ни благодарности, ни радости, лишь появился мучительный вопрос, обращенный больше внутрь себя, вопрос, на который нельзя было ответить.
— Идите, идите, — повторил Сталин мягко, впервые за долгие месяцы после смерти жены чувствуя душевное облегчение и согласие с самим собой.
Никитина Александра Юрьевича освободили на следующий день; он работал на старом месте и в прежней должности в Ленинграде, даже и продвигался вверх по службе. Отойдя душой, он давно перестал ожидать обещанной новой встречи со Сталиным и начинал подумывать о женитьбе, уже присматриваясь к свободным женщинам в своем отделе, и даже наметил одну приятную застенчивую темноглазую брюнетку. Но не успел: ровно через год после освобождения его арестовали вновь; в ту же ночь его судило особое совещание, а на рассвете он уже был расстрелян.
7
Выходя от Малоярцева, Обухов почувствовал, что в его жизни свершилось что-то нехорошее и отныне его жизнь пойдет по какому-то совершенно иному руслу. «Ну вот, еще не хватало!» — подумал он, ожесточаясь на себя. Он отдал пропуск дежурному милиционеру, и тот, взглянув в бумажный квадратик и сверив его с паспортом, поднял цепкие прозрачные глаза на самого владельца документа; затем разрешающе вежливо кивнул. Отпустив машину, Обухов шел по улице, сторонясь встречных и часто останавливаясь; он никак не мог свыкнуться с мыслью о поражении — его выставили за дверь, как какого-нибудь выскочку, и в голове у него прокручивались самые невероятные фантастические варианты; то он решал обзвонить коллег-единомышленников, предложив им собраться вместе, составить протест в правительство, то думал обратиться к мировому общественному мнению, поднять на дыбы Европу; в конце концов, зежская проблема это и всеевропейская проблема. К черту патриотизм шиворот-навыворот, идет запланированное, хладнокровное истребление целого народа, цинизм здесь превосходит все допустимое; прикрываясь заболтанными лозунгами о безопасности страны, безопасности народа, уничтожают среду его обитания самым чудовищным, самым бессовестным образом. «Нет, каков фарисей, — говорил он самому себе. — Оказывается, старый прохвост знает имя-отчество моей жены! Следит! Подготовился!»
Он шел людными, оживленными улицами, вновь и вновь возвращаясь к разговору с Малоярцевым; несомненно, ему дали понять, что он вмешивается не в свое дело, и за всеми разглагольствованиями прожженного политикана скрывалось одно: никому не позволительно и небезопасно вмешиваться в высшие государственные дела. Удивляя прохожих, Обухов, захваченный какой-то своей мыслью, иногда останавливался в самом оживленном месте, стараясь поймать ускользающую логическую цепочку; толпа обтекала его, оттирая к краю тротуара. А может быть, Малоярцев прав, и человеческая раса всего лишь тупиковая ветвь в бесчисленных вариантах безжалостного и вечного космоса, и нет никакого смысла продолжать борьбу? Тупик есть тупик; эксперимент заканчивается, все возвратится на круги своя. И поделом ему, поделом!
Домой он возвратился внешне совершенно спокойным, привычно перемолвился о погоде с привратницей, грузной от болезни сердца женщиной, работавшей года два назад главным инженером в их жилищном управлении и теперь вышедшей на инвалидность, открыл дверь своим ключом, прислушался, облегченно выправив смятую шляпу, молодцевато бросил ее па колышек старой, еще отцовской вешалки. Просторная прихожая встретила его привычным полумраком, тишиной; жены, кажется, не было дома. Он освободился от пиджака, сдернул всегда душивший его галстук, сбросил туфли; с удовольствием прошел в носках по ковру на кухню, сиявшую беспорочной стерильной чистотой, затем с чашкой дымящегося густого свежезаваренного чая неторопливо прошел в гостиную, где сумрачно поблескивая цветными стеклами старинный, дорогой работы шкаф, доставшийся жене в наследство и вот уже много лет служивший баром.
«И все-таки откуда он знает об Ирине?» — опять озадачился он, помедлив, распахнул створки, пробежал глазами этикетки самых разномастных бутылок, томившихся здесь годами; наконец, нашел, нашел старую, запыленную, влил из нее немного бальзаму в чай и унес чашку с чаем к себе в кабинет, вспоминая, где у него может быть старая записная книжка с нужными телефонами.
Оглянувшись, он увидел в дверях кабинета жену, поставил чай на стол и пожаловался:
— Куда-то запропастился блокнот с телефонами… Тот, в синей обложке? Ты не знаешь, где он может быть?
— Почему ты в темноте? — спросила Ирина Аркадьевна, зажгла свет, подошла к одному из стеллажей, с встроенной в него конторкой и тотчас положила перед ним длинный, затрепанный блокнот. — Что-нибудь случилось? — поинтересовалась она, присаживаясь рядом. — Совсем плохое? Ты ужинал?
— Я не хочу есть, — сказал он, — я не думал, что так поздно…
— Сейчас принесу соку. Есть только апельсиновый. Хочешь?
— Ага, — сказал Обухов, думая о своем; и когда она вернулась с апельсиновым соком в высоких темно-зеленого тяжелого богемского стекла бокалах, он некоторое время не мог понять, зачем она здесь; почувствовав состояние мужа, она попыталась вернуть его в мир простых обыденных забот, чуть-чуть успокоить и облегчить:
— У меня сегодня день не задался, куда ни приду, всюду не везет. Была у Натальи — не застала, — бодро пожаловалась Ирина Аркадьевна. — Хотела забрать сегодня щенка, у Жульки родилось три щенка! Ты помнишь Наталью?
— Да, да, конечно! — сказал Обухов, невидяще всматриваясь в моложавое, ухоженное, без единой морщинки лицо жены; в открытом вороте блузки была видна шея, тоже еще молодая, стройная, с тонкой, золотой, едва поблескивающей цепочкой, и он подумал, что жена хорошо выглядит и ей придется трудно.
— Наташу Гилевич? Ты ее имеешь в виду? У тебя, кажется, есть еще одна подруга с таким именем?
— Ax, Иван, Наталья всегда оставалась единственной… Ты должен был бы знать… Заехала на заправочную, семидесятого нет, хотела забрать твои рубашки в прачечной, закрыто по техническим причинам. Какое-то сплошное невезение! Звонила Людмиле. У них все то же. Дочь на днях унесла в комиссионку серебряные подсвечники и столовое серебро и даже не подумала спросить разрешения… Видите ли, ей с мужем приспело время менять машину. Дай денег, и все! Как насос, все из родителей выкачивают. Современные дети — какой-то ужас, Иван… такие бессердечные. Я раньше страдала, плакала. Ты ведь мечтал о сыне, от женщины нельзя подобного скрыть. Сколько на врачей денег извела… Даже к знахарке ходила. А теперь даже рада. Мы с тобой не знаем этого ужаса, этой бессердечности. А потом — годами в разъездах, в ожесточенности, нет, Ваня, хорошо, что мы перед ними не отвечаем. Отвечаем только за самих себя. Иван, ради Бога, не томи душу… Что случилось?
— У меня, Ирина, большие неприятности, плохо, все очень плохо. Меня сегодня занесло на Старую площадь, я не стал тебе заранее говорить. Окончательно подтвердилось…
— Ну, у нас не семеро по лавкам…
— Наверное, мне предложат уйти из института. Или институт закроют.
— Ты всегда торопишься, тебе ведь ничего не сказали о закрытии института?
— Но темы одну за другой закрывают. Не случайно наш отчет поставлен на президиум Академии… Все идет к концу, к своему логическому финалу. Конечно, я не собираюсь сдаваться, пойду к самому, обстоятельно изложу суть и отнесу. Примет — хорошо, не примет — оставлю… Пусть знают.
— Вот это, по-моему, Ваня, верное решение. У нас страна фантастическая, ход могут дать только бумаге, а не человеку, — тихо упавшим голосом подтвердила она. — Я просто так… И щенка мне не надо, блажь вошла в голову. Хорошо, не застала Наталью. Сегодня с утра начались какие-то странные звонки. Звонят, спрашивают тебя и бросают трубку. Не находят нужным представиться… Какое-то хамство. Затем я вообще никому не могла дозвониться. Телефон как-то странно подзванивал и молчал. Боже мой, ты уже совершенно белый, — посетовала она, обняв его сзади за плечи и потеревшись щекой о седой ежик на затылке. — Зря ты мне не сказал, Иван. Я бы подождала тебя внизу, а то бы и отговорила. Зачем? Ты же один ничего не сдвинешь. Они ведь не остановятся ни перед чем, какая истина, какая наука? Зачем им какая-то истина? Наталья достоверно слышала, — понизила Ирина Аркадьевна голос, — что у самого бровеносца — счета в швейцарском и аргентинском банках. Не понимаю, что можно от них ожидать? Им же нет никакого дела до народа. Разоряют страну, распродают ее запасы, вывозят газ, нефть, редкие металлы, словно из какой-нибудь колонии! Любой другой цивилизованный народ давно бы разогнал этот старческий ареопаг. Подозрительна эта старческая щедрость!
— Ладно, воительница, свари, пожалуйста, кофе, мне нужно еще поработать.
Он набрал номер телефона Пети Брюханова; аппарат ответил частыми резкими гудками. Нахмурившись, он вновь набрал нужный номер и услышал непрерывный гудок, чертыхнулся, бросил трубку. Ирина Аркадьевна принесла кофе, и он, не притрагиваясь к нему, сказал:
— У нас действительно испортился телефон. Придется спуститься к автомату, мне необходимо связаться с Петром Тихоновичем…
— А ты не хочешь позвонить от Дьяковых? — предложила Ирина Аркадьевна. — Одеваться не надо, из двери в дверь. Порядочные люди, у нас прекрасные отношения…
— Нет, не хочу, мне это неудобно, — сказал он. — Поищи, пожалуйста, мелочь…
Когда Обухов уходил, зажав в ладони несколько двухкопеечных монет и бумажку с нужными номерами телефонов, Ирина Аркадьевна неожиданно решила идти с ним, накинула на себя плащ и, не обращая внимания на его протесты и явное недовольство, настояла на своем. И вдруг оба почувствовали какую-то смутную, неведомую опасность; оберегая друг друга, они не говорили об этом вслух. На улице Ирина Аркадьевна крепко держала мужа под руку и не отходила от двери будки, пока он говорил по телефону, незаметно оглядываясь по сторонам; улица была освещена слабо, редкие, смутные шумы большого города сюда почти не доносились. В революцию у нее расстреляли семнадцатилетнего брата гимназиста, в тридцать седьмом подчистили всю родню по отцовской линии, в том числе и дядю, по сути дела и вырастившего ее, и в ней с прежней силой ожили пережитые страхи. Пристроившись у будки так, чтобы видеть пространство улицы, Ирина Аркадьевна не заметила, откуда вывернулся высокий, в шляпе и в сером плаще мужчина. Почувствовав тошновато-сладкий приступ унизительного страха, она даже не услышала сразу вежливого вопроса и, только когда мужчина повторил, кивнула.
— Да, да, я тоже звонить, — сказала она неестественно бодрым голосом. — У меня в семье несчастье и, словно назло, испортился телефон.
— Примите мои сочувствия, — мужчина вежливо приподнял шляпу, хотел постучать в стекло кабины приготовленной монеткой, но Ирина Аркадьевна успела остановить его:
— Простите… Мы вместе, не надо его торопить, мы вместе. У нас в семье большое несчастье.
— В Москве стало трудно жить, — сочувственно сказал мужчина, повернулся и пошел; и Ирина Аркадьевна проводила его долгим испытующим взглядом. Разговор у мужа затягивался, она постучала в стекло кабины, и Обухов рассеянно кивнул ей.
Стараясь не показывать озабоченности, Петя приехал минут через сорок, он был из касты власть предержащих, являлся в глазах Ирины Аркадьевны как бы сам по себе охранительной силой и всегда действовал на нее успокаивающе. Пока Ирина Аркадьевна накрывала на стол, Петя, слушая академика, как-то внутренне все больше тяжелел и хмурился. Они с Обуховым понимали друг друга с полуслова — Петя знал о происходящем больше других, сложившуюся на сегодня ситуацию мог представить конкретнее; едва он услышал о походе академика туда, на самый верх, и о результатах его разговора с Малоярцевым, он внутренне напрягся; вот и подступила последняя черта, теперь или придется ее переступить, забыв о себе, о своем, или отшатнуться назад и погрузиться в накатанную обеспеченную жизнь вот уже не единожды предлагаемую ему Лукашом. В конце концов, что ему это подземное Славянское море и пребывающий в пьяном беспамятстве народ, именем которого бесчинствуют правящие демагоги; никакой академик тут ничего не сделает — безжалостная, неумолимая система раздавит любого, раздавит и не заметит; о какой еще борьбе толкует этот большой ребенок? Кто и как сможет его поддержать вопреки всему, кто осмелится пойти поперек течения? Какой президиум, какая Академия? Да прежде чем собраться, они двадцать раз провентилируют вопрос у того же Малоярцева… Задавленная свинцовой партийной цензурой пресса скажет свое слово? На языке мед, а под языком лед. Народ? Одурманенное алкоголем и десятилетиями лжи безгласное стадо. К какому общественному мнению он хочет апеллировать? Неужели он не знает, объекты в Зежских лесах — государственная тайна. Наложено строжайшее табу. Повесить себе на грудь плакат и пойти на улицу Горького, к Пушкину? Трех шагов сделать не успеешь… А то, есть восточный способ — бутылку бензина на себя и спичку…
Петя невидяще кивнул академику, уже давно умолкшему и теперь глядевшему на своего собеседника внимательно и требовательно.
— Молчите, Петр Тихонович? Думаете, совсем плохо?
— Отнюдь! Крестным ко мне пойдете, Иван Христофорович? — спросил он, широко улыбаясь. — Жизнь не остановишь, и Ирину Аркадьевну попросим — крестной матерью. Вы ведь крещеный, Иван Христофорович?
— Ну, разумеется! — подтвердил Обухов, не зная, то ли ему сердиться, то ли смеяться. — Я все-таки русский человек, как же иначе?
— Я теперь такой счастливый, — признался Петя. — Оля верит, что непременно будет сын. Странно, но я думаю, что самый ужасный порок нашей теперешней жизни — безродность и бездуховность, вот два жернова, которые перетирают нашу душу. Кто их запустил, как мы попали в эту воронку? Нам необходимо вернуть русскую духовность, она дороже всех остальных сокровищ мира. Уверяю вас — вот чего больше всего страшатся наши лукаши, малоярцевы, брежневы, как только Россия встряхнется и сбросит их со своего тела, она ощутит это свое сказочное богатство и уже никогда больше не расстанется с ним — тут им всем и конец! Это будет и ваша победа…
— Дорогой Петр Тихонович, а сколько же, сколько нужно ждать? — спроспл Обухов, растроганно улыбаясь в ответ на приподнято-романтическую речь и радуясь за своею молодого коллегу.
— Сколько угодно! — вырвалось у Пети. — Хоть двести лет, исход неизбежен и ясен! А сейчас надо затаиться, залечь в берлогу, выжить, как сказал бы мой дед, и потихоньку делать свое. Никакой президиум вы не соберете, дорогой учитель, не дадут, в печати выступить тоже не дадут. Вы побывали у Малоярцева: его все зовут саблезубым, напополам перехватывает. Несмотря на свой почтенный возраст, он никогда ничего не упускает и не прощает. Бесконтрольная власть, неограниченное влияние… Не советую ничего важного говорить по телефону… Вообще, Иван Христофорович, хорошо бы куда-нибудь на природу… на простор, на травку, под деревья… Ну, ей-Богу, что вы, не заслужили? Давайте к моему деду, на кордон… А Веня… Вениамин Алексеевич Стихарев пусть попотеет, покрутится, у него сил побольше, мозги молодые… пора бы ему и учителю зубы показать…
— Вы это серьезно, Петр Тихонович? — изумился академик.
— Серьезнее, чем вам кажется, Иван Христофорович.
— Вот и телефон испортился, — беспомощно пожаловался хозяин. — Вернулся домой, телефон не работает, пришлось идти звонить в автомат. Значит, вы так неутешительно оцениваете обстановку? Вы и Стихареву не верите? Не может быть!
— Вы до сих пор, Иван Христофорович, держали его стерильных условиях, волосу не давали упасть, вее брали на себя, — сказал Петя, в то же время делая понятный всякому предостерегающий знак — не говорить ничего лишнего. — Время покажет. Да, вы неудачно сходили к саблезубому… Теперь можно ожидать чего угодно.
— Какой-то зоопарк! — обиделся Обухов за своего лучшего ученика Веню Стихарева. — Не говорите, пожалуйста, ничего при Ирине Аркадьевне, она и без того напугана. У меня к вам просьба, Петр Тихонович. Я приготовил пакет… там и рукопись моей новой работы «Мера равновесия». Можно вас попросить взять этот пакет с собой и хранить у себя? Ну, хорошо, хорошо, я не должен был спрашивать, — совершенно забыв о предупреждении Пети не затевать серьезных разговоров, Обухов легонько похлопал его по тяжелой ладони. — Скажите, коллега, если проблему начнут дискутировать где-нибудь в заграничной прессе… всякое ведь может случиться… Что вы по этому поводу могли бы сказать?
— Проблема, Иван Христофорович, далеко выходит за рамки любых национальных интересов, — по-прежнему стараясь говорить только по существу, сказал Петя после паузы. — Я ничему не удивлюсь, даже грандиознейшему скандалу… И сделаю, Иван Христофорович, возможное… Не хотели бы вы встретиться с моим отчимом? Конечно, он на службе, допуски, условности… Но человек он умный и по своему страдающий…
— Человек, связанный с государственными и военными секретами, коллега… В какое положение мы его поставим?
— Уж слишком важен вопрос, Иван Христофорович. К тому же он истинно русский человек, пора, наконец, нам объединяться! Я, конечно, сам с ним поговорю, но одно дело — я, другое — вы. Величины несоразмерные.
— Надо продумать, Петр Тихонович, понимаете, продумать! Не совершить ни одной, возможно, решающей ошибки. Черт знает что такое! Наши высокие чиновники знать ничего не хотят о реальности, с момента расщепления атома человечество поставило себя вне термодинамического поля биосферы, вступило со своей праматерью в смертельный конфликт… О какой борьбе честолюбий, о какой конфронтации, о каком противостоянии партий и народов можно говорить? Это же философия неандертальцев, еще ниже… Детский лепет по сравнению с катаклизмом в природе! Никто не ведает, что за подарок у нее за пазухой, никто…
— Успокойтесь, Иван Христофорович, ведь человечество попросту никакого скачка не заметило, работы по этой отрасли знания не печаются… Ваши, например…
— Можно и опоздать, Петр Тихонович, — уже тише сказал Обухов. — Жаль, жаль, человечеству суждено было бессмертие. Ходить по краю бездны… Нам сейчас не хватает великих мыслителей, великих натуралистов… Были же Ломоносов, Болотов, Докучаев, Флоренский, Вавилов, Вернадский… Блестящая способность видеть и аккумулировать в глобальных масштабах…
— Иван Христофорович, не волнуйтесь так!
Обухов встал, подошел к стеллажу, открыл дверцу нижнего шкафчика, извлек из него увесистую, хорошо запакованную рукопись и положил на стол.
— Сохраните, — сказал он, не сразу отрывая руку от свертка. — Вы молодой, вам необходимо долго жить, растить сына, мерзость вокруг нас не может длиться вечно, вы правы. Здесь несколько теорий, догадок, главное же — работа по теории биоравновесия па стыке двух термодинамических эпох в развитии человечества, больше даже философская работа… пожалуй, все. Возможно, я ошибаюсь, и еще не поздно, явятся какие-то силы, скорректируют гибельный процесс… кто знает, что такое время и в чем его сущность? Кажется, нас зовут ужинать.
Петя взял сверток, повертел и все-таки ухитрился втиснуть его в свой модный, достаточно объемистый кейс; никто из них, уписывая превосходную печеную рыбу и тушеные овощи и на все лады расхваливая хозяйку, еще не знал, что это последний мирный ужин в этом доме и что уже на следующий день научная Москва (и не только научная!) будет перешептываться и перезваниваться и причиной тому станет попавший с этого дня в опалу биолог с мировым именем — Иван Христофорович Обухов. В тот вечер, выходя, правда, уже достаточно поздно из подъезда академического дома, Петя встретил еще одного знакомого человека, тетю Катю, заведовавшую всем хозяйством в экологической дальневосточной экспедиции, правда, сама она, с озабоченным видом направившись к лифту, Петю не узнала или постаралась не узнать.
Выходя из кабинета Малоярцева, академик мог предположить со стороны такого могущественного человека любую каверзу, но тот, приведя себя в привычное равновесие, ничего особенного не предпринял. Лишь вызвал Лаченкова и, глядя ему в лысину с плохо скрытым раздражением, всего лишь поинтересовался, можно ли в Москве сейчас достать квасу с хреном и медом, и Лаченков, стараясь подстроиться под настроение хозяина и понять, откуда грозит опасность, принахмурился, старательно свел белесые брови.
— Именно с медом и хреном, — жестко подтвердил Малоярцев, сердясь на медлительность своего ближайшего помощника.
— Сейчас распоряжусь…
— Стой! — негромко и глухо приказал шеф. — Квас — потом, а сейчас немедленно свяжитесь с соответствующими службами. Вы можете предположить, какая ересь может прийти в голову сумасшедшему в академическом сане и с мировым именем? Вот, вот, я тоже не знаю…
Этого оказалось достаточно, чтобы машина пришла в движение.
Все предпринимаемое Обуховым тонуло в какой-то глухой вате; требование его срочно собрать экстренное заседание президиума Академии наук тоже было вежливо отклонено по причине отсутствия в данный момент кворума. Президент давно уже не реагировал ни на свои, ни на чужие эмоции. Он вяло выразил надежду на будущие, более плодотворные встречи; услышав в ответ исчерпывающую отповедь Обухова, вежливо наклонил совершенно голый череп, проводив Обухова до приемной.
Весь следующий день Обухов пытался добиться прием у Суслова, затем у Андропова; звонил и в приемную самого Леонида Ильича; его вежливо выслушивали, записывали; Обухов стал сосредоточенно-спокоен; им руководило теперь чувство обостренной, безошибочной интуиции, с каждым днем ему все обнаженнее открывалась правда человеческих отношений, она строилась по образу и подобию всего сущего, по закону хаоса; вычислить его, ввести в рамки гармонической закономерности не представлялись возможным, следовательно, и учения, декларируемые той или иной группой единомышленников, являлись всего лишь проявлением случайностей хаоса.
Вскоре во время их с женой отсутствия у них на квартире был произведен обыск. Все было цело, и замки, и даже сигнализация, лишь из кабинета Обухова исчезли многие бумаги, тетради, черновые разработки ряда экспериментов, наброски научных статей.
— Так, — сказал он с некоторой сумасшедшинкой, и в его взгляде промелькнуло что-то от молодости, из старых студенческих времен — какая-то нерассуждающая, диковатая удаль; помедлив, он резко устремился к телефону.
— Иван! — предостерегающе воскликнула Ирина Аркадьевна, бросаясь к нему и пытаясь завладеть трубкой. — Иван! Сосчитай до десяти!
— Успокойся, — все с той же пугающей Ирину Аркадьевну незнакомой гримасой остановил ее Обухов. — По-прежнему отключен… Нечем дышать. Они совершенно прекратили доступ кислорода.
— Ты, кажется, вторгся не в свою область, ты сам совершенно никому не нужен, — тихо предположила Ирина Аркадьевна. — Дело истинного ученого создать школу. Сколько раз сам же говорил о необходимости экологического всеобуча… об очищении души человека в общении с природой, с космосом. А сам погряз, прости, в дурацкой политике!
— Да, это и есть сейчас самая горячая политика! — голос Обухова пресекся. — Это и моя страна, черт возьми, — с трудом произнес он после паузы. — Здесь по этой земле прошли многие поколения Обуховых. И кому нужно будет братство, равенство и прочий бред, если земля совершенно облысеет?
После нервной вспышки он почувствовал сильную слабость, и Ирина Аркадьевна с трудом уговорила его полежать, дала выпить успокаивающее, и он действительно почти целые сутки спал, затем день или два бесцельно бродил по квартире, брезгливо смотрел в окно, о чем-то неотступно размышляя.
8
Довольно легко добравшись до сына Ильи, теперь уж заправлявшего большим лесотрестом на Каме, Захар попал в приличный поселок, с лесозаводом, с бревенчатыми, правда кое-где просевшими, тротуарами и рядами чахлых лиственниц по обе стороны улиц. Первые несколько часов прошли в обычных сумбурных совместных воспомипаниях, но ни отца, ни сына не покидало чувство недосказанности; после какого-то неясного, невразумительного разговора с Ильей насчет брата, промаявшись почти всю ночь, лесник твердо решил увидеть Василия, хотя в начале своей поездки не замышлял забираться в такую даль. Давно он не помнил такой маятной ночи — и на кровати сидел, и к окну подходил, вглядываясь в темноту, и теплую воду пил из красивого цветного графина — ничего не помогало; он был в чужом для себя мире — незнакомом, непринимающем, отталкивающем.
Близилось утро; сбросив с себя одеяло, Захар нащупал у изголовья кровати шнур выключателя, ожесточенно дернул, с неудовольствием натянул выданные ему невесткой полосатые пижамные брюки, покосился в дальний, сильно затемненный угол. Доступу света мешал обвисший, оторвавшийся ночью от стены край ковра. Оставив дверь в свою комнату открытой, чтобы лучше видеть, он вышел в просторный широкий холл, с диваном, зеркальной вешалкой, с телефоном на низеньком столике, прислушался; чувство досадного, ненужного промаха во вчерашнем трудном разговоре с сыном мешало ему. Он пошел в другой конец коридора и, постояв возле закрытой застекленной высокой двери, тихонько стукнул раз и второй и почти тотчас услышал сонный всхлип; раздались шлепающие тяжелые шаги, дверь распахнулась, и он увидел Илью в одних трусах, врезавшихся в волосатый живот. Его обессмысленные сном глаза непонимающе щурились, затем прояснились при виде отца, недовольство из его глаз ушло.
— Батя… чего? — спросил он хрипло. — Нездоровится?
Илья шире распахнул дверь, намереваясь шагнуть в коридор, но от неловкости, что стоит перед старым отцом чуть ли не голый, в современных скошенных плавках, к тому же еще и тесноватых, подчеркивающих здоровое, сильное мужское тело, подался назад, в спальню, знаком дав понять отцу, что сейчас выйдет, и скоро они уже сидели па кухне, и Илья слушал, стараясь быть внимательным и как нибудь ненароком не обидеть старика; сон его окончательно прошел.
— Да какая тут совесть, — сказал, наконец, он, оглядываясь на закипающий чайник па плите. — Ты вот обвиняешь меня, а за что? Василий человек взрослый, у него своя жизнь, у меня своя… Вот смотришь и не веришь, а я правду говорю, ей-Богу, правду.
Сидевший спиной к окну и лицом к двери Захар поднял голову; в дверь просунулось породистое лицо невестки; в кружевных сборках кокетливой ночной сорочки виднелись сбитые белые плечи и пышная грудь; на долю секунды в ее лице мелькнуло выражение неприязни и тотчас спряталось в дрогнувших ямочках привычной улыбки. Следуя хмурому взгляду отца, Илья повернул голову.
— У нас разговор, Раиса, — сказал он, по-незнакомому зло поджимая губы. — Мужской разговор… Ты иди, иди, не беспокойся…
— Приготовить вам покушать? — спросила она приветливо, уловив в голосе мужа скрытое недовольство и отыскивая предлог помочь ему. И хотя Илья понял ее намерение, он отвел глаза и холодно сказал:
— Мы чай пить будем. Спасибо, больше ничего не нужно.
Кивнув, Раиса вернулась в спальню, тотчас стерла с лица улыбку, включила свет, взглянула на часы, было всего шесть часов утра, сильно ломило виски. Вздохнув, она покосилась в трюмо на свое большое тело и в который раз подумала о необходимости сесть на строжайшую диету, исключить хлеб и сладкое совершенно; просто катастрофа, говорила она сама себе, неосознанпо стремясь уйти от других неприятных мыслей, ни в одно приличное платье уже не влезает, к отпуску надо срочно опять что-то с портнихой придумывать, в этом захолустье и тканей приличных нет. Еще свекра нанесло, будет торчать, все их планы спутает… Теперь ни за что не уснуть, опять встанет отекшая, скорей бы отпуск и на Минводы в Пятигорск. Можно будет привести себя в форму, обрести человеческий вид, если конечно, этот старый пень не помешает. Свалился на голову без письма, без предупреждения, и чего ему на месте не сидится? Какие такие срочные разговоры, до утра подождать нельзя? У них ведь тоже своя жизнь, свои планы…
Между тем у отца с сыном на кухне сейчас происходило нечто глубоко свое, только им понятное и необходимое, и мужчины, взглянув на некстати показавшуюся в дверях Раису, тотчас забыли о ней.
— Его словно какая-то ржа точила, — опять заговорил Илья. — Уговаривал, уговаривал, как же! — быстро добавил он в ответ на взгляд отца. — Все тут у него свое было: хорошая работа, дом, огород, лодку моторную купил… школа у нас приличная. Все бросил.
— Как же адреса-то не оставил? — спросил отец.
— Представь себе, не оставил, — ответил он, искоса присматриваясь к старику и стараясь понять причину его беспокойства. — Я случайно узнал. Девчонка, дочка Василия Вера, переписывается с одним из здешних парней… вот и узнал. Сейчас нынешние-то — скороспелки, харч хороший, глядишь, в пятнадцать уже хоть куда… Ум-то ребячий, а телом — пошел как на дрожжах… Ох, батя, трудно с ними…
Зафыркал и задребезжал крышкой вскипевший чайник; оглянувшись, Илья с веселой улыбкой готовно вскочил.
— Сейчас чаю попьем свежего, — весело сказал оп, щедро насыпая в большой фаянсовый, расписанный крупными ромашками чайник заварку и заливая ее крутым, белым, брызжущим кипятком. Он добавил в чайник немного липового цвету и мяты, с удовольствием втянул в широкие ноздри поднимающийся над чайником парок, затем, поставив на стол два стакана в тяжелых подстаканниках, брусничное варенье, вчерашние ватрушки, нарезанный сыр, с удовольствием принялся прихлебывать чай, искоса поглядывая на задумавшегося старика, вновь перебирая в голове все сказанное ему отцом и тут же возражая ему, что брат Василий и ему третий год не пишет, что поделаешь — рабочий человек, семью кормить надо, когда ему писать? Зачем же в открытые ворота ломиться, хотя старость есть старость, у нее свои странности и законы, и нечего зря голову ломать…
Илья придвинул отцу стакан с чаем и, улыбаясь, сказал:
— Батя, ну, ей-ей, не знаю, какая ему вожжа под хвост попала… Ты не волнуйся, все обойдется… Хочешь, вместе к нему слетаем, выкрою недельку. Поглядим друг другу в глаза, сам увидишь, с моей стороны чисто. Ты лучше скажи, батя, — как сам-то? А то о себе ни слова…
— Живу, — шевельнул бровями Захар, и в прищуренных глазах у него появилось и пропало молодое, озорное выражение. — Помирать пока не собираюсь, Дениса со службы дождусь… А к Василию один поеду, туда мне одному надо ехать… Вот с билетом помоги.
— Вольному воля, крещеному — рай, — опять улыбнувшись, сказал Илья и отхлебнул чаю. — Пей, батя, чай хороший… ароматный.
— Не думай ничего плохого, Илья, не обижайся, — взглянул исподлобья лесник. — Ну, какой толк на меня обижаться? Вот такой я есть неудобный человек, надо Василия повидать… и все тут. Думаешь, я знаю зачем? Не-е, не знаю, Илья, сам не знаю, только должен его повидать!
Он взял чай, осторожно попробовал губами, не горяч ли, и стал потихоньку пить.
— Чудной ты, батя, — сказал сын. — Как был, так и остался. Я вон моложе тебя, а уж ничего мне не хочется, вроде и рваться больше некуда и незачем. А ты вот куда-то все стремишься… Зачем, куда? Вроде простой человек, на интеллигентских дрожжах не замешен… так я полагаю?
— Зря тебя на такой должности держат, видал, генеральный директор, — усмехнулся лесник. — Какой с тебя прок, раз ты и сам себе не рад?
— Ну, батя… С тобой и поделиться нельзя, мы не на партсобрании. Ты хоть погости немного… Мы же с тобой и поговорить толком не успели. На какое число-то брать билет? Давай на пятнадцатое, батя… на рыбалку смотаем. Я до сих пор помню, как мы с тобой карася промышляли.
— На ту неделю, на вторник бери, — попросил лесник. — Не серчай, Илья, у меня запасу дней нет, успеть надо. Ты меня с собой не равняй, — добавил он, уловив в глазах сына нетерпеливый, тяжелый блеск.
— Твое дело, батя, — сказал Илья подчеркнуто равнодушно, скрывая обиду и в то же время понимая и прощая отца. — Будь по-твоему. Василию кланяйся, пусть бы приехал, я-то перед ним чист, ну, ни в чем не виноват! Ты мне лучше скажи, батя, зачем приехал? — неожиданно прямо, в лоб спросил Илья.
Захар глянул в глаза сыну, хотел усмехнуться, сказал, что ничего ты, мол, сынок, не понял в отце, но удержался.
— Не кипятись, сынок, что так? Вот время тебе не хватает, говоришь, — лесник помедлил, словно прислушиваясь к самому затаенному в самом себе. — Это тебе не хватает, молодому, а мне каково? Ты тоже, Илья, на меня зла не таи, — добавил лесник, оправдываясь и жалея сына, по-прежнему его не понимавшего. — Вот еще что, Илья, хочу до отлета отсюда в остатные-то дни добраться до старого нашего поселка в Хибратах. Душа просит…
— Думаю, батя, зря прокатишься, — не сразу ответил Илья, крепко потирая массивный, в широких складках затылок. — Года три назад звероводческую ферму хотели там посадить, не получилось, корма завозись невыгодно в такую даль. Человек пять-шесть забулдыг, может, и встретишь, а так — поселок мертвый. Лес вырубали, народ разъехался, что там еще делать? Туда только водой, аэродром давно закрыт. Хорошо, батя, выкроим с недельку.
С крестьянской простоватостью, в то же время с прежней железинкой (Илья каким то шестым чувством помнил отца много лет тому назад, в расстегнутой рубахе за столом, в неверном свете керосиновой лампы, и себя рядом, и братишку Васю, и отцовские руки, бережно резавшие хлеб) старый лесник отговорился; он и добираться до нужного места хотел на попутных, но сын, влиятельный в этих пустынных краях человек, все-таки сумел подсунуть ему легкую крьпую моторку и надежного сопровождающего в дорогу; невестка с тайным удовольствием щедро собрала ему заплечный мешок, на всякий случай сунула в него и пару бутылок беленькой, и лесник после двух ночевок (ночи стояли темные) на диком берегу у костра на третьи сутки уже ближе к полудню, едва проскочили крутую знакомую излучину, узнал высокий берег, полусгнившие пустынные мостки пристани и мертвые дома поселка, теперь, казалось, вплотную приблизившиеся к самому обрыву. Он немало перевидел у себя на Холмщине вымирающих, с давно улетучившимся жилым духом деревень и поселков и не мог ошибиться; какая-то особая печать уже издали угадывалась на брошенных человеком местах, ранее кипевших деятельной жизнью. Он и сам не ожидал, что в старой, иссохшей груди так больно шевельнет.
Не надеясь на прочность дощатого настила многолетней давности, моторист мягко толкнулся в берег возле самой пристани и, выбравшись из лодки, захлестнул причальную цепь на косо торчавший из земли кусок тавровой балки, затем помог выйти пассажиру.
После оборвавшегося многочасового звона мощного мотора в ушах еще ныло, тишина обрушилась неожиданно: ни человеческого голоса, ни стука, ни крика птицы, ни шороха — лишь река терлась о гальку. Моторист, из бывалых, неразговорчивых людей, недоверчиво окинул взглядом берег, прищурился на реку; в этом краю вечных лагерей любая тишина могла обернуться бедой, неожиданностью. И лодки угоняли, и люди пропадали, словно сквозь землю проваливались, никаких следов; моторист коротко сказал, что останется возле лодки, дров полно, чай вскипятит, затем и рыбалкой побалуется: повезет, так и ушица, мол, на ужин не помешает.
— Ночевать-то здесь, видать, придется, — предположил и Захар. — Я одну протоку знаю недалеко, прямо за поселком. Можно сразу лодку загнать, ольха с черемухой с берега до берега, там не найдут… поселок рядом… С реки никакого тебе следа… а, Михаил?
— Ну, поселок, может, и не пустой, — почесав крепко тронутый сизоватой щетиной подбородок, предположил моторист. — Ближе к вечеру посмотрим, а пока лучше здесь, на просторе, побуду, далеко видно.
— Может, без ночевки обойдемся, вот поброжу, гляди, дом цел, сам после войны рубил. А то и сожгли, растащили, мало ли, — вслух подумал Захар и зашагал к пристани, затем стал взбираться на крутой берег по заросшей травой дорожке, вырубленной лесенкой прямо в каменистом берегу и еще не успевшей окончательно заплыть. Моторист, с самого начала относившийся ко всей этой затее с поездкой в вымороченные безлюдные края крайне неодобрительно, проводил прямую, подсохшую фигуру старика любопытным взглядом, постоял в раздумье и заскрежетал сапогами по речной гальке, принялся за дело; поднявшись на самый верх, Захар, с трудом хватая воздух, отдышался, присел на валун (и этот вросший в землю валун вспомнился) и, поглаживая его шершавый, нагретый солнцем бок, долго сидел, оглядывая окрестности. Знакомая мертвая тишина безлюдных мест висела над темными, слепыми, несмотря на целые стекла в окнах, домами, бараками, магазином, клубом, комендатурой на площади и конторой леспромхоза, над просторами реки, и Захар, оправдывая свое желание побывать на старых местах жизни, сказал, что хоть вымороченное, да свое, ничто так и не забылось, вот оказия, будто на педельку-другую куда отлучился — и сразу же назад. А зачем? Ждали его тут, звали? И будет ли когда край?
Он медленно пошел по поселку, оглядывая каждый дом, стараясь припомнить, кто в нем жил в бытность в леспромхозе. И вспоминал. Жилье многодетного Стаса Брылика с прохудившейся крышей и сиротливо торчавшей трубой заставило его замедлить шаг, а возле комендатуры с просторной пристройкой под жилье коменданта с отдельным выходом он остановился. Кованые решетки на окнах, заказанные и доставленные с соседнего медного завода, густо взялись ржавчиной и тускло отсвечивали; много припомнилось сейчас старому леснику, плеснулось через край. Он стащил кепку, подождал, переждал черноту в глазах.
Стремительное, знакомое и все-таки чуждое небо уносилось в безлюдные пространства над обезображенной человеком землей, с тайгой, заваленной десятилетиями гниющими порубочными остатками, с разорванным порядком природы. На много десятков верст исколесил он здесь в свое время округу; лесник посветлел глазами, отпустило. В свой бывший дом он вошел почти равнодушно, с холодноватым любопытством оглядел запустевшие углы, с голой, поломанной самодельной мебелью, покрытой рыхлым слоем праха. Дощатая перегородка была все та же, от печи из дикого камня пахнуло сыростью; на грубо сколоченном столе из тесанных им самим плах чернело сплющенное ведро, и даже деревянная кровать, собственноручно им сделанная, возвышалась на своем месте. Привычный хозяйский глаз схватил все разом; в доме еще жить бы да жить, дом простоит еще долго — лиственница дерево вечное, почти не гниет. То ли лесник неловко повернулся, то ли сказалось подспудное волнение — немые, затхлые углы заброшенного жилища словно ожили, зашевелились в них смутные тени, и лесник, с усилием отрывая себя от прошлого, торопливо вышел. Саднящее жало из сердца выскочило. Сам не зная зачем, он обошел кругом дома, продираясь сквозь заросли бурьяна, всегда охотно и буйно селившегося вокруг брошенного человеком жилья, полюбовался на густой осинник, поднявшийся на бывшем огороде слитной зеленой массой в несколько метров высотой. Какая-то неведомая сила, управляющая делами природы, не раздумывая и не страдая, вершила свое дело, стирая разрушительные следы человека, и в этом только и было спасение земли. Мысль, что и погост взялся диким лесом, и могилки Мани теперь не отыщешь, отвлекла лесника, и он заторопился. Кладбище располагалось недалеко за поселком, на пологом песчаном косогоре, в самом начале тридцатых годов отвоеванном у тайги первой, самой густой волной ссыльных крестьян из серединных областей России, всех поголовно, от грудных младенцев до дряхлых стариков, устрашающе поименованных кулаками, заклейменных этим тавром на всю остальную жизнь и обреченных, следовательно, на самые изнурительные каторжные работы во имя процветания государства. Здесь, за этой чертой отвержения и беззакония, кончалось всякое человеческое право и начиналась участь раба; с человеком могли сделать все, его могли не только физически уничтожить по малейшей прихоти поставленных над ним многочисленных надсмотрщиков самых различных рангов, но любой, кому было ни лень, из стоявших над ним, мог довести его до состояния забитой, безгласной скотины. Первая волна ссыльных почти поголовно легла в песчаный косогор, после нее остались щелистые бараки, землянки, похожие на звериные норы, с никогда не выветривающимся запахом нечистот и добротная, из неохватных бревен комендатура. Вторая и третья волны ссыльных продолжали со слепым упорством муравьев освоение дикого берега; в конце концов появился даже клуб и два ларька, где по талонам из комендатуры за усердие и послушание можно было приобрести два метра дерматина на штаны, фунт селедки, а то и несколько пачек папирос; как-то равнодушно, без остроты вспоминая о такой давности, лесник, наконец, выбрался за поселок. Уже у самой цели он как бы очнулся; вначале он пересек довольно заметную, свежую тропинку, ведущую на половину старого кулацкого кладбища, затем стали попадаться и другие, недавние следы пребывания здесь человека; бутылка из-под водки с еще не сползшей с нее наклейкой, обрывок ремня, даже большую костяную пуговицу разглядел лесник под ногами; кладбище в отличие от поселка жило, и это рождало неясную тревогу. Больше всего его озадачила свежепротоптанная тропинка — он даже вернулся и внимательно осмотрел ее еще раз. Стояло полное безмолвие, и даже ветер, тянувший с реки, упал; отдельные уцелевшие деревья мертво застыли, трава не шевелилась, крыши поселка, начинавшие разрушаться, изъеденные темными пятнами мха, какались глыбами камня, кое-где взявшимися травой и небольшими кустиками. И лесник подумал, что в природе между живым и мертвым нет черты, кончика иголки не просунешь. Кругом по бывшим огородам и улицам поселка поднимался молодой лес, березняк, осинник, кое-где пробивались и елочки; на кладбище тоже неудержимо накатывала со всех сторон зеленая поросль. Все было, и все прошло. Дивясь цепкости старой памяти, лесник, почти не плутая, отыскал могилу Мани по кресту, им же самим вырубленному из лиственницы; могилу густо покрыла мелкая березовая поросль; скамеечка, поставленная им чуть сбоку от могилы, догнивала, и он подумал, что надо будет наведаться сюда еще раз с топором да лопатой, привести все в божеский вид. Вот и ограду он тогда не успел как следует поставить, а дерево, что ж, года три-четыре — и упало, растворилось в земло. Илья мог бы выбрать день-другой позаботиться о матери, большим начальником стал в этих местах, душу ржа начальственная выедать начала, надо сказать ему, нехорошо так-то вот, от такого беспамятства ничего доброго не прибавится, только себе и людям в убыток.
Выбрав место, Захар, по старой привычке подвернув под себя ногу, опустился на землю. Попытался вспомнить свои, как теперь оказывается, вполне молодые годы жизни здесь, Маню, детей, Илюшку и Васю, свою тяжкую мужскую дурь после оказии с Федькой Макашиным, вспомнил и хромого коменданта Ракова с его дружком Загребой, и свою бригаду, и только при мысли о Федьке Макашине в душе что-то шевельнулось, что-то больное — то ли застарелая обида на жизнь, то ли непрошеная вина перед нею. А кто же и что ему должен прощать? Жизнь была такая, его убивали, и он убивал, и в гражданскую, и в Отечественную, потом, после войны вот Раков с Загребой… Много ли он понимал в начале тридцатых? Дурная кровь играла, силы много, ума не надо. На съезд в Москву послали, тоже что же такого? Люди собрались, думали хорошее дело поднять… молодость — она жадная, все в себя да себе, на бабу чужую глянешь — завидно, на другую — тоже, грудь колесом, все орут, хлопают, он тоже, что ж такого. Сам Сталин вроде на тебя смотрит, хлопал, смеялся в усы так молодо, заразительно — ну, ну, мол, давай, давай… А оказывается, все они там наверху одинаковые, им на такую грязь пялиться незачем, для виду можно и в зал спуститься, пройтись по рядам, поздороваться, потом руки душистым мылом отмыть. Что они, приехавшие, тогда понимали на том съезде? С соседней Украины уже шли, мерзли по дорогам, и в его семье появился оттуда приемыш Егорка, взяли с мертвой матери, вон какой грозный был знак, только теперь проступает во всю силу; а тогда одни как скот дохли, другие бежали наперегонки, давай, давай, не оглядывайся, кто швыдче ускачет, тому ленточку через плечо и патефон или отрез на портки. Вот землю и обездолили, людей разогнали, теперь за великие деньги никого не соберешь… может, ты перед концом Бога боишься, неожиданно спросил лесник сам себя, уставившись на затемневший от времени тяжелый крест, поднимавшийся из зелени над могилой, может, на старости лет к Богу поворотился? Все бы сразу и кончилось, стало на свои места — и с Богом не так просто, хотя что-то же есть в мире, раз душа никак не успокаивается, все хочет отыскать свою правду… Чего бы тебе, старому хрычу, шастать с места на место, что-то искать? Что ты можешь отыскать в этом болоте, где все давно сгнило? Пробудили в тебе какого-то дьявола, вот ты и мечешься, никак не можешь успокоиться, вот уже труха посыпалась, а ты все ищешь себе отдушину, а все от гордыни… Маленький человек, козявка, как был им, так и остался, всю жизнь пытался по-своему ножками сучить, как тебе их ни связывали… В чем же она, твоя вера? От Бога, коли он есть, тоже ничего доброго. Видать, раз и навсегда проклял он эту страну и этот народ, только вот непонятно, за что же такой неправедный гнев? Эх, Маня, Маня, вот где ты лежишь, по-солдатски в чужой земле… ты уж прости, ради Бога, никто тут не виноват, жизнь такая раскосая вышла… Тебе-то уж что, успокоилась, и ладно, а я вот все топаю да топаю, сам не знаю, за что мне такая кара… заморился, Маня, ох как заморился, закрыть бы глаза-то и больше не открывать…
Захваченный врасплох, Захар затылком, спиной почувствовал на себе густой, тяжелый взгляд и первым делом подумал о каком-нибудь звере, бесшумно подступившем вплотную, — холодок озноба тронул кожу, нормальный зверь в эту пору к человеку не полезет… Может, какая одичавшая псина?
Не торопясь, он повернул голову, готовый в ту же секунду вскочить на ноги, встретить неизвестного любопытного лицом к лицу. Он увидел кряжистого старика, до глаз заросшего седой бородой, по хозяйски расставившего ноги в высоких кожаных сапогах, с легким охотничьим топориком за широким брезентовым ремнем, с двуствольной тулкой в руках; от неожиданности оба некоторое время молчали, затем по долгу пришельца Захар негромко поздоровался. Старик помедлил и тоже кивнул; на лохматой его голове чудом держалась старая фуражка с вытертым лакированным козырьком, похожая на форменные фуражки московских таксистов.
— Вот, навестить, — коротко объясняя, Захар кивнул на крест. — Потянуло…
— Э-э… а кто ж у тебя тут, дозвольте узнать? — вроде бы невзначай полюбопытствовал бородатый.
— Баба… кто ж еще… Вот тут вскорости после войны родами и померла…
— Постой, постой, — сказал бородатый, и лохматое лицо его пришло в движение, брови приподнялись, и из-под них что-то с приветливой блеклостью проглянуло. — Во-он оно как… Я тебя знаю… Я тут из первых, все знаю… ты меня не должон знать, а я тебя знаю — Афанасий Корж я, дед Корж, я тут из первой вроде партии, до выселок-то еще Афанасием Парамоновичем величался у себя в Крутоярье на Тамбовщине… А ты Захарий Дерюгин будешь… ну, здорово, здорово, как же, тебя тут помнят!
— Да тут разве кто остался? — спросил Захар, пожимая твердую, сильную ладонь своего нового знакомца и пытаясь хоть что-нибудь, связанное с ним, вспомнить, но ничего вспомнить не смог, и эта неуверенность отразилась у него в лице; Корж понял, и опять у него под бровями высветилось.
— Ты меня не можешь знать, я с кулацкой половины в Хибратах, мы тут из коренников, еще с двадцать девятого да с тридцатого. А уж потом, после войны, пошли всякие пленные да полицаи с бендерамн, а нас тут с баржей прямо на дикий берег вывалили. Э-э… Ты коменданта-то Ракова Аркадия Самойловича помнишь? — неожиданно спросил Корж, хитровато закрывая глаза бровями.
— Коменданта Ракова помню, как же его-то не помнить, — ответил Захар, присматриваясь к своему собеседнику все с большим и большим интересом.
— А Загребу-то, Загребу, суку комендантскую, помнишь? — опять спросил Корж, теперь откровенно посмеиваясь, раздвигая губы, спрятанные под лохматыми усами, сливавшимися с бородой. — Помнишь, как ты его штабелем-то привалил?
— Загребу помню, — ответил Захар, невольно подстраиваясь в тон собеседнику и тоже слегка улыбаясь. — А вот про все остальное, о чем ты толкуешь, что-то не припомню.
— Как же, как же тебе помнить, — все с той же хитринкой поддакнул Корж, после чего они мало-помалу разговорились; оказалось, что у них в свое время в ныне мертвом поселке Хибраты, в его обширных окрестностях было немало общих знакомых и что Корж хорошо знает Илью Захаровича Дерюгина (бо-ольшого в этих краях начальника!), хотя при этих словах Захар неприметно примолк. Корж, не покинувший умерший после сведения вокруг леса поселок, живший здесь уже многие годы в полном одиночестве почти безвыездно (в город за двести с лишним верст наведывался лишь за солью, спичками, порохом один-два раза в году), явно обрадовавшись неожиданной встрече, время от времени от разговоров о запустении и разорении земли (иди хоть до Урала — одни вырубки!), возвращался в своих воспоминаниях к коменданту Ракову и его подручному Загребе. Оказывается, что-то связывало их, вот так неожиданно встретившихся стариков, до этого ведать не ведавших друг о друге, невидимой прочной веревочкой, с каждой минутой затягивающейся туже.
Прошло часа полтора, и Захар, спохватившись, попросив у Коржа топорик, в одночасье очистил почти сравнявшуюся с землей могилу от лесной поросли; Корж, с одобрением за ним наблюдавший, пообещал прийти вскоре с лопатой и выладнать бугорок; Захар подгреб к просевшему у основания креста месту земельки, поплотнее прижал ее, податливую, вечную, вздохнул про себя, выпрямился, стряхнул ладони, ощущая, несмотря на усталость, отпускающее, долгожданное равновесие. Приходя к могилам близких, старые люди неосознанно привыкают и к своему скорому неизбежному уходу, подумал он, вот и новый знакомец, Корж, пригорюнившись, терпеливо ждет рядом…
Не сговариваясь, они прошли на кулацкую половину кладбища; в одном из его уголков уютно расположилось семь тщательно ухоженных могилок с почти одинаковыми, потемневшими от времени крестами в рядок; проходы между ними были заботливо посыпаны ровной речной галечкой, на каждой могиле стояли баночки для воды, наполняемые в дни поминовения, в родительскую субботу, на Пасху, в Троицын день.
— Спрашиваешь, как я тут один в глухомани? — помолчав и полюбовавшись на порядок у могил, спросил Корж со значением. — Как же один? Видишь, не один. Два сына, четыре дочки, баба, никакой утайки, полная наличность… Андрей, Демьян… Варвара, Прасковья, Клавдия, Александра, Авдотья Власьевна… Два остатных сына Иван да Михаил — один в Польше, другой в самой Германии успокоились, у меня казенные бумажки в коробке целы. Никого более не осталось, ни сынов, ни внуков, вот так она, дорогая наша Советская власть обкорнала род Коржевых. Как же один? Не-е, вон сколько нас, — опять повеселел старик, зашевелив всем своим волосатым лицом, приоткрывая засветлевшую из под бровей прорезь глаз. Вот к зиме рядом с бабой себе хоромы выкопаю, домовина готовая стоит, за два года высохла, тронешь — звенит, червяк не сразу осилит… Как же один? Вон, видишь, уголок под березой? — продолжал Корж. — Дюже любопытная для тебя могила одна… Подойди, подойди, — приглашал он, хотя Захар уже и без того шел, приминая подрост в указанном направлении, — к высокому, темному кресту под старой развесистой березой. Едва взглянув на глубоко выжженную на перекладине креста надпись, хорошо сохранившуюся в вечном дереве, он недоверчиво покосился на Коржа. Тот размашисто перекрестился.
— Наши двое как-то наткнулись по весне за Вьюшкиной протокой, видать, сам себя, по пистолетику-то и определили, он у него именной был… сам, грешный, видел, — сказал Корж. — Похоронили тайком от начальства, а крест недавно, лет десять тому, сработал. Вот, раб Божий — Федор Макашин. А по батюшке забыл. Долго простоит.
Сгорбившись, Захар молча стоял и, казалось, не слышал Коржа — шумело в ушах или это в крови отдавался подземный ток недалекой реки.
— Михайлович по отцу, — неожиданно сказал Захар; ничего больше не было, ни боли, ни удивления.
— Слушай, Захарий, может, твоего лодочника кликнуть? — переключился Корж на другое. — Может, я его знаю, всех шоферов у Ильи Захарыча, сынка твоего, на моторках вроде знаю.
— Не пойдет он, — сказал Захар, привыкая, что одного из его сыновей величают вот так почтительно, по имени-отчеству. — Лодку не бросишь, река-то всегда шальная была.
— Может, не зряшно боится, — согласно кивнул Корж и повел гостя на кулацкую сторону; они прошли мимо бывшего леспромхозовского поселка, миновали площадь с комендатурой и по шаткой, обновленной совсем недавно кладке перешли болотистый ручеек, всегда разделявший поселок Хибраты на две так и не сросшиеся части — на бывшую кулацкую и на более позднюю — леспромхозовскую, в сооружении которой деятельное участие принимал в свое время и сам Захар. За ручейком местность опять начинала незаметно повышаться, они вскоре вышли на улицу из давно заброшенных и разрушающихся домов, большей частью густо забитых подступившими лесными порослями. Эта отдельная улица тоже выходила одним концом к реке, а другим к ее ныне почти пересохшей в этом месте, протоке; здесь разница между леспромхозовскои частью заброшенного поселка и этой — исконно кулацкой, особенно бросалась в глаза. Дома, выстроенные иначе, покосившиеся сараи, ворота дворов, еще обозначенные кое-где кряжистыми вереями, уцелевшие затейливые резные наличники, просевшие крылечки тоже с резными витыми перильцами и петушками на коньках — все резко отличалось от казенного леспромхозовского строительства: люди, высылаемые сюда из центральной России, изо всех сил старались как-то утвердить и удержать на чуждой и враждебной им земле образ прародины. Еще гость отметил, что несколько домов на эаручейной улице имеют явно жилой, даже обихоженный вид, казалось, из окон этих домов смотрят притаившиеся за занавесками люди.
Прошагав почти до самой рекп, они свернули к калитке с широкой и прочной скамейкой рядом. Вернувшегося хозяина встретила молчаливая сибирская лайка, привыкая к запаху чужака, она замерла на несколько мгновений, затем неохотно отошла в сторону и выжидательно присела, не сводя глаз с хозяина. Двор у Коржа оказался просторным, хотя совершенно без живности, и хозяин, заметив взгляд гостя, пожаловался на хитрована-лиса, перетаскавшего со двора по весне, пока он был с Рыжиком на промысле по пролетной дичи, всех кур во главе с петухом, теперь придется ждать оказии обзавестись живностью — без петуха в глухие зимы придется туго.
Показывая гостю подворье, хозяин провел его к вместительному навесу, под самую крышу набитого заготовленными сухими дровами, мимоходом кивнул на связки вяленой рыбы, просторно висевшие на жердях тут же. В отдельном, хорошо проветриваемом сарае ожидали еще на распялках своего часа несколько медвежьих, волчьих и лисьих шкур; проходя мимо открытой для просушки в подвал двери, хозяин заметил, что там у него и солонинка имеется. Внутренним ходом они вышли в огород, где уже цвела картошка. С возрастающим уважением к неутомимости и крепости духа хозяина, понимая, чего все это стоит человеку в больших годах, гость внимательно осматривал его немалое хозяйство. В самом деле у Коржа тоже не замечалось ветхости и разору, почти всегда отличавших жилища загостевавшихся на этом свете стариков; на широкую деревянную кровать было накинуто довольно опрятное, правда уже непонятного цвета, стеганое одеяло, окна сияли чистыми стеклами, беспрепятственно пропускавшими солнечный свет, у самого порога уютно раскинулась лосиная шкура, стол прикрывала цветная клеенка, а в красном углу темнело несколько икон, а рядом с ними в простенке передней стены между окнами примостилось множество самодельных рамочек разной величины с фотографиями. На стенной полочке среди фотографий красовался многочисленный фарфоровый лебединый выводок и какой-то диковинный стеклянный цветок, уходивший длинной ножкой в такое же по цвету стеклянное основание. Имелись в доме еще две комнаты, почти совершенно заброшенные и пустые, обветшавшие от долгого отсутствия человека; что-то там тоже стояло и висело, но на всем чувствовался налет неистребимого давнего праха; была и кухня с большой русской печью и плитой, с самодельными полками и шкафчиками, с зимним подпольем и висячей керосиновой лампой под жестяным, облупленным абажуром. Жить столько лет в такой дали и заброшенности от людей, не одичать и не утратить человеческий облик — не простой, видать, крепкий орешек, этот мужик, думал Захар, сидя за столом на лавке, пока сам хозяин разжигал в плите огонь, кипятил большой чугунный, еще, видать, каторжный чайник, разогревал какую-то нехитрую еду. Вспомнив про свой мешок с провизией, даже с водкой, гость предложил хозяину попробовать городских харчишек и, хитровато подмигнув, сообщил о том, что готовила и собирала их жена самого Ильи Захаровича. От такого известия хозяин еще больше оживился, он и жену Ильи, оказывается, хорошо знал, величал только по имени-отчеству Раисой Андреевной. Напрямик, через ручей, затем через полувысохшую протоку дороги оказался один момент; во главе с Рыжиком, кольцом несшим свой пушистый, с белой подпалиной с изнаики хвост, они предстали перед удивленным мотористом, затеявшим активную рыбную ловлю на несколько удочек сразу, а еще через полчаса старики уже сидели за столом и Корж доставал старые, с прозеленью граненые стаканы, принес и чистой колодезной воды в большой медной кружке. Низившееся солнце играло в окнах и в граненом стекле стаканов; глядя на них, смутно что-то припоминая, Захар слегка щурился, сейчас ему было покойно и хорошо, словно кончилась далекая изнурительная дорога и прибило, слава Богу, к знакомому и привычному берегу.
Кончив суетиться и хлопотать, в предвкушении предстоящего застолья, хозяин обладнал на себе рубаху, оправил бороду обеими ладонями, предварительно поплевав на них, на обе стороны пригладил еще довольно густые волосы на голове, истово перекрестился на передний угол и перекрестил стол. Захар открыл бутылку и налил. Корж добыл из банки кусок рыбы, истекающей густым томатным подливом, заботливо пристроил его на хлеб и поднял стакан, совершенно скрывшийся в его необъятной ладони.
— Со здоровьицем тебя, дорогой гостек, уж я такое добро забыл когда и вкушал в остатный-то раз! Ну, еще тебе раз! — добавил он, и глаза у него, высвободившись из-под бровей, повеселели от заигравшего в них предвечернего закатного солнца; с видимым наслаждением он степенно выпил, выдохнул воздух, обнажив сплошные металлические зубы. Сделал небольшой глоток и гость, и оба, переживая благость момента, помолчали, закусили чем Бог послал, затем выпили еще; хозяин все в той же мере — половину граненого стакана, а гость, давно отвыкший от водки, чувствуя поднимавшуюся изжогу, на этот раз едва обмочил губы, потом поскорее глотнул холодной колодезной воды.
Корж заметил, взметнул брови, и гость, оправдываясь, развел руками: не обращай, мол, внимания, не пошла пока…
— Бывает, браток. Помоложе меня куда будешь, — грубовато-ласково, как в определенных случаях говорят старшие по возрасту, подбодрил хозяин, втягивая носом сытый запах добротной сухой колбасы, нарезанной крупными кусками, и приноравливаясь, с какого боку к ней лучше подступиться.
— Какой уж есть, — согласился гость с нескрываемым уважением к сохранившейся в такой первозданности натуре хозяина. — Свое я уже выпил… вдогонку не доберешь. Жизнь теперь, кличь не кличь, не воротишь.
— Попробую я твоей колбаски господской, дух от нее, от стервы, аж нутро разворотило, — не глядя на гостя, сказал он, выбрал кусок поувесистей, полюбовался, откусил, сдерживая себя, пожевал, покачал головой, почмокал языком; едва видимые в седых космах кончики ушей у него порозовели, на лбу в глубоких морщинах проступила испарина. — Ну-ка еще чуток…
— Ешь, ешь, — подбодрил гость, вновь пытаясь осадить поднимавшуюся изжогу холодной, чистой водой. — Раз душа просит, значит, пей, ешь, на меня не гляди.
— У меня кот до прошлого года жил, — вспомнил Корж, отодвигая от себя остаток колбасы на плоской, потрескавшейся от времени тарелке. — Теперь мыши развелись, крысы озоруют, надо кого-нибудь просить котеночка по пути забросить, долго ли? А то бы кота поматерей, котенка не углядишь, крысы-то сожрут…
— А что тебе совсем негде больше приткнуться? — спросил Захар, все больше ощущая в хозяине какую-то невысказанную, подзнабливающую даль. — Куда-нибудь поближе к теплу, к свету… к людям поближе… года-то наши с тобой не малые…
— Сказанул, Захарий. Ну сказанул! Ты, видать, гостек, только с виду прост, вишь, даже людей где-то отыскал! — с неожиданной злобой сказал хозяин. — Ты или я — люди? Ни ты меня не знаешь, ни я тебя… Нынешняя-то безбожная власть давно людей на земле извела, одно зверье дикое расплодилось! Как же, людей отыскал! — говоря, он вместе с табуретом отодвинулся от стола, во всей его фигуре появилось что-то узловатое, увесистое, он в одночасье обрушился в свои затаенные дремучие глубины.
— Выпей еще, — предложил гость, понимая сейчас все происходящее с хозяином и сочувствуя ему. — Нутро принимает — можно…
— Можно, можно, — подтвердил Корж, встрепенувшись, грубовато-насмешливо глядя на щедрого гостя; пропустив еще полстакана, он придвинулся со своим табуретом к столу и, продолжая оборванный разговор, спросил: — Ну, как же я могилки свои побросаю? На кого? Тут бывают людишки… по реке кто заедет, солярки, глядишь, оставит… дашь ему сухой рыбки, оставит… Всякие бродяжки шастают… беспризорный народец… Есть целыми ватагами шатаются, домы занимают, по несколько ден живут, а там как в воду. Ты, дед, мол, держи язык на привязи, а то гляди… А мне на кой ляд глядеть? Мне что? Вот заночуешь, завтра, может, увидишь одну такую связку, человек двадцать, поди, мужики, девки, все молодые, все в штанах, нестриженые, волосы до плеч, не поймешь, кто есть кто; вон в их домах, бывает, останавливаются. Спросишь: кто такие? Мы сами по себе, дед, власти не хотим, мы, говорит, свое братство сколачиваем, у нас теперь по всему Северу, по всей Сибири свои места. В одном месте шевельнут — на другое, на третье, а надо, так и по одному враспыл… Нас, дед, много, ты это знай, нас никаким обманом не возьмешь… народ с занозиной, у них припасу всякого достанет. Наганы, бомбы… эти, автоматы есть, сам видел…
— Мне-то зачем рассказываешь? — остановил его Захар, думая о близком вечере и о необходимости, хочешь не хочешь, заночевать здесь.
— Ну, тебя-то я знаю, — уверенно сказал хозяин. — Ты человек свой, не видно, что ли? С кем зря я не развяжусь, хоть жизни лиши. Потом, у меня книга святая есть, книгу читаю… как же один?
— Лучше про себя бы рассказал, — попросил гость. — Как на этой земле жизнь-то зачалась? Много я слыхал, да не до того было, мимо пролетало, баба, детишки, кормиться надо… А если ты тут из самых зачинателей…
Впервые за время их короткого знакомства глаза у Коржа открылись во всю ширь, гость выдержал, не отвел взгляда — что-то перехлестнулось между ними, затянулось туже.
— Куда уж! Наши заботнички да кормильцы знали, какое забугорье для православного народу назначить. Раньше тут дух людской не водился, может, только дикий зверь. Мы ведь тут по первой категории были раскулачены да собраны, прилепили эту первую, а там ты уж не человек — бессловесная скотина, не то сказать, поглядеть не так не моги, — продолжал вспоминать Корж. — Вот и вывалили в глухомань, сгребли, согнали в стадо, приплавили на баржах и вывалили… Кто сам вышел, а кого сволокли… Хочешь, место покажу, тут прямо перед моим домом… А первым на берег перескочил, не дожидаясь, сам главный начальник гражданин Раков, он с нами вместе припутешествовал сюда, у него тут на передовой барже каюта отдельная имелась, там же арестантская содержалась… Ох, заботнички, ох, кормильцы! Вонючая вода по самый пуп, крыс — жуть… с той поры крысы тут по берегу расплодились… Ему-то, молодому, тоска зеленая, застоялся, бугай, прямо на берег и вымахнул… Пока там сходню солдаты кинут… А с ним еще один был, этот совсем от усердия почернел, морда длинная, лошадиная, порченая, тоже из каких-то нехристей — одним разом, комиссаром при нем, при гражданине Ракове… у-у-у… сволота….
Дождавшись, пока Корж облегчит себя многослойной, с самыми неожиданными заворотами разухабистой матерщиной и несколько раз набожно перекрестится, гость чуток посмеялся:
— Вон как, с гражданином Раковым вон ты когда, оказывается, спознался… Подожди, он же фронтовик, нога покалечена…
— Окстись, какой он там фронтовик, — плюнул дед Корж. — Он и там в заботнички затесался, за спиной у солдат стояли, командир заградкоманды. Обернулся солдатик назад, он ему пулю и засветит между глаз. Слыхал про такое?
— Слыхал…
— Ну вот… В сорок втором, в самом начале, взяли этого хорошего гражданина Ракова, а в сорок третьем, в самом конце, выхожу как-то, гляжу, а наш заботничек-то ужо чирикает воробышком по снежку, скок себе да скок… опять его, значитца, на старое место определили. Вот с тех пор стали его комендантом величать, а сначала был он начальником хибратской спецзоны. Эх, Захарий, Захарий, сердце-то иструпехло… Такого нельзя рассказать… вспоминать и то не по себе, ох, заботнички народные, ох, кормильцы, жутко становится, — признался хозяин и отвернулся к пламенеющему от заката окну.
9
Век был до жестокости прост и даже примитивен; от намеченного места выгрузки и спецпоселения раскулаченных засады уже стояли и вверх, и вниз по реке: Раков, молодой, решительный, непримиримый в свои двадцать шесть, перемахнул прямо с борта притиравшейся к берегу баржи па сероватую отмель внизу; баржу все это время сопровождал тонкий запах тлена, смешанный с человеческими нечистотами, он набивался в горло и легкие, и Раков, зорко окидывая караван из четырех барж, начинавший грудиться у правого, высокого берега, поросшего густой, многовековой тайгой, с наслаждением несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, громко пофыркал, вентилируя грудь, прочищая нос и горло. Предосенняя легкая желтизна уже тронула тайгу на противоположном низком и пологом берегу; разливы тайги уходили к горизонтам, насколько глаз хватал. Поднявшись вверх, на обрыв, Раков, окинув взглядом немереное и необжитое на сотни и тысячи верст, безлюдное пространство, с редкими пермяцкими селениями у берегов рек и речушек, пространство, где он отныне должен был во все увеличивающихся размерах заготавливать лес для нужд молодого пролетарского государства и где отныне являлся верховным и полномочным представителем власти с неограниченными правами в жизни и смерти тысяч людей, ощутил прилившую к голове горячую волну — на мгновение даже безбрежную тайгу на левом берегу застелила какая-то рыжеватая мгла. Нечто сходное происходило сейчас иа всем огромном теле обновляющейся страны, шло небывалое переселение народов, а от мысли о своем собственном участии в таком громадном государственном деле он весь молодцевато подтянулся, скрипя новенькими ремнями и портупеей. Но народ есть народ; Ракову, родившемуся и выросшему в интеллигентной семье известных петербургских адвокатов с диким русским мужиком дело иметь до сих пор не приходилось, и теперь он был рад, что ему дали расторопного и опытного помощника — Тулича. «Надо работать, — сказал он себе, отгоняя минутную дурноту. — Надо честно работать и доказать всем, что работать он умеет и любит и что дело во имя блага государства поставит. В конце концов, такая сейчас эпоха, или — или, вот из этого и нужно исходить. Самое главное дело — организовать зимние заготовки, по весне, по вскрытию рек, вниз на стройки пойдет первоклассный строевой лес. Ничего, русский мужик вынослив, главное — лес для строек…»
Баржи пришвартовались к берегу — две к самому обрыву, а две другие к своим товаркам; канаты крепились мужиками, давно, с самого начала погрузки на баржи, еще на Волге назначенными Раковым и его помощниками в специальные бригады по поддерживанию порядка среди ссыльных; скоро раздались команды готовиться к выгрузке, и баржи сразу сплошь покрылись шевелящейся людской массой. Плакали дети, кричали и причитали бабы, собирая свои немудрящие пожитки, стараясь удержать поближе к себе оставшихся в живых в долгой тяжкой дороге детей; когда порыв ветра заворачивал на берег, несло душным смрадом — Раков морщился и отворачивался. Рядом с ним, подтверждая свою особенность возникать неожиданно, словно из ничего, появился Тулич, с блестящими залысинами, в незастегнутом коротком брезентовом плаще, из-под которого виднелась кожаная куртка, широкий, стягивающий узкую талию ремень, с висящим на нем маузером.
— Я, Аркадий Самойлович, приказал мертвых пока не трогать, — сказал он. — Живых выгрузим, развезем, потом очистим. Посудины нам поручено хлоркой продезинфицировать, их капитану Головкину под расписку надо сдать…
— Ну и делайте, правильно, — кивнул Раков, где-то в глубине души побаивающийся своего комиссара и первого заместителя, чувствуя в нем какую-то скрытую порочную силу. — Надо баржи к утру отпустить…
— Еще сегодня к вечеру успеем, — с неуловимой усмешкой на чисто выбритом продолговатом лице ответил Тулич, сразу же перемахнул на одну из барж, врезался в толпу ссыльных, сгрудившихся возле сходней, в одно мгновение рассеял ее, отчитал старшего, ответственного за порядок, низенького, коренастого мужика со сломанным носом, отчего выражение лица у него даже в редкие минуты веселья оставалось свирепым; но тут же, едва ссыльные утихомирились возле сходней, тревожные крики послышались снова. Расталкивая неповоротливых баб и медлительных, тупых от долгого недоедания детей, Тулич перескочил на другую баржу, привычно нащупывая маузер; рука его тотчас остановилась, а светлые, в тяжелых припухших веках глаза заледенели. На самом носу баржи стояла молодая баба, с длинными, летящими по ветру распущенными волосами, прижимая к груди давно умершего ребенка, замотанного в какую-то рванину, и, озираясь па пятившихся от нее людей, что-то бормотала себе под нос, то и дело встряхивая свой груз, заглядывая умершему в лицо, начиная его привычно укачивать.
Мгновенно оценивая обстановку, Тулич пробился вперед, крикнул в затихшую с появлением начальства толпу:
— Эй! Чья такая? Ну, что молчите?
— Ну моя, — неохотно отозвался молодой мужик с русой свалявшейся бородкой, выходя вперед. — Третий день мертвого тетешкает, смрадом разит…
— Так уговори ее! — повысил голос Тулпч. — Сказано, умерших потом снести… слышишь?
— Ну слышу… Говорил, не слушает баба, — ответил мужик и, подстегнутый горячим, не терпящим возражения взглядом Тулича, вздрогнул, еще шагнул вперед, на лице у него появилась растерянная улыбка. — Сонь, а Сонь, — заныл он фальшивым, тоненьким голосом. — Ну ты брось, что теперь… другого наживем, слышь, Сонь, отдай, не подводи мир…
Продолжая тихонько уговаривать, мужик под требовательным, неотступным взглядом Тулича скорее инстинктивно, чем сознательно, почти незаметно пододвигался к ней, и по всему берегу постепенно распространилась тишина; стал слышен даже легкий ветер и плеск реки, обтекавшей днища уродливых приземистых посудин. В высоком небе над немереными таежными просторами не спеша тянулись редкие облака. С двух других барж, приткнувшихся к берегу чуть ниже, доносились крики, шум, детский плач; там уже началась выгрузка, ссыльные, волоча за собой свой скарб, ведра, чугуны, какие-то мешки и узлы — все, что им было разрешено взять из прежней жизни, выпихивая впереди себя детей, выползали на берег и, чуть отойдя на жидких от голода, отвыкших от земли ногах, задрав головы, оцепенело всматривались в сомкнувшиеся вверху вершины. «Вот оно, царствие Божие… тут мы, братцы, коммунию выстроим!» — «Да, вот тебе и земля крестьянам! Нам с вами то исть…» — «Во-о, что неба, что воды — от пуза! А лесу еще больше, за две жизни не перепилишь!» — «А где тут жить то?» — «Как где? А вон под кустиком — не видишь?» — «На зиму-то глядя? Го-осподи…» — «Не реви, дура-баба, так бородатый Маркса тебе велел!» — «Какой такой Маркса, будь он проклят!» — «А такой, за двумя морями сидит и все тебе тут видит, где и как тебе по земле ступать!» — «О-х, Божья матерь, заступница, лучше нас там бы на родимой сторонушке постреляли, в своей землице бы успокоились… Лучше в этой воде утопиться…»
На барже сумасшедшая, по-прежнему крепко прижимая к себе смердящий сверток, настороженно пятилась от мужа к борту. Отступать дальше стало некуда, мужик рванулся к ней, ухватился за сверток с мертвым ребенком; сумасшедшая с необычайной силой оттолкнула его от себя и, глядя на него, растянувшегося на палубе, звонко засмеялась. Зверея, муж опять кинулся к ней; в тот же момент, не выпуская своей ноши, она резво перемахнула через борт, и река подхватила ее, легкую, высохшую от голода, понесла вдоль борта баржи; еще раз и еще по всей реке послышался дикий раскатистый хохот. Один вспомнил про багор, другой про лодку, заохали, закричали, бестолково суетясь, но от тесноты многолюдья никто ничего не успел сделать. Пробившиеся к самому борту мужики, сколько ни смотрели, ничего уже, кроме быстрой, по-осеннему темной воды, не увидели. Кто-то сдержанно вздохнул, кто-то украдкой перекрестился: «Плохой знак… не будет тут, на дикой земле, милости…» И Раков, видевший с возвышенного места на берегу все случившееся с начала до конца, опять ощутил приближение удушья; редкий, красноватый туман вновь поплыл перед глазами, горячей пеленой отделил от него берег с баржами, ужаснувшая его самого едкая ненависть к бестолково, беспомощно толпившимся, орущим людям захлестнула душу. Какая-то дикая, странная фраза, что все законы для этого народа будут раз и навсегда переписаны, застряла в мозгу, усугубляя хаос; привалившись спиной к толстому стволу лиственницы, царапая кору, он прикрыл глаза. Выгрузка шла полным ходом, весь берег мохнато шевелился; кричали бригадиры и десятники, ссыльные уже разбивались на семьи и группы. «Рапорт… рапорт, надо немедленно написать рапорт, я же юрист, — мелькнула у него спасительная мысль. — Я нужен в другом месте, а не здесь, в этом зловонном муравейнике… Эти уже обречены…» «Рапорт? Какой рапорт? — тут же трезво одернул он себя. — Рапорт товарищу Ежову? Или самому Ягоде? Юрист? Высшее образование? А грязь для строительства Советской власти кто будет расчищать?»
Раков поднял руки к лицу: из-под ногтей сочилась кровь. Брезгливо поморщившись и увидев опять оказавшегося рядом Тулича, он завел руки за спину, выжидающе посмотрел.
— Отправил выборных от бригад наметить место, — сказал Тулич. — Здешний деятель советует прямо тут ставить поселок, — он махнул рукой, показывая. — А через ручеек — комендатуру, самое высокое место, старые кедры растут. Я уже смотрел… Просят под кладбище место определить — мертвых сто одиннадцать человек… Надо разрешить…
— Хорошо, — кивнул Раков, с усилием скрывая неотпускающий приступ ненависти и удушья. — Как там, спокойно?
— Куда они денутся? — вслух подумал Тулич, точно угадывая мысль коменданта, и, отвечая, поглядел куда-то вдаль за реку. — Надолго ведь, для них — навсегда. Они понимают… Конечно, по своему, по-муравьиному, но понимают. Я палатку приказал поставить… сейчас чай вскипятят, консервы подогреют… Аборигены подбадривают нас, хорошо, мол, самый гнус кончился. Отдельные экземпляры комара только еще действуют.
— Надолго, говорите? — возвратился к своей больной ноте Раков. — Надолго вряд ли хватит… На чистом воздухе процессы сгорания намного быстрее…
— Вот уж этого опасаться не следует, — сказал Тулич тоном, заставившим начальника спецзоны внутренне съежиться. — Без горючего нас здесь не оставят. Такой фауной Расея-матушка наделена в избытке, только успевай расходуй. Беспокоиться не стоит… Там, очевидно, палатка уже стоит… Пойдемте?
Будучи почти на десять лет старше, Тулпч относился к своему начальству с грубоватой отеческой заботой, но обращался к нему по имени-отчеству. Раков снисходительно принимал его опеку — такой характер отношений установился между ними с самого начала. Ракова лишь несколько коробил беспредельный внутренний цинизм его первого заместителя и комиссара; с другой стороны, за Туличем был недюжинный опыт организатора и без него нечего было даже думать справиться в подобной ситуации, кубики спросят уже через несколько месяцев, весной, тогда уже не помогут никакие отговорки. Надеяться, что вмешаются некие дружеские силы и его отзовут, было нечего; стране нужны не адвокаты, а строители, борцы, организаторы, такие вот железные, без нервов туличи, умеющие по колено в крови созидать. Необходимо или принять это условие, или потихоньку, незаметно отойти в сторону и чахнуть в забвении, найдутся другие, не столь слабонервные… В конце концов, эту замшелую лапотную Россию действительно необходимо перестроить в самый кратчайший срок и любой ценой, надо вырвать ее из вековой спячки, встряхнуть, заставить работать на революцию, на прогресс, и за это отвечает каждый сознательный человек.
— Пойдем, — кивнул Раков, несколько приободренный своими мыслями, и они двинулись вдоль берега, обходя валежник, ссыльных, копошившихся по всему берегу, успевших сбиться в семейные кучки; уже ладили шалаши и навесы на ночь, и каждый старался захватить местечко поудобнее. Раков вновь поразился силе жизни, ее какому-то звериному неистребимому инстинкту. Проходя мимо еще одной семьи, устраивающей себе временное убежище между двумя вывороченными, уродливо торчащими корневищами, он невольно остановился. Его словно ожег горячий, ненавидящий взгляд со стороны; оглянувшись, он успел ухватить краем глаза торопливо наклонившегося над охапкой еловых веток сильного, молодого, лет тридцати с лишним мужика; тут же располагалось и его семейство: баба в длинной, до пят, суконной юбке, в заплатанной кацавейке, штук шесть, не меньше, детей. Среди них выделялась девочка лет двенадцати; с редкой красоты иконописным лицом, с огромными светлыми прозрачными глазами, она молча, не улыбаясь, смотрела на остановившегося начальника спецлагеря, которого они звали проще и понятнее — комендантом; Раков был перетянут по добротной кожаной куртке блестящими ремнями, в галифе, в сапогах и держал в руках фуражку. Тут начальника спецлагеря снова прихватил приступ удушья, и красноватая муть на какую-то долю минуты отделила от него остальной мир: лес, тайгу, реку, угрюмого мужика с его многочисленным голодным семейством. Пережидая, Раков, слегка меняясь в лице, остановился, негромко окликнул мужика; тот, бросив возиться с еловыми лапами, торопливо подошел, отряхиваясь от сора.
— Кто таков? — спросил Раков, в то же время понимая, что останавливаться было нельзя; выделяя кого-то из серой безликой шевелящейся массы хотя бы таким мимолетным разговором, он уже наносит и себе, и делу определенный урон, и Тулич, молчаливо наблюдавший за иим со стороны, правильно его сейчас осуждает.
— Афанасий Коржев, гражданин начальник, — ответил мужик, упорно глядя в землю. — На ночь велено устраиваться… дров еще надо собрать, воды сварить…
— Дров здесь хватит, — сказал Раков, по-прежпему ощущая на себе неотрывный взгляд девочки. Молодец, Афанасий Коржев, — так же негромко похвалил комендант. — За дорогу всех уберег…
— Всех, — подтвердил Коржев с плохо скрытым сожалением в голосе, шевельнув тяжелыми руками. — Восемь штук, всех до одного — нутряная порода, видать, от бабы… Коры погрызут, сутки довольны…
— Пусть живут, — разрешил Раков, понимая, что теперь уже весь берег знает о его разговоре с Коржевым. — Работниками вырастут, это хорошо….
— Кому как, — пробубнил Коржев, по-прежнему стараясь не смотреть на начальство и все-таки замечая застывшую на губах у Тулича, давно уже прозванного в народе пиявкой, легкую, двусмысленную, как бы подбадривающую, но в то же время предостерегающую усмешку.
— Ну, устраивайтесь, устраивайтесь! — уронил Раков уже на ходу, не оглядываясь; за ним двинулся Тулич, еще раз отметивший про себя тоску и неуравновешенность характера начальника.
Выждав, пока комендант со своим заместителем отойдут подальше, Коржев влепил продолжавшей пялиться вслед начальству дочери тяжеленный подзатыльник, кинувший ее метра за три на мшистую землю.
— За что, папаня? — плаксиво крикнула она, в один момент подхватываясь с земли.
— За дело, — сдерживая ярость, буркнул Коржев. — На наших заботничков гляделками тебе светить не положено, матка вон корячится с вами, а ты… Выпучила гляделки на евонный наган, дура! Кобыла! Уставилась!
Плачущую девку как ветром сдуло. Коржев, ожесточенно почесав в затылке, прилаживая разлапистые тяжелые еловые сучья к наскоро сооружаемому убежищу для житья, потихоньку успокоился.
Тем временем начальник новой, теперь уже материально существующей спецзоны и его первый заместитель и политкомиссар взошли на самую высокую часть берега, своим каменистым, веками отточенным основанием уходящего прямо в студеную реку. На древнем камне большие деревья не росли, зато открывался захватывающий вид. Никто здесь не знал своей участи даже на сутки вперед, нежилое безымянное место дождалось своего часа, своего хозяина. Кончилась тьма, началась история. Весь берег копошился людьми, везде слышались говор, плач, крики, стук и треск; баржи продолжали опорожняться. Под охраной конвойных выгружался рабочий, на всю долгую зиму инструмент, лопаты, топоры, пилы, оборудование для слесарной мастерской, тачки, кайлы; выгружали запасы муки, круп и прочего долго хранящегося продовольствия; уже начинали сносить умерших, укладывая их для удобства счета в длинные ряды — головой к лесу, ногами к реке, сначала взрослых, затем детей, и если взрослых выволакивали на каких-нибудь досках или на кусках брезента, то детей, особенно маленьких, заметно облегченных голодом и болезнью, сносили иногда по две души сразу, прилаживая их себе под мышку, как больших замороженных рыб. Один из мужиков, занимавшийся этим неприятным, необходимым делом, прилаживая умершего в общий ряд, каждый раз, несмотря на неоднократное предупреждение десятников, истово крестился. Пожалуй именно мертвые, скончавшиеся на баржах за последнюю неделю пути от неожиданной вспышки брюшного тифа, по определению сопровождавшего ссыльный караван фельдшера, сразу придали неизвестному чужому берегу нечто обжитое; об этом, пересчитывая умерших, неотступно думал и фельдшер, не лишенный природной фантазии. Умный, рыжий мужик в хороших яловых сапогах, сам вроде бы из раскулаченных, определенный к высылке с семьей, он ввиду своей нужной профессии сразу оказался на особом положении. Происходящее не только пугало, изумляло своей неограниченной напоказ расточительностью, никто ничего не считал, не мерил, не взвешивал, все шло на глазок. Фельдшер в уме прикидывал, насколько хватит такого запала; увлеченный происходящим, украдкой кое-что записывающий, он как-то легко и просто забыл Тамбовщину, дом под железной крышей, свое пристрастие к английскому методу хозяйствования, засеянную травой чистую лужайку перед домом, запретную для скота, что в основном и послужило причиной его раскулачивания, естественно вызвав, надо полагать, праведный гнев и явное неодобрение пошедшей вверх как на дрожжах деревенской бедноты. Вспоминая иногда свое объяснение насчет буржуазной лужайки, как ее прозвали обиженные горлодеры из самых закоренелых пьяниц и бездельников, фельдшер до сих пор удивлялся своему минутному безумию: за любое английское или немецкое новшество могли запросто шлепнуть, отведя за угол или в овражек за огородом.
Руководя разгрузкой и устройством мертвых, фельдшер действовал размеренно и привычно; некоторые из скончавшихся застыли с открытыми глазами, и фельдшер отламывал еловые ветки, прикрывая ими лица зрячих покойников. На мертвых требовалось составить нужные бумаги, чтобы они не пропали в государстве в безвестности, стараясь не кричать на бестолковых баб, приходивших повыть по своему покойнику, фельдшер все-таки приказывал своим подчиненным из похоронной бригады прогонять их вон; он резонно опасался, что за ночь родные могут разокрасть своих покойников, а утром ему придется держать перед начальством строгий ответ за их недочет.
Зрелище тысяч выгруженных в нетронутый лес мертвых и живых людей, женщин, детей, стариков, действовало на Ракова угнетающе, в то же время он ощущал некий мистический холодок восторга; все эти люди, дети, женщины, мужчины и старики, живые и мертвые, были в его беспредельной власти. Из памяти не шел ненавидящий, горячий взгляд молодого, многодетного мужика, полудетский восхищенный взгляд его дочери с бездонными светлыми, чуть косящими глазами. Начальник спецлагеря, снова подумав о силе жизни, доверчиво поднял глаза на своего заместителя, напряжение чуть-чуть отпустило. Тулич знал все, его необыкновенная память хранила попросту бездонное количество информации, касающейся ссыльных, их биографий, автоматически отщелкивала и классифицировала смерти, побеги, расстрелы, сроки наказания. Вот и сейчас, словно угадав мысли коменданта, он буднично сообщил Ракову все, что касалось раскулаченного и ссыльного Афанасия Коржева и его семьи с Тамбовщины, из села Крутоярье; в зажиточные выбился уже после семнадцатого года, получив землю, имел три коровы, две лошади, паровую молотилку, дом с железной крышей (правда, железо к нему перекочевало с разобранного флигеля из соседней барской усадьбы), раскулачили его только по второму кругу, уже исключив из колхоза.
Зеленые беспощадные глаза Тулича беспокойно устремились в лесной сумрак, еще один тяжелый бесконечный день кончался, становилось заметно прохладней.
— Лесу здесь хватит на сто лет, — по-молодому открыто улыбнулся Раков. — Надо сразу наметить место под поселок, разумеется, обязательно под кладбище — русский человек неравнодушен к могилам. Что-то Кузина не вижу, — вспомнил неожиданно он о втором своем заместителе по хозяйственной части. — Надо нам собраться, поговорить. Без большой мечты, без большой цели нам намеченное не осилить!
Тулич, коротко дернув левой щекой, цепко окинул берег, заваленный уродливой людской массой, его тонкиз губы сложились в непонятную длинную усмешку.
— У Кузина сейчас хватает дел, — сказал он. — А этот Афанасий Коржев со своим выводком мужик работящий. Такие нужны Советской власти, таких можно как-нибудь поберечь для исполнения именно этой большой мечты. Выше, в тридцати верстах, лагерь для особо злостных — там медные рудники. Весь наш материал предстоит отсортировать, определенный процент придется отправить туда. Русский мужик должен быть готов к строительству подлинного социализма. Надолго и прочно.
Нервный тик вновь прошел по длинному лицу Тулича; с неожиданной тоской начальник спецлагеря подумал о невозможности жить на этом берегу отдельно от Тулича, их захлестнуло одной петлей, с каждым днем и годом она будет становиться лишь крепче.
Начинало темнеть, из тайги на холодную реку ползли сизые неровные сумерки, по всему берегу загорались сотни костров; дети переносили огонь с одного очага к другому. Даже через добротную кожу куртки потянуло сыростью от реки; Раков ощутил успокаивающую, спасительную тяжесть высококачественного шведского металла; устраиваясь в этот вечер на ночлег в брезентовой палатке, поставленной для него, Раков впервые не отказался от налитого ему Туличем синевато-прозрачного спирта, слегка разбавленного студеной водой из ручья. Всю ночь он видел один-единственный нескончаемый сон — ему снилась белая, отсвечивающая холодным солнцем гладь реки, вновь и вновь пытаясь переплыть ее, он оказывался каждый раз на одном и том же месте.
А наутро началась новая жизнь; за месяц сложили из толстых бревен здание комендатуры на самом высоком, здоровом месте, выбранном Туличем по совету Кузина — заместителя начальника спецлагеря по хозчасти; к комендатуре прирубили глухой, из двух отделений, карцер, затем поставили барачный лазарет с отдельной каморкой для фельдшера. Торговую точку, пункт для выдачи пайка, пекарню, столовую объединили под одной крышей; воздвигли и жилье для команды охранников, печи складывали из местного камня, добываемого тут же на берегу и разбиваемого на посильные куски кувалдами и ломами. По другую сторону ручья ссыльные семьи зарывались в землю; яму метра в полтора глубины укрепляли по бокам жердями, клали толстую, как правило не ошкуренную за неимением времени и сил, поперечину, на нее набрасывали накат, щели затыкали мхом, из того же дикого камня ладили печурки, выводили кое-как трубы, обмазывали их глиной, сверху наваливался толстый слой земли, а на него для тепла набрасывали еловые ветки, листья, мох, сухую траву. Окон почти никто не делал — не имелось ни стекла, ни рам; двери приспособились вязать из тесаных плах, щели изнутри на ночь затыкали всяким тряпьем, мхом или травой. В землянках ладили для тепла сплошные, на всю семью нары из тех же еловых или березовых жердей, выстилали их лесным мхом потолще; заготовляли лучину для освещения, подвешивая ее пучками к потолку. Готовили на зиму дрова, в первую очередь для комендантского поселка, затем для себя.
Через месяц пришла еще одна последняя баржа с мукой, керосином, дверными петлями, несколькими ящиками стекла, инструментом для предстоящего разворота лесных работ; прибыло и несколько сот фуфаек, брезентовые рукавицы и почему-то резиновые, клееные глубокие галоши; по весне было обещано завезти для лесных работ сотни две лошадей; началось строительство конюшен. Уже входила в норму всесильная магическая власть пайки — шестьсот граммов хлеба на рабочего и четыреста на детей; и то, если родители выполняли норму; дети, начиная с шести лет, обязывались выполнять общественно полезные работы, необходимые для укрепления фундамента социализма, как объявил на митинге, дергая щекой, комиссар Тулич, иначе они тоже лишались своей пайки. У пробудившейся для новой справедливой жизни России оставался только один путь — кровавые вечные звезды впереди и мутные зыбкие горизонты, самой тверди под ногами пока не ощущалось; болота, бездорожье приходилось гатить самым дешевым и пока самым возобновимым материалом….
Как-то незаметно осыпалась хвоя лиственниц, пожухли и оголились березовые и осиновые низины, из-под земли по берегу стал гуще валить дым из труб, словно задымила сама земля. Тулич, собрав очередной митинг, сообщил о великодушии Советской власти, партии и лично товарища Сталина, проявленном к поселенцам спецлагеря Хибраты, о предоставляемой им возможности загладить свое преступное прошлое. И зачитал приказ по спецлагерю, в котором особенно выделил пункт; в каждой семье, в каждой бригаде все отвечают за одного, один за всех и за прогрешения одного расплачиваться будут все без исключения. А затем пришли планы и нормы на лесные работы, начались изнурительные, отупляющие зимние таежные лесозаготовки с обязательным выволакиванием готовых к сплаву бревен на самый берег реки.
Семилетнему Андрейке по ночам снился Христос в светлых ризах — об этом ему часто рассказывал дедушка Авдей, умерший еще в самом начале дороги на выселку; Иисус Христос и был похож на дедушку, такая же свалявшаяся, жиденькая бороденка, такие же большие жалостливые глаза. Дед украдкой вез с собой Библию и завещал Андрейке, самому любимому внуку, уже хорошо выучившемуся разбирать старинные буквы и складывать слова, уберечь святую книгу; теперь она покоилась у Андрейки в изголовье, под толстыми еловыми лапами. Вечером после работы Андрейка, едва забравшись на нары, первым делом совал руку под всякое тряпье и проверял, цела ли святая книга. Рядом устраивались, сопели и толкались старшие братья Ванька с Ленчиком, с другой стороны хныкал четырехлетний Демьянка; ему еще не пришла пора ходить с другими вырабатывать пайку, и его частенько обзывали дармоедом. Он хныкал и постоянно что-нибудь грыз, какой-нибудь еловый сучок, выковыривал из стен землянки глину и жадно, пока никто не видит, глотал ее, а то в ход шли тряпки; на день он оставался в землянке без присмотра: как-то еще в самом начале зимы его нашли возле двери полуокоченевшим и долго отогревали у огня; никто по этому случаю не встревожился, с тяжелой работы приходили вымороженные, с пустыми глазами, с трудом дожидались своей порции жидкой похлебки и тотчас лезли на нары. Пайку хлеба съедали с крупицами желтоватой бузунки и кипятком утром перед работой, невольно украдкой следя друг за другом: не получил ли кто больше, косились на малолетнего, прожорливого, вечно голодного Демьянку — у-у, дармоед…
По другую сторону от самого маленького на нарах было место отцу с матерью и девками — Варьке, Парашке, Саньке, Клашке — все они были старше Андрейки, все ходили на лесосеку, сносили в кучу сучья, волочили на гнутых полозьях бревна из тайги к берегу реки и все получали пайки; девки работали споро и дружно, казались крепче своих братьев; по вечерам, запаливши лучины, девки чинили на всю семью одежду, шили из мешковины рукавицы, шепотом, не разберешь, о чем-то переговаривались и пересмеивались. По нужде в студеные звонкие ночи ходили в тамбур за дверь, где стояла общая деревянная бадья, выдолбленная отцом из толстого березового кругляша. В тамбуре было несколько ступенек, ведущих наверх, к наружной двери, открывавшейся вовнутрь; снегу за иную ночь наметало много, заваливало и трубу, и самую дверь — тогда на свет Божий приходилось выбираться с трудом, прокапывая в снегу глубокие каналы.
О прежней, беспечальной и сытой жизни Андрейка забыл как-то быстро и бесповоротно; запахи мяса, молока, масла, белых, пахучих пирогов с маком или яйцами испарились из его памяти безвозвратно, зато приходящий во сне Христос с жидкой бороденкой покойного дедушки обязательно украдкой от других совал Андрейке ломоть сдобного пасхального кулича, с хрустящей маслянистой корочкой. Давясь, Андрейка набивал им рот, жадно глотал, стараясь, чтобы другие не заметили, но и кулич, пышный, вкусный, вызывающий судороги в пустом, ссохшемся желудке, тоже почему-то был без запаха. Христос жалеючи, с какой-то непереносимой лаской смотрел на Андрейку слезящимися очами, беззвучно шептал что-то запавшими дедушкиными губами. Сегодня тоже, едва Андрейка угрелся на своем месте, вой поднявшейся метели, проникавший в землянку, утих, отдалился; в тайге на лесосеке выдался какой-то неудачный день; отец и старшие братья долго не могли свалить толстую лиственницу, затем распилить на бревна, и пришлось всей семьей подваживать непосильную лесину, высвобождая зажатую пилу; нормы никак не получалось, девки, таскавшие бревна к берегу, совсем выбились из сил. Дорогу в этот день то и дело переметало, но затем, уже под вечер, довольно быстро и удачно свалили две старые ели, стоявшие на самой границе их семейной делянки, перехватив их у соседа. В уже надвигающихся сумерках приемщик на берегу, торопясь, замерив их последнюю ходку, выдал талоны на семейную пайку. Андрейка знал, что о завтрашнем хлебе лучше не думать; со всех сторон слышалось сопение и всхлипы. Мать о чем-то шепталась с отцом; так и не дождавшись отцовского голоса, Андрейка снова увидел Иисуса Христа в белых сверкающих ризах, с куском белого пасхального кулича, румянившегося подсохшей от сладкого меда корочкой. Тотчас в животе больно задергалось, рот наполнился тягучей слюной; не успел Андрейка откусить, рядом приподнял голову Демьянка и, светя провалившимися глазами, попросил дать куличика и ему. «Дармоед, нахлебник», — сказал ему Андрейка, отщипывая и протягивая маленький кусочек брату. Тот выхватил хлеб у него из рук прямо зубами, и тотчас между ними стала падать старая высокая ель, рассыпая за собой толстый блестящий хвост снежной пыли; Андрейка, проваливаясь в сугробах, бросился в сторону, застрял, слыша непрерывный пронзительный крик Демьяна. «Хлеба! Хлеба!» — крик этот леденил у Андрейки нутро. Он вскочил и сел, дрожа от страха; девки, еще не ложившиеся, сбились в кучу у горящей лучины, мать рядом с ними тихо, бессильно плакала, старшие братья по-прежнему спали, а отец, темный и страшный, пригнувшись, держал на руках Демьянку, у которого ползло изо рта и носа что-то липкое и темное. Демьянка натужно изгибался хлипким тельцем, хватался руками за шею отца, за его лицо, за воздух, а отец лишь сильнее прижимал его к себе и затем, немного подержав и, с застывшей мукой в глазах, заглянув в лицо сына, начавшее потихоньку расправляться и успокаиваться от тяжести жизни, осторожно опустил его у края нар, перекрестился и сказал:
— Теперь ему покойно, отмучился… Бог его пожалел…
Андрейка не отрываясь смотрел на тоненькие, какие-то паучьи, высохшие до кости ножки братца, шевельнувшись раз, другой, они слабо дернулись, опали и стали вытягиваться. Подошла мать, тряпицей вытерла лицо и шею сына от кровавой рвоты, закрыла ему глаза.
— Могилку-то не выдолбишь, сил не хватит, — уронил отец. — Под снег до тепла надо бы положить…. Пайку-то все одно делать… жить надо… Давайте спать, девки, вон к порогу положим, на чурбаки, ему теперь все одно… не обидится… Не ревите вы, дуры, до весны во-он сколько, не вытянул Демьянка такой каторги от коммунизму… Бог смилостивился, прибрал пораньше, радоваться надо… Завтра заявлю, все одно на него пайки не дают…
— Ой, папаня, жутко-то как, — сказала из гурта сбившихся девок Санька, всхлипнула, тут же испуганно прихлопнула рот ладонью.
Отец положил умершего на брошенный плашмя чурбачок, мать прикрыла его куском мешковины, и все полезли на свои места; старшие братья, умученные тяжким рабочим днем, так и не проснулись, и Андрейка, инстинктивно отодвигаясь от места, на котором только что лежал умерший Демьянка, подсунулся под самый бок Мишки, угрелся, закрыл глаза, чтобы не было страшно. Ему все казалось, что Демьянка подымется и вернется на свое место; лучина в землянке догорела, и осталась душноватая, всхлипывающая тьма; потом Андрейка услышал ветер над землянкой и какой-то шорох; в накате и за жердями в стенах землянки давно поселились мыши, и по ночам они ходили под нарами, подбирая оставшиеся от людей крохи пригодной нищи, грызли дерево, сено и мох, одежду и портянки, пропитанные человеческим потом. Тайная жизнь мышей всегда успокаивала Андрейку, а вскоре к нему опять пришел Иисус Христос, накрыл его белой полой своей ризы, протянул ломоть белого хлеба. Кто то стал дергать Андрейку за ногу, затем послышался уставший материнский голос. Пришла пора вставать и собираться на работу. Андрейка сжался под своей одеждой в комочек, но тотчас, вспомнив о пайке хлеба и о кружке крутого кипятку, вскочил. Мертвого Демьянки уже не было в землянке; отец, опасаясь мышей и другой подземной живности, тотчас приспособившейся жить рядом с человеком, вынес маленького покойничка и положил возле выхода в снег, предварительно хорошенько утоптав его снизу, затем старательно умяв и сверху; теперь Демьянка лежал в крепком ледяном домике, сам закаменевший и вечный, ему были теперь не страшны никакие мыши и морозы. Пережевывая кровоточащими деснами свою пайку тяжелого, словно из сгустившейся глины хлеба, запивая его горячей водой, Андрейка думал, вздыхал — хорошо бы лечь рядом с братом в белый, мягкий снег, не идти на целый день в тайгу выполнять семейную пайку, опять заснуть и увидеть Иисуса Христа.
Все тело у Андрейки ноет, но он тупо, покорно вместе со всеми собирается, заматывает ноги просохшими за ночь портянками, сует их в глубокие резиновые калоши, подвязывает веревками; рукавицы давно изодраны, сестры с трудом кое-как за вечер их залатали; одеваться надо тщательно, стеганые телогрейки выдали только старшим, а у Андрейки одежда с бору да с сосенки. Старшие его жалеют, стараются потихоньку освободить от урока, сделать работу за него, но и самому Андройке не хочется сидеть на шее у других. Он отталкивает руки матери, проверяющей, хорошо ли он обулся, и ворчит, что он уже не маленький, и видит ее грустные, страдающие глаза; вчерашние радость и опора нынче становятся бедой. Дня два назад Андрейка сам слышал отцовские попреки матери: нарожала, мол, кучу, вот теперь и попробуй накорми всех.
На улице темно, морозная заря едва-едва прорезывается над тайгой, по всему поселку движутся люди, тянутся к своим лесосекам. Мороз обжигает, сушит дыхание, и вместе с воздухом, со свистом, проходящим в легкие, стынет, замерзает все внутри. Старшие братья несут пилы и топоры, сестры — чугунный, выданный уже здесь, на спецпоселепии, котел с проволочной ручкой; в обед в нем натопят снегу, бросят горсть муки — работники получат по кружке болтушки. Отец идет не оглядываясь, все-таки малость припозднились сегодня против других, а погода не радует: по темному гладкому льду с жестяным шорохом змеится поземка. На противоположном берегу, где находятся лесосеки более пятисот семей ссыльных, в предрассветной темени гуще и гуще вспыхивают костры — некоторые уже работают. В ясном морозном небе бледнеют острые звезды. Отец невольно увеличивает шаги, и за ним поспешает семья; теперь, пожалуй, никто уже, кроме матери, не помнит о лежавшем в снегу маленьком покойнике. Теперь все думают только о норме, о кубиках, о необходимости свалить их с корня, обрубить, распилить по размеру, выволочь на берег и сдать приемщику, чтобы получить талоны на завтрашнюю пайку; было бы хорошо заготовить и несколько бревен про запас, ведь день на день не приходится. Теперь семью объединяет именно такая мысль; думает об этом же и Андрейка. Под снегом у них уже спрятана почти недельная норма готового леса, отец как-то даже проронил у костра, хлебая сдобренный еловой хвоей кипяток, что самая бедовая пора декабрь да январь, а там день прибавится, в тайге светлее станет.
На делянке Андрейка, не ожидая напоминания, первым делом берет приготовленный заранее сухой сосновый сук, идет к ближайшему костру у соседей по работе, переносит огонь к себе и разводит свой собственный костер — это его первейшая обязанность. Он сопит, набирает в груди побольше воздуху, изо всех сил дует, и, когда крошечное пламя начинает потихоньку пожирать еловые ветки, он некоторое время позволяет себе поблаженствовать, протянуть к живительному огоньку стынущие руки, освободив их от негреющих рукавиц; это все еще как бы дополнительно входит в ночной отдых, от тепла Андрейке вновь хочется спать, но вот он слышит далекий голос отца, вздрагивает и, встряхнувшись, вспоминает, что рабочий день наступил и нужно вырабатывать пайку. И уже чувствует поднимающуюся откуда-то изнутри тихую, упорную злость.
Преодолевая сонливость, он встал, подбросил в костер веток; на делянку тусклым серебром просочился рассвет, мороз продолжал усиливаться. Работа шла вовсю, впрягшись в волокушу, девки уже тащили первые два бревна на берег, мать откапывала снег от намеченных к валке деревьев, старшие Мишка да Иван обрубали нижние омертвевшие сучья. Затем начала равномерно шоркать пила, с вечера выправленная и разведенная отцом. Не убранные со вчерашнего дня сучья так и остались неубранными; неделя выдалась бесснежная, и, если на делянку заявится десятник, выволочки от отца не миновать. Андрейка стал таскать сучья, складывать их в кучу; тяжелые, почти непосильные, он волок по одному, поменьше — по два, по три; время от времени он наведывался к костру подбросить сучьев в огонь. Над тайгой встало маленькое, холодное, злое солнцо. Андрейка, прищурившись, полюбовался на него, вздохнул, набил чистым снегом котел, с трудом подвесил его на перекладину рядом с костром. Девки несколько раз возвращались с берега с порожней волокушей и, вновь выгибаясь от усилия, уволакивали нагруженную; иногда Андрейку звали к ним чго-нибудь подержать или поднять. Отец со старшими сыновьями уже свалили десяток старых елей, сучьев стало снова хоть отбавляй; теперь уже и мать с одним из братьев, вооружившись топорами, обрубала ветки; иногда топор срывался — настывшая сталь долго красиво звенела. Андрейка любил жечь сосновые или еловые ветки, от них уносились в небо целые снопы трескучих искр, жар распространялся далеко вокруг, и, когда к костру на минутку-другую кто-нибудь подходил отогреть закоченевшие руки, Андрейка радостно суетился. Он уже знал, что сегодня день будет не трудный, ель — мягкое, податливое дерево; его и пилить легче, и волочь на берег сподручнее; от этой мысли и самому ему веселей собирать в охапки еловые, пахшие морозом и крепкой лесной смолой ветки, стаскивать их в кучи, иногда проваливаясь в снег чуть ли не с головой.
Андрейка точно определил нужный час, сильнее обычного подсасывало в пустом желудке; собрав разбросанные по снегу еловые лапы, некоторые отбросив в сторону, он прошелся по ним, втаптывая в снег. На этой елке уцелело много шишек, он отложил в сторону ветки, особенно богатые урожаем; между чешуйками в шишках гнездились маленькие коричневые семена на прозрачных крылышках; извлекая их и растирая затем зубами, можно было ощутить во рту и даже в желудке приятный маслянистый дух. А пока Андрейка отломил от застывшей еловой почки самую верхушку и стал медленно жевать; горьковатая слюна заполнила рот. Андрейка подлез под собранную еловую кучу, поднатужился, приподнял ее и поволок к костру, как муравей, невидимый под своей ношей. Казалось, большая схапка пушистых еловых веток сама ползет по блестящему от холодного солнца снегу, но на полпути она остановилась; сколько Андрейка ни пыхтел, ноги больше не слушались, не хотели двигаться, подламывались. Он съежился под своей ношей, затих, из желудка поднималось что-то невыносимо горькое, перед глазами пошли мутные круги. «Господи Боже, добрый мой дяденька Иисус Христос, — сказал Андрейка, уткнувшись маленьким костлявым лбом прямо в снег, — забери меня, ради Бога, куда-нибудь с собой, я тебе что хочешь буду делать, воды нагрею, ноги тебе помою… забери…»
Подошел от костра отец, давно посматривавший в его сторону, сгреб сына вместе с ношей и в несколько шагов перенес к костру. Опустившись на кучу веток, он усадил обессилевшего мальчонку рядом, поправил на нем изорванную, с торчащими клочьями серой ваты шапчонку.
— Я ничего, — еле слышно сказал Андрейка, с усилием проглатывая перехватившую горло горечь. — Споткнулся…
— Сиди, сиди, — сказал отец, крепче прижимая его к себе. — Горяченького похлебаешь, отпустит… Отдыхай, сынок, давай ноги погрею, портянки просушу…
Андрейка стал было отказываться и говорить, что у него все хорошо, но отец, пододвинувшись ближе к огню, разул его, размотал портянки, стал греть ему ноги, растирая ступни твердыми, жесткими ладонями. Андрейка, от тепла и непривычной отцовской ласки совсем разомлев, закрыл глаза; теперь ему и есть не хотелось. Он прижался к отцу крепче, задремал и тут же, словно его что толкнуло, подхватился. Костер все так же жарко потрескивал и грел; мать в обтрепанной грубой юбке помешивала палкой болтушку; девки сушили рукавицы, привычно о чем-то перешептываясь.
— Папаня, слышь, — тихо позвал Андрейка, напряженно уставившись куда-то перед собой. — Положи меня рядом с Демьянкой под снег… там тихо-тихо, мыши живут… Там тепло, я там пригреюсь, засну… не хочу я никакой пайки, заморился, мочи моей больше нет…
Пробуждаясь от оцепенения в изработанном до полного бесчувствия теле, Коржев, неловко наклонившись, заглянул в глаза сыну, и его сердце, забитое и грубое для вольного строительства будущего, больно стукнуло; он увидел глаза не ребенка, а человека, уже прошедшего положенный ему путь страданий, почти уже мертвого. Стараясь не поддаться черной сердечной жути, Коржев быстро и привычно обмотал ноги сына высохшими портянками, подвязал распаренные и размягченные от тепла калоши, поставил, придерживая за плечи, перед собой. Каким-то незнакомым, глухим голосом сказал:
— Ну дурак ты, Андрейка, ну дурак! Тут подохнуть каждому раз плюнуть! А ты живи, живи, ты всем назло живи, живи да помни милость от родной Советской власти, от заботников-то наших! Вон как за наш крестьянский земной труд, вон какими сладкими орешками заплатили! Живи, Андрейка, детишек народи да детишкам своим все как есть расскажи! Живи да все как есть расскажи, пусть знают, кого надо уважать, благодарить! — говорил Коржов, стараясь неосознанно, каким-то немыслимым усилием прогнать смерть из глаз сына, и поэтому голос его приобрел непонятную, притягивающую силу, и теперь его слышали все у костра. — Они наш корень изводят, а ты живи себе, назло всем живи, не все сукину коту масленица, хрястнет над ним и великий пост!
Авдотья, давно уже испуганно поглядывавшая по сторонам, не выдержала. Нарушая привычную бабью покорность, проворно подошла, сноровисто ощупала младшею, поправила на нем одежку, обдернула, обладнала, подтолкнула к котлу с варевом.
— Тю, очумел ты, Афанас, — приглушенно, чтобы не услышали издали, сказала она. — Окстись, какую блажь дитю малому вдалбливаешь? Господи, помилуй, иди ко мне, Андрейка, иди вот сюда, ко мне. Отец — он тоже заморился… от работы заморился… ты в одно ухо впусти, в другое выпусти… где-нибудь не брякни, следов от нас, грешных, не останется… Глянь-поглянь, уже Рождество Христово, там святки, полегчает, гляди… Ты вот похлебай горяченького, посиди у огонька, нутро малость отпустит, я сама за тебя стаскаю… вон девки помогут…
— Я заморился? — неожиданно звонко переспросил Коржев, диковато посверкивая глазами. — Не было еще такого кнута, насмерть меня загнать… а этому отродью комиссарскому, заботничку нашему… Э-эх! — отчаянно, как-то звеняще выдохнув, словно в самом деле прощался с жизнью, Коржев вскочил на ноги, сбросил с себя ватник и, черный, заросший, с сумасшедшими глазами, пошел утрамбовывать снег, отбивать чечетку, хлопать себя по коленям, по бедрам, по рту. На глазах изможденный, замученный человек превратился в красавца с вдохновенным исступленным лицом, с горящими глазами, летящего в диковинном танце вокруг жарко полыхающего костра посреди замороженной прикамской тайги; постепенно на лицах у старших сыновей Афанаса Коржева появилась похожая па отцовскую задорная улыбка, и один из них, Мишка, даже стал подергивать плечами. «Эх! мать их… всех… в оглоблю, в дугу, в дышло! Жить, Андрейка, будем! — выкрикивал, не переставая бешено молотить ногами и руками, Коржев. — Назло всему свету, всему… комисарью жить будем!»
У соседних костров люди стали привставать, тянуть головы в их сторону; решительно шагнув вперед, Авдотья оказалась перед мужем, и он, встретив ее взгляд, все еще перебирая ногами, правда, медленнее и медленнее, остановился.
— Не дури, — сказала она тихим голосом, он и слышал от нее такой два или три раза в жизни. — Ты их воронью тьму не перекричишь, детей погубишь… Бог тебе не простит… Девки, подайте отцу ватник…
Коржев свалился на кучу лапника у костра и тотчас увидел перед собой маленькое личико Андрейки, счастливо, сквозь набежавшие от напряжения слезы, улыбнулся ему, потрепал по шее, сдвинул шапку на глаза…
После обеда день покатился быстрее, норму на берегу сдали еще засветло; все посильно нагрузились сухима дровами, но Андрейке не дали на этот раз ничего нести; дома он опять получил побольше болтушки и за ночь хорошо отдохнул. Он уже не слышал голоса возвратившегося отца, ходившего к десятнику доложить о смерти младшего сына, как это строжайше предписывалось по правилам; мышей в зту ночь Андрейка тоже не слышал, Иисус Христос не принес ему белого хлеба. Время для него в эту ночь оборвалось и остановилось, словно в тяжелом, бесконечном сне прошли декабрь, январь, февраль; зима оставила на берегах реки бесконечные штабеля леса, заготовленного в долгие лютые месяцы и приготовленного к сплаву в индустриальные, бурно развивающиеся районы страны, в низовья Волги и — дальше на Каспий. Андрейка все жил, личико у него совсем усохло, маленький, острый носик торчал шильцем, руки стали хлипкими, тоненькими; иногда с ним приключались обмороки.
Изо льда вытаял целехонький трупик Демьянки, и даже вездесущие мыши его не попортили; маленького покойничка в свободный час, с разрешения строгого начальства, похоронили на кладбище, на щебнистой прогалине среди бесконечной тайги, выбранной для этой цели, месте, официально утвержденном начальством еще с прошлой осени. К этому времени в освободившихся ото льда протоках уже стали вязать плоты, готовить лес для сплава. По первой воде снизу приволоклись две баржи с мукой, керосином, новым пополнением ссыльных крестьян, с инструментом для лесной работы; по заявке комиссара Тулича был доставлен пулемет и запас патронов к нему; грозное оружие установили на специально возведенную башню над комендатурой, и теперь там постоянно нес дежурство стражник. Прибыло пополнение в охрану, новые инструкции и нормы на лесные работы, а также бумага с указанием ссыльным разводить собственные огороды, ловить и сушить на зиму рыбу, собирать съедобные травы, ягоды, грибы и лесные плоды. Новые партии спецпереселенцев принесли смутные, черные слухи о сплошной коллективизации, о повальном голоде на Волге, на Украине; за панические вражеские, вредные для дела Советской власти слухи особая тройка приговаривала к отправке на ближайший медный рудник или даже к высшей мере с приведением приговора в исполнение немедленно. За зиму на кладбище переселилось из поселка живых почти треть; старые и дети до пяти лет, считай, вымерли поголовно, но еще никто и не предполагал неисчислимых мучений наступавшего лета; людей загрызала мошка и комар, от нехватки соли, от свежей рыбы начались желудочные болезни. Никаких семян для огорода, естественно, ни у кого не оказалось; кто-то посадил у себя возле землянки полведра картошки, выпрошенной Христа ради у проплывавших местных жителей, но посев пришлось по ночам охранять… И наконец, стало ясно самое главное: если кто-то еще надеялся на скорые перемены, то теперь, после прибытия новой партии ссыльных, с любыми надеждами приходилось распроститься. Бабы украдкой, пугливо оглядываясь, шептались о разной чертовщине; говорили, что на русский парод за его смертные грехи, за осквернение церквей напущен конец света, послан ему во искупление сам сатана, и сатана тот — Сталин, а в сапогах у него вместо человеческих ног — мохнатые, в козьей шерсти, с копытами. Зарывшийся в землю поселок кишел доносчиками; начальнику спецлагеря и страшному комиссару Туличу с длинной лошадиной мордой наутро становились известны все слухи и сплетни; несколько десятков человек отправили па рудник.
За лето многие укрепили и расширили землянки, наготовили побольше дров; одну из девок семейной бригады Коржевых неожиданно по распоряжению самого Тулича перевели на работу в комендантскую столовую, а затем и в саму комендатуру уборщицей; за какие-нибудь две недели легкой работы она окрепла и вошла в тело; иногда, забегая домой, совала матери что-нибудь из-за пазухн. В начало ноября стала река, и опять начались лесозаготовки. Но за несколько дней до этого исчезли, словно провалились под землю, старшие сыновья Иван с Мишкой. С неделю ничего не докладывая в комендатуру и даже десятнику, глава семьи выжидал; время шло, бодро зазвенели ранние заземки, и Коржев, понукаемый перепуганной бабой, сообщил десятнику о несчастье: старшие ребята отправились порыбачить, на долгую зиму любой запас не повредит, да так вот и не вернулись. Может, утопли или дикий зверь их задрал, а то и с недобрым человеком схлестнулись — в тайге, переполненной лагерями заключенных и спецпоселенцами, беглый голодный человек опаснее зверя.
10
Над спецлагерем Хибраты разгулялась первая звонкая метель, ударившая совершенно неожиданно; с утра открылось ясное, почти синее небо, под ногами свежо похрустывал ледок, к полудню же тяжело дохнуло с севера, застонала, заходила ходуном тайга; не успели опомниться, обрушился первый сухой снежный заряд, низкое небо словно опало, слилось с землей, и уже потом до самого вечера не было продыху. Метель с ходу ворвалась в ночь, закружилась по берегам свипцово-медленных рек, укутала горы, заметалась по тайге, порой перекрывая дыму выход из труб — он валил в землянки, заставлял людей задыхаться и кашлять. Вокруг осанистого и просторного здания комендатуры, стоявшего между земляным кулацким поселком и кладбищем и светившего всеми окнами, в один момент образовалась непроглядная, бушующая снежная тьма, часовой, мерзший на башне с пулеметом и давно уже ожидавший смены, отворачиваясь от острого секущего ветра, втянул пулемет поглубже, задвинул в проемах защитные щиты.
Приняв в комендатуре рапорты десятников о готовности к зимним лесозаготовкам, Тулич, не зажигая лампы и не снимая теплой меховой кожанки, стоял у себя в комнате у окна; за утепленными к зиме двойными рамами металась, выла, билась в стены и окна слепая снежная мгла, и Тулич до хруста в пальцах сжимал толстый выступ подоконника. Надежда на перевод куда-нибудь в область или даже в Москву, поближе к большой, яркой, деятельной жизни, несмотря на обещания и заверения друзей, опять не оправдалась. Тулич оскорбился не за себя, за дело, дернул щекой — друзьям надо слишком дорого платить, он же гол как сокол. Придется еще одну зиму торчать здесь, выколачивая всеми правдами и неправдами новые сотни и тысячи кубометров, доказывать сиволапому мужичью, что умирать от голода и холода в снежных просторах тайги во имя революции и социализма — святое дело. В то же время там, в больших городах, кипит горячая непримиримая борьба — именно там сейчас решается будущее, там живой ток крови… Несомненно, он допустил где-то досадный просчет, ему, возможно, те же друзья и подложили свинью, засунули после взрыва храма Христа Спасителя в эту несусветную дыру при его-то способностях и заслугах перед революцией. Ну что ж, ему не впервые отодвигаться в густую тень, такова логика борьбы. Нужно обязательно заставить себя выдержать, пройти уготованное до конца.
Крылья тонкого породистого носа Тулича вздрогнули, он разделся, ремень с кобурой привычно сунул под подушку, зажег лампу, прошелся по комнате, невольно прислушиваясь, что делается за стеной и за дверью. Усиливающаяся метель заглушала внутренние звуки в массивном доме комендатуры. Циклопическая дикая страна с ее бесконечными лесами, с глухим, убивающим бездорожьем, с бесчисленными деревнями, с развороченными социалистической перестройкой воронками больших городов, с замордованными, вот уже в течение нескольких веков бессчетно обираемыми плодовитыми мужиками — десяти жизней не хватит, чтобы хоть что-нибудь сдвинуть в сторону просвета к светлому будущему. Но если этого требует революция, если идея всемирного разума от его усилий приблизится хоть на один вершок, он готов сгнить в этой дыре. Он не пожалеет ни себя, ни других, ни взрослых, ни детей, идея превыше всего; эта страна слишком долго оставалась в стороне от глобальных идей цивилизации и теперь должна внести свою, предназначенную ей свыше долю во всемирное братство и процветание, и в этой борьбе стихий должен царствовать один строгий и беспощадный разум. Конечно, Раков мнит себя творцом, интеллигентом, волна революции вынесла на поверхность всякий сор. И все-таки свой, потихоньку безобразничает с грязными ссыльными девками и бабами, ненавидит и боится своего заместителя за ум: черт с ним, теперь его уже не надо уговаривать, как красную девицу, проглотить в дурное настроение стопку спирта; ничего, войдет в силу, заматереет, повязан большой кровью…
Неожиданная судорога передернула щеку Тулича; он вспомнил подвалы в Екатеринбурге; шеренгу совершенно голых людей, стоящих, упираясь поднятыми вверх руками в стену перед собой, безусое, смертельно белое лицо Ракова и прыгающий в руке пистолет, ставший невыносимо тяжелым, — Тулич хорошо знал это странное затягивающее чувство перед последним шагом, который переводит свершившего и осилившего этот шаг в следующий, более высший разряд, когда и сам ты, и другие уже невольно чувствуют за тобой высшее право жизни — право карать и миловать…
С ног до головы покрывшись холодным потом, он застыл; ничто не заставило бы его сейчас повернуться назад и взглянуть; каким-то образом она появилась вновь и стояла на своем привычном месте в самом дальнем и темном углу комнаты; она уже приходила сюда не раз и не два, приходила последний раз в сильную грозу — молнии били в реку, в высокий крутой берег, и вода до самого дна наваливалась мертвенным, зеленым огнем; теперь она пришла из метели, и Тулич, не оглядываясь, видел ее горячечным беспощадным внутренним зрением, видел ее окровавленные груди, и живот, и рану, которую она пыталась зажать, между пальцами у нее ползло что-то бурое и вязкое. Он должен был стрелять ей в голову, в затылок, в пышные, спутанные в поспешном последнем раздевании темно-каштановые волосы, от которых, несмотря на тяжелый запах человеческих нечистот, перемешанный с густым, свежим запахом крови подвала, пахло чистотой, свежестью, выжженным до белизны южным солнцем; он выстрелил много ниже. Самое страшное таилось в ее глазах — с такой брезгливостью и отвращением к себе ему еще никогда не приходилось сталкиваться, ее глаза были невыносимы от последнего удивления смерти….
Бросившись к топчану, Тулич упал на него ничком, оскалившись, вцепился зубами в подушку, затем сунул руку под подушку, выхватил маузер и, рывком вскочив, прижавшись спиной к стене, застыл с побелевшими глазами. В дальнем темном углу никого не было, только опять стала слышна метель. Опустошенный, нервно дыша, он опять свалился на топчан и некоторое время лежал молча, стараясь вспомнить что-нибудь далекое и приятное, но напряжение не проходило. Опасаясь худшего, он быстро встал, накипул на плечи куртку, сунув маузер в карман, прошел в хозчасть. Едва увидев его, Кузин отодвинул кипу бумаг, встал из-за стола, достал из самодельного, низенького шкафчика четырехугольную приземистую бутыль со спиртом и кружку, затем налил в другую кружку из чайника воды.
— Разбавляй сам, комиссар, — сказал он, вглядываясь в Тулича. — Черт знает, дикий климат, прямо какая-то азиатская буря…
Торопливо, стараясь опередить нарастание мучительного напряжения, наползание черной, удушающей тьмы, Тулич плеснул в кружку из четырехгранной бутылки, добавил воды, встряхнул кружку и, не дожидаясь, пока спирт хоть немного просветлеет, быстро выпил, шагнул к стене и обессиленно опустился на табуретку, прижавшись остро ноющим затылком к стене. Привычно поглядывая в его сторону, Кузин вновь принялся за бумаги; он, как и все вокруг, побаивался этого странного человека, жесткого и беспощадного с людьми и, по сути дела, взявшего на себя основную тяжесть всего круговорота жизни в спецлагере Хибраты; он оттеснил на второй план самого начальника спецзоны Ракова, и тот, нисколько не противясь, даже был рад такому повороту.
Шелестя бумагами, перекидывая их с места на место, Кузин сильно щурился; семилинейная керосиновая лампа, висевшая на длинной медной проволоке над столом, еле заметно раскачивалась от бури, по углам комнаты, заваленной различным хозяйственным барахлом, шевелились тени; глаза Тулича прояснились, вновь стали острыми, пронизывающими. Бросив просматривать нудные цифры и аккуратно разлинованные пухлые гроссбухи с отчетами, аккуратно вклеенными квитанциями, распоряжениями, накладными и сохраняя на лице привычно бодрое выражение, Кузин думал о жизни. О Ракове, сторонящемся по возможности всяческих грязных дел, о Туличе, окруженном, как панцирем, страхом и ненавистью; у Тулича, конечно, опять был припадок, как всегда совпадающий с приходом сильного ненастья. Как бы он ни скрывал этот свой недуг, все равно заметно.
— Знаешь, товарищ Тулич, — решился, наконец, Кузин и от своей решимости приветливей обычного улыбаясь, — отдохнуть бы тебе надо, товарищ Тулич, в нормальном месте. Больно у тебя норов горячий. Рапорт бы написал, а товарищ Раков поддержит… Тут, в этой преисподней, хоть кто сердцем изойдет…
— Чепуху порешь, Семен Семенович, — четко и холодно, словно передернул затвор, ответил Тулич. — Любая наша жизнь ничего не стоит, жалкая охапка дров в костер революции. Мы только навоз, Кузин, да, да, навоз, не гляди, — подтвердил он, сдерживая предательский вздох сожаления. — Мы только организующий элемент вокруг него, не сейчас, потом, потом когда-нибудь, потом только и может что-либо воздвигнуться. Не надо жалеть себя, Семен Семенович, мы только солдаты революции.
— Так я, значитца, по-свойски, не в таком мировом масштабе, — еще приветливей заулыбался Кузин, давно уже научившийся ставить непроницаемый заслон между собой и происходящим, особенно если что-нибудь не понимал. — Так сказать, в моем посильном масштабе во-от, я-то привык только кругом себя, вон мешки, да лопаты, да гвозди. У меня так голова устроена, по-другому не умею… Я от души, как умею. У тебя, я слышал, Севастьяныч, мать в Москве, матушку бы проведал.
— Революция сейчас многих развела, — слегка повысил голос и Тулич, глядя остро и яростно, прямо в глаза. — Отцов и сыновей, сестер и братьев! Не у одних нас.
— Прости, Севастьяныч! — уже всерьез принялся оправдываться Кузин. — Как лучше хотел, вижу, страдает хороший человек… Как знаешь. Наше дело маленькое…
— Стали люди пропадать, — помолчав, пожаловался Тулич. — Из семьи Коржева двое парней исчезли… Говорит, пошли на рыбалку и не вернулись. Ты веришь, Семен Семенович? — неожиданно спросил он и, не дожидаясь ответа, тут же продолжил: — И я не верю. Русский мужик всегда был консервативен, всегда волею субъективных обстоятельств находился в стане врагов революции. Спустишь одному — побегут другие. Еще и товарищ Ленин предупреждал об этой опасности. Надо зону столбить, а людей нет… Пролетарское сознание само собой не придет, его надо внедрять ежедневным трудом.
— Может, в самом деле утонули? — предположил Кузин. — Отсюда, из этого мешка куда уж… разве только спятить… На реках заслоны, а тайгой…
— Как там начальство? — оборвал Тулич. — Я сегодня еще не наведывался…
— Товарищу Ракову вроде легче, фельдшер заходил два раза, температура спала, фельдшер возле него девчонку определил дежурить, тоже из Коржевых. Я заглянул, так он ей картинки из книжки показывает… оба смеются…
— Картинки — хорошо, уже поворот к поправке, — одобрил Тулич. — Это уже необходимость полезной деятельности, тяга просвещать. Наш начальник — человек молодой, в его возрасте и положении понятно… пусть просвещает, даже железным людям свойственны маленькие слабости…
— Ныне вон какая ночь, — стараясь быть бодрым, напомнил Кузин, прислушиваясь; стены гудели, в окно с воем рвалась снежная буря. — Такой тьмы здесь еще не было, беспродышливая какая-то тьма… Сколь за такую ночь натворит безобразий.
Тулич больше не слушал хитроватого, умелого хозяйственника; тяжесть в голове прошла, уже составился определенный план, и Кузин с беспокойством заметил, что в изгибе тонких губ приободрившегося комиссара затаилась усмешка.
— Знаешь, комиссар, я советую тебе еще немного хлебнуть, — сказал он, указывая на шкафчик с четырехгранной бутылью, — а затем пойти и хорошенько выспаться.
— Завтра начало зимних заготовок, — напомнил Тулич все с тем же беспокойным, в то же время ободряющим выражением лица, заставлявшим многих отводить глаза и ежиться. — Я должен в шесть часов быть на ногах…
— Метель завтра только силу наберет, уж поверь, простреленное плечо прямо выламывает, — пожаловался Кузин. — Какая тут, к черту, работа?
— Завтра первый день заготовок, — повторил Тулич, теперь уже с некоторым вызовом.
— Ты всех выморозишь, — сказал Кузин хмуро. — Зачем? У тебя такая задача? Себе дороже… Смотри, план-то — он долгий…
В ответ Тулич хлопнул дверью, и Кузин, оставшись один, длинно бессильно выругался, опасливо глядя на закрытую дверь; ночь, беспросветная и бесконечная, катилась по земле, захватывая все новые пространства. На любом, самом тесном клочке земли продолжали вершиться свои дела, большие и малые, и нельзя было одно отделить от другого, не задев, а то и не повредив тайных кровеносных сосудов: пронизывающих и связывающих все живое в единое целостное полотно жизни; причиненная в одном месте, пусть даже за тысячи верст, боль отдавалась судорогой в общем теле. Упрямые самонадеянные летописцы, не понимающие истинного хода истории, были поруганы и изгнаны, самые ожесточившиеся в своем неверии и непокорности — распяты. Только так и могла достичь своей цели революция, другого пути не было и нет; Тулич вспомнил Сталина, хотя видел его близко лишь дважды: один раз в двадцать девятом, после выполнения особого задания на границе с Румынией, а вторично…
Вернувшись к себе, Тулич разделся, лег, сунув маузер под подушку; темнота давила, и он не мог закрыть глаз.
Вторично он провалился классически, нечего бередить себя, и этот провал виртуозно, просто артистически подготовил ему один из самых доверенных друзей, неожиданно взлетевший на захватывающую дух высоту, предусмотрительно и осторожно расчистивший вокруг себя пространство от всех, по его мнению, слишком близко его знавших, и Сталин, занятый множеством дел, конечно же, не заметил этого. Вот и вся немудреная разгадка его нового назначения сюда в глубинку, в эту хибратскую дыру подальше от Москвы. Но враги его ошибаются, он останется несгибаемым бойцом революции, и никакие превратности судьбы не изменят его суть. Он выполнит свой долг до конца, здесь тоже нужны самоотверженные, несгибаемые бойцы, отстаивающие дело революции, может быть, именно здесь, в этом аду материализуются идеи революции и именно он, Тулич, — конечная субстанция, карающая и очищающая сила. Железный Тулич, так его прозвали еще в двадцатых товарищи по партии, этого не дано ни Кузину, ни Ракову; он понимает их слабости, прощает их — не сразу душа созревает для высших свершений. Придет время, самых стойких и верных призовут и признают — тут Тулича охватило ощущение какого-то удивительного полета, парения над землей — бесприютной, темной, снежной, лишенной именно без тепла его сердца веры созидания. Земля, земля, а что она такое? Без благодатной и живоносной идеи — всего лишь уродливое пространство, покрытое скопищем пожирающих друг друга безобразных двуногих насекомых, не знающих милости и пощады. Нет, нет, именно в Сталине истина, только его воля помогает тысячам таких, как он, жить и бороться во тьме и гнойниках, отказавшись от самого дорогого и привычного, от общения с себе подобными, от искусства, от женщины, так и не понявшей его предназначения и веры и с отвращением отказавшейся от него. Да, да, именно с отвращением — он сам это понял, простил, хотя было немыслимо трудно… Его губы тронула улыбка; мука женщины приходила к нему редко, но он не разрешал себе расслабляться, отрубая все ненужное еще в самом предчувствии; вот и сейчас, едва прорезалась сладкая тоска по женскому телу, он заставил себя рывком встать, подойти к гудящему, воющему на разные голоса окну, охладиться; тотчас вся дурь и кончилась. Революции нужны кубометры, завтра он сделает все от него зависящее и независящее, вдоль берегов мрачной северной реки вновь начнут расти штабеля леса, сказал он себе со странной своей дергающейся улыбкой.
Он стоял у окна, пока не начали стыть босые ноги — буря уносила тепло даже из такого надежного крепкого дома.
Ночная буря, сотрясшая Хибраты, сползла с оврагов Урала и устремилась дальше к Волге, в сильные ветры еще ломавшей тонкий, неустоявшийся лед, за ее раздольными плесами и заливными лугами холодный колющий снег уже превращался в мокрый с дождем; в Москве, мокнувшей под хлестким дождем, с редкими здесь порывами ветра, многие сослуживцы и единомышленники комиссара Тулича напряженно трудились в эту ненастную ночь. Не спал и Сталин, проводивший очередное срочное заседание; он был недоволен многими выступлениями, но другого пути не было, хлеб необходимо продавать и продавать дешево. Чем еще оплачивать заграничные закупки необходимого оборудования? Влезать в долговую яму и расписаться в собственном бессилии перед всем миром? И соратники, и противники только и ждут очередного промаха, чтобы позлорадствовать, собраться в новую оппортунистическую свору. Для политика народ всего лишь средство к достижению цели: еще ветхозаветные пророки создали об этом свои учения. Порядок всегда лучше хаоса, умеющего поддерживать порядок, пусть даже и тяжелой рукой, народ всегда оправдает. Вновь и вновь перемалывались горы человеческого материала, самое же неприятное началось после самоубийства жены, потряс даже не сам факт смерти и физического ее ухода, вверг в какое-то сумасшествие, в мистику (ему наяву грезились какие-то тени, слышался даже ее смех и голос, и он однажды несколько раз выстрелил в шевельнувшуюся от движения воздуха штору), нет, ему было не привыкать к фактическому исчезновению человека, в конце концов, он притерпелся к потерям, у него давно выработалось нужное противоядие, он хорошо знал, что чувство власти, непередаваемое, пьянящее ощущение всемогущества в этом мире компенсирует любую потерю. Нет, просто смерть жены его бы не столь потрясла; она ушла из жизни, усомнившись в нем, в его неоспоримом праве занимать свое, только ему одному принадлежавшее место в жизни. Он хорошо знал свою жену, ее ум, даже в какой-то степени наносной псевдоинтеллигентский снобизм, ее интуицию и неуступчивость, — и ее безграничную вначале любовь к нему. Если самый близкий и нужный ему человек мог разрешить их внутренний спор изменой, предательством, значит, могут шатнуться и другие. Предельно сосредоточившись, он ушел в свои мысли, остальные участники заседания, ожидая, привычно молчали, и чувство, что именно его сосредоточенность сейчас на делах и свершениях огромной страны рождает у других терпеливое уважение, было приятным. Он взглянул на Молотова, кивнул, предлагая ему продолжать сообщение, и, отвернувшись, вновь пошел вдоль окон. Мысли о покойной жене, возникшие вдруг среди важнейшего, неотложного государственного дела, привели его в неспокойное состояние духа; что-то за этим таилось, и нужно было быть настороже. Он как наглухо запечатанный сосуд, добавь немного — и взорвется, как уже не раз бывало; ведь никакого оттока нет, только поиграть с дочкой, мучительно похожей на мать, да приласкать ее.
Глаза Сталина сузились, стали еще более непроницаемыми: вслед за женой он вспомнил и того, за кого она дважды просила, ленинградского инженера, он вспомнил его нервные, изуродованные руки, вспомнил его неверие и бесстрашие и, скрывая усмешку, пригладил усы, поискал глазами Ягоду, не нашел, нахмурился, вышел в приемную, бросил несколько отрывистых слов пружинисто поднявшемуся ему навстречу помощнику, пожаловался на головную боль, проглотил таблетку аспирина, запил глотком воды и заставил себя вернуться к проблемам текущего совещания. Он давно уже определил конец шаткого равновесия в расстановке противостоящих ему сил и теперь еще и еще раз скрупулезно все выверял. У него не было какого-то четко выверенного плана, не было определенной основополагающей системы отбора людей, внешне все свершалось как бы само собой, стихийно; одни отсеивались, другие отодвигались, брались под неусыпный надзор, малая часть оставалась; постепенно образовывался постоянный круг служивших ему верой и правдой — они боялись быть уличенными в собственном несоответствии занимаемым ими местам и положению, смертельно, панически боялись этого, страхом были продиктованы все их действия, помыслы и поступки. Сталин никогда не анализировал свой безошибочный принцип отбора, он даже вряд ли подозревал о нем; все определяла его стихийно одаренная звериным чутьем натура — всегда настроенный на малейшую волну опасности, он просто чуял ее где-то еще в самом зарождении. Но он не был бы Сталиным, если бы полагался только на интуицию. Был еще один безотказный метод управлять, древний, как сам мир. Он изучил десятки хроник, перелистал сотни исследований и книг, постигая суть искусства управлять, а вернее — единовластно повелевать; природа и здесь избирала простейший и верный способ поддерживать равновесие — нужно было лишь собрать вокруг себя достаточное количество честолюбивых людей, ненавидящих друг друга, и не давать их ненависти затухнуть ни на час, ни на минуту, время от времени подбрасывая в этот тайно съедающий людские души огонь полено-другое, уж остальное довершат они сами. Природа власти оставалась незыблемой на все время и не могла перемениться, как не могла перемениться сама природа человека. Пожалуй, в этом тот питерский инженер Никитин прав. Тем более даже этого еще недостаточно, чтобы держать в узде непомерное честолюбие всех рвущихся вверх и жаждущих растолкать остальных — надо еще суметь отметить их всеобщим проклятьем народа, того самого, именем которого они постоянно действуют и клянутся…
Он не тешил себя иллюзиями, он тоже не знал, что такое народ, он лишь кожей ощущал его постоянное присутствие, его вечную, самовозобновлявшуюся, независимую от его воли и желаний стихию; промахнись он или серьезно оступись, и она в одно мгновение могла уничтожить все плоды его деятельности, переменить вокруг все, испепелить, сжечь. Изнуряя себя, не давая ни минуты послабления, он упорно шел к своей, раз обозначенной цели. После долгой, беспощадной борьбы он разделил, наконец, народ на две половины: одна работала, вторая управляла и карала: рассчитав все возможности и случайности, он нашел, наконец, верную точку опоры и для себя. Умело продолжая дело первых лет революции и почти окончательно избавившись от старой русской интеллигенции, он опустил планку до своего уровня, теперь оставалось лишь подстригать поровнее всходы, не давая выбиваться из общей массы слишком ретивым, и придет, наконец, придет необходимое спасительное равновесие; Троцкий и его окружение может сколько угодно бесноваться и кликушествовать, вера всегда была на стороне силы.
Сталин с удовольствием несколько раз повторил про себя звучное имя «Иудушка», и на лице у него проступила еле уловимая усмешка, глаза потеплели; Молотов, говоривший об успешном, по сути дела, завершении сплошной коллективизации, прервался и, оторвав от бумаг свое круглое кошачье лицо с осторожными глазами, выжидающе замолчал.
— Только без излишних крайностей, ко мне идут тысячи писем, надо посмотреть строже, надо остепенить слишком ретивых на местах. Никому не разрешено переступать революционную законность, все это должны знать, — негромко сказал Сталин, в ходе своих размышлений не упускавший сути происходящего, почему-то вспоминая, что Бухарин, не желающий примириться с уходом Ленина, с тем, что времена и задачи партии теперь совершенно иные, в пылу полемики влепил Молотову кличку «железная задница»; Сталин улыбнулся в усы, отдавая должное меткости попадания: — Мы поступили совершенно правильно, всемерно ускорив процесс обновления в деревне, — продолжил он после небольшой паузы. — Мы никому не разрешим вмешиваться в наше сугубо внутреннее национальное дело. Надо больше разъяснять нашу политику, действовать убеждением и только в полном соответствии с нашей революционной законностью. Несмотря на директивы ЦК и правительства об упорядочении арестов, анархия в этом деле наблюдается, по-прежнему действует правило: «Сначала арестуй, а потом разбирай». Это необходимо прекратить.
Он повел глазами мимо Ворошилова, с готовностью кивнувшего, обошел взглядом Кагановича и Орджоникидзе, чуть задержался на Бухарине, упорно не желавшем отрываться от своих бумаг и не поднявшем глаз навстречу, хотя Сталин безошибочно знал, что тот почувствовал его взгляд. «Ну что ж, демагог и лицемер, — подумал Сталин, не меняясь в лице. — Этот фразер будет, конечно, гнуть свою подрывную линию. Плаксивая лиса… Ну что ж. Именно народу всегда были нужны не пышные фразы, а конкретные дела».
Раскурив трубку, он по привычке стал не спеша прохаживаться вдоль окон — от них уже несло глубокой осенью и ночным промозглым мраком; он дошел до конца кабинета, вновь и вновь выверяя, как бы процеживая заново свои мысли, и опять задержался у окна, холодно отсвечивающего черными стеклами. Он слышал голос Молотова, кому-то резко возражавшего, что-то примиряюще сказал Калинин, давно уже, раз и навсегда смирившийся с отведенным ему местом, но Сталина уже не интересовало происходящее за длинным столом. Не поворачиваясь, он уже знал, что его кресло занято и тот, однажды уже приходивший, посетил его вновь. Почему он выбрал такое неудобное время? Что за больная фантазия — явиться в самый разгар заседания?
Медленно, всем корпусом Сталин обернулся; в его кресле темнела сутулая фигура гостя, на столе перед ним возвышалась кипа пожелтевших от времени папок с бумагами. Перебирая их и находя нужную закладку, он что-то время от времени записывал; Сталин видел на его склоненной к столу голове глубокие и, кажется, ставшие еще больше пролысины. Затем он поднял тяжелую голову и, ожидая, с нескрываемым любопытством посмотрел в его сторону.
«Знаю, знаю, не ожидал, — обрадовал гость хозяина. — Но ты ведь сам думал обо мне. Я могу и удалиться, тем более все эти твои скучные дела меня мало интересуют».
«Ты все время хочешь казаться пророком, — медленно, словно раздумывая над своими словами, сказал Сталин. — Легкая должность — побольше туману, ничего определенного. Скучные дела? Но это моя жизнь, и другой у меня не будет».
«Не торопись, — попросил гость, позволив себе при этом слегка улыбнуться. — У нас разный отсчет. Да и сам ты думаешь совершенно о другом, — незнакомец окинул взглядом собравшихся за длинным столом людей, окинул их всех сразу, в то же время задерживаясь на каждом в отдельности, и его взгляд был таков, что и сам Сталин как бы увидел этих людей, известных ему до самого потаенного пятнышка, совершенно в новом, резком свете и понял, что никого из них он не знает, и от этого лицо у него просветлело и затвердело. — Ты хочешь угадать, — продолжил незнакомец все тем же ровным голосом, — кто из них первым одарит тебя иудиным лобзаньем, находится ли он вообще сейчас здесь? Успокойся, в свое время он объявится сам, и ты не узнаешь его».
«Не узнаю? — спросил Сталин, напряженно улыбнувшись, словно готовясь к прыжку, но своего гостя он не испугал и не остановил. — Ошибаешься, кацо, у меня на предателей безошибочный слух, я их еще по самым отдаленным шагам узнаю».
Он направился было к своему месту, остановился возле Кагановича, затем за спиной у Молотова, продолжавшего своим резким, словно бы каким-то еще не устоявшимся голосом докладывать о текущих делах; послушав, Сталин тяжело, в упор опять взглянул на Кагановича и, поворачиваясь к своему собеседнику, усмехнулся все той же жутковатой усмешкой.
«Возможно, думаешь о них? — спросил он. — Ошибаешься, пророк. Оба в крови по уши, укажу — клочьев не останется!»
«Настойчивость украшает вождей, — ответил собеседник, и глаза его, тихие и светлые от полноты и бесстрашия знания, подернулись печалью. — Только сам, только о себе! Вот твоя бездна, тебе из нее не выкарабкаться».
«Хорошо, но ведь если ничего нельзя изменить, зачем ты вот уже который раз приходишь? Краснобаев у меня и без тебя хватает, я ожидал от тебя помощи, дружеского слова. И без того черно в душе, а дел не убавляется… Сколько врагов… Боюсь упустить, боюсь опоздать».
«Ты успел много, никто бы столько не успел, — согласился собеседник; его фигура как бы еще более отяжелела и сгустилась в кресле. — Что тебе сказать, Coco? Щепоть земли тоже беспредельна, совсем незачем поднимать на своих плечах целую гору, чтобы определить ее тяжесть. Ты взвалил на себя непосильное человеку. День за днем, ночь за ночью ждать, что тебя опередят? Никогда невозможно поставить точку».
«Вот сейчас ты говоришь дело… жажда последней точки, — оживился Сталин, двинувшись к своему месту, и в его шагах, несмотря на их медлительность, опять появилась кошачья звериная осторожность. — Невозможно, говоришь ты? Может быть… Зато остается право на власть, а власть дает неистощимый материал для движения… Ведь только слабый думает о запахе миндаля на рассвете, сильный думает о том, чтобы поднять гору…»
«Подожди, Coco, у меня какое-то предчувствие… Кто знает, возможно, мы больше и не увидимся, а я уже привык к тебе. Возможно, ты уже выполнил свою жизненную роль, Coco, жаль, мы ведь едва-едва приоткрылись друг перед другом…»
«Ты знаешь, в чем состоит моя жизненная роль? — все с той же недоверчивой улыбкой поинтересовался Сталин. — Впрочем, почему же мы больше не увидимся? У меня еще столько интереснейших идей! Это, пойми, неразумно».
«Сам того не осознавая, ты уже принесешь благодеяние „человеческому роду, разрушая всяческое идолопоклонство перед любой идеей, для этого ты, собственно, и призван. Это не мало“.
«Чушь, без меня сейчас же все рухнет, весь этот человеческий муравейник обрушится сам в себя, опоры знаю только я один! Я тебе не верю!»
«Темно ты говоришь, прости, от собственного невежества, и это твоя беда, — с тихим сожалением, но все еще достаточно отчетливо сказал собеседник, и в его глазах опять проступила тайная горечь беспредельного, высшего знания. — Новую Византию тебе не поднять, жизнь сама определит дальнейшее».
Тот же раздражающе резкий, как бы неустоявшийся голос Молотова хлынул в уши Сталина. Все происходящее на заседании, бурная дискуссия за столом, отложившиеся в нем с болезненной отчетливостью, вызвали в нем беспричинную вспышку гнева; без малейшей внешней причины для окружающих он пришел в ярость.
Оборвав говорившего и почему-то глядя на Кагановича, влипшего в спинку стула, Сталин, с усилившимся акцентом, почти закричал:
— Всем жалко, одному мне не жалко! Ворошилову жалко, Бухарину, Калинину… Тебе, Лазарь, тоже жалко? А кто нам скажет спасибо, если страна завтра рухнет? Только не народ! Он поймет все, но этого он не поймет. Выход один… Хлеб должен быть, хлеб есть, слышите, есть, мы его найдем и возьмем! Я вам это уже доказал в Сибири! Рабочий класс должен регулярно получать хлеб, а заводы — необходимые станки! Надо помнить решительность Ленина в подобных ситуациях — хлебной монополии никто не отменял! Да, пришлось на какое-то время отступить, но теперь ситуация изменилась. Предлагаю немедленно организовать чрезвычайные комиссии по борьбе с укрытием хлеба! Каганович — Северный Кавказ, Молотов — Нижняя Волга. Подумать, кого на Украину… Другие мнения имеются? Очень хорошо. Приступим к вопросу об утверждении списка новых оборонных предприятий. Приступайте, товарищ Орджоникидзе. Мы пригласили сегодня товарища Чубарева, назначенного по рекомендации Орджоникидзе начальником строительства Зежского авиамоторного завода. Прошу выслушать его внимательно, деньги и фонды для этого важнейшего дела уже изысканы. Пригласите товарища Чубарева с его группой, я через две-три минуты вернусь. Завод необходимо строить, закупки оборудования будут стоить сотни миллионов золотых рублей, по самым скромным подсчетам. Вероятно, кто-нибудь подскажет другой путь, как достать валюту? Мы будем ему весьма благодарны.
В наступившей мертвой тишине отчетливо хрустнул сломанный чубук старой самшитовой трубки Сталина. Выругавшись, он быстро ушел через небольшую боковую дверь; все продолжали молчать, не решаясь взглянуть друг на друга, только Каганович, проведя ладонью по загоревшейся лысине, ни к кому не обращаясь, уронил, то ли раздумывая, то ли предупреждая:
— Не в духе сегодня хозяин..
Сталин же долго стоял у узкого, древнего окна, вслушивался в непогоду, вновь принесшую ему смутную тоску одиночества; он не любил своего прошлого, и лишь горы, иногда всплывавшие в памяти, в голубой дымке детство, смягчали его и успокаивали.
В этот момент его и потревожил помощник, единственный человек, имеющий на это право в любой момент рабочего дня; он доложил о приходе Ягоды, и через несколько минут Сталин уже слушал доклад по интересующему его делу Никитина, но после первых же слов Сталин на ходу круто обернулся, и под его пронзительным взглядом Ягода стал как бы меньше ростом. На лице у него отпечаталось искреннее недоумение, затем он как-то виновато развел руками.
— Товарищ Сталин, мне показалось, вы поставили на дело… в титульном листе…
— Тебе показалось или я действительно поставил? Где дело?
— Я не знал, товарищ Сталин, какая точно информация вам потребуется. Разрешите?
— Не надо, содеянного не воротишь, — бросил Сталин, стараясь не выдать гнева, даже обиды. — Тебе что-то там показалось — жизнь человека оборвалась… А на бумаге твои чудотворцы могут поставить любой знак.
Ягода молча, не решаясь опустить глаза, смотрел на Сталина, пытаясь мучительно осмыслить, почему Сталин снова срочно, в невероятной спешке заинтересовался судьбой именно ленинградского инженера Никитина, которого словно стерло из памяти Ягоды; с внутренним ознобом он ждал решения Сталина, и, чем задавленнее была реакция Сталина тем непредсказуемее и катастрофичнее могли быть последствия. Чувствуя уже тягостное подташнивание, Ягода совсем близко увидел лицо Сталина, белки коричневых с рыжинкой глаз, крупный мясистый нос, раздвинутые в злой усмешке губы, но по каким-то неуловимым признакам чувствовал, что страшное пронеслось мимо. Сталин, так же непредсказуемо простив, уже определил дальнейшую судьбу Ягоды, хотя ему по-прежнему трудно, непереносимо было примириться с расстрелом Никитипа.
— Иди, — равнодушно уронил Сталин. — Если тебе и дальше будет казаться, почаще крестись…
Ягода благодарно качнулся вперед.
— Я сказал иди, — оборвал его Сталин и, снова оставшись один, сгорбившись, несколько минут стоял у темного окна, стараясь собраться с мыслями; через несколько минут было необходимо коротко и ясно сказать главное. Страна сейчас едина в своем порыве, заряжена единой волей и единственным устремлением, и пусть в самой природе все продолжало идти по своим извечным и незыблемым установлениям, пусть даже пока и в одной подчиненной единой идее стране все происходит далеко не одинаково, не однозначно, и не могло происходить однозначно, одинаково, и уже появлялись зародыши будущих трагических, необратимых противоречий, в свою очередь уходящие все дальше и дальше во тьму грядущего, но, очевидно, это властное неодолимое и слепое предчувствие вечности и движет волей человека, определяет череду его дел и его судьбу. Здесь и Сталин, приводивший в движение и определявший своей волей жизненную участь неисчислимой массы людей, и Афанасий Коржев, безвозвратно слившийся с этой неисчислимой массой, обреченный больше не иметь своего лица, желаний, мыслей, своей отдельной жизни, — подчинялись одному и тому же закону слепого предчувствия вечности, но здесь в трагической точке пересечения этих двух несовместимых и неразрывно взаимозависимых судеб и начинала копиться энергия будущего непредсказуемого взрыва.
11
Где-нибудь в курских, тамбовских, воронежских, пензенских или орловских землях, в родных для Захара Дерюгина зежских лесах, в Густищах, издревле стоявших на киевском шляху, в конце октября торопились закончить полевые работы, утепляли в последний раз бурты картошки, свеклы, свозили солому с полей, чинили крыши, в северном же Предуралье, в разливах прикамской тайги уже вовсю хозяйничала зима. Эта памятная осень тридцать третьего года началась и текла по украинским и российским селам своим порядком. Зачастили слякотные дожди, раскисли дороги, рдели осиновые да кленовые дубравы, в тихих заводях кормилась по ночам перелетная птица, осторожно погоготывали гуси, по-осеннему сдержанно, озабоченно переговаривались утки, в мелколесье начинали прихорашиваться, перекрещиваясь к зиме, зайцы. Прошло совсем немного времени, и одни люди, наделенные неограниченной властью над жизнью и смертью других людей, уже успели внести в облик земли необратимые изменения. Стали жиреть волчьи стаи, потянулись к дорогам, усеянным по обочинам трупами людей, бредущих с Украины, с Дона, с Волги, с Северного Кавказа от страшного небывалого голода — местами даже старую траву выедали до корней; железные ленинцы и верные сподвижники Сталина Лазарь Моисеевич Каганович и Вячеслав Михайлович Молотов до последней пригоршни вымели и подчистую вывезли из этих земель хлеб и тем самым окончательно повернули русского мужика, а с ним вместе и всю страну на новую неведомую дорогу. В одну из ноябрьских ночей бредущие по бесконечным дорогам на распухших водянистых погах крестьяне и видели кровавый крест, перечеркнувший неспокойное небо над русской землей из конца в конец от Урала и до Карпат, и видели его и на Волге, и на Днепре, и на Дону, и тогда многие покорно сходили с дорог на обочины и ложились умирать. И под утро на запустевшие пространства земли с вымершими деревнями и селами, с воющими от тоски и сытости бездомными собаками, с бессчетно расплодившимися крысами выпала невиданная кровавая роса.
В ненастную ночь, простершуюся и над Москвой, и над Зежском, и над Казанью, и над Уралом, в своей землянке, несмотря на усталость, не мог заснуть совсем занудившийся от забот Афанасий Коржев; девка, работавшая в комендантской столовой, не вернулась на ночь домой, Бог с ней, это еще полбеды. Девка, она хоть и малолетка, да на комендантских харчах поперло из нее во все стороны, на то она и девка. Вот за пропавших сынов придется ответ держать. Рядом посапывала и охала во сне баба; ей что то снилось, и Коржев тряхнул ее за костлявое плечо — судорожно всхлипнув, она затихла. Свирепая метель, разгулявшись без конца и краю, ломала тайгу, загоняя все живое в укрытие. Время от времени удары бури достигали ураганной силы, срывали и уносили снег до самой земли, бились в накат землянки. Коржев в такие моменты радовался. За лето удалось, работая по ночам, несколько расширить и обиходить жилье, заново отрыть закуток для хранения всяких трав, кореньев, долбленой деревянной посуды с запасами рыбы, для заготовленных на зиму связок лучины, всякого иного хозяйственного хлама, начинавшего вроде бы из ничего скапливаться и здесь, на совершенно пустом вначале месте. Удалось переложить печь, вывести трехколенный дымоход. К Афанасию Коржеву потихоньку возвращалось чувство устойчивости, русский мужик, куда его ни загони, думал он, тут же начинает укореняться, молодой коры погрызет, горсть ягоды подымет, рыбки малость в глухой, пересохшей в лето протоке добудет — вот тебе и жив, вот и начинает наперед загадывать… Только и начальство тут как тут, не дремлет, жирок завязался, скок на шею — и пошло по новому кругу душу выворачивать. Надо жить вон как десятник Гапка — кругом начальства елозит, любое тебе место вылижет, любого продаст и купит. Не успеют в поселке чихнуть, а в комендатуре доложено, и как тебе чихнули, и почему.
В молодости его, Афоню Коржева, считали веселым и даже чудаковатым парнем, чего только не вытворял на гуляньях в праздничные ночи. До баб, до девок был охоч, мякина в голове, черт дернул рано жениться, земли нарезали, нечистый под руку вторично толкнул, и день в поле, и ночь; сейчас подумаешь, сам себе подивишься: и отколь только дети брались? Вот тебе и поломал хребет, пожадничал, выбился наверх; с весны до осени даже холщовые рубахи не успевал менять, не просыхали, в неделю расползались от пота да соли.
Коржев заснул от бури, вовсю расходившейся к утру; в живом стоне тайги ему приснился тревожный и радостный сон; привиделся Коржев сам себе опять молодым и почему-то совершенно голым; то ли купался вместе с парнями после косьбы в синие вечерние сумерки, то ли еще почему, но дунул ветер, поднял и понес его рубаху через поле, и он бросился следом, бежит по высокой траве, по васильковому полю в чем мать родила, а рубаха впереди летит. Только-только вроде бы опустится и он уже готов схватить ее, как она снова прянет вверх… И не помнил Коржев, настиг он рубаху или нет; проснулся от какого-то постороннего вмешательства в свою тесную подземную жизнь; подхватившись, баба уже что то кропала под чадившей лучиной, в печи потрескивали горевшие дрова. «Ну вот сейчас начнется полный поворот всей моей доли, — подумал почему-то Коржев, почесывая заросший подбородок. — Теперь, поди, дома-то в Крутоярье мужики потихоньку престол справляют… как ты не карауль, весь народ не укараулишь, самогонки потихоньку запасут, пирогов с горохом да яйцами…»
— Господи, страх-то, страх, — вроде бы сама с собой пробормотала баба, но Коржев уже понял, что она каким-то своим бабьим чутьем уловила его пробуждение и словно бы поздоровалась и о себе подала весть, и это еще больше насторожило его. В девках баба была красавицей, не сразу он ее и обломал, а, как поглядеть нынче-то, вон какая уродливая судьба выдалась, не приведи и помилуй.
Он скинул ноги со своего лежбища, поднял голову, прислушиваясь к тяжелому, натужному завыванию бури. Природа совсем разладилась, вдобавок кто-то изо всех сил колотил в дверь землянки; баба подняла голову, тревожно глянула, и Коржев, накинув на себя ватник, подцепив ногами чьи-то опорки, пошел открывать; вернулся он с десятником Гапкой — у того шапка, брови с бородой забиты снегом. Не здороваясь, показывая свою важность, Гапка с порогу загудел, приказывая тотчас выгонять бабу с детьми на борьбу с заносами, раскапывать улицы в поселке, а самому главе семьи отправляться в комендатуру по срочному и неотложному вызову комиссара Тулича.
— Совсем озверели, — не удержавшись, отозвался Коржев. — Народ переморозится в самом начале, что копать-то в такую-то замогильщину? Никакого народу не хватит, хоть со всей земли сгреби.
— Мое дело подневольное, — сбавил голос Гапка и, громко высморкавшись, отряхнув шапку себе под ноги, опять длинно выругался. — Мне сказано, я — исполняю. А ты, Афоня, вроде головастей начальства хочешь быть? — в голосе у Гапки появилось что-то выжидающее, и это тотчас уловила Авдотья.
— Ладно, ладно, сделаем, сделаем, — заговорила она. — Подыму девок и пойдем, нам что… Эй, эй, Варька, Парашка — подымайтесь! Эк их, распластались, разволоклись — вставайте, вставайте! Андрейку подымайте! Вот я вас… кобылы!
Гапка посопел, повозился, потопал ногами, тоже показывая свою подневольную долю и собачью должность, хочешь, мол, не хочешь, а ходи, гавкай; не веря ему и опасаясь опять что-то ненароком брякнуть, Коржев тоже хмурился, молчал. Сейчас нельзя было верить ни себе, ни бабе, ни отцу с матерью, такая власть пришла, всех перемутила, у каждого волчья шерсть поднялась дыбом — только оступись, сразу тебе кол в глотку.
— Ты, Афанас, сам добредешь, провожатый не нужон? — спросил Гапка, посверкивая недоверчивым глазом. — В тайгу не навострился вслед за своими пащенками?
— А ты не спрашивай, начальство велело, исполняй, — сказал Коржев угрюмо, натянул тяжелые от грязи и заплат штаны и стал обуваться. — Можешь руки-ноги связать, на салазках доставишь… Хоть проедусь задарма…
— Ну, я сказал, — не стал больше шутить Гапка и, еще раз остервенело, по неистребимо укоренившейся привычке, не стесняясь ни детей, ни бабы, выругавшись, вышел в сплошную черную метель; снег валил с ног, гулял по сильно уже обезлесевшему в этом месте берегу, по поселку, и никакого утра еще и не предвиделось. Афанасий Коржев, отправившийся вскоре за ним по вызову в комендатуру, только часа через полтора с трудом добрался до места и, уже стоя перед Туличем, сидевшим за столом в теплой сухой комнате, туго перетянутым ремнем с тяжелой кобурой, чисто выбритым, пахучим, переминался с ноги на ногу и мял в руках шапку. Приготовляясь к начальственному разносу, Коржев отдыхал в непривычном сухом тепле комендатуры, в таком хорошем воздухе и постоять можно подольше, ноги не отсохнут. Тулича в то же время одолевали самые противоречивые мысли; мужик был самым обыкновенным, так, среднего роста, худой, заросший, грязный, от лесной работы одежда горит, заплата на заплате. Мужик как мужик, но в то же время что-то в нем раздражало Тулича, и он заставлял себя помнить об объективности и не срываться. В переломные моменты больше всего опять же страдает интеллигенция, ведь такому вот примитивному существу, по сути дела, ничего не сделается, все равно где и как жить, чем заниматься. Право, забавно, каким чертом щетинится, такой в любых условиях выживет. Еще и плодиться будет, но порядок есть порядок, поглядишь сквозь пальцы на одного, начнет нарастать лавина.
Неловко шевельнувшись, Коржев приподнял голову, и Тулич уловил холодный блеск в глазах мужика — ненавидящий, безжалостный, и от этого как-то приободрился.
— Рассказывай Коржев, в надежное место сыновей определил? — предложил он миролюбиво. — Ты же должен понимать, ты свое делаешь, я — свое. Сегодня одно, завтра другое, а ведь государство есть государство, оно без законного порядка функционировать не может. Молчишь?
— Чего тут, государство, как же, должно соблюдать, — кивнул, переминаясь, Коржев. — У него свой интерес… как же.
— Прекрасно, Коржев, башка у тебя хорошая, главное понимаешь, — обрадовался Тулич успешному началу. — Давай вернем твоих оболтусов. Вероятно, ты их куда-нибудь в пермяцкую деревню наладил? Все равно ведь найдем, от Советской власти не скроешься, лучше сразу признаться. Не забывай, какая на тебе категория висит.
— Первая, самая первая, — вздохнул Коржев, упорно не поднимая глаз на комиссара. — Беда, гражданин Тулич, ничего я не знаю: голод не тетка, видать, позарились на рыбку, утопли ребята… Погода взбесилась, до весны какой след?
— Молодец, замечательно рассчитал, — сказал Тулич с насмешкой. — А ведь за свою семью ты отвечаешь в первую очередь, об этом тебе хорошо известно.
— Известно-то известно, да как за ними за всеми усмотришь? — решил пожаловаться Коржев. — Они от голоду ползут тараканами в разные стороны. Их вон сколько! А я один.
— А ты, Коржев, на медные рудники не собираешься прогуляться? — поинтересовался Тулич все с той же легкой насмешкой, наклоняясь вперед и быстро перебирая двумя пальцами по столешнице, показал, как Коржеву придется прогуливаться на рудники. Оба заинтересовались, и оба, каждый по своему, усмехнулись.
— Хо-орошо, — наслаждаясь, протянул Тулич, и мужик, подтверждая, опять тупо кивнул. Горевшая на столе керосиновая лампа под жестяным абажуром тихонько дзинькнула, качнулась; Тулич, начиная ощущать крепнущую силу противоборства, придвинулся, чтобы лучше видеть лицо мужика, но Коржев по-прежнему смотрел исподлобья, хотя глаз не прятал.
— Мне-то одна холера, гражданин Тулич, — сказал он бесцветно, без всякого выражения. — Хрен редьки не слаще, лес, рудник.
— А семья-то как же? — спросил Тулич, не веря ни одному слову неожиданно осмелевшего, словно проснувшегося мужика. — Как же с семьей?
— Да уж власть-то Советская позаботится, — с явным вызовом сказал Коржев, и глаза у него приоткрылись, наливаясь светлой синью.
— Ах ты, кулацкая вошь, — почти ласково врастяжечку выговорил в ответ Тулич, глядя на уродливого мужика с нежностью. — Ты, значит, настрогал целую дюжину, а Советская власть обувай, одевай, корми? Ловко устроился, лучше не надо.
— Баба уж такая попалась, гражданин комиссар, — оправдываясь, Коржев даже повздыхал, стараясь не очень расстраивать начальство. — Бывают такие, одного титькой кормит, другого уже носит… что мужик! Что он может сделать? Какая она жизнь ни тяжелая, а мужицкое свое дело не пересилишь.
— Не пересилишь, — подтвердил Тулич, ощущая знакомый, приятно леденящий холодок подступающей ярости, тяжело шлепнул ладонью по столу. — Ну, ладно, посидишь, подумаешь. Следователь с тобой потолкует, может быть, вспомнишь, мы лишний балласт держать не будем, нам он ни к чему.
— Крысы развелись, — тихо сказал Коржев, вызывая у Тулича странный холодок любопытства. — Видать, их вместе с нами в прошлый раз на баржах завезли. В год страх как расплодились — покойников портят. Не к добру… Преставится человек, чуть проморгаешь, уши, нос обгрызут… У покойной Фетиньи, моей соседки, пальцы объели. Не к добру…
Вызвав дежурного по управлению, Тулич приказал взять Коржева под арест и, оставшись один, стиснув зубы, долго сидел за столом, боясь шевельнуться. Лоб сильно взмок.
Ночь отступила, переходя в беспросветное утро, буря, судя даже по напряжению в крепких стенах комендантского здания, лишь усилилась. Она до зеркального блеска вылизывала молодой лед на Каме-реке, на ее протоках, грохоча и потешаясь, смешала небо с землей. Что это? Задавленный каторжной работой мужик не сломился, даже переборол его, Тулича, в своем каком-то тупом упрямстве. Что, сказывается здоровый, звериный инстинкт выживания? И дело не только в упрямстве, говорил себе Тулич, дело в этой беспробудной российской тупости, и, конечно же, прав именно Троцкий, говоря о железной дисциплине, о необходимости превратить безликую инертную массу в безотказно послушный отлаженный механизм, о внедрении беспощадпого аппарата репрессий в саму систему жизни, в революционную передовую армию, в крестьянство, о необходимости на них опереться и победить в мировом масштабе, создать единое мировое государство. Такой ролью любой народ может только гордиться, даже если ему суждено полностью исчезнуть, до конца истощившись в историческом походе по великому преобразованию мира. Без жертвенности нет движения, нужно отбросить личные обиды, не жалеть ни себя, ни других…
За окном по-прежнему выло и бесновалось слепое пространство. Не раздумывая больше ни секунды, Тулич вскочил, накинул куртку на плечи, привычно поправив кобуру маузера, вышел, приказал дежурному по комендатуре срочно вызвать к нему Покина, надзирающего за арестантской и почему-то называемого только по имени-отчеству Пал Палычем, и тот, свеженький и бодрый, почти сразу явился с зажженным по случаю снежной бури керосиновым фонарем. На именных золотых комиссарских часах, полученных еще в двадцатых годах за мужество по ликвидации вражеского подполья в Москве, стрелки указывали десять часов утра. Когда Тулич с охранником проходили мимо двери в жилую комнату коменданта, ему послышался приглушенный разговор, даже задавленный вскрик; комиссар покосился на Пал Палыча, но у того в спокойном и приятном лице ничего не дрогнуло. «Почудилось», — подумал Тулич, страдая от необходимости притворяться перед своим же подчиненным, а больше перед самим собой. Это тоже была грязь и скверна жизни, и через нее необходимо было пройти с наименьшими потерями. «Черт с ним, пусть, — пробормотал Тулич сквозь зубы, — пусть позабаваяется, молодой пока, оттяжка от души нужна».
Пал Палыч открыл дверь арестантской — совершенно глухого, сложенного из толстых лиственничных бревен квадратного помещения, с потолком и полом из тесаных плах; ни нар, ни стола, ни табуретки не было, лишь на полу в одном из углов лежало старее, превратившееся в труху сено. Недалеко от двери стоял для нужды жестяной бак с дырявой крышкой. Пал Палыч внес в арестантскую две табуретки, всегда стоящих для таких случаев у двери снаружи; на одну из табуреток Пал Палыч хозяйственно утвердил фонарь, на другую уселся комиссар. Арестант, как только дверь открылась, сел на истертое сено, протирая глаза и жмурясь на свет фонаря, больно ударивший по глазам; комиссар, твердо уставивши руки в колени, вперил в него пристальный взгляд. Подумав, арестант Коржев медленно поднялся, притулившись плечом к стене, глядел куда-то между Пал Палычем и комиссаром. В арестантской держался теплый, душноватый дух человеческих нечистот; бушевавшая метель за толстыми стенами, кое-где в пазах уже слегка заиндевевшими, здесь чувствовалась глуше.
— Ну что, Коржев, не вспомнил? — спросил он, не повышая голоса. — Все-таки сыновья, жалко… А работать кто будет?
— Да за что они обязаны на тебя работать? — в свою очередь спросил арестант. — Кто ты им такой, нашел ты их, а может, купил? Им-то еще до шестнадцати расти да расти, а ты уже запряг, развалился — вези его… заботничек ты наш, кормилец… не думай, ничего не скажу, я сынам не злодей.
— Наконец своим языком заговорил, кулацкая порода проступила, — почти с удовлетворением подытожил комиссар Тулич, оглядываясь на Покина, и мутный осадок жалости вновь поднялся в нем. — А ведь напрасно, Коржев. Против Советской власти никто не устоял, ты тоже не устоишь. Пал Палыч, только в меру, он у нас еще должен отработать положенное.
Весь подобравшийся, Пал Палыч с еще более ласковым выражением, легкими, неслышными шагами тут же оказался возле арестанта. Неуловимым движением он заломил ему руку за спину, дернул как-то легонько ребром ладони, казалось, едва коснулся предплечья арестанта, но тот тотчас подломился, с тяжелым хрипом рухнул па колени, и кровь отхлынула от лица — даже через густую темную щетину у него проступила меловая белизна. От вторичного мастерского удара почти в то же место и затем ниже — в ребра Коржев ткнулся лицом в пол, ноги у него конвульсивно задергались, во рту появился солоноватый привкус крови. Царапая пальцами по полу, елозя по нему головой, стараясь не закричать от острой боли, он некоторое время судорожно мычал. «Вот люто дерется, вражина, — думал он больше с изумлением, чем с ненавистью. — Совсем не по-людски, не по-нашему как-то дерется, гад такой».
С тем же приятным выражением лица, в осознании мастерски выполненного важного дела, Пал Палыч, вопрошающе глядя на комиссара, не ожидал, что арестант очухается так быстро. Вертанувшись на животе по полу, мгновенно изогнувшись, Коржев ловко рванул Пал Палыча за ноги, и тот, не успев опомниться, с размаху ударился головой о стену и тоже оказался на полу. Арестант, намереваясь опрокинуть мимоходом табуретку с фонарем, рванулся к двери; тут его и настиг сам Тулич, привычно хрястнув рукояткой маузера позади уха, и теперь, стоя над вторично повергнутым арестантом, раздувая тонкие ноздри, быстро дышал. По-хорошему надо было бы пристрелить чересчур строптивого и прыткого мужика, и у Тулича даже дернулась рука, тяжелая рукоятка маузера плотно легла в ладонь; глаза сузились. Дело решил простой расчет. Пристрелить этого мужика значило признать в завязавшемся с ним поединке свое нравственное, духовное поражение; кроме того, перед ним лежали будущие кубометры необходимой государству древесины, ради которых, собственно, он и находится среди этой мужицкой орды, должной стать послушной и стройной ратью; нет, нет, необходимо быть выше рабских эмоций, свойственных низшему сознанию, его дело заставить этого мужика работать, приносить будущему пользу. Черный обруч стал отпускать виски; прислушиваясь к нестихавшему неистовству снежной бури, Тулич щелкнул крышкой именных часов; уже два часа — на лесосеках время короткого обеда. Глухие и прочные, вековые стены дома отделяли его от неугомонной стихии, и, надо полагать, первый рабочий день на лесоповале пропадет даром, сидят по землянкам, давят тараканов. Раков тешится себе с девчонкой, счастливый характер, ему наплевать на кубометры, на план, на мировую революцию и на все прочее; придумал себе пустяковую простуду и отлеживается в теплой постели. Но и это будет в свое время оплачено сполна.
Первым очнулся Пал Палыч, зашевелился, завозил головою, стал вставать, стараясь не терять из виду комиссара и постоянно поворачивая к нему большое мучнистое лицо; Тулич брезгливо поморщился.
— Ну, ну… надо осторожнее…. не ожидал от тебя…
— Ей-ей, первый случай в жизни… ну, бандюга, — изумился Пал Палыч и шагнул было к арестанту. Тулич тут же остановил его, и Пал Палыч, укоризненно покряхтывая, стал бережно ощупывать свою голову. Уже думая завести от скуки с оплошавшим сослуживцем поучительный разговор о необходимости постоянно совершенствовать профессионализм, Тулич не успел. Живучий арестант очнулся, неловко подвернутая нога его подергалась, он сел и, окончательно приходя в себя, сразу же наткнулся взглядом на комиссара, тихая, глубокая, откровенная ненависть светилась в его глазах. Тулич внутренне подобрался — к сильным натурам, даже вражеским, он относился с уважением.
— Уж прости, братец, — укоризненно, как равный равному, сказал он, вызывая тем самым нехороший осадок у Пал Палыча, вполне пришедшего в себя. — Ты вот только о себе думаешь, а мне приходится сразу обо всех думать, о тебе в том числе. Я по-другому не мог тебя остановить, я тебя спас. Ты хоть понимаешь это? Погиб бы, куда бежать? И других бы, честных, невиновных людей подвел. Я ведь уверен в тебе, немножко отойдешь, сам придешь к нужному выводу. Правда, говорят, ты на деляне вокруг костра представления устраиваешь, пляшешь, дым столбом?
— Подлятина ты, комиссар, — сказал арестант, стараясь успокоить дергавшиеся губы, из-за уха сзади и сбоку по шее у него расползлось темное пятно крови; арестант пощупал, посмотрел на свою ладонь, вытер ее о штаны. — Жизнью меня, значит, одариваешь, заботничек? А ты моего согласия спросил? На такую-то жизню?
— Зачем? Не спрашивали тебя и спрашивать не буду, — в прежней примирительной интонации ответил Тулич. — Народу твоя жизнь нужна, вот он и будет решать. Ты, вот лично ты один мог бы исчезнуть, но ведь пример, пример! Сегодня твои сыновья сбежали, завтра другие сбегут, если на первый случай махнуть рукой?.. Против тебя лично у меня совершенно ничего нет, посиди здесь еще, подумай. Ребята твои далеко не могли уйти, знаешь ведь, куда они рванули. Все равно найдем.
Не отвечая, арестант с помощью рук привстал, полусогнувшись, на четвереньках передвинулся в свой угол на полусгнившее сено. Пал Палыч, теперь опасливо следивший за каждым его движением, шага на два отступил, и тут Тулич вновь ощутил нервное подергивание в лице. Мужик и не думал подчиниться его воле, наоборот; необходимость борьбы с этим обреченным тупым существом опять рассердила комиссара. Теперь он уже для своего дальнейшего самоутверждения не мог отступить; он уже почувствовал характер арестованного, здесь ничто не поможет, ни угрозы, ни уговоры, ни цепи. Хоть редко, но такие встречались и раньше. Приказав Пал Палычу принести арестованному обед, пошутив, что на голодный желудок голова плохо варит, Тулич даже добавил несколько слов о необходимости снять ненужное напряжение в камере. Вышколенный трудной службой Пал Палыч послушно сказал «есть», и жизнь в комендатуре потекла своим чередом; Тулич вышел на крыльцо остыть; метель еще усилилась, и Тулич почувствовал себя под взбесившимся небом неуютно и непрочно. Поражаясь неистощимой неразумной силе стихии, он вернулся к себе потеплее одеться перед задуманным. В этот час в поселке, несмотря па снежную бурю, после короткого перерыва десятники выгоняли людей в слепую тьму на расчистку дорог, хотя это было бессмысленно и бесполезно, и это понимали даже дети. Но таков был установленный комиссаром Туличем порядок и нарушать его никто не решался. Ушли на расчистку и дочери Коржева, замотав лица чем попало и оставив лишь щели для глаз, сама Авдотья с меньшим Андрейкой отпросилась побыть немного в землянке, натопить воды, приготовить болтушку и потом уж идти делать свою норму. Обрадовавшись недолгому послаблению, Андрейка жался к теплой печке, думал про отца, представляя себе страшною комиссара Тулича с наганом в одной руке и плеткой в другой. Сама же Авдотья, машинально выполняя необходимую работу, уже ни о чем не думала. От страха и непосильной тяжести жизни Авдотья давно уже умерла, и давно знала об этом, и делала необходимую работу бессознательно, по какой-то бессловесной животной привычке, и только это помогало ей тянуть лямку жизни, вырабатывать пайку, обихаживать детей и мужа, и даже, в особенно тяжелые моменты, всплескивать руками, и, неизвестно к кому обращаясь, провозглашать в равнодушном удивлении: «Господи, как мы еще живем, глаз-то не закрываем? Ох, грех какой, против воли-то Божьей супротивничать…» Несмотря на дурную, действительно невозможную пищу, она вдобавок почти лишилась сна — лежа с открытыми глазами, она теперь все время ждала: вот вот послышатся чужие голоса пришедших добить последних детей. Она боялась ночей и еще задолго, несмотря на тяжелую, непосильную работу, начинала к ним, сама того не сознавая, готовиться, а с нынешнего утра, когда и муж не вернулся из комендатуры, она окончательно перешагнула разделявшую жизнь и смерть черту. Теперь она не удивилась больше ни разу чуду невозможности своей жизни. Она хорошо знала своего мужика Афанаса, никакому комиссару его не одолеть, не переломить, таясь от нее, сам собирал Ивана с Мишкой в дорогу; по ночам все трое шептались, запасали харч, все больше сушеную рыбу… Авдотья от своих мыслей несколько раз облегченно перекрестилась. Оглядываясь на Андрейку, греющегося возле печи в отсветах огня, она ощущала тревожное беспокойство: ей опять чудились разные страсти, вроде и последнего сына уже нет. Она украдкой зашла с другой стороны и взглянула. На маленьком, высохшем личике Андрейки от отблесков огня сияли глаза, и она, радуясь, что сыну тепло и хорошо, успокоилась, как успокаивалась скотина, корова или лошадь, чувствуя рядом запах детеныша. Услышав за дверью сквозь привычный обвальный, напористый голос снежной бури недовольные голоса, она даже не испугалась. Она узнала голос десятника Гапки, затем он и сам, согнувшись, пролез в низкую дверь, а за ним еще двое — Тулич и Пал Палыч.
— Ну вот, — сказал Гапка виноватым голосом. — Баба с мальцом тут… три девки на снегу… плотбище под штабеля расчищают. Прислать?
— Не надо, — ответил Тулич, внимательно осматриваясь в землянке. — Можешь идти…
Гапка нахлобучил шапку, задом выкатился за дверь; Авдотья придвинулась ближе к сыну, не скрываясь, облегченно перекрестилась, сложа руки на высохшей, плоской груди, и стала ждать. Завершалось ее долгое ожидание, и она, едва увидев перед собой Тулича и узнав его, сразу почуяла последний, с таким трудом и ненужным запозданием пришедший конец и потом уже больше ни одного мгновения не ждала иного исхода; по вечной крестьянской привычке она и не складывала с себя и детей вины; раз они подверглись каре, вина лежала на них, она даже не усомнилась в необходимости происходящего и лишь тупо молила кого-то неведомого о скорейшем завершении, только бы дети ничего не узнали до самого конца.
До нее не сразу дошел смысл сказанных Туличем слов, вернее, его вопроса. Про исчезнувших недавно старших сынов она, замученная изнурительной работой, действительно перестала думать и теперь никак не могла понять, что от нее хотят.
— Видит Бог, не знаю, не знаю, — тихо сказала она, наконец, и, больше по привычке, опять перекрестилась. — Поди, угомонились от каторги, слава тебе, заступница небесная…
— Собирайся, — коротко приказал Тулич, стараясь побороть отвращение к гнилостному запаху в землянке, к ее первобытному мраку и не поддаться жалости; накинув на себя нехитрую одежду, Авдотья привычно подпоясалась, повязала голову. Андрейка, успевший собраться проворнее матери, уже стоял рядом с нею и исподлобья, как-то неотрывно смотрел на грозного комиссара, и того раздражал этот детский упорный взгляд. В последний момент он хотел приказать мальчику остаться, представил себе почему-то слезы и крик, поморщился и махнул рукой. «Черт с ним, пусть прется», — решил он, выбираясь из земляпки. По привычке прикрывая дверь, с тупой радостью в смутном предчувствии какого-то покоя и завершения, Авдотья обмахнула себя тяжелым крестом, затем их захватила веселая, резвая метель; тотчас им забило глаза, белая мгла забесновалась вокруг, и, только повернувшись спиной к ветру, еще можно было что-либо разобрать.
Тулич приблизил свое лицо к лицу женщины и приказал:
— Веди.
Она увидела в глубине его глаз безумие и опять не испугалась.
— Где сыновья укрылись, туда и веди…
— Там они, — махнула она перед собой в снежную тьму, за реку, в привычном для хождения на работу направлении и, подумав, добавила: — Снегу много….
— Я так и знал, — сказал Тулич в сторону своего молчаливого подчиненного. — Ничего, что снег… Веди, веди, — теперь в голосе у комиссара прорезалась легкая насмешка. — А может, просто признаешься, куда и как скрылись? Ты тоже не знаешь? — пригнулся он к Андрейке, и его опять пронзил болью и жалостью пустой упорный взгляд мальчика. — Значит, и ты не знаешь. Никто не знает.
— Они там, — вновь с тупым упорством повторила Авдотья, указывая за реку, в белую, живую, кипящую тьму метели.
— Бросьте ее, товарищ комиссар, — подал наконец голос Пал Палыч, усиленно моргая слезящимися от секущего ветра глазами. — Очумела баба… Метель стихнет, тогда и покажет, брешет она, народ такой… стервозный.
Тулич задумался; теплая кожаная куртка на меху хорошо защищала от ветра, но колени мерзли; черный, сверлящий червь в мозгу никак на этот раз не успокаивался. Уж не стал ли он бояться этих людей; ведь согласись, она, мертвая уже баба, поведет за реку, в тайгу, взбрело ей в голову — и поведет. Мальчишка совсем жестяной, их связывает одна боль, одна тяжесть, какая-то тупая непреодолимая сила, ее необходимо понять, иначе с ними не сладишь. Зачем он сам сюда притащился, никто ведь не неволил, даже этот недалекий Пал Палыч считает его полоумным. Цель, цель, тотчас сказал себе Тулич, нельзя отступать, нельзя давать себе поблажку, на полпути нельзя останавливаться ни в чем.
Сверлящий, отдающий чернотой в глаза червь в голове разрастался до ужасающих размеров; очевидно, ветер сильно надул в уши, еще с детства больные, из них при малейшей простуде текло, и мать лечила его травяными примочками.
— Давай в комендатуру, — сказал Тулич. — Там вспомнит. Найдешь, Покин?
— Найдем, — не совсем уверенно, но с привычной бодростью отозвался Пал Палыч, затем гуськом двинулись вперед, навстречу ветру, в сторону от реки.
Землянка Коржевых находилась почти у самого берега, так ему в позапрошлую казенную осень указал мужицкий жребий, кинутый по старому крестьянскому обычаю при распределении земли в спецпоселении Хибраты, и теперь до поворота к комендатуре надо было пройти весь поселок. Преодолевая сумасшедшую силу бури, они почти ползли, низко угнув головы, прикрывая лица руками; Пал Палыч, шедший впереди, шепотком матерясь, то и дело приостанавливался и усиленно вертел головою. По-прежнему занятый мыслями о привязавшейся непонятной, по-видимому, тяжелой болезни, захватившей его полностью, загребая снег теплыми сапогами, плотно обхватившими его ноги, Тулич шел за остальными почти машинально, надвинув поглубже шапку и пряча от секущего сухого снега лицо. Стараясь прервать изнуряющий, иссушающий мозг поток, он хотел заслониться другой, придуманной жизнью, стихами о вечности и красоте. С неприятным удивлением он обнаружил, что совершенно ничего не помнит, ни одной строчки. Даже Пушкина, даже Блока, томик которого постоянно лежал у него под подушкой — комиссар любил изысканные стихи, исцеляющие даже запутавшуюся, изнемогающую в потемках жизни душу. Как же так, ни одной строчки? А если это последний сигнал? Необходимо подать рапорт и уехать, показаться хорошему врачу, отдохнуть, тотчас решил он, — здесь, в бескрайней, безлюдной ледяной пустыне, он погибнет, зачем он, например, взял тупицу Покина и поперся в поселок? Что за жандармское рвение сразу разоблачить и выяснить… Зачем он тянет в комендатуру полуживую грязную бабу с мальцом? С ними надо работать дальше, а голова совершенно отказывает, в такой дикий холод голова горит, в мозгу по-прежнему ворочается жирный черный червь. Когда же, наконец, кончится бессмысленная метель? Невозможно, столько снега и ветра, столько ненависти и холода в природе… Доберусь до комендатуры, — сразу к начхозу, проглочу стакан этой дряни и в постель; одному ему не разорваться и порядка не навести, надо уметь заставить работать других — вот главная особенность руководителя. А как же высшая идея, тотчас спросил он, стараясь задавить свои нехорошие сомнения, и святая жертвенность во имя ее? Кто ему дал право мучить детей, заставлять их непосильно надрываться наряду со взрослыми? Инструкция свыше? Кто же ее составитель и кто им дал такие изуверские права? Стоп, стоп, приказал он себе, гримасничая и дергая застывающим, примороженным лицом, прочь порочные мысли, в любые времена необходимы санитары жизни, выдвинула своих санитаров и революция. Никаких сомнений, он должен гордиться, попав в их число. Это все от старых русских интеллигентских болезней, неврастения, предопределенное законами борьбы должно свершиться.
Очень смутно различались впереди фигуры женщины с уродливо огромной из-за накрученной на нее толстой дерюги головой и мальчика, изо всех сил старавшегося не отстать в снежной тьме от живых людей; Пал Палыча же комиссар из-за несущегося по-прежнему слепой стеной снега совсем не видел. Теперь его внимание сосредоточилось почему-то на Андрейке, и тот, словно ощутив новую опасность, стал чаще оглядываться, вызывая у Тулича новый приступ досады, и он, выбрав момент, все более раздражаясь, громко крикнул: «Иди! Иди! Не оглядывайся!» Очевидно, ничего не услышав, мальчишка продолжал через каждые три-четыре шага оборачиваться, но комиссар Тулич ошибался — у Андрейки никакого чувства страха больше по было, им тоже владело сейчас совершенно другое ожидание. Он просто ждал, когда же, наконец, идущий за ним высокий человек его убьет, и он ляжет в снег, и станет хорошо и покойно, и больше не надо будет никуда торопиться. Ощущение приближения такого счастливого покоя сочилось в душу к Андрейке от комиссара, от человека, упоминаемого в поселке только опасливым шепотом, с оглядкой, ощущение это все усиливалось и скоро заслонило все остальное. Андрейка вспомнил младшего братишку Демьянку, похороненного в снегу, и ему стало еще спокойнее — теперь он отчетливо уже понимал необходимость заработать покой, как зарабатывают талон на пайку хлеба, и вспомнил слова отца, что надо ждать и терпеть, всему свой срок.
От такой спокойной мысли Андрейка приободрился, в теле у него проснулось ушедшее было тепло. В очередной раз оглянувшись, он натолкнулся на остановившуюся мать; что-то в метели изменилось, теперь таежный гул стал сдержаннее и глуше, низовой ветер опал — они оказались в затишье среди елей. Растерянно пытаясь что-то объяснить комиссару, Пал Палыч с ярко разгоревшимися щеками топтался в глубоком снегу. В вершинах деревьев свистело и выло, оттуда слетали веселые, сверкающие снежные водовороты, слепили, плясали завивающимися столбами, оседали и вновь возникали. И Тулич, и Андрейка услышали удивительную, призывную музыку первый какой-то бодрящий, искрящийся, переливающийся мотив — в голове стало отпускать. Андрейка же, склонив от усилия голову набок, уловил праздничный перезвон слабых ласковых колокольчиков.
— Завел… А дальше? — своим особенным тихим голосом, заставлявшим бледнеть даже хорошо зпавших его людей, спросил Тулич у Пал Палыча, и этот его проникающий голос не смогла сейчас заглушить даже охваченная снежной бурей тайга, его отчетливо услышали и Пал Палыч, и женщина, и мальчик. — А дальше что?
— Не должно далеко быть, — заторопился Пал Палыч, сразу согреваясь. — Где-то совсем рядом, товарищ комиссар… Сейчас определюсь, невозможная же погода…
— Погода невозможная, согласен, — еще тише сказал Тулич.
— Рядом, совсем рядом! Это же место мы из окон у себя видим, сажен двести влево до тепла! Вот примишулился, дурная голова, совсем же рядом! — суетился Пал Палыч, стараясь смягчить гнев комиссара, направить его внимание по другому пути и порываясь вести дальше. Не успел он закончить, налетел на тайгу какой-то особый вихрь, с резким сухим треском переломилась довольно толстая ель неподалеку. Никто не видел, в каком направлении падало дерево, даже удара о землю в кромешном гуле ветра не было слышно. Иссиня-темные лапы, освободившись от снега, закачались почти рядом, всех обдал смолистый, морозный запах, но никто не испугался. Авдотья, с трудом раздвигая снег, неловко развернулась лицом к Туличу, перекрестилась обмотанной тряпьем немеющей рукой.
— Пришли, начальник, — сказала она, оттягивая пальцами заледеневший от дыхания край дерюги и освобождая рот. — Туточки они и есть — Ванюша с Мишаткой, тут эвон-он в елочках… Только без собачек не разыщешь, собачек, начальник, надо, пошли за собачками, мы подождем, погреемся…
— Ну и несознательная ты женщина! — огорчился комиссар, поддавшись минуте слабости и сильно растягивая замерзшие губы. — Одной тебе, что ли, трудно? А мне? А ему вот? — комиссар кивнул на Покина. — А самому товарищу Сталину? Ты бы хоть подумала, каково приходится сейчас ему! Бормочешь, бормочешь, а что ты понимаешь?
— Жалко мне его, — неожиданно просто и буднично закивала Авдотья, светя сумасшедшими глазами — словно весь остаток жизни пролился в них. — Люди говорят, душеньку свою обрек сатане, Сталин-то, Божьи люди говорят, знают… Мы что, мы травушкой под снег, а ему, кровопийце, гореть вечно… молиться за него надо. Ты тоже за него помолись, сам грешен, за великого злодея Божья матерь заступница молиться велит! Молись, молись, раб Божий, душеньку у самого отпустит!
И Авдотья, довольная собой, оскаливая распухшие беззубые десны, отодвинув с дороги Андрейку, шагнула к комиссару для последнего убеждения. Из-за бури он мало что разбирал в ее словах, а ей хотелось в близком завершении жизни уразумить его, извечная материнская скорбь о погибших заговорила в ней. Увидев ее, одетую в снежный вихрь, Тулич попятился назад: к нему неумолимо приближалось юное, ослепительное существо с мертвенно-бледным лицом, пухлые губы приоткрылись в немом вопросе, сквозь гасшую чистую голубизну изумленно распахнулись глаза; из-под длинных распущенных волос матово просвечивали обнаженные плечи и высокая грудь; густой прядью волос она судорожно зажимала все шире расползавшуюся ниже груди безобразную рваную рану. Сверху, с высокой ели, от сильного порыва ветра просыпалась целая лавина тусклого серебра, затем ее тонкий силуэт вновь проступил из снежного обвала, молодое прекрасное лицо было искажено судорогой боли.
— Стой! Не подходи! — Тулич попятился, привычным движением выхватывая маузер, он наткнулся спиной на острый еловый сук. Девушка продолжала приближаться, Стылая кровь расползалась уже по высокому бедру и животу с темным треугольником паха. Тулич, оскалившись, выстрелил раз, второй, третий. Выстрелов он не слышал, тонкое лицо надломилось, покачнулось и осело в снег. Тулич скрючился от острой, ударившей под ребра боли, и от этой боли прояснилось в голове. Пал Палыч исчез, с верхушек елей на землю стекали непрерывные снежные потоки. Тулича сковал какой-то необъяснимый, не поддающийся осмыслению, чудовищный безнадежный холод — он убил мать на глазах у ребенка. Собирая последние крохи жизни, он шагнул вперед, наклонился — женщина лежала в своей мягкой пуховой постели, как и положено было ей лежать — навзничь. Ее уже почти занесло, виднелся лишь заснеженный бугорок из дерюги, прикрывавшей лоб; открытые глаза тоже уже начинало запорашивать снегом. Мальчик стоял рядом с мертвой матерью и не по возрасту спокойно в ожидании глядел на комиссара. Поняв его взгляд, его ожидание, Тулич стал медленно выше и выше поднимать маузер, направляя его дулом к себе, в то же время, словно парализованный, не отрываясь от Андрейки. Мальчик что-то закричал, бросился к комиссару, упал, подхватился, подползая по снегу ближе и ближе. Тулич, опуская маузер, шагнул навстречу ему, присел, взял за плечи, приподнял, повернул, защищая от ветра, чувствуя, как в заледеневшем теле проступает слабое тепло.
— Ну что, холодно? — спросил он с тайной надеждой на ответную взаимность, хотя бы на слабый живой голос рядом. Он жадно бегал глазами по прозрачному до синевы лицу мальчика, не замечая больше ни холода, ни ветра, гул тайги отодвинулся от него и затих. Просто со всех сторон падал и падал снег. Застывшие глаза Андрейки, серые, в рыжих, ярких крапинках, по-прежнему ничего не выражали, и только побелевшие, пухловатые губы замученно вздрогнули, шевельнулись.
— Что, что? — спросил Тулич, приближая свое лицо еще ближе, почти вплотную к мальчику, чувствуя его слабое дыхание.
— Убей меня тоже, дяденька, — услышал он тихий молящий голос. — С мамой под снежком — тепло, тепло… Дяденька…
— Нет, нет, нет! — хрипло прокричал сквозь ветер Тулич, бешено встряхивая мальчика за плечи. — Ты не поймешь, я не хотел… Так получилось. Я не хотел. Мерзавец Покин, вернемся, я его к стенке….
Радость неудержимой судорогой прошла по суставам Тулича и тьмой полыхнула в глаза; в мозгу тоже стало холодно и черно.
— Убей, убей, дяденька! Дяденька, миленький… ручки поцелую…
Тулич схватил Андрейку, приподнял, расстегнул свою теплую куртку, изо всех сил прижал к себе и укрыл полами. Метель по-прежнему слепила; оглянувшись, он совсем рядом различил рыхлый снежный холм, с торчавшими из него концами темно-зеленых лап. Легко ломая слабое сопротивление мальчика, пытавшегося дотянуться до его рук губами, Тулич повернулся спиной к ели и, упорно пятясь, продавил снежную стену и оказался в тишине под деревом; метель осталась где-то наверху, и на руках у него теперь был пропуск в душевный покой, в жизнь, в свободу. Повозившись, ощупывая одной рукой все вокруг, другой же все крепче и крепче прижимая мальчика к себе, комиссар устроился в затишке — пустом пространство между стволом ели и нижними лапами, опустившимися своими концами под тяжестью снега до самой земли. Неловко ворочаясь, он сдвинул снег на земле, и из-под него вырвался кустик брусники с глянцевитыми золеными листьями и томно-красными ягодами. Глядя на него, Тулич затаил дыхание. Андрейка, согреваясь, слабел.
— Дяденька…
— Молчи, молчи, — шепотом остановил его Тулич, жадно впитывая в себя каждую кроху слабого, живительного тепла и запаха детского давно не мытого тела. Обессилевший Апдрейка, услышав отдающий свежестью хлебных колосьев тишайший шорох травы и в нем — серебряный перезвон голубых колокольчиков, с отупляющей благодарностью к неожиданному теплу облегченно закрыл глаза.
Отзвенели ноябрьские и декабрьские метели, и стали давить крещенские морозы, еще ярее прошлогодних. Промороженные деревья звонко стреляли, высокое, по ночам стеклянное звонкое небо лучилось густыми льдистыми глыбами звезд. Из воздуха сама собой выпадала сухая снежная опушь, прикрывала сияющей паутиной дневные и суетные следы людей. На неоглядных пространствах русской земли невиданный голод ушел из осени в зиму, вымаривая людей в Поволжье, на Дону, на Кубани; вымирала Украина, и обреченные рваные и вшивые толпы на дорогах расползались по ближайшим, более благополучным землям; шли, пухли, наливались зловещей синью, ложились и уже больше не поднимались; голод перекинулся на Урал и дальше. На следующую весну у волчьих пар появился многочисленный и сильный приплод и необычайно размножилось в опустошенных голодом землях воронье. Именно в ту моровую осень молодой густищинский председатель, Захар Дерюгин, по прозвищу Захар-Кобылятник, подобрал возле своего дома рядом с мертвой роженицей младенца мужского пола, и нарекли этого младенца Егором, и он, не разбирая, жадно припал к чужой материнской груди. В эту осень немало невиданного, диковинного случилось в России, принявшей в свое лоно сжигающее семя революции и теперь расплачивающейся за свою детскую веру очередным приступом апокалипсиса. Мертвых в российских и украинских селах некому было хоронить, и специальные похоронные команды из солдат сваливали их в подвалы и погреба; неисчислимые толпы голодающих и умирающих на дорогах России, бредущих куда попало, как это часто бывает с уже утратившим инстинкт жизни существом, подчиняющимся теперь только последнему инстинкту движения, дополняли партии раскулаченных и ссыльных, их еще продолжали переправлять в места определенного им отныне проживания, их везли и на подводах, гнали пешком с мешком за спиной (что унесешь на себе из своего старого скарба, то и твое), везли в товарных, битком набитых вагонах, с открывающимися только на больших стоянках дверями и зарешеченными окошками, сплавляли по рекам на плотах и баржах. С юга страны раскулаченных гнали на север, с севера на юг; с Камчатки их везли в Казахстан, а из Казахстана отправляли на Камчатку; страна, уничтожившая свою, выпестованную многими столетиями интеллигенцию, цвет нации, и не заметив этого, теперь принялась за основу основ — крестьянство, пытаясь подтвердить и закрепить придуманные в тихих, удаленных за тридевять земель от самой России светлых кабинетах законы бытия; просто перст судьбы указал именно на Россию.
В эту осень и зиму в Хибратах окончательно вымерли старики и дети; зимние лесозаготовки по прежнему не прекращались ни на один день — ни старики, ни дети обреченного вражеского класса ничего не могли дать социализму, а следовательно, они должны были уйти. К весне выдачу хлеба на выработанную норму увеличили на полтораста граммов — стране нужен был лес. К занесенному снегом жилью из тайги по ночам приходили волки, садились на землянки, принюхивались к воздуху из труб, выли; они находили и выгрызали изо льда высохшие от мороза трупы. Волчья слюна на лету замерзала и отламывалась; звери свирепо, беззвучно дрались из-за пищи, вихрем взлетал сухой снег, щелкали клыки, и свежие кровавые пятна тут же затягивало поземкой. Иногда десятники или соседи замечали, что над той или иной землянкой вот уже какой день нет дыма. Собирались, раскапывали выход, а затем так же забрасывали его до весны снегом; хоронить умерших не было сил — стране нужен был лес. К весне многие, особенно детские, трупы исчезли.
Свет в лампе с трудом пробивался из-под копоти, густо покрывшей верхнюю половину стекла и темными неровными язычками уже спускавшейся к самой решетке. Корж, обрушившись на край стола локтями, покачивая лохматой, давно не стриженной головой, уставился куда-то перед собой, мимо гостя, сквозь темную вековую стену избы; видения, неясные тени из прошлого еще не рассеялись, мельтешили перед ним в смутном пространстве прошедшей жизни. Что-то заставило Захара прислушаться; чуткая летняя ночь светлела за окнами бледными звездами, все так же, как и десять, и двадцать, и тысячу лет назад, стремилась куда-то река. И Захар усомнился: было ли что на самом деле, не досматривает ли он просто один бесконечно затянувшийся сон? Вон как отшвырнуло назад, даже в груди зашлось, а вроде и болеть нечему, раньше все до последней малости выболело. А конца, оказывается, и нет, и не будет, и сам он есть, по обидным словам того же поганца Прошки, душегубец, та же гадюка, если ей перебить хребет, она, бывает, начинает жалить себя в хвост. Хотя что Прошка, так, играет в нем молодая кровь, человек в нем еще не просыпался. Думать про него нечего, себя тоже грызть ни к чему, и судят-то пустые душой люди, у самих еще ни кола ни двора, а уже судят, хлеб тоже нужно есть, вот и мели языком, коли ничего другого не умеешь и не хочешь. Такие на его веку и не переводились — все судьи, все судят! Вот Корж с ним вровень стоит, он не языком, своей жизнью судит, в этом мы еще померяемся, кто кого, От этого у нас с ним и притяжение, уходить никуда не хочется… Вот и Федька Макашин вспомнился, жив ли, нет, стоит перед глазами, к чему бы? Опять сжало, продохнуть трудно…
Захар заставил себя выпрямиться, распрямил плечи — надо держаться, надо в свой срок и шагнуть за край, не попятиться, что было, то было, и ничего переменить нельзя.
— Вот как оно вызвездило, — вздохнул Захар, заметив оживший интерес хозяина к оставшейся в бутылке водке и наливая ему. — Хватились, а жизнь уже и тю-тю! Только ты ее и видел. Сошлись вот, сидим… а я, Афанасий, из тех самых первых… Председателем был в своих Густищах, тоже выселял…
— Тут про тебя знают, — оборвал Корж, легонько пристукивая донышком стакана по столу, и хитроватый вид хозяина показался гостю обидным и непонятным.
— Откуда могут про меня знать? — не поверил он. — У меня, Афанасий, свои соловки да рудники… Эх, растревожил ты меня до самого дна…
— Нам тут в свой срок Федор Михайлович Макашин про тебя много чего наговорил, — опять, приводя гостя в новое замешательство, почти с детской простотой и веселостью сообщил Корж, не торопясь, в предвкушении принятия новой порции горючего оправляя усы, бороду и даже брови, успевшие прийти во время его долгого рассказа в совершеннейший беспорядок. — Помнишь-то Макашина? Ну-ну, вижу, помнишь. А потом, дорогой гостенек, ты из людей, отмеченных особо, на тебе такое особое тавро изнутри выжжено, тебе оно не видно, а другим светит… Оно тебя и привело к твоим каторгам, ты свое сполна получил и за все расплатился, какой с тебя опрос? Ты лучше скажи, отыскал ты правду?
И Захар, ожидавший в эту ночь чего угодно, сумрачно глянул на хозяина.
— Куда там, мать ее в печенку, — так же прямо ответил он. — Видать, нет ее, этой стервы, на свете уж такая увертливая… Гиблое дело искать ее в таком непролазном буреломе… Афанасий, а что еще Федька-то Макашин говорил? — спросил он, стараясь оторваться подальше от нынешнего оголившегося и неприютного берега, где больше не осталось ни одной живой души, и вернуться назад, как будто это было возможно; хозяин, задумавшись, грузнее налег на стол.
— Он тут у нас недели две скрывался, — стал вспоминать Корж, — после войны народ другой пошел, никакого начальства не боялись… Так, для виду, для отвода глаз вроде голову и опустишь, а пройдет — плюнешь вслед. Ничего особого вроде не говорил… посмеивался над тобой, вот, говорит, добрался за свою большевистскую веру до собственной каторги…
— Со своей колокольни, может, по делу смеялся, — буркнул гость, и тихая, утоляющая внезапную тоску горечь всей прежней жизни разлилась у него в душе. — Правильно смеялся, — повторил он охотно, — только сам тоже не святой, генералом не стал… сколько на нем невинной крови… Должен был с немцем тогда уйти… Земля, видать, не отпустила… Какой же кровищей мы все повязаны… Проклятая эта земля…
— Что ты, что ты! — строго остановил его хозяин. — Ты хоть и безбожник, лишнего не говори, такого никому нельзя. Из земли вышли, в нее, матушку, вернемся… Нельзя! Кто ты таков, гордец? Никто! Червь навозный! Нельзя! У Федора Макашина тоже русская душа, больно, поди, ему было уходить куда-то в иноземщину! Невинная кровь и держала цепью, не отпускала… Нельзя так!
— Не буду, Афанасий, — пообещал гость, неосознанно радуясь близости утра; слишком долго тянулась эта бесконечная ночь. — Вот как оно, оказывается, бывает, — повторил он, опять возвращаясь к поразившей его мысли. — Я вроде до самого начала по своей жизни прошел, по-другому на нее глянул. Вроде до этого однобоко как-то я жил, нескладная наша русская жизнь, без краев. Куда теперь, как?
— А ты оставайся тут со мной, всего здесь много, воздух вольный, — с готовностью предложил хозяин. — Что тебе мыкаться? Домовину тебе сгондобим, вдвоем как-нибудь дотянем. Какие тебе края? У меня и колода на примете. Важная такая колода — развидняет, покажу. Ох, Захарий, загляденье колода! В самую мерку — под тебя, у меня глаз засечный! Место тут забытое, никакой начальничек не опоганит — добираться себе дороже!
— Ты, я вижу, Афанасий, наперед глядишь, наперед, — невольно засмеялся гость, и его скупая похвала была хозяину явно по душе; они еще поговорили о колоде, и Захар даже согласился пощупать ее поутру. Он представил себяи Коржа рядышком в колодах, глаза закрыты, руки на груди сложены, и эта картина ему понравилась — пустой берег на сотни верст, пустой поселок, только две колоды и живая вечная река. Захар спросил хозяина почему-то о дочерях, хотя сам же видал, что все четверо устроились себе рядком на погосте, значит, и спрашивать нечего; разве только про сынов надо было спросить, про тех двоих, что пропали в тайге.
— Дочки, трое, в ту же зиму, слава тебе Господи, отмучились, — оживившись, с готовностью ответил Корж, размашисто осеняя себя крестом. — Одну, Прасковью, лесиной зашибло, вторая, Варвара, грудь застудила, в неделю сгорела, а третья — Клавдия-то — пропала, может, зверь утащил, шатун какой, а может… На человека от голода помрачение головы находит, у нас, бывало, в поселке промышляли энтим делом… братья Губаревы, черные такие, косматые, страхолюдные. Отколь-то с юга занесло их сюда. Долго к дыму-то у них из трубы принюхивались, мясным духом тянет и тянет, а потом застукали… Может, Клавдия-то туда попала… Господи, на все воля твоя! — опять наложил на себя крест Корж. — А могилки-то я всем подряд оборудовал, вроде вместе веселей. На Ивана с Мишкой с войны похоронки пришли, вишь, от комиссара-заботничка уцелели, кому что на роду написано. Пристроились в какой-то детской колонии, выросли. Затем на войну понадобились. К тому времени мы, кому подфартило, вольную получили, а мне так к сорок шестому году высший орден за труд вышел, расплатились, значится, за все посрамление напрасное, за перевод всему фамильному корню… я ту железку поганую в нужник бросил… Потом другой раз женился, дом вот поставил, а жизни не было. Детей не привелось больше иметь. Вторая баба, она тоже из ссыльных-то, какие дети, все перетерпела в сатанинском пекле. У тебя, Захарий, не найдется по самой малюсенькой плепорции? — неуверенно, как бы оправдываясь, поинтересовался хозяин, щелкнув криво надвинутым на конец пальца черным ногтем по пустой бутылке. — Растревожилась душа, ты ее теперь ни в какую колоду не загонишь — не хочет, старая стерва, я уж ее удрючивал, удрючивал, не хочет!
У Коржа распушились усы, разлетелась борода, и было такое чувство, что он вот-вот рванет вприсядку; добывая из мешка последнюю бутылку — неприкосновенный запас па обратную дорогу, Захар одобрительно крякнул. Дед Корж от благодарности и удовольствия почмокал, а когда пропустил очередную «плепорцию», посидел в осоловелом блаженстве отдыхая, и внезапно с просветлением сильно хлопнул себя по лбу, намертво расписанному вдоль и поперек глубокими, до самой кости, прорезями морщин.
— Самое главное-то и запамятовал, — сказал он сокрушенно. — Еще одна моя дочка, Санька, в комендатуре-то работала, Господи, упокой грешную душу! Тоже померла. Правда, уже летом. В двенадцать-то лет брюхатой от коменданта, от товарища Ракова, сделалась, ее туда для блуда и переместили с тайги, они, заботнички народные, ничего мимо рта не проносили. Хуть бы год-другой подождал, мало ему других баб в зоне? А дочка-то в маму покойницу, скороспелкой оказалась, моя баба тоже с пятнадцати лет рожать начала, чуть притронешься — готово. Ну, а забрюхатела, пузо выперло — кыш ее назад к отцу. Разродиться-то не осилила, помочи тут никакой, Глаза закрывала, назвала заботничка своего, гражданина Ракова… Он меня потом улещал, первым на орден записал… ан нет, я не дурак, виду не показывал… Оно, конечно, в груди-то заместо сердца сгусток черный, одна дурная кровь… Точит, точит, червяк какой-то завелся в грудине, дурь, зашибить как-нибудь этого заботничка народного гражданина Ракова. Знаю, пропаду совсем, а точит и точит, боюсь с ним близко сойтись, сатана у меня внутрях на постой определился…
— Хватит, Афанасий, — попросил гость. — Мы с тобой, два старых пня, ломимся по-непутевому. Вон, собака забрехала…
— Видать… ватажники близко — вольные люди, — оживился Корж. — Ладно, про гражданина Ракова, заботничка дорогого, после доскажу. Ребята молодцы, надо встретить. Никакой власти не признают, нынче здесь, завтра там, сами по себе. По всему северному краю укоренились, поселков-то заброшенных тьма. Поди разыщи, они себе свою державу открыли… никаких тебе заботничков да кормильцев на горбу! Молодцы ребята!
Собака опять взлаяла. Перекинув ноги через лавку и выбравшись из-за стола, Корж заторопился открывать; скоро в сенях загудели сдержанные мужские голоса, дверь распахнулась, и дом наполнился ватажниками, совершенно особым народом, расплодившимся в последние годы по заброшенным местам в Сибири, на Севере, на Дальнем Востоке, да и в других местах. До этого часу Захар не имел о них совершенно никакого понятия и теперь с интересом рассматривал заросших лохматых молодых мужиков, одетых весьма разномастно: в куртки, брезентовые робы, бушлаты, потертые кожанки, просто пиджаки, высокие сапоги, плащи; странный это был народ, по одежде никак нельзя было отличить бабу от мужика. Столкнувшись лицом к лицу с незнакомым человеком, с нескрываемым недовольством переглянувшись, ватажники сразу замолчали, нахмурились; хозяин, торопясь все разъяснить и уладить, тотчас определил гостя за надежного человека, чуть ли не за родню, и лица ватажников стали смягчаться. Человека, работавшего в Хибратском леспромхозе сразу посде войны, а теперь приехавшего наведаться на могилу жены, ватажники восприняли весьма заинтересованно.
Свалив свою поклажу возле двери, подсели к столу. Одна из девиц, быстроглазая, коротко стриженная, с челкой (под спокойным, изучающим взглядом этой пигалицы, словно он был каким-то насекомым, лесник неуютно поежился) снисходительно-насмешливо подвела черту:
— Историческая встреча, братья, две эпохи, два тысячелетия. Неужели и нас ожидает подобная участь?
— Обязательно! Не успеешь оглянуться, дочка, — не остался в долгу лесник, невольно улыбаясь ее озабоченности.
— Врешь, дедушка, а медитация, а переселение душ? Вот в следующем превращении я буду, скажем, шмелем, а ты одуванчиком, а, что скажешь, дедушка?
— Ишь ты прыткая какая, дочка, и на том свете сладенького хочешь, все на дармовщинку? Все с цветка на цветок, а?
Слова находчивого незнакомого деда были встречены дружным смехом, смех и шутки не прекращались и во время короткого гостевания. Попив чаю и охотно нагрузившись предложенной Коржем картошкой, ватажники быстро собрались. Остановка в Хибратах была у них кратковременной передышкой по пути куда-то в более отдаленные места. Лесник попытался вновь затеять разговор, спросил, что у них за такая спешка, поговорить толком некогда. Один из ватажников, совершенно среди остальных незаметный, светлоглазый, весь до глаз заросший молодой рыжеватой бородкой, но к которому прислушивались как к вожаку, охотно ответил за всех:
— Дел наших, отец, ты не поймешь, не успеешь понять, дела наши долгие… Не на один год. Подзапустили вы земли, отец, все в разруху пришло, это ведь надо так суметь, такую державу к развалу привести. Хорошо постарались.
— А вы ее, выходит, державу, из разрухи подымете?
— Мы перестали плодить ложь, у вас ложью все проросло, вот мы ходим по земле из конца в конец, везде одни пустые слова, нигде правды нет. Все утонуло в словах, во лжи. Сначала надо уничтожить ложь и жить по правде.
— Значит, вы живете по правде?
— Стараемся, отец, — с какой-то детской ясностью сказал рыжий, глядя строго и прямо.
— А есть, пить как же? — напомнил Захар, отмечая, что к ним прислушиваются остальные, и даже Корж, вернувшийся в избу с какими-то припасами, хлопотливо подсел ближе, ничего не упустить, ни одного слова. — Сейчас лето, а зима прихватит? Мужики-то молодые, здоровые, как же не пахать, не сеять?
— Вечный крестьянский подножный реализм, рабская психология, уткнуться в грядку и перестать видеть целое, — сказал рыжий вожак, не опуская глаз. — Вы, отец, простите, из какой местности? — спросил он и, услышав ответ, заметно оживился. — А-а, как же, альма матер — Нечерноземье! Заметьте, слово-то какое выбрали, отрицающее! Самая глубинка, ну и прародина, там ведь крестьянин, кормилец, под корень выведен… Земля обезлюдела, почище Сибири, одни заколоченные дома.
— А ты что, совсем бусурман, без роду-племени, все тебе трын-трава? — вежливо поинтересовался лесник. — Свое же… чему тут радоваться?
— Эх, отец, отец, били вас, били, да так и не научили ничему, — намеренно уходя от прямого ответа, посочувствовал рыжий. Явно щадя собеседника, он успокоительно и неожиданно хорошо, по родственному тепло усмехнулся. — Ладно, ладно, отец. Не вскидывайся, перемелется. Мы вот в братство сбились и ходим, проверяем, свое это у нас или черт знает чье. Смотрим, ведем учет, куда державу распродают, куда богатство наше утекает через газопроводы, в какие заморские края. В Нерюнгри, в Тикси побывали, вдоль берега моря Лаптевых прошли, по Енисею, по Лене, по Колыме пространствовали. На Соловках пожили. У нас теперь свои карты есть, братство свое от океана до океана. У нас, отец, есть теория болевых точек в России, этаких нервных сплетений, — как магнитом к себе тянут такие места. Вижу, отец, понимаете, о чем я говорю…
— А власти-то? — спросил Захар, с интересом всматриваясь в молодого собеседника. — Так они с вами и цацкаются? Наши-то цепняки?
— Браво, отец! — весело отреагировал рыжий и даже хлопнул в ладоши, затем придвинулся к Захару ближе и, понизив голос, сообщил: — А мы никакой власти над собой не признаем. Она нам, такая хорошая, ни к чему. Опять не верите? Зря. У нас своя особая сигнализация, в один момент из конца в конец проникает, в Архангельске свистнешь — на Камчатке слышно. Нет нас больше, растворились в пространстве.
— И много вас таких? — подумав, не удержался лесник еще от одного вопроса.
— Много, никакому компьютеру не учесть, — похвастался рыжий, — и становится все больше. Так что отдыхай спокойно, отец, тебе уже незачем суетиться… Что хмуришься, с чем не согласен?
— И то, — подтвердил лесник, от всей бесконечной, сумбурной ночи чувствуя себя явно не в своей тарелке. — Черта с два, вам таким манером Россию не удержать, пока вы побродите да посвищете из конца в конец, от нее шиш останется, за милую душу последнее растащат. Таким манером даже бабу рядом не удержишь. Не обижайтесь, я уж по-стариковски напрямик. Надо часок прикорнуть, а то за столом засну. Усидел меня Афанасий, усидел, старый сыч.
Тут его провели в соседнюю комнату, и он, не раздеваясь, не осилив даже стащить сапог, с невольным стоном растянулся на широких нарах. Увидев прямо перед собой Коржа, с расчесанной бородой и ясными глазами, приглашавшего его похлебать горячей ушицы, он поморгал, приподнял тяжелую голову, тут же уронил ее обратно на жесткую подушку.
— Неужто целая ночь проскочила, Афанасий? А эти со своим рыжиком?
— Ночь… Гляди-ка, вечереет опять, целый день божий проспал. Не стали тебя будить. Рыжий-то порывался растолкать тебя, у него к тебе важное слово было, да я не дал. Давно след простыл, — сказал Корж, настойчиво приглашая гостя на свежую уху. — Куда-нибудь в глухомань подались, народ вольный, никому задумок не доверяют. Я уж и у твоего моториста побывал, бутылицу у него выпросил — у них про запас всегда есть. Пуда три рыбы напластал мужик, место ядреное попалось. Хоть бы, говорит, еще ночку старичок мой прокоротал, это он про тебя так. Ты уж, говорит, там его подзайми… Возьми вон рыбки, ушицы, сварганьте понаваристей, куда вам спешить?
Слушая с полуприкрытыми глазами, Захар потихоньку приходил в себя, но вставать ему не хотелось.
— Ладно, говорю, ты нас, старых, не замай, сам такой будешь. Ночевать вам и в другой раз в Хибратах. Куда к вечеру в такую дорогу? — веселый и нетерпеливый голос старого Коржа, давно уже снедаемого нетерпением пропустить с гостем на опохмелок «плепорцию», вновь отдалялся, но каждое его слово лесник отчетливо слышит и понимает. — А потом, говорю, он самого чудного из моей жизни не знает. На старости лет в Москву приспичило, хоть ты что хочешь… Совсем невтерпеж в позапрошлом-то году стало. Попала вожжа под хвост — и что хочешь! Перекрестился, собрался — айда! Примеру-то меня, грешного, ты надоумил.
— Ну-ну, что тебе там почудилось от вчерашнего? — поневоле вступая в непонятный разговор, покосился на него лесник, ожидая теперь уже чего угодно.
— Ты, Захарий, — со значительностью подтвердил хозяин. — Я после Москвы на бывшую родину-то завернул, навестил свое сельцо Крутоярье. Вроде ехал и думал, увижу, мол, хвачу родимого духу, окочурюсь. Вышло-то все по другому. Дорога туда пропала, пешком двадцать верст добирался. Батюшки мои! От села в триста дворов пустынь, точь-в-точь в Хибратах. Одна изба живая — сидит старуха глухой долбней, спрашиваю, а она только руками машет, слезы текут… Ну, свой старый дом увидел, уцелел еще, крыша прогнила, вывеска на нем какая-то скособочилась, буковки съедены, ничего не разберешь… Дырами зияет, ни рам, ни дверей… Не стал заходить… Что-то вроде дыхать нечем стало… сел на какой-то пенек, отсиделся да скорее назад… Жизни как и не бывало, села как и не бывало…. Бурьян под самые застрехи, к самым сараям осинник подступил, тонкий такой… Устроили народу полный перевод заступнички наши народные, кормильцы захребетные, думаю, вот грех-то тяжкий. Эх, думаю, Росея ты, Росея, дубина неотесанная, напялила на себя ярмо сатанинское, осилишь ли сковырнуть? Они, шабашники вон, шебуршатся, да куда им… Зелены, а заботнички куда как обматерели, любого тебе в бараний рог скрутят, пикнуть не успеешь.
Тут лесник крякнул, окончательно просыпаясь; хозяин сидел рядом, в приоткрытую дверь с кухни доносился дразнящий запах свежей ухи. В окно заглядывало хмурое, низкое небо.
— Не скажи, Афанасий, бывает, капля камень точит, и эти брательники зачем-то нужны, — молвил гость, скидывая ноги от своего лежбища и садясь. — В Москве-то понравилось? — спросил он несколько погодя.
— В Москве понравилось, — не сразу отозвался Корж, и взгляд у него отяжелел, ушел куда-то мимо гостя. — Там меня нечистый страшным делом пытал, невинным дитем приманивал, да Иисус Христос стал промеж, не допустил. После Москвы душу перестало жечь, — неожиданно признался он и, отходя, с тихой приветливостью вскинул глаза, словно до сих пор изумляясь случившемуся чуду. — Совсем отпустило, жить стало покойно, дышу не надышусь… Однако пошли, пошли, ушица застынет, по плепорции-то пора принять… Тоже дело… Сначала по плепорции, Захарий, дело хоть живое.
12
Бывший комендант особой Хибратской зоны в верхнем Прикамье Аркадий Самойлович Раков, благополучно и даже успешно выслужив положенный срок и получив очередной орден, вернулся в столицу.
За ним сохранилась квартира в самом центре Москвы, на Кропоткинской, просторная, правда весьма обветшавшая, дача по Рижской дороге, наследованная от умершей жены. У коменданта Ракова имелись в Москве и внуки; едва появившись на свет, они уже подготавливались родителями к поступлению во всякие малодоступные для простого смертного привилегированные учебные заведения; одним словом, у Ракова, принадлежащего к преуспевающему сословию, в эти годы всеобщего равенства и процветания все имелось по высшему разряду, ему была назначена законная, довольно высокая пенсия, дававшая возможность, разумеется, в приложении к другим, ранее уже состоявшимся факторам не только с уверенностью глядеть в будущее, но и пользоваться повышенным родственным вниманием со стороны детей и внуков. Сам Раков безвыездно жил на даче, стараясь не выходить без особой надобности за калитку; только в особенно торжественных случаях, например, на встречу с детворой из соседнего пионерского лагеря, куда его, заслуженного ветерана войны и труда, обязательно каждое лето приглашали, он надевал парадный костюм со всеми пятью своими орденами и несколько часов отсутствовал на даче. Он часто выступал и с другими ветеранами труда и старыми революционерами из расположенного неподалеку пансионата старых большевиков; не раз выступал с Анисимовым Родионом Густавовичем, заслуженным фронтовиком, тоже прихрамывающим от старой раны. Они друг другу симпатизировали, о многом вспоминая, гуляли вместе. Анисимов не единожды бывал у Ракова на даче. Стоило бы сказать несколько слов и о неповторимой, совершенно суверенной стране, именуемой и официально, и в простонародье Подмосковьем, то есть особом удивительном пространстве, сложившемся и сформировавшемся вокруг одной из самых загадочных столиц мира — Москвы. Спросите, какая загадочность, не более, чем у того же Парижа или Рима, тем более Мадрида, везде ведь свои тайны и недосказанность, но в ответ на ваше недоумение, рискуя вызвать ваше неудовольствие, придется повторить: нет, простите, все же самой загадочной! Ну хотя бы в том, что Москва всегда жила своей обособленной внутренней жизнью, по собственным законам и, скажем по величайшему секрету, никогда не подчинялась никаким правительствам, даже самым свирепым и деспотическим, не то что какой-нибудь Берлин или Лондон. Не подчиняется она им и теперь, и любые правительства это знали и знают и мирятся с таким положением, ничего другого им не остается. Это просто такой город со своим особым духовно-нравственным, именно национальным климатом, и сам Кремль являлся и является прежде всего народным осознанием собственной значимости в истории, а не местом расположения правительства. И даже Гитлер это хорошо знал и первым делом предполагал по свершении задуманного разрушить Москву до основания, затопить ее большим пресноводным морем, на котором она покоится, навсегда погрузить ненавистный ему город во тьму вечной пучины, стереть саму память о нем из книги цивилизации. Но что Москва! Хотелось бы сказать несколько слов о Подмосковье, об этом необъяснимом так же, как сам город, явлении, совершенно уникальном, не поддающемся никакой научной классификации, об этом воистину космическом пространстве, заключившем в себе не одно, а целое созвездие самых различных эпох, пространстве многослойном, вобравшем в себя великую множественность миров, взаимно исключаемых, живущих каждый по своим, законам и в то же время незримо пересекающихся и невольно взаимодействующих друг с другом. И глядя на какой-нибудь невзрачный заборишко, на торчавшую за ним позеленевшую крышу где-нибудь в омытом росой подмосковном лесу, даже самый проницательный ум не догадается, что в самом деле может скрывать этот покосившийся забор и мирно замшелая крыша: какую-нибудь густо разросшуюся воровскую «малину», давно уже и бесполезно взятую на учет органами правопорядка, штаб всемогущей мафии, ревностно охраняемой от ненужного по понятным причинам внимания и возможного беспокойства теми же органами правопорядка и проросший своими цепкими корнями в самые отдаленные регионы страны и в самые различные этажи государства. Под этой крышей может оказаться еще и десять, и сто самых невероятных соблазнительных для ищущего ума вещей: вдруг выяснится, что здесь доживает свой век, вновь и вновь анализируя в тоске свои ошибки и просчеты, какая-нибудь политическая рухлядь из отдаленной части света, скажем, из островной Азии или из равнинного африканского княжества Бафута, вынужденная добираться на благословенную землю Подмосковья, разумеется же, самыми неправдоподобными и самыми окольными путями, но такое, как правило, всегда связано со строжайшей государственной тайной и нас совершенно не касается. Тут встает вопрос наиделикатнейший, и к чему нам ломать себе мозги, угадывая, чем занимаются люди, и без того обездоленные на многие годы, а может быть, и навсегда оторванные от собственной далекой праматери родины политическими шквалами и бурями, пусть их живут и надеются. Надежда еще никому не помешала, тем более что наши дядя Ваня или тетя Маша не имеют дурной иностранной привычки интересоваться подлинной долей их труда, идущей на иноземные нужды и заботы родимого государства… Нет! Нет! Мы рискованного шага не сделаем и роковой черты переступать не станем, нам и без того хватит напряженнейшей работы — ведь самое интересное в Подмосковье, самое захватывающее и фантастическое — это его чрево, сросшееся с прошлым, настоящим и будущим внутренней жизни страны; именно в этом направлении можно было бы почерпнуть материалы не для одного десятка романов и поэм и о мертвых, и о живых, и даже не существующих еще душах, но уже настойчиво, нетерпеливо постукивающих во входную дверь. И каких поэм! Каких романов! Подмосковье — заповедная страна, рай для художника и с самым пламенным воображением, и для самого серого и унылого бытописателя. Любому изощренному и пресытившемуся воображению подмосковная действительность даст сто очков вперед и докажет, что никакой творческий взлет не может быть выше неистощимой фантазии жизни, а самому серому и скучному взгляду невольно сообщит дополнительный блеск и живость; приезжайте скорее в Подмосковье, приезжайте все, у кого горит в крови священный огонь творчества, у кого еще не угасло желание прославиться на богатейшей ниве отечественной словесности! Уверяем вас, сам Николай Васильевич остановился бы в некотором остолбенении перед фантастическим разнообразием красок и оттенков в Подмосковье, радугой раскинувшихся от нежнейшей лазури до аспида, и не сразу бы осмелился взяться за перо. Подмосковье буквально, прошу простить за невольный вульгаризм, нашпиговано тетушками и дядюшками, сыновьями и внуками, братьями и племянниками всех степеней самых удивительных и самых известных людей в государстве, и все эти родственники и родственницы не только биологически существуют, то есть доживают бренные дни, нет, они продолжают исполнять свою высокую историческую миссию. Есть, разумеется, дядюшки, внуки и правнуки, выращивающие экологически чистые овощи и ягоды и видящие в этом цель служения отечеству, но таких, к нашему счастью, не так уж и много; большинство же родственников бывших и ныне здравствующих важных лиц в государстве, обосновавшихся в нашем Подмосковье, в продолжение многих лет пребывают в воспоминаниях и в ожидании грядущего признания своих заслуг. Они ждут, и в этом заключается их не только гражданский, но исторический долг и подвиг. Вы, разумеется, можете спросить — чего они ждут? В ответ приходится только развести руками — этого не знает иикто, не знают и сами ожидающие, но все они твердо уверены, что это их святая привилегия и обязанность. В этом значимость и неистребимость Подмосковья и гарантия того, что никогда ни одно даже самое могущественное лицо ни сейчас, ни в отдаленном будущем не только не осмелится тронуть Подмосковье, но даже не посмеет подумать о таком кощунстве. Знаете ли вы, например, какие писатели расселились по Подмосковью и целыми колониями, и в одиночку? Среди них есть совершенно святые, работающие только в расчете на будущее, на то, что их творения увидят свет лет эдак через пятьдесят или сто, а один, в самом знаменитом дачном писательском подмосковном сожительстве, в поселке Перебраново, слышно, сочиняет эпопею, должную, по его расчетам, явиться людям только через тысячу с лишним лет, в трехтысячном году от Рождества Христова, когда на земле не останется ни русского, ни немца, ни англичанина, ни китайца, ни даже японца с евреем не останется, а восторжествует один единый вселенский народ и один язык. Но вы бы сделали неверный вывод из сказанного, решив, что кроме ожидания в Подмосковье ровным счетом ничего не происходит — здесь не только ожидают, но еще и хранят. Подмосковье — огромное, надежное хранилище самых невероятных ценностей — от легенд, преданий, самых фантастических слухов, от мастерски инкубированных зародышей любой окраски и направленности правительств (не забыли невзрачный забор и мшистую крышу?) — до самых известных в мире коллекций бриллиантов, старинной русской финифти, собраний икон, стоящих на любом мировом аукционе десятки миллионов, просим прощения, не легковесных отечественных рублей, а полноценных заокеанских долларов; да что там иконы, картины, мрамор, бесценные библиотеки и архивы, экспроприированные в революцию по городам и весям Российской империи и по какому-то высшему наитию осевшие в Подмосковье у племянниц, тетушек и внуков! В Подмосковье ревностно хранятся вещи совсем уж уникальные, лучшие в мире сыщики стремятся их найти; это архивы и бумаги недавно здравствующих и давно ушедших первейших лиц государства; разгадать и обнародовать вещественные следы их деяний давно жаждет несчетное множество праведников; человечество издревле выше любого золота ценило раскрытую тайну. Доподлинно известно, что в Подмосковье, в его уникальных тайниках и хранилищах надежно упрятаны списки расстрелянных и уничтоженных поименно, начиная с первых дней революции, и что классифицированы они по периодам, начиная с кристально чистого в своей вере Дзержинского и кончая Берией, его черной осатанелостью в игре против всех и каждого, не исключая и самого Хозяина, и что в свой срок все эти сведения будут обнародованы и каждому воздастся полной мерой по делам его, и в это, пожалуй, приходится верить, иначе какой смысл в самом существовании Подмосковья? Да и примеры тому есть, здесь, в утопическом воздухе Подмосковья, вроде бы ни с того ни с сего вдруг поднимается странное движение, следует затем коловращение электричества, и то или иное бесценное сокровище, ревниво хранимое многими поколениями надежных племянниц и внуков, срывается с места и, благополучно минуя все таможенные и другие кордоны, оказывается где-нибудь за семью морями, а то и за океаном, и здесь, конечно же, приходится выразить сожаление, что мы лишь слегка притронулись к этой заколдованной стране. Ведь если коснуться населения Подмосковья чуть-чуть подробнее, тут же охватит оторопь; Боже мой, какие фантастические, неповторимые типы, что там какой-нибудь Тамерлан или Чемберлен! В Подмосковье доживают свой земной век исторические фигуры, не снившиеся никаким Тамерланам и ему подобным. Конечно, сын за отца не отвечает, данным высокогуманным правилом неукоснительно руководствуется любое просвещенное ныне общество, и не стоит сосредоточивать внимание многоуважаемого читателя на весьма многочисленном и, в свою очередь, чрезвычайно стойком плодовитом потомстве бывших главенствующих в государстве лиц; никто не виноват, что все живое в мире имеет способность к размножению. Нельзя же от столь уважаемых лиц требовать жить по строгому, монастырскому уставу; это было бы просто негуманно, а главное, антигосударственно. И вокруг Нью-Йорка, и вокруг Парижа или Лондона, несомненно, имеются образования типа Подмосковья, и там тоже можно найти, что душе угодно, однако в Париже или Нью-Йорке подобные пригородные конгломераты вынуждены содержать себя сами; Подмосковье же процветает благодаря неиссякаемой щедрости государства; наши российские дяди Вани и тети Маши, рожденные с ферментом тысячелетнего рабства в крови, по словам одного гражданина мира и архитектора будущего, а в дополнение еще и русскоязычного писателя, в своей вселенской тоске прочно укоренившегося в том же рассаднике талантов, подмосковном поселке Перебраново, да, да, именно эти русские тети Маши и дяди Вани, приученные безропотно, с восторгом и благодарностью отчислять от своего труда большую половину своим высокопоставленным духовным благодетелям, оседающим после подвигов жизни среди своего многочисленного потомства именно в Подмосковье, пренебрегая красотами Крыма и других субтропических мест…
Хотя стоп, тупую русскую душу, вожделенно стонущую в объятиях тысячелетнего рабства, а также и русское колесо от тарантаса, собирающееся докатиться до самой Казани, мы еще успеем исследовать в другом, более удобном случае, а то ведь и без того уже необходимые границы начинают размываться, а нам нужна всего лишь почти незаметная отметка в несколько десятков километров от Москвы по Рижской дороге, нужен лишь бывший комендант Хибратского спецлагеря Раков, увлекшийся на заслуженном отдыхе садом и разведением редких сортов гладиолусов — у него на славу удавались розы, левкои, георгины и глаз радовало разноцветье махровых гвоздик, однако его коньком, безусловно, оставались гладиолусы. Первое время после выхода отца на пенсию дочь пыталась приспособить его к более полезной деятельности, но Аркадий Самойлович почему-то сразу же с ненавистью отверг ягоду клубнику и прочие чистые, но отравленные химией растительные продукты и первым делом привел в божеский вид запущенный старый сад, подбавил молодняку, попробовал, правда безуспешно, разводить виноград и абрикосы, обновил обветшавший дом (тогда, в начале шестидесятых, еще можно было в Подмосковье достать лесоматериалы и даже нанять рабочих); в этом ему деятельно помогали дочь с мужем, сын с супругой, ревнуя друг друга в его благорасположении. Одним словом, длилось обычное скромное человеческое бытие, и Аркадий Самойлович лишь понимающе усмехался, когда межсемейные противоречия вспыхивали слишком бурно и предвзято; старый наследственный загородный дом легко делился надвое, так же как и участок с садом, и спорить ждущим своей очереди было незачем. Наотрез отказавшись жить в Москве, в небольшой угловатой комнате, в которую его постепенно после смерти жены вытеснила разраставшаяся семья дочери (сын, более разворотливый, к тому времени уже полностью отпочковался), Аркадий Самойлович, подумав, купил породистого щенка королевского пуделя по знакомству и глухо обосновался на даче; его многочисленные дальние родственники озабоченно шептались о странностях деда, пожимали плечами, крутя пальцем вокруг виска; близкие же родственники Аркадия Самойловича предпочитали о нем не говорить, в ненужные тонкости не вникая; их поведение можно было расценить и так: у старика тяжелая подвижническая жизнь за спиной, «продукт эпохи», что ж, приходится миритьея…
И все они оставались далеки от истины, хотя бы приблизительной; никакие потрясения, никакие угрызения прошлого не замутнили сна его души и даже после заструившихся в жизни общества внешних перемен, густо замелькавших слов о демократии, законности, культе личности; Аркадий Самойлович остался верен себе, он слишком много слышал о своей жизни всяческих слов, и хороших, и плохих, и знал им цену; если уж сам Сталин вроде бы опрокинулся и рассыпался под напором времени, думал он, то об этих горлохватах и говорить нечего. Это так, мелкая обманка, а глыба вроде Сталина еще дожидается своего, еще даже краем из глубины не выперла; пусть их, всякие шавки тешатся…
Аркадий Самойлович раздобыл старинную книжку по цветоводству, крепко подружился с пуделем Рэмом, ставшим через год красавцем псом, с черной кудрявой блестящей шерстью, шелковистыми длинными ушами и превосходным чутьем и, главное, беззаветно преданным хозяину. Но временами на Аркадия Самойловича накатывали острейшие приступы тоски, и это могло случиться и весной, и зимой, и летом; тогда он забрасывал свои занятия, открывал тайник, весьма искусно врезанный в основании камина, доставал из него какие-то бумаги и, наглухо запершись, в полном одиночестве перелистывал, перечитывал, что-то наново вписывая в толстую сиреневую тетрадь, тщательно и бережно засовывал все папки своего архива вместе с сиреневой тетрадью назад, в тайник, и затем несколько дней подряд ходил сам не свой, забывая даже сварить Рэму овсянки. В один из таких душевных срывов, совсем уже незадолго перед тем, как объявиться в Москве, выплыв из необъятной тьмы прошлого, одному из его бывших подопечных по Хибратскому спецпоселению, которому, кстати, без этой единственной в жизни поездки в столицу никак нельзя было обойтись, Аркадий Самойлович тайно крестился в ближайшей православной церкви и получил церковное имя Александр. Несколько дней после этого события он провел в душевном согласии с самим собой, он был тише, молчаливее обычного, и умный, уже тоже состарившийся, поседевший пес внимательно прислушивался и присматривался к переменам в хозяине и тревожился. И погода в эту последнюю неделю лета стояла словно хрустальная, солнце, мягкое, густое с утра до вечера, в синеве неба — высокие редкие облака. В саду падали яблоки — в тишине, особенно перед вечером, раздавался сочный звук удара созревшего плода о землю, и пес поворачивал голову и слушал или даже лениво шел посмотреть. Аркадий Самойлович оставался на месте; у него в саду были устроены удобные сиденья со спинками из старых, вышедших из употребления стульев, и он, переходя с места на место, мог в свое удовольствие и поработать и отдохнуть, в жаркую пору он мог укрыться от солнца под разлапистым маньчжурским орехом, который, кстати сказать, сам посадил и вырастил; а в прохладный, сквозящий денек мог погреться на солнышке. По правде сказать, Аркадий Самойлович больше всего любил теперь одиночество: всю неделю после совершенного и долго подготавливаемого в душе таинства он по капле, стараясь не расплескать, наслаждался покоем, тишиной, какой-то хрупкой, словно последней гармонией в природе. Удивлялся хозяину не только пес, замечал перемены в себе и Аркадий Самойлович, он точно смотрел на мир какими-то совершенно иными глазами. «Опять столько яблок уродило, куда их столько девать? — думал он в приятной полудреме. — Дети совсем развращены, приехать собрать яблоки для себя же не допросишься… Родственников звать — себе же накладно, корми их, оставляй ночевать, выслушивай их жалобы…»
Седая, густая бровь у него переломилась углом, полезла вверх; эк он не по-христиански, зачем было идти в церковь креститься? А душевно все вышло, и никто не удивился, как так и надо: ни крестные отец с матерью из соседнего пансионата старых большевиков, тот же Родион Густавович, милейший человек, все без шума и незаметно устроил; ни сам священник, чернобородый, с молодыми блестящими глазами, какой-нибудь, гляди, капитан из госбезопасности… Хотя кому какое дело? Это его личное желание, личная необходимость, в конце концов, старческий каприз. Стало ведь намного спокойнее, светлее, словно впереди его ждет некая пристань. И все-таки какая-то защелка соскочила, отказала, сколько он ни уверяй себя; вот уже вторую ночь засыпаешь под утро, когда в окнах уже совсем светло; правда, он по-прежнему не разрешает себе ни о чем вспоминать; ои давно заставил себя увериться в том, что прошлого нет, не было, что это нечто ненужное, лишнее для его нормального самочувствия и осознания себя в мире.
В пятницу, как всегда, позвонила дочь и обиженным голосом попросила разрешения привести на субботу и воскресенье дочку Клару, семилетнюю внучку Аркадия Самойловича, и, вечером увидев девочку, он оживился и обрадовался. Он не слышал объяснений торопившейся назад дочери, не стал вдумываться в ее слова о чьих-то настойчивых телефонных звонках.
— Кто меня может разыскивать? — отмахнулся он равнодушно. — Нет в Москве и не будет, вот и весь разговор.
Проводив дочь, он стал угощать внучку яблоками, затем они гуляли по саду. Аркадий Самойлович рассказывал девочке, худенькой, вялой от городской жизни, о доцветавших розах, о давно заснувших нарциссах, показывал осенние цветы во всем густом великолепии их красок; отпаивал ее деревенским молоком с густыми сливками, разумеется не разрешая себе думать о том, что вот это слабое, маленькое существо, замордованное хорошим воспитанием, охраняет его надежнее всего прочего от него самого. Два дня на даче прошли оживленно и весело.
— — Ну вот, Клара, мама тебя завтра утром заберет, а я заскучаю, — неожиданно загрустил Аркадий Самойлович. — Теперь тебе в школу надо…
Внучка уже сонно улыбнулась ему и стала говорить, что она скоро опять приедет, потому что скоро будет опять выходной день; растроганный детской чистотой, Аркадий Самойлович согласно кивал и тоже верил ее словам; сентябрь обещал быть погожим и даже теплым. Стараясь не шуметь, он вышел из комнаты; ну вот, думал он, кажется, все хорошо и завершается, только по-прежнему — никаких старых знакомств и друзей. С широкой веранды, налитой таинственным сумраком подступавшей ночи, он кинул взгляд на чистую бетонную дорожку, ведущую к калитке, на островки цветущих по краям дорожки астр, промежавшихся пятнами редких кремовых и перламутровых хризантем и гортензий. В душе у Аркадия Самойловича окончательно установился мир и покой, и он, благодушно щурясь, устроив поудобнее нывшую в суставах контуженную ногу, подставляя лицо солнцу, так всю жизнь ему не хватавшего, плыл куда-то в старческой дреме; ему пригрезилось что-то из прошлого, какой-то бурелом на дикой реке, люди-муравьи, изо всех сил тянувшие бревна. Он хотел проснуться, не мог, воздуха стало не хватать: он удушливой серой ватой лез в ноздри, выталкивая его, Аркадий Самойлович задыхался. Какой-то странный, тоскливый, с перепадами звук окончательно все перекрыл; люди брызнули от реки широкой россыпью, по-прежнему волоча на себе каждый по огромному бревну.
Открыв глаза, Аркадий Самойлович долго приходил в себя; сердце слабо, из последних сил беспорядочно колотилось о ребра; перед ним, не сводя преданных глаз с хозяина, сидел Рэм, тоже какой-то необычный, взъерошенный; Аркадий Самойлович растрогался волнению этого, по сути дела, единственного близкого существа, почесал его за ушами, бормоча что-то невнятное, ласковое, понятное только им обоим, Аркадий Самойлович попросил пса зря не волноваться, все теперь позади, а дальше им предстоит одно хорошее.
И пока они разговаривали, в саду, иногда сразу по нескольку штук, усиленно падали созревшие яблоки, предвещая раннее похолодание, и Аркадий Самойлович опять-таки с какой-то тихой грустью прислушался к изобилию и богатству жизни.
Как-то быстро стало темнеть, в дальних углах появился туман, за забором на улице зажглись редкие фонари. Со стороны леса, подступавшего с запада вплотную к дачам, донесся неясный шум; кажется, кончалась теплая, спокойная погода. Тщательно проверив запоры и ставни, Аркадий Самойлович потрепал пса по загривку; ласковый и гордый пес внимательно выслушал непривычно долгие рассуждения хозяина и, почувствовав в его голосе какую-то несвойственную расслабленность, ткнулся круглой головой в руки Аркадия Самойловича и кончиком теплого языка лизнул ему ладонь.
— Иди, иди, Рэм, — заторопился растроганный Аркадий Самойлович. — Ты уж совсем человеком становишься… Иди на место. Спокойной ночи…
Заглянув в комнату внучки и оставив дверь в нее полуоткрытой, чтобы услышать, если она проснется и позовет, сильнее, чем обычно, прихрамывая, он поставил на тумбочку стакан воды, приготовил снотворное, выбрал на веранде несколько яблок, тщательно протер их влажной салфеткой, оставил одно для себя, остальные отнес внучке, затем разделся, аккуратно сложил одежду на стуле, накинул на плечи халат, сходил в душ. Радуясь своему раз навсегда отлаженному, безотказному хозяйству, он еще раз проверил запоры в дверях и окнах, но в мезонин от усталости не стал подниматься; постель удобно и привычно приняла его тело. На сон грядущий он читал теперь Библию и уже дошел до Апокалипсиса. Потянувшись было за книгой, он передумал; надо бы записать в свою тайную тетрадь кое-какие мысли, но вставать тоже не хотелось: было приятно лежать в тепле, в собственном надежном доме, вот и северный ветер поднялся, лес заговорил — теперь ясно, почему такое самочувствие. И эта девочка рядом, ведь тоже вырастет, и начнутся свои сложности и страсти. И это тоже пройдет. Все пройдет.
Аркадий Самойлович приподнялся, проглотил таблетку, запив ее глотком воды, повернулся на бок, подложил ладони под щеку, повздыхал и закрыл глаза; казалось, он даже и не засыпал, по-прежнему падали яблоки, ветер стал сильнее, правда, лес, защищая сад, несколько сдерживал его порывы. Наутро земля в саду густо покроется яблоками и грушами, снова придется уговаривать сына с дочерью приехать на машинах и забрать пропадающее добро. Он сам не знал, почему проснулся и открыл глаза — у изголовья на тумбочке горел свет и рядом у кровати на стуле возвышался чей-то силуэт. Аркадий Самойлович хотел приподняться и не смог, только дернулся вместе с кроватью. Он скосил глаза; он был в нескольких местах привязан к кровати тонкой капроновой веревкой. Теперь Аркадий Самойлович понял, что ему все это видится во сне, закрыл глаза, раздумывая о неприятных снах, почему-то всегда предвещавших смену погоды. «Что, гражданин начальник, — удовлетворенно сказал неизвестный, приводя связанного в содрогание и приподняв нависшие брови. — Не узнаешь, поди, дорогой наш заботничек, гражданин комендант?»
«Не узнаю, — сознался Аркадий Самойлович, всматриваясь в плохо бритое широкое лицо с приплюснутым носом посередине, с темневшими ноздрями и с косматыми седыми, от старости, беспорядочно вкривь и вкось растущими бровями. — Как же Рэм, — подумал Аркадий Самойлович а шевельнул губами. — Не может быть… Рэм… Рэм…»
«Смотри, не вздумай орать, — сказал неизвестный, показывая два ряда сплошных металлических зубов. — Никогошеньки, хоть благим матом вой… Гляжу, по-хозяйски устроился, неделю выслеживал, спасибо, добрые люди помогли. Неужто и Хибратского спецлагеря не помнишь?»
Аркадий Самойлович рванулся всем телом, кровать дернулась, и он часто задышал, в надежде избавиться от обессиливающего ночного кошмара.
«А-а, узнал, значит, — с какой-то тихой тупой радостью в голосе подтвердил потусторонний гость. — Да, вот так-то, гражданин комендант, жив, жив пока… правда, немного в живых-то нас осталось, а на тебя достанет… Куда тебе больше? Больше тебе не надо…»
Аркадий Самойлович открыл глаза и решил бороться; даже во сне нельзя было опускать руки, откуда взялись и силы, и слова, и ясность головы; и он стал убеждать и, пожалуй, больше самого себя, что он был лишь подневольный исполнитель, судьба выбрала именно его, могло ведь иначе повернуть, они вполне могли поменяться местами. Он ведь тоже чистым родился, но вот так повернула жизнь, поставила одного против другого, и никакого выхода, он час своего рождения проклял, Аркадий Самойлович поведал и о своем недавнем крещении в церкви; он говорил еще и еще, стараясь найти и успеть сказать самое главное, только главного не находилось, и он слышал даже сквозь закрытые ставни, как от сильного ветра падали в саду яблоки. Гость, молча слушавший, шевельнулся:
«А дочку мою, Александру-то, помнишь?»
«Здесь я не виноват, сама согласилась, — поспешно сказал Аркадий Самойлович. — Ты тоже молодым был, такое дело…»
«На двенадцатом-то году согласилась? На сколько старше твоей внученьки-то была? Года на три? — сказал гость, качая головой — и за ним на стене и на занавеске шевельнулась уродливая большая тень. — Нет, заботничек, тут ты ничем не отговоришься. По-другому не выходит, бесприютный я по другому… Не волен… ну, Господи Иисусе…»
«Подожди, Коржев! Подожди! — рванулся ему навстречу Аркадий Самойлович, но просить и кричать он уже больше не мог, и лишь какие-то обрывки слов неслись и горели у него в мозгу. — Бред какой-то… Тебя давно нет, как же ты можешь? У меня под камином тайник, деньги, золото… тетрадь, такое записано, твоим правнукам хватит… Третью плитку в первом ряду от стены… слева, слева ковырни… забирай… Главное — тетрадь… Знающие люди ничего не пожалеют… От Дзержинского до Берии всех лично знал… Только обнародуй… Деньги поглубже… Золото… Я крещеный теперь, тьфу, сгинь, сгинь!»
Что-то коротко щелкнуло, в грудь Аркадию Самойловичу вошло тонкое, жалящее острие, он тоненько всхрапнул, тело напряженно дернулось и обмякло, тягостный сон оборвался.
На другой день рано утром соседка Ракова по даче, выйдя собрать нападавшие за ночь яблоки, услышала детский плач. Напрасно окликнув несколько раз всегда очень рано встававшего Аркадия Самойловича, она пригнула сетку, перебралась через нее и скоро уже пыталась успокоить девочку, сжавшуюся у калитки в комочек, дрожащую в одной ночной сорочке от страха и утреннего резкого воздуха.
Девочка твердила про старого дяденьку с железными зубами, вроде привидевшегося ей во сне, и тоненько всхлипывала. Женщина подхватила девочку на руки, унесла к себе, кое-как успокоила, напоила горячим чаем с медом и, уже предчувствуя беду, и не в силах решиться самой сходить и все выяснить, позвонила в Москву дочери соседа, попросила ее срочно приехать вместе с мужем.
13
На небольшом районном аэродроме лесник неловко обнял сына, сильнее чувствуя изношенность своего сухого легкого тола рядом с усадистой, еще полной жизни плотью Ильи, ткнулся холодным носом куда-то ему в щеку. Сноха стояла рядом в вязаной пуховой шапочке, в дорогом заграничном плаще, скрывавшем полноту, дул резкий ветер, и полы плаща заворачивались. Редкие сосны над небольшими зданием аэровокзала гнулись в одну сторону, и все боялись, что рейс задержится, но вышла стройная девушка в форме и звонко объявила посадку. Захар не стал обнимать сноху, попрощался с ней за руку и заторопился к самолету; устраиваясь на неудобном продольном сиденье, он глянул в круглое оконце и опять увидел сноху и сына; Раиса что-то говорила мужу, а тот молча слушал и напряженно глядел в сторону самолета. Лесник прижался лицом к толстому стеклу; ему почему-то захотелось, чтобы сын заметил его; с неожиданной ясностью он понял, что видел Илью в последний раз.
Тут корпус изношенного самолета затрясся, заскрипел, застучал, и лица провожающих заскользили в сторону, назад и пропали.
Захар добрался до нужного места, до поселка Верхний на реке Зее лишь на четвертый день к вечеру, отыскал нужную улицу; дом Василия, поставленный высоко и открыто в сторону реки, еще издали ему понравился. За невысоким штакетником перед домом на грядке бурели помидоры, уже начинала подсыхать снизу картошка; ее было немного, с полсотни кустов — она почему-то особенно порадовала и даже придала уверенности. Он толкнул калитку и пошел к домику по засыпанной речной галькой узкой дорожке; тотчас на крыльце появился мальчуган лет двенадцати, белобрысый, весь выгоревший, вслед за ним вышла и девчушка года на два постарше с двумя пышными перевитыми косами, босоногая, в легком ситцевом платьице; лесник не верил ни в Бога, ни в черта, но сейчас ему захотелось перекреститься и сказать про себя нечто вроде: «Чур тебе, чур тебе». Он увидел на крыльце Маню Поливанову, увидел такой, какой знал ее в свои двадцать с лишним лет, и хотя прежние душные страсти давно и безвозвратно в нем улеглись, ему стало не по себе. Солнце, садясь за островерхую, укутанную густой зеленой шубой сопку, жарко било в него сбоку, — не отрывая взгляда от девочки, опустив отяжелевший чемоданчик на дорожку, он ладонью вытер вспотевший лоб. Из дома послышался мужской голос, о чем-то спросивший, затем в дверях появился сам Василий и недоумепно уставился на неожиданного гостя. Захар сразу узнал его по детской привычке держать голову несколько косо вправо в минуты испуга или какой-нибудь неожиданности; отодвинув детей, Василий, невысокий, жилистый, начинавший в висках седеть, спустился с крыльца и, с любопытством глядя на Захара, весело поздоровался:
— Здравствуй, папаша. Кого-нибудь ищешь?
— Тебя, Василий, разыскиваю, — каким-то не своим, пропадающим голосом отозвался неожиданный гость. — Ох, черт возьми… вон она и жизнь. Ну, что ты рот-то раскрыл. Не узнаешь?
— Погоди, погоди, — меняясь в лице, Василий отступил назад, еще больше наклоняя голову впразо. — Никак батя… Батя! — крикнул он растерянно осевшим голосом и с нестерпимо заснявшими глазами, рванувшись вперед, облапил Захара, притискивая его к себе. — Батя, ей-Богу, батя! Да это же ты, батя! Ну, какой же ты молодец! Ей-Богу, ты.
— Ну вот, Василий, здорово, ну-ну, будет! — резковато говорил лесник, пряча глаза. — Ну ладно, ладно, давай по-русски, с повиданьицем…
Они снова крепко обнялись и трижды поцеловались; глаза у Василия светлые, словно промытые, сияли, и Захар, наконец, тоже не выдержал, отстранил от себя сына, глухо и надсадно крякнул, прочищая залипшее от волнения горло, махнул рукой, отвернулся.
— Верка! Серега! — закричал рядом, заставив его вздрогнуть, Василий. — Идите сюда, батя приехал, дед ваш приехал! Ну, скорее, скорее!
Захар оглянулся, поздоровался вначале с Серегой, чмокнул его в выгоревшую бровь, а Веру, помедлив, боязливо поцеловал в голову, в ровный пробор и, махнув рукой, словно что дорогое и неизбывное отталкивая от себя, пошел к крыльцу. Подхватив его чемоданчик, Василий двинулся следом, а Вера с Серегой, никогда не видавшие отца в таком волнении, озадаченно переглянулись; приехавший дед показался им чересчур уж старым, они много слышали о нем; переждав, они тоже прошли в дом и увидели брошенный посреди комнаты потертый чемоданчик, отца с дедом, сидевших за столом и что-то возбужденно говоривших друг другу.
— Да это же ты, батя! — восклицал Василий, пришлепывая по столешнице крепкой, словно дубовой, ладонью. — Да нет, я гляжу, а это ты стоишь на дорожке!
— Сколько я тебя не видел, Василий. Поди, лет двадцать не видел? — отвечал уже своим обычным ровным тоном Захар, и глаза у него посмеивались.
— Чуток меньше, в армию я ушел, с того времени не виделись, батя! Надо же!
— А ты, Василий, задубел, раздался в кости, а глаза — материнские… Она у тебя безоглядная была, все, бывало, в глазах будто солнце стоит. Материны у тебя глаза, Василий! Я у нее неделю назад на могилке побыл… Заросло все, вырубил подрост-то, посидел, все вспомнил… Ты хоть помнишь-то мать? — спросил Захар, заметив промелькнувшую в лице Василия легкую тень.
— Смутно, батя, — виновато помедлив, отвечал Василий, уже не пристукивая ладонью по столу, а осторожно опуская руки к себе на колени. — Вот только по фотографии, — добавил он, указывая головой на стену; тут его словно что подхватило с места, он вскочил.
— Верка! — приказал он быстро. — А ну, давай в магазин, лети, скажи Авдотье Павловне, попроси отпустить, как на самый большой праздник. Скажи, за отцом не залежится. Деньги ты знаешь где, давай бери и топай… Пока мать с работы пришлепает, мы тут развернемся… Ну, а ты, Серега, одним духом к дядьке Герасиму за рыбой, я со смены проходил, видел — с рыбалки… Пусть вечером к нам в гости со своей половиной… Так, батя, располагайся, отдохни чуток с дороги, а Серегу мы отсюда к Верке переселим.
— Не суетись, Василий…
— Ладно, ладно, батя! Кто тут хозяин?
Впервые за время поездки по своим родичам к старому леснику пришло чувство крепости и оседлости, словно он, наконец, вернулся домой; не желая мешать хозяевам в их хлопотах, он прошел в указанную комнату с небольшим письменным ученическим столом, с аккуратно застланной кроватью, с самодельным, украшенным шкафчиком для одежды, красивой резьбой, с двумя стульями; из окна была хорошо видна непривычно широкая, мрачноватая река, ее низкий, неясный противоположный берег, поросший густым, неровным кустарником, переходившим затем до самого горизонта в волнистые, покрытые густой тайгой сопки. Непрерывно катившая мимо свинцовые волны река завораживала. Пожалуй, больше всего он ждал и в то же время боялся встречи именно с Василием, хотя и не понимал причины своего страха, и теперь сердце отпустило. По каким-то своим признакам, он сразу понял, что попал, слава Богу, наконец-то, в хорошую, дружную семью, все здесь просто и добротно, живут открыто, без всяких хитростей и недомолвок, больно задевших его совсем недавно у Ильи.
Здесь, на Зее, стояла августовская жара и безветрие; пропыленные листья молоденькой березки недалеко от окна казались совершенно высушенными и даже ненастоящими, проволочными; время от времени они металлически звучно шелестели. Отвлекая лесника от начавшей темнеть к вечеру реки, не перестающего изумляться такому громадному количеству стремительной воды, в комнату ворвался Василий; натянув на себя спортивный костюм, он совсем помолодел.
— Батя, Серега к вечеру баньку истопит, давай, батя, раскладывайся… Помочь тебе?
— А что мне раскладываться? — спросил Захар. — Я к самолетам-то непривычный, растрясло старые кости…
— Приляг пока, батя, отдохни…
— Ладно, Василий, спасибо… Что, Василий, только двоих осилили? Ты что, не знаешь, что один сын — не сын, два сына — полсына?
— По нынешним — временам, батя, с двумя — самый раз, только и управишься. Хотел я второго сына… ну, все-таки, два брата, да куда там! Равноправие, баба на дыбки, этих, говорит, надо до дела довести, надо, говорит, брать не количеством, а качеством. Да нет, батя, ты не думай, ребята у нас хорошие, — опять широко и открыто улыбнулся он Захару, поймав его взгляд, — и баба у меня что надо. Бригадой маляров командует, вот-вот дома будет, сам увидишь… Аней звать, — добавил он, по прежнему не отрывая глаз от отца и тем несколько даже смущая его. — Я тебе, батя, писал, как мы поженились…
— Писал! — проворчал Захар. — Когда писал? Уж и не помню, когда от тебя письмо получал… Еще в леспромхозе ты был, на старом-то месте. Даже адреса нового не сообщил…
— Знаешь, батя, писать не мастак, — с легким напряжением в голосе ответил Василий и виновато развел руками. — Анна с детьми тебя вовсе не видела, а тут работа, работа, в отпуске рыбалкой побалуешься, по дому дел невпроворот, глядишь, неделя — другая, опять выходить. Знаешь, — неожиданно метнулся он в сторону, — там Серега три кетины приволок — у нас один промышляет потихоньку… Одна — икрянка… Они такие к нам редко доходят, в низовьях перехватывают… Займусь рыбкой, а ты, батя, отдохни.
— Посмотрю пойду, что за рыба такая, — заинтересовался лесник, понимая, что Василий сейчас намеренно уводят его в сторону от чего-то больного и нежелательпого для себя. — Слышать-то слышал, а видать не доводилось…
Они прошли на кухоньку во дворе; на столе в углу, обитом белой жестью, лежали три большие сизые рыбины с горбато изогнутыми челюстями, мертво отсвечивая застывшими, в поблекших радужных ободках глазами: одна из них была потолще и подлиннее остальных, с раздутым, отвисшим брюхом. Нацелившись именно на нее, Захар поддел рыбину за жабры, поднял, прикинул на глаз.
— Полпуда потянет, — определил Василий, принимаясь за дело. — Нажарим, икры сделаем, уху сейчас заправлю… Эх, батя, приехал, какой же ты молодец! — вновь не удержался он от избытка своих чувств, шлепнул перед собой на разделочную доску одну из рыбин, стал ловко сдирать чешую. — Поговорим хоть, посмотришь на нашу жизнь… семья у меня дружная, ребята все умеют, еда, посуда за ними. Серега такие пельмени завернет, пальцы откусишь, по особому рецепту, по-сибирски… пирог тебе с ягодой любой испечет… Технику малый любит, хлебом не корми, — продолжал Василий со скрытой гордостью за сына. — Любой винтик не пропустит, подымет, ты у него в комнате заглянь в тумбочку, одни железяки, битком набита. А как-то поднимаюсь на свое место, на кран, и ахнул: как он туда смог проникнуть? Забился в уголок в кабине, я, говорит, батя (он меня тоже батей зовет), я, говорят, батя, посмотреть хочу. Ну что ты ему скажешь? Ты присядь, — кивнул Василий на табуретку. — Как там в Густищах-то? Егор со своими управляется?
— Село-то перестроили, считай, — сказал Захар со своей сумрачной усмешкой, — приехал бы, не узнал. Газ подвели, через хату по два этажика нагромоздили, а у соседа, может, помнишь, Егор Петровича, маленький такой, сторожем на ферме работал, весь век в телогрейке да резиновых сапогах… так этот даже, как ее… мансарду прилепил и вдобавок две машины купил… по «Жигулям» зятю и сыну. Сам в селе, а потомство на заводе, вот так жить стали… В праздники да выходные понаедут из города, а так — пусто. Ломали-ломали в разные стороны мужика, он и приспособился… попер из него чертополох диким цветом, на все четыре ветра сразу гнется, а что толку с такого-то человека? Остались на корню догнивать старики да старухи… Главного нашего, как чудо-юдо заморское, цацками с головы до ног обвешали, какой уж резон… До них ли!
Слушая, Василий умело и ловко распластал рыбину, отделил голову, рассек на куски, не мешкая, принялся за вторую, довольный молчаливым одобрением старика, внимательно следившего за его работой.
— Петровича-то я помню, — сказал Василий. — Как же? Он меня курить научил. Ты, говорит, никого не слушай, табак грудь очищает, — засмеявшись, он, вспоминая, покрутил головой. — А ты, батя, так и не переменился, — улыбнулся он своим мыслям. — Такой же, как был!
— Чего мне меняться? — Захар был недоволен собой за прорвавшуюся горячность. — Мне меняться не к чему, я теперь на мир издаля гляжу, как в опрокинутый бинокль. Одно жалко, дело доброе загубили, доброе у нас могло быть дело, правильное, видать, дуракам досталось. Народ портится, тухлятиной от него начинает отдавать… Ты вот, Василий, хмуришься, а сказать, поди, нечего…
— Почему нечего? — ответил Василий с готовностью, и в глазах его появилась тяжесть. — Я тебя как-нибудь с утречка с собой на стройку возьму, в кабину тебя поднимем на верхотуру, поглядишь. Русская сила, она и сюда перелилась, если уж и тут доведут народ, думаю, потерпит, потерпит и шевельнет… Тогда уж кирпичей не соберешь… Думаешь, батя, тут слепые? Тоже все видим. Пусть висюльками обвешиваются, что им осталось? Старичье, выпить нельзя, закусить тоже, с бабой… гм, гм, прости… вот и играются в цацки, как малые дети. А народ на них горбит. Подожди, надоест!
— Про ваши плотины разное толкуют, — подумал Захар вслух, правда, не совсем уверенно. — Река, она тоже живая, перехвати вот тебе горло, как дышать будешь?
— Ну, ты скажешь, батя! — засмеялся Василий и задумался, примолк.
Захару нравился Василий, его спокойная рассудительность; он видел сейчас совершенно нового для себя, незнакомого сильного человека; старый лесник, давно понявший истину, что щедрость за чужой счет еще никогда добром не оборачивалась, и тем более за счет природы, хотел продолжить и не успел. В дверях показалась сама хозяйка, в спецовке, повязанная косынкой, в одно мгновение обежала все вокруг глазами, остановилась на Захаре, улыбнулась ему.
— У нас гости, батя приехал, — оживленно сказал Василий. — Иди знакомься… В самый раз угадала, рыбу пора жарить, рапу сделать… Икрянка попалась. Я тут гостей позвал… Верку в магазин отправил, а Серега баню кочегарит… Нет, ты подумай, Ань, гляжу из окна, а он на дорожке стоит!
— Ладно, погоди, — остановила его жена и засмеялась. — Дай познакомиться, а то как не глянусь? Ты ж тогда, верно, развода потребуешь?
Она подошла, не опуская теплых глаз, к свекру, подала руку, сказала:
— Здравствуй, папаша… Вот видите, куда он нас на край света затащил…
Захар пожал небольшую крепкую и твердую от работы ладонь; они еще сказали друг другу несколько ничего не значащих необязательных слов о трудной дороге в такую даль, об узнавании друг друга по фотографиям, одним словом, о том, о чем обычно говорится при встрече доселе совершенно незнакомых людей, но между ними сразу возникла теплота. Аня, невысокая, с тонкой девичьей фигурой, несмотря на больших уже детей, тотчас убежала переодеться и, как показалось леснику, появилась вновь в ту же секунду, в нарядном кримпленовом, видно ненадеванном платье, с прозрачной косынкой на шее, красиво и ловко причесанная и даже с подкрашенными губами. Василий подмигнул отцу.
— Ты ей понравился, батя! Ты смотри, хоть на танцы…
— Почему же родной свекор должен мне не нравиться? — спросила Аня, отбирая у мужа нож, фартук и тотчас занимая на кухне главенствующее положение; Василий принялся растапливать плиту, переговариваясь с женой, и Захар понял, что перед ним редкий случай, когда жена и муж как бы сливаются в одно; они понимали друг друга с улыбки, со взгляда и, даже обсуждая, кого еще нужно позвать сегодня вечером, обходились почти без слов, между ними непрестанно шло свое молчаливое общение, свой неслышный разговор.
Вернулась из магазина раскрасневшаяся Вера с двумя тяжелыми сумками, опять заставив Захара молчаливо изумляться от своей немыслимой похожести на мать Василия; Вера тоже включилась в общие хлопоты, и леснику стало неловко; свалился людям на голову, беспокойство и толчея из-за него после работы, семья всполошилась, соседей потревожили, расходы…
Попытавшись было придержать хозяев в их хлопотах и приготовлениях, он сказал об этом именно Ане, безошибочно угадав в ней заводилу, вдохновительницу и бродильное начало всего в семье. Его тут жо ласково, с улыбками остановили, опровергли, убедили в обратном, высказали некоторую обиду и недоумение; что же это мы, нелюди, мол, у нас такой гость, и нам порадоваться хочется… Лесник махнул рукой и сдался — давно известно, со своим уставом в чужой монастырь соваться было нечего. Он предложил хотя бы свою помощь, но и в этом ему мягко отказали. Он сходил в баню, побрился с дороги, поговорил с белобрысым Серегой о рыбалке, а вечером, несколько уставший от долгой дороги и обилия впечатлений, сидел во главе большого стола и опять слушал, как Василий в десятый или двадцатый раз рассказывал собравшимся соседям (Захар скоро понял, что они все и работали в одной смене) о том, как стал переодеваться, случайно выглянул в окошко и увидел на дорожке неожиданного и дорогого гостя; подстраиваясь под общее настроение, Захар, не привыкший к такому чрезмерному вниманию, опасался стать подгулявшим мужикам потехой на весь вечер, но опасения его не оправдались. За столом чутко, как это часто бывает у простых людей, подметили явную перехмуренность гостя, когда кто-нибудь начинал о нем говорить, и все дальнейшее вроде бы покатилось само собой помимо него. Рядом с лесником пристроился Серега, сразу же негласно взявший над дедом шефство. Он подкладывал гостю жареной рыбы, выбирая лучшие, на свой взгляд, куски, вполголоса отвечая на расспросы, о том или ином из гостей, причем Захар по выражению лица внука и интонации тотчас проникался соответственным отношением к называемому человеку. Серега все больше ему нравился своей серьезностью; это был уже человек, чем-то по характеру он напоминал Дениса, и Захар подумал о том, что хорошо будет, когда этот белоголовый крепыш подрастет, свести их вместе.
После поспевшей в пять минут, вынутой из рыбины крупной, налитой розоватыми пузырьками, икры, поставленной в глубокой эмалированной миске прямо перед гостем, которую никто из присутствующих как нечто привычное и приевшееся даже не замечал, свежесоленых грибов, крупных, мясистых, ярко-желтых диковинных помидоров с собственного огорода, отварной рассыпчатой, тоже своей молодой картошки, лесник с удовольствием похлебал жидкой ухи, съел большой кусок жареной рыбы, ревниво выбранной для него внуком; рыба, сытная, сладковатая, Захару понравилась, но он никак не мог вспомнить похожий вкус — жареная кета напоминала то ли хорошие белые грибы, запеченные в сметане, то ли курятину. Лесник не удержался, положил руку на плечо Сереге, сдавил слегка вроде бы слабенькую податливую мальчишескую кость.
— Ну, спасибо тебе, внучек, — сказал он. — Накормил рыбкой, душу я отвел…
— Понравилась, дедушка?
— Такой рыбы сроду не пробовал, у нас такая важная не водится… Хороша рыбка! — еще раз похвалил Захар от души.
— Хочешь, мы с тобой на рыбалку сходим? — предложил Серега и нахмурился; на другом конце стола заговорили громче: женщины, пришедшие с мужьями, успевавшие и поддержать застолье, и помогать хозяйке подавать и убирать лишнее, дружно предложили сделать перерыв перед пельменями, посылая мужиков выйти прохладиться и покурить на вольном воздухе, но виновник неожиданного шума, худощавый парень лет двадцати восьми, с самого начала привлекший внимание Захара своим беспокойным лицом, не сдавался; он с деланной готовностью улыбался то в одну, то в другую сторону, кивал припавшей к его плечу жене, женщине с веселым приятным лицом, и все время порывался встать; жена, мягко приговаривая что-то, насильно усаживала его обратно. Все за столом, переглядываясь и пересмеиваясь, беззлобно наблюдали за супружеской борьбой; Василий, разрумянившийся, помолодевший, в новой нейлоновой сорочке с закатанными рукавами, махнул рукой.
— Брось его, Паш, — попросил он, — пусть говорит, теперь его не удержишь, расхристается — легче станет.
За столом слова хозяина одобрили, а Серега вполголоса сообщил Захару, что это шофер на самосвале, Володька Косов, что все его зовут праведником, так как он всем правду говорит, и что из-за этого начальство его не любит, стороной обходит, и даже премиальных лишает, что он институт в Москве кончал и все на свете знает.
«Гм, праведник, значит», — заметил про себя Захар, с интересом глядя на Косова, уже решительнее пресекшего очередную попытку жены остановить его и обратившегося теперь через весь стол прямо к гостю:
— Я уважаю здесь всех, Захар Тарасович, но я категорически против такого порядка: собраться, поесть, попить и разойтись молча спать с набитым до отказа брюхом. У нас на Руси вот уже сколько лет приучают народ пить молча, вглухую. А собираться за столом можно лишь в одном случае: ради беседы, вы, Захар Тарасович, человек многоопытный, много повидавший, вы державу из конца в конец проехали. Что там слышно в народе? Какими переменами собираются удивить? Какие облака собираются на горизонтах?
— Ух ты, чешет! — уважительно одобрил Косова вполголоса сосед Захара, мужчина примерно одних с ним лет, по фамилии Казанок. — Умел бы я так шпарить, отпуск получал бы только летом!
Вновь поднялся легкий шумок, но Косов, с презрительным видом дождавшись тишины, снова обратившись к гостю из далеких краев, стал развивать теорию о том, что в молодости у человека сил много, сказать нечего, а в старости сказать много можно, а сил не хватает даже рта открыть, а потому человеку никогда и не подняться к небу… и самый бесполезный и сорный вид жизни на земле — человек.
За столом, обдумывая услышанное, выжидающе притихли; вглядываясь сквозь плывший табачный дым в Косова, в его разгоревшееся злое лицо, Захар добродушно спросил:
— Как же ты дальше жить станешь, сынок? Ты уж не серчай, я сюда сына с невесткой, внуков повидать ехал, правда, много в дороге повидал. Кто ж тебя так обидел?
— Папаша его обидел! — опять не выдержал смешливый Казанок, часто и беспорядочно помаргивая. — Не в духе, видать, сработал такое чудо! Бывает…
Опять беззлобно засмеялись, зашумели, но сам Косов, почувствовав достойного собеседника, вскинулся, не обращая внимания на Казанка, хотел было пересесть к гостю поближе, но ему не дали и заставили опуститься на свое место.
— Ты мой корень не трогай, — отмахнулся Косов, на время забывши о своем желании послушать заезжего гостя. — Ты мне и без того надоел, путаешься каждый раз под ногами.
— Да хватит вам, мужики, как сойдутся, и пошло! — теперь уже зароптали женщины. — Таким умникам в Москве надо сидеть, указы строчить. Серега, давай врубай музыку, танцевать хочу!
— Умница! Умница, Анечка, в самый раз! — подхватила Паша, жена Косова, отодвигаясь от него и выбираясь из-за стола. — Танцевать, я Васю приглашаю! А ты сиди, раз ты такой умный, умнее всех! — бросила она мужу, оглядываясь. — У-и, моченьки моей нет с этим головастиком, день и ночь гудит, ему бы с Марксом в одной постели лежать, а не с бабой!
— Паша! — мягко одернула ее хозяйка, указывая в сторону сына, копавшегося над магнитофоном.
— Позвольте, позвольте! — запротестовал Костя. — Я хотел у Захара Тарасовича про революцию спросить, зачем они ее делали? Он же на гражданской бывал… Захар Тарасович, вас кто-нибудь просил, мир переворачивать? Я лично вас просил?
— Ну, это уж тебе теперь, сынок, отвечать, кто кого просил, кто не просил, все теперь твое, обиды тоже твои, мы свое отгрохали, — отмахнулся Захар. — Ты в самом деле поглядывай, а то упустишь бабу, променяет на какого-нибудь Маркса, и свисти тогда в палец!
Еще один гость, напарник Василия по крану, Бологов, посмеиваясь и подзадоривая праведника Косова, перемигнувшись с Василием и Казанком, пропустили под шумок еще по одной; Косов заметил и совсем уж обиделся, но тут загремел магнитофон, женщины вытащили Косова из-за стола, закружили по комнате, и он, для приличия покуражившись, развернув плечи и в один момент преобразившись, стал выделывать вокруг жены такие модные дергания руками, ногами, головой, которая, казалось, вот-вот оторвется и отлетит куда-нибудь в угол, что все, подбадривая, захлопали в такт, стали хвалить Косова.
После пельменей и чая с шиповником и мятой еще посидели на крыльце, поговорили о всякой всячине и, после напоминания Бологова, что завтра рабочий день, разошлись. Серега, привыкший рано ложиться и давно клевавший носом, ушел спать, Аня с дочерью принялись прибираться после гостей, а Василий с Захаром вышли на улицу. Было еще не поздно, и Захар сразу услышал отдаленный, непрерывный, как бы идущий из самой земли гул стройки.
— Ты, батя, на Косова не обижайся, — попросил Василий. — Хороший парень, характер подводит, сам себя остановить не может. Какой-то без тормозов, где-нибудь и влипнет по мелочишке…
— Говорунов у нас всегда хватало, нахлебался я от них. Вроде и дело говорит, а зачем он языком чешет, сам не знает. А кто другой и подавно. Лучше вон чурбак какой на зиму расколи.
Уставши от дороги, застолья и разнобоя мыслей и впечатлений, лесник долго ворочался с боку на бок, слыша за дверью осторожные шаги и шепот хозяев.
Проснувшись, щурясь от солнца, пробивающего насквозь реденькую занавеску на окне, он увидел сидевшего неподалеку на стуле Василия. Открыв глаза, лесник смутил сына, и от неожиданной догадки, сразу все объяснявшей, он негромко прокашлялся.
— Здравствуй, батя. Понимаешь, захотелось рядом посидеть…
— За что, Василий, — решился после паузы лесник, — на меня осерчал? Ни одного письма за столько лет. Своему брату ничего не сказал. Намертво отрезал.
— Подступило под самое яблочко, батя, — встряхнул головой Василий, провел ребром широкой ладони у себя под подбородком. — Лучше не допытывайся, зачем душу ворошить?
— А ты меня попусту не жалей, — косо глянув, Захар скинул ноги с кровати и сел, плотно уставил босые желтоватые ступни подсохших ног в прохладный крашеный пол. — Мне хитрить перед последним порогом не к чему. У Ильи пытал, тоже, вижу, кряхтит. Какая кошка между вами прошмыгнула?
— Никакой кошки, батя… ну, правда!
— Не бреши, — оборвал лесник и увидел, как у Василия заходили, перекатываясь, тяжелые желваки. — Зелены вы еще старого гуся на мякине морочить. Говори, самому легче станет.
В окно, в просвет занавесок разбойно ворвался солнечный луч, и лицо Василия дрогнуло.
— Что ж, Илюшка тебе не сказал, батя? — сцепив руки на коленях, Василий вымученно усмехнулся. — Сам посоветовал после того письма уехать подальше…
— Какого письма? — настойчиво переспросил Захар, не отпуская глаз Василия, и тот сдался.
— Ладно, батя, — сказал он тихо, чувствуя облегчение от своей решимости, — раз ты уж такой дотошный… пришло такое письмо, без подписи, из Зежска, что ли. Никакой я вроде и не Дерюгин, никогда не был им, а так… понимаешь… отец у меня…
— Молчи, — тяжело уронил лесник, с трудом сдержал мутную поднявшуюся тяжесть в груди, стараясь осадить ее, не пустить дальше. — Был Дерюгин и останешься… Молчи…
— Батя!
— Молчи, я знаю правду… Неподъемная она, — любой подломится, — как-то непривычно жестко, словно издалека, сказал лесник, глядя мимо Василия в окно и вспоминая берег другой реки, забитый молодым лесом погост, затемневший крест под одинокой березой, старого Коржа рядом с дубовой колодой, приготовленной для самого себя. — Сотвори свое, тогда и суди. Других-то как судить? Время проклятое, на всю Россию тавро пришлепнули, до сих пор от него смердит… А живая кровь, она не терпит, нету того знака в русском теле, размыло, унесло живой кровью. Сколько ее пролилось безвинно да напрасно, в дурном сне не увидишь. Тебе выпало жить — живи…
— Я, батя, уехал, за детей испугался… Чую, братцу Илье неудобно рядом со мной, — теперь уже свободно и быстро сказал Василий, блестя глазами. — А за детей душу готов отдать, вот и тебе не писал, все в себе переживал, боялся… Узнают, опять начнут разыскивать. Думаю, за что такое, за что? Ладно, а если дети узнают? Аня тоже… Ну нет, думаю, — оглянувшись на дверь, Василий понизил голос почти до шепота, — пусть уж такой груз вместе со мной и канет на тот свет!
— Э-э, опять на перекладных… И мать проведай. Она муку смертную приняла. Лучше ее я никого в жизни не знал. Вот Вера-то вся в нее. Дал бы Бог еще свидеться.
— Батя, да я! Да я за Верку, да за тебя, батя! — не выдержал Василий, вскочил, тяжело протопал к окну, постоял, отодвинул занавеску. Видно было, как сизо отливала под солнцем рябь реки. Скомканные, торопливые слова Василия отдались в самом сердце, но думал сейчас лесник не о нем. «Ах ты, Илья, Илья, — говорил он себе потерянно. — Что ж ты так-то не по-людски? Неужто все у тебя чужое от отца-матери… как так?»
— Ты, батя, после всего мне еще дороже. Я только тебя прошу — Илюшке ничего не пиши, не говори… Не надо. В начальство вышел, сердце ожирело, баба под стать попалась. Хорошо вышло. Видеться нам больше не к чему, притворяться не надо, — прорвались к Захару, словно из какого-то марева, слова Василия, и лесник, соглашаясь с ним, кивнул, думая, что у этого характер устоялся, в свой час железинка и проступила. — Знаешь, лежу как-то ночью, думаю, а ты прямо перед глазами живой, даже руку твою чую… Вроде я совсем сопатый еще, а ты положил мне лапищу-то свою на макушку, тяжело и тепло мне, батя, от твоей руки… Скажи ты мне — прими смерть, приму, скажи живи — буду жить… Да ничего я никогда не боялся и не боюсь… Знаешь, батя, отогрел ты мне душу…
— А, черт! — отвернулся Захар, засопел, зажмурился, с силой протирая глаза, стыдясь своей слабости, чувства какого-то трудного, большого, неведомого счастья. Василий подошел, сел рядом; оба сейчас знали друг о друге все, даже самое тайное, то, чего даже самому себе знать было нельзя и не положено, и неизвестно, чем бы все кончилось, но тут в комнату шумно ворвался Серега, поглядел на отца, на деда, озадаченно похлопал глазами:
— Вы чего тут?
— Иди, иди, сейчас придем, мы скоро, — не глядя на сына, попросил Василий.
— Погоди, Серега, стой, — подал голос Захар, крепко, с ожесточением вытирая тыльной стороной ладони глаза. — Что тут особого… Сколько лет с твоим отцом не виделись… Когда теперь свидимся… Можно так и помереть…
— Почему? — спросил Серега, строго перебегая взглядом с отца на деда.
— Старый я уж очень, — просто сказал лесник. — В Москве ждут, ехать надо, в срок быть обещался.
— Дедушка, да ты что? — горячо запротестовал Серега. — А ты не уезжай! Ты знаешь, ты оставайся с нами насовсем, чего тебе уезжать, такой рыбалки нигде больше не найдешь… дедушка, а?
— Ладно, Серега, ладно, — остановил его Захар. — Это я к тому, чтобы в другой раз вы ко мне все приезжали, мне в другой раз до вас далеко… могу не доехать. Я бы остался, хорошо у вас, да нельзя никак, ждут меня, я быть в срок обещался…
— Мамка завтракать зовет, — хмуро сказал Серега, помолчав. — Ей на работу…
— Спасибо, мы сейчас.
На другой день Захар побывал на строительстве, несмотря на отговоры, с передышками, забрался на самую верхотуру к сыну, в кабину крана, глянул кругом и ахнул. Перед ним развернулось необозримое пространство, занятое строительством, такого скопления самых разных машин, копошившихся внизу, он никогда раньше не видел.
— Как сердце-то, батя? — поинтересовался Василий, не отрываясь от рычагов и каких-то кнопок, ловко подхватывая с земли тяжеленные ковши с бетоном, перенося их по воздуху и легко, словно игрушечные, опорожняя в нужном месте.
— Ничего сердце, — отозвался тихо лесник, вновь и вновь с жадностью оглядываясь в распахнувшееся во все стороны пространство, и показалось ему, что видит он всю землю из края в край, видит и знакомый Зежск, и свой кордон, и Москву, плавающую в легкой, сухой дымке, увидел он и еще дальше — островерхие, затаившиеся германские городки, и горы Альпы в снежной замети. Стало ему от такого непонятного пространства не по себе, голова закружилась, и он прикрыл глаза, затем тихо сказал:
— Знаешь, Василий, чудно у человека устроено, не верится. Мы с твоей матерью тоже работали на большом строительстве. Зежский моторный перед войной поднимали… Давно, даже не верится. Меня часами наградили… Чудно! Как быстро все пролетело. На телегах, на тачках, лопатами… а тут техникой все забито. В какую прорву народ стремится, зачем?
— Это я у тебя должен спросить, — весело покосился в его сторону Василий, не отрываясь от своего дела, и было видно, что работа ему в радость. — Тоже скажешь! Ребятам надо расти, на земле надо быть… По-божески ведь, батя, а?
— По-божески, — скупо подтвердил Захар и замолчал, стараясь не мешать важной работе сына, а вечером на закате они сидели на берегу Зеи вдвоем, и мимо неслась ржавая, холодная, бесконечная вода. Поодаль, выбрав приглянувшееся ему место, устраивался с удочками Серега. Он совершенно не мешал им молчать.
— В самом деле, батя, пожил бы, — осторожно напомнил Василий, щурясь на низившееся солнце и думая, что погода еще подержится. — Вон к тебе Серега присох…
— Думаешь, я сам не хочу? — вздохнул Захар, словно возвращаясь откуда-то из своего далека. — Пожил бы, Василий, пожил, ты уж на меня не серчай. Я же тебе рассказывал про старшую внучку, мать Дениса, как у нее все вперекосяк пошло. У Петра опять с работой что-то… А запасу, считай, у меня никакого не осталось. Нельзя нам с ней не повидаться, не по совести будет, ты должен понять…
— Понимаю, — коротко кивнул Василий, неприметно вздохнув, и заторопился. — Такой ты человек, надо, значит, надо. Ну, если что, отбей телеграмму. Нужда какая, помощь. Рыбки нашей родичам передашь, балычку, семужки, запакую понадежней. Пусть московская родня попробует — сами делаем.
— Удавите реку, кончится рыбка и тут, — вслух подумал Захар, и они опять надолго замолчали. Разгоравшаяся малиново-огненная заря шире пласталась по горизонту, на реке начинал потягивать густой, свежий ветерок.
14
Хандра прошла внезапно; с отвращением сбросив с себя бархатный халат с дорогим шитьем, подаренный ему в одной из поездок в Самарканд, Обухов облачился в рабочий костюм и, ругая себя за напрасно потраченное время, принялся за порядком запущенные дела. Уже вечером того же дня он, предварительно договорившись, приехал домой к Шалентьеву и, едва встретившись с ним и скользнув взглядом по его лицу, как бы подернутому изнутри пеплом от долгого пребывания в закрытых, хоть и с кондиционерами, помещениях и от идущего от всего его облика какой-то внутренней дисгармонии, он подсознательно почувствовал, что никакого перелома в ситуации не будет, и его охватило безразличие. Пощелкав тумблерами на телефонном столе в своем кабинете и отдав вполголоса какое-то распоряжение, хозяин предложил гостю удобное кресло на колесиках, рядом с искусственным камином, распространявшим сухое устойчивое тепло, и низеньким столиком, уставленным бутылками боржоми, вазой с яблоками, галетами и тарелочками с изюмом и солеными орешками. Обухов, мельком глянув, с удовольствием выпил холодной, колющей пузырьками воды и, сосредоточиваясь на главном, спросил:
— Мне было необходимо увидеть вас, может быть, от этого мне легче будет понять…
Шалентьев сел напротив, спиной к телефонам, сдержанно улыбнулся:
— Я не хотел, не имел права с вами встречаться, Иван Христофорович.
— Что же вас принудило? — осведомился гость, завладевая блюдцем с орешками и бросая их в рот один за другим. — Надеюсь, не родственные влияния…
— Не без того… Хочу выслушать вас, Иван Христофорович. Что у вас стряслось?
— Уже ничего изменить нельзя? — вместо ответа спросил Обухов.
— Расчеты выверены, и не однажды… Вы сами понимаете, никто не может остановить курьерский на полном ходу — останется одно крошево. Я имею в виду не только зежский регион, развитие событий вообще…
Отодвинув блюдечко с орехами, Обухов некоторое время молчал: его опасения и догадки обретали зловещую конкретность. Он досадовал на Петю, подсказавшего ему бесполезный ход.
— И тут чистейшей воды хилиазм! Да здравствуют герои, но только мертвые! Вместе с человеком в мир явился сатана, — неожиданно с силой откатываясь от столика со своим креслом, сказал академик, и лоб его с выдающимися лобными долями перечеркнули резкие морщины. — Ничего сделать нельзя, тупик, тупик. Но я не верю в нечистую силу! — повысил он голос, откидываясь назад, и на столике тоненько дзинькнули хрустальные стаканы. — Вы, милитаристы, сошли с ума, у вас из каждого проглядывает лик сатаны. Я буду апеллировать к народу, да, да, к народу!
— Блаженны верующие, — опять сочувственно улыбнулся хозяин, внутренне стыдясь и страдая от невозможности быть самим собой, исполняя дурацкую роль солдафона и тупицы. — И к какому же народу вы будете апеллировать?
— К русскому, разумеется, — буркнул академик. — Дело касается среды его обитания… Иронизировать в данном вопросе, Константин Кузьмич, русскому интеллигенту не пристало…
— Не верю в побасенки, — стараясь говорить спокойно и даже холодно, ответил Шалентьев, проникаясь симпатией к своему гостю, восхищаясь им и жалея его за романтическую, хрупкую дымку веры в несуществующие истины и идеалы. — Как-то мы разговаривали по этому поводу с Петром, да, да, с моим пасынком, вашим учеником. Он рассказал мне о своей встрече в Хабаровске с неким Козловским… Между ними тоже случился подобный разговор… Вы знаете, я в чем-то готов согласиться со старым колымским узником Козловским, ныне уже покойным… Лучше уж глядеть в корень… Что, если русский народ объективно изжил себя и действительно обречен? Взгляните на него строго и беспощадно: разве от вас ускользнут признаки тления на этом огромном, некогда могучем теле? У него деформировано чувство самосохранения, полностью разрушен необходимый для здоровой жизни инстинкт. Именно русский народ подвергся на протяжении последнего века смертельной дозе чужеродных инъекций. Он не смог защитить самое святое — свой генофонд, свою историю, свою культуру, свои могилы… — Я — реалист, Иван Христофорович… да. Не знаю, о каком народе вы говорите. Он ведь живет и действует, видит и ощущает себя в состоянии глубочайшего гипноза. Народ же вас еще оскорбит и прогонит прочь: он видит себя в кривом зеркале, национальное поношение воспринимает за достоинство, униженное положение за подъем… На свою обезображенную землю он смотрит равнодушными глазами наемника, посулили на ночь стакан водки и женщину, и рад. Впрочем, простите…
Академик сидел, глубоко утонув в своем кресле, оплывшей глыбой, и только упрямо торчал его бугристый лоб.
— Во что же вы верите и как вы живете? — раздался его резкий, неприятный голос.
— Я не верю, я просто работаю, — стараясь не поддаваться раздражению, буднично ответил хозяин.
— Зачем?
— Хочу нормально себя чувствовать и не сойти с ума. Вам довольно?
— Нет, — не без усилий выпростался из кресла Обухов, рывком вскочив, встал перед хозяином, и от его неотпускающего взгляда Шалентьев внутренне весь подобрался. — Мне последнее время везет на мертвецов, сначала ваш шеф, затем вы. Простите, я не хотел обидеть, но оскорбить самое святое для любого нормального человека — свой народ… Да, математика не знает нравственных категорий, но это не только глубоко безнравственно, это, простите, античеловечно! Добро бы кто-нибудь из этой международной банды безродных фанатиков за чужой счет, — Брежнев, Суслов или ваш шеф, а то ведь потомственный русский интеллигент! Нет, нет, это уж вы меня простите! — остановил он порывавшегося что-то возразить хозяина. — Вы плохо знаете биологию, вы ее совсем не знаете. О русском народе написаны горы лжи, особенно постарались романисты, они его превратили в какое-то хамское отродье, способное глотать любое говно. И любители заколотить его поглубже в могилу никогда не переводились, а в последнее время они вообще чудовищно плодятся. Они пытаются всучить народу сизифов камень как единственную цель и смысл жизни, эту ложь вбивают вот уже в несколько поколений — да, она закрепляется в нас уже генетически. Но о какой атомной бомбе вы еще думаете? Если вы даже отравите зежское подземное море, будет покончено только с Россией, но не с русским народом. Черта с два, он вновь начнется где-нибудь в Канаде или Австралии. Вероятно, вы правы, народ, позволивший произвести над собой такой чудовищный эксперимент, подлежит исчезновению, но он биологически устоит и очистится, хотя дело даже не в этом, не в этом! — Тут академика прихватило удушье, лицо побагровело, лоб потемнел и как бы распух, навис над переносицей. Хозяин кинулся дать ему воды, академик же с какой-то судорожной ненавистью оттолкнул стакан обеими руками, расплескивая воду. Шалентьев бросился было за женой, вспомнил, что ее нет еще дома, метнулся назад. Вцепившись в подлокотники кресла, Обухов смотрел на него провалившимися глазами; ком у него из горла выскочил, и теперь он наслаждался свободно проходившим в грудь воздухом.
— Спазм, — сказал он немного погодя. — Схватывает последнее время.
— Иван Христофорович…
— Минуту, простите! Слышите? Слышите, во дворе детвора шумит? И каждый, заметьте, каждый индивидуум несет в себе целую вселенную, океан разума. Вам не страшно выносить такой приговор? Мой отец, обыкновенный московский доктор, предрекал русскую Голгофу, но постижение всегда избирательно, нужно было излечиться от самоослепления. Это главное, и это главное случилось. Все остальное народ осилит. К русскому народу еще придут за обретением души, придут к этому источнику за глотком живой воды со всех концов зачумленного мира. Нет, я все-таки пойду своим путем, будь что будет… Я верую, вот в чем мы с вами никогда не сойдемся… Верую… Верую!
Шалентьев молчал, досадуя на себя за согласие на такую трудную и, главное, бесполезную встречу — что-либо изменить не в его силах, и Обухов это знал. Возможно, он еще раз захотел убедиться в своем пути, в своей правоте? До самого последнего момента просто не мог поверить в эту действительно чудовищную авантюру, в глобальное преступление?
Он вопросительно взглянул, но Обухов, пресекая дальнейшие попытки к разговору, встал и распрощался; никакие доводы подождать прихода хозяйки и поужинать не подействовали, любезное предложение вызвать машину — тоже, и Шалентьев почувствовал себя совсем неуютно, этаким закоренелым преступником на солнечном сквознячке. Академик же, откланявшись с холодными, уже далекими глазами, минуя сверкающий бронзой лифт, спустился по широкой мраморной лестнице, протиснулся в тяжелую, блистающую зеркальными стеклами дверь и наугад пошел по улице; было еще рано, шумные игры детей провожали его. И почти сразу же с ним оказался Петя, молча пошел рядом, подлаживаясь к его шагу, и только минут через пять академик спросил:
— Вы меня охраняете?
— Нет, Иван Христофорович… у меня дома сегодня был обыск, — понижая голос, сообщил Петя, стараясь говорить спокойно. — Не волнуйтесь, главное в порядке… цело.
— Вы не сказали мне ничего нового, Петр Тихонович. Я минутой раньше еще раз убедился в реальности действительно перевернутого мира, — сердито сказал Обухов. — Ничего разумного ждать не приходится. Я теперь готов решительно ко всему. Рабство нас сковало сверху донизу, такого рабства духа еще не знал наш народ, мы разучились, мыслить и решать самостоятельно. Даже самые лучшие из нас.
— Эй, такси, такси! — закричал Петя, бросаясь к обочине тротуара, но машина проскочила мимо; и он с ненавистью посмотрел ей вслед. — Вам надо куда-нибудь уехать, скрыться, — сказал он. — Да, смешно, глупо. В ту Сибирь, на Дальний Восток, на самую низовую работу, я могу помочь вам. У меня дядька на Зее. И еще один в Пермской области… Надо переждать, даже мертвецы когда-нибудь уходят… Они ведь вас не пожалеют, Иван Христофорович…
— У меня работы много, — иронически взглянув на него, ответил Обухов, и в голосе у него прорезалась несвойственная ему горечь. — Благодарю, коллега, благодарю! Работы много, а времени осталось мало. Экономил на всем, на молодости, на женщинах, не успел услышать последние слова матери. Жалуюсь? Нет, нет, коллега! Человека спасает знание, знание дало мне абсолютную свободу от всех наших анемичных правителей — брежневых, малоярцевых, сусловых, от всей этой осатаневшей своры партийных вурдалаков. Да, да, я биолог, знаю, что такое борьба за выживание и продление, не надо поэтизировать. Я останусь свободным всегда и везде. Он, ваш отчим, все понимает и ничего не может. Дело не в том, что вырождается и гибнет русский народ, а в том, что он в настоящий момент оказался неспособным защитить себя. Я подчеркиваю — пока неспособен! Обманутый, оболваненный, он упорно и завороженно слушает этот демонический нескончаемый гипнотический вой. Надо обратиться в самого себя, слушать себя и узнавать себя, и тогда весь этот сатанинский агональный гипноз рухнет, настанет внутренняя свобода, а с ней и национальное выздоровление. Удар по зежскому региону разработан классически, армия — древнейший институт, он неизмеримо старше христианства, не говоря уж о марксовом хилиазме… Вера в армию неистребима, она уходит к истокам природы — самого человека. И вот теперь они пытаются столкнуть народ и армию, взвалить на нее чудовищное преступление, тем самым разрушить армию, последнюю опору народа! Какой омерзительно точный расчет! Очевидно, этот удар мыслится как завершающий этап. Поистине царский подарок: русский этнос перестает существовать, остается мертвый язык. Что ж, эта жажда тех же агональных, а то переверстных ощущений за чужой счет указывает на собственное необратимое вырождение…
Петя шел рядом и угрюмо молчал, давая Обухову выговориться. Сам же он думал о том, что может произойти через день-два; он хотел во что бы то ни стало довести академика до дому и повидаться с Ириной Аркадьевной, но едва он заикнулся об этом, Обухов категорически отказался, еще раз напомнил о самом важном, о рукописях, о необходимости сохранить их любой ценой, и добавил, что все остальное сделают, если сделают, другие.
Здесь Обухов с необычайной расторопностью и ловкостью лихо перехватил за двойную цену по счетчику лениво проползавшую мимо машину с зеленым огоньком, сел в нее и укатил, даже не попрощавшись; Петя же остался стоять посредине улицы. В первую минуту он подумал пойти к отчиму, поговорить с ним, но что-то удержало; словно вокруг него в один момент образовалась какая-то гулкая пустота, и огни в окнах пожухли и отодвинулись. Он понял, что отныне все пойдет по словам Обухова, сомнений больше не было, в нем самом начался уже этот цикл; вместо московских огней засверкали перед ним синие распадки гор, и на мгновение таежный ветер пьянящей свежестью перебил московскую гарь. Петя испугался этого дурного знака и поехал домой, хотя раньше думал еще забежать в ресторан Дома журналистов, узнать последние новости. Значит, вызов брошен, ну что ж, ну что ж, ему в этой игре уже отведено свое место — сохранить переданные бумаги до лучшего времени. Вечером он был необычайно нежен с женой и не отходил от нее ни на шаг; за время беременности она сильно раздалась и трудно было узнать в ней прежнюю тоненькую Олю. Прерывая ее бесконечные хлопоты по хозяйству, он усадил ее на диван, сел рядом, привлек к себе. Пустынные стены молчали, и телефон молчал; от жены исходили глубокая теплота и особый покой, свойственный только беременным женщинам. И он с запоздалым раскаянием, столь дорого ему стоившим, подумал о месте женщины в мире — совершенно особый мир красоты и гармонии, мир, вечно страдающий и творящий. Он как-то непроизвольно вспомнил все прожитое и с каким-то смешным детским чувством жалости к себе и к ней соскользнул на пол, легонько прижимаясь головой к тугому животу жены. Она нежно опустила ладонь ему на голову, она была из числа женщин, в которых беременность меняет все, даже отношение с самыми близкими людьми.
— Умница тетя, не согласилась сдать квартиру, — тихо порадовалась она. — Послушалась бы тебя, кусай сейчас пальцы. Отсюда сразу выставят… а так свой надежный угол.
— Глупости, ты здесь прописана… о чем ты говоришь? Я — при деле, старший научный сотрудник, меня знают, статьи охотно берут… вон Лукаш не устает напоминать о своем вкладе в мое становление, все боится недобрать. Ты испугалась обыска?
— Тетя просто возмутилась… Они хоть знали, что искали?
Петя пожал плечами; впереди было два выходных дня, не надо никуда спешить, побудут вдвоем, погуляют на соседнем бульваре. Оля бледновата.
— Не знаю, что им пригрезилось, — почти весело ответил он. — Кажется, они подозревают меня в членстве в какой-то русофильской подпольной организации, да, да, — еще веселее отозвался он на ее взгляд. — Угроза существованию устоев… Наш друг Лукаш недавно пообещал выбить из нас русофильскую фанаберию, подчинитесь, мол, общему закону всемирного движения, растворитесь в нем, забыв о своей былой гегемонии, а то придется физически исчезнуть… Фю-ю-ют! — Выбирайте… вот так. Выродится же такая сволочь, все с ног на голову ставит, хуже русских никто в стране не живет… Именно против русских применяется геноцид.
— Интересно, как это они думают сделать? — опять не удержалась Оля. — И кем считает себя сам Лукаш?
— Он считает себя гражданином мира, — ответил Петя, посмеиваясь. — Вычисляет в себе какие-то древние аравийские гены. А впрочем, у него все зависит от обстоятельств. В Киеве он жалуется, что москали зовут его хохлом, а в Москве наоборот, хохлы, мол, обзывают переметнувшимся москалем. Сейчас публикует уже пятую статью о литературных и философских достоинствах трагедии Леонида Ильича… Но вообще-то, главная его сверхзадача — породниться с какой-нибудь именитой академической семьей — он почему-то уверен в своей мужской неотразимости.
Бережно поднявшись (живот уже сильно мешал ей), неосознанно оберегая себя от излишних волнений, Оля сказала, что ей пора собираться спать, и Петя не стал больше ничего рассказывать, поцеловал ее уже сонную и ушел в кабинет.
Слабые надежды Пети на благополучный исход не сбылись и не могли сбыться; уже через несколько дней после открытого обращения Обухова к мировому общественному мнению перед Малоярцевым стали расти груды зарубежных, самых разноязычных газет, закрытых тассовок и сообщений; пришел в необычайно возбужденное состояние сам вирус власти, зашевелилась не только Москва, взбудоражились и заволновались закрытые дачные поселки Подмосковья, отделенные от остальной среды обитания непроницаемыми барьерами и многочисленными охранными зонами; выказали признаки жизни и загородные резиденции; заработали многочисленные комитеты и комиссии, и Бета Ефимовна, раз и навсегда обязавшая себя быть в курсе самых горячих событий, особенно если они касались мужа, сократив до минимума остальные дола, кроме массажиста и косметички, к вечеру совсем обессилевала, изучая ставший неожиданно грозным вопрос и стараясь предугадать сто возможные последствия. Секретари и помощники мужа каждые два часа докладывали ей об его местонахождении, и Бета Ефимовна, щедро наделенная врожденным вирусом власти, всем своим существом чувствовала начавшуюся крупную политическую игру.
Уже на другой день стало ясно, что отмолчаться не удастся, и Малоярцева срочно вызвали на самый верх, где собрались уже первые в государстве лица, все под стать друг другу, весьма почтенного возраста, для обдумывания и решения столь быстро разросшегося неприятного дела. Войдя, Малоярцев тотчас ощутил настороженное и неодобрительное к себе отношение собравшихся и подумал, что необходимо было встретиться с Брежневым вначале наедине, на этом настаивала и жена, бывшая в тесной близости и даже в каком-то отдаленном родстве с супругой генерального. Несмотря на менявшиеся время от времени обстоятельства, среднее статистическое здесь оставалось незыблемым; все были друг с другом тесно связаны, тронь одного, тотчас зашатается другой, а то и вообще вылетит из седла бесповоротно. Малоярцев, поздоровавшись отдельно с Брежневым, а затем с собравшимися, положил на стол принесенные бумаги, показывая, что готов сразу же докладывать и что у него нет никаких сомнений в закономерности случившегося. Это подействовало. Он знал подноготную каждого — от Щелокова до Андропова и Косыгина; все они после Сталина и Хрущева боялись нового сильного лидера, и на этой волне стал возможен Брежнев, превратившийся сейчас в физическую развалину с выраженными признаками глубокого необратимого старческого склероза. В страхе друг перед другом они не отпустят его теперь на покой до самой могилы, а затем отыщут еще одну такую же развалину — чтобы продолжать держать в руках все нити власти. Чувство власти, ощущение горячей пульсирующей крови согревает их стынущие члены, помогает им бодро себя чувствовать и радоваться своей необходимости.
Сейчас, вспоминая недавнюю встречу с академиком Обуховым, Малоярцев был готов даже согласиться, что более антинационального и разлагающего правительства страна еще не имела за свою историю, даже если говорить о Сталине (может быть, только в ужесточении отношения к русскому народу, в игнорировании его коренных интересов сталинский и брежневский периоды могли быть уравнены), но одно являлось логическим продолжением и следствием другого; последние десятилетия могущественная некогда мировая держава была отброшена в ранг слаборазвитых, и разрыв все увеличивался.
Встряхнувшись под неустойчивым жидким взглядом Брежнева, приступив к докладу, Малоярцев коротко и ясно изложил суть дела, опуская ненужные и самому ему мало что говорящие подробности гидрологических режимов в данной местности, и тут, совершенно неожиданно и некстати вспомнив лицо лесника с Демьяновского кордона, его глаза и падающую в совершеннейшей тишине высокую одинокую сосну, сбился, наклонившись, принялся перебирать бумаги, делая вид, что отыскивает нужную.
— Обязать выступить Обухова с опровержением, он должен подумать об интересах государства, — быстрым, живым взглядом обводя присутствующих, предложил Щелоков. — Как в руки к нему попали сверхсекретные сведения? Выдумать такое! Целенаправленные действия по уничтожению русского народа! Да я сам русский! Как же я могу хотеть сам себя уничтожить! Абсурд!
Брежнев, с некоторым беспокойством выслушавший Щелокова, опять перевел тусклый взгляд на Малоярцева и медленно, стараясь говорить внятно, спросил:
— А по партийной линии?
— Академик Обухов беспартийный, Леонид Ильич, — ответил Малоярцев. — Он признает только науку, сама партия для него нечто совсем необязательное и даже нежелательное. Представляете, он отказался от всех правительственных наград и лауреатских званий, так у меня на столе и оставил. Ордена, лауреатские медали! Еще и раструбил о своем, простите, подвиге всему миру.
Изумление, появившееся на лице Брежнева, и его возмущенные слова: «Какая безнравственность!» — заставили Малоярцева про себя улыбнуться: нужное впечатление было достигнуто; тотчас и весь ареопаг пришел в движение — немощный, едва заметный поворот головы в сторону соседа, попытка выразить негодование, относящееся даже не к поступку академика Обухова, которого никто, кроме Малоярцева и Суслова, не знал и в глаза не видел, а к тому, что пришлось вот собраться в неурочный час по столь ничтожному поводу, сидеть и обдумывать необходимые меры, к проблемам, требующим немедленного решения, прибавилась еще одна, связанная с международным мнением; здесь они все чувствовали, что дело горячее и задвинуть его или хотя бы отложить на время не удастся. Закончив докладывать, Малоярцев внес и свои предложения. Во-первых, убедить академика Обухова дать официальное опровержение на зарубеж; во-вторых, действовать через Академию и, в крайнем случае, применить к нему административные, вплоть до исключения из Академии, меры; в-третьих, наглухо изолировать от внешнего мира. Решительный тон и точность формулировок произвели впечатление — даже у Брежнева в глазах появилось какое-то подобие энергии. Неумолимо прорисовывалось, что по хорошему с Обуховым поладить не удастся, слишком далеко зашло, и необходимо прибегать к решительным кардинальным мерам. Суть заявления Обухова даже не обсуждалась, обсуждался сам факт, никто не мог взять в толк, как это ученый, пусть даже и известный академик, осмелился выступить против решения правительства, поднять всемирную бучу, не обнаруживая при этом ни стыда, ни совести, ни намека на раскаяние. Брежнев, не любивший крайних мер, предложил выждать, подойти к вопросу помягче, поделикатнее, не давать недругам лишних козырей в бесконечно склоняемой дискриминации прав человека. И только один из них, кстати, знакомый с деятельностью Обухова лучше и подробнее остальных, с самого начала думал совершенно о другом; один из самых старых партийных функционеров, он безошибочно предчувствовал наступление необратимых перемен и в партии, и в жизни страны; предпринимаемые им попытки изо всех сил удержать в партии после топорного хрущевского десятилетия с трудом установившееся хрупкое равновесие — были инстинктом опытного политика, отлично осознающего, что потенциальные силы страны губительно подорваны и при первом же крене ее качнет в губительный пустоцвет, либо, того хуже, в саморазрушительную демократию, а на Западе только этого и ждут — очень уж лаком и бесхозен кусок, чтобы не попытаться его прикарманить. Опять же, после сталинской камнедробилки все яснее вставал и главный вопрос: на каком стержне держаться далее этому огромному конгломерату; сердцевина страны, ее исторически сложившееся русское централизованное ядро подорвано и опустошено, оно уже никогда не обретет прежнего содержания и твердости, прежней цементирующей, скрепляющей силы, и следовательно… следовательно, первыми начнут отламываться национальные окраины… И следовательно, Сталин выполнил заложенную в него программу, может быть, сам того не сознавая, предопределил теперешнее безысходное положение страны и всей системы — Россия, как потенциальный конкурент с неограниченными почти возможностями, для Англии, Франции и США необратимо подорвана, ее становой хребет, русский этнос, надломлен.
Искоса глянув в сторону Брежнева, на его начинавшую отвисать от усталости нижнюю губу, Суслов вновь ушел в себя; в конце концов, и это сейчас не самое главное, все будет идти теперь раз и навсегда намеченным путем — главное сейчас — не ошибиться в расстановке сил и в следующей кандидатуре, ведь и этому остается недолго, кто на очереди?
Он оценивающе, незаметно и вскользь оглядел собравшихся, на мгновение дольше, чем на остальных, задержался на крутом затылке Гришина и эатем опять ушел глубоко в свои мысли. У него, разумеется, тоже имелись свои слабости; но самое невыносимое было находиться в одном эшелоне со всеми этими состарившимися и вынужденными уходить вместе тенями, существующими еще на этом свете лишь благодаря искусству врачей; и самое удивительное, что самый слабый и безвольный в этом уникальном зверинце объединял и примирял всех своей кажущейся слабостью и еще более кажущейся нерешительностью, давал возможность каждому проявить себя в самом запретном — этого им и довольно! Любой из них много говорит о народе, о пользе отечества; как только ты ему о конкретном деле — от тотчас тебе в рожу народ; народ в их понимании — все в том же удобном сталинском измерении — нечто безликое, стадное, управляемое; каждый из них в душе плюет на эту аморфную массу — народ и делает свою игру; но, однако же, необходимо выиграть еще год, два, нужно как-нибудь сохранить сложившийся статус-кво, иначе опять начнутся апелляции к несуществующей демократии и народу. Вот уже много десятков лет с наслаждением урчат и грызутся вокруг кости равенства и братства, и отвлекать население от полезного занятия было бы весьма неразумно — гениальная ведь шутка эта кость равенства; еще сотнями лет будут лежать вокруг и, урча, сторожить, как бы не досталась другому, пусть даже и соседу.
Суслов остался доволен своей мыслью; она его раззадорила и даже взбодрила. Вот и пусть себе тешатся и сочиняют забористые частушки и анекдоты о генсеке, особого вреда никому, только польза.
Вскользь Суслов высказал вслух согласие с предложениями Малоярцова, хотя был твердо уверен в их нецелесообразности и невыполнимости, затем с еще большим изяществом также незаметно и вскользь выразил удовлетворение прозорливостью Леонида Ильича, предложившего принять необходимые меры, чтобы дело опять не дошло до международной перебранки, и затем все, довольные друг другом, разошлись. Правда, перед уходом Леонид Ильич успел о чем-то накоротке переговорить с Сусловым и со Щелоковым, и лицо у него повеселело. Дело в том, что, слушая Малоярцева, одного из самых верных и старых своих людей еще со сталинских времен, он был озабочен совершенно другим и думал о самых земных и простых вещах, о дочери и зяте; вот опять разбежались, и их снова надо мирить, жена, конечно, не успокоится, пока он этого не сделает. Еще один очередной развод непутевой дочери опять отзовется черт знает каким резонансом по всему миру; в конце концов, он не настолько глуп, чтобы не знать себе истинной цены — власть еще было можно кое-как получить, но удержать оказалось немыслимым, она утекала капля по капле, и, чтобы сохранять хотя бы видимость, приходилось быть неосмотрительно щедрым; фактическая власть теперь уже принадлежала другим, сумевшим подобрать для этого ключи; дочери, жене непрерывно нужны валюта, бриллианты, у них какие-то сомнительные бесконечные знакомства, они втягивают в них и его. Он вспомнил один, особенно унизительный случай (дочь забрала в ювелирном понравившийся ей баснословно дорогой бриллиант, расплатившись распиской) и, взглянув на сухое, бесстрастное лицо Суслова, отвел глаза; в сложившейся иерархии свои законы, хочешь не хочешь, их надо придерживаться, иначе никакая партия тебе не поможет. Он и сам держится лишь потому, что никому, в том числе и собственной жене, старается без крайней необходимости не мешать; в конце концов, к этому можно привыкнуть, это не так уж и трудно.
Он приехал на дачу к зятю затемно, в одиннадцатом часу, и Чурбанов, давно уже пивший от мужской обиды в одиночестве, все-таки встретил его, стоя у стола, беспорядочно уставленного бутылками и закусками, профессионально отметив, что девятка еще до появления гостя перекрыла все выходы и входы.
— Сергей, налей-ка по рюмочке, — попросил Брежнев, ставя на стол бутылку коньяку и старчески равнодушно глядя на зятя, даже жалея его; Чурбанов, крупный, высокий, с бледным от перепоя лицом, на котором только изломанные брови выдавали сейчас его состояние, открыл широкую приземистую бутылку, налил в хрустальные рюмки.
— Ну, вот что, Сергей, — продолжал Брежнев, приподнимая свою рюмку и, как всякий, ранее много пивший человек, несколько оживляясь. — Выпьем, и кончайте дурака валять, — он было неуверенно потянул рюмку ко рту, но, видя, что зять стоит молча и неподвижно, выбирая время вставить слово, торопливей, чем хотел, закончил: — Во-первых, ты становишься членом ЦК плюс первым заместителем министра внутренних дел… но ты останешься с Галиной, и больше никаких разговоров… Стыдно такому здоровому мужику не уломать… Это уж твое дело, как ты справишься… Не позорь себя и меня… А главное, зачем же, если есть возможность быть первым? Ну…
Глядя друг другу в глаза, они чокнулись и выпили; страдая от унижения, Брежнев пошлепал тяжелыми губами, вновь указывая на рюмки; неловкость, охватившая его перед дачей зятя, исчезла, и он чувствовал себя свободнее; просто продолжался все тот же нескончаемый рабочий день, он выполнил сейчас еще одно, правда, далеко не из приятных, но необходимых дел; в конце концов, оно было важнее недавнего обсуждения очередного разногласия между военными и учеными — не в первый раз, как нибудь разберутся. В конце концов, могли бы и не надоедать ему такими пустяками, тысячи человек задействованы, получают немалые деньги, а как чуть застопорило, ломятся через самые верха, как будто нет иных, промежуточных звеньев и сам он всемогущ, черт-те что, с собственной дочкой не может справиться, пора бы уже на покой….
И действительно, хотя в состоявшемся обсуждении Малоярцеву ничего определенного вроде бы не было сказано, ничего не было увязано и решено, Брежнев в своих неясных высокомерных старческих мыслях за рюмкой коньяку на даче у зятя не ошибся: в целенаправленные движения тотчас включились силы, ждавшие лишь сигнала; состоявшийся обмен мнениями наверху в тот же час был тщательно проанализирован и должным образом истолкован; и даже неопределенность и старческая расслабленность самого Леонида Ильича, немногословность в данном вопросе Суслова — все было учтено и расписано по соответствующим графам. После появления во Франции очередного пространного и дерзкого заявления академика Обухова запущенная машина сдвинулась, заскрежетала и начала раскручиваться, и теперь ее нельзя было ни остановить, ни притормозить. Сам Обухов категорически отверг предложение выступить с опровержением своего же собственного мнения; большинство академиков, в свою очередь, отказалось осудить Обухова и тем более отвергло предложение правительственных кругов исключить его из своих рядов; предложение это, высказанное в весьма тонкой обтекаемой дипломатической форме, вызвало среди ученых мужей взрыв негодования. Тогда и выплыла единственная возможность, не унижая достоинства государства, рассечь затянувшийся узел: план действий, известный весьма узкому кругу лиц, был составлен и тотчас начал осуществляться. Полагая себя всеобъемлющими и всемогущими, люди как всегда заблуждались, и поэтому намеченный план был приведен в исполнение совершенно иначе, чем первоначально намечалось.
Резонно полагая, что каждое его слово, каждая встреча фиксируется и никакая конспирация ему уже не поможет, Обухов ни в чем не изменял своих привычек; однако накинутая на него петля затягивалась, и он, еще раз тщательно продумав и проанализировав положение, пригласил Вениамина Алексеевича Стихарева, своего заместителя по науке в институте, съездить за город подышать. Притормозив на пятидесятом километре Каширского шоссе, оставив машину на обочине дороги и негромко разговаривая, они медленно пошли в глубь пустынной березовой рощицы. Оглянувшись и увидев неподалеку от своей машины на обочине нарядную голубую «Волгу» и выпорхнувшую из нее спортивного типа высокую девушку, принявшуюся озабоченно копаться в моторе, Обухов попросил Стихарева обождать, вернулся к машине, включил радио, насмешливо, даже с каким-то неосознанным вызовом, прокашлялся и увел заинтересованно ожидавшего своего заместителя еще дальше от дороги, в глубь рощицы.
Выйдя на небольшую полянку, с наклонившейся на ней развесистой старой березой, академик, хозяйски оглядевшись, указал на обложенное дерном кострище и старую толстую валежину, вытертую до блеска любителями природы.
— Здесь неплохо, коллега, — пригласил Обухов, опускаясь на бревно, и Стихарев, ни слова не говоря, устроился рядом. — Чувствуете, отъехали не так уж и далеко — и уже есть чем дышать, голову отпустило, — небрежно произнес Обухов, сосредоточенно глядя перед собой и думая совершенно о другом.
Стихарев молча кивнул, присматриваясь к шефу и продолжая гадать о причине столь экзотической прогулки, — они привыкли понимать друг друга с полуслова, с одного взгляда, вскользь брошенной интонации. В институте много судачили по поводу молниеносного взлета Стихарева и на поприще науки, и по служебной пирамиде. Высказывались предположения о каких-то личных, чуть ли не родственных связях между ними, некоторые даже поговаривали о прямом родстве, будучи студентом и аспирантом, Стихарев, на взгляд некоторых, слишком много ездил с Обуховым в экспедиции…
Словом, Стихарев стал уже несколько тяготиться создавшейся вокруг него атмосферой и даже, по возможности, избегать излишнего общения с Обуховым, и тот, со свойственной ему чуткостью ощутив перемену, и сам стал сдержаннее и суше — короткие служебные разговоры, согласование долгосрочных программ, кадровые вопросы… Стихарев страдал, но на попятную не шел, и отношения между ним и Обуховым стали потихоньку укладываться в жестко обозначенные берега. И вдруг приглашение, поездка за город в разгар рабочего дня, да еще эта дикая фраза: «Единожды не предавши и не покаявшись, не попадешь в царствие Божие…», мучившая Стихарева с момента, как он ее услышал. Решительно усевшись на валежину и выказывая пренебрежение к своим ослепительно бежевым брюкам с затейливой строчкой, он, услышав просьбу Обухова сохранить их разговор в строгой конфиденциальности, густо порозовел. Он слишком сосредоточился на себе и промедлил с ответом, и Обухов, искоса с выжиданием глянув, продолжал говорить дальше. Стихарев, с сильными, открытыми до локтей руками, в своей щегольской бежевой летней куртке, сразу словно перешагнул некий невидимый рубеж и попал в разреженную атмосферу. Ему, впервые в жизни, сделалось на душе неуютно, и он бережно, как когда-то в тяжелых таежных походах, смахнув испарину со лба тыльной стороной ладони, ощутил мучительное, радостное разрешение от вернувшегося чувства духовной близости, какой-то даже нерасторжимости вот с этим бесконечно уставшим и уже совершенно отчаявшимся старым человеком — академиком Обуховым. Боясь выдать себя, Стихарев слушал, крепко зажав сильные, не знавшие, что делать, руки в коленях, уставясь в землю перед собой в какую-то полуобгоревшую, помятую консервную банку; нелепая неожиданная мысль о беспредельном могуществе и таком же беспредельном бессилии старости мешала ему сосредоточиться в главном. Он поднял глаза, и академик оборвал.
— Почему же вы молчали? — спросил Стихарев, не отводя все тех же горячих глаз, заставивших Обухова смешаться. — Я, конечно, многое знал, догадывался… теперь чувствую себя мальчишкой, дураком…
— Вы завершали исследование, важное для целого направления, — остановил его Обухов, — но теперь ждать более нельзя. Вы, коллега, должны узнать главное. На той неделе, полагаю, в среду — четверг, в институте состоится собрание… меня освободят от должности. Вы должны подготовиться, собраться с силами, слышите, собраться и выступить.
Засидевшийся Стихарев вскочил, обуздывая свой взрывной темперамент, пробежал вокруг кострища раз и другой, время от времени останавливаясь и грозясь кое-кому прочистить мозги, и тогда Обухов, устало улыбаясь, вспомнил один смешной случай, когда вот этот же самый Стихарев, провалившись на вступительных экзаменах по русскому языку, ворвавшись в его кабинет, бегал вокруг длинного стола для заседаний и вопил, что он поступает на биологический, что для него важен иной язык… одним словом, нес всякую чепуху.
— Простите, коллега, — вынужден был остановить собеседника Обухов. — Вы никому, ни одной живой душе, слышите, даже жене, не скажете о нашем разговоре, о предстоящем собрании… Вы, коллега, выступите с самой жестокой критикой директора института, его поведения, вы заклеймите его, как… как отступника и предателя отечественной науки и… отречетесь от него. Да, да, отречетесь! — понижая голос, Обухов встал, шагнул через кострище к ошеломленному Стихареву, положил легкую, сухую руку ему на плечо; по крепкому, молодому телу Вениамина Алексеевича потек от этого старческого прикосновения брезгливый озноб.
— Я не женат, — неожиданно, с длинной усмешкой оповестил он, и Обухов по загустевшей синеве глаз своего бывшего ученика видел, как бешено и, неостановимо заработал его мозг, пытаясь уловить и уяснить происходящее. — Не делайте из меня идиота…
— Мы должны спасти институт, коллега, его фундаментальные программы. Я уже многое подготовил, вы должны сменить меня, Вениамин Алексеевич…
Никогда еще Обухов не видел такого потухшего лица у молодого, здорового человека; одним движением стряхнув руку академика с плеча, Стихарев спросил:
— А мое имя? Вы — мой учитель: никакая наука, никакой институт не стоит этого… я никогда, слышите, никогда не переступлю эту гнусную грань. Вы знаете, я потрясен…
Обухов отвернулся, шагнул к валежипе и, чувствуя непреодолимую слабость, сел на старое место. Стихарев что-то еще говорил, но академик уже не слышал его, они оказались в двух разных мирах и, значит, не могли понять и принять друг друга. Русская интеллигенция давно искусственно разобщена, и дело движется к завершению; очевидно, прав милитарист Шалентьев. Когда еще тот же Вениамин Алексеевич Стихарев, талантливейший биолог, поймет происходящее, поймет необходимость бороться с безжалостным врагом его же методами, наработанными тысячелетиями?
Встретив изучающий, внешне спокойный взгляд академика, Стихарев замолчал.
— Простите, коллега, забудьте мои слова, — поморщился недовольный собой, своей горячностью Обухов. — Я просто упустил из виду, что эта международная банда вот уже более семидесяти лет нивелирует интеллект целого парода, усыпляет его самозащитные свойства, бесчестно гипертрофирует это пресловутое чувство русской совести. В борьбе за истину — совесть элемент весьма сомнительный… Вы ученый, хорошо знаете…
— Остановитесь, Иван Христофорович, дальше даже вам нельзя. За вами мировой авторитет, признанная школа, новое направление — биокосмология…
Обрывая Стихарева, академик мрачно поднялся с валежины.
— Плевали они на международные авторитеты! На меня с вами тоже!
В доказательство своих слов он неожиданно ловко ударил носком ботинка по старой, прогоревшей консервной банке, и она с дребезжащим звоном отлетела далеко в сторону.
В один из нескончаемых дней вынужденного бездействия на квартире Обухова настойчиво звонил телефон; он, вопреки твердому намерению и близко не подходить к телефону, почему-то снял трубку — должен ведь Вениамин Алексеевич Стихарев опомниться и позвонить! Едва услышав далекий голос, он, выражая подлинное недоумение, подняв брови, положив после короткого разговора трубку, окончательно нахохлился; в проеме дверей появилась жена, помедлив, подошла, села рядом с ним на диван, исподволь присматриваясь.
— Свершилось! — заявил он озадаченно. — Не пугайся… ага. Сейчас всего восемь часов… К нам в гости напросился мой бывший профессор, совсем старый человек. Я согласился. Совершенно не представляю, что им еще надо от меня? — в раздумье проговорил он. — Опять атака? Он работает референтом на самом верху…
— Придет — узнаем, — коротко подвела черту Ирина Аркадьевна, принимаясь за дело, и, когда в передней раздался звонок, она, сняв фартук, опережая мужа, вышла открыть. Перед ней предстал высокий, белоголовый мужчина с букетом кремовых свежих, казалось, еще в капельках росы, роз, с дорогой палкой из черного дерева и с набалдашником из слоновой кости.
— Очень рада вас видеть, Илья Павлович, — сказала она улыбаясь, принимая у него розы; зажав палку у себя под мышкой, он поцеловал ей руку, показывая круглый, в густых жестких зарослях затылок. «Он совсем не выглядит таким уж старым», — подумала она, пригласив гостя проходить, — из дверей кабинета в противоположном конца просторной прихожей, навстречу гостю уже шел Обухов. Тяжело стукая палкой, гость кивнул, прошел в кабинет, тяжело опустился в предложенное кресло; хозяин сел напротив, спросил о здоровье, гость коротко поблагодарил, и с минуту они еще сидели молча, затем Обухов взглянул на пришедшего в упор.
— Ничего хорошего, — угадал его мысль Глебов. — По вашему мнению, я подлость совершил, послушался их и позвонил…
— Чего же они хотели добиться через вас? — спросил Обухов, подумав о тайном вечере и стараясь вызвать в себе какие-нибудь добрые воспоминания в своих отношениях со старым профессором, сейчас одним из личных советников по науке там, на самом верху. Наверное, не надо было отзываться на этот фальшивый манок; тотчас из небытия выплыл Вавилов, какие-то пугливые шепотки с осторожной оглядкой как раз на Илью Павловича Глебова. И все-таки нужно выяснить причину прихода, утвердиться в своих опасениях окончательно и тогда уже больше не оглядываться — еще таилась какая то малообъяснимая фантастическая надежда хоть на малейший просвет, не могли же все без исключения превратиться в. идиотов и подлецов — даже для человеческой породы такое невозможно в столь короткий, в семьдесят лет, срок. И он решил помочь своему старому профессору, мучающемуся теми же вопросами и скрывающему неловкость и неприязнь к своему бывшему ученику за приветливым ровным выражением лица.
— Ну что, Илья Павлович, — подбодрил Обухов, — давайте без околичностей, напрямую, как когда то вы меня учили…
— Вот именно! — заметно оживился Глебов. — Вас мне учить больше нечему, проповедник из меня никудышный. Затеяли безнадежное дело, проиграли, и нужно достойно отступить, с наименьшими потерями.
— Всегда преклонялся перед четкостью вашей мысли, — сказал Обухов, он и не ожидал ничего другого.
— Необходимо, Иван Христофорович, напечатать в журнале у Вергасова солидную статью, отмежеваться от всего появившегося в заграничной прессе от вашего имени, — уже более уверенно продолжал Глебов. — Другого пути просто нет, коллега, угробят, и все.
— У Вергасова… Мне недавно говорили, что он болен и в журнале всем вертит его заместитель — некто Лукаш.
— Какая разница? — удивился гость, слегка пристукнув палкой. — Я тоже слышал, что это весьма талантливый молодой человек, сложившийся главный редактор.
— Думаете? — кивнул Обухов, встал, прошелся вдоль высоких, предельно загруженных стеллажей; Глебов терпеливо ждал, со скрытой иронией наблюдая за мотавшимся у стены скандальным академиком. Он не осуждал его, просто холодно и бесстрастно наблюдал; он давно постиг одну бесспорную истину: никто не может безнаказанно и не должен нарушать равновесия миропорядка, пусть эфемерного, призрачного, вот-вот готового обернуться своей противоположностью, даже хаосом… Человечество связано в одну сросшуюся уродливую систему, она может перевернуться с боку на бок или шагнуть вперед лишь вся целиком, во всеобщей мучительной судороге, а такие вот отдельные безумцы, как его бывший студент, заранее обречены. Они довольствуются блистающими миражами; правда, иногда даже на них находит просветление, на какое-то время вокруг них устанавливается тишина.
— А вы, Илья Павлович, хотя бы представляете масштабы и последствия зежского дела? — спросил Обухов, неожиданно резко останавливаясь перед Глебовым и пытливо всматриваясь в его лицо.
— Может быть, даже больше, чем вы предполагаете, Иван Христофорович…
— Тогда наш дальнейший разговор излишен, честь имею! Это ведь чистейший сатанизм… Ведь оружие накоплено для вселенской гибели дважды, трижды, четырежды, много больше! Дальше идет уже не контролируемый процесс, переходящий в безумие самого инстинкта…
— Зачем же вы согласились на встречу?
— Слаб человек, а чудес, как известно, не бывает… вот и не будем терять время…
— Вы погубите себя, Иван Христофорович, опомнитесь!
— Не надо меня пугать, — с досадой попросил Обухов, однако тут же, не опуская напряженного взгляда, заставил себя улыбнуться. — Последнее время я часто думаю о судьбе Вавилова… вы его, конечно, должны помнить… По-вашему, очевидно, он сам себя погубил… я же совершенно другого мнения…
Ни один мускул не шевельнулся в лице Глебова, лишь произошло какое-то судорожное движение в сухих руках, и набалдашник палки с легким хрустом переместился из левой в правую, и глаза стали мертвыми. И тогда оба они, охваченные странным, тягостным и в то же время непреодолимым чувством, не желая того, заглянули в бездонную, внезапно разверзнувшуюся между ними пропасть.
— И все же не торопитесь решать, — остановил хозяина Глебов. — Задержитесь, пожалуйста, всего несколько минут. Конечно, считать себя героем, мучеником, щекотать себе самолюбие — весьма и весьма увлекает. Простите, вы давно не мальчишка… Не смотрите на меня этаким снобом… Существует власть — необходимо ее обслуживать. И чем квалифицированнее, тем лучше для того же народа и государства. Еще раз советую вам опомниться, смирить гордыню.
— Стараетесь уравнять меня с собой, вам неловко? — изумился Обухов.
— Не знаю, кто из нас хам больше, коллега…
— Прощайте, Илья Павлович. Честь имею! — Обухов порывисто встал, подошел к двери, толкнул ее и останавливающе поднял руку.
— Ирина, профессор торопится и не может остаться ужинать. Прости…
Открылась и вновь захлопнулась массивная тяжелая дверь, и Ирина Аркадьевна присела в привычное кресло в передней, ожидая объяснений, но муж в ответ на ее взгляд лишь пробормотал: «Потом, потом», — прошел в ванну, где вскоре шумно полилась из крана вода. Минут через пятнадцать он лег в халате на удобный кожаный диван в своем кабинете, включил светильник в его изголовье и придвинул к себе сложенные стопкой новые научные журналы; посмотрев оглавления двух или трех номеров, он, прислушиваясь к беспокойному хождению жены по квартире, заставил себя расслабиться, вспомнить детство, мать, отца; детство нахлынуло мягкой розовой дымкой, перемешало тихую улыбку матери, грустные и умные глаза отца, повеяло неистребимыми запахами Староконюшенного переулка, их старой квартиры за номером семь на втором этаже, давно уж коммунальной; восьмикомнатных квартир и в природе, пожалуй, больше в Москве не существует…
Сон пришел незаметно, не потребовались ни транквилизаторы, ни снотворное, ровно в девять утра его разбудил телефонный звонок. Он сдержанно, недовольно поздоровался и тут же заторопился, вскочил, громче задышал в трубку.
— Непременно, согласен, — ответил он, — буду готов обязательно. Конечно, конечно, дня на три четыре, ничего лучше и желать нельзя. Ирина, Ирина! — позвал он по-молодому звонко. — Иди скорее сюда, помоги мне! Скорее! Где мои походные сапоги! Куртка?
Поднялась суматоха; Ирина Аркадьевна, хорошо зная мужа, ничего не расспрашивая, принесла из кладовой требуемое — и сапоги, и куртку, и походный баульчик, стоявший у нее всегда наготове со всем необходимым для срочного отъезда мужа.
— Лечу через два часа на Зежский кряж, — энергично топая сапогами в пол, сообщил Обухов. — Вертолетом, жаль только, никого нельзя с собой взять, ни Петра Тихоновича, ни Екатерину Андреевну… Лучше всего, конечно, было бы Вениамина Алексеевича. Мест нет, берут только меня одного. Один вертолет уже улетел, знаешь, назывались довольно уважительные имена. В том числе Владислав Степанович Брутберг — биофизик… Ну, ты его знаешь. Вот видишь, никогда нельзя опускать руки. Кажется, Петр Тихонович вернул дозиметр после своей поездки?
— В бауле, на месте, — ответила Ирина Аркадьевна. — Почему так срочно? Почему не с первым вертолетом? Почему ты один? Ты что — известный академик или начинающий лаборант? Иван, ты, конечно, поступишь по-своему…
— Логика, Ирина, логика, — весело ответил Обухов, стремительно рассовывая необходимые мелочи, по карманам куртки… — Им приходится считаться с общественным мнением научных кругов… Все таки старый профессор сумел, очевидно, растолковать суть дела кому надо. Спасибо ему… Никогда нельзя думать о человеке, исходя только из своих амбиций… Я принесу ему свои извинения… Да, да, здесь и Малоярцеву не просто. Вынужден ведь согласиться с моей персоной, с моими доводами.
— Кофе или чай? — еще безнадежнее спросила Ирина Аркадьевна.
— Кофе, конечно, кофе! И несколько гренок! Ты их прекрасно делаешь! — еще веселее потребовал он и уже через полчаса катил на какой-то закрытый аэродром, а еще через полчаса, посасывая леденец, вежливо предложенный ему молодым серьезным человеком, сидевшим рядом, он, неловко выворачивая голову, косился в иллюминатор на уносившуюся вниз и назад землю. Тот же молодой человек предложил ему свежую газету, и Обухов, поблагодарив, отказался и остро пробежал взглядом лица сидевших напротив людей. Все они были сравнительно молоды, годились ему в сыновья и внуки, и он неожиданно подумал, что так и не обзавелся собственными детьми, сначала боялись связать себя, а затем, как всегда, оказалось поздно, поезд ушел. Надо полагать, именно они, эти молодые люди, призваны рассеять его опасения по Зежскому региону. Что ж, он будет только рад, он даже у Малоярцева попросит прощения.
Взглянув на соседа, пытавшегося читать газету, Обухов почему-то удержался от готового вопроса, нельзя было показаться совсем уж смешным, спрашивать, куда они летят. Но так бывает, в то же мгновение вертолет тряхнуло, и сразу же пустынно сверкнула ждущая его даль. «Надули, мерзавцы! — ахнул он в неожиданном прозрении. — Какой там еще Брутберг! Надули, прохвосты! Никакого Зежского кряжа ему не видать, по уши влип, с головой, и симпатичные молодые люди вокруг — работники определенных спецслужб».
Он съежился, стал почти совсем незаметным на своем неудобном сиденьице, с которого, если бы не привязной ремень, его бы давно сбросила качка, то и дело свирепо треплющая машину. Его состояние почувствовал молодой человек рядом, заботливо поинтересовался самочувствием. Подняв на него прозревшие глаза, Обухов усмехнулся, на его обветренном, с резкими морщинами лице, как всегда в трудные минуты на людях, появилось высокомерное выражение, он сухо осведомился у своего молодого соседа, куда они летят.
И тот тоже уже все понявший и оценивший, не стал лукавить.
— На Таргайскую семеноводческую станцию, Иван Христофорович, — ответил он, как бы оправдываясь и сожалея .
— Да, — сказал Обухов. — Слышал.
— Прекрасные условия для научной работы, любая литература, хороший быт… Вы можете послать за Ириной Аркадьевной…
— Благодарю, — так же сухо оборвал Обухов. — А вы, стало быть, будете меня опекать?
— Служба, — сказал молодой человек после небольшой паузы.
— И, конечно, бумаги оформлены, печати пришлепнуты, комар носа не подточит, — сказал Обухов. — Ай, молодцы, ай, молодец Малоярцев!
— Кто-кто?
— Борис Андреевич Малоярцев, — прокричал в ухо собеседника Обухов и для вящой убедительности несколько раз ткнул большим пальцем вверх. — Все они там одинаковы, начиная с самого главного! Бедная, бедная Россия!
Приходилось почти кричать, наклонясь к уху соседа, и Обухов, увидев затаенное оживление в глазах молодого человека, ожесточенно затолкал себе в ухо вату, нахохлился и затих. Его теперь ничто больше не интересовало, грохоча и дергаясь, машина скоро пошла на посадку, по выжженной степи от нее, уплотняясь, понеслась стремительная, косая тень.
15
На обратном пути, вызвав недовольство дочери, Захар сразу же с аэродрома приехал к внуку и остановился у него. Рыбу, тяжелый, тщательно упакованный и перевитый шпагатом сверток, с проступившими жирными пятнами, он, оглядевшись, опустил на резиновый коврик у двери и, поздоровавшись с Петей, не скрывавшим своей радости, посмеиваясь про себя, пожаловался:
— Навязали, вези да вези, пусть родичи рыбки нашей попробуют… Руки оттянула, а бросить жалко. Куда-нибудь в холодное место пристроить надо….
— Подожди, рыба, родичи? Ты откуда?
— Э-э, внучек, я за три недели полсвета облетел, — засмеялся Захар. — У сынов гостевал, у Ильи на Каме, у Василия на речке Зее… Вот он и удосужил: вези да вези…
— Ну, ты даешь, дед! Молча, угрюмо, не предупредил… Откуда Денису другим быть? Весь в тебя… Ну, здравствуй, здравствуй, проходи, жена в женской консультации, отекать что-то сильно ноги стали, грозятся на сохранение положить, в стационар. Понимаешь, на шестом месяце ходит, а все не слушается, не хочет ложиться.
— Раз надо, так надо, доктора у вас хорошие, доглядят. Бабе тоже поводок нужен, — весело согласился с Петей лесник. — Да и ты, глядишь, человеком станешь, стыдно будет перед сыном-то, поди, куролесить.
— Думаешь, сын будет?
— А вот посмотришь! — подтвердил лесник и попросил внука поставить чайник.
День только начинался, и Петя, собирая завтрак, перенес сверток с рыбой на кухню; от крепкого запаха соленой рыбы он вспомнил тайгу, Хабаровск, свою первую встречу с Олей. Рассказывая о своих странствиях, о семье сына Василия, особенно ему понравившейся, дед топтался рядом, и Петя, слушая, подосадовал на себя, что дед в его годы за полмесяца смог добраться до Зеи, а он, будучи рядом, так и не познакомился с работавшим там на стройке дядькой.
— Знаешь, дед, у нас большая беда, — сказал он, перебивая. — У Обухова Ивана Христофоровича институт отобрали… Самого куда-то увезли, не сразу и след отыщешь, говорят, в длительной командировке, никто ничего не знает… А главное, непоправимое — весь институт его разогнали, сам Суслов приезжал — просто какой-то бандитизм, а не государство. Я пытаюсь кое-что сделать, выяснил точное местопребывание в Астраханской губернии, подписи под протестом собираю, так и на меня накинулись. Воронье… Знаешь, у нас обыск дважды учинили, Оля боится уже ночевать одна. Может, и лучше ей сейчас в больницу лечь. Предупредили: не остановлюсь — не посмотрят и на заслуги отца…
Молча и внимательно выслушав, лесник при последних словах поднял глаза на внука.
— А может, вправду, про себя время подумать? — спросил он. — Вроде только устраиваться потихоньку стал…
— Не знаю, дед, не могу, — замотал головою Петя. — Совесть замучит, ты же знаешь Ивана Христофоровича… Требуют, на первый взгляд, немного — дать опровержение в газету или журнал по поводу выводов Обухова относительно Зежского региона….
Внук еще продолжал что-то говорить, но лесник уже не слышал его, старался не выдать тревоги; близилась большая беда, завязывалась в тугой узел, и он, стараясь увести внука в привычный и понятный мир, спросил про сестру, но Петя, разгорячившись, лишь пробормотал что-то невразумительное и недовольно поморщился.
С Ксенией леснику помогла встретиться Аленка; она с готовностью продиктовала ему по телефону адрес, посоветовала о своем приходе не предупреждать, и Захар после недолгого размышления так и сделал. Сам он почти не знал внучки; увидев в дверях молодую, высокую женщину с тенями усталости под глазами, не ответившую на его скупое: «Ну, здравствуй», оп замешкался.
— Вам кого? Вероятно, ошиблись?
— Да к тебе я, внучка, — совсем просто сказал он. — Неужто совсем не признаешь?
— Простите… вы — дедушка Захар? — неуверенно спросила она. — Из Густищ? Проходите, пожалуйста, — по-прежнему не совсем уверенно предложила она, с каким-то усилием отстранясь от двери, и лесник, перешагнув порог, оказался в крошечной прихожей, где им вдвоем было уже тесно. Он неловко вертел в руках коробку дорогих копфет, переданную для сестры Петей, заметив, что внучка неприязненно смотрит па злополучную коробку, он неловко сунул ее на какой-то крохотный трельяжик: «Тебе, тебе, как же…», и облегченно вздохнул.
Ксения провела его в небольшую, тесно заставленную вещами комнату, пригласила садиться, устроилась напротив и с откровенным любопытством взглянула в глаза, — тут лесник вспомнил, что она лет на пять старше брата и ей сейчас, видать, под сорок.
— Ну, гляди, гляди, внучка, видать, досада у тебя на деда. Приперся, черт старый, как из омута вынырнул. А мне ничего от тебя, внучка, не надо. Вот такой, — показал он на вершок от пола, — на руках тебя держал…
По-прежнему молча, во все глааа рассматривая деда, чувствуя за его словами скрытый, пока не доступный ей смысл, Ксения старалась хоть что-нибудь связанное с жизнью деда вспомнить и несколько привыкнуть к его присутствию, не особенно скрывая своей настороженности. Она много слышала о нем, в один момент, когда ей было совершенно уж невмоготу, даже думала съездить в лес, побыть в тишине, в одиночестве, на природе, но порыв быстро прошел, и все осталось по-прежнему. Теперь дед сидел перед ней неожиданно совсем близкий, и она невольно потянулась к нему, ни оправдываться, ни защищаться ей не хотелось, и, если старик умен, он должен понять ее, больше ей ничего и не нужно.
Она подняла голову и, с усилием сохраняя на лице прежнее, холодновато-недовольное выражение под его понимающим взглядом, уже не стесняясь, достала сигареты и зажигалку и закурила.
— Трудно тебе, внучка, а? — тихо спросил лесник.
— С чего вы взяли, дедушка? — ответила она, не раздумывая, с мимолетной, неизвестно о чем, истинно женской улыбкой, глубоко затягиваясь дымом сигареты. — Вижу, вам уже наговорили…
— Никто мне не наговаривал, — покачал головой лесник. — У меня своя голова есть, вижу… Думал я про тебя часто, вот и пришел, ты на мать с братом не серчай, они тебя жалеют.
— Я, дедушка, хорошо живу, — быстро сказала Ксения, неторопливо гася сигарету в пепельнице и сцепляя длинные тонкие пальцы с яркими ухоженными ногтями. — Я нормально живу. Если вам это важно, то у меня все хорошо… И на вас я не обижаюсь, лишь бы Денису было хорошо. С Денисом я сама виновата. И хорошо, что так вышло, а то вырос бы какой-нибудь слюнтяй… Часто я к вам хотела приехать, один раз даже приезжала в Зежск, к Денису… Он не говорил? Очень хотела вас увидеть обоих, хотела и боялась. Так себя и не пересилила. Не смогла побороть свою трусость. На кого же теперь обижаться? — быстро добавила она, слегка кося глазами, сорвалась с места и замерла у холодного отсвечивающего темными стеклами окна. Она испугалась почти физического приступа внутренней боли, она никогда не разрешала себе думать именно над этим и других обрывала резко и зло, если они пытались нечто подобное сказать ей. Окно было на четвертом этаже, выходило во двор, и в неярком свете ночного фонаря она видела изгибавшиеся под ветром знакомые вершины вязов. На них кое-где еще цепко держалась полузасохшая листва; отвернувшись от окна, она сказала:
— Правда, нечего мне рассказать. Обыкновенная женщина, никакая не героиня, не как моя мать, хочу жить, как могу, чтобы меня не трогали. Мама в одном права: не встретился стоящий человек… вот теперь одна. Должна научиться жить одна, дед, другого выхода не знаю, не вижу.
— Молодая, здоровая баба и одна? — но согласился лесник. — Вы тут с ума посходили… Природу перехитрить хочешь? Не получится, внучка. Или уж совсем мужики перевелись?
— Какие мужики сейчас, дед? — неожиданно совершенно по-бабьи вздохнула Ксения. — Только ты, дед, не думай, я никого не виню. Наши мужики не виноваты, что они такие, их такими жизнь вылепила… вот и приходится в одиночку пробавляться.
Лесник встал и пошел осматривать состоявшее из двух небольших комнат и кухни жилье внучки; Ксения заинтересованно следила за ним: мать, оказывается, не оставила попыток вернуть заблудшую овцу, даже деда мобилизовала, вытащила его из дремучих лесов. Почему они не оставят ее в покое? Она их не трогает, живет себе и живет, а они все время пытаются что-то изменить в ее жизни… То, что случилось, случилось, и прежних отношений вернуть невозможно; пусть мать права, и теперь лишь упрямство не дает признать ее правоту, и ее первый муж негодяй и, что еще хуже, ничтожество, обыкновенный сутенер, умело замаскировавшийся под идейного борца, современная разновидность этакого страдальца за истину, а на самом деле всего лишь болезнь века, вырождение мужского начала. Признать свое поражение именно перед матерью что-то мешает, да и зачем? Она сама знает, что дико, противоестественно никуда не стремиться, но переделать себя пока не может. Впрочем, так ли уж дико и противоестественно? В конце концов, главное — остаться самой собой, так ли уж обязательно карабкаться вверх, к социальной вершине? Мать привыкла и не мыслит себе иной жизни, иной судьбы. И в этом несчастье, трагическая ошибка; сейчас не хватает людей, находящих смысл именно в самом будничном; довольно высот и невиданных подвигов, ряд поколений и без того работало на износ; сейчас для равновесия, для восстановления генного фонда необходима тишина, остановка, передышка.
Тут Ксения поймала себя на том, что повторяет мысли своего первого мужа, недовольно поморщилась, вновь потянулась было за сигаретами и зажигалкой, но, пересилив себя, прислушалась к шагам деда, который тем временем обошел квартиру, бесцеремонно распахивая двери и заглядывая во все углы. Леспик сейчас чувствовал себя так, словно забрел в глухое, потаенное, незнакомое место и не знает, как выбраться теперь отсюда назад, из этой глухомани. Он не разбирался в модных вещах, но сейчас понимал, что вокруг много именно дорогих и даже редких ценностей; на кухне он увидел прямо в мойке груду грязных цветных высоких и узких фужеров и рюмок, на бархатной затейливой обивке дивана валялась золотистая туфля со сломанным металлическим, очень тонким, как гвоздь, каблуком, с присохшей к нему глиной, а рядом на обрывке газеты он заметил щепоть мелких гвоздиков и молоток. Его придирчивый, ничего не пропускающий взгляд отметил и прожженную в двух местах от курения наборную полировку низенького столика и какой-то налет запустения, заброшенности вокруг, свойственной скорее гостиницам и мужским общежитиям, чем жилью молодой красивой женщины, и это расстроило его. Он постоял перед книжными полками, уставленными дорогими безделушками, сказал про себя: «Вот ведь какое баловство! Некому было ума вложить куда следует!» — и вернулся к низеньким бархатным креслам и журнальному столику; внучка встретила его прямым насмешливым взглядом.
— Хорошее у тебя жилье, только лентяйка ты, видно, — укорил лесник, тяжело опускаясь на стул. — Прибираться не любишь….
— Не люблю, дедушка, — быстро, словно принимая вызов, отозвалась Ксения. — Но это мое только дело, я никого не трогаю, работаю, живу честно, не ворую, не разбойничаю… Вот и скажите матери, зря она беспокоится, у меня все нормально…
— Да при чем здесь мать?
— Она же вас послала…
— Ну и сору у тебя в башке, Ксения, — огорчился лесник. — «Живу честно, работаю…» А внутри-то у тебя что? Труха! В твои годы! Тьфу! Никто меня не посылал, я матери твоей даже не видел еще! Чем тебе собственная мать не угодила?
— Хотите сказать, что вы своей волей пришли ко мне?
— Дура ты, хоть и ученая! — опять не сдержался он. — Объелись вы тут, кроме себя никого не видите. Ладно… Глухому кричи не кричи, не услышит. Пойду.
— Простите, дедушка, как думаю, так и говорю… Зачем же вы приходили? — спросила она, ищуще бегая по его лицу беспокойными, чуть косящими зрачками. — Сейчас ведь никому ни до кого нет дела… Вы, дедушка, скажите, я пойму… постараюсь понять!
— А тут и понимать нечего, — ответил лесник, и от его взгляда Ксении стало не по себе. — Может, оно от сумрака души, внучка, бродяжествую, — продолжал он, еще пристальнее и глубже заглядывая ей в глаза. — Ты мне через сына своего Дениса, может, самая родная, ближе и не бывает… Вот и заглянул сказать — спасибо тебе за Дениса, хорошего ты человека в мир принесла…
— Дедушка Захар, да вы что? — вскинулась Ксения, вся потянулась навстречу, и глаза у нее дрогнули, засияли, стали какими-то бездонными. — Правда? Нет, дедушка, правда? Да что я спрашиваю! Но разве есть на свете счастливые люди?
— Это ты к чему? — поинтересовался он, вроде и осуждая себя за минутпую слабость, за дополнительный нелегкий груз, невольно взваленный им на хрупкие, слабые плечи, и в то же время довольный своей решимостью; внучка оказывалась не такой уж ученой индюшкой, и сердце у нее, наконец, заговорило.
— Понять, дедушка, и есть подлинное счастье, — сказала она, уже не стараясь скрыть прорвавшегося волнения. — Если бы я смогла понять себя… мать, брата.. О Денисе я не говорю, с Денисом я сама виновата. А то вот сижу, злюсь на себя, на весь мир…
— Ну, не знаю! — остановил он недовольно. — Мать у тебя во всем виновата. Мать не угодила! Мать, значит, для себя все выкраивает: и работать ей, и Петра спасать, и Дениса тянуть, и про тебя помнить… Тягловая лошадь, все хочет осилить, а ты тут сидишь и рассуждаешь, голова у тебя пухнет от безделья. Не по-твоему все… Вот и бери, и делай по-своему, но только делай! Дурь вмиг соскочит! От безделья ваши болячки!
— Учить вы все горазды! — теперь уже намеренно, защищаясь от неожиданной сумятицы, повысила голос Ксения, и в лице у нее полыхнул темный румянец, глаза сузились, и она стала похожа на отца. — А вы сами Петю испортили!
— Я? — выдохнул лесник, от изумления откидываясь назад, не зная, смеяться ему или сердиться.
— Вы, дедушка Захар, вы! — решительно заявила она. — Про вас слишком много говорили, такой да сякой! Вот вы о себе и возомнили… Вам надо бы не в лесу жить, а в Москву ехать, внуков уму-разуму наставлять, раз вы такой умный и замечательный.
— Ксюшка, прибью! — пригрозил лесник, в самом деле угрожающе сцепляя пальцы.
— Не прибьете! — с вызовом бросила она, на всякий случай подхватившись с места и отступив к стене за спинку стула, выставляя его перед собой для защиты; лесник по-прежнему не мог понять, всерьез она говорит или шутит. — Не прибьете, — повторила она, как-то в один момент приблизившись, обняла его сзади за шею. — Вы считаете, что имеете право, раз вы заслуженный, разъезжать по свету и всех учить? Не надо, дедушка, вы же умный. Со своими делами я сама разберусь. Шишек побольше нахватаю и разберусь. Так ведь всегда было, а, дедушка?
— Было, — сказал лесник тихо, чувствуя какую-то непривычную размягченность от прохладных тонких пальцев, забравшихся ему в волосы. — Знаешь, ты бы взяла и приехала, — предложил он неожиданно. — Нарядилась бы, всякий там кандибобер навела.
— Договорились, дедушка, — согласилась Ксения и тихо убрала руки. — Отпуск возьму, раз приглашаете…
— Приезжай, внучка, — попросил он, боясь спугнуть ее, и она, небрежно, как бы между прочим спросила:
— А что ж вы мне про Дениса ничего не скажете?
— Нечего мне сказать, — махнул он рукой. — Не знаю я, сам маюсь… Ничего от него нету. Жди… Что тут еще скажешь?
— Дедушка, и вам тоже? Шестой месяц никому не пишет? Ни бабке, ни дядьке? Ни мне… Я уже запрос в часть сделала…
— Терпи, — оборвал он с какой-то даже угрозой, — Мало ли куда солдата может занести?
16
Гостя у внука, окруженный заботой его жены, сразу же, с чисто женской интуицией почувствовавшей в нем родное, дружеское расположение и ответно, по-дочернему потянувшейся к нему, лесник все чаще вспоминал кордон. Прислушиваясь по ночам к неумолчной жизни огромного города, он мало спал, ворочался, вздыхал, морщась, пил безвкусную, отдающую хлоркой воду. Петя, занятый своими непонятными делами и сложностями, почти не бывал дома, и лесник, подробно разузнав дорогу, даже записав для верности адрес на листке, приехал, наконец, к Родиону Густавовичу Анисимову. День выдался с обильным солнцем и безоблачным небом, — такие дни выпадают в начале осени в Подмосковье. Слишком спокойный и ясный для задуманной поездки день леснику не нравился, и он, пока не увидел Анисимова, хмурился и не раз подумывал повернуть назад; Родион Анисимов стал выгоревшим, упитанным в теле стариком с мучнистой бледностью в гладких, почти без морщин щеках и с круглым черепом, покрытым жестковатым детским пухом. Они узнали друг друга сразу, едва глаза их встретились.
— Ну-ка, ну-ка, ну-ка, — бодро сказал Анисимов и торопливо, слегка подволакивая правую ногу, обошел гостя кругом; в одну минуту, словно истратив всю свою энергию1 он беспомощно сморгнул слезу; безволосые красноватые веки дернулись. От полноты чувств Анисимов обнял гостя, и тот не отстранился, даже ободряюще похлопал хозяина по спине.
— Чего там, Родион, ладно, — кивнул лесник на высокие, нарядные, коринфского ордера колонны парадного входа старинного барского дома, покоившего в своей тени удобные плетеные кресла, в этот послеобеденный час никем не занятые. — В царском дворце угнездился доживать, тут ты еще лет сто проскрипишь.
— Хотел сам к тебе приехать, врачи и думать запретили дальше ворот, — беспомощно, как это часто бывает у одиноких стариков, пожаловался хозяин, сам ничего не понимая в своей радости и в то же время довольный переменами в Захаре Дерюгине — теперь у них имелась определенная общая точка отсчета. Вот он стоит, дорогой гостек, что ни говори, с душевным оживлением думал Анисимов, стоит себе и никуда не исчезает, пришел и стоит! Оно так, так, думал он дальше, ни Бога, ни бессмертия нет, ведь нет и большего удовольствия перед последним шагом окончательно выверить часы. И тут Анисимов выразил своему гостю восхищение, что они с ним молодцы, что все вокруг шатается да валится, вот и жены у них давно отмаялись, а они держатся, что они старые гвардейцы и их не сломить, но в какой-то самый впечатляющий момент он поймал на себе хитроватый взгляд приехавшего, засопел от обиды, отвел глаза и заторопился знакомить гостя с окрестностями старинного именитого поместья со старым, ухоженным парком и перекидными мостиками через ручеек, с тенистым прудом, с устройством купален, как правило, пустующих. Он хотел поразить гостя, но тот спокойно ходил следом, думал о чем-то своем, при каждой очередной диковинке неопределенно хмыкал, словно видел нечто весьма неприглядное, и оба они, наконец устав от осмотра и друг от друга, присели отдохнуть на скамейке у самого пруда, в тени старой, с выгнившей сердцевиной, свесившейся до самой воды, ветлы.
— Ты, может, и гвардеец, Родион, — признался лесник, приваливаясь к высокой спинке. — А я больше ничего не пойму. Вроде домовой водил-водил во сне, закружил окончательно да и дал под зад коленом. Нам с тобой фортели крутить нечего, ты по жизни всегда в особицу шел… вон оно нонче-то все в окончательном развале. Помнишь Брюханова? Теперь бы вот с ним посидеть, потолковать… вот, мол, пробились сквозь бурелом, а тут еще хуже, угодили в трясину, одни ядовитые пузыри идут… Я ничего не забыл, Родион, значит, твоя линия в жизни взяла? Приехал к тебе не просто так, все кругом исколесил. Может, ты самый последний на дороге?
У хозяина мелькнуло в глазах запоздалое удовлетворение, он даже наклонил голову, прислушиваясь к чему-то в себе — ах, какая неправдоподобно длинная дорога, сказал он себе, и вновь мелькнула в нем явно запоздалая, без боли искра.
— Не понимаю, о чем ты, — сказал Анисимов, стараясь продлить вялое душевное наслаждение. — Опять за старое, упреки, недомолвки! Не за тем же ты здесь…
— Не за тем, — остановил его лесник. — Не крути, все ты понимаешь. И делить нам с тобой нечего, сама жизнь вроде твой верх взяла… Чего дальше-то?
— Непонятные речи, смутные, непонятные речи, — не согласился Анисимов. — Старому другу рад… Остановись, мало тебе было непролазных топей? Каждый прожил по своим возможностям — один лучше, другой хуже… Вот моя жизнь, на ладони, твоя тоже… Наши с тобой голоса давно отзвучали, о чем же ты, дорогой мой, тоскуешь? Ходи, смотри… отдыхай… Мы с тобой заслужили.
— Мы с тобой в душегубцах должны числиться, мы с тобой страну разорили, — сказал лесник, окончательно покоряя хозяина, — почетного отдыха нам с тобой не положено. Зря, видать, ехал к тебе…
Опять не согласившись с гостем, Анисимов стал горячо доказывать о присутствии во всем потаенного смысла и о неслучайности их встречи в конце жизни. Он говорил и все как-то сбоку пытливо заглядывал своему гостю в лицо, словно старался определить и понять, что за человек рядом с ним, зачем они сошлись и рассуждают о совершенно непонятных материях.
Над прудом стояла грустная, в каких-то лиловых прожилках тишина старых подмосковных мест, где уже столько лет пытались вжиться друг в друга совершенно разные, неприемлющие одна другую эпохи; в глубине пруда лениво опрокинулось отражение ветлы, чистое синее небо и далекие белые облачка. К мостикам припавшей к берегу аккуратной пристани неподалеку пришли две худые старухи, одна в шляпке, друга в цветном, игриво завязанном шарфике, забрались в лодку, сели рядком на скамеечку и, дружно взмахнув веслами, отошли от берега.
— Наши, — важно сказал Анисимов. — Вероника Максимовна и Аделаида Ивановна… Хе-хе… Вступили в партию еще в прошлом веке — профессиональные революционерки. Одна из них была любовницей Троцкого.
Поглядев на обтянутые тонкой материей замедленно шевелящиеся кости, едва скрепленные кожей, лесник что-то пробормотал и, еще больше развеселив хозяина, плюнул.
— Закаленные, упорно тренируются, фигуру берегут, цепляются за жизнь изо всех сил, — с прежним оживлением сообщил хозяин.
— По сто лет им, горемыкам? — наивно поинтересовался любознательный гость.
— Я же сказал, закаленные, еще по полста вытянут… Очень интеллектуальные дамы, память великолепная. Все по часам помнят. Обе пишут свидетельства своей героической жизни.
Поглядывая на лодку, скользившую к противоположному, отлого поднимающемуся высокому берегу пруда, поросшему старыми разлапистыми елями, Захар с Анисимовым от своего хитрого согласия друг с другом одновременно рассмеялись; хозяин тоненько, зажав подбородок в кулак, а гость, не сдерживаясь, басовито и громко, и оттого они сразу стали друг другу ближе и понятнее, свалились куда-то десятки лет, промелькнувшие с тех пор, как они в последний раз виделись. Оба задумались и долго молчали, не замечая присутствия друг друга, и вдруг гость неожиданно раз, другой хохотнув, взглянул на хозяина, хохотнул громче, обернулся к старушкам-революционеркам, и тут его уж разобрало по-настоящему. Хозяин схватил гостя за плечо и уже не однажды сильно тряхнул. Гость так же неожиданно оборвал, повернулся к хозяину и увесисто саданул его в бок.
— Вон оно что, — растягивая слова, сказал лесник. — А я-то башку ломаю… Глянул я на этих ледащих, сразу стукнуло в голову — вот оно что! А то в толк не возьму, какой год кручусь кругом да около…
Заинтригованный этим признанием, Анисимов с опаской отодвинулся по скамье подальше: гость позволил себе несколько соленых мужицких выражений, вызвавших у хозяина, отвыкшего от крепких ощущений, неприятный зуд в носу. Он жалко сморщился и несколько раз чихнул.
— Да мы же давно с тобой на том свете, Родион, вот отчего с тобой нам и не понятно, — объявил лесник. — Ты к нему, — а он от тебя. Живой от мертвого всегда шарахается…
— И часто у тебя такие замечательные открытия случаются?
— Да вот вызвездило… увидал эту бескрылую моль — и стукнуло в башку! Надо же, думаю, вот попал в партийный зверинец, мать твою, тоже должность выискали б… — профессиональные революционерки! Тьфу!
— А-а, — неопределенно сказал Анисимов, не зная, что ответить. — Нельзя, грех без особого уважения, все же — заслуженные… Послушай, а ты к старости, хе-хе-хе, прости, не того?
— Того, того, — подтвердил гость и снова надолго замолчал, словно опрокинулся сам в себя, Анисимов же, по-прежнему не зная, что делать, вертелся на скамье и ждал.
Вода в пруде потемнела, и отражение ветлы размылось; старушки заторопились к пристани, на солнце надвигалась толстая, с клубящимся белым отворотом туча. Нанесло сладковатый аромат скошенного, подсохшего сена, и на Анисимова нашло вдохновение — сам себя не узнавая, он предложил гостю похлопотать и устроить его в свой пансионат старых большевиков, чтобы доживать век вместе. Эта мысль захватила Анисимова; он стал расхваливать и природу, и климат, сообщил, что по этой дороге не слышно никаких безобразий, стоят здесь привилегированные дачные поселки, люди вокруг заслуженные и достойные. И внезапно примолк, вспомнив, что года три тому назад по соседству зверски убили, причем в собственной постели, одного из его хороших знакомых, тихого, степенного, из отставных военных; сколько ни бились, преступника так и не отыскали.
Разволновавшись, гордясь своей честностью, Анисимов и об этом рассказал гостю, но тут же подчеркнул, что это исключение, совершеннейшее исключение, и ничего подобного, надо надеяться, в этой части Подмосковья, находящейся под особым присмотром, повториться не может. Лесник, выслушав, покосился с простодушным изумлением.
— Родион, верно, ты запамятовал, ты старый большевик, а я-то беспартийный…
— Ты что, так и не восстановился? — в свою очередь заинтересовался Анисимов.
— Раз уж ты приложился, что толку сухотиться, охота пропала, — задумчиво ответил лесник. — Да ни в какую партию больше я не верю. Разорили такую державу… Надо было крепко захотеть, от души поработать. Все мы крепко постарались. Умники вроде тебя на совесть пособили… Видишь, Родион, куда меня такого, дремучего, в пансионат старых большевиков?
Не ожидавший обострения в разговоре, Анисимов, оглянувшись по сторонам, подтянул к себе поближе больную ногу, точно собираясь вскочить и бежать, но только поерзал по скамейке. Категорически заявив о своем несогласии с гостем, отказываясь слушать глупую доморощенную философию с деревенской завалинки и решительно пресекая возражения, он с оскорбленным видом предложил пойти подкрепиться, благо мелодичный звон, донесшийся со стороны главного корпуса с колоннами, возвестил время послеобеденного чая с лимонными вафлями и творожниками. Они сходили в столовую и не спеша дружно перекусили; на них с любопытством поглядывали со всех столов, интересуясь новым человеком, в том числе и те самые, уже знакомые старушки-спортсменки, оказавшиеся за соседним столиком и заказавшие себе на полдник гречневый крупеник. Старушки и Анисимов приветливо раскланялись, разговор между старыми соратниками возобновился лишь на той же скамейке у пруда.
— Так вот оно и бывает, — сказал гость, поглядывая па небо. — Дождик вроде собирался, да передумал… А может, еще и не передумал.
— Навес рядом, переждем, — с готовностью подхватил хозяин и, стараясь придать своему голосу сердечность и задушевность, вздохнул: — Ну, чего тебя в дебри-то песет? Тебе, что ли, одному за всех ответ перед Богом держать? Нам с тобой сейчас самый срок посидеть, посмотреть тихонько кругом, мы свое завершили, теперь пусть другие, молодые пробуют…
— Не получается у меня этак, Родион, пробовал, не получается. А последнее время как Дениса-то в армию взяли…внук с Аленкиной стороны со мной жил на кордоне… совсем у меня сбой. На месте не сидится, тянет в бега… Своим никому не скажешь, от них только и услышишь, старый, мол, да малый, что с них возьмешь. Думаешь, я тут у тебя так, от стариковской дури сижу? С тобой, Родион, мы на всю то глубину можем прохватить, а ты в шуточку, в шуточку, я тебе про тот свет, а ты опять в шуточку выворачиваешь.
— Ты, Захар, таким же чудаком остался, — пожалел хозяин, он теперь ругал себя за свое застарелое, усилившееся в последние годы желание повидать старого врага. Ну вот они и сидят рядышком, ну и что? Никакого чуда не произошло, от старости не уйдешь, ничем ты от нее не прикроешься. Что им теперь делить? В друзьях они никогда не ходили, очевидно, такова уж их природа, если один говорил «да», другому надо было непременно сказать «нет». И потом, этот крестьянский мудрец не знает того, что знает он; каждый из них прошел свой путь, и у каждого, естественно, свой результат. Странно, сами хотели все разрушить, тот же Захар Дерюгин крушил налево и направо, а теперь, когда кругом одни битые черепки, сам же кричит «караул», сам же черт знает куда шарахается, да еще и одобрения ищет. Тайна! Вот что для человека главное, вот что держит его да конца в неуспокоенности и тоске. Вот в чем разница, и его сегодняшний гость этой тайны так и не узнал, никогда не узнает, он ведь считает, что они в самом деле совершили великую революцию, освободились и раскрепостились, а когда столкнулись с реальностью, глаза на лоб. Нет уж, лучше беспощадная рука, вводящая этот хаос в определенное русло; раз в этой стране отказались от Бога, появился сатана, и хорошо, что это так, больные ветви должно отсекать беспощадно, ибо человек от природы своей агрессивен и не знает границ своему чудовищному аппетиту.
Анисимов покосился на гостя; туча проходила стороной, лишь несколько раз слабо громыхнуло, и вновь появилось солнце; старая ветла четко отпечаталась в пруду в опрокинутой яркой голубизне неба.
— Знаешь, Родион, думай за себя, а у меня свое, — скачал лесник и пожаловался: — Заморился я совсем. К Илье на Каму, а там к Василию, черт голову сломит — край света, на Зею. Тут в Москве тоже клубок намотался…
— Тебя на цепи волокли? — поинтересовался хозяин, кося насмешливым глазом. — Вот она — твоя гордыня…
— Какая там гордыня, — отмахнулся гость. — Долги коростой наросли, раздать надо было, не уносить же с собой.
— Во-он оно как! — огрызнулся хозяин, чего-то неожиданно пугаясь. — Старые грехи покоя не дают, а? Смерти, в самом деле, боишься?
— А я, Родион, давно в раю, из такой выси не до жиру, — ответил лесник, то ли в шутку, то ли всерьез, окончательно озадачивая хозяина, и его лицо словно подернулось жесткой древесной корой. — Раньше хворал, сердце пухло, бок ныл, в плечо постреливало… А теперь ни сердца, ни печенки, пустой да звонкий…
Аниеимов что-то недоверчиво проворчал в ответ; безуспешно попытавшись поймать глаза своего собеседника, лесник спросил напрямик, зачем, собственно, тот его к себе позвал, и тут лицо Анисимова пошло пятнами, лесник даже испугался в первую минуту, что его хватит удар.
— Знаю, знаю, — протолкнул, наконец, Анисимов застрявший ком в горле. — Ты для допроса сюда явился! Вот ты и ходишь кругом да около, дичь несешь… Втемяшилась чертовщина тебе в башку, ты с ней и прошагал до последнего рубежа… Я — враг? Черт с тобой! Думай как хочешь!
— Я не в укор тебе, Родион…
— В укор! В оскорбление! — еще повысил голос хозяин, и его лицо исказилось. — В поношении честного имени! Что ты обо мне знаешь? Ни черта! Теперь-то можно сказать, недолго осталось, сны паршивые замучили. Все вижу себя мальчиком, беленький, беленький, в клетчатой курточке с пикейным воротником, в коротких штанишках… В своей собственной отчизне, под чужой личиной прожил, умирать тоже придется под пролетарским тавром… Переменился с мертвым шинелишкой, гимнастеркой и канул в небытие потомственный русский дворянин Александр Бурганов, появился Родион Анисимов, питерский пролетарий… Каково? Вначале ершился, пакостил помаленьку, в войну осветило. Что же это такое, думаю? Царь, думаю, есть, народ есть, армия есть, жандармерия, сыск да еще на какой высоте. Никакому Романову и пригрезиться такого не могло! Примени царь-батюшка сотую долю из большевистокого арсенала, сидел бы на троне еще тысячу лет… Черт с ним, думаю, грузин так грузин, самое-то главное — Россия есть. Только тебя, значит, Бурганова в России нет? Смирись! Знаешь, Захар, я на свет заново народился, я Сталина в день его похорон всеми печенками и селезенками возлюбил… Ну, какого черта, думаю, какая разница, немецкой крови в России царь или грузинской — или пусть даже иудейской. Ты что так глянул?
Лесник не отвел глаза — странные сейчас, какие-то вбирающие, заставившие хозяина поежиться.
— Брось кипятиться, жизнь все одно ушла… Ты хоть знаешь, кто ты был и зачем, а я? Работал, работал — пусто. Вот и хочу проникнуть, какой сатана кружил со мной по белу свету? А может, это ты и есть?
— Не греши зря, ты великий немой, — подхватил, словно только этого и ждал, Анисимов, раздвигая губы в скупой, осторожной, чтобы не обидеть, улыбке. — Есть ты для одного — тащить, молчать и не оглядываться, никакой ты не мертвый, просто немой. Да не думать, молча выполнять свою черную, вечную работу. Помнишь, как хороших, работящих людей раскулачивал, на Соловки гнал? У них рубахи от пота не просыхали… прели, а ты их вместе с детьми, с грудничками… старики, больные на костылях, с ногами-обрубками от первой мировой… Ты думаешь, ты это делал? Или я? Сталин? Как бы не так! В одиночку такое дело не подъемно даже Сталину! Тут крепенько всем миром торгаши поработали… Кому выгодно заставить Россию нищенствовать, голодать, свое золотишко на хлебушек тратить? Вот оно и плывет да плывет себе за океан, Россия беднеет да беднеет — вот в чем замысел… Хлебная монополия государства — вот в чем ведь гвоздь! Сталин? Ха-ха! Горский семинарист до такого не смог бы додуматься, подобное могло озарить только самого гения! Владимир Ильич Ленин — сомнамбула идеи, фанатик идеи — все остальное уже вытекает из этого, главное было нащупано. Хлебная монополия — вот он, рычаг Архимеда! Истинно великая цивилизация, друг мой, создается только принудительно! Вот Сталин этим всесильным рычагом и передвигал горы! У тебя за спиной он стоял, он тобой руководил, сам гений революции, — понизил голос Анисимов, и опустевшие было глаза его ожили, заискрились. — Ты, Захар Дерюгин, старый и верный мой соратник по злодейству, знаешь, знаешь, как там в студеных лесах да золотых тундрах дохли раскулаченные, высланные за свой праведный, земляной труд… Детишки… А как туннели с материка на Сахалин били? Знаешь?
— Молчи, — остановил его лесник. — Я — знаю, недавно среди них бродил… Видел, вот и стал мертвый…
— Чепуху мы с тобой развели, — не согласился, будто не услышал, Анисимов, отмечая про себя упорство гостя в своей дикой мысли о том свете. — В мире ничего не бывает зря. Нам с тобой выпало такое время. Было и быльем поросло. Думаешь, мне сладко пришлось? Эге! — протянул он, и гнев, все время тлевший в нем, погас; так, подумал он вяло, в старости каждый донага раздевается, и стыд у него пропадает. — Что нам считаться. И ты был за народ, и я за Россию. Не понимали друг друга, хватались за грудки, а вот ничего ни у тебя, ни у меня не вышло. Мы с тобой, Захар, каждый в одиночку стояли, нас с тобой насмерть стравили, а сами между нами наверх, наверх! Оттуда и добивали каждого, по отдельности. А теперь нам с тобой черепки считать? Пустая затея. Нам с тобой о душе думать пора… Был и Сталин, что о нем ни говори, великий человек, я только недавно понял — колосс! Ты не забывай!
— На всякую дохлятинку я несговорчивый, Родион, — неожиданно заставив хозяина поежиться, вскипел лесник. — Ты ее сам с хреном лопай…
— Ничего ты не понял, — возразил Анисимов с раздражением, что-то самое дорогое в себе защищал от неумного наскока гостя. — Ты просто сам себя в ту пору не помнишь.
— Помню, был остолоп остолопом, — с явной злобой, неприятно поразившей хозяина, сказал гость. — Его, отца всех народов, как наяву помню; в тридцать третьем-то на съезде колхозников в Москве. Как раз перед этим осенью-то младенца к моему двору прибило… да ты сам не запамятовал, поди. Егоркой нарекли… Я, Родион, все помню… А знать не знаю, ни тебя, ни себя, ни его, отца родного… Стояли мы за него насмерть, кивать теперь ни на кого не хочу, одна хмарь кругом ползет, — добавил гость, еще больше укрепляясь в одному ему ведомой правде и наглухо уходя в себя; тут вдобавок встала перед ним далекая неласковая река Кама, ледяные забреги у ее таежных берегов, костлявые трупы детей, вмерзших в звонкий молодой лед. Захару уже не нужно было пятиться по своим следам, но то, что раньше являлось для него самым главным, повернулось сейчас к нему своей истинной стороной, и он думал, что человек уходит из жизни, так и не узнав главного в ней, он ведь, сопливый, думал, что, если человек говорит большие и святые слова, ему надо верить. Конечно, лесник знал, что такие, как Сталин, не умирают, какой-то своей частью остаются в жизни и за ними продолжает тянуться устойчивый след; они как чертополох или репейник, сколько их ни изничтожай, все равно отрыгнут из какого-нибудь потайного прорешка; такова уж порода черного человека, и ты его, сколько ни старайся, никогда до конца не выскребешь. Тоже, нашел чем удивить, думал лесник, теперь уже почти не слушая Анисимова, продолжавшего что-то с осторожной бережливостью нашептывать ему; опять упоминался Сталин, и какие-то грядущие потрясения, и близкие перемены; последовало и настойчивое, многозначительное обещание кое-что вечером показать. И в то же время лесник почему-то не мог вот так просто, как он думал совсем недавно, встать, распрощаться и отправиться восвояси; словно черт подтолкнул лесника — он согласился поужинать и остаться на ночь.
Время пролетело незаметно; Анисимов показал гостю свою отдельную просторную комнату на втором этаже с балконом и арочным окном, с небольшим тамбуром, со встроенными вместительными шкафами и совмещенным санузлом с сидячей ванной; в комнате умещалась довольно много добротной мебели: кровать с высокими спинками, широкий и прочный письменный стол с многочисленными ящиками, с аккуратными стопками писем, с бронзовым чернильным прибором, небольшим настольным бюстом Сталина из дымчатого мрамора. На одной из половинок дверцы шкафа изнутри тоже красовался портрет Сталина, и хозяин, заметив косой, с явной издевочкой, взгляд гостя, тотчас прикрыл дверцу и щелкпул замком; высокий, украшенный старинной резьбой шкаф, диван; между кроватью и шкафом уместился небольшой холодильник с запасами сока, воды и фруктов. Окно и балкон выходили в парк, и на балконе тоже стоял небольшой плетеный круглый столик и два плетеных кресла.
Хозяин угостил гостя апельсиновым соком, и до ужина они проговорили, перебирая умерших уже людей; Анисимов знал и о несчастье с Брюхановым, знал все и о его детях, и о новом замужестве Аленки; лесник втянулся в разговор, и время проскочило незаметно; они вновь отправились в столовую, и лесник отметил, что, встречая кого-нибудь или разговаривая с кем-нибудь, Анисимов держался приветливо и раздумчиво, лишь глаза у него оставались какими-то неживыми, далекими. Он улыбался соседям по столу, официантке, хвалил повара Марию Васильевну, редкую мастерицу по супам и запеканкам, улыбался дорогому гостю, представляя его как своего боевого товарища и соратника, и все сразу поверили в какую-то невиданную, уходящую за неведомые горизонты давность их дружбы.
Уже перед заходом солнца Анисимов, натянувший на себя легкий плащ от ночной сырости, опять прогуливался с гостем в парке; еле заметной тропинкой, уходящей в сторону от главной аллеи, они вышли к забору. Раздвинув железные прутья, Анисимов пропустил вперед лесника, затем, оглянувшись, тяжело отдуваясь, пролез сам, и скоро они оказались на узкой, давно уже заброшенной асфальтовой дороге, по которой, видимо, уже никто не ездил. Асфальт растрескался, порос в трещинах сочной травой. Солнце село, и резче запахло лесной, низинной прелью. Синие сумерки стали заволакивать лес и дорогу. Под ногой что-то хрустнуло, и лесник, наклонившись, рассмотрел раздавленную большую розовую сыроежку, выросшую прямо на дороге в трещине асфальта. Анисимов шепотом нетерпеливо окликнул его, и они двинулись дальше; минут через пятнадцать, когда стало уже совсем темно, свернули с асфальта в сторону, на еле заметпую тропипку, и теперь приходилось то и дело пригибаться, придерживать ветви елей, но Анисимов, хорошо знавший дорогу, по-прежнему двигался уверенно. Они шли около часа; Аписимов иногда оглядывался, вполголоса бросал что-нибудь успокаивающее: скоро, мол, скоро, но время шло, и они продолжали пробираться по лесу, еще более кустившемуся, закрывшему все небо. Стояла сплошная мгла, и даже Захар, привычный к ночи, лесу и темноте, определял неровные хромающие шаги Анисимова по слуху.
Долгий пропадающий звук заставил его остановиться; тотчас он услышал рядом приглушенный голос Анисимова, приглашавшего его передохнуть; устроившись рядом на поваленном толстом дереве, стесанном сверху под скамью, они помолчали; вновь послышался странный, дребезжащий, долгий звук. Лесник не смог определить его природу, он был недоволен собой, своим согласием участвовать в какой то дурацкой ночной затее; старый дурак, ругал он себя, сидеть бы тебе сейчас у внука Петра, поговорили бы толком, вон там какие дела завариваются. Теперь одному дорогу-то назад не разыскать, черт знает куда он завел…
И в то же время лесник, давно свыкшийся с одиночеством и лесом, умевший не скучать в одиночестве, поневоле втянулся в какой-то круг, он сейчас словно чувствовал прикосновение тонкой липкой паутины. Анисимов пригласил его идти дальше; почти сразу лес расступился, и они двинулись вдоль высокого длинного забора и скоро оказались у массивной калитки. Анисимов привычно нащупал кнопку звонка где-то сбоку от калитки; минуты через две послышались шаги по ту сторону забора, затем хриплый голос поинтересовался, кто пожаловал, и Аннсимов негромко отозвался. Калитка распахнулась, пропуская гостей, и перед ними появилась тяжелая приземистая фигура в теплой ватиой безрукавке; в глубине сада стоял дом. замерший, настороженпый, весь темный, и лишь над входом горел тусклый фонарь. Чуть в стороне от дома, слева простиралось еще какое-то длинное здание, похожее на сарай или склад.
— А-а, полковник, — радостно протянул Анисимов, здороваясь с хозяином дачи и трижды по-русски крест-на-крест целуясь. — Я к тебе на минутку старого, еще довоенного друга привел… знакомьтесь, Захар Тарасович Дерюгин, работали вместе… полковник в отставке Семен Андреевич Сельский… ветеран, впрочем, как все мы, второй мировой…
— Проходите, проходите, рад, рад, — загудел полковник, запирая калитку и затем ведя гостей в дом. — Тебе, Родя, твоим друзьям всегда рад, от тебя озарение идет. Одну секунду, чайку соберу, закусочку. Покрепче деликатес имеется, в пять арабских звездушек! — свои слова полковник сопровождал увесистым, раскатившимся по просторной веранде хохотом и притопнул от избытка чувства крепкими, по-медвежьи короткими ногами; на свету хозяин оказался еще более толстым, почти круглым, с одутловатым и тоже шарообразным лицом и небольшими цепкими, веселыми глазами.
— Освети, освети, по-парадному освети, — попросил Анисимов растроганно и ласково. — А мы с Захаром Тарасовичем посмотрим, полюбуемся… Я к тебе, полковник, как в храм ко всенощной иду — очищает, очищает, скверна вымывается.
— Я что, Родя, — заскромничал хозяин, смиряя свой громогласный бас, и по-военному сильно и поощрительно пожимая руки Анисимова чуть выше локтей, отчего тот нервно дергал головой. — Наша путеводная звезда — ты, без тебя мы бы не осилили такого исторического дела.
— Браво, браво, полковник, пардон, милый, скромничать не надо, твоя идея, твоя, — отвечал Анисимов, соревнуясь в благородстве с хозяином; полковник перешел к электрическому щитку и несколько раз щелкнул включателями. Слегка потрескивая по всей веранде, затем и дальше на резной лестнице на второй этаж, вспыхнули маховые плафоны; дом сверху донизу осветился, засиял. Веранду, лестницу, верхнюю площадку заполняли бюсты и портреты Сталина; везде лежали книжки, какие-то пакеты и свертки, висели картины с изображением когда-то всемогущего человека. Его же гранитная теплого рыжеватого оттенка статуя во весь рост с протянутой вперед рукой и с теплой улыбкой в усах как бы приглашала входить в святилище, и лесник с возрастающим интересом рассматривал диковинное собрание картин, книг, хрустальных, серебряных, керамических ваз и кубков со знакомым профилем вождя, знамена и ковры с его портретами, густо свисавшие и слегка шевелившиеся от тока воздуха.
Разгоряченный и явно взволнованный открывшимся великолепием, Анисимов, взяв гостя под руку, уже стремился к лестнице, где наверху, в запертых комнатах хранилось самое дорогое и редкое; коротконогий, шустрый хозяин, преграждая путь к лестнице растопыренными руками, стал с жизнерадостной улыбкой теснить гостей назад.
— Родя, Родя, прошу не нарушать традиций, — говорил он. — Направо, направо прошу. Теперь налево… вот так, сюда… Служенье муз не терпит суеты.
— Прости, полковник, совсем упустил из виду, — извинился Анисимов, и хозяин с крепким седым ежиком на широком черепе, с завидной энергией, бунтующей от избытка сил в столь вместительном теле, прямо-таки бившей через край, поднял руку, призывая к тишине. Они оказались в небольшом помещении, как бы алтаре, отделенном от веранды всего лишь высокой, застекленной переборкой; в цветных стеклах — зеленых, радужно-синих, пунцовых — проступал все тот же знакомый силуэт.
— Каждый входящий в этот дом обязан выпить за величайшего из людей, когда-либо приходивших на нашу грешную землю, — вдохновенно провозгласил хозяин, открывая бутылку коньяка и разливая его в небольшие хрустальные рюмки, красовавшиеся на небольшом высоком столике. — За Сталина, товарищи! За это святое место, здесь истинные коммунисты возродят его великое учение, вопреки всем врагам, всем подлым троцкистам, и предателям!
Чокнулись; у Анисимова, тоже начинавшего заряжаться от полковника какой-то жизнерадостной лучистой энергией, влажно блестели глаза. Привыкая к необычному собранию в одном месте множества изображений, изваяний, слепков, отливок личности одного и того же человека, Захар, тоже выпил. На закуску хозяин предложил по кружочку лимона, пообещав покормить позже, после осмотра. Вначале обошли первый этаж, затем второй, хозяин открывал комнаты, каждую своим особым ключом; в одной находились книги, так или иначе касавшиеся жизни вождя, в другой — рукописи, газеты, картины, в третьей — подлинные, добытые с огромным трудом вещи, принадлежавшие при жизни лично Сталину, — в особой, небольшой витрине под толстым стеклом красовались короткая трубочка с обкусанным мундштуком, потертая лисья шапка и подшитые, стоптанные домашние валенки.
— Ничего, полковник, на днях мы должны получить несколько посылок в твой адрес, — благодушно посмеиваясь, обрадовал хозяина Анисимов. — Сообщают, есть даже весьма замечательные приобретения. Со временем мы такой музей отгрохаем, закачаешься.
— Я всегда утверждал, твои связи среди старых большевиков уникальны, на следующем собрании, Родион Густавович, надо двигать тебя в председатели общества, надо, надо!
— Нет, полковник, подобное решение было бы весьма опрометчивым, — тотчас возразил Анисимов. — Я должен оставаться в стороне, мое дело связи, зачем меня загружать технической работой…
— Мы дадим тебе секретаря…
— Ну, эти секретари! — еще откровеннее поморщился Анисимов. — Обязательно окажутся осведомителями, будут вприпрыжку бегать за зарплатой на Лубянку.
— Черт с ним, пусть бегают, получают, мы же занимаемся нужным делом, — возразил полковник, но теперь уже несколько тише, и в его голосе появилась раздумчивая интонация.
— Прежде всего, осторожность, не спеши, полковник, — не согласился Анисимов. — Времена теперь весьма неустойчивые, давай-ка лучше чайку попьем, пора, гостя я своего утомил, сам от радости перебрал, теперь поди-ка до пансионата дочекалдыкай…
Неизвестно почему засмеявшись, радушный хозяин предложил остаться ночевать у него, сказал, что места хватит и ему от одиночества передышка. Анисимов заколебался, взглянул на Захара, но тому было совершенно все равно, где ночевать; хотелось после долгого дня и непрерывных разговоров побыть одному, полежать, подумать.
Хозяин обрадовался, захлопотал с ужином, провел их в большую уютную кухню с газовой плитой, поставил на стол блюдо свежей садовой земляники, начатую бутылку коньяка, сунул в камеру гриля разогревать холодный окорок; на плите уже начал пофыркивать чайник. В открытое окно доносился тихий шум сада. Свежо пахло ароматной земляникой, и лесник, привыкая, стал потихоньку разглядывать новые диковинки. Занятнее ничего нельзя было представить — проехать из конца в конец всю Россию и оказаться где-то под Москвой, у этого жизнерадостного, пышущего здоровьем полковника, собиравшего по всей стране никому пе нужную рухлядь. Старые люди, а в куклы играют, забавляются, это у них от разврата жизни, думал лесник, хорошо получали, сладко ели-пили, над другими измывались, только все равно под старым сапогом ничего не удержишь, вот и ему самому наука, тоже из ума выжил, хотел у Родиона Анисимова причаститься.
— Спать вам рядом, в соседних комнатах, — объявил хозяин, открывая духовку и присматриваясь к окороку. — Там у каждого на столе тетради и ручка — у меня так заведено, каждый оставляет свои впечатления. Хоть одной строкой, обязательно.
— Очень кстати, — оживился Анисимов, увлекшийся свежей земляникой. — У нас Захар Тарасович был на съезде колхозников, в тридцать третьем, кажется. Свои впечатления о встрече с живым вождем оставит — бесценный документ очевидца. Не забудь, Захар Тарасович…
— Писать разучился, — горестно покивал лесник.
— Мне продиктуешь, запишу, — с готовностью предложил Анисимов. — Нет, нет, Захар, ты уж не отказывайся, таких свидетелей в жизни все меньше и меньше, молодые должны правду знать, потрудись ради святого дела. Ты должен передать потомству тепло пожатия его руки… Поздно уже, полковпик, что твой окорок?
— Одну минуту! Чуть-чуть подрумянится, вот я его еще сметанкой удоволю… Тронешь, из-под ножичка — парок с ароматцем. А мы пока давай еще, Родя, по маленькой, коньяк — напиток не вредный для стариков, всякие там закупорки промоет… ну, за встречу, за наше правое дело!
Лихо опрокинув стопку, он бросил в рот самую крупную ягоду и, поглядывая то на Анисимова, то на Захара, обмяк, и Анисимов требовательно стукнул концом палки в пол.
— Э-э, полковник, еще по одной?
— Давай, Родя, давай. Дети ничего не хотят понимать. Наотрез отказались ездить на дачу, они теперь с пяти лет сексуально озабоченные, где им понять Сталина? А жизнь-то, Родя, двумя потоками льется, по-другому не может. Один рукав от нас, грешных, в прошлое, а другой — оттуда, из прошлого к нам, все мы стоим в самом сцеплении живого и мертвого, только никто этого не хочет замечать. А молодежь и совсем думать отучили.
— Браво, полковник! — провозгласил Анисимов и вновь поднял свою рюмку. — Я всегда знал, что ты умный и дальновидный человек. Не огорчайся, всему свой срок, все возвращаются на круги своя. Так устроено, по-другому не было и не будет…
— Знаешь, Родя, я скоро верующим стану, — понижая голос, сказал хозяин. — Вчера в сумерках сижу в саду, такая благодать в душе, Бога хочется, Бora! Сижу думаю… один, ты знаешь никогда не прикладываюсь, — кивнул он на бутылку, — никаких там побочных воздействий… Поднимаю глаза и обмер, тяжесть по всем членам разлилась, свинцом к скамейке придавила, ни рукой, ни ногой не могу шевельнуть. Сам себе не верю — верхнее правое окно в доме светится и в нем силуэт над столом. Да ярко так! Понимаешь, он сам. Затем соседнее окно вспыхнуло, опять он, теперь уже прямо у окна — стоит, смотрит в сад. Так всю дачу и обошел. Заставил я себя встать, думаю, будь что будет, открываю дверь, поднимаюсь наверх — ноги ватные. Добираюсь до верхней площадки — никого. Кромешная темень, слышно, мышь скребется… Заставил я себя по всем комнатам пройтись — опять пусто. А, Родя?
— Волнение крови, полковник, — осторожно предположил Анисимов. — Сейчас в атмосфере магнетизма мною, неопознанные летающие объекты, почитай газеты, чего только не узнаешь! Да и человек, особенно такой, не может бесследно исчезнуть…
— Ты считаешь?
— Уверен! — ответил Анисимов, шумпо принюхиваясь к аппетитным запахам окорока, распространившимся по кухне. — Но каждому свое… Какой непереносимый аромат, что может быть выше самой жизни! Да, полковник, ты обещал показать последние поступления, подлинники рукописей. Не забудь, скоро полночь, я его руку хорошо знаю.
— Не забуду, — отозвался хозяин, выкладывая на блюдо огненно пузырившийся окорок.
Положенный час пробил, на Спасской башне часы отзвонили последнюю четверть безвозвратно уходящего дня, и у дверей Мавзолея сменился караул — два молоденьких курсанта замерли, сжимая в руках своих караульные карабины, здесь, в самом центре страны, они сейчас были призвапы олицетворять своим бдением главную мощь давно изжившей себя идеи, и вместо того чтобы заниматься полезным и нужным для жизни делом, любить женщин, играть с детьми, работать или учиться думать и постигать, они стояли с замершими лицами, искоса поглядывая на почти постоянно и даже далеко за полночь толпившихся перед Мавзолеем людей; четверть часа пролетело быстро; но в этот раз сменившиеся ощутили какую-то странность своих легких карабинов, их приклады нельзя было приподнять от земли, они как бы намертво прикипели к самому ядру старой площади. Ни один из курсантов не выдал себя даже друг перед другом; затем совершенно неожиданно площадь перед Мавзолеем очистилась, обезлюдела, лишь где-то на противоположной ее стороне вдоль приземисто длинного здания с широкими окнами текла тоненькая струйка прохожих к гостинице, ярко пылавшей сотнями окон. Курсанты реагировали на происходившее совершенно по-разному; один продолжал держаться ва ствол своего карабина, лишь время от времени, не веря случившемуся, незаметно подергивал его вверх, пытаясь оторвать приклад от какой-то захватившей его свинцовой тяжести; второй же, еще с детских лет увлеченный историей и мечтавший ликвидировать трагический разрыв в истории славянства между христианством и язычеством, почти не обращал на окружавших внимания; в его молодых мозгах под форменной фуражкой закружились совершенно иные мысли, и он думал о мумии человека, вот уже несколько десятков лет выставленной на всеобщее обозрение, конечно же, без его согласия. «Смерть есть величайшая из тайн бытия, никто ничего о ней не знает и никто не вправе вторгаться в эту тайну, даже вот таким образом, как сейчас, когда это пытаются объяснить бессмертием идеи и необходимостью ее укрепления, — думал честолюбивый молодой человек. — И это чушь, бессмертных идей нет и быть не может, просто придумавший эту загробную жизнь, пожалуй, непереносимо ненавидел покойного, хотел укрепить этим свое положение, по сути дела, он жил инстинктами, в данном случае им руководил культ предков и божественное их почитание приравнивалось к защите самого неба».
Молодой курсант, всегда мечтавший об университете, решил года через три-четыре обязательно написать документальную работу по этому вопросу, но тут все выскочило у него из головы; он хорошо видел лицо своего напарника, у него и у самого вдруг словно остановилось дыхание и тело превратилось в ледяную глыбу; из руки выпал карабин, стукнувшись о гранитную стену и шаркнув по ней вниз. Дверь Мавзолея стала медленно приоткрываться, из нее пахнул тепловатый, специфический сухой воздух. Затем в дверях сгустился и обрел вполне реальные очертания силуэт человека в кителе с застывшим, знакомым лицом; не глядя на часовых, он легким и беззвучным шагом свернул за угол и сразу же исчез, а створы двери подземного святилища так же беззвучно сомкнулись. Еще чувствуя какой-то особый, не отпускающий холод, курсанты переглянулись; они не слышали, но чувствовали, как он неторопливо поднимается по гранитным ступеням наверх, на Мавзолей; часовой, выпустивший из рук карабин, дрожа всем телом, быстро поднял его; площадь перед Мавзолеем по-прежнему оставалась совершенно пустынной. Переводя дыхание и выждав, курсанты, не удержавшись от искушения, невзирая па наличие сверхчувствительной электроники, пошептались об удивительном событии. «Он, я сам видел, это — он!» — шепнул, почти задерживая дыхание, первый, тот, что грезил об истории. «Конечно, он! — ответил второй, тараща округлившиеся глаза. — Но почему же из этих дверей? Он же лежит отдельно». — «Наверное, там под землей все друг с другом связано, — предположил первый. — Это ведь очень древняя земля». — «Может, сразу доложить? — спросил второй. — А то как-то жутковато…» — «Хочешь в психушку — доложи, — отрезал первый. — А я ничего не видел… Так, ветер… фонари… Тише, молчи, он наверху стоит. Я его чувствую… Через камень давит…» «Может, тревогу дать?» — «Молчи… спятил… Не трогает, и молчи. Проболтаешься, дурак, откажусь. Я ничего не видел и не знаю», — вновь оборвал первый, и оба ощутили отяжелившую сердце и мешавшую дышать тишину, плотными волнами накрывшую Красную площадь, Василия Блаженного, Москву и распространяющуюся все дальше и дальше; центр этот неживой тишины находился у них над головой и вот-вот готов был проломить камень и обрушиться на них. Но ничего этого не зпал и не мог знать сам Сталин, стоявший на верхней площадке Мавзолея, у парапета, на своем привычном месте; он внимательно и зорко осматривал знакомое пространство, и его сердил огромный, горящий сотнями окон белокаменный четырехугольник, вознесшийся за храмом Василия Блаженного неизвестно когда и почему. Тяжелая, словно налитая свинцом голова отходила медленно; он ощутил чье-то присутствие у себя за спиной и, не оглядываясь, уронил:
«А теперь тебе что опять надо? На этот раз я уж никак не мог думать о тебе. Тем более — звать». — «Как же я тебя оставлю, — коротко ответил летописец с сомкнувшимися на черепе пролысинами. — Ты меня породил, я много лет честно стоял с тобой плечом к плечу. Вспомни, о чем мы с тобой только не говорили. Если вскрыть эту коробку, — летописец слегка хлопнул себя ладонью по лбу, — там окажется чуть ли не весь двадцатый век со всем его хламом. Теперь же, когда пришла пора подурачиться, ты меня прогоняешь. Меня ты тоже должен понять. Как-то не по-христиански, Coco, не ожидал от тебя. Ведь только со мной ты был откровенен до конца. Хорошо, хорошо, молчу. Правда, захватывающее зрелище?» — «Странно, — ответил Сталин, — какой-то один бесконечный сон. Зачем человек так слаб, не в силах даже проснуться». — «Да», — сказал летописец, всматриваясь в необозримую, светящуюся в тихом перламутре, преобразившуюся площадь, безоглядно окаймленную режущими лучами бесчисленных прожекторов, уходящих далеко за пределы самой Москвы и как бы приподнимающих из провальной чаши тьмы над самой землей всю площадь с Василием Блаженным, со стрельчатыми башнями Кремля. Закрывавшее небо, раздражавшее Сталина, нелепое кубическое здание за собором провалилось, зато поднялся на своем месте храм Христа Спасителя, и не только поднялся, но как бы и утвердился над башнями Кремля с правой стороны, тускло сияя в небе всеми своими куполами, и Сталин боковым зрением видел в перламутровом блеске ночи мерцание его широкого главного купола и, кося глазом в сторону летописца, мучительно радовался этому.
Тишина стала еще глубже и ощутимее, осела на резные, растревоженно заструившиеся маковки Василия Блаженного, соединившего в себе мудрую древнюю мощь азиатских пространств и энергические устроительные устремления Европы, и тогда на площади как бы дополнительно высветился каждый истертый подошвами многих поколений булыжник, каждая песчинка стала осязаемой, наполнилась своей жизнью. Вопреки обычному многолетнему порядку, из-за реки по мостам, обтекая собор, заворачиваясь в крутые завитки и приподнимаясь у его основания, на площадь настигающими, захлестывающими друг друга тугими валами стали вливаться бесчисленные людские массы; первые их сгустки, плотные, взлохмаченные каким-то своим особым ветром, с рваными, то и дело ныряющими и пропадающими стягами и транспарантами, вываливаясь на площадь, выравнивались, поворачивая лица с темными дырами беззвучных ртов, забитых застывшим ревом, в одну сторону. Клейкой непрерывной массой они заполнили площадь из края в край, стали сливаться в одну серую, шероховатую массу уже в другом ее конце, но светлевшие пятна лиц по-прежнему выворачивались назад, к некоему непреодолимо притягивающему их центру, и Сталин, с нечеловеческой, угнетающей его зоркостью, отчетливо видел эти лица с самыми малейшими в них подробностями. Это опять привело его в раздражение: он привык к другому масштабу, подобные мелочи всегда мешали ему сосредоточиться на главном. И сейчас главным были не отдельные лица, а давняя мечта его жизни — общее движение, глубинное, ровное, неотвратимое, в котором все и вся становится лишь материалом движения, его энергией; он, один из немногих, видел цель, знал путь ее достижения и сумел получить средство, позволяющее достичь заветного рубежа. Здесь не могло быть ни жалости, ни раскаяния; только нищий пересчитывает подаяние, трясясь над каждой копейкой, у него в руках оружие глобальное, — усилия миллионов людей, объединенных одним стремлением, одним порывом, сплоченных в целостный невиданный досель организм, не знающий границ, национальных различий, молящийся одному Богу — единому для всей земли будущему. Кто бы что ни говорил, но именно он, он, и никто другой, спас партию от развала.
Он слегка отодвинулся от летописца, по-прежнему бесстрастного, но, кажется, с большим вниманием наблюдавшего за нескончаемой плотной человеческой лавиной, катившейся через площадь; Сталин, подавляя ненужное чувство неприязни, сдвинул брови; ему хотелось бы сейчас постоять над площадью и Москвой в полном одиночестве. Но и это было бы не то ощущение, и самый слабый отзвук был необходим душе. Ему была безразлична безликая масса — такой же материал, как глина, камень, цемент; это был созданный его волей однородный и монолитный мир, не знающий иных страстей и устремлений, кроме движения к вечному идеалу равенства, братства и свободы, — другого пути к великой цели не существует, и ему незачем оправдываться. Все, что о нем говорили и говорят, — ложь и чушь; он был нужеп народу и делал объективно полезное дело; зло многомерно, так же, как добро, не его вина, что по жизни приходится идти по колено в крови и грязи. Он дал народу веру, цель, равенства в ее достижении; народ — тот же дикий лес, время от времени его необходимо прореживать, подвергать санитарной рубке, иначе он сам себя задушит и заглохнет. И народ отлично это понимал и понимает.
Летописец выдвинулся из-за его спины и стоял теперь рядом; бесконечные людские волны по прежнему катились через площадь, только движение обретало несколько иной, замедленный ритм.
Теперь Сталин узнавал знакомых, близких, даже родных; мелькнула фигура матери в грубом черном платке, он уловил отчужденный и отстраняющий взгляд старой женщины, привыкшей к суровой и простой жизни. Сталин почувствовал в холодной и пустой груди разгорающуюся искру тепла; до сих пор он был мертвым и ожил и стал чувствовать по-живому — теперь он уже не думал, что это сон. Он глянул на летописца, по-прежнему продолжавшего спокойно стоять, оборотясь лицом к площади. Приступ какого-то нечеловеческого, унижающего страха был невыносимым. У него не было возможности что-либо изменить, с искаженным страданием и ненавистью лицом, подчиняясь чьей-то чужой воле, Сталин стал вновь смотреть на площадь и увидел сына Якова, с иссохшим до черноты лицом, застывшим в обтекавшем его людском скопище. Они совершенно ничего не почувствовали друг к другу и не знали ничего, что друг другу можно было бы сказать, хотя оба понимали, что встретились не случайно. Вот то, что они оказались отцом и сыном, действительно было нелепым стечением обстоятельств, и раз уж так случилось, их нынешняя встреча посреди ночной Москвы, очевидно, к чему то обязывала. Но к чему? Из свершенного за одну короткую человеческую жизнь для Сталина это было что-то невесомое, мимолетное — слабая чахлая травипка среди навороченных до поднебесья гор; Сталин подумал об этом, нахмурился, в его лице опять проступило раздражение. Кто-то, кому он не мог противостоять, напоминал ему о чем-то давно забытом и ненужном, запрещенном даже для памяти, и от бессилия что-либо изменить и, самое главное, от усилия не выдать своей ярости здесь на виду у народа, его лицо резко покрылось темными, почти черными щербатинами. Он собрал всю свою волю, пытаясь остановить хотя бы придать происходящему иной ход, и от неимоверного усилия обмяк. Он ничего не мог, даже приподнять руку — сын Яков теперь шел прямо к нему сквозь расступавшуюся перед ним бесконечную людскую массу; кто-то невидимый бесшумно, без всякого усилия раздвигал или, скорее, разрезал перед ним узкий, тотчас заплывавший вслет за ним проход. Поднявшись на трибуну, Яков остановился перед отцом, и тут с лица сына соскользнув взглядом на рыжие пятна крови, проступившие на его одежде, напоминавшей широкий, бесформенный балахон; теперь отец мог представить, как все случилось: рыжеватые выцветшие пятна распространились по груди, наползали на живот. Стреляли умело, мучиться сыну долго не пришлось. Но зачем было встречаться, ничего нового они сказать друг другу не могли; Сталину была неприятна откровенная, радостная, почти ликующая любовь сына, светившаяся в его глазах, мягко обволакивающих, в чем-то даже извиняющихся за себя, за свое появление и присутствие сейчас здесь. Не выдержав, Сталин резко спросил: «Зачем ты пришел? — и закипая еще больше, стукнул кулаком по парапету. — Лучше бы тебе не приходить!»
«Я знаю, — ответил сын молодым, чистым голосом, с трудом скрывая радость от встречи. — Прости, я ничего не мог изменить, мою жизнь всегда вела чужая воля. Я знаю, ты меня все-таки любил и расплатился мною за все содеянное… Я тебе не судья, ты иначе не мог. Там… там было иногда невыносимо, — неожиданно пожаловался он, вспоминая серое чужое небо, чувство обреченности и ожидания самой последней минуты, когда немцам, наконец, надоест уговаривать и убеждать. — Мне так хотелось жить…»
И тогда раздражение сменилось у Сталина тоской — безысходной и глубокой.
«Жить? — глухо переспросил он. — Что такое жизнь? Никто этого никогда не узнает, ведь каждому приходится умирать». — «Жизнь больше смерти, — неожиданно возразил сын смело и независимо, подчеркивая равенство между ними, и отец почувствовал это. — В жизни у каждого своя судьба, свой путь, в смерти же все равны. Жизнь больше смерти».
С усилием сдерживаясь, Сталин долго молчал, не отрывая глаз, ставших пронзительными, какими-то имущими от худого лица сына, слова которого о равенстве в смерти всех и каждого ему не понравились; собственно, встречаться им было уже поздно и незачем, они никогда не были близки и даже сейчас оставались далекими и чужими друг другу.
«Погоди, не уходи, — глухо попросил Сталин, опять присматриваясь к выцветшим кровавым пятнам на балахоне у сына. — Подойди ближе…»
Сын послушно подошел, и отец здоровой рукой неуверенно ощупал следы от пуль, еле заметные отверстия в одежде, залипшие от крови.
«Тебе было очень больно?» — неожиданно спросил он севшим голосом, ищуще заглядывая в лицо сыну и находя в нем ответный сердечный порыв.
«Совсем не помню. Кажется, нет, — ответил сын. — Все так быстро… затем тишина… покой… почти счастье. Ты не бери в душу, ты ни в чем не виноват». — «Иди», — с видимым усилием уронил Сталин — главное от встречи с сыном еще не вызрело, не прояснилось, но сына уже унес все тот же катившийся во всю ширину площади безоглядный людской ноток. Перед Сталиным опять кипело безбрежное людское море, и среди океана незнакомых, с обожанием повернутых в его сторону лиц он опять узнавал близких; сосредоточенно, опустив глаза, прошла вторая жена. Он хотел остановить ее, окликнуть, но с неостывшей неприязнью за предательство ее неожиданного ухода в совершенную недосягаемость, в абсолютную свободу, в недоступность даже для него, вновь ощутил отчуждение и непрощающий холод; он вспомнил, как на похоронах, пройдя взглянуть на нее в последний раз и увидев ее далекое, навсегда успокоившееся лицо, приведенное врачами в абсолютный порядок, он, не сдержавшись, в обиде оттолкнул от себя гроб — нечто уже больше ненужное, вызывающее лишь глухое, задавленное бешенство. Она и сейчас не смотрела в его сторону; она с ним так и не примирилась; людская волна пронесла ее мимо, и тут же пошли другие. Прошел Киров, поднял руку, приветствуя его; узнал он и Берию по свисавшим к плечам, уродливым сизым ушам, вернее, он сначала узнал его уши, но почему-то сейчас во взгляде самого, быть может, доверенного своего лица он ощутил не прежнюю собачью преданность, а темное равнодушие, даже злобу. Он увидел шедших рядом Ворошилова, Молотова, Калинина, с ними у него было немного хлопот, это были предапные, надежные, без всяких еврейских комплексов работники, — их, не выделяя, в тесноте и давке проносил мимо бесчисленный людской поток, и некоторых, когда-то даже самых близких и доверенных, он не узнал, хотя с непонятным темным любопытством старался не пропустить теперь никого и ничего, любой мельчайшей подробности. Затем перед ним появился еще один знакомый с продолговатым лицом, со смеющимися сумасшедшими глазами, в одной сорочке, густо залитой кровью. Сталин видел даже его голые худые волосатые ноги в темных струпьях засохшей крови. Но самыми невыносимыми были его глаза, у Сталина вся кровь прилила к голове, он хотел отвернуться от этого инженера Никитина и тоже не смог. Инженер Никитин как бы плыл сейчас над толпой, повернув в сторону Сталина смеющееся лицо, и что-то насмешливо говорил, и Сталин хорошо — слышал каждое его слово, каждый звук.
«А я знал, что вы меня убьете, я же тогда говорил, что вы окончательно возвели политику предательства в норму, прикрыли это видимостью закона! — сообщил напоследок Никитин. — Но что вы приобрели взамен?»
И тогда какая-то тихая боль закружила душу Сталина — он принимал на себя многое, но смерть питерского инженера принять не мог, не имел права, эта капля превышала допустимое; на лице у него выразилось сильное волнение.
«Вы же знаете, в случае с вами я не виноват, сработала простая случайность…» — «Но вы этого не хотели, — сказал Никитин. — И это уже превратилось в закон, они сразу почувствовали!» — «Оглянитесь вокруг, разве вы один? — с досадой, прежде чем питерский инженер исчез, успел сказать ему Сталин. — В отличие от вас многие из них верили, как и я! Почему же вы ждали для себя другого?» — «По вашему же слову…» — «Слово пустой звук, дело распорядилось иначе». — возразил Сталин, и Никитин пропал, затертый в общей бесконечной массе.
«Зачем? Зачем они мне сейчас? Случись мне жить вторично, я ничего бы не стал менять», — сказал Сталин с мукой, поворачиваясь к летописцу, и тот с готовностью ответил.
«Ты прав, однако зачем же так мрачно? Человека и его жизнь лучше считать комедией, до трагедии она никогда не дотягивает. Не хватает невинного пустячка — смысла. Но сегодня действительно особый срок — тебе единственному выпала участь увидеть деяния своей жизни еще раз, все от начала до конца, оценить их, а судьи, возможно, на этот раз и подведут итог, жизнью своей ты нарушил закон равновесия, и сейчас судьи растерянны…» — «Бред, бред! — не согласился Сталин. — Какие еще судьи? Ты никогда не знал России! У самого края пропасти она всякий раз обновлялась, становилась сильней. Посмотри, схватка с Россией опять проиграна. Разве рабы могут смеяться? Они смеются! Над кем!» — «У тебя разыгралось воображение, — мягко оказал летописец. — Какой смех? Опомнись, Coco…» — «Смеются, смеются! — повторил Сталин, теперь отчего-то уже пропадающим шепотом, начиная беспорядочно хлопать себя по карманам кителя. — Ты же видишь! К тому же куда-то запропастилась трубка, это невыносимо, наконец!» — «Повторяю, ты ошибаешься… и нервы у тебя ни к черту, — с сожалением отметил летописец. — Ничего не поделаешь, придется потерпеть. Результат противоположный замыслу — есть отчего отчаяться…» — «Что ты мелешь? — грубо оборвал Сталин. — Я ничего не понимаю…» — «Я говорю о космосе…» — «Ради Бога, не дури мне голову! Лучше помоги мне, может, моя трубка у тебя?» — «Ты невозможен, Coco, какая сейчас может быть трубка? Так указал закон равновесия, добра и зла, жизни и смерти, только на нем держится миропорядок. Судьи растерянны, они должны отыскать и определить свою ошибку, и они ее найдут». — «Судьи кто?» — спросил Сталин, угрюмо обдумывая услышанное и впервые поражаясь своему терпению. «Это не может быть известпо никому, — спокойно ответил летописец. — Повторяю, судьи зашли в тупик. Должны же они обнаружить сегодня свой просчет, или, по-твоему, разум обречен?» — «Мне не хватало каких-нибудь десяти-пятнадцати лет, — пожаловался Сталин. — Ты ведь знаешь, меня убили. Скажи кто?» — выкрикнул он, и его глаза, метнувшиеся к собеседнику, вспыхнули, но у летописца даже легкой тени пе промелькнуло в лице.
«Не надо кричать на пустых дорогах и площадях, — посоветовал он, и его короткие, предостерегающие, уже когда-то прозвучавшие слова озадачили Сталина. — Это не суд, всего лишь свет пришел».
Подавшись вперед, Сталин застыл — он увидел себя лежащим в одних толстых носках у себя в столовой на даче, голова неловко повернута, в полуоткрытом глазу копились влага и ужас, он натужно хрипел, и какие-то лица, полустертые, тяжкие, толпились над ним; он не мог двинуть ни рукой, ни ногой и, попытавшись сосредоточиться, уже не обращал внимания на немыслимое унижение, он попытался кого-то из проплывающих мимо подозвать и приказать ему остановить происходящее (этот кто-то был в круглых очках и с большими ушами), но тот лишь приблизился и в нетерпеливом ожидании заглянул в ледяные, неподвижные, страдающие глаза Сталина, и тогда Сталин все понял. И тут же послышались доставляющие ему странное усыпляющее наслаждение слова, звучавшие как бы в нем самом, возвестившие об истине. «Примите сущее, — слышал он гулкий и вечный голос, уже окончательно смиряясь. — Примите сущее отныне и во веки веков, и ядите: сие есть тело мое, и пейте из чаши сей, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих изливаемая во оставление грехов И да не минет никого чаша сия… аминь…»
Его пробудило прикосновение пальцев летописца — легкое, как пух, и пронизывающее все тело: он вздрогнул и опомнился.
И тут летописец коротким взмахом руки, отозвавшимся радостным ожиданием во всем существе Сталина, на одно мгновение остановил движение на уходящей в беспредельность площади, и оно всколыхнуло плотную, послушную массу народа, потекло в обратную сторону. Лишь на какой-то короткий миг оно взбучилось, схлестнулось встречными крутыми потоками, опало, затем ровно и упорядочение устремилось теперь от гостиницы «Москва» вниз к мосту, обтекая красноватую громаду Исторического музея. И это было уже совершенно другое движение и другой состав. На площадь теперь выкатывались человеческие волны с лопатами, ломами, топорами в руках; они толкали перед собой тачки и вагонетки; исхудавшие до костей, с провалившимися глазницами, они двигались плотной спрессованной массой, и нельзя было понять, двигались ли они. Просто в берегах площади ползло густое человеческое тесто, окаймленное с двух сторон густой опушью охраны; в этом сплошном вязком месиве живыми остались одни лишь смеющиеся лица да глаза. Сталин прищурился — и перед ним сейчас разворачивалась вторая, обычно погруженная во тьму ипостась жизни, и она была ему ближе и нужнее; она подтверждала еще раз его путь, его борьбу и — его правоту. И корни этого движения уходили в изначальные истоки человеческого рода, перед ним проползала оборотная сторона жизни в тайных пороках, в темных нерассуждающих прорывах плоти, залитая кровью, нерассуждающей ненавистью. Нет, нет, сказал он себе с какой-то жгучей ослепляющей радостью, в то же время страдая от вновь открывшейся истины. Нет, сказал он, я всего лишь продолжил начатое, я не мог иначе, дело не во мне, а в самой природе человека, в самой природе революции, и сам я был всего лишь слепым исполнителем ее воли. И он, он, с волей и памятью которого приходится бороться вот уже сколько десятилетий и который сейчас лежит здесь внизу, закованный в гранит, тоже ничего не смог, и никто никогда не сможет, ход жизни сильнее любого отдельного человека, даже если он гений, и тот же питерский инженер Никитин прав — природа человека оказалась даже сильнее природы революции. И смерть есть смерть, сколько бы поколений живых ни приходило к стеклянному гробу взглянуть на мумию, никакого символа из этого не получится, живой никогда не может поверить мертвому, и недаром тысячелетиями держится вера лишь в живых богов. Мертвых богов не бывает, в этом он тоже пытался убедить народ, и следовало бы высечь на этой глыбе гранита еще одну надпись: «Поклоняйтесь живым». Его, Сталина, открытие больше и неопровержимее, логикой событий и он был поставлен перед необходимостью попытаться переделать саму природу человека…»
Перед ним проходили сотни, тысячи, десятки и сотни тысяч раздетых донага и расстрелянных от Петрограда до Магадана в подвалах и застенках Чека, шли студенты, гимназисты, профессора и священники, артисты и писатели, офицеры и юнкера, шли дети и матери, старики и внуки, ползла плоть народа, шли соловецкие лагеря с их подразделениями — братская могила цвета нации, старой русской интеллигенции; они шли, с раздробленными затылками, слипшись в крови, с переломленными в пытках костьми рук и ног, с перебитыми позвоночниками, с вывернутыми суставами и чугунными от побоев телами, они не могли идти, но сейчас шли; шли дрогнувшие в боях полки бойцов, беспощадно расстрелянные по приказу Троцкого; их веру и их закон необходимо было выжечь и заменить иной верой, верой, ставшей бы их законом. Шли ремесленники и купцы, князья, крестьяне, рабочие, шли беспощадно уничтоженные пленные белых армий, и среди необозримых масс русских, сливаясь с ними, шли украинцы и грузины, поляки и евреи, латыши, белорусы, финны и китайцы, казахи — в смерти они обретали, наконец нужное единство, сливались в один, необходимый для новой веры народ, но все они, казалось ему, безудержно смеялись, и это было невыносимо. Первая волна, сцементированная стихией революции, ставшая фундаментом, основанием следующего разворота событий, теперь уже событий по его, Сталина, воле беззвучно прокатилась по площади, затем хлынула, заполняя площадь до краев, опять-таки безликая серая крестьянская Русь — немая и безоглядная, даже сейчас страшная в своей горючей немоте и видимости покорности. Шли спецпереселенцы и каторжане, шли восставшие из вечной мерзлоты Магадана и Колымы, с ладонями, вросшими в рукоятки кайл, в ломы и заступы, шли спецподразделения, пробившие туннель под Татарским проливом и соединившие остров Сахалин с материком.
Над древней площадью сгустились сейчас призраки прошлого, разбуженные происходящим: булыжник мостовой проседал и крошился под размеренной и тяжкой поступью миллионов ног, площадь прогибалась и проседала, и сам Мавзолей, казалось, сдвинулся с места, словно тот, кто лежал в нем, силился встать, и от его нечеловеческих усилий ходуном ходили мраморные плиты. Все повторялось в мире, все вновь выходило на круги своя. Над площадью плыли портреты — Сталин только сейчас обратил на них внимание. Они не были похожи на него, в них не было ни страсти, ни страдания — утяжеленное, штампованное, раз и навсегда застышее лицо. От неожиданной мысли Сталин быстро взглянул на летописца — странная, растерянная и в то же время торжествующая улыбка раздвинула его вялые старческие губы.
«Не там ищешь, — пробормотал он, вздрагивая в каком-то нервном ознобе. — Ты думаешь, я — Сталин? Ты тоже не Сталин, хотя и считаешь себя моей половиной. Гляди, — протянул он руку, указывая на свой проплывающий мимо огромный портрет. — Вот он, Сталин, и другого не придумаешь, другого просто нет и никогда не будет! Но почему опять такой хохот над площадью? Мне что-то не по себе, взгляни, я ничего не понимаю…»
Какая-то судорожная боль передернула его лицо, боль земного, слабого человека, прожившего совершенно чужую жизнь да еще и не под своим именем. Стыдясь и страдая, он не опустил глаз — сутулая фигура Горького, текущая мимо, привлекла его внимание; знаменитый писатель, приветствуя его, вскинул руку, растрепанные усы приподнялись в улыбке.
«Скажешь, этот тоже ошибался? — спросил Сталин у летописца. — Или лицемерил? Этому-то зачем? Или скажешь, сломили, опять я виноват, за язык тянул, угрожал?» — «Я этого не говорю, Coco, это ты говоришь, — ответил летописец. — Тоже ведь обиженный, был преисполнен ненависти, всю жизнь рвался к самому страшному — к духовному — к духовной диктатуре. Нет, нет, не отрекайся, он твой природный союзник, ведь его гуманизм густо замешен на демагогии». — «Помолчи», — попросил Сталин, он увидел себя и его рядом с собой и тут же Троцкого в самом центре площади, в самой гущине человеческого месива. Они двигались рядом, спрессованные толпой, и Ленин, то и дело взмахивая перед собой рукой и рубя воздух ребром ладони, о чем-то напористо говорил; и вот уже в мозгу отчетливо прорезался характерный грассирующий слегка голос, и тогда Сталин вновь стал рыться в карманах, отыскивая трубку.
«Ты его так ненавидел, Coco? — спросил летописец. — Хотя зачем я спрашиваю…» — «Нет, нет, здесь совсем другое, — ответил Сталин. — Зачем победителю ненавидеть побежденного? Если ты помнишь, он считал себя всеведущим, хотя никогда им не был… Если он начинал сомневаться, сразу же впадал в крайность, мог даже заявить, как однажды, что мы проиграли революцию. Его ошибки слишком огромны, чтобы считать его святым… Это меня всегда в нем поражало, хотя я никогда не мог разрешить себе даже усомниться… Революционной беспощадности все мы учились у него. Я помню, как он попросил у меня яд, даже умереть хотел на котурнах. Кто же знал, что мы имеем дело с маниакальной идеей собственного величия? А потом было уже поздно, разрушительные идеи, зарождаясь, проходят определенный путь развития…» — «Понятно, на твою долю выпал самый пик, — остановил его летописец. — Подожди, Coco, судьи еще не высказались, не надо поспешных выводов».
Новая волна, хлынувшая на площадь, выдавила предыдущую, вынесла ее вон. И Сталин больше не видел ни себя, ни Ленина, ни Троцкого — они тоже оказались всего лишь слабым бликом во тьме времени, и Сталин еще более укоренился духом. Предстояло еще увидеть и вынести многое, выпить чашу предательства… самому в сто крат больше предать и выдержать позор войны, где друзья по пакту, договору и по духу вдруг оказались лицом к лицу по разные стороны пропасти и поняли, что слишком похожи и не смогут уместиться рядом даже на двух солидных материках…
«Больше некуда торопиться, Coco, — сказал летописец. — Судьи закончили свое дело, нам, очевидно, предстоит лишь еще одна короткая встреча за городом, рядом с твоей старой…» — «К черту встречу! Начинаешь мне приказывать? — вырвалось у Сталина. — Лепечешь, лепечешь, — говори прямо. — Никого больше не хочу видеть! Что они решили?» — «Прости, но я тоже кое-чего добился рядом с тобой, — обиделся летописец. — Ты можешь меня не слушать, но льстить ты меня не заставишь, об этом мы уговорились с самого начала. И если тебе интересно, то дело куда проще, чем предполагалось, — продолжал летописец. — Ты хорошо усвоил гениальный урок — главное, не давать никому опомниться, вызвать в едином организме противоборствующие силы и столкнуть их. Твой прием был весьма однообразен и примитивен, но что поделаешь, не ты же создал природу человека. Ты решил довести до конца заветы своих учителей, утвердить новую веру — и ошибся в высшем законе космоса: еще ни один разрушитель не смог удержать в своих руках ход событий, такова природа самой гармонии жизни. И великим ты уже никогда не будешь. Ты всего лишь баловень истории — она ведь часто ошибается, вверяя себя не тому… Нет, Coco, я знаю, о чем ты думаешь. Я знаю, ты не раз отказывался от власти — и всегда давал себя уговорить… Тоже старый, испытанный еще задолго до пришествия Христова, прием». — «А он? — с ненавистью спросил Сталин, топая ногою в камень. — Он — чистый и непорочный, другие в крови, а он в горных высотах? Это справедливо? Твои судьи лицемерят! И ты сейчас лицемеришь! Попытаться встать над человечеством, откинуть весь его опыт, отринуть саму природу человека, заставить его жить вопреки законам самой материи, самого космоса — разве это само по себе уже не преступление? Разве судьи по-прежнему считают, что учитель всегда прав и виноват только исполнитель? Когда же придет праведный суд? А он, он сам разве смог удержать контроль над событиями в своих руках?» — «Судьи беспристрастны, — сказал летописец, — у них свой счет. Здесь другое, никто не волен в своем предназначении, на него упал тяжкий жребий начала… Разве можно вменять человеку в вину сам факт рождения? Но каждому будет определено самой точной мерой, и ему тоже, пытка светом предстоит каждому. Только ты уже не узнаешь об этом…» — «Почему? Разве это справедливо?» — «Но он ведь тоже ничего не узнает о тебе». — «Тогда в чем смысл?» — «Ты стареешь, Coco, сколько ненужных вопросов, — ответил летописец. — Я бы тебе советовал задержаться на полчаса и поставить последнюю точку». — «На этот раз будь по-твоему, за твоими словами что-то проступает», — угрюмо бросил Сталин, и летописец кивнул ему; бледное сияние над Красной площадью стало меркнуть, и вскоре в безоблачном черном небе стали проступать острые пики кремлевских башен и маковки храмов.
Часовые у дверей Мавзолея почувствовали, как сползала придавившая их свинцовой плитой и лишившая дыхания тяжесть.
Сравнительно недалеко от пансионата старых большевиков на правительственной даче в этот вечер было оживленно и людно; к проходной то и дело подъезжали машины; иные проскакивали дальше, к самой даче, из других люди следовали за проходную своим ходом; двухэтажная дача ярко светилась всеми окнами; обслуживающий персонал четко и слаженно занимался своим делом, но самое главное происходило в большом продолговатом зале на первом этаже с рядами кресел вдоль стен с огромным овальным столом; посередине стола стояла корзина черных свежих роз, источавших еле уловимый, слегка сладковатый запах.
Стол возглавлял старик с изношенным дряблым и больным лицом и густо кустившимися бровями, в котором, несмотря на старческую дряхлость и размытость, проступали все пороки, весь разврат его долгой лицемерной жизни. Правда, сам он не только не считал свою жизнь безнравственной, наоборот; его давно уверили в том, что он, его жизнь и деятельность настоящего ленинца являет нравственный и патриотический пример и подвиг, и если бы кто-либо осмелился указать ему на его безнравственность и лицемерие, он был бы удивлен, обижен и рассержен. Так уже складывалась система и право высшей власти: что бы ни делалось наверху и как бы это ни было безнравственно, порочно и вредно для жизни, все происходящее именно наверху должно было одобряться и приветствоваться народом, одурманенным водкой и тяжелой, нескончаемой, каторжной работой, низко и недостаточно оплачиваемой и потому породившей всеобщее повальное воровство. И старик, сидевший во главе стола, почти уже отсутствующий в реальной и большой жизни вокруг, все-таки радовался своему положению и даже смутно понимал и чувствовал, что с ним сейчас происходит нечто не совсем обычное и возвышенное. У него на груди сияло созвездие из пяти золотых звезд, на галстуке красовался алмазный орден миллионной стоимости за победу в последней войне. Перед генеральным старцем давно уже плыли и клубились заманчивые, усыпляющие сны, и в них невозможно было отличить бред от истины. Всматриваясь в казавшиеся совершенно одинаковыми лица за столом, старик первое время еще пытался припомнить совсем почти стершихся из памяти людей, затем слабо рассердился, повернулся к генералу, стоявшему за спинкой кресла, хотел о чем-то спросить, и тот было почтительно наклонился, но Леонид Ильич уже забыл о своем желании.
Рядом с ним сидел Малоярцев, хотя ему положено было по раз и навсегда установленному порядку сидеть дальше, человека через три; чей-то недосмотр опять расстроил Брежнева, из-под нависших бровей он раз и второй с проснувшейся тревогой ощупал Малоярцева взглядом, раздумывая, отчего бы это он так подозрительно близко придвинулся и не пора ли ему с ленинской прямотой указать его место; знаем мы эти родственные штучки, в раздражении сказал себе Леонид Ильич, жены женами, а спать, хи хи, все равно врозь, власть — дама весьма и весьма загадочная, не успеешь моргнуть, испарится… От непривычного мыслительного усилия все перед Леонидом Ильичом поплыло. Мелькнула мысль о достойном завершении большой, трудной и славной жизни, он прикрыл глаза, приготовляясь к предстоящему и еще больше вжимаясь в спинку кресла. Вызванный им самим восторженный старческий, какой-то даже мистический озноб ободрил его, и он вновь зорко уставился на Малоярцева, по-прежнему не понимая, как тот оказался не на своем месте; тотчас, к облегчению Малоярцева, внимание Леонида Ильича привлек человек с совершенно лысым крупным черепом на другом конце стола, и опять он не удивился, хотя без труда узнал Хрущева. Но вслед за тем смятение лишь усилилось: через стул от Никиты Сергеевича примостился хмурый, явно чем-то недовольный Маленков, рядом с нам сидел Молотов, а дальше…
С усилием подобравшись, Леонид Ильич тяжело потянулся к генералу за спинкой стула и невнятно спросил:
— Где мы?
— На загородном приеме, — тотчас с готовностью пояснил генерал, привычно наклоняясь к уху Брежнева. — Вы сами назначили его на сегодня. Здесь все по именным спискам — ни одного постороннего лица.
Стол теперь был заполнен, сидели хоть и в креслах, но тесновато; почти все лица казались знакомыми, но точно их определить было невозможно; чуть наискосок от Никиты Сергеевича сидел, кажется, сам Михаил Андреевич, сосредоточенный и сухой; он перекладывал из гнезда в гнездо крупные бриллианты в изящной коробке из черного дерева, выстланной изнутри лиловым бархатом; самые любимые он, наслаждаясь, подносил ближе к глазам, и взгляд его, словно на трибуне во время ответственных моментов, исступленно загорался. Коллекционируя, как истинный мужчина, легковые автомашины, Леонид Ильич снисходительно относился к бабьей слабости Михаила Андреевича и сразу же сосредоточился было на его соседе с высокомерным лицом, но как раз в это время дверь беззвучно отъехала в сторону, и в ее широком проеме появился человек в сапогах, в кителе и в фуражке. Тотчас все в большом зале замерло и остановилось; головы повернулись к двери, и взгляды приковались к вошедшему. Леонид Ильич хотел встать, не смог, и генерал успокаивающе шепнул ему:
— Леонид Ильич, актер, актер из пьесы… Только что смотрели, пришел представиться.
— Безобразие! — возмутился Леонид Ильич, почти ничего от волнения и внезапной слабости не выговаривая. — Скверная, пошлая пьеса, дурной актер… Кто пригласил? Убрать… раз-гри-ми-ро-ва-ть… сейчас же! Здесь! На глазах! — указал на стол перед собой Леонид Ильич. — Полное разложение! Куда смотрит Демичев? А цензура? Большего безо-бра-зия я не помню! Что за актер?
— Да, конечно же, безобразие, распустились! — подтвердил сидевший рядом Малоярцев. — Ничего святого!
Кинулись выяспять, потому что никто не знал истинной причины этого явления; между тем актер, с которого сдирали парик, стирали грим откуда-то появившиеся женщины в халатах, вел себя как ни в чем не бывало и, с повышенным любопытством рассматривал собравшихся за столом, даже слегка улыбался; в это время, отвлекая внимание Леонида Ильича, у Никиты Сергеевича появился в руках детский резиновый шарик с задорным рисунком симпатичного розового цыпленка с широко открытым клювом. Никита Сергеевич прицелился, сказал «хе-хе» и перебросил шарик через стол Михаилу Андреевичу, а тот, в свою очередь, сверкнув глазами, издав своим бабьим голосом короткий звук, который нельзя было определить иначе, нежели выражение подлинного удовольствия, и затем, выкрикнув еще пронзительнее, почти с подвизгиванием: «Братья! Опля!» — он переправил шарик Климентию Ефремовичу. От изумления перед этой непонятной игрой Леонид Ильич все остальное забыл; ему и самому захотелось получить заветный шарик, и в тот же момент он действительно перепрыгнул к нему. «Гопля!» — с удовлетворением сказал Леонид Ильич и, прицелившись, щелчком переправил шарик милейшему Лазарю Моисеевичу, настороженно выглядывавшему из-за широченного плеча какого-то маршала. Лазарь Моисеевич обрадовался, поймал шарик и заявил, что шарик его законная собственность и он никому его больше не отдаст. Все стали возмущаться и требовать продолжения увлекательной игры, но Лазарь Моисеевич заупрямился; Леонид Ильич обратился к нему с мягким увещеванием, витиевато заговорил о совести, о необходимости коллективного подхода к проблеме и просил подать пример другим. В это время освещение в зале как бы переключилось; со всех сторон к центру пошли неожиданно появившиеся официанты с подносами, недалеко от стола обозначилось возвышение, и в легком газовом облаке, сквозь которое просвечивало юное, свежее тело, заскользили, плавно извиваясь две танцовщицы; еле слышная восточная музыка наполнила зал плохо скрываемым сладострастным томлением. Официанты наливали вино и ставили закуски пока только холодные; Леонид Ильич встретился с ускользающим взглядом молодого красавца в безукоризненном костюме, с торчавшими из под руки бутылочными горлышками; Леонид Ильич на кого-то обиделся за свою старость и указал на шотландское виски; тотчас ему и был составлен задиристый напиток из виски с содовой, и он уже потянул его ко рту, еще заранее шевеля от предстоящего наслаждения непослушной, тяжелой нижней челюстью, и уже было приготовился причаститься на свободе, без недремлющего ока неумолимой супруги, но на этом дело и закончилось вхолостую, бокал задрожал у него в руке и тотчас был кем-то подхвачен и поставлен на стол. Артист, игравший Сталина, никак не хотел разгримировываться и все намеревался втиснуться за именитый стол в своем первозданном виде; это окончательно возмутило Леонида Ильича, и он, указывая на самодовольного и наглого актеришку, сердито и слабо стукнул ладонью по столу.
«Убрать! Убрать!» — зашелестело и понеслось вокруг, и вот уже забывшегося артиста окружили со всех сторон, и вслед за тем произошло что-то непонятное. Белогрудых официантов и подтянутых охранников в штатском отшатнуло в разные стороны, артист исчез, а на его месте оказалось двое: словно бы еще более преобразившийся в Сталина артист и рядом с ним — человек с крупными залысинами, одетый в длинное, почти до пят легкое пальто; и в тот же момент что-то опять переменилось в зале, то ли дружно мигнули запрятанные за карнизами и по другим местам светильники, то ли ворвался откуда-то порыв знобящего ветра. То, что в зале явился именно он, сам своей персоной, сразу поняли все: какой-то холодок заструился вокруг стола; застигнутые моментом застыли, полуобернувшись в одну центральную точку с ожиданием и любопытством на лицах, официанты; как-то сместилась и переменилась атмосфера — иной ток потек в воздухе и по-иному соединил людей — и еще живых, и уже ушедших, и они оказались друг перед другом в равных правах и равной ответственности. Времена сомкнулись, ни смерти, ни жизни, ни народа, который они вот уже несколько десятилетий c упоением вели вперед и просвещали, ни Бога, которого они безоговорочно отменили, больше не было, а было нечто необъяснимое, нечто такое, что было больше народа и больше Бога, и даже больше самой вечности. И это ощущение радостного омовения, почти пытки светом, исходило, все это знали, от человека с глубокими пролысинами, стоявшего со Сталиным со спокойными и глубокими глазами. И тогда навстречу Сталину полетела бодрая с лукавым прищуром, обещающая все что угодно улыбка Никиты Сергеевича, раньше всех, со всей чуткостью своей натуры уловившего первые, смутные еще колебания текущего момента; вслед за тем какая-то, словно посторонняя сила приподняла руку Леонида Ильича, пригасила золотое сияние на груди, но беспощадный взгляд Сталина уже успел охватить весь стол, заметить каждое лицо, знакомое и незнакомое, отметить каждую подробность. Многих он не узнавал и не торопился по старой, проверенной привычке показывать свое незнание.
«Вот, Coco, здесь твои ученики, — с готовностью пояснил летописец. — Все они вышли из тебя… своею собственной персоной. Все циники и лицемеры. Ты хотел их видеть, что ж — они перед тобой. Убедись, что и последние твои доводы рухнули: измельчание налицо. Есть цинизм высшей политики и есть цинизм собственного брюха. Теперь ты видишь, все вы здесь в братстве правящих связаны — живые и даже навсегда отстраненные имеют возможность общаться… Но они все труднее находят общий язык…» — «Отстраненные? Что ты имеешь в виду? — не удержался от удивления Сталин. — Конечно, легко стоять в стороне и судить, — совсем по-домашнему проворчал он и, присматриваясь к Брежневу с явной заинтересованностью, спросил: — Этот, что ли, сменил меня, надо полагать… что-то не припомню таких способных. Откуда бы? Была еще одна война и он ее выиграл?»
Раздражаясь, Сталин задавал свои вопросы отрывисто и резко, его тяжелый взгляд словно насильно приподнял Леонида Ильича, и он стоял на старчески слабых, вздрагивающих ногах, незаметно поддерживаемый дюжим краснолицым генералом, покорно, не отрывая слезящихся глаз от Сталина.
«Нет, Coco, ты ошибаешься, — опять вмешался летописец и повернулся в сторону Никиты Сергеевича. — Тебя сменил талантливый ученик, вот он невинно щурится, это уже затем, через десять лет Никиту Сергеевича сверг Леонид Ильич; понимаю, огорчительно все это, Coco; но ничего не поделаешь, историю, сам убедился, переменить нельзя». — «Как? Этот шут? — спросил Сталин, даже не пытаясь скрыть своего изумления. — Невозможно, этого не могло быть никогда!»
Стыдливо опустив лысую, жирную голову, Никита Сергеевич извлек из-под стола шарик с розовым цыпленком и пустил его наискосок Климентию Ефремовичу; возмутившись, тот бухнул кулаком, и шарик, взвившись вверх, исчез, очевидно зацепившись за какую-то шероховатость в туманном потолке; пораженный окончательно, теперь уже заставляя себя сдерживаться, Сталин еще раз, привычно определяя расстановку сил, окинул стол взглядом.
«Нет смысла радоваться или негодовать, Coco, — подал голос летописец. — Свершившееся свершилось. Даже судьи движутся ощупью, ошибаясь и отбрасывая. Человеку не дано заглянуть в свой завтрашний день, так уж устроено». — «Скверно устроено! — подхватил Сталин, по-прежнему переводя взгляд с Никиты Сергеевича на Леонида Ильича и обратно, словно выбирая, на ком окончательно остановиться. — Уж я бы с ним поиграл в одну веселенькую политическую игру, в кошки-мышки, особенно с двурушником этим Никитой, ох как бы я с ним поиграл… Ах ты, моя Мурка, Мурка дорогая… Вот откуда, оказывается, распространилась гниль… Правда, я начинаю верить… рожа-то, рожа, народная рожа!»
Тут Никита Сергеевич опять застенчиво отвернулся, даже голову от усилия завалил набок, отчего на затылке у него вздулись багровые толстые складки; у него в руках вновь каким-то образом оказался все тот же воздушный шарик, и он конфузливо перещелкнул его Лазарю Моисеевичу, но Сталин уже окончательно нацелился на Леонида Ильича, тот под его взглядом рухнул в кресло, и Сталин, глядя на его звезды, словно вновь и вновь пересчитывая их, резко спросил:
«Но это что еще за недобитый троцкист?»
Отщелкнув от себя шарик, взлетевший под самый потолок, Лазарь Моисеевич улыбнулся провалившимся ртом.
«Коба, ты меня прости, но ты здесь ошибаешься. Какой троцкист? Что ты? Широко торгует с Америкой, с Европой… Это миротворец, за мир горой, какой же троцкист?» — «Это ты меня, Лазарь из деревни Кабаны, учишь опять? — мгновенно повернулся к говорившему Сталин. — Ты, оказывается, марксист, а я? Давай посмотрим с другой стороны: Троцкий хотел расплатиться Российской империей за господство над миром, а этот, значит, торгует, распродает страну тем же силам без всякой крови? Чем он может торговать? А народ опять, надо полагать, рукоплещет… Мне думается, здесь без тебя не обошлось, твоя игра… или чего-то недоглядел… Ты знаешь, как за это у меня отвечают, Лазарь, из деревни Кабаны?» — «Коба, ну перестань шутить, — попросил Лазарь Моисеевич. — Ты же знаешь — на мне ни пятнышка…» — «Постой, постой, — оборвал Сталин, приближаясь и, наклонив голову, глубоко и пристально заглядывая Кагановичу в глаза. — Уж не ты ли оказался той самой змеей… Я, значит, просмотрел?»
В зале произошел странный шум; Лазарь Моисеевич приподнялся и с исчезнувшими совершенно губами, растянув крашеные усы, что должно было означать торжествующую улыбку, выставил вперед сухонький рыжеватый кулачок и через весь стол показал Сталину фигу; зал приглушенно ахнул, а Сталин, шагнув вперед, шлепнул по этой фиге ладонью, и Лазарь Моисеевич обрушился на свое место.
«Дурак, — сказал Сталин негромко. — Значит, твоя работа… Где тут Лаврентий? Лаврентий!» — повысил он голос, и в голосе у него прозвучало знакомое бешенство. Покосившись на летописца, он подошел к Леониду Ильичу, вросшему в кресло, но тот уже успел, пока Сталин был занят перепалкой с Кагановичем, каким-то образом снять почти все свои звезды и алмазный орден, затолкать их в карман пиджака и теперь испуганно, неотрывно смотрел на грозного гостя. Сталин, рассердившись на неожиданное малодушие и мелкое мошенничество Леонида Ильича, уже протягивая руку за последней звездой, оставшейся еще на его широкой груди, сквозь строй окаменевших официантов, словно сквозь матовое стекло, увидел несколько смутных человеческих фигур, как бы проступивших из стены; лица их были совершенно скрыты под тонкими, словно сросшимися с кожей масками, и лишь в прорезях для глаз пробивалось живое, напряженное мерцание. Сталин, опять забыв о Леониде Ильиче — так его поразили проступившие из стены фигуры со стертыми лицами-масками, — оглянулся на летописца за объяснением.
«А-а, в масках… Это те, Coco, кто придет в скором будущем, — пояснил с готовностью летописец. — О них еще ничего не известно, добро принесут они в мир или зло… никто не знает. Но они уже на пороге, они готовы, ждут. К ним стоит присмотреться… вон тот, видишь, второй слева…» — «Да ведь все они одинаковы, как сиамские близнецы! Что можно различить?» — «Внешне одинаковы, но вот тот, второй слева, и следующий рядом с ним? Присмотрись получше. Оба отмечены самим сатаной… Особый знак, непредвиденная судьба, — сказал летописец. — Чувство предвидения входит в познание, закон космоса един…» — «Значит, этот, второй слева, на очереди? — спросил Сталин. — Не перевелись страждущие? Троцкист?» — «Теперь назовут как-нибудь иначе, — ответил летописец. — Воитель духа, архитектор мира…» — «А может, и моя трубка у него? — спросил Сталин, приходя в сильное беспокойство. — Нельзя ли это как-нибудь выяснить? Должна же она где-то быть! Мне будет очень неприятно, если он станет из нее курить. Зачем ты показываешь мне всех этих идиотов? Прошу тебя, отыщи мою трубку, она мне сейчас нужнее всего». — «Ну, Coco, ты свои привычки оставь, — усмехнулся летописец. — Мы с тобой на чужом пиру, пусть разбираются сами. Неужели ты действительно ничего не понимаешь? Точка поставлена, Россия теперь не скоро поднимется, но уверяю тебя, поднимется весьма неожиданно и грозно для всех своих мучителей. Ох, как она припомнит вам этот шабаш, а ты здесь ведь один из самых почетных гостей и пайщиков. Потом, ты забываешь о партийной дисциплине, эксперимент должен продолжаться именно здесь, здесь в России. Ее согласия никто и не спрашивал, ни твои учителя, ни ты… От вредных привычек надо отказываться. Что ты теперь хлопочешь?» — «Эти, в масках, должны же что-нибудь открыть новое, справедливое? — теперь уже с непривычной просительной интонацией в голосе и даже как-то безнадежно предложил Сталин и вздрогнув, отшатнулся от веселого смеха летописца.
«Они ведь тоже из той же земли и воды, Coco. Кто знает, смогут ли их души приобщиться к тайне космоса? Не скоро падет в эту землю доброе семя, должен сначала подняться из нее человек». — «И даже ты не в состоянии указать срока?» — спросил Сталин еще понижая голос. «Даже я…» — «Не знаешь или не хочешь? Что-то ты чересчур своевольничаешь!» — продолжал угрюмо настаивать Сталин, недовольно оглядываясь на внезапно горько расплакавшегося от обрушившегося на него потрясения Леонида Ильича и на Малоярцева, незаметно подсовывавшего ему бокал с вином.
«Да, не знаю и не хочу, не опасайся, очень не скоро, — ответил летописец. — Система сама сработает. Все сместилось. Это ты, Coco, у нас мастер на последние завершающие мазки, успокойся, тебя долго не забудут. Вот так, теперь система способна защитить самое себя. И сильная личность ей больше не нужна, даже опасна — в этом главная суть».
Вспомнив о незаконченном деле, Сталин оглянулся на несколько успокоившегося Леонида Ильича, молча, без единого слова сорвал с него последнюю золотую звезду и опустил себе в карман.
«Вы же мертвый, Иосиф Виссарионович! — бессильно пожаловался кому-то Леонид Ильич. — Не имеете никакого права здесь бесчинствовать! Верните заслуженное всей честной жизнью!» — «Подождешь, я живее всех живых, вместе взятых, я с вами еще поговорю, подлецы и трусы, — глухо ответил Сталин и яростно приказал: Водки всем! Водки, живо!»
По всему залу заметались молчаливые и бесстрастные официанты. Со стопкой водки к Сталину тотчас подшелестел Лаврентий Павлович, уши у него от волнения еше больше отвисли; дергая лицом, гримасничая и, очевидно, не только объясняя интересующее Сталина положение дел, но и жалуясь на кого-то, он что-то торопливо пошептал вождю в самое ухо, причем тот оглянулся и поискал глазами Лазаря Моисеевича, затем Никиту Сергеевича; собравшиеся опять замерли.
И вновь холодная, обессиливающая тоска пришла к Сталину; чем больше суетился Лаврентий Павлович, тем меньше Сталин верил ему, и наступил момент прозрения.
«Вот мой палач, я его узнал, он меня убил, — сказал Сталин. — Подлая душонка… Ты должен покарать его, — повернулся он к летописцу. — Ты можешь… Угрюмый предатель, он не дал мне свершить необходимое, покарай его!» — крикнул Сталин, и от его голоса отпрянули тени в самых дальних углах зала, исчезли, слились со стенами фигуры в масках и опять заплакал Леонид Ильич. Но летописец остался невозмутим.
«Поздно, Coco, я тебя не узнаю, все точки поставлены, — сказал он. — Ты обращаешься не по адресу, ведь отлично знаешь — каждому свое. Мне не хотелось бы с тобой расставаться, рядом с тобой мне никогда не было скучно, но всему приходит конец. Расстанемся по-мужски, с легкой улыбкой — жизнь не стоит большего. Лучше посмотри, какая эйфория, какая всепоглощающая любовь, разве тебе этого мало?»
«Бессмертному вождю народов, товарищу Сталину — ура!» — не растерявшись, повысил голос Лаврентий Павлович с горящими энтузиазмом глазами, и весь зал вместе с официантами грянул троекратное «ура!» с такой силой, что мигнул и погас свет.
На другой день после завтрака Анисимов, хромая сильнее обычного, проводил своего гостя к автобусной остановке. У Анисимова под глазами набрякло, неразговорчивый гость тоже молчал и хмурился.
— Ночь нехорошая выдалась, — пожаловался Анисимов. — В наши годы нельзя так перебирать. Полковник еще затемно в Москву укатил, здоров, черт… Привет тебе передавал.
— Ничего, зато душа встряхнулась, — сказал лесник. — Теперь уж ты ко мне давай. Завтра махну к себе на кордон, приезжай. Мед, молоко, овощ свой. Спасибо за заботу, — глянул он искоса. — Сам ты здоров? Всю ночь кричал да охал, через стенку слыхал, погань какая снилась, а?
— Печень, — еще больше помрачнел Анисимов. — Как чуть-чуть, она, подлая, тут же на дыбы… Как закрою глаза, так и проваливаюсь в какую-то черную дыру, как закрою, так и проваливаюсь, сердце заходится. Но ты, Захар, признайся, потрясен?
— Знатный у полковника ящик этот, для мяса, попрошу внука достать такой, — сказал лесник, усмехаясь. — Засунул мясо, курицу, включил — никаких тебе забот…
От неожиданности приостановившись, Анисимов вначале даже не понял.
— А-а, гриль… Нужная вещь! Настоятельно советую обзавестись. Жаль, главного-то ты и не понял.
— Главного-то я сам и не знал, — спокойно пояснил лесник, — вот оглянулся, и вон оказывается как, топаю себе да топаю полегоньку, вот сколько вас перемерло, а я все живой… Эй, Родион, ты чего?
Лесник увидел перекошенное смехом, упитанное, гладкое лицо Анисимова, и этот неожиданный приступ продолжался с минуту.
— Ну и ладненько! — вытирая глаза, согласно кивнул он своему гостю. — Место в раю тебе обеспечено, за твои праведные труды, — покосился он почему-то в сторону глухого забора, нескончаемо тянувшегося вдоль дачной улицы. — Заслужил, ей-ей, заслужил! Адрес знаешь…
Лесник, комкая в кулаке свою заношенную фуражку, уже до самой остановки автобуса не проронил больше ни слова, он-то знал, что в жизни ни у кого нет права на последнюю истину. Уже из окна автобуса он взглянул на грузного, тяжело навалившегося на палку с витым набалдашником, Анисимова, и автобус тронулся. Прихрамывая, Анисимов торопливо шагнул вслед раз, другой, поднял палку, помахал ею вслед гостю; лесник отвел глаза, стал смотреть на зеленые пушистые сосны, еще таившие в себе благодатную ночную сырость.
17
Встреча с Обуховым не прошла даром — Шалентьев жил с досадным, раздражающим ощущением своей ненужности. Началось с того, что он, отправляя однажды строго секретное письмо и расписываясь как и было положено, в присутствии одного из помощников, на запечатанном уже конверте, внезапно поднял голову; рука у него дрогнула, и конверт был испорчен. Стараясь сосредоточиться, Шалентьев попросил принести новый, и когда, наконец, письмо было оформлено вторично и помощник ждал, разрешения уйти, Шалентьев вновь замешкался. Сам по себе случай был пустяковый, ну, не расписался в один росчерк на важном письме, не в этом же в конце концов дело, а в досадном внутреннем разладе. Какой-то сверхчуткий, необъяснимый механизм заставил его поднять голову и взглянуть на помощника, работавшего еще с Брюхановым, и тот, вышколенный, умеющий быть невозмутимым в любой ситуации, на этот раз не успел подготовиться. На его широком бесцветном лице Шалентьев уловил ускользающее, отсутствующее выражение; Шалентьев с проникновением, свойственным глубоким, много думающим и привыкшим к внутренней страдательной работе натурам, понял причину отсутствующего, ускользающего выражения лица у помощника, как тот ни старался показать свое внимание и готовность выполнить любое распоряжение шефа. Прежде чем отдать запечатанный по всей форме пакет, Шалептьев еще раз пристально взглянул помощнику в глаза, и тот от напряжения моргнул.
— Мы, кажется, лет десять работаем вместе, Артемыч? — спросил Шалентьев с располагающей к разговору улыбкой.
— Через два месяца двенадцать, Константин Кузьмич, — ответил помощник. — В ноябре ровно двенадцать. Я ведь с Нового года ухожу в отставку. Шестьдесят пять, пора, — добавил он, забирая подвинутый по столу в его сторону пакет. Шалентьев остановился на его руках взглядом, приподнял слегка брови.
— А мне что же делать прикажете? — спросил он. — Уже под семьдесят…
— У вас другое, Константин Кузьмич, вам и надо соответствовать, — слегка улыбнулся помощник. — А я что? Хочу один в тишине над озером посидеть…
— М-да, здорово придумано, удалиться от всех, покончить с суетой, — тихо, больше самому себе, сказал Шалентьев. Вышколенный долгими годами безупречной службы, входящий в незаметное, но могущественное среднее сословие, по сути дела державшее в своих руках всю многоярусную жизнь государства, тот самый незаметпый Артемыч, появляющийся в нужные моменты почти бесшумно, словно тень, и так же исчезающий, озадачил Шалентьева.
— Ну, не совсем так, Константин Кузьмич, суета окончится только вместе со всеми нами…
Шалентьев ничего не ответил, лишь отстранепно улыбнулся, и его улыбку можно было тоже истолковать по-разному — выработанная долгими годами общения с людьми подобного себе ранга и положения, напряженной и изматывающей подспудной борьбы в переплетении самых разных интересов и амбиций, в умении замаскировать свою истинную суть громкими словами о государственных и даже народных интересах, такая отстраненная улыбка большей частью прикрывала истинное отношение Шалентьева к тому или иному вопросу и явлению.
Поняв по остановившемуся взгляду Шалентьева, что откровения кончились, помощник ушел; за ним беззвучно закрылась массивная дубовая дверь, под цвет мореным дубовым панелям, которыми был обшит кабинет; странно, пустяковый, мимолетный, в общем-то безобидный стариковский разговор, и человек, превосходный работник, ага, в этом-то все и дело, отличный, безупречный, вышколенный, и с такой легкостью говорит о своем уходе, без всякого сожаления оставляя своего хозяина после долгих и совместных тревог и волнений… Двенадцать лет… Хорошо бы тоже сказаться больным, уехать домой, пригласить врача и немного расслабиться среди уютных домашних вещей, рядом с Аленкой…
Он тут же рассердился на себя; он никогда не разрешал себе подобных послаблений и тем более по такому ничтожному поводу. Просто нужно опередить момент и уйти самому, нужно лишить Малоярцева удовольствия, и ничего лучшего здесь не придумаешь. Конечно, казенную дачу отберут, но можно было бы поднатужиться и купить какую-нибудь живописную развалюху в деревне, подальше от Москвы, на берегу Оки или Волги. И тоже сидеть на зорьке с удочкой… Боже мой, никого не видеть, не слышать, не спеша перечитать том за томом всего Достоевского, Лескова, Мельникова-Печерского… Неужели такое в самом дело возможно? Нет, несбыточно…
Выработанная за долгие годы почти автоматическая профессиональная четкость помогла ему протянуть время до вечера, никто из его окружения ничего не заметил, и только за ужином Аленка, едва взглянув на него, заподозрила неладное; она убрала со стола, вышла на балкон, покурила, устроившись в низеньком кресле, специально для таких случаев поставленном. Однажды заметив, что мужу неприятно видеть ее с сигаретой, она уже никогда больше при нем не курила, и он был благодарен ей и при случае даже полушутливо-полусерьезно уверял, что она бросила курить, и хорошо сделала, и это в высшей степени гуманно и… и главное, к коже вернулась свежесть. Поддерживая игру, Аленка смеялась; она привыкла, что Брюханов, теперь и Шалентьев почти никогда не говорили с ней о своей работе, но и у того, и у другого случались моменты, когда ее вмешательство становилось необходимым.
Она решительно вошла в кабинет мужа; Шалентьев в тренировочных брюках и рубашке лежал на диване и вяло листал очередной номер какого-то заграничного технического журнала. Он взглянул на нее коротко и вопросительно; в этот час он привык быть один. Не поверив его недоумению, она присела рядом на край дивана, взяла у него из рук журнал, мимоходом взглянула на обложку, захлопнула и сказала:
— Ну, рассказывай, Костя…
Он затих, задумался, и Аленка терпеливо ждала; слышалась тихая музыка, и Аленка никак не могла определить, откуда она доносится. У Шалентьева на высоком желтоватом сейчас лбу собрались две вертикальные складки, у самой переносицы; выражение глаз переменилось, в них появилось что-то жесткое, нерассуждающее. Не услышав обычной уклончивой шутки, Аленка насторожилась.
— Так плохо? — спросила она, немного выждав. — Опять ваши мужские тайны?
— Ничего особенного, — ответил он. — Навязчивая идея — посидеть с удочкой, послать все к черту, уйти в отставку. Представляешь, тишина, над речкой туман, и — никого, совершенно никого!
— Представляю, — сказала Аленка мечтательно. — Ты засядешь за мемуары, я в строго отведенные часы буду подавать тебе горячий чай с медом.
— Зачем же с медом, я с лимоном люблю, — уточнил Шалентьев и прищурился. — А еще лучше зима, синие сугробы, лыжи, тишина. Ну, разумеется, и крепкий чай с лимончиком… Ты разрумянилась с мороза, а?
— Пустые мечтания, Костя, — покачала Аленка головой. — Ты не выдержишь, ты ведь ничего, кроме своей работы, не любишь. Ну, не горюй, ну не вечен же твой Малоярцев! Две жизни все равно не проживет, как бы ни хотел…
— Дело не в Малоярцеве… вернее, не только в нем, — сказал Шалентьев, радуясь возможности еще раз проверить свои мысли и сомнения вслух в присутствии жены. — Меня, Алена Захаровна, другое давит, какое-то бесхозное государство получилось. Где-то в самой идее просчет, изъян, исправить уж никто не решается… Я, Алена, никакого бы Малоярцева не убоялся, я этой страшной немыслимой оцепенелости мысли, этого, кажется, до скончания веков запрограммированного, всепоглощающего болота страшусь, ведь выбраться из него невозможно. Почему, почему, для какого-то, пусть самого незначительного, обновления мы должны ждать чьей-то смерти? Как образовались эти пожизненные посты, блокирующие любое здоровое движение? Нет, нет, я, очевидно, отжил свое, надо подавать в отставку, к тестю вон попрошусь, хоть по лесу поброжу, снег чистый увижу… Перед Обуховым было так стыдно ломать комедию, притворяться идиотом! Я ведь под каждым его словом подписаться готов… Нет, давай махнем к Захару Тарасовичу хоть на недельку! Хотя стоп, что это я говорю… Теперь и туда, в Зежские леса, дорога нам заказана, пенсионеры там теперь ни к чему… Вот еще что, Лена! Получается какая-то нелепица. Алена Захаровна, кто-то упорно пускает утку, будто я иду на место Малоярцева. Да не пугайся ты, Москва есть Москва, слухами только и кормится, — почувствовав напряжение жены, Шалентьев заставил себя беспечно засвистеть.
— Почему к отцу-то нельзя? — запротестовала Аленка. — Не преувеличивай, каждый советский служащий, особенно твоего ранга, имеет право на пенсию — сидеть где-нибудь над пересохшей речкой, слушать лягушек и грезить не возбраняется никому… Но, знаешь, Костя, я по-прежнему убеждена, что лучше ты, чем кто-либо другой. Кстати, ты удивишься — наш Захар Тарасович в Москве. У Пети остановился. К сыновьям летал повидаться… Всю Сибирь объехал, до Зеи добрался. Я с ним уже говорила, привет тебе сердечный от него. Завтра приедет к нам. Сейчас он у своего старого знакомого гостит под Москвой. Ты ведь не против?
— Прекрасно! Вот уж кого мне хочется повидать, — оживился Шалентьев. — Посидеть, без помех поразмышлять…
— Эти московские сплетпи насчет тебя и Малоярцева, Костя, мне очень не нравятся, — призналась Алецка. — Ну, прости, больше не буду…
— Вот и прекрасно, пойдем пить чай… И не смотри так проницательно, тебя это старит.
За столом они засиделись, обмениваясь будничными новостями, которые тут же и забываются; затем Аленка спросила о самом больном и затаенном — о Денисе.
— Костя, ну куда он мог провалиться, как ты думаешь?
— Граница есть граница, мало ли… Я дал задание, самое большее дня через три-четыре его местонахождение будет известно. Ну, потерпи, Лена, парень — не иголка, сыщется. Самое главное — среди убитых его нет, — и, предупреждая немой вопрос, похлопал ее по руке. — Среди пропавших без вести он тоже не числится, значит, и здесь в порядке. Потерпи!
Стараясь больше не задевать больных тем, Пети и Обухова, они разошлись по своим комнатам; Шалентьев вставал по-военному очень рано, а Аленка любила перед сном почитать. В эту ночь ей было не до чтения; она мучилась бессилием, над самыми дорогими и любимыми ей людьми Петей и Денисом нависла беда, а она ничем не могла помочь.
Трудная ночь выдалась и у Шалентьева, и если Аленка, в конце концов забылась тревожным сном, он так и не сомкнул глаз; помаявшись в темноте и поворочавшись с боку на бок, он включил свет и взглянул на часы; было еще совсем рано, стрелки указывали на половину пятого. Ведь самое парадоксальное в том, что как бы он ни поступил, будет ли он сидеть остаток своих дней с удочками где-нибудь на берегу речушки в российской глухомани или по-прежнему будет стоять намертво на своем посту в тайной борьбе с тем же Малоярцевым и его окружением, в мире совершенно ничего не изменится. Видимо, пришел срок, и его ресурс прочности исчерпан, и незачем искать причину душевной опустошенности где-то далеко на стороне; причина может таиться в нем самом, в подступившей старости (вон и на лице вместо щетины начинают какие-то перья расти), в отрицании происходящего, в неспособности выдерживать прежние перегрузки. В который раз, глотнув противного теплого боржоми и смочив сохнувший рот, Шалентьев твердо наметил для окончательного решения себе еще ровно неделю, затем встал под холодный душ, сделал гимнастику, тщательней обычного побрился, сварил себе кофе и сел за приготовленные с вечера бумаги. Обменявшись с женой за завтраком привычными, шутливыми напутствиями, на работу он, как всегда приехал без пяти девять, внимательно просмотрел неотложные и срочные папки и поставил, где надо, резолюции. Выждав ровно сколько, сколько было необходимо для того, чтобы начальство не ощутило ненужной торопливости, Николай Артемьевич напомнил, что на десять назначено совещание начальников главков, и бесшумно вышел. Через несколько минут вошел молодой подтянутый секретарь и доложил о приходе Степана Лаврентьевича Лаченкова; у секретаря был вполне деловой бесстрастный тон, но под пристальным взглядом шефа молодой человек в безукоризненно сидевшем на нем дорогом костюме невольно побежал пальцами сверху вниз по узлу галстука, по наглухо застегнутым пуговицам пиджака. Приказав секретарю перенести совещание на шестнадцать ноль-ноль, Шалентьев немедленно пригласил давно ожидаемого, хоть и нежеланного гостя в кабинет и, увидев свежее, нестареющее лицо Лаченкова, почти обрадовался. Близился финал. Степан Лаврентьевич тоже удивился радушию Шалентьева и по любезному настоянию хозяина кабинета вынужден был пересесть из официального кресла для посетителей перед большим столом в интимный уголок за маленький удобный столик с мягким освещением; на столике тотчас появился крепкий ароматный чай в высоких серебряных подстаканниках, коробка конфет и постное для диабетиков печеньице и сухари; вынырнул откуда-то, хотя Лаченков не произнес ни слова, подносик с пузатой заморской бутылкой и двумя щегольскими хрустальными рюмками. Лаченков, ссылаясь на нездоровье, виновато коснулся худыми пальцами ниже груди, где у человека, как известно, помещаются важнейшие внутренние органы. Шалентьев понимающе кивнул, и дальше между ними пошел уже совершенно обычный разговор, в свойственной им полуофициальной, полудружеской манере, хотя каждый с прежним упорством вел свою подспудную игру. Лаченков стремился подольше продлить предстоящее удовольствие, повергнуть, наконец-то, своего давнего оппонента в прах, увидеть на его лице растерянность и страдание, а Шалентьев бесполезно пытался решить старую и всякий раз новую для себя загадку, где он раньше в молодые годы мог видеть Лаченкова. По сравнению с предстоящим он, конечно, тешился никому не нужной блажью, но всякий раз ему казалось, что вспомни он, где и когда раньше видел Лаченкова, многое прояснится и станет на свои места.
— Ну, что ж, я вас слушаю, Степан Лавреньевич, с чем пожаловали? — Шалентьев неторопливо убрал коньяк и рюмки в встроенный бар в глухо зашитой дубом панели стены и выжидающе повернулся к Лаченкову.
— Комиссия по Зежскому спецрайону пришла к неутешительным выводам, — ушел от прямого ответа Лаченков, твердо принял взгляд Шалентьева, внутренне безоговорочно убежденный в своей правоте, в необходимости безукоризненно выполнить порученное ему важное дело.
— Неутешительным — для меня? — уточнил Шалентьев, и в глазах Лаченкова даже пробилось какое-то горькое торжество, которое тут же скрылось при попытке улыбнуться, — Лаченкову вдруг сделалось тоже пусто и одиноко в мире, и он попытался ожесточить себя давними студенческими воспоминаниями и тем, что вот она пришла, ожидаемая почти всю жизнь победа, и надо было ею в полную меру насладиться, но того победного чувства, за которым он даже с каким-то болезненным предвкушением так торопился сюда, в этот кабинет, не приходило; сердце угрюмо молчало. Вместе с молодостью ушло и мучительное, многие годы не дающее ему покоя желание настоять на своем, доказать, что мы тоже, как говорится, не лыком шиты.
— Надо же как-то дурацкий узел рассекать, Константин Кузьмич. Время ушло, жалеть особенно нечего. Должен же человек когда-нибудь остановиться?
— Должен, обязательно должен, Степан Лаврентьевич, — согласился Шалентьев; правила игры диктовали сейчас единственно приемлемую норму поведения, давнее единоборство излишне затянулось. — Не убедились ли вы, мой старый и верный союзник, в необходимости удалиться на покой самому Малоярцеву? И как можно скорее? Ведь он-то куда постарше нас с вами…
Лаченков удержал себя и не оглянулся, памятуя о современной чудо-технике и о ее возможностях проникать в самые невероятные потаенные места, не сказал ни слова, лишь укоризненно качнул головой, посылая хозяину кабинета предостерегающий взгляд, оставшийся, впрочем, намеренно незамеченным.
— Законов бытия не переменить даже Малоярцеву… не стоит так нервничать, — попытался успокоить своего гостя Шалентьев. — Ей-же-ей, нам с вами не пристало бояться… Сколько лет мы с вами проработали… страшно подумать, сколько лет! Всякое, конечно, бывало, но мы оба старались работать честно.
— Да уж, потрудились мы, Константин Кузьмич, и еще потрудимся, надо полагать, — обрадовался Лаченков удачно пришедшему сравнению. — Мы ведь волы, впряглись один раз и тянем…
— Да, насчет волов это вы в самую точку, Степан Лаврентьевич! Так ради чего мы с вами работали, враждовали, ненавидели? Кто же нам с вами на смену? Ведь не думаете же вы, что уцелеете? Я рушусь, а вы — уцелеете? Так не бывает… Или вы вообще не хотите мне ничего сказать? Уж не вы ли вместо меня?
И тут не досада, а уже какая-то внутренняя мука передернула лицо Лаченкова.
— Ну, хорошо, хорошо, вы при исполнении служебного долга… Только одно скажите, зачем такая глупость с академиком Обуховым? Весь мир трубит, стыдно встречаться с уважаемыми людьми… Какой цепняк мог придумать эту нелепицу! Как можно выслать куда-то академика Обухова? Оглянитесь, ради Бога, за нами расползается интеллектуальная пустыня. Мы же позорим страну, скажите вы Малоярцеву, ради Бога!
— Я хочу официально заявить, я с вами категорически не согласен и ваших мыслей совершенно не разделяю, — холодно отчеканил Лаченков, и тут Шалентьев с радостью узнавания заметил у него в руках старый, знакомый желтый портфель; сухие длинные пальцы знакомо терзали ручку портфеля, и Шалентьев, внося в мысли Лаченкова еще большую сумятицу, улыбнулся.
— Итак, Степан Лаврентьевич, обращаться выше бесполезно? Хотя, что я такое говорю, наши верха, как выразился академик Обухов в последнюю нашу встречу, терпят и даже превозносят до небес только мертвых героев. Малоярцев не оставил, надо полагать, ни малейшего шанса?
— Нет, ничего переменить теперь нельзя, — подтвердил, коротко глянув, Лаченков, и было нельзя понять, чего в его голосе больше: удовлетворения или сожаления. — Вам необходимо подать в отставку, Константин Кузьмич, — сказал он, помедлив: — Все узлы будут разрублены… все станет на свои места. Да, кстати, — тут Лаченков еще раз взглянул своими светлыми, честными глазами на собеседника, щелкнул замком портфеля, извлек большой конверт и протянул Шалентьеву. — Вот, можете ознакомиться, весьма любопытно, наши с вами государственные секреты становятся достоянием Бог знает кого…
— Что это?
— Копия статьи по поводу взглядов академика Обухова на зежское дело и весьма убедительная их критика. Статья была уже набрана в одном из последних номеров журнала «Вестник экономики», да цензура засекла, нам переслала, как и положено. Там просматривается между строк исчерпывающая картина… нас с вами непосредственно касается. А там, — неопределенно повел головой Лаченков, поджимая губы, — не дураки, там сразу бы вычислили… Какой-то молодой экономист, Александр Викторович Лукаш… Откуда он мог раздобыть такой материал?
— Лукаш? — переспросил Шалентьев, придвигая к себе конверт и извлекая из него статью, переснятую на ксероксе. — Погодите, а… Лукаш!
— Вы знаете автора? — удивился Лаченков.
— Слышал о нем… Ну, и какое это имеет отношение к нашему разговору? — в упор спросил Шалентьев. — А кто мне докажет, что статейка вами же, Степан Лаврентьевич, не организована…
— Вот этого я уже не потерплю! — вспыхнул Лаченков и вскочил, успев подхватить стоявший на коленях портфель. — Вы не имеете права!
— Я понимаю, вы пришли во всеоружии, — примиряюще улыбнулся Шалентьев. — Только для вас не это главное, для вас главное — моя отставка. Итак, условия?
— По самой вышке, — Лаченков достал платок и вытер вспотевший лоб. — В конце концов наступает завершение… Отдохнете, у вас нервы ни к черту… Полечитесь… Появится возможность никуда не торопиться, принадлежать самому себе… Это ведь тоже кое-что стоит… Неплохое обеспечение… сохраняется дача. Все привилегии генеральского звания. Пенсия. Я должен вернуться с вашим согласием, с вашей подписью, Константин Кузьмич…
— Вот и отлично, так и надо, по-военному… Я вас понял, — сказал Шалентьев почти весело. — Кстати, зря вы испугались этой статейки, Обухов более серьезные вещи высказал в западной прессе… Что ж, не будем медлить. Неприятное дело лучше всего заканчивать побыстрее. Мне нужно побыть одному… Недолго. Через полчаса, договорились, Степан Лаврентьевич? Я не задержу. У нас пиво привезли в буфет прекрасное, кажется пльзеньское. Газеты свежие смотрели?
— Не беспокойтесь, — остановил его Лаченков, хлопая ладонью по боку портфеля. — Я тут кое-что просмотрю…
Оставшись один, Шалентьев распорядился ни с кем его не соединять и никого до двенадцати не впускать; он был современным человеком и никакой обиды не испытывал; просто он проиграл, и пришло время платить. Он несколько раз прошелся по кабинету, рывком остановился у одной из стен и нажал невидимую кнопку. Перед ним раздвинулась огромная подробная, чуть ли не во всю стену карта страны. Она его всегда завораживала, притягивала к себе, много часов он проводил за ней; да, кажется, он перестарался в игре с Малоярцевым, переоценил свои силы. Он стоял, забыв о времени, еще и еще раз окидывая мысленным взором открывающиеся перед ним пространства; это была его жизнь, и вот она теперь завершалась. Трудно поверить, столько построено в самых разных концах страны, в немыслимых труднодоступных местах; он стоял, вспоминая давно, казалось, забытые подробности, начиная подчиняться какому-то затягивающему ритму; его подхватило ожившее, пронзительно посвистывающее пространство, и он еще раз из конца в конец словно пронесся по своей жизни, обретая от этого утраченное было чувство прочности. Что же, прекрасно, сказал он себе, стараясь окончательно не подпасть под слезливую расслабленность, делал, что мог, делал даже больше, чем мог, делал честно, и дело, конечно не в каком-то там спецрайоне (сколько он их понастроил!), а в его непростительной самостоятельности, в отказе взять к себе заместителем совершенно уж бездарного солдафона, грубияна и пьяницу, зятя Малоярцева; но и это, пожалуй, не главное, просто вот уже два года кто-то умело распускает слухи, что он идет на место Малоярцева, здесь очень уж просматривается почерк милейшего Лаченкова, он же сам только посмеивался, когда ему говорили об этом, — вот где собака зарыта, вот его ошибка, вот его просчет… Помнится, Лаченков тогда и предупреждал, мол, зять как зять, звезд с неба не хватает, но ведь зять же; того, кого Бог хочет погубить, он просто лишает рассудка, народная мудрость права. Нет, нет, чепуха, опять сказал он себе, окидывая взглядом еще раз карту, словно любуясь делом рук своих. Ему представилось, как в одну минуту раздвинулись люки шахт, разъехались сопки, вынырнули из своих тоннелей несущие платформы, отодвинулись, освобождая выход чудовищной силе, скалы, целые пласты земли, прросшие сверху тайгой… С усилием стерев видение, он быстрым, решительным движением нажал кнопку на панели, и карта беззвучно исчезла. Не в силах преодолеть продолжавшийся в нем теперь уже ненужный, все тот же звенящий ритм нараставшего изматывающего движения, он вернулся к своему массивному столу, сел, положил перед собой чистый лист бумаги, достал ручку…
Он поймал себя на том, что его уставший мозг по-прежнему продолжает отыскивать выход, один за другим вычисляет, перебирает, ощупывает, анализирует и сравнивает самые различные варианты, окончательно отбрасывает одни, возвращается к другим и, наконец, оставляет лишь единственно возможный и простой. Необходимо добиться встречи с Малоярцевым и сказать ему… Но что же, что необходимо сказать? — едко спросил он самого себя и тут же ответил, что нужно будет всего лишь сказать, что он все понял и отныне навсегда отказывается от любого самостоятельного шага, от любой мысли, идущей вразрез с решениями свыше.
Чувство стыда и отвращения к себе передернуло Шалентьева, вызвало неприятный озноб; он подавил его усилием воли, поправил приготовленный на столе чистый лист бумаги. Нужно было написать всего несколько слов, тут подойдет самое примитивное объяснение, и по возрасту, и по здоровью, и все разом кончится; он, наконец, станет принадлежность самому себе, приведет в порядок бумаги, спокойно одумается, в конце концов у него за плечами немало больших, нужных дел и ему нечего сокрушаться, сделано много. Одно бесит, ведь он всю жизнь полагал, что является самостоятельной и немалой величиной, защищен сделанным, всей своей жизнью, отданной непрерывной, изматывающей работе, но все это оказалось интеллигентским бредом; стоило ему чуть-чуть шевельнуться не в прямой заданной линии, проявить самостоятельность, как его тут же, словно ненужный хлам, выбрасывают вон; вся его ценность, оказывается, зависит от состояния печени Малоярцева…
Необходимо было сделать что-то важное; это чувство уже давно возникло в Шалентьеве, то слабея, то почти совсем пропадая, а то вновь усиливаясь до какого-то почти исступленного звона… Он взял трубку, набрал рабочий номер жены, после нескольких гудков услышал знакомый, рванувшийся к нему голос, и когда Аленка, теперь уже тревожнее, переспросила: «Костя, это ты?», не отвечая, мягко положил трубку.
Его взгляд случайно остановился на привезенной Лаченковым статье, и он, скорее машинально, придвинул ее к себе, стал перелистывать, задерживаясь на некоторых местах и отчеркивая их ногтем. Кончив просматривать статью, он откинулся в кресле, задумался, сильно хмуря брови, затем быстро запечатал просмотренную рукопись в другой конверт, надписал адрес, вызвал помощника и приказал ему срочно с курьером отправить пакет со статьей по указанному адресу.
— Срочно, Николай Артемьевич, — повторил он. — Ни одной минуты промедления… Сразу же доложите… И пройдите через вторую дверь…
— Слушаюсь, — сказал помощник и быстро исчез; замечая время, Шалентьев взглянул на часы. Мыслей больше не было; мозг как-то враз отключился и глухо цепенел, и он, дождавшись помощника, сообщившего об отправлении курьера с пакетом, молча и равнодушно отпустил его. Дальнейшее произошло сразу; из того, что принадлежало ему по бесспорному праву жизни, он ничего больше не отдаст, он может уйти, он уйдет только по своей воле, не так, как они пытаются ему продиктовать, он все-таки потомственный русский интеллигент и у него свои представления о чести. Сидя в кресле, он быстро и точно выстрелил себе в сердце. Просторный, гулкий кабинет погасил глухой звук, и даже секретарь за двойной дверью ничего не услышал.
Аленка поверила сразу; чужой вежливый голос сообщил, что у ее мужа, Константина Кузьмича Шалентьева, прямо за столом отказало сердце. И когда тот же вежливый и подчеркнуто бесстрастный голос в ответ на прозвучавшее в ее словах отчаяние, сухо извинившись, поставил в известность, что вся спецсвязь на квартире покойного отключена, оставлен лишь городской телефон и видеть ей сейчас покойного мужа нельзя, она опять не смогла ничего возразить или, тем более, потребовать; она онемела и, выронив телефонную трубку, в каком-то безразличии смотрела перед собой. Очнувшись, она долго слушала прерывистые частые гудки; опять-таки, ничего не понимая, она никак не могла подобрать трубку с пола и водрузить ее на место. Уже поздним вечером возле нее собрались родные, и она, вслушиваясь в глуховатый низкий голос отца, стала немного приходить в себя. Опять то и дело звонил телефон, но трубку брал, не менее матери подавленный неожиданным горем, Петя, ронял в ответ на соболезнования несколько вежливых, ничего не значащих слов; Ксения приготовила немудрящую еду, нужно было сэкономить силы. Оля, больше всего обеспокоенная состоянием мужа, опасаясь, что в нем от нервного потрясения заговорит прошлое и он сорвется, непрерывно подогревая чайник, часто разносила всем крепкий чай. Все неосознанно старались держаться вместе, в одной большой комнате. Лесник сидел рядом с дочерью в кресле, почему-то не в силах отделаться от назойливых, ненужных воспоминаний про свое дурацкое гостевание у Родиона Анисимова, и всякий раз, когда начинал звонить телефон, оглядывался. После какого-то особенно настойчивого и долгого звонка Аленка, с усилием приподняв брови, попросила отключить телефон совсем, но Петя лишь пожал плечами, показывая тем самым, что отключаться в такой момент от внешнего мира совсем и замыкаться только на своем горе нехорошо и нельзя. Он прошел в переднюю, взял трубку. Далекий женский голос спросил, квартира ли это Шалентьева, и тотчас, едва Петя успел ответить, торопливо сказал: «Вас обманывают, не верьте… Константина Кузьмича Шалентьева вынудили покончить с собой, он выстрелил себе в сердце. Вы меня слышите? Не осуждайте, ради Бога… на него готовили дело в военный трибунал, он это знал… Гнусные времена… Алло, алло, вы слушаете? Простите, в вашем горе мы с вами…» — «Кто, кто говорит?» — приглушая голос, спросил Петя, но трубка уже отзывалась гудками; помедлив, он осторожно положил ее на рычаг и, накинув на себя куртку, прошел не к матери с дедом, а на кухню, затем на крытый большой балкон и присел на старое плетеное кресло в углу; кто-то позвал его, разыскивая, приоткрылась и вновь закрылась балконная дверь, но его в затемненном углу не заметили, и он облегченно вздохнул. Если бы к нему в эту минуту кто-нибудь подошел, он бы не выдержал, сорвался; было очень сыро и промозгло, бессонная Москва продолжала ткать нескончаемую паутину жизни, и Петя первым делом приказывая себе успокоиться, прикрикнул на себя, но успокоиться все равно не мог. Теперь вот Шалентьев, говорил он, почему именно Шалентьев, а не кто-либо другой, почему такой исход, я этого не понимаю и, вероятно, никогда не пойму, а понять необходимо, иначе жить дальше станет совсем скверно, но как же подобное можно понять? Военный трибунал? За что же? А если…
Тут Пете стало жарко, мучительно захотелось закурить, и он, сильнее вжимаясь в старенькое кресло, приказал себе остановиться и больше ни о чем не думать. Теперь просто надо быть рядом с матерью, ей сейчас тяжелее всех, сказал он себе, вытирая ладонью холодный, влажный лоб, такой немыслимый, нелепый итог, она так боялась одиночества, хотя все остальное потом, потом, уговаривал себя Петя, но сдвинуться с места и выйти к родным по-прежнему не мог, оправдывая себя другой, темной стороной своей души, уговаривая себя, что каждому сейчас тяжело видеть другого. И он был почти прав, о нем все время помнила и тревожилась одна Оля, она знала, что муж на балконе, и чувствовала, что он никого не хочет видеть и хочет побыть сейчас наедине с собой; она заглянула в комнату, где разговаривали Аленка с отцом, ее не заметили или сделали вид, что не заметили, и ее почему-то потянуло в кабинет Шалентьева, ей неудержимо захотелось взглянуть на самое сокровенное в жилище человека после его окончательного ухода; она толкнула высокую, красиво обитую дверь и невольно поежилась. На большом письменном столе мягко горела рабочая лампа под зеленым абажуром. «Конечно, Петя зажег», — сказала она, успокаивая себя, оглядывая высокие открытые книжные стеллажи, удобный низкий старинный диван, казалось еще ждущий хозяина, телефонные аппараты на отдельном столике пониже, уже мертвые, за исключением городского. Сдерживая дыхание, по-прежнему ощущая какую-то неловкость и в то же время не в силах остановиться, Оля, бережно неся свой большой живот, подошла к письменному столу, подробно все осматривая, и как раз в эту мичуту Аленка тихо, словно жалуясь, сказала отцу:
— Я во всем виновата, самым дорогим людям приношу несчастье. На мне какое-то проклятие… Мне надо было, отец, одной быть, только одной. Знаешь, отец, тогда в партизанах, в Зежских лесах… кто-то меня проклял! Ах, отец, отец… За что Косте такое?
— Мелешь без ветра своим бабьим языком, — у лесника с приездом в Москву, от неурядицы жизни, в сердце точно вошло тупое жало, он с усилием скрывал свою слабость от близких. — Покорись, у каждого свой час. Вот, Константину позвонил, руки не подложишь… Ты бы не про себя, дочка, ты бы про других, вон их сколько кругом, тянутся… Олю поддержать надо, ей рожать.
— Нету сил, отец, мне не подняться.
— Ладно, — уронил он скупо, — давай-ка на ночь устраиваться, день завтра хлопотный, долгий…
— Ты хоть не оставляй меня, отец, одна не выдержу, — пожаловалась она, — ночуй здесь… Постелю в соседней комнате… Жутко как-то, совсем нет сил… Не уезжай!
— Куда ж мне теперь от вас, — сказал лесник.
Два последующих дня до похорон прошли и для самой Аленки, и для ее близких, в каком-то оцепенении. По-прежнему больше молчали, не сговариваясь, делали все необходимое и посильпое вместе и старались держаться вместе, близко друг подле друга. Петя взял на себя все хлопоты, которых бывает много после ухода человека. Аленка тихо, бессильно плакала, и лесник, стараясь успокоить ее, думал, что на земле становится все больше одиноких, никому не нужных душ и от этого мир может перекоситься и опрокинуться; вот и дочка сразу подломилась. Еще Тихону Брюханову, своему дружку, говорил не забираться за облака; да Тихон-то не мог по-другому, натура вышла генеральская, а этот? Тихонький да обходительный, серенькой мышкой в траве, нырь, нырь, поскорее бы с глаз, а на тебе! Не ет, человека не раскусишь; еще тебе резон — тихонький зять Константин спекся на том же сквознячке. Один с самолетом Бог весть где рухнул, другой у себя за столом, этакая чертовщина, крепкие вроде мужики, и на тебе…
Увидев появившегося в дверях внука с напряженным, опрокинутым лицом, лесник поднялся ему навстречу. Петя увел его в другую комнату, в кабинет покойного и, плотно притворив дверь, даже прижав ее спиной, поделился мучившими его сомнениями, рассказал о телефонном звонке. Слова внука не только окончательно расстроили старого лесника, но и как-то странно успокоили, и его теперь неудержимо потянуло в зежскую лесную глухомань; тесен был мир, пальца не просунешь, чтобы кого-нибудь не задеть, не потеснить.
— Его уж не вернуть, — сказал он, стараясь как бы передать пришедшее спокойствие внуку. — Придет пора, откроется. Что ты себя гложешь, взваливаешь зачем на себя, он свое делал, ты свое. Ты без этого своего мог? Не мог, ну и хватит… Сейчас человека похоронить надо, кругом такого земного дела лишние петли без толку не наворачивай. Помер человек — похоронить надо… Куда ты можешь приложить телефонпый звонок? Мало ли какой дурак брякнул. Сам сообрази, мать и без того падает… У змеи лап не найдешь, щупай не щупай…
— Будем считать, что ты, дед, прав, — не сразу отозвался Петя и после этого разговора несколько успокоился, побрился. Время шло в спешке, озабоченности, мелкой суете и печали, близкие собирались с силами к церемонии похорон; для подавляющего же большинства людей, в какой-то мере связанных с покойным, смерть Шалентьева была неожиданностью. Поговорили день-другой и вновь занялись своими делами; правда, ползли какие-то слухи,_ не прекращались странные шепотки, и поэтому в день похорон на гражданской панихиде чувствовалось подспудное напряжение: многие, проходя мимо гроба на возвышении, тянули головы, пытаясь заметить в покойнике нечто особенное, но покойник был как покойник, ничего в нем особенного не было. Виднелась хорошо прибранная, причесанная голова, словно с приставленным к черепу густым ежиком седых волос, лицо обрело последнюю успокоенность и неподвижность, лишь надбровные дуги еще сильнее выдались да где-то в изломе губ, в самых уголках таилась страдальческая усмешка. Такой усмешки у живого Шалентьева никогда никто не замечал, и Аленка, увидев мертвое лицо мужа и переждав сильное сердцебиение, отстранилась от остальных, от сына, слегка поддерживавшего ее за локоть, подошла к гробу, поднялась на две ступеньки, прижалась к рукам покойного. Ей хотелось прикоснуться губами ко лбу покойного, но дотянуться туда не было возможности; помедлив, стараясь не оступиться, ощупываемая десятками посторонних, равнодушных, жалеющих, сочувственных взглядов, она, сделав над собой очередное усилие, вернулась к отцу и сыну, к отведенному родным и близким покойного месту в церемонии, и опустилась в приготовленное для нее кресло. Все шло отлаженно и бесперебойно, по заведенному раз и навсегда порядку — лилась еле слышная траурная музыка, расширяя, раздвигая и без того высокое помещение, с возвышением посреди зала, затянутым траурным крепом и утопающим в цветах; мимо гроба ползла узенькая лента прощавшихся; люди тянули головы, разглядывая лицо покойного, многие подходили и клали цветы. Теперь Петя уже точно знал, что отчим покончил с собою, и это знание пришло к нему через мучительную работу души; он теперь лишь пытался установить, как это все могло случиться; опасаясь выдать себя, он старался ни на кого не смотреть и, даже услышав негромкий голос Лукаша, сочувственно обращенный к старому товарищу, он лишь мимоходом подумал, что, конечно же Лукаш не мог пропустить такой случай, и его нельзя за это винить; сделав вид, что не слышит, Петя по прежнему глядел перед собой. Лукаш прошел мимо гроба в общей процессии, в последний момент встретившись взглядом с Захаром; словно чувствуя севшую на лицо паутину, старый лесник незаметно стер ее. До выноса оставалось полчаса, в почетный караул стали двое военных в больших чинах и двое в штатском. Один из них, совсем ветхий (его до самого места с бережением проводили двое помоложе и установили, утвердили на положенном месте у изголовья гроба), оказался лицом к близким покойного; по сросшимся на переносье кустистым бровям и брезгливому выражению лица лесник не без усилия узнал Малоярцева. Вернее, Захар узнал его сразу, когда тот только вошел, но сейчас глаза их встретились, и по дрогнувшим, совсем сошедшимся бровям Малоярцева лесник понял, что Малоярцев тоже узнал его; закаленный в жестоких, беспощадных схватках, Малоярцев тут вдруг смешался и отвел глаза.. Теперь Захар пе сомневался, что его внуку сказали по телефону правду, и его зять сам себя лишил жизни, и причиной тому — Малоярцев, отечный грузный старик, с повлажневшими лживыми сейчас глазами. И Малоярцев, в свою очередь, тоже безоговорочно принял это убивающее знание старого лесника; стены, затянутые траурным крепом, распахнулись, распались; в сквозящем лесном прогале вершина высокой сосны рушилась прямо на Малоярцева; пронзительный свист ее выгнувшейся вершины туго рассекал воздух, сверлил ему мозг. Боковым зрением он увидел, что твердые, намертво стиснутые губы покойника с трудом раздвинулись в едва заметной нехорошей усмешке. Старой, изболевшейся кожей Малоярцев почувствовал и свою скорую кончину и с облегчением и негодованием перевел дыхание — безумец-лесник приговорил его. Малоярцев по-прежнему никак не мог оторваться от Захара, хотя это причиняло ему почти страдание. Им было невыносимо вместе; Захар от своего знания, от невозможности глядеть сейчас на Малоярцева ушел бы, ни на кого не обращая внимания, уехал бы к себе на кордон, но ничего остановить было нельзя. Напряжение в поединке между стоявшим в почетном карауле Малоярцевым и старым лесником, не отрываясь, глядевших друг на друга, достигла предела; рука Малоярцева дернулась, бессильно поползла вверх, добравшись до щегольски затянутого узла галстука, стала мелко дергать его и рвать; послышался тревожный приглушенный шепот: «Смену! Смену!», и в строгой, по-своему торжественно катившейся церемонии произошла досадная заминка. Наконец, к всеобщему облегчению, почетный караул сменился, и Малоярцев со своей свитой исчез, словно растворился; остался, несмотря на размеры помещения, лишь специфический, слегка приторный запах, всегда неистребимо присутствующий рядом с покойником.
На кладбище возле могилы опять были речи. Увидев снова резкое с пламенно-черными сплошными бровями лицо Малоярцева, Захар удивился. Их сейчас разделяла раскрытая могила; никто из присутствующих, ни Захар, ни сопровождавший Малоярцева Лаченков, конечно, не могли предположить, что главным активно действующим лицом в этот день был сам Борис Андреевич Малоярцев, пожалуй, впервые за многие годы не послушавший ни врачей, ни помощников, ни жены, ни собственного здравого смысла и решивший вопреки всему приехать на кладбище, сказать последнее слово и попрощаться с покойным по русскому обычаю — собственноручно бросить ему на гроб горсть земли. И тем более никто, даже сам Малоярцев, не мог предположить, что, действуя столь решительно и энергично в этот день, вызывая удивление и тревожные опасения хорошо видимой со стороны алогичностью своего поведения у того же Лаченкова, повсюду молчаливо сопровождавшего шефа, Малоярцев приехал на кладбище только из-за старого лесника, в стремление доказать ему неправомерность и нелепость его окончательного приговора за несуществующую вину; он был абсолютно уверен, что умный человек не мог не понять главного: только виноватых или только правых не существует, если говорить серьезно, Шалентьева просто занесло не на свой уровень; он оказался не состоятелен для большой политики. Лесник должен принять одно, пусть не умом, пусть сердцем; в случившейся трагедии его, Малоярцева, вины ничуть не больше, чем любого другого…
Что-то сдавило ему горло, прежде чем он, шагнув к открытому гробу начал говорить, он словно сам себя провожал в невозвратный путь; над кладбищем, над Москвой, в сквозящем просторном небе плыли редкие облака; такие облака Малоярцев видел в дететве. Он переждал, пока отпустит в горле, и на его мертвом лице ожили, заблестели глаза. Пытаясь ослабить затянувшийся спазм, он говорил сейчас только для себя и для Захара, и постепенно ему стало легче и свободнее, голос окреп, он против воли заставлял старого лесника прислушиваться к его словам, вдуматься в них.
— Невосполнимую потерю мы понесли, — говорил он, — и с этим трудно примириться… Жизнь сурова, приходит срок, и человек делает последний вздох и уходит… на земле для новых поколений остается его труд, его мысль, его дети, ученики… Никогда не обрывается нить жизни, и это должно нас утешить и сейчас: фронтовик и ученый, коммунист и патриот, наш незабвенный Константин Кузьмич Шалентьев всего себя, всю свою жизнь посвятил упрочению оборонного могущества своей отчизны, и народ его никогда не забудет. Так бывает, что смерть обрывает движение на самом подъеме, в самом деятельном моменте, и это ужасно несправедливо. Но опять повторяю я с верой в высшую справедливость, в высший смысл бытия, жизнь, отданная во благо народа, никогда не обрывается, пока на земле есть смысл и вера в добро…
Малоярцев, словно находясь в каком-то парящем полете высоко-высоко над землей и людьми, затерянными на маленьком клочке кладбища, зажатого со всех сторон коробками кварталов и шумными магистралями, внезапно ощутил какое-то досадное неудобство; оглянувшись, Малоярцев увидел сзади себя странно улыбавшегося Лаченкова.
— Что такое? Кто разрешил? — окончательно сбиваясь с мысли, спросил Малоярцев. — Как вы смеете?
— Сам себе разрешил, — неожиданно зло, с той же дерзкой, вызывающей улыбкой ответил Лаченков. — Пришел проститься со своим старым другом.
Окончательно растерявшись, Малоярцев, отыскивая в сухом плывущем тумане глаза лесника, точно обращаясь к нему за помощью и поддержкой, покачнулся. Ему показалось, что он совсем недавно виделся с лесником, даже говорил с ним, но вспомнить, где виделся и как, Малоярцев не мог. В лесном прогале снова раздался свист падающей старой сосны. Все-таки лесник не поверил, приговорил его окончательно; откуда-то нанесло разогретый на солнце смолистый запах, его вяжущая горечь появилась во рту, Малоярцев ясно услышал шорох свежих сосновых стружек, скользящих с отцовского верстака. Запах сосны, непередаваемый, оглушающий, последний свежий запах заполнил мир, но Малоярцев все-таки выдержал до конца — гроб опустили, и он бросил горсть земли в раскрытую могилу. Плохо ему стало только в машине; была сумасшедшая гонка через всю Москву, вой сирены, мелькание встревоженных, нензвестных стертых лиц, сумятица еще больше стертых и бессильных мыслей, и только затем пришел и окутал его покой.
18
При виде Лукаша, со скорбным, соответственно моменту выражением лица, идущего в очереди мимо гроба отчима, у Пети задергались губы. Он заставил себя опустить глава и просчитать до двадцати, — с некоторых пор, в минуты подступавшего бешенства, он завел себе такую привычку. «Какой гад,» — говорил он себе, — вот ведь кто подлее, изворотливее, тот и наверху, какой-нибудь пырей или бурьян всегда жизнеспособнее, цепче окультуренного злака».
Проводив деда, заторопившегося в свою зежскую глухомань, он несколько дней после похорон отчима был молчаливее обычного; все попытки жены разговорить его и обратиться, по ее словам, к светлой половине человечества, остались безуспешными. Как-то под вечер он сам пришел к Лукашу в редакцию и, не здороваясь, стараясь сохранять спокойствие, предложил открыто высказать все то, на что Лукаш в последнюю неделю неоднократно намекал по телефону. Лукаш, не скрывая своего удовлетворения, хотя выражение лица у него оставалось прежним, лишь на мгновение скользнул глазами в сторону.
— Посиди минутку, подпишу несколько бумаг и буду всецело предоставлен тебе, у меня здесь, видишь, завал — в Канаде почти месяц прокантовался. Интереснейшая страна! Много славян, природа совершенно российская. Старик все высокими материями занят, а упираться до хруста в суставах предоставляет мне, — говорил Лукаш, скупыми точными движениями перекидывая бумаги и ставя свой твердый росчерк. — Ты, говорит, молодой, все тебе в наследство, вот и действуй. А глаз не спускает. Сам спит, а курей бачит. Рядом прекрасная шашлычная, кстати, увидишь старого знакомого. Помнишь, директора пансионата… ну да, тот самый Долгошей Юрий Павлович, теперь здесь шашлычной командует. Сбылась мечта жизни — прописался в столице на площади Зои Колымьяновой. Ну, женился, конечно. Мы с ним теперь почти свояки. Проведем часок по-царски, закуток в восточном стиле…
— С одним условием, плачу я, — сказал Петя.
— Хорошо, — сразу согласился Лукаш, и скоро они действительно уже сидели в отдельпом глухом кабинетике, освещенном двумя настенными плафонами, с искусно пущенной по потолку и стенам деревянной резьбой, с арочной дверью на кованых узорчатых петлях. Пахло сдобренной острыми специями подгоревшей бараниной, и Лукаш включил вентилятор. Сразу же, без заказа, ловкий, немолодой официант, дружески-почтительно поздоровавшись, выставил минеральную воду, вина, коньяк, сизые сочные маслины, нарезанный лимон. Лукаш был здесь желанным частым гостем, и, прикидывая, сколько придется платить, Петя вначале забеспокоился, затем, вспомнив, что в бумажнике в особом отделении лежат две сотенные, предназначенные для покупки проигрывающей системы, повеселел, но от коньяка решительно отказался, налил себе нарзану из запотевшей бутылки.
— Не узнаю коней ретивых, что так? — спросил Лукаш. — Надо расслабиться. Будь здоров! — добавил он, поднимая фужер с золотисто-коричневой жидкостью и отхлебывая из него.
Стол уже был уставлен закусками — появились крупно нарезанные овощи, петрушка, молодой лук и горячий лаваш, слезящийся жиром, редкий ныне стерляжий балычок, белые маринованные грибы. Лукаш с наслаждением бросил в рот несколько маслин, проглотил вместе с косточками, оторвал кусок лаваша и стал есть его с балыком и помидорами; Петя, посасывая прохладную соленую маслину, молча наблюдал за ним. Он отметил, что лицо его однокашника с тех пор, как он видел его в последний раз (похороны отчима были не в счет), изменилось, погрузнело, стало одутловатым, в подбородке появилась начальственная тяжесть, глаза тоже округлились и обесцветились, стали жидко-светлыми и еще более похожими на рысьи. Во всей его фигуре появилась несвойственная Лукашу ранее тяжесть, — весь он был точно налит уверенностью до краев. «Поплотнел, погрузнел, вот она, сидячая работа — насмешливо посочувствовал Петя.
— Сам хотел тебя разыскать, — значительно сказал Лукаш, опять забрасывая в рот маслину. — Хотел звонить тебе, старик, предложить сегодня вечером встретиться…
— Какая дружеская чуткость, — все с той же насмешливой легкой улыбкой сказал Петя.
— Очнись, старик, такая закуска, сейчас пожалуют карские на ребрышках, здесь их жарят на еловых шишках… Давай за скрещение путей…
Петя опять отодвинул рюмку, и Лукаш, неодобрительно заломив брови, выражая молчаливое порицание своему старому приятелю, выпил коньяк один, отхлебнул из фужера нарзану и придавил вилкой ускользающий крепкий гриб.
— Я тебя понимаю, Брюханов. У нас легче помереть, чем похоронить. Не кисни! Твой отчим хорошо прожил и умер, как человек чести. Все об этом говорят…
— Все говорят, а ты помолчи! — резче, чем следовало, одернул Лукаша Петя. — У меня к тебе конкретная просьба, хочу опубликовать статью в защиту академика Обухова… С ним поступили варварски, в высшей степени подло!
— Ты прав, топорная работа, ни к черту не годится! Не представляю, как все это они расхлебают… Шуму по этому поводу много.
Принесли потрескивающие от неостывшего жара гигантской величины шашлыки на широких расписных тарелках, с зеленью, соленостями и маринадами и оплетенную бутылку красного вина: Петя с бесстрастным лицом подумал, что его старый однокашник прочно сросся с высоким уровнем жизни.
— Ешь, — предложил Лукаш, по-хозяйски окидывая щедрый стол взглядом. — По-моему, шашлык в самый раз. Ешь пока не остыл. Вина выпьешь?
— Выпью, — согласился Петя, придвигая к себе тарелку и принимаясь за овощи; он не обедал сегодня и не собирался отказываться от шашлыка по-карски только потому, что ему не нравился его бывший однокашник; просто трудно поверить сейчас, что они когда-то считались близкими приятелями, ведь более разных по характеру, по принципам людей трудно сыскать. И сейчас главное не напиться. Лукаш всегда был хитрее, изворотливее, беспринципнее, только умнее он никогда не был; поэтому самое главное не напиться и не провалить дело; подумать только, Лукаш сидит здесь, как восточный божок в кайфе, а человека с государственным умом, настоящего ученого с неограниченными научными возможностями загнали в Тмутаракань, на какую-то занюханную семеноводческую станцию. Надо сейчас не торопиться, действовать осторожно, исподволь, можно и от этого судака кое-что с пользой для дела узнать, успеть что-нибудь и предпринять. Такова оборотная сторона медали; к власти на всех этажах пришла воинствующая серость, лукаши и малоярцевы процветают и задают тон… Вон у него от удовольствия как рожа расцвела веснушками!
Петя с аппетитом принялся за золотисто-темноватый кусок сочной баранины, сдобренной легким, искрящимся вином и острыми пряными травами; Лукаш, бравируя, выпил еще рюмку коньяка, решив про себя на этом остановиться. Оба они лишь изредка перебрасывались незначительными фразами — серьезные действия, не желая портить удовольствие, не открывал ни один, ни другой. Благодушно поглядывая, Лукаш спросил о семье, и Петя не без скрытой гордости поведал о беременности жены: притушив остро вспыхнувший взгляд, Лукаш предложил выпить за продление и процветание славного элитарного рода Брюхановых, но его однокашник, хотя не был уверен, протестующе крепко стукнул ладонью по столу:
— Плохая примета — преждевременно пить… Тьфу! Тьфу!
Так и не притронувшись к спиртному, Петя выглянул из кабинетика и попросил у официанта чая; внешне сохраняя благодушие, Лукаш заказал бутылку сухого шампанского; Брюханов просто выскальзывал из рук и, конечно же, с появлением детеныша отдалится окончательно, ничем его тогда не проймешь.
— Статью-то захватил? — спросил Лукаш, рассматривая сквозь стекло искрящееся в бокале шампанское. — Выстроилось что-нибудь целостное?
— Посмотри, — кивнул Петя, протягивая через стол сложенную рукопись. — На мой взгляд, превосходно — законченная поэма, — добавил он сдержанно, и Лукаш неторопливо взял, развернул. У него хватило самообладания ничем не выдать себя; бегло просмотрев рукопись, он небрежно бросил ее на стол.
— Не понимаю, кажется, здесь стоит моя фамилия? Шантаж? К данному тексту я не имею отношения. Никакого! Откуда ты выкопал эту фальшивку? Вот не ожидал от тебя.
— Я тоже не ожидал ничего подобного, — ответил Петя спокойно, потянулся за рукописью, но Лукаш перехватил, свернул, сунул к себе в боковой карман.
— На свежую голову посмотрю, ведь ксерокс?
— Он самый, ксерокс, — подтвердил Петя, и взгляд у него потяжелел. — Такие шедевры надо знать, кем бы они ни были написаны. Откуда такая патологическая ненависть к России, ко всему русскому? Подлый политический донос, знакомый почерк! Вы ведь третий номер подряд печатаете подметные письма в адрес Обухова… Может, и это тиснете?
В лице Лукаша боролись выдержка, осторожность и желание досадить противнику, дать все-таки почувствовать свой размах, силу: убеждать, что добром их встреча не кончится, уже не было нужды, оба это и без слов понимали.
— А ты ведь провокатор, Брюханов, — отрывисто бросил, наконец, Лукаш, раздраженно отодвигая от себя фужер с шампанским.
— Ну, ради Бога, не петляй. Статейку-то тиснешь? — спросил Петя, продляя удовольствие казни, которой он расчетливо и безжалостно подверг своего однокашника, и ожидая, когда же, наконец, тот проявит себя. И Лукаш сорвался; в его красивом усадистом баритоне появились неожиданные скрипучие старческие ноты.
— Я бы напечатал, Брюханов, с большим удовольствиеем, — сказал он, — только не все от меня одного зависит. У тебя принципы, у меня принципы, что же ты обижаешься? Опять взялся за свои проповеди! Никого не убедишь, Брюханов, ваше время кончилось. Заладил попугаем — Россия, экология, гибель, грабеж! Да поди ты к чертовой матери, слышишь, и со своей Россией, и со всем своим выродившимоя, спившимся отродьем! Был русский народ, да весь вышел! — подавшись вперед, он говорил теперь свистящим шепотом, впившись в собеседника бешеными, побелевшими глазами. Поддразнивая, Петя осуждающе поцокал языком. — Не ухмыляйся, Брюханов, ваше время кончилось, кончилось! Забудь ты об Обухове, об этом демагоге. Он спекся, понимаешь, спекся! Его нет! Стране сейчас нужны стальные мускулы, а не чистый воздух и родниковая вода! Надо дело делать…
— Ну, а что ты дополнительно поведаешь старому другу о своей статейке? — спросил Петя примирительно, наваливаясь грудью на край стола.
— Повторяю, статья не моя! — повысил голос Лукаш. — А если напрямик, твой отчим сам виноват, разгласил важнейшую стратегическую тайну. Как все стало известно Обухову? Без тебя обошлось? Как бы не так! Чистеньким, хочешь быть? Не выйдет! Перестань психовать, мы же одни! Всему свой срок! Неужели не чувствуешь? Другое время у порога. Ты ведь талантливый человек, не пойдешь к нам добром, ну и пропадешь, погибнешь, сдохнешь! Кому от этого польза? Твоему будущему ребенку? Русскому народу? Да он и не заметит твоих подвигов, твоей муки, он давно уже в скотском состоянии, только и способен тянуть свою борозду… Мы…
— Слушай, Лукаш, а ты не того, не свихнулся от успехов? — поинтересовался Петя. — Мы! Я! Да кто вы такие? Откуда? Ты сам кто? И кто тебя уполномочивал объявлять войну целому народу?
Сильно тряхнув головой, Лукаш отрезвляюще выпил коньяку, и попросив официанта принести кофе, с тем же шалым огоньком в глазах подвел черту:
— Слушай, давай кончать бодягу, довольно потрепались… Надумаешь, позвони или приходи, всегда буду рад… Старик тобой всегда интересуется, спрашивает, чем ты занят.
— А если не приду? — спросил Петя, начиная впадать в какую-то странную апатию. — А если останусь при своем? Ведь у тебя в кармане действительно всего лишь ксерокс, болтается где-нибудь и оригинал. Возьмет и всплывет! Любопытно будет взглянуть на тебя и на твоего шефа… Ты, кажется, совсем забыл наш давний школьный уговор. Помнишь, я тебя предупреждал — еще раз полезешь, сам пожалеешь…
— А я бы тебе советовал почаще вспоминать судьбу отчима, — посоветовал Лукаш, смиренно опуская вспыхнувшие глаза. — Зачем нам умные люди во вражеской среде? Право, глупо… Да, да, глупо. Знаю, ты бы меня давно убил, ты меня ненавидишь, да вот кишка тонка. А я не побоялся, я давно это сделал, ты уже давно мертвецом по свету бродишь, и сделал это я. Я, понимаешь, я! Помню, помню наш школьный, детский спор.
Говоря, он медленно поднимался и нависал над столом, приподнимался ему навстречу и Петя. Оба старались сохранять спокойное, веселое выражение лиц, как будто Лукаш говорил в шутку, а его собеседнику это было приятно выслушивать.
Двойной удар — правой в подбородок снизу и левой ревущий, дробящий кости, в ребра был убойной силы; тяжелый стол качнулся, но устоял; Лукаша словно приподняло в воздухе, повернуло, и не успей он в последнее мгновение откачнуться назад, все бы сразу и кончилось. Падая, он отлетел к одному из задрапированных декоративных столбов косо ударился о него головой и тяжело соскользнул на пол, захлебнувшись коротким хрипом. Не в силах оторваться, Петя оцепенело следил, как кровь заливает Лукашу лоб, течет по шее, затем взял темную бутылку, из которой, пузырясь, ползло встревоженное шампанское, сделал несколько глотков прямо из горлышка, поставил бутылку обратно на стол и салфеткой брезгливо отер руку, В это время, загремев бамбуковым занавесом, раздвинув его, кто-то появился в проходе и сразу исчез, а Петя остался стоять, так же морщась и продолжая обтирать руку. Затем в проходе, гремя гирляндами бамбука, появились уже двое, и Петя, приглядевшись, в одном узнал бледного, испуганного старого своего крымского знакомого Юрия Павловича Долгошея.
— Вы? Приятная встреча, самое главное, своевременная, — сказал он, неуверенно растягивая слова. — Позвоните куда-нибудь, кажется, нашему общему другу требуется срочная профилактика….
И Юрий Павлович, в одну минуту оценив ситуацию, обегая взглядом лицо Пети, торопливо приказал кому-то у себя за спиной:
— «Скорую помощь», милицию… Без излишнего шума… Проходите, проходите, товарищи, — тут же бросил он повышенным голосом, отодвигаясь назад, и Петя вновь остался наедине с лежавшим на полу Лукашом; «скорая помощь» и милиция появились почти одновременно; врач быстро окинул взглядом Петю, продолжавшего стоять, привалившись плечом к стене, наклонился над Лукашом, повернул ему голову, заглянул в глаза, расстегнув сорочку, послушал сердце, пощупал шею, грудь и коротко сказал:
— Шок… кажется, сломано ребро… быстро, в машину!
В последний момент, когда Лукаша уже уносили, голова его качнулась, и Пете показалось, что их взгляды встретились и в глазах у Лукаша плеснулся ужас, а может быть, это ему только померещилось.
Оставшись наедине с двумя милиционерами, он, глядя на темневшую лужу крови на полу, в том месте, где только что лежал Лукаш, пробормотал:
— Жаль…
— Что жаль? — четко повернулся к нему худощавый следователь, приступивший к своей привычной работе, и Петя от внезапно охватившего его беспредельного чувства усталости не ответил, опустился на стул и отключился, он почти не слышал вопросов следователя; тот, бегая цепкими глазами по кабинету, по столу, по натекшей на полу луже крови, что-то быстро говорил второму помоложе в спортивной куртке и джинсах; тот, пристроившись к краю стола, быстро писал; третий стоял у выхода, пресекая попытки любопытных проникнуть в запретную зону. Все это смутно проходило мимо Пети как бы стороной, совершенно его не касаясь, но когда следователь, указав на бутылку с шампанским, в которой еще оставалось вино, спросил «этой?», он встрепенулся, непонимающе посмотрел следователю в глаза и отрицательно покачал головой, показывая сжатый кулак. Следователь удовлетворенно кивнул, давно уже определив для себя, что такие вот покладистые и тихие, как этот осанистый, хорошо одетый гражданин с отстраненным спокойным взглядом, на поверку выходят самыми трудными. Подчиняясь внутреннему голосу, он спросил у своего, показавшегося ему весьма странным, подследственного, что все-таки означает его вскользь брошенное «жаль», готовясь занести объяснение в протокол, но Петя не захотел услышать вопроса.
— Придется вас задержать, — следователь понимающе кивнул. — Ваша фамилия, имя-отчество, место жительства… работа?
Петя коротко и четко ответил, и ему стало не по себе; он подумал о положении жены, о матери, и на какой-то миг ему показалось, что все это происходит не с ним, а с кем-то посторонним, так нелепо и гадко все получилось. Самым дорогим и близким людям принес беду, горе, и в какой час! — думал он, в то же время где-то самой сокровенной, самой потаенной частью души считая себя правым, — по другому поступить он просто не мог. Подлость иначе не наказуема, теперь жалей не жалей, ничего не изменишь.
Словно из ваты, к нему пробился посторонний ненужный голос; его настойчиво, уже в который раз о чем-то спрашивал следователь, и, наконец, перед глазами прояснилось, и Петя различил перед собой чужое недовольное лицо.
— Что с вами?
— Ничего, я видел горы, — тихо ответил Петя, и, когда ему сказали, что нужно встать и идти, и молоденький, остроносый, в джинсах, записывавший со слов следователя, опустил ему руку на плечо, резким движением Петя освободил плечо и сказал: — Не надо, сам…
Выходя первым, он столкнулся о директором шашлычной, равнодушно скользнул взглядом по его мучнистому лицу, и с этого момента в нем случилась какая-то необратимая перемена, сразу отделившая его от привычного знакомого мира, и, хотя, несколько придя в себя, он жалел о случившемся и даже ужасался своему поступку, он опять-таки жалел и ужасался из-за матери, жены, племянника, сестры и, особенно, из-за деда, из-за того, что всем своим родным и близким он причинил боль, заставил их страдать и мучиться.
Особенно его угнетало сознание, что он не выполнил данного Обухову слова, даже копию рукописи Обухова из-за смерти отчима не успел передать деду, упустил возможность отправить пакет подальше от Москвы, а теперь кусай локти. Иначе он поступить не мог, Лукаш от него бы не отстал, вероятно, получил такое задание сверху, и жалеть не о чем, было досадно лишь, что нервы оказались ни к черту — сорвался. Лукаш отделался ушибами, правда, говорят, у него какая-то психическая травма, боится выходить на улицу, жаль, мало он ему врезал; следователь все чаще делает непонятные зигзаги в прошлое, спрашивает об отношениях с Обуховым. Отказавшись отвечать не по существу, Петя по недоброму короткому взгляду следователя как-то сразу и безошибочно понял — дело было не в стычке с Лукашом, а гораздо глубже, и ему предстояло пройти через неведомые пока обвинения. Он был уверен в одном — жалости и снисхождения ожидать не приходилось, на данном этапе он проиграл, и нужно было платить полной мерой. Он почти физически чувствовал жесткий, все сильнее сжимавшийся именно вокруг Обухова обруч; ему уже стали задавать совсем нелепые вопросы о заграничных связях академика, о его гостях, если таких он знает, и наконец вышли на Зежский спецрайон; у следствия был собран подробный материал о его жизни чуть ли не с детских лет. Петя запротестовал, возмутился и в ответ услышал тихий, сдержанный совет, что ему лучше самому рассказать обо всем, чем быть уличенным свидетелями и неопровержимыми фактами, и с этого момента он просто замолчал. В нем окрепла какая-то новая защитная сила, наглухо отделившая его от мелких и непонятных ему сейчас забот людей, а самое главное, от родных и близких, своими записками, уговорами, передачами заставлявших его страдать и мучиться сильнее всего. К нему пришла новая, высшая духовная жизнь, и истоки ее были в его общении с Обуховым. И эта его напряженная внутренняя работа, обретение чего-то самого важного и необходимого, день ото дня укреплялось, и он ни разу не пожалел о своем решении молчать обо воем, что касается Обухова, хотя ему и грозили, и сулили золотые горы. Томясь от неизвестности, он больше всего думал именно об Обухове; уже и зима подходила к концу, а следствию по самому, казалось бы, элементарному и простому бытовому хулиганству не было видно конца. В конце января двадцать седьмого в ночь Оля родила на рассвете сына; узнав об этом из записки матери, Петя ничего не почувствовал, и ему стало даже не по себе от своей черствости. С самого утра его увели на допрос и продержали несколько часов; вечером допрос повторился, и разговор опять упорно вертелся вокруг Обухова, вокруг появившихся в западной прессе сведений теперь уже об аресте Обухова, якобы за инакомыслие и за выступления против правительства. Следователь напрямую спросил, кто мог передать эти сведения в западную прессу.
— Почему вы меня об этом спрашиваете? — в свою очередь спросил Петя, потирая колючий подбородок. — Я у вас уже несколько месяцев и, естественно, ничего передать не мог. Не знаю, кто мог это сделать…
— А предположить хотя бы примерно? — последовал новый вопрос.
— Тем более предполагать в таком деле я вообще не намерен, — еще суше ответил Петя и замолчал, думая совершенно о другом, стараясь представить себе Олю с ребенком, но последующие слова следователя заставили его с неожиданным интересом включиться в разговор.
— Если я правильно понимаю ваши слова, Иван Христофорович пропал? — спросил он с недоверием. — Сбежал? Какой молодец! — не удержался Петя и засмеялся как-то по-детски искренне и задорно.
Следователь, пожилой и опытный, смотрел на него поверх очков и ждал; дело из пустякового перерастало в архиважное, государственное, верха начинали нервничать, потихоньку давить, и следователь, бесстрастно дождавшись, пока Петя успокоится, спросил:
— Что же дальше, Брюханов?
— Неужели вы думаете, что академик Обухов может бесследно затеряться? — искренне удивился Петя. — Если он уже решил скрыться, вам его будет очень трудно найти, гражданин следователь… а возможно, его вообще выкрали. Кто знает, вероятно, он сейчас где-нибудь в Париже или Лондоне. Он один стоит многих наших секретов, вместе взятых…
— Вы не хотите нам помочь, Брюханов?
— Не могу, — уточнил Петя, откровенно радуясь. — Если бы мог, категорически бы отказался. Я бы сам хотел узнать, что случилось, это один из самых дорогих мне людей… А может быть, его просто… устранили? А теперь вот усердно ищут?
— Брюханов! Не забывайтесь! Вы, разумеется, из породы шутников. Однако дружески советую вам не переступать допустимый предел.
— Если дружески, спасибо за совет.
Впервые Петя видел у сдержанного, много и опытного следователя какую-то иронически поощряющую улыбку; Пете показалось, что его чисто случайное предположение попало в цель; он заметно побледнел и теперь уж был сам готов продолжать любой разговор, лишь бы выведать хоть крупицу информации, но следователь прекратил допрос, отправил подследственного назад в камеру, и теперь для Пети начались мучительные, какие-то нескончаемые дни. Необходимо было снова найти защитную грань от внешнего мира, оказавшуюся столь хрупкой, отделить себя от всего остального мира и тем спастись. Однако его больше не трогали, никуда не вызывали и не допрашивали; через три недели совершенно неожиданно для него состоялся суд. Утвердившись в своей мысли, замкнутый только в себе, он убедил жену на суд не приходить, и ему было лишь трудно выносить присутствие матери; стараясь не смотреть в ее сторону, он все время помнил о ней, и это ему очень мешало. Лукаш, взяв справку о болезни, на суд не явился, Петя от последнего слова отказался и, выслушав приговор, почувствовал облегчение, почти радость, и, когда его выводили, он отыскал бледное лицо матери и благодарно улыбнулся в ее сторону. Перед отправкой на этап ему разрешили свидание с родными; пришли мать, сестра, жена, оставив ребенка под надежным присмотром тетки; Аленка долго настаивала показать Пете маленького сына, затем отступила, сдалась; время было весеннее, сырое, и по Москве гулял какой-то новый усовершенствованный вирус гриппа. Петя похудел, но выглядел спокойно, успокаивал женщин, шутил и просил передать деду его непременное требование обязательно дождаться внука, три года, из которых почти семь месяцев уже промелькнуло, пройдут мгновенно. Аленка улыбалась через силу, а Оля, несмотря на горе, освещенная внутренним светом материнства, напоминала ему Крым, охватившее их тогда летящее несбывшееся чувство полета, восторга и любви, и он, стараясь не выдать тоски, бодро говорил какие-то первые попавшиеся ненужные слова — им никго, тем более сам он, не верил.
Вернувшись домой уже часа в четыре, Оля, не отвечая на расспросы Анны Михайловны, бросилась к сыну и, только увидев его, с начинавшими обозначаться темными бровками, с пустышкой во рту, спокойно спящим в кроватке, бессильно опустилась рядом на низенький стульчик и беззвучно заплакала.
— Мне там вдруг показалось, сына у меня тоже больше нет, — сказала она утешавшей ее тетке.
— Не говори глупости, — стала успокаивать ее Анна Михайловна. — Никто теперь его у тебя не украдет… Это ведь такое счастье, Оленька! Время проскочит — не заметишь. Что говорит адвокат насчет обжалования?
— Не знаю, все взяла на себя Елена Захаровна, — ответила Оля, не отрываясь от хмурого личика спящего сына. — Твое главное дело, говорит, ребенок, я все необходимое сделаю сама. Я так, тетя, испугалась, силы меня оставили, боялась, не доберусь…
— Глупая, не плачь, не томи себя попусту, молоко береги! — проворчала Анна Михайловна, пробуя, нагрелся ли утюг, и принимаясь за пеленки. — Ты еще плохого не видела… Бога не гневи, Ольга! Иди развесь белье, я там выполоскала.
Поздний звонок в дверь заставил их испуганно переглянуться, Анна Михайловна осторожно опустила утюг на подставку, решительно вышла в прихожую и, не отзываясь, посмотрела в глазок; Оля шагнула вслед за нею и встала рядом, готовясь к любым новым неожиданностям.
— Женщина, — тихо сказала, оглянувшись на нее, Анна Михайловна. — Богато одетая… Ишь, шуба до пят… Взгляни сама.
Оля наклонилась к глазку и, сильно бледнея, выпрямилась.
— Лера Колымьянова? Зачем?
Звонок настойчиво раздался вновь, и Анна Михайловна, помедлив и не добившись ничего от племянницы, открыла и сразу, едва встретившись глазами с пришедшей, насторожилась.
— Я хотела бы увидеть жену Петра… Петра Тихоновича Брюханова… простите, мне это очень нужно, — тут же добавила она и, увидев Олю, как-то неуверенно-жалко улыбнулась ей. — Здравствуйте, Оля… вы меня не узнаете? Можно войти? Я всего лишь на несколько минут, не задержу…
— Входите, — пригласила Оля, — Конечно, я вас помню. Вы ведь Лера Колымьянова?
— Да, да, — торопливо остановила ее Колымьянова, не сводя глаз с Оли и в то же время какой-то далекой памятью узнавая большую брюхановскую прихожую и даже огромное старинное зеркало напротив двери в резной оправе из черного дерева, с замутившимся пятном зеркального стекла в верхнем правом углу. Обрывая молчание, начинавшее тяготить всех троих, Оля предложила присесть тут же в холле, и Колымьянова, все с той же неуверенной полуулыбкой поблагодарив, осторожно опустилась на самый краешек одного из двух, все тех же громадных бархатных кресел, когда то темно-коричневых, а теперь вытертых до рыжих пятен.
— Я знаю, вы меня ненавидите, — сказала Колымьянова, не обращая внимание на присутствие Анны Михайловны, втайне встревоженной происходящим, — но я не могла, я должна была прийти.
— Ваша истерика на суде очень повредила делу… Что вам надо? — спросила Оля, начиная приходить в себя от неожиданности.
— Я сама не знаю, как это получилось, — тихо ответила Колымьянова, по-прежнему не отрывая глаз от лица Оли, и ее голос стал глуше. — Но вы сами представьте — у Лукаша действительно что-то ужасное… Он один совершенно не выходит па улицу… а если его вытащишь, липнет к стенам, врачи говорят, какой-то странный синдром… забыла.
— Меня не интересует Лукаш, — сказала Оля, и в голосе у нее прорезалось что-то настолько жестокое, непрощающее, что даже Анна Михайловна испугалась. — Вы здесь совсем не из-за Лукаша, не лгите.
— Да, — призналась Колымьянова, меняясь в лице и с трудом отрываясь от кресла. — Вы, конечно, вправе указать мне на дверь, я что-то плохо соображаю… Простите, я не могла себя удержать… Разрешите мне взглянуть на сына Петра Тихоновича. Только взглянуть!
— Нет, нет, ни в коем случае, он спит, он нездоров, я не могу рисковать, — сказала Оля, стягивая ворот ситцевого халатика у себя на шее. — Всего хорошего!
— Не волнуйтесь, вам сейчас вредно. Вы правы. Я так и думала. Ухожу, ухожу! не беспокойтесь, — заторопилась Колымьянова, собираясь с силами, шагнула к двери и, не оглядываясь, вышла.
Тщательно заперев за нею все замки и запоры и накинув цепочку, Оля, не отвечая на вопросы тетки, бросилась в комнату к ребенку и, увидев его, все так же крепко спящим, опустилась на колени перед кроваткой и забылась в облегчающих слезах.
19
Позвонив уже в одиннадцатом часу вечера и увидев перед собой знакомое постаревшее лицо со светлыми дерюгинскими глазами, с метнувшейся в них болью, Денис, словно внезапно потеряв дар речи, лишь беспомощно топтался на коврике перед дверью и растерянно улыбался.
— Денис, — укоризненно покачала пышной, теперь уже совершенно седой головой Аленка, — не может быть! Денис — ты? Неужели ты? Откуда? Какой красавец стал! Боже мой, даже не сообщил. Входи скорей… Ну, хоть бы словечко! Что же ты в чемодан вцепился… Поставь, здесь никто не возьмет…
Аленка хотела насильно взять чемодан из рук внука, но он осторожно прислонил его к стене рядом с встроенным шкафом; Аленка обняла его, едва дотянулась до головы, потрепала буйную шевелюру, и внук засмущался еще больше.
— Ну, ну, бабуль, ну что ты? — пробубнил он звучным баском. — Ну, ладно, ладно, как вы живете-то? Бабуль, слушай, перестань, не плачь, я тебя не узнаю… Случилось что-нибудь? Нет, что же это такое, ты же совсем белая…
— Время пришло, выкрасило, — сказала Аленка, утирая слезы. — Ты не получал моего письма? Совсем ничего не знаешь? И деду не написал? — удивилась она. — На кого же ты все-таки похож? На деда Захара?
— Бабуль, ну перестань, в самом деле, — засмеялся внук. — Какая разница, на кого я похож? Сам на себя!
— Глаза у тебя определенно в нашу, дерюгинскую породу… а брови — брюхановские, руки, пожалуй, брюхановские…
— Ну, бабуль, ты прямо как на конном заводе, — опять не выдержав, засмеялся, он, сверкнув сплошным рядом зубов; обняв ее за плечи, он насильно усадил ее, тут же в прихожей, на маленький диванчик, скрипнувший под непривычной тяжестью. — Ну, бабуль, ну, честное слово, как тебе не стыдно, разревелась, как маленькая.
— Сейчас, сейчас пройдет… Мне не стыдно, а вот тебе не стыдно? За два года — четыре письма!
— Ну, не умею я писать письма! О чем писать-то? — защищался внук. — Не умею писать письма, не люблю, вот так, только чтобы время занимать…
— Погоди, отцом станешь, поймешь, о чем мог бы написать с границы, — сказала Аленка. — Что же это я! От радости голову потеряла… Ты же с дороги. Иди в свою комнату, располагайся… Там твой старый диван, фамильный, брюхановский, сейчас как раз по тебе. Ванна напротив… ты не забыл? Давай, я на стол соберу… Что там есть в холодильнике… Ну, иди, не теряй времени.
Как только за внуком закрылась дверь, Аленка, прикрыв глаза, сильно сцепила руки; от напряжения виски ломило, она вдруг ясно увидела перед собой то, о чем запрещала себе вспоминать и думать всю жизнь; юношески стройная, перетянутая ремнями высокая фигура внука подернулась зеленым мраком; загорелая сильная шея, затылок… она чуть не задохнулась от специфического запаха грязных, заскорузлых от крови и гноя бинтов, от смрада разлагающегося заживо тела…
С усилием отогнав от себя наваждение, нетвердо ступая, Аленка подошла к старому, во всю стену зеркалу; трудно было предположить, что война возвращается вот так беспощадно и некстати; с пытливой неприязнью вглядываясь в свое отражение и не узнавая себя, она смотрела откуда-то из-за невозвратной, недозволенной черты, с того света, и было в этом нечто противоестественное и унизительное.
Денис вышел из ванной в спортивном костюме, еще больше подчеркивающем его молодость, начинавший все отчетливее проступать мужской характер; под черными, от деда, бровями тихой насмешкой светились золотисто-серые глаза; светло-русые раньше волосы теперь слегка потемнели; кормя внука, Аленка с материнской гордостью любовалась им — такой гвардеец не останется незамеченным, тут же подхватят. И аппетит у внука солдатский, — она подложила ему еще большой кусок индюшатины.
— Ты что, Аленка? — он впервые назвал ее по-детски.
— Тебя так не хватало, Денис, — ответила она. — Все эти годы. Ты ешь, ешь!
— Еле наелся.. Сыт. Спасибо. Чай какой ароматный. Как ты живешь, Аленка? Что дядя Петя? Константин Кузьмич?
— Не все сразу, вот еще компот есть, — остановила она внука; ее неестественно оживленный голос заставил Дениса поднять глаза от тарелки. — На нас в последний год повалилось… Я тебе писала, видишь, ты не получал моих писем. У твоего дяди Петра родился сын… у тебя теперь есть братишка. Представляешь. Иван Брюханов очень серьезный товарищ… а?
— Вот это действительно сюрприз! — протянул Денис огорошенно. — Двоюродный брат, это, конечно, здорово, но когда же он теперь вырастет? Состариться успеешь, вот беда…
— Ты придумаешь! — засмеялась Аленка. — Ты вообще не состаришься. Еще лет сорок будешь молодым. Наша порода не изнашивается… Оля потрясающая мать… Пете так повезло с женой. Господи, только бы войны не было!
— Войны не будет, бабуль, — сказал Денис твердо, удерживаясь от желания прижаться головой к ее рукам, поцеловать эти знакомые, стиснутые сейчас в бессильные кулачки руки; он даже пошутить не смог, что пока есть Константин Кузьмич Шалентьев и его ведомство, о войне можно не беспокоиться.
— Тебе не понять, Денис. Внуки дороже детей. Когда у человека появляются дети, он еще сам слишком молод, у него много сил, он способен еще сам все успеть. Его программа только начинается… А вот с внуками появляется тишина. Тишина души и мыслей, человек уже смиряется с невозможностью собственного бессмертия — только через детей, внуков, через следующие поколения… Денис, ты ведь погостишь? — оборвала себя Аленка. — В театры походим… А может, совсем останешься? Ты вернулся в самое время… Подготовишься к приемным экзаменам… Вместе подумаем, куда тебе поступать…
— Ну, у тебя и характер, бабуль, идешь напролом, как танк, — засмеялся внук. — Нет, вместе мы не будем думать. Я буду думать один. Ну, послушай, Аленка, почему вы все помешались на высшем образовании?
— Я не представляю себе полноценной жизни без знаний, — сказала Аленка. — Ты мой внук. Кому же, как не тебе? Можешь улыбаться, но куда от этого денешься? Чаю еще? Покрепче?
Поворачивая в руках пиалу с ароматным чаем, Денис опустил голову, об институте он по-прежнему не думал серьезно. Но он и сам знал и чувствовал приближение перемен; хотел он того или нет, теперь необходимо было выбирать что-то определенное и конкретное. Он поднял глаза и попросил:
— Знаешь, бабуль, давай условимся… Придет момент посоветоваться, сам попрошу совета… Не гони, сам постараюсь во всем разобраться…
— Речь не мальчика, но мужа. Тебе в семью дяди надо сходить… просто необходимо. Хочешь, вдвоем навестим, посмотришь на братишку, он такой уморительный. Уже всех узнает, представляешь?
— Представляю себе это знакомство, — фыркнул внук. — Лежит, сучит ногами… здрасте, я ваш новый родственничек…
— Потом, Денис, твоя мать в Москве… Ты не хочешь ее увидеть?
— Опять ты гонишь. Не гони, бабуль, — остановил он Аленку. — У вас тут, в Москве, слишком бурная жизнь. Прямо в пот ударило. Нет, не сейчас, — решительно тряхпул он головой. — Ей будет неловко, мне тяжело. Совершенно чужие люди…
— Денис… ну что ты? Ну точно маленький.
Внук, дурачась, как в раннем детстве, когда был чем-то очень недоволен, крепко зажал себе уши ладонями и, глядя на Аленку озорными смеющимися глазами, затряс головой, показывая, что ничего не слышит и слышать не хочет.
— Ну, хорошо, хорошо, отдыхай, — сказала она. — Книг очень много новых. Поваляйся с книгой… Там не до чтения было…
— Да, а что же Константин Кузьмич? — поднял голову Денис. — В командировке? Что его не видно? Опять где-нибудь летает? Аленка! Аленка, что с тобой?
Не отвечая, она прислонилась к кафельной стене.
— Константина Кузьмича больше нет, — глухо сказала она, и по ее напрягшемуся затылку он сразу поверил в самое страшное. — Еще в прошлом году, в августе. Год чудовищный… столько на нас навалилось. Ты еще всего не знаешь, я не хотела сразу. Твой дядя Петя в тюрьме, тоже вот уже скоро год…
— Вот оно что, — потерянно пробормотал Денис, не в силах осознать услышанное. — А я-то думаю, бабуля моя торопится, торопится… К чему бы? Ну, наворотили… За что?
— Ты же знал его слабость, проклятое вино… Отдохни, потом расскажу….
— Лучше не храбрись, — пожалел ее внук, сразу становясь взрослее с резко перечеркнувшей лоб складкой. — Лучше не тянуть. Тоже мне стоик — ничего себе, отдохни!
Присев на диван, она попросила принести пепельницу и, закурив, собираясь с силами, долго молчала, уставившись перед собой в одну точку. Ей было необходимо что-то переступить в себе, отыскать необходимое равновесие — внук каким-то особенным чувством, возникающим между очень близкими душевно людьми, понимал это и терпеливо ждал. И она действительно заговорила о себе, очень издалека, с каких-то незапамятных, еще партизанских времен, и внук, сам уже успевший пройти в жизни не одну и не две тяжких полосы, вначале с недоверием, затем все с нарастающим волнением смотрел на свою бабку, открывшуюся перед ним в какой-то немыслимой новизне; когда она замолчала, он тоже долго не мог заговорить.
— Героическая ты женщина, бабуль, что ты так все на себя да на себя? — придвинувшись, он взял ее неживые руки и, согревая в своих широких ладонях, прижался к ним лицом. — Ты ни в чем не виновата, просто невезуха, представляешь, попали в полосу невезухи. Она обязательно когда-нибудь кончится! Посмотришь! Ты за все себя одну не кори, дяде Пете ведь тоже не пятнадцать, знал, на что идет… Я почему-то ему верю — и все.
— Я виновата, не усмотрела, не уберегла, на мне проклятье…
— Еще чего! Чего это ты кликушествуешь? — возмутился Денис. — Тоже выдумала! Ты даже не знаешь, какая ты замечательная! Я на такой, попадись она мне, сразу бы женился… Только сейчас таких нет.
Вымученно улыбаясь и утирая слезы, Аленка пошла было к двери, но тут же спохватилась:
— Матери твоей сейчас плохо, разошлась с мужем, совсем потерялась. А кто знает, чьей вины больше? Ну ее тебе не жалко, меня пожалей… Она тебя так ждет, только этой встречей и живет сейчас, к твоему возвращению такой пуловер из французской шерсти связала — не отличишь от фабричного. Ты ее не отталкивай, Денис! Ей хуже всех. Мы же все вместе. А у нее никого.
— Сдаюсь, сдаюсь, без всяких условий…
Оставшись один, Денис постоял посредине комнаты и бросился на широкий брюхановский диван, закрыл глаза. Слишком много всего свалилось; о матери он вообще никогда не думал и редко ее вспоминал; встречаясь с нею, всегда чувствовал какую-то неловкость и тайное раздражение, при первой же возможности старался уйти. Он не знал, в чем виновата перед ним мать, он лишь безошибочно чувствовал, что она глубоко несчастна, душевно не устроена и что другие относятся к ней с жалостью и даже с каким-то внутренним пренебрежением, и это, пожалуй, ранило его больше всего остального; вероятно, именно этого он и не мог простить матери и старался быть от нее как можно дальше.
Погасив бивший в глаза верхний свет, он опять лег; из армии он ни разу не написал матери, хотя от нее получил несколько писем. Во всем произошедшем разобраться было необходимо, и он, стараясь не думать ни о Шалентьеве, ни о дяде Петре (о них он вообще сейчас запретил себе думать), открыто и прямо спросил себя, чем уж так сильно провинилась перед ним мать, и, собственно, что он сам, раз и навсегда, сознательно и безжалостно вычеркнувший ее из своей жизни (сколько раз ведь звала), знает о ней, о ее душе, и почему он должен относиться к ней столь безжалостно и нетерпимо?
Он ворочался с боку на бок и заснул часа на полтора-два, когда уже совсем рассвело, а на другой день, договорившись с Аленкой, к вечеру был уже у матери; Аленка, приехавшая к дочери прямо с работы, пораньше, настороженно наблюдала, как сын с матерью здороваются, словно чужие, рука за руку…
— Обнимитесь же вы, черти! — сказала она. — Ох, уж эта брюхановокая порода! Обнимитесь сейчас же! Иначе я что-нибудь розобью о вашу голову!
Ксения, пересиливая скованность и смущение, как бы прося прощения, потянулась к сыну, и он, видя и чувствуя ее волнение, все-таки не мог отделаться от ощущения, что происходит что-то ненужное и что они с матерью по-прежнему совершенно чужие, сторонние друг другу люди, но, пересиливая себя, слегка обнял ее за плечи, на мгновение прижался щекой к ее голове.
— Ну вот, ну вот, — растерянно сказала Ксения, едва ощутимо поглаживая его локоть. — Здравствуй, Денис, мы все тебя так ждали, — добавила она, виновато улыбаясь, и неуверенными шагами торопливо ушла на кухню, а Денис, переступая с ноги на ногу, вопрошающе взглянул на Аленку.
— Добрая минута, — ободрила Аленка, сощурившись, не скрывая своего любования им, таким крепким и сильным, в военной форме, еще больше подчеркивающей его статность. — Ой, что-то горит! — добавила она, с шумом потянув в себя воздух. — Там что-то подгорает… Кстати, твоя мать потрясающе готовит. Сейчас мы немного успокоимся, что-нибудь наскоро перекусим, у меня с утра крошки во рту не было, и отправимся к Оле. Нам, родным, надо быть сейчас вместе, в кучке. Оля обрадуется. Звонить не будем, вот так неожиданно, как снег на голову… Ксения, давай заворачивай свой пирог и поедем!
Они так и поступили и были благодарны Аленке — сразу установилась легкая, доверительная, непринужденная атмосфера; украдкой присматриваясь к матери, Денис заметил у нее одну особенность: задумываясь, она глубоко уходила в себя и наклоняла голову вправо, глаза у нее при этом начинали заметно косить.
Встретившая на пороге целую компанию, Анна Михайловна вначале растерянно отступила, затем, восторгаясь и ахая, быстро обежала вокруг Дениса, еле-еле дотягиваясь ему до плеча, шустрая старушка с ее восторгами и внимательными быстрыми глазами понравилась Денису.
Снабдив всех шлепанцами и пригласив в гостиную, она, приоткрыв дверь в комнату напротив, бывшую комнату Пети, понизив голос, таинственно позвала:
— Олюшка, иди скорей, какие у нас гости дорогие! Оставь хоть на минутку своего принца! Ну спит и спит ребенок, чего рядом с ним сидеть… Ты только взгляни, кто к нам приехал! Вот счастье, вот радость! Дождались мы светлого дня, спасибо пресвятой Богородице!
Оля вышла с сыном на руках, особое уютное ровное тепло и плавная бережность движения, лучистая улыбка и тихое сияние глаз говорили о душевном равновесии, несмотря ни на что, и гордости сыном.
— Иван Брюханов, — представила она малыша; серьезное, нахмуренное личико неожиданно осветилось угрюмоватыми отцовскими глазами; у Аленки сжалось сердце; она взялась возиться с ребенком, ловко одев его, дала подержать брата Денису, и тот с врожденным мужским инстинктом отцовства, надежно упрятав его в свои огромные ладони, бережно поднял повыше и ощутил вдруг глубокое беспокойство за эту беспомощную новую жизнь и, успокаивая больше себя, пробормотал что то несуразное: «Ну-ну, Иван, ничего, ничего, вытянем!» Маленький Иван улыбнулся, показывая первые прорезавшиеся зубки, сладко зевнул, вызвав всеобщий приступ восторга, после чего ребенка унесли. Женщины дружно хлопотали по квартире, аппетитно запахло разогреваемым в духовке пирогом; Денису поручили нарезать хлеб и открыть какие-то банки; Анна Михайловна, выкладывая варенье, стала было расспрашивать Дениса про солдатскую жизнь, но, встретив его взгляд, осеклась, ругая себя на нечуткость и старческую болтливость. О Пете в этот вечер почти не говорили, но Аленка с невесткой, укладывая ребенка спать, долго сидели в детской при приглушенном свете ночника и вернулись к столу с заплаканными, припухшими глазами. Денис с интересом рассматривал библиотеку, надолго задержавшись у портрета незнакомой девушки на пластине из сплава какого-то желтовато-серебристого металла, привезенного Петей с Дальнего Востока. Женщины переглянулись и промолчали.
После недолгого пребывания в Москве, пообещав Аленке в самом скором будущем вернуться и обдумать вместе планы дальнейшей жизни, Денис заторопился на кордон.
От избытка молодой силы, от привычного, густо настоянного на лесных травах воздуха, хлынувшего на него, Денис, швырнув на траву свой новенький чемодан, с шалым огоньком в глазах подхватил на руки ринувшуюся к нему навстречу Феклушу, казалось лет с пятидесяти так и не старевшую; закружившись вместе с ней, он, совершенно не чувствуя ее веса, видел лишь ее восторженные глаза; от сияющего в них обожания его жадное сердце словно оборвалось и больно заныло. Пытаясь побороть себя, он, запрокинув голову к небу, сильно сжал ее руками — он не помнил и не знал за собою слез раньше. Тут он увидел деда, стоявшего у крыльца в свободно болтавшейся на нем от легкого ветра нижней рубашке, и опять словно его обожгло. Он невольно еще больше выпрямился и твердым пружинящим шагом двинулся к леснику; он шел, заставляя себя не торопиться. Не дойдя шага три, остановился, вытянулся в струну, развернул пошире грудь и взял под козырек.
— Докладываю тебе, дед, пограничник Денис Брюханов прибыл к месту постоянного жительства после прохождения военной службы! Здравия желаю, дед!
Заметив какое-то тихое и жалкое подрагивание в лице у лесника, его бессильно обвисшие руки, Денис не выдержал, задавив вновь было поднявшуюся щенячью теплоту в груди, бросился вперед, и Захар обнял его. Денис не посмел подхватить и подбросить деда, хотя его по-прежнему разрывал избыток силы; он лишь тихо прижался к леснику, затем, подчиняясь его рукам, отстранился. Почти одного роста (Денис был пальца на два-три выше), неотрывно глядя друг на друга, они сейчас чувствовали не родственную, физическую связь, а некую духовную нерасторжимую близость; глядя друг на друга, они молчали, выражая свою радость то смешком, то летучей улыбкой, то каким-нибудь неясным восклицанием; под еще более загустевшими, широкими черными бровями у Дениса сияли от молодости серые, с легкой золотистой прозеленью глаза, и тут к леснику привязалось мучительное желание вспомнить, где он уже видел такие вот ясные, родниковые глаза; и он сразу же подумал о своем младшем, давно покойном сыне Николае — лохматые, седые брови его шевельнулись. У правнука глаза были дерюгинской породы.
— А ну-ка, ну-ка, — сказал лесник, придерживая правнука за плечи и еще не веря происходящему. — Покажись старому, покажись, гвардеец… Вымахал! — лесник троекратно расцеловал правнука в обе щеки и, поспешно оттолкнув его от себя сухими, легкими руками, сердито отвернулся.
Положение спас Дик, проспавший по старости и опоздавший к самому началу; Денис увидел его недоверчивую, даже обиженную морду, мокрый нос, усиленно шевелящийся и втягивающий в себя воздух; в следующий момент Дик жалобно, изумленно, совсем по-щенячьи взвизгнул, бросился к Денису, упавшему на колени, и вскинул передние лапы ему на плечи, Денис с веселым хохотом крепко обхватил старого друга за шею; Дик тотчас ухитрился лизнуть Дениса в нос и в ухо и довольно заурчал, выражая свою неизбывную дружбу и привязанность и, неожиданно опрокинув Дениса на спину и обдав знакомым, привычным запахом псины, в одно мгновение облизал ему все лицо. Раскинув руки по земле, Денис уже не сопротивлялся — за два года он отвык от подобного внимания к себе, на него обрушился необъятный и дорогой мир детства, и сейчас он на какое-то время почувствовал себя ребенком. Над ним уходил в небо старый, знакомый дуб, он словно в детском сне летел над землей, крепко зажмурив глаза и в то же время видя и замечая любую мелочь. Он совершенно обмяк, ощущая ладонями слабое тепло земли, и только ерзал по земле головою, перекатывал ее из стороны в сторону в попытке спастись от усердных ласк Дика. Лесник, любовавшийся его ладным, сильным молодым телом, привольно и надежно раскинувшимся по земле, заметил вдруг, что глаза внука застыли, стали гаснуть и он, оттолкнув от себя голову Дика, сел, с усилием освобождаясь от недавних видений, вскочил на ноги, вновь обнял лесника и, совсем близко заглядывая ему в глаза, сказал:
— Рассказывали в Москве, на Зею летал? Здорово! Странно быть человеком, дед, правда? Ну, что ж ты молчишь? Как ты себя чувствуешь-то? Хозяин бродит? Ты, гляжу я, ничуть не изменился, какой молодец!
— Выдумал, — буркнул лесник. — Мне меняться теперь без смысла, самому себе дороже… Топай к себе, оглядись, баньку пойду заправлю… На медовом настое… а? Не запамятовал?
— Сейчас помогу! — схватив чемодан, Денис бросился в дом, на крыльце оглянулся. — Гостинцы привез, тебе и Феклуше! Потом! Дед, дед, а я курить бросил! — похвастался он. — Теперь так все кругом и прет, не знаю, что с собой и делать!
Невольно рассмеявшись, лесник махнул рукой и отправился ладить баню, стоявшую недалеко за сараем у самою лесного ручья, изгибом подходившего в этом месте к кордону; он разжег сухие березовые дрова под вместительным чугунным котлом, обложенным у днища небольшими лобастыми валунами (баня переходила в наследство от поколения к поколению лесников еще с довоенных времен), сидя на низенькой скамеечке, дождался, пока они разгорятся. Рыжеватый веселый огонек, переливаясь по быстро темневшим поленьям, жадно лизал черное, бархатное от наросшей сажи, выпуклое днище котла; отрываясь, языки пламени уносились, причудливо изгибаясь, в трубу. Захар всегда любил живой огонь, а в последние бесконечные годы он его попросту завораживал, будь то осторожный костерок в лесу, в лесной беспробудной зимней ночи, разведенный где-нибудь в затишке, или же свирепый лесной пожар, случившийся года два назад, сразу же после ухода Дениса в армию; если бы не специальные воинские части, с огнем так просто не справились бы, кто знает, каких разорений он бы наделал и где бы остановился…
Оторвавшись от огня, лесник недовольно тряхнул головой, отгоняя всякую ненужность, привязывающуюся к человеку в самую неподходящую минуту, и стал готовить необходимое для предстоящего дела. Он принес из сарайчика пару березовых веников, навязанных в майскую пору, сходил в погреб за старым, перебродившим медовым квасом оживить, подухмянить, по уверениям густищиицев, шалый пар. Прихватил он заодно и прохладный глиняный кувшин медовой браги. Прибираясь в небольшом предбаннике с дощатым чистым столом и двумя широкими, потемневшими от времени лавками, лесник молчаливо улыбался; он не думал, что возвращение правнука до такой степени обрадует и взволнует его. Достав с полки глиняные кружки, он сдул с них пыль и поставил на стол. Затем попробовал медовухи, одобрительно сдвинул брови и, опустившись на лавку, долго глядел в открытую дверь, на тяжелые от обильных в этом году дозревающих желудей дубовые ветви, слегка покачивающиеся под легким ветром; прислушиваясь к лесным шорохам, к подспудной, потаенной душе леса, приоткрывавшейся человеку, Захар это хорошо знал, лишь в редкие моменты просветления души. «То-то и оно, — сказал он себе, — еще месяца полтора, желуди осыпаться начнут. Тут всему живому, видать, закон один. Ушли сыны, внуки разлетелись… Нельзя так долго жить… Зажился ты, старый… Все тебя забыли. Один Василий скучает, зовет в гости и сам грозится приехать… Да разве выберешься опять в такую даль… Надо Дениса из этой глухомани гнать, одичает, нельзя отбиваться от мира… Вот пусть погостит с недельку, сам скажу — поезжай в Москву, приглядись, надо дальше двигать, парень, время не перехитришь».
В дверях шумно возникла Феклуша: вертелась перед лесником в накинутой на плечи стекающей длинной шелковистой бахромой до самой земли, переливающейся серебром заграничной шали, поворачивалась с боку на бок, что-то бормотала, притопывая ногами в новых высоких сапожках. С любопытством оглядев ее, лесник одобрительно закивал, и Феклуша, всхлипнув от обуревающих ее чувств, унеслась дальше, а в предбанник тотчас ввалился Денис в красно-белом спортивном костюме с широкими генеральскими лампасами, туго обтягивающем его сильное тело, поставил на стол рядом с кувшином медовухи высокую бутылку вина в заграничных наклейках, — лесник, прищурившись, покосился на нее.
— Представляешь, дед, все, как раньше — дуб стоит, сараи, колодец, корова ходит… Дым из трубы — борщом пахнет! — возбужденно сказал Денис, опускаясь рядом с дедом на лавку и глядя сбоку влажными горячими глазами. — Ах, дед, дед, ну скажи мне что-нибудь, а? А то ведь стыдно тебе будет, зареву, — он легопько приобнял Захара и ткнулся, как в далеком детстве, в его сухое плечо.
— Ладно, ладно тебе, — глухо пробормотал лесник. — Ластишься, телок… Ты вон глянь на себя, оглоблей с маху не сшибешь… Веники надо запарить…
Стараясь не поддаться предательской слабости, он суетливо сунулся в угол, отыскивая запропастившееся ведро, затем веники, лежавшие тут же на другой лавке; Денис следил за ним все теми же любящими, блестящими глазами.
— Знаешь, дед, я последние два месяца думал с ума сойду… Только глаза закрою, кордон снится, ты снишься, Феклуша, Дик, дым из трубы, а запах мертвый, едкий… Прямо наваждение какое-то… Мне за стойкость надо высшую награду определить, и то мало.
В дверях показалась голова Дика; высунув язык и тяжело дыша, он сел на пороге, все так же изумленно-почтительно глядя на Дениса, и тот, дурачась от счастья, тоже высунул язык, тяжело и часто подышал и снова затеял с Диком веселую возню, но Дик, несмотря на старость, не давался, и Денис, сколько ни старался, не смог побороть его.
В это время закончились последние приготовления, бухли, распространяя запах молодой березовой листвы, веники в ведре с кипятком на медовом квасу; в жарко натопленной бане терпко пахло цветущей липой с густой примесью аромата подсыхающего сена; лесник выбрался в предбанник, плотно притворил за собою дверь и смахнул пот со лба; вновь неодобрительно покосившись на бутылку с красочными иностранными наклейками, он стащил с себя взмокшую рубаху, валуны под котлом еще недостаточно нагрелись, и нужно было подождать…
Взяв бутылку, он повертел ее, присматриваясь, стараясь разобрать, из каких краев занесло ее на кордон; между тем, не снимая с плеч дорогого подарка, то и дело взвивающегося от резких движений длинной шелковистой струящейся бахромой, Феклуша носилась по всему дому, заваливая широкий стол в большой горнице всем, что имелось в доме. Тут были соленые огурцы, помидоры, глубокое блюдо с оплывающим сотовым медом, копченый лосиный окорок, брус толстого, в розовых прожилках сала, с избытком хватившего бы на два десятка хорошо поработавших едоков; на плите тоже что-то скворчало, шипело и потрескивало в кастрюлях и сковородах. Лесник, вышедший из бани за дровами, столкнулся с Феклушей, тащившей в плетеной корзине несколько десятков яиц; он почти силой остановил ее и, дождавшись, пока она несколько успокоится, сказал, что торопиться некуда, что солдат еще будет париться в бане; Феклуша согласно закивала, крепко прижимая корзинку с яйцами к груди, затем все с теми же безумно восторженными глазами вновь куда-то умчалась.
Вернувшись в баню, подбросив в огонь несколько сухих березовых поленьев, лесник для пробы плеснул на камни воды; мутное серое облачко с треском взлетело к потолку; отшатнувшись, он довольно засопел и позвал правнука; тот прибежал запыхавшийся, по-прежнему по-детски счастливый, сбросил с себя одежду, остался в плавках, поглядывая в сторону деда, затем стащил и плавки. Лесник тоже разделся, повязал вокруг пояса махровое полотенце, тщательно обмотал чем-то голову, сверху натянул старую, без козырька, фуражку.
— Ты чего, дед? — недоуменно спросил Денис, наблюдая за его действиями.
— Кш, кш, — прикрикнул Захар, с тайной забытой отцовской гордостью оглядывая крепкую юношескую фигуру правнука, его длинные, сильные ноги, впалый живот, развернутые плечи, широкую грудь, еще не тронутую волосом, красивую, начинавшую слегка тяжелеть шею. — Проживешь с мое, тоже будешь башку покрывать, ты меня с собой не равняй…
— Не прибедняйся, дед, старое дерево скрипит да стоит… Ну, ни пуха ни пера!
Пригнувшись, сверкнув белыми ягодицами, нырнув в дверь парной, он попятился было от ударившего ему навстречу сухого обжигающего воздуха, затем, восторженно охнув, присел к самому полу, привыкая, и, подождав немного, полез на полку, на самый верх. Вошедший вслед за ним лесник плотно, с размаху вогнал на свое место тяжелую дверь, и, проверяя готовность веников, помял их пальцами, и, понюхав, зачерпнул ковш медового старого квасу, и, крикнув Денису поберечь глаза, плеснул на раскаленные камни, белесый пар сизыми волнами рванулся к потолку, заполняя полок; Денис ахнул, хотел соскочить ниже. Кожу обожгло, но стоило чуть притерпеться, и разомлевшим телом начинала овладевать истома; горячий душистый пар, казалось, проникал насквозь, вымывая все ненужное и лишнее, унося накопившуюся усталость, и голова становилась пугающе ясной. Лесник подбавлял жару по своему старому порядку; выплескивал через две-три минуты кружку квасу на камни, но сам высоко не лез, легонько похлестывал себя веником, сидя на нижней полке, и с удовольствием слушал, как охал, возился, постанывал от наслаждения в клубящемся аду под самым потолком правнук, подзадоривал его, радуясь, что в размеренную жизнь кордона ворвалась иная, нетерпеливая, буйная, жадная жизнь. Но и Денис долго не выдержал, кубарем скатился вниз, отдуваясь, растянулся на широкой низкой скамье.
— Даже жареным запахло, — сказал он весело, — Чуть сердце не выскочило… Вот здорово!
— Бултыхнись в колдобину, я ее летом почистил, — посоветовал лесник. — А я пока пошурую, теперь дальше мята пойдет… Травка в мужском теле куда как хороша, дома все одно долго не усидишь после такого великого поста… давай, давай, тут стесняться некого, бултыхнись да назад.
Не чувствуя тела, выволакивая за собой клубы пара, Денис выскочил из бани к ручью, к тому месту, где когда-то образовалась глубокая колдобина с прозрачной, захватывающей дух, почти ледяной водой. Карауливший у дверей бани Дик бросился вслед за ним, и пока Денис, задержавшись на берегу на несколько секунд, боролся со своей нерешительностью, недоверчиво обнюхал его. Денис с головой ушел под воду, вынырнул, дико закричал и, кое-как выкарабкавшись на берег, бросился к бане, хлопнул дверью; ошеломленный Дик, не зная, что и думать, издали понюхал взбаламученную воду в колдобине и долго затем всматривался в нее. А Дениса, хотя он отнекивался, лесник, дав выпить кружку медовухи, опять заставил взобраться на самый верх и, продержав там положенное время, уложил на широкую лавку и вначале легонько, а затем все чаще и сильнее стал стегать распаренным березовым веником. Оп опустил веник внезапно и, внимательно присматриваясь к чему-то на спине у правнука, окончательно впавшего в блаженную полудремоту-полуявь, тихо попросил:
— А ну-ка, повернись на спину. Навзничь… навзничь… как же оно так, а?
Расслабленно приподняв голову, Денис тотчас откинул ее назад.
— А-а, ерунда, давно засохло, — сказал он. — Понимаешь, дед, встретились на тропе. Никак не разойтись, а сворачивать никто не хочет. Не прыгать же в пропасть…
Чувствуя внезапную слабость в ногах, лесник придвинул табуретку и сел; перед глазами поплыло, и он, пытаясь справиться (вот уж не вовремя, если что!), уронил отяжелевшие, обвисшие руки; Денис, по детски нежно-розовый, чистый, скрипящий, торопливо потянулся к деду, и лесник, удерживая правнука, с трудом подняв отяжелевшую руку, иссохшими еще сильными пальцами с толстыми, ороговевшими ногтями, стал бережно, недоверчиво ощупывать три сизых, глубоко запавших шрама — заросшие следы от пуль.
— Знатно пометили, на палец бы левее… Тьфу! Тьфу! Кто ж за тебя так крепко молился?
Помогая себе руками, лесник, приходя в себя от внутреннего оцепенения, тяжело поднялся, жадно выпил холодного квасу; этот сидящий рядом голый, невольно привлекающий молодостью и чистотой парень вырос у него на руках и был дорог ему, как привычная неизбывная земля вокруг, и вот, оказывается, могло бы этого часа не быть, оказывается, он, старый пень, окончательно обрушился и совершенно не знает жизни правнука, а теперь и подавно не узнает.
— Видишь, дед, по-другому не выходило, — сказал Денис, угадывая его мысли и упрямо тряхнув лобастой головой. — Пойдем. Отойдет, расскажу.
В предбаннике Денис открыл свою красивую, заграничную бутылку, они хлебнули из глиняных кружек, поморщились, глядя друг на друга, затем выплеснули остатки, и оба с наслаждением выпили крепкого медового кваса. Лесник не спешил с расспросами, хотя ему и не терпелось: да и правнук, завернувшись по пояс в большое махровое полотенце, притих, затем неожидапно спросил:
— Мотоцикл мой еще цел, а?
— Лесничий раз гонял куда-то, — ответил лесник. — С той поры и стоит под сараем, сверху брезент накинул, с весны заглядывал — целехонек. Горючего залить — и двигай… Прокатиться охота?
Денис ничего не ответил, глянул искоса и засмеялся.
— До чего добрый: напиток, — сказал он, подливая в кружки.
— Удался, — согласился лесник. — Старый секрет, еще от моей бабки по матери, записать бы надо.
Они оделись; после бани пришел аппетит, и они долго сидели за большим столом в доме; разомлев от обильной домашней еды и медовухи, Денис разговорился, язык сам собой нес какую-то околесицу, ему захотелось рассказать обо всем сразу, и, начиная вспоминать об одном, он тут же обрывал, перескакивал на другое, с упавшего вертолета на горы и звезды.
— Дед, я пьян, — сказал он, неожиданно зябко передернув плечами. — Не слушай меня, сижу и сплю… Правда, здорово увидеть тебя опять? Тебе люди кланяться до земли должны, низко, низко! Ты на большой живешь, дед! Во!
— Хватит без ветру молоть! — усмехнулся лесник. — Пустили на свет белый, живу. А что сделаешь?
— Да, но как жил и живешь! — упорствовал Денис в своих признаниях.
— Ну, самым обыкновенным способом, — посетовал лесник. — Вот разве ты со мной поднялся… Нашел невидаль, нашел пример…
Уговорив наконец правнука поспать, лесник увел его в летнюю пристройку, выходящую окнами в глухой, старый лес.
Провалившись в счастливый, без сновидений, сон, Денис, открыв часа через три глаза, долго слушал лес. Редкое осеннее безветрие прорывалось для него завораживающей, со своими подъемами и спадами музыкой, затаив дыхание, он узнавал полузабытые детские тайны — их звучание, их шелест заставляли сильнее биться сердце, и перед глазами вспыхивали многоцветные далекие искристые радуги; они осыпались роем сверкающих брызг, и где-то вдалеке опять начинал звучать тихий, родной, волнующий голос. И музыка, и радуги были памятью отгоревшего детства; уже хлебнувший самой щедрой мерой и больше всего не хотевший приступа провальной тоски, донимавшей его в госпитале, он любил сейчас весь мир, лес, его тайны и его музыку, деда, Феклушу, старого верного Дика и даже себя, хотя себя он подчас ненавидел за неумение скрыть от других самое главное в себе и дорогое.
Детские грезы опять перешли в незаметный, долгий сон; он спал весь остаток дня и почти всю ночь; перед рассветом он стал проваливаться в бездонное черное ущелье, дышавшее навстречу раскаленным зноем; изжеванный, измызганный, стремившийся за ним парашют цеплялся за скалы и рвался, не выдерживая тяжести тела, и тогда он, пытаясь остановить падение, стал хвататься за проносившиеся мимо обломки скал…
Из мучительного кошмара его окончательно вырвал близкий крик петуха; задыхаясь, он сам хрипло застонал, подхватился, сел, весь в липком поту, с учащенно рвущимся дыханием, готовый к прыжку; бессмысленно глядя на знакомый проступающий четырехугольник окна, помедлив, он с облегчением опрокинулся на спину. Тяжелый, неприятный сон тотчас забылся, вторично его заставило подхватиться среди глухой ночи совсем другое, и он, нещадно обругав себя, подумал, что надо спросить у деда, зачем он дал его адрес Кате, зачем вообще возобновилось их нелепое, ненужное общение? Она неудачно вышла замуж, разошлась, но он при чем? От удушающей тоски не удержался, ответил, и завязалась тягостная переписка, тягостная для них обоих. Ни он, ни она сама никогда уже ничего не забудут, она уже была с другим, тридцатилетним мужиком… Он запрещал себе думать дальше, но всякий раз при этом какая-то неудобная, саднящая шерстинка начинала прорастать в душе. Он уничтожал письма от нее, клялся забыть адрес, настроение, менялось, появлялись иные мысли, адрес же намертво отпечатался в мозгу, и в Зежск опять отправлялось очередное письмо, правда короткое и сдержанное, по его ускользающему определению — просто дружеское…
Заворочавшись, он перебросился с боку на бок, прислушался — в открытое окно, затянутое от гнуса мелкой сеткой, лилась чуткая, мерная, густая тишина леса; так бывает только в совершенное безветрие и лишь в предчувствии близкой осени, когда в природе появляется нечто завершающее, неотвратимое, вносящее в душу всего сущего ясность и мудрость неминуемо скорого исчезновения.
Он встал, оделся ощупью — по-солдатски бесшумно и тихо. Приподняв сетку, выбрался во двор; идти обычным путем он поостерегся, дед спал чутко и слышал любой шорох на кордоне. Но лесник все таки услышал отдалявшийся стрекот мотоцикла, подождав, вышел во двор и, здороваясь с бесшумно появившимся рядом Диком, потрепал его по загривку, спросил:
— Ну, умчался наш солдат? То-то, у каждого свой срок, своя кумушка-судьба… Давай пошли, пора корову выпускать…
Над Зежскими, давно успевшими оправиться от войны лесами занимался в бесконечном круговороте времен очередной день — жизнь на Демьяновском кордоне, подчиняясь привычному, затягивающему ритму, пошла своим чередом; стараясь не замечать недоуменных взглядов Феклуши, сам то и дело прислушивающийся к любому случайному постороннему звуку, лесник под вечер окончательно обиделся на правнука. Услышав приближающийся стрекот мотоцикла, он хотел было вообще оседлать коняи уехать и лишь в последнюю минуту передумал. Оставив мотоцикл у ворот, правнук появился перед ним с тонкой, в джинсовом костюме, коротко стриженной девушкой.
— Познакомься, дед, — сказал он с некоторым напряжением в голосе. — Катя… поживет у нас три дня… Помнишь, ты ей адрес мой посылал…
— Места хватит, — коротко кивнул лесник, — Гостюй на здоровье, — сказал он девушке, и Катя, стремительно шагнув вперед, легко пожала протянутую руку.
— Я давно хотела вас поблагодарить, да как-то не решалась.
— Тебе тоже спасибо, не забывала нашего солдата, — отмякая, добродушно проворчал лесник. — На гостевой половине прибрать надо, поди, захолустье развелось, с полгода не заглядывал…
— Я сейчас! — стремительно сорвался было с места Денис и тут же, увидев Дика, присел перед ним и, обняв за шею, указывая на свою гостью, важно приказал: — Это Катя, слышишь, Дик? Ты ее должен любить и уважать, она своя, слышишь?
От напряжения, стараясь понять, Дик, высунув язык, тяжело подышал; все засмеялись. И только Феклуша, по своему обыкновению явившись неожиданно, словно из самого воздуха, замутила общее настроение; в ответ на приветствие Кати она отпрянула, не сводя с нее глаз, быстро-быстро обошла ее кругом и так же неожиданно умчалась.
— Учись искренности чувств, естественности порыва, — пошутил, стараясь сгладить возникшую неловкость, Денис — Наша домоправительница сегодня не в духе, сердится, пожалуй, на меня за самовольную отлучку из части. Сами справимся, пойдем, поможешь навести порядок…
Катя обрадованно поспешила за Денисом, и лесник, глядя им вслед, молодым, рослым, статным, готовым ко всему, кроме неудачи, хорошо зная привычки Феклуши, отыскал ее за сараем, на куче старого хвороста, неторопливо пристроился рядом. Феклуша сидела, похожая на старую взъерошенную птицу, глядя перед собой немигающими, без зрачков, совершенно бесцветными к старости глазами:
— Распалилась, а? Разбегалась? А зачем попусту? — сказал он тем особым, спокойным и ласковым голосом, каким он всегда говорил с ней. — Твоя бабья натура проявилась… Понимать надо нам с тобой, Феклуша, вырос наш подкидыш, мужиком стал, жизнь свое требует… Молодой, а молодому своя дорога… Да ты что? — поразился он, впервые в жизни увидев покатившиеся из ее птичьих глаз крупные, светлые слезы. — Вот те и раз, экая ты несуразная, радоваться надо, — тихо вздохнул он, больше своим мыслям, понимающе ласково глядя на Феклушу. — Вернулся, ноги, руки целы, не калека… Ребят покормить хорошо надо, вот ты о чем подумай…
И Феклуша неожиданно закивала и, что случалось с нею совсем уж редко, быстро, быстро заговорила, помогая себе легкими, сухими руками.
— Лес, лес, ох, Захарушка, лес темный, темный… Там во-о, — тут Феклуша стала бить себя руками по бедрам, изображая что-то большое, страшное и непонятное, — там во-о-о, вода, вода, вода… Уф! Уф! Уф! Во-о! Вода, уф! Не пей, Захарушка, не пей! — настойчиво и требовательно повторила она, и лесник понял, что Феклуша толковала ему о лесном провале и о старой щуке, которую она там, очевидно, совсем недавно видела. Тихая, почти неслышная боль вошла в душу, вернее, даже не боль, а ее предчувствие. Пришел совершенно уже сивый Дик и, внимательно посмотрев на хозяина, тоже осторожно присел рядом. Безразличным ровным голосом лесник велел Феклуше подоить корову и напоить ребят парным молоком.
Солнце скрылось за лес, над кордоном небо ярко светилось уходившей с каждой минутой голубизной, вечерний покой уже подступал со всех сторон. Ночью леснику пригрезилась покойная жена Ефросинья. Появилась она, молодая, статная, с яркими, ждущими глазами, опустилась рядом на землю и положила прохладную ладонь ему на голову, на спутанные, густые космы. Он скосил глаза — поле, в густых цветущих ромашках, терялось в дальних березовых перелесках.
— Ты, Захарушка, не уходи, — сказала она тихо, и глаза у нее светились потаенной нежностью. — Теперь ты мой… Что ж ты по полям-то бродишь? Со свадьбы третий день всего… Неужто прискучила? О чем думаешь, Захарушка?
— Думаю я о повороте жизни, Фрося, — сказал он, прихватывая острыми зубами стебель ромашки и перекусывая его; во рту появилась легкая, зеленая горечь.
— О каком таком повороте ты думаешь, Захарушка? — помедлив, осторожно спросила она.
— Ну-у, — сумрачно усмехаясь, протянул он. — Народим мы с тобой дюжину сыновей, баба ты ладная…
Неуловимо гибким движением он приподнялся, опрокинул ее навзничь в траву, и затем, когда дыхание успокоилось, из тела ушла тяжелая, неспокойная дурнота, и стало оно легким и словно бы звенящим, долго, приподнявшись за локте, не мог оторваться от запрокинутого в небо лица Ефросиньи — оно казалось ему каким-то ослепительным, от него словно лучился тихий, ровный свет; у него даже кольнуло в груди от нехорошей мужицкой опаски, и он круче свел брови.
— Смотри, Фрось, — полушутливо, полусерьезно пригрозил он. — На тебя, знаю, мужички заглядывались…
— Тю, очумел, — сказала она тихо и радостно, от сознания своей силы и власти над ним.
— С такой очумеешь, — буркнул он без обиды, вновь чувствуя тяжесть неспокойного сильного тела, повернул голову и увидел грозовую тучу, исхлестанную частыми и яркими молниями. Только грома не доходило, он удивился и сказал об этом Ефросинье.
— Ничего, Захарушка, не кисельные, не размокнем, — отозвалась она, и он, больше не раздумывая, опять потянулся к ней, к ее теплой податливой груди, готовой принять на себя его жадную, неспокойную тяжесть.
Лесник очнулся в каком-то немом раздумье; ничего подобного с ним уже много лет не приключалось, и он старался понять, отчего ему пригрезилось давнее прошлое, ему стало как-то не по себе. Вчера думал о Денисе с его девушкой, никак не мог заснуть, решил он, вот и присобачилось черт знает что. Объяснение нашлось, но легче от этого не стало; с какой-то пугающей ясностью он сейчас припомнил именно тот день, Ефросинью, цветущее в ромашках поле, грозу, свою молодую жадность успеть до грозы… «Хорошая баба была Фроська, — сказал он с редкой душевной просветленностью. — И сам я ничего себе был, любой под стать. Видать, она зовет, заплутался я долговато, соскучилась…»
Он почувствовал необходимость куда-то еще дальше переступить — дальше к чему? Он не испугался, спокойно было на душе.
Тихий, осторожный шорох, беззвучно раскрывшейся и вновь закрывшейся двери на жилой половине опять же словно долетел до него из какой-то неимоверной, потусторонней дали.
20
Прислушиваясь к непривычным шорохам и звукам старого бревенчатого дома, Катя не могла заснуть; поддавшись минуте и увидев перед собой Дениса, живого, невредимого, стремительного, она не удержалась, согласилась проехаться с ним на кордон и теперь жалела. «Нельзя было соглашаться, — думала она, — велика важность — вместе учились. Он и после армии остался мальчишкой, задирой, с таким пока справишься, поседеешь. Сильный, оказывается, глаза у него от деда, этого сумрачного лесника, но ведь совсем еще мальчишка! Как с ним быть, он ведь непредсказуемый, странный, у него какие-то свои принципы». И никогда не поймешь, что у него на уме, а что на языке. Нет, нет, нехорошо получилось, даже сейчас не может прийти, взрослый мужчина, свое гнет, сам мучается и ее мучает. Ему не хватает более простого отношения к жизни, к самым обыденным ее проявлениям… Нового ожидания она не вынесет, сотворит что-нибудь совсем уж несусветное. Да и нет безрассудного, безоглядного чувства, что-то словно удерживает, останавливает… Поддалась минутной слабости, нехорошо не уметь себе приказать, остановить себя. Он мужчина, вбил себе в голову какую-то романтическую чепуху, никто не волен…
Твой неискоренимый эгоизм, — тут же опровергала она себя. — Сама прогадать не хочешь, такой уж тебя маменька воспитала в отчем доме. Ненавидишь себя, а перемениться не можешь, все уже знаешь о себе и просто не хочешь поглубже заглянуть самой себе в душу…»
Каким-то необъяснимым чувством она поняла, что Денис стоит у двери и сейчас войдет. Она ничего не успела подумать, испуганно сжалась и затихла. Блестящими глазами она смотрела в сторону двери, внезапно и стремительно распахнувшейся, — в ее проеме смутно обозначилась высокая фигура. Дверь закрылась, он быстро подошел к кровати, опустился на колени и шепотом спросил:
— Ты домовых не боишься? У-у-у…
— Перестань, я их, таких вот, дремучих, обожаю, — прошептала она, высвободила руки из-под простыни и, обняв его за шею, притянула к себе. И он, вздрогнув, не в силах противиться, припал к ее сухим, ждущим губам и уже больше не отрывался; прошло потрясение узнавания, но он никак не мог успокоиться, скрытый жар томил его, губы сохли, и голова горела.
— Представляешь, оказывается, я думал о тебе, неотрывно думал… Как это тебе нравится?
— Так я тебе и поверила, — прошептала оиа часто и быстро, едва притрагиваясь, целуя его лицо. — Мужчина верен, пока рядом… Сердишься?
Он не ответил; очнувшись, он лежал с широко открытыми глазами; большие окна светлели, и он неожиданно вспомнил смерть, вернее, чувство смерти, и долгий судорожный озноб перехватил дыхание. Он услышал далекий и слабый знакомый голос — стоя накровати на коленях, Катя что-то говорила, кажется, звала его. Взглянув на нее, совершенно обнаженную, он поднял глаза выше, она тотчас быстро наклонилась, спрятала лицо у него на груди, ее тонкие пальцы бережно побежали по его телу, по плечам, животу, бедрам.
— Странное совпадение, сны тоже иногда сбываются, — сказал он, но опять сам не услышал себя; чувства пресыщения по-прежнему не наступало, хотя уже намечалось иное движение, ночь с ее безрассудной властью уходила, и чуткое ухо ловило привычные звуки утренней жизни — осторожно звякнула дужка ведра, призывно промычала корова, закудахтали куры, послышался глухой, далекий гул, напоминающий стон рухнувшего векового дерева.
— Денис, знаешь, ты кричал ночью. Я так боялась, а разбудить никак не могла… У меня даже зубы застучали от страха… Тебе что-нибудь снилось?
— Ну, ерунда, мало ли, — ответил он слишком спокойно, не глядя в ее сторону и чувствуя на себе ее внимательный взгляд. — Возможно, снилось… Кажется, кто-то хотел тебя уволочь, не знаю, не помню… Мне пора уходить, — подумал он вслух, слегка потягиваясь.
— Мы взрослые люди, зачем скрывать? — несколько деланно удивилась она. — Сюда ведь, надо думать, никто не войдет…
— Сюда никто, а ко мне Феклуша уже наведалась…
— Вот еще… Феклуша! — протянула Катя, слегка отодвигаясь.
— Знаешь, — помедлив, осторожно начал Денис, с какой-то звериной чуткостью воспринимая малейшее изменение в ее настроении, — пожалуй, мы оба должны решать, снится нам или происходит в самом деле. Ну, Феклуша, кордон, этот темный, вековой потолок… Смотри, какие широкие, прочные доски… Если хочешь, спроси первой…
— Решено, — сказала она, прищуриваясь, потянула себе на грудь простыню и, словно увидев себя со стороны, слегка, одним движением поправила волосы. — Что же ты думаешь, снится?
— Честно говоря, да, неясно лишь само завершение, сплошной туман. Хочешь продолжения?
Она на какое-то время ушла в себя, затаилась, затем Денис услышал короткий, грудной смех.
— А ты ничуть не изменился, — сказала она, несколько растягивая слова. — Зачем торопиться? Я не жалею… ночь виновата… Нет, нет, зачем спешить.
— Знаешь, а я ведь могу сдачи дать.
— У меня память хорошая, не надо… Только как же мы станем жить?
— Чисто женский, прости, вопрос.
— Кроме того, Денис, я ведь замужем…
— Ерунда, — оборвал он, быстро подхватившись и взяв ее за плечи, приподнял, приближая ее лицо почти вплотную к себе. — Явное недоразумение. Ты ведь признаешь? — потребовал он, увидев ее испуганно метнувшиеся и замершие зрачки.
— Пока он не дает развода, тянет, пусти, — попросила она тихо, избегая смотреть на него. — Пусти, пожалуйста, больно, синяки будут…
— А ты, кажется, не очень и настаиваешь, — сказал он со странной непривычной улыбкой, отпуская ее, сбрасывая с кровати ноги и садясь, — теперь она видела его спину и лохматый, круглый затылок. — Все, оказывается, повторяется…
— Нет, нет, — заторопилась она, сразу поняв, о чем он вспомнил и подумал. — Я, честное слово, правду тебе сказала. Я его не люблю больше и не могу с ним, он же упрямый… Я, Денис, и без того измучилась, я, быть может, поэтому и в институт поступила!
— В какой? Медицинский? — спросил он глухо, сталкиваясь еще с одной, новой неожиданностью.
— Почему медицинский? В Московский архивный… представляешь, сразу прошла…
— Ничего удивительного, ты всегда отличалась обстоятельной эмоциональностью, — буркнул он, но она, чувствуя, что он начинает отходить, избегала глядеть на него, боялась; его нагота, его тело, уже мужское, сильное, настойчивое и стремительное, по-прежнему волновало и смущало ее, и в то же время, не глядя, она чисто по-женски видела в нем сразу все и вместе с тем замечала любую мелочь в нем; она и сама не заметила, как вновь оказалась рядом, прижалась к его плечу головой.
— Денис, что это у тебя? — спросила она, присматриваясь, и осторожно, кончиками прохладных пальцев прикоснулась к неровно бледневшим неровностям на груди у него. — Денис, тоже какие-нибудь сны?
— Угадала, сущая ерунда, — отмахнулся он с плохо скрытым раздражением и думая совершенно о другом. — В горах оступился, попал на камни… Я ведь на границе служил… Памир…
— Денис, — растягивая слова, сказала она, зябко вздрагивая. — Тебя могло бы сейчас не быть… Денис…
— Сказал же, ерунда, — отозвался он неохотно, но уже другим, потеплевшим голосом. — Я же, видишь, есть… А вот Леньки Васильева — дружок у меня там был, теперь больше нет. Мы хотели сначала сюда, к деду приехать, а затем к нему в Томск… И прямо у меня на глазах… одни мокрые клочья… Черт!
Осторожно отодвинув ее, он плашмя с силой бросился на кровать; ему нужно было что-то в себе переломить и осознать, он был далеко уже не тот семнадцатилетний мальчишка, когда, впервые столкнувшись с темной и непонятной силой в себе, всерьез хотел уйти куда-нибудь в лес, навсегда исчезнуть. Но у него и со спины, один на лопатке, а два ниже красовались такие же лиловато-бледные, вздутые твердые шрамы, и Катя с какой-то непривычной растерянностью и тоской наклонилась и быстро, несколько раз поцеловала эти шрамы; она уже все поняла. Денис съежился, и она легла рядом с ним и беззвучно заплакала. Боль заполнила ее душу, она любила его, всегда любила, она знала это, но в каком-то своем таинственном женском предвидении она в то же время знала, что вместе им не быть, и, страдая от своего слепого и безошибочного знания, повернулась к нему, уже не скрывая слез, не стыдясь и не боясь их, окончательно и бесповоротно опровергая ими свои прежние дурацкие мысли.
— Не надо, не плачь, — попросил он не сразу. — Что поделаешь, очевидно, так устроено…
— Неправильно, нехорошо устроено, — горячо запротестовала она. — Так странно и запутанно в жизни… Вот мы с тобой, кажется, умные, современные люди без предрассудков, а что? Легче нам?
— Не слишком ли высоко? А если поближе? Поближе и попроще? — глухо повторил он в смятую подушку, не в силах заставить себя взглянуть на нее.
— Как же ты хочешь жить? — спросила она.
— А ты обо мне не беспокойся! Я — проживу! — с вызовом сказал он и, внезапно перекинувшись навзничь, приподнялся; в обжигающе красивых, ярко-серых глазах у него где-то в глубине играли звероватые, косящие огоньки. — Я — проживу! Сны ведь тоже когда-нибудь кончаются, даже такие… Эта боль у меня пройдет, я сломаю ее! Слышишь, сломаю! Вместо деда лесником стану, тебе достаточно? — понизил он голос, и какая-то угрюмая ярость метнулась у него в лице. — Только лесником! — отлично понимая, как ей неприятлы его слова, повторил он, хотя раньше, до встречи с ней готов был сделать все на свете, выполнить любое ее желание. Испуганно отшатнувшись, прикрывая грудь и шею руками, Катя попросила:
— Денис! Опомнись!
— Не бойся, я с тобой ничего не сделаю…
— В чем же я перед тобой виновата? Боже мой, Денис…
Он мрачно и твердо взглянул ей в глаза, в самые зрачки, и отвернулся.
— Позавтракаем, затем я тебя отвезу на автостраду, — сказал он. — Здесь недалеко… Посажу на автобус…
— Прогоняешь?
— Нет, просто меня уже нельзя переделать, зачем тебе напрасно страдать? Можешь остаться, но лучше — тебе уехать…
— А если я тебя очень, очень попрошу? Ради нашей прежней дружбы? Ты не можешь мне отказать, не имеешь права, вот и все. Давай еще побудем вместе день, два… ну до вечера, — быстро добавила она, уловив в его лице мелькнувшую тень.
Он ничего не ответил, встал; они оделись и вышли на общую половину задумчивые и тихие — в доме никого не оказалось. На столе под скатертью их ожидало жареное мясо в глиняной тарелке, вареные яйца, огурцы, помидоры, лук, чугунок теплой еще, молодой картошки, парное молоко в кувшине, мед и хлеб — Денис заметил лежавшую сбоку записку на обороте какого-то казенного бланка. Он улыбнулся — дед заботливо сообщал, что баня топится, завтрак на столе, сам он на пасеке, а Феклуша по-прежнему неспокойна и, видать, отправилась в бродяжничество к Провалу… Исподволь наблюдая за ним, завороженная переменой в его неузнаваемо преобразившемся лице, освещенном совершенно детской улыбкой, Катя опять с неожиданной тревогой подумала о его молодости.
— Есть новости? — спросила она с невольной ответной улыбкой.
— Нам топится баня, — сообщил он. — В баню хочешь? Или просто поплескаемся в колдобине…
— В чем?
— В ручье… Ручей лесной, чистый, вода, правда, холодноватая… Хочешь, просто умоемся возле колодца…
— Нет, хочу в колдобину, — заупрямилась она, — В баню хочу…
— В колдобину или в баню?
— И туда, и туда…
Она потянулась поцеловать Дениса, но он отстранился, хотя душу у него и начало отпускать. Они действительно выкупались в колдобине, и Дик, сидя на своем излюбленном месте, под старой березой, выросшей у самой воды на возвышении, философски наблюдал за ними. Затем они дружно позавтракали, съели все мясо, картошку, выпили молоко, и тут Катя впервые заметила наметившуюся на лбу у Дениса резкую поперечную морщину.
— Хочешь, побродим по лесу, покажу тебе свои любимые места, — предложил он. — Недалеко, километров пять, шесть… Места моего безоблачного детства.
Мужественно соглашаясь, она кивнула, стараясь не думать о комарах, и он, оценивая ее жертвенность, понизив голос, сообщил:
— Я тебя к Провалу отведу…
— Провал? Куда — провал? Что-нибудь страшное?
— Для одних в прошлое, для других — наоборот. Увидишь сама… Брюки у тебя есть, обувь вот переменить… Я до армии Феклушу пытался облагородить, кеды ей покупал, она радуется, затем… одним словом, победа осталась за ней — до самых морозов ходит босая.
— Послушай, — испугалась неожиданно Катя, — а может, не надо? Зачем так далеко? Что за Провал, какой такой Провал?
— Никогда не надо отказываться от намеченного, — медленно, каким-то незнакомым голосом отозвался он. — Ты не пожалеешь, наши Зежские леса еще такая тайна…
У него в лице опять проступило нечто незнакомое ей, жесткое, почти жестокое и в то же время завораживающее своей мужской неуступчивостью, почти страстью.
— Перестань со мной сюсюкать, ничего я не боюсь! — вспыхнула она. — Что мне бояться? Давай неси свои кеды… собака… Дик с нами?
Взгляд Дениса, понимающий и теплый, остановил ее.
Жизнь начинается в неизвестности и так же обрывается, исчезает, вновь сливается с неким первоначальным истоком; каждый с рождения и до смерти смутно чувствует свою принадлежность к извечному и безначальному хаосу, чувствует это и дерево, и рыба, и птица, и зверь, и особенно остро, как правило, неосознанно, чувствует это человек, стремясь не признаваться в стихийном, неподвластном ему единении с хаосом ни себе, ни другому.
Денис не мог бы объяснить своего упорного стремления привести девушку к Провалу; скорее всего, он даже не думал о причинах и побуждениях, как не думал до недавнего времени вообще ни о себе, ни о жизни. И сейчас от молодости, от желания удержать нравившуюся ему женщину возле себя, если удастся, привязать навсегда, действовал, скорее всего, неосознанно. Он любил, был уверен в своей любви, в своем праве на такую любовь, хотя, кстати, он и об этом не думал. И то, что до Провала было не пять и не шесть, а все пятнадцать или даже двадцать километров и что он сильно приврал — тоже его не смущало. Ему хотелось подчинить нравившуюся ему женщину своей воле, заставить ее считаться со своим желанием, утвердить свою власть над нею пусть на день или хотя бы на час; еще в нем жила подспудная, глубоко загнанная вовнутрь обида из-за того, что в свой срок его предпочли другому; прошедшая ночь все в нем словно переменила и промыла, тяжелое, мелочное, растворив, унесла — осталась жизнь, терпкая и неожиданная, и он сказал себе, что теперь он своего не упустит. Ему неудержимо хотелось поделиться с Катей самым заветным; он торопился, именно этот его шаг должен был решить их отношения окончательно. И после долгой ходьбы по щедрому, пронизанному солнцем и ветром лесу Катя тоже что-то почувствовала; она не жаловалась, из последних сил старалась не отстать и только под конец взмолилась. Денис даже не приостановился, лишь повернул голову:
— Нисколько ты не устала, уже рядом, видишь взлобок?
— Вижу, — поморщилась она от боли в ногах, сердясь на него за невнимание и бессердечность, в то же время начиная пронникаться какой-то его упорной, по-видимому и не зависящей от него, сосредоточенностью.
Лес переменился; занятая собой и своими мыслями, Катя до этого ничего не замечала, а тут, рассердившись, решив показать норов, сесть в траву и никуда больше не идти, она стала выбирать место, оглянулась и про себя ахнула. Невиданной высоты старые редкие сосны полоскались вершинами в синеве неба; у нее закружилась голова, и она, взглянув в другую сторону, увидела редко разбросанные зеленые горы. В том месте, где она стояла, старые сосны кончились, дальше начиналось царство многовековых дубов, стоявших редко, каждый в отдельности своим независимым миром, в то же время в некоем неразнимаемом единении. «Как же я так много всего вижу и так далеко? — изумилась она. — Так ведь не бывает… Заколдованный лес… Дубы… сосны совершенно немыслимых размеров». Какие то скалы, валуны…» Окончательно пугаясь, готовая бежать от неведомой опасности, она оглянулась и в тени высокого куста, почти рядом с собой увидела Дениса; он смотрел пристально и внимательно.
— Никогда такого не видела, — пожаловалась она. — Не бросай меня, боюсь…
— Пойдем, — сказал он. — Видишь, проход между скалами…
— Откуда здесь скалы?
Денис опять двинулся вперед, по высокой, чуть ли не в пояс нетронутой траве, и девушка теперь старалась не отставать. Начались заросли кустарников, густо пробившиеся из навалов камня; временами оглядываясь, Денис как-то одними глазами подбадривающе скупо улыбался. Становилось душно; ловко вскарабкавшись еще на один, особенно крутой и высокий гранитный вырост, Денис протянул ей руки, легко и ловко, в один момент подхватил на воздух и поставил рядом с собой.
— Ну вот, пришли, — сказал он, понизив дрогнувший от скрытого волнения голос. — Сядь, отдохни, здесь колдовское место, я сюда часто приходил… Можешь попросить что-нибудь у хозяйки озера, ты здесь впервые. Только не жадничай.
Она медленно оглянулась и как-то незаметно, сама того не желая, отодвинулась; она не стала садиться, хотя ноги у нее устали и ныли. Внизу, почти со всех сторон окаймленное красноватыми гранитами, лежало темное, почти совершенно непроницаемое, черное озеро. С противоположной стороны к недвижно застывшей воде зеленой, буйной волной вплотную подступал лес. Несмотря на расстояние, Катя отчетливо видела в какой-то фантастической глубине опрокинувшиеся купы деревьев, высокую синь неба, еще какую-то непонятную и притягивающую жизнь; она присмотрелась и едва не вскрикнула; она узнала себя и рядом увидела Дениса, и были они почему-то не возле берега, а где-то чуть ли не в середине озера; ее поразила и испугала мысль о том, что в невиданно черной глубине никакое не отражение, а самая реальная настоящая жизнь, что в тот момент, когда она взглянула вниз, все ценности переместились, и сама она, настоящая, живая, со своими неурядицами и бедами, со своими тревогами — там, в черной глубине, и смотрит на свое отражение именно оттуда. Денис, сидевший поджав под себя ноги, тоже не отрывался от черной, застывшей поверхности; он никогда не знал и не думал о своей мучительной привязанности именно к этому месту на земле; впрочем, здесь была больше чем привязанность, здесь присутствовала внутренняя непреодолимая зависимость, и если он долго здесь не бывал, озеро начинало ему сниться. Труднее же всего ему пришлось в годы службы, а когда их наряд однажды после долгого преследования группы контрабандистов попал в засаду и он, каким-то безошибочным инстинктом оценив происходящее, рванулся почти по отвесной скале вверх и оттуда, отвлекая на себя внимание, ударил из автомата, он уже знал, что ему не выбраться. И в самый невыносимый момент, теряя сознание, он увидел вот эту черную и теплую, спасительную воду и провалился в нее. Сейчас он несколько раз сглотнул подступивший к горлу шероховатый, острый ком, и Катю поразило и его лицо, и его поза; случайно взглянув на него, она долго не могла оторваться.
— Ты молишься? — спросила она наконец почти шепотом.
— Да, молюсь, мне есть за что помолиться, — ответил он с долгой, неровной усмешкой. — Здесь, кроме меня, никто никогда не купался, — добавил он, еще понижая голос. — Здесь живет щука… ей тысяча лет, она обросла голубым мхом… Говорят, сто лет назад, а может, больше, ее видели… Она всплывает к большому ненастью, поднимается буря, гроза, лес мечется.
— С тобой рядом я начинаю многому верить…
— Сам я ее не видел, — сказал он, окидывая взглядом туманную дымку у дальних берегов озера. — Мне кажется, это душа моего деда. Вероятно, так оно и есть… Нырял здесь совсем сопляком, никто меня не тронул. Хочешь, искупаемся вместе? Есть хорошее место, шалаш, лодка, спустимся?
— Боюсь, Денис… Если здесь душа твоего деда, не будем ей мешать. Пусть она живет еще тысячу лет.
— Пойдем, — сказал он, бесшумно отрываясь от земли и опять привлекая и подчиняя девушку какой-то звериной ловкостью и силой.
Он взял ее за руку и, одному ему ведомым путем, скользя между гранитными глыбами и развалами, свел вниз к воде; девушка действительно увидела большой шалаш в узком гранитном распадке, столик из нетесаных жердей и небольшую перевернутую лодку под низким навесом, укрывающим ее от непогоды.
— Ты как хочешь, а у меня зарок, я должен искупаться, — сказал Денис, жадно окидывая свое хозяйство блестящими потемневшими глазами. — Я страшную клятву дал…
Он быстро стяшул с себя рубаху, разулся, сбросил брюки и неожиданно попросил:
— Катя, отвернись, я здесь всегда голый купаюсь…
— Что, тоже обет?
— Хотя бы и так, — помедлив, отозвался он, и в лице у него появился темный румянец. — А что, нельзя?
— Ну, почему же, если обет… Тогда и я не хочу от тебя отставать… После такой пробежки сам Бог велит усталость смыть…
Под его взглядом она мгновенно разделась, холодея в душе от страха перед темной, таинственной бездной, и сразу же, неожиданно вскрикнув, схватила что-то из своей одежды и прикрылась ею.
— Денис, здесь кто-то есть…
— Не может быть, тебе показалось, — оглядываясь, сказал он.
— Уверена, я сама видела…
— Где?
Она махнула рукой в сторону старого шалаша, за которым среди гранитных глыб неровной полосой от берега озера к большому лесу густой зеленой полосой поднимался высокий и частый дубняк.
— Если только Дик увязался, — неуверенно предположил Денис. — Он бы не прятался… Стоп… Знаешь, не бойся… видимо, Феклуша… совсем забыл, здесь вокруг ее любимые места… Все в порядке, пошли!
— Она же может подсматривать…
— Никогда… Глупости! Просто мы ее спугнули, она, очевидно, где-то здесь была… она — хорошая… знаешь, я рядом вырос, добрее, преданнее существа я не знаю… Ну, пошли, Катя, не раздумала?
— Нет, не раздумала, — отозвалась она, сбрасывая по его примеру с себя всю остальную одежду.
— Смотри, очень глубоко, — предупредил он. — Я даже у берега ни разу дна не достал… Помочь?
— Прыгай, я следом… хотя нет, подожди, давай я первой. Если уж меня схватит щука, ты…
Денис заразительно широко улыбнулся, сверкая на солнце зубами, почти сразу же, мелькнув ягодицами, ушел под воду и вынырнул уже метрах в десяти от берега. Катя присела, тихонько оттолкнулась от берега и поплыла; прохладная, теперь даже не черная, а с густой прозеленью вода мягко и ласково приняла ее, и девушка, помедлив, терзаемая страхами, погрузила в воду голову с открытыми глазами и стала всматриваться в глубину. Несмотря на темный цвет, вода была необычайно прозрачной, наполненной словно каким-то внутренним солнцем, в ней ходили большие размытые тени, и Катя безошибочно чувствовала, что все это неопасно, все это была захватывающая игра каких-то природных сил, их причудливое сцепление. Тут же, едва не вскрикнув и не захлебнувшись, она рванулась в сторону — к ней из глубины, из большого рыжего свечения метнулось нечто длинное и стремительное с громадной раскрытой пастью.
В следующий момент она едва не умерла, дыхание оборвалось: понизу у нее, по ногам, по животу, по груди скользнуло что-то прохладное и большое, и тотчас рядом из воды торчком вынырнула глупая, счастливая физиономия Дениса.
— С ума сошел, — едва выговорила она, стараясь успокоиться, не показать своего страха и хватая его за скользкие, прохладные плечи.
— Набери целую грудь. Ну, больше, больше! Глаза не закрывай1 — сказал он, сжав ей руки у локтей, — тотчас словно посторонняя сила властно и неостановимо повлекла их вниз. «Ну вот и все, — мелькнула у нее неожиданно дикая мысль. — Он меня решил утопить… Ну и пусть…»
Сумрак сгущался, Денис, крепко обняв девушку, прижался к ее губам своими, и ее перевернуло, куда-то понесло, но она все время чувствовала прохладное и сильное тело Дениса, казалось окружившее ее со всех сторон, и сама прижималась к нему все крепче и теснее; в ней пробудились, ожили дальние, светлые звоны, мучительный, сладкий стон разорвал грудь, голову, зеленая тьма вокруг ярко вспыхнула синим золотом и погасла.
Очнувшись на берегу на том же месте, она первым делом увидела серые встревоженные глаза и, успокаивая, подняла руку, погладила его лицо.
— Совсем забыл, ты ведь нетренированная, прости, — смущенно попросил он, вспыхнув от ее ласки.
— Ничего, — сказала она, — у тебя просто необузданная фантазия. Природа распорядилась мудро, мужчине сеять и строить, а женщине обживать построенное, хранить урожай… Ты — лесной человек… ужасно хочу есть, — неожиданно закончила она. — Немножко замерзла… совсем чуть-чуть…
Он крепче прижал ее к себе, стал дуть ей на плечи и целовать их, в то же время слегка поглаживая спину, и она совсем ослабела.
— Ох, Денис, какой же ты ненасытный, — шепнула она ему. — От тебя чем-то дремучим несет…
— А ты хотела другое?
— Нет, нет, — запротестовала она, опять прижимаясь к нему и вздрагивая. — Сколько в тебе всего… не надо сейчас… Нельзя…
— Нельзя?
— Понимаешь… я ведь не была замужем… вот видишь, какая я дура… психопатка… ты даже не заметил, — вздрагивая от озноба, быстро, словно стыдясь, призналась она. — Я тебя, лесное диво, ждала, ждала… Ждала, а ты… Вот и жди вас таких… огромных, глупых… глупых… Ну и все, ну и хватит… Слышишь, хватит!
— Но зачем же ты так?
— Почем я знаю? — в каком-то даже отчаянии, раздраженно ответила она. — Захотелось и наболтала… Дура! Не знаю зачем!
Окончательно растерявшись, он отпустил ее, нелепо топтался рядом, не зная, что дальше делать и говорить, но сразу безошибочно чувствуя иную, неведомую ему досель жизнь, идущую своим путем совершенно независимо от него. И девушка, неловко прикрывая грудь руками, готовая разрыдаться от какого-то охватившего ее отчаяния и уже проклиная себя за такую трудную, необходимую и ненужную откровенность, всхлипнула. Он подхватил ее на руки, закружил; она прижалась к нему и, продолжая судорожно всхлипывать, закрыла глаза.
— Уронишь…
— Не уроню, зря надеешься, — пообещал он, руки у него стали какими-то другими, бережливыми, охраняющими, голос звучал иначе.
Он поставил ее на землю, помог одеться, а сам отошел и сел на камень над самой водой.
— Неужели тебе не холодно? — спросила она, опускаясь рядом и заглядывая ему в лицо. — Господи, комары слетаются…
— Ерунда, — сказал он. — Я еще поплаваю…
— Денис…
— Неужели я достучался? — улыбнулся он скупо, и она, опять увидела появившуюся морщину у него на лбу. — Прости, я еще должен осмыслить… Ну, хотя бы понять, — поправился он под ее взглядом, — хотя бы просто пережить…
— Я сама не знаю, зачем все так трудно, — сказала она. — Ты меня никогда больше не спрашивай, обещай… Никто ведь ничего о себе не знает. Уехала и пропала, мать теперь пилить будет… ой, Господи!
Зная ее маму, с трудом удерживая себя от какой-нибудь новой нелепой выходки, Денис, словно подзадоривая, широко улыбнулся.
— Знаешь, — признался он, — не могу. Что-нибудь бы сделать… может, обежать озеро? Поймать щуку… Нет, щуку нет, нельзя… святыня…
— Ты лучше достань мне ма-алюсенький кусочек хлеба! Завел в дремучий лес, отсюда живой не выбраться…
Он звонко засмеялся, бросился к шалашу и тотчас вернулся, неся что-то завернутое в полотенце, — перед девушкой оказалась буханка хлеба, огурцы, яблоки и жареная курица.
— Откуда? — искренне изумилась она.
— Ешь, — предложил он, разрывая курицу и раскладывая на полотенце. — Чаю сколько угодно, в шалаше старый котелок… дедовский, солдатский… Я скоро.
Она не успела ответить; вскочив на ноги, он разогнался и, распластавшись в стремительном прыжке, ушел под воду.
На кордон они возвращались медленно, часто отдыхая. Лес в предчувствии предвечерней тишины и ясности охватило безмолвие; Денис цепко замечал самое интересное: один раз, остановившись перед старой елью и рассматривая ее давно сухие нижние ветви, он объявил, что завтра погода изменится, скорее всего пойдет дождь, а вторично, натолкнувшись взглядом под приземистым, стоявшим как бы в особицу на небольшой поляне дубом на разрытую, мшистую землю, насторожившись, замер, быстро оглядываясь вокруг.
— Хозяин недавно был, — негромко, сдерживая голос, сказал он в ответ на вопрошающий взгляд девушки. — На волков сердится, они перед ним прошли. Он сытый теперь, не бойся…
Думая о своем, занятая своим, она не обратила внимания на его слова; она даже не поинтересовалась, что он имел в виду, говоря так значительно о каком-то хозяине (вероятно, старый лесник недавно проходил, решила она), чем весьма озадачила и даже обескуражила Дениса; она была под его защитой и ничего не боялась; оценивая ее полное, слепое доверие, он с трудом удержался от желания обнять ее и поцеловать, и она, словно читая его мысли, ободряюще улыбнулась, как бы невзначай прикоснулась к нему плечом.
— Устала, — призналась она. — Смотри, правда прелестный ручей. Темный, настоящая человеческая душа…
— Отдохнем, если хочешь…
— Правда, давай немного посидим, не хочется никуда торопиться, — оказала она, выбирая место и опускаясь в нетронутую, высокую траву. — Так много свалилось, даже думать не хочется…
— Интересно, какими еще сюрпризами встретит нас вечер, — сказал он, опускаясь с нею рядом.
— Разве это самое главное?
— А что же, по-твоему, главное?
— Не знаю… Зачем торопиться? Мы ведь вторые сутки вместе, что тебе еще надо?
— Знаешь, Катя, мужчина любит шутки весьма своеобразно, как игру ума, а чуть ниже — и трагедия, — сказал он с усмешкой.
— Постараюсь не нарушать мужских правил, — согласилась она, обнимая и целуя его где-то возле уха. — Ну, если уж ненароком, — засмеялась она бездумно. — Только ведь я хочу учиться. Как же быть? Как же нам быть? — тут же добавила она, с чуткостью и эгоизмом любимой и любящей женщины уступая ему часть своей ноши, и даже не уступая, а великодушно и щедро награждая ею.
— Главное свершилось, мы, кажется, наконец-то встретились, — сказал он, сразу же, не раздумывая, хватая нехитрую приманку. — Ведь случается по-всякому… Многим ведь просто не хватает одной-единственной необходимой встречи, даже одного нужного взгляда. А вообще, это женщине положено следовать за мужем.
— А ты не хочешь приезжать иногда в Москву? — спросила она, тая в припухших губах тихую усмешку. — Потом я, домой на каникулы… другого, пожалуй, не придумаешь…
— И это все? — возмутился Денис. — Мне не пятьдесят, даже не сорок…
— А что ты предлагаешь?
— Не знаю, я не пророк, — сознался он. — Слушай, в Зежске тоже два института…
— Технических, совершенно не то, — вздохнула она. — Денис, ты не рассердишься?
— Говори уж…
— Ты любишь лес, природу, тебе только двадцать. Ты вполне серьезно решил просидеть тут всю жизнь… А дети?
— Какие еще дети? — спросил он, напряженно хмурясь.
— Наши с тобой, какие еще, — уточнила она, опять в одну минуту обезоруживая его. — Ведь будут же у нас дети…
— Ты думаешь? — озадаченно переспросил он, и она, пошевелив его густые, спутанные темно-русые волосы, упавшие на лоб, тихо рассмеялась.
— Ты странный, Денис, — сказала она. — Свободно можешь обходиться без людей, тебе достаточно твоего деда, этой… Феклуши… Но ведь и они не вечны. А я без людей не могу, мне необходимы люди рядом… Я тебя, наверно, люблю вот такого… А потом, ты вспомни, один из дедов у тебя министром был, твой дядя — известный журналист, о нем легенды ходят, за свои убеждения не побоялся тюрьмы. Неужели в тебе не проснется жажда? Умрет дедушка Захар, необычайный, редкий человек — а дальше? У него так жизнь устроилась, война, плен, лес, но это же его жизнь. А твоя? Ну, хорошо, брошу я все, поселимся здесь в глуши… и вот так, с начала и до конца? Бр-р…
— Погоди ты, — остановил ее внимательно слушавший до сих пор Денис. — Министр, журналист, черт, дьявол. А что ты в самом-то деле о них знаешь? Издали, со стороны — красиво, пальчики оближешь, ближе подойди — от вони, от гноя задохнешься. В этой среде разве могут быть люди? Дед-министр всю жизнь прожил несчастным человеком, даже умер как-то непонятно. А бабка со своим новым мужем? Это же фантастика! Он ведь был твердо убежден, что делает всем добро, а его добро, как правило, оборачивалось злом! Вот когда он действительно прозрел, ему пришлось пустить себе пулю в сердце, вот и весь его героизм. Да потом, никто ничего толком не знает, несерьезно! Дядя Петя, конечно, человек ни на кого не похожий, там наверху в стандарты не вписывается, но ведь и здесь обрыв. Я уважаю его, уважаю академика Обухова, но почему же так нелепо? Там наверху они играют в какие-то свои бесконечные, запутанные игры…
— Ну, ничего несерьезного в этом я лично не нахожу! — принужденно засмеялась она. — Что ты тут находишь несерьезного? Значит, голову под крыло и сиди? Нельзя так о людях, они борются, как могут…
— Ладно, — хмуро кивнул он, отводя глаза. — Ты еще многого не представляешь… Говорю с тобой честно, думаю и говорю. У меня стойкое, непреодолимое отвращение к этим верхам, ничего с собой не могу поделать! Зачем они все мне, тебе, деду? Знаешь, горы, солнце, все до корешка выжжено… Каждый камень может в любой момент выстрелить — ночью, днем, всегда… Два года назад, год, в эту вот минуту… А знаешь, как просто, оказывается, умирают ребята? Глаза еще живут, кричат, мозг еще молит, а человек уже ушел… в горы, навсегда… Сколько там бродит убитых, если прислушаться… Кто имел право приговорить их души к вечному изгнанию?
— Что я должна сказать? — встрепенулась она, слушая с возрастающим вниманием и даже с неприятным чувством открытия чего-то нежелательного, ненужного, слишком откровенного и потому запретного. — Просто я лично не нахожу возможным судить незнакомых, проживших большую и трудную жизнь людей… Что же ты сердишься, Денис, не надо…
— А я и не сужу1 — совсем свел вместе косые, длинные брови Денис. — Стараюсь кое-что объяснить в своем характере…
— Не надо сразу ссориться, — опять попросила она, легким прикосновением пальцев шевеля его растрепавшиеся волосы. — Ну хорошо, думаешь и думай, твое право… Только запомни, в тебе еще такие черти запляшут — тошно станет… Вот как ты сам с собой-то справишься? Уж я знаю, тебе все подавай первым сортом.
— Я давно заметил, у женщины мозги устроены как-то набекрень — раз это ей не нравится, значит, этого не может быть никогда, и все! — грубовато отмахнулся он, в душе озадаченный и смущенный ее словами. — Я, Катя, многое теперь по-другому знаю…
Но ее мысль шла своим путем, и она опять не удержалась:
— А нас, Денис, кто-то приговорил окончательно?
Он быстро и остро взглянул, пожал плечами, одним гибким, быстрым движением встал, помог подняться и ей; она была сейчас вся легкая и воздушная, и он почувствовал, ощутил ее теплую безоглядную нежность и, стараясь больше не подпадать под эту обволакивающую силу, быстро, не оглядываясь, пошел вперед, и с этой минуты в их отношениях еще больше усилилась сдержанная, ироническая вежливость. Лесник, приветливо встретивший их, ничего не заметил. Прошла еще одна, для Дениса и Кати совершенно бессонно промелькнувшая, ночь, а через день он уже провожал ее; оба говорили друг другу пустые, ничего не значащие слова, сдержанно, сами страдая от этого, по-чужому поцеловались. Поезд тронулся, ее лицо в окне затуманилось, пропало, и Денис, испытывая нечто непривычное и даже странное, не тронулся с места, стоял, по-солдатски твердо расставив ноги, и словно чего-то еще ждал; вот и конец, сказал он себе, проводив взглядом сигнальные огни последнего вагона, нельзя было ее отпускать. Пожалуй, пора взглянуть на оставленное послание, пойми их, женщин, сказать не успела, а написать, пожалуйста…
Он нащупал в кармане конверт и жестковато усмехнулся; перрон опустел, лишь вдали от платформы маячила одинокая фигура милиционера; почему-то решив подождать, Денис сунул письмо обратно в карман, вышел на привокзальную площадь и, оседлав мотоцикл, скоро был за городом. Уже подъезжая к кордону и чувствуя привычный, горьковатый запах дыма (в доме топилась печь, и ветер тянул в его сторону), он подумал о подступавшей непогоде. Остановившись у большого старого дуба, он наспех пробежал исписанный листок, вырванный из тетради, затем, опустившись на землю, долго сидел, зажав измятый листок в кулаке и раздумывая о том, что если махнуть сейчас на аэродром и первым же рейсом улететь в Москву, то можно будет встретить Катю на вокзале и спросить, что же в самом деле значит ее письмо; он представил ее глаза, и ему в лицо бросился жар. «Ну нет, такого удовольствия я ей не доставлю, — сказал он самому себе со злостью. — Сколько бы ты ни рассуждала, будешь со мной. Не важно, где я буду жить, в городе или в глухомани, ты меня ждала, вот главное».
«Так нельзя, — опять сказал он себе, — можно спятить, превратиться в слюнтяя… Такого с тобой еще никогда не было и не должно быть… Стыдно перед дедом, ухватился за юбку, очумел».
Тут ему, несмотря на все доводы, стало неуютно, и он подумал о своей неустроенности и бесполезности; он впервые осознанно и прямо подумал о будущих своих детях; откуда и почему пришла такая мысль, он не смог бы объяснить, но она его на определенное время охладила и озадачила. «Почему непременно должны появиться какие-то дети? — возразил он себе в следующую минуту. — И что такое дети, зачем они? Это уже были бы люди иного века, даже иного тысячелетия… да придется ли кому перешагнуть в новое тысячелетие? Зачем думать о несуществующих детях? Привяжется же такая чертовщина!»
На кордоне, едва перекинувшись с дедом тремя словами о своем решении побродить с ружьем по лесу, он стал торопливо собираться.
— Оденься получше, — посоветовал лесник, — непогода идет, кости ломит. Огня не забудь…
— Не забуду, — кивнул Денис, увлеченный своей мыслью и ничего больше не замечая. Феклуша тоже попыталась отговорить его от задуманного, тревожно показав на окно, затем вверх на потолок, и, раздувая щеки, пробубнила, предупреждая о всяких небесных неурядицах.
— Ничего, — сказал он весело, — Не привыкать… В дождь в лесу загляденье… Да ты что мечешься? Что она, дед?
— Последние дни совсем заполошная. Старость, — ответил лесник спокойно, хотя и у него сегодня с самого утра ломило кости, временами начинало не хватать воздуха и в глазах темнело. — Ты на нас не гляди, делай свое молодое дело… Дика возьмешь?
— Нет, дед, хочу один пошастать, мешать будет… слух у него стал хуже…
— Ладно, — сказал лесник, — иди один…
Провожая правнука, он постоял на крыльце; Денис скрылся за воротами, растаял в летней почи, уже накрывшей лес. Неохотно вернувшись в дом, лесник встретил мглистый, ускользающий взгляд Феклуши. Он знал о ее способности каким-то странным, пугающим образом безошибочно чувствовать наступление особых неурядиц в жизни — в такие моменты она начинала беспомощно метаться, срывалась с места и надолго исчезала.
— Давай с тобой, Феклуша, чай пить, — сказал лесник, глядя на нее прямо и ясно, с тихой, успокаивающей улыбкой. — Непогоде быть, отчего ей не быть? У Дениса под каждым кустом дом, за него не тревожься… Убивать он никого не будет, побродит и вернется. У него кровь успокоится — молодой, горячий… Я правду говорю, Феклуша, зачем ему стрелять, гляди, настрелялся до одури…
Последнее лесник выделил особо; он до сих пор так и не знал, все ли в трудном человеческом мире понимает Феклуша, но она тотчас мгновенно отзывалась на голос, на его звучание, и лесник, уговаривая и успокаивая ее, продолжал улыбаться…
— Ну что же ты, затопи, чайник налей, поставь, — говорил он, стараясь отвлечь ее от ее страхов и занять другим. — Вот такая она ветошь из человека выходит… Ты Ефросинью-то хоть помнишь, а, Феклуша?
Напряжение у нее в лице стало пропадать, услышав знакомое имя, она застыла, затем несколько раз, словно попавшая под неожиданный дождь и промокшая птица, встряхнувшись, закивала: «Фрося, Фрося», — и стала возиться у плиты…
— Ну вот и хорошо, — продолжал вслух рассуждать больше сам с собою лесник, стараясь окончательно ее успокоить. — Вот прибилась ты ко мне, сколько лет рядом? А что ты такое? Ни баба, ни полбабы, так — непонятное зарождение… Ни с одним мужиком не была, не пробовала, ходишь себе, чирикаешь, чирикаешь, покормят ради Бога, сразу тебе дом, семья… Тоже прожила, а зачем? К чему? А сам ты, — обратился он теперь уже непосредственно к самому себе, — зачем? К чему? Да нет, нет, Феклуша, — тотчас повернул он в привычную сторону, заметив ее внимание, — кипяти давай чайник… Денис наш пошел по хозяина, — продолжал лесник теперь уже только для себя, даже не зная, продолжает ли он размышлять вслух или это просто проносятся в душе какие-то смутные, пугливые тени. — Срок приспел, двинулся… встретит хозяина, встретит, скоро встретит, у него еще в школе руки чесались, а теперь срок вышел… Пора, — сказал лесник значительно, не чувствуя ни страха, ни сожаления, — тоже срок приспел.
Он почти не заснул в эту ночь, лежал с открытыми глазами, слушал грозу, вначале далекую, затем прихватившую и кордон и сотрясавшую прочный, массивный дом; вековые бревна в стенах задвигались, заныли, почти застонали. И все-таки лесник уловил момент ухода гонимой страхом Феклуши. Он встал, не зажигая света выбрался на крыльцо, озаряемое частыми всполохами молний, и впустил в дом собаку.
21
Пришедшая, судя по усиливающемуся громыханию и стону леса с запада, и забушевавшая в полную силу в самую полночь ночная гроза разбойничала до самого рассвета; Денис успел добраться до одного из старых своих укрытий: причудливо изогнутый у самой земли ствол старой сосны, вынужденный из-за большого, плоского, приподнятого одним краем валуна сначала расти в сторону, затем свечой, устремившейся к солнцу, как бы намертво обхватывал древний камень разлапистыми смолистыми корнями и вместе с ним образовывал у самой земли нишу, достаточную для одного, двух человек — было даже местечко для небольшого огонька.
Денис не боялся ни ночи, ни грозы, — ночью, особенно пору зрелого лета, лес становился совершенно иным. Раньше Денис никогда не думал об этом, просто его с детства тянул к себе лес больше всего ночью, вызывая обостренное чувство жизни, и он часто испытывал состояние своего полнейшего растворения, исчезновения и слияния с душой леса, именно ночью становившегося живым целостным существом со своими законами и отступлениями, со своими тайнами и откровениями, сливался в нечто единое и в то же время непостижимое и неисчислимое… Это был океан жизни, и все в нем сплавлялось в одно движение, в одну до исступления тяжкую страсть жизни и борьбы за нее…
Готовясь ко встрече с самым сокровенным в себе, к открытию в себе чего-то самого тайного и необходимого, Денис ушел с кордона в редкостном напряжении — в нем уже безраздельно жил зов леса, и, торопясь поскорее, без лишних помех и объяснений уйти, он, потрепав Дика по загривку и приказав ему оставаться дома, облегченно перевел дух. Что-то, словно толкнув его изнутри, заставило на минуту приостановиться, он уловил отдаленный гул, почувствовал слабое движение душной и влажной тьмы вокруг. Глубоко втянув в себя воздух, отдающий лесной прелью, он, скорее по армейской привычке, поправил широкий охотничий нож, пристегнутый к поясу, и, окончательно забывая обо всем, неслышным, быстрым шагом скользнул дальше, безошибочно определяя нужное направление. Сразу же вернулось прежнее, глубоко свое, единственное ощущение близости с лесом, казалось уже потерянное навсегда; он шел, не задевая даже случайно ни одной ветки, ни одного куста; он уходил от подступающей грозы, стараясь опередить ее и укрыться в надежном месте раньше, чем она разразится в полную силу в старом, большом лесу, всегда во мпого раз как бы увеличенную самим лесом. Вся жизнь вокруг притаилась, и если бы не нараставший гул по-прежнему далекой грозы, лес стоял недвижим и нем, ни одного, даже случайного звука, ни одного вздоха или шороха, даже старые деревья, всегда полные скрытой немолчной жизни, оцепенели — ни отсохший лист не зашуршит падая, ни отмерший сучок не хрустнет и не скользнет вниз. Денис вышел на большую затаившуюся поляну; небо над нею, высокое и еще чистое, густо и тревожно усеивали звезды. Спрямляя путь, он быстро пересек открытое, низкое место по высокой, в пояс, траве, то и дело вспугивая с треском взлетавших уток. Он не успел нырнуть на противоположной стороне поляны под своды леса; в цепенящем безмолвии воздуха пронесся слабый, еле уловимый вздох. Ощутив его скорее кожей, Денис ускорил шаги, радость движения в нем, физическая радость самого тела усиливалась. Разгоряченный и счастливый, он шел еще достаточно долго, прежде чем его настиг второй порыв придвинувшейся вплотную грозы — поверху рванул сильный шквал ветра, и тотчас яркая вспышка молнии высветила до мельчайшей травинки загудевший, заметавшийся лес мертвенным, зеленовато-синим, охвативший пространство от горизонта до горизонта всполохом. Денис на мгновение увидел ставшую ярко-оранжевой широкую и высокую кочку, обросшую шапкой густого мха, и тут же рядом с нею большой, заигравший тусклым серебром муравейиик, россыпь старых сосновых шишек под ногами, и затем в глаза хлынула непроницаемая тьма. Придавив к земле, грянул раскатистый, веселый гром — Денис присел, пережидая, пока возвратится зрение; дождя по-прежнему еще не было, только лес после первого взрыва так уже и не успокоился. Опять обрушился раскатистый гром, и редкие крупные капли сочно зашлепали по листьям.
Оставалось еще километра полтора-два, и Денис бросился дальше; теперь частые вспышки молний и грохот грома почти не прекращались, ветер дул сильными шквальными порывами, лес стонал, гудел, метался. Почти в ту же секунду, когда Денис, срывая с плеча ружье, полусогнувшись, нырнул в укрытие, на лес обрушился настоящий потоп и сразу утих ветер. Ощупывая все вокруг, Денис осторожно продвинулся глубже под оплетеаный корнями валун. От полусгнившей старой подстилки пахло сырой землей, прелью; Денис, осматриваясь, щелкнул зажигалкой — его испытанное старое убежище было свободно, очевидно, запах человека и железа так отсюда и не выветрился. Кое-как подправив жерди, он с удовольствием лег, вытягиваясь и вслушиваясь в происходящее; гроза вызрела в полную мощь, от ее веселой, дикой силы гудела и вздрагивала эемля, потока воды рушились, казалось, сплошной стеной. Где-то рядом уже клокотало и хлюпало, от входа, оседая на руки и на лицо, долетала мелкая водяная пыль. Так хорошо Денису давно не было, и он боялся шевельнуться; казалось, случилось непоправимое и он остается совершенно один в мире; внутренне вздрогнув от своей мысли, он закрыл глаза, невольно стиснул зубы: нечто подобное он уже один раз прошел. Пожалуй, до этой минуты все было сном, сказал он себе, и вот началась настоящая жизнь, он очнулся и, главное, вернулся к себе, и теперь ему ничего не надо и думать больше ни о чем не надо и нельзя. Просто пришло освобождение, и он вновь у себя дома; продолжая вслушиваться, впитывать в себя лесную грозу, он еще порадовался. Ничего не изменилось, лишь в грохот грозы и шум леса стало просачиваться щемящее чувство опасности; он тревожно открыл глаза, приподнял голову и быстро вскочил. Неправдоподобно широкая, окаймленная темноватым ободком луна висела а непривычно темном высоком небе, и вокруг громоздились облитые сиреневым блеском скалы, — еще дальше, где-то уже возле самой луны, даже еще выше, смутно торчала острая горная вершина, как бы излучавшая то же темноватое свечение. Он хотел сесть, не смог, лишь едва шевельнулся — что-то держало его. Он удивился еще больше, тело было чужим и мертвым, оно не слушалось и не отзывалось. Скосив глаза, стараясь рассмотреть что-нибудь рядом и увидев крошево камня, покрытое густой сиреневой изморозью, он растерянно прислушался; стояла невероятная даже для гор, мертвая, пугающая тишина, такой тишины никогда не бывает в жизни. «Нет, нет, — сказал он себе, — я жив, я не умер, так ведь не умирают, или действительно есть тот, потусторонний, мир, и в нем своя безмолвная жизнь? Редкие, смутные тени — что же с того? Зачем пугаться, если так положено? Пугаться ничему нельзя, даже самому невероятному, пусть все свершается по своим законам».
До него донесся извне первый неясный шорох посторонней жизни (он сразу понял — именно посторонней), всколыхнувший робкую надежду. Он оторопел, из сиреневого тумана вышел сам хозяин, сел рядом и, угнув лобастую голову, с каким-то человеческим, осознанным любопытством, но по звериному пристально глядел на него, и глаза у него влажно поблескивали; именно в таком облике хозяин часто приходил к нему в детстве, и у них уже тогда завязался свой затянутый узел; но вот что сейчас нужно хозяину и каким образом он здесь появился?
До дрожи обрадовавшись, Денис смотрел на хозяина без прежнего страха; в чуждом враждебном мире появилось земное, родное сейчас существо и принесло с собой знакомые запахи, исчезнувшие было звуки. И тогда у Дениса, помимо его желания, пробилась слабая улыбка… И хозяин, приоткрывая пасть, засмеялся. Денис оторопел и только во все глаза глядел, ожидая теперь уже любых чудес.
«Ну вот видишь, как оно получается, — сказал хозяин, сложив лапы на груди крест-накрест, точь-в-точь как старая уставшая женщина. — Помнишь, ты хотел меня убить, а теперь вот тебя самого…»
, «А ты? Тебя, значит, тоже убили? Конечно, зачем же я спрашиваю, — подосадовал Денис, — все и без того ясно…»
«Ничего тебе не ясно, — возразил хозяин. — Я совершенно не убитый.»
«Ничего не понимаю, — поразился Денис. — Как же ты здесь?»
«Я не здесь, — опять не согласился хозяин, — я дома, я далеко… очень уж жалко тебя стало… Поиграть не с кем».
«Поиграть? — озадачился Денис. — Постой, постой! — затосковал он. — Куда же ты?»
Исчезновепие хозяина стало последней каплей, и он, впервые очнувшись от своего дурмана, сразу увидел холодное и острое небо, скалы, недоступно белеющие вершины гор; он сразу все вспомнил. Преследование еще не кончилось, ушло теперь в сторону; откуда-то слабо доносился треск автоматов. Собравшись, он вспомнил, как застава была поднята по тревоге, как, бесшумно подобравпшсь, он прыгнул вниз, нож, мягко, казалось, без всякого усилия, вошел в тело караульного на тропе, а вот дальше… А что дальше? Кажется, затем он стал стрелять, все время помня, что Леньки Васильева, надежного, умеющего развеселить в самые трудные моменты, уже нет, а затем… А что затем? Их было человек десять с героином, в горах их теперь добьют… Холодно, ночь…
Неприятная волна страха прошла по телу; мелькнула мысль о том, что его не нашли или забыли здесь, в горах возможно любое, полоса рядом, а может быть, он в азарте погони даже перескочил ее, бывает и такое. Уволокут, как заложника, для выкупа. Секунда, другая — и перед ним появится чужое, бородатое лицо — он опять невольно содрогнулся. С попавшим к ним в руки они творят невообразимое, Восток есть Восток, здесь наслаждения в крови, они доведены до высших степеней, теплая живая кровь ласкает здесь душу и сердце… Они даже у мертвых, убитых отрезают уши и половые органы — и в этом у них есть свой смысл. Здесь тысячелетнее терпение взрывается древними, животными инстинктами, и мы друг друга никогда не поймем, сколько бы ни говорили слов о братстве… Зачем они нам, а мы им?
С трудом двигая руками (боль сразу же отдавалась-где-то в самом мозгу, в глазах), стараясь не потерять сознание, он медленно ощупывал настывшую за ночь осыпь вокруг себя. Попадались одни холодные камни, ни автомата, ни ножа он не обнаружил. И тогда, совершенно вроде бы случайно, он вспомнил о пропасти где-то почти рядом; перед броском на караульного у него еще мелькнула сквозящая холодком мысль о малейшем просчете, неловком движении…
Денис сейчас не думал ни о ране, ни о боли, это было как-то безразлично и как бы не касалось его. А вот мысль попасть в чужие руки заставляла его все время помнить об этом, приводя в ужас; медленно, при каждом усилии слабея и слабея, он стал передвигать свое и уж не свое тело к пропасти. Он почему то решил, что она именно справа от него, — ему удалось несколько раз подтащить себя вправо, хотя от вспышек боли на глаза выступили горячие слезы. Он боялся застонать или закричать, и мучительными, слабеющими толчками, похожий на передавленное насекомое, он уже почти бессознательно пробивался в намеченном направлении, хотя теперь боль горела во всем теле, притупился даже страх, — зов пропасти, зов освобождения от чужого беспощадного мира, от самого себя затух. Он натолкнулся на неровный высокий камень, перегородивший дорогу дальше, с усилием приподнял правую руку, нащупал шероховатую, почему-то показавшуюся ему горячей, неровную поверхность, затем, почти не ощущая их, подтянул ноги, отыскивая подошвами сапог какой-нибудь упор. Он сразу же рванулся дальше, и тотчас в груди, там, где раньше уже занемело, хрустнуло, и из горла хлынула тяжеловатая, плотная жидкость, заполнила рот и потекла на камень. Он стал судорожно глотать, и не успевал; кровь выбивалась изо рта, ползла по подбородку, стекая на грудь и плечо, затем пошла редкими сгустками, и во рту стало неметь, язык отяжелел, распух, и он стал задыхаться. Непослушными пальцами он выгреб изо рта запекшиеся сгустки крови, все еще не забывая о вставшем на пути камне и уже понимая, что это последнее препятствие к освобождению преодолеть не сможет. Он подумал об этом уже как-то отрешенно, откуда-то издали; от его усилий сильнее пошла кровь из ран, спина и грудь были совершенно мокрые и холодные. Что ж, и хорошо, больше ничего и не надо, совершенно ничего, мелькнуло у него в слабеющем сознании, никакой пропасти, само собой кончится… Только бы не опоздать… уж и воздуха не хватает… небо пропало…
Где-то, притом явно неподалеку, почудились голоса; стиснув зубы, он рванулся через камень в последнем усилии, но ему лишь показалось, что он рванулся, и от немощи своего совсем недавно послушного, сильного тела, от ненависти к себе, вот такому бесполезному и беспомощному, он оцепенел.
Откуда-то из сиреневой тьмы опять вышел хозяин, сел рядом, грустно посмотрел, добродушно заворчал, толстым, большим языком облизал ему лицо, затем поднял его, прижал к себе и, встав на задние лапы, понес… Прижавшись к мохнатой, пахнущей зверем груди, Денис закрыл глаза и ощутил упруго свистящий воздух — его словно освободили наконец от тяжелого и бессильного тела, взяли, подняли высоко в небо и стремительно понесли; он уже знал, что это его последний полет и ничего другого уж не будет. И тогда он открыл глаза, из которых ушла боль, и ясно увидел землю внизу; темная, притихшая, она сливалась в какую-то одну бесконечную массу, мелькали внизу горы, пустыни, неровные вздутия морей, и скоро он понял, что под ним проносится уже Россия с ее реками, равнинами и лесами. Какая-то уходящая, слабеющая тоска перед последним покоем пришла к нему.
С усилием открыв глаза, готовый вскочить и куда-то бежать, Денис не сразу пришел в себя, затем бездумно, до хруста в теле, потянулся. Над лесом гремел раскатистый гром — разбойная, ночная гроза, кажется, еще была в самом разгаре, совсем рядом клокотал водный поток, под валуном же было по прежнему тепло и сухо. Очередная, особенно яркая и сильная вспышка молнии, пробив завесу ливня, прорвалась к земле, на мгновение метнулась в убежище по неровному своду, по торчавшим корням, по лицу Дениса.
— Ничего, теперь дома меня не возьмешь, — протянул он облегченно, повернулся на другой бок и почти тотчас заснул, а когда опять открыл глаза, стояла полнейшая тишина и где-то неподалеку трещала сойка. По ее задорному крику, по освещению, доходившему в укрытие, по своей беспричинной радости Денис сразу понял, что в лесу солнце и покой.
Он выбрался из своего убежища, пахло начинавшей прогреваться лесной прелью, и солнце поднялось довольно высоко. Недалеко от валуна образовалась глубокая промоина, желтела влажная зернистая глина. Все с тем же внутренним ощущением счастья и душевного выздоровления от долго мучившей болезни Денис съел ломоть хлеба с копченым салом, отрезав его острым охотничьим ножом, и зашагал дальше; завершение еще предстояло, но теперь он знал совершенно определенно цель и бродил по самым глухим местам еще дня три, не встретив ни одного человека и радуясь этому; к своим заветным, потаенным местам у него давно выработалось ревнивое чувство. Клонившееся ко второй половине лето было в разгаре; уродились грибы, на перезревших ягодниках кормилось немало лесной живности, но он нигде не задерживался. И вот как-то под вечер, подумывая об очередном ночлеге, он внезапно, словно его что толкнуло, остановился и, внимательно оглядевшись, снял с плеча ружье и машинально тронул рукоятку ножа; он вышел к обильным зарослям малинника в старом редколесье, на довольно живописный угор, не думая о том, именпо с подветренной стороны. Теперь только бы не зашуметь и не спугнуть раньше времени; ветерок тянул в нужную сторону, ему навстречу, в лесу было сухо и светло по-летнему, можно подойти почти вплотную. Бесшумно обогнув приземистый, плотный куст бересклета, Денис замер; шагах в двадцати среди малинника, поднявшись на задние лапы, высветив более светлое подбрюшье, стоял хозяин и смотрел прямо на него. Они сразу узнали друг друга, и к Денису пришло чувство душевного успокоения — с некоторым любопытством, не шевелясь, он продолжал рассматривать хозяина, матерого зверя. С детства Дениса связала с ним какая-то нерасторжимая и необъяснимая тайна, общность леса и жизни, и нельзя было отличить, где кончались сны и начиналась реальность. Сколько раз прежде Денис думал о такой вот встрече в желании помериться силой с самим лесом, и теперь он ощутил напряжение в руках, он мог одним быстрым, неуловимым движением свалить хозяина, он мог бы, отбросив ружье, пойти на него просто с ножом; сейчас он в ловкости и силе не уступал ему; в какой-то один миг Денис так и хотел сделать, слишком уже велик был соблазн, но случилось совершенно непредвиденное. Хозяин, давно уже почуявший неладное и с самого начала следивший за идущим за ним, по его любимым местам, человеком, дальше не стал уходить. Раздраженный долгой, трехдневной опасностью, хотя Денис так ни разу не увидел и не почувствовал его, сам хозяин не упускал из виду своего преследователя, и теперь, когда Денис, так неожиданно возник перед ним, шерсть у хозяина на загривке шевельнулась, он, глухо заворчав, стремительно бросился на врага, и Денис, ахнув, побледнев, отскочил за куст, выпалил в воздух сразу из двух стволов; в следующее мгновение бурая, тяжелая масса, сопящая, издающая частые хрюкающие звуки, промчалась мимо, обдав ветром, горячим, плотным запахом…
Выждав, пока затихнет треск кустов, шум уходящего тяжелого испуганного зверя, Денис, сам сейчас чуткий и настороженный, присвистнул, затем неуверенно рассмеялся.
— Старый дурак, спятил…
Ночь уже сгущалась, и он не стал искушать судьбу, развел костер, вскипятил чай, доел остаток сухарей, а на рассвете, легкий и успокоенный, словно внезапно навсегда освобожденный от своей застарелой болезни, детских снов и страхов, он, прежде чем возвращаться на кордон, решил сделать небольшой крюк в сторону и поплавать в Провале.
Хозяин подломил его уже недалеко от озера, у подножия одного из известковых холмов, поросшего сверху мелким кустарником. Хозяин словно свалился на него сверху; Денис успел повернуться к нему лицом, на него хлынул душный запах; когтистая, тяжелая лапа проехалась сбоку, по плечу, ломая тело, и жаркая раскрытая, бездонная пасть, обдав зловонием, рванулась к нему, и тогда натренированные руки, ставшие стальными, беспощадными, сделали свое, прежде чем сам Денис успел сообразить, что происходит. Он почувствовал нож, упруго входивший в тугую плоть, густой рев ошеломил его, какой-то вихрь отбросил в сторону; сильно, до звона в голове ударившись о невысокий коренастый дубок спиной и боком, он успел ухватиться за него, удержался на ногах, его лишь занесло за ствол дерева.
У основания каменного выроста с затухающим, утробным ревом, разрывая влажный под слоем мха известняк конвульсивными беспорядочными ударами когтистых лап, пытался приподняться и еще не упускал из виду своего врага старый, матерый зверь; хозяин лежал на боку, мучительно поводя большой круглой головой, из раскрытой пасти у него била какая-то липкая, с черными сгустками пена; под левой передней лапой тускло поблескивала медная рукоятка ножа, ушедшего в косматую тушу на всю глубину; несколько мгновений Денис смотрел на нее с каким-то невыразимым чувством и своего собственного исчезновения, не сводя расширенных, налитых зеленой тьмой глаз с хозяина. И затем наступил совсем уже непереносимый момент; горячая пелена с радужными проблесками заструилась у него перед глазами, и в облике издыхающего зверя на какое-то горячечное мгновение проступил облик старого лесника; Денис даже уловил взгляд деда, его скупую усмешку и вслед за тем ясно услышал слабый, далекий голос. Он заставил себя удержаться, не провалиться в затягивающий омут и, обессиленно цепляясь за ствол дерева, сполз на мох. По большому, уже как бы уходящему в землю телу хозяина последней волной прошла дрожь, он слабо шевельнул лапами, затих, и тогда медленная, убивающая тоска вошла в Дениса; свершилось нечто не подвластное никакому объяснению, невозможное, непоправимое. Стиснув зубы, Денис, осторожно повернув голову, присмотрелся — сквозь окровавленные лохмотья куртки виднелось разорванное до костей мясо, кровь еще продолжала идти. Не обращая внимания, придерживаясь здоровой рукой за ствол дуба, он встал, вновь привыкая к случившемуся. Голова кружилась, и он еще подождал, постоял возле дерева, не теряя опоры. Затем медленно подошел к неподвижному хозяину, все еще недоверчиво, не упуская ни одной мелочи, присматриваясь, наклонившись, задержав дыхание от невыносимого сейчас обильного запаха свежей крови, одним движением выдернул из туловища хозяина нож; кровь из раны потекла сильнее, но по прежнему по-мертвому вяло. Большие, тупые и стершиеся за долгую и трудную жизнь когти хозяина почему-то особенно болезненно подействовали на Дениса, и он, до последней встречи с хозяином, вообще-то счастливый, уверенный в себе человек, даже определивший уже, пожалуй, чуть ли не весь свой дальнейший путь, нашел, что стоит лишь в каком-то преддверии и совершенно ничего не знает, что все до сегодняшнего дня было для него лишь слабым, безобидным предвестием подлинной жизни.
Он вытер нож пучком травы, сунул его в чехол, подобрал валявшееся далеко в стороне ружье, привычно осмотрел его. Отойдя в сторону, стараясь не замечать боли, он разделся до пояса — сильно разорванное плечо начинало вздуваться. Подумав, он промыл его собственной мочой, выковыривая спекшиеся сгустки крови, кое-как неловко замотал майкой, прихватил сверху разрезанной на две части сорочкой. Он еще не пришел в себя от потрясения. «Я ведь не виноват, — оправдывался он и перед собою и перед тем, кто был выше и мудрее его и понимал больше. — Я не хотел, хозяин сдурел… я с добром… и вот тебе…»
Он уже зашел слишком далеко в сторону, и по пути назад лесного Провала нельзя было теперь обойти, а возвращаться необходимо скорее, рана препаршивая, хозяин приложился под конец с большим старанием, черт знает что, так и руку недолго потерять…
Ни на минуту не задерживаясь, хотя идти становилось трудно от усиливающейся слабости, Денис, добравшись до Провала, устроился на крутом, уходящем отвесно в черную воду, обрыве; теперь уж и боль в плече, и собственная слабость, и нелепо закончившаяся последняя встреча с хозяином незаметно отступили; зеленовато-темная бездна внизу, живая и знакомая, снимала душевное напряжение и успокаивала. И в то же время появилось и окрепло некое иное тревожное чувство; нужно было заставить себя подняться, идти дальше, но он не мог. В одном месте, когда он подходил к озеру, в густой поросли высокого ивняка что-то словно прометнулось перед глазами; он постоял, прислушиваясь и присматриваясь, не уловив больше ничего, ни звука, ни шороха; тревога вновь разгоралась, теперь он безошибочно знал, что за тень промелькнула по низине в кустах — в конце концов Феклуша всегда жила по своим никому не ведомым законам.
«Что ей здесь в такую рань делать? — думал он. — На кордоне не ночевала?»
И тут, инстинктивно оглянувшись, он опять увидел Феклушу, вынырнувшую неподалеку из густой зелени. Замерев на высоком каменном взлобке над самой водой, она по-птичьи вертела головой, вся ее ветхая фигурка в свете солнца, прорвавшегося, наконец, к воде, к берегам озера, выражала крайне смятение; она не видела Дениса, хотя много раз смотрела в его сторону, и сидел он, не скрываясь, на виду, и однажды, пытаясь привлечь ее внимание, даже помахал рукой. И тогда, проникаясь новой неведомой тревогой (даже из плеча, изуродованного хозяином, ушла тупая боль), он приподнялся, позвал: «Феклуша! Феклуша!», но она, повертев головой, опять не увидела его. Словно что-то стирая со своего лица, она вскидывала и вскидывала ладони, приглаживая волосы, лоб и щеки. Пошатываясь, Денис продрался сквозь заросли и, стараясь улыбаться, встал перед нею, прикрывая ладонью поврежденное плечо, — с Феклушей творилось что-то совсем уж неладное.
— Феклуша, Феклуша, ты меня слышишь? — спросил он тихо и ласково. — Что ты здесь делаешь? Ты давно здесь? Феклуша, послушай, — продолжал он, пытаясь привлечь ее внимание и теперь уже окончательно ничего не понимая; хотя он был рядом, она его по-прежнему не замечала, не слышала, смотрела вдаль перед собой. Он хотел взять ее за плечо, повернуть лицом к себе и не успел. Он услышал какое-то тупое, протяжное бормотание; он даже оглянулся, пытаясь отыскать источник странных, завораживающих звуков, но уже в следующую минуту понял, что это бормочет сама Феклуша. Он присмотрелся, действительно губы у нее чуть-чуть вздрагивали, она вся была туго, до предела напряжена, исцарапанные босые ноги словно вросли ступнями в мшистый камень, под изношенной обхлестанной юбкой напряженно застыли острые колени. Такого предельного возбуждения в ней Денис еще не знал; остановить, чем-нибудь отвлечь ее он не мог и лишь пытался припомнить какие-нибудь похожие случаи из прошлой жизни. Он уловил в ее бормотании отдельные слова, прислушался, и вскоре перед ним стала проступать тихая картина, слова начинали цепляться друг за друга, складываться в еле уловимый мотив, и он, стиснув зубы от усилия, преодолевая головокружение, стал наконец кое-что разбирать. Почти неслышно, еле шевеля губами, Феклуша словно читала какую-то одной ей ведомую книгу, и теперь отчетливо прорывалась уже целые строки. «Летит, летит птица за море, — бормотала Феклуша, и солнце, поднявшееся над лесом уже достаточно высоко, било ей прямо в широко открытые, неподвижные глаза, — бежит зверь за леса, бежит дерево в дерево, мать-землица в свою мать-землицу… черная немочь бежит в свою мать-тарары, тьму подземную, назад не ворочаючись, раны болючие на ногах, жало смертное… Дерево в дерево, трава в траву, горюч камень в горюч камень… Собака рыжая, черная, красная… неси, неси жало на море темное, к Алатырь-камню черному…»
Порой бормотание начинало слабеть, переходило совсем уж в неразборчивый торопливый шелест, и Денис, выбрав момент, вновь окликнул ее, и на этот раз она, кажется, услышала, дрожь пролилась по всему ее телу; жалко вскрикнув, она метнулась к берегу ближе, затем все с тем же ужасом в своем птичьем лице стала пятиться, протягивая руки к воде, пригнулась и почти бесшумно пропала в зарослях, особенно густых здесь, у самого берега озера. Призрачное потустороннее существо растворилось без следа в буйной, прибрежной зелени. «Феклуша! Феклуша! Да что же ты?» — позвал Денис, все еще пытаясь помочь ей; сил не было побежать следом и остановить, и все вокруг уже вновь застыло; происходило нечто странное, но что-либо осмыслить ясно и определенно он не мог и опустился на камень, затем, оберегая поврежденное плечо, прилег на бок. Во рту пересохло, хотелось пить, солнце жгло голову; он закрыл глаза, и тотчас перед ним поплыли радужные темные, с золотой прозеленью круги; что-то случилось, подумал он, погружаясь в колышущийся вязкий туман, что-то случилось с ним самим, с жизнью, что-то бесповоротно нарушилось в его связях с водой, с самою душой, леса. И тотчас вспомнился предсмертный, жаркий рев хозяина, вязкая судорога вновь ожила в теле, собрала его в тугой ком. «Вот оно что, — сказал себе Денис, стараясь не открывать глаз, — просто больше нет хозяина, и лес переменился. Ну как же, как же, уж разнюнился, тоже мне, солдат, — добавил он, стараясь приободриться. — Конец света, что ли? Тоже — хозяин… Медведь и медведь…»
Оторвавшись от земли, от нагретого солнцем камня, Денис сел. Вокруг вновь что-то менялось, и он, медленно оглядываясь, стал соображать. Собственные мысли разозлили его, потому что они были неправдой, и он знал это, и затем свой же немой, задавленный вскрик, остро ударивший в поврежденное плечо, едва не заставил его вновь припасть к земле; сначала ему показалось, что он просто бредит; черная вода в Провале уже далеко отступила от привычных берегов, вода в озере куда-то на глазах бесшумно провалилась, и ближе к противоположному берегу на черной поверхности озера все яснее обозначалась широкая крутящаяся вмятина. Сильное солнце обрушивало на изломанную гладь воды потоки, спелого, янтарного света, и стояла убаюкивающая, благостная тишина, ни один лист вокруг не шевелился, ни одна птица не подавала голос, даже стрекозы пропали. И тогда Денис вновь подумал, что он или видит сон, или сошел с ума; из мира уходила вода, скоро ее не останется ни одного глотка, ни одной капли. Торопясь, помогая себе здоровой рукой, он сполз с камня, привстал на колени и двинулся к обнажившейся широкой полосе дна у берега. Добравшись до темной полосы, где совсем недавно стояла вода, он почти по локоть погрузил руку в тину, в пузырящийся, еще хлюпающий ил и, зачерпнув всей горстью податливую, вязкую массу, не веря собственным глазам, медленно поднес к лицу. В иле растревоженно копошились, стараясь зарыться в него глубже, какие-то мельчайшие, еле видимые и чуть покрупнее водяные насекомые. Пахло кровью и тиной, тяжело пахло скрытой, слежавшейся, спрессованной веками придонной жизнью. Его неудержимо притягивала уходящая вода; она отошла от берегов метров на десять, продолжая стремительно убывать, слышался какой-то глухой подземный шум, крутящаяся впадина на поверхности озера у противоположного берега еще более прогнулась. В воздухе над умирающим лесным озером возникло тревожное движение воздуха, листва прибрежных дубов и кленов пошла легкой зыбью, из воды стали выскакивать рыбы, вначале мелочь, затем покрупнее, уменьшающаяся поверхность воды на глазах гуще покрывалась метавшейся рыбой, взблескивали на солнце лещи и окуни, темными стрелами взлетали в воздух старые щуки, черными змеями лезли на беpera вьюны, чуть позже забеспокоились и медлительные караси, заметались золотистыми стрелами по самой поверхности старые лини.
Словно в каком-то бреду, Денис некоторое время по-прежнему не мог оторваться от происходящего. Вода уходила, и он не мог сделать даже глотка, остудить горящий рот, высохшее до шелеста горло; почти не осознавая себя, он опять двинулся к воде, черневшей глубоко внизу, с трудом, проваливаясь до колен, преодолел топкую полосу у самого берега, дальше дно исчезавшего озера выстилал камень вперемежку с крупным, зернистым песком, кое-где поросшим придонной растительностью, уже начавшей просыхать. Стараясь не поскользнуться на круто уходящем вниз, обнажившемся дне, с неровными выступами темного, с прожилками слюды, глыбами гранита, Денис все-таки догнал воду и, забыв обо всем на свете, припав к ней, долго и жадно, до одурения пил. Деревья, окаймлявшие берег, простирались теперь высоко над ним; казалось, они непрерывно клонились и падали на него. Обессилев от воды, он затих, глаза слипались, в нем все больше обострялась какая-то внутренняя боль, он должен был куда-то идти, что-то делать и в то же время он не мог двинуться с места. С уходящей из Провала водой уходила его кровь, сил становилось меньше и меньше, они тоже как бы незаметно и быстро утекали из него, еще немного — и дыхание пресечется, уже однажды он проходил такой рубеж, и только мысль в нем продолжала жить и бороться; открывалась тайна лесного озера, очевидно много тысячелетий покоившегося в своей каменной глубокой ложбине; за гранитами пошел уже совершенно особый, тускло светящийся камень, и эта мглистая, глубинная тьма притягивала, завораживала. Осторожно нащупывая опору, двигаясь, почти лежа на спине, ногами вперед, стараясь как-нибудь не оплошать и не сорваться, Денис стал сползать еще ниже к светящемуся чернотой широкому каменному поясу, проступавшему из воды. Высыхая на жарком солнце, черный камень слегка дымился и начинал отдавать тяжелой прозеленью, как бы разгорался изнутри прозрачными радужными пятнами.
Взглянув вверх на круто поднявшийся над ним, еще слезившийся, влагой откос берега, Денис заколебался; спускаться еще ниже было нельзя, он просто никогда не сможет выкарабкаться, и, если вода хлынет почему-либо назад, тогда уже и сейчас не выбраться. Он перевернулся на живот и упорно двинулся в обратный путь, то и дело срываясь и вновь оползая. Совершенно выбившись из сил, он все таки подобрался к полосе ила у самого бывшего берега озера и уже готовился, немного отдохнув, преодолеть и последнюю преграду, переползти в тень деревьев; из исчезающего мира воды, из неживого камня ему сейчас необходимо было вырваться, и он приказал себе не оглядываться, что бы ни случилось. Происходящее выходило за пределы понимания, и его мозг сейчас болел, распадался, он это чувствовал и рвался в спасительный, привычный, добрый мир леса; он не успел. Долгий вздох, скорее какой-то судорожный всхлип, дрожью отдавшийся в берегах, тронувший лес, все-таки заставил его оглянуться, и он сразу понял, что пришло самое невыносимое. Он, словно переступив последний предел, оказался в мертвом, каком-то опрокинутом мире; воды в озоре больше не было, и внизу под ним в глубоких каменных расщелинах повсюду густо билась издыхающая рыба, а в одном из широких углублений судорожно дергалось толстое, мшистое бревно; продолговатая, каменистая расщелина, уходящая, суживаясь, метров на двести в глубину земли, напоминала теперь пустую вытекшую глазницу. Какая-то посторонняя сила вновь повлекла Дениса; торопливо, юзом скользя вниз, окончательно разрывая одежду, обрывая кожу на руках и ногах, он порой сквозь стиснутые зубы глухо вскрякивал. Старая, столетняя, а может быть, и больше, рыба, обросшая мшистой прозеленью, с приплюснутой длинной головой, еще жила и при приближении Дениса, пытаясь повернуться к нему, несколько раз тяжело и бессильно шлепнула хвостом, разбрасывая в стороны засыпающую живность поменьше — уже теряющих свою окраску карасей, плотву, ершей, окуньков, оползавшихся в сырую впадину, свиваясь в судорожные кольца, толстых метровых вьюнов. Оцепенев, с трудом взгромоздившись на подламывающиеся ноги, Денис стоял перед старой щукой, не в силах оторваться от ее уже угасающих, по-прежнему беспощадных глаз — его окончательно сковал потусторонний гипнотический мрак. Перед ним умирал и рушился целый мир, неведомая, вечно обновляющаяся основа, прародина сущего. Жизнь уходила (Денис ощущал это в слабевшей тоске сердца) от него самого, он уже даже не мог больше стоять и смотреть… И тогда старая щука, дух, хозяйка и хранительница исчезнувшего озера, напоследок бессильно рванулась к нему, судорожно приоткрыв глубокую пасть, усеянную острыми длинными зубами…
Неожиданно сопротивляясь, он всем телом качнулся назад. «Дед, дед, я не хотел, я не знал, — прозвучал в нем какой-то затухающей и далекий голос. — Я не хотел, дед, хозяин сам набросился, дед, я не знал… ничего не знал…»
Узкая полоска недосягаемого неба над ним зашаталась, померкла, и он тоже осел рядом со старой щукой, почти касаясь ее бугристой древней головы с продолжавшими жить мрачными глазами…
Над глубокой и узкой каменистой впадиной появился лесной коршун и, набирая высоту, долго кружил над нею; его плавный и привычный полет скоро превратился в какое-то хаотическое метание; он рванулся вверх, вниз, снова в сторону и, затем исчез. Тишину нарушал плеск подземного ручья, раньше совершенно невидимого, а теперь, когда вода из озера ушла, с негромким журчанием катившегося по прозрачным камням вниз и тоже куда-то проваливающегося в сумеречную, мглистую тьму впадины.
Пока на кордоне не было ни правнука, ни Феклуши, лесник, сам над собою посмеиваясь, к чему-то окончательному в своей жизни приуготовлялся; правда, ему приходилось теперь трижды на день доить корову и поить теленка — крупного трехмесячного бычка с белой проплешиной во лбу, давать корм курам и поросенку. Он внимательно обошел свое довольно обширное хозяйство, осмотрел сарай, подправил попутно стойло для коня, сменил подгнившую, еще державшуюся жердь в перегородке, зачем-то забрался и на сеновал, простиравшийся над хозяйственными постройками; лесник машинально определил, что добротного прошлогоднего корма еще пудов на сто с лишним, почти на зиму корове хватит. Он забрел и в небольшую пристройку, где у него хранились грабли и косы, лопаты с вилами, сохли заготовки для новых черенков и топорищ, стоял плуг и две бороны, другой необходимый в хозяйстве инструмент и запас гвоздей, стекол для фонарей, лампочки, краски, замазка, клей, войлок, несколько полок занимали пустые банки, бутыли и бутылки… запасные покрышки для мотоцикла, копылья для саней и колеса для телеги; каждая мелочь, каждая вещь напоминали ему сейчас тот или иной случай из жизни кордона, все здесь было связано и с ним самим. Он поймал себя на мысли, что стоит посередине пристройки, сам не зная зачем; он вышел, в раздумье заглянул за сарай на скопившуюся гору навоза из-под коровы и коня; весной вывезти его на огород руки не дошли, парень дослуживал свое, а с Феклуши много не возьмешь… Так и остался навоз до осени, надо будет попросить Дениса под зиму его запахать…
Его привлекла открытая для просушки дверь подвала; по крепким дубовым ступенькам он опустился вниз; пахло мышами и тронутым прелью деревом — и здесь все было в полном порядке. Он придирчиво осмотрел стены, накат, вздохнув, выбрался на свет Божий, опять-таки по пути ощупывая взглядом каждую ступеньку. У входа в подвал выжаривались на солнце несколько дубовых бочек под соления и квашения; тут же стояли и три керамические, привезенные на кордон лесничим в подарок в позапрошлом году; эти вместилища, с запасом прочности в несколько поколений, оказались без живого дыхания, капуста, огурцы и яблоки, заквашенные в них в прошлом году на пробу, приобретали мертвый вкус и цвет…
Побывал лесник и на пасеке, в омшанике сжег несколько пучков чемерицы, окуривая самые дальние углы, затем долго сидел под навесом. На пасеке шла своя, извечная незаметная работа, куда более важная и необходимая, чем умственная и злая суета людей, с их разрушительным и во многом излишним, вредным строительством. Лесник любил пасеку, она его всегда успокаивала. Он и сейчас почувствовал себя прочнее; ни Дениса, ни Феклуши не было на кордоне уже давно, ему и не хотелось их видеть. Феклуша и раньше, на изломах погоды, пропадала неделями, за парня он тоже не боялся. Пусть побродит себе в утеху, теперь уж недолго; весной перенесут кордон на новое место, кончится воля и по лесу-то не пошатаешься. Да и останется ли еще лес?
Лесник перестал слышать дружную и привычную работу пчел — больше не надо морочить себе мозги, не надо притворяться перед другими. Какое ему теперь дело до других? Близится его час, и он, обманывая себя, вертится, вертится вокруг да около, а все проще простого, раз в сынах да внуках нельзя ничего понять, вон даже валить на него стали все без разбору, значит, надо подаваться в другую сторону. Может, под конец что и отыщется, гляди, засветятся во тьме родные окошки, всякие чудеса случаются в мире. Одно нехорошо, не оставил после себя на земле крепкого корня, хозяина на земле не оставил, вот в чем ему лютая кара.
Легкая крыша навеса от бившего в нее почти отвесно солнца начинала нагреваться, дышать зноем; трясогузка, третье лето устраивающая в одном из углов навеса, в косой щели между столбом и балкой крыши гнездо и выкармливающая в безопасности птенцов, слетела почти к самым ногам лесника и, проворно бегая, ловко вытягивая черную головку, ловила мух. Затем она чего-то испугалась, прижалась на мгновение к земле, цвинькнула и исчезла в разросшемся кусте дубняка; наискось по пасеке проплыла неторопливая тепь большого ястреба. Захар сидел под навесом, не замечая жары и времени, ничем пе показывая своего нараставшего беспокойства; близился к концу третий день после ухода правнука, тоже вот ударился в бродяжничество, не заладилось, видать, с девкой, слишком уж норовистая попалась, да и сам не мед — горяч, глубок, дна не достанешь, но весь этот молодой и вечный перезвон жизни вызвал лишь смутную, тотчас пропавшую тень в душе. Предстоящее (каким-то образом лесник знал до мельчайшей подробности свой близкий шаг) ему в скором времени пугало, заставляя в то же время быть в постоянном напряжении — с приближением вечера ожидание нарастало. Никакой обиды на жизнь не было, и долга перед жизнью больше не оставалось, как ни поверни, а рядом правнук, солдат поднялся. В землю его не укоренишь, такое уж время, зато душа у него человечья, не волчья. Нет, долги свои он оплатил с лихвой, за свои прегрешения, беспутные и злые дела (были и такие, пусть до малоумию, по наущению от других, но были они, были!) он тоже расплатился, покрыл их с избытком, перед Богом и людьми никаких долгов у него не оставалось. Он не хотел больше почти плотских, не по-старчески ярких, воспоминаний и боялся их; в последние годы они начинали мучить, и он научился уходить от них, перебивать их каким-нибудь другим составом жизни. Нехорошее дело, лезла какая-то чертовщина из самой глуби, из той поры, когда еще и никакого разума в голове не было, лезло все как-то по дурацки, собираясь из разных годов в один страхолюдный образ, а последнее время его допекал Федька Макашин, природный отец того самого Василия, взращенного им, Захаром, сызмальства, и было это горше всего.
Продолжая следить за хлопотами трясогузок, пытавшихся накормить на ночь свое прожорливое потомство, требовательно пищавшее под углом навеса, лесник отдыхал, набирался силы; последние рваные блики солнца уходили с пасеки, припозднившиеся одинокие пчелы проворно ныряли в летки, все шло своим порядком.
Непривычный покой отяжелил ему сердце еще во сне, солнце село, и пришли густые сиреневые сумерки. В левой лопатке еще стояла тупая боль, боясь шевельнуться, не поворачивая головы, он повел глазами. Сумерки придвигались, живые тени сгущались кругом, лес сливался в одну общую нераздельную массу. Выйдя из-под навеса, он увидел над лесом, где-то над самой его глубиной, какое-то ядовитое и мертво светившееся облако; день уходил, а тревожное облако над лесом усиливалось и разрасталось. «Пожар, что ли?» — спросил он сам себя, постоял, подумал; на пожар не походило, людей в той стороне и без него хватало — весь лес был напичкан военными.
Он еще подождал, окончательно собираясь и приготовляясь; разрастающийся облак над лесом ему не нравился. Вернувшись на кордон, не обращая внимания на призывное мычание недоеной коровы, подошедшей к самому крыльцу, он лишь освободил бычка от веревки, вполне полагаясь в дальнейшем на здравый смысл самой природы — приспичит, телок найдет матку, а та уж обязательно его признает. Еще он вынес корму остаревшему Дику и затем, разведя в плите огонь, достал укладку с разными бумагами, документами, письмами и пожелклыми квитанциями, накопившимися за долгие годы, неизвестно зачем хранимыми, и стал их жечь. Корочки от паспорта долго не поддавались, темнели, корежились, пока не раскалились докрасна и не рассыпались в огненном веселом прахе. За простыми бумагами пошли фотографии, собранные каким-то образом за несколько десятков лет в две толстые пачки. Были здесь и совсем чужие люди, особенно на фотографиях с Аленкой. Он долго всматривался в лица Мани, затем Ефросиньи, в карточку, где он был снят со своим дружком еще до гражданской Тихоном Брюхановым, красовались они в лихих кавалерийских фуражках, с вихрящимися чубами. На некоторых карточках, каким-то образом уцелевших от войны, изображения почти совсем выцвели и стерлись, и он только после долгого припоминания узнал своего первенца, сына Ивана, чуть-чуть проступал с пожелклой бумаги мальчишеский лик, и кто бы мог угадать в те годы, что занесет парня куда-то за отдаленные кордоны и сложит он свою голову в самой пустыне Сахара… А вот и второй сын — Николай, этому по своей учености тоже не сиделось на земле, вон в глазах-то какие черти, прожигает насквозь, забрался в самые выси, человеку там и быть не положено по природе, вспыхнул и сгорел, ничего от него не осталось, пылится в Густищах на площади перед вымороченной школой бронзовая фигура по грудь, а ведь мог бы жить да жить, по этой линии с Землей тоже обрублено…
Фотографии, где он сам значился, лесник безжалостно сжег, переворошил кочережкой золу и, облегченный, с давно не испытываемой душевной ясностью вышел из дому. Он больше всего боялся встретиться с Диком, с любящим и преданным существом; открыв наружную дверь, он даже слегка подался назад. Луна, висевшая над лесом, заливала кордон спелым и густым светом полуночи; лесник увидел пса, ждущего недалеко и чуть в стороне от крыльца, самый непосильный порог еще предстояло перешагнуть; подойдя к Дику, опустившись перед ним, лесник замер, и старый пес, до этого стоявший в непонятном напряжении, мелко дрожа кожей, постепенно успокоился и затих. Лесник заставил его сесть и, почесывая за ухом, никак не мог решиться на последний шаг. Здесь обмануть он не мог, нельзя было начинать еще одну, самую последнюю жизнь с обмана. Пес дышал в ладони хозяина, тепло, как бы украдкой лизнул их, вновь быстро поднял голову, глядя человеку в лицо.
— Что поделаешь, Дикой, — глухо вздохнул лесник. — Надо… сам понимаешь — надо, по-другому не заладилось… Ты уж меня, старый, не кори. Дениса жди, ты ему теперь нужнее…
Поднявшись с земли и ничего больше не говоря, лесник пошел, а Дик остался сторожить опустевший дом. Перед самой зарей, взрывая сонное оцепенение, в первый раз прокричал петух, и Дик, вновь охваченный тягостным беспокойством, обежал весь кордон, прислушиваясь к малейшему шуму и напрасно пытаясь уловить самый дорогой и вечный запах хозяина. Дик постоял на крыльце, раздумывая, сунул нос в щель между косяком и дверью и долго втягивал в себя знакомый запах дома, но и этот запах был сейчас мертв, главного в нем, присутствия хозяина, больше не было. Опустив голову, пес заторопился к воротам и стал медленно и тщательно исследовать землю вокруг. Взошло солнце, и он, все еще стараясь понять случившееся, окончательно измучился. Хозяин бесследно исчез, и старый пес от поселившегося в его сердце недоумения еле доковылял до крыльца, взобрался на него и, потоптавшись, лег, устроив тяжелую голову между лапами.
Время остановилось, солнце, казалась, неподвижно висит над головой уже многие сутки. Денис не помнил, как выбрался из глубокой каменной расщелины, он теперь даже не думал об исчезнувшем у него на глазах озере, не вспоминал и старую издохшую рыбу, вернее, боялся о ней думать, опасаясь окончательно сойти с ума от собственного бессилия объяснить случившееся; он шел теперь в каком-то горячем тумане, даже плохо различая деревья вокруг. Был момент, когда от далекого тяжкого взрыва у него вывернулась из-под ног земля; с трудом удержавшись на ногах, он постоял, отдыхая, теперь уже и не пытаясь что-либо понять, и побрел дальше, почти на ощупь, вслепую обходя валежины и кусты. И, однако, он постепенно приближался именно к кордону, словно кто-то невидимый направлял, поддерживал и оберегал его — зов родного дома жил в нем сильнее всего остального; ему было необходимо дойти, и тогда все плохое отступит, время потечет извечным своим ходом, солнце станет низиться, придет ночь и принесет прохладу — держался он и жил одним внутренним чувством конца пути; он видел почему-то перед собой дверь, ведущую с крыльца в просторные сени, разделяющие большой дом на кордоне на две половины — зимнюю и летнюю; ему теперь все чаще казалось, что эта тяжелая, связанная из трех широких дубовых досок дверь уже близко, уже совсем перед ним, и он последним усилием протягивал руку, намереваясь толкнуть ее и войти, но рука его пропадала в пустоте, и тогда он вновь делал шаг, второй, третий… Затем стали происходить и совсем непонятные вещи; кордон находился рядом, он это чувствовал безошибочно, но лес теперь неузнаваемо переменился; Денис совершенно ничего не мог припомнить. Деревья казались другими, росли как-то иначе, даже знакомые низины, ручьи и взлобки исчезли, земля пугающе выровнялась. Среди деревьев замелькали смутные тени; присмотревшись, он окончательно озадачился, из глубины леса поспешно, не сторожась, двигались лоси, семьи кабанов; бесшумно промелькнула пара воронов, с дерева на дерево, и все в одном направлении, перелетали сороки, сойки, сизоворонки; мелкой живности Денис не замечал. Он решил не оглядываться по сторонам; всякая несуразица, звери, бредущие по лесу люди просто мерещились от слабости, и, если он хотел все-таки добраться до места, он не должен обращать на это внимания. Чушь, бред, сказал он себе упрямо, просто от потери крови он уже в каком-то ином измерении…
Он приказал себе идти не торопясь и, пережидая приступы слабости, останавливался и отдыхал. Теперь его мучила предстоящая встреча с дедом: чувство вины росло, и это помогало ему идти. Еще ближе к кордону он вспомнил о мотоцикле; на нем часа за два, не торопясь, можно добраться до города, до больницы, хотя теперь разорванное плечо его мало тревожило — еще больше вздувшись, оно почти онемело. Солнце по-прежнему светило ярко и сильно и стояло в середине неба, правда, появились редкие и высокие облака. И лес стоял безмолвно, птиц не слышалось, хотя он по-прежному то и дело замечал какие-то проносящиеся мимо тени, и только однажды что-то с судорожным трепетом свалилось прямо к его ногам. Он остановился, приглядываясь, и узнал сизоворона, ударившегося, очевидно, в полете о ветви дерева и теперь тяжко поводившего крыльями и головкой, с поврежденным, кровоточащим глазом. По-прежнему не в силах что-либо понять, Денис с трудом выпрямился, поднял голову. Стайка дроздов беспорядочно металась в ветвях старого дуба — пытаясь лететь, птицы натыкались на ветви, цеплялись за них, хлопали крыльями, срывались и опять старались подняться в воздух. И тогда он понял, что птицы слепые, но почему-то все, как одна, они рвутся в сторону кордона, к открытым полям и степи.
Пересиливая желание лечь и обо всем забыть, он побрел дальше, и вскоре увидел пасущуюся корову, рядом с ней теленка, и узнал их, тут же пощипывала траву крупная пегая кобыла Машка, еще до его ухода в армию сменившая состарившегося и обезножевшего Серого. Кобыла мерно обмахивала бока и спину длинным хвостом; заметив вышедшего из леса Дениса, она настороженно подняла голову, посмотрела и тихонько заржала. А он, все так же замедленно передвигаясь, придерживаясь здоровой рукой за изгородь, в удобном месте перебрался через нее и вышел к дому со двора.
Заставляя себя держаться прямо, он оторвался от стены, шагнул за угол дома, и вот тут природа тягостных, неясных до сих пор звуков, озадачивших его еще раньше, прояснилась; с крыльца, не переставая выть, сполз Дик и, усевшись, даже не усевшись, а как-то полуприпав к стертой широкой дубовой ступеньке, по-волчьи задрав голову, вновь завыл, и ошарашенный Денис застыл на месте. Дойдя до особо щемящей, непереносимой ноты, Дик оборвал и неловко словно парализованный, с виноватыми слезящимися глазами пополз к Денису. И тот, уже все окончательно поняв, мучительно повел головой вслед за понесшимся куда-то небом, вершинами леса; волосы у него на голове тронула легкая изморозь — оберегая разодранное плечо, он, помогая себе здоровой рукой, опустился на колени, затем завалился на бок. В глазах постепенно прояснялось, и он увидел острую морду Дика и его плачущие темные, непроницаемые глаза. И даже крупные собачьи слезы уже не могли потрясти Дениса сильнее; ему необходимо было встать и войти в дом, в зияющий черный провал открытый двери. Едва он подумал об этом, тяжесть во всем теле, словно налитым свинцом, усилилась, ему показалось, что он не выдержит, исчезнет в этой тьме, застилавшей ему голову, но он был молод и, пережидая, крепче, плотнее прижимался к земле всем телом, животом, грудью, головой.
— Ничего, Дик, ничего, — пробормотал он, с трудом различая в расползавшемся тумане собачьи глаза; немного прояснилось, и он, заставив себя подняться, стиснув зубы и пошатываясь, побрел к высокому крыльцу. Он должен был выполнить трудный мужской долг — перешагнуть порог опустевшего дома. Кровь сильно стучала в ушах. Напившись в сенях воды, он медленно осмотрел все углы — деда нигде не было. С улицы послышались голоса, и он, пошатываясь, опять выбрался на крыльцо. Ему показалось, что людей собралось довольно много, но различал он их смутно; что-то тревожно спрашивая, дядька Егор из Густищ помог ему опуститься на лавку, стал осматривать плечо и распоряжаться. «Зверь порвал, — доносилось до Дениса словно из какого-то вязкого, горячего тумана — В больницу надо… срочно… Вот тебе и Феклуша… налопотала… Где же сам-то старик?»
Голоса отдалялись, затухали, но Денис чувствовал заботливые и бережные руки; к нему еще прорвались какие-то жалобные, скулящие звуки, затем сверху вновь нависло широкое, доброе, страдающее лицо дядьки Егора. Людей на кордоне становилось все больше, Денис узнал тетку Валентину, деда Фому, то и дело вытиравшего мокрые глаза, неожиданно увидел и лесничего Воскобойникова, спешившего к крыльцу, и тут же, окончательно озадачивая, послышался гул тяжелых бронетранспортеров. Вначале ему показалось, что он бредит, знакомые и незнакомые лица путались, плыли, и он постарался из всего мельтешения выделить и удерживать перед собой лицо лесничего. К самый воротам кордона подкатили два бронетранспортера, появилось и несколько санитарных машин. Солдаты в респираторах, в защитных очках и в каких-то блестящих длинных и широких накидках стали цепью окружать кордон. К Денису пробрался Дик и сел рядом, положив ему голову на колени.
— Здравствуй, солдат, видишь как, — с мелькнувшим в глазах страданием, словно жалуясь, тихо уронил лесничий, пожалуй, единственный из собравшихся здесь знавший меру случившегося. — А я тебя ждал, деда подменить. Старик куда-то пропал, не вижу…
— Скорее, скорее, — торопливо зашептал Денис, опасаясь упустить главное. — Птицы… в лесу… птицы слепые… Игнат Назарович… совсем слепые…
Он не услышал ответа, хотя еще видел беззвучно шевелящиеся губы лесничего; почти сразу же его лицо отодвинулось и растаяло. Пощупав пульс, Воскобойников стал звать врача; его крик подхватил кто-то еще; кинулся к солдатам Егор Дерюгин, хотя к нему навстречу слаженно по-военному уже бежали санитары с носилками. И тут лесничий заметил среди густищинцев незнакомую фигуру в летнем парусиновом костюме, чем-то неуловимо отличавшуюся от остальных; едва привлекший его внимание человек повернулся, лесничий рванулся к нему, но тотчас был остаповлен предостерегающим жестом, понятным любому; человек в парусиновом костюме отстраняюще выставил ладонь, просил не подходить к нему и не узнавать его, но затем, все так же молчаливо озираясь, отозвал лесничего в сторону и негромко сказал:
— Прошу вас, ничему не удивляйтесь и ничего не спрашивайте… Мне нужен хозяин кордона…
— Не знаю, ничего не знаю, след заглох, сам ищу, — быстро сказал лесничий. — Правнука у него медведь помял, Иван Христофорович… Вы-то сами…
— Мрачные времена, страшные времена, — быстро оборвал Обухов, сторожко кося по сторонам, затем, прищурившись на лесничего, читая и подтверждая его скачущие мысли, добавил: — Да, да, Зежский кряж, я там должен быть… Мой ад, моя вина тоже… выход отыскать можно только там.
— Опомнитесь, Иван Христофарович, я солдат крикну…
— Вы не станете этого делать! Я — русский ученый и останусь им до конца… Вас зовут, идите! — внезапно повысил он голос, и лесничий, невольно подчиняясь, оглянулся, увидел исчезавшие в чреве одной из санитарных машин носилки с Денисом и окончательно растерялся. «Да не может быть, — говорил он потом, отыскивая взглядом человека в парусиновом костюме и нигде не видя его. — Померещилось… Академик Обухов? Откуда? Петр Тихонович писал о его высылке куда-то за Астрахань… Чушь, чушь, конечно, померещилось в такой кутерьме.
Рассыпавшись в частую цепь, солдаты, сжимая кольцо, теснили людей к автофургонам. От убивающего бессилия удержать рушившееся привычное и здоровое равновесие мира лесничий, ненавидя сейчас себя за бессилие, с горящим в мозгу шепотом: «Птицы слепые… совсем слепые…» — вернулся к крыльцу, опустился на ступеньку рядом с Диком и отупело, уже совершенно ничего не чувствуя и не жалея, стал наблюдать за смутно мельтешившими по всему кордону людьми, они уже почти совсем не различались, и, начиная понимать, лесничий стал ощупывать ступеньки крыльца, голову Дика, свои ноги. Он больше ничего не видел, а только шум, крики, грохот двигателей усилился — и тогда он, подняв отяжелевшие руки, крепко зажал уши, окончательно отделяя себя от взбесившегося мира.
Страсти по Петру
Мера за меру и око за око, говорит древняя языческая мудрость, и далеко ли ушел от нее двадцатый, перенасыщенный ядом просвещения век?
Мысли Пети вялые, мутные; он старается как-нибудь забыться, забраться за тридевять земель, но ничего не получается. Зачем ему целое человечество и затхлая, деградирующая цивилизация? И самого себя тоже нечего жалеть, думает он, так вышло.
В тюремную больничную палату (часть приземистого двухэтажного барака из цементных блоков) на тридцать коек откуда-то проникал слабый свет, отдающий красноватой мглой, рассеянный как бы и в самом мозгу и проникающий пространство вокруг тупой, постоянной болью. Петя уже словно заранее и давно знал такое чувство и состояние; больше того, он знал, что за этим стоит даже нечто большее, о чем нельзя и нехорошо прямо думать. Это было ощущение своего перехода в иную, неизвестную жизнь — в окончательную смерть он все-таки тайно не верил. Теоретически он знал (не раз сам сталкивался со смертью людей и с их похоронами), что смерть придет и что она необходима для равновесия самой жизни, и вот только в свою личную смерть он тайно не верил, он ведь еще далеко не изжил себя, он это твердо чувствовал и знал и теперь в глубине души надеялся на случайность, все повернувшую бы в обратную сторону. И началось несерьезно, разгоряченный напился из ледяного таежного ключа после трудной работы. Крепкая попалась скала, гранитный монолит, взорвать ее почему-то было нельзя — предстояло лишь вручную проложить двухметровой глубины траншею. Со звоном крошились сверхпрочного закала кайлы, осколки гранита секли лицо, руки, простригали даже грубейший казенный брезент, штаны из него до гнойных язв натирали в паху, в поясе, для мягкости, для обретения уважительного отношения к человеческому телу их время от времени нещадно колотила каким-нибудь поленом, палкой, иногда если хватало сил, топтали и терли ногами. Мягкости казенная одежда не обретала, во всем была виновата пуцелановая пыль на камнедробилках; выжигаемый затем из этого сырья цемент шел все дальше и дальше на север и восток для строительства тысяч и тысяч новых предприятий и производств, трудовых лагерей, заводов, газовых, нефтяных комплексов, всевозможных шахт и карьеров, приисков, серебряных, урановых и молибденовых рудников — в них самого здорового человека хватало лишь на полгода, а то и меньше; только теперь Петя осознал всю толщу, весь искореженный фундамент, поддерживающий совершенно изъеденное изнутри раковой опухолью насилия и принуждения тело государства; безжалостно сожрав и переварив собственное крестьянство, развратив целые поколения химерическими надеждами, призывами к обещаниям, оно могло теперь лишь поддерживать свое существование почти бесплатным, бесправным и непроизводительным трудом, и Петя хотел бы только одного: еще застать начало развала этой фантастической экономики, фактически положившей в свою основу древнеегипетский опыт в худшем его варианте, даже древние египтяне старались как можно дольше не пожирать собственных внутренностей, и теперь Петя, вспоминая многие мысли и суждения Обухова, был убежден в исторической неправомерности случившегося; в русскую цивилизацию проник и разрушил ее, уродливо перестраивая саму генетическую основу, какой-то инородный, злокачественный вирус, и даже огромный народ так и не смог с ним справиться, не смог пока выработать противоядия или хотя бы активных методов борьбы. И хорошо, если бы он сейчас ошибался в своих выводах, хотя что толку думать об этом? Он ведь никогда не узнает результата, да разве в этом суть?
Мысли, неожиданные и разные, порой поражали и его самого; обрывки экономических теорий и утопий переплетались с реальностью и помогали ему отодвинуть подальше самое близкое и невыносимое; главным по-прежнему оставались несколько роковых глотков студеной воды, сделанных им после многочасовой упорной, изнурительной на износ работы. Интересно, что он кому хотел доказать? Себе? Товарищам по бригаде? Конвоирам? Цементным начальникам? Обратить на себя их внимание? Может быть, и это, ведь никогда нельзя ни за что, даже за себя, поручиться… Вот вслед за другими напился из ледяного ключа, и что теперь Россия, он сам, Лукаш, академик Обухов? Ложь прежней жизни отступила, рассеялась, начался обратный отсчет, и он теперь безошибочно знал, что вся его жизнь была лишь жалким, вымученным подобием подлинной жизни, в обществе, сверху и донизу пронизанном ложью, его жизнь и не могла быть иной. И все-таки какой-то упрямой частицей своего существа, своего «я» он не мог согласиться со столь суровым и окончательным приговором; все-таки он никогда ни разу не солгал в своих убеждениях, не назвал белое черным или наоборот, и все-таки это была его единственная жизнь — другой не будет. После него останется сын, родные и близкие не дадут ему погибнуть; попытавшись вызвать в своем воображении уморительно серьезное на присланной Олей фотографии личико сына, он закрыл глаза. Ничего в душе у него не шевельнулось, сын так и не увидит отца, вполне вероятно, станет его, отвергнутого, сгинувшего где-то в Сибири, стыдиться в собственной жизни. И он опять удивился, насколько безразличны ему мысли о сыне, они опять-таки не являлись главным вопросом, мучившим его последние дни и часы, и были очередной ложью. А главный вопрос, вопрос бессмысленности происходящего с ним, вопрос его ухода (куда? зачем?) оставался без ответа. Очевидно, сам человек был тоже жалкой ложью, насмешливой улыбкой природы, к чему же тогда такая острота обратного отсчета, такое цепенящее наслаждение ухода?
Почувствовав на себе упорный взгляд соседа еправа, Петя с усилием приподнял отяжеленные болезнью веки и слабо улыбнулся; соседом справа у него был сейчас презанятный человечек небольшого роста Максим Игнатьевич Чичерицын, бывший киномеханик из небольшого подмосковного городка, с вечно задиристым, насмешливым выражением лица; он рассказывал Пете, как вначале следователи и судьи, надзиратели и конвоиры сердились и покрикивали, приказывая ему перестать скалиться и валять дурака, затем привыкли и стали от однообразия и серости жизни словоблудить и подтрунивать над ним, и здесь уж каждый изгалялся от души, выворачивая наизнанку весь свой чердак. У Чичерицына была странная врожденная особенность в строении губ, какой-то неуловимый излом, придававший всему его небольшому острому лицу с глубокими зелеными глазами насмешливое (Петя думал, что скорее ироническое) и даже вызывающее выражение, и если он хотел облагородить свою своевольную физиономию серьезностью и уважительностью, ехидный излом в губах у него тотчас усиливался и весь облик освещался сатирически; самое главное, Чичерицын знал об этом и старался, когда, по его мнению, это нужно было, всячески спрятать свой недостаток, и чем больше старался, тем больше страдал от людей. Чичерицын говорил, что род их идет еще из опричников царя Грозного и что за это весь их род по мужской линии проклят. В сущности мягкий ижалостливый человек, он из ревности в каком-то помрачении убил жену; вроде и не сильно прижал, а затем, сам себе не веря, в отчаянии тряс за плечи, пытался выровнять лицо, но оно все время заваливалось; Чичерицын так никогда и не узнал своего соперника, успевшего выскочить в окно, и страдал от невыносимой неизвестности, и чем больше страдал, тем ехиднее и вызывающе становилось выражение его лица. Теперь уже он костерил себя на чем свет стоит, проклиная свою неисправимую вспыльчивость, но когда его фотографировали рядом с жертвой, он чрезмерным старанием быть серьезным сумел сотворить из своего лица нечто неописуемое; его насмешливое презрение изливалось из каждой поры, из бровей, из складок на узком высоком лбу. Вначале молодой следователь в полнейшей растерянности задумался, затем сердито прикрикнул, требуя не паясничать.
— Не могу, — с глухой ненавистью сознался Чичерицын.
— Почему? — теперь уже откровенно заинтересовался следователь, начиная понимать, что перед ним приоткрывается одна из неизвестных ему до сих пор в практике аномалий.
— Тавро на мне выжжено, нечистый приложился. — честно ответил Чичерицын, — не справиться…
— Быть того не может…
— Еще как может, — сказал Чичерицын, разводя руками, вполне реалистически сознавая свое недалекое будущее и ненавидя себя за это. И раньше, и после суда, отправленный в предгорья Алтая, он хорошо и безропотно работал; после трех лет он написал прошение о переводе отбывать законное наказание в места, не столь отдаленные от Москвы, куда-нибудь хотя бы в Пермскую область; у него оставались в Подмосковье двое маленьких детей и восьмидесятилетняя мать, и он хотел хоть изредка их видеть и влиять на воспитание детей.
Зная историю Чичерицына и симпатизируя ему, Петя почему-то стал думать о нем; ощущая сейчас на себе долгий и упорный взгляд соседа, приподняв горящие веки, Петя взглянул в его сторону, и Чичерицын, стараясь не выдать своего знания и своей жалости, тоже весело глянул в глаза Пети и укорил:
— Столько раз про себя рассказывал, а вот про тебя ничего не знаю… Ни рода, ни племени…
— А зачем? — откуда-то издали, из начинавшего оседать марева жизни, отозвался Петя, понимая желание и бессилие своего странного соседа помочь и ободрить и благодарный ему.
— Меня голубикой угостили, — не сразу сообщил Чичерицын, потянулся куда-то за изголовье топчана, и в руках у него оказался небольшой газетный кулек — сквозь несвежую бумагу проступали лиловатые пятна. — Говорят, ягода для крови хороша, вроде каждый десять стаканов в год должен употребить. Кровь, говорят, на целый год очищается.. Хочешь голубики, рот освежить?
Петя с усилием улыбнулся сквозь свое марево…
— Не надо, мне теперь хорошо.
— У тебя совсем никого нет? — опять пожалел сосед, и от какой-то подступившей к сердцу нехорошей тоски в лице его все перемешалось, изобразилось нечто совсем фантастическое; Петя знал его и не обиделся.
— Теперь уже никого нет, — спокойно, уже без всякой задней мысли делясь самым сокровенным, ответил он, и от его взгляда, очистившегося от скверны жизни и ставшего пезамутненным, пугающим своей детской ясностью, Чичерицын обиженно засопел, дернул на себя грубое казенное одеяло с грязно расплывшимся больничным клеймом по краю и тотчас, не в силах унять боль, преодолеть свое знание и подлое человеческое любопытство, не удержался:
— А ты поешь, сосед, поешь, — попросил он и сам внутренне вздрогнул, хотел что-то добавить, задохнулся; лицо у него пошло волнами, он сморщился, эаморгал, заторопился, стал совать Пете кулек с голубикой. — Поешь, поешь… Знатная, право, ягода… А? Как?
— Сейчас хорошо… Жить страшнее, — просто сказал Петя, глядя на соседа по палате из-за какого то, уже недоступного другим порога, и поправился: — Иногда… страшно было жить, а сейчас — нет, не страшно. Теперь — хорошо.
— Может, доктора позвать? Может, укол сделать?
— Нет, ничего больше не надо, — отказался Петя, закрывая глаза, отворачиваясь лицом в другую сторону и погружаясь в свое прежнее состояние сосредоточенности, ожидания и покоя. Он сказал правду своему соседу с таким необычайным выражением лица, в душе доброму и даже робкому человеку, — жизнь для Пети сместилась и перешла в иную плоскость, вернее, такая жизнь, как она есть для здорового человека, со всеми ее откровениями и потребностями, для него завершилась, хотя в нем естественный и простой процесс нормальной и здоровой жизни еще только продолжал затухать, вызывая его досаду и мешая ему окончательно приблизиться к главному. Так, совсем некстати ему юспомнился Лукаш, затем суд, оплывшее, мертвое лицо матери, пытавшейся всем своим видом подбодрить его после вынесения приговора; и лицо жены мелькнуло в памяти — как-то бледно, невыразительно, оставив его совершенно равнодушным. Но что-то же подтолкнуло его вспомнить именно этот период в жизни, и он, заставив себя сосредоточиться, стал вновь перебирать все случившееся с ним. Опять ничего особенного не вспомнилось, и только несколько спустя, после нового усилия, из небытия явилось еще одно женское лицо, и Петя впервые за последние сутки ощутил, пожалуй, последний, болезненный укол жизни; пробудилась и заныла уже успокоившаяся было душа, и он, не мигая, смотрел перед собой в потолок. Необходимо пройти и этот рубеж, говорил он себе, ведь и это будет кровить, пока не уляжется в отведенное ему место в душе, не получит объяснения и отпущения. «Что, друг, больно? — спросил себя он в детской обезоруживающей откровенности — явном признаке необратимости происходящего. — Больно, больно, — ответил он сам себе. — Даже не ожидал… Вот выплыло. Надо пройти, перешагнуть… Из-за нее вся моя жизнь изломалась, пошла какими-то глиняными трещинами… И опять никакой границы… Слепая, нерассуждающая ненависть в ответ на любовь. Надо потерпеть, перешагнуть последнее…» — сказал он себе, стараясь вернуться в привычную и покойную атмосферу, но на этот раз не получилось. Жизнь в нем еще не хотела отступать и сдаваться, в памяти с необычайной ясностью вновь прошло последнее заседание суда, замелькали знакомые и незнакомые лица, близкие, страдающие и невыносимые, и чужие — любопытствующие, жадные, вспомнилось свое затаенное ожидание приговора, попытка скрыть это ожидание….
Лера Колымьянова появилась в вале суда в завершающие минуты — оставались почти пустые формальности; мать, несомненно, пустила в ход все свои связи, Лукаш поправлялся, хотя и стал бояться открыто ходить по улицам, но и это, как уверяли врачи, должно было у него выровняться и прийти в норму, защитник превзошел сам себя, и можно было отделаться годом, двумя, не больше; и сам он, и другие к этому и готовились.
Петя попытался оборвать ненужный, мешавший самому главному поток и опять не смог; со странным, в чем-то даже болезненным и неприятным для себя любопытством он словно наяву прошел это истязание прошлым снова и даже в какой-то мере принял в нем участие. Так бывает, приходит момент — и даже самый умный человек проваливается в нерассуждающую страсть, стихия захлестывает его, помрачает разум, и остается одна слепая ярость, непреодолимое желание настоять на своем, или же он впадает в другую крайность, старается покрепче зажать уши и ничего не слушать. Но как же можно было иначе? Мал оказался культурный слой, как выразился однажды Обухов? Чепуха, чепуха, живой человек даже в падении выше манекена, за естественный, сумасшедший порыв нельзя осуждать…
Самое появление Леры в суде стало неожиданностью; она не проходила свидетелем по делу, она была лишь необходимой подставной фигурой в развернувшейся игре, в такой вот убежденности и заключалась его последняя и роковая ошибка. Все было не так, все имело другие корни. Лера Колымьянова являлась реальной самобытной силой, частью жизни, и сама жизнь включила ее в эту затянувшуюся игру, просто у него у самого не хватило ни воли, ни характера оборвать вовремя. И едва она появилась в зале и послышался ее голос, сдержанный, размеренный от скрытой ненависти, все переменилось, и, когда адвокат внес протест, судья тут же его отклонил. Судья был в душе демократом, знал по ряду дел самого Брюханова-старшего, и новый поворот заинтересовал его; Лере Колымьяновой дали слово.
— Перед вами безнравственный, аморальный человек, он не заслуживает снисхождения… Заявляю, он намеренно, целенаправленно всю жизнь преследовал Александра… Лукаша… Александра Викторовича Лукаша, завидовал его таланту, энергии. Перед вами потенциальный неудачник, маменькин сынок… да, да, да, злобный завистник. Ведь здесь никто не спросил: вы, Брюханов, намеренно хотели убить Александра Викторовича Лукаша — блестящего, многообещающего молодого ученого? Отвечайте! Да или нет? Разумеется, вы его не убили, вы его только искалечили, добились своего и убрали талантливого соперника… Но вы ведь намеренно хотели больше — убить человека?
И Петя не слышал больше ни ее слов, ни шума в зале, ни что-то требовавшего защитника, ни голосов со скамьи для родственников; он видел лишь яркое пятно лица Леры Колымьяновой, видел ее шевелящиеся губы и главное — ее глаза, устремленные в его сторону. Он до сих пор даже не подозревал о такой ненависти, его, правда слишком поздно, потрясла мысль, что эта женщина, посланная ему какой-то высшей силой, всю жизнь была ему карой, она всегда, если того хотела, добивалась своего, не Лукаш ее направлял, — он сам был в ее руках слепым орудием, но тогда зачем же она сейчас здесь? Отчаяние, взрыв горя и ненависти… зачем она здесь? Что она мелет? Если уж и можно Лукашу в чем позавидовать… Стоп, стоп… дальше нельзя, дальше некуда…
Он заставил себя больше ничего не слышать и не видеть; на этот раз его посетило подлинное прозрение, и оно оказалась весьма неожиданным и больным, он даже физически ощутил ноющий, недолеченный в свое время зуб; боль ударила в мозг, в глаза и пропала. И он опять ничем не выдал себя. На этот раз Лукаш ее, эту стерву, не посылал, она сама в своей безрассудности не виновата, просто есть люди, несущие в себе избирательное разрушение, для них самих это и правда жизни, и ее смысл. Она так безоглядно любит Лукаша? Все может быть, только здесь не похоже, она ведь совсем обезумела… Просто находит выход заложенная в ней сила разрушения, она и сама о ней не подозревает. Если покопаться основательнее, выплывут и причины, только времени нет — поздно… И причину он знает, причина понятна, ведь еще задолго до первого своего замужестиа она уже была с ним, и случилось это в старой брюхановской квартире… Отец улетел в свою очередную командировку, мать тоже куда-то уезжала… сам он павлином распустил хвост, выставил вино, дорогие конфеты. Лера, тоненькая-тоненькая, с отчаянной решимостью в глазах, встала, обошла стол, положила горячие ладони ему на плечи, что-то растерянно сказала, и он, ничего не расслышав от шума крови в ушах, прихватил ее руку щекой, потерся о нее, затем поцеловал. Вот тогда и случилось, и завязалось, и длилось до самого конца, сын же кремлевского портного, сам Лукаш были для нее только средством мести… Он прошел мимо чего-то невыносимого. Сейчас поздно, она в своей новой роли, таких женщин сколько угодно; она и сейчас уверена в своей власти над его душой, но такого удовольствия он ей не доставит. Она ведь добивается одного, ему стоит лишь встать и крикнуть: да, да, я давно хотел уничтожить эту подлую человеческую разновидность — своего бывшего однокашника, да, вполне осознанно тряхнул его, зря только вполсилы, высказываю по этому поводу глубочайшее сожаление… Нет, подобною удовольствия он ей, этой породистой самке в таком ангельском обрамлении, не доставит… Боже, неужели… неужели бессмысленная борьба кончилась и он только теперь свободен? Только теперь? Но свободен. Свободен! Наконец-то свободен! Больше никакой уступки, ни одного шага назад… Что она еще там говорит, если он ее не слышит и не хочет слышать? Ну, проиграла и успокойся, умей уйти с достоинством…
Он сейчас страдал и переживал именно из-за ее поражения; ведь он один знал истину, он ничем не мог ей помочь, — пришла свобода. В зале вновь взметнулся шум, и затем закричали сильнее, но он не сразу взял себя в руки. Повернув голову, он слегка отодвинулся. Лера, приблизившись к нему почти вплотную, сцепив на груди тонкие, бледные пальцы (лишь невысокий барьерчик разделял теперь их), смотрела на него с какой-то вздрагивающей вымученной улыбкой, она пыталась что-то сказать и не могла — губы ее не слушались.
— Прости, — неожиданно уловил он ее глухой голос, — я не хотела… Я тебя каждый час, каждую минуту ждала… Не смей… не смей так смотреть, будь ты проклят… ненавижу… всегда ненавидела…
Неожиданно, словно надломившись, она обвисла на барьерчике, белое пятно ее лица косо метнулось; краем глаза Петя видел полуоткрытый от изумления рот у солдата, стоявшего рядом с ним, и когда Леру Колымьянову, наконец, приподняли и повели, Петя опять-таки ничем не выдал себя и, крепко зажав руки в колени, не сдвинулся с места.
Прислушиваясь, Петя по-прежнему глядел в серый цементный потолок; пожалуй, надо было тогда дать себе волю и кое-что сказать, нет, не ради утешения Леры или Лукаша, просто так, сказать, и все, ведь утверждают пророки о материализации высказанного слова, обретающего силу в добре или зле, хотя все заставившее его вдруг вернуться в далекую и ненужную жизнь, и мысли, связанные с этим, вероятно, необходимым возвращением, сущий пустяк в сравнении с предстоящим, с необходимостью окончательно подготовиться.
Из угла зарешеченного высокого окна полетел через всю палату луч света, четко обозначая столб мельчайшей пыли, прилепился прямо над изголовьем у Чичерицына; солнце светило через жиденькую листву какого-то дерева — некоторое время Петя слышал шелест солнечного луча по стене, затем незаметно забылся. Его разбудила сестра, пришедшая в очередной раз колоть пенициллин; она родилась в одном из женских колымских лагерей еще до войны, там же, по сути дела, и выросла; Петя пристально поглядел ей в глаза, и она, чувствуя что-то неладное, забеспокоилась. Вскоре после нее пришел врач, послушал Петю, легонько постукивая пальцем по запавшим ребрам, и, многозначительно поднимая брови, казенно спросил, где и что болит, но Петя ничего не отвечал, лишь с открытым упреком за ненужную ложь посмотрел на врача, и тот, не выдержав, деланно прокашлялся и ушел. Солнечный блик на стене передвинулся ближе к Пете, и пришло время обеда. Чичерицын постарался уговорить своего соседа поесть каши и в конце концов все-таки заставил его проглотить кисловатую воду из кружки с компотом. Чичерицын ворчал и насмешливо морщился, заводя бесконечный разговор о своем праве перебраться за Урал, поближе к Москве, воспитывать собственных детей, и как-то незаметно подобралась ночь; Петя старался больше не прислушиваться к происходящим в себе переменам. Они шли теперь сами собой, с наступлением ночи с него словно окончательно сползла его телесная, сковывающая его до сих пор оболочка. Не чувствуя ни тела, ни боли, он теперь все видел и знал безошибочно и точно, знал, что ему дана еще целая ночь и что никакой боли больше не будет, начнется лишь одно непрерывное открытие и он сам не уйдет, пока оно не завершится.
Поздно вечером все та же пожилая сестра с добрыми и жалеющими глазами сделала ему очередной укол; встретив его горячий взгляд, внутренне вздрогнув, она опустила на мгновение глаза, затем, пересилив себя, бодро сказала:
— У тебя теперь пойдет на поправку, я знаю, вот посмотришь…
— Да, я тоже знаю это, — ответил он, вкладывая в слова свой особый, смысл, и в груди у него было теперь непривычно тихо и свободно.
Закончив вечерние процедуры, сестра зашла к дежурному врачу, устало присела на табуретку и, подождав, пока врач, еще молодой, но уже с рыхловатым нездоровым лицом, не оторвался от бумаг, сказала:
— Из четвертой палаты… Брюханов… В изолятор бы его, места нет, двое отходят… Может, Андрей Степанович, уголок какой отзанавесить…
— А-а, тот… я смотрел… да… надо полагать, скоротечная саркома, — буднично сказал врач, устало потирая нывший висок и недовольный ненужным и бессмысленным вторжением, бессильным что-либо изменить в привычном течении ночного дежурства; всего несколько лет назад он тоже еще бросался на амбразуры, мечтал о большой научной карьере, о столичной клинике, даже о собственном направлении в онкологии, и теперь вот, скатившись до лагерного эскулапа, в свободное время потихоньку пил, каждый раз накладывая на себя зарок Непременно завязать, расторгнув договор, как можно скорее унести ноги, а главное, душу, из этого гиблого места; он даже намечал число и месяц, но проходил и один срок, и другой, а все оставалось по-прежнему. И сестра, хорошо знавшая об этом и сама мечтавшая изменить свою жизнь, переселиться при первой возможности на родину своих родителей в Краснодарский край, сморщилась и достала платочек. Врач с некоторой ироничностью глядел на нее поверх очков.
— Ай, Андрей Степанович, Андрей Степанович, — устало уронила она. — В наших отдаленных, проклятых Богом местах сердце у человека леденеет… уже и не сердце, всего лишь орган…
Вельяминов снял очки, бросил их на бумаги.
— По-прежнему тихий? — спросил он, возвращая разговор в привычное русло. — Вы же опытный человек, Мария Николаевна, ну, какой там уголок? Куда мы его денем… Сюда, что ли? Вы же понимаете — нельзя…
— Мне думается, вы ошиблись, Андрей Степанович, — сказала неожиданно сестра, продолжая думать о своем. — Если бы он сразу попал в подходящие условия, он мог бы прожить долго… Теперь конечно… Я видела таких, им просто нечем больше жить, вот и весь диагноз… Я еще никогда не видела такой силы разрушения… а уж повидала. Да, тихий, Андрей Степанович, у меня хранились несколько ампул морфия…
— Вы в своем уме, Мария Николаевна? Без назначения?
— А вы можете назначить морфий?
— Морфий? Здесь? Вы что, решили пошутить? — в свою очередь обиделся Вельяминов, быстро надел очки, вновь стащил их с себя, нахохлился и стал смотреть куда-то в угол. Наверное, на такой женщине, как эта сестра, будь она помоложе, можно было бы жениться, и тогда само собой разрешились бы многие проблемы; несмотря на отвратительный, неслыханный цинизм жизни, вот она, эта маленькая, рано поседевшая женщина, не имеющая ни мужа, ни детей, делает свое и верит в свое предназначение здесь, в сплошном удушье, и ведь будет верить до конца.
— Хорошо, — примирительно сказал Вельяминов, — раз он сейчас под морфием, я его утром еще раз посмотрю. Интересно, есть у него кто-нибудь?
— У него большая родня в Москве, мать, сестра… жена, маленький сын… Мать с отцом из Холмской области… Тоже судьба… сын министра, правда, папаша давно погиб… Он сейчас деда ждет, бредит, говорит, дед родной где-то совсем рядом, вот-вот придет… Я слышала вчера о какой-то ужасной катастрофе в тех краях, как раз в Холмской области. — Говорят, зарубежные радиостанцни передают, что-то с атомными делами связано.
Выслушав, ощущая в груди оживший, сосущий червячок, Вельяминов не стал больше ни о чем спрашивать, отдал сестре журнал назначений и, оставшись один, некоторое время стоял у маленького, перехваченного решеткой окна, затем быстро подошел к небольшому шкафчику, распахнул его, выпил мензурку спирта, привычно задержал дыхание, глотнул воды из графина, накинул на плечи теплый, на подкладке плащ и вышел во двор. Ночь выдалась ясная, тихая; легкой, зубчатой, невесомой, как это бывает здесь только в прозрачную летнюю ночь перед самым появлением луны, высилась горная цепь, ее вершины отдавали тусклым серебром, и с них неслышно стекала какая-то гармония, какая-то особая вечная музыка и на безмолвную тайгу, и на угомонившиеся гнойники лагерей, где одни люди унижали и низводили до степени животной покорности других людей, на редкие здесь язвы новостроек, уродующих землю, на многочисленные и светлые пока реки и озера, на затерянные в пустынных пространствах, почти незаметные нити дорог. Вельяминов закурил, дождался выхода луны, выкатившейся в небо над краем тайги, там, где обрывалась черная цепь. Давно зная себе цену, Вельяминов никого, кроме себя, и не винил, не оправдывал себя неблагоприятными жизненными обстоятельствами, завистью и кознями, казалось бы, самых близких друзей; последнее время он любил повторять, что Бог дал, Бог и взял, но вот теперь, когда из-за горных отрогов выплыла почти полная луна, с ним что-то случилось, и туманная философия, к которой он, спасаясь, вновь было обратился, оказалась бессильной. «Спирт? — спросил он себя, стараясь определить причину. — Пожалуй, нет… она, Рогожина, странная сестра, альтруистка, Божий человек, рядом с ней начинаешь ощущать себя прочнее, как-то нестрашно рядом с ней жить становится. Осталось восемь месяцев, кончится соглашение, нельзя здесь быть больше, даже лишнего часа… Гной засасывает… болото, болото, отвратительное, ненасытное болото, дальше свою собственную закомплексованность терпеть нельзя, здесь человек превращается в какую-то зловонную жижу, таких, как эта Рогожина, — единицы… вероятно, такой больше и нет, сотворила природа в единственном экземпляре в укор остальным…»
С гор густо стекали тишина и знобящая свежесть — Вельяминов плотнее запахнул плащ. Возвращаться в пропахшее лекарствами, душное помещение не хотелось, но дверь приоткрылась, и его позвали. В изоляторе один из больных отходил; длилась обычная рабочая ночь, и Вельяминов по длинному серому коридору прошел в изолятор, где ему, собственно, и нечего было делать; бегло осмотрев скончавшегося, пожилого худого человека лет пятидесяти пяти, он приказал убрать его в покойницкую и вернувшись к себе, отыскал нужные бумаги и составил необходимый акт. Умерший, родом из Саратова и осужденный на восемь лет, отбыл только треть срока, Вельяминов отодвинул дело, взглянул на заветный шкафчик — ночь развивалась по своим канонам. Опять послышался шум; уже далеко после полуночи, сильно припозднившись, в больницу доставили больных с урановых рудников, из самого дальнего лагеря, о котором не любили говорить, — какая-нибудь отчаянная голова лишь полоснет матом в три колена с подколенником; таких специфических больных полагалось размещать в изолированных от остальных помещениях, собственно, переправляли их сюда, в центральную больницу, умирать; особая группа врачей после специальных консилиумов некоторых из заболевших отправляла в Москву или в Ленинград, в специальные институты.
Вельяминов принял больных в количестве одиннадцати человек, причем шестерых с весьма тяжелыми поражениями — они уже почти ничего не видели, зрачки у них разошлись, обесцветились. Заполнив соответствующие документы и сделав необходимые записи, проследив, чтобы вновь прибывших расположили в санприемнике по правилам, Вельяминов заглянул к сестрам, перекинулся с ними двумя-тремя словами и решил немного подремать у себя за перегородкой — по ночам в больнице между часом и четырьмя наступало относительно спокойное время; обреченные уже успевали отойти, бредящие успокаивались и затихали, снижалась температура у легочников, новых, за редкими исключениями, уже до самого утра не поступало.
Устроившись на узенькой кушетке, полусогнув и подтянув к подбородку нывшие ноги, врач закрыл глаза; в этот момент в четвертой палате Петя, очнувшись, увидел перед собой в редком тумане чье-то наклонившееся над ним мучительно знакомое лицо.
— Вы, сестра, — прошептал, вернее, подумал Петя, едва шевеля губами, но она услышала, придвинула табуретку, опустилась на нее и успокоительно положила прохладную, легкую ладонь ему на сухо горящий лоб.
— Миленький мой, ничего плохого, завтра проснетесь здоровым, — сказала сестра. — Повернуло на поправку, — добавила она, слегка поглаживая его густые волосы, боясь оторваться от разгоравшегося, мучительного сейчас лица, с мерцавшими темным золотом глазами, устремленными куда-то мимо нее или скорее сквозь нее, и она, стараясь отвлечь больного от ненужных и бесполезных мыслей, стала тихо говорить о каких-то пустяках, о письме, которое они утром напишут его родным, опять о благополучно разрешившемся кризисе. Тихая, неровная улыбка у него заиграла сильнее; сестра опять, скорее угадав, чем услышав его шепот, склонилась к нему ниже. Рядом проснулся и сел на своей узенькой койке Чичерицын; натянув на хилые плечи жиденькое казенное одеяло, он, не отрываясь, смотрел иа соседа и на склонившуюся над ним сестру; все остальные в продолговатой угрюмой палате со спертым, грязным воздухом, со скудным ночным освещением над дверью продолжали спать. Кто-то в дальнем углу тоненько всхрапывал, кто-то забормотал, и совсем уж неожиданно, через три или четыре койки, кто-то ошалело приподнялся, вскрикнул с закрытыми глазами, заплакал и рухнул обратно. В четвертой палате длилась обычная ночная жизнь, и ее ни Чичерицын, ни сестра не замечали; в серой полутьме палаты, душной, неистребимо пропахшей человеческими нечистотами, несмотря на тщательные ежедневные уборки самими же больными, лицо Пети угасающе светилось, он что-то говорил сестре, но голоса его Чичерицын, сколько ни напрягался, не слышал. Он лишь видел вздрагивающую слегка руку сестры с жиденьким серебряным колечком на пальце на голове больного. Затем сестра достала из-под матраца у Пети какой-то небольшой плоский сверток, сунула в карман халата и, помедлив, тихо наклонилась и поцеловала умирающего.
От безысходности Чичерицын скривился, тяжело задышал — останавливая его, сестра строго и ясно поглядела.
— Не забудете, Мария Николаевна? — внезапно окрепшим, внятным голосом спросил Петя. — Вы верите? Никому не отдавайте, только деду… Спрячьте… скорее… пожалуйста… скорей, сестра, скорей…
— Нет, нет! Я не забуду, как же не верить, что вы! — сказала сестра и опять успокаивающе положила руку ему на лоб, и Петя, стараясь не терять ее глаз, вновь стал просить ее, и она подчинилась; оставив палату, она быстро прошла к себе, в сестринскую; подумав, сунула вначале сверток между шкафчиком с лекарствами и стеной, эатем быстро переложила в мусорный бачок, завалив сверху всякими отходами. И в ту же минуту послышались голоса, ее спешно позвали к врачу; у Вельяминова, недовольного, с тяжело набрякшими складками у рта, она увидела троих совершенно незнакомых ей мужчин; двое были в привычной военной форме, третий натягивал тесноватый для него халат и морщился.
— Вот, Мария Николаевна, нужно Брюханова перевести куда-нибудь отдельно, — сказал Вельяминов и неопределенно кивнул в сторону военных. — Спецгруппа из Москвы, спешно… Хотят прояснить некоторые обстоятельства. Может быть, сюда или к вам? Больше некуда…
— Брюханов скончался, — неожиданно сказала сестра, — я только что оттуда. Хотела вам сообщить…
— Быстро! Обыскать койку, обыскать одежду! — приказал один из военных. — Допросить соседей! Тело сюда! А вы что стоите? — бросил он сестре, чувствуя ее молчаливое, тупое сопротивление.
— А что я должна делать? — спросила она, слепо глядя ему в лицо.
— Носилки! Проведите в палату… быстро!
— Вы на меня не кричите, не я его убила, — сказала она, не скрывая ненависти. — А носилки рядом в коридоре… Можете вызвать дежурных санитаров…
Она молча вышла в коридор, молча указала на брезентовые носилки, находившиеся на своем месте, и молча пошла, указывая дорогу, по ночному длинному, слабо освещенному коридору с одинаковыми дверями на обе стороны, и про себя молилась, чтобы Петя Брюханов действительно уже умер и ничего больше не знал. Но он, хотя и был без сознания, еще дышал; увидев его, прибывшие переглянулись, а врач, тот самый, в тесном халате, отрицательно мотнул головой — умирающего нельзя было трогать. И тогда старший так же молча утвердительно кивнул, и врач щелкнул замками небольшого чемоданчика. Крышка отскочила, и сестра увидела заблестевшие в своих гнездах небольшие шприцы и ампулы. Страдальчески сжавшись, словно от удара боли внутри, она с трудом удержалась, когда шприц глубоко ушел в тело умирающего; она знала, что спецгруппы по особо важным делам применяют очень сильные препараты, иногда и мертвый подскочит. Все трое склонились над Петей в напряженном ожидании, и сестра, стоящая здесь же, у изножия топчана, увидела его вздрогнувшее лицо и приоткрывшиеся глаза.
— Брюханов, вы слышите? — тотчас спросил старший из спецгруппы и настойчиво повторил: — Вы должны слышать… Где бумаги академика Обухова? Говорите же… Брюханов! Где бумаги академика Обухова?
Умирающий сделал мучительное усилие, по горлу у него прошла судорога.
— Говорите же, где, где? — вновь раздался мучающий умирающего ровный, беспощадный голос, и тогда сестра, не выдержав, с застилавшей мозг яростью, рванувшись вперед, оттолкнула старшего спецгруппы.
— Прекратите! Звери! — непривычно пронзительным голосом выкрикнула она. — Боже мой, бесы, бесы!
По всей палате на тесно, почти вплотную стоявших топчанах зашевелились, стали привставать, садиться серые беспокойные фигуры больных, спрашивали, что происходит, почему среди ночи шум. Слышались тяжелые хрипы, ругательства, стоны; кто-то в дальнем углу вскочил во весь рост, затряс кулаками:
— Сволочи, и тут шмон! Подохнуть не дают!
— Убили! Сейчас соседа убили! — закричал внезапно и Чичерицын, неправдоподобно побелевший, с неузнаваемо искаженным лицом. — Сам видел, укол сделали!
В палате шевельнулся густой, неприятный, застоявшийся воздух, низкий глухой стон прошел из угла в угол, просочился сквозь стены. В тусклом неверпом освещении поднялись уродливые тени и стали сдвигаться к центру; работники спецгруппы, пятясь к выходу, выхватили револьверы; и тотчас в помещении комендантского взвода поднялась тревога, по коридору больницы тяжело забухали солдатские сапоги и послышалась команда:
— Всем в палаты! На свои места!
И тогда раздался неожиданно ясный голос умирающего, заставший пятившихся к выходу людей из спецгруппы врасплох; они по одному выскользнули в дверь; врач зацепился чемоданчиком за косяк и сильно загремел.
— А я ничего не слышу, — тихо пожаловался Петя. — Только мы… сами… сами воскреснем… Только сами… сестра… ничего не вижу… сейчас придет…
— Нет, нет, что ты! — сказала сестра теперь ровным, но мучительным, внутренне рвущимся голосом. — Ничего плохого, слышишь, ничего, теперь только хорошо будет… Не сомневайся, правду говорю… Ну… что же ты… что…
Рука сестры забегала у Пети по лицу, по голове, по плечам; костлявая грудь у больного изломанно дернулась, ключицы слегка приподнялись и тотчас опали, судорога потянула ноги, голова завалилась набок, изо рта на подушку выбило черный сгусток, затем кровь пошла тоненькой, все уменьшавшейся светлевшей струйкой, а лицо стало успокаиваться и гаснуть. Уронив руки, сестра подождала, отерла клочком ваты лицо умершего, выправила ему голову, привычно, всей ладонью, закрыла глаза, встала, перекрестилась.
— Сейчас унесут, — сказала она неотрывно глядевшему на нее Чичерицыну. — Успокойтесь, ложитесь, ложитесь, кончилось…
И тот покорно по-звериному заполз головой под одеяло; он слышал, как умершего соседа уносили, и затем послышался задавленный всхлип, какой-то перехваченный короткий вой, и этот звук словно что стронул в оцепенелости больничной палаты; один зашелся сухим лающим кашлем, второй стал бредить, сразу несколько человек приподнялись и уставились на дверь, из самого дальнего угла звали сестру, кто то, тяжело дыша, побрел по узким проходам к перегородке с парашей, стукнулся коленом о табуретку, оказавшуюся в проходе, и скверно вполголоса выругался.
Сестру тотчас увели в комендантскую и долго с ней беседовали; одежду и постель умершего унесли и тщательно просмотрели; Чичерицына и еще несколько человек из четвертой палаты тоже по одному вызывали на допрос. Сестру наконец отпустили, и она заявила врачу, что на дежурстве остаться не может и уже договорилась обо всем с напарницей. Не отрывая от нее страдающих и благодарных глаз, Вельяминов что-то буркнул и отпустил ее. После всяческих, ставших уже привычными формальностей, пройдя две проходные, она с облегчением выбралась из зоны; уже у своего жилья в поселке с ней действительно приключилось нечто вроде легкого, скоротечного обморока; сгустившееся небо качнулось, уходящая за острые вершины горной цепи луна размазалась; в последний момент крепко уцепившись за какой-то подвернувшийся столб, она удержалась на ногах.
Медицинская сестра Мария Николаевна Рогожина не вышла и в следующее дежурство; она бы не смогла объяснить своего состояния, просто в ее привычной, размеренной жизни и работе, и больше всего в ней самой, произошло какое-то резкое смещение. Зная порядок и правила захоронения умиравших в центральной зональной больнице, она на следующий день к двум часам пришла на кладбище и за всем внимательно проследила; дождавшись, когда машина, подобрав рабочих из хозкоманды и охранников, укатила, Мария Николаевна подошла к свежему холмику земли — крупнозернистого песка пополам с щебенкой, положила ва него пушистую веточку лиственницы, затем опустилась рядом на торчавший из земли плоский камень. С гор, наполовину укрытых низкими облаками, тек ветер, уходящая на запад волнистая до самых отдаленных горизонтов тайга неуловимо менялась. Марии Николаевне всегда хотелось хоть раз в жизни побывать в церкви; она устала от грязи в еще больше от человеческих страданий, от смерти, от невозможности понять своим бабьим куцым умом что-то самое главное. Тайно молясь и ожидая чуда, она крепилась и верила до последней минуты, до вчерашней ночи, но чуда так и не случилось. Нет, нет, не кощунствуй, оборвала она самое себя, чудо было, так еще никогда никто у нее не умирал, этот просто куда-то уходил, он знал, зачем и куда уходит, вот что было самое невыносимое и жуткое. До последней минуты он поддерживал и ее самое, и соседа, этого Чичерицына; все-таки что-то есть, говорила она себе упрямо, пробираясь обратно домой еле приметной среди навалов камня тропинкой, в обход торчавших из земли скал. Она подумала, что теперь и начальству донесут, видели, мол, на кладбище, притворилась больной, но эта мысль лишь мелькнула. Подобного о ней еще не случалось, и, самое главное, в ней не исчезало, а еще больше усиливалось предчувствие каких-то новых перемен в себе. Немного отдохнув, выпив чаю, она с некоторым недоверием, словно впервые, оглядела свое одинокое жилище, затем долго стояла у окна. Старый поселок — насколько она помнит, при ней здесь, вот уже лет пятнадцать, никогда ничего не строилось; стояли у подножия сопки все те же потемневшие из лиственницы дома, магазин, полузаброшенный, пустовавший клуб, контора — в поселке жили работавшие в зоне вольнонаемные, люди вроде нее, с неустроенной, несложившейся судьбой, выбитые из колеи, раздавленные и покалеченные жизнью…
Мария Николаевна прилегла на уютный низкий диванчик, доставшийся ей от старых хозяев, закрыла глаза. Уехать, конечно же, было можно, опять подумала она, но куда и зачем? Кому нужна старая, изношенная баба, кто ее ждет? Она же самим своим рождением в женском лагере отмечена особой метой, от родных могил не уезжают, а весь этот край — одна общая могила, миллионы в одной бескрайней братской могиле — здесь, здесь собралось все лучшее в России, и груз этой могилы тяжелеет и тяжелеет, теперь уже сама тяжесть держит, вот она и вся правда. Не здесь, а по ту сторону Урала, в больших шумных городах — грязь и пустота, разве она приживется в такой суете? Как же там можно прижиться? А проклятье, вернее, заклятье Колымы? Ее непреодолимый зов? Старое сердце не выдержит, лучше остаться, глядишь, чудо свершится, прощение будет обретено именно здесь. Каждому надо исполнять свою судьбу, вот оно и чудо…
Утешившись таким образом, что с нею уже бывало и раньше, Мария Николаевна ободрилась, встряхнулась и сразу вспомнила, что ее необычные мысли от этого странного человека, умершего вчера у нее на руках; он ей как-то об этом и толковал, и вот как оборачивается, даже жутко, что такое с ней? Первый, что ли, он умирает?
Неприметно вздохнув, Мария Николаевна, уже досадуя на себя, занялась делом. Скорби не скорби, а нужно есть, пить и одеваться; она размяла кубик гречневого концентрата, залила его водой, включила электрическую плиту. Уходя за сопки, солнце зажгло верхние стекла окна, она не успела полюбоваться — кто-то постучал в дверь и раз, и второй. Затаившись, она не отозвалась. Ночью ей опять снилось что то непривычное и пугающее; вновь умирал Петр Тихонович Брюханов, большой, красивый мужчина, так и не обезображенный болезнью, что-то шептал посиневшими, в кровавых пузырях, губами, рвался приподняться. Ее охватило отчаяние, сердце останавливалось, и она, как бывает только во сне, это чувствовала. И еще она знала, что может спасти умирающего, она только припомнить все необходимое для этого не могла.
Мария Николаевна проснулась среди ночи, в самый глухой ее час как-то рывком; сердце было готово выскочить из груди, сама она сидела в кровати взмокшая. Звонко лаяла соседская собака. В ночной тиши любой звук разрастался и долго не пропадал. Ей показалось невероятное — в доме тихонько скрипнула дверь, и кто-то вышел — собака именно потому и лаяла. Она перекрестилась, прошептала «Отче наш» и неожиданно пугающе ясно до последнего шепота припомнила все, о чем ей говорил два дня назад умирающий Брюханов; помедлив, вновь и вновь проверяя себя и ужасаясь, она, прошлепав босыми ногами по прохладному полу за перегородку, напилась воды, вернулась, легла и внезапно заснула крепким, здоровым, без сновидений сном. И она уже не удивилась и не испугалась на другой день, услышав стук в дверь и чьи-то голоса. Набросив на себя юбку, натянув и застегнув кофточку, наспех пригладив волосы, она пошла открывать, ни минуты не сомневаясь теперь, что все сказанное ей перед смертью Брюхановым сбывается. В груди защемило; увидев высокого, худого старика и рядом простуженного, то и дело шмыгающего носом солдатика в сапогах и в фуражке, лицо которого показалось ей знакомым, она кивнула и, ничего не спрашивая, молча приглашая входить, посторонилась.
— Начальство прислало, товарищ Рогожина, — буднично сказал солдатик. — Приказано к вам проводить.
— Приказано так приказано, — кивнула она. — Здравствуйте… вы Захар Тарасович будете, дедушка Петра Тихоновича? — спросила она, и старик, опустив глаза, ничего не сказал.
Кашляя и оглядываясь, солдатик ушел, и они остались вдвоем; обычное прохладное утро заставило Марию Николаевну зябко поежиться, с вершин гор в распадки тек белесый рыхлый туман. Движением плеча освободившись от небольшого походного мешка за плечами, привычно перехватив лямки и пригнувшись, старик шагнул в дверь; вслед за ним вошла и хозяйка. Она торопливо набросила на разобранную кровать одеяло, пригласила сесть. Гость примостился на шатком стульчике возле окна; он тотчас отметил, что хозяйка живет бобылкой и напоминает и своей манерой оглядываться, и быстрыми, порывистыми движениями Феклушу; ему показалось еще, что они давно знали друг друга. Он пристроил рядом с собою на полу мешок, затем поднял его на колени, развязал, достал несколько свертков и выложил их на стол.
— Думал внука порадовать, — сказал он неопределенно. — Вот, поди же тебе, не поспел… Припас всякой всячины… Прими, хозяйка, спасибо тебе за внука…
— Ну что вы, что вы, зачем? — запротестовала Мария Николаевна, но тут же, едва он взглянул, умолкла, нахохлилась. — А Петр Тихонович знал, — неожиданно сказала она, с трудом удерживая подступившие слезы и чувствуя какое-то полное, даже щемящее доверие к своему гостю. — Он знал, дед, мол, где-то совсем близко, обязательно придет. Ох, думаю, горемыка ты сердешный, сюда, в такое треклятое место, попробуй доберись… Вот и не успел…
— Ты мне, хозяйка, расскажи, расскажи, — попросил старик, — На могилку его сходить надо… Туда-то можно?
— Можно, — кивнула Мария Николаевна. — Чаю попьем, расскажу, недалеко, туда — можно… Хочешь, с дороги умойся, я полотенце чистое повесила, — предложила она, окончательно переходя на близкий, заботливый тон. — Устал, гляди, в такую провальную нашенскую даль добрел! Господи!
Гость, что-то пробормотав неразборчиво, стащил с себя теплую, на меху куртку, огляделся, пристроил ее на спинку стула, сходил за перегородку, умылся. За чаем тоже не проронил ни слова, сидел, слушал, почти ничего не ел и не пил; под лохматыми седыми бровями глаз почти не видно было. Она, обрадовавшись возможности облегчить душу, долго рассказывала, припоминая ускользнувшие ранее подробности, но гость, к ее удивлению, так и не проронил ни слова и лишь на кладбище, насквозь продуваемом ветром с гор, завязав в тряпицу щепоть скудной, северной земли с могилы, он, перебивая женщину, как бы заново переживавшую случившуюся беду, сказал:
— По-бабьи-то его жалеть не надо, хозяйка. Каждому своя судьба, по-другому ему нельзя было — земля у нас такая треклятая, по-божески не выходит. Совесть его доконала, хорошо жил, хорошо помер…
Она, невольно оберегая изболевшуюся душу от нового обвала, не таясь, вытерла кончиком платка слезы.
— Бог с тобой, отец, тебе виднее. Приехал, и ладно, он тебя ждал, он тебя слышит… Душу ты его отпустил… у меня у самой вроде праздник, светлее стало, спасибо тебе, отец…
— Мне-то за что, я ему дед родной, доля моя такая, вот тебе, дочка, спасибо, — сказал гость, тяжело нахохлившийся от каких-то своих неизбывных мыслей, уже потянувших его куда-то дальше. Он поклонился могиле, стал прощаться; за ночь острые вершины гор присыпало свежим снегом, и они горели в небе яркой белизной.
— Отдохнул бы денька два, — предложила Мария Николаевна, присматриваясь к своему гостю внимательнее и пытаясь отыскать в его лице что-нибудь схожее с умершим внуком. Ничего общего, даже самого отдаленного, она не обнаружила, черты лица у гостя как бы стерлись от долгой и трудной жизни, и только иногда в этой старой, древесной коре просвечивали из-под нависавших бровей острые, испытующие глаза. Тут ее поразила иная мысль, старика ведь могли и подослать, раз уж спецгруппа спешно из самой столицы мчалась, чего им стоит? И старик-то какой-то заположный, куда его сатана гонит, вроде бы и не слышит…
Странная, отстраняющая тень, опровергая ее страхи в сомнения, пробежала по лицу гостя; он еще раз поклонился и уже пошел было к поселку неспешным шагом привыкшего много ходить человека; растерянно вперившись в его прямую спину взглядом, она вспомнила главное.
— Погоди, отец, погоди! — окликнула она, бросаясь к нему. — Чуть не оступилась, совсем из головы вон. Самое главное-то вылетело. Бумаги отдала, а вот последние его слова запамятовала. Гляжу тебе вслед, — отец, сердце хватает, хватает… Ах ты Боже мой… прости… Ты, говорит, деду обязательно скажи одно: я за всех за них, за деда, за отца, за всех полной мерой… Нет больше никакой крови… никакой грязи, обязательно, мол, скажи… Наново пойдет круг.
— Так и сказал — наново? — голос у гостя неожиданно сел, треснул.
— Так и сказал, — опять робея под его окрепшим, пристальным взглядом, тихо кивнула женщина, глядя исподлобья от мешавшего солнца. — Ей-Богу, отец, отдохни: тяжело, поди, в такие-то годы из конца в конец. Поживи, погостюй, — добавила она, чувствуя его давнюю, неизжитую усталость.
— Не могу, хозяйка… Не прощен пока, не отпущен, — опять, каким-то не своим, тем же треснувшим голосом словно пожаловался гость и пошел прочь, высокий, прямой, и тут женщина подумала, что этот диковинный старик, о приходе которого каким-то образом знал умирающий арестант, может, и не такой старый. Она вернулась к свежей могиле, присела на камень, задумалась. Фигура идущего к поселку старика была отчетливо ей видна; странный и тихий покой пришел в ее душу. Еще раз подняв голову и взглянув на тропинку, петлявшую по склону к поселку, женщина никого на ней уже не увидела. Она хотела встать, но пересилила себя; значит, так нужно, решила она, есть такие, на людях своего горя ни за что не покажут, несчастные такие люди, где-нибудь скрылся за камнем, и Божий мир ему в овчинку. Из поселка непросто выбраться, оказии надо ждать, бывает, вертолет подвернется, а может, кто из-за перевала припожалует… Пешком не ушагаешь, не та земля. К вечеру, гляди, увидимся, угощу старика домашними пельменями, поговорим от души…
Но никого Мария Николаевна так больше и не дождалась ни к вечеру, ни на другой день. Непоседливый гость, оставивший после себя какое-то неуловимое беспокойство, вскоре перешедшее в тихую, светлую грусть, исчез бесследно, словно обрел крылья и перелетел через высокий, горный хребет, позавяз напичканный на горе людям самыми дорогими вещами, начиная от урановых и золотых руд и кончая самоцветными каменьями. А может, его подобрал какой-нибудь попутный грузовик; все бывает на этом свете, и не стоило ни о чем судить поспешно. Высокого, прямого старика со стершимся лицом и пронзительным взглядом из-под тяжелых, обесцвеченных временен косматых бровей не раз видели затем то в одном, то в другом городе, то где-нибудь на дороге к Новгороду или Владимиру; если попутная машина, обгонявшая его, останавливалась и старику предлагали сесть, он, не вступая в долгие разговоры, отказывался. Видели его с заплечным мешком и в Киеве, в Печерской лавре, где он вроде бы беседовал с каким-то молодым священником. А еще говорят, что видели его в одном из московских храмов, где он будто бы передал священнику груду тяжеловесных царских золотых монет, и священник потом рассказывал, что этот удивительный старик, отказавшийся назвать себя, сказал всего несколько слов о том, что Бога, может быть, и нет, но что Бог необходим… Вероятно, это был и не зежский лесник, старики после определенного рубежа, так же, как и дети до определенной поры, часто бывают похожи один на другого.
Денису все-таки пришлось перебраться из-за Аленки, ставший совсем слабой, на временное, как он думал, жительство в Москву, и однажды в суете Садового бульвара ему тоже почудился бесследно пропавший лесник; он, кажется, даже повернул голову и взглянул на правнука; мороз подрал у Дениса по коже, дыхание перехватило; опомнившись, он бросился следом, но прямую, знакомую спину, мелькнувшую перед ним еще раз, размыло. Толкая прохожих, Денис метнулся в одну сторону, в другую, растерянно остановился, вызывая любопытство, бестолково повертел головой и задумчиво побрел своей дорогой дальше.
Уходя от навязчивых мыслей и сомнений, он вечером обложился книгами и конспектами, погружаясь в свой, ставший уже привычным, все более затягивающий его мир. Он не успел сосредоточиться — постучав, вошла Аленка, вздрагивая седой головой, что с ней приключилось после вторичного отказа в пересмотре дела сына о снижении срока заключения, и притом приключилось во сне…
Денис быстро пошел ей навстречу, скрывая свою тревогу улыбкой, обнял за плечи; теперь он перерос ее на целую голову — разговаривая с ним, Аленке приходилось поднимать глаза.
— У тебя, вижу, сегодня совсем хорошо, — весело сказал Денис.
— Да, кажется, дергает меньше, может, и пройдет, — ответила она, чувствуя себя бодрее и крепче от присутствия рядом сильного молодого человека, от ощущения его бережных, заботливых рук. — А ты меня держишь, боишься упаду?
— Просто выполняю долг вежливости, учусь столичной галантности, — нашелся он и засмеялся. — Москва, черт бы ее взял… надо же соответствовать. Садись, пожалуйста, ну как, тебе удобно? Что это у тебя?
— Представляешь, часов в пять стучится Марьямовна, привратница, — сказала Аленка, обеими руками приподнимая толстый, продолговатый пакет, и ее голос заставил внука насторожиться. — Оттуда.. от Пети… без тебя боялась открывать. Положила на стол и гляжу, жду тебя. Марьямовна даже не могла припомнить, кто ей передал, уверяет, какой-то высокий, худой старик…
— Подожди, Аленка, — остановил ее внук, не в силах оторваться от ее пустых глаз, совершенно лишенных сейчас света, уловив самый последний момент и невольно стараясь отдалить неизбежное. — Подожди, сейчас…
Он взял из ее безжизненных рук пакет, показавшийся ему невероятно тяжелым, положил перед собой, чувствуя на себе ее взгляд. Ему стало страшно, такого страха он не знал раньше, даже там, на самом краю жизни, накрытый чужим бархатным небом, в ярких, холодных звездах; его глаза нерассуждающе горячо вспыхнули — чужая, враждебная воля все настойчивее вмешивалась в его жизнь. Он опустился рядом с Аленкой на пол, обхватил ее колени и спрятал в них лицо, как когда-то в далеком детстве. Она нашла его голову, и он почувствовал ее совершенно ледяные пальцы.
— Нет, нет, этого не может быть, — подумал он вслух. — Слишком несправедливо… так не должно быть…
— Жить все равно надо, ничего другого нет, да, да, остались твои русские леса, — услышал, нет, скорее уловил он ее беззвучный шепот. — Кому же ты их оставишь? Ничего другого просто нет, Денис… Как же по-другому? Вскрывай, здесь твоя судьба, Денис, я чувствую. До сих пор настойчиво ищут какие-то важные бумаги академика Обухова… обыски, допросы, провокации. Вскрывай, свет всегда приходит в самый невыносимый час. Твои сыновья должны вырасти русскими людьми, они должны заново начать и выстроить Россию. Эта безродная банда вурдалаков невечна, они уже начинают пожирать друг друга! Я тебя благословляю, вскрывай. Нам всем сейчас надо крепко держаться, — добавила она после небольшой паузы, и, сразу же поняв, что ему неприятен ее менторский тон, неприметно вздохнула. — Сейчас узнаем, вскрывай…
— Молодец, Аленка! Вот теперь мы с тобой постоим, вог теперь земля нас еще приласкает! Куда она денется? — пообещал он с безоглядной верой в себя и в свое неожиданое слово. — Молодец!
— Не тяни, вскрывай…
Он кивнул, хотя, выжидая и собираясь с силами, еще долго смотрел с затаенной, наново открывшейся ему страдающей любовью в родное, измученное и вместе с тем какое-то незнакомое сейчас, разгоревшееся лицо, все больше и больше укрепляясь душой в преддверии неизбежного.


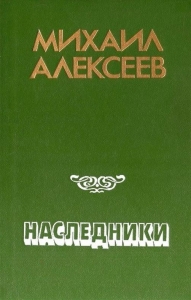



Комментарии к книге «Отречение», Пётр Проскурин
Всего 1 комментариев
Вера
25 фев
Очень понравилась книга