1
Ехать было мучительно, мы сидели в трусах и в майках на мокрых от пота матрацах и обмахивались казенными вафельными полотенцами. Раскаленный воздух, набитый пылью и горечью, влетал в открытые окна и обдавал нас жаром, как из духовки. Слева ползли голые, отполированные солнцем горы Ирана, справа расстилалась пустыня. Редко чернели на ней кибитки пастухов, одиноко стояли верблюды, провожая поезд ленивым, вполоборота, движением маленькой головы.
Нас было четверо мужчин; один ехал со мной от самой Москвы и приканчивал двадцать пятую бутылку пива, двое других сели в купе ночью. Те, что сели ночью, были, по-видимому, строители. Мы разговаривали о пустыне. Каждый видел ее по-своему.
— Для меня это миллионы кубов сыпучего грунта, — сказал старший строитель, седой маленький человек, страдавший одышкой. — Я думаю о бульдозерах, которые подымут эти Гималаи песка.
— Для меня нет дороже места на всей земле. Ведь я родился в здешних песках, в районе Артыка, — сказал другой строитель, туркмен.
— А я не видел эту землю шестнадцать лет. Шестнадцать лет, шестнадцать лет! — повторял человек, уничтожавший пиво. И глаза у него были красные. — Вы понимаете, что значит шестнадцать лет?
А я молчал. Я ехал в пустыню потому, что у меня не было выхода. И я не любил ее, и не думал о ней, и не вспоминал о ней. Я вспоминал о другом. И, кроме того, меня мучила жажда.
2
Нагаев был не в духе. Его всегда сощуренные, щелястые глаза с воспаленными от зноя и песчаной пыли веками смотрели высокомерно и зло. Он отхлебывал из кружки горячий зеленоватый чай и в промежутках между прихлебываниями говорил, глядя на Мурадова в упор:
— Все одно, друг, я тебе разряда не дам. Валяй к другому переходи. К Марютину или к кому еще. А мне с тобой валандаться нет резона. Одни убытки.
Молодой туркменский парень Бяшим Мурадов, второй месяц работавший учеником на нагаевском экскаваторе, испуганно таращил на машиниста глаза и молчал. Кроме Нагаева и Бяшима за столом сидели два других машиниста, сменщики Эсенов и Бринько. Эти двое делали вид, что их не касается разговор Нагаева с учеником, и деловито тянули чай из кружек, отдувались и хрустели сахаром.
Было раннее утро. Солнце поднялось над барханами, но еще не пекло, а грело. Из-за лиловой песчаной гряды доносилось ровное гудение и судорожный лязг экскаватора: Марютин работал. И это еще больше усиливало раздражение Нагаева. Он не мог сидеть спокойно, зная, что кто-то в это время делает в забое кубы. Ему всегда казалось, что его обходят, отнимают у него кровное, хотя на самом деле никто из трех машинистов, да, пожалуй, никто во всем отряде и близко не подходил к нагаевским выработкам.
— Зачем убытки? Я хуже вас на рычагах сижу? — тихо спросил Бяшим.
— На рычагах сидеть и обезьяну научить можно. За одни рычаги разряд не дают. А машину ты знаешь?
— Зачем не знаю…
— Регулировать клапана можешь? А магнето установить?
— Я, Семеныч, всегда просил: покажи, как делать, — дрожащим голосом сказал ученик. — Сам не хочешь…
— Чего не хочу? Что болтаешь зря? — грубо повысил голос Нагаев. — Я не виноват, коли ты беспонятливый. Да еще машину калечишь. Сегодня опять головной блок смазать забыл. И этому я тебя не учил, скажешь?
Бяшим опустил голову. Его смуглое лицо побледнело, узкие губы подергивались.
— Твоя родная обязанность — за машиной следить, — сказал Нагаев наставительно. — Она тебе хлеб дает, понял?
Так как Бяшим не отвечал, а сменщики продолжали равнодушно пить чай, Нагаев умолк. Он высказал этому парню, раздражавшему его в течение шести недель, свое решение, созревшее давно и прочно. Пусть не надеется на разряд. А ежели недоволен — скатертью дорожка. Одному еще лучше работать. Теперь, высказавшись напрямик, Нагаев почувствовал облегчение, у него сразу повеселело на душе.
Он поднял черный, обугленный в костре кумган и, осторожно наклонив узкое горлышко, налил себе полную кружку чаю. Один Бяшим сидел за столом, безучастный к еде, и, отвернувшись, смотрел вдаль, где пески граничили с небом и тонкой, еще робкой каймой дрожал зарождавшийся зной.
— Ничего, Бяшим, поработаешь с Марютиным, он тебе разряд справит. Он мужик добрый, — сказал Нагаев примирительно.
Опорожнив кружку, он поставил ее вверх дном, аккуратно завернул оставшийся сахар в платок и встал. Вразвалку, закуривая на ходу, пошел к забою. Через несколько минут из-за песчаной гряды раздалось гудение второго экскаватора, заскрипел трос на блоке, и — прошла секунда — тяжело ухнул на откос первый ковш грунта.
Иван Бринько, плечистый, коричневый от загара, обросший двухнедельной золотой бородкой, искоса поглядел на ученика и сказал негромко:
— Ты, говорит, мне не нужен, а кубики твои, говорит, пригодятся… Эх, человек! — и плюнул через стол.
На другое утро приехал прораб Байнуров — бледный, остролицый, с громадным курчавым чубом, прозванный среди рабочих Лохматым. Байнуров недавно окончил строительный техникум, был молод, задирист, а в работе — болезненно щепетилен, ибо считал, что все механизаторы подозревают всех прорабов в жульничестве, и одно это сознание было для него оскорбительным. Нагаева он не любил особенно. Тот умел работать с нивелиром и после прораба всегда замерял вынутый грунт сам. Он делал это регулярно, в каждый приезд Байнурова, хотя за много месяцев мог убедиться, что молодой прораб работает безошибочно.
Вот этому прорабу, скрытому своему недоброжелателю, Нагаев и сообщил о том, что отказывается от ученика. Объяснил просто: парень бестолковый, технической подготовки никакой, машину калечит. То одна поломка, то другая. Известное дело — чабан, всю дорогу с верблюдами да с баранами.
Байнуров сказал, что поставит в известность начальника отряда.
— Но вообще, Нагаев, странное дело: третьего человека к вам прикрепляют, и третьего человека вы прогоняете. Похоже, не ученики плохие, а учитель неподходящий.
— Не спорю, неподходящий я, — сказал Нагаев. — Я только кубы ворочать подходящий. Ишачить день и ночь, без выходных, подходящий.
— Этим вы не гордитесь. Не за спасибо работаете.
— А за спасибо нема дурных.
— Вот и не гордитесь поэтому. Мне ваши заработки известны.
— Конечно, известны. Про них в газете печатали…
Они сидели на корточках в тени будки и перебранивались вялыми, сварливыми голосами, совсем забыв об ученике, который сидел поодаль, и с волнением прислушивался к разговору.
Бяшим Мурадов пришел на стройку полгода назад. Это был медлительный, голенастый юноша, похожий на нескладного верблюжонка, с маленькой головой на тонкой шее, с лицом застенчивым и нежно-смуглым, почти девическим. По-русски он говорил плохо и, стесняясь этого, предпочитал говорить как можно меньше. Бяшим и вправду был чабаном, и отец его был чабаном, и дед тоже. За всю свою жизнь — ему было восемнадцать лет — он никуда не выезжал из колхоза, кроме районного городка Байрам-Али. В колхозе учился в школе, а на лето уходил с отцом в пески. Когда началось строительство, среди чабанов было много разговоров о канале. Большинство стариков не верило, что выйдет толк. Не может быть, говорили они, чтобы Амударья пошла так далеко в пустыню. Пески не пустят. Но вода пошла. Она пошла медленно — сначала до Сагамета, потом дальше на запад, к колодцу Инче. И чем дальше углублялась вода в пустыню, тем больше туркменских парней — чабанов, хлопкоробов, недавних школьников и недавних солдат — стало приходить на стройку.
Пришел и Бяшим. Отец сказал ему: «Бараны тебя подождут, а машины ждать не станут. Пойди и научись чему-нибудь, пока в песках есть машины и умные люди». Бяшим отправился на стройку неохотно. Он хотел жениться. Мать тоже мечтала женить его в то лето, когда он как раз окончил школу. Но девушка была из богатой семьи, и отец рассудил так: парень должен стать на ноги, получить специальность, чтобы прийти в дом невесты как равный.
А на стройке люди быстро становились на ноги. Несколько земляков Бяшима окончили школу механизаторов и работали на Марыйском участке. Один из них, Курбан Непесов, уже купил себе «мотор» (так местные колхозники называли мотоцикл), а двое других не взяли «мотора» потому, что им обещали легковые машины. Колхозные ребята с завистью смотрели на этих молодцов в городских костюмах, в соломенных, с черной лентой шляпах, с новенькими часами на руках, когда они раз в месяц приезжали на побывку домой, угощали молодежь вином, а стариков — занимательными рассказами и в свободное время снисходительно поучали колхозных трактористов насчет ремонта и профилактики. Некоторые из них даже стали студентами: учились заочно в Сагаметском автомеханическом техникуме.
Осенью Бяшим пришел на колодец Инче. Там строился поселок. Три месяца Бяшим работал разнорабочим. В школу механизаторов он не попал, опоздал подать заявление, но специальность можно было приобрести и на стройке. Бяшима назначили учеником к экскаваторщику Семену Нагаеву, одному из «китов».
Механизаторы на стройке делились на «китов» и «тюльку». «Китами» считались самые опытные, короли заработка, а «тюлькой» — все прочие работяги.
Через два месяца, сказали Бяшиму, будешь сам на рычагах сидеть.
Обрадовавшись, Бяшим взял отпуск и приехал в колхоз. Он привез новые ботинки на губчатой розовой подошве, радиоприемник «Урал» и семьсот рублей денег. Теперь он прочно стоял на ногах и с чистой совестью мог говорить о женитьбе. Родители Огульджан были люди старого закала. Они потребовали калым, и довольно богатый. Хотя Бяшим, как комсомолец, считал подобные обычаи глупостью и предрассудками, но не посмел протестовать против калыма, ибо это могли посчитать за скупость. Наскребли денег и выплатили половину. Свадебный той был назначен на первое марта. До свадьбы Бяшим раза два украдкой виделся с Огульджан и целовался с ней, как вор. А ведь в школе он целые дни проводил с ней вместе, сидел с ней на одной парте!
Отец Огульджан работал в сельмаге, часто ездил в Мары, а иногда в Ашхабад и даже в Самарканд и Хиву. И, однако, он был необразован и набит предрассудками, как какой-нибудь нищий старик на базаре. Он потребовал, чтобы Огульджан после свадьбы, согласно старинному обычаю «хайтарма», пожила в доме Бяшима несколько дней и затем вернулась к родителям. Ей надлежало жить там до тех пор, пока муж полностью не уплатит калым. И вновь Бяшим не посмел протестовать, не позволила гордость.
И он уехал на стройку.
Полтора месяца он изнурял себя трудом и учением, работал жадно, неистово. С утра до вечера торчал возле экскаватора, исполнял малейшую прихоть машиниста и выманивал у него по крупицам знания. Ночью ему снились робкие груди Огульджан и ее глаза, темные от слез. И он просыпался, и садился на койке, и вспоминал, как пахнут ее волосы, как пахнут ее влажные, покорные руки и маленький рот с мягкими губами.
Но еще чаще ему снились рычаги. Множество рычагов, которые скрипели, дергались, вырывались из рук, и вдруг откуда-то сверху падал ковш, и ужас, мгновенный и мертвящий, как молния, пронизывал сердце — за какой рычаг хвататься?
Сначала Бяшим работал «нижником». Машинист сидел в кабине, а он делал всякую подсобную работу на земле, внизу: приносил воду и масло, смазывал узлы, соскребал лопатой грунт с ковша. Эта работа считалась третьего разряда. Машинист Семен Семенович был нелюдим, мрачен и казался Бяшиму человеком недобрым. Говорил он мало, объяснял скупо и с великой неохотой, точно деньгами одалживал. И все же Бяшим выучился работать на рычагах и вскоре мог самостоятельно отстоять смену. Долго мучила его дрожь в коленях: как садился в кабину, так начиналась трясучка, педали становились как каменные, не выжмешь. Громыхающая махина и огромный зубастый ковш, летящий по воздуху, внушали Бяшиму страх, но потом это прошло.
Он мог работать не хуже «кита». За смену выбрасывал почти столько же, сколько и Нагаев. И, однако, он по-прежнему оставался стажером и вынутый им грунт шел в зачет не ему, а машинисту. Несколько раз Бяшим осторожно заводил разговор о разряде, но Нагаев сердито отказывал или же зло вышучивал ученика.
В сумерках экскаваторный рев стал стихать. Первым зашабашил Марютин, потом остановил стрелу Иван Бринько, и только экскаватор Нагаева ревел долго, до темноты. Не дожидаясь Нагаева, сели пить чай. Вечер был холодный. Все сидели в ватниках и ладонями заслоняли кружки от ветра, чтобы не нанесло песка.
Экскаваторщики сочувствовали Бяшиму и ругали Нагаева. И то и другое было искренне: Нагаева не любили. Его считали жмотом — «за копейку удавится» — и одновременно завидовали его известности, уважению, которым он пользовался у начальства, его умению работать и крупным деньгам. Ребята горячились, давали Бяшиму советы, но все советовали разное, и Бяшим растерялся.
Напарник Марютина, рассудительный Чары Аманов, считал, что надо смириться, поработать еще месяц-другой «на дядю», а там, глядишь, дело поправится. Эсенов и Бринько убеждали Бяшима поехать в поселок и пожаловаться начальнику. А Марютин, пожилой, невзрачный мужик, высушенный туркестанским зноем до худобы, высказался так:
— Договориться, конечное дело, можно. Разряд он тебе даст, только и ты дай. Сот пять будет стоить…
В разгар беседы пришел Нагаев. Бяшима не допустил в забой. «Машина не каторжная, пущай отдохнет». Стало ясно: решил отказаться от ученика окончательно.
И тут взорвался Беки Эсенов, закричал гневно:
— Зачем так делаешь, черт? Человек на тебя работал, а теперь гоняешь, как собаку? Большой хозяин, что ли?
— Тебя не спросил, — сказал Нагаев. — Мал еще понимать.
— Я вас понимаю! Экскаватор твой, что ли? Экскаватор две смены работать должен, а ты его не даешь! Тебе стройка неважно, другой человек неважно, тебе только свой интерес важно — так, что ли? Черт, зараза!
Он вскочил на ноги. Опрокинул ящик, служивший стулом.
Казалось, сейчас неминуемо начнется драка, но все сидели спокойно. Это была обычная манера Эсенова разговаривать.
Бринько поймал сменщика за локоть:
— Ладно, не заводись! Разберутся…
Нагаев сказал холодно:
— Ты одно рассуди: я второй год без годового, а вы из ремонта не вылезаете. Это за что говорит?
— Верно, верно, Семеныч, — смиренно закивал Марютин.
Эсенов что-то быстро, злобно проговорил по-туркменски и, отшвырнув ногой ящик, зашагал к забою. Отлетев на несколько метров, ящик с треском ударился о бочку с водой, врытую в землю.
— Но-но, потише! — вслед уходящему крикнул Нагаев. — Ящиками-то не кидайся, не хулиганничай!
Помолчав, он повернулся к Бяшиму и заговорил мягко, как будто даже доброжелательно:
— Ведь я тебе, Бяшимка, сразу сказал: без школы механизаторов тебе не обойтись. Есть которые и без того разряд получают, только это ребята провористые, грамотные. А тебе без школы никак нельзя…
— Если вы научить хотели… — начал было Бяшим, но Нагаев перебил его:
— Про то говорить не будем. Учитель я плохой. Я об своей жизни думать должен, обо мне ни у кого голова не болит. — В голосе его звякнуло обычное раздражение. — А тебе одно могу посоветовать: поезжай с сентября в Марыйскую школу, вернешься с аттестатом и работай везде, — пожалуйста, хоть ко мне приходи. А до осени валяй домой, с женой играйся, чай пей, — плохо тебе?
— Нельзя домой… — сдавленно проговорил Бяшим.
— Почему нельзя?..
— Жены нету, нельзя…
— Он, видишь, за жену-то еще не рассчитался сполна, — объяснил Бринько. — Она пока у своего батьки живет, а он, значит, деньги заколачивает. Тыщ шесть, говорит, не хватает.
— Да ну? — удивился Нагаев. — Порядочно с женихов дерут.
— Дикость жуткая, — сказал Бринько. — Я бы этому папаше плюнул в рожу, взял бы девку за руки — и все дела. И увел бы. И шиш он с меня возьмет!
— Ай, нельзя так, — сказал Чары Аманов.
— Почему нельзя? При советской власти так безобразничают — это можно?
— Ай, нельзя, — повторил Аманов. — Старые люди есть, умрут скоро, их уважать надо. Пускай они неправильно делают, а уважать надо.
Бринько свистнул.
— Видал! Уваженье будь здоров — шесть тысяч стоит. Все это глупость и ерунда. Гляди, как парень мучается…
Бяшим сидел тихо, сгорбившись над столом, и лицо его было неразличимо. Тлели в потемках папироски Марютина и Бринько. Нагаев встал и потянулся с хрустом. Сказал, зевая:
— А коли ехать нельзя, оставайся. Я тебя не гоню. Только насчет разряда чтоб никакого разговора. Понял?
Бяшим не ответил. Вдруг после некоторого молчания, пока Нагаев зевал, раздалось тонкое и протяжное всхлипывание.
— Ладно, ладно, — сказал Нагаев и, ощупью найдя Бяшимово плечо, легонько потряс его. — Я тебя не гоню. Хочешь — оставайся, хочешь — нет, мне один черт. Только… вот как я сказал.
Утром приехала автолавка — передвижной магазин.
Бяшим положил в кузов сундучок с привязанным к ручке кумганом, попрощался со всеми за руку и уехал в поселок.
Нагаев остался один. Он поспешил забыть этого незадачливого чабанского сына, с которым было больше хлопот, чем дела. И действительно, он скоро забыл его.
Жили они на бархане, в деревянных будках-времянках. Собственно говоря, в будках они только спали, а вся жизнь протекала на воле и в железных кабинах машин. Работали не по часам, а от силы. Кто сколько выдюжит, столько и сидит на рычагах. Никаких, конечно, выходных. На кой они? Что в пустыне делать, как не работать?
Две будки, пять человек. Да три машины в забое, да две цистерны: одна с водой, другая с соляркой. И приблудная собака Белка из туркменских овчарок, белая, лохматая, как медведь.
А вокруг — пески, глухая каракумская тишь.
Колодец Инче, где стоял отрядный поселок, был километрах в двадцати на восток. Оттуда приезжал прораб, привозили продукты в автолавке: сахар, папиросы, сечку-гречку, ничего особенного, но жить можно. Вина не возили. И в поселке вина не было: сухой закон.
Автолавка, прорабы да еще проезжающее начальство — вот и все развлечения. Правда, в поселок иной раз наведывалась кинопередвижка из области. Специальный грузовик ездил по трассе, собирал с дальних участков желающих. Молодые ребята, вроде Бринько и Эсенова, ездили частенько, но Семен Нагаев на такие пустяки время не тратил.
— Не видал я ихнего кино! Лучше я за то время сто кубов выну — и мне интерес, и государству польза…
Зимой донимали холода и ветры, а с весны начиналась другая мука. Все живое в пустыне пряталось от жары, змеи и суслики дремали в норах, ящерицы зарывались в песок. Стоило подержать ящерицу пять минут на солнцепеке, и она варилась живьем.
Люди работали. Кабина экскаватора накалялась, как котел на огне, за рычаги голой рукой не берись. И ветры каждодневные, еще страшней, чем зимой: палящие, крутыми волнами набегающие из афганского пекла. Так и звался этот ветер — «афганец». Песок от жары делался легким, крошился в пыль, и «афганец» носил его над пустыней несметными тучами. Иногда небо вдруг меркло, как во время затмения, песок тоннами поднимался ввысь, свистел, грохотал, бешенствовал, опрокидывал навзничь, заполнял все и вся своим затхлым, удушающим запахом, и сквозь его темную, ураганную толщу солнце едва мерцало, наподобие бледной луны.
А люди работали.
Тысячи людей и сотни машин работали на всей четырехсоткилометровой трассе, разделенные на два отряда: один шел с востока, ведя за собой амударьинскую воду, другой пробивался ему навстречу посуху, со стороны Мургаба.
И где-то уже строились шлюзы, заливалась бетоном арматура, и вырастали в песках — пока еще над сухим руслом — мосты для железной дороги, и возникали на пустом месте (вот уж истинно на пустом, среди пустыни!) улицы некоего города, тарахтел движок, горело в домах электричество, в клубном бараке читалась лекция о новом Египте, и после лекции были танцы под радиолу, и рабочие выкладывали из кирпичей ограду вокруг несуществующего виноградника и втыкали в песок тощие прутья акаций, а далеко впереди всех, заброшенный в барханные дебри, какой-то одинокий экскаватор остервенело рвал землю, и по ночам была кромешная тьма и кричали шакалы.
И в этой необозримости целого заключалось величие. Но понять его было непросто.
3
Оставшись без помощника, Семен Нагаев вонзился в работу с особым воодушевлением. По десять — двенадцать часов не выходил из забоя. Необъятность пустыни его пьянила. Он видел в ней необъятность кубов, еще не вынутых, не оприходованных прорабом, жаждущих его ковша. Теперь он ни с кем не делился, и даже те небольшие проценты, которые раньше начислялись ученику, теперь принадлежали ему. И, кроме того, теперь он избавился от постоянного страха за машину.
В апреле Нагаев достиг небывалой цифры: шестьдесят две тысячи кубов. Его портрет поместили в многотиражке. В республиканской газете появилась заметка «На предмайской вахте», где рассказывалось о замечательных успехах знатного экскаваторщика С.Нагаева. Из Ашхабада приехал молодой парень, сотрудник местного радио, и записал на магнитофоне выступление Нагаева насчет первомайского праздника.
Нагаев принимал свою славу спокойно. Ему нравилось, что о нем пишут и шумят, но он не любил тратить на эту шумиху свое собственное драгоценное время.
От многодневного напряжения он стал еще злей и резче. Лицо его вытянулось, усохло, он сделался похож на Марютина: такой же темный, костистый, непонятного возраста.
На майский праздник Нагаев получил премию. А вскоре за тем старший прораб принял участок, и экскаватор продвинулся на семь километров к западу.
Новая стоянка ничем не отличалась от прежней. Тот же пустынный горизонт, холмы песка, редкий, угнетенный солнцем кустарничек. Барханы располагались здесь неблагоприятно, с севера на юг, и их приходилось разрезать поперек. Это была первая сложность, а вторая — змеи.
Сразу обнаружилось, что на новом месте огромное количество змей. Было похоже, что экскаваторы вторглись в какое-то заповедное змеиное царство. В первый же день Бринько убил лопатой толстую, метра в два длиной, черную кобру. Ее повесили на двух саксаульных сучках, воткнутых в песок, и она висела так несколько дней, устрашая собаку Белку и напоминая всем об опасности. Змеи были разные: самые крупные и страшные кобры и гюрзы, небольшие, но вполне кусачие полозы и безвредные, с узорчатой желтоватой спинкой и белым брюшком стрелки. Днем в песках было сравнительно безопасно. Человек издали замечал змею, которая обычно сидела в норе, высунув голову, а змея в свою очередь замечала человека и особым, сухим шуршанием предупреждала о своем присутствии. И оба благополучно избегали встречи. Ночью же заметить змею было трудно, а с наступлением жары ночью работали больше, чем днем.
Первые две недели экскаваторщики жили в неутихающем страхе. По вечерам только и разговоров было что о змеях: один убил змею возле самой будки, другой раздавил гусеницей, третий поднял ковшом. Беки Эсенов рассказывал множество историй о зловредности и коварстве змей. Один человек из колхоза, где жил Беки, спустился в колодец, чтобы подремонтировать стенки, и, когда уже вылезал на волю, гюрза ужалила его в шею. Он дико закричал, его вытащили, и через минуту он почернел и испустил дух. Другой человек, из соседнего колхоза, убил ядовитую змею эфу, которая мирно спала на камне и никому не угрожала. В ту же ночь другая эфа приползла к этому человеку в кибитку и перекусала всю его семью — жену и четверых детей, а его самого не тронула. Вся семья этого человека умерла. Эфа нарочно оставила его в живых — это была ее месть! — чтобы он сошел с ума от горя. Еще один человек, из поселка Учаджи, убил змею, но забыл выполнить обычай: зарыть отрубленную голову в песок. В ту же ночь другая змея…
Нагаев относился к этим рассказам презрительно и враждебно:
— Бросьте вы трепаться! Ну, может, и ужалила кого раз, а звону на десять лет.
— Нет, Сеня, ты руками не маши, — говорил Марютин, самый напуганный. — Я в Керках с одним профессором говорил. Я с ним в бане мылся. А он как раз по этим самым гадовьям профессор, так он мне рассказывал: здешние гадовья ужас какие ядовитые. Как вкусит — так, считай, кранты.
— Это смотря куда. В ногу, например, одно дело, а в голову, конечно, кранты. Никто не говорит.
— А в ногу какая разница?
— Ногу сейчас перевязал, надрез сделал — и чеши к доктору. Переливание крови — и порядок.
— Да не… Зачем говорить? — уныло вздыхал Марютин. — Профессор же сказал: кранты…
Хотя Нагаев и храбрился, подымал боязливого Марютина на смех, сам он ходил по лагерю с превеликой осторожностью, а ночью, идя в забой, всегда светил себе фонариком.
Однажды, приступив к ночной смене, Нагаев обнаружил большую змею в экскаваторе, на редукторе. Ночь была прохладная, и змее показался, вероятно, очень уютным нагретый за день металл. Нагаев схватил первый попавшийся ключ, ударил сгоряча и не попал, змея мгновенно исчезла. Нагаев позвал Чары Аманова, и они вдвоем, светя фонариками, обыскали всю кабину, гремели ключами, заводили и останавливали мотор — змея не показывалась. Аманов советовал отложить работу до утра. Однако Нагаев, как его ни страшила притаившаяся в кабине змея, не мог терять из-за нее смены. Надел ватные брюки, ватную телогрейку, сапоги, обмотал шею куском брезента — полез к рычагам. Работал всю ночь, только то и дело оглядывался. Утром змея свалилась откуда-то прямо на пол кабины, и Нагаев размозжил ей ключом голову.
Вскоре змеиные страсти утихомирились. Никого что-то змеи не кусали, и экскаваторщики понемногу привыкли к ним, бестрепетно рубили им головы, а потом и говорить о них и замечать их перестали. Впрочем, змей становилось все меньше. Напуганные людьми и машинами, они перекочевывали подальше от трассы, в глубь песков. И когда через месяц на стоянку передвинулся отрядный лагерь, ребята не встретили здесь ни одной змеи.
С начала июня пошла жара. В тени было сорок. Небо выжглось зноем добела, горизонт заволокло, как туманом, плотно колыхающимся и зернистым, раскаленным воздухом. В дневные часы работать стало невозможно. Выработка упала на всех участках.
В эту жару — а жаре этой, как говорили туркмены, конец будет только осенью — появился в лагере экскаваторщиков новый человек. К Марютину приехала из Керков дочь Марина, девушка лет двадцати.
Марютин был вдовцом, и дочь его жила в Керках с какой-то родственницей, которая недавно померла. Марина решила приехать к отцу. В Керках она работала кондуктором на автобусе. Была она рослая, плечистая, с красно-загорелым, простоватым лицом, на котором от загара неяркими казались голубые глаза и редкие белые брови. Выглядела старше своих лет; лицо вроде девчачье, а фигура плотная, осанистая, как у доброй молодухи. Марютин хотел устроить ее подавальщицей в столовую поселка, но там не было места, да и дочь, видимо, не за тем ехала сюда, чтобы тарелки таскать. А пока что поселилась Марина в отцовской будке за хозяйку.
Появление женщины мало что изменило в устоявшемся быту экскаваторщиков. Может быть, только ребята стали бриться чаще, а то совсем было заросли бородами, как полярники, да еще Беки Эсенов достал из-под койки дутар и стал по вечерам бренчать туркменские песни или «Бродягу», подпевая себе робким тенорком.
Марина тоже оказалась певуньей. В лагере теперь происходили своеобразные состязания: Беки, сидя возле будки, играл свое, а на расстоянии двадцати шагов от него, возле будки Марютина, Марина делала что-нибудь по хозяйству и пела свое. Голос у нее был дерзкий, пронзительный, и пела она с явным удовольствием, хотя и не очень верно. Она пела веселые песенки из кинофильмов и всегда старалась перекричать дутар.
Однажды подошла к Беки, присев на корточки, спросила:
— А «Голубку» можешь сыграть?
— Чего? — нахмурился Беки. Он смотрел на ее высокую грудь, обтянутую майкой. Марина ходила в майке-безрукавке и в черных сатиновых штанах, вроде спортивных.
— «Голубку» не знаешь? — Она запела громко: — «Ой, голубка моя-а…»
Беки цокнул языком и качнул головой.
— А «Рябину кудрявую»?
Беки снова цокнул языком. Не решаясь взглянуть девушке в лицо, он все еще упорно смотрел на ее грудь.
— «Бродягу» знаю, — сказал тихо.
— Ай… надоел «Бродяга»! Ну ладно, если хочешь — сыграй…
И Беки заиграл «Бродягу», вернее, несколько музыкальных фраз из песни, которые он хорошо выучил и мог повторять бесконечно. Песня была знаменитой в Туркмении, как и во всей Средней Азии, и ее мог напеть любой мальчишка из самого глухого кишлака.
Девушка сидела молча, обняв колени смуглыми руками, потом затянула вдруг туркменскую песню.
— Умеешь по-нашему? — удивился Веки.
— А то нет? Я по-вашему все понимаю, только говорю плохо, как узбечка, — сказала Марина по-туркменски. — У нас в Керках узбеков много живет.
— Ва-а! — сказал, все более изумляясь, Беки и поднял глаза.
Губы у Марины были белые, обветренные, в мелких трещинках и, вероятно, болели: она то и дело их облизывала. Вокруг глаз светлые морщинки, как у всех русских людей, которые много щурятся от солнца. А глаза — голубые, прозрачные, веселые, как вода. Она была очень красивая.
В то время как Беки с замирающим сердцем пытался выразить свои чувства бренчанием на дутаре, Иван Бринько поступал гораздо решительнее. Он без стеснения, будто бы в шутку, предлагал Марине «погулять за барханчик», а то под видом дурашливой игры обнимал ее или ломал ей руки, показывая свою силу, и гоготал нахально, когда Марина сердилась и награждала его оплеухами. Иван был испытанный сердцеед, но Марина не очень-то ему поддавалась.
— Ты, Ванечка, не в моем вкусе, — говорила она ласково. — Я люблю тоненьких и брюнетов. А ты вон какой рыжий да здоровенный, чистый верблюд!
— Зато у меня характер добрый.
— Ого, видать, что добрый! Такой добрый, что все девки плачут, — и она кивала на будку, где жил Бринько.
Над койкой Ивана были приколоты кнопками к стене три письма от влюбленных в него девушек. Одно письмо, от радистки со Второго колодца, было даже с картинкой: барханы, домики и трактор, похожий на паука. Начиналось письмо так: «Любимый Ванюша! Привет со Второго колодца! С тех пор как ты уехал в Инчу, стало здесь тоскливо и пусто, и вправду пустыня. Я все дни плачу. Как посмотрю на того варанчика, которого ты мне подарил, так сейчас вспоминаю тебя…»
Два других письма были примерно такого же содержания, слезливые и просительные: одно из Сагамета, другое из какого-то поселка Западной Туркмении, где Иван служил в армии. Письма бедных девушек были выставлены на всеобщее обозрение. Иван очень ими гордился. В отрядном поселке у него тоже была зазноба, но та не писала писем, а через Гусейна Алиева, шофера с автолавки, передавала Ивану коротенькие записочки и подарки: то банку консервов, пару носков, пачку бритвенных лезвий, а то и бутылку белого. Она работала в орсовском магазине.
При таком повальном успехе не следовало огорчаться тем, что Марина не поддается. Конечно, закрутить любовь на месте, возле экскаватора, было соблазнительно, но шут с ней, с любовью. В песках работать надо, вкалывать, кубы делать. А на любовь другое время отпущено. И Иван не огорчался и даже не обижался на Марину, но с однообразной настойчивостью предлагал ей «погулять за барханчик» — просто так, для смеха…
Прошла неделя, другая. И месяц прошел.
Незаметно, исподволь менялся уклад жизни экскаваторщиков. Теперь Марина готовила обед на всех, ездила в поселок за овощами и мясом, и мужчинам казалось непонятным, как они жили прежде на одних консервах и чае. Марина стирала, убирала в будках, чинила рабочие робы, ходила в пески за саксаулом и делала все это проворно, ловко, как бы шутя, и совершенно бескорыстно. Когда Беки с Иваном решили как-то заплатить ей за стирку, Марина обиделась:
— Думаете, заработать на вас хочу? Ой, надо же! Да мне просто жаль вас, бедненьких-несчастненьких…
Один человек встретил Марину настороженно и до сих пор не оттаял — Семен Нагаев.
Началось с того, что ему, как и трем другим экскаваторщикам, пришлось с появлением Марины претерпеть некоторое стеснение. Марина поселилась в будке отца, на койке, где раньше спал Бяшим, и деликатный Аманов перешел в будку Эсенова, Бринько и Нагаева. Там три койки стояли впритык, четвертая еле влезла. Но так как экскаваторщики работали в разные смены и вместе собирались ненадолго, они не слишком страдали от тесноты. Однако Нагаев никак не мог примириться с тем, что они живут вчетвером, а Марютин, как пан, занимает отдельную будку.
Неудовольствия своего он прямо не выражал, а высказывал общие и неясные претензии ко всему женскому полу. Женщины, по его мнению, повсюду вносят только раздор и смуту.
— Вот поглядите, она тут делов наделает, — туманно грозил Нагаев. — Я эту химию скрозь прошел, у меня их, может, триста было, всех мастей. Она еще даст жизни…
— Да кому? Чего? — недоумевал Иван. — Ведь ты ее стряпню ешь? Не отказываешься?
— Зачем отказываться, я свой продукт отдаю. Это законно. Я только то замечаю, что вы больно на нее глаза пялите и каждый вечер все «лала» и «лала». Мне что! Я свои кубы делаю. А у вас, кажись, понижение тысяч на восемь…
Хотя всем было ясно, что выработка понизилась из-за жары, Нагаев упрямо твердил свое.
Как-то приехало к экскаваторщикам все начальство сразу: начальник отряда Алексей Михайлович Карабаш, инженер Гохберг и начальник производственно-технического отдела Смирнов. По инициативе Карабаша в отряде вводилась обязательная регулярная профилактика механизмов. Дело это было новое и прививалось с трудом. Экскаваторщики, трактористы и скреперисты должны были по определенным дням производить профилактику своих машин, а тем, кто уклонялся, угрожали лишением прогрессивки, то есть ударом по карману.
Карабаш провел с экскаваторщиками четвертьчасовую беседу о пользе профилактики. Он говорил всем известное: о том, что в условиях пустыни механизмы изнашиваются вдвое быстрее, что один день профилактики удлиняет жизнь машины на много недель и что машинисту выгоднее работать в забое, чем «загорать» в ремонте. Машинисты слушали рассеянно. Они понимали, что начальник говорит нечто полезное и разумное, но не очень-то верили в то, что это разумное так уж необходимо применять на практике. Полтора года работали безо всяких особенных профилактик — и ничего, план тянули.
Затем Карабаш познакомил каждого с графиком проведения профилактики и велел расписаться. Все аккуратно расписались. Никто к этой церемонии не относился серьезно.
Был обыкновенный, гнетущий жаром полдень. Инженер Гохберг обливался потом. Его легкая, когда-то голубая, а теперь добела выгоревшая курточка (такие курточки на канале почему-то назывались «москвичками») была распахнута и обнажала влажную впалую грудь с темными волосами. Иногда Гохберг широко открывал рот, словно собираясь что-то сказать, но ничего не говорил, а только жадно, прерывисто вбирал в легкие воздух. Рабочие и начальство жались к будке, в тощую тень. Один Нагаев, не поместившийся рядом со всеми, сидел на солнцепеке и делал вид, что ему плевать на жару.
Когда производственная тема исчерпалась, Карабаш заговорил о жаре. На соседнем участке были три случая солнечного удара. Лето обещает быть очень знойным. В интересах производства каждый рабочий должен следить за тем, чтобы не пасть жертвой солнечного удара.
Карабаш говорил о погоде так же категорично и сухо, по-деловому, как и о профилактике. Рабочие до сих пор не могли привыкнуть к новому начальнику (Карабаш пришел в отряд три месяца назад) и относились к нему с опасливостью. Было непонятно, хороший он человек или плохой, было непонятно, какого он возраста, русский он или туркмен, — имя русское, а фамилия вроде туркменская. По-русски он говорил совершенно чисто, как городской житель, но понимал и по-туркменски, а желтоватая смуглость и черты лица явно обнаруживали восточную кровь. В конце концов рабочие решили, что он татарин.
Бринько спросил у Карабаша, что слышно насчет машин. Прежний начальник, Фефлов, обещал Ивану, как хорошему производственнику, помочь купить легковую машину. То же самое было обещано и Нагаеву и многим другим. Фефлов был крикун, матерщинник и страстный, до потери рассудка, любитель охоты. Эта страсть его и сгубила. Однажды в воскресенье он выехал на газике за джейранами, да вместо одного дня промотался по пескам три, а в понедельник, как на грех, случилось на трассе несчастье — прорвало дамбу на готовом участке. В четверг Фефлов уже сдавал дела. Рабочие не то что любили Фефлова, но относились к нему с сочувствием. Он был понятный и свойский. Кроме того, он всем что-то обещал и ему верили, и хотя он никогда не выполнял своих обещаний, но умел каким-то образом поддерживать в людях надежду. Особенно заманчивы были его обещания насчет продажи легковых машин. Уже составили списки, кому «Волга», кому «Москвич», кому в первую очередь, кому во вторую, — Нагаев был в первой.
И вот пришел новый начальник и сухим, категоричным тоном объявил, что никаких машин нет и не предвидится. Как? Почему? А как же Фефлов? А списки?
— Пожалуйста, обращайтесь с этими списками к Фефлову, он работает нормировщиком в Марах, на кирпичном заводе.
Бринько и Эсенов возмущались, ругали Фефлова и наскакивали на нового начальника, требуя от него ответа за грехи прежнего.
Нагаев, мрачно молчавший, вдруг сказал:
— Да ладно кричать-то. Вы еще на машину не заработали. Лучше будку у них попросите, чтобы жить по-людски. А то машину им! Министры какие…
— В чем дело? — нахмурившись, повернулся к Нагаеву Карабаш.
— А в том, товарищ начальник, что в одной будке нас четверо, а в другой Марютин как на даче живет. Не заметили?
— Ай, зачем говорить? — поморщился Аманов.
— Пусть знают. У нас труд особо тяжелый, мы обязаны отдыхать как положено. Пускай третью будку дают.
— К Марютину жена приехала, что ли? — спросил Карабаш.
Марютин начал сбивчиво объяснять про свою дочь и помершую тетку и сказал, что дочь не против того, чтобы в будке жил третий, но вообще она мечтает уехать в Чарджоу, учиться на медсестру.
Карабаш сказал, что экскаваторщики сами должны устраиваться с жильем, а лишней будки пока все равно нет.
Будущая медсестра занималась стиркой неподалеку от мужчин. Назойливым голосом она пела одну песню за другой и ничего не слышала. Мужчины оглянулись на нее. Она стояла, широко расставив ноги в своих черных шароварах, заляпанных мыльной пеной. Ее полные руки и плечи сверкали медным загаром.
Карабаш сощурил черный, татарский глаз.
— Это дочка? А я думал, жена. Сколько ей лет?
— Девятнадцать. Не то двадцать, забыл уж…
— А вы ее тут замуж выдайте, — Карабаш вдруг улыбнулся. Сухие, жесткие складки появились на миг возле углов рта. — А что? Молодоженам отдельную будку как-нибудь выкроим, это у нас закон.
— Не, не, какой замуж, — замотал головой Марютин. — Она, видишь, в Чарджоу мечтает, на курсы. Только там с сентября занятия, так что через два месяца.
— Одно другое не исключает. Ну, вы уж сами этот вопрос урегулируйте.
— А я не желаю в тесноте, — опять заговорил Нагаев. — И вообще, имею право отдельную будку требовать. Фефлов мне обещал отдельную.
— Ой, Нагаев, какой ты чудак! — усмехнулся инженер Гохберг. — Экскаваторщик ты очень хороший, мы тебя ценим и уважаем, но нельзя же ставить себя выше других. Почему ты хочешь жить в отдельной будке, а Ваня Бринько, например, должен жить с соседями?
— А почему мне Фефлов обещал?
— Ты не отвечай вопросом на вопрос. Я спрашиваю: чем ты такой особенный? Хорошенькое дело! Может, ты туберкулезник или у тебя печень больная, тебя люди раздражают?
Почувствовав насмешку в тоне Гохберга, Нагаев еще больше помрачнел.
— Обедняете, если будку мне дадите?
— У нас нет лишних будок, товарищ Нагаев, — сказал Карабаш. — Пока нет, но будут.
— Была б она его баба, я не спорю. А то девчонка молодая, в штанах бегает, все равно что парень. Кому какое неудобство?
— А кто чего говорит? Я человек неспорный, живите, — сказал Марютин.
— Ай, нельзя так, — покачал головой Аманов.
Марина закричала издали веселым голосом:
— Эй, мужички! Идите чай снимите, а то у меня руки в мыле!
Эсенов вскочил и побежал к костру за кумганом. Все опять оглянулись на Марину. Она стояла, наклонившись над тазом, и смотрела на них через плечо. Мокрая майка облепляла круто выгнутую мощную спину. Заметив, что на нее все смотрят, Марина запястьем левой руки отбросила падавшие на лицо белобрысые куделечки и жеманно улыбнулась.
— Вообще от девок неудобство кругом, — сказал Нагаев.
Марина услыхала, крикнула задиристо:
— Девки на барском дворе! А здесь девок нету!
— Ну и жлоб ты, Семеныч, — сказал Иван.
— А вот не желаю я вчетвером, — угрюмо проговорил Нагаев. — Имею право — и все.
— Никакого права у тебя нет, но, пожалуйста, иди к нам. Я человек неспорный, — сказал Марютин. — И она не против.
— Чтоб Нагаева к нам? Против я! — закричала Марина. — Он жадюга.
— Ты молчи, сорока! — крикнул на дочь Марютин. — Тебя не спросят. Хочешь — переходи, живи, зачем говорить.
— А мне тесниться без интересу… — пробормотал Нагаев.
И в тот же вечер приволок свою койку в будку к Марютину.
4
Из окна комнаты видны горы. Утром они розовые, как сочная арбузная мякоть, потом выцветают, желтеют, становятся совсем желтыми. И весь день они желтые, как дыня. Странно видеть эти желтые горы: они кажутся раздетыми.
Я сижу в узкой, полутемной комнате гостиницы и жду Сашу. Он должен был прийти час назад. Саша — мой товарищ по университету, он работает литсотрудником в здешней газете. Где он только не работал за семь лет после того, как мы кончили! В Молдавии, на Алтае, на Дальнем Севере и вот, наконец, здесь, в самой южной республике. Сюда его притащила жена. Она биолог или гидрогеолог, а может быть, мелиоратор, — словом, изучает пустыню. Она была, помнится, высокая, статная, с большой пшеничной косой и разговаривала грудным голосом, немного в нос. Сейчас она где-то в экспедиции, и я ее не видел. Саша здорово изменился. Во-первых, он, что называется, посолиднел, у него появился второй подбородок и возник животик. Во-вторых, он увлекается какой-то чепухой, — например, собиранием спичечных этикеток и вырезыванием карикатур из газет и журналов. И, в-третьих, в нем открылось качество, совершенно неизвестное прежде: он сделался ловеласом. Еще десяти дней не прошло, как я приехал, а Саша уже два раза просил меня одолжить ему «на часок» ключ от номера. По словам Саши, в этом городе, разрушенном ужаснейшим землетрясением, жестокий удар нанесен любви. Жилья мало, люди живут в тесноте, и любовникам негде встречаться. В какой-то степени спасает теплый климат, да еще выручают знакомые, которые живут в гостиницах, и то если это отзывчивые и деликатные люди.
Я уходил в город и, доказывая свою деликатность, возвращался в гостиницу не через час, а через два часа. Мне не хотелось выглядеть ханжой. Я злился на Сашку, меня злили его эгоизм, беспардонность и то, что я бездарно трачу время, когда дела мои не двигаются; но что я мог поделать, если я так зависел от него! А он, сукин кот, этим пользовался. В номере я находил пустую бутылку из-под портвейна, мятые конфетные бумажки и с необыкновенной аккуратностью застланную постель. В ванной было набрызгано. Они принимали душ. На столе лежала записка: «Мы тебя приветствуем, старик. Завтра созвонимся. Штопор отдай дежурной».
И при всем том Саша — единственный в этом городе человек, который мне как-то близок и который может мне помочь. Кроме него, у меня нет здесь не то что товарищей, но даже знакомых. Есть беглые, ничего не значащие знакомства с несколькими ребятами из газеты, Сашкиными друзьями, и с кинорежиссером Хмыровым, москвичом, который живет в номере напротив, через коридор. Этому Хмырову лет пятьдесят, у него странное, узкое лицо, нижняя часть которого вытянута вперед, что придает ему сходство с таксой. Чем он знаменит — неизвестно, но держится он важно. Утром, когда мы встречаемся в коридоре или за завтраком в ресторане, он никогда первый не здоровается, а строго смотрит на меня в упор и ждет, что я кивну. Я киваю. Мне не жалко.
Я приехал сюда в надежде устроиться в республиканскую или хотя бы в областную газету «Копетдагская заря», где работает Саша. С республиканской дело рухнуло сразу, там не оказалось вакантных мест, а с «Копетдагской зарей», на которую я рассчитывал твердо и считал, что там все на мази, тоже происходит какая-то странная волынка. Может быть, даже это не волынка, а просто мне не везет. У меня шли с ними переговоры и переписка при Сашкином посредничестве (он писал в Р-ск, Московской области, где я работал в районной газете), я послал редактору документы, кое-какие свои материалы, редактор ответил приглашением, и я приехал. Но за неделю до моего приезда редактор чем-то проштрафился, и его «перевели на учебу». Газету подписывает бывший зам, Диомидов, человек бесхребетный и нерешительный. Он морочит мне голову, переносит встречу со дня на день и ничего не обещает. В чем тут дело? Я стараюсь понять, стараюсь мыслить за Диомидова: а почему, собственно, он должен мне что-либо обещать? Я для него пустой звук, ненужность, рекомендация Саши Зурабова, — подумаешь, фигура: Саша Зурабов!
Черт возьми, за последние двадцать лет я так привык к тому, что все мои дела сопровождает «какая-то странная волынка». Это началось еще со школы, с седьмого класса, когда меня долго не принимали в какой-то оборонный кружок, как сына врага народа. И потом длилось всю жизнь: на заводе, в армии, в университете, после университета. Два года назад, летом пятьдесят пятого, отца реабилитировали и посмертно восстановили в партии, членом которой он был с 1907 года, и волынка должна была прекратиться. Она, может быть, и прекратилась, а может, только немного утихла. Но она продолжалась во мне самом: мерещилась повсюду! Я так привык жить с ней бок о бок, что не в силах ее забыть.
И вот сейчас: может, и нет никаких причин волноваться, но я ничего не могу поделать с собой. Проклятая неуверенность. Она сидит во мне, как бацилла.
Сегодня в четыре я должен быть в редакции, Диомидов мне назначил. Кажется, я спрошу сегодня прямо: в чем загвоздка? В анкетных данных, что ли? Он станет отрицать, но я угадаю по интонации. Угадывать я научился здорово. И тогда я выскажусь — терять мне нечего, — завтра возьму билет и смотаюсь отсюда, но он, сволочь, меня запомнит. Сейчас не те времена. Если только я учую запах волынки, я ему сделаю больно, этому господину с изящной фамилией. Пойду в обком партии или даже в ЦК.
Вот Сашка стучит в дверь.
— Да! Влезай!
Он входит, скрипя сандалетами, в голубой рубашке навыпуск, а следом за ним худой черноволосый молодой человек в очках. В желтом рябом лице что-то совиное. Большой нос крючком, из-под стекол глядят черные немигающие глаза.
Он слабо, с почтительностью, пожимает мою руку.
Саша громким голосом, похлопывая по спине и меня и его, объясняет, что я «мировой парень», а он «хороший мужик», «вольный сын ашхабадского эфира» и, пока суд да дело, может заказать мне очеркишко для радио. Это кстати! Мне нужно срочно заработать, потому что я на исходе. Это невероятно кстати, но я не должен показывать своей радости. Атанияз — так зовут «хорошего мужика» — разговаривает очень тихим, глухим голосом. Он спрашивает, как мне нравится Туркмения и надолго ли я приехал. Я что-то рассказываю о книгах Лоскутова и Тихонова, говорю, что меня с детства манили пустыни и что я, собственно, давно собирался побывать на древней земле Туркмении. Все это очень приблизительно похоже на правду.
Но лицо человека в очках неожиданно розовеет. Он оживляется, он начинает подробно объяснять, куда мне надо поехать, что увидеть: какие-то развалины, мечети, горы, канал, нефть, озокерит. А я думаю: как бы он не забыл об очерке. Мне ведь это так важно! Но нет, он, слава богу, не забывает: надо написать пять-шесть страниц о колхозе имени Кирова, где в воскресенье состоится колхозный фестиваль молодежи. В порядке подготовки к республиканскому фестивалю. Надо бы разок туда съездить до воскресенья. Это недалеко, ходит автобус.
— Ну что ж, — говорю я, — можно съездить. Все в наших силах. Сегодня я занят, меня ждут в редакции, а завтра или, скажем, в пятницу…
— Да! Кстати! — Саша хлопает меня по колену. В течение всего нашего с Атаниязом разговора он читал газету, рассевшись на моей кровати, а теперь вдруг встрепенулся. — Ты знаешь, поход отменяется: Диомидов укатил в Ташкент на четыре дня. Вот подонок.
— Значит, не идем?
— Нет.
— Зачем же я мыл шею? — говорю я, смеясь, хотя мне совсем не весело. Наоборот, я сражен этим известием. — Что будем делать? Четыре дня ждать…
— Ничего, подождем. Можно пойти в «Дарвазу», — предлагает Саша. — Только давай забежим на минуту в редакцию, я возьму портфель, и потом, если хочешь, в «Дарвазу». Но я совершенно пустой, предупреждаю.
Саша ведет себя честно: всегда предупреждает, что он пустой. Он пытается занять деньги у Атанияза, но тот, оказывается, тоже пустой. Распрощавшись с нами, Атанияз уходит на работу.
А мы с Сашей направляемся в редакцию, а потом в «Дарвазу», обедать. Я еще не пустой, меня хватит недели на полторы. А что дальше? Что будет через четыре дня?
Мы идем по городу, обезображенному страшной бедой. Говорят, когда-то он был красив. Говорят, что он был необыкновенно зеленый и уютный. Зелень осталась. Деревья стоят на земле гораздо прочней, чем дома. Великолепные тополя, мощноствольные акации и шатровые, раскидистые карагачи в уборе гремучей, тусклой от пыли листвы стоят на своих местах, где они были посажены полвека назад. Ужас той ночи пронесся мимо них. Исчезла или же навсегда изменилась жизнь, журчавшая под их сенью, и остался от нее окаменевший бред, мираж: кирпичный мусор бывших домов, забитый травой и пылью, изломы бывших тротуаров. Как хорошо быть деревом! Как хорошо ничего не помнить! Вот они, новые дома, крепкие, толстобокие, выстроившиеся ровно, как солдаты, — никакие баллы им не страшны, — одинаково покрашенные в светло-песочный цвет, с одинаковыми балконами и террасами, где спят в летние ночи. Улица пахнет иссыхающей листвой и мяклым асфальтом. И деревья так же ласково качают ветви над крышами новых домов, как и над теми, что исчезли, рассыпались прахом в ту ночь — девять лет назад…
— Послушай, — говорю я, — как ты думаешь: а не играет ли какой-нибудь роли в моем деле то, что у меня с отцом? Хотя он реабилитирован одним из первых. Еще мама была жива.
— Вряд ли, — говорит Саша. — Не думаю. Нет, сейчас другие настроения. А помнишь, как я выступал на собрании — на нашем, факультетском, — когда тебе строгача влепили? Когда ты скрыл насчет отца, помнишь? Тебя хотели исключить, но потом я выступил…
Еще бы мне не помнить! После того собрания, восемь лет назад, жизнь моя пошла наперекос. Райком меня все-таки исключил, потом горком восстановил со строгим выговором. Из университета пришлось уйти, я закончил два последних курса заочно. Мама очень болела. Мы жили за городом. Днем я работал диспетчером на Томилинской автобазе, а ночами читал вместе с мамой корректуру каких-то дурацких пьес, которые печатались на стеклографе для периферийных театров. Доставать эту работу было трудно. Ее брала одна мамина приятельница на свое имя, и то не регулярно, а я три раза в неделю ездил в Москву, отвозил и привозил тяжелые пачки экземпляров. Но самым мучительным были ночи чтения! Иногда вечерами приезжала Наташа, и ее тоже мама засаживала читать корректуру. Потом Наташины родители восстали против наших встреч. Были слезы, объяснения, ее неожиданные приезды, ее жизнь у меня — с пиленьем дров, с керосинками, с безденежьем, с чтением корректуры, — и естественный конец всего этого: мы расстались. Нам казалось, что нам станет легче, когда мы расстанемся. И правда, через год она вышла замуж за одного военного инженера, а я наконец-то получил диплом и после разных мытарств устроился в подмосковный музей экскурсоводом. Все считали это удачей: пять остановок электричкой по той же дороге. Я не мог никуда уехать, потому что не мог оставить маму. После реабилитации отца она прожила всего четыре месяца. И все-таки она дождалась! Даже успела получить какие-то деньги, так называемую компенсацию, вернее, получил я по доверенности. Она умерла успокоенной, считая, что теперь я устроен и мне будет хорошо. А мне было очень плохо и одиноко и ни черта не хотелось. Я уехал в Р-ск, в районную газету: было все равно, куда ехать.
Вот что было после того собрания, на котором Наташа как раз выступала, а про Сашку не помню. Нет, не помню. Может, он и выступал где-нибудь в коридоре или в мужском туалете, но не на собрании. Впрочем, неважно. Все это было давно. Важно выяснить, что происходит сейчас.
— Ну, как ты считаешь? Нет ли тут…
— Да нет! — говорит он решительно. — Ничего тут нет. Просто наш Дио знаменитый резинщик. Тянет резину — и больше ничего.
В редакции мы застреваем надолго. Там что-то произошло, все возбуждены, ждут какого-то совещания или собрания, которое должно быть сегодня, а Саша, как я понимаю, хочет от этого дела потихоньку отмотаться. Он ходит из комнаты в комнату, а я жду его в коридоре. Некоторых из редакционных я знаю, например, кудрявого, здоровенного, похожего на штангиста парня, которого все называют Жорик. Он работает в промышленном отделе. С этим Жориком меня на днях знакомил Саша, и теперь хорошо бы остановить его и прощупать: что он слышал насчет моих дел? Но остановить Жорика невозможно. Он возбужден больше всех, бегает по коридору, непрерывно кому-то названивает. Меня он не узнал и даже не поздоровался. Наконец Саша закончил свои маневры, шепнул на ходу: «Пошли, быстро!» — и мы быстро выходим.
Но на лестнице, на первом этаже, нас догоняет Жорик и просит Сашу не опаздывать.
— Да не суетись ты, едрена Матрена, — говорит Саша. — Чего ты суетишься? Я приду, сказал же. Как только освобожусь в гороно…
— Они будут ровно в шесть!
— Ладно, я помню…
На улице он рассказывает: Жорик Туманян и еще один архитектор три дня назад напечатали статью о неправильной застройке города после землетрясения, о том, что в первую очередь возводили административные здания, понастроили разные министерства и комитеты с шикарными колоннами, а жилье строилось невероятно медленно, многие до сих пор живут в землянках. И это, мол, безобразие.
В Горстрое, конечно, шум, паника. Вчера выяснилось, что в городском Совете тоже недовольны статьей, звонили в редакцию, ну, а тут были свои противники, проходила статья с трудом, и теперь эти противники подняли голос: «А, мы говорили!..» В общем, сегодня горстроевцы придут в редакцию и будет обсуждение статьи.
— И поэтому Туманян волнуется?
— Волнуется зря: его дело верняк, статью благословили в одном из тех самых домов с колоннами, на которые он обрушился, так что он в порядке. Вообще эта смелость задним числом меня начинает раздражать. Если б он выдал такую штуку лет пять назад! А сейчас-то мы все смельчаки…
Ни в какой гороно мы, конечно, не идем, а прямо направляемся к «Дарвазе».
«Дарваза» — это ресторан, лучший в городе, расположенный на главной площади, рядом с базаром, оперным театром, телеграфом и стоянкой такси. Входим в небольшой вестибюль, овеянный запахами борща и жареного лука. Старик швейцар здоровается с Сашей: «Здравия желаем!» — и двумя руками, как блюдо, бережно принимает его портфель. Швейцара зовут Шапкин. Это, кажется, не фамилия, а прозвище.
В зале душно. Гудят вентиляторы. Мы идем между столиками, Саша впереди, я на три шага сзади. Саша по-хозяйски оглядывается, примериваясь, куда бы сесть, и одновременно с кем-то здоровается, кому-то кивает издали, помахивает рукой. Наконец он выбирает дальний столик в углу.
— Садись тут, — говорит он, выдвигая стул. — А я сяду вот здесь, чтобы не видеть некоторых подонков.
Подходит толстая пожилая женщина с наколкой официантки. Она годится Саше в бабушки, но он называет ее Машенька. Он заказывает триста водки, пиво, салат из помидоров, одну селедочку и два шницеля. И начинает вспоминать. Все дни наших встреч он предается воспоминаниям. Вероятно, он считает, что ни на что, кроме как на воспоминания о прошлом, я не гожусь. Он вспоминает общежитие, ребят, какие-то наши вечеринки, вспоминает девочек («А помнишь, к нам ходила Нинель из Менделеевского, такая — с бюстом?»). Вспоминает шутки, розыгрыши, скандалы на экзаменах, вызовы к ректору. Удивительно, как он помнит всю эту чепуху!
Меня это утомляет. Я не люблю вспоминать. Черт возьми, мы не виделись гигантский срок! Было столько потрясающих событий. Мы прожили эти годы врозь, не обсуждали новостей, не спорили до хрипоты, до ссор, как бывало.
Машенька ставит на стол графин водки, пиво и салат из помидоров и лука. Саша предлагает выпить за альма матер.
— Все-таки было неплохое время, а? Хорошее было времечко! Да что говорить — лучшее время нашей жизни. Лучше уж не будет…
Он погрустнел, растрогался.
— Да нет, — говорю я. — Время было в общем паршивое.
— Почему? Мы были моложе на восемь лет, а это уже кое-что.
— При чем тут время?
— Да брось! Я знаю, что ты хочешь сказать. У тебя были неприятности. Но мы были молоды, жили как-то весело, жадно. Бар номер четыре помнишь? А капустники помнишь? Митьку Ципурского с его «синкопическим языком»?
— Помню. Его потом исключили.
— Разве исключили?
— Конечно.
— Я забыл.
— А ты забыл, как Николая Львовича с кафедры выгоняли, забыл? Как он пришел в общежитие и показывал какие-то газеты двадцатых годов со своими статьями?
— Это я помню. Я как раз был в комнате. — Он помолчал, вздохнул. — Нет, и все-таки было ничего! Зимой на лыжах, в Опалиху, летом в Химки с девчатами. Знаешь, для меня эти годы, жизнь в Москве, так и остались лучшей полосой…
К нам подходит высокий белокурый парень в ковбойке. Лицо его темно-красно от загара, а морщинки светлые, брови тоже светлые и губы белые, обветренные. Странное лицо, оно похоже на негатив. Саша, не вставая, подает парню руку и знакомит со мной. Он объясняет, что пришедший — лучший его друг, геолог, «мировой мужик». Геолог протягивает мне могучую, темно-красную руку. Несколько секунд он мнется возле стола, но Саша не приглашает его сесть с нами, и геолог отходит.
— Мужик действительно мировой, — говорит Саша, — но утомительный. Весь вечер будет рассказывать о своих шурфах и теодолитах. И, кроме того, задаст такой темп в этом смысле…
Он разливает остаток вина в рюмки.
— А я уже не тяну. Старость, брат. Ну, будь! — Саша опрокидывает рюмку. — Вот ты говоришь: тогда было время дрянь, сейчас лучше. А чем лучше? Лично я не чувствую. Торчу в этой газетке литсотрудником, перспектив никаких. Да и ты не блещешь, ни хрена не добился за семь лет, верно же?
— И все же время изменилось, не то, не то!
— Что — не то?
— Все не то.
— Ну, не знаю. Тебе видней, ты человек из центра.
— Понимаешь, обратного пути быть не может. Так мне кажется, во всяком случае.
— Тогда будь здоров, мой мальчик! И не горюй. — Он поднимает бокал пива.
Мы выпиваем по бокалу и молчим некоторое время, сосем папиросы.
Саша зевает, оглядываясь по сторонам.
К столику подходит местный поэт, молодой человек в зеленых вельветовых брюках, — меня с ним знакомили на днях здесь же, в «Дарвазе», — и просит у Саши двадцать пять рублей, но Саша говорит, что он «пустой», и поэт грустно присаживается к нам и с удрученным видом наливает себе пива из нашей бутылки.
— А жизнь тут не подарок, — вдруг говорит Саша. — И если б не Лерка, я бы отсюда снялся, ей-богу. Ну что тут хорошего, а, Игорек? Пиво хорошее?
— Пиво — мура, — говорит поэт и наливает себе еще пива. — В Москве, конечно, лучше. Жигулевское.
— Тут надо или утешаться работой, вкалывать до потери сознания, или же находить закоулочки для отвлечения души: кому там преферанс, кому женщины, а кто гитару купил и по самоучителю рубит каждый вечер…
На эстраде появились четыре неважно выбритых восточных человека. Сейчас будет музыка. Вот она грянула, и несколько женщин поднимаются из-за столов и идут танцевать. Женщин в зале немного, но все они, мне кажется, чем-то похожи: все с мелкой завивкой и с металлическими зубами. Может, у меня уже троится в глазах? Потом подсаживается какой-то белобрысый, который оказывается летчиком и лучшим Сашиным другом. Поэт читает стихи. Вновь возникает геолог и слушает поэта с изумлением, открыв рот, в котором сверкают белые, прекрасные зубы. Летчика не интересуют стихи. Повернувшись к поэту спиной, он рассказывает мне длинную историю о своем недавнем полете.
— Погода была следующая: низкая облачность, метров триста — четыреста, ветер северо-западный… — При этом он жестикулирует двумя руками, показывая движение ветра и путь самолета.
Потом я вижу, что в зале появились ребята из газеты: Жорик Туманян и с ним еще трое, из которых я знаю Бориса Литовко, ответсекретаря. Они сидят за дальним столом. Саша не смотрит в их сторону, но вскоре Жорик сам встает и подходит к нам.
— Задержался в гороно? — спрашивает он и, не дожидаясь ответа, говорит возбужденно: — Ну, была война! Лузгин чего-то струхнул и начал вилять, а они привели с собой какого-то инспектора из горсовета, круглого дурака, — ну, мы дали им жизни! Борис Григорьевич произнес такую речугу — сила!
— В общем, ты в порядке?
— Вроде да. В основном. Тебя Борис зовет…
Саша идет к ним и возвращается минут через десять, очень недовольный. Его, кажется, заподозрили в том, что он увильнул от встречи.
— А ну их! Раздувают шумиху…
Вот к нашему столу подъезжает еще один стол, и компания увеличивается вдвое. За этим столом сидят рабочие с канала. Они приехали в город на три отгульных дня. Ребята гуляют давно, они уже сильно накачались, один просто спит за столом, но трое остальных готовы начать все сначала. Ставятся два свежих графина водки. Машенька несет на стол тарелки с холодцом: волокнистые, болотного цвета ломти, пахнущие уксусом. Намазываем на них горчицу. Пьем за знакомство. Один из ребят видел Сашу на трассе, сразу признал, но почему-то считает, что Саша артист и все мы артисты. Наши уверения его нисколько не убеждают. Он упорно твердит, чтобы мы приехали на какой-то Второй водосброс: «Встретим вас законно! У нас знаете как артистов любят!»
Потом ребята рассказывают, как они живут в песках, словно полярники, «в кучке», неделями не видят газет, не слышат музыки, а в Ашхабаде, кроме гулянья, у них много дел: надо купить для клуба радиолу, волейбольную сетку и пластинок повеселей. Вот пластинок хороших нигде нету. Не могли бы мы, как артисты, помочь им насчет пластинок? Саша что-то обещает, дает телефон.
С ребятами интересно, я бы сидел и слушал, но вдруг замечаю за дальним, возле окна, столом знакомого человека. Красное, шкиперское лицо, глубокие, как шрамы, морщины вокруг рта. И этот темно-зеленый костюм, заграничный, из нейлона, который так аккуратно развешивался каждый вечер на стенке купе. Четверо суток ехали вместе. За четверо суток я почти ничего не узнал о нем: он отмалчивался, пил пиво и скверно играл в шахматы. Кажется, он возвращался сюда после очень долгой отлучки.
Я подхожу отменно твердой походкой.
— Здравствуйте, Денис.
— А-а, привет вам! Садитесь…
Я сажусь. Рядом с ним сидит маленький, со взъерошенной сивой шевелюрой, с лицом сухим, сердитым, болезненно желтым Борис Литовко.
Денис смотрит на меня долгим взглядом, не мигая, и молчит. По его глазам я вижу, что он чудовищно пьян. Наконец он с трудом разлепляет губы.
— Вот с этим курчавым, — он кивает на Бориса Литовко, — вот с ним мы начинали жизнь. Лет почти двадцать назад. Мы были тогда молодые и красивые, то есть красивым был я, а он был такой же сушеный боб, Борис Григорьевич, он же крошка Цахес, только волосы у него были черные, и он умел нравиться женщинам, потому что помнил десять тысяч анекдотов… Ты ни черта не изменился, крошка! Я узнал тебя на улице по спине!
— О чем ты болтаешь? Никому это не интересно, — говорит Борис Литовке.
— Я вспоминаю тот день. Мы приехали красноводским поездом. Я даже помню, какие у тебя были ботинки: такие высокие, красные, с крючками. Помнишь?
— Помню, помню, это никому не интересно. Интересно другое: ты мужчина? У тебя есть воля?
— Я мужчина. Но я старый мужчина.
— Ты не старый, ты просто липа! Слюнтяй! Десять дней собираешься с духом, хотя в этом абсолютно нет сложного. Время тебя подняло из дерьма, поставило на ноги, а ты боишься сделать шаг.
— Крошка, о чем ты говоришь? Если бы ты прожил мою жизнь…
— Я прожил свою жизнь. Давай махнем не глядя, а? — Литовко зло усмехнулся. — Твоя страшная жизнь длилась шестнадцать лет, а моя семнадцать секунд. Но за эти секунды я потерял все. Все, что у меня было: мать, жену, двоих детей — мальчика девяти лет и девочку шести… — Теперь он обращается ко мне, потому что Денис, видимо, все это знает. — А почему я остался жив? Я вышел на двор. Это было ночью, в два часа ночи. И меня лишь задело доской, когда свалилась уборная.
Денис закрывает ему рот ладонью:
— Ладно! Молчи…
Потом я узнаю историю Дениса, которую тоже рассказывает Литовко. Трудно слушать, меня томят неотвязные мысли (с ним бы можно посоветоваться начистоту и спросить: есть у меня шансы в газете? Как бы спросить? Он там не маленький человек, ответсекретарь, но суть рассказа я улавливаю.
Денис не был дома шестнадцать лет. В сорок втором попал в плен, освободили американцы. Застрял в Европе, шлялся из страны в страну, как перемещенное лицо, и вот лишь недавно приехал, после амнистии. Он приехал в город, где оставалась его семья, жена и сын, и до сих пор их не видел. Не хватает смелости пойти. Никто, кроме Бориса Литовко, не знает, что он приехал, но он сам уже знает все. Он знает, что у жены другой муж, некто Аннаев, туркмен. Директор школы или, кажется, техникума. Живут хорошо, у них свой дом на Пишпекской и автомобиль «Москвич». А сын Володька — ему было полтора года в сорок первом, когда Денис уехал, — сейчас верзила баскетбольного роста, десятиклассник. И, кажется, фамилия у него не Кузнецов, а Аннаев. Вот уже вторую неделю Денис живет у Литовко, в холостяцкой комнате на окраине. А что будет дальше? Он пойдет туда завтра, а может быть, через месяц.
Денис ковыряет вилкой салат, роняя томатные капли на свой гамбургский, слегка уже потертый на обшлагах костюм. Смотрю на его опущенное к тарелке лицо, красное, выдубленное годами, тоской, окаменевшее сейчас в каком-то воспоминании. Он, так же как я, почувствовал это всей кожей: слом времени.
Нет, спрашивать у Литовко ничего не буду. Если б он мог что-нибудь сказать, он бы сам сказал. От него там ни черта не зависит.
Столики вокруг нас опустели. Кажется, только что было утро, а вот уже поздний вечер. Когда-нибудь я с таким же удивлением подумаю о жизни. Так быстро? Неужели? А пока что за окном душный, окутанный ночью город. Я почти не знаю его, но он мне нравится, он похож на человека, тоже поднимается из развалин, и мне будет жалко, если я уеду отсюда. А я уеду. Невозможно ждать. У меня нет денег, нет времени, проходит жизнь, я не могу ждать. И я никогда не узнаю, встретится ли Денис со своей семьей и как устроился в этом мире потерявший все Борис Григорьевич Литовко. И потом — мне нравятся желтые горы. По утрам они розовые. Интересно, какого они цвета, если подойти близко?
Официантки зевают. Музыканты пьют пиво за столиком возле эстрады, свет над эстрадой потух, пианино в чехле.
Подходит Саша.
— Ты остаешься?
С Борисом Григорьевичем они обмениваются холодными взглядами. Странные люди, ссорятся из-за пустяков. Я вспоминаю, что надо рассчитаться, но Саша говорит, что уже рассчитались. Ребята с канала заплатили за весь стол.
— Чему ты удивляешься?
— Они, по-моему, нас не знают.
— Ерунда. У них денег вагон.
Кажется, я забыл попрощаться с Денисом.
По темной улице сочится запах листвы, сладкий и тяжелый, как патока. Шаркаем по асфальту. Он еще теплый после дневного зноя. На скамейках во мраке гнездятся парочки. Мы проходим мимо распахнутых ставен, мимо окон, затянутых марлей и металлическими тонкими сетками от москитов, и слышим обрывки неясной ночной жизни: шепоты, невнятную речь, тихие вздохи музыки. Прощай, город! Через неделю я покину тебя, с твоей духотой, с твоими ночами, звездами, с твоими людьми, занятыми своей жизнью…
В окнах телеграфа горит свет. Саша вспомнил, что ему надо послать телеграмму жене. Она сейчас где-то далеко, в пустыне.
— У нее, между прочим, жизнь — не подарок, — бормочет Саша. — А мы тут пьем, гуляем…
Сажусь на лавку и жду, пока Саша напишет текст. Какие-то люди с застывшими, сонными лицами сидят по углам зала в ожидании вызова к междугородному телефону. Я бы тоже послал кому-нибудь телеграмму, но кому? И потом мы долго идем по ночным улицам, где почти нет фонарей, и из каждой подворотни на нас лают собаки. Весь город лежит во тьме, а над головой — яркое, цветущее звездами небо. Оно кажется живым от звезд, оно переливается, искрится, в нем бродят свечения, голубоватые и серебряные, колышется беспредельный свет, оно светлое. И только на южном краю темно и беззвездно. Там горы. Сейчас они черные, как земля, по которой мы идем.
5
Раскалившимся шаром, утопая в жаркой пыли, катилось лето. Все дальше таранили пустыню строители, метр за метром выгрызали ее нутро, и все короче становился, пока еще неощутимо, недоступно слуху и зрению, гигантский путь до Мургаба. Вновь прицепили будки к тракторам и поволокли на запад — на новое место.
Нагаев прекрасно жил в одной будке с Мариной: чужак чужаком. Ни он ей, ни она ему не мешали. Она, как и раньше, ходила на вечерние посиделки к Ивану и Беки и пела «Голубку», Иван по-прежнему получал тумаки, а Беки тосковал молча.
Марина нисколько не стеснялась тем, что рядом на койке живет мужчина. Она его, всегда хмурого, озабоченного мыслями о кубах, о работе, и за мужчину как будто не считала. Так, работяга вроде отца, скучный, старый и совсем не похожий на настоящих «кавалеров» и «мальчиков», о которых у Марины было твердое представление как у постоянной посетительницы Керкинского парка. По утрам она приказывала отцу и Нагаеву: «Вы! Отвернитесь!» — или же: «Уходите оба! Я мыться стану».
Иногда Нагаев уходил, а иногда, если возвращался усталый после ночной смены, отвечал сердито:
— Ноги не ходят…
И отец уходил, а Нагаев оставался лежать на койке, отвернувшись к стене. Марина плескалась в тазу, фыркала и шлепала себя по тугому телу: она была невероятная чистюля, обливалась до пояса чуть ли не каждый день. На новом месте вода была вольная, туркменский колодец рядом, купайся — не хочу.
Приговаривала враждебным шепотом:
— Смотри, если повернешься! Как дам тазом по голове, тогда узнаешь.
— Нужна ты мне, как корове зонтик… — бурчал Нагаев.
Любила вести с Нагаевым ехидные разговоры:
— Семеныч, а верно говорят, что ты самый богатей из экскаваторщиков? У тебя, брешут, сорок тыщ на книжке.
— Кто сказал? — настораживался Нагаев.
— Люди вообще… А не правда?
Нагаев отмалчивался или отвечал грубо, стремясь прекратить неприятный разговор. Но отшить Марину было непросто. Она настойчиво, с притворной ласковостью допытывалась:
— А зачем тебе столько денег, Семеныч? Дядька ты старый, одинокий, ни кола у тебя, ни двора.
— У меня полдома в Дмитрове.
— Что ты понимаешь, трещотка? — вступался за Нагаева Марютин. — Сорок лет, говорит, старый. Глупость какая. Вот именно в самый раз ему деньги нужны, чтобы семью заводить и все хозяйство.
— Я б тебе показал, какой я старый, — бормотал Нагаев.
Марина хохотала:
— Ой, надо же! Комик! Только показывать и осталось, верно…
— Машка! Язык оборву! — кричал Марютин строго, а в душе смеялся.
В начале августа выдался один особо мучительно жаркий день. Никто в дневные часы не работал. Экскаваторщики валялись голышом в будках, истомившиеся, дохлые: разговаривать лень, курить неохота, и спать не спится. Даже чай налить в пиалушку рука не поднимается.
Один лишь нагаевский экскаватор громыхал в забое. Вдруг умолк. Настала тишина и длилась долго. Нагаев не появлялся. Почуяв недоброе, Бринько с Амановым натянули штаны, накинули рубашки, чтоб не спечься, и пошли в забой.
Нагаев лежал навзничь на песке возле экскаватора — глаза закатились, лицо белое, безжизненное, закинуто подбородком вверх.
Ковш, наполненный грунтом, покачивался высоко под стрелой. Видимо, в последний миг перед затмением сознания Нагаев успел нажать на тормоз.
Убедившись, что Нагаев жив, но в глубоком обмороке, Иван сгреб его в охапку и понес в будку. Аманов полез в кабину, чтобы вывалить грунт и опустить ковш, как положено.
В кабине стояла такая сухая, мертвящая жара, какая может быть в тандыре, в туркменской каменной печке, когда в ней пекут хлеб.
Догоняя Бринько, Аманов испуганно кричал издали:
— Живой? Сердце бьет?
— Да бьет, бьет, — отвечал Иван. — Сомлел от жары и кувырнулся. Жадность…
Принесли, положили на койку. Нагаев не приходил в сознание. В будку вбежала Марина, растолкала всех, начала, сверкая глазами, командовать бойко, вдохновенно:
— Куда голову лежите? Беспонятные! Батя, мочи полотенце! Да куда ты в ведро? То ж нагретая! Бегите один кто к колодцу!
Эсенов побежал. Экскаваторщики переговаривались вполголоса:
— Ему бы двести граммов…
— А где взять?
— Вот и я про то…
— Никаких граммов! И чего задымили, чего задымили? — набросилась на мужчин Марина. — Мотайте отсюда с табаком!
Через четверть часа Нагаев пришел в себя. Первое, что сказал: «Ковш опустите».
Чуть спала жара, экскаваторщики ушли к машинам. Нагаев тоже попытался встать и пойти, но свалился на пороге будки. Он очень ослаб. Он пролежал весь вечер и весь следующий день.
Марина поила его крепким чаем, смачивала в холодной воде полотенце и прикладывала к его голове и сердцу. Сильными руками она переворачивала его с боку на бок и обтирала грудь, спину и плечи холодным. Нагаев ворчал сквозь зубы. Ему было стыдно своей наготы и беспомощности. А Марина упивалась ролью спасительницы. Она по-прежнему как будто не замечала, что имеет дело с мужчиной: Нагаев был для нее просто больной дяденька, всамделишный пациент, которого интересно лечить и выхаживать. Ведь она мечтала стать медсестрой, а когда-нибудь и настоящим врачом, — правда, для этого ей не мешало бы закончить три последних класса.
Желтолицый, обросший щетиной, протянув вдоль тела худые руки, лежал Нагаев на койке и пристальным взглядом смотрел на девушку. С трудом разжимая губы, цедил:
— Ну и Трухмения, ну и дрянь земля… Пропади пропадом…
— Нет, туркменская земля хоро-о-ошая, — говорила Марина мягким, баюкающим голосом, каким полагается говорить больничным сиделкам. — Правда, солнышко у нас злое, его остерегаться надо.
— И какое меня лихо занесло сюда, дурака?
— Земля наша очень прекрасная, Семеныч. Вот поехал бы ты в Чарджоу…
— Молчи! Понимаешь ты… — Он вздыхал и отворачивался. Марина кротко молчала. — Ты ведь, глупая, жизни не знаешь. Не видала ничего, кроме песков да пылюки, — медленно продолжал Нагаев. — А какие леса в России! Реки… Городов настоящих не видела… Эх, голубка… А дожди какие! «Не осенний мелкий дождичек» — знаешь песню?
— Слыхала вообще…
— Слыхала! — Нагаев презрительно двигал рукой. — Что ты понимать можешь? Ничего.
И вновь умолкал. Марина тихо сидела на войлочном полу, а он, передохнув, продолжал вяло и сбивчиво поносить жару, стройку, начальство, вспоминал прошлое, какие-то другие стройки («Вот была житуха! Дай бог всякому!»), хвалился прежней своей жизнью и вдруг с непонятным раздражением начинал высмеивать Марину за ее любовь к Туркмении и за невежество.
И, может быть, оттого, что Марина покорно слушала, или оттого, что Нагаев просто обмяк душой и телом, он делался все откровенней и рассказал кое-что о своей жизни, чего раньше никогда не рассказывал.
Исколесил он, оказывается, всю страну — от Мурманска до Сибири. Работал лесорубом, плотником, трактористом, шофером на автобусе, а последние семь лет — экскаваторщиком на разных стройках, в том числе на Волго-Доне. И в Москве побывал, и в Ленинграде жил две недели, как генерал, в самой лучшей гостинице, и заграницу успел посмотреть в период войны. Наконец, сюда занесло, в чертово пекло.
Дальше — больше, и про семейные дела пошел рассказ. Не всю жизнь Семен Нагаев бобылем гулял. Была и у него семья когда-то — жена молодая и ребеночек. До войны, конечно. А вернулся с войны в родной город Дмитров и узнал «приятную» новость: жена другого мужика нашла, одного завгара, Лыкина Сережку. Он ей в период войны большую помощь оказывал, выручал крепко. И ничего удивительного, потому что у Сережки транспорт в руках и весь район знакомый. И, короче говоря, она к нему прилепилась, и ребеночек его уже папой зовет, полный порядок.
Марина, жадно слушавшая, сказала решительно:
— Значит, не любила она тебя, Семеныч!
— А за что любить? Пришел я гол как сокол. Барахла всякого не привез, как другие, не довелось. Был шоферяга, и обратно за баранку садись. А тот-то, Лыкин Сережка, всему Дмитрову был король, такие дела обделывал — ой, господи! Правда, на денежной реформе, говорят, погорел сильно…
— Ну, а дальше что? Как ты с ней? — не терпелось узнать Марине.
— Дальше что ж? Она с ним, с дочкой, а я сам по себе.
Марина вздохнула, нервно стискивая пальцы.
— Надо же… А дочка большая?
— Семнадцатый год нынче. Мать у меня в войну померла, из родных один брат живой, у него семья громадная, в Дмитрове живут. Там полдома мои. Когда захочу — вернусь. Да только чего там делать? Не могу я там… Я, например, понял, как жить надо. Ведь в жизни самая сила что? Вот что! — он поднял руку горстью и большим пальцем с коротким желтым ногтем потер два других пальца. — Точно говорю. Я по свету помотался, все про все знаю.
— А для чего, Семеныч?
— Что?
— Мотаешься для чего?
— Да так… — Нагаев посмотрел искоса в синие внимательные глаза Марины и сказал равнодушно: — Машину хочу купить.
— А машину для чего?
— Дурочку-то не ломай. Не знаешь, машина для чего?
— Нет, правда, коли ни семьи, ни хозяйства, зачем тебе машина?
— А это нам известный вопрос, — проворчал Нагаев и добавил сурово: — Иди-ка за дровами, шлепай. А то ребята придут, а чай кипятить нечем.
Марина внезапно расхохоталась:
— Ой, Семеныч, смешной ты какой! Комик! — И, вскочив одним движением на ноги, выбежала из будки.
На другой день Нагаев вышел в забой. Теперь он стал осторожнее и в самую отчаянную дневную пору прятался, как и все, в будку.
Жара упрочилась, тяжкая, ровная — день в день.
По клубящейся дороге, ныряя в чащобах пыли, приковыляла «летучка». Марютину и Нагаеву пришел срок по графику делать профилактику. Производили ее сами машинисты с помощью слесарей и механиков, и занимала она обычно день-два. Нагаев вдруг заявил, что делать профилактику не будет. Машина, мол, в порядке, и нечего тратить время, ковыряться попусту. И так два дня потеряны из-за болезни. Слесари с «летучки» спорить не стали.
— Отказываешься? Ладно, дело твое.
Нагаев помнил условие насчет прогрессивки, но был уверен, что к нему, знатному «киту», применить эту глупость не посмеют.
Слесари провозились с марютинским экскаватором дня полтора и уехали.
Наступил срок получки. На газике начальника прибыл кассир Мурашов, рыжеусый инвалид без левой руки, человек резкий и непочтительный. Он сразу же сказал:
— Вам, Нагаев, прогрессивка не выписана.
— Что? — Нагаев обомлел. — Да ты, парень, гляди лучше!
— Мне глядеть нечего. Получайте ваши деньги. Ставьте подпись.
Нагаев машинально пересчитал деньги. Он был поражен в самое сердце и сразу не нашелся что сказать. Мысленно высчитал: потеря составляла тысячи две с лишком. Он пришел в ярость. Как! Его, Семена Нагаева, осмелились наказать штрафом?
Он орал на кассира, просто чтоб отвести душу. Тот, конечно, был ни при чем. Но парень оказался колючий, горластый, к тому же измученный жаркой дорогой, и они кричали друг на друга хрипло и с наслаждением. Потом кассир сказал:
— Прошу мне не тыкать и выйти вон. Вы своим поведением мешаете мне соображать.
Нагаев ушел.
Когда рыжеусый садился в машину, Нагаев крикнул угрожающе:
— Завтра в поселок приеду — начальнику передай!
6
Если бы он приехал в поселок на день раньше или хоть на день позже, он, быть может, чего-нибудь и добился бы. Нагаеву не повезло. Одновременно с ним в поселок прибыли высокие гости: один из проектировщиков — инженер Баскаков, заместитель начальника Управления водными ресурсами Нияздурдыев и главный инженер Восточного участка — или, как говорили на стройке, «Восточного плеча» — Хорев.
Они прилетели почтовым самолетом из Керков и намеревались проехать на машине по трассе до Мургаба.
То обстоятельство, что важного ашхабадского гостя, творца проекта, по которому строится канал, и руководящего товарища из управления сопровождает не сам начальник стройки Степан Иванович Ермасов, а второстепенное лицо, могло постороннему человеку показаться случайностью. Ермасов находился в Марах, на «Западном плече» стройки, а гости решили поехать с востока, — что ж удивительного в том, что с ними поехал Хорев? Но люди, посвященные в сложную систему взаимоотношений между начальником стройки и проектировщиками, между Управлением водными ресурсами и начальником стройки, между начальником стройки и инженером Хоревым, видели в этом факте не случайность, а закономерность. Уже полтора года, с самого начала стройки, Ермасов вел жестокую войну с проектировщиками. Началась эта война со знаменитого «ермасовского» рейда механизмов в глубь песков, когда около сотни машин проделали героический путь в самое сердце пустыни и там был основан первый поселок. Проектировщики и некоторые работники управления до сих пор не могли простить Ермасову его дерзкого самовольства, и, хотя выгоды этой операции были теперь очевидны, примирение между противниками не наступило.
Инженер Хорев был старый ирригатор. Двадцать пять лет назад он строил каналы на востоке республики, потом работал на севере, на канале Москва — Волга, потом вновь вернулся в Туркмению. Ермасов же появился в Средней Азии недавно, вернее, как строитель появился недавно, потому что еще в конце тридцатых годов он служил тут в армии и даже воевал с басмачами. Однажды в пылу спора Ермасов, невоздержанный крикун и ругатель, назвал Хорева и его единомышленников «кетменщиками», намекая на то, что весь их многолетний опыт устарел и негоден. Язвительное словцо прилипло намертво. И забыть эту грубость было, конечно, трудно. И все же главные причины вражды Ермасова с проектировщиками, поддержанными Хоревым, были гораздо глубже: они отражали ту борьбу и ломку, которая происходила повсюду, иногда открыто, но большей частью замаскированно, скрытно и даже иной раз бессознательно. Люди спорили о крутизне откосов, о дамбах, о фразах, о мелочах, но на самом деле это были споры о времени и о судьбе.
В поселок Инче Хорев и ашхабадские гости прибыли настроенные подозрительно и недобро. Здесь стоял отряд, состоявший из приверженцев Ермасова, его ревностных почитателей, его янычар.
Прежний начальник отряда Фефлов принадлежал к числу «кетменщиков»: верил в проект, как в икону, не допускал и мысли о какой-то его перестройке и ломке. Его подкузьмила история с охотой на джейранов. Ермасов сшиб Фефлова одним ударом (спасти старика было невозможно, уж очень явно и глупо он проштрафился) и посадил на его место некоего Карабаша: говорили, что он вовсе даже и не ирригатор, а работал главным механиком вскрышного участка на угольном разрезе где-то на Урале. Словом, это был человек Ермасова.
Улицы поселка были пустынны. Днем здесь никто не работал — ни конторщики, ни рабочие. Жизнь обрывалась в десять утра и возобновлялась в пять-шесть вечера. На улице, возле склада — деревянного, с двухскатной крышей домика, глубоко врытого в песок, — Хорев увидел Семена Нагаева. Он только что выпрыгнул из кузова самосвала на землю и, нагнувшись, отряхивал запылившиеся брюки.
Экскаваторщик поднял голову, хмуро кивнул инженеру.
— Сергей Аристархович, знакомься! — сказал Хорев Баскакову. — Это наш знатный механизатор Семен Нагаев, собственной персоной. Слыхали?
— А как же. И слыхал и читал.
— Семен, а это, перед тобой, — инженер Баскаков, автор проекта, по которому вы строите.
Нагаев выпрямился, подал ладонь.
— Ясно…
— Товарищ Нияздурдыев, из управления.
— Угу.
— У тебя что, зубы болят?
— Нет.
— Возможно, с женой поссорились, нет?
— Он у нас холостяк, — сказал Хорев. — Кристально чистый, несгибаемый холостяк. Ты где сейчас, на двести сорок втором километре?
— На сорок восьмом.
— Как работаете, товарищ? — спросил Нияздурдыев. — Жару переносите хорошо?
— Да жара — ладно, переносим, а вот другое переносить не могу. Я, товарищ Хорев, сюда ругаться приехал.
— Что так? — Хорев сделал удивленные глаза и взял Нагаева под руку, всем своим видом подчеркивая благожелательность и внимание.
Они пошли рядом. Нагаев рассказывал, как его «женили» с прогрессивкой. Хорев слушал, кидал многозначительно Баскакову: «Видали?», «Знакомый стилек!»
Затем Хорев сказал, что Карабаш все делает правильно, регулярную профилактику вводит правильно, вещь нужная, рваческое отношение к технике до сих пор не изжито, но заставь, говорят, умника богу молиться, он и лоб расшибет. Карабаш, видимо, недостаточно знает своих людей. Хотя за три месяца пора бы уже познакомиться. Тут вступил в разговор Баскаков и сказал, что Карабаш безусловно отменит свое решение, когда разберется в существе дела. Вышло явное недоразумение.
— Нам таких орлов, как Семен Нагаев, обижать негоже, — сказал Хорев и похлопал Нагаева по плечу. Хорев был грузный, коротконогий, а Нагаев длинный, тощий, и похлопывание вышло неловкое. — Это будет негосударственный подход к нашему самому ценному капиталу. Ты понял?
Нагаев пожал плечами:
— Вообще-то да…
Вместе поднялись по крыльцу конторы, вошли в кабинет: впереди замначальника управления, за ним Баскаков, Хорев и Нагаев последним.
Карабаш, в клетчатой выгоревшей ковбойке, с засученными до локтей рукавами, стоял посреди комнаты, быстро и решительно пожимал руки.
— Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. — Увидев Нагаева, пожал руку и тем же сухим тоном: — А вы с товарищами? Нет? Тогда прошу, пожалуйста, подождать немного.
Нагаев вышел за дверь.
Весь его заряд драчливости, копившийся со вчерашнего дня, внезапно пропал. Он и слова не успел сказать, а уже пришлось уйти. И теперь еще ждать надо, а ждать — хуже нет.
Угрюмо сел он на стул в уголке соседней комнаты, возле окна, нога на ногу, задымил папиросой. Одна из женщин, скрипевшая пером в большой книге, сказала строго: «Здесь не курят, гражданин. И так дышать нечем». Нагаеву пришлось отступить еще дальше, на крыльцо. Там примостился в тени на корточках и курил всласть, утешаясь от смутной обиды.
Через полчаса вернулся в комнату, где сидели две женщины и пожилой мужчина с бородкой, в полотняных брюках и серой сетчатой майке. Мужчина щелкал на счетах, женщины скрипели перьями. Все трое выглядели сердито. Было уже около двенадцати, давно наступило время перерыва, но конторские не собирались уходить: видимо, делали срочную работу по случаю приезда начальства. И оттого были такие сердитые.
Нагаев опять сел на стул возле открытого окна. Все окна в комнате и дверь наружу были настежь, для сквозняка, но не чувствовалось никакого дуновения. Бородатый, в сеточке, сидел на мокром стуле и утирался громадным полотенцем. Вздыхал тихо: «Ах, жизнь каторжная!», а Нагаев усмехался про себя и думал: «А ежели тебя в забой на часок — что тогда?»
В комнату зашел старший механик Мухтаров, знакомый Нагаева, потом заглянул прораб Байнуров. Нагаев с ними не заговаривал о своем деле. Он скупо и с важностью отвечал на приветствия, смотрел да слушал. Забегали и разные иные люди: одни по работе, другие насчет жилья и зарплаты или же насчет машины в Керки, чтоб поехать на рынок, а некоторые — так, по-пустому. Большинство сразу толкались в дверь, к начальнику, но строгая дамочка никого не пускала: «Нельзя, нельзя! Там совещание».
Совещание длилось долго — час, а то и два. Обе женщины и мужчина в сеточке замкнули ящики в своих столах, надели белые панамы и ушли отдыхать.
Наконец дверь кабинета распахнулась, и оттуда, продолжая разговор, вышли четверо. И у всех четверых были влажные, возбужденные лица, а у начальника под глазами легли белые полукружья. Говорил он необычно громко, напирая на каждое слово:
— Это вопрос решенный, товарищи! Есть указание Степана Ивановича Ермасова… — Карабаш обежал сидящих в комнате отсутствующим взглядом. Наткнулся глазами на Нагаева. — У вас ко мне дело, товарищ Нагаев?
— Да у меня что ж… — Нагаев поднялся, шагнул к начальнику. — Недоразумение вышло, Алексей Михайлович.
— Именно?
Нагаев рассказал. Все внимательно слушали, только Нияздурдыев и Баскаков отошли в сторону и рассматривали висевшую на стене карту.
— Нет, дорогой Нагаев, недоразумения тут нет, — сказал Карабаш. — Удержали с вас правильно. Согласно приказу.
— Правильно?
— Правильно.
— Алексей Михайлович, мне думается, вы тут несколько… — начал Хорев. — Вы рассудите логично. Семен Нагаев известный наш товарищ, знатный передовик. Он относится к машине образцово. Об этом не раз писали, это факт. А вы рубите сплеча, чешете всех под одну гребенку. Зачем? Ради чего вы это делаете? — Голос главного инженера задрожал и взвинтился. Глаза его сквозь стекла очков вонзились в Карабаша почти с ненавистью. — Ради голой строительной идеи? Я давно замечаю этот ваш заскок!
— Давно вы меня не знаете.
— Не в первый раз, не в первый раз! Да, да!
— Вы считаете, что окольцовка озер — голая строительная идея? И это говорите вы, инженер, человек практики? Ведь тут экономия сотен тысяч рублей.
— Тут грубейшее нарушение проекта, вот что! — быстро, задыхаясь, проговорил Хорев. — А вы думаете, что окольцовочные дамбы будут стоить дешевле?
— Конечно.
— Сомневаюсь! Никогда!
— Геннадий Максимович, простите меня, но вы мне напоминаете правоверного мусульманина, который боится изменить два слова в сурах Корана, хотя там, как известно, много плохих стихов и совершенных нелепостей с точки зрения здравого смысла.
— Не знаю, я Корана не читал. Вы можете говорить какие угодно дерзости…
— Идемте к карте, Геннадий Максимович. Вот озера! Здесь висячее дно. Здесь надо возводить гигантские дамбы — больше трех километров длиной…
Они подошли к карте, возле которой стояли Баскаков и Нияздурдыев, и ожесточенный спор, длившийся уже два часа, покатился дальше. Про Нагаева забыли. Он сумрачно слушал громкий разговор начальства. Раза два мимоходом Хорев и Карабаш касались истории с профилактикой, причем Хорев защищал Нагаева, а Карабаш нападал на него, но Нагаев видел, что это говорится только для спора и в пылу спора, а на самом деле в его положение не вникали.
«Упрямый, дьявол, — думал Нагаев, глядя, как Карабаш отбивается от троих. — Никак не уломают. Видать, накрылась моя прогрессивка. Уходить надо, толку не будет».
Однако — сам упрямый не менее — Нагаев не уходил, ждал, пока начальство наговорится. И как вспоминал, что две тысячи из кармана фьють, так прямо в голову что-то вступало от злости.
Наконец большие начальники ушли, и Нагаев подступил к своему начальнику, оставшемуся в одиночестве. Карабаш поднял на него измученные глаза и покачал головой.
— Нет, — сказал он бессильно и откашлялся. — Напрасно ждали. Кого другого я бы, возможно, и простил, а вас… — Он снова откашлялся, громче. — Нет. Пусть узнают люди, что самому Семену Нагаеву прогрессивку резанули, и поймут тогда, что дело нешуточное.
— Значит, нет?
— Нет.
— Да что ж, выходит, я… — нервно возвысил голос Нагаев.
— Да, да, — тихо прервал его Карабаш. — Очень полезно наказать вас для примера. Я даже приказ велю вывесить, чтобы все знали. Внедрять регулярную профилактику будем железной рукой. На первых порах будут недовольные, обиженные, но потом сами станете нас благодарить. Вот так. У вас еще что-нибудь ко мне?
— Ничего… — буркнул Нагаев.
Он испытывал гнетущую растерянность. Надо бы поднять тарарам, наскандалить, наорать на начальника вроде того, как он давеча наорал на кассира, но не хватало духу начать. Потоптавшись возле стола и пробормотав нечто невнятно-угрожающее: «Ладно, поглядим тогда», — Нагаев повернулся и вышел.
Машин в сторону лагеря не было. Приходилось болтаться в поселке до утра, ждать автолавку. Нагаев направился к магазину, где работала Фаина, зазноба Ивана Бринько.
Нагаев не любил поселка. Это была деревня, шумная, большая деревня. Здесь пахло жильем, щами, старым пыльным брезентом, уборными и хлором, которым эти уборные заливались. Юрты, деревянные будки и бараки стояли вразброс на огромном песчаном плато. Многие рабочие жили здесь семьями, с детьми и стариками. Некоторые держали кур, другие — поросят и коз.
Сейчас, в дневные часы, зной опустошил поселок, как чума. Ветер крутил пыль по вымершей улице, трепал белье на веревках, просушивая его горячим песком. Рабочие дремали под крышами. Редко-редко у каких очагов, у железных печурок под открытым небом, возились хозяйки, а иные, разленившиеся от жары, лузгали семечки, как в деревне, сидя под крохотными окнами своих жилищ.
И только несколько малышей с льняными русскими головками бегали по песку, счастливо смеясь. Африканская жара была для них делом привычным, а раскаленный песок был их землей, единственной и любимой. Они дружили с собаками. Собак тут было много, они набежали со всей округи. Эти отбившиеся от чабанов, когда-то грозные туркменские овчарки стали обыкновенными дворнягами; они лежали в тени возле домов, подавленно-тихие, равнодушные ко всему, и, не зная, чем заняться, целыми днями дремали. Иногда сонная собачья одурь взрывалась внезапными кровавыми драками. Каждая собака сторожила свой дом. Никто не просил их это делать, то была их собственная собачья инициатива. И вот они дремали и сквозь полузакрытые веки зорко следили друг за другом. И стоило какой-нибудь нарушить чужие владения, как начинался смертоубийственный скандал.
Собаки жили сложной, запутанной жизнью.
Возле барака, где помещался магазин, лежал косматый, свирепого вида, псище. Место тут было выгодное (иной раз бросали баранью кожу, остатки рыбы), и, наверно, собаки жестоко дрались за право тут лежать, и вот этот косматый вышел победителем. Пес мрачно, одним глазом, следил за тем, как Нагаев подошел к двери, постучал и потом стоял, ожидая, пока откроют.
Магазин, как и все учреждения в поселке, работал с пяти вечера. Было лишь около четырех. Фаина вышла заспанная, малиново-красная, со вдавленным следом от пуговицы на влажной щеке. Сердито моргая, затараторила:
— Чего стучите безо времени? Закрыто, закрыто!
Она пыталась захлопнуть дверь, но Нагаев успел сунуть ногу в щель и отворил дверь силой.
— Постой! Тебе поклон от Ивана…
Фаина молча пропустила Нагаева в дом и заперла дверь на задвижку. На полу за прилавком лежал матрац, на котором Фаина отдыхала днем, в часы перерыва. И на том же матраце спал Иван, когда приезжал в поселок. Фаина, не говоря ни слова, свернула матрац, приставила его к стене и уселась на табуретку, поправляя распустившиеся волосы.
Фаина была девушка лет двадцати пяти, голубоглазая, лицом миловидная, но уж больно толстая, огрузневшая, с рыхлым, огромным бюстом. Голос у нее был хриплый. Держа зубами заколки, она спрашивала как будто с насмешкой:
— Ну и как он там? Что просил передать?
Иван ничего не просил передать, даже поклона, и Нагаеву пришлось покривить душой и малость приврать. Ему, главное, хотелось узнать, нет ли какого интересного товара под прилавком. Ничего такого не оказалось. Между любовниками, видимо, было не все гладко, Фаина держала себя заносчиво и просила сказать Ивану, что ей один человек предлагает выйти замуж. И она, наверное, этому человеку не откажет, потому что он порядочный, самостоятельный и очень верный.
Кто этот человек, Фаина не сказала. Но вскоре Нагаев понял, что это азербайджанец Султан Мамедов, шофер на ГАЗ—69. Султан, или Сережка, как его звали в поселке, пришел в магазин ровно к пяти часам, к открытию. Он недавно вернулся из поездки на Головное и привез Фаине кулек шоколадных конфет и розовое китайское полотенце. Беря подарки, Фаина глядела на Нагаева победительно. Начали приходить покупатели. Черный, усатый, как турок, с непомерно мохнатыми, насупленными бровями, Сережка сидел на табуретке в углу магазина и ревниво следил за всеми действиями и разговорами Фаины.
Нагаев купил дешевую шляпу из искусственной соломки и пошел к выходу. В дверях его догнала Фаина, зашептала быстро:
— Погоди, Семеныч, что скажу! Передай Ване, чтоб в воскресенье приехал. А то и правда замуж пойду. Скажи, обязательно надо свидеться, слышишь?
— Слышу.
— А про жениха молчи, ладно?
— Молчу…
При этих словах над головой Фаины показалась мрачная физиономия Султана Мамедова.
Нагаеву стало скучно. Он кивнул и вышел. Солнце перевалило на запад, тень ушла на другую сторону дома, и туда же переползла собака.
«Люди сохнут, страдают, — размышлял Нагаев, а мне что за печаль? Да провались они! Обо мне ни у кого голова не болит. Мне вот дали по морде, а я утерся — и до свиданья. Пошел и шляпу купил…»
Чем больше он размышлял, тем крепче обижался. Он вспоминал, как жестко, бесчувственно разговаривал с ним Карабаш и как дамочка в первой комнате сказала: «Здесь не курят, гражданин», хотя она, наверное, знала, что он никакой не гражданин, а экскаваторщик Семен Нагаев, и Фаина, казалось ему, была с ним недостаточно вежлива, и Сережка Мамедов — подумаешь, начальника возит, большая шишка! — посмотрел на него непочтительно и даже не поздоровался. Из этих обидных, может быть, и мелких, но почему-то застрявших в памяти заметочек еще пока неясно, бессознательно рождалась мыслишка: а не плюнуть ли на всю эту канитель? Поработать до ноября — и сорваться…
Повеселев от внезапной мысли, Нагаев пошел в душ. Вода в нагревшейся деревянной бочке была теплая, вязкая от пыли, и все же мыться было удивительно здорово: на несколько минут тело, освобожденное от пота, делалось чистым и легким. На несколько минут. А потом чуть вышел на солнцепек, окунулся в зной — и сразу опять весь мокрый, залит потом, как будто и не мылся.
У барака столовой, на теневой его стороне, толпился народ. Нагаева узнавали, здоровались уважительно-весело:
— Привет Семенычу!
— Ну, как там, на хуторе?
— Погорел, говорят, с профилактикой?
Нагаев небрежно отмахивался: пустое, мол! Нащупал в кармане полсотенную, специально отложенную на обед, зашел внутрь. За столами тесно сидели люди. Воздух был тяжелый и паркий, как в бане. Из длинной, горизонтально прорубленной амбразуры, откуда повариха подавала тарелки, несло кухонной жарой. Почти на каждом столе сверкало серебро шампанских бутылок, и от этого столовая имела праздничный вид. Но день был будничный, а праздник состоял лишь в том, что в магазин третьего дня завезли шампанское, и это совпало с получкой. Шампанское было единственным дозволенным на трассе вином. Его пили как газировку.
Нагаева кто-то окликнул:
— Семеныч! Иди сюда!
Нагаев увидел рыжего, краснолицего Мартына Егерса, который издали над головами сидящих помахивал здоровенной ладонью. Нагаев подсел к Мартыну. Они были не то что приятели, но хорошие знакомые, уважавшие один другого, как два «кита». Мартын Егерс славился не только своим умением работать, но и беспощадной взыскательностью к сменщикам — отчего мало кто с ним уживался. Он требовал от них такой же лютой работоспособности, какой обладал сам. Однажды какой-то его сменщик пришел в забой под хмельком, чуть-чуть, самую малость, но Мартын не пустил его к рычагам. Парень в амбицию, расшумелся, полез в кабину, и Мартын, недолго думая, махнул его по уху. А лапа у него медвежья. Дело это разбиралось в товарищеском суде, и Мартын никак не мог понять, за что ему порицание: ведь не за себя дрался — за государственное имущество.
Рядом с громадным латышом сосредоточенно хлебал борщ, наклонив остроконечную голову в детской тюбетейке, еще один знакомый Нагаева — Бяшим Мурадов.
— Эге, Бяшим! — удивился Нагаев. — Ты что здесь?
— Бяшим мой ученик, — сказал Мартын. — Он хороший мальчик-туркмен. Очень хороший, трудолюбивый мальчик-туркмен.
Бяшим быстро взглянул на своего бывшего шефа и молча продолжал хлебать борщ. Мартын расхваливал Бяшима: какой он старательный, скромный и почтительный к старшим.
— Я бы хотел иметь такого сынка, — сказал Мартын. Подумав, он добавил: — Можно сказать, он и так мой сынок.
— А разряд ты своему сынку сделал? — спросил Нагаев.
— Нет. Я халтуру не делаю, тебе известно, — сказал Мартын с важностью. — Сейчас Бяшим много умеет, но мало знает. Он изучает теорию с одним техником, а я даю практику на бульдозере. И скоро он получит разряд.
— Да ты разве на бульдозере?
— На бульдозере. Я халтуру не делаю, — строго повторил Мартын, тараща на Нагаева ясные голубые глаза. — Я не такой мастер, как другие. Меня не надо угощать вином, как другого мастера. Если ученик хорошо работает, я сам его буду угощать.
И он торжественно взял бутылку шампанского, налил полный стакан и пододвинул Бяшиму. Потом налил себе и Нагаеву.
— Постой, — сказал Нагаев. — Когда ты сел на бульдозер?
— Три недели прошло.
Нагаев насторожился. Если такой «кит», как Мартын Егерс, кинул экскаватор и сел на трактор с ножом, значит, тут есть расчет. Бульдозеров на стройке было немного, их занимали на вспомогательных работах: делать небольшие выемки, разравнивать дамбы. Зарабатывали бульдозеристы пустяково. Правда, недавно разнеслись странные слухи насчет какого-то нового «бульдозерного метода», предложенного Карабашем, но Нагаев не придал этим слухам значения. Ерунда!
— Ну и как? — спросил Нагаев. — Не горишь?
— Как — не горишь?
— Получка ничего? Не обижаешься?
— Я, Семеныч, такой человек: никогда не обижаюсь. Понял? Я всю дорогу такой человек.
— Понял, понял! Хитер ты, мужик…
— Я мастер, Семеныч. Меня никто не обидит, потому что я мастер. Ты тоже мастер, Семеныч. — Он ткнул двумя пальцами в грудь Нагаева так, что тот покачнулся на стуле. — Всем известно, что ты очень хороший мастер. Но некоторые говорят, что ты жадный.
— Кто говорит?
— Дураки говорят. Это хорошо, когда человек жадный. Я тоже, между прочим, жадный — будь здоров! Ах, Семеныч, мы живем маленькую, короткую жизнь: мне уже тридцать восемь лет, а кажется, недавно я был мальчиком, недавно была война, я воевал, был танкистом. Знаешь, плохо, когда есть одна жадность — до денег. О, это плохо! Надо быть жадным до всего: до денег, до работы, до людей, до новых стран, до всех-всех! Ты понял, Семеныч?
— Я-то понял… — кивнул Нагаев, продолжая думать насчет бульдозера.
— Семеныч, когда я учился в школе, я мечтал увидеть жаркие страны, пустыни, караваны верблюдов, как на марках Алжира. Когда я был мальчиком, я собирал марки.
— Чего собирал?
— Марки. Коллекцией. У меня был хороший, дорогой коллекцией, потерялся во время войны. Семеныч, я хочу видеть мир. Сегодня я в Туркмении, завтра поеду на Кавказ, потом в Сибирь — вот моя жадность, Семеныч…
Три бутылки шампанского играли в этой рыжей квадратной башке. По лицу Мартына струился пот. Мартын двигал голыми багрово-загорелыми руками, гудел на всю столовую, но слова выговаривал уже не очень внятно. Он работал сегодня в ночную и мог еще выспаться до часу ночи.
Нагаеву хотелось получше расспросить Мартына насчет бульдозера, но латыш неожиданно встал и ушел. Нагаеву принесли две порции гуляша из баранины. Он проголодался и жадно ел, запивая шампанским.
Бяшим доедал второе. Не глядя на Нагаева, с деловым и независимым видом он вытирал хлебом тарелку. Потом из белого чайника налил себе пиалу зеленого чая и стал пить без сахара, как пьют туркмены, чтобы отбить жажду.
Он пил, кряхтел, сладко причмокивая и даже не поворачивая головы в сторону Нагаева, как будто Нагаева и рядом не было. «Ишь, злопамятный», — подумал Нагаев, но без всякой обиды. Его сейчас занимало другое.
— Сегодня в ночную? — спросил Нагаев.
Бяшим кивнул.
— А вы что — прямо траншею рубаете? Или как же?
— Траншею.
— И сколько примерно кубов за смену?
— Сейчас еще мало. — Бяшим отставил пиалу, вытер губы ладонью и впервые посмотрел Нагаеву в глаза. — А будем тысячу кубов за смену давать. И еще больше.
Он встал и окинул Нагаева таким горделивым, исполненным ледяного высокомерия взглядом, какой бывает только у людей Востока. И медленно зашагал к двери, высоко подняв остроконечную головку с детской, крохотной тюбетеечкой на макушке.
Столовая быстро пустела. Рабочие вечерней смены поспешно уходили, а Нагаеву хотелось еще у кого-нибудь разузнать про бульдозерную новость. Очень он растревожился. Тыщу кубов надеются давать, гляди-ка!
Два знакомых парня, слесари из ремонтных мастерских, никуда, кажется, не спешили. Нагаев подсел к ним. Ребята были вроде трезвые, но несли такую чушь, что просто не верилось. Карабаш будто бы намерен все скреперы сдать в архив, заменить их бульдозерами, и экскаваторы то же самое — побоку! Гохберг с прорабом едет в Керки получать какие ни есть завалящие бульдозеры, здесь с них ножи снимут, на скреперные тракторы нацепят и — в забой. Теперь кругом бульдозеры. Всю дорогу на них, до самых Маров.
«Брехня. На пушку берут, — размышлял Нагаев. — Но что-то такое есть…»
Удрученный неизвестностью, Нагаев вышел из столовой. На улице распускался вечер.
С каждой минутой все прекрасней, прохладней становился воздух. Косое солнце красновато желтило пески. Еще гуще, синее стало небо, и уже не ломило глаза, если смотреть на него долго. И легче стало дышать. И теперь дышало все тело, всею кожей: лицом, руками, спиной и грудью под рубашкой, которые целый день были влажны и закупорены потом, а теперь вдруг сами собой открылись и как бы отмылись свежестью.
Наступали лучшие часы суток. За магазином на площадке ребята играли в волейбол. Судья сидел на высоком насесте возле столба и за неимением свистка свистел в два пальца. Волейболисты, кто босиком, кто в рабочих ботинках, азартно метались, прыгали и валились наземь, с криками и хохотом, поднимая облака пыли. Вокруг площадки стояли зрители. Нагаев тоже постоял, посмотрел. Играли плохо. Это была не игра, а дуракавалянье, и ничего веселого. Смотреть — время терять.
Нагаев пошел дальше, миновал магазин, контору и задержался возле барака, где был клуб. Рядом с дверьми стоял небольшой бильярд с сукном шинельного цвета, кое-где продранным. Трое туркменских парней играли одним кием. Нагаев зашел в клубную библиотеку, но библиотекарша, жена инженера Гохберга, уже запирала шкаф. Сейчас должны были начаться танцы. Кто-то из ребят налаживал радиолу, другие сдвигали стулья к стене. Среди этих танцовщиков Нагаев заметил и лохматого Байнурова. Он тут всеми распоряжался. С Нагаевым он уже виделся в конторе и не нашел нужным здороваться еще раз.
Зато остальные ребята — ремонтники, трактористы, слесари из гаража, электрики — и какие-то девчата, незнакомые Нагаеву, посматривали на него с уважением и интересом. Все ж таки Семен Нагаев был человек известный и на танцах появлялся нечасто.
С полчаса он подпирал стену, смотрел, как танцуют, курил, скучал. Потом пришла Фаина с Сережкой и с ними конторская девица Нора, Фаинина подруга. Эта Нора была ничего, толстенькая коротконожка, веселая, черноглазая, только на подбородке у нее был некрасивый след от пендинки. В общем, она была вполне подходящая. Нагаев давно заприметил эту Нору. Ради дела он решился потанцевать и прошелся с Норой два фокстрота, которые он танцевал солидно, через такт. Фаина издали подмигивала: не робей, мол, будет порядок! Он и не робел. Спина у Норы была несколько худоватая, зато грудь пышная, ничуть не меньше Фаининой. А третий танец был вальс, его Нагаев танцевать не умел, Нору подхватил Байнуров, и сразу после танца они исчезли.
Нагаев подождал, потоптался в дверях, потом ему стало вдруг ужасно обидно, и он, не попрощавшись ни с кем, ушел.
В темноте кто-то догонял его прыжками.
— Семеныч, постой-ка! — Сильная рука стиснула локоть. — Ивану скажи, чтоб про Фаину думать забыл. У Фаины, скажи, есть такой человек, который шутки шутить не умеет.
Глаза Сережки из-под черных бровей блестели ясно и зло.
Нагаев вырвал руку.
— Скажу. Мне что!
— А то, скажи, тот человек рассердится! Не надо лучше…
В юрте, где Нагаев уговорился ночевать, все пять коек стояли пустые. Кто был на танцах, кто в забое, в вечерней смене. В окошко смотрело звездное небо. «Потерянный день», — подумал Нагаев, и сердце его заныло. А ребята сейчас рубают: рев, громыханье, прожектора так и ходят над забоем, и только его, нагаевский, «Воронежец» стоит смирный, темный, уронив ковш на землю. Все обиды всколыхнулись в памяти, вплоть до последней. И почему-то вспомнилось: однажды зашел в будку и увидел, как Марина расчесывает свои светлые, кудрявые волосы, сидя на койке. Он увидел ее загорелые плечи и руки и совсем белую, как туман белую, грудь. Марина вскрикнула, он рассеянно затворил дверь и ушел.
А сейчас вдруг вспомнил. Впервые вспомнил о Марине так внимательно и с каким-то неожиданным, секретным удовольствием.
Странная ночь — в ней не было ничего ночного, кроме неба. Ночь, гораздо более полная жизни, чем день. Ночь, набитая звуками и напряжением, как огромный оркестр, настраивающий инструменты. Все было слитно: говор людей, тарахтение движка, гудки, беготня собак, их непонятная ярость в темноте, тихие голоса женщин, сидящих на воздухе перед своими домами и отдыхающих в ночной прохладе, и хоровое, органное гудение тракторов.
Свет фар качался над забоем. Огни цепью уходили сквозь тьму пустыни на запад и на восток, и на западе с ними смыкались зарева больших рабочих поселков, а на востоке — огни землесосов и их отражения в черной воде канала. Но и там, где не было огней, в глубочайшей черноте, на просторах мрака, кипела жадная жизнь, к которой призывала ночь — время прохлады. И время работы всласть. И время путешествий.
И время всех наслаждений, какие дает жизнь и какие отнимает жара.
На рассвете ашхабадские гости и Хорев уезжали на запад. До их отъезда Султан Мамедов был обязан свозить на трассу начальника, как делалось каждую ночь, но Карабаш сказал, что сегодня он не поедет. Он сказал, что у него много работы, и просил инженера Гохберга поехать одного.
Гохберг согласился. Он был человек добрый, пылкий и не очень проницательный.
— Конечно, Алеша, — сказал он, — у вас работы до дьявола. Вам надо квартальный заканчивать.
В полночь он уехал с Султаном на трассу. Карабаш пошел домой. Он пришел в свою квадратную комнату, где стоял стол с алюминиевыми ножками, взятый из столовой, где на гвоздях висели не очень свежие рубашки, китайский плащ-пыльник, белая шляпа из картона, где на полу лежал чемодан с книгами, где стояла койка-раскладушка, застеленная черной кошмой, и над койкой, пришпиленная кнопками к стене, висела репродукция с картины Шишкина «Зима», вырезанная из «Огонька».
Карабаш лег на койку и долго лежал, не зажигая света. В час ночи кто-то просунул голову в окно и тихо позвал: «Алеша!»
Он ответил «да», сел на койке и стал искать в темноте папиросы. Вошла женщина. Она была высокого роста. Ее волосы пахли горячим ветром, пустыней, солнцем. Руки ее тоже были горячие и губы горячие и жесткие, с привкусом соли. От соли невозможно было отделаться: вода в колодцах была соленая, эту воду пили, ею мылись. Соленый пот орошал тело весь день. Койка была неудобная и скрипела. Они бросили кошму на пол. От кошмы шел острый, животный запах, и потом, когда тело разгорячалось и делалось мокрым, лежать на кошме было неприятно, шерсть липла к коже, и хотелось встать.
Ночью все было по-другому. Удивительно вкусной была вода: Карабаш зачерпывал ее ковшом из ведра и пил долго, громкими глотками, а потом выходил за дверь и обливался из ковша с головой. Вода остыла к ночи и была чуть теплая. Еще лучше она становилась к рассвету, часам к трем, но и эта вода была замечательна. Женщина тоже пила воду. Потом просила намочить полотенце и вытирала им тело.
И папиросы ночью казались гораздо вкуснее, чем днем.
Женщина лежала на койке, Карабаш сидел рядом на корточках, прислонившись к ребру койки спиной. Сегодня была ночь прощания. Утром женщина улетала в Керки, а оттуда в Ашхабад. Они расставались на две недели. Но женщине эта разлука казалась бедствием, и она плакала. Она ехала к мужу, которого не любила.
Когда-то Карабаш учился в школе вместе с этой женщиной, которая была тогда высокой девочкой, старше его на три класса, и Карабаш запомнил ее лишь потому, что она была сестрой его друга, Вальки Семенова. Это было в Воронеже. Незадолго перед войной Семеновы уехали куда-то в Среднюю Азию и исчезли с горизонта. Однажды в Москве, на улице, Карабаш встретил Валькину сестру, она была уже замужем. Она стала красивой женщиной, хотя лицо ее было немного мужского склада, с длинными белыми бровями, как у Вальки, погибшего на войне.
И потом — здесь, в песках. Она была биологом. Ее экспедиция расположилась в том же поселке, куда Карабаш приехал ранней весной принимать дела начальника отряда. В те дни, когда он был зол, беспомощен и одинок, вдруг возникла и пришла на помощь эта женщина, Валькина сестра, которую он помнил худой, длинноногой девчонкой.
Весной на барханах озерами разливались тюльпаны, цвели ромашки и пахло лугами, детством.
Они жили рядом, а встречались нечасто. Даже эти нечастые встречи требовали отчаянной изобретательности. Люди в поселке жили в домах со стеклянными стенами, на виду друг у друга.
И вот наступала разлука. Очень недолгая. Но женщина плакала. Она плакала не только потому, что ей было горько расставаться, но и потому, что понимала, как ей горько расставаться, и понимала, что любит и, значит, счастлива. Вот поэтому она плакала. Она трогала его лицо и спрашивала, о чем он думает.
А он думал — стыдно признаться! — о том, что нужны бульдозеры, хотя бы двадцать машин, потому что окольцовочные дамбы надо возводить бульдозерами. Так будет гораздо дешевле.
Он сказал, что думает о ней. О том, как ей трудно жить две недели там, с мужем. Ах, нет, не трудно! Ей нет никакого дела до мужа, а ему до нее. Он давно ничего не требует, кроме чистого белья и кофе утром. Жизнь его ничуть не изменится от ее приезда: так же будет пропадать до ночи на службе, те же товарищи, преферанс. Но две недели разлуки!
Он сказал, что две недели пролетят быстро.
И подумал: женщина говорит неправду. Она едет к мужу, и тут ничего не поделаешь. Просто она не хочет его огорчать. Она больше не плакала и лежала тихо, подложив левую руку под голову. Тело ее на белой простыне казалось чересчур темным и большим.
Кто-то прошел мимо окна, шурша по песку. Надо было прощаться.
Карабаш взял со стола часы, осветил папиросой: без десяти два. Через четверть часа мог вернуться Гохберг. Но в час прощания забывают об осторожности.
Гохберг вернулся, стучал в дверь, кричал в окно — Карабаш не отзывался.
На рассвете, когда серело, но в небе еще блестели звезды и дул холодный ветер, газик с брезентовым верхом подъехал к дому Карабаша и дал гудок. Путешественники зябко ежились, кутаясь в плащи, и зевали. Они не выспались. А шофер спал всего два часа.
Карабаш вышел, застегивая на груди рубаху и протирая глаза. Разговор был наспех и не очень серьезный. Противники остались каждый при своем: Баскаков резко против окольцовочных дамб, Хорев с ним заодно, заместитель начальника управления — неясный нейтралитет.
— Мы, конечно, консерваторы, люди темные…
— Но кое-что понимаем, ей-богу. И не думайте, что все, что сделано до вас, надо переделывать.
— Почти все, — сказал Карабаш.
Заместитель начальника управления засмеялся:
— Узнаю коней ретивых…
— Сколько вам лет, товарищ Карабаш? — спросил Хорев.
— Двадцать семь.
Баскаков свистнул, а Хорев сказал весело:
— Оно и видно!
— Счастливой дороги, Султан! — крикнул Карабаш, когда газик тронулся. — После отряда Чиликина забирай влево. А то к чабанам угодишь.
Газик покатился на запад, где небо над горизонтом было еще темным по-ночному. Нияздурдыев, сидевший рядом с шофером, спросил, не женат ли товарищ Карабаш. Султан сказал, что не женат.
— Я большой любитель охоты, особенно в песках, — сказал Нияздурдыев. — У меня глаз охотничий. Когда товарищ Карабаш открыл дверь, я заметил, что у него в комнате была, по-моему, женщина.
— Возможно, — сказал Хорев. — Я в курсе этого дела, Сапар Бердыевич. Тут есть одна экспедиция, в нашем поселке стоит…
Он замолчал, потому что Баскаков толкнул его локтем, показав глазами на шофера. Нияздурдыев что-то спросил у шофера по-туркменски, тот ответил односложно, тем особым коротким горловым звуком, который у туркмен может обозначать и «да» и «нет», и «хорошо» и «плохо», и «мне не хочется с вами разговаривать», и еще многое другое. Нияздурдыев снова спросил что-то, и шофер ответил точно так же. После этого наступило молчание. Инженер Баскаков стал дремать, а Хорев после долгой паузы вдруг сказал:
— Вот-вот: громкие фразы, мы новаторы, дайте нам самостоятельность, а на самом деле — просто дайте пожить…
— Да не в том суть, Геннадий Максимович! — очнувшись, сказал Баскаков раздраженно. — Неужели вам не понятно, что не в том суть?
7
Не будь Саши, я бы уехал отсюда. Меня бы давно тут не было. Внезапно грянули три дня такой жары, которая подкосила даже аборигенов: одни говорили, что такой жары не было двенадцать лет, другие — семьдесят два года. Я не мог ни есть, ни спать, ни держать карандаш в руках, ни читать книгу. Часами я бессмысленно, не двигаясь, лежал на простыне в своем гостиничном номере и думал о том, как хорошо сейчас где-нибудь в Подмосковье, у речки или даже в прохладной комнате с сырыми, недавно вымытыми полами. Каждые полчаса у меня хватало сил на то, чтобы сползти с кровати, протащиться в ванную и облиться там теплой водой.
Если б еще хоть двигались мои дела! Диомидов по-прежнему не давал ответа. Ребята из газеты успокаивали меня, говоря, что он резинщик, что тут нет никаких подводных течений и надо набраться терпения или же отважиться на решительный поступок. На такой поступок меня подбил Саша: мы пошли вдвоем в ЦК, в отдел печати, где я рассказал свою историю (переписка с редактором, его приглашение и нерешительность Диомидова), и мне обещали разобраться в этом деле и помочь.
…Итак, я литсотрудник областной газеты. Уже полтора месяца. Волнение улеглось, митинги кончились, пошли будни, работа. У меня оклад восемьсот рублей (не худо для начала) и еще гонорары. И главное — можно ездить. Да, да! Сколько угодно, и даже в соседние области! За полтора месяца я побывал в трех командировках. Одна была двухдневная: в колхоз неподалеку от Ашхабада, где открылся колхозный университет культуры. Оттуда я привез двести строк для газеты и очерк для Атанияза на радио. Но пустыни я там не видел.
Второй раз поехал на запад, до Кизыл-Арвата поездом и оттуда машиной на север, в район колодцев Тоутлы и Чотур, в глубь песков. Вот тут была настоящая пустыня. Ехали на машине по такыру — ровному, как асфальт, огромному твердому полю высохшего солончака, местами в трещинах, местами белого от проступающей соли, — и вдруг на горизонте возникли тоненькие желтые гребешки. Они плавали в знойном отдалении, то исчезая, то появляясь. Это были барханы, расположенные очень далеко, но по странному оптическому обману они, казалось, выпрыгивали из-за горизонта и висели в воздухе. Первый мираж пустыни, который я видел. А через день я оказался в самой гуще гигантских сорокаметровых и совершенно голых барханов и брел по их склонам — песок был так горяч, что жег ступни сквозь подошвы моих баскетбольных кед, — вместе с маленьким отрядом мелиораторов.
Геоботаник Айна — все звали ее Аней, смуглая, белозубая туркменка в войлочной шляпе, в длинных шароварах, — учила меня искусству ходить по барханам. Мы вспоминали Москву, Аня тоже училась в Московском университете, но на шесть лет позже меня, на биофаке. Это было уже другое время, совершенно другое…
У мелиораторов испортилась рация, две недели они не читали газет и не знали, что происходит. Они непрерывно говорили о своих делах, о каких-то визирах, контурах, квартальных столбах, о степени заращенности и степени засоленности. («Черт возьми, Иван Иванович, вы эти возвышенности оконтуриваете? При картировании?») Мрачный рыжебородый геодезист показывал Ане ветки саксаула и повторял, видимо, ежедневную остроту: «Аня, скажите, это черный сексаул? Или это белый сексаул?» У всех на языке вертелось шутливое словечко «иншалла!». «Илья, вы поедете завтра в Кизыл-Арват?» — «Иншалла! Если позволит аллах…» В общем, они жили своей жизнью, своей работой. И они мне нравились. Они словно не замечали тяжелейшего быта, жары, отдаленности, консервной пищи и скверной воды, хотя и пели такую частушку: «Хорошо тому живется, кто бефстроганов жует и из нашего колодца воду тухлую не пьет!»
Возле костра я услышал много занятных историй: например, про одного парня, который заболел какой-то непонятной болезнью; это случилось в поле, и ребята решили, что у него чума, но потом оказалось, что не чума, а особая местная лихорадка. Интересно, как по-разному вели себя люди, но, в общем, никто не струсил, кроме одного прохвоста. Его потом выжили из экспедиции. С моей проводницей Аней тоже случилась однажды веселая история. Она отстала от отряда и проблуждала всю ночь. За нею послали четырех ребят, они целую ночь шли по ее следам, километров сорок, а она шла по их следам. Так бы они и не нашли друг друга, если бы не старый Ата-Мурад, верблюдчик. Он сообразил, в чем дело, и остановил сначала ребят, потом Аню и утром привел всех в лагерь. Ночью по всей округе пастухи жгли костры, исполняя закон пустыни: увидел костер — зажигай сам, значит, пропал человек.
Но это происшествие, кажется, мало чему научило Аню. Когда стемнело, мы гуляли с нею в песках, и она уходила все дальше и дальше от лагеря, так что мне было не по себе, но я, конечно, не показывал виду. Она рассказывала, как пахнут растения в пустыне: тюльпан Андросова, например, пахнет сладковато, как и полагается лилейным, у касатика тонкий запах анисового яблока, а у цветущего астрагала — еле слышный, чрезвычайно приятный запах, немного похожий на запах сирени. «А домой-то мы вернемся?» — хотелось мне спросить. Вообще, продолжала она, растения в песках пахнут слабо. Большинство не слышит этих запахов.
Я сказал, что принадлежу к большинству. Я не слышал ничего, кроме запаха полыни. Но я и не мог ничего услышать, объяснила Аня, потому что эфемеры сгорели две недели назад. И еще я слышал необыкновенную тишину пустыни, такую густую, что в ней исчезали все звуки, все запахи, все мысли и воспоминания, она поглощала все это легко и бесследно и оставалась тишиной. И даже, возможно, это была не тишина, а такое странное ощущение, вроде того, что было у меня однажды, когда я надышался эфиром, — ощущение бесконечности и пустоты вокруг. Мне нравилась девушка, ее белые зубы, ее твердые, неробкие пальцы: мы поддерживали друг друга, карабкаясь в сумерках по барханам и стараясь идти по их гребням шаг в шаг, как ходят верблюды. И мне казалось, что у меня много времени впереди и я все успею. Но пустыня ошеломила меня. И я ничего не успел.
Утром я уехал к чабанам, на север, а возвращался не через Тоутлы, а по Западной дороге, через Ясхан и Казанджик. И Аню я больше не видел.
Потом я побывал на серном заводе. Это в сердце Каракумской пустыни, туда надо лететь самолетом. Я прожил там шесть дней. И там выяснилось, что все мои прежние представления были неправильными и то, что, мне казалось, я понял, я понял неправильно. Жизнь в пустыне была гораздо проще и вместе с тем удивительней, чем я думал. Человек может жить везде. Была бы работа. Странное дело: я умирал от жары, когда жил в гостинице, не мог шевельнуть пальцем, чувствовал себя мочалкой, которую мяли, терли, изо всех сил выжали и повесили на гвоздь… Но через несколько дней я бегал на солнцепеке по городу, потом уехал в пески, трясся в автомобилях на душных дорогах, по многу часов проводил на жаре, лазая по барханам, и — ничего, не умер.
Конечно, тут сыграла роль привычка. Я втянулся в жару.
И все же, когда три дня назад я вернулся с серного завода, — в дымке зноя, прожаренный, как шашлык, город показался мне землей обетованной. Здесь были деревья. Продавали газированную воду. В ресторане можно было взять холодную окрошку и пиво.
Из гостиницы я шел в редакцию пешком, через весь город, и это медленное путешествие — мимо парка, откуда неслись крики детей и плыл густой, горьковатый запах вянущей листвы, мимо газетных киосков, возле каждого из которых я останавливался и с наслаждением копался в свежих газетах, покупал какую-нибудь приключенческую книжицу в издании Географгиза, которая в других городах нарасхват, а здесь спокойно лежит на лотке в тени карагача, и дальше, мимо городской филармонии, где расклеены афиши о гастролях сухумского джаза, мимо телеграфа, у стены которого стоят велосипеды, оставленные хозяевами, и на каменных ступенях сидят на корточках коричневолицые старики в серых рубахах, в чудовищно теплых бараньих шапках, с библейским терпением ожидающие, когда им дадут междугородный разговор с колхозом, и еще дальше налево, огибая базар, через шумящую, потную, толкающуюся сумками толпу, мимо открытых дверей магазинов, где жужжат вентиляторы, мимо павильонов, киосков, тележек, лотков, ларьков, где продаются носовые платки, бюстгальтеры, мыльницы, книги, сигареты, жареные семечки, горячие манты, продолговатые пирожные, украшенные кремом ядовитого розового цвета, — это путешествие сквозь знойный воздух, по теневым сторонам улиц доставляло мне удовольствие.
Вчера я сдал очерк о серном заводе, девять страниц под названием «В океане песка». Там все время обыгрывалась метафора насчет того, что люди в песках живут как на острове. Захлебываясь от впечатлений, я рванул это сочинение за один день и был убежден, что получилось здорово. Саша прочитал, одобрил, правда без восторга (я приписал это некоторой доле зависти), и сказал, что очерк «проскочит, как пуля». Вчера я перепечатал очерк в машбюро (на казенной машинке вышло целых одиннадцать страниц!) и сдал Диомидову. А сегодня шел получать поздравления.
Первым, кого я встретил в коридоре, был Жорка Туманян. Он пробежал мимо меня, бегло кивнув. Затем я увидел толстую секретаршу редактора Тамару. Она двигалась мне навстречу, жуя яблоко и уткнувшись очками в свежую полосу. Вид у нее был очень важный, и она меня не заметила. Они все тут немного важничали, особенно передо мной, потому что я им казался человеком столичным, и они старались подчеркнуть, что они, мол, хотя и провинциалы, но тоже не лыком шиты.
Когда я распахнул дверь секретариата, на меня наткнулся выходивший оттуда Боря Литовко, ответственный секретарь редакции. Мы с ним подружились, говорим друг другу «ты». Впрочем, почти все говорят ему «ты» и называют Борей, хотя ему под пятьдесят. В каждой редакции есть волы, которые тянут всю телегу. Вот он такой. Безотказный работяга. Приходит раньше всех и уходит последним. Любит дежурить в праздники, берет отпуск в самый незавидный сезон и всем одалживает деньги.
— Привет, старик! — сказал он, пробегая мимо и на ходу цепляя мою кисть быстрыми пальцами. — Зайди к шефу. В субботу ты не стоишь. Поставили строительный подвал, по каналу.
— Как! — Я ошеломлен. — Ведь еще вчера вечером…
— Зайди к Дио. Это он снял, мы ни при чем.
Через несколько минут я сидел в кожаном кресле рядом со столом редактора. Диомидов имел привычку разговаривать, не поднимая глаз на собеседника. Было такое ощущение, будто он сосредоточен на каком-то глубоком внутреннем размышлении, а разговор ведется сам по себе, механически. Манера неприятнейшая! Именно в такой манере — я видел только низко опущенную голову, черные, гладко зализанные, смоченные водой, блестящие волосы и верхний край толстой роговой оправы — редактор сообщил мне, что очерк о серном заводе в субботу не пойдет, так как есть указание срочно печатать статью инженера Хорева о неполадках на стройке канала.
Я молчал. Он, не поднимая головы, листал бумаги. Это был наш третий или четвертый разговор за все время. Самое странное заключалось не в том, что очерк вытеснила другая статья (в газетной жизни это дело нередкое), а в том, что редактор не находил нужным сказать мне ни одного слова об очерке. «Может, здесь так принято? Из педагогических соображений? — размышлял я. — Может, здесь считается дурным тоном хвалить сотрудников? Однако интересно все же узнать его мнение. Сидеть вот так и молчать неделикатно, но и спрашивать как-то неловко. Получится, что набиваешься на комплимент».
Мои ноги стали действовать автономно, я встал и пошел к двери. И, уже подходя к двери, я спросил:
— Игорь Николаевич, а как вообще мой очерк?
Редактор поправил очки, но голова его опустилась еще ниже.
— Очерк не удался. Придется сократить в три раза.
— В три раза! Настолько он плох?
— Вы не поняли задачи. У вас была конкретная тема: недостатки в снабжении серных заводов. А вы описываете барханы, закаты, знойное марево.
— Да, но…
— Все это описано тысячу раз. Особенно здесь, в Туркмении. Вам кажется, что вы здорово нашли: «муаровые пески»? — Он вдруг поднял голову и булькнул коротким смешком. Я увидел его жесткие, темно-серые, как грифель, зрачки. — А ведь это нашли давно, лет тридцать до вас.
— Возможно, я не претендую… — пробормотал я, совершенно подавленный.
— Словом, ваша живопись здесь некстати. А полезная часть очерка потонула в ненужном описательстве. Сократить до семидесяти строк.
И он вновь, как дуло миномета, наставил на меня свое черное блестящее темя. Я кивнул и вышел.
В конце дня в комнату, где я сижу, заходит Саша и жестом вызывает меня в коридор.
— Наплюй, ерунда. Ну сократишь, эка штука! Ведь не шедевр же ты сочинил, верно?
— Безусловно.
— На той неделе дадут, не волнуйся. А гонорар все равно раньше двадцать третьего не получишь.
Мне кажется, он чуть-чуть, самую малость, даже рад тому, что у меня осечка.
— Да я, собственно, не волнуюсь.
— Послушай, приехала моя благоверная, она тебя хочет видеть. Приходи в субботу ко мне. Я не хотел говорить при Витьке, потому что Лера его не ахти. Верней, не его, а его половину, а одного Витьку приглашать неудобно.
Витька — Виктор Алексеевич Критский, литсотрудник отдела литературы и искусств, — сидит со мной в одной комнате. Он один из постоянных партнеров Саши по преферансу, хороший его приятель. Но — «Лера его не ахти».
Саша берет меня под руку и, слегка притянув к себе, говорит вполголоса:
— О моих приключениях в гостинице ты, разумеется…
— Ну, разумеется! Немедленно расскажу!
Он, подмигивая, наподдает мне кулаком под ребра. Ему нравится вспоминать о своих приключениях в гостинице. Он и сейчас заговорил об этом только затем, чтобы мне напомнить о них.
Когда я возвращаюсь в комнату, Виктор Критский сразу спрашивает:
— Замышляете сабантуйчик?
— Да не то чтобы…
— Приехала мадам?
— Ага.
Мне неловко, как будто я виноват в том, что Лера Виктора «не ахти». А Виктор, кстати, неплохой малый, начитанный, собиратель книг. У него порядочная семья: детей трое или четверо, старуха мать, жена, и он — единственный работник. Его называют «литературный комбайн». С одинаковой легкостью и быстротой Виктор пишет передовые, фельетоны, очерки на морально-воспитательные темы и новогодние сказки.
Он понял мою неловкость и Сашкину хитрость, но вовсе не обижен.
— Ну да, — говорит он, — у мадам день рождения. Где-то в августе. Интересного будет мало, я вам гарантирую.
В субботу поздним вечером я подхожу к дому Саши. На тротуаре под окнами сидят на стульях какие-то люди — я не вижу в темноте лиц, но слышу женские голоса, — и тут же, на асфальте, бегают и возятся малыши. Все наслаждаются парной теплотой вечера: она кажется прохладой после того, что было днем. Саша живет на втором этаже. Окно его комнаты распахнуто, как и все окна в доме, и свет, падающий оттуда, озаряет сердцевину большой акации с пыльной, бесцветной листвой. Из Сашиного окна несется музыка патефона. Что-то латиноамериканское. Вся улица слушает Сашину музыку.
Я иду через двор. Смутно различаю в темноте стоящую посреди двора кровать, на которой кто-то спит.
На лестничной площадке второго этажа стоят двое и курят. Один из них Атанияз, другого я не знаю.
— Знакомьтесь, — говорит Атанияз, — Михаил Иванович Аннаев. Это Петр Корышев, журналист.
— Слышал о вас от Саши, — говорит грузный туркмен в белой украинской рубашке и слегка протягивает мне свою ладонь, держа ее возле живота.
Я пожимаю эту полную достоинства ладонь и вспоминаю, что тоже слышал фамилию Аннаев. Но где? От кого? Вот что: ее называл Денис. Такая фамилия была у того человека, за которого вышла замуж жена Дениса, когда она устала ждать. Но это, может быть, и не тот Аннаев. У туркмен много одинаковых фамилий. Тот Аннаев был, кажется, директором чего-то.
— Вы не директор? — спрашиваю я.
— Да, — говорит Аннаев. — Директор школы механизации.
— Михаил Иванович — муж Лериной сестры, Зинаиды Николаевны, — говорит Атанияз.
Ну вот. Конечно. Судя по спокойному, благополучному лицу директора, в его жизни не случилось никаких непредвиденных событий. Значит, Денис до сих пор в тени. Неделю назад я встретил его в ресторане на вокзале. Гамбургский костюм выглядел так, будто его вытащили из туго набитого мешка, и сам Денис был небрит, бледен, казался истощенным жарой или какой-то болезнью. К тому же он был сильно пьян. Он говорил, что хочет заняться фотографией.
Аннаев протягивает мне серебряный портсигар и с щелчком раскрывает его в ладони.
— Спасибо, — говорю я. — Надо, пожалуй, зайти в дом, поздороваться.
— Тоже правильно! А то в ногах правды нет! — говорит Аннаев, улыбаясь.
В прихожей пахнет жареным бараньим мясом и луком, кипящим в масле. Меня встречает Саша. Он по-домашнему, в рубашке без галстука, в тапочках. Берет меня за руку и вводит в комнату, и я вижу Леру, — она большая, темнолицая, с темными, голыми до плеч руками. Совсем не такая, как была восемь лет назад. В ней что-то броское и грубоватое: на фоне темного, мулатского лица — светлые пшеничные волосы и бледный от бледно-розовой помады рот.
— Петька, ты такой же! — Она смеется черными блестящими глазами. — Как сохранился-то!
— Стараюсь. Ты тоже прекрасно выглядишь.
— Я? Ну, что ты! Я растолстела. А помнишь, какая я была стройненькая? Помнишь, Петька?
— Ну конечно.
— Я была совсем худышка, правда?
— Правда, правда, — говорит Саша. — Он же сказал тебе.
— А ты бери пример со своего друга. Посмотри на свой живот. Зубы не можешь вставить…
— У меня зато другие достоинства… — Саша обнимает Леру за плечи и тянется губами к ее щеке. Она слегка отталкивает его.
— Ах, знаешь… Петя, ну как ты жил эти годы? Я помню, ты ушел на заочное.
— Ничего. Разнообразно.
— Тебе пришлось уехать из Москвы, да? — Она глядит на меня пристально, без улыбки.
— Да. Потому что мама жила в области, и я поехал к ней.
— Петька, а помнишь? — Саша дергает меня сзади за рубашку. — Помнишь, как я выступал на том собрании? Его хотели исключить, но я выступил и переломил все собрание.
Мы входим в комнату, и я здороваюсь с отцом Леры, Николаем Евстафьевичем, с какими-то пожилыми женщинами, которые суют мне сухие ладони и невнятно произносят свои фамилии. Две из этих женщин оказываются Лериными тетками, а третья — их знакомая. У них платья с большими вырезами и веера, которыми они непрерывно обмахиваются. Они разглядывают меня с молчаливым любопытством. Одна из теток говорит, что жила в Москве в тридцать восьмом году и тогда было очень дождливое лето. Она все время покупала на базаре грибы. Николай Евстафьевич, старик с клокочущим, астматическим голосом, спрашивает, не бывал ли я в здешнем музее. Он железнодорожный инженер, сейчас вышел на пенсию и чрезвычайно увлекся живописью. Он и сам пишет маслом. Слабо, конечно, ничего особенного, потому что нигде не учился и начал это дело на склоне лет и с лечебной целью, чтоб успокоить нервы. Но уже выставлялся на двух выставках самодеятельных художников. Одна такая выставка сейчас открыта в музее.
Я обещаю непременно зайти в музей и посмотреть.
Женщины накрывают на стол, а мужчины томятся от духоты и пьют газированную воду из термоса. Наконец все понемногу рассаживаются. Тут возникают новые фигуры: двое людей неясного возраста, муж и жена, Сашины соседи по квартире, приглашенные, как видно, из соображений квартирного этикета (они весь вечер молча едят и пьют), и Лерина сестра Зинаида с детьми. Зинаида намного старше Леры, худее, морщинистей и простоватей, несмотря на то что в очках. У нее тоже длинные, семейные брови. Зинаида — учительница. Она так разговаривает с детьми, что можно не сомневаться в том, что она учительница.
Дети забавные, светловолосые, но смуглые, с черными туркменскими глазенками, мальчик лет семи и девочка чуть старше: причудливый сплав славянской и тюркской крови.
Лере исполнилось сегодня тридцать.
Мы пьем за родителей, за мужа, за сына Васеньку, который отдыхает сейчас в детском лагере в Чули. Николай Евстафьевич провозглашает тост за «дочкины успехи в работе», за то, чтобы в наступающем семилетии она окончательно победила пустыню, превратив ее в цветущий и плодоносный сад. Саша преданно ухаживает за женой, и я даже вижу, как он гладит ее руку. Трогательная сценка. Лера что-то шепчет ему, делая строгие глаза, но на самом-то деле она довольна, рада-радешенька, — ну конечно, женщины так ценят внимание.
Интересно, кого он таскал ко мне в номер? Наверное, какую-нибудь замухрышку из редакции. А Лера красивая женщина. И у нее характер. Она тут всеми скрыто командует, даже старшей сестрой и стариком.
Стоя с бокалом в руке, что-то долго говорит Аннаев. Он произносит торжественную и витиеватую, по-восточному лукавую речь. Я улавливаю, что он в чем-то не согласен с почтенным аксакалом, то есть с Николаем Евстафьевичем. Ай-ай, не надо испытывать судьбу, пустыня — плохое место для молодых женщин. В пустыне живут чабаны, которые месяцами видят женщин только во сне, это опасные ребята.
— Не клевещите на чабанов, Михаил Иванович, — говорит Лера. — Они чудные, добрые люди. Давайте выпьем за чабанов!
— Тогда уж лучше за мужа, — говорит Саша. — По вине жены, которая без конца в разъездах, муж сам превращается в чабана.
— Я, Сашенька, за тебя не волнуюсь. Ты не пропадешь. — Лера, смеясь, треплет его за волосы. — Ты все-таки в Ашхабаде.
— А Ашхабад, говорят, город любви, — добавляет Аннаев.
— Категорически я не утверждаю, что пропаду. Выходы, конечно, есть. Но и чабаны ведь тоже не пропадают, у них тоже есть какие-то выходы…
Аннаев в восторге от Сашиного остроумия; смеясь, он хлопает кончиками пальцев по Сашиной ладони — жест особенной признательности.
Приносят плов. Все с воодушевлением принимаются за еду. Над столом порхают обрывки бумажных салфеток. Одна из Лериных теток, не обращаясь ко мне прямо, но явно в мой адрес, говорит, что в Москве такого плова не поешь. В тридцать восьмом году она однажды поела плова в Москве, и потом весь день ее мутило. Она вновь вспоминает, что в тридцать восьмом году было дождливое лето.
Дождливое лето! Вдруг я вижу его, оно возникает с необыкновенной отчетливостью. Сначала долгая поездка на трамвае, очень долгая, на окраину города, на улицу Матросская Тишина. Там давали справки и принимали передачи. Там были маленькие черные домишки, булыжная мостовая, заборы и толпа людей, которая выстраивалась в бесконечную очередь — женщины, дети, старухи, все они стремились к окошечку. Сначала стояли на улице, потом влезали в помещение. До окошечка было невероятно далеко. Мне было двенадцать лет, я читал Вальтера Скотта, прислонясь плечом к засаленной черной стене, исцарапанной и исчерканной надписями. Сердце начинало колотиться, когда окошечко приближалось. Потом, получив справку, я выходил во двор и видел ту же толпу, на которую сеялся дождь. Да, да, было дождливое лето. Тогда было ужасно дождливое лето, я ни разу не купался в реке, и не было никакой дачи и никакого пионерлагеря, я жил у тети Оли на Остоженке и читал книги, как сумасшедший. Девятнадцать лет назад.
Я слышу голос, похожий на голос тети Оли:
— Что за семья — он там, она здесь? — Это говорит другая родственница Леры, не та, что вспоминала про Москву. — Подумайте, только приехала — и через две недели опять в пески! Ведь она, бедняжка, жизни не видит. Одна слава, что инженер, а годы-то идут…
Эта родственница, кажется, продолжает тему Аннаева. Она все приняла всерьез и всерьез отговаривает Леру от возвращения в пески.
Лера пытается отшутиться, но тетка непреклонна. Она требует ответа. Всем ясно, что разговор неуместен, начался с шутки и эта тема не для всеобщего обсуждения, но человек без чувства юмора обладает гигантской силой. Все вдруг начинают говорить всерьез. Николай Евстафьевич всерьез доказывает, что Лера занимается важной и большой работой: именно для такой работы она училась пять лет в Москве. Лера говорит пожилой тетке что-то нервное и резкое, и та обижается и через четверть часа встает из-за стола и со страдальческим лицом, держась за виски, как будто у нее мигрень, прощается со всеми и уходит. Но свое дело она сделала. Саша вдруг заявляет Николаю Евстафьевичу, что никакой «важной и большой работы» не существует. Канал? Да ведь умные люди давно понимают, что тут больше шуму, чем дела. Эффект будет незначительный.
— Как глупо! — говорит Лера. — Когда ты злишься, ты всегда говоришь вздор.
— Я не злюсь. Чего мне злиться? Просто я говорю, что все это предприятие сильно раздуто. Твоя работа сама по себе интересна, но она прикладная.
— Нет, позволь-ка! — Николай Евстафьевич с волнением приподнимается. — Что именно раздуто?
— Где раздуто? — удивляется Аннаев. — Зачем так говоришь, Саша?
— Не спорьте с ним. Папа, не спорь. Он говорит нарочно.
— Ничего подобного.
— Тогда позволь: в своей же газете, где ты работаешь…
— За газету я не отвечаю. У меня свое мнение. Сегодня, кстати, напечатана статья инженера Хорева, из которой ясно, что там идут бесконечные склоки. До сих пор не могут уточнить профиль. А все дело в том, что каждый на этом канале ищет что-то для себя.
— И я тоже?
— Ну нет. Ну что ты! — Ухмыляясь, он ласково привлекает ее к себе. — А может, и ты… В конечном счете? Разве нет?
Лера слегка отодвигается от него, ее губы вздрагивают, как будто она хочет ответить, но она молчит.
— Прости, Лерхен, прости меня. Ты не обиделась, правда? — Саша берет ее руку и целует. — Ты совсем другое дело, я знаю. Я говорю про тех, кого видел на трассе. Ведь я жил не как ты, на одном месте и с одними людьми, я видел много разных людей. Самых разных. Исписал три вот таких блокнота, — он показывает двумя пальцами, какой толщины блокноты. — Есть такой экскаваторщик Нагаев, он был в Пионерном отряде у Фефлова, сейчас у Карабаша. Известный человек, о нем писали газеты, я сам писал, даже на радио толкнул очерк — вот через Нияза…
— Правильно, — говорит Атанияз своим замогильным голосом. — Был такой очерк. Очень посредственный.
— Неважно. Не хуже других. Так вот я Нагаева спрашиваю: «Зачем, говорю, вы себя так дьявольски изнуряете?» Ведь работают, звери, без выходных, ночей не спят, жадность к этим самым кубам — лютая. «А что ж, говорит, пока рубль длинный, теряться не приходится». Понятно? У него, ребята сказали, тысяч примерно сто двадцать на книжке.
— Деньги не ворованные. Зазорного ничего нет, — говорит Николай Евстафьевич.
— Я говорю о стимуле.
— Саша, я ведь работал, как тебе известно, в Сагамете, в районной газете, — говорит Атанияз. — На трассе был много раз. И я с тобой не согласен. Потому что примеры можно приводить разные. На колодце Куртыш стояла партия геофизиков, у них был такой шофер, Дмитрий Васильевич Плющ. Человек уже немолодой, из Грозного, правда, совершенно одинокий, вдовец. Он крепко зарабатывал и всю получку тратил знаете как? Покупал в Кизыл-Арвате ящик вина, выезжал в пески, останавливался где-нибудь на дороге и всех встречных шоферов поил бесплатно. И не только шоферов, а всех, кто попадется.
— По-моему, какой-то идиот, — говорит Зинаида. — Спаивал людей.
Аннаев смеется.
— Ай нет, молодец! — Он тянется через стол и ударяет кончиками пальцев по ладони Атанияза. — Ай, хороший человек!
— И для этого своего удовольствия — сидеть в песках, на дороге, и поить незнакомых людей вином — он дни и ночи крутил баранку. Вот вам и Плющ. Возьмите его за рупь двадцать.
— Патология, — говорит Саша. — И потом — было, может, раз или два, а разговоров…
— Я к тому говорю, что стимулы у людей разные. И обогащение далеко не главный. Я знаю людей, которым наплевать на деньги, которые их в грош не ставят, и я имею в виду даже не таких, как Плющ или как Сашка Фоменко. Про Сашку Фоменко слыхали? Ну как же, это оригинал, на всей трассе знаменитый. Он десять месяцев в забое безвылазно, а два — гуляет, в Сочи, в Крыму, живет в лучших гостиницах и выдает себя то за какого-нибудь капитана, то за разведчика или полярного летчика. Тут театр, понимаете? Игра, представление — это совсем другое. Но есть десятки парней — и среди них много местных, туркмен, — которые пришли на стройку потому, что понимают, что значит эта стройка для нашей республики.
Дети зевают, прикрывая смуглыми ладошками рот. Старик Николай Евстафьевич сидит с закрытыми глазами. Он задремал, слушая монотонный голос Атанияза.
— Ну и что? — говорит Саша и тоже зевает. — Правильно. Каждый ищет что-то для себя. Один — это, другой — то. Колхозники ищут одно, Нагаев — другое, Фоменко — третье. Один бежит от семьи, другой, наоборот, мечтает найти семью. Третий делает карьеру. И Хорев, который сегодня клепает на Ермасова, тоже преследует свои цели…
Аннаев собирается уходить.
— Не знаю, Саша, кто там что ищет, — говорит он, вставая. — Но мы, туркмены, ищем в канале только одно — воду. Вода, говорят, это жизнь. А? Разве не так?
Он тихонько смеется, похлопывая Сашу по плечу. Лера целуется с Зинаидой. Семилетний Боря совсем спит, Аннаев бережно поднимает его и, держа на весу, как барашка, кивает и улыбается всем сладостной улыбкой, и они выходят.
Я бы тоже хотел встать и выйти из-за стола, потому что невозможная духота, я обливаюсь потом, и тесно сидеть, и утомительно слушать разговоры насчет каких-то незнакомых людей. Но встать нельзя. Николай Евстафьевич, разбуженный уходом Аннаева, почувствовал прилив сил. Он вновь затевает спор с Сашей — по поводу статьи Хорева, с которой он не согласен. И свое решительное несогласие он высказывает, обращаясь почему-то только ко мне. Ему кажется, что я тут главный: я обычно молчу в больших компаниях, и вид у меня очень серьезный. И вот он, перегибаясь через стол и хватая меня за руку, чтобы я не отвлекался и слушал внимательно, разъясняет свою точку зрения на эту статью, из-за которой слетел мой очерк. Понять его трудно. Он делает какие-то ненужные движения языком, будто перекатывает во рту горячий комок теста, который ему обжигает небо. При этом он все время жует губами. Я разбираю несколько слов, которые он сердито выкрикивает:
— Ермасов — это человек! Да! И вы мне ничего не докажете!
— Вы, Николай Евстафьевич, все принимаете на веру, — говорит Саша, посмеиваясь. — Не умеете мыслить критически. Это странно, тем более в вашем возрасте. Помните, как вы восторгались Главным туркменским каналом?
— Да ведь не я один!
— Но надо же мыслить самостоятельно…
— Перестань так разговаривать с отцом! — вдруг говорит Лера гневным, резким голосом и ударяет ладонью по столу. Лицо ее побелело. — Чтоб я не слышала этого тона!
Все обескуражены. Наступает молчание.
— Какого тона? — спрашивает Саша.
— Вот этого. Дурацкого, покровительственного тона. Мой отец умный, честный человек. Он всю жизнь честно трудился…
— Лера, Лера! Успокойся, что ты! — бормочет старик, привставая из-за стола. — Александр меня ничем не обидел, по-моему…
— Нет, но он разговаривает отвратительным тоном. Папа, извини! Я отвыкла от вас от всех…
Лера встает и делает попытку выйти из-за стола, но для этого нужно, чтобы Саша вместе со своим стулом отодвинулся от стены, освободив проход, а Саша сидит неподвижно, с окаменевшим лицом, и Лера вновь садится на место. Саша чертит концом вилки по скатерти. Лерина тетка с поспешностью начинает наливать всем чай. Взгляд Леры встречается с моим, и она вдруг улыбается как-то принужденно, невесело.
— Петя, извини. Я действительно отвыкла от цивилизованной жизни.
— Это заметно, — ворчит Саша.
— Лерочка, ты переутомилась, — говорит тетка.
— Разве он сказал мне хоть одно обидное слово? — спрашивает Николай Евстафьевич.
— Нет, нет! Ничего. Успокойся. Он тебя не обидел.
Молча пьем зеленый чай. Здесь все пьют зеленый чай, он отбивает жажду быстрее, чем черный. Атанияз, желая нарушить молчание и переменить разговор, обращается ко мне:
— Вот здесь говорили о Ермасове. А ты слышал про ермасовский рейд?
— Нет.
— Тогда я расскажу. Чтоб ты понял, что он за человек.
— А он уже понял, — говорит Лера, — со слов Саши. Он понял, что Ермасов, как и все, ищет на канале выгоду для себя.
— Ну нет! — возражает Атанияз. — Ермасов другой человек. Вот я расскажу…
— Не надо рассказывать, — говорит Саша. — Всем это известно. И то, что ты расскажешь, не будет настоящей правдой.
— Нет, я расскажу. Это правда. С чего началось? Ермасов предложил идею, которая резко противоречила всему проекту строить канал с двух сторон. Идти с водой от Амударьи и одновременно рыть посуху, со стороны Мургаба. Для этого он предложил забросить технику в пески. Это был дерзновенный план. Никто не поверил, что это возможно. Никто! Ведь проектировщиков целый институт, они работали над проектом год, а может, и два. И вдруг приходит строитель и все переворачивает вверх тормашками. Взрывает главную идею. Предлагает новую. И обещает колоссальную экономию в средствах и во времени…
— Ну, не совсем так, — говорит Саша.
— Проектировщики ни за что не желают менять проект. Управление их поддерживает. Никакие, говорят, механизмы не смогут пройти по барханам в глубь песков. Это нереально, убийственно для машин и людей. И тогда он решается на подвиг, а может, на преступление. Все было неясно, как обернется. На свой страх и риск бросает механизмы в пески: около ста машин, целую армаду!..
Это очень интересно и занимательно, но как-то не вовремя. Саша мрачно думает о чем-то своем, Лера глядит в окно. Один Николай Евстафьевич слушает Атанияза с радостным интересом.
— Я был там от газеты, — говорит Атанияз. — Прошел с ним весь путь. Стояла вот такая же жара, середина лета. Тракторами тащили экскаваторы, баки с горючим, с водой, хозяйства, столовые, будки для жилья. И Ермасов на своем газике носился вдоль колонны, как бешеный черт, выскакивал из машины, орал, матерился, нагонял на всех страху и глотал валидол. Я удивляюсь, как он не рухнул. Десять лет жизни он потерял там наверняка. А проектировщики и вся эта компания сидели в кабинетах и ждали: чем дело кончится? Мы прошли двести сорок километров по барханным пескам. Длилось все путешествие около трех месяцев. Закрепились на колодце Кизылча-Баба, сделали базу, а сейчас там большой поселок.
— Красиво рассказывает! Стопку водки ему, — говорит Саша и обращается ко мне: — Между прочим, тот же Ермасов с таким же рвением работал на Главном Туркменском. Который потом с треском завалился…
— Нет, нет! Это неверно! — возбужденно говорит Атанияз, хватая меня за руку. — Я в курсе дела! Я был на Тахиа-Таше. Как только умер Сталин, Ермасов написал в ЦК письмо о том, что строительство ГТК нерационально и его надо закрыть. Понял? Потому что ГТК шел по необжитым, пустынным местам, которые пришлось бы заселять людьми, а это дорого и сложно. И в апреле стройка была закрыта. Там одних бросовых затрат — обводной канал, мосты, бетонный завод — на полмиллиарда рублей.
— Почему же он раньше не написал такого письма?
— Ты что — маленький? Или дурака валяешь? Ведь это была его идея!
— Идея, кстати, принадлежала Петру Первому…
— Атанияз, милый, — говорит Лера, — не надо с ним спорить. Он считает, что все люди заняты своим собственным благоустройством, ну и пусть его. И раньше, и теперь, и всегда. Он считает, что Ермасов написал письмо в ЦК, чтобы отличиться и выдвинуться по служебной лестнице.
— Ну что ты! — Атанияз с испугом прижимает руки к груди. — Это совершенно неправильно! Ермасов абсолютно бескорыстный человек! На таких, как он, держится наше государство.
— Да неужели?
— Атанияз, ну что он может знать о канале и о Ермасове, если он месяцами торчит в Ашхабаде? Раз в год выезжает на трассу на три дня.
— Три дня — это мало?
— По-моему, это ничто.
— Для умного человека больше, чем нужно.
Они глядят друг на друга холодными, злыми глазами.
Николай Евстафьевич пытается приподняться и сказать речь, но его прерывает стук в дверь. Пришли гости: Жорка Туманян с букетом цветов, еще какой-то незнакомый парень и девушка. Всеобщая суета, перемена ритма, кто-то встает, кто-то садится, две пожилые тетки уходят навсегда, и, воспользовавшись минутой, я тоже встаю и пробираюсь в коридор.
Прибывших забрасывают тарелками, городят вокруг них блюда закусок, наливают штрафные. Но, в общем, гости некстати. Саша тоже пробрался в коридор, ворчит мне на ухо:
— Жорка — подонок: обязательно в полночь, когда уже нет настроения…
— Кто это с ним?
— Наша знаменитость, Алик Сагаделян. Из ашхабадского «Буревестника». Левый инсайд.
— А девушка?
— Да это так одна, несчастненькая. Все ей помогают, все сочувствуют, — у нее мать больная, они откуда-то приехали…
К нам присоединяется Атанияз.
— Вот удостоились-то! — подмигивая, говорит он шепотом. — Сам товарищ Сагаделян…
— Не шути, брат: его Махачкала переманивает…
Мы переговариваемся вполголоса и сквозь открытую дверь смотрим на сидящих вокруг стола. Лера и Николай Евстафьевич всячески угощают гостей и развлекают их разговорами. Теперь говорят о каких-то пустяках. О сухумском джазе, о новом мебельном магазине. Пора уходить. Не дай бог, Жорка заведет разговор о футболе.
— Петя! Петька! — вдруг кричит Жорка. Это довольно непочтительно, и я не оборачиваюсь. Он младше меня на семь лет, сукин кот. — Петро! — кричит Жорка. — А ты был на новом стадионе в Лужниках?
— Нет, — говорю я.
— Как! И на первенстве мира по хоккею не был?
— Кажется, нет, — говорю я. — Не помню.
Я действительно не помню. Но, кажется, я был Все это было черт знает как давно, на другом краю земли. Футболист в белой шелковой рубашке с янтарными запонками что-то рассказывает своей девушке. У нее пышные темно-рыжие волосы, рассыпанные по плечам, и тоненькое личико. И грустные глаза с черными, накрашенными тушью ресницами.
Внезапно я чувствую смертельное беспокойство. Это так сильно и внезапно, что похоже на удар. Мне кажется, я куда-то опаздываю, уже опоздал. Я пошатнулся. Но голова работает ясно.
— Я выйду на воздух, — говорю я Саше.
— Иди.
Ощупью спускаюсь по темной лестнице. Сейчас темно, а когда я поднимался, горела лампочка. На дворе светлее потому, что звезды. Но тоже темно. Очень темно. Я иду, протягивая вперед руки. Иду вбок, налево, не знаю, почему именно налево, но иду уверенно, пока не натыкаюсь на что-то, похожее на скамейку. Да, скамейка. Я сажусь.
Я сижу долго, наслаждаюсь одиночеством. Беспокойство утихло, ушло куда-то вглубь, спряталось. Эти приступы мне знакомы. Мне кажется, они происходят от времени. Обычно мы времени не чувствуем, оно протекает сквозь нас незаметно, но иногда оно зацепляется за что-то внутри нас, и на миг становится страшно: похоже на приближение смерти. Но потом это проходит, как приступ астмы.
Кто-то вышел из дверей и остановился на крыльце. Под подошвами на цементной плите крыльца скрипит песок. О чем-то шепчутся двое. Вот они целуются, вот опять шепчутся. Это футболист со своей девушкой. У нее такие грустные глаза с нарисованными ресницами. Нет, этих двоих не мучают приступы бегущего времени.
Он говорит чуть громче:
— Ну, пойдем.
И она отвечает:
— А Жорик?
— Оставим его… Пошли быстренько!
Я слышу, как он ее тянет силой, они борются, и смеются, и снова шепчутся, потом наступает тишина, только поскрипывает песок на цементной плите. Потом раздается громкий звук поцелуя. Такой протяжный, сосущий звук издает воронка ванной, когда в нее стекает последняя вода. И потом они медленно, очень медленно, должно быть обнявшись, идут через двор и выходят на улицу.
Утром сквозь полусон, сквозь дурную тяжесть в голове, стоя босиком, разговаривал по телефону с Сашей. Он разбудил меня, чтобы спросить, не могу ли я уступить ему номер, очень нужно. Я сказал, что могу, хотя в душе послал его к черту. Было уже поздно. Солнце стояло высоко, и вся комната была им залита и успела накалиться. Я снова лег на кровать, но уже не спалось от жары. По коридору, громко разговаривая, ходили люди, и на улице, под окном, тоже все время шаркали, ходили, смеялись, чувствовалось воскресенье.
Я встал под душ и минут пятнадцать обливался холодной водой. Потом побрился и вышел на улицу за газетами. Киоскерша продавала газеты возле самого входа в гостиницу, на одном из крыльев бетонированной лестницы. По утрам здесь была тень, а киоск на противоположной стороне улицы стоял на солнце. Газеты, журналы, почтовые конверты, карандаши и покоробившиеся открытки с видами почему-то Кисловодска и Ялты были разложены на широкой брезентовой раскладушке, а киоскерша сидела рядом на табурете. Московские газеты уже все разошлись, но киоскерша оставляла для меня то, что я просил. Я взял газеты и пошел в ресторан завтракать.
Режиссер Хмыров кушал свои вечные сырники и пил чай. Он помахал мне рукой, приглашая сесть рядом. С тех пор как я работаю в газете, режиссер Хмыров стал ко мне внимателен. Иногда даже здоровается первый. Я сел за его столик и заказал сыр и бутылку пива.
— Ну-с, так что мы имеем? — спросил Хмыров и, не дожидаясь ответа, сказал: — Послушайте, вы можете дать информацию, хотя бы десять строк, о том, что худсовет киностудии вчера обсудил первый вариант нашего сценария. Дали поправки, но в общем прошло на «ура».
— Поздравляю вас.
— Спасибо. Ну-с, так что мы имеем? Как дела?
Я видел, что он уже сказал все, что хотел, и дальнейший разговор был ему малоинтересен. Мне очень хотелось пить. Когда принесли пиво, я выпил сразу всю бутылку.
Я сказал, что мои дела ничего.
— Где вы были вчера вечером? — спросил он.
— На именинах.
— Веселились?
— Как-то не понял.
— Завидую вам. А я работаю как проклятый, у меня даже нет времени включить радио и десять минут послушать музыку. Привет вам, и помните об информации! — Он улыбнулся, вставая из-за стола, и сделал приветственный ротфронтовский жест, подняв сжатый кулак. — Помните, что на Востоке говорят: «Доброе дело равняет человека с шахом». Так вы имеете шанс сделаться шахом!
В его фигуре было нечто старообразное и вместе с тем женственное: большой зад и узкие плечи. Людям с такой фигурой обычно везет в жизни. Это я заметил.
Я попросил еще одну бутылку пива и выпил ее так же быстро. Есть мне не хотелось. Прочитав газеты («Спартак» опять проиграл!), я вернулся к себе в номер, где была уже настоящая парильня и солнце, переместившись выше, заливало неубранную постель. Я сел за стол, чтобы кое-что записать. Из вчерашних впечатлений запомнились две истории: про то, как Ермасов перегонял технику, и про шофера, который всех угощал бесплатно. Было еще что-то, но я забыл. Про Ермасова — это интересно. Надо с ним познакомиться. Надо взять командировку на канал.
Зазвонил телефон. Лера интересовалась, встал ли я и как я себя чувствую. Я сказал, что чувствую себя отлично. У нее был грудной, глубокий голос, и я сразу вспомнил этот голос: давным-давно, когда я жил у тети Оли на Остоженке, Лера иногда звонила мне, узнавая про Сашку. Он жил в общежитии, и там телефона не было. Как Лера его любила! В те времена в ее голосе слышался трепет, которому я завидовал, а сейчас в нем было вежливое спокойствие и ничего больше. Лера сказала, что ей надо со мной посоветоваться, и просила зайти. Саши дома не было. По словам Леры, он уехал к Критскому играть в преферанс. Я сказал, что скоро приду. Неприятный звонок: неужели ей стало что-нибудь известно про Сашу? Судя по вчерашней вспышке, вполне возможно.
Только я положил трубку, как вошел Саша. Я сказал, что звонила Лера и что он, Саша, играет сейчас в карты у Критского.
— Ну да, там нет телефона, — сказал Саша. — И она туда в жизни не позвонила бы.
— Как дома? Мир наступил?
— Да. В общем — да. После обеда едем вместе в Чули, навестим Ваську. Старик, мне все надоело. Я так устал… — Он вздохнул и плюхнулся на постель так, что зазвенели пружины. Он сел в брюках прямо на простыню. Ничего удивительного: ради этой простыни он и приходил ко мне в номер и поэтому обращался с нею фамильярно.
Нет, мое раздражение вспыхнуло не оттого, что он сел в брюках на простыню, а оттого, что он сказал: «Я так устал».
Я взял свою соломенную шляпу и вышел.
В городском саду разгуливали одинокие парочки и солдаты, отпущенные по увольнительной. Было рано и жарко. Гулянье начнется часов с семи вечера, вот тогда здесь не протолкнешься.
Лера сидела во дворе в плетеном кресле и читала книгу. Я сел рядом с ней на низкую кирпичную ограду и стал обмахиваться шляпой, потому что здорово взмок, хотя шел нарочно очень медленно.
— Выпить хочешь? — спросила Лера. — Там осталось.
— Нет.
— Петя, мне надо с тобой посоветоваться. — Она закрыла книгу и вместе с креслом повернулась ко мне. Я прочитал на корешке: что-то научное, по ботанике.
Она стала рассказывать историю Дениса, которая была мне известна. Я удивился, откуда она ее знает: оказывается, встреча Дениса и Зинаиды уже состоялась, две недели назад. Зина держалась молодцом, с большим самообладанием. Михаил Иванович ничего не знает пока и лучше бы не узнал: он ведь вспыльчив и ревнив, как все восточные люди. Конечно, там все перегорело, прошло шестнадцать лет, но факт остается фактом: вернулся муж, отец мальчика. Михаил Иванович безупречный семьянин, уважает Зину, и она ни за что не хочет его огорчать. Но и Дениса ей жалко. Он такой несчастный, неприкаянный, нигде не работает. Борис Григорьевич хочет устроить его в газету. Он ведь фотограф, привез из Германии какой-то дорогой аппарат. Но устроиться в газету трудно. Надо хлопотать сообща. Надо, чтоб не один Борис Григорьевич, а кто-нибудь еще поговорил с редактором.
— Я могу, — сказал я. — Но я там человек новый. А Сашка?
— Вчера говорили с ним все утро и поругались. Вечером — это было продолжение. Вообще, вчерашний день лучше не вспоминать…
— Ну и что Сашка?
— Он не хочет хлопотать за Дениса. Говорит, что ему неудобно, потому что Денис наш родственник и это многим известно, и вообще это дело безнадежное: его не примут по анкетным данным. Но ведь Денис амнистирован! Он вернулся на Родину по амнистии! Сашка говорит, что это не играет роли. В газете особые требования. И ссылается на тебя: вот Петю, мол, с каким трудом удалось устроить, а у него отец не то что амнистирован, а полностью реабилитирован и посмертно восстановлен в партии. И то какая была волынка.
— Волынка была. Но я не уверен, что из-за отца, скорее всего, была самая обыкновенная, доброкачественная волынка.
— Вот я и сказала, что не верю, чтоб из-за отца. И назвала Сашку трусом. Он разозлился, разорался, кричал, что я дура, ничего не понимаю, отупела в песках. Может, я действительно чего-то не понимаю?
— В чем именно?
— Ведь если людей реабилитировали, амнистировали, то это серьезно и навсегда. Обратного пути быть не может.
— Верно, но не забывай такую вещь: не всем нравятся эти перемены. Раньше было просто: посмотрел в бумажку — и все ясно. Репрессированные не годятся, оккупированные не годятся, амнистированные не годятся, имеющие родственников не годятся и так далее. А теперь хлопот вагон: надо научиться в людях понимать и еще в деле разбираться.
— Значит, Сашка в чем-то прав?
— Он прав в том, что есть недовольные, есть встревоженные, есть люди, которые тормозят. Но надо действовать, надо бороться с перестраховщиками. Тут не в Денисе дело, а в принципе. Я, например, обязательно поговорю насчет него, хотя я там десятая спица…
Солнце поднялось в зенит, и на дворе не осталось тени. Мы пошли в дом. Лера рассказывала о Денисе, какой он был красивый: белокурый, глаза синие, совершенно нестеровский отрок. Поразительно был красивый. А сейчас такой старый, погасший, лицо жесткое, глаза жесткие. Все мы изменились, но он как-то страшно, непоправимо. Если ему не помочь, погибнет. Потом расспрашивал о моей жизни, о маме, о Наташе. Я рассказывал скупо. Чего рассказывать? Не люблю, незачем.
Потом пришел Николай Евстафьевич, он ходил сдавать бутылки. Сели обедать.
Саша все еще играл в преферанс. Мне вдруг стало противно, я сам себе стал противен. «Все-таки я подонок, — подумал я, — сижу у Леры в гостях, обедаю, она ко мне так добра, так сочувственно расспрашивает, а я устраиваю этому сукиному коту… Хватит! Крышка. Пусть только заикнется еще раз!»
Ни Николай Евстафьевич, ни Лера не заговаривали о Сашке.
Николай Евстафьевич предавался воспоминаниям. Рассказывал, как впервые приехал в Среднюю Азию в командировку двадцать лет назад, его тогда мучила астма, а здесь, в Туркмении, он неожиданно почувствовал облегчение. Врачи сказали, что надо переменить климат, и он перевелся на Ашхабадскую дорогу, переехал сюда вместе с семьей, тем более что здесь с давних времен, еще с гражданской войны, жили его родственницы — две двоюродные сестры. Лерочка была тогда старшая школьница, Зина уже училась в педагогическом, и был еще младший, Валюша, — он погиб на войне. Вот так и стали они, коренные русаки, жителями солнечной Туркмении. И прижились, вросли корнями. Уже и мамочку тут похоронили. И даже после землетрясения не сбежали отсюда, как многие, хотя дом порушился, и все имущество, годами накопленное, пропало, и жизнь пришлось начинать заново.
Лера сказала, что встретила на трассе какого-то Алешу, с которым Валя учился в школе. Старик обрадовался, он помнил этого Алешу («Ну-ну, такой цыганистый, с челкой ходил!») и стал расспрашивать о нем, и просил, чтобы Лера обязательно позвала его в гости.
Я слушал их разговор, смотрел на отца с дочкой — они были похожи, оба рослые, черноглазые, с большими руками, но, странно, те же черты, что старику сообщали мужественность, ей придавали настоящую женственность — и думал о том, что Сашка идиот, лада в этой семье нет и Леру это мучает, хотя она, может быть, не знает всего. А какими счастливыми они были восемь лет назад! Все им завидовали. Даже я немного. Почему-то вспомнилась вчерашняя девушка, которая пришла с футболистом. Она сидела вот тут и смотрела с нежностью на своего футболиста. Самое главное — сохранить этот взгляд, радостный, излучающий так много всего.
И глаза Саши и Леры, холодные, из которых все вытекло. Невесело, когда видишь начало и конец.
— Петя, что ты делаешь вечером? — спросила Лера.
— Пока не знаю.
— Мы поедем с Сашей в Чули, проведаем сына. Я не видела его два с половиной месяца! Этот парень, которого привел вчера Туманян, оставил нам пропуск на футбол. Хочешь пойти?
— Ладно. — Я сунул пропуск в карман. — Спасибо.
Николай Евстафьевич стал объяснять, как добраться до стадиона. Даже начертил план на оборотной стороне пропуска.
Голова все еще болела, я знал, что не смогу ни читать, ни писать, впереди был пустой вечер. И я поехал на стадион.
На автобусе доехал до конечной остановки и потом долго петлял по жарким улицам, мимо глинобитных дувалов, мимо одноэтажных особняков с зарешеченными окнами. Стадион был маленький. На заборе висела нарисованная масляной краской и кое-где облупившаяся таблица розыгрыша первенства страны по классу «Б», где участвовал ашхабадский «Буревестник». Я ничего не понимал в этом второклассном футболе и остановился, чтобы выяснить, как идут ашхабадцы. Они шли неважно, третьими от конца. Сегодня им предстояло играть с челябинской командой «Энергия», которая, я тоже посмотрел, была где-то в середке.
У кассы стояла небольшая очередь, на трибунах было пустовато. Я прошел по моему пропуску в ложу, над которой был сделан навес. Остальные зрители пеклись на солнце. Очень трудно играть в такую жару. Ходить трудно, а не то что бегать. Я сочувствовал футболистам, особенно белобрысым уральцам: они уже к центру поля бежали тяжело, опустив головы, и вид у них был полусонный. Среди черных ашхабадцев я увидел своего вчерашнего знакомого с десяткой на спине. Он все время подпрыгивал и приседал для разминки. Я представил себе, какая духотища сейчас в моем номере в гостинице: там особенно жарко как раз в эти часы — в четыре, в пять. Нет, я хорошо сделал, что пришел сюда, — тут хоть тень и какое-то движение воздуха.
Лет восемь назад, в Москве, я ходил на футбол часто, болел за «Спартак», это было острое и даже страстное увлечение, которое потом прошло: ездить на матчи из-за города стало трудно и как-то не до того. За последние годы я попадал на футбол раз или два в сезон, и то случайно, за компанию, и было не то, что прежде. Таблицы я не вел, игроков не знал. Мне было скучно. Вот и сейчас я никак не мог заставить себя смотреть игру. То есть я смотрел, но ничего не понимал. Несколько дней назад Атанияз принес нам рецензию на книгу Махтума Максумова, старого туркменского поэта, который в прошлом году вернулся из дальних мест, с Колымы. Пробыл там девятнадцать лет. После разговора с нашим замом Лузгиным я понял, что пробить рецензию будет непросто. Лузгин сразу спросил: «А почему он несет к нам, а не в республиканскую газету?» Значит, есть причины, если не несет. Разговаривать с ним насчет Дениса будет тяжело. Надо достать книгу Максумова и прочитать самому, а то хлопочу, не зная существа дела. Хотя разве существо дела в книге?
Я оглянулся и увидел через два ряда надо мной ту девушку, что вчера была с футболистом. Ту, темно-рыжую, с маленьким личиком. Наверно, она посмотрела на меня, и поэтому я оглянулся. Я издали поздоровался с ней, она ответила кивком, и на этом наше общение кончилось. Но я почему-то не мог больше ни на чем сосредоточиться и теперь думал о том, что сзади сидит эта девушка, — забыл, как ее зовут.
Но что-то в ее неулыбающихся, немного кукольных, обведенных тушью глазах меня зацепило. Она так грустно и пристально смотрела на поле. Там бегал ее друг.
Сидевший впереди меня старичок в черно-белой узбекской тюбетейке вдруг обернулся и сказал:
— Давайте с вами заложимся, а?
— Давайте, — сказал я, разглядывая старичка. Он был похож на старого одессита. Может быть, он и был старый одессит, из тех, что эвакуировались сюда в сорок первом году и тут застряли. — Вы за кого?
— Я за уральцев. По четвертной, а?
— Ну давайте, — сказал я.
Первый тайм закончился ноль — ноль. Во время перерыва зрители встали и поспешили в тень, под деревья. Мимо ложи прошла мороженщица с ящиком. Я купил две плитки пломбира и подошел к темно-рыжей девушке.
Она посмотрела на меня удивленно.
— Спасибо. Только я не люблю мороженое.
— Как? Не любите мороженое? Такое жирное, сытное, полезное для здоровья и особенно для цвета лица… — Я болтал вздор, сам не помню что, садясь с нею рядом и разворачивая плитку пломбира. Другую плитку пришлось положить на скамейку.
Девушка объяснила: она не выносит ничего молочного! Она как будто обрадовалась тому, что я сел рядом и можно было поболтать. Я узнал, что ее зовут Катя, ей двадцать лет, она нигде не работает и живет одна. Совсем одна? Без папы, без мамы? О, это замечательно!
— Ничего замечательного, — сказала Катя, посмотрев на меня чуть свысока. — Папа не живет с нами одиннадцать лет, а мама болеет. Она сейчас в санатории, в Байрам-Али.
— Тяжело болеет? — спросил я.
— Очень.
Я вздохнул. Мы стали смотреть, как играют. Измученные, в мокрых майках, футболисты бегали по выбитому, пыльному полю, на котором кое-где островками росла исчахшая трава. На щите стояло «1:0» в пользу Челябинска. После некоторого молчания я спросил о молодом человеке с десяткой на спине: он кто — друг детства или жених?
— Почему жених? — Она снова посмотрела на меня высокомерно. — Если человек хороший товарищ, помогает другому, когда трудно, и вообще, значит, обязательно жених?
— Нет, конечно. Я просто спросил.
— Ах, просто спросили? — Она усмехнулась и пожала плечами.
Вновь наступило молчание. Меня угнетало мороженое. Оно текло по пальцам, я не знал, что с ним делать. Съесть его я не мог. Его можно было только лакать.
— Мне кажется, я видел вас раньше. Может быть, на телеграфе или на базаре, — сказал я, раздвигая колени и глядя себе под ноги, где образовалась молочная лужица.
Катя немного отодвинулась.
— Вряд ли, — сказала она. — На базар я хожу очень редко, а на телеграфе вообще не бываю.
После такого афронта я умолк окончательно. И поделом: не приставай к подругам футболистов.
Я положил остатки мороженого под скамейку, ногой затолкал их подальше вглубь и взял другое мороженое, еще не распечатанное, но уже тоже довольно мягкое. Я приложил его ко лбу. Катя посмотрела на меня и фыркнула.
— Что вы делаете?
— У меня болит голова.
— Ну и как — легче?
Она впервые смотрела на меня с интересом и улыбалась. Она очень мило улыбалась. На щеках ее возникли ямочки, и я увидел плотные, мелкие, белые зубы.
— Можно, я так посижу? Вы не возражаете?
— Нисколько.
— Я вас не шокирую?
— Нет, нет. Пожалуйста.
Она засмеялась. Я тоже засмеялся. У нас начиналось как будто что-то налаживаться, и вдруг зрители закричали. Сидевшие впереди нас вскочили на ноги. Я тоже встал и увидел, что один из футболистов лежит на земле, вокруг него собралась толпа и через поле бежит доктор с чемоданчиком.
— Алик! — вскрикнула Катя и схватила меня за руку. — Что с ним?
— Готов, — сказал старичок в тюбетейке. — По битому месту.
Зрители свистели. К боковой линии выбежал футболист в тренировочном костюме, стал быстро раздеваться. Алика подняли на руки и унесли с поля. Его положили на землю рядом с беговой дорожкой, и доктор согнулся над его коленом, и было видно, как Алик запрокидывает голову, корчась от боли. Новый футболист, подняв руку, чтоб видел судья, а другой рукой подтягивая белоснежные, чистенькие трусы, выбежал на поле, и игра продолжалась.
— Я пойду к нему… Можно? Ладно? — Она как будто спрашивала у меня разрешения.
Я не успел ответить, как она побежала вниз.
— Подождите! Я пойду тоже!
К Алику уже подходили с носилками.
— Куда вы, куда вы? — закричал старичок.
— Я вернусь, не волнуйтесь.
— Нет, позвольте! — кричал он. — Как это — вы вернетесь? Это не по-игроцки! Я иду с вами!
Мы спустились вниз и шли вдоль первого ряда, чтобы обогнуть поле и попасть на противоположную сторону, где был вход в подтрибунное помещение. На поле что-то происходило, стадион гудел, у ворот челябинцев была свалка. Мы проходили так близко, что слышали, как стучат, сталкиваясь, бутсы и как футболисты кряхтят и переругиваются.
Старичок бежал за мной по пятам, бормоча:
— Он вернется!.. А когда вернется — это вопрос…
Катя вошла в дверь, куда унесли ее приятеля на носилках, а я стал ждать. Через две минуты игра окончилась, и публика густой толпой пошла мимо нас к выходу. Многие бросали на землю газетные колпаки, которые надевали на время игры. У всех были красные, в воспаленных обводах, глаза и усталые лица. Я дал старичку его выигрыш и поздравил его.
Катя вышла минут через двадцать. Было похоже, что она плакала: под глазами черно от краски, которая натекла с ресниц. Катя аккуратно, кончиком платка, вытирала нижние веки.
— Что с ним?
— Берут в больницу. Опять травма колена. Бедненький, он все губы искусал… Морфий впрыснули… Ой!
Она зажмурила глаза. У нее даже лицо изменилось.
— Жалко парня, — сказал я. — Вот черт, не повезло.
Мне действительно было жалко его. Самое отвратительное в футболе — вот такие сцены.
Мы молча дошли до остановки, сели в автобус. Еще больше, чем Алика, мне было жалко Катю, она выглядела совершенно подавленной. Ветер трепал ее темную пышную шевелюру, волосы кидались на лоб, на глаза, она не поправляла их, сидела неподвижно, с застывшим лицом, и смотрела в окно автобуса. Скверная история! Отца нет, мать в санатории, друга увозят в госпиталь. Может, ей некуда идти? Внезапно я почувствовал, что не могу так просто расстаться, что несу ответственность за нее — по крайней мере, на сегодняшний вечер.
— Проводить вас домой, Катя?
Оторвавшись от окна, она посмотрела на меня долго и как-то с усилием, точно вспоминая: откуда взялся этот человек?
— А что делать дома? Я живу с одной девушкой, моей подругой. Ее сейчас нет. Она в экспедиции, на Челекене…
Молодые ребята в белых рубашках ехали в центр гулять. Было только половина восьмого. Автобус катился сквозь сиреневую вечернюю синеву.
Мы сошли там, где сошли почти все пассажиры, и остановились перед воротами в парк. Аллеи парка были набиты гуляющими. Теперь тут все кипело, все двигалось, все скамейки были заняты, возле всех киосков стояли очереди. Густой запах юга, лета, цветов, женского тела, табака, духов, листвы плыл над головами. Со стороны танцплощадки гремела музыка, и сквозь деревья была видна большая колыхающаяся толпа людей перед входом. Мальчишки смотрели на танцующих через решетку.
По боковой аллее мы вышли к летнему театру. Его каменная, покрашенная белой краской ограда казалась сейчас сиреневой. И белые платья женщин, белые брюки и рубашки мужчин тоже казались сиреневыми.
— Мы хотели сюда прийти после игры, — сказала девушка тихо. — Тут сухумский джаз сегодня.
— Да? — Мне было ее нестерпимо жалко. — Может, хотите послушать джаз?
Она робко подняла на меня глаза.
— Я не знаю… Сейчас который час?
— Через двадцать минут начало, — сказал я.
8
У Марютина случилось несчастье: полетел реверс на экскаваторе. Машину тягачом потащили в поселок, и Марютин вместе со сменщиком Амановым отправился туда же, чтобы помочь слесарям и ускорить ремонт. Марютин так пал духом, что не успел как следует о дочке подумать: не скучно ли ей будет оставаться одной с мужиками? Или, может, чересчур весело?
Уехал он на неделю. Дни стояли ветреные. Задувало с утра, песок летел весь день беспрестанно, и стихало лишь к ночи. К ночи становилось тихо, как по заказу. И это было удачно, потому что работали как раз ночью.
Через неделю Марютин не вернулся. Приехал с автолавкой Аманов и сказал, что ремонт затянется еще на неделю, а то и того хуже: в Мары придется отправлять, на ремзавод.
По утрам и вечерами перед сменой рабочие собирались вместе и в эти часы Марину обуревала жажда деятельности, нечто вроде того беспричинного возбуждения, какое бывает у детей по вечерам, перед сном. Начинались шумные разговоры, песенки и всяческие резвости с Иваном. Марине хотелось командовать и находиться в центре внимания. Ей очень нравилось, например, читать вслух газеты, особенно «Комсомольскую правду», где печатались статьи на моральные темы. Мужчины сидят кружком и смирно слушают, а она читает громко, ясно, как учительница.
В тот вечер у нее появился новый слушатель — Султан Мамедов, который возвращался порожняком из Маров и задержался у экскаваторщиков лишь затем, чтоб залить радиатор. Но тут его угостили чаем, потом стали расспрашивать, как начальники решили насчет озер, — он, конечно, ничего не знал, потому что только привез их и тут же назад, однако с важностью заявил, что делать будут по-ермасовскому, это уж точно, — потом Марина стала читать газеты, которые утром привезла автолавка, день повернул к вечеру, а Султан все сидел на песке, обняв колени темными волосатыми руками, и не думал вставать. Он мрачно слушал чтение и мрачно глядел на экскаваторщиков. Особенно тяжелым, немигающим взглядом он смотрел на Ивана Бринько.
Марина сидела по-туркменски, скрестив ноги, и читала громко, самоуверенно, но не очень внятно и к тому же запинаясь на трудных словах вроде «сосуществование».
Экскаваторщики слушали внимательно. Вот прочитала Марина длинную статью из «Комсомольской правды» о фестивале молодежи, который недавно закончился, потом фельетон про одного молодого человека, в каждом городе заводившего себе новую жену («Надо же, паразит!» — возмущалась Марина по ходу чтения), потом перешла к международным телеграммам, которые всегда вызывали обсуждение и разговоры. Старик Марютин и Беки Эсенов считались главными специалистами по международным делам, они часто спорили между собой, и Иван тоже вступал в эти споры. Хотя в его памяти плохо держались разные фамилии и иностранные названия, но зато он судил обо всем скоро и решительно.
Сейчас вместо старика Марютина с Беки завелся спорить Нагаев. Он тоже любил поговорить о политике. Заспорили вот о чем: кто больше виноват в прошлогоднем Суэцком кризисе? Англия, Франция или же Израиль? Беки говорил, что Англия, Нагаев напирал на Израиль. Спорили долго, приводили разные доказательства, сердились, ругались, и дело дошло до крика и ненавидящих взглядов. Иван успокаивал: «Ни хрена вы не мерекаете: там Америка виновата! Она кругом виновата».
Чары Аманов, чтобы отвлечь спорщиков, стал рассказывать анекдот про лектора, который приехал к чабанам, и как чабаны его в дураках оставили. Все смеялись, анекдот был смешной, хотя немного грубый. Один Султан Мамедов по-прежнему сидел мрачный.
— Ну, читать дальше или хватит? — спросила Марина.
Внезапно она повернулась и изо всей силы шлепнула Ивана по спине: наверно, он незаметно ущипнул ее.
— Мамочки! За что бьют? — завопил Иван и, схватив Марину за ногу у щиколотки, поволок ее по песку. Она била его другой ногой по рукам, вскрикивала будто бы с испугом, переворачивалась то на спину, то на живот, стараясь вырваться, а он гоготал, и вокруг них азартно прыгала и лаяла Белка, и все остальные наблюдали за этой возней смеющимися, внимательными глазами.
— Бросьте, ну вас… — проворчал Нагаев.
Ивану удалось схватить другую ногу Марины, тогда она стала кидать в него пригоршнями песок, но он не отпускал ее и продолжал волочить. Пылищи и шуму наделали много.
Вдруг Султан Мамедов поднялся и крикнул:
— Ты, охломон! Как с девушкой обращаешься?
Он крикнул это так неожиданно резко, что Марина умолкла, а Иван отпустил ее и спросил:
— А тебе что?
— Зачем, понимаешь, так издеваешься? — еще более зло закричал Мамедов. — За ноги таскаешь? Игрушка тебе, что ли?
— Да он в шутку делает, — сказал Беки.
— Какие шутки, слушай? За ногу взял и таскает, как телегу! Издевательство это, какие шутки!
— Ну ладно тебе, Султан…
— За такие шутки знаешь что? По морде бьют! — Он кричал это с такой яростью и негодованием, что Марина и вправду решила, что ее оскорбили. Повернувшись к мужчинам спиной и приводя в порядок волосы, она начала тихонько всхлипывать.
Иван с изумлением смотрел на Мамедова, потом подошел к нему и спросил:
— Ты, что ли, бить будешь? Дурачок… — И он не совсем уверенно взял Мамедова двумя пальцами за нос и потянул вниз.
В то же мгновение Мамедов, который был на голову ниже Ивана, молниеносно завел свою ногу за ноги Ивана и одновременно ударил его в грудь так, что тот упал как подрубленный. Сидя на песке, Иван ошалело глядел на своего победителя, а тот стоял несколько секунд со сжатыми кулаками, ожидая, что Иван вскочит и начнется настоящая драка. Но Иван не вскакивал. Тогда Султан Мамедов плюнул и сказал:
— Не учили тебя, как надо девушек уважать? Будешь теперь знать.
И, повернувшись, он пошел к своему газику, сел в кабину и включил мотор. Никто не успел ему ничего сказать. Газик рванул по раскатанной колее и скрылся за гребнем.
Было похоже, что только за этим — накричать на Ивана и сбить его с ног — Султан Мамедов и останавливался у экскаваторщиков. Нелепый этот случай переломил весь вечер.
Иван Бринько, сообразив, что на глазах у всех был жестоко унижен, проникся запоздалым гневом и кричал, что он ему, гаду, теперь житья не даст. Марина сперва язвила, посмеивалась, а потом стала плакать и сказала, что соскучилась по отцу и завтра же поедет в поселок.
Жара спадала, был седьмой час, но никто почему-то не пошел в забой. Лежа на животе, Нагаев читал газету. Не поднимая головы, он сказал:
— Это он из-за Фаинки. Давно на тебя зуб точит.
— Я ему поточу, — сказал Иван. — Последние вышибу. Падаль чернозадая.
Марина подошла к Нагаеву и легла с ним рядом.
— Вот Семеныч у нас хорошенький. Ни с кем не дерется, — сказала она и провела ладонью по его волосам. — Ой, песку-то!.. Работает и работает, денежки гребет. И никакими Фаинками не интересуется. Правда, Семеныч?
— Почитай-ка статью, — сказал Нагаев, подавая ей газету. — Тут про нас пишут. Ермасова критикуют.
Марина стала читать. В статье говорилось, что Ермасов создает культ собственной личности, ни с кем не считается, беспрерывно нарушает проект. Объяснялось это довольно наивно тем, что Ермасов долгие годы работал на стройках, где были заняты заключенные, и не привык выслушивать никакой критики. Работал он, например, на закрытой, не оправдавшей себя стройке канала Тахиа-Таш — Красноводск. Статья называлась «Отжившие методы». Написал ее Хорев, главный инженер «Востока».
— На той стройке Ермасов был невиноватый, — сказал Иван.
— Не знаю, кто виноватый, но я там погорел крепко, — заметил Нагаев. — В пятьдесят третьем приехал на Тахиа-Таш, аккурат месяц прошел, как он помер. Взял я машину, сидим в песках, работаем, ничего не знаем: а стройку, оказывается, закрыли. Ой, чего тут началось! Снабжение враз обрезали, начальство кто куда. Погорел я тогда крепко.
— А в чем то есть погорел? — спросила Марина.
— Вернулся пустой, да еще в дороге своих больше тыщи оставил. С желтым рублем вернулся. Ехал, как говорят, за шерстью, а приехал стриженый.
— Семеныч, ты здесь настриг много, — сказал Беки. — Без шерсти не останешься.
— А я чего говорю?
— Такой человек, как ты, всегда с шерстью останется.
В голосе Беки звучала угроза, он опять задирался. В нем тоже бродила нервность. Все были нервные в тот вечер.
Нагаев, сдерживаясь, повторил:
— Да-а, погорел я…
— Канал погорел, миллион денег погорел — тебе все равно. Лишь бы твои рубли заплатили, правда, Семеныч?
Аманов что-то сердито сказал по-туркменски. Нагаев перевернулся с живота на спину, сел и уставился на Беки прищуренными глазами.
— А ты как — не за рубли работаешь?
— Я? Нет! Не за рубли! — закричал Беки, вскочив и с силой колотя себя ладонью по голой груди. — Канал в мой колхоз придет! Мой отец эту воду ждет, моя мать ждет! Это мой канал!
— Твой канал, — усмехнулся Нагаев. — Эх, балда ты, балда…
— Беки, ты колхозник разве? — спросил Иван. — Небось забыл, как трудодни начисляют. Три года в армии да третий год на стройке…
— Я колхозник, да! Все равно в колхоз обратно вернусь, закончу техникум и вернусь. Только я знаешь когда вернусь? Когда воду в мой колхоз приведу! Сейчас от Амударьи до Мургаба дотянем, четыреста километров — так? Потом от Мургаба к Теджену, еще сто сорок, вторая очередь будет — так? И потом от Теджена до Ашхабада третья очередь, двести шестьдесят километров, — вот там и будет мой колхоз.
— А мой еще дальше, за Ашхабадом, — сказал Чары Аманов. — Но я так решил: до конца пойду, пока в Красноводск не приеду на своем экскаваторе!
— Еще не известно, может, на Челекен повернут, — сказал Иван. — До Красноводска дальше выходит.
Нагаев усмехнулся:
— Ближе, дальше. Чего считать, дурью мучиться? До вашего Челекена тыща километров. До Маров-то доползти — сто раз околеешь. И вот считают, насчитывают…
— Да, каждый день до воды считаем! Каждый километр считаем! — закричал Беки, вновь повернувшись к Нагаеву. — А ты одни кубы считаешь! Тебе какой черт, пойдет вода или не пойдет: взял свой чемодан — и айда. За то тебя не любят, Семеныч, никто не любит тебя! — последнюю фразу он выкрикнул с каким-то отчаянным наслаждением.
Аманов подошел к нему и ударил по плечу.
— Эй, пойди в забой, — сказал он. — Посмотри мой кумган, не знаю, где оставил. — И что-то добавил по-туркменски.
Поворчав, Беки нехотя, загребая ногами песок, пошел к забою. Подождав, пока он отойдет подальше, Аманов сказал:
— У туркмен так: старший сказал — младший должен делать. Всегда так. Даже поговорка старая есть: лучше быть щенком у собаки, чем младшим у туркмена. Ай, молодой, кричит…
— Да леший с ним, — сказал Нагаев.
Беки не вернулся. Прошло несколько минут, и из забоя донесся рев включенного мотора и лязг цепей.
Ушел в свою будку Иван: спать до смены. Потом ушел и Аманов. Нагаев и Марина остались одни возле потухшего очага, на котором недавно кипятился чайник. Угли давно истлели, но еще пахло горелым.
Наступил вечер, солнце село. В сумерках белела майка Марины. Марина сидела на корточках, изогнув спину и обняв колени руками, и что-то протяжно, без слов мурлыкала.
— Семеныч, — сказала она вдруг, — а ты чего не идешь работать?
— С тобой, может, хочу посидеть.
Марина продолжала заунывно мурлыкать. А потом вздохнула и сказала:
— А я знаю, отчего Бекишка на тебя ругается. Он и на Ваньку злится.
— Дурак, чего сделаешь! — сказал Нагаев.
— Нет… Слушай-ка!
— Ну?
— Тебя, верно, никто не любит. Почему так?
— Я не девка, чтоб любили. — Нагаев засопел носом. — Меня начальство уважает, я дело лучше любого-каждого знаю, а они обижаются. И вся любовь.
Он посидел немного, сопя сердито, потом сказал: «Пойти, пожалуй», встал и пошел в свою будку. Марина слышала, как он двигал койку, одевался, стучал рабочими башмаками. Потом он вышел с фонариком.
Проходя мимо Марины к забою, сказал:
— Иди, голубка, ложись.
— Сейчас. — Она вздохнула. — Только ночью и дышишь…
Петляя в темноте, удалялся фонарик Нагаева. А эсеновский экскаватор уже гремел вовсю, в его судорожном, рвущемся лязге как будто слышалось неутоленное раздражение. С грохотом отводил душу Беки Эсенов. Над гребнем отвала шаталось зарево четырех мощных фар, прикрепленных одна к стреле, три другие к кабине. Причудливо озарялись изломы песка, и казалось, что где-то внизу, за черным гребнем, мечутся языки пламени.
Марина нацедила из цистерны воду в ковшик, залила рукомойник. Она всегда мылась перед сном. В темноте она стояла в трусах и плескала на себя пыльной, пахнущей нагретым железом водой.
Пробежав в будку, Марина легла на койку. Все было горячим, шершавым от пыли: полотенце, подушка, простыня, которой Марина укрывалась. Если б она жила одна, она бы, конечно, спала голая. Еще лучше было бы спать на воле, но там было чересчур ветрено, носило песок и фаланги наскакивали. А в будке хоть и душней, зато безопасно.
Полежала она минуты две-три, подумала о том, что тоска зеленая, мочи нет жить в песках, хоть вешайся, — и заснула.
Сквозь сон услышала: стукнула дверь.
В ясном, светлом от звезд проеме двери стоял кто-то черный, длинный, с раздвинутыми локтями. Нагаев. Он и раньше приходил иногда ночью, будил Марину шумом, она просыпалась и тут же засыпала опять, но сейчас в его приходе было что-то новое. Марина это почувствовала сердцем и испугалась. Он вошел слишком тихо. Он тихо шагнул и сел на койку Марины. Марина лежала затаив дыхание, с открытыми глазами.
Нагаев посидел, не двигаясь, потом стал шарить по краю простыни, отвисшей с койки, и вдруг положил ладонь на плечо Марины. Она молча ударила его по руке.
Он хмыкнул и, помолчав, сказал шепотом:
— А ты горячая. Как печка горишь. — И потянул за край простыни. — Зачем закуталась? Холодно разве?
— Тебя не спросила. — Она снова сильно шлепнула его по руке.
Некоторое время сидели молча.
— Ты почему пришел? Иди, иди, Семеныч! — сказала Марина. — А то ребята чего скажут…
— И так говорят. Сейчас пойду.
Рука его опять легла на плечо, но Марина на этот раз не ударила, а схватила крепко запястье и после секундной борьбы оторвала, оттолкнула. Неслышным голосом попросила:
— Уходи, Семеныч…
Он подошел к своему углу, долго там возился, хлопал ладонью по койке. Зачиркал спичками, закуривая. У Марины страшно колотилось сердце.
Нагаев сказал, зевая:
— И то, надо идти… Я — за спичками, весь обыскался в кабине…
И ушел. Осталась открытой дверь, и в ней — серебряное, пустое небо.
Все было как всегда: ослепительная синева, ветер, то тихий, то порывчиками, и крохотные пылевые струи, вздувавшиеся над барханами. Вдруг Нагаев заметил из кабины, что в небе на юго-востоке появилась странная, войлочного цвета, полоса, похожая на плотно сбившееся облако пыли. Эта полоса изменялась на глазах. Она росла. Через минуту она превратилась в тучу и сделалась светлой, как песок.
Это был огромный вал песка, катившийся над пустыней с необыкновенной быстротой.
Впереди вала стремительно двигался, подскакивая и качаясь, тонконогий, наподобие чудовищного цветка, крутящийся песчаный столб.
«Как генерал скачет, — успел подумать Нагаев. — Сейчас по стреле шарахнет…»
Полнеба уже взбурело от поднятой в высоту пыли. Нагаев увидел, как Иван выпрыгнул из кабины и что-то закричал, размахивая руками, и стал карабкаться по откосу.
Нагаев тоже выключил мотор и начал снижать стрелу. Ему было тревожно. Он еще никогда не попадал в настоящий «афганец», и ему было тревожно за машину. Надо было как можно скорее опустить стрелу. Она, как назло, опускалась нестерпимо медленно! В последние секунды он уже не видел ковша: солнце исчезло. Стало темно, как в сумерках, от летящей песчаной мглы. Миллиарды песчинок трещали, колотясь о железо, лопнуло и вылетело стекло, кругом гудело, возник острый, удушающий запах, как будто одновременно выбивали пыль из множества старых ковров.
Нагаев спрыгнул на землю. Его тут же сбило с ног, и он пополз по откосу на четвереньках. До будок было шагов сто двадцать. Нагаев несколько раз падал, прежде чем добежал до ближайшей будки, где жили Беки, Иван и Чары Аманов.
— Во буранчик! Во дает, во дает! — по-дурацки хохоча, кричал Иван.
Аманов и Беки сидели, оцепенев, на корточках и с угрюмым равнодушием прислушивались к шуму бури. Будку трясло, она уже вся наполнилась пылью и удушливым запахом. Деревянная стена с одной стороны затрещала. Упираясь в стену плечами, Иван кричал:
— Во дает! Поехали, поехали в Мары без билета!
Будка в самом деле покачнулась и как будто немного сдвинулась. Нагаев с трудом распахнул дверь и, закрывая лицо рукавом, побежал к своей будке. Ему вдруг померещилось, что Марины нет дома, и он испугался.
Марины не было. Забившись под койку, трусливо скулила Белка.
— Где хозяйка? Куда ушла?
Нагаев сел на ящик. Белка вылезла из-под койки, и он почувствовал, как собака дрожит. Он машинально гладил ее, а она тихо взвизгивала, стараясь еще глубже сунуть голову меж его ног.
Внезапно оттолкнув собаку, Нагаев схватил свои мотоциклетные очки и выскочил из будки на волю. В пяти шагах ничего не было видно. Нагаев изо всех сил закричал: «Маринка-а!» — но голос его сразу унесся с песком и пропал. Больше кричать он не мог, в рот набилась пыль, он закашлялся.
Она ушла за дровами. Больше некуда. Обыкновенно она ломала саксаул в километре от лагеря: там был так называемый «как» — низинка, где скапливались весной дождевые воды, испарявшиеся к лету. Верно, там и захватил ее буран, там она и сидит. Или где-нибудь на дороге легла.
Нагаев двигался ползком, а как только он чуть выпрямлялся, ветер сшибал его с ног. Иногда он падал на песок и лежал, отдыхая, уткнувшись лицом в согнутую в локте руку, и ругался сквозь зубы. В нем все кипело от злости. Он ненавидел Марину. Ненавидел за то, что пошла, дура, не вовремя за дровами, и за то, что струсила и сейчас лежит где-нибудь в яме и ревет белугой, и за то, что надо искать ее, ползти, задыхаться от страха. Он ненавидел ее за то, что ему самому было очень страшно. Однако он продолжал двигаться. Потеряв всякую осторожность, он удалялся от лагеря все дальше. Он все время держался тракторного следа — это был единственный ориентир, — до тех пор, пока не начался крутой и долгий подъем и тракторный след повернул в обход, по склону бархана. Но Нагаев должен был перевалить через этот бархан и потом еще через один и потом пройти мимо большого куста черкеза, на котором висит консервная банка. И там уже близко, в тридцати шагах, была эта впадина.
Он отчетливо представлял себе весь путь, который надо проделать, но не верил в то, что найдет Марину. Его движение было перпендикулярно движению ветра, поэтому его все время сносило вправо, и он полз боком, левым плечом вперед, и это было похоже на плавание через реку с сильным течением. Но не видно было берега. Ни того, ни другого.
«Черт дурной! — ругал себя Нагаев. — Ребятам не сказал, сорвался! Теперь жри песок, подыхай, балда ослиная, каюк тебе тут…»
Тракторный след пошел по склону. Надо было отрываться от него: в сторону и вверх. Это значит отрываться от лагеря окончательно. Не задумываясь, Нагаев полез на четвереньках наверх. Кожа на его лице и на руках горела, как будто ее нахлестали веником.
Перед тем как подняться на второй гребень, Нагаев долго лежал в низине, собираясь с силами. Злоба его иссякла. Ему было слишком страшно, чтобы злиться. Он старался все делать не думая: просто отдыхать, а потом ползти, карабкаться по рыхлому, горячему склону, отворачивать лицо, дышать сквозь ладони, как сквозь маску, и потом катиться вниз, задыхаясь от пыли и выхаркивая пыль изо рта. Но в глубине сознания за всем страхом, болью, упрямством и озлоблением брезжила трезвая мысль: если за вторым барханом пусто, тогда — назад, немедля назад!
Через полчаса, когда стало совсем темно, — а было, наверно, не больше семи вечера, — Нагаев дотащился до впадины, и наткнулся руками на первое дерево саксаула, и стал кричать, и не удивился, когда ему ответил пронзительный вопль Марины и она выскочила вдруг из темноты, схватила его за руки, как будто боялась, что он может уйти, и от радости упала на колени, и он тоже упал, потому что силы его кончились.
— А я лежу и слезюсь… и слезюсь… — всхлипывая, шептала Марина.
Нагаев сел на песок. Ну вот, он догадался правильно: она лежала под деревом и ревела. Раздражение против нее вскипело в нем с новой силой, он встал и дернул Марину за руку:
— Вставай! Нечего тут…
Марина покорно поднялась, не выпуская руки Нагаева из двух своих. Она даже прижала его руку, как какую-то драгоценность, к своей груди, это было уж слишком, и он вырвал руку и сказал:
— Ну, пошли, что ли?
— Семеныч! Сенечка ты мой родной! — вдруг заголосила она громко, рыдающим голосом и бросилась к нему на шею, и ему пришлось обнять ее, чтоб удержаться на ногах. — Спасибо тебе, Сенечка! Родной мой, спасибо! Спасибо! Тыщу раз тебе спасибо! Мильон раз тебе спасибо! — Она торопливо, жадно целовала Нагаева. — Я уж думала — конец мне приходит. Ни один, думаю, паразит не вспомнил, и папки нету. И вдруг — ты… Сенечка мой родной!
Она изо всех сил обнимала его, прижималась к нему мокрым, шершавым лицом. Нагаев, встряхнув Марину за плечи, слегка отстранил ее.
— Ладно… Кончай, ну!
— Хорошо, Семеныч…
— Айда. Держись за меня.
— Держусь!
И Марина держалась. Она держалась так крепко, что обратный путь показался Нагаеву втрое длинней. Она не отпускала его ни на метр. То она хватала его за руку, то висла на плече, то обеими руками цеплялась за ремень от брюк. Она объясняла, что держится за него потому, что боится открыть глаза, как бы песком не засыпало. «Афганец» стихал, песок мело реже, но было все так же темно, теперь уже не от песчаной мглы, а от вечернего сумрака, и приходилось останавливаться и отыскивать тракторный след.
Когда Нагаев хотел отойти от Марины в сторону, чтобы разглядеть след получше, она с криками цеплялась за него и принималась плакать, и Нагаев ругался последними словами. Марина висела на нем, как прикованная. Оторвать ее могла только смерть.
— Ой, боюсь, боюсь, боюсь! — причитала она хриплым, кликушеским голосом.
— Да чего боишься? Ведь здесь я! Вот дурища!
— Ой, боюсь, боюсь, боюсь…
— Тьфу, черт!.. По скуле тебе дать, что ли?
— Ой, боюсь, боюсь…
Несколько раз Нагаев пытался по-разумному втолковать Марине, что убегать от нее нет ему никакого резона, что он специально ушел из лагеря затем, чтобы найти ее и привести домой, а не затем, чтобы убегать от нее, и что своим цепляньем она мешает соображать, тормозит движение и добьется того, что они застрянут до ночи и будут ночевать в песках. Марина как будто и понимала его слова, но страх был сильнее всякого понимания, и она твердила одно: «Ой, боюсь, боюсь…»
Наконец, обессиленный этой борьбой и усталостью, Нагаев сел на песок и сказал, что не знает, куда идти дальше, и в общем — каюк, придется тут куковать до света.
Марина смиренно опустилась с ним рядом, притерлась к нему боком и затихла. Для нее было, кажется, главное дело — не отпускать Нагаева. Рядом с ним она ничего не боялась. Она даже дремать пристроилась: голова ее легла на плечо Нагаева, и она вздохнула глубоко и покойно.
«Ну и дура девка! — думал Нагаев с тоской. — Ладно, погоди ж ты… Пересидим до утра…»
Но до утра им сидеть не пришлось. Через полчаса сквозь шум ветра прорвался чей-то крик. Марина вскочила на ноги и завопила тем пронзительным, визжащим голосом, каким она вопила, когда услышала Нагаева. В темноте мелькнули два фонаря. Первой ссыпалась по песчаному склону Белка, потом подбежали Иван и Беки, затормошили, задергали, подняли Марину на руки, а потом Иван оттолкнул Беки, сгреб Марину в охапку и понес один, как ребеночка. Нагаев, позабытый всеми, ковылял в потемках сзади. Одна Белка радостно прыгала вокруг него и тыкалась мордой в его ноги.
Идти оказалось недалеко. Лагерь был за барханом.
Сначала сидели в будке у Марины и Нагаева, пили холодный чай и при свете фонаря переживали заново все, что было. Марина весело рассказывала, как она хваталась за Нагаева, и передразнивала себя: «Ой, боюсь, боюсь!» Все были возбуждены, смеялись над Нагаевым: «Гляди, какой прыткий, — побежал спасать! Ай да Семеныч!» Белка крутилась волчком по полу, подпрыгивала и клала лапы то на одного, то на другого.
— Скажите Белке спасибо: она всю панику подняла, влетела к нам в будку и давай выть, — сказал Иван. — А то бы нам и невдомек…
Он сидел на койке рядом с Мариной, обнимал ее и одновременно растирал ей бок своей огромной ладонью под видом того, что она озябла и надо ее согреть. И Марина прижималась к нему. А когда он нес ее на руках, она обнимала его за шею. Все это не очень нравилось Нагаеву. Не нравилось ему и то, что они сидели на койке рядом, говорили и смеялись громче всех, и выходило так, будто все сделал Иван, а он, Нагаев, вроде как бы посторонний.
И в рассказе Марины ему уже слышалась насмешка: «А Семеныч весь трясется, глаза злющие: отпусти, говорит, а то по скуле! Ой, умора!» Она заливалась хохотом. «А он, значит, выдергивается?» — спрашивал Иван. «Ага, психовал жутко. А я ни в какую: вцеплюсь, как пиявка!..»
Смеясь, все поглядывали лукаво на Нагаева, а он надувался все сильнее.
Когда гости ушли, стало слышно, как шумит ветер. Восточная стенка дала трещину, в щели свистело. Нагаев выключил фонарь. Подойдя к койке Марины, он так резко и грузно опустился на койку, что затрещал брезент. Нервность, раздражение и усталость многих часов переполняли его. Он не мог произнести ни слова: просто обхватил Марину за плечи, придвинул к себе, стиснул так, что она охнула. И Марина не оттолкнула его. Она тоже обняла Нагаева крепкими руками и прошептала: «Спаситель ты мой!»
Погодя минуту, оторвавшись от его жесткого рта, сказала дрожащим шепотом:
— Ой, Семеныч, я как чума грязная… Принеси ведро, вымоюсь.
Самолеты в Керки и вообще никуда на восток не вылетали, потому что оттуда шел «афганец». Пришлось сесть в автобус и возвращаться в город.
— Какая-то ересь, — ворчал Карабаш. — Абсолютно чистое небо. Нам лету-то полчаса…
Хорев молча смотрел в окно. Автобус остановился в центре города, рядом с базаром и почтой. Было около восьми вечера, базар давно обезлюдел. Несколько колхозников сидели, подложив под себя пустые мешки, на краю тротуара и разговаривали с милиционером. Они ждали загородного автобуса. Милиционер сидел рядом с ними на корточках.
Шофер аэродромного автобуса спрыгнул на землю и, подойдя к милиционеру, пожал ему руку и тоже присел на корточки. Они стали разговаривать по-туркменски. Шофер показывал на небо. Колхозники смотрели на небо, качали головами и цокали сочувственно.
— Что будем делать? Возвращаться к Степану Ивановичу неловко, — сказал Хорев. — Мы уже простились.
— Можно и вернуться, — сказал Карабаш.
Дело было не в неловкости, а в том, что Хореву не хотелось снова встречаться с Ермасовым. Два дня шло совещание, на котором обсуждался план Ермасова — Карабаша о создании озер и окольцовочных дамб. Карабаш прилетел только на второй день, его вызвали по радио. Его вызвал начальник политотдела Нури Гельдыев для того, чтобы немного попридержать расходившегося Ермасова: тот был настроен непримиримо. Особенно зло, на каждом слове, он резал Хорева. Накануне совещания появилась газета с хоревской статьей, но эффект этого появления был совсем не тот, на который рассчитывали тайные и явные ермасовские противники, — Ермасов как будто не заметил статьи. Не сказал о ней ни слова. Но холодная враждебность, с которой он держал себя с Хоревым, Баскаковым и их единомышленниками, говорила лучше всяких слов: Ермасов стоит прочно, защищаться не намерен и сочинителям не простит.
От своего плана окольцовки озер Ермасов не отступил ни на йоту. Его не смягчило даже то, что на совещание пришел секретарь обкома партии Эрсарыев со специальной целью урезонить и примирить противников. Баскаков уехал в Ашхабад со словами: «Это бесконечное мордование проекта мне надоело! Я снимаю с себя всякую ответственность», — на что Ермасов ответил: «Штаны вы можете с себя снять, а не ответственность. Отвечать придется».
И наконец последним агрессивным действием Ермасова был его неожиданный приказ, согласно которому участок с 234-го километра по 260-й отнимался от «Восточного плеча» и передавался «Западному плечу». Это был участок, где находились будущие озера. Карабаш таким образом вышел из-под начальства Хорева.
Хорев сказал Ермасову:
— Проще было уволить одного Хорева, если ему нет Доверия.
— Уволить тебя, Геннадий Максимович, было бы бесчеловечно, — сказал Ермасов серьезно. — Тебе ведь два года до пенсии.
Хорев побелел, но смолчал. После, когда Хорев вышел из комнаты, Карабаш рассказывал Ермасову о новых идеях насчет бульдозеров. Собственно, метод был уже найден. Он родился из совместных усилий механизаторов, механиков и инженеров. Теперь нужны машины — пятнадцать или хотя бы двенадцать машин, и тогда весь мир ахнет от чудес, которые натворят бульдозеры. Ермасов слушал настороженно, без сочувствия, ничего не обещал и сказал, что приедет сам и посмотрит. Внезапно он сказал:
— Самое подлое в его статейке знаете что? То, что он примазывает меня к той публике…
Все-таки его задело сильно. Он думал о хоревской статье все время. Карабаш сказал, что вряд ли эта статья произведет на кого-нибудь впечатление: она слишком не конкретная, общие места.
— Плевать я хотел! — рассердился Ермасов. — Она произвела впечатление на меня, и этого достаточно. Самое гнусное! Вы молодой человек, Алексей, вам трудно понять, как все это сложно переплелось. Да, я работал на стройках, где были заняты заключенные, — начать с того, что я сам одно время был заключенным, — и он тоже работал на таких стройках, но мы это делали по-разному. Понимаете? Он из тех, кому во все времена живется сытно, — в этом его тараканье счастье.
— И сейчас ему будет сытно?
— А что ж? Конечно. Ведь он занимает место, которое ни по своим талантам, ни по знаниям занимать не должен. Потому что дружки в управлении, старые связи в министерстве и наше с вами маханье руками: «А, черт с ним! Некогда возиться. Пускай сидит…»
— По-моему, ненадолго ему этот фарт, — сказал Карабаш.
— А неизвестно. Я ж сказал: тараканье счастье. Родиться тараканом — это, знаете, большое дело…
Потом Карабаш поехал в гостиницу, оттуда вместе с Хоревым на аэродром, и теперь они стояли на площади перед базаром и не знали, что делать.
— Пойдемте в гостиницу, — сказал Карабаш. — А то придет ашхабадский поезд и расхватают места.
— Ашхабадский приходит в десять, — сказал Хорев.
— А что делать?
— Выхода нет. Пойдемте…
Одно дело лететь полчаса в самолете, где можно не разговаривать и все время смотреть в окно, и другое — провести вместе целый вечер.
В гостинице им дали номер на троих на первом этаже, рядом с вестибюлем. Они спрятали портфели в шкаф, положили свои соломенные шляпы на кровати, застеленные с казарменной тщательностью, и вышли на улицу. На каменных ступенях крыльца, где были вырезаны арабские буквы, стояли швейцар и парикмахер и смотрели в небо. Они уже знали, что люди вернулись с аэродрома, потому что идет «афганец». На улице дул порывистый ветер, несло пыль. Чья-то белая шляпа быстро катилась по тротуару, переворачиваясь на лету, как бумага.
Хорев, наверное, догадывался, что, когда он ушел из треста, Ермасов и Карабаш говорили о нем. Но он ничего не спрашивал, говорил о пустяках.
Он сказал, что у него тут была одна знакомая учительница, одна армяночка, которую он не видел два года. Можно навестить. Надо как-то убивать вечер. Если товарищ Карабаш не слишком изнурен совещанием…
Он говорил все это так вяло, скучно, зевая и глядя по сторонам, что было ясно: никакого попутчика, тем более Карабаша, ему не нужно и говорится это для того, чтобы оправдать свой уход и заодно побахвалиться. Карабаш усмехнулся, вспомнил: «Тараканье счастье» — и спросил серьезно:
— Интересная женщина?
— Ну, как вам сказать… Откуда тут взяться интересной? Между прочим, играет на пианино. Так пойдем, что ли?
— Да нет, — сказал Карабаш. — Я, знаете, тяжелая артиллерия.
— Правда? А у меня было другое впечатление. Ну, я пойду. Это недалеко, в соседнем квартале.
Он побежал через улицу, подпрыгивая от ударов ветра. По улице стеною несло пыль. В воздухе стало душно и сухо. Трещали деревья, тучами летели содранные с них листья.
Карабаш постоял немного, обдумывая последние слова Хорева. Они были неприятны. Что он имел в виду, сказав о «другом впечатлении»? Есть люди, которые умеют невзначай, вскользь говорить неприятные вещи, и потом ломай себе голову: случайно это сказано или преднамеренно? «Черт с ним», — подумал Карабаш и вошел в вестибюль.
Было сумеречно, но света не зажигали. Карабаш вошел к себе в номер и повернул выключатель — электричество не работало. Карабаш сел на кровать и стал смотреть в окно. Он видел квадратный внутренний двор, обычный для построек персидского типа: до революции в этом здании был купеческий караван-сарай. Двор окаймляла деревянная галерейка, от которой в номерах было темно, а посреди двора стоял небольшой фонтанчик с круглым цементированным бассейном. «Он все наврал насчет армяночки. Для того, чтобы сказать мне последнюю фразу, — вдруг решил Карабаш. — И для того, чтобы смыться на целый вечер. Впрочем, хорошо, что он смылся».
Карабаш достал бумагу и начал писать письмо в Ашхабад, но было чересчур темно. Он уже послал одно письмо на главный почтамт, до востребования. Прошло всего пять дней со дня отъезда Валерии, и одиннадцать оставалось до ее возвращения. Он считал дни, потому что думал о ней все время. Он думал о ней даже тогда, когда, ему казалось, он думает о чем-то другом. С ним так никогда не было.
Карабаш лег на кровать и закрыл глаза.
Он вспоминал ее так медленно, так подробно, что у него забилось сердце и пересохло во рту, и он встал и подошел к столу, чтобы выпить воды. Здешняя вода отдавала гнилым деревом. Она была мутная, и даже сейчас, в потемках, был виден на дне графина темный осадок. И Карабаш подумал о другой воде, замечательной и сладкой, которую они тащили сюда с востока, из Амударьи. И которую он пил по ночам. И обливался ею.
Без стука открылась дверь и вошел какой-то человек. Это был третий жилец. Он держал в руке свечу и делал маленькие шажки, направляясь к своей кровати в углу.
Он поставил свечку на тумбочку, а сам сел на кровать.
— Что там со светом? — спросил Карабаш.
— Говорят, повреждение на станции, — сказал человек, половина лица которого была освещена свечой. У него почти не было подбородка. — Очень нежная станция. Чуть что — повреждается. Буфет открыт, не знаете?
— Не знаю, — сказал Карабаш.
— Уж очень нежная станция, — повторил человек без подбородка. — Весной, когда разлился Мургаб, тоже было повреждение. Я в кино сидел, смотрел картину, вдруг — бац, темнота, сеанс окончен. Тут это запросто. И даже денег за билет не вернули. Пойдемте взглянем: может, буфет открыт?
Они пошли. Буфет был открыт. На прилавке и на трех столах горели керосиновые лампы. Буфетчик сказал, что он пережидает буран, потому что ему далеко идти домой. Весь вечер буфетчик щелкал на счетах и что-то писал.
Соседа Карабаша по номеру звали Игнатием Петровичем, он был биологом и работал на опытной лесной станции где-то на западе, в песках. Сюда он приехал в командировку. Подбородок у него был, но очень незначительный. Зато была пышная рыжеватая шевелюра.
Игнатий Петрович занимался проблемой закрепления песков. Аэросев саксаула, механические защиты и тому подобное. Он рассказывал о специальной машине для обескрыливания семян саксаула, изобретенной им, которую до сих пор не могут внедрить в производство.
Карабаш сумрачно жевал круглую сухую ковригу, называвшуюся пирожным, и запивал ее чаем. Вдруг он спросил:
— Вы знаете экспедицию Кинзерского?
— Конечно, — сказал Игнатий Петрович. — У нас общий шеф: Академия наук.
— Валерию Зурабову, биолога, тоже знаете?
— Знаю. А что?
Карабаш молчал. В самом деле: «А что?» Видя, что Карабаш молчит, Игнатий Петрович продолжал сам:
— Валерию Николаевну я знаю отлично. И всю их экспедицию знаю. Они сейчас на трассе канала, а полтора года назад стояли на Челекене, в районе Даганжика. Вот там я с ними познакомился. Ну как же! Валерия была там первый человек. — Он посмотрел на Карабаша как-то выжидательно.
— Почему первый человек? — спросил Карабаш.
— Нет, не по должности, а вообще, так сказать.
— Да?
— Ну конечно, — и он еще раз выжидательно взглянул на Карабаша.
— А сейчас как? — спросил Карабаш.
— Я не знаю. Вы с ней знакомы?
— Немного.
— Не знаю, как сейчас. Я ее не видел. Кинзерского тоже не видел, никого не видел. Я тут занят на заводе с моим обескрыливателем. Представляете, анекдот: три недели не могут сделать оси, потому что снабженцы перепутали накладные и наше железо попало в Чарджоу.
Карабаш не слушал его. За окном шумел ветер. Где-то ударила ставня, полетело стекло.
— Из-за своей крылатки семена саксаула имеют большой объем, — говорил Игнатий Петрович. — Что у нас получается? В бак входит очень мало семян. Вот зачем требуется обескрыливание…
Отворилась дверь, и в буфет вошел Хорев.
— И затем, конечно, чтобы семя не гнало ветром…
Хорев подошел к столу, за которым сидели Карабаш и Игнатий Петрович, Лицо у него было грязное и брезгливое. Брови, губы и ноздри были темные от пыли.
— Дайте мне ключ от комнаты, — сказал он.
— Пожалуйста, — сказал Карабаш. — Я думал, вы придете поздно или уж утром.
— Нет. Спасибо. — Он взял ключ и ушел.
Когда через двадцать минут Карабаш и Игнатий Петрович вошли в комнату и зажгли свечу, Хорев уже спал или, может быть, делал вид, что спит. Он лежал на боку, закутавшись с головой в одеяло. Карабаш попробовал сесть написать письмо, но после получасового раздумья написал три строчки и порвал бумагу.
Он лег в постель и стал высчитывать, когда «афганец» домчится до Ашхабада. Скорость ветра была примерно двадцать пять — тридцать метров в секунду. Это около ста километров в час. Ночью, как правило, сила ветра снижается, — значит, остатки «афганца» докатятся до Ашхабада утром или, в крайнем случае, к полудню. Ему пришло в голову, что он мог бы с «афганцем» передать что-нибудь Валерии. Какую-нибудь записку, несколько слов. И он стал думать над тем, какие самые важные слова он должен сказать Валерии. Но это было уже во сне…
Я стоял на улице и ждал их минут сорок и очень разозлился. Наконец они подъехали. Темно-вишневый «Москвич» с запылившимися крыльями резко затормозил перед гостиницей, из машины выскочил Атанияз и побежал ко мне. Он стал поспешно оправдываться: по всему городу искали минеральную воду, потом заезжали за Катей, заправлялись горючим, а колонка возле базара закрыта, пришлось ехать на улицу Энгельса.
Когда я влез в машину, я увидел, что Кати нет. На заднем сиденье сидел Борис Литовко, а впереди, рядом с Атаниязом, — жена Атанияза Клара. Я не стал спрашивать про Катю, но когда мы выехали на проспект, Клара обернулась ко мне и сказала:
— А за Катей мы заезжали. Она не захотела ехать. Говорит, очень ветреный день.
— Ну и что? Ведь мы в машине.
— Она была в баке, вымыла голову и боится, что сильный ветер и пыльно…
— Умница, — сказал Борис. — Только кретины могут ехать в такой день в горы.
Атанияз хмыкнул за рулем. Эту поездку затеяли ради Бориса, чтобы его развлечь. По воскресеньям он превращается в желчного неврастеника. Клара поглядела на меня и на Бориса своими черными сверкающими глазами, спросила строго:
— Борис Григорьевич, а что бы вы делали дома?
Клара — наполовину туркменка, наполовину курдянка, она серьезная женщина, заканчивает аспирантуру в мединституте. Ее специальность — болезни почек.
— Читал бы книжку.
— Это два часа, три, а после?
— У меня есть дела, не волнуйтесь.
— Ну, а все-таки? А вечером?
— Зашел бы Денис. Что-нибудь рассказал бы.
— Петя, что ты там молчишь? — спросил Атанияз.
— У Пети испортилось настроение, — сказала Клара. — Из-за погоды. Посмотрите на горы: видите, какая пыль? Это ветром нанесло из пустыни.
Горы были заволочены желтой дымчатой пеленой.
Атанияз правил лихо, мы все время шли на восемьдесят — сто и в городе обогнали две «Волги». Но потом, на шоссе, они, конечно, обошли нас: они тоже ехали в Фирюзу. По воскресеньям тут все, кто может, едут в Фирюзу. Даже в такой день, как сегодня. Мы обгоняли велосипедистов и грузовики, где тесными рядами сидели любители коллективных прогулок; мы видели обдутые ветром, как бы застывшие лица, разинутые, поющие рты и треплющиеся волосы. За городом, на открытом месте, ветер жестоко усилился. Иногда налетала такая туча пыли, что мы ехали несколько секунд как в тумане. Атанияз сказал, что в пустыне прошел «афганец», песчаный буран, то же самое, что гармсиль, а также хамсин или шамсин.
Слева по шоссе лежали на холмах рыжие виноградники колхоза «Багир», справа была равнина, плоско уходившая на север. На равнине там и сям виднелись полуобрушенные глиняные стены. Через полчаса мы въехали в рощи орешника и алычи, и дорога начала виться и незаметно подниматься вверх, и скоро мы оказались на дне ущелья и опустили стекла на окнах, потому что пыли здесь совсем не было и в кабину вливался чистый горный воздух. Мы свернули с дороги и остановились возле ивовых зарослей. Высоко и отвесно поднимались горы. Они были слоистые, желтовато-белые и голые, на них не было никакой зелени, ничего, кроме трещин и складок. Наверху, рядом с вершинами, сияло маленькое голубое небо, а внизу была каменная свалка, россыпи, пирамиды камней. Одни камни выломались из скалы недавно, другие уже обтерло время. От камней шел жаркий каменный запах. Под ивовыми зарослями текла речка Фирюзинка. Атанияз обвязал веревками горлышки бутылок с минеральной водой и осторожно спускал бутылки в воду. Борис и Клара расстилали на земле клеенчатую скатерть.
Я сел возле воды на землю, мягкую от травы. Давно я не видел травы. Она была негустая, но яркая, росла клочками, жадно торча отовсюду, даже из камней.
Никто не знал, что сегодня, в последнее воскресенье лета, мне исполнилось тридцать два. Прожита половина жизни. Странно: половина жизни, а ощущение такое, будто настоящего еще не было, главная жизнь впереди. Куда, собственно, я девал эти годы? Нет, настоящее было, но недолго, лет до одиннадцати, детство было настоящее, а потом все полетело кувырком: отрочество ни к черту, юность искалечена войной, а потом непрерывная борьба за то, чтобы быть человеком, несмотря ни на что. Всю жизнь я изо всех сил старался поправить непоправимое. И тысячи других занимались тем же самым. Пока вдруг не сломалось время — неожиданно, как ломается нож. Вот куда ушли эти годы: в ненастоящую жизнь. Но настоящее будет! Оно не может не быть! Оно придет, наверно, неслышно, как молодая трава, и мы даже не догадаемся сразу, что вот оно — здесь. А оно будет здесь. И уже кому-то другому, кто будет моложе нас, оно покажется недостаточно настоящим.
Подошел Атанияз и сел рядом со мной на камень.
— Это и есть Фирюза? — спросил я.
— Нет, Фирюза дальше. Тут просто ущелье.
— Как тут красиво, правда? — сказала Клара и с блаженным видом потянула носом. — И какой воздух, чувствуете?
— Да, конечно.
— Здесь замечательно красиво. А дальше будет еще красивей, — сказал Атанияз с гордостью. — Гораздо красивей, чем на Кавказе.
— Здесь красиво, — подтвердил я. — И, главное, тут растет трава.
Наутро Хорев был бодр, разговорчив, шутливо рассказывал о своих вчерашних блужданиях в бурю — совсем другой человек! Он позвонил из вестибюля гостиницы в аэропорт, узнал, что самолет отлетает в двенадцать, и сказал об этом Карабашу, который брился, сидя на кровати перед тумбочкой. Игнатий Петрович уехал, не попрощавшись, рано утром.
— Вот вы считаете меня консерватором. Признайтесь, ведь так? — сказал Хорев, садясь на кровать напротив Карабаша. — А я вовсе не консерватор.
— Разве нет? — спросил Карабаш, глядя в зеркало.
— Честное слово, нет. Я просто укорачиваю ваши загибы, усмиряю ваши завихрения.
Он улыбнулся благодушно и по-приятельски.
— Я, так сказать, осуществляю роль трения: торможу, сдерживаю движение и одновременно делаю это движение возможным. Понимаете?
— Почти.
— Вы, как инженер, должны понять. Поезд мчится по рельсам благодаря трению. Не будь трения, все полетит к черту, в тартарары! Так вот я и есть трение. Я выполняю эту благородную и, если хотите, жертвенную роль: роль Великого Противодействия.
Карабаш повернулся к нему намыленной щекой.
— Вы серьезно?
— Вполне. Если рассуждать диалектически, — ведь вы диалектик, марксист? — то в прогрессе в равной степени повинны те, кто его добивается, и те, кто ему противится. Это плод, так сказать, совместных усилий.
— Поздравляю вас… — пробормотал, не разжимая зубов, Карабаш, продолжая намыливать подбородок. Видеть и слышать улыбающегося Хорева было почему-то еще неприятнее, чем ощущать его враждебность.
Хорев встал и принялся ходить по комнате. Футбольным ударом он отбросил попавшую под ногу корзину для бумаг.
— Я, чтоб вы знали, невыносимый психопат. Вчера я был в ужасном настроении, мне все было противно, весь мир противен, и вы особенно. Я не мог видеть вашей физиономии. Знаете, в чем дело? На меня действовала погода, этот бессмысленный ураган, пыль, тьма. А сегодня чудесный, спокойный день.
— И вы примирились со мной до полудня, когда наступит жара?
— Да, я примирился и даже нашел в вас достоинства: вы не храпите ночью.
— Геннадий Максимович, а вы знаете, что по вашей теории можно и Чингисхана причислить к деятелям прогресса?
— Можно, дорогой, можно. Как это вы сообразили? — Хорев вдруг засмеялся и потрепал Карабаша по плечу. — Нехорошо, стыдно! Вы молодой человек, двадцать семь лет, юноша, вы должны понимать юмор, должны быть легким, игривым, хватать на лету. Ай-ай, это плохо, если у вас этого нет. Ну, тогда пойдемте в буфет, опрокинем по рюмке чая…
За завтраком Хорев вдруг, без всяких предисловий, начал говорить о Ермасове, которого он называл Степаном. Оказывается, он считает Степана выдающимся самородком, крупнейшим инженерным талантом, самым крупным в республике, а может быть, и во всей Средней Азии. Оказывается, он безмерно уважает Степана. Преклоняется перед его размахом, смелостью, перед его сокрушительной энергией и мужицким упрямством. Любит его, как брата, несмотря на все его фокусы и невыносимый характер самодура.
— Можно любить самодура? — спросил Карабаш.
— Конечно! Спросите женщин, они вам скажут: да. Я восхищаюсь напором и силой, с какой он ломится напрямик, как слон через джунгли. И даже когда он топчет меня ногами, я восхищаюсь яростью, с какой он это делает.
— Разве он вас топтал когда-нибудь?
— Неоднократно. Вы не застали, это было раньше. Но сейчас я восхищаюсь его выдержкой: смотрите, он клокочет, как самовар, готов убить меня, расстрелять за мою статью и, однако, не говорит мне ни слова. Для него это героический поступок. Колоссальный сдвиг. Кстати, я вижу в этом заслугу моей статьи: я ведь как раз пишу там, что он криклив, невыдержан, взрывается от малейшей критики…
— И, однако, статейка вас не украсила.
— Согласен, согласен! Абсолютно! Я ведь хотел объясниться со Степаном, но чувствовал, что нарвусь на грубость. Объяснюсь, когда он остынет. Ведь тут какая ситуация: эти товарищи из Института гидромелиорации и Управления водными ресурсами — вы знаете, о ком я говорю, — до сих пор не могут простить Степану его идеи переброски механизмов в пески и таким образом переворота всей идеи проекта. Вот кто истинные консерваторы! Но у них есть связи, и крупные. Потому что, когда ко мне обратились из газеты…
Карабаш думал: он рассказывает все это, чтобы я передал Ермасову. Сам трусит. Как трудно иметь с ним дело!
— Я сразу понял, что они в курсе моего выступления на июньском производственном совещании, — говорил Хорев, — помните, когда я впервые высказался против окольцовки озер? Но то, что они сделали с моим текстом, — это такая беспардонность, такое попрание…
Карабаш посмотрел на часы. Через сорок минут надо было ехать на аэродром. Неясное беспокойство томило Карабаша. Оно возникло, может быть, от раздражения против Хорева. Он поднялся.
— Пойдемте, нам пора ехать. — И вдруг сказал резко: — Но ведь, как ни крути, Геннадий Максимович, вы были против окольцовки озер? И против других отступлений от проекта? И против переброски механизмов тоже? Ведь это факт! Зачем вы сейчас оправдываетесь?
— Я не оправдываюсь. Подождите, садитесь! У нас час времени.
— Не час, а сорок минут. Пока дойдем до остановки автобуса…
— Но я не хочу разговаривать с вами на ходу, черт возьми! Садитесь, садитесь!
Карабаш сел. Хорев заговорил с поспешностью и азартом, его мясистое лицо покраснело.
— Да, я возражал Степану, и это не секрет. Я нисколько не оправдываюсь. И до сих пор считаю: зачем дразнить гусей? Зачем восстанавливать против себя и управление и весь штаб проектировщиков? Но я высказал свои соображения объективно, а в газете все это безобразным образом исказили, усугубили…
— Не в том дело: две фразы убрали, две фразы прибавили, — сказал Карабаш и снова поднялся. Хорев тоже встал. — Вы поступили некрасиво, понимаете? В самый острый момент, в разгар борьбы, ставите нам подножку. А ведь вы — наш, вы строитель. Причем — бессмысленно. Все равно Ермасов поступит по-своему.
— Товарищ Карабаш, вы забываете, что наступило другое время — время коллективного руководства, коллективного разума!
— Да, но главное — разума. А вы боитесь довериться разуму. Так что это время не ваше.
Карабаш быстро пошел к двери.
— Куда вы?
— Сейчас вернусь. Я хочу позвонить в трест.
— Какой трест? Сегодня воскресный день! Оскорбил, обозвал и помчался…
— В самом деле, — Карабаш остановился. — Меня тревожит буран. Вчера мои бензовозы ушли за горючим в Сагамет.
— Позвоните Степану домой. Если что-нибудь случилось, ему сообщат. Спросите, не икалось ли ему: говорим о нем целое утро…
Карабаш вышел. Хорев допил чай, расплатился с буфетчиком и побежал в номер. В возбуждении он стал ходить по комнате, что-то бормоча, размышляя вслух, и машинально собирал свои вещи: бросал в грузный, широкодонный, как саквояж, портфель из толстой свиной кожи полотенце, мыльницу, домашние туфли, журнал «Огонек» и свежие газеты. Потом он прилег на кровать, чтобы отдохнуть минут десять от нахлынувшего возбуждения, и в это время вошел Карабаш.
— Так вот, — сказал он. — В нескольких местах занесло Пионерную траншею. Особенно в районе двести двадцатого — двести двадцать шестого километров. В других местах меньше.
— Кто сказал? — с живостью вскочив и садясь на кровати, спросил Хорев. У него сделались круглые, испуганные глаза, как будто его внезапно, среди ночи, разбудили.
— Ермасов сказал. Он летит на трассу с четырехчасовым самолетом.
— Куда летит?
— К нам на Инчу.
— А кто ему сообщил?
Карабаш, не отвечая, быстрыми движениями приводил в порядок свою постель, собирал вещи, засовывал бумаги в портфель, потом взял со стола шляпу и нахлобучил ее.
— Сообщили, — сказал он. — Идемте.
— Сейчас, сейчас… — Хорев в волнении кружил по комнате. Он обдумывал внезапную, поразившую его новость и одновременно искал свою шляпу, найти которую было трудно. Наконец он увидел шляпу под кроватью Карабаша, схватил ее и выбежал на улицу.
Карабаш уже шагал, не оглядываясь, по направлению базарной площади, где была остановка автобуса. Получилось так, что в автобусе они сели на разные скамейки. На аэродроме тоже не удалось поговорить. И только в самолете, в маленьком, бутылочного цвета «Ан-2», где пассажиры сидели двумя рядами друг против друга, Карабаш и Хорев сели вместе. Оглушительно трещал мотор. Самолет трясся, покачивался и по временам точно сваливался с одной ступеньки на другую.
Все пассажиры сидели молча, и Карабаш и Хорев тоже молчали. Карабаш чувствовал, что Хорев давно хочет что-то сказать, но сдерживается. Он почти физически ощущал напряженное, скованное молчание Хорева. Было очень душно. Карабаш снял шляпу, пальцами стряхнул капли пота со лба и сказал:
— Вы должны радоваться, что мой участок передали «Западу». Теперь эта заваруха вас не касается.
— Как? — переспросил Хорев. Очень шумел мотор.
Карабаш повторил то же самое громче. Хорев повернул к нему лицо с тем отчужденным и брезгливым выражением, какое было у него вчера, когда он пришел в буфет за ключом.
— Меня это касается чрезвычайно близко! — сердито закричал он, брызгая в ухо Карабаша слюной. — Потому что я был один из тех, кто предупреждал об опасности! Но с Ермасовым невозможно спорить! Меня называли кетменщиком! Вот плоды ваших экспериментов, вашей инициативы! И вы еще слишком молоды, чтобы упрекать меня в некрасивых поступках, — понятно?
Лицо его покраснело, уши стали малиновые, он отвернулся. Он выкрикнул все, что хотел.
Карабаш засмеялся и не ответил. Он вытер ладонью ухо, повернулся к Хореву спиной и стал смотреть в иллюминатор. Внизу текла залитая полдневным жаром, безобразная, рябая пустыня. «Какая сволочь, — подумал Карабаш. — Какая огромная плоская и никому не нужная сволочь. Ну, погоди ж ты: мне бы хоть пятнадцать бульдозеров, и я из тебя дух вышибу, гадина!»
9
Прошла еще неделя — Марютин не возвращался. Аманов уехал за ним вдогонку и тоже пропал. Гусейн Алиев, шофер с автолавки, сказал, будто сменщики ремонт экскаватора вовсе забросили и собираются, по примеру Егерса, садиться на бульдозер. Каждый день в забое рядом с поселком проводятся испытания: Карабаш и другие начальники там безвылазно.
А в лагере, где остались две машины и четыре человека, наступила тишина и перемена жизни.
Началось это после бури. И дело было даже не в том, что работы прибавилось, что ветром завеяло траншею, перемешало рашу — вынутый грунт — и пришлось спорить с прорабом и выяснять, где бриньковская раша, а где нагаевская, и сколько было вынуто, и куда что отвеялось, а в том, что изменился весь настрой жизни. Стало тихо и скучно. На рассвете молчком наливались чаем, вечерами разговоры были только насчет грунта, кубов, прораба. Да Иван с Беки еще ударились в учебу: собрались поступать в Сагаметский заочный техникум, накупили тетрадей, книжек, запирались после смены, а то и днем в будке, зубрили напропалую. Готовились к экзаменам, Байнуров помогал: сам недавний студент.
Когда приехал Марютин, — а приехал он с пятью бульдозерами, с цистерной горючего и с четырнадцатью рабочими, из которых было шесть машинистов, и среди них Мартын Егерс, четыре ученика, слесари и кладовщик, — в первую же минуту Марина ему сказала: так и так, мол, папа, мы с Семенычем поженились, и можешь нас поздравить.
Марютин, конечно, кое-какие слухи слыхал, но не придавал им значения, а теперь, услышав эдакое серьезное, совершенно растерялся. Некоторое время он стоял перед Мариной, блуждая глазами, мял в руке кепку и не мог вымолвить ни слова.
— Насчет поздравлений — что ж… Наше вам… Это да… — Наконец выдавил бессмысленное: — Расписались разве?
— Нет еще.
— Ну да, верно. Негде тут.
— Мы распишемся. Вот он возьмет три отельных дня, поедем в Мары и распишемся.
— Ну да, ну да… Я вот про что: он тебе по годам в отцы годится. Меня чуть помлаже.
— Ой, папка! А ты забыл, что сам говорил?
— Что?
— Что ему самый возраст, чтоб семью заводить и все хозяйство. Забыл?
— Если с женщиной подходящей, это да, это правильно. Ладно, что толковать! Пошли в хату…
В «хату» Марютин вошел с некоторым страхом, хотя вид на себя напустил важный и даже суровый. Нагаев курил, сидя на койке. Он был в белой, праздничной рубашке, в темно-синих брюках от нового костюма и в желтых модельных полуботинках. Мужчины поздоровались молча. Марютин сел на койку, а Марина — рядом с Нагаевым и, улыбаясь, подхватила его под руку и придвинулась к нему, как будто приготовилась фотографироваться.
Избегая глядеть на них, Марютин покашливал и собирался с мыслями. Поздравление комом стояло в горле. Нагаев смотрел насмешливо и нахально и никак не располагал к тому, чтобы отечески благословлять его, однако произнести что-нибудь требовалось.
— Значит, так, — сказал Марютин. — Что получается? Папаша за дверь, а вы — раз-раз и обкрутились. Здорово, молодцы!
Он засмеялся и почувствовал облегчение.
— Молодцы, ребята! — повторил он. — Значит, папаше и отлучиться нельзя? Так выходит?
— Долго ли умеючи, — сказал Нагаев и, вытащив из-под койки бутылку ашхабадской водки, поставил ее на ящик. Бутылку эту удалось под секретом и с изрядной наценкой достать у Гусейна Алиева.
— Нет, так выходит? — сказал Марютин. — Чуть папаша из дома, а тут, значит, готово дело. Это прямо здорово… — И он еще долго, пока разливали водку, резали хлеб и открывали банки с тресковой печенью и с компотом из абрикосов, мусолил эту мысль и сам смеялся, потому что шутка казалась ему очень смешной и удачной.
После первой стопки стало совсем просто. Нагаев принялся расспрашивать Марютина о работе, и они стали говорить о бульдозерах и проговорили на эту тему часа два, до тех пор, пока не прибежал Беки и не сказал, что прораб Байнуров созывает всех на собрание.
В котловине, где прежде стояли три будки, теперь раскидывался поселок. Среди новых механизаторов было несколько знаменитых на стройке имен: тракторист Сапаров, супруги Котович, которые раньше работали на скрепере, а теперь взяли бульдозер, и Богаэддин Ибадуллаев.
Богаэддин, или Богдан, как его называли попросту, попал на стройку в пятьдесят четвертом году, после амнистии. Тогда пришла большая группа бывших уголовников. Многие из них за три года отсеялись, не вынесли жары, труда, постной жизни, других пришлось выставить со стройки силой, а некоторые получили специальность и стали работать. Те немногие, которые задержались и втянулись в рабочую жизнь, теперь работали отлично.
Богаэддин провел в лагерях четырнадцать лет. Если бы не амнистия, он бы сидел еще восемь. Он был настоящий, первостатейный вор, из тех, которые называют себя «вор в законе». Когда его освободили, ему исполнилось тридцать три года.
На Сагамете он пришел к Гохбергу:
— Хотел бы, гражданин начальник, работать в вашей конторе.
— Где вы сидели и сколько? — спросил Гохберг.
— Откуда узнали? Ах, черт… проговорился… Товарищ начальник.
Специальностей у Богаэддина было много, но все нетрудовые. Гохберг назначил его учеником на бульдозер. Выучился он удивительно быстро, за три месяца, — парень проворный, башковитый, и в руках железная сила — заводную ручку от легковушки без труда гнул. Некоторые из любопытства спрашивали: окончательно ли отбился от прежнего? Говорил — окончательно. Надоела, говорил, волчья жизнь.
Но про то, как вырвался из волчьей стаи, никому не рассказывал и не расскажет, наверно, еще долго.
В прошлом году Богаэддин поехал на родину, в Махачкалу, и там женился на учительнице. Сам он осетин, жену взял русскую. Она жила в Сагамете, преподавала в первых классах, а к мужу на Инче приезжала по субботам — когда на попутных машинах, а когда самолетом: двадцать минут.
Богаэддин, Сапаров со своими сменщиками, Марютин и Чары Аманов поселились в одной большой палатке, где стояли семь коек. На седьмой койке спал кладовщик-заправщик Терентий Фомич. На стройке совсем не было стариков и старух. Фомич считался стариком, хотя ему было всего лишь пятьдесят шесть, и волосы у него были не седые, а пегие и торчали клочками вокруг глянцевитой и крепкой, загорелой лысины. Фомич был деликатен, уступчив, обо всем рассуждал по совести и всему тихо удивлялся: «Неужто так и спите голяками? Ай-ай-ай! И гадюк не боитесь? Ну-ну! И неужто такие деньги громадные? Ай, господи…» Ему тут было все в новинку. Еще четыре месяца назад он жил на Брянщине и работал в какой-то заготконторе.
Работы у Фомича прибавлялось. Приползли пять новых бульдозеров, и, как сказал Карабаш, к концу месяца ожидалось еще семь машин.
Никто теперь не помнил, кто первый сказал, что бульдозер может самостоятельно рыть траншею. И кто первый залез с трактором в забой и по сыпучему откосу стал карабкаться наверх, толкая перед собой грунт. И кто первый стал кричать, что это напрасная трата времени, мартышкин труд и техническая безграмотность. И кто первый воскликнул, что бульдозер может и будет вынимать в месяц двадцать пять тысяч кубов. В это дело были замешаны многие: Егерс, Карабаш, Гохберг, Сапаров, Пирназаров и другие. И некоторые прорабы, как, например, Байнуров. И слесари из ремонтных мастерских. И сварщики тоже: они приваривали к бульдозерному ножу специальные щитки, которые должны были удерживать массу песка на ноже и не давать песку стекать на стороны. Потом эту идею отбросили.
Главных энтузиастов бульдозерного метода было двое: Карабаш и Гохберг. Они решали, что отбросить и что принять. Первый элемент метода не вызывал сомнений: бульдозеры должны идти не вдоль, а поперек русла, вырывая поперечные траншеи. Поэтому метод получил вначале название траншейного.
Трактор, как крот, вгрызался в грунт, прокапывал глубокую траншею-коридор — очень глубокий коридор, вот что замечательно! — но с единственным недостатком, который заключался в том, что по сторонам коридора образовывались песчаные стены. Достижением было то, что бульдозер мог, оказывается, делать такие глубокие выемки и взбираться с грунтом на крутой откос. Но как уничтожить песчаные стены, создававшие перемычки между коридорами? В одну из ночей Гохбергу или Карабашу пришла на ум такая мысль: нарезывать поперечные траншеи-коридоры несколько ниже проектного дна, а затем, направляя бульдозеры вдоль русла, разравнивать перемычки и таким образом восстанавливать проектную глубину.
Мысль была настолько проста, что показалась невероятной. Но однажды на рассвете Сапаров и Егерс в два ножа принялись кромсать траншею, а Карабаш, Гохберг и еще десяток людей стояли на откосе и смотрели, не отрывая глаз, как два бульдозера рычат и ярятся в облаках песчаной пыли, и кричали бульдозеристам что-то неслышное из-за грома, а те высовывали темные лица из кабин и тоже кричали неслышное, и это длилось много часов, и в полдень, когда выяснилось, что бульдозеры отутюжили сорок метров великолепной траншеи, никто не кричал «ура» и не было поздравительных речей и слез радости, потому что все уже пережили победу, смертельно устали, валились» с ног от усталости, а бульдозеристов пришлось вытаскивать из кабин и вести под руки.
Так родилось прозаическое название: траншейнокомбинированный метод.
Приехал Ермасов, посмотрел, как работают бульдозеристы, и с некоторыми оговорками сказал «добро». Это значило: даст тракторы еще. В этом новшестве, рожденном сообща, Ермасов не принимал близкого участия и потому относился к нему настороженно. Тут была доля ревности — не один он, выходит, способен совершать перевороты в строительном деле — и сказался недоверчивый характер Ермасова, который все любил делать сам, на свой собственный страх и риск.
Но талант инженера и чутье позволили Ермасову увидеть будущее — его уже видели Карабаш и Гохберг — за теми жалкими пятнадцатью тысячами кубов, которые с кровью и муками выдали в первый месяц Сапаров и Егерс. В августе Сапаров дал уже двадцать тысяч кубов, Егерс — двадцать три.
А в сентябре началось Великое Наступление Бульдозеров.
Карабаш и Гохберг спали по три часа в сутки. Остальное время они проводили в забое, сами сидели за рычагами или же ругались с бульдозеристами, объясняли все снова-здорово приезжавшим из Маров и Ашхабада любопытствующим и ревизорам, до смертной хрипоты спорили с начальником ПТО Смирновым. Великие преимущества бульдозеров были, к сожалению, не для всех очевидностью. Смирнов работал начальником ПТО еще при Фефлове. Этот молодой человек был начисто лишен фантазии и педантичен, как учитель чистописания. Профиль траншеи, вырытый бульдозерами, несколько отличался от проектного профиля: бульдозер не смог бы подняться по такому крутому склону, какой предусматривался в проекте. Разница была незначительная, но достаточная, чтобы ужасать Смирнова. Он отвечал за сдачу работ дирекции и оформление технической документации. Его идеалом были гладко зализанные дамбы и профиль, выровненный по веревочке.
— Пойми ты, упрямая голова, что сзади нас идет вода, идут земснаряды, — говорил Смирнову Карабаш, — которые все равно будут крошить откосы, расширять русло. К чему же твоя скрупулезность? Нам надо идти вперед, и как можно скорее.
— Только не за счет качества, — отвечал Смирнов.
— А наша траншея — не качество? Она что — брак? В чем ее недостатки, давай рассуждать здраво!
— Для меня качественно то, что соответствует проекту.
— О черт! Да ведь проектировщики не знали, что в дело вступят бульдозеры…
Словом, это были тягучие и бесполезные споры. Переубедить Смирнова было немыслимо, ему можно было только приказать. И Карабаш приказывал. И он и Гохберг считали Смирнова недалеким, но честным служакой, из породы тех, которые хороши в сторожах при охране складов.
Они не знали, что этого симпатичного, преждевременно несколько обрюзгшего, лысоватого блондина снедает жестокое честолюбие. Когда снимали Фефлова, Смирнов надеялся занять его место. Он даже помог Ермасову в «фефловской операции»: когда приехала комиссия Управления водными ресурсами, показал, что Фефлов действительно ездил на охоту за джейранами, а не на рекогносцировку в поисках питьевой воды, как утверждал Фефлов и его защитники. Но Ермасов почему-то не назначил Смирнова начальником участка, а привез нового человека — Карабаша, и Смирнов почувствовал себя уязвленным. Этого, конечно, никто не знал. Это была его маленькая, сокровенная боль, одно из тех тайных разочарований души, которые изнуряют и гложут честолюбца, а для постороннего глаза незаметны.
Наперекор всему бульдозеры шли вперед.
С каждым днем они вели себя все смелей и уверенней в забое. Выработка бульдозеристов круто взвивалась. Многие экскаваторщики стали подумывать о переходе на трактор, и одним из первых был, конечно, Нагаев.
Пойти к Карабашу с просьбой было Нагаеву нелегко: слишком хорошо помнилась унизительная неудача с прогрессивкой. С того дня Нагаев избегал встречаться с начальником, но, конечно, встречаться приходилось — Карабаш зачастил в лагерь чуть ли не ежедневно — и Нагаев держался с ним гордо и холодно.
Пришлось, однако, сделать над собой усилие и пойти на переговоры. Нагаев собирался дня три. Наконец улучив момент, когда Карабаш закончил все дела с бульдозеристами, Нагаев решился подойти и поговорить.
Был вечер. Нагаев вышел из будки, уже одетый для забоя. Издали он увидел, что возле большой палатки, где стоял легковой газик Карабаша, собралась толпа, и услышал крики. Оказывается, подрались Иван и Сережка Мамедов. Богдан Ибадуллаев держал Сережку сзади, обхватив его обеими руками за живот, и не пускал в драку, а Беки и Чары Аманов слегка сдерживали плечами Ивана, который, впрочем, не рвался в бой: он свое дело сделал. Из Сережкиной губы шла кровь, и левый глаз его заметно раздуло.
Между драчунами суетился Фомич, бормоча перепуганно:
— Ребятки, зачем же так допускать? Зачем такую безобразию — ай, господи…
— Кто кому чего? — спросил Нагаев.
Ему никто не ответил. Сережка ругался, пытаясь вырваться из рук Ибадуллаева, а Иван довольно спокойно и без злобы говорил: «Пусти, пусти его! Я ему еще дам».
В это время подошли Байнуров и Карабаш.
Им стали объяснять, что случилось. Объяснял Фомич, он «аккурат вышел из палатки и все видел прямо как в театре, из первого ряда». Иван подошел к Сережке Мамедову, который сидел за рулем и ждал начальника, и попросил подвезти на Инче. Сережка отказался. Иван ему резонно: не имеешь права отказывать, машина не твоя, а государственная, — а тот ему: кто за рулем, тот хозяин и еще чего-то, — и вдруг — драка. Первый Сережка ударил, а потом уж Иван его наградил так, что тот кувырком через голову. Ну, здесь ребята подоспели, растащили.
— Видимо, жар в голову вступил, — заключил Фомич, — большой жар в воздухе, товарищ Карабаш.
Из толпы мужчин неожиданно вытолкалась Марина.
— Неправда, Алексей Михайлович! Они из-за Фаинки дерутся. Которая в магазине продавщицей, знаете?
— Да я про Фаинку думать забыл, — сказал Иван. — Сказал просто: «В магазин нужно съездить», а он на меня кинулся. Что ж мне теперь, нельзя в магазин зайти? Мне, например, чернила надо купить, потом еще тетрадь общую…
— Ты не так сказал! Ты другое сказал! — закричал Сережка.
Марина засмеялась.
— Во дурачки-то! Какую кралю нашли. Только наш Ванюша, правда, добродушный, а тот, черт, всегда к нему задирается.
— Тебя не спрашивают, — сказал Нагаев. — Две собаки дерутся, третья не встревай.
Фомич тем временем принес кружку холодной воды и полотенце и смачивал разбитый Сережкин глаз. Сережка как будто успокоился. Богаэддин отошел от него. Вдруг Сережка, оттолкнув Фомича, метнулся к Ивану. Марина завизжала, старик Фомич повалился на колени, а Иван от неожиданности отступил на шаг, но в следующее мгновение схватил Сережку за грудь и бросил его так ловко и с такой силой, что тот пролетел метра три и, ударившись спиной о радиатор газика, упал на песок. И остался лежать, не поднимая лица. Он плакал не от боли, а от стыда.
— Видите, Алексей Михайлович! — закричала Марина. — Кто первый лезет?
— Кто их разберет, в самом деле… — пробормотал Карабаш, явно растерявшийся. Но через секунду он уже заговорил своим обычным, резким и категорическим тоном: — Султан, что вы ревете, как баба? Если лезете в драку, нечего, понимаете, тогда уж и реветь. Вставайте, поехали! Мне надо сегодня поспеть к Чарлиеву.
Сережка послушно поднялся и, прикрывая рот ладонью, ни на кого не глядя, пошел к кабине.
— Простите, Алексей Михайлович… Только я сказал не повезу его, — значит, не повезу… — пробубнил он плачущим голосом.
— Хорошо. Садитесь. Я повезу.
Карабаш сел за руль, а Байнуров и Сережка полезли назад и скрылись за брезентовыми боковинами.
— Ну что, Бринько, едете? — спросил Карабаш.
Иван сделал шаг вперед, но кто-то из ребят дернул его сзади за рубаху, и он остановился.
— Да ладно, Алексей Михайлович… В другой раз…
— В другой раз, — сказал Карабаш, — не давайте кулакам воли. Ведь вы комсомолец, должны пример показывать своим поведением.
— Понятно, Алексей Михайлович…
Тут Нагаев хотел было подойти к начальнику и сказать быстренько два слова насчет бульдозера, но Карабаш уже включил зажигание и газик зафыркал и тронулся.
Богаэддин сказал:
— Зря ты, Иван, с ним вяжешься. Он, черт дурной, до железа дойдет…
— А, ничего не будет! — Нагаев небрежно махнул рукой. — Это все семечки. Не драка.
— Я его и бить сегодня не хотел, — сказал Иван.
Через два дня Иван с автолавкой поехал в поселок и благополучно вернулся, купив чернила и тетрадь. Про то, какой разговор был с Фаиной, никому не рассказывал, а Сережку он не видел.
В этот же день в лагерь приехал Карабаш с тремя бульдозерами, которые перегонялись на запад, за озера. И Нагаев пошел к начальнику второй раз.
Бульдозеристы сделали остановку в лагере, чтобы отдохнуть и заправиться горючим. Они сидели кружком и пили зеленый чай. Четверо из них были туркмены, один парень — русский. Карабаш сидел так же, как они, подвернув под себя ноги, и тоже пил чай. Все слушали парня, который стоял посредине кружка и что-то быстро рассказывал, жестикулируя обеими руками.
Когда Нагаев подошел ближе, он увидел, что парень, который рассказывает, — Бяшим. Нагаев присел на корточки рядом с Карабашем и, чтобы завязать разговор, спросил:
— А вы, Алексей Михайлович, значит, понимаете?
— Понимаю немного, — сказал Карабаш. — Вот слушаю: Мурадов объясняет, как держать нож, когда бульдозер идет в гору. Толковый малый.
Он смотрел на Бяшима, слегка улыбаясь. Видно было, что он слушает его с удовольствием. Нагаев знал, что его бывший ученик получил разряд и теперь работает вторым трактористом с Егерсом, но разговаривать с Бяшимом ему не приходилось и не было желания с ним встречаться.
— Толковый! — повторил Карабаш. — Так быстро освоить машину не каждый сумеет. Второй месяц получает вровень с Егерсом.
— Я знаю, — сказал Нагаев, хотя он этого не знал и болезненно удивился.
— А ведь совсем недавно пришел темным пастушонком, болта от гайки отличить не мог. Одно время его даже из учеников поперли. Он ко мне приходил, плакался.
Нагаев косо посмотрел на начальника: нет, тот говорил всерьез, значит, не знал или позабыл.
— Это я его попер, — сказал Нагаев.
Они разговаривали вполголоса, так что бульдозеристы их не слышали. Бяшим продолжал что-то объяснять.
— Вы? Ах, да, вспоминаю. Мне еще Байнуров рассказывал. Ну что ж, ваш недоучка теперь работает здорово.
— Конечно, здорово, — сказал Нагаев. — Он жену выкупает. Ему денег много нужно.
Карабаш недоверчиво, прищурившись, взглянул на Нагаева.
— Точно, — сказал Нагаев. — Полкалыма заплатил, а тесть сполна требует.
— Из-за этого он так хорошо работает, вы считаете?
— А то из-за чего? Пети-мети нужны. — Нагаев быстро потер, большой палец об указательный. — А их даром не дают.
— Это верно.
— Куда верней! Горбулю поломать надо… — и Нагаев хлопнул себя по загривку.
Бяшим уже сидел на земле, и туркмены что-то спрашивали у него наперебой. Вид у Бяшима был растерянный. Он сдвинул свою маленькую тюбетейку на глаза.
— А вам зачем пети-мети, Нагаев? — спросил Карабаш. — Вы, кажется, жену безо всякого калыма приобрели.
— Я? Вообще-то да… — Нагаев вдруг залился краской, скулы его потемнели. — Только я еще не женился. В загсе пока что не был.
— Ну что загс! Пустяки, формальность, — сказал Карабаш. — Мы вам будку отдельную дали, это прочнее всякого загса. Это уже значит железно.
Он говорил вроде бы шутливо, и вместе с тем в его словах и взгляде было что-то колючее, испытующее. Нагаев нахмурился. Он заметил, что русский парень-бульдозерист прислушивается к их разговору и один из туркмен тоже повернулся и слушает.
Нагаев не любил разговаривать про свою личную жизнь и терпеть не мог, когда кто-нибудь касался этой темы, поэтому он сразу перевел разговор на другое и спросил у начальника то, что его интересовало, — о бульдозере. Карабаш спросил:
— Вы это серьезно? Ведь вы наш лучший экскаваторщик.
Нагаев сказал, что работал трактористом сызмальства, а на бульдозере два года отышачил в Сибири. Так что серьезно.
— Я гляжу: мы на месте сидим, а бульдозеристы все вверх и вверх лезут.
— Правильно! — вдруг засмеявшись, сказал Карабаш. — Ладно, Нагаев. Идет. Только одно условие — слышите?
— Какое?
— Берите ученика на бульдозер и учите как следует. Хватит вам дурака валять. — Карабаш говорил уже без улыбки, строго и холодно глядя Нагаеву в глаза. И Нагаев понял, что его прежний разговор про Бяшима не был случайным и он все помнил отлично.
— Ученика брать? — Нагаев помолчал, вздохнул. — Да ладно, возьму. Какое дело!
— Хорошо. На той неделе получаем четыре машины из ремонта, самый лучший бульдозер — ваш!
Нагаев кивнул и поспешно привстал с корточек. Желанного он добился, а продолжать разговор с начальником было как-то беспокойно. Но Карабаш остановил его.
— Подождите, Нагаев! Сядьте на минуту. Ребята, подвигайтесь поближе, — обратился он к бульдозеристам. — Вот Семен Нагаев сейчас просил перевести его с экскаватора на бульдозер. Как вы думаете: с чего бы это?
— Известно с чего!
— Заработать погуще.
— Мало ему…
— Да ведь и вы тоже понимаете, где погуще. Это сейчас все поняли. Только в Ашхабаде еще некоторые никак не поймут, говорят, что Карабаш, мол, и Гохберг идут на поводу у рвачей, любителей длинного рубля. Ну, мы их разубедим.
Рабочие слушали Карабаша с напряжением, стараясь угадать, к чему он клонит. Нагаев, хмурясь, глядел в сторону. Разговор ему все больше не нравился, не нравилось и то, что его посадили как бы для примера.
— Мы их разубедим, конечно, — повторил Карабаш, — потому что рвачей у нас очень мало. Есть, но мало. Рвачи — это люди, которые не жалеют машину, калечат ее ради заработка.
Нагаев сказал:
— Таких уродов будь здоров сколько!
— Нет, товарищи, таких мало. И регулярная профилактика привилась. Но есть все же люди, которые ни о чем, кроме собственного кармана, не заботятся. Технику-то они берегут, но только потому, что она их кормит. А сделать что-нибудь бескорыстно, для души, помочь кому, выучить кого, на это у них кишка тонка. Вернее, сердца не хватает.
— Точно… — сказал один бульдозерист не особенно уверенно.
— Есть такие, — сказал другой. — Но ведь и то сказать… коммунизма у нас еще нету? Вы ведь тоже за зарплату работаете?
— Коммунизма еще нету, верно. Но не думайте, кстати, что коммунизм наступит сразу, наподобие воскресенья. То все будни, будни, пятница, суббота, а наутро вдруг — бац! — воскресенье, коммунизм наступил. Это не сразу будет.
— Точно, точно, — закивал первый бульдозерист.
Нагаев, немного успокоившись, вытащил пачку папирос, стал думать насчет ученика: кого брать?
— И люди при коммунизме будут, по-моему, не какие-то особенные, — продолжал Карабаш, — не чудо-богатыри, а просто хорошие люди, какие и сейчас попадаются. Вот товарищ Бяшим Мурадов, который так здорово объяснял вам работу на бульдозере, долгое время пробыл учеником у одного опытного механизатора, а тот так его ничему и не выучил. А потом он попал к Мартыну Егерсу и за два с половиной месяца стал дельным бульдозеристом. Знаете почему? Потому что Егерс ему доверял. Он его в свой забой поставил, хотя терял на этом часть заработка. Но он пошел на это. Они получали наравне, и какое-то время это было несправедливо, но сейчас это вполне законно. Так, Бяшим?
Бяшим Мурадов, насупившись, отводя глаза от Нараева, молча кивнул. Туркмены заговорили с ним по-своему, он что-то ответил, но, видно, не про Нагаева. Никто не смотрел в сторону Нагаева, они не знали, что речь шла о нем. Карабаш тоже не смотрел на него.
И все же слушать начальника было невыносимо. Нагаев сделал попытку встать, бормоча:
— Пойти, што ль, а то дело стоит…
— Подождите! Дайте папиросу. — Карабаш потянулся к нагаевской пачке, и Нагаеву пришлось снова присесть и еще поднести начальнику горящую спичку. — Вот маленький пример: человек отказался от своей выгоды ради другого человека, не отца и не брата, просто ради молодого, неопытного, которому надо помочь, и ради общего дела. Ведь не затем же, черт возьми, мы тут ишачим, дохнем в этой жаре, чтобы только набивать карманы! Ведь и Бяшим Мурадов не затем пришел сюда, чтобы на калым набрать и выкупить у тестя жену! Верно, Бяшим?
Бяшим, бледнея, сказал тихо:
— Жена — корова, что ли?
— И про себя думаешь: зачем я сюда приехал? Работал на Урале, звали в Москву, с повышением. Нет, что-то нам и другое нужно!
— Оно так…
— С пустыни, то есть, нужно сделать сад, вот чего! — быстро проговорил парень, все время повторявший «точно, точно».
— Ай, про карман тоже не забывай, — засмеялся один из рабочих.
— Нет, ребята, нужно, нужно! — сказал Карабаш, вставая. — Честное слово, нужно и другое. Ну, прощайте пока что. Вон Байнуров появился, я его ищу.
И он ушел неожиданно.
Нагаев пришел в свою будку. Марина лежала на койке полураздетая и обмахивалась газетой — отдыхала. Ее отец сидел на ящике и ел густое варево из рожков, держа на коленях алюминиевую миску. С тех пор как Марина и Нагаев поженились и в лагерь приехали новые люди, Марина стала стряпать только на свою семью. Она готова была по старой дружбе кормить и Беки с Иваном и отцовского сменщика, но те отказались. Они столовались общим котлом с остальными механизаторами, и готовила им специально приехавшая из поселка повариха, тетя Паша, которой ребята платили по четвертной «с миски».
Нагаев сел на койку, вытащил мятую пачку папирос.
— Сеня, не закуривай, не закуривай! Сейчас обедать будешь. Бери тарелку, накладывай, — сказала Марина, продолжая лежать.
Нагаев, не отвечая, затянулся дымом и улегся, удобно подложив правую руку под голову. Марютин ел жадно, громко и ложкой подбирал что-то с бороды. Скоро он заскреб ложкой по алюминию и наконец поставил миску на пол.
Нагаев курил и думал.
— Сень, ты будешь обедать или нет? — спросила Марина.
— Неохота. А ты что лежишь? Заболела?
— Нет… — Марина вздохнула, повернулась на бок. — Сенечка, на душе грустно. Соскучилась я чего-то, сама не знаю чего.
— Ну-ну, — сказал Нагаев. — А нам скучать некогда.
— Вот именно, что да! — засмеялся Марютин. Он налил холодного чая в кружку и стал пить. — Чего-чего, а скучать нам некогда.
— Я про то и говорю. Вам-то, конечно, некогда. Вы и ночь в забое, и день в забое, а мне что делать? Вот всю газету прочла два раза. К нам в Керки, пишут, артисты приехали из Ашхабада. В клубе играют…
— Ты теперь замужняя женщина, — сказал Марютин и, солидно кашлянув, посмотрел на Нагаева. — Так что дела у тебя немалые. И главное — за тобой хозяйство.
— Ой, папка, ну какое тут хозяйство? Абсолютно нечего делать. На курсы медсестер я, конечно, не поехала.
— И правильно. Куда же ехать от мужа! — сказал Марютин. — Куда иголка, туда и нитка. Загорай теперь с нами до победного конца. Ладно, пойду посплю, а то устал — невозможно…
Он поднялся и шагнул к двери. Его действительно слегка пошатывало. Нагаев спросил:
— Демидыч, сколько сегодня?
— Кто его знает? Думаю, так… — Марютин привалился плечом к косяку и с видимым удовольствием стал соображать, шевеля губами, — Кубиков, думаю, семьсот, не меньше.
— Плохо тебе?
— Неплохо. А никто не говорит.
Он ушел.
— Маринка, знаешь что? — сказал Нагаев. — Я тебя в ученики возьму.
— Меня?
— Ну да. Хочешь?
— Конечно! Ага, очень даже! — Марина вскочила с койки. — Сенечка, я давно хотела, только спросить боялась, — думала, откажешь. Мы с тобой весь день будем вместе, правда? Я тебя знаешь как буду слушаться! Ой!.. — Она даже взвизгнула от радости и, присев на край нагаевской койки, обняла Нагаева и приникла головой к его груди. — Я так рада, Сенечка! Я себе такой же синий комбинезон куплю с поясом, как у Дуськи Котович!
Уличный репродуктор «Октава», установленный возле клуба, молчал весь день: чтобы люди могли поспать. Четыре рупора начинали говорить вечером. Сентябрь был на исходе, но жара не спадала, и распорядок дня в поселке оставался летний.
«Кеплер Ашхабад…» — затрещал знакомый голос ашхабадского диктора, и Карабаш открыл глаза. Как всегда после дневного сна в жару, он просыпался несвежим, с тяжелой головой. Засыпание было сладостным и мгновенным, пробуждение мучительным.
Карабаш посмотрел на часы: он спал сорок минут.
В комнате за столом сидел Гохберг и что-то читал. Он, наверное, пришел, когда Карабаш спал, и не захотел будить.
— Что? — спросил Карабаш, садясь на койке.
— Ничего. Просто зашел. По дороге в столовую. — Гохберг перелистнул несколько страниц в книге, рассматривая их с преувеличенным вниманием. Вот это и показалось Карабашу подозрительным.
— Что-нибудь случилось? — спросил он.
— Я же сказал: ничего. Утром передавали по радио из Ашхабада, что мы закончили окольцовочные дамбы вокруг озер — по проекту инженеров таких-то, то есть нас с вами. И Степана Ивановича.
— Что ж, здорово. Хотя рановато…
— Почему? Работы фактически окончены. Видимо, Степан Иванович дал эти сведения.
Карабаш подошел к рукомойнику и, набирая воду пригоршнями, стал обливаться. Он был голый до пояса, в мятых полотняных брюках.
— Да! — сказал Гохберг. — Тут утром приходила Валерия Николаевна. Я сказал, что вы на трассе, приедете к обеду.
— А она что?
— Сказала, что уходит в «поле» — она уже была одета для «поля» — и вернется к вечеру.
— Но вечером мы едем на двести сорок восьмой…
— Я сказал. Она очень огорчилась и сказала, что ей нужно с вами поговорить.
Гохберг сурово поглядел на Карабаша. На его лице было отчетливо написано осуждение. Он был милый парень, и они по-настоящему и быстро сдружились за короткое время, оказавшись единомышленниками во многом: они одинаково относились к начальству и к рабочим, к своему труду, к карьере, к деньгам. А это было немало. И, однако, в их отношениях еще были области неясности и тумана: они познакомились слишком недавно.
— Хорошо, — сказал Карабаш. — Спасибо за информацию.
Он надел рубашку, взял шляпу, и они вышли. На улице к ним, как обычно, стали подходить люди, спрашивали о разных делах. Между ними осталось недосказанное, и они помнили об этом, разговаривая с подходившими людьми. В столовой они прошли в так называемый зал ИТР — комнату, отгороженную фанерными стенками, где стояли столы и можно было курить.
Карабаш сам пошел за подносом и принес два чайника с зеленым чаем, хлеб и сахар.
— У вас чрезвычайно озабоченный вид, — сказал Карабаш, которого подмывало говорить о Лере, хотя он и предчувствовал, что это грозит неприятностями. — Можно подумать, что вам, а не мне надо ломать голову: как встретиться вечером с Валерией Николаевной?
— Алеша, вы честный, хороший мужик, — сказал Гохберг голосом, дрожащим от искренности. Правую руку он приложил к сердцу. — Вы настоящий инженер, настоящий коммунист и руководитель. Словом, вы знаете, как я к вам отношусь. Скажите: зачем вам это нужно?
— То есть?
— Ну, вы знаете, о чем я говорю.
— Нет.
— А! — Гохберг нервно махнул рукой. — Вчера мне жужжал в уши Смирнов. Я, конечно, всячески отрицал и выгораживал вас, но безрезультатно. Я думаю, Смирнов парень безобидный, на подлость не способен, но вы видите — уже идут разговоры. А зачем вам это нужно?
Карабаш молча, с застывшей улыбкой слушал Гохберга. Тот продолжал, понизив голос до шепота и все еще прижимая правую руку к сердцу:
— Допустим, вы человек холостой, но ведь она замужняя женщина, и это всем известно. Ее мужа многие знают, он бывал на трассе. Он работает корреспондентом…
«Зачем он это мне рассказывает? — думал Карабаш. — Так горячо, чуть ли не со слезами. Странный малый».
— Вы что, заботитесь о моей нравственности? — спросил Карабаш. — Или о том, чтоб у меня не было неприятностей с… с корреспондентом, что ли?
— И то и другое, Алеша. Просто мне это все не нравится. Говорю как друг.
— Понял. Спасибо.
— Вы, разумеется, вольны поступать как угодно, но я считаю долгом сказать вам свое мнение.
Он вытер платком потное лицо и после этого прямо и твердо посмотрел Карабашу в глаза. Взгляд его говорил: «Ты мне друг, но изволь выслушать правду, как бы она ни была горька».
Карабаш кивнул:
— Хорошо, Аркадий. Спасибо, что вы обо мне заботитесь, а теперь поговорим о чем-нибудь другом. Что будем делать с экскаваторами, которые в ремонте?
В это время в комнату вошел начальник реммастерских Ниязов и, как нельзя более удачно, вступил в разговор.
После ужина, когда они шли в контору, Карабаш сказал, что возьмет легковую и сам поедет на Восточный участок. Султан Мамедов уже четвертый день не работал: в драке с Бринько он повредил руку и бюллетенил. Гохберг с прорабом решили ехать на Западный участок, к озерам, на грузовике.
В сумерках Карабаш пригнал легковой газик к своему дому и стал ждать, когда придет Валерия. Вскоре он увидел из окна, как проехал грузовик с брезентовым верхом, похожий на старинную переселенческую фуру: биологи возвращались с «поля». Они сидели в кузове тесной кучей, мотаясь из стороны в сторону, толкая друг друга ящиками, сачками, гербарными сетками, и Валерия сидела там, такая же усталая и грязная, как все.
Однажды, когда она еще была в Ашхабаде и ему надоело ждать, — нет, не надоело, просто не было больше сил выносить ожидание — он пошел в барак на краю поселка, где жили биологи, и спросил начальника экспедиции Кинзерского. До этого они были бегло знакомы и почти никогда не разговаривали.
Кинзерский носил жокейскую шапочку и короткие штаны — шорты. У него были сухие, жилистые ноги пятидесятилетнего теннисиста. Карабаш спросил: что слышно о Валерии и когда она приедет? Кинзерский сказал, что она приедет дней через пять, а может быть, через две недели. Он предложил Карабашу выпить чашку кофе. В комнате пахло свежесваренным кофе, и Карабаш согласился и сел на складной стульчик, который Кинзерский, по его словам, привез с собой из Ленинграда. Стены комнаты украшали вырванные из альбома листы, на которых были аккуратно нарисованы различные каракумские пейзажи. Карабашу рисунки показались неплохими. Сам он был бездарен по этой части, не мог нарисовать дома с трубой.
Он сидел на стульчике, держа на коленях чашечку с дымящимся черным кофе, и делал такие же маленькие глотки, какие делал Кинзерский. Они разговаривали о делах поселка. Вдруг Кинзерский спросил:
— Вы знакомы с мужем Валерии Николаевны?
— Нет, — сказал Карабаш. — Между прочим, Валерию я знаю с детства.
Кинзерский приложил пальцы ко лбу, точно пробуя, нет ли у него жара, и покачал головой.
— Господи, какой это жалкий пижон! Однажды он приезжал сюда, и я имел честь… Вы знаете, я был потрясен выбором Валерии Николаевны. Она ведь женщина умная, со вкусом, с душой.
— Да, я знаю. Я учился с ней в одной школе и очень дружил с ее братом. У нее был брат Валентин…
— Любой брак загадка, но в этом есть что-то возмутительное, — продолжал Кинзерский. — Словом, вкус Валерии Николаевны на мужчин меня решительно не удовлетворяет!
Он засмеялся, и рот его слегка сдвинулся вбок. У него было длинное, узкое лицо и большой нос в красноватых прожилках.
— Решительно не удовлетворяет! Никоим образом, — повторил он. — Не хотите еще чашку кофе?
— Нет, спасибо.
— Что «спасибо»? Пейте, не стесняйтесь. Вы ведь человек холостой, питаетесь в столовой, а это чудный домашний кофе.
— Большое спасибо, — сказал Карабаш. — Но мне надо идти.
Он был достаточно чуток, чтобы понять: взаимной симпатии не возникнет и после второй чашки. «Тут дело нечисто, — подумал Карабаш. — Тот парень, который изобрел что-то для саксаула, намекал на Кинзерского и Валерию. Наплевать. Тем хуже для Кинзерского».
Они простились подчеркнуто вежливо и даже щелкнули каблуками, пожимая друг другу руки. И Карабаш почувствовал, что поджарый доктор наук в коротких штанах собрал все силы, чтобы пожать его руку как можно крепче. Карабаш пришел домой огорченный — не тайной недоброжелательностью Кинзерского и не его намеками, говорившими о том, что ему нечто известно, а тем, что Валерия приедет не скоро.
«Впрочем, он мог и наврать нарочно», — подумал Карабаш.
Валерия приехала через два дня.
Это было время, битком набитое делами, штопали дыры, наделанные «афганцем», начинали окольцовку озер и вводили бульдозеры. Карабаш метался по трассе. После приезда Валерии они виделись дважды и сегодня должны были встретиться в третий раз.
Было уже восемь часов вечера. Не позже девяти он должен был приехать на участок гидромеханизации, чтобы застать там Чарлиева. Карабаш заставлял себя думать о предстоящем разговоре с Чарлиевым — важном разговоре, касавшемся заполнения водою озер, но у него ничего не получалось, потому что мысленно он все время видел Валерию, и он не мог видеть одно, а думать о другом, и волновался все сильнее, и даже погасил свет и вышел на улицу.
В темноте он услышал хрустящие по песку, быстрые шаги. Он оставил дверь открытой и вернулся в комнату.
— Алеша, почему здесь машина? — спросила она задыхающимся шепотом.
— Я должен ехать к Чарлиеву, — сказал Карабаш.
— Сейчас?
— Мы поедем вместе.
— Сейчас?
— Ну, не сразу. Но скоро…
Повернувшись, она затворила дверь и накинула крючок.
Они обнялись посреди комнаты, и он слышал, как стучит ее сердце, потому что она бежала, и волосы ее были сухие и горячие, и еще пахли пустыней, и слегка шевелились от своей легкости и сухости, щекоча лицо, хотя в комнате не было никакого ветра. Не разжимая рук, они сели на койку, кошма с которой была снята и лежала на полу.
— Хорошо, что нет света, я такая страшная, грязная. Они не успели приготовить горячей воды, а я не стала ждать.
— И хорошо.
— У нас мало времени?
— Мало.
Он почувствовал, что руки, обнимавшие его, ослабли и ее губы уклоняются от его губ. И щеки ее стали влажными.
— Что с тобой? — спросил он.
— Я так рвалась к тебе из Ашхабада, поссорилась со всеми, чтобы уехать скорее. И мы совсем не встречаемся. То у тебя собрание, то ты на трассе, то еще что-нибудь. Алеша, я не знаю… Я не могу так…
— И я не могу. Знаешь, как я ждал тебя? Я просто с ума сходил, чуть не взял билет на самолет…
— Да, а когда я приехала…
— А что я могу поделать?
— Не ехать сейчас, например.
— Нет. Мы поедем потихоньку…
— Алешка, я так устала! Ведь целый день на жаре и в «поле». Тебе не жалко меня?
— Мы поедем потихоньку и будем разговаривать всю ночь. Ты можешь спать. Мы будем одни. Понимаешь? Совсем одни. — Он целовал ее мокрые глаза и губы, и она больше не отклоняла лица, и губы ее снова открывались навстречу, и он чувствовал сквозь свою рубашку, как дрожат и горят ее руки. «Мы поедем потом?» — спросила она чуть слышно. «Потом. Ты согласна?» — «Я согласна — потом…»
Она всегда говорила то, что думает, и всегда была естественна. Каждое ее движение было естественно, и каждое слово, и когда она говорила шепотом, и сжимала зубы, и плакала, — значит, она не могла иначе, потому что она была естественна во всем, и поэтому с ней было легко. Она не мазала лица, чтобы казаться красивее. И кожа у нее была гладкая и пахла сладким, молочным запахом кожи. И волосы ее пахли душно и сухо, как должны пахнуть волосы. И губы ее пахли губами.
Все в ней было естественно. Она была настоящая и лучшая из всех, какие встречались в его жизни. Теперь он знал это твердо. С ней было легко, как ни с кем. В этом и заключается счастье быть с женщиной: чтобы было легко. И вся любовь, наверное, или то, что называется любовью, — стремление к самой высшей легкости, чтобы ничто не мешало, ничто-ничто. Чтобы никаких преград, окончательная свобода. Ведь даже между ними было что-то, о чем лучше не думать, и он не думал, он отбрасывал от себя все сложное, все тревоги, возникавшие от размышлений, и ему было легко.
Когда он открыл дверь и вышел на улицу, чтобы облиться водой, он увидел, что звезды поднялись высоко, и понял, что опоздал к Чарлиеву. И все же он решил ехать.
Они сели в кабину. Карабаш включил фары и осторожно повел газик по дороге из лагеря на Сагамет. Никто их не окликнул, хотя какие-то люди ходили в темноте и разговаривали, и только одна собака лениво залаяла и немного пробежала за ними, когда они проехали последний дом.
Карабаш держал руль левой рукой, а правой обнимал за плечи Валерию, и так они ехали до тех пор, пока дорога не стала нырять и пришлось взять руль обеими руками. Некоторое время они ехали молча, и он решил, что Валерия задремала. Он чувствовал ее неподвижное, теплое тело рядом с собой. Ее голова лежала почти невесомо у него на плече.
Ему было необыкновенно легко. Никогда в жизни не было так легко, как в эту ночь.
Валерия вздохнула, и он услышал ее голос — нет, она не спала, — быстрый, тихий, почти невнятный голос, каким молятся или разговаривают с собой:
— Господи, как хорошо… И неужели скоро все кончится? Я не увижу тебя даже так…
— О чем ты?
— Алеша, мы заканчиваем здесь все работы. Неизвестно, оставят ли нас на второй год. Ты бы хотел?
— А куда вас направят?
— Неизвестно. Кинзерский сказал мне сегодня: «Скоро ваша пастораль будет нарушена». Несчастный старый дурак! Алеша, ты мне не ответил.
— Что?
— Ты хочешь, чтоб мы остались здесь на второй год?
— По-моему, это глупый вопрос.
— Нет, это не глупый вопрос. — Она слегка отодвинулась. — Иногда я верю, что ты любишь меня, что для тебя все это не просто приключение в каракумских песках — «там, с одной биологичкой». А иногда у тебя бывает такой холодный, официальный голос и взгляд, и мы не встречаемся по четыре, по пять дней, и потом — ты мне прислал всего два письма, а я каждый день ходила на почтамт, иногда даже утром и вечером. И вот я начинаю терзаться. Иногда просто жить не хочется…
— Нет, ты глупая. Неужели ты не чувствуешь? — Он снова обнял ее одной рукой и придвинул к себе. — Я не знаю, может быть, любят иначе. Ты для меня лучше всех, вот и все.
— И вот я терзаюсь и думаю, — продолжала она, — конечно, думаю, я старше его на три года, у меня семья, сыну шесть лет… Чего я хочу? Что я требую? Что у нас может быть, кроме вот этого мимолетного, этой ночной пустыни, каких-то сумасшедших поездок…
— Ну, перестань. Я прошу.
— Хорошо.
— И разве это плохо? — спросил он.
— Ой, Алешенька! Так хорошо… — Она прижалась к нему и подняла лицо, и он поцеловал ее в губы, уже холодные, потому что в воздухе стало прохладно.
Они ехали быстро, в кабину залетал ветер. Слева была дамба готового участка, там была полная тьма, никаких работ больше не производилось. Машины и люди ушли оттуда. Если сейчас остановиться и вылезти из машины — глухая пустыня, ни одного звука, ни одного огонька кругом.
Дорога вдоль дамбы шла довольно ровная, и через четверть часа газик подъехал к лагерю Чарлиева.
Валерия осталась дремать в кабине, а Карабаш вышел. В нескольких палатках и в большом бараке, где помещалась контора, горел свет. Какие-то люди сидели у костра и пили чай. Из металлических кружек шел пар. Карабаш услышал запах густого чая.
— Здравствуйте, — сказал Карабаш. — А где Чарлиев?
— На водокачку уехал, — сказал один из сидевших у костра.
Другой сказал:
— Садитесь, товарищ Карабаш, пошуруйте чайку.
— Да мне некогда, — сказал Карабаш и все же присел на корточки. — Давно он уехал?
— С полчаса так.
— У кого есть папиросы, ребята?
Несколько человек протянули Карабашу портсигары и пачки. Он взял пять папирос, положил их в карман рубашки и встал.
— Спасибо. Поехал.
— У нас тут, знаете, спор, товарищ Карабаш, — сказал парень, предлагавший чайку. — Тут львы водятся?
— Нет, — сказал Карабаш.
— А тигры?
— Тоже нет. В горах, говорят, попадаются, и то редко. И то не тигры, а барсы.
— А я что говорил? — сказал кто-то радостно и засмеялся. Зубы у него были розовые и белки глаз тоже. У всех, кто сидел у костра, белки глаз были розовые. Тот, кто засмеялся, стал громко, хлюпая губами, пить чай. Четверо других молча смотрели в огонь.
Пронзительно, сладко и сухо пах горящий саксаул, и от этого запаха и дыма Карабаш снова почувствовал удивительную легкость, и на глазах его почему-то выступили слезы, и он сказал:
— А может, и водятся львы. Я ведь не профессор. — Он постоял еще немного. — Ну, я пошел, ребята. Загорайте.
Газик стоял в темноте с выключенными фарами, и Карабаш подумал, что Валерия спит в кабине. Садясь за руль, он старался все делать тихо. Но Валерия не спала и спросила, почему он вернулся так скоро. Он сказал, что надо ехать на водокачку, Чарлиев там, это километров шесть отсюда.
Было около часа ночи. Дорога пошла вправо, в сторону от трассы. Она была отлично видна под светом фар: раскрошенные колесами ветви саксаула и даже следы от покрышек. Привлеченные светом, на дорогу выскакивали песчанки и, пробежав несколько метров впереди радиатора, исчезали внезапно.
— Значит, Кинзерский в курсе наших дел? — спросил Карабаш.
— Нет, по-моему. — Она ответила не совсем уверенно. — Он ужасно подозрительный. Всех подозревает, а меня особенно.
— Почему тебя особенно?
— Потому что я ему нравлюсь.
— А! Я сразу понял: тут дело нечисто.
— Алешенька, к нему ты можешь не ревновать. Это исключено.
— Но что-то было?
— Нет.
— Совсем ничего?
— В общем — ничего. Но я была на грани. — Валерия засмеялась и, прижавшись к Карабашу, быстро поцеловала его в щеку. — Правда, Алешка, я чуть не изменила мужу с Кинзерским! Сейчас мне это кажется диким, а тогда — два года назад, в Дарганжике, — я так ненавидела мужа, что была готова это сделать. Просто ему назло. Кинзерский влюбился по-настоящему, оказывал всякие знаки внимания, причем ни от кого не скрывая: вся экспедиция знала, что начальник «присох». Его жена умерла пять лет назад, и он говорил, что ни на одну женщину не мог смотреть, я была первая…
— На кого он мог смотреть?
— Да. Но мне чего-то не хватало, чтоб он понравился до конца, — понимаешь? — хотя я и уважала его, потому что он умный, знающий и вообще неплохой человек. Это было как с кашей геркулес в детстве. Я знала, что это очень здоровая, полезная каша и даже сладкая — мама сыпала в нее много сахару, — и все же она стояла у меня поперек горла. Однажды, когда у нас был с Кинзерским решительный разговор, я ему рассказала про кашу.
— Не надо обижать старичков.
— Он не обиделся, а засмеялся. И сказал, что самое сильное мое качество — откровенность. В нем почему-то все время была уверенность, что он в конечном счете победит. Но он не победил.
— Нет?
— Нет, Алеша.
— Бедняга! — Карабаш рассмеялся, потому что он знал, что Валерия говорит правду, и обрадовался.
— Какое счастье, что я тогда остановилась! Ведь я встретила тебя…
— А ко мне ты пришла тоже кому-то назло?
— Нет. — Помолчав, она сказала серьезно: — Знаешь, почему нет? Потому что в последний год у меня не было никакой ненависти к Александру. Все исчезло. Не осталось никаких чувств: ни добрых, ни злых. Это странно и, может, даже безнравственно, но я чувствую себя свободной женщиной…
Карабаш притормозил, и газик стал вперевалку спускаться по склону бархана. Когда спуск окончился, Карабаш выключил зажигание, и газик остановился.
— Ты уже не свободная женщина, — сказал Карабаш.
Они сидели обнявшись в темной кабине и целовались. И потом, когда стало неудобно и тесно, они вышли и сели на песок. Песок затвердел к ночи. Он был остывший и жесткий. Сначала было прохладно, и они старались согреть друг друга, а потом стало жарко, очень жарко, так, как бывало днем, и песок стал мягкий и на нем было чудесно лежать, отдыхая и дыша его чистым, кремнистым запахом и глядя в небо. Ярко горели звезды. Их было очень много.
Карабаш подумал, что он уже не застанет Чарлиева, и это неважно, потому что это не главное, а главное — вот этот чистый, кремнистый запах песка и звезды, которых было так много. Они окружали со всех сторон, и от них рябило в глазах. Они были подобны мерцающей и бесконечно глубокой стене.
«Выше этого ничего нет и не будет, — подумал Карабаш. — Песок и звезды. Конец и начало всего».
— Зачем мне Чарлиев? — сказал он вслух.
— Алеша, люби меня всегда, — попросила она тихо.
— Почему так жалобно?
— Нет, я просто подумала… Нас ничто не связывает, кроме любви, ведь это так хрупко…
— Ничто другое и не должно связывать людей. Разве нет?
— Да…
Он встал и протянул обе руки. Она взяла его за руки, продолжая сидеть на песке. Тогда он нагнулся и поднял ее и понес к машине. Она была тяжелая, он шел, напрягая все силы.
Потом, включив фары, он побежал вперед, чтобы отыскать поворот на водокачку. Где-то за спуском должен был быть поворот. Увидев столб с указателем, Карабаш вернулся обратно, и газик медленно тронулся, доехал до столба и повернул налево.
В воздухе запахло водой.
Когда подъехали, Валерия снова осталась в машине, а Карабаш вылез и, нетвердо шагая в темноте, прошел к деревянному бараку, стоявшему рядом с кирпичным зданием водокачки. Возле барака стоял такой же «ГАЗ—67», как у Карабаша, это была чарлиевская машина: капот был открыт и трое мужчин ковырялись в моторе, светя лампой-переноской.
— Чарлиев! — издали весело крикнул Карабаш. — Долго, брат, я тебя по всей пустыне…
— Нет его здесь, — сказал кто-то.
— Разве это не его «козел»?
Карабаш подошел ближе.
— Его. Был «козел», да весь вышел, — сказал человек, державший лампу-переноску, и выругался.
Другой голос, принадлежавший туркмену, видимо, шоферу Чарлиева, сказал:
— Аман Бердыевич на земснаряд поехал. На грузовом транспорте. Вот только-только.
— А что с «козлом»?
Человек с лампой-переноской стал объяснять, грубо ругаясь после каждого слова.
— Не ругайтесь, — сказал Карабаш. — Я и так пойму.
— Чего «не ругайтесь»? Не мужик ты, что ли? Пошел ты, знаешь…
— Не ругайтесь, — повторил Карабаш.
Человек направил на Карабаша пучок света и замолчал. Карабаш вынул из кармана последнюю папиросу, табак из которой наполовину просыпался из-за тряски, и пальцами закрутил бумажный конец, чтоб не просыпалось остальное. Закурив, он сказал:
— Вот черт, придется на земснаряд ехать!
— А сами ругаетесь, — проворчал человек с лампой.
— Мне можно, — сказал Карабаш. — Кто шофер Чарлиева? Вы? Если разминусь, передайте ему, что приезжал Карабаш, начальник Пионерного. Да, ребята, скучно вы живете, — заключил он неожиданно.
— Как так — скучно? — спросил шофер.
— Глядите: южная ночь, звезды, такая красота, а вы с «козлом» шьетесь. И еще ругаетесь. Скучно, скучно живете!
Трое выпрямились и глядели на Карабаша с изумлением.
— Пока, братцы!
Он ушел, провожаемый молчанием.
Земснаряд находился в двух километрах к востоку. Было глупо возвращаться, не доехав двух километров, и Карабаш погнал машину на восток. Валерия заснула.
Она спала все время, пока машина стояла на берегу, рядом с земснарядом, и пока Карабаш разговаривал с Чарлиевым и потом вез Чарлиева до водокачки и там с ним прощался. Она проснулась на рассвете, от холода. Сумеречно синело небо. Справа была дамба готового участка, она бежала назад: голый песчаный скат, бледно сереющий. Слева было лицо Карабаша — серое, как песок, бессонное, с запавшими глазами, родное.
10
Мне поручили записать беседу с Ермасовым, начальником стройки канала, по поводу заполнения озер. Вообще-то тема канала идет по промышленному отделу, но там сейчас все в разъезде, поэтому поручают мне. Действовать надо немедленно: Ермасов пробудет в городе один день, завтра утром он летит в Москву и оттуда куда-то за рубеж.
Давно мне хотелось познакомиться с Ермасовым. Этот человек таил в себе нечто легендарное: я столько слышал о нем, но ни разу не видел. Атанияз говорил, что «на таких, как Ермасов, стоит наше государство». Но он всегда преувеличивает, восторженный малый. Зато Лузгин предупредил меня, что Ермасов человек неприятный, иметь с ним дело тяжело, он капризен, неуважителен, груб. А Боря Литовке сказал, что Ермасов — светлая голова. Вот и разберись тут.
В гостинице «Интурист», куда я прихожу с блокнотом и ручкой в заднем кармане брюк, мне говорят, что товарищ Ермасов просил извиниться, его срочно вызвали в управление. Как? Ведь с ним только что договорились, звонили из редакции!..
Бегу в управление. Сорок минут жду в приемной. Потом секретарша сообщает мне, что Степан Иванович извиняется вторично и просит меня прийти через два часа. Я возвращаюсь в редакцию, обедаю в шашлычной и часа через два прибегаю в управление, где узнаю, что Ермасов ушел пять минут назад.
Вот тут мне делается скверно. Мгновенно вижу разнос на летучке. Лузгин будет орать: «Я вас предупреждал! Я говорил, что это за тип, — вы обязаны были сторожить у двери!» И будет прав. Я прошляпил. Опоздал на пять минут, сукин кот.
— У него столько дел перед отъездом. Попробуйте через четверть часа позвонить в гостиницу, — сочувственно говорит секретарша. — Или, может быть, в столовую. Он обедает в столовой Совета Министров. Вот телефон…
— А нет ли у вас телефона бани?
— Зачем вам?
— Он мог зайти в баню перед отъездом.
Мне хочется говорить дерзости. Теперь я вижу, что Лузгин прав: Ермасов чинуша и бюрократ. Не мог подождать меня пять минут! Я произношу речь о чванстве, об уважении к человеку. Меня прерывает телефонный звонок: это Ермасов. Секретарша радостно тянет мне трубку, я хватаю ее и обрушиваюсь на Ермасова со словами о ленинском стиле работы, о том, что времена изменились и надо уважать любого работника, каким бы неважным и невидным он ни казался. Ермасов ничего не может понять. Он говорит так тихо, что я изо всех сил прижимаю трубку к уху, а другое ухо закрываю ладонью. Наконец разбираю еле слышную просьбу поскорее перейти к делу, так как ему крайне некогда. И тогда я тоже начинаю говорить тихим голосом и прошу дать мне аудиенцию хотя бы на десять минут, потому что катастрофа, горит номер. Нет, он не может. У него нет времени. Он отсылает меня к какому-то Смирнову, который приехал с трассы и находится сейчас в гостинице «Центральная». Вот и все, чем он может помочь. Большое спасибо. Горит номер. Горю я.
Надо бежать в «Центральную», чтобы не упустить хоть Смирнова, но тут из кабинета выходит человек в костюме цвета беж, с голубым галстуком, заместитель начальника управления товарищ Нияздурдыев, секретарша нас знакомит, и я, уж не знаю зачем — просто по слабохарактерности, потому что меня приглашают, — захожу в его кабинет. Нияздурдыев — элегантный мужчина с седыми висками, с маленькими седыми усиками. На его столе стоит белый фарфоровый чайник и три пиалки. Нияздурдыев ополаскивает одну пиалку, выплескивает воду в открытое окно, в сад, наполняет пиалку зеленым чаем и подвигает ко мне. Другую пиалку наливает себе. Его смуглые пальцы с аккуратно остриженными белыми ногтями двигаются легко и плавно. Я рассказываю, как целый день гоняюсь за Ермасовым.
— А зачем за ним гоняться? — улыбаясь, говорит Нияздурдыев. — Я дам вам все, что нужно. Недавно я был на трассе, так что вооружен всеми последними данными. Записывайте, пожалуйста.
Я вытащил ручку и блокнот. Какая удача! Милейший человек этот Нияздурдыев! Был бы я дурак, если бы побежал сейчас искать Смирнова. Я записываю километры, кубометры, метры в секунду, фамилии передовиков — все, что нужно. На шестьдесят строк с лихвой. Ну, я в порядке! Теперь можно не торопиться и допить чай.
— Открою вам одну тайну. Только «антр ну», как говорят французы, — подмигивает Нияздурдыев. — Степан Иванович не рвался с вами встречаться. Когда Маргарита Филипповна вошла сюда и сказала, что там ждет корреспондент газеты, Степан Иванович махнул рукой: «А ну их, трепачей!» А? Ха-ха! — Нияздурдыев добродушно и весело хохочет, сверкая золотыми зубами. — Вы уж его простите, старика. Он сердит на вас за статью Хорева. Но все же ждал вас до половины четвертого, я свидетель.
Я говорю, что, обидевшись на одну статью, вымещать обиду на всех сотрудниках — как-то неостроумно. Товарищ Нияздурдыев со мной согласен. Но надо знать Ермасова. Степан Иванович очень сложный, очень интересный человек. Он не считается ни с чьим мнением, кроме собственного. Решительно не признает коллективного руководства. Да, его стиль работы — это в какой-то степени стиль прежних времен, самоуправство, своя рука владыка и так далее…
Я изумлен.
— Как же вы так спокойно об этом говорите? Почему не снимете его?
— Во-первых, Степан Иванович — ценный работник, у него много достоинств. Во-вторых, он пользуется могучей поддержкой.
— Но как можно теперь — именно теперь! — мириться с самоуправством?
Нияздурдыев улыбается, пожимает плечами и вытирает лицо платком.
Очень жарко. Я тоже вытираю лицо платком. Нияздурдыев наливает в мою пиалку еще чаю. Вдруг без стука открывается дверь, и в комнату входит худой, с орлиным профилем молодой человек, похожий на студента-практиканта, на шофера или на рассыльного. Он держит в руках папку и кладет ее на стол Нияздурдыева. Они начинают разговаривать по-туркменски, изредка вставляя русские слова и обороты речи. Нияздурдыев, например, долго-долго говорит по-туркменски, потом слышу по-русски: «ставил вопрос неоднократно», потом снова долго по-туркменски, и вдруг опять русское: «в соответствии с решением», и опять по-туркменски. Через минуты две-три я догадываюсь, что молодой человек с орлиным профилем — это сам Атамурадов, начальник управления. Они разговаривают по-туркменски долго. Я чувствую, что пора уходить, встаю со стула, но Атамурадов вдруг подходит ко мне и пожимает руку.
— Здравствуйте, — говорит он. — Садитесь, пожалуйста.
Я сажусь, а Нияздурдыев, взяв чайник, вновь наполняет мою пиалку чаем, потом наливает Атамурадову и себе.
— Очень хорошо, — говорит начальник управления, — что вы даете статью о заполнении озер. Надо поддержать Степана Ивановича, правильно! Я пришел в управление недавно, пять месяцев назад, и знаю, как трудно заставить людей работать по-новому…
— Очень, очень трудно, — кивает Нияздурдыев.
— Приучить к инициативе, к тому, чтобы не боялись ответственности, риска. Ведь почти все, что предлагает Степан Иванович, встречается в штыки — даже в его собственном тресте, я уж не говорю о нашем управлении, где у него хватает противников, или об институте, где его терпеть не могут. А Степан Иванович — замечательный человек. Он руководитель нового типа. И сам умеет находить новых людей, деловых, инициативных, смело их привлекает…
— Он и раньше умел находить людей, это правильно, — говорит Нияздурдыев.
— Раньше у него не было таких возможностей, Сапар-ага. Он не был хозяином в собственном доме.
— Да, но каких новых людей он привлек? Карабаша? Неизвестно, что из него получится. Гохберга? Какой новый человек — семь лет в нашей системе!
— Но кем в нашей системе? Механиком на ремзаводе? И это человек с высшим гидротехническим образованием! Ведь глупость, безобразие!
— Э-э, ничего…
— Как «ничего»? Что значит «ничего»? — сердито говорит Атамурадов. — Столько у нас еще делается глупого, бесполезного, и все «ничего»! Раньше был страх, была боязнь ответственности, боязнь потерять голову неизвестно за что, теперь ведь этого нет, значит, надо перестраиваться, — верно? — надо находить толковых людей, а они есть, надо дать им настоящую работу. Каждого на свое место — вот что нам нужно!
— Это безусловная истина, не требующая доказательств, Караш Николаевич, — кивая и улыбаясь, говорит Нияздурдыев. — В этом, конечно, вся соль…
Я выхожу на улицу, несколько сбившись с толку. Ясно одно: в Управлении водными ресурсами, так же как в редакции, как повсюду, действуют противоборствующие силы, кипят глубинные водовороты. В Атамурадове я чувствую какую-то страсть и тревогу, а его заместитель чересчур спокоен. Он как будто знает нечто важное, что дает спокойствие. Но, может быть, все наоборот: Атамурадов, может быть, по-настоящему и глубоко спокоен, а Нияздурдыева терзает безумная тревога, но он скрывает ее. Но то, что они антиподы, этого не скроешь. Как это любопытно, как наглядно! Водораздел пролег между всеми, сквозь все сердца.
Внезапно я останавливаюсь посреди улицы. Какой я идиот! Ермасов послал меня к Смирнову, я обязан был ехать к нему, а не выслушивать замначальника управления. Пускай Ермасов, чинуша и барин, не подождал меня пять минут, но я догадываюсь, чувствую сердцем — я с ним. К Смирнову, к Смирнову! Останавливаю такси и мчусь к «Центральной».
…Ключ от сорок четвертого номера у портье. Товарищ Смирнов рассчитался и уехал двадцать минут назад.
Когда мы устраивали в газету Дениса — месяца полтора назад, — у меня произошло первое столкновение с Лузгиным, заместителем главного. Бывают люди, с которыми непостижимо быстро, с первой же минуты, устанавливаются отношения взаимного холода. Сначала недосуг разобраться, в чем дело, а потом эти отношения вырастают в привычку и диктуют поступки. Причины, конечно, есть, и глубокие, но их понимаешь позже. Вот так получилось у нас с Лузгиным. Я сразу не понравился ему, а он мне. Не люблю раздражительных лысых мужчин, страдающих пулеметностью речи. В газете были неплохие ребята, с которыми я быстро сошелся: Критский, Жорка Туманян, Тамара Гжельская и другие. Дружил я с Борисом Литовко и с Сашкой, конечно. Я вообще легко схожусь с людьми. У меня и с редактором наладились не то что дружественные, но вполне корректные отношения, а вот с Лузгиным ни черта не клеилось. Мы как бы чуяли враждебный запах друг друга. Он был дельный администратор, но совершенно ничтожен как газетчик. Когда Лузгин изредка брался писать передовые, Витька Критский всегда его редактировал.
Оказывается, у Лузгина была своя кандидатура на должность фотокорреспондента, но Диомидов тянул дело с оформлением — он не очень-то хотел брать этого человека — и тут подвернулся Борис Литовко с предложением насчет Дениса, и Диомидов согласился неожиданно быстро. Саша, который боялся замолвить за Дениса слово, не скрывал изумления:
— Никогда б не поверил, что шеф возьмет его! С его-то осторожностью…
Лузгин узнал про Дениса все и тихо вредил. Он нашептывал Диомидову и секретарю партбюро про денисовский плен, про то, что Денис пьет, морально неустойчив, темная лошадка как фотограф.
Однажды я спросил у Лузгина:
— Артем Иванович, зачем вы вредите Кузнецову? Его и так дубасила жизнь, он все потерял — дом, семью…
— Что такое? — Лузгин заморгал своими маленькими черными глазками в толстых веках, красных от конъюнктивита. — Зато не потерял самую жизнь! Как другие, как другие, понимаете?
— Что ж, он виноват в том, что остался жив?
— Вы были на войне?
— А что?
— Тогда молчите! Ваше милосердие ни хрена не стоит. Таких, как этот Кузнецов, мы расстреливали без суда, — ясно вам, ясно?
— Я был на войне.
— Это не меняет дела. — Он посмотрел, прищурясь. — В общем, мой вам совет: не будьте таким активным в этих делах, не нужно, тем более вы…
Я не стал спрашивать, что значит «тем более вы», но примерно догадался.
Лузгинские разговоры подействовали: Диомидов заколебался и начал, по обыкновению, «тянуть резину». Денису говорили, что не могут его взять, потому что он не прописан, а для прописки нужна была справка с места работы, но наконец его прописали с помощью Витьки Критского, у которого был знакомый в гормилиции. Диомидов вел себя странно: ничего не обещал, но и не отказывал окончательно. Вообще Диомидов — туманный тип. Иногда он представляется мне совершенно закаменевшим чиновником, а иногда в нем проблескивает что-то живое, какие-то искры юмора, и тогда я думаю, что он совсем не тот человек, за кого себя выдает.
Для Дениса и для всех нас, кто хотел ему помочь, наступили дни безнадежности. Казалось, у него не было другого выхода, кроме одного: завербоваться в экспедицию простым рабочим или коллектором и уехать на полгода в пески. Эту возможность мы могли ему предоставить через наших приятелей-геологов. Но Денис не хотел уезжать в пески. Ему нужны были постоянная работа и постоянный дом. Он набродяжничался вволю, до конца жизни. А потом вдруг, неизвестно почему, дела у Дениса поправились: его вызвал Диомидов и предложил место на полставки. На другую половину ставки приняли того парня, за которого хлопотал Лузгин. Лузгин перестал со мной здороваться.
Денис работал неплохо, у него был великолепный «ролльфлекс» с набором объективов — единственная ценная вещь, которую он привез с Запада, — и некоторый опыт газетного репортажа. За годы скитаний он перепробовал много профессий, одно время был репортером в какой-то спортивной французской газете; особенно здорово он снимал велосипед и футбол. В нашей газете, конечно, эти таланты не находили настоящего применения, но и в других жанрах Денис работал вполне профессионально, намного сильнее своего соперника Мирзоева и всех внештатных добровольцев, мальчиков, студентов, учителей физкультуры и почтовых служащих, мечтавших переменить профессию, которые приносили в редакцию большие желтые пакеты, набитые посредственными фотографиями на самой лучшей бумаге, и готовы были приплатить, лишь бы увидеть свое клише в полосе. Денис обладал одним талантом, который отсутствовал у большинства добровольцев, — талантом вкуса. Поэтому его работы значительно более приближались к настоящему искусству, чем работы всех его конкурентов и даже чем многие тассовские снимки, поступавшие из столицы.
Но у Дениса был недостаток, хорошо мне известный: он был разболтан, как старый штатив с ненадежными винтами.
Каждый день я боялся, что он сцепится с Лузгиным или с кем-нибудь еще, кто мог позволить себе намек или насмешку по его адресу: ведь в редакции непрерывно острят и подтрунивают друг над другом. Каждый день я боялся, что он придет на работу пьяный, и он действительно приходил раза три навеселе, но это было почти незаметно. Пока все шло благополучно. В редакции к Денису относились настороженно, с несколько боязливым интересом: все знали его прошлое и его настоящее, и это было занимательно, но все почему-то считали долгом сдерживать свое любопытство. Саша относился к Денису сдержанней всех.
В редакции у Дениса было пока что два товарища — я и Борис Литовко, причем эта последняя дружба, старая и прочная, была для Дениса еще и очень полезной, потому что Борис, как секретарь редакции, мог давать ему интересные задания и чаще ставить в полосу. В общем, жизнь Дениса Кузнецова как будто начинала налаживаться. И однако… Что это была за жизнь? Ему было худо. Я видел. Он приехал в этот город не для того, чтобы поступить фотокором в газету, а для того, чтобы найти здесь потерянное: дом, сына, женщину, которую он когда-то любил. И не нашел ничего.
Все было на месте, и даже дом, как ни удивительно, уцелел — один из немногих домов в городе, но теперь все это было чужое. Во всем этом умерло то, что было когда-то частью его, Дениса Кузнецова, и место того, что умерло, заполнило чужое, беспощадное. И нельзя было ничего требовать, — что потребуешь у времени?
Сын по-прежнему думал, что его отца зовут Михаил Иванович. А у женщины была одна забота: как бы от вторжения «тогда» не нарушилось ее «теперь».
— Ну и что же? Вы нашли его?
Я рассказываю. Нет, не нашел. Он уехал в Мары. Да, я опоздал буквально на пятнадцать — двадцать минут. Да, я прошляпил это дело. Безусловно. Бывают такие дни, как будто заколдованные: не везет с утра. Нет, я ни на кого не сваливаю. Совершенно верно, тут дело не в везении, а в организации. Ну да. И в чувстве ответственности, конечно. Нет, я просто говорю: бывают такие дни…
Лузгин трет пальцами веки. Трет так сильно, что в глазницах что-то трещит.
— Что же делать? Придется вам разговаривать с Игорем Николаевичем. Эти сведения из управления мы могли взять в любой день…
Мы идем к редактору. Я рассказываю все сначала, добавляю только, со слов Нияздурдыева, что Ермасов сердит на газету и вовсе не горел желанием давать нам интервью.
— Вот что, — говорит редактор, — вы провалили это дело и не оправдывайтесь. Думайте, как выручать газету. Знаете что? Дадим вам командировку на трое суток в Мары. День туда, день оттуда и день там. Находите Смирнова, кого хотите, но чтоб во вторник была статья о канале: как готовятся к заполнению озер. Если проворонили здесь, езжайте на место, завтра же.
— А что ж? — говорю я. — И поеду.
— Вот и поезжайте.
Лузгин разочарован: он надеялся, что я пострадаю как-то более крупно. А я вовсе не пострадал. Наоборот, я доволен: наконец-то поеду на трассу. Мне тут же выписывают командировку, я получаю деньги на билет, суточные и ухожу домой. Поезд завтра утром.
Вечером, около шести, должна позвонить Катя, поэтому я не иду ужинать, а лежу на кровати в своем номере и читаю журнал «Техника — молодежи». Интереснейшая статья о кибернетике, но я никак не могу вникнуть, потому что Катя не звонит. До половины седьмого Катя все еще не звонит. Без четверти восемь звонит режиссер Хмыров и спрашивает, пойду ли я сейчас ужинать в ресторан. Я говорю, что пойду позже.
В открытое окно влетают обрывки музыки духового оркестра, который играет в парке. Каждый вечер играет одно и то же: «Караван», «Арабское танго» и еще две или три вещи. Иногда проезжает автобус и заглушает музыку. Иногда музыка затихает сама — оркестранты отдыхают, а танцоры в это время стоят друг против друга на цементном полу, томясь в ожидании. В тот вечер, когда мы с Катей в первый раз пришли в парк, было очень душно. Мы не достали билетов на концерт и весь вечер танцевали. Было тесно, жарко, мы обливались потом и все-таки танцевали почти без отдыха. Иногда, когда я вспоминал про футболиста с перебитой ногой, мне становилось неловко и даже немного стыдно, но потом я забывал о нем, потому что видел, что Катя тоже забывает. В сущности, я не делал ничего дурного, только развлекал ее в этот тяжелый вечер, и она была мне благодарна. Когда оркестранты ушли и публика стала расходиться, мы пошли в глубь сада, за баскетбольные площадки и за ресторан, в самый дальний конец, и отыскали одну скамейку в темной чаще, вдали от фонарей. Кате некуда было спешить и мне тоже. И мы сидели там до поздней ночи, она рассказывала о своей жизни, довольно грустной и чем-то напоминавшей мою: тоже безотцовщина. Катя приехала сюда год назад вместе с матерью. Отец их давно оставил, он живет в Ленинграде, а они жили в Минске. Катина мать тяжело больна: какое-то сложное заболевание почек, лечить которое можно только здесь, в жарком климате. Вот уже несколько месяцев Катина мать находилась в санатории Байрам-Али, а Катя жила в Ашхабаде, снимала вдвоем с подругой комнату недалеко от Русского базара. Она осталась в Ашхабаде для того, чтобы поступить в университет, но провалилась на экзаменах. Одно время Катя работала воспитательницей в детском саду, была почтальоном, училась стенографии, а сейчас хочет поступить в Русский драматический театр: там открылась подготовительная студия, и есть возможность туда устроиться. Все это звучало как-то жалко и наивно. Непонятно было только, на какие средства она живет. Наверное, присылает что-нибудь отец. И так мы сидели, разговаривали, время было за полночь, уходить из парка не хотелось, и кончилось тем, что я ее поцеловал. Потом провожал ее домой, было нежное прощанье, мы никак не могли расстаться и еще долго целовались на улице перед ее домом.
Мы стали встречаться. Но мой первый успех, который обещал так много, оставался по-прежнему высшим пиком. Когда при следующей встрече я захотел обнять ее, она выскользнула и, погрозив пальцем, сказала: «Петя, не играйте с огнем!» Эту фразу, которую могла бы сказать записная кокетка, Катя, наверное, где-нибудь слышала или читала. Она повторяла ее потом часто, причем без юмора.
Порой она мне кажется наивной девочкой, которая мечется в этой трудной жизни, совершая нелепые поступки, и сама не знает, чего хочет, и тогда мне делается ее жалко, очень жалко. Она так же одинока, как и я, в этом городе. Но иногда я замечаю, что она хитра и расчетлива не по возрасту, и тогда я задумываюсь. Мне нравятся ее тоненькая, полудетская фигура, темно-рыжие волосы, и ее невзрачные кофточки и старенькие босоножки, и то, что, когда мы обедаем в столовой, она всегда ест с жадностью и пьянеет от лимонада.
В дверь сильно стучат. Я встаю с кровати и в носках подбегаю к двери, заранее зная, что это не Катя: она не будет стучать так сильно. На пороге стоит Денис.
— Здравствуй, — говорит он. — Ты ждал кого-то другого.
— Неважно. Проходи, садись.
Я сажусь на постель, а Денис садится на стул к моему столу. Он советуется о том, что делать с Лузгиным: набить ему морду в темном переулке или навредить как-нибудь похитрее?
— Что случилось?
— Его сын учится с моим Вовкой в одном классе, они товарищи и бывают друг у друга. Вот как получается в жизни. И вот позавчера, когда Вовка был у них в доме, этот милый папаша рассказал ему про меня. Понял?
— Вот сукин кот.
— Сегодня прибежала Зинаида, говорит: мальчишка сам не свой, плачет, хочет бежать из дома. От отчима они скрыли. Она уговорила Вову не показывать виду. Вот ведь страх перед мужем! Вышла замуж за туркмена и сама, понимаешь, превратилась в восточную женщину: муж — владыка!
Денис все время вертит в пальцах зажигалку. Зажигалка у него замечательная, с маленькой рулеткой.
— Конечно, рано или поздно надо сказать сыну, но это наше дело, ее и мое, а не чужой сволочи. Но это уладится. Жили без меня шестнадцать лет, будут жить дальше. А вот что делать с Лузгиным?
— Что делать?
— Надо что-то делать. Он гадит все время. Терять мне нечего, один удар в печень, и он — аут.
— И ты получаешь срок.
— Нет, серьезно, не могу его видеть, а то и правда ударю. Хочу уехать. Например, с тобой на трассу — возьмешь?
— Да я не на трассу. Я на один день в Мары.
— Пожалуйста, можно на один день. Мне интересно посмотреть. Я ведь помню разговоры насчет канала еще с довоенных времен. Поговоришь завтра с редактором? Борька меня поддержит.
— Надо, чтоб поддержал Лузгин.
— Фотограф тебе нужен?
— В том-то и беда, что не особенно. Но я поговорю. Попробуем.
Девятый час. Катя уже не позвонит. Ну что ж, сегодня у меня день неудач.
— Ладно, пошли ужинать, — говорю я.
Мы идем по длинному коридору, неярко освещенному электрическими лампочками без плафонов. Я отдаю ключ дежурной, мы направляемся через полукруглый зал вестибюля к дверям ресторана, и в это время в вестибюль входит Хмыров и с ним какой-то белобрысый, толстенький, в очках с прозрачной оправой.
— Салют! Салют! — увидев меня издали, говорит Хмыров и по-ротфронтовски поднимает кулак. — А я вам звонил со студии. Поздравьте нас: наше сочинение наконец принято. Прошу познакомиться: мой соавтор…
Авенир Павлович возбужденно рассказывает о том, как проходило заседание худсовета, а мы тем временем входим в полупустой зал ресторана и, миновав его, направляемся на террасу, где днем невозможно сидеть из-за жары, а сейчас прохладно, и слышен шум фонтана во дворике, и через деревянную загородку идет живой лиственный запах сада. Усаживаемся вокруг круглого стола. На нем стоит блюдце, где плавает ядовитая бумага от мух. Такие же блюдца, наполовину высохшие, а то и вовсе сухие, стоят по всему барьеру террасы и на других столах. Но мух очень много. Особенно густо они ползают почему-то по полу.
Авенир Павлович продолжает рассказывать. Денис недоволен появлением незнакомых людей. Он не смотрит на них, демонстративно зевает во время рассказа Авенира Павловича, и вид у него пренебрежительнокислый, как будто он главный человек за столом, к которому подсели незваные гости. Вдруг он говорит:
— Значит, с вас магарыч. Ставьте бутылку коньяка.
Авенир Павлович, не обратив внимания, а может быть не расслышав, продолжает:
— Они, конечно, не ожидали, что дело примет такой оборот. Но когда стало ясно, что мы проходим на «ура»…
— Нет, сначала выступил тот, из министерства! — радостно говорит соавтор.
Подходит официант. Взмахнув полотенцем, сгоняет мух со скатерти. Вынимает огрызок карандаша и блокнот. Авенир Павлович и его соавтор заказывают суп, бифштекс рубленый, творожники, масло и две бутылки пива. Денис просит меня взять ему сто пятьдесят и какой-нибудь ерунды пожевать.
— Дорогой Петя! Петр! — говорит Авенир Павлович, трогая меня за рукав. — Позвольте так вас называть? Я ведь старше вас, Петр. Так вот, сценарий принят, и у вас есть шанс напечатать хороший отрывок. В вашей газете теперь есть «литературная страница», не так ли?
— Что ж, несите, несите.
— «Что ж, несите» меня не устраивает. Я хочу услышать: «Несите немедленно! Сейчас же! Нам страшно нужно!» — смеясь, говорит Хмыров. — Сценарий, кстати, у меня с собой. — Он достает толстую кожаную папку, которая лежала у него за спиной на стуле, отстегивает застежки и вынимает оттуда другую папку, картонную и потоньше. — Вот, прошу. Читается одним духом, не оторветесь. Говорю совершенно объективно. Это же детектив. Я, собственно, вам и звонил по этому поводу.
— А вы деловой человек, — говорит Денис, который уже проглотил рюмку, и лицо его багровеет и становится шкиперским. — На Западе вы бы делали большие деньги.
— Простите, не понял.
— На Западе, говорю я, вы бы делали большие деньги. У вас есть хватка.
— Вы что — специалист по Западу? — с насмешливостью спрашивает Хмыров, впервые внимательно оглядывая Дениса, его мятую рубашку, его большие красные руки с не очень чистыми ногтями.
— Нет, я не гожусь, — говорит Денис. — Никуда не гожусь.
— Тогда вы нам неинтересны! — вдруг выпаливает соавтор Хмырова.
— Нет, ребята, это вы мне неинтересны. Потому что вы мне здорово надоели. Я все про вас знаю, — говорит Денис и с важностью грозит соавторам пальцем. — Я сейчас вернусь!
Он уходит.
— Что это за чучело? — спрашивает Хмыров.
— Фотограф из нашей газеты. Неплохой малый. В жизни ему досталось.
— Еще немного, и ему досталось бы дополнительно, — ворчит хмыровский соавтор и высовывает из белой манжеты маленький кулачок, покручивая им.
Хмыров спрашивает:
— Петр, когда вы прочитаете сценарий?
— Дней через пять.
— Вам очень не хочется, понимаю. Голубчик, а почему так долго? Почему не сегодня? Взял бы, лег на кровать и прочитал с ходу…
— Я еду завтра в Мары.
— Так то завтра. А я говорю про сегодня. — Хмыров смеется. — Шучу, шучу! Как говорят на Востоке: «Голодному и шкура леопарда кажется из лепешек».
— Не понял, к чему это? — спрашивает соавтор.
— Вы не поняли? Есть такая поговорка: «Что понимает верблюд в аромате цветов?..»
Они веселятся. У них чудесное настроение, они с жадностью едят рубленый бифштекс, подмазывая его горчицей и запивая пивом. Ну еще бы, они счастливцы, жизнь им улыбается. У них такие узкие плечи и такие большие зады.
Взяв папку, я говорю, что отнесу ее в номер, чтобы не забыть в ресторане, и ухожу. Не зажигая света, сижу в своем номере и жду. Мне кажется, что сейчас должен быть звонок. Но звонка нет.
Потом я выхожу на улицу. Автобусом доезжаю до улицы, где живет Катя. Она снимает комнату в одноэтажном доме, ее окно — крайнее левое, завешенное шторой. Несколько раз негромко стучу в раму. Никакого отзвука. Стучу сильнее. По-прежнему тишина. Но в комнате кто-то есть, сквозь штору просачивается свет.
Предчувствие обмана охватывает меня. Вдруг штора отдергивается, за стеклом возникает лицо незнакомой женщины, потом я вижу лицо Кати, и штора падает. Через минуту Катя выходит во двор. Оказывается, неожиданно приехала из Челекена ее подруга Рая, совсем больная с дороги. И поэтому Катя не смогла позвонить.
— Ну что ж ты стоишь? Проходи в дом! — говорит Катя громко.
Я поднимаюсь по ступенькам крыльца и вхожу в комнату. Полутемно, на стеклянный абажур настольной лампы наброшен кусок красной материи. Стол придвинут к кровати, а на кровати сидит, полуприкрывшись халатом, белокурая скуластая девушка с узкими монгольскими глазами и смотрит на меня удивленно. Напротив нее за столом сидит футболист Альберт. Он потолстел, поздоровел, хотя пострижен по-больничному и несколько бледен.
Я знакомлюсь с Катиной подругой, пожимаю руку Альберту.
Катя наливает мне стакан чаю. Все немного смущены.
— Ну, я пошел, — говорит Альберт и встает. — Значит, ты позвонишь завтра?
— В котором часу? — спрашивает Катя.
— Я увижу его днем, позвони в четыре, в пять.
— Хорошо, Алик. Я тебя провожу.
— Приветик! — говорит футболист и выходит.
Катя идет вслед за ним. А я остаюсь и чувствую себя неловко. Катина подруга вовсе не выглядит больной, она заводит со мной бойкий разговор о литературе. Не могу ли я достать Дудинцева? А «Литературную Москву» номер первый? А выставку Пикассо я успел посмотреть?
Минут через двадцать прибегает Катя, запыхавшаяся, с виноватым лицом. Начинает преувеличенно за мной ухаживать: «Петя, что ж ты сидишь, как в гостях? Бери сыр, варенье! Рая, почему ты его не угощаешь?» Но Раю интересует Пикассо, «Оттепель», панорамный кинотеатр. И я начинаю говорить глупости, потому что злюсь все больше.
Панорамный кинотеатр? Да, это здорово. Я, правда, не был, но здорово. А в Лужниках мне очень нравятся буфеты. Замечательные буфеты. Не то что на «Динамо». Сам по себе стадион «Динамо» гораздо приятней Лужников, ближе поле, лучше видно, но буфеты — никакого сравнения! И уборные там отличные, намного лучше динамовских.
Рая смотрит на меня изумленно.
— Вы, наверное, считаете себя очень умным?
— Да, признаться. Я неглуп.
— Петя, что с тобой?
— У меня сегодня день неудач, а завтра я уезжаю. Надо пораньше лечь спать, но пока вас не было, — тут я обращаюсь к Рае, — я привык уходить из этой комнаты поздно. В час, в двенадцать…
— Зачем ты говоришь неправду?
— Ну, однажды около двух…
Катя вдруг встает и выбегает из комнаты. На дворе, где тихо по-ночному, фигура Кати быстро движется на экране побеленного известью глинобитного забора.
Я бегу за ней, догоняю ее, она прижимается к забору.
Поднялась луна: я чувствую ее фосфорический свет на своем лице. Осторожно беру Катю за плечи, придвигаю к себе. Я хочу видеть ее глаза. Она отворачивает лицо, и луна освещает белую открытую шею. И, как всегда, мне хочется поцеловать эту белую шею.
— Ты не пришла сегодня из-за футболиста, — говорю я. — Ведь правда?
Она кивает.
— Если началось вранье, значит, конец. Мне от тебя ничего не нужно, но только чтоб без вранья. Ладно? Роман без вранья.
— Петя, ты ничего не знаешь…
— Да что тут знать? Все ясно. Я исполнял роль дублера, но вот вернулся главный исполнитель…
Удар по щеке. Я бросаюсь за Катей вдогонку и успеваю поймать ее возле крыльца. Мы боремся в темноте. Я хочу отвести ее от дома, а она рвется к двери: она очень крепкая, несмотря на то что тоненькая и небольшого роста.
— Пусти меня.
— Разве это неправда?
— Это подло! Гадко! Пусти, слышишь? — Ей удается освободить правую руку, и она изо всей силы упирается мне в грудь, стараясь оттолкнуть меня и вырваться. Но разве ей сдвинуть такого слона, как я? Ослабев, Катя опускается на ступеньку крыльца, и тогда я беру ее за локти, поднимаю и, держа почти на весу, отвожу от дома: каждую минуту на крыльцо может кто-нибудь выйти.
Мы садимся в углу двора на какие-то доски. С шипением выскакивают из-под них три кошки, одна за другой. Я молчу, а она плачет, вытирает пальцами щеки, и так мы сидим долго. Потом я спрашиваю:
— Ну, чего ты плачешь?
— Я не могу съездить к маме, потому что у меня нет денег на билет до Байрам-Али, — шепчет она. — А мама… Не знаю, проживет ли она зиму…
— Почему ты не сказала? Я бы нашел деньги.
— У тебя я не возьму.
— Почему, интересно?
— Не возьму — и все. Скоро меня зачислят на студию, и я получу стипендию…
— Да что стипендия! Тридцатого числа я дам тебе триста рублей, и на праздник поезжай к маме.
— У тебя я не возьму ни за что.
— А у Альберта взяла бы?
— Не знаю… Да у него никогда нет.
Луна поднялась высоко.
— Я — как вот эта луна в пустом небе, — говорит Катя. — И когда я встретила тебя, я подумала: кончилось, кончилось…
— Что?
— Одиночество. Вдруг поверила, что ты настоящий. И мне было так хорошо несколько дней, когда ты был спокойный, веселый и без всякой подозрительности. С Аликом у меня ничего нет и не было, просто он хороший товарищ.
«Но ведь ты целовалась с ним во дворе Сашиного дома, — думаю я. — Я видел. Я слышал, как скрипел песок под подошвами твоих босоножек, когда ты вставала на цыпочки, чтобы обнять его. И этот длинный звук поцелуя. Но, может быть, все это считается „ничего“. Со мной тоже было „ничего“. Я обнимаю Катю, слегка придвигаю к себе, ладонью чувствую ее худую лопатку, а под пальцами бьется ее сердце.
Мы сидим молча и раскачиваемся, доска под нами поскрипывает. Вокруг бегают кошки, кричат из мрака детскими голосами. Наверное, около часу ночи. Она не уходит. Значит, ей нравится сидеть со мной на этих скрипучих досках, среди кошек и лунного света. А куда она может уйти? Некуда ей идти. Мне становится очень стыдно, у меня даже слезы выступают от стыда и от жалости к ней.
— Прости, я был не прав…
Ее руки слабо сопротивляются. Ее белая кожа при лунном свете кажется неестественно белой. Она отводит губы и шепчет, чтобы я не играл с огнем.
Хлопнула дверь. Кто-то сходит по ступенькам крыльца и медленно идет через двор. Мы замираем. Это Рая, в длинном, до пят, пятнистом халате, ярко освещенном луной. Она идет в глубь двора. Мы сидим очень тихо до тех пор, пока она не возвращается и не закрывает за собой дверь, и тогда мы встаем и выходим на улицу. В конце улицы, где поворот к Русскому базару, есть скамейка под карагачем: там автобусная остановка. Автобус давно не ходит, прохожих нет. Луна не достигает скамейки, ее свет гаснет в листве.
11
Мангышлакский туркмен по имени Ходжа Непес в 1714 году прибыл к царю Петру и сообщил, будто в реке Амударье есть золотой песок и что хивинские ханы, желая скрыть золото от русских, посредством плотины отвели реку в Аральское море, но течение по старому руслу легко восстановить, и тогда можно в изобилии добывать в реке золото. После азовской неудачи царь нуждался в деньгах. Но еще заманчивей золота показалась царю возможность отыскать водный путь в Индию.
В 1716 году Петр отправил к берегам Каспия экспедицию Бековича-Черкасского. Через шесть месяцев Бекович вернулся, потеряв половину людей. На другой год вышла вторая экспедиция Бековича, состоявшая из семи тысяч регулярного войска, яицких и гребенских казаков и ста человек драгун «с добрым командиром». Почти все они погибли в каракумских песках от болезней и жажды или же были перебиты хивинцами. Погиб, обманутый ханом, и сам несчастный Бекович, бывший кабардинский бек Девлет-Кизден-Мурза, перешедший на службу к царю и ставший русским князем, капитаном гвардии Преображенского полка. Говорят, его кожи хватило на один небольшой барабан… Вот этот унылый жаркий простор, белесый от соли, с белесым небом без единого облачка, который торчит в окне неизбывный, как судьба, видели, умирая, бородачи Бековича. Тот же унылый простор открылся когда-то Александру Македонскому, когда он перевалил через горы. И царю стало скучно, и он повернул и ушел в Индию.
Моим соседом по купе оказался милейший человек, некто профессор Кинзерский. Он возвращался в свою экспедицию, которая работала в районе трассы, занимаясь проблемой борьбы с подвижными песками. Мы разговаривали о Бековиче, о Флорио Беневени, о капитане Муравьеве и бароне Каульбарсе, о Гедройце, Коншине и академике Бартольде — я как раз недавно прочитал несколько книг по истории Туркмении — и о том, что великие идеи от частого употребления на протяжении веков перестают казаться великими.
— Превратить пустыню в сад — это звучит достаточно банально, — говорил профессор, — но надо сделать усилие и понять смысл заново. Увидеть века, тысячелетия, сквозь которые пробивалась идея: я имею в виду поворот Амударьи в Каспий. Возьмите Панамский канал: его идея вынашивалась четыреста лет. А Суэц? Вы знаете, когда был построен Суэцкий канал? Ошибаетесь, не в прошлом веке, а три тысячелетия назад, при Рамзесе Втором. Потом он на столетия был заброшен, засыпался песком, его рыли заново при Дарии, при Траяне, и снова он приходил в негодность. Но идея продолжала жить, к ней возвращались арабы, венецианцы, Наполеон. Это один из неувядаемых соблазнов человечества, не менее древний, чем соблазн повернуть Аму в Каспий. Ходжа Непес высказал царю не свою собственную гениальную догадку, а мечту народа, мечту, уходившую черт знает в какие дебри, в Хорезм, в Парфию. А сколько копий было сломано вокруг загадки Узбоя! Сколько людей потратили жизни на то, чтобы открыть истину: что такое Узбой? Старое ли это русло, пролив или «вади»? И можно ли пропустить по нему амударьинскую воду?
— Я читал об этих спорах, — сказал я. — Мне кажется, прав академик Обручев: Узбой — типичная речная долина.
Дело в том, что три дня назад я закончил чтение популярной книжки, изданной Детгизом: «Загадка бешеной реки». Ободренный моими знаниями, Кинзерский продолжал:
— Да, написаны горы книг. И за ними стоят горы страданий, подвигов, героизма, разбитых жизней. Мой университетский друг погиб в песках в семидесяти километрах от Иолотани. Это была экспедиция про проекту Ризенкампфа, двадцать восьмой год. Все дневники экспедиции и приборы они зарыли в песках, поставили флаг, а сами отгребли верхний слой песка, докопались до более прохладного слоя и легли в эту яму. У них все кончилось: вода, силы, патроны. Я еще застал знаменитого Цинзерлинга, который провел двадцать пять лет в пустынях Мексики и Калифорнии. Он был автором проекта пропуска воды по Узбою через Сары-Камышскую впадину, с плотиной на Тахиа-Таше. Еще в восьмидесятых годах эту мысль развивал Глуховский, а за сто лет до него инженер-капитан Ладыженский, плававший по Каспию, а до Ладыженского — и так далее, вплоть до парфян. И вот сейчас идея переброски амударьинских вод в Каспий — пускай не в северном, а в южном варианте, через Келифский Узбой, — осуществляется. Делается великое дело. «То, о чем веками мечтал туркменский народ», как вы любите выражаться в газетах. И вот вы приезжаете в Мары, в трест, потом на трассу и встречаете людей, которые делают это дело… Вы первый раз на трассе?
— Первый, — сказал я.
— И что вы слышите? Разговоры о рыбных консервах, о том, что в магазин привезли тюль, что начальник участка такой-то купил четыре холодильника и отправил своим родственникам в Ташкент, слышите какие-то тупые споры о бульдозерах, запчастях. О боже, нет ничего ужаснее исполнителей!
— Но это лучше, профессор, чем без конца трещать о великой стройке, как было еще недавно. Мне как раз нравится то, что Каракумский канал, в отличие от Главного туркменского, строится без барабанного треска. Пусть говорят о тюле, но делают дело.
— Не надо разговаривать, надо иметь вот здесь, — он прижал огромную, с растопыренными пальцами ладонь к груди. — Я старый человек и помню людей, которые воевали с пустыней в тридцатые годы. Это были одержимые. Фанатизм науки и фанатизм революции — представляете эту смесь! К тому же они были нищи и бескорыстны, как дервиши. А нынешних молодых людей я наблюдаю довольно близко, ибо наша экспедиция имеет своим местоположением как раз поселок строителей. Эти построят канал, возьмут расчет и мгновенно забудут, что такое Туркмения. Другой коленкор. Простите, что я так говорю. Хотите чашку кофе?
Он вытащил из рюкзака термос, отвинтил крышку, запахло настоящим кофе.
Вечером мы приехали в Мары. Нас никто не встречал. Над сумеречным, раскаленным за день перроном еще плавал зной.
Мы провели ночь в гостинице, а утром профессор уехал. За ним прибыл легковой газик. Профессор прощался со мной, уже переодевшись для пустыни: он был в клетчатой рубашке, в коротких штанах — до колен, в защитного цвета панаме с дырочками, какие тут носят пограничники. Он был похож на воскресного туриста, пожилого, но полного сил.
— Ну, мы с вами еще встретимся, — сказал он. — Здесь пустыня, и все друг с другом встречаются…
Весь день я провел в душном помещении треста, бегая с этажа на этаж. Меня это злило, хотелось увидеть трассу, настоящее дело, бульдозеры в забое, а тут приходилось разговаривать со штабистами. Смирнов не успел уехать на трассу, я застал его в одной из комнат, где он любезничал с девушками, и мы тут же сели за свободный стол, и он дал мне все факты и цифры, касавшиеся заполнения озер. Смирнов мне понравился: живой парень, без фанфаронства и важности, хотя занимает довольно большой пост — начальник производственно-технического отдела Пионерной конторы.
Он посоветовал давать материал об озерах без особенной помпы. Потому что это острый инженерный эксперимент, результаты которого будут ясны не сразу. Экономия экономией, но время покажет.
Разговаривая со Смирновым об озерах, я краем уха слышал разговор девушек о жатом венгерском ситце, который появился в магазине. Потом еще несколько раз в течение дня мне вспоминался профессор. Редактор многотиражки «Каналстроевец» Искандеров, молодой человек, недавно окончивший Бакинский университет, сердито перечислял недостатки и безобразия: не хватает запчастей, в особенности фракционов, третий месяц ремонтируют ледоделку, спортивной работы никакой, жена Хорева ведет себя в керкинском орсе как хозяйка, недавно получили швейные машины — рабочим не досталось ни одной…
У меня был один свободный день. Я решил вырваться на трассу и посмотреть все, что можно увидеть за один день, с таким расчетом, чтобы поспеть вечером к поезду. Мы поехали с Искандеровым. Он достал машину в политотделе. Добраться до воды нам, конечно, не удалось. Мы проехали Захмет, Десятый участок, строящийся Пятый водосброс, то есть большую часть «Марыйского плеча», где стройка шла по-сухому. К концу дня, разбитый жарой, гонкой, разговорами со множеством людей, уставший бесконечно — мы отмахали по пескам, наверное, километров двести, — с головной болью, я вернулся в Мары и еле успел вскочить в вагон.
Искандеров был со мной до отхода. Он оказался великолепным парнем. По его словам, его ненавидит все начальство, начиная с Ермасова и кончая снабженцами, за то, что он беспощадно, невзирая на лица, критикует недостатки и выкорчевывает безобразия.
Когда поезд тронулся, я вышел в коридор покурить. Окна были открыты, ночь летела навстречу, неся в духоте знакомую тлеющую горечь пустыни. Я привык к пустыне, она перестала удивлять меня. Я думал о людях, которые вихреобразно, в течение одного громадного дня, мелькнули передо мной, и о том, что говорил Кинзерский. Прав ли он? Мне трудно было судить, я видел слишком немного. Но мне казалось, что он не прав. Просто те, кто уходят, всегда сокрушенно глядят на идущих на смену: это закон. Кого я видел? Простых парней, недавних крестьян, солдат. Туркмен, русских, азербайджанцев, казахов. На Пятом водосбросе было много казахов. Видел ребят из Москвы, инженеров, они спрашивали, успел ли я побывать на открытии Дворца спорта и видел ли Венский балет на льду. Да, их очень интересовал Венский балет на льду. Это показалось бы странным людям тридцатых годов — странным и подозрительным.
О, тридцатые годы! Я любил тридцатые годы, особенно их начало, с молодым голубоглазым Кинзерским, тогда еще студентом-практикантом, с автомобильным пробегом, с «Пустыней» Павленко, со стихами Тихонова:
И — по коням… И странным аллюром, Той юргой, что мила скакунам, Вкось по дюнам, по глинам, по бурым Саксаулам, солончакам… Чтобы пафосом вечной заботы, Через грязь, лихорадку, цингу, Раскачать этих юрт переплеты, Этих нищих, что мрут на бегу.Изумительные тридцатые годы! Незабвенные тридцатые годы. Давно нет нищих, которые мрут на бегу, нет лихорадки. Но пустыня осталась. Потому что были вещи еще страшнее пустыни, и с ними столкнулись люди: например, война. Поэтому пустыня осталась, а люди стали другими. Они стали лучше, потому что они стали опытней. Опыт у людей теперь громадный, это точно.
Очерк был написан за один вечер и ночь. Треть его занимал разговор с Кинзерским, эта часть мне казалась наиболее интересной, но она выпала сразу. Лузгин сказал, что все это давно описано: Ходжа Непес, Бекович, Цинзерлинг… «Вообще, не залезайте в историю, — сказал он. — Вы не профессор истории, а мы не популярный журнал».
Мои отношения с Лузгиным еще более обострились после того, как он не отпустил со мной Дениса. Остальную часть очерка, страниц шесть, занимал рассказ о моей вылазке на трассу. Все это называлось «Один день».
«Первая встреча с каналом разочаровывает.
— Перед вами прорытое русло.
— Прорытое русло?
Я вижу длинную впадину с пологими склонами, напоминающую естественную пазуху между барханами. Она заросла травой, кустарником. В моем представлении прорытое русло должно выглядеть куда более торжественно.
— Конечно, это еще не готовое русло, — объясняет прораб. — Оно будет углубляться. Будут строиться дамбы. Но это русло уже может принять воду.
Стройка удивительно многообразна. У нее нет определенного пейзажа. Есть участки, где на нескольких километрах не встретишь ни одного человека, ни одного механизма. И есть места, где тесно от людей и машин. Есть одинокие будки экскаваторщиков, разбросанные по трассе, где люди живут на отшибе, не выезжая по неделям и даже по месяцам. И есть бойкие, шумные поселки, настоящие «города» в песках, где имеются клубы, столовые, магазины, библиотеки, бани.
Один из таких «городов», выросших за последнее время, — так называемый Десятый участок. Еще недавно здесь была голая песчаная степь. Сейчас выстроились в линеечку жилые дома. Шумят на ветру деревца, еще слабенькие и тощие, страдающие от безводья. Робко зеленеет виноградник. В прошлом году он чуть не погиб от засухи. Вода здесь арычная, ее мало. Молодые посадки отчаянно борются за жизнь, им надо продержаться недолго, всего несколько месяцев, и вода придет — передовые бульдозеры Пионерной конторы уже недалеко…
Начальник участка, молодой инженер А.Н.Докукин, говорит, что на Десятом два больных места: мало воды и недостает транспорта. У самого начальника нет машины, и он не может, если бывает необходимость, срочно выехать на участок.
Воспользовавшись нашим присутствием, Докукин просит подвезти его до дальних механизмов. Едем вдоль трассы. Неумолчное железное рокотание то утихает, то грозно сотрясает воздух. Облака пыли дымятся над механизмами. Когда мы едем за дамбой, по этой пыли определяем, где работает трактор. Экскаваторы видны издалека: их высокие стрелы раскачиваются широко и стремительно. Работающий экскаватор кажется почему-то разгневанным. С сердитым лязгом, как надоевшую обузу, швыряет он наземь свой ковш, и секунды, две ковш устало и безжизненно лежит на земле. К черту! Надоело работать! Но вот напрягается трос, и разинутая стальная пасть начинает медленно въедаться в грунт. Еще несколько секунд — и ковш, полный земли, угрожающе покачиваясь, взлетает в воздух — страшно стоять с ним рядом! — и вся огромная машина вместе с летящим ковшом вдруг поворачивается судорожно и резко.
У скрепера другой характер: он неуклюж и медлителен. В нем есть какая-то тупая беспомощность: ведь сам по себе он ни на что не способен. Он прицеплен к трактору и послушно тащится за ним. И так эти две железные махины, прикованные одна к другой, громыхают, толкаются и, кажется, ужасно раздражают друг друга.
А посмотрите-ка на бульдозер! Как яростно вонзает он свой могучий нож в грунт, как неудержимо и мощно его движение вверх, когда он толкает перед собой гору земли! Недаром здесь говорят о том, что близится Великое Наступление Бульдозеров.
Двое молодых рабочих поднимаются ко мне по зыбкому склону. Это скреперисты Орун Ташлиев и Курбан Чарыев…
— Смотрите, как работает скрепер! — кричит один из них.
Здесь все кричат друг на друга, стараясь переорать гром машин.
— Он не удерживает и половины земли! Вся просыпается! Видите? Этот скрепер рассчитан на другой грунт, а в песках от него пользы мало!
— Для Каракумов нужен специальный скрепер! — кричит другой рабочий.
Так впервые я услышал критику в адрес землеройной техники…»
Ну, и дальше в таком же духе. Описывались разговоры со скреперистами, экскаваторщиками. Пятый водосброс, где уже бетонировались четыре огромных «окна», куда должны лечь трубы. В конце я дал сведения о готовящемся заполнении озер: то, что рассказал Смирнов.
Очерк получился не выдающийся, но вполне «на уровне», главное — сделан с фантастической быстротой. Меня хвалили ребята, очень хвалил Борис Литовко, я полностью реабилитировал себя за провал с Ермасовым. Очерк сразу был набран, но почему-то его не поставили ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу. Борис сказал, что что-то темнит Лузгин. В понедельник я пришел к Лузгину и спросил: в чем дело? Он начал вилять, стал говорить, что считает очерк моей удачей, хотя у него есть замечания, — например, много описаний, некоторый инфантилизм стиля и «яканье». Это нескромно: «я подумал», «я увидел», надо писать: «мы подумали», «мы увидели». Но это мелочи, очерк в общем удался и будет напечатан в ближайших номерах.
Очерк не прошел ни в среду, ни в четверг. С каждым днем его напечатание становилось все более проблематичным, потому что приближалось настоящее заполнение озер и уже надо было писать о нем, а не о подготовке к нему. Диомидов был в отъезде. Он собирался выйти на работу в понедельник, и мы решили в понедельник на летучке устроить Лузгину «бенц». Главное в такой операции — внезапность. Условились, что начнет Борис, потом выступит Сашка, потом Критский, Жорка Туманян и я. Поводом для атаки должен был стать мой очерк, его зажим, но, конечно, разговор неминуемо развернулся бы крупно, у каждого из ребят были свои счеты к Лузгину.
Предложил все это Борис, причем я возражал, считал, что очерк мой не настолько великолепен, чтобы поднимать из-за него шум, но они стали кричать на меня, что дело не в очерке, а в принципе.
В воскресенье я пришел в парк, в шашлычную, обедать и встретил Критского. Настроение у меня было скверное оттого, что я сидел без денег, оставалось двадцать два рубля до получки и никаких перспектив. Правда, Сашка обещал одолжить рублей сто двадцать, но только во вторник. Из-за безденежья я не смог встретиться в этот день с Катей.
Было очень жарко, столы стояли под открытым небом на дворе, усыпанном песком, и над каждым столом возвышался круглый зонт из полосатой материи. Я ел шашлык, запивал пивом и думал: у кого бы одолжить денег? В это время вошел Критский.
Он близоруко оглядывался, ища свободное место. Я подозвал его, он подошел и сел, положив на стол толстую кожаную папку. Он всегда ходит с этой папкой, потемневшей и залоснившейся внизу от потных ладоней, набитой журналами и газетами, которые он покупает пачками.
— Шашлык годится?
— Ничего.
— А как пиво?
— Что вы спрашиваете? Ведь вы пиво не пьете.
Он ничего не пьет, ему нельзя. Он язвенник.
— А, плевать! — Он сделал отчаянно-молодцеватый жест. — Сегодня хочу напиться.
Подозвав официанта, он заказал салат из помидоров, шашлык и бутылку пива. Я спросил: что случилось сегодня? Обычно он обедает дома. Он сказал, что у него дурнейшее настроение, хочется сесть в поезд и уехать куда глаза глядят, хотя бы в Ташкент или в Красноводск. Поругался с женой.
— Ничего, завтра помиритесь, — сказал я.
— Нет. Это серьезно. — Он печально покачал головой. — Это серьезней, чем вы думаете.
Я чувствовал, что ему хочется рассказать, но мне не хотелось слушать. У него постоянные передряги с женой, это всем известно и малозанимательно. Денег у него, наверное, не было. Да и неудобно было просить, раз он намеревался бежать из дома, во всяком случае говорил об этом.
— Да, это гораздо серьезней… — сказал Критский, которого разбирало желание поделиться.
— Что там у вас стряслось?
— Неохота рассказывать.
— Расскажите. Станет легче.
— Нет.
— Ну тогда не рассказывайте.
— Ей-богу, неохота… — Лицо его приняло скорбное, страдальческое выражение, он снял очки, протер стекла бумажной салфеткой и, выпив залпом бокал пива, вдруг начал рассказывать. Какая-то чепуха. Он купил книги, а жена требовала, чтобы он купил себе плащ, потому что она собиралась покупать себе что-то из тряпок, но отложила: надо покупать только необходимые вещи. Но ему лучше знать, что ему более необходимо — плащ или книги.
Я спросил, какие книги он купил. Собрание сочинений Гарина-Михайловского.
— Будете читать?
— Да. А что? Почему вы спрашиваете? — он взглянул на меня подозрительно. — Уж не считаете ли вы, что я покупаю книги «для мебели»? Я читаю очень много. Наверное, больше вас.
— Наверное.
— Понимаете, Петя, литература для меня не развлечение. Это мое дело, моя профессия. — В его голосе звучали чопорные нотки. По-видимому, я слышал фразы из разговоров с женой. — Пушкин пятую часть заработка тратил на книги.
— Но Пушкин зарабатывал гораздо больше вас. Ничего, завтра помиритесь.
— Ах, черт! Ужас таких историй в том, что они вышибают нас из колеи. — Он стиснул пальцами виски. — Мне надо писать статью для Атанияза, потом на мне висит рецензия, потом еще один перевод, — словом, работы до дьявола, а я не могу идти домой. Вот ситуация, вот кошмар! Пропал день, и вообще…
Я смотрел на его опущенную, с ранней лысиной, в венчике белокурых кудрей голову, на его худые, со следами чернил пальцы, нервно сжимавшие виски, и думал: бедный «литературный комбайн»! Ему действительно плохо. Надо кормить троих детей, двух мамаш, а он так легко выбивается из колеи. Поспорил с женой, хлопнул дверью — и готов, разрюмился, ничего не может. И завтра от него не будет толку. Прав, что ли, Кинзерский: слабое племя, другой коленкор?
Он не заговаривал о завтрашней летучке, я тоже. Я спросил, что он пишет для Атанияза. Оказывается: на семейную тему, о феодально-байских отношениях.
— Если во вторник не сдам, — сказал он, — я не успею к ближайшей выплате.
— Кстати, вы не одолжите мне рублей сто? Или пятьдесят? — спросил я.
Он ел шашлык, зачем-то сняв очки, низко наклоняя лицо к тарелке. Сейчас он надел очки и, продолжая жевать, сунул руку в карман брюк и стал там шуршать бумажками. Пошуршав некоторое время, он вытащил три смятых бумажки, одну засунул обратно.
— Могу дать тридцать рублей, — сказал он. — Устроит?
— Устроит. Спасибо! — сказал я. Я очень обрадовался и подумал: нет, он парень ничего.
На другой день в двенадцать началась летучка. Закончилась она не в час и не в половине второго, как обычно, а в четыре. И все из-за моего очерка. Первым выступил, как и уговаривались, Борис и поставил общий вопрос: как это получается, что отличные материалы, посвященные самым острым и злободневным вопросам, маринуются неделями до тех пор, пока теряется нужда в их печатании? Кто в этом виноват? Давайте, мол, разберемся. Диомидов спросил, что он имеет в виду, и Борис как один из примеров привел историю с моим очерком. Он сказал, что трижды ставил очерк в полосу, но Артем Иванович под разными предлогами переносил его из номера в номер. И до сих пор очерк не напечатан.
Лузгин сейчас же стал возражать:
— Не создавайте впечатления, Борис Григорьевич, будто я выискивал какие-то специальные предлоги, чтобы переносить очерк Корышева…
Между ними возник спор.
Лузгин, как всегда, спорил грубо, крикливо, стремясь сразу подавить и оглушить противника, причем делал это при помощи громкого повторения одной какой-нибудь фразы. Сейчас, например, он выкрикивал фразу: «Не надо передергивать! Не надо передергивать! Пе-редер-гивать не надо!»
Диомидов не слушал спора и что-то читал. Наверное, мой очерк.
Теперь должен был вступить в дело Саша, но он почему-то медлил. Он, наверно, забыл, что его очередь после Бориса, и спокойно, даже с интересом как бы постороннего человека, слушал спор Лузгина и Бориса. Из-за этого наш сценарий нарушился. Диомидов спросил: «А что скажет автор?» Мне не хотелось выступать в первых рядах, о себе говорить неловко, но делать нечего, пришлось.
Я сказал, что, по-моему, главное, что должно быть между сотрудниками газеты и ее руководителями, — это ясность и доверие. От приемов плаща и шпаги пора отказаться. Почему очерк маринуется? Я так и не знаю. Нужно сказать честно, в чем дело, а не водить за нос и отделываться обещаниями.
Лузгин, побагровев, вдруг крикнул:
— Хотите честно?
— Конечно, — сказал я.
— Так вот, честно: вы написали посредственный очерк. И я удивляюсь вашим претензиям.
— Что ж, возможно, — сказал я, сразу сбившись с тона. Удар был под ложечку. Я тоже подозревал, что очерк вышел посредственный. — Но, по-моему, не хуже других…
— Это не аргумент! Что за критерий: не хуже других?
— Но почему же вы говорили, что очерк удался?
— Не передергивайте! Я не говорил этого! Я говорил об отдельных удачах и о крупных недостатках: например, вы без конца «якаете». Вообще, не надо было вам размахиваться на путевой очерк. Для путевых очерков редакция собирается послать на трассу другого человека, это надо делать основательно, а не так, кавалерийским наскоком, галопом по европам…
Внезапно я почувствовал, что выгляжу глупо.
— Ну хорошо, — пробормотал я. — Тогда надо было сказать это прямо. И вовремя…
Я сел. В самом деле, я выглядел глупо. Тут начался спор насчет очерка. Ребята защищали его. Снова выступил Борис, потом Критский, потом что-то мямлил в мою защиту Саша, потом зав промышленным отделом Сургакин сказал, что очерк надо было давать две недели назад, а сейчас поздно, потом Жорка Туманян произнес гимн в мою честь: он сказал, что я совершил подвиг, за четыре дня сделать «подвал» по каналу, и меня надо приветствовать и величать как героя, а не мотать мне нервы. И добавил, что Лузгин занимается удушением инициативы. Тот взорвался: «Вы не имеете права! Это политическое обвинение!» Тогда Жорка сказал: «Артем Иванович, я знаю, почему вы маринуете очерк Корышева. Хотите скажу? Потому что этот очерк противоречит статье Хорева, которую вы продвигали!» Лузгин крикнул: «Это неправда!» Жорка стал говорить о статье Хорева, но Лузгин в своей «манере глухого», то есть не слушая оппонента, а говоря сам, продолжал кричать о моем очерке: «Это неправда! Были совершенно другие основания задержать очерк Корышева!» Критский спросил: какие же основания? Лузгин, разумеется, ничего не мог сказать, он только твердил туманно: «Были, были основания!»
И тут «литературный комбайн» вдруг встал, побледнев, как Иван Каляев перед метанием бомбы, и произнес речь. Даже Диомидов смотрел на него с изумлением. Критский сказал: довольно! Времена мистики кончились! Если Артем Иванович все еще живет воспоминаниями, то пора его разбудить. Какие таинственные силы зажимают очерк Корышева? Какие таинственные силы тормозят рецензию на книгу Махтума Максумова, написанную полтора месяца назад? Какие таинственные силы сняли мой фельетон об одном ответственном товарище из Чарджоуской области, — вы знаете, о чем речь? Какие таинственные силы всучили нам путаную, неправильную статью Хорева, после которой мы до сих пор не можем расхлебаться с неприятностями? Никаких сил нет! Есть инерция. Есть старые знакомства, есть старые привычки работать по-старому: ни с кем не советуясь, ничего не объясняя, самочинно, то есть антидемократически.
В этом месте Критский, видимо, от большого волнения, заглотнулся слюной, внезапно смолк и сел. Лузгин слушал молча, не сводя с Критского сощуренных глаз. Было похоже, что он немного ослаб и подавлен. Вместо него встал завотделом информации Вдовенко и начал корить Критского и всех нас за то, что мы неуважительно говорим о старом журналисте, нашем же товарище, и что главное — работать коллективно, потому что все мы винтики одной машины.
Вот эту фразу, которая застряла в его памяти с допотопных времен, ему не следовало говорить. Критский вдруг вскочил как ужаленный.
— Я не хочу быть винтиком! — закричал он. — Мне надоело! Хватит! Сколько можно? С винтиками никто не считается! Им можно ни черта не объяснять, перед ними не отчитываться — они ведь бессловесные! А я требую объяснения: почему лежит, как колода, рецензия Атанияза Дурдыева на книгу Максумова? Все мы знаем, что Максумов провел семнадцать лет в лагерях, вернулся больным стариком. Он полностью реабилитирован, недавно выступал по радио. В чем же дело, товарищи редакторы? Кто тормозит?
Лузгин, обрадовавшись тому, что разговор возвратился к частному вопросу, стал что-то объяснять насчет книги Максумова и статьи Атанияза: по его мнению, Атанияз написал недостаточно глубоко, книга заслуживает более квалифицированного анализа. Но Диомидов прервал его и сказал, что время позднее, пора браться за дела, а рецензию Атанияза надо обсуждать серьезно, не наспех, и мы это сделаем в ближайшее время. Мой очерк он успел прочесть. Очерк ему нравится, хотя злободневность утрачена («Она утратилась, дорогой товарищ Корышев, в тот день, когда вы прозевали Ермасова. С того дня, если уж говорить честно, и начались ваши огорчения…»), и поэтому он предлагает сократить очерк, оставить разговор с профессором («Это, по-моему, вам как раз удалось»), какие-то картины трассы, снять все насчет озер, потому что мы опоздали, и в виде этакого эссе, миленького отрывочка, дать в «Литературной странице».
И так все кончилось — ни тем ни сем. Впрочем, ничем конкретным все это и не могло кончиться. Но мы почему-то были довольны. Возбужденные, мы разошлись по своим комнатам. Через пять минут, как ни в чем не бывало, мы разговаривали с Лузгиным по поводу номера, полосы, сокращения двенадцати строк, и все-таки в глубине души мы чему-то непонятно радовались. Только Саша, когда мы остались втроем, сказал:
— Ни к чему все было, зря…
— Нет, не зря, — сказал Критский. — Не зря хотя бы потому, что сказали то, что думаем. Знаешь, как приятно говорить то, что думаешь! — И он засмеялся.
— А, ерунда! В стакане воды…
Я вдруг разозлился.
— Чего ты каркаешь? Ты ведь сдрейфил, молчал, как мышь, даже про Атанияза боялся пикнуть, а теперь каркаешь.
— Я не каркаю, а совершенно искренне высказываю свое мнение. Всей этой демонстрации копейка цена, понятно? Ничто в этом мире не изменится ни вот на столько! — он показал ноготь мизинца. — Пустая говорильня, махание кулаками по воздуху. А я не любитель участвовать в таких спектаклях.
— Ну конечно, легче сидеть в углу и ухмыляться.
— Да черт вас дери, олухи, неужели вы думаете, что вам удастся свалить Лузгина? Вы же идиоты! Вы караси-идеалисты, которых бьют палками по голове, а они кричат: «Ура, ура! Новые веяния!»
— Не мы валим Лузгина, а время, время! Мы только помогаем времени.
— Ладно, молчу. Блажен, кто верует.
— Сашенька, не оправдывайся, ты известный трус, — сказал Критский, смеясь. — С двумя тузами на висте всегда пасуешь!
Сашка обиделся и вышел из комнаты.
Потом мы тоже вышли в коридор, и нам навстречу попалась Тамара Гжельская, секретарша редакции, бежавшая зачем-то в аптеку. Оказывается, за валидолом для Артема Ивановича.
Сашка и Критский остались в газете до позднего вечера. Я шел домой с Борисом. Автобус «четыре», который проходит по нашей улице — он идет от базара через центр на вокзал, — как всегда в эти часы, был переполнен. Колхозники возвращались с базара. Гремели бортами порожние грузовики, где в кузовах сидели на корточках недавние торговцы дынями и виноградом. Седобородый аксакал промчался, раздувая полы халата, на мотоцикле.
Мы остановились возле винной лавки, на дверях которой висел листок с надписью карандашом: «Вино Бизмеин самый молодой 15 р.». Борис предложил зайти и выпить по стакану. Туркмен в папахе налил в стаканы из небольшой овальной бочки, стоявшей на прилавке. Вино было не просто молодое, а младенческого возраста: приготовлено на прошлой неделе. Оно заклеивало зубы кисловатой вязкостью, от него пахло козлятиной, и в общем оно было не очень вкусное. Мы взяли по куску белого сыра и еще по стакану. Вино было здорово кислое. Просто нам не хотелось расходиться. В нас еще не иссякло дневное возбуждение, и мы разговаривали все о том же. Борис сказал, что поведение Сашки его не удивило: во-первых, это в Сашкином стиле, а во-вторых, он как раз тот «другой человек», кого собираются послать за путевыми очерками на трассу.
— Это его личное дело, — сказал я. — Меня волнует другое: прав он или нет, когда говорит, что никакого толку не будет?
— Толк будет, — сказал Борис. — Будет, будет, вот увидишь. Не сразу, конечно, может быть, через месяц или через полгода, но толк будет обязательно.
12
Идея «Литературной страницы» возникла или, вернее, возродилась — ибо в газетном деле ничто не возникает, а лишь время от времени возрождается — еще в начале лета. С тех пор как я попал в газету, я слышал разговоры: «Надо делать „Литстраницу“!» Но первая полоса вышла лишь в сентябре. Занимались этим делом Критский, Саша и я. Была у нас в редакции и своя поэтесса — толстая, очкастая Тамара Гжельская.
Мой очерк должен был идти в следующей «Литстранице», в конце сентября, но не прошел. Диомидов сказал: «Знаете, почему Артем Иванович засомневался в вашем материале? Нет, нет, это не так просто. Он опытный человек. Я называю его миноискателем: у него блестящая способность учуивать опасность. Ваши рассуждения о негодности скреперов могли вызвать взрыв: ведь там идет лютый спор между строителями и проектировщиками. Проект делался в расчете на скреперы и экскаваторы. Это больная тема, нельзя касаться ее походя. Видимо, он успел посоветоваться с кем-нибудь в управлении. Вы поняли? Попробуем вынуть разговор со скреперистами…» Я спросил: значит, Туманян прав? Мой очерк застрял оттого, что выражал позицию, противоположную статье Хорева? Диомидов сказал: «В какой-то степени».
— Игорь Николаевич, но неужели же я, журналист, не могу высказать свое мнение? Ведь я действительно говорил со скреперистами, и они действительно жаловались на то, что скреперы не годятся!
— Дорогой друг, вы новый человек, недавно в газете, вы не можете знать ситуацию так, как знает Артем Иванович. Вы пробыли на трассе полдня, а люди потратили на нее годы жизни. Согласны?
Конечно, я был согласен. Что я мог возразить?
— Поэтому давайте вынем скреперистов. Это сложный вопрос, пусть его поднимают в республиканской газете. И поднимать его должны — учтите! — не журналисты, а люди, осуществляющие строительство…
Мы вынули скреперистов. Еще раньше был вынут разговор со Смирновым и сильно сокращен разговор с профессором Кинзерским. Очерк превратился в ужасный обрубок, и я сам его добил. Он был набран, стоял в полосе, но я его снял. Зато рецензия Атанияза на книгу Максумова была полностью напечатана через десять дней после знаменитой летучки. Мы все считали это нашей общей победой, и я не слишком огорчался неудачей с очерком, тем более что в середине октября прошел мой рассказ «Текинский орнамент», — собственно, тоже не рассказ, а добротный очерк. В начале октября я был в командировке в Кизыл-Арвате и там, в ковровой артели, познакомился с одной ковровщицей, рассказавшей мне свою историю — довольно заурядную историю молодой девушки, бунтовавшей против самодурства родителей. Ее хотели насильно выдать замуж, она бежала из аула в город, поступила в ковровую артель и одновременно стала заниматься в кружке живописи: она оказалась способной художницей. Вот и все. Здесь не было никакого сюжета, но были подробности жизни.
Рассказ мой неожиданно всем понравился, его сразу же перевели на туркменский язык, читали по радио. Диомидов хвалил рассказ на летучке, употребляя при этом необычные для него хвалебные эпитеты (было даже слово «даровитый»), и в довершение всего вдруг поручил заведование «страницей» мне. Такой оборот дела несколько озадачил Сашку и Критского, считавших художественную литературу своей монополией в редакции, и они даже немного надулись на меня, но потом, увидев, что никаких преимуществ это заведование мне не дает и что, в сущности, от меня мало что зависит — я обязан был просто отбирать и подготавливать материал для шефа, который выносил окончательные решения, — они примирились с внезапным взлетом моей карьеры и стали помогать мне.
Сейчас я готовлю предпраздничную «страницу». Двадцать пятого Диомидов просил показать ему весь материал, сегодня уже двадцать второе, а у меня в портфеле есть лишь несколько стихотворений, посредственных переводов с туркменского, фельетон Критского и больше ничего. Есть, правда, сценарий Хмырова, который я прочел две недели назад, но он не годится. Мне неловко перед ребятами за то, что я притащил его в газету.
Прочитав, я сразу позвонил Хмырову и сказал, что, к сожалению, подходящего отрывка не нашлось. Он начал предлагать разные варианты, которые я вежливо отклонял, после чего он сказал, что, если «не вытанцовывается» отрывок, можно дать сценарий целиком, в сокращенном виде, с продолжением. При этом он заметил, что сценарий высоко оценен в республиканском Министерстве культуры и уже идет разговор о повышении договорной суммы. Я слушал его с некоторым ошеломлением. Я ощущал энергию такой силы, что мне оставалось лишь завидовать и удивляться: откуда это у томного, женоподобного интеллигента, всегда усталого, с тихим голосом? По-видимому, он, как спортсмен, большую часть времени расслаблен, а в нужный момент умеет собраться и напрячь все силы. Я сказал, что передам рукопись редактору и пусть он решает. Ему это, как видно, не очень понравилось, потому что он сухо сказал: «Хорошо, действуйте, я попробую нажать с другого бока». Это прозвучало как уговор единомышленников и в то же время как угроза.
Сначала мне было неясно: зачем он так рвется печатать отрывки сценария в газете? Что это ему даст? Славы немного, деньги небольшие. И такое бешеное стремление, как у школьника, который грешит стишками, напечататься во что бы то ни стало! Я даже обсуждал эту загадку с Сашей, и он высказал остроумное предположение насчет того, что Хмырову, может быть, необходимо как можно скорее утвердить в печати свое авторство потому, что первоначально автором сценария был тот, второй, — Саша знает это точно от одного парня из сценарного отдела, — а Хмыров намечался в режиссеры, а потом он вдруг приклеился к сценаристу. Но я понял потом, что дело не в этом. Интриги интригами, они существуют отдельно, но тут дело не в них: дело в характере. Хмыров человек основательный, он все делает на совесть и доводит до конца. И когда он занят делом, когда он, подобно навозному жуку, неуклонно катит свой ком грязи по точно выбранной дороге, для него не существует ни самолюбия, ни ложной скромности, ни сомнений, ни колебаний, не существует больших денег и маленьких денег, для него существует только результат, окончательная победа. Такие, как он, добиваются всего. Денис разгадал его суть: человек дела.
И я уже не удивлялся тому, что Хмыров стал ежедневно, утром и днем, звонить мне по телефону и, не обращая внимания на мой суховатый, унылый, ворчливый голос, спрашивал одно и то нее: «Ну-с, так что мы имеем? Редактор прочел?» Он занимался делом, катил свой ком.
Редактор не читал долго. У него не было времени. И я уже стал надеяться, что он «забодает» Хмырова. И вдруг меня вызвал редактор и сказал, что надо подобрать кусок из хмыровского сценария.
Я чертовски расстроился. Почему-то я был уверен, что он его «забодает».
— А вы прочитали? — спросил я, беря папку с рукописью.
— Сценарий принят к постановке на нашей студии, — сказал Диомидов, по своей привычке глядя в стол и наставив на меня блестящее от бриолина черное темя. — Посмотрите ту сцену, где общее собрание строителей, где они берут обязательства. Я отметил красным карандашом. Выжмите строк четыреста.
— Игорь Николаевич, — сказал я, — а вам не кажется, что этот сценарий, мягко говоря, старомоден? Что он целиком и полностью относится к периоду бесконфликтности?
— Как? — Он вскинул на меня свои грифельные зрачки, в которых не было ни тени серьезности, ни капли интереса к моим словам, ничего, кроме должностного холода.
— Я говорю, что стыдно его печатать. Давайте откажемся.
— Откажемся?
— Конечно. Ей-богу, стыдно.
Он покачал головой.
— Нет, отказываться мы не будем. Я согласен, сценарий, как говорится, мало высокохудожественный, но где лучше на эту тему? Лучше нету. Писатели не пишут. А тема строительства Каракумского канала — важнейшая, кардинальная для нашей республики.
— Что ж получается: мы сами насаждаем халтуру?
— Да, да, и вы в первую очередь! — Он вдруг засмеялся и показал на меня пальцем. — Ведь вы принесли этот материал в редакцию? Вы, вы, не отказывайтесь! А автор оказался бронебойный. Вчера мне звонили со студии, потом — Нияздурдыев из Управления водными ресурсами, он консультант будущего фильма…
Диомидов был прав: все началось с меня. Придя в свою комнату, я со зла вырубил из хмыровского сценария четыреста самых суконных, самых омерзительных строк и отнес на машинку. Чем хуже, тем лучше. Когда я снова вернулся в комнату, там шел разговор о Хмырове, о том, сколько он получит денег за этот фильм. Ведь он получит не только как сценарист, но и как режиссер. Два дурачка, Сашка и Жорик Туманян, люто спорили, называя разные суммы, каждый из них хотел показать себя знатоком в этой области. Они ведь тоже были кинодеятели: писали раз в год тексты для «Новостей дня».
Неожиданно раздался звонок от Лузгина. Меня и Критского требовали в секретариат. Страшнейшая накладка: оказывается, второй день идет конференция учителей сельских школ, а у нас об этом ни слова. В завтрашний номер надо дать отчет. Кровь из носу! Трам-тарарам! Мы с Критским должны немедленно мчаться в Дом народного просвещения, где через полчаса будет выступать министр…
Еще пятнадцать минут назад, когда я разговаривал с редактором, все было тихо-спокойно. Что-то случилось за эти четверть часа. Вот что значит газета. Нам дали машину, и мы уехали.
В этот вечер я был дежурным по отделу. Виктор остался на конференции и должен был по телефону назвать фамилии тех, кто выступит на вечернем заседании, — отчет о дневном заседании, где выступал министр, мы сдали, и он уже набирался, — а я пообедал в столовой возле базара и вернулся в редакцию в семь часов, когда все разошлись.
Я сидел в нашей пустой большой комнате за столом Критского, читал свежую полосу, и в это время позвонил Хмыров. Он не узнал меня, спросил Корышева. И я вдруг сказал ему, что Корышева нет. Это вышло неожиданно, как-то само собой. Я сказал, что отрывок из сценария не будет напечатан в нашей газете по причине его малой художественности и потому, что он воскрешает худшие образцы литературы недавнего прошлого.
— Что, что? — крикнул Хмыров.
— Вы опоздали с этим сценарием на пять лет. Нельзя же, товарищ Хмыров, опять возвращаться к фальшивым, лакировочным произведениям, осужденным нашей партией. Или вы думаете, что здесь, на периферии, это проходит? Провинция, мол, все съест?
— Кто со мной говорит? — крикнул Хмыров.
— С вами говорит сотрудник отдела.
— А где товарищ Корышев?
— Его сейчас нет.
— Дело в том, что товарищ Корышев и товарищ Диомидов, ваш редактор, говорили мне обратное…
— Да, но мы тут обдумали, обсудили, — нет, печатать ваш сценарий было бы ошибкой. И я скажу больше, товарищ Хмыров: мы решили поднять вопрос перед Министерством культуры вообще о целесообразности постановки фильма по вашему сценарию.
Тут я понял, что попал в яблочко. На другом конце провода раздалось невнятное клокотание, совершенно птичье, нечленораздельное, я ничего не мог понять. Наконец я расслышал:
— А нельзя ли выяснить, когда будет товарищ Корышев?
Я сказал, что это неизвестно.
Через двадцать минут Хмыров позвонил снова. Потом еще раз, еще раз. По его голосу я чувствовал, какой тревогой он охвачен и как он уже не верит в то, что застанет Корышева в редакции, но инстинкт навозного жука заставлял его звонить и звонить непрерывно. В восемь часов сквозь град этих звонков прорвался звонок от Кати. Мы собирались пойти в кино. Я сказал, что задержусь надолго и кино переносится на завтра.
— А ты пойди домой, к Раечке, — сказал я, — и займись рукоделием. Повышивай гладью.
Она сказала холодно:
— Я уж найду, чем заняться. Спасибо за совет, — и повесила трубку. Обиделась. Вот чертовщина: совершенно лишена чувства юмора!
Снова затрещал телефон, и я схватил трубку, думая, что это Катя и я смогу объясниться, но звонил Виктор.
— Что происходит? Почему вы висите на телефоне? — кричал он. — Вы же знаете, что из города трудно дозвониться!
— Ладно, ладно, — сказал я. — Давайте фамилии.
Он начал диктовать фамилии, а я записывал. Я думал не о том, что записывал, а о том, что Катя обиделась, теперь пропадет на неделю. Ужасно обидчива. А я каждый раз забываю об этом и неосторожно шучу. Куда теперь звонить? Где искать ее?
Я вставил фамилии, которые сообщил Виктор, в хвост нашего отчета, отнес в секретариат, и мне, собственно, больше нечего было делать. Вернувшись в комнату, я стал читать Плутарха. Уже второй месяц я в свободное время читал Плутарха и кое-что выписывал, особенно о парфянах. Недавно мы ездили с Атаниязом в Нису, на раскопки парфянской столицы. Но Плутарх шел туго, и вообще мои попытки начать глубокое и систематическое чтение вот уже в течение десяти лет ни к чему не приводят. Не хватает характера. Жизнь заполняется какой-то дребеденью: борьбой с Хмыровым, встречами с Катей, каждый вечер одни и те же разговоры, кино, танцплощадка, ужин в парке с салатом и пивом и потом тощая награда за всю эту дребедень, за убитый вечер.
Я вдруг вскочил из-за стола и стал ходить по комнате: вновь меня охватила безотчетная тревога, налетевшая как ветер. Мне казалось, что я куда-то опаздываю, от чего-то отстаю, гибну. Погиб! Если не начну немедленно что-то делать, работать по-серьезному — писать хотя бы о том, что знаю, о своей жизни, о Туркмении, о том, как ломается время, как приходят одни люди и уходят другие и как сам я вращаюсь в этом потоке, стремящемся куда-то в шуме и грохоте, — если не начну просто записывать, ежедневно записывать, я погиб, погиб!
Сегодня свободный вечер, Кати не будет, парка не будет, отличное время для работы. Плутарха — в ящик. Где моя толстая общая тетрадь? Надо только достать сигареты. Кончились сигареты.
Я выбегаю в коридор.
В дальней комнате, в конце коридора, сидел обычно дежурный литсотрудник, «свежая голова». Сегодня «свежаком» был Жорка.
— Почему не идешь домой? — спросил Жорка, протягивая мне пачку болгарских.
Я взял четыре сигареты и положил в карман брюк.
— Сегодня был крик из-за учительской конференции, мы делали отчет с Виктором, — а вдруг, мало ли что…
— Ничего не будет.
— Нет, подожду. Лузгин после той летучки на меня сильно обозлился. Так и караулит, чтоб я где-нибудь наложил.
— Ну, будь. — Жорка нагнулся к полосе.
Мне хотелось с ним кое о чем поговорить, например о футболисте и о Кате, ведь это были его друзья. Мысль о том, что Катя обманывает меня с футболистом, была не то чтоб мучительна, но неприятна. Может, там ничего и не было, но вполне возможно, что было. Я узнал, например, что дядя футболиста руководил той самой подготовительной театральной студией, в которую Катя недавно поступила. «А, черт! — разозлился я. — Опять дребедень лезет в голову!» И не стал у Жорки ничего спрашивать, ушел.
Дверь в комнату секретариата была открыта, и я, проходя мимо, заглянул и увидел Лузгина, склонившегося над столом. Левой, далеко откинутой в сторону рукой он размешивал ложечкой сахар в стакане чая. Рядом стояла вечерняя машинистка Мирра Ефимовна, держа в руке пачку бумаг. Выправленных полос еще не принесли.
Почувствовав мой взгляд, Лузгин поднял голову и сказал:
— Не уходите.
— Не ухожу, — сказал я и пошел по коридору дальше. «Вот сволочь, — подумал я. — Абсолютно ведь я не нужен».
Вернувшись в комнату, я сел к столу, зажег настольную лампу, развернул на чистых страницах общую тетрадь и вооружился ручкой «Ленинград. Союз». И задумался. Последняя запись в этой тетради была сделана двадцать два дня назад. Окно за моей спиной было открыто, и с улицы веяло прохладой и запахом яблок. За окном был сад. Я слышал голоса мужчины и женщины, говоривших по-туркменски, потом мужчина запел. Сад принадлежал артисту туркменского театра. Я подумал о том, что самое тяжелое позади: жара кончилась. А в Москве сейчас гнилая, промозглая осень, театры начинают сезон, в пригородах копают картошку, последние футбольные матчи проходят при полупустых трибунах, под моросящим дождем, а может быть, сухо, солнечно, по утрам подмораживает, и деревянные скамейки и стволы деревьев покрываются утром белым налетом инея, но часам к десяти иней стаивает и скамейки и стволы деревьев остаются сырыми, как после дождя. К полудню все высыхает на солнце…
Стук в дверь. В редакции ни у кого не было привычки стучать в двери, кроме самого Диомидова, который демонстрировал хорошее воспитание, поэтому я удивился. Вошла Катя. От неожиданности и нечаянной радости — теперь уж хочешь не хочешь, а работать не удастся — я засмеялся. Катя сказала, что пришла меня проведать, и сказала, чтобы я не приходил завтра к Рае, потому что они поссорились.
Она протянула мне большой кулек с виноградом. Мы сели на диван. Я подвинул корзину, набитую грязной бумагой, окурками, использованной копиркой, и мы стали есть виноград и плевать косточки в корзину. Я спросил, крепко ли они поссорились. Оказывается, крепко. Катя даже не пойдет домой ночевать и будет ночевать у Розы Валиевой, одной девочки из театральной студии. Ее отец директор гастронома на улице Ленина. Я сказал, что, если хочет, она может переночевать у меня. Я сниму матрац, лягу на пол, а она ляжет на кровати.
— Ну нет! — Катя слегка отодвинулась и погрозила мне пальцем. — Товарищ Корышев, не занимайтесь фантастикой.
— Почему? Реальное дело: ты подходишь к моему окну с улицы…
— Нет уж, нет уж, Петенька! Раиса и так говорит про нас гадости. Я к тебе днем приходила и то чуть со стыда не сгорела. Мне казалось, что на меня все пальцем показывают.
— А что говорит Раиса?
— Всякие домыслы, и вообще. Сказала, например, что ты много воображаешь и что у тебя несимметричное лицо. Она очень злая, Раечка. Ведь она старше меня на четыре года, и до сих пор за ней никто не ухаживает, представляешь? Она ребятам почему-то не нравится. Я ее со многими знакомила, с Жориком, например, из вашей газеты, потом с одним парнем из студии, потом Алик приходил с товарищами, — ничего не выходит. Как мертвому припарки.
Вдруг Катя сбросила туфли и вспрыгнула на диван с ногами. Она села, вытянув ноги и аккуратно расправив юбку.
— Я сейчас уйду, — сказала Катя. — У меня жутко устали ноги: мы сегодня пять часов танцевали, разучивали выступление. Седьмого ноября будем выступать на площади.
— Приду обязательно.
— Я обещала Розе, что вернусь до двенадцати…
Мы почему-то разговаривали шепотом.
— Подожди, — сказал я. — А что будет дальше? Где ты будешь жить? — Не знаю. Раиса меня очень обидела. Ведь я живу там, можно сказать, из милости, — зачем же мне так унижаться?
— Почему из милости?
— Это Раина комната. Она сама предложила жить с нею вместе, еще в прошлом году, и я согласилась, тем более что Рая часто в разъездах. Сначала мы жили дружно, но потом она стала показывать свои зубки. Она большая эгоистка и вообще очень деспотичная. Сколько я плакала из-за нее!..
— А почему тебе не уйти? Это ведь просто, если комната не твоя.
— Да, просто! А найти комнату в Ашхабаде, думаешь, просто? Вот и приходится плакать и терпеть…
По коридору кто-то быстро протопал, распахнулась дверь, и вошел Лузгин. В руке он держал полосу. У меня екнуло сердце от предчувствия. Не обращая внимания на Катю, которая не успела спустить ноги с дивана и так замерла в позе одалиски, вытянув вдоль дивана босые ноги, Лузгин стал кричать на меня:
— О чем я вас предупреждал? Дождались! Чистая случайность спасла нас от несчастья. Если бы Туманян не был с ним лично знаком…
— С кем?
— Вот, вот, вот, вы пишете: секретарь Векильского райкома партии Сахат Мурадов — отдельно, а надо писать вместе. Сахатмурадов, Сахатмударов, ясно вам? Это член ЦК, депутат Верховного Совета республики! Как же вы можете? Из-за вашей ошибки мы опаздываем с выходом.
— Мне диктовали по телефону…
— Что за оправдания? Вы газетчик, вы обязаны уметь записывать телефонограммы. Конечно, если в это время вы принимаете гостей… — Тут он взглянул на Катю, которая уже сидела на краю дивана и, опустив глаза, смирненькая, как провинившаяся школьница, старалась нашарить ногами босоножки.
— Эта девушка пришла сюда гораздо позже, — сказал я.
— Меня это не касается, — быстро ответил Лузгин. — Но задержка с выходом, и это в предоктябрьские дни, накануне сороковой годовщины, когда страна готовится к празднику…
Катя надела босоножки и на цыпочках пошла к двери.
— Катюша, не уходи, — сказал я.
— Я подожду там, — сказала Катя шепотом и вышла.
— Тысячи раз я твердил, что все наши беды, все накладки идут от оригинала. Типография виновата в редчайших случаях. Вот вы кричите о новом стиле работы. Новые времена, новый стиль! Доверие! Мастерство! Короткая фраза! А зачем все это, когда нет элементарного умения работать? Нет чувства ответственности за порученное дело!
— Артем Иванович, но я, ей-богу, не нарочно…
Он вдруг побагровел, как тогда, на летучке.
— Послушайте, мне все известно про вас! Не морочьте голову! Я все знаю! Вижу вас насквозь и знаю, чем все это кончится! А сегодня извольте сидеть в редакции до часу, до двух ночи, не знаю до каких пор — пока номер не будет подписан.
Наклонив голову, он ринулся к двери. С шуршанием неслась за ним газетная простыня. Хлопнула дверь. Через минуту тихо вошла Катя.
— Это я виновата, да, Петя?
— Нет. Виноват я.
— Петя, ты очень бледный. Ты не волнуйся. — Ее маленькие глазки в черных, густо натушеванных ресничках смотрели так преданно, так сострадательно. — Хочешь, я останусь с тобой? Хочешь? Я позвоню Розе…
— Останься. Хорошо. Нет, понимаешь, я виноват, но он не имел права так орать на меня. Я не мальчишка. И, главное, он все знает про меня. Что он знает?..
— Бедный мой мальчик! — Она порывисто шагнула ко мне и поцеловала в щеку.
Мы сели на диван. Наверно, я и вправду побледнел, но не оттого, что испугался его крика и каких-то неясных угроз, а оттого, что снова почувствовал, как он меня отчетливо, злобно не любит. Что он знает про меня? И чем, по его мнению, «все это» кончится? Ни черта он не знает, кроме того, что я не люблю его, точно так же отчетливо и навсегда.
13
Озябнув в своем коротком китайском плащике, — ночи стали холодные — Карабаш уже жалел, что пустился в автомобильное путешествие, а не полетел из Сагамета самолетом. Султан мог в Сагамете переночевать и днем, по солнышку, спокойно докатился бы до поселка, спешить ему было некуда.
В песках ночью хорошо думается, особенно если свежо и тряско, что не дает дремать. Было очень свежо и очень тряско: иногда на ухабе Карабаша подбрасывало так, что он доставал головой до брезентовой крыши. Поездка на рембазу была удачной. Еще пять бульдозеров, полностью отремонтированных, готовы были отправиться в забой и только ждали машинистов. Но вместе с чувством удовлетворения — ремонтники сдержали слово, работали, не щадя сил, с пониманием момента — осталось ощущение чего-то неприятного, тревожащего. Жизнь, как всегда, подсовывала слоеный пирожок: как будто сладкий, а все же не без горечи.
Вместе с Карабашем на рембазу прибыл Хорев. Расположенная на территории «Восточного плеча», база формально подчинялась Хореву, хотя на самом деле ею командовал начальник и главный инженер стройки. Хорев держался мирно, благожелательно, не раз повторил, что новый бульдозерный метод, который прежде вызывал у него сомнения, теперь целиком завоевал его, и было только одно дельце, немного его смущавшее. На дворе рембазы стояло сорок пять скреперов, тракторы у которых были отняты и переделаны в бульдозеры, и это мертвое скреперное стадо слегка тревожило его, Хорева, главинженерскую совесть. А вдруг нагрянет ревизия? Найдутся дураки и напишут, что налицо, мол, разукомплектование механизмов. Что тогда? Как отбиваться?
Сказано это было мимоходом, и Карабаш сделал вид, что не принял этого предостережения всерьез, даже тут же забыл о нем, хотя, по правде, запомнил хоревские слова отлично и сейчас, в дороге, думал о них все время.
— Султан, давайте погреемся, — сказал Карабаш. — Остановитесь на минуту.
Мамедов затормозил и выключил мотор. Карабаш достал из кармана плоскую флягу с коньяком, отвинтил крышку и, попросив Мамедова зажечь спичку, чтобы не пролить в темноте, аккуратно наполнил круглую крышку коньяком. В нее входило ровно пятьдесят граммов. Мамедов выпил один раз и сказал, что больше не хочет. Опорожнив три крышки подряд, Карабаш почувствовал, что озноб исчез, и захотелось разговаривать. Как у человека мало и редко пьющего, у него возникло даже легкое опьянение.
Закурив, он спросил:
— Султан, что с вами происходит?
— Как «происходит»?
— Последнее время вы необыкновенно мрачны. Как голландская сажа. Был такой поэт, у него были стихи: «Я угрюм, как голландская сажа…»
Газик поехал. Мамедов долго не отвечал, держа обеими руками руль и глядя перед собой сквозь стекло, потом сказал:
— Я стихов мало учил, Алексей Михайлович. Вообще, хочу со стройки уходить.
— Почему?
— Так.
Это была новость! Карабаш не выказал удивления и не стал уговаривать остаться: он никогда никого не уговаривал. Он только спросил:
— Работа не устраивает или другие соображения?
— Зачем работа? Устраивает.
— Ну, а что же?
— Так.
— Да что так? Так, так! — с досадой сказал Карабаш. — Любовь у вас неудачная, что ли? К Фаине, что ли, из магазина?
Мамедов кивнул.
— Понятно. — Помолчав, Карабаш спросил: — Она вам серьезно нравится?
Мамедов снова кивнул.
— Так. Понятно. Это, как говорится, каждый решает сам. И все же бросать работу, которая вам интересна, — ведь интересна же? — по-моему, глупо.
— Работать тут можно, кто говорит…
— А там глядите. Я никого не уговариваю.
— Эх, Алексей Михайлович! Хорошо вам говорить, когда у вас… — Он вдруг замолчал.
— Что — у меня?
— Порядок.
Карабаш усмехнулся.
— Порядок, — повторил он тихо и больше не мог сказать ничего. Его как будто ударили. Всем, значит, известно про то, что у него «порядок». Ему сделалось больно и стыдно, и одновременно нахлынула нежность, такая радостная, внезапная нежность к Лере и такая сильная, что он замолчал и не замечал того, что молчит.
И так, в молчании, они доехали до поселка.
Гохберг еще не спал. Как обычно, он крутил ночью радио, слушая последние известия из Москвы в час и в два ночи. Уже все кончилось, передавали музыку. Карабаш спросил, что нового. Когда спутник пролетит над Марыйской областью? Гохберг сказал, что завтра опять неудачный день, пройдет значительно южнее: через Карачи, Вади-Хальфа, Лагос. Слушая музыку, Гохберг ухитрялся еще что-то писать при свете керосиновой лампы на маленьких, аккуратно нарезанных листках клетчатой бумаги. Карабаш заглянул через его плечо. «Анализ работы тракторов С—80, приспособленных для работы в пустыне. Выработка в м3 на 1 моточас…»
— Нескладно: работа, работа, выработка, — Карабаш ткнул пальцем в бумагу. — И зачем вы корпите над этой справкой ночью? У нас еще куча времени.
— Мне хотелось дождаться вас.
— А! Сейчас все расскажу. Одну минуту.
Карабаш вышел на улицу, поплескался в потемках под умывальником и, вернувшись, вытирая лицо носовым платком и быстро расхаживая по комнате, стал рассказывать. Настроение его улучшилось. О словах Хорева он решил забыть и даже не упомянул о них Гохбергу: зачем тревожиться раньше времени?
Он рассказывал о ремонте, о бульдозерах, о том, что везде, в Сагамете и на рембазе, ждут пуска воды в озера. Все знают, что пуск намечен на праздники. И все понимают, что это успех, большой успех, если, конечно, заполнение озер пройдет благополучно, и что успех принесли бульдозеры. Гохберг протирал пальцами слипающиеся веки и зевал, поглядывая на Карабаша внимательно и как-то по-особенному, отчужденно.
Когда кончили говорить о делах, он сказал:
— Все хорошо, Алеша, кроме одного: приезжает Зурабов.
— Кто это? — Карабаш помолчал. — Муж Леры?
— Да. В командировку. Сегодня утром он был в Марах, его видели в конторе. Приедет дня через два, а может быть, завтра.
— Да? Ну что ж. Очень хорошо. А почему вы так возбуждены в связи с этим событием?
— Я? Нисколько! Почему я должен быть возбужден? — Он пожимал плечами, жестикулируя. — Но я хотел вас предупредить… Если вдруг завтра…
— Большое спасибо! — Карабаш поклонился и пожал руку Гохбергу. — Поэтому вы не ложились спать?
— Не только поэтому, разумеется…
— Зря, зря, Аркадий. Вы себя не бережете. — Он взял Гохберга за плечи, потушил лампу, и они вышли из конторы. — Ну, приедет муж Леры, ну и что? Он меня скушает, что ли? Или я его буду кушать? Да ничего подобного! Будем разговаривать о траншейном способе, о дамбах, о Ермасове. Потом он уедет, напишет статеечку «Стальные великаны покоряют пески», вот и все. Спокойной ночи!
В темноте они пожали друг другу руки и разошлись.
Карабаш спал плохо.
Утром, перед отъездом в поле, прибежала на минуту Лера и сообщила ту же самую новость.
— Боюсь, что Кинзерский выкинет какую-нибудь штуку, — сказала она, улыбаясь взволнованно и весело. — Он все время язвит меня.
— Ничего он не станет выкидывать, он интеллигентнейший человек. Лера, а ты хочешь?
— Что?
— Ты хочешь, чтобы я ему все сказал?
Перестав улыбаться, Лера смотрела Карабашу в глаза.
— А ты… хочешь?
Она сделала слабое движение рукой ему навстречу, и он взял ее руку. Они стояли перед открытой дверью, в которую глядело низкое желтое солнце. Было ветрено, дверь скрипела, по песку летели какие-то бумажки. Пробежала, опустив морду к земле, черная собака, и шерсть ее стояла дыбом от ветра. Карабаш гладил шершавую кожу женской руки и думал о том, как ответить Лере. Для этого надо было понять себя. Чего он хотел? Он хотел любить Леру. Он хотел любить ее всегда и хотел, чтобы исчезли неизвестность, и страх, и ложь, и все неудобства, отравляющие их жизнь. Он хотел сказать ее мужу всю правду, и сказать это как можно быстрее. Но не сегодня, не завтра, потому что у него не хватило бы сил на все сразу.
И так он сказал Лере.
— Я хочу, — сказал он. — Очень хочу, честное слово. Но только немного погодя, несколько дней, понимаешь? Вот пустим воду в озера, это большое дело, чтобы не все сразу, а то…
Лера улыбнулась. Напряженность исчезла из ее взгляда, она смотрела легко, сочувственно.
— А то что?
— А то, понимаешь, очень сложно. И так сложно, а будет уж чересчур. На праздники будем заполнять озера, наедет народ, колхозники, начальство, а он должен будет все это описывать… Некстати тут с ним говорить. Ты согласна?
— Согласна, Алешенька, — сказала Лера. — Ты очень предусмотрительный. Ах, счастлива будет твоя жена! Ну, поцелуй меня… — Она приблизилась к нему.
Карабаш поцеловал ее в губы, и Лера, быстро повернувшись, выбежала на улицу.
Три экскаватора — нагаевский, Чары Аманова с Марютиным и Беки с Иваном, — работавшие когда-то особняком, далеко впереди всех, обросли людьми и машинами и превратились в новый отряд, получивший название «Третий». Во главе Третьего стоял Байнуров, бывший прораб. За четыре дня до праздника в байнуровском отряде случилось нехорошее: кража денег. Одновременно пропали деньги у шести человек, живших в большой палатке: у Чары Аманова, Марютина, Богаэддина и Сапарова и у двух их сменщиков. Ребята только утром получили зарплату. В обед Чары глянул под подушку — пусто, он кинулся к Марютину, который работал в забое, узнать, не брал ли тот в шутку или для какой надобности, — тот не брал и, сам напугавшись, остановил машину и побежал смотреть, целы ли свои. У него под подушкой тоже было пусто. В один момент поднялась тревога: все, кто работал в забое, повыключали моторы и побежали смотреть у себя под подушками и под постелями. Деньги, которые не переводились на книжку, ребята хранили таким бесхитростным способом. Чемоданов и сундучков большинство тут не держало, потому что тут жили временно, семьи были в поселке, так что где было прятать — не в песок же закапывать.
Да и не было, правду сказать, ни у кого особенного страха насчет краж. Насчет этого давно стало тихо. Это в первые месяцы, когда налетела на стройку всякая шушера, случались иногда неприятности, и то редко. Отучили быстро. Одного вора Нагаев самолично измолотил до полусмерти: тот у него четвертак вынул в сагаметской столовой.
Все побежали из забоя проверять, цела ли зарплата, все, кроме Мартына Егерса, который сказал:
— Если он взял у меня, — значит, взял, а не взял, — значит, нет. Зачем я буду бежать?
Латыш даже не вылез из кабины и продолжал работать один во всем забое.
Скоро пришел его сменщик Бяшим Мурадов и сказал, что у Мартына все в целости и у него тоже. Деньги пропали только у шестерых, живших в большой палатке, Но всполошились, конечно, все жители лагеря, столпились вокруг палатки и, озадаченные и сердитые, неловкими шутками скрывая смущение друг перед другом, высказывали предположения и догадки. Кто-то намекал на ребят с летучки, приезжавших утром. Кто-то недобро поглядывал на Богаэддина, известного своим прошлым, и парень замечал это и бледнел, сжимая кулаки: у него самого четыре с половиной тысячи пропало. Никто не мог сказать ничего толкового. Вдруг Маринка крикнула:
— Стойте! А где Терентий Фомич?
И тут хватились, что старичка нету. Уйти из лагеря можно было в двух направлениях: к поселку Инче и на запад, в Мары. В пески не побежишь. Байнуров рассудил правильно: в поселок Фомич бежать побоится, а решит, наверно, пройти через целину на запад, по марыйской дороге. Как назло, в лагере не оказалось ни одной автомашины, ребята бросились догонять пешком.
Догнали через три часа. День был жаркий, безоблачный, несмотря на то что ноябрь в начале, на солнце было градусов тридцать. Фомич сидел посреди дороги, белый как покойник, и еле дышал, убитый жарой. Пустыня была ему в новинку. Бутылку воды, взятую из лагеря, он давно выпил, и теперь его мучили жажда и дикий, нечеловеческий страх. Поэтому он очень обрадовался, увидев ребят, и немедля вывалил из-за пазухи все деньги. Жалкий и глупый, сидел он на песке, раздвинув толстые ноги, и, гримасничая и ухмыляясь дурачком, бормотал несуразное. Богаэддин взял его за шиворот и поднял. Ноги у Фомича подгибались, он цеплялся за Богаэддина, чтобы не упасть, и бормотал:
— Ай, господи, как их в руках-то держать, такие страсти денег… Дай подержу, думаю… Хоть денек подержу, думаю, отродясь такие страсти денег не видал…
Сменщик Сапарова ударил Фомича в грудь и крикнул:
— Зачем так сделал, скажи?
— Вот зашибем тебя, гнида, и в песок зароем, — сказал Марютин, особенно обозлившийся, потому что у него пропала выручка за два месяца. — Гнида лысая! — Он тоже ударил Фомича в грудь. — И ни одна милиция не сыщет! — Второй раз он ударил Фомича в ухо, и тот упал.
— Бить не будем, — сказал Богаэддин, загораживая Фомича. — А то изувечим так, что придется на руках тащить, а пускай сам идет. Айда! Деньги чохом берите, там раздуваним…
В лагере Байнуров устроил товарищеский суд, на котором Фомич бормотал по-прежнему несуразное, чего никто не мог понять. Выходило, будто он взял деньги, двадцать две тысячи, вроде как бы для баловства. А зачем из лагеря побежал? Испугался. Чего же? Бить будут. «Я одну думку отвалил случайно, гляжу — пачка сотенных, другую отвалил — еще толщей, третью — еще того толщей, я и стал их, как грибы, сбирать. Хожу и сбираю, хожу и сбираю… Видимо, жар вступил и вышло помутнение… А как набрал кучу, не знаю, у кого сколько взял…»
Стали думать, что с Фомичом делать. В суд подавать — долгая песня, ближайший суд в двухстах километрах. В свидетели начнут таскать, кому охота. А в лагере без кладовщика и заправщика не обойтись. Приняли наконец такое решение: оставить Фомича в лагере, считать его проступок признаком отсталости и бескультурья (формулировку дал Байнуров) и прикрепить к нему для перевоспитания двух комсомольцев — Беки Эсенова и Ивана Бринько. Что должны были делать ребята с Фомичом, никто в точности не знал.
Сразу после «суда» Фомич пошел к своим цистернам и бочкам, а Беки с Иваном побежали в забой.
На другой день историю с Фомичом уже рассказывали как анекдот приехавшим из Маров корреспонденту ашхабадской газеты и фотографу. Фотограф сразу же снял Фомича за работой — старик отпускает топливо бульдозеристу Сапарову — и огорчился тем, что эту мирную сценку нельзя напечатать в газете под названием «Герои недавнего переполоха» или «В Третьем отряде снова все спокойно».
Корреспондент Зурабов бывал на стройке раньше. Он знал Байнурова еще прорабом. Часа два Зурабов сидел в байнуровской будке и записывал цифры выработки и фамилии механизаторов, потом все трое и приехавший вместе с ними из Маров заведующий областным отделом культуры Курбан Кулиев пошли в забой, стояли на откосе и смотрели, как работают бульдозеры, а потом, спустившись вниз, разговаривали с машинистами.
Ашхабадцы были в белых шляпах, в темных очках, концы брюк у них были завернуты и засунуты в носки, и выглядели они оба чудаковато и некстати по-туристски. Зато Курбан Кулиев, в сапогах, в полувоенном костюме и в массивной белой фуражке с широким козырьком, выглядел солидно и боевито.
Никто с определенностью не мог бы сказать, чем занимается на стройке заведующий областным отделом культуры. Он обязан был, кажется, руководить библиотеками, устраивать какие-то лекции, посылать кинопередвижку на трассу. Все это в условиях пустыни было делом затруднительным, подчас невыполнимым, и поэтому то немногое, что делалось по этой части, было вполне под силу политотделу стройки и рядовым коммунистам, — оно и делалось рядовыми коммунистами в поселках и в отрядах, разбросанных по трассе. Когда в Инче, например, в клубном бараке устраивался концерт самодеятельности, то ставилась птичка красным карандашом не только в тетрадках комсорга Ниязова и не только в отчете механика Мухтарова, секретаря партийной организации Пионерного, но и в ведомости завоблкультурой Кулиева, который узнавал о концерте спустя месяц.
Курбан Кулиев гордился тем, что он тоже в какой-то степени, пускай косвенно и не на главном участке, принадлежал к руководителям стройки. Ему нравилось ездить на стройку, инспектировать, помогать советами и заодно охотиться в песках. В поездки он всегда брал с собой ружье.
Кулиев разговаривал с рабочими коротко, по-деловому, но с оттенком проникновенного внимания, которое было коротким и сдержанным лишь потому, что исходило от чересчур занятого человека. Особенно стремился Кулиев запоминать имена и фамилии рабочих.
— Как вас зовут, товарищ? — спросил он у сапаровского сменщика, который не очень охотно спрыгнул из кабины трактора на землю и стоял перед приезжим, смущенно крутя в пальцах папиросу, предложенную ему Кулиевым. Это был длинный, костлявый парень с маленькой головкой.
— Атабалы, — сказал парень. — Ярвалиев Атабалы.
— Почему не помню? Вы давно на стройке?
— Недавно. С армии пришел…
— Из какого колхоза?
— Из «Большевика».
— Женаты?
— Да.
— Жена — чья дочь?
— Реджепова.
Кулиев нахмурил брови, помолчал мгновение, как бы стараясь вспомнить.
— Как зовут жену?
— Аннагуль.
— Сколько классов она окончила?
— Откуда знаю? — Парень вдруг засмеялся.
Стоявшие рядом рабочие тоже засмеялись. Кулиев тоже засмеялся, но потом погрозил бульдозеристу пальцем и сказал строго:
— Как же вы не знаете? Надо поинтересоваться, спросить у жены.
Потом он стал спрашивать рабочих, как они готовятся к встрече Октябрьской годовщины и какие у них претензии к библиотеке. На сей раз поездка была посвящена проверке работы библиотек. Рабочие что-то отвечали. Кулиев записывал в книжечку. Зурабов тоже не терял времени зря, записывал.
Все машинисты, как и весь Пионерный отряд, ждали большого события: заполнения озер, что было намечено на пятое ноября. Рабочие собирались ехать отсюда на восток, к озерам, чтобы присутствовать при торжественной церемонии.
— О, какие люди! Какие люди! — весело заговорил Кулиев, увидев подходившего Нагаева. — Давно не виделись, Семен-ата! Как живешь? Во-первых, здравствуй! — Он протянул Нагаеву руку.
— Здравствуйте, — сказал Нагаев, вытирая руки концами. Он не очень торопился, вытирал основательно, а Кулиев стоял с протянутой рукой и, улыбаясь, смотрел, на него. — Здравствуйте, — повторил Нагаев, сунул грязный нитяной ком в карман комбинезона и пожал руку Кулиева.
Лицо Кулиева было ему знакомо, но что это за начальник, марыйский или ашхабадский, он в точности не знал. Начальников хватает, всех не упомнишь.
— Знакомьтесь, — сказал Кулиев корреспонденту. — Это Семен Нагаев…
— А мы знакомы, — сказал Зурабов. — Я о вас в свое время очерк написал. Его еще по радио передавали. Помните меня?
— Помню, — соврал Нагаев.
— У товарища Нагаева большие перемены в жизни, — сказал Байнуров. — Во-первых, он сменил экскаватор на бульдозер. Во-вторых, женился.
— О! О! Замечательно, Семен-ата. Как зовут жену?
— Маринка. Маша вообще… — И Нагаев отодвинулся, и из-за его плеча появилась Марина в таком же черном комбинезоне, как у Нагаева, только поменьше, и в засученных брюках. Улыбаясь во все лицо, Марина энергично кивала, здороваясь с приезжими.
— И есть еще в-третьих, — продолжал Байнуров. — Наконец-то после долгого перерыва товарищ Нагаев взял ученика. И кого, как вы думаете?
— Я, кажется, догадался, — сказал Кулиев, подмигивая Марине.
— Ага! Точно! — засмеялась Марина. — Я уже знаете как хорошо работаю? Не хуже Семеныча! Только мне теорию нужно подучить. Я теорию, конечно, тоже знаю, но все же, потому что…
— Не трещи, — сказал Нагаев и, повернувшись к Кулиеву, на всякий случай спросил: — А насчет машин ничего там не слыхать? Продавать будут ай нет?
— Каких машин? Не знаю, Семен-ата, не в курсе этого вопроса. Ты обратись к вашим руководителям. Тебе, наверно, скоро автобус потребуется? — Кулиев сделал рукой жест, как бы трогая одну за другой детские головки. — Ты ведь передовик, всегда нормы перевыполняешь. Верно, товарищ Маша?
— Точно! — радостно сказала Марина.
— «Точно», «точно», — проворчал Нагаев. — Тебя на смех спрашивают, а ты — «точно». Пошли работать, а то рада лалакать.
— Послушайте, Семен, — сказал Зурабов, подступая к бульдозеристу с блокнотом в руках. — Мне бы хотелось поговорить с вами — где и когда?
— А после смены, — кинул через плечо Нагаев.
— Ага, после смены заходите, — подтвердила Марина. — Вон наша домушка стоит, самая крайняя. В дверях белое, видите? Заходите, пожалуйста!
Она любезно, как истая хозяйка, улыбнулась Зурабову и побежала догонять Нагаева, который шлепал по песку, заложив руки за спину.
Зурабов решил переночевать в лагере, чтобы посмотреть ночную работу бульдозеров. Так он объяснил Кулиеву. На самом деле ему не хотелось приезжать в поселок ночью, не хотелось, чтобы Лера думала, что он очень уж торопится ей навстречу. Он торопился. Но она не должна была этого знать. Беспокойство томило его все последние дни, уже три недели он не получал от Леры писем, — отцу и Васеньке она прислала две открытки, а ему ничего, — правда, и он не писал ей, но ведь он жил в городе, а она в песках.
Вся эта поездка возникла от беспокойства. Было непонятно, откуда оно пришло: так, ни с того ни с сего. Однажды утром он проснулся и понял, что беспокоится. Проблема бульдозеров интересовала его очень мало, хотя он слышал о ней и в Ашхабаде, и в Марах и даже готовил какой-то материал в газету насчет нового метода. В общем, в его сознании сложилась знакомая схемка: стычка новаторов с консерваторами. Это годилось для любой статьи, очерка, киносценария, для чего угодно, но прежде надо было выяснить самую малость: почему новый метод, явно прогрессивный, встречает такое сопротивление?
Зурабов старался напустить на себя вид заинтересованного человека.
Байнуров объяснял, стоя на гребне откоса. Он ерошил свои черные, лохматые, как тельпек, волосы, нервничал и горячился, рассказывая длинную историю бульдозерной борьбы, причем в его рассказе было мало техники и много запальчивости и громких фраз.
Всех людей Байнуров делил на две категории: «прекрасных» и «отвратительных». «Прекрасными» были Ермасов, Карабаш, механик Мухтаров, еще какие-то деятели, о которых Зурабов слышал впервые, а в «отвратительные» попали бывший начальник Пионерного Фефлов, оба проектировщика, весь Институт гидромелиорации, половина Марыйского управления, почти все Управление водными ресурсами. «Прекрасные» и «отвратительные» враждовали между собой из-за тысячи самых разнообразных, важных и мелких, причин, и одной из форм этой вражды была борьба из-за бульдозеров. Но почему они враждуют? Какого рожна им нужно? Байнуров изумленно таращил глаза: неужели не ясно? Потому и враждуют, что одни из них «отвратительные», а другие «прекрасные». Какая-то мистика, идеализм, вековечная грызня добра со злом, но ничего, кроме такого чепухового объяснения, этот малый, причислявший себя, разумеется, к лагерю «прекрасных», предложить не мог. Он не только объяснял, но и требовал вмешательства.
— Знаете, что вы должны подчеркнуть? — говорил он. — То, что мы пускаем воду на полтора месяца раньше срока, это не только заслуга вот этой самой идеи окольцовки озер, что, конечно, дало огромную экономию, но и заслуга бульдозеров. Подчеркните! Бульдозеров и еще раз бульдозеров. У нас хватает противников, и вы должны нам помочь…
Кулиев не присутствовал при разговоре, он присоединился позже, когда пришли из забоя в лагерь и сели обедать. Длинный, сколоченный из досок стол был укрыт от солнца брезентовым пологом, растянутым на четырех столбах и с одной, восточной, стороны опущенным до земли: для защиты от ветра. Тетя Паша поставила на стол хлеб местной выпечки — его привозили из Инче, где была пекарня, — воду в кувшинах и миски с вареными рожками, в которых были куски тушеного мяса из консервов. Все приезжие проголодались, жадно ели и мгновенно опустошили оба кувшина с водой. Кулиев и шофер разговаривали по-туркменски. Брезентовый полог надувался и шумел, как парус.
Зурабов слушал молодого начальника отряда рассеянно: он не собирался влезать в строительные междоусобицы. Газете нужно другое. Волнение, с которым тут ждали пуска воды, надо было очистить и высветлить — как мургабскую воду, в которой бродит осадок.
— Хорошо, хорошо, — говорил Зурабов. — Я помню. Я напишу о бульдозерах.
— Года три назад я работал на стройке канала в песках, — сказал фотограф. — Там была другая техника, в основном экскаваторы. Немецкие экскаваторы. Я сам был экскаваторщиком.
— Ты был экскаваторщиком? — спросил Зурабов.
— Недолго. Потом я удрал оттуда, потому что там началась страшная эпидемия дизентерии и все остановилось.
— Где это было?
— В Триполитании.
Никто, кроме Зурабова, не понял, где это было. Кулиев и шофер снова заговорили по-туркменски. Кажется, они совещались насчет охоты.
Быстро темнело, в воздухе становилось прохладно, и Зурабов пошел к машине, чтобы взять плащ. К столу один за другим подходили рабочие, только что из забоя. Их сменщики торопливо глотали чай.
Немного погодя, когда стало совсем черно и в крайней будке загорелся свет, Зурабов пошел к Нагаеву.
Он вернулся через час. Фотограф курил, сидя перед входом в палатку, которую им дали для ночлега. Кулиев и шофер куда-то поехали на машине, сказав, что вернутся ночью.
— Тут самое интересное для меня — Нагаев, — сказал Зурабов. — Мне интересно, что он собирается делать со своими громадными деньгами.
— Какой это Нагаев?
— Такой худой, с маленькими глазками. Спрашивал у Кулиева насчет машин.
— А! У него много денег?
— Говорят — да. Когда он зачем-то вышел, я спросил у этой белобрысой, его жены, сколько у них денег на книжке. Она сказала, что не знает. Какая-то полудурочка. Но мне известно, что денег у него очень много.
— Деньги — дерьмо. У меня было много, я мог купить себе пять машин, так что я знаю, что говорю. Деньги — дерьмо.
— Только без проповедей, ладно? — сказал Зурабов. — Я сам парень принципиальный. Откуда у тебя были деньги?
— Были. Иногда. Я занимался кое-какими операциями, не совсем благородными с точки зрения закона. А что мне оставалось делать, когда ни одна собака не соглашалась взять меня на работу? Ведь я человек без паспорта, ничто, лагерная пыль. Я возил контрабанду из Танжера в Марсель. На моторной лодке. Несколько раз у меня были большие деньги, но разлетались быстро, и я опять голодал, изворачивался, клянчил пособие, писал письма: «К вам обращается русский интеллигент, превратностями судьбы заброшенный…» Какой-то бывший ублюдок из Испании, великий князь, что ли, прислал мне двадцать марок. А балерина Наталья Сопина, когда я пришел к ней в Риме, — по-русски она ни бумбум, и, вообще, чтоб ты знал, она не русская, а француженка, — передала через лакея сто лир. Но я знаю, что такое большие деньги. Я держал их в руках.
Зурабов слегка отодвинулся от фотографа и вздохнул.
— Я каждый раз забываю… Ты давно был в Риме?
— В прошлом году, в августе.
— Ну как там было?
— Очень жарко. Все ездили купаться на море, в Остию. Очень жарко было.
Он замолчал, раскуривая погасшую папироску. Зурабов тоже молчал. Со стороны забоя слышалось гудение многих моторов, иногда сквозь гул прорывался тонкий металлический лязг: как будто плакал ребенок.
Кто-то подходил к палатке, осторожно ступая в темноте. Человек остановился в трех шагах от сидевших на песке корреспондента и фотографа, и они увидели его темную фигуру на фоне звездного неба.
— Товарищ корреспондент, не спите? — спросил подошедший шепотом.
— Кто это? — спросил Зурабов.
— Заправщик я, Симеошин.
— Который деньги взял?
— Вот-вот! Я самый, ага! Я то хочу сказать: ребята говорят, вы на меня будто статью напишете…
— Вы сядьте для начала.
— Нет, я то хочу сказать: не надо, товарищ. Умолять вас буду… — Темная фигура вдруг исчезла со звездного неба, и раздался глухой стук повалившегося на землю тела. Старик на коленях пополз к Зурабову.
— Встаньте!
Тот вскочил на ноги.
— Вы что?
— Товарищ, нельзя про меня печатать, никак нельзя! Ей-богу! Послушайте!
— Встаньте!
— Послушайте: у меня дочка в Харькове, на третьем курсе учится, на инженера. Ведь прочитает… Я то хочу сказать: невозможно! Дело немысленное…
— О чем же вы думали, когда деньги крали? — спросил Зурабов.
— Через мою слабость у них всю жизнь страдания — это вы понимаете? Негодный я человек, скотина, урод последний. Ай, господи… — Старик продолжал то ли стоять на коленях, то ли сидеть на корточках. Слезливый шепот его шел снизу, от земли. — Если вам жизнь мою рассказать, вы целый роман напишете, не сходя с места. Почему я в пустыню убег — первый вопрос?
— В другой раз расскажете, — сказал Зурабов. — Писать про вас я не собираюсь. Скажите только: вы что хотели делать с деньгами?
Старик поднялся, молча потоптался на песке.
— Не знаю, как и сказать… — Он снова присел на корточки. — Одна женщина попутала. У меня вся слабость через них. Из Маров одна…
— Это даже интересно. Но в другой раз, ладно?
— Можно, значит, быть в надеже?
— Можно, можно. Писать про вас не буду, не тот товар.
Заправщик ушел, и двое некоторое время сидели молча, потом Зурабов спросил:
— Когда ты был в Риме, у тебя было много денег?
— Совсем не было.
— Ну, как же ты?
— Ничего, неплохо. Как раз в Риме было неплохо.
— Да? — Зурабов встал, прошелся в темноте около палатки и снова сел на песок. — Старик, по-моему, врет насчет дочки и женщины. И все врут, ты тоже. Все врут, кроме Нагаева. А простофили, вроде нас с тобой, у которых никогда ничего нет, говорят, что деньги — дерьмо. И «в Риме было неплохо». Интересно, чем же неплохо? Тебя ни разу не били? Ни разу не хватала полиция? Или, может, тебя кормила макаронами какая-нибудь Анна-Мария?
Фотограф молчал.
— Я ни о чем не спрашиваю, можешь не отвечать, — сказал Зурабов. — Просто я хочу сказать, как все мы привыкли к вранью. Я вот ненавижу командировки, ненавижу эти ночевки где попало, на грязной земле, на чужих постелях, когда невозможно вымыться, все тело зудит и чувствуешь себя паршивым уличным псом. Зачем я еду? Затем, что у меня в столе пятьдесят рублей! И больше нет ни копья, одни долги. А мне нужно выкупать пальто, и нужно давать тестю на ребенка, и нужно тратиться на одну даму, с которой черт меня дернул связаться. Не говоря уж о том, что нужно есть и пить каждый день и платить карточные долги раз в месяц. И вот я надеюсь сочинить цикл, обязательно цикл, иначе нет смысла, очерков о стройке, подвалов на пять, это даст мне примерно тысячи две с половиной, и тогда я выкручусь. А ты говоришь, деньги — дерьмо.
Фотограф продолжал сидеть молча, папироса его потухла, и было неясно, слушает он Зурабова, или думает о своем, или, может быть, просто заснул.
— Теперь возьми нашу жизнь с Валерией. Ведь всю жизнь нам не хватает денег, из-за этого ссоры, дом не налажен, нет того, нет другого. Сейчас она мне не пишет. В чем дело? Очередной психоз? Обиды? У нас сейчас, правда, ледниковый период, уже довольно длительный, очень затянулся, но все-таки надо давать знать о себе. А может, ей настучали на меня? — Он говорил тихо и невнятно, как будто сам с собой. — Все возможно. От добрых друзей всего можно ждать. Завтра узнаю. А ведь она меня любит, и я тоже к ней привязан, — да, конечно, — а жизнь как-то не получается…
Фотограф вдруг, зашевелившись в темноте, сказал:
— Я вспомнил, что было в Риме: встретил хорошего мужика.
— Правда?
— Да. Тебе даже не понять, какого хорошего.
— Почему не понять?
— Да так. Не понять. Таких, как ты, в Италии называют «буффоне». Это вроде, как бы сказать, шут гороховый.
— Что? — Зурабов кашлянул, заерзал на песке, собираясь встать, но не встал.
— Пойду заряжу пленку на завтра, — сказал фотограф и вошел в палатку.
14
Было уже около десяти, когда мы вычитали полосу, сократили, утрамбовали и сдали в секретариат. Номер подписывал Диомидов. Сегодня выходила наша праздничная «страница», поэтому мы решили подождать до финала. Как часто бывает, материал подвалил в последний момент. Жорка Туманян приехал из Челекена и привез отличный очерк о нефтяниках, о бригаде вышкостроителей. Написано это было так ярко и сочно — чего, по правде сказать, никто от Жорки не ожидал, — что мы с великой радостью сняли слабенький фельетон Критского и несколько стишков. Кроме того, со стройки канала самотеком пришла забавная рукопись «Записки прораба»: какой-то молодой парень, туркмен, по фамилии Байнуров, прислал отрывки из дневника, где с большой наблюдательностью рассказывалось о том, как возникало взаимное доверие между молодым прорабом и экскаваторщиками. Из этой рукописи мы взяли отрывок с описанием песчаной бури. В общем, наша «страница» окрепла, за нее можно было не волноваться. И главное — из нее вылетел Хмыров. После того вечера, когда я разыграл его по телефону, он вдруг совсем перестал звонить: видно, испугался, что мы в самом деле обратимся в Министерство культуры, и счел за благо не рыпаться. А Диомидова мы сумели убедить перенести хмыровский кусок на декабрь. В общем, Хмыров, как говорится, «выпал на вираже», и я мог гордиться: это случилось благодаря моей мистификации.
Все рано ушли в тот вечер, остались мы двое — я и Тамара Гжельская. В ожидании, когда Диомидов напишет: «В печать», мы сидели в большой комнате, Тамара — на диване, а я — верхом на стуле, и разговаривали о землетрясении. Не помню уж, как зашел разговор. Кажется, так: мы заспорили по поводу какого-то стишка, я ругал его, а Тамара защищала, вернее, говорила, что он вполне «на уровне», не хуже других, и сказала, что у меня несносный, спорщицкий характер, выработавшийся от холостяцкой жизни, и мне, мол, надо поскорее жениться. Я сказал, что то же самое относится и к ней самой. Тамара продекламировала из Кедрина: «Мой жених крылами чертит страшный след на поле бранном…» Дмитрий Кедрин ее любимый поэт, она знает многие его стихи и поэмы наизусть. Жених Тамары погиб во время землетрясения. Вот так мы заговорили о землетрясении.
В этом городе не любят говорить о землетрясении, но если уж начинают рассказывать, рассказывают долго, с мучительными подробностями. Все рассказы чем-то похожи (те, кто остались в живых, говорят, что спаслись чудом), но в каждом — своя боль, своя ужасная, неповторимая подробность. Я слышал много таких рассказов. И так же, как ашхабадцы не любят рассказывать, я не очень люблю слушать, но слушать нужно и рассказывать нужно, потому что это страшная правда о земле, о людях, о жизни и смерти.
Тамара Гжельская попала в Ашхабад в сорок первом году, эвакуировалась из Тирасполя вместе с матерью и младшим братом. Отец воевал, в сорок третьем погиб. Тамара работала на текстильной фабрике, вечерами училась, потом, окончив школу, поступила в университет. Она была студенткой второго курса в тот год, когда случилось несчастье. Ее спасло то, что она в ту ночь легла спать не на свою кровать, а на диван: случайность, зачиталась Чернышевским и задремала на диване около часу ночи. После первого толчка она оказалась в дверях, под самой дверной перекладиной. И когда через семнадцать секунд ударила вторая волна и все обрушилось, перекладина почему-то устояла. Всю комнату завалило, нечем было дышать, в рот набилась пыль. Тамару завалило до подбородка, она слышала, как кричала соседка: «Тамарочка, помогите! Откопайте моих детей!» А Тамара ей кричала: «Я не могу шевельнуть рукой!» Через час она кое-как выбралась из-под обломков. Она думала, что упала атомная бомба. Тогда многие так думали. Мать погибла, она лежала как раз на том месте, куда упали балки со второго этажа. Она не отзывалась на крики. Но умирать от горя было некогда: надо было спасать живых. Прибежала подруга Тамары, и они вдвоем стали откапывать соседских детей, потом побежали к университету. Брат Тамары ночевал в ту ночь у знакомых и тоже спасся, ему только немного повредило ногу, он до сих пор хромает. Сейчас ему семнадцать лет. Запомнилось такое: рухнули стены, этажи, все кругом в обломках, под ними люди, а посреди этих обломков, совершенно целенький, без единой царапинки, лежит большой стеклянный абажур. Каким чудом он уцелел? В годы войны мать Тамары купила его на барахолке, его везли оттуда с превеликой осторожностью, боясь случайно уронить. И вот он пережил маму, и дом, и весь город, — зачем, зачем? Эта дикая подробность почему-то особенно потрясла…
— А твой жених? — спросил я. — Он… как?
— Он — ужасно. Землетрясение его как раз пощадило, он спал на улице, в деревянной беседке. И его лишь ушибло доской. Но утром Игорь спасал людей из-под развалин, и внезапно обрушилась стена, и — тут же, на месте…
Она помолчала.
— Он был медик. Студент. Потом были трудные годы, самое трудное — воспитывать брата. Он был нервный, слабый, часто болел, и я все время думала уехать отсюда куда-нибудь на Украину, на запад, но у нас не было денег.
Лицо Тамары сделалось жестким и старым. Она сняла очки, быстро протерла их подолом юбки и вновь надела; большим и средним пальцем она держала очки за дужки, чисто мужской жест, и рука у нее была мужская, крупная, с длинными, широко расставленными пальцами.
Вдруг она улыбнулась. И глаза ее стали веселыми.
— Ты, кажется, считаешь, что любви не существует. Что это наша выдумка. «Любовь — как воля и представление…»
Я смотрел на нее слегка обалдело.
— С чего ты взяла?
— Так, прочитала случайно. Возможно, ты и прав. Но сейчас, спустя девять лет, мне кажется, что я очень любила Игоря — очень, по-настоящему…
— Постой, что ты прочитала?
— Ну, извини меня, пожалуйста, случайно прочитала твой дневник, он лежал на столе раскрытый. Прочитала там про Наташу.
— Прочитала про Наташу? — Я пытался выиграть время и что-то сообразить. — Где ты прочитала?
— В твоей комнате.
— А!
— Прости, я не должна была, конечно…
— Ничего. Не страшно.
— Саша вышел в ресторан и пропал на полчаса, кого-то там встретил, и мне было тоскливо, а эта тетрадь лежала раскрытая, и я даже не поняла сначала, что это дневник.
— Пустяки, там ничего нет.
— Там есть занятное рассуждение насчет того, что у каждого есть свой излюбленный тип, от которого невозможно избавиться. Помнишь? — Она засмеялась. — Помнишь! Я спрашиваю у тебя, помнишь ли ты, что ты сам написал! Да, так вот ты пишешь, что все наши увлечения похожи, они одной масти, одного сорта и с одними и теми же изъянами. Верно? Это, может быть, не ново и пахнет мистикой, но я должна тебе сказать…
Она спокойно философствовала, а я почти не слышал ее. «Так вот что, — думал я. — Ну и ну!» Она считала, наверное, что Саша со мною всем делится, и моя совершеннейшая деликатность и умение не подавать виду казались ей замечательными.
И я подумал о том, что она молодая, полная сил, цветущая женщина и, если приглядеться, не такая уж нескладная. У нее сочный рот. И добрые, коровьи глаза. И она умница…
— Пусть! Ну и что ж? Пусть этот тип или образ создается в нашем воображении, что нам за дело, если он греет нас, приносит тепло и даже счастье?
Мне следовало что-то сказать, никак не обнаруживая своего изумления и растерянности, и я стал зачем-то рассказывать о том, что Атанияз нашел мне комнату и после праздника я туда перееду. Это недалеко от гостиницы, на той же улице, только подальше от центра и на противоположной стороне. В квартире одного директора овощного магазина, родственника Атанияза. Там есть водопровод, телефон, окна выходят во двор, первый этаж…
Меня выручил звонок от Диомидова. Мы зашли в его кабинет. Он уже подписал полосы, выглядел вполне удовлетворенным, и теперь ему хотелось поговорить. Диомидов любил иногда поговорить о стихах, о литературе и, если бывал в хорошем настроении, экзаменовал авторов и сотрудников литотдела: «Вот вы, литераторы, поэты, а ну-ка, ответьте — чье это?» И читал какие-нибудь заковыристые строчки, которые никто не мог узнать, и глубокомысленно ухмылялся, не раскрывая тайны. В редакции подозревали, что это его собственные стихи, написанные в ранней юности, когда он был еще худ, лохмат и неосторожен… Потом оказалось, что он читал Агнивцева.
Но такие минуты откровенности и лукавства бывали у него редко.
Сегодня ему все как будто понравилось, за исключением стихов Котляра, которые он назвал дежурным блюдом. Странное дело, он всегда отзывался о Котляре иронически и регулярно его печатал! Зато мы услышали почти панегирик по адресу Туманяна: «Вот настоящий праздничный материал. Тут и коллектив чувствуется, и живые люди, и, главное, это на основную тему: о коммунистическом труде. Растет, растет Туманян!»
Потом он поздравил нас с наступающим праздником, и мы ушли. Редакционная «Победа» стояла возле ворот, ожидая нас, чтобы развезти по домам. Шофер спал в темной кабине. Но мы с Тамарой решили пройтись пешком.
Несмотря на поздний час, на улице чувствовалось предпраздничное оживление. Какие-то люди, стоя на крышах домов и на приставных лестницах, прикрепляли к стенам лозунги, флаги и большие портреты, обсаженные электрическими лампочками. Зеваки стояли внизу и давали советы. Магазины не торговали, но витрины были освещены и продавщицы возились за стеклами, расставляя цветы среди пирамид из фруктов, бутылок вина, пачек сахару, мыла и консервных банок, сложенных таким образом, что из них получалась юбилейная цифра или же слово «мир». Все спешили использовать эту последнюю ночь перед праздником: завтра было воскресенье.
Я провожал Тамару домой.
— Я так жалею Сашу! Мне хочется помочь ему, — говорила Тамара. — Ах, если бы я могла отдать ему свою энергию, свою веру в жизнь, свою устойчивость в жизни! Ведь он неврастеник, он слабый, впадает в уныние от малейших неудач. В его характере много смешного и немужского, он в чем-то еще мальчишка, правда? Ведь ты знаком с ним давно? Ты согласен?
— Я знаком с ним давно. Но он стал каким-то другим.
— Да, он изменился. Он изменился даже за тот срок, что я его знаю. И виновата его жена, эта гадина. Я ее ненавижу.
— Почему гадина? Ты не знаешь ее.
— Нет, это ты не знаешь, а я знаю. Они живут кошмарно, бредово, в обоюдной ненависти. То есть это так страшно — их жизнь, — что ты не представляешь. И вместо того чтобы что-то исправить, как-то наладить жизнь, она убегает от семьи в пустыню, бросает ребенка на теток, на беспомощного старика отца, исчезает на месяцы, на полгода… Изменяет ему.
— Откуда ты знаешь?
— Я видела во сне. Она ему изменяет. Я не сказала Саше, чтобы не огорчать, но это правда. Не улыбайся, я верю снам — моя бабушка была цыганка, умела ворожить и научила меня разгадывать сны.
— Ну какой вздор ты говоришь!
— Вот увидишь, что я права. Она глупа, эта самая Лера, и не понимает того, что ее муж талантлив, он человек тонкой духовной организации и мог бы добиться очень многого, если бы правильно жил…
— Что значит талантлив? — спросил я. — В чем выражается его талант?
— Он талантлив, — сказала Тамара. — Но он ужасно ленив душой, у него нет вкуса к работе и к жизни, и виновата эта женщина. Его тылы разрушены. Ему холодно жить, все ветра продувают его насквозь. Ах, если бы он доверился мне, я бы поставила его на ноги, как Женьку, моего брата! Но он странный. Он очень странный, Саша, очень странный…
Последние слова она произнесла тихой скороговоркой.
Проспект был безлюден. Наши каблуки громко стучали по асфальту тротуара, усыпанного сухими листьями. Тамара не отставала от меня и не просила идти медленнее, хотя мы шли скорым, солдатским шагом. Она энергично размахивала руками.
Я думал о том, как мы ошибаемся, разгадывая людей, и тут ничего не поделаешь. Та же история, что с любовью: мы придумываем. Вот она придумала Сашу, придумала его жену, и сразу ей стало легче жить, хотя она и страдает. Ее страдания радостны. Она написала, наверное, кучу стихов.
— Понимаешь, в чем дело, — сказал я. — Саша немного не такой, как тебе кажется. И Лера тоже. Ничего не поделаешь, мы все выдумщики, благо мы люди начитанные и с высшим образованием. Я тоже выдумщик.
Она посмотрела настороженно:
— По-твоему, все это не настоящее?
— Я не знаю. Бывает трудно понять, где выдумка и где настоящее.
— Ну нет. — Она помолчала, обдумывая про себя мысль, потом повторила уверенно: — Ну нет уж!
На перекрестке при свете «юпитеров» рабочие сколачивали деревянное сооружение, то ли трибуну, то ли какой-то огромный макет. На асфальте лежали куски красной материи, фанерные щиты, непонятно раскрашенные. Электрики тянули поперек улицы гирлянду лампочек. Внизу суетились какие-то люди, громко кричали, жестикулировали, командуя рабочими, которые поднимали большой круглый щит, изображавший земной шар.
Наконец земной шар, слегка покачиваясь, взгромоздился на положенное ему место. Рабочие тянули снизу другой щит, на котором был нарисован спутник. Вдруг Тамара взяла меня за руку:
— Посмотри, вон Борис Григорьевич стоит!
Поодаль от места стройки, прислонясь к ограде, стоял Борис Литовко и смотрел из темноты на работающих. Нас он не видел. Мы были на противоположной стороне улицы. И мы не подошли к нему, потому что было так необъяснимо то, что мы застали его ночью, одиноко, бессмысленно глазеющего на уличную жизнь.
Тамара даже ускорила шаги.
— Он мне жаловался, что совсем не спит, — сказал я.
— Я знаю. Я доставала ему лекарство. Вот что такое, когда человек остается один, — сказала Тамара. — И когда это не выдумка, а самое настоящее.
15
— Давай, Семеныч! Скорей, Семеныч! — слышался снизу, с дороги, здоровенный бас Ивана Бринько.
— Се-ня! Се-ня! — кричала Марина.
Нагаев, нисколько не торопясь, шнуровал ботинки, потом накинул куртку на плечи, взял папиросы, сунул в брюки пятьдесят рублей на всякий случай и вышел из будки. Степенно спускался по бархану. Водитель непрерывно сигналил. Нагаеву ехать не хотелось, но оставаться в лагере одному было, конечно, глупо.
Весь Третий отряд, с Байнуровым во главе, уже затолкался в кузов. Передние стояли, держась за крышу кабины, остальные сидели на корточках вдоль бортов и на досках, сложенных посредине кузова. Марина сидела сзади. Она подала руку Нагаеву, помогая ему перелезть через борт.
— Вот жена! — сказал Иван. — Мужа одной ручкой тянет — это да.
— Вся в Демидыча, — сказал кто-то.
Тут пошло веселье.
— А что? Маринка у нас дай бог!
— Сила! Молоток баба.
— Семеныч, а тебе частенько достается?
— Го-го!
— А вам завидно, завидно? Дурачки-то! — Марина, как всегда, пьянела от веселья, шуток, грубоватого мужского внимания. Очень ей хотелось ударить кого-нибудь из парней по спине, но она боялась, что это может не понравиться Семенычу. Он сидел молча, поджатыми губами мял мундштук папиросы.
Грузовик неожиданно рванул, передние попадали назад. «Ай, мамочки!», «Держись за землю!». Иван повалился спиной на Марину и на сидевшего рядом с нею Нагаева, и Марина сладко, изо всей силы, влепила ему ладонью по хребту.
— Эй, не дерись! Ты теперь замужняя, его бей!
Кое-как умялись, ухватились кто за что. Качаясь с борта на борт, набирая скорость, грузовик погнал по дороге на восток.
Все радовались празднику, нежаркой погоде и тому, что предстояло увидеть. Пронзительно, деревенским своим голосом Марина затянула песню «Ландыши», кто-то из стоящих впереди, чуть ли не сам Байнуров, запел другое. Из-за ветра и шума мотора понять, что он пел, было трудно. Загудел басом Иван Бринько. Пели «Ландыши», «Подмосковные вечера», потом почему-то «Врагу не сдается наш гордый „Варяг“. Встречный ветер летел с песком, отчего все отвернули головы назад и смотрели на горбы барханов, на сухую желтую пыль за грузовиком, которая, долго не оседая, стояла туманом в воздухе.
Нагаев огорчился еще вчера, когда узнал, что снимать перемычку назначили Мартына Егерса. Виду не подал, но огорчился крепко. Оттого и ехать и смотреть на всю эту свадьбу не хотелось. Для других невидаль, а он насмотрелся, сам дважды перемычки вскрывал, хотя и был экскаваторщиком и на трактор его приглашали сесть единственно из уважения.
Утром Марина принесла новость: у латыша разболелись зубы, и он чуть свет уехал в поселок, а оттуда в Мары, к доктору.
Нагаев в первый миг даже нехорошо как-то обрадовался, но предчувствие подсказало, что радоваться не надо. Взамен назначат кого-нибудь из молодых, это уж точно, Сапарова, например, или Богдана Ибадуллаева.
Когда подъехали к месту, там уже стояли грузовики из поселка, к бортам которых были прибиты красные полотнища с лозунгами, и легковой газик начальника. Зрители заполнили откосы готового участка. Тут были рабочие из Инче, многие из них приехали с женами и детворой, тут были гости из Ашхабада, из Маров и Сагамета, колхозники из примургабских колхозов и чабаны, пришедшие с севера, с дальних пастбищ. Некоторые усаживались на песок, другие перебегали с места на место; молодые парни, дурачась и хохоча, толкались и валили друг друга наземь, и тут же бегала ребятня и носились собаки, возбужденные скоплением людей и запахом воды. Белые и голубые рубахи рабочих, меховые шапки пастухов, пиджаки и шляпы городских приезжих колыхались пестрой стеной, все это двигалось, шумело, смеялось, трепетало на ветру.
В отдалении стояли верблюды, с которыми пришли чабаны. Как всегда, они стояли разрозненно, каждый сам по себе, и настороженно, боковым взглядом, наблюдали издали за толпой людей. А чабаны спустились по песчаному откосу вниз и, сидя на корточках, плескались в воде. Они наслаждались водой. Они играли ею, опускали и вынимали из воды кисти рук, шлепали ладонями по поверхности, вздымая волну, и легонько брызгали друг в друга и, держа ладони ковшиком, бережно поднимали воду и мочили лицо. Мокрыми ладонями они проводили по глазам и губам, и было похоже, что они целуют воду.
Самый старый из них тихонько смеялся, открывая беззубый рот. Их было четверо. Они не замечали того, что на них смотрят сверху и рабочие-туркмены что-то кричат им по-туркменски.
На перемычке стояли скрепер с бульдозером, пока что без машинистов. Нагаев с Мариной, которая цеплялась за него, норовя идти с ним под руку, протолкались поближе к перемычке и сели на песок. Марютин встал сзади. Все трое лузгали семечки. Нагаев сделал равнодушное лицо и старался не смотреть на перемычку: его мучительно интересовало, кого посадят на бульдозер. Беки и Чары Аманов примостились в стороне, а Иван увидел в толпе Фаину и пошел к ней.
— Сюда идите! К нам, к нам! — закричала Марина, заметив Котовича с женой. — Тут семейные сидят! Мы тут всей семьей! Ага, к нам идите!
— Да ладно звонить… — проворчал Нагаев.
Дуся, жена Котовича, была в очень красивом голубом крепдешиновом платье в мелких цветочках, в соломенной шляпке, к которой были приколоты искусственные незабудки, и держала в руках большую лакированную сумку зеленого цвета. А сама Дуся была худая, большеносая, с красным шелушащимся лицом. Она с гордостью сказала, что платье и сумку ей подарил к празднику Котович. Марине на минуту взгрустнулось — Нагаев ничего не подарил ей к празднику, — но она сейчас же отбросила неприятные мысли, подумав о том, что она молодая и красивая и нравится ребятам, а Дуська Котович уже старуха, ей тридцать шесть лет, и она вся в морщинах.
Стоя на грузовике, начальник отряда Карабаш говорил речь. Он говорил о большой победе, которую одержали строители, завершив здесь работы на полтора месяца раньше срока, потом стал перечислять лучших механизаторов, награжденных по случаю праздника и досрочного выполнения работ премиями. Рабочие, постепенно окружившие грузовик, после каждой фамилии хлопали в ладоши, кричали «ура» и даже подсвистывали, потому что у всех было веселое настроение и хотелось шуметь. Нагаев слушал напряженно. Наконец, семнадцатым или восемнадцатым, его тоже назвали в списке премированных, но премия его была меньше, чем первых шестерых, среди которых были Мартын Егерс и Сапаров, и снова толпа стучала в ладоши, кто-то радостно ткнул Нагаева в бок, кто-то крикнул «ура», а кто-то громко свистнул два раза. Нагаев краем глаза усмотрел свистуна: это был Беки. Через толпу к Нагаеву пробрался ашхабадский корреспондент, пожал ему руку и встал рядом.
После начальника выступал Сапаров, потом — один председатель колхоза, или, как их называли по-местному, «башлык», из Байрам-Алийского района, худой высокий старик с длинными, необычными для туркмена сивыми усами. Старик объяснял, что такое вода для туркмена. Он рассказывал, как было в старину. Раньше, например, богатые люди сидели в голове каналов, а бедняки в хвосте, и бедным всегда доставались остатки воды, а в засушливые годы они совсем погибали. Холостяк не имел права на водный пай, и отцы старались как можно раньше женить сыновей. «Башлык» говорил без бумажки, рассказывал попросту, как было дело. Может быть, он говорил о себе. Может быть, он вспоминал отца, сидевшего в хвосте канала. Все слышали нежность, звучавшую в его голосе, когда он произносил слово «сув» — вода: понижал голос почти до шепота и протягивал руку к откосу, держа пальцы горстью, как будто хотел зачерпнуть воды. И все слушали его тихо. Он рассказывал о прошлогоднем неурожае, когда пересох Мургаб, а будь к тому времени канал — амударьинская вода могла бы спасти поля.
Закончил «башлык» старой туркменской поговоркой:
— Счастлив народ, у которого есть пустыня и вода!
Потом опять вперед выступил начальник отряда Карабаш и объявил:
— Вскрыть перемычку поручается передовым механизаторам нашего отряда, скреперисту Шахназарову и бульдозеристу Мурадову.
Вот этого Нагаев не ожидал! Он даже вздрогнул. Марина захлопала в ладоши и закричала с восторгом: «Бяшимка, ура-а! Наш участок дает!» Шахназаров побежал, по перемычке к скреперу, за ним не торопясь, важный, как гусь, зашагал Бяшим Мурадов.
Взревели моторы. Не прошло и двадцати минут, как машины растащили песок почти до уровня воды: перемычка была довольно узкая, в два бульдозерных ножа шириной. Ее нарочно делали из насыпного, а не из материкового грунта, чтобы она легче разрушалась водой. И вот уже вышли два пастуха с кетменями — один старик, другой помоложе, с черной бородой, — и несколькими ударами проделали в песке коридорчик для воды.
И вода пошла.
Сначала робко, тонким ручейком в два пальца, не видным издали, но с каждой секундой желобок в песке размывался все глубже и шире, вода бежала все быстрее, и, подхваченные движением, все большие комья песка, крошась и разламываясь, неслись вместе с водой. В несколько минут перемычка растаяла. Коричневым, лавообразным потоком, толкая перед собой пухлые сгустки пены, амударьинская вода двинулась по сухому руслу готового участка.
В это время кто-то закричал озорным, залихватским голосом: «Даешь начальника!» — и несколько человек, подхватив Карабаша на руки, расталкивая толпу, тяжело засеменили к откосу. Начинался ритуал, которому должно было подчиниться. Под визг женщин и дружное хоровое «ура» Карабаш полетел в воду. Следом за ним схватили Гохберга, который тоже не сопротивлялся, когда его несли к воде, но по дороге вынимал из карманов и раздавал документы.
— Ура-а-а! — Растопырив руки, полетел в воду Гохберг.
— Ура-а-а! — Раскачали и бросили Ниязова.
— …а-а! — Как ни отбивался упрямый Байнуров, как ни кричал, что не умеет плавать, кинули и его лохматой головой вниз. Потом тут же вытянули на берег.
А дальше пошла свистопляска сверх программы. Добровольцы кидальщики, среди которых свирепствовал Иван Бринько, стали хватать кого попало и швырять в воду. Некоторые прыгали сами, другие поспешно раздевались, а те, кто боялся воды, ринулись прочь от берега, но не убегали далеко, потому что всем хотелось посмотреть, как купают других. И все это сопровождалось хохотом и непрерывной музыкой аккордеона. Марина, легко поддавшись общему исступленному и на миг ставшему почти безумным веселью, вдруг закричала: «Сенечка, ура!» — и толкнула Нагаева так нерасчетливо сильно, что он слетел с откоса и бухнулся в воду почти до пояса.
— Ты что? Черт, корова! — разъяренно закричал Нагаев, выбираясь из холодной воды на берег. Весь мокрый, облепленный мокрой и грязной от приставшего песка одеждой, Нагаев погнался за Мариной, а та бросилась наутек, крича плачущим и смеющимся голосом:
— Ой, Сенечка, прости! Я же не нарочно!.. Ой, господи!
Нагаев догнал, схватил железными, как когти, пальцами за руку, рванул так, что она села на песок. Процедил сквозь зубы:
— Дурака из меня лепишь? Поехали домой!
— Ой, Сенечка, да я ж…
— Ну?!
— Сенечка, прости меня, золотой ты мой, драгоценненький! Я тебе брюки выстираю, выглажу — будут как из магазина. Ну что ты как волк? Надо же, разозлился… Сень, ну прости! Ну, честное слово, Сень!
— Поехали!
— А на чем поедем? Сейчас машин нет.
— Найдем.
Марина встала, пригладила волосы, заправила блузку, выбившуюся из-под пояса. Она уже не смеялась. Лицо ее приняло выражение растерянности и обиды. Нагаев выбрасывал из коробки на песок намокшие папиросы.
Подошел Марютин, заговорил не то чтоб строго, а так — для порядка:
— И зачем такое баловство делать? Кто его придумал — людей купать?
— Ну искупала, ну нечаянно, ну извинилась! — вдруг громко, с вызовом, обращаясь к отцу, закричала Марина. — Вон начальники мокрые ходят — и то ничего! Я ведь не хотела его купать, правда же? Я у него сто раз прощения просила, а он какой-то… Ну его!.. Чего ему надо? Домой я не поеду.
— Поедешь, — сказал Нагаев и взял Марину за руку.
Она вырвала руку.
— Не поеду! Я кино хочу смотреть. Я с ним сколько живу, еще ни одного кино не смотрела. Всем подарки к празднику, Дуське Котович вон какую сумку купили, а он меня домой тащит. Не поеду! Ни за что не поеду!
Они стояли на крутизне. Вокруг толкались, бегали, хохотали, внизу, у берега, барахталось человек двадцать. Некоторые из туркмен, не умевшие плавать, — откуда пустынным жителям такое умение? — кричали испуганно, колотя руками и захлебываясь на мелком месте, где достаточно было встать на ноги и выпрямиться. Несколько парней, переплыв канал, карабкались по песчаному склону противоположного берега и гоготали там и прыгали, согреваясь после холодной воды.
— Не поеду, — еще раз тихо повторила Марина.
— Ладно, — сказал Нагаев. — Черт с тобой.
Повернулся, сжимая кулаки, и пошел. Он чувствовал себя оскорбленным безмерно, и не только Мариной, а всем сегодняшним днем. Он был такой же, как все, как эти веселящиеся, гогочущие. Такой же мокрый дурак, как они. Оставалось одно — напиться и послать всех куда подальше.
Марютин, суетливо и наспех, формальности ради, отчитав дочь, побежал вдогонку за Нагаевым.
Все это происходило на старом, заполненном водой участке, а по сухому руслу медленно продвигалась вода в хлопьях вязкой, кофейного цвета пены. Много людей шли с обеих сторон канала, сопровождая водное шествие, а некоторые, спрыгнув вниз, засучив брюки до колен, шлепали по воде и разбрызгивали босыми ногами пену, и первыми шли пастухи, которые то и дело нагибались, трогали воду и подносили руки к лицу. Вода пахла жирным амударьинским илом, рыбой, плодородием.
По случаю праздника в магазин завезли красное ашхабадское вино. Гулянье крепло час от часу. До темноты, пока нельзя было смотреть фильм, в клубе зарядили танцы, радиола гремела на всю округу, распугивая пустынное зверье и птиц, которые по запаху воды потянулись к каналу. Перед клубом, за врытыми в песок столиками, пожилые люди забивали «козла».
Карабаш и Гохберг обедали в столовой вместе с приехавшими на праздник гостями. Всего было человек пятнадцать: Хорев, Кулиев, представитель Управления водными ресурсами Давлетджанов, инженеры из Марыйского и Керкинского стройуправлений, три представителя колхозов, корреспонденты ашхабадской газеты. Среди них был муж Леры.
Карабаш познакомился с ним мельком еще утром, перед вскрытием перемычки. Они не успели сказать друг другу десяти слов. Муж Леры обедал за столиком вместе с Кулиевым, Смирновым и тем «башлыком», который говорил речь, и Карабаш, сидя к ним боком, почти не видел их, но все время чувствовал и помнил, что муж Леры сидит в двух шагах справа. Он слышал его голос и смех.
Он представлял себе мужа Леры гораздо старше и более плюгавым, а тот оказался довольно моложав, высок ростом, с курчавой шевелюрой; и у него была крепкая мужская рука, но глаза какие-то неопределенные, немужские, и зубы редкие, как у мальчика. Один раз он встал и, подойдя к столу, за которым сидели Карабаш с Гохбергом и Ниязовым, сказал:
— Вы знаете, у меня тут жена, в вашем поселке, а я ее еще не видел. Она в экспедиции Кинзерского.
— Почему же не видели? — спросил Ниязов.
— Она, говорят, вернется с поля к обеду.
Забавно было смотреть на Гохберга. Он сидел не шевелясь, и у него был такой вид, точно он ждет, что сейчас его ударят по голове.
Муж Леры вернулся к своему столику и сел на место. Второй корреспондент был фотографом. Он сильно налегал на вино. Утром, когда он приехал в поселок, и потом, во время пуска воды, он был неразговорчив и мрачен и показался Карабашу неприятным человеком. Почему-то он решил, что этот фотограф большой делец и выжига. Теперь, во время обеда, фотограф оживился, лицо его стало красным, он что-то непрерывно и бурно рассказывал своим соседям, инженерам. Потом вдруг подошел к Карабашу.
— У нас с вами есть общие знакомые. Вернее, были.
— Кто?
— Семенов Валентин.
— Валя? Это мой школьный товарищ.
— Я его знал позже, — сказал фотограф. — Еще по Ашхабаду, перед войной. Его сестра была моей женой.
Карабаш вспомнил: Лера рассказывала про этого фотографа. Какая-то темная, неудачная жизнь, плен, скитания, разбитая семья. В другой раз было бы занятно поговорить с ним, но сейчас, в эту минуту, он был на редкость некстати.
— Вот как? — сказал Карабаш. — Да, мой товарищ. Валька Семенов.
Фотограф продолжал стоять у стола, он чего-то не договорил. Вдруг он облокотился о стол и, наклонившись к уху Карабаша, заслонив рот ладонью, тихо, чтоб не слышали соседи, сказал:
— Моя жена, вы знаете, оказалась не Пенелопа. Я правильно сказал? Которая ждала этого самого… ну, как его?
— Правильно, Пенелопа.
— Да. Я все забыл. За последние сто лет я прочел, может быть, три книги. Она не виновата в прошлом, но теперь, когда я возник, она должна была иначе — понимаете? Не хватило духу. А Лера — другая. — Он зашептал в самое ухо Карабаша: — Лера отличная женщина! Можете мне поверить.
Он отошел к своему столу так же неожиданно, как появился. Никто не прислушивался к его бормотанию, потому что как раз в это время один из председателей колхозов, стоя со стаканом вина в руках, говорил тост. Было уже много выпито и много сказано поздравительных речей и тостов: в честь Октябрьской годовщины, в честь пуска воды, сдачи хлопка, победы над чарджоускими хлопкоробами, в честь первой чайки, прилетевшей вслед за водой в пустыню. «Башлык» предложил тост за здоровье Ермасова, которого ждали со дня на день: он возвращался из Америки, с конгресса мелиораторов. «Башлык» называл Ермасова Ермас-ата. Он рассказал удивительное, чего многие не знали.
Оказывается, тридцать лет назад Ермасов служил здесь в погранвойсках и воевал с Джунаид-ханом. «Башлыка» звали Сапар-Кули-ага, в то время он был молодым милиционером Туркмен-Калинского района, а Ермасов был молодым бойцом. Потом они не виделись много лет и встретились лишь два года назад в Марах, на бюро обкома.
Когда Сапар-Кули-ага закончил свой рассказ и все выпили за здоровье Ермасова, встал Хорев и предложил тост за то, чтобы «наш замечательный производственный эксперимент закончился благополучно, чтобы все было в ажуре». Это был неожиданный и ехидный тост. Большинство присутствовавших, увлеченные общим праздничным настроением, не поняли его смысла. Карабаш понял и промолчал. Однако запальчивый и простодушный Гохберг тут же вцепился в Хорева и потребовал объяснения. А тот словно только этого и ждал — и покатился спор! Все тот же безнадежный, безысходный, осточертевший, как пылюка, как ветер, как сушеная картошка, как холодные ночи: полезно или вредно нарушать проекты, одобренные Управлением водными ресурсами?
Представитель управления Давлетджанов жевал праздничный плов и вставлял изредка то словцо, то междометие в речь Хорева. А чего добивался Хорев? Ничего особенного, просто предупреждал о нежелательных последствиях в процессе эксплуатации. Ведь дамбы, возведенные бульдозерами, отличаются от проектных…
— Боже мой! Какая дальновидность! — кричал Гохберг. — Спите спокойно, Геннадий Максимович: нежелательных последствий не будет.
Гохберг то и дело вскакивал с места и кричал, размахивая вилкой и делая ею колющие жесты в воздухе. Лицо Хорева покрылось пятнами. Инженеры Марыйского стройуправления и добродушный Кулиев убеждали спорщиков примириться и проникнуться торжественным духом дня.
— Не будем портить праздник!
— Забыто! Кончено!
— И вообще — не для столовой!..
Карабаш слушал и помалкивал, усмехаясь в душе. Он видел и чувствовал каждого из этих людей. Гохберг, Ниязов да, пожалуй, еще председатели колхозов и с ними многие другие, которых не было тут, радовались сегодняшней победе так же безоглядно и полно, как радовался Карабаш. Потому что она была делом их рук, делом их жизни. Но были здесь и зрители, сочувствующие, или равнодушные, или даже втайне враждебные, как Хорев, как Давлетджанов, ближайший дружок Баскакова.
Не стоило спорить с ними так шумно и яростно, как это делал Гохберг. Сегодня они в слабой позиции. Их удел — молча жевать плов или же заниматься туманными предостережениями. Благодаря застольному шуму, выпитому вину и некоторому общему утомлению, спор не разросся и праздничное настроение победило. Как ни крути, а в Пионерном сегодня именины! Закончили раньше срока. Могучая экономия. А дальше что ж? Вода покажет. Вода разрешит все споры. Вода — главный заказчик. Да! Именно! А как вы думали? Вода — самый строгий контролер, его не подпоишь…
В таком случае за здоровье воды!
Хорев от волнения начал вдруг жадно есть и за три секунды набил полный рот жареным мясом. Остальные тоже занялись едой, чокались остатками вина, потом кто-то предложил выйти на улицу и посмотреть, как молодежь играет в волейбол и соревнуется в туркменской борьбе гюреш. И все вдруг радостно встали и торопясь пошли к выходу.
На улице к Карабашу подошел Зурабов и опять сказал, что здесь живет его жена. Тут не было ничего нарочитого, просто он забыл, что уже говорил об этом. Он был заметно пьян.
Они остановились возле клуба. Забивальщики «козла» все еще стучали костями, но зрителей около них не было: все перекочевали на спортивную площадку, где состязались гюрешисты.
Наступил вечер, делалось холодно, и Карабаш чувствовал озноб. Но это был не столько озноб от холода, сколько от томящего нетерпения, возникшего неизвестно отчего. Что его томило? Навстречу чему он так нервно и непонятно спешил?
16
Нагаев и Марютин сели на корточки в первом ряду зрителей, Марина отстала от них давно. Кто-то видел, как она обедала вместе с Беки, Иваном Бринько и Фаиной, потом все четверо пошли куда-то за поселок, в сторону озер.
За обедом Нагаев и Марютин распили по бутылке ашхабадского, настроение у обоих взвинтилось, и они почему-то долго спорили на такую тему: могут ли животные мыслить? Разговор начался с собак, которые крутились в столовой, — лохматые туркменские псы с обрезанными ушами. Марютин говорил, что животные могут мыслить непременно, Нагаев утверждал обратное. Приводили разные примеры, вплоть до петухов. Потом пошли смотреть гюреш. И вот, когда сели на песок, сложив ноги по-туркменски, и задымили папиросками, Марютин впервые заговорил о дочке.
— Ты, Семеныч, не сомневайся, — сказал он.
— А что? — спросил Нагаев.
— Не сомневайся, говорю. И все.
— А чего сомневаться?
— Ну и все! У нас такого не водится, чтоб с парнями туда-сюда. Так что не сомневайся.
Нагаев поморщился:
— Ладно! Давай гляди…
На широкой кошме возились два босых туркменских парня в коротких халатах, подпоясанных кушаками. Вцепившись обеими руками в кушаки противника, они изо всех сил раскачивали друг друга, стараясь свалить, бросить наземь или хотя бы приблизить к себе, чтобы схватиться плотнее. Вокруг борцов прыгал по ковру Байнуров со свистком во рту, следя за тем, чтобы парни держались за кушаки как следует, не нарушая правил.
Зрители кричали по-туркменски, подбадривая пальванов. В первом ряду сидели пастухи, среди них два белобородых старика, настоящие знатоки гюреша. Нагаев видел туркменскую борьбу и раньше, и она ему не особенно нравилась. Волынка какая-то. Ходят вокруг да около, за кушаки держатся и кряхтят. А для победы достаточно, чтобы противник коснулся ковра хоть рукой, хоть коленом, — какой интерес! То ли дело в России, где схватываются грудь о грудь, безо всяких кушаков, ломаются так, что кости трещат, и не расходятся до тех пор, пока один кто не припечатан к земле лопатками.
А здесь — вон они, молодцы! — в перерывах между схватками сидят по углам, отдыхают и даже чай пьют из пиалушек.
За спиною Нагаева двое рассуждали вполголоса:
— Тут не на силу, а на хитрость.
— Главное, как пояс завязать…
— Да я знаю! И армяны так борются, и азербайджаны. Татары тоже…
— Тут главное — ноги прячь, а то перекинет…
— Калмыки тоже…
— Какие калмыки? Калмы-ыки! — передразнил Нагаев, оглядываясь. — Мели, Емеля! Калмыцкая борьба совсем другая. Вперед узнай, потом говори.
— Да все одно…
— Калмыки, во-первых, в одних портках борются. Понял? Без халатов. Так что чего зря говорить!
Нагаев произнес это таким грубым, сварливым голосом, как будто незнакомый парень, заговоривший о калмыках, был его личным врагом, а его самого калмыцкая борьба волновала всю жизнь. На самом деле он лишь однажды видел, как борются калмыки (давно, до войны, где-то на Волге, в жаркий праздничный день на деревенском базаре), а сейчас ему просто хотелось поспорить. Нагаев пил вино редко, зная, что оно действует на него нехорошо: он не пьянел, не орал песен, не лез в драку, но настроение у него портилось, и он весь как бы наливался раздражением. Когда Нагаев бывал пьян, ему всегда хотелось спорить.
На кошму между тем вышли Султан Мамедов и тот самый чернобородый чабан, который кетменем рубил перемычку. Когда Султан Мамедов переодевался, — на всех пальванах было два короткополых халата и два пояса, лежавшие кучками по углам кошмы, — стало видно, как он чудовищно волосат. Его спина, грудь, ноги были мохнатыми и черными, и весь он был похож на медведя: низкий, плечистый, с кривоватыми, толстыми в икрах ногами.
— Вот черт страшный! — сказал кто-то.
— Сейчас Сережка даст прикурить, — сказал другой голос.
Туркмены кричали по-своему, обращаясь к чабану. Наверное, давали ему советы. Они хотели, чтобы он победил, потому что он был туркмен, а Султан Мамедов — азербайджанец.
Однако Султан расправился с чабаном быстро: бедняга был хоть и жилист, но худ и не очень проворен. Жизнь в песках располагает к медлительности. Чабан не успел и трех секунд потоптаться на кошме, как азербайджанец вдруг нырнул под него и, на миг оторвав от земли, приподнял над собой и кинул. Так же быстро он кинул на кошму и двух следующих противников.
Вокруг кошмы столпилось уже очень много зрителей. Помощники Байнурова, два молодых парня с повязками на рукавах, непрерывно отгоняли напиравших на ковер зрителей, которых в свою очередь толкали стоявшие сзади. Многие притащили из клуба скамейки и встали на них, чтобы смотреть поверх толпы. Стоявшие позади Нагаева зрители раздвинулись, и вперед протиснулись начальники: Карабаш, Гохберг, газетный корреспондент, еще какие-то чины в плащах и в шляпах. Карабаш присел рядом с Нагаевым на корточки и спросил:
— Ну, кто кого?
Нагаев понял по голосу, что начальник немного навеселе, и это как бы сравняло их, и он заговорил развязно:
— Да кто ж кого! Ясно, ваш Сережка всех лупит, потому что персона, начальника возит. С ним связываться кому охота…
— Поддаются, значит?
— Ка-а-нечно!
— Если уж моему шоферу поддаются, что тогда про меня говорить? Сейчас всех подряд буду класть!
Карабаш подошел к кошме, на которой топтались Султан Мамедов и Богаэддин Ибадуллаев, и обратился к Байнурову:
— Товарищ главный судья, можно записаться в очередь?
— Можно, можно! — серьезно ответил Байнуров. — Через две пары, Алексей Михайлович.
— Да я шучу, дорогой…
В это время на ковре произошло необычайное: зрители зашумели, засвистели, один из стариков побежал к Байнурову и возмущенно что-то доказывал, тряся своим посохом. Богаэддин применил недозволенный прием, и все требовали его дисквалификации. Что именно он сделал, понять было трудно. Байнуров пытался поднять руку Султана в знак присуждения ему победы, но Богаэддин не давал ему это сделать и кричал, что он не согласен и что по кавказским правилам он боролся законно. Тут все стали кричать наперебой, кроме Султана, скромно удалившегося в свой угол, и громче всех кричал Байнуров: «Поезжай на Кавказ! Поезжай на Кавказ!» — и еще что-то по-туркменски и яростно взмахивал рукой, приказывая Богаэддину уйти с кошмы. Но Богаэддин не уходил. Вся эта свара длилась минут пять, спорщики кричали то по-русски, то по-туркменски, то по-азербайджански, а Богаэддин иногда даже по-осетински, потом на ковер выскочила маленькая смуглая женщина в пуховом платке и в черных полусапожках — это была жена Богаэддина, учительница, — схватила своего мужа двумя руками и под общий хохот уволокла в толпу. Потом из толпы вылетели и упали на кошму халат и пояс.
И тут Нагаев увидел, как с другой стороны кошмы в ряду зрителей появились Иван Бринько с Фаиной, а немного погодя к ним пробрались и встали рядом Марина и Беки. Марина тоже заметила Нагаева и отца, сидевших на корточках, и, замахав им рукой, крикнула весело: «Эй, вы, братья-кролики!», из чего Нагаев заключил, что она не прочь помириться. Он сделал вид, что не видит ее. Марютин толкнул его коленом:
— Вот она!
— Не слепой, вижу, — сказал Нагаев.
Иван подошел к кошме и заговорил с Байнуровым: как видно, хотел бороться.
— Внимание, идет моя жена! — вдруг сказал Зурабов. — С каким-то господином в крупную клетку. Сейчас мы ее уличим и приведем сюда.
Карабаш прислушался к тому, как он пробирался через толпу, то и дело повторяя: «Виноват, простите». Прошло довольно много времени, прежде чем Карабаш услышал за спиной движение толпы, оглянулся и увидел Валерию. Она пробиралась к нему. Он сразу увидел ее глаза: с жадным блеском, смеющиеся, глядевшие на него в упор.
У него сильно забилось сердце. Он кивнул и отвернулся. Он чувствовал, что покраснел. Это было глупо. Проходя за его спиной, Валерия шепнула чуть слышно: «Здравствуй, Алеша», а потом он услышал голос ее мужа:
— Знакомьтесь, моя жена… Вы знакомы, наверно?
— Да, — сказал Карабаш, оборачиваясь.
— Конечно, знакомы! — сказала Валерия и засмеялась. Глаза ее просто сияли. У нее был такой вид, точно она именинница.
— А это… — она взяла Зурабова под руку, — мой супруг, Александр Петрович. Журналист республиканского масштаба. Он же выдающийся игрок в преферанс.
— Мы знакомы, — сказал Зурабов. — Ты что?
— Что — я что?
— Ты выпила, что ли?
— Я? О боже! — Она расхохоталась. — Я не то что не выпила, я даже не обедала. Мы полчаса назад вернулись с поля. Спроси у Кинзерского. А вот ты выпил, это точно, я вижу по глазам. Когда ты выпиваешь, становится заметным твое косогласие — обычно оно почти не заметно… Ведь выпил, правда же? Признавайся!
Зурабов пробормотал что-то невнятное. По-видимому, он был ошеломлен так же, как Карабаш. Вслед за Зурабовым боком проталкивался Кинзерский в белой жокейской шапочке и в оригинальной, из толстого ворсистого материала, клетчатой куртке на «молнии». Он молча протянул Карабашу узкую сухую ладонь.
Валерия пробралась вперед. Она была в брюках и села прямо на землю в тесном ряду рабочих, как раз между Нагаевым и Марютиным. Рабочие о чем-то весело, в заигрывающем тоне, заговорили с ней. Она отвечала так же весело.
Она шла напролом, торопила события, и Карабаш понимал это, и ему это не нравилось. Нет, он не трусил, но ему это не нравилось. Все это делается не так. Он никогда этого не делал, но был убежден, что это делается не так.
Прежде всего надо сохранять хладнокровие.
Они стояли позади Валерии шеренгой: Карабаш, Кинзерский и муж. Кинзерский в своей дурацкой шапочке стоял посередине, сложив руки на груди, и выглядел так, как будто он самый главный в этой троице, а Карабаш и муж его помощники. Они смотрели на борющихся на ковре людей и ничего не понимали. «Странно, я не испытываю к нему никакой вражды, — думал Карабаш. — Это потому, что я уже знаю, что я победитель. А он не знает. И поэтому стоять рядом с ним невыносимо. Я бы хотел сейчас уйти, но как это сделать?»
Сделать это было просто, но Карабашу почему-то казалось, что уйти невозможно, он пойман, должен выстоять до конца.
— Алексей Михайлович, вы будете бороться? — вдруг закричал Байнуров. — Ваша очередь!
Полчаса назад Карабаш шутил, а сейчас что-то словно толкнуло его — это был вызов его решимости, его готовности к публичному испытанию, и это было освобождение. Он машинально переступил через сидевших на корточках людей и подошел к кошме. Женский голос крикнул азартно: «Алексей Михайлович, мы за вас болеем!» Карабаш спокойно разделся, расшнуровал и снял ботинки, надел куцый, пропахший потом халат и подпоясался. К нему подошел Байнуров и сделал на поясе узел, какой полагается для гюреша. Карабаш знал, что проиграет, — перед ним стоял, переминаясь на огромных, бревнообразных ногах и улыбаясь во все лицо, Иван Бринько, весивший больше его килограммов на двадцать, — но отступать было поздно.
— Сейчас Ванюшка накажет вашего-то! — наклонившись к Валерии, сказал Марютин.
— Моего? — Валерия посмотрела на рабочего с удивлением. — Он ваш начальник, а не мой. Мой начальник товарищ Кинзерский…
Смеясь, она оглянулась назад и встретилась с холодными глазами мужа. Кинзерский по-прежнему стоял в наполеоновской позе, со сложенными на груди руками, и делал вид, что не слышит Валерии.
«Если Алеша победит, — думала Валерия, — тогда у нас все будет хорошо. Но он не победит. Зачем он вышел? Не могу видеть, как напряглись, как трясутся его руки, как побелело лицо…»
Восторженно шумели зрители:
— Каюк ему! Ха-ха… Держись, Михалыч!
— Хей, начальник! Ур! Ур!
— Бас, башлык! Ур! Ха-ха…
Для них, для этих кричащих, хохочущих, все это было цирком.
Сердце Валерии колотилось. Она отвернулась, когда рыжий парень, обладавший, как видно, лошадиной силой, вдруг рывком подкинул Алешу, и смуглые Алешины ноги мелькнули беспомощно, и туркмены закричали хором, но Алеша не проиграл, нет, он упал на пятки, он удержался, потому что все стали аплодировать, и, когда Валерия снова посмотрела на кошму, Алеша стоял на ногах, слегка присев. Его руки, намертво вцепившиеся в пояс рыжего парня, были белые в кистях. Он упал через минуту.
Возвращаясь к своему месту, Карабаш увидел красные от волнения и нежности глаза Валерии.
Все оборачивались к нему, все аплодировали, хотя он проиграл, и даже кричали ободряюще: «Хей, начальник! Якши! Говы, начальник!» Кинзерский сказал, что это ему напоминало схватку Давида с Голиафом, с той разницей, что Давид оказался без пращи. Потом подошел Гохберг. Уже по его глазам Карабаш понял, что главный инженер готовится произнести нечто товарищески осуждающее.
— Алеша, не могу вас понять: зачем вы это сделали? С какой целью?
— Ни с какой. Неприлично?
— Нет, не то что неприлично, а как-то несерьезно, не к месту. Я стоял рядом с Давлетджановым. Знаете, что он сказал? Вот, говорит, пример погони за дешевой популярностью.
— А ну его к черту!
— Я ему сказал примерно то же, но более вежливо. Однако должен признаться, я сам не совсем понимаю…
— У вас это бывает. Вы частенько не совсем понимаете, — сказал Карабаш и тут же пожалел об этом.
Гохберг, пожав плечами, промолчал и отошел.
Карабаш нарочно остановился не на прежнем месте, рядом с Кинзерским и Зурабовым, а немного поодаль, через два человека от них. Он слышал, что доктор наук и корреспондент газеты о чем-то непрерывно говорят в довольно повышенных тонах. Было похоже, что они крупно спорят. Валерия оглянулась и сказала:
— Товарищи, перестаньте пикироваться, смотрите борьбу.
Смотреть было трудно, потому что стало темно. На кошме боролась последняя пара, встречались два пальвана, не имевшие поражений: Султан Мамедов и Иван Бринько. Ход соревнований свел двух лютых соперников. Зрители понимали, что смотрят не просто схватку гюреша, а нечто более серьезное, и поэтому стояли молча и тихо, а борцы кряхтели, хрипло дышали, кто-то из них даже скрипел зубами, тяжело передвигали свои большие, каменные от напряжения тела, и в сумерках трудно было различить их лица. Карабаш смотрел на борцов и думал о том, чем кончится сегодняшний вечер. Сможет ли он поговорить с Валерией? Успокоить ее? Сказать, чтобы она сохраняла хладнокровие? Куда разместить гостей? Где будет ночевать ее муж? Все это решать должен был он, как начальник участка.
Карабаш подошел к Гохбергу:
— Аркадий, я был с вами резок, не обращайте внимания.
— Что? Чепуха! Я уже забыл! — с жаром заговорил Гохберг. — А что вы сказали? Разве что-нибудь обидное? Во-первых, если б вы сказали обидное, я бы уж как-нибудь ответил — да, да! Вы меня знаете, я в долгу не останусь…
— Конечно. Послушайте, где мы будем размещать всю капеллу? Давлетджанова, Кулиева и председателей можно в гостиницу, верно? Там как раз пять коек…
Они стали совещаться вполголоса.
И как раз когда они дошли до корреспондентов и Гохберг сказал, что муж, наверное, захочет соединиться с женой, так что его и фотографа можно передать в ведомство Кинзерского, в это время Карабаш увидел, что Валерия поднялась и стала пробираться через толпу, а за нею пошли Кинзерский и Зурабов.
Валерия спросила:
— Алексей Михайлович, пойдете с нами?
— Сейчас, — сказал Карабаш. — Аркадий, значит, вы распорядитесь? Я могу быть спокоен?
— Вопрос!
Подождав немного и поглядев на кошму, где все еще возились борцы, Карабаш тоже выбрался из кольца зрителей. Он догнал Валерию и ее спутников возле столовой.
— Мы валимся с ног от голода, — сказала Валерия, — а столовая закроется через пятнадцать минут.
— Я вам не попутчик, — сказал Карабаш.
— Ну посидите с нами! Выпейте чаю, — голос ее немного дрожал.
— Чаю? — он колебался. — Я недавно обедал. Как раз с вашим мужем…
— Ничего, пойдемте, посидим с ними, — сказал Зурабов. — Испортим им аппетит.
— Э, не удастся! — сказал Кинзерский. — Мы, биологи, люди здоровые, и аппетит у нас крепкий. И, что еще важнее, у нас есть аппетит к жизни!
Он засмеялся, подмигивая Карабашу, и рот его сдвинулся набок.
Карабаш вошел вслед за Валерией в столовую. Этого не надо было делать. Не надо было идти с ними. Но он уже не мог отклеиться, его тянуло к участию в этом квартете, и, главное, он чувствовал, что Валерия хочет, чтобы он был с нею.
Он и Зурабов взяли по бутылке пива. Первых блюд не было, плова тоже не было, остались рожки и рыбные консервы. Кинзерский съел подряд три порции рыбных консервов. Зурабов и он продолжали обмениваться колкостями.
Кончилось тем, что они стали вышучивать профессии друг друга.
— Саша! Евгений Николаевич! Перестаньте, — нервно и вместе с тем рассеянно успокаивала их Валерия.
Из соседней комнаты вышел фотограф. Он сидел в столовой с самого обеда, его лицо было совершенно томатного цвета. Он вел под руку подавальщицу Марусю, полную, очень загорелую женщину средних лет, поджимавшую губы, чтобы не прыснуть, и спрашивал, где здесь танцуют. Держался фотограф хорошо, и у него был тупой, аккуратный взгляд смертельно пьяного человека, который изо всех сил старается держаться хорошо. Вдруг он увидел Валерию и, забыв про Марусю, радостно бросился к ней.
Разговаривая с фотографом, Валерия то и дело смотрела на Карабаша, и выражение ее лица показалось ему умоляющим, глаза панические, широко раскрытые. Он испугался. Он подумал, что сейчас она сделает или скажет что-нибудь непоправимое. И это случится здесь, в столовой, на глазах у многих. Внезапно, повинуясь порыву, он поднялся — только немедленный уход мог спасти дело — и сказал, что его ждут в конторе.
Делая общий поклон, на миг он опять увидел ее паническое лицо. Она хотела что-то сказать, но не успела.
Он вышел, неся отвратительное ощущение испуга и малодушия. Через минуту на темной улице он уже жалел, что ушел, но возвращаться было нелепо.
Клуб был заперт, площадка, где соревновались борцы, тоже опустела. Над поселком гремели голоса киноактеров и музыка: все смотрели кино. Карабаш дошел до гаража, сел в газик и поехал к озерам.
Когда он доехал до того места, где еще утром была перемычка, звуки кино стали еле слышны, а огни поселка пропали вовсе. Карабаш вылез из машины и походил по берегу. На темном песке белели какие-то бумаги, обрывки газет. Тихо струилась вода. Стоя на откосе, можно было явственно услышать ее влажный, текучий шелест. Карабаш снова сел за руль и проехал вдоль дамбы на запад. Он обогнул все большое озеро до конца, до горловины, соединявшей его со вторым, меньшим озером, и там тоже остановил машину и вышел на землю.
И снова он услышал явственный влажный шелест воды, временами даже плеск. Вода прибывала. Она шла на запад, несмотря ни на что. Звездное небо чуть заметно покачивалось на ее поверхности. Несколько саксаулов стояли посреди воды, как острова.
Карабаш сел на песок и, дрожа от холода, смотрел на зыбкие звезды, слушал шелест воды, шорохи невидимой ночной жизни, которая уже зарождалась вокруг озер, и на душе у него становилось все покойней. И он даже подумал, что сегодня, в общем, радостный день и что когда-нибудь он будет вспоминать об этих минутах — ночных, тихих, у новорожденной воды — как о счастливейших в жизни.
А сейчас ему было просто холодно. Ему было очень холодно, несмотря на ватную Султанову телогрейку, которую он нашел в кабине.
Через полчаса Карабаш подъехал к своему бараку. Было около одиннадцати вечера. Кино уже кончилось, все стихло. Карабаш быстро разделся, с наслаждением растянулся на койке и закрыл глаза. Заснуть он не успел: в дверь постучали, и вошел муж Леры.
— Это я, — сказал он. — Извините, что поздно.
Карабаш зажег свет и сел на койке.
— Ничего, — сказал он, вновь натягивая рубашку. Он ждал всего — угроз, драки. — Я обычно ложусь поздно.
Зурабов снял плащ, повесил его на гвоздь в углу комнаты и сел на табуретку. Нет, он не собирался драться. Он сказал, что остался без ночлега. Фотограф куда-то исчез, жена живет втроем с подругами в тесной комнате, так что у нее остановиться нельзя, а к Кинзерскому обращаться нет желания. Валерия посоветовала пойти к Карабашу. Он уже заходил полчаса назад, но Карабаша не было.
«Она прислала его нарочно, чтоб мы поговорили», — подумал Карабаш.
— Сейчас я принесу койку, — сказал он, — тут есть лишняя у соседей.
Он вышел на улицу, разбудил стуком в окно своего соседа, заведующего снабжением, и попросил у него койку. Подушка и одеяло были одни на двоих, и Карабаш предложил их Зурабову как гостю. Тот отказывался, Карабаш настаивал, кончилось тем, что Карабаш взял подушку, а Зурабову отдал одеяло. Сам он накрылся кошмой. Все эти простые действия сопровождались неловким, отрывочным разговором. Оба чувствовали себя напряженно. Потом, когда Зурабов заговорил о стройке, что-то спрашивал по-деловому, записывал в блокнот, ощущение напряженности рассеялось.
Неожиданно Зурабов переключился на Кинзерского. Он заговорил о докторе наук со злобной яростью:
— Этот интеллигентный козел, эта рептилия, испортил мне весь сегодняшний день! Чего он лип? Что ему надо? Алексей Михайлович, хочу у вас спросить, только отвечайте откровенно…
— Пожалуйста.
— Я почему-то вам доверяю. Жена говорила о вас хорошо, я помню. Вы мне симпатичны. Я даже хочу начать свой первый очерк так: «Карабаш и Каракумы».
— Почему? — спросил Карабаш. — Что это значит?
— Ничего дурного. Наоборот, в высшей степени похвальное. Ваша фамилия хорошо ложится в заголовке, хорошо обыгрывается.
— Можно еще лучше: Карабаш, Каракумы и караваны, — сказал Карабаш. — Или так: Карабаш и карагач.
— Ха-ха! Верно, верно! — засмеялся Зурабов. — У вас мысль работает. Так вот, дорогой Карабаш, скажите мне честно: Кинзерский тут замешан?
— Где тут?
— Вы знаете. Если уж до мужа донеслось, то вам должно быть известно. Я имею в виду Валерию Николаевну. Ну, что вы щуритесь?
— Нет, — сказал Карабаш.
— Если это он, у меня будет повод побить ему завтра морду. Не потому, что я ревнив, — мне, в сущности, глубоко плевать, — а потому, что он уж больно противен. Это он, ей-богу, это он! Я вам не верю. Он как раз во вкусе Валерии Николаевны.
Зурабов вскочил с койки и стал ходить по комнате. Он говорил так громко, что за стеной проснулся и заворочался снабженец.
— Послушайте, давайте спать, а? — сказал Карабаш, почувствовав внезапный прилив ненависти к этому человеку и желание отделаться от него, забыть его, не слышать.
— Простите, — сказал Зурабов. — Простите, какое вам дело, конечно…
Он лег на койку, накрылся одеялом и затих.
Карабаш погасил свет, залез под кошму. Его обнял знакомый, животный запах шерсти, душный запах, которым он дышал каждую ночь. Этот запах приносил успокоение, но сейчас Карабаш не мог заснуть. Всплыли все тревоги, все мимолетные уколы души, все нервное напряжение прошедшего дня и еще то, что будет завтра и послезавтра. Давлетджанов, Хорев, пьяный фотограф, Гохберг с осуждающими глазами, Бринько, Кинзерский, муж Леры и сама Лера, ее паническое лицо, — в каждом из них была частица тревоги. Но было и что-то другое, радостное. Какой-то звук…
Сразу он не мог сообразить, потом вспомнил: звук текущей воды. Влажный, едва различимый шелест в ночной тишине.
Вдруг вчера на улице я встретил Айну — ту девушку с белыми зубами, такими поразительно белыми на смуглом лице, которая мелькнула когда-то давно, однажды. Есть лица, влетающие в нашу жизнь, как бабочки влетают в окно летней ночью, на секунду, и оставляют странный мгновенный след, иероглиф на дне души. Я не вспоминал об Айне ни разу. А сейчас все всплыло: как мы ходили по осыпающемуся склону, ее крепкие пальцы, запах полыни и чувства ошеломления и новизны, которые переполняли меня.
Она приехала в город на праздники, девятого возвращается обратно в Тоутлы.
Теперь мы ходили не по барханам в пустыне, а по людному городу, от одного книжного ларька к другому. Айна покупала все подряд: Томаса Манна, Вольтера, Галину Николаеву, стихи Слуцкого и «Персидские письма» Монтескье. Все новинки возбуждали ее жадность. Это было мне знакомо. Я тоже, возвращаясь после долгого отсутствия в город, в первую очередь накидывался на книги. Потом мы ужинали в столовой вблизи Текинского базара, где было много приезжих, стариков колхозников и женщин в красных накидках с серебряными украшениями и монетками. В ожидании машин и автобусов эти люди пили чай в столовой и ели мороженое. Один старик вез в аул штук восемь белых фарфоровых чайников и, связав их за ручки, держал на согнутой в локте руке, как вязанку бубликов.
Когда мы вышли из столовой, были уже сумерки. Я проводил Айну до дома и спросил, увидимся ли еще раз на праздники. «Иншалла! — сказала она, засмеявшись. — Если позволит аллах!»
Она пригласила меня на вечер, который должен быть сегодня в доме одного физика, преподавателя университета. Я не мог, я условился с Катей пойти в «Дарвазу», где еще позавчера мы заказали столик. Нет, ничего не выйдет. А может, все-таки выйдет? Попозже? Может, после двенадцати? Там такой открытый безалаберный дом. Там всю ночь курят, спорят, пьют, танцуют на веранде, увитой виноградом, и разговаривают о высоких материях. Ну что ж, если позволит аллах. Я взял адрес.
В «Дарвазе» было как всегда. Мне хотелось пойти к нашим, редакционным, они собирались сегодня у Витьки Критского, два дня суетились, договаривались насчет шашлыка, но Катю манил ресторан, люстры, танцы под оркестр, вся эта ерундовина, которая называется публичным весельем. Кроме того, она достала наконец белый кружевной воротничок, который добывала упорно в течение трех недель, и ей хотелось обязательно прийти в этом воротничке в ресторан. Мы ушли оттуда в первом часу, и, конечно, ни к каким физикам я не попал. Катя пришла ко мне. Ночью я проснулся: она спала рядом, не шелохнувшись, беззвучно. Мы много выпили, особенно я, а я всегда после этого просыпаюсь ночью, часа в два, в три, и не могу заснуть долго. Начинает мелькать прошедший день, разговоры, лица, слова, все это развертывается, как лоскутная лента, беспорядочно, рвано, находят разные мысли, воспоминания о прошлом, о неудачах, обо всем на свете. И так до утра. Моя слабость в том, что я уступаю, уступаю не кому-то, далее не самому себе, а потоку, который меня тащит, как щепку, крутит, мотает, выбрасывает на берег и вновь смывает и несет дальше. И я несусь, несусь!
И сейчас, ночью, лежа рядом со спящей Катей, которая видит во сне белые кружевные воротнички и танцы в зале под люстрами, я несусь в этом потоке и не в силах остановиться. А я бы мог тихо встать и уйти к физикам, к Айне, у нее твердые пальцы, у нее такое странное, широкое в висках, тонкое внизу, золотисто-смуглое, солнечное лицо, она читает Монтескье… Но я не встану. Меня несет поток. Кто-то мечтал о том, чтобы жить так, как хочется, а не так, как живется. Кажется, Ушинский. Как это невероятно тяжело! Самое трудное, что может быть: жить так, как хочется. Мне хотелось пойти к ребятам, но я пошел в ресторан. Вчера в ресторане подошел Хмыров, он улетал в Москву писать режиссерский сценарий и обязательно хотел со мной попрощаться. Благодарил неизвестно за что, чокался, тряс мне руку. А мне хотелось сказать ему напоследок все, что я о нем думаю, насчет навозного жука и так далее, слова вертелись на языке, и к тому же я был пьян, вполне мог сказать, но я ничего не сказал. Тряс ему руку и говорил невнятные любезности. Потому что меня несет поток, бросает на камни, и годы проплывают, как берега, поросшие редким лесом.
Среди ночи Карабаш проснулся. Свет луны заливал комнату. На койке храпел Зурабов.
Карабаш проснулся от внезапного сильного волнения, причину которого сразу не мог понять. У него даже билось сердце. Он сел на койке, посмотрел на светящийся циферблат ручных часов, лежавших на табурете поверх брюк и рубашки: было четверть третьего. Почему-то ему пришло в голову, что Лера не спит и думает о нем. Именно это и разбудило его.
Еще не понимая зачем, он начал поспешно одеваться. Он испытывал нечто похожее на то, что испытывает человек, напившийся до беспамятства и легший в таком состоянии спать, который потом вдруг просыпается среди ночи и, мрачный и трезвый, ужасается тому, что было вчера. Почему он бросил Леру, зачем поехал к озерам? Как он мог оставить ее? Почему ни слова не сказал ее мужу?
Карабаш смотрел на спящего с разинутым ртом Зурабова. Ему хотелось немедленно все решить. Зачем-то он надел пиджак, зашнуровал ботинки и толкнул Зурабова в плечо. Тот не проснулся, зачмокал губами и, сотрясая койку, повернулся на другой бок.
Барак экспедиции Кинзерского находился на западном краю поселка, за кибитками пастухов.
Быстро шагал Карабаш мимо темных будок, темных бараков, темных брезентовых палаток, мимо полусонных собак, которые утробно ворчали ему вслед, мимо кибиток, возле которых серыми неподвижными грудами высились спящие верблюды. Карабаш спешил. Он знал, что Лера не спит и ждет его прихода, или прихода мужа, или обоих вместе. Она правда не спала и вышла сейчас же, как только он стукнул в окно.
Карабаш рассказал, как он проснулся внезапно от стыда и от боли, и как он будил Зурабова, и тот не просыпался, и тогда он побежал сюда, потому что не мог ждать утра. Лера слушала его и плакала. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и Карабаш прикрывал ее плащом, стараясь согреть. Они оба дрожали от холода. Было очень холодно, дул ветер, и стало непроглядно темно, потому что луна пропала за тучей. Карабаш предложил пойти и разбудить Зурабова и сейчас же, ночью, все объяснить. «Как хочешь, — сказала Лера, и зубы ее стучали от холода. — Ты хочешь?»
Он сказал, что хочет. И Лера побежала в дом, надела пальто, и они пошли и разбудили Зурабова. И тот ничего не понимал, слушая объяснения Карабаша, который говорил, стоя перед его койкой и крепко держа Лерину руку, а Лера молчала, сидя на табуретке, а Зурабов продолжал лежать.
Потом Зурабов понял и сел на койке. Он попросил зажечь свет.
Карабаш зажег электрический фонарь.
— Я хочу посмотреть на вас, — сказал Зурабов и, взяв фонарь, осветил им лицо Валерии, потом Карабаша. — Я запомню ваши рожи на всю жизнь.
Он погасил фонарь и бросил его на пол.
— Почему вы хамите? — спросил Карабаш.
— Мы ничего от тебя не скрываем, — сказала Валерия. Голос ее дрожал, но мужчины говорили спокойно.
— Я догадывался, что ты с кем-то спуталась, но не знал с кем. Я думал — с тем старым болваном.
— Я спуталась когда-то с тобой, а Алешу я полюбила. Ну, что говорить! Мы шли к этому, ведь правда, Саша? И вот это случилось. Для тебя это не должно быть неожиданностью.
— Я, кажется, не возражаю.
— Но вы хамите, — сказал Карабаш.
— А что я должен делать? Как себя вести? Научите, я впервые в такой ситуации, — усмехнулся Зурабов, одеваясь в темноте. — Уйти из вашего дома? Сейчас уйду.
— Нет, идти вам некуда. Вы останетесь тут, а уйдем мы, — сказал Карабаш. — Вообще, разговор можно было перенести на утро, но нам хотелось…
— Я понимаю: чтоб было шито-крыто. Ночью никто не услышит. А утром можно делать вид, что все в порядке. Где фонарь? Я не разберу, какой ваш плащ, а какой мой.
— Саша, куда ты пойдешь ночью?
— Бывшая жена проявляет заботу. Мне противно тут находиться, ясно?
— Мы сейчас уйдем. Оставайтесь и спите!
— Бросьте руки! Не цепляйтесь за меня!
— Где вы будете спать?
— Идите к черту!
Все это происходило в темноте. Мужчины боролись, один хотел уйти, другой его не пускал, Лера шарила ладонью под койкой, пытаясь найти фонарь. Потом кто-то с размаху сел на койку, которая, загремев, отъехала по полу.
— Верно, куда я пойду? — пробормотал Зурабов. — Ведь я в пустыне… Я пойман, я пойман!
— Саша, не устраивай трагедий, — сказала Лера. — Ты не так уж убит горем, как хочешь показать. Меня ведь ты не обманешь. Ты не любишь и не любил меня, не дорожил мною, — тут может быть только вопрос самолюбия, а это мелочи, чепуха. Это быстро пройдет.
Помолчав, Зурабов сказал:
— Все это можно было сделать по-человечески, не будить ночью. Какая-то дурацкая сцена из Ильфа и Петрова…
— Да, да! — Карабаш вдруг усмехнулся. — «Волчица ты, тебя я презираю!» Вы извините, это я виноват. Я ведь впервые в роли Птибурдукова.
— Ладно, мне плевать… завтра дайте машину пораньше, часов в восемь. Я поеду на Сагамет и на Головное.
— Машина будет, — сказал Карабаш.
На улице была серая, предрассветная мгла, дул прежний холодный ветер с севера. Лера шла, крепко вцепившись в руку Карабаша, прижимаясь щекой к его плечу, и делала такие же большие шаги, как он.
Карабаш открыл ключом дверь, пропустил вперед Леру, вошел сам и запер дверь изнутри. Они вошли в кабинет Карабаша, где тяжело пахло куревом. У стены стояло рядом три стула. Лера сразу подошла к этим стульям, села на средний и сказала:
— Господи, неужели все кончилось? Мы все сказали, и он все знает… — Она засмеялась тихо. — Сейчас буду спать как убитая…
Она легла на стулья боком, слегка согнув колени, подложив руку под голову. Ее ноги свешивались, она сбросила туфли. Карабаш подставил ей под ноги четвертый стул. С закрытыми глазами, почти засыпая, она сказала:
— Мой родной…
Карабаш снял пиджак, подложил под голову Леры, потом накрыл Леру плащом и, наклонившись, поцеловал ее. Она улыбнулась, не открывая глаз. Вот сейчас, глядя на ее бледное в темноте лицо, провалившиеся, усталые веки, тонкую шею, так беспомощно вытянувшуюся из воротника бедной и грубой кофты, он понял, что любит ее, как никого и никогда в жизни, и будет защищать ее, и не отдаст, и это навсегда, — это случилось сегодня, холодной праздничной ночью.
Он лег на пол. Через три часа в комнату должны были прийти люди, но теперь это уже не имело значения.
17
Утром было серо, дождливо, ничто не напоминало вчерашний солнечный день. Зурабов смог уехать только в десятом часу. Пропал Султан Мамедов: его искали по всему лагерю и не нашли. Оказывается, его схватка по гюрешу с Иваном Бринько — Карабаш видел ее начало — окончилась скандалом. После того как ни один из противников не смог осилить другого и Байнуров уже готов был объявить ничью, Султан вдруг схватил Ивана за голову — это было вопиющее нарушение правил! — и, стиснув под локтем, стал крутить самым бессовестным и примитивным способом, каким борются мальчишки на улице. Возмущенные зрители кинулись на кошму, там шла уже настоящая драка. Разняли драчунов еле-еле. У Ивана было разбито в кровь лицо от удара головой. Все зрители, особенно старики чабаны, ругали и позорили Султана, и тот убежал.
Не нашли его и утром, так что Зурабова повез шофер с грузовой.
Прощаясь с Карабашем, Зурабов говорил о посторонних вещах. У него едва заметно дрожали опущенные кончики губ, и это придавало его несвежему, с набрякшими веками лицу выражение задавленного волнения. Когда к машине подошла Лера, он говорил о переменчивости здешней погоды и о том, что пора влезать в демисезонное пальто.
— Кстати, ты отдавала мое пальто в чистку и срезала пуговицы. Где они?
— Они в круглой желтой коробке.
— Которая на подоконнике, что ли?
— Да, в деревянной. Но ведь мы еще увидимся до твоего отъезда в Ашхабад?
Зурабов пожал плечами. Они разговаривали спокойно. Фотограф, не знавший о ночном разговоре, ничего не мог заподозрить. Он даже предложил, не без ехидства, сфотографировать Леру с мужем и Карабаша стоящими возле машины, и они согласились. Он сказал, что сделает к снимку такую надпись: «Кому подчиняется пустыня».
Пустыня дышала сырым, холодным песком. Невыносима жара, но еще более тягостно и уныло холодное ненастье в песках.
Сев в кабину рядом с шофером, Зурабов сказал:
— Знаете, к утру я согласился с Панглоссом: все к лучшему в этом лучшем из миров.
— С кем согласился? — спросил фотограф.
— С некиим Панглоссом. Тебе это неизвестно. Ты человек серый, приехал из провинции.
— Есть ресторан «Панглосс». Только не помню где: то ли в Марселе, то ли где-то еще на побережье.
— Я имел в виду как раз ресторан, — сказал Зурабов. — Ну, так вот: возможно, мы вернемся через неделю, если поедем обратно на машине, а возможно, махнем из Керков прямо домой. Самолетом.
— Правильно, — сказал Карабаш. — Там летает самолет через день, Чарджоу — Ашхабад.
— Вам очень не хочется видеть меня снова. Даже не можете этого скрыть.
— Почему? Я сказал просто так…
— Но тут сработало подсознание.
— Нет, Саша, он сказал совершенно без всякой задней мысли, — сказала Лера.
— Я думаю, что все же вернусь машиной, — сказал Саша. — Помните, как кончается «Разгром»? «Но надо было жить и исполнять свои обязанности». В том-то и дело. И не смотрите на меня так скорбно, я еще не умер. Поехали!
Он произнес все это спокойно, даже улыбаясь, и при слове «поехали» наклонился через дверцу и выплюнул докуренную папиросу.
Потом был свободный, чистый, промытый дождем, долгий день. Они были вместе. Никто не мешал им. И ничто не мешало. И они наслаждались свободой, чистотой и нежностью друг к другу и завтраком в комнате Карабаша, за столом, застеленным синей калькой, на которой стояли банки тресковой печени, яичница на сковороде с луком и четыре бутылки пива, и наслаждались свежими газетами, только что привезенными из Маров, которые Карабаш читал вслух, и потом наслаждались радиоприемником «Урожай», ловили музыку, а ровно в двенадцать нашли Москву и слушали передачу с Красной площади, парад, демонстрацию, выступления поэтов и разговаривали, ходили босиком по деревянному полу, пили пиво, а Карабаш курил, и иногда к ним заходили люди, но быстро уходили, и они снова оставались вдвоем и наслаждались всем этим одни.
Потом пошли к озерам посмотреть, как идет вода, и наслаждались тишиной, запахом сырого песка, очищающим легкие, и одиночеством среди барханов, и тем, что дождь прекратился, и следами ящериц на твердых склонах, и еще тем, что после дождя дорога стала упругой и можно было ходить долго, не уставая.
В поселок вернулись к обеду. Еще вчера Гохберг пригласил Карабаша на праздничный обед. Там подготовлялось что-то, по здешним понятиям, грандиозное. Софья Михайловна, жена Гохберга, ездила с попутной машиной в Керки, покупала на рынке мясо, овощи, муку, что-то пекла, варила. Кажется, праздник совпадал с каким-то семейным торжеством.
Лера сказала, что ей не очень хочется идти к Гохбергам, с большим удовольствием она пообедала бы в столовой. Она вовсе не рвалась к Гохбергам, но Карабаш настоял, и Лера пошла в экспедиционный барак, чтобы переодеться: она все еще была в брюках. Карабаш ждал ее в своей комнате. На улице продолжалось гулянье. Репродуктор «Октава» оглушительно пел по-туркменски. Какой-то бахши надрывался, не жалея связок. Это громовое пение мешалось с музыкой аккордеонов, доносившейся со стороны клуба, и пронзительным, визгливым лопотаньем частушек.
Карабаш курил, лежа на комке, и думал о том, что в его жизни произошла перемена, которую, как ни странно, он ощущает больше разумом, чем сердцем. Наверное, потому, что он и раньше был счастлив с Лерой. Сегодня спала тяжесть, исчезла препона для чувства, но само чувство осталось прежним. А что дальше? Об этом он не задумывался. Сын Леры, судя по фотографии, кажется, неплохой мальчуган. Надо приучить его собирать марки. Можно вместе ходить на рыбалку. В общем, с ним будет все в порядке.
Карабаша больше занимало и немного тревожило то, что Давлетджанов не захотел остаться в поселке и вместе с Хоревым уехал в Керки. Оба попрощались как-то скомканно, впопыхах, и у них был такой вид, точно они чем-то обижены. Черт их знает чем! Может быть, их уязвило благополучное вскрытие перемычки? Есть люди, у которых портится настроение, когда у других все идет хорошо.
В дверь постучали, раздался голос: «Можно?» — и вошел Гохберг. Он был в новом костюме, в клетчатой рубашке с аккуратно отглаженным воротником и с шелковым, малинового цвета галстуком, заколотым шикарной, анодированной под золото булавкой. Карабаш видел эту булавку впервые. Гохберг сел на стул, поговорил о том о сем, о производственных делах, о Давлетджанове, потом сказал, что Соня приглашает через полчаса. Будут одиннадцать человек. Будут Кулиев, два инженера из Марыйского управления, хорошие ребята, и наши: Ниязов, Смирнов, Байнуров. Разговаривая, Гохберг все время трогал булавку и поправлял галстук.
— Алеша, не опаздывайте, а то остынет фирменное блюдо! — Гохберг поднял указательный палец. — Ну, ждем!
Он уже пошел к двери, но вдруг остановился и, густо покраснев, спросил:
— Вы придете один?
— Нет, почему же, — сказал Карабаш. — С Валерией Николаевной. А что?
Глядя в пол и становясь совершенно малиновым, как галстук, Гохберг сказал:
— Алеша, Софья Михайловна не хочет, чтобы вы приходили с Валерией Николаевной. Она меня просила предупредить вас. Что я и делаю.
— Почему Софья Михайловна не хочет?
— Алеша, у каждого свой взгляд на такие вещи. Софья Михайловна, может быть, чересчур прямолинейна, вам это покажется ханжеством, мне тоже. Но, в общем, это ее право. Я пытался как-то ей объяснить…
— Напрасно трудились. Тогда мой приход к вам, к сожалению, отпадает.
— Но почему же? — Гохберг схватил Карабаша за руку, его круглые глаза приняли отчаянно-умоляющее выражение. — Ее сейчас нет. Почему вы обязаны? Алеша, ну, будьте человеком! Одевайтесь, быстро!
— Нет, я не пойду.
— Но, Алеша! Сегодня двенадцать лет нашей семейной жизни…
— Поздравляю вас.
— Спасибо. Идемте же! Алеша!
— Нет! Тихо!
Карабаш увидел в окно Леру. Она вошла нарядная, надушенная, в белой блузке, в красивом светло-сером костюме, который надела, наверное, в первый раз за время жизни в песках. Плащ она держала на руке.
Привыкший видеть Леру в грязных, рабочих, полуспортивных нарядах, Карабаш, уставясь на Леру, растерянно молчал.
Радостно улыбаясь, она протянула Гохбергу руку и сказала: «С праздником! Мы, кажется, не виделись», на что Гохберг сконфуженно, как-то вдруг согнувшись, ответил: «И вас также. Вы чудно выглядите».
Затем его шатнуло к двери, он прокричал:
— Словом, ждем вас! Приходите непременно!
На пороге он споткнулся. Карабаш смотрел ему вслед. Помолчав, он сказал:
— Мы не пойдем к ним. Пойдем в столовую.
— Да? — Лера продолжала радостно улыбаться. — Почему не пойдем?
— Я не хочу там видеть одного человека. Ну, в общем, неважно.
— Ты с ним не поссорился? Он как-то странно отпрыгнул, когда я вошла…
— Немного. Он хороший парень, с ним ссориться трудно. Сейчас я оденусь.
Карабаш переодел рубашку, накинул пиджак.
— Дождя нет?
— Нет! Никакого. И, по-моему, стало теплее. — Лера все еще улыбалась, но уже менее радостно. — Мне все равно, пойдем в столовую. Я твоих мало знаю, мне с ними немного неловко, поэтому я не хотела вначале, но потом уже настроилась. Тебе нравится этот костюм?
— Очень.
— Нет, правда нравится? — спросила Лера, и глаза ее засияли.
— Честное пионерское. — Он склонил голову набок и оценивающе осмотрел Леру. — Ты в нем здорово красивая.
— Знаешь, у Кинзерского есть киноаппарат, и он как раз сейчас снимает всю нашу экспедицию во время праздничного обеда. Я потому и задержалась, чтобы сняться со всеми. Они меня так уговаривали остаться! Даже неудобно было уходить.
— А может, пойти к твоим пообедать?
— К моим? — Лера посмотрела на Карабаша с некоторым удивлением. — Можно, конечно. Они обрадуются. Только я не знаю, правда…
— Да нет, не стоит, — сказал Карабаш. — Пошли в столовую.
На другой день вышло солнце и стало теплее. Барханы быстро утратили бурый от впитавшейся воды цвет, посветлели и высохли, хотя в ложбинках еще было влажно и парило.
Как гнетет в песках яростное, не знающее меры, каждодневное солнце, но нет его день — и скучно, пустыня становится настоящей пустыней, темной, бессмысленной, неизвестно зачем и для чего, и, не успев отдохнуть от солнца, люди радуются его появлению! И радостно дают себя жечь, терзать и калить.
Так думал Карабаш, сидя за рулем газика. Он ехал на Третий. Всего лишь день прожил он для себя, забыв о делах, оторвавшись от забот и волнений, изнурявших его ночи и дни, и вот уже снова тянуло его ко всей этой кутерьме. Он с удовольствием ехал на Третий, с удовольствием крутил руль и даже как будто ощущал то удовольствие, которое испытывали колеса от упругой после дождя дороги.
Султан Мамедов не появлялся вторые сутки. Кто-то сказал, что он в Сагамете, у своего дружка Гусейна Алиева, азербайджанца, пьет там с горя.
— Вашего Сережку придется уволить, — вдруг сказал, как будто прочитав мысли Карабаша, сидевший сзади Смирнов.
— Не обязательно.
— По-моему, просто необходимо. Гнать поганой метлой. В третий раз затевает драку, хулиганит, тип законченного бакинского бандита. Достаточно посмотреть на его физиономию!
— Не обязательно, — сказал Карабаш.
— Что не обязательно?
— Все это не обязательно. Вы говорите неточные вещи. Он, если хотите знать, отчаянный неудачник.
— Бросьте! Вы про Фаину, что ли? Грязная история, ничего больше…
Смирнов сердито захрюкал. У него был такой особый носовой звук, когда он сердился: он продувал нос, как будто забитый насморком. Карабашу вспомнилось давнее, мельком слышанное: Смирнов будто тоже искал благосклонности по этому адресу, но был отвергнут. Не надо судить людей чересчур сурово. А то скучно жить. Вчера, например, он бешено разозлился на Гохберга и его Софью Михайловну, так возгордившуюся своей высокой миссией насаждать нравственность в песках, но потом подумал-подумал и успокоился. Его любовь к Лере и Леры к нему не стала меньше оттого, что у Софьи Михайловны свои взгляды на «такие вещи».
— А как был шашлык из Гохбергов? — спросил он.
— Шашлык? Ах, шашлык из Гохбергов? Ха-ха! Очень даже неплохо. Жалели, что вас нет. А что с вами стряслось?
«Прекрасно, знаешь, что стряслось».
— Ничего не стряслось, были другие дела в это время.
— А! Ну да… А какие, собственно, дела в праздник?
— Дела личные.
— А! Ну да. Было очень даже ничего, вкусно, вина много. Вообще они нежадные, гостеприимные. Софочка, конечно, надо сказать, грязнуха: вся посуда была сальная…
Карабаш ухмыльнулся.
— Чему вы смеетесь?
— Да так…
— Нет, серьезно?
— Да ничего особенного. — Не сдержавшись, Карабаш рассмеялся громко. — Гость теперь пошел наблюдательный, верно?
Смирнов не ответил, и долгое время ехали молча. Газик взобрался на последний большой увал перед Третьим, и над дальним гребнем, в холодном, кубовой синевы небе уже замаячили две стрелы экскаваторов — рокот моторов был не слышен за шумом автомобильного мотора, — когда Смирнов сказал пресным голосом:
— Если уж приглашаете гостей, то, по-моему, надо как-то постараться, чтоб… — Он умолк, хрюкнул два раза. — По-моему, так.
— Конечно, — сказал Карабаш.
Несмотря на второй день праздника, почти все механизаторы Третьего участка были в забое. Не хватало четверых, и в их числе Мартына Егерса, гулявших в Марах.
Карабаш и Смирнов совещались с Байнуровым о передвижке авангарда из трех бульдозеров и одного экскаватора вперед на восемь километров. Втроем поехали на газике смотреть удобное место.
Под вечер вернулись. Карабаш надеялся попасть в поселок пораньше — собирались с Лерой ужинать вместе, — но начались разговоры, разбирательство жалоб, споры с упрямым Байнуровым, дела цеплялись одно за другое, и все затянулось до темноты. Бяшим Мурадов просился в отпуск в аул. Жена Нагаева, бойкая молодуха Маринка, — подурнела заметно, лицо обтянутое, сухогубое, только в глазах прежний ярко-синий нахальный блеск, — жаловалась на мужа: никак его в Мары не пропрешь, расписаться чтоб в загсе. Все, говорит, успеется. Не горит, мол. Жалко, мол, рабочие дни терять. Пришлось вызывать Семеныча — а он только в восьмом часу зашабашил — и прочищать ему мозги насчет того, как к жене относиться. Которая тем более в том положении, когда нужна чуткость. Нагаев обещал это дело исправить. «Да хоть завтра! Делов вагон…»
Потом расследовали одну запутанную историю с прорабом Курунбаевым, заменившим в этой должности Байнурова, когда тот стал начальником Третьего. Этот Курунбаев, седоватый, коротконогий, маленький человечек, пришедший на стройку недавно, однажды «одолжил» супругам Котович десять тысяч кубов, то есть записал в наряде, что они десять тысяч передвинули, хотя этого не было. Котовичам зачем-то срочно нужны были деньги, и они его уговорили. Они обещали отдать в следующем месяце. Но не отдали. В то время они работали в районе резервной дамбы большого озера, а в следующем месяце их неожиданно перебросили на запад, и они не смогли выполнить обещание. Для того чтобы отдать долг, надо было вернуться назад. Дело это тянулось два с половиной месяца. Маленький казах пожелтел от переживаний, никто не мог понять, что с ним происходит: он высыхал на глазах. Наконец он признался Байнурову.
Как надо было решать это дело? Котович, естественно, сказал, что прораб изо всего этого не выгадал ни копейки. Возможно, так оно и было. Возможно, Курунбаев сгорел на своей мягкотелости и слабом знании людей. Котович не собирался его обжуливать, он искренне желал отдать ему долг, но каждый месяц легкомыслие и привычка слушаться жену оказывались сильнее. И он откладывал расплату еще на месяц. «Вот как толкнем вдвоем шестьдесят кубов — вернусь назад и доделаю». Но «толкнуть» шестьдесят никак не удавалось. Так и тянулась волынка, пока Курунбаев не признался: от ежедневного страха перед ревизией.
Карабаш вполне имел право уволить Курунбаева, налицо была приписка. Увольнения требовали и Байнуров со Смирновым, но Карабаш не послушался. Он привык думать о людях в первую очередь хорошо, а потом уж, когда не оставалось другого выхода, — плохо. Ему было противно сознавать, что пожилой человек, отец троих детей, участник войны, мог взять деньги за поддельный наряд, и, так как не было никаких доказательств, он отбрасывал эту мысль, как отвратительную и негодную.
Было решено Курунбаеву и супругам Котович объявить приказом строгий выговор, прораба перевести на работу во Второй участок, а Котовичей в виде наказания лишить ноябрьской премии и обязать передвинуть десять тысяч кубов на резервной дамбе, где вообще-то работы временно не производились.
Рабочие остались довольны таким решением. Старый бульдозерист Марютин сказал Карабашу, что Курунбай мужик невредный, дуром попал, а «запутать всякого человека можно, хоть меня, хоть вас».
В Инче приползли поздно ночью.
Карабаш с трудом дорулил до поселка, борясь со сном всю дорогу. Смирнов благополучно храпел рядом. Он не умел водить. Иногда он наваливался всем телом на правый бок Карабаша, и Карабаш довольно сильно отталкивал его локтем, но Смирнов не просыпался.
Было холодно, разжигать печку не хотелось. Карабаш заснул, как следует не раздевшись. Чуть свет его разбудил Гохберг: вчера, пока Карабаш ездил на Третий, в поселке случилось «чепе». Гусейн Алиев, приехав из Сагам ста, сказал, что Султан Мамедов явился к нему позавчера и в тот же вечер ушел обратно на Инче, причем машины в сторону Инче не было, и он ушел пешком поздно ночью. Как Гусейн ни удерживал его, все было бесполезно. Султан был, конечно, сильно пьян и упал духом. Гусейн тоже был немножко пьян. Если бы он не был пьян, он бы никогда не отпустил бедного Султана одного, да тут еще жена, глупая женщина, тащила его в сагаметский клуб смотреть кино…
Гохберг вчера же днем радировал в Мары и в Сагамет и организовал поиски. Прилетел самолет из Керков, пошарил до темноты и, не найдя никого, вернулся, потом еще раз вылетел ночью в надежде увидеть костер — на стройке уже бывали случаи поисков заблудившихся в пустыне, и всегда их находили по кострам — и снова вернулся ни с чем.
Поселок взбудоражился. Гусейн кричал, что он не вернется домой, в Хачмас, если с его земляком случится нехорошее: он должен отомстить. И он знает кому! Люди из Хачмаса не могут терпеть позора. Гусейн кричал по-азербайджански, туркмены успокаивали его по-своему.
Ошеломленная Фаина весь день сидела в конторе, не зная, как ей себя вести: то ли отчаянно волноваться, то ли сохранять спокойствие. В общем-то, она была скорее сбита с толку, чем взволнована. Но когда ее подруга Нюра и другие женщины начали проявлять сочувствие, жалеть ее и успокаивать, Фаина вдруг раскисла и разревелась и стала, рыдая, говорить, что никто не любил ее так, как Сережка, и никто уж так не полюбит. Из Третьего примчался Иван Бринько и с ним трое парней, чтобы принять участие в поисках. Под глазом Ивана еще синел огромный кровоподтек, оставшийся после гюреша.
Ивану очень хотелось самому найти Султана Мамедова, спасти ему жизнь. Он не чувствовал к нему никакой вражды. И он действительно первым встретил Султана, когда чабаны везли его в поселок: они нашли его полуживого в тридцати километрах к северу от Инче, в пустынной солончаковой местности. То и дело теряя сознание, Султан качался на спине верблюда. Чабаны поддерживали Султана с обеих сторон, а Иван вел верблюда под уздцы.
Возле конторы шествие остановилось, и Иван, суетясь и отводя протянутые руки, попытался один стащить Султана на землю, но тот оттолкнул его. Он слез сам, прохрипел сквозь зубы, ненавидяще уставясь в пыльную рыжую бороду Ивана:
— Еще будем драться с тобой. Ножами будем…
— А, будем, дорогой! Будем, абрек! — смеясь, кричал Иван. — Ай, возьмем ножики, будем резать — всегда пожалуйста!
18
Прошло немного времени, дней пять или шесть, и в марыйском ресторане «Мургаб» сыграли свадьбу Султана Мамедова и Фаины. На этой свадьбе гуляли все азербайджанцы, находившиеся в то время в городе Мары.
Был в Мары и Карабаш. Он приезжал на двухдневное совещание к Ермасову. Он тоже зашел на свадьбу и выпил бокал карачанаха за здоровье молодых. И вечером в своей жарко натопленной комнате рассказывал Лере про свадьбу, про то, как была одета невеста (белое шифоновое платье, всех потрясшее), и как держался жених, и какие тосты произносили гости. Лера сначала с интересом расспрашивала, потом вдруг погасла, погрустнела. Она сказала, что из всех праздников ей больше всего нравится свадьба, а у нее самой свадьбы не было: была не то что свадьба, а то ли вечеринка, то ли пикник какой-то на даче у Сашиного однокурсника в Тарасовке. Никто не знал, что это свадьба, все считали, что празднуется обыкновенное окончание экзаменов. Почему так получилось? Кажется, не было денег. Она все-таки хотела устроить свадьбу, а Саша протестовал и не хотел ни у кого занимать, и это была их первая ссора. Она первый раз тогда плакала. Собрались в складчину. Один только хозяин, Сашин приятель, знал, что они поженились, и устроил им уединенную комнату на втором этаже, в мансарде, где было холодно, и пахло сырыми досками, и всю ночь по голове барабанил дождь…
И вот снова — подпольная любовь, без свадьбы, без друзей, снова холодные ночи, бездомность. Все это неврастения. Лера сделалась очень нервной за последние дни. Оказывается, он не должен был два дня проводить в Марах. И тем более оставаться на свадьбу. Приехал Ермасов? Ну что ж, а здесь его ждет женщина, которая ради него порвала с мужем, оставила семью, пошла на огромный риск, на жертвы. Это больше, чем Ермасов с его Америкой.
Он успокаивал ее, был нежен, но это действовало только в худшую сторону. Она расплакалась и, уже ничего не слыша, повторяла сквозь слезы:
— Я предчувствую, у нас не будет счастья… Нет, нет, Алеша, не будет, не будет!
Он растерялся. Молча укачивал ее, как ребенка. Он очень любил ее в эти минуты. И, однако, — поразительно устроен человек! — сквозь волны смятения и нежности, наперекор его воле, проникали в сознание совсем посторонние мысли. Его поразили рассказы Ермасова об Америке, о том, что на конференции в Лос-Анджелесе огромное впечатление произвел доклад Ермасова о бульдозерном методе.
Обнимая Леру, прижимаясь подбородком к ее мокрому лицу — она тихо всхлипывала, успокаиваясь понемногу, — Карабаш думал о том, что теперь никакие «кетменщики», никакие «антибульдозеристы» не посмеют пикнуть.
Неожиданно пришли гости: Ниязов, Гохберг и Смирнов. Всех волновал приезд Степана Ивановича. Они были так увлечены, с такой жадностью слушали Карабаша, что никто не заметил заплаканного лица Леры. А то, что они встретили Леру у Карабаша в поздний час, не удивило их, кажется, нисколько.
Лера вышла во двор, обмыла, дрожа от холода, лицо под рукомойником, привела в порядок волосы. Вернувшись, глазами спросила у Карабаша: уходить? Ей было стыдно своих слез, внезапной слабости и хотелось уйти, спрятаться, не видеть чужих людей, но она слишком любила Карабаша и хотела поступить так, как он скажет. Сдвинув брови, Карабаш потряс головой: нет, не уходи! Спокойным голосом, как будто она его жена и все знают об этом, попросил Леру соорудить что-нибудь вроде ужина и согреть чайку.
И ей стало легко. Она совсем успокоилась. И, не слушая, о чем говорят мужчины, взялась за приготовление ужина. Включила электроплитку, поставила на нее сковороду. Разбила яйца, нарезала луковицу, открыла консервным ножом банку тресковой печени, насыпала соль в солонку. Карабаш любил порядок, у него было все, что нужно, все на своих местах. Даже бумажные салфетки имелись, купленные в Марах еще летом, — десять пачек сразу.
Гохберг побежал к себе и принес одну закупоренную бутылку портвейна и другую неполную — то, что осталось от праздничного обеда. Мужчины пили, закусывали, спорили, дымили папиросами.
Лера сидела на койке, прислонившись спиной к стене, прикрыв ноги кошмой, и слушала. И даже не так слушала, как просто смотрела и думала. Ей нравилось смотреть на то, как Карабаш ест: быстро, с аппетитом, как-то особенно по-мужски, крепкими зубами рвет резиновый хлеб; как двигаются, напрягаясь, желваки на его скулах и, когда он говорит что-то ртом, набитым пищей, это не кажется неприятным, как у других, рот его остается аккуратным, собранным и упругим, как у юноши. Иногда Карабаш смотрел на Леру и чуть заметно улыбался. Она улыбалась ему в ответ. Мужчины предлагали ей выпить, поесть чего-нибудь, но ей не хотелось ни есть, ни пить; ей хотелось сидеть на койке, укрывшись теплой кошмой, смотреть и думать. Она вспоминала Сашу и его друзей. Они часто приходили в дом, и она тоже угощала их вином, жарила им яичницу, варила кофе, и они болтали, сплетничали, обсуждали кого-нибудь из знакомых, потом до часу, до двух ночи играли в преферанс, и это было мучительно скучно, и она клевала носом, сидя на кушетке с книгой в руках, и иногда даже при гостях засыпала. Потом они уходили, надо было очистить две пепельницы, полные окурков, проветрить комнату, помыть посуду. Если Саша проигрывал, он бывал раздражителен, плохо спал.
В картах Лера ничего не понимала, но знала, что Саша всегда уменьшает результат игры — и в случае проигрыша, и в случае выигрыша. Часто он говорил, что у него нет ни копейки, а Лера случайно находила деньги у него в столе, и тогда он говорил, что это «святые деньги» — карточный долг. Но в тот же вечер или вскоре после того он где-нибудь выпивал с приятелями, и Лера знала, что он пил на «святые деньги». Тоска была не в том, что он играл, проигрывал, утаивал деньги, когда Лера не всегда могла купить себе пару чулок, а Васенька нуждался то в одном, то в другом. Тоска заключалась в том, что эта игра была для Саши и его партнеров как бы целым миром, доставлявшим все горести, радости, удовольствия духа.
Невыносимо было слушать их разговор во время игры. Как однообразно, как пошло они шутили, как тоскливо издевались друг над другом! Не стесняясь Леры, а особенно если она спала или делала вид, что спит, они рассказывали анекдоты, от которых хотелось не смеяться, а морщиться. Почти никогда они не говорили о литературе, о театре, о своей работе с таким же смаком, с каким обсуждали знакомых или говорили о пульке, о женщинах. При Лере они ограничивались намеками, но когда ее не было, распускали языки вовсю.
Гохберг легкими шагами бегал по комнате, говорил возбужденно:
— Но теперь их мнение должно измениться! А помните, как они кричали: «Вы идете на поводу у хапуг!»
— Теперь они в нокауте…
— А статью Хорева помните? Ай, статья, статья! — смеялся Ниязов. — Бульдозеры, говорит, приносят пользу одним бульдозеристам!
Белобрысый Смирнов, пошмыгав носом, сказал:
— Но мнение американских дельцов — это, знаете, не авторитет…
— Почему дельцов? И почему американских? Там были ирригаторы восемнадцати стран, инженеры, ученые. Какой ты, ей-богу, скучный, упрямый скептик! — кипятился Гохберг. — Неужели тебя не волнует, не наполняет гордостью то, что и в нашей области, ирригаторской, мы обогнали Америку? Я, конечно, не сравниваю с запуском спутника, пусть наше дело гораздо скромнее, но оно наше, наше, понимаешь? Вот мы все им занимались, ломали голову…
— Дорогой, не надо меня агитировать за Советскую власть. Я что хочу сказать? Меня убеждает существо дела, а не то, что кто-то где-то — за океаном — пришел в восторг.
Карабаш сузил глаза:
— Аркадий, он прав, вообще-то. Почему мы должны удивляться тому, что для американцев наш бульдозерный метод оказался открытием? Вся наша стройка — открытие. Мы делаем небывалое, поймите вы!..
Когда Карабаш сердился, его глаза делались узкими и желваки на скулах твердели, как литые. Он говорил негромко, зато Гохберг кричал и наскакивал на Смирнова, как петух. Этот Смирнов не нравился Лере. У него было лицо скопца: бесцветное, травянистое, неясного возраста. А говорили, что он самый молодой из инженеров, на год моложе Карабаша.
— И почему вы боитесь сравнить нашу стройку с запуском спутника? Да черт возьми, мы же строим величайший самотечный судоходный канал в мире! Императорский канал в Китае, который считался самым крупным, — всего пятьсот километров, а наш будет вдвое больше.
— Алеша, зачем вы читаете мне лекцию?
— Если быть точным, — сказал Ниязов, — то наш будет почти втрое больше. Тысяча триста в окончательном виде.
— Я не читаю лекций, я просто хочу напомнить. Мы забываем. Мы перестаем видеть целое потому, что нас окружают детали, нас душат подробности. А что на самом деле? Впервые в истории в таких гигантских масштабах меняется облик земли — создается целая страна. Вы знаете, какова площадь Туркмении? Почти пятьдесят миллионов гектаров, а орошается меньше одного процента всей территории.
Они говорили еще час, еще два часа, спорили, курили, расстилали на столе карту, у них кончились папиросы, Гохберг уходил куда-то и возвращался, потом Ниязов уходил тоже и возвращался с папиросами, и был уже третий час ночи, а они продолжали разговаривать. Лера слушала с изумлением. В ее экспедиции по ночам обычно спали в спальных мешках. Но ей спать не хотелось, она с интересом слушала споры о том, как снабжать водой Красноводск — прямым каналом из Небит-Дага или при помощи трубопровода, она участвовала в тут же, за столом, делавшихся расчетах будущего урожая хлопка, когда в зоне канала окажется полтора миллиона гектаров новых земель, она узнавала, что канал будет одним из самых дешевых путей сообщения между Европой и Азией и суда из Балтики смогут ходить в Афганистан. Наверно, она знала об этом и раньше, слышала где-нибудь, читала, но теперь ей казалось, что это открытие Карабаша…
Наконец все ушли. Никто не удивлялся тому, что она осталась сидеть на койке.
И вот они вдвоем — Лера и Карабаш.
— Алеша, а ты здорово любишь свою ирригацию?
— Да. Интересная штука. Я ведь не ирригатор по профессии, здесь познакомился. — Он сел на койку, положил руку на кошму, которой Лера прикрыла ноги. — А что?
Она покачала головой: ничего. Теперь глаза ее слипались, она чувствовала себя безмерно усталой.
— Что с тобой? Ты не сердишься? — спросил Карабаш.
Лера улыбнулась.
— Нет.
— А что с тобой?
— Алеша, а вдруг мы не будем счастливы…
— Да? Ну черт тогда с нами. Так нам и надо. — Он приложил свою ладонь к ее щеке. — Если мы такие дураки — верно? Туда нам и дорога!
Она засмеялась, прижала губы к его ладони.
…Зурабов прилетел из Керков самолетом. Он мог этим самолетом лететь дальше, в Мары, но сошел в поселке, и вместе с ним сошел фотограф. Карабаша в это время в поселке не было, он уехал к Чарлиеву. Лера была в поле.
Вечером, когда Карабаш и Лера возвращались — он случайно на своем газике встретил в песках крытый грузовик Кинзерского и пересадил Леру к себе, — они увидели возле столовой Кузнецова. Он разговаривал с подавальщицей Марусей. Карабаш сразу не узнал фотографа: тот отрастил небольшую бороду, отчего его худое, горбоносое лицо стало неожиданно интеллигентным. Фотограф сказал Карабашу, что хочет остаться на стройке. Ну да, работать. На бульдозере, на скрепере, на кипятильном титане, на черте в ступе. У него пять тысяч двести семьдесят пять профессий. Какие причины? Ему тут нравится.
Карабаш слушал фотографа рассеянно. Он думал: если приехал Кузнецов, значит, тут и Зурабов, и будет, наверное, предпринимать какие-то шаги. Для того и приехал.
— Саша здесь? — спросила Лера.
— В конторе. Разговаривает с каким-то вашим.
— Там Смирнов, наверное, — сказал Карабаш.
— Денис Ларионович, а чего вам у нас нравится? — играя бровями, кокетливо спросила Маруся. Лицо ее полыхало красным цветом, глаза блестели, и вообще она выглядела лет на пятнадцать моложе своих сорока пяти. — Харчи у нас незавидные, вина не дают…
— Да мне вашу водку ашхабадскую, отраву, даром не нужно.
— А работа тут знаете какая тяжелая? Ой, что вы! Это не аппаратом чикать. Ребята знаете как надрываются? Да вы не выдержите.
— Будете со мной рядом, Машенька, — выдержу…
— Ой, да ну вас…
Карабаш оставил их болтать и погнал газик по песчаной улице дальше. Он отвез Леру к ней домой, а сам подъехал на машине к конторе. Зурабов, Смирнов и прораб Второго участка — высокий, богатырского сложения туркмен Овезов — сидели в прокуренной комнате. Зурабов что-то рассказывал. Карабаш издали кивнул всем троим, ему не хотелось пожимать руку Зурабову, и он медленно подошел и стал слушать.
Зурабов сказал, что семьсот строк — о заполнении озер — он послал самолетом из Керков, теперь ему нужен некоторый дополнительный материал, для двух следующих очерков. Для этой цели он и заехал в Инче вторично. Почти все, что нужно, он уже выяснил у товарища Смирнова. Многое рассказал Геннадий Максимович Хорев. Он прожил у него три дня в Керках. Чудесный человек Геннадий Максимович! Какой интеллигентный, какой щепетильно порядочный во всех отношениях! И жена у него чудесная. Простая женщина, молоденькая, двадцать пять лет, никаких дипломов, никаких таких особенных профессий, хозяйка, домоседка, обожает мужа, — а что еще нужно? Старик счастлив. Говорит, что переживает вторую молодость. Его первая жена и дети живут в Ташкенте, он им, разумеется, помогает деньгами, человек он глубоко порядочный. Сын уже в институте…
Карабаш, Смирнов и прораб молча слушали этот подробный рассказ.
Потом Зурабов сказал, что ему необходимо еще несколько имен передовиков производства, коммунистов и комсомольцев. Для портретных зарисовок.
Карабаш попросил прораба сходить в реммастерские за Ниязовым, секретарем парторганизации. Пришел Ниязов. Деловой разговор продолжался еще минут сорок, потом все побежали в столовую ужинать. Дул жесткий северный ветер, и на улице стоял легкий свист от летящего песка, как во время небольшого бурана. Бежали согнувшись, загораживая лица ладонями.
В столовой все как-то вдруг рассеялись: Зурабов увидел фотографа и подошел к нему, Ниязов подсел за стол к механикам, а Карабаша отвлекли разговором двое рабочих, он сел с ними, быстро выпил стакан чаю и ушел домой. Он думал, что Лера ждет его.
Но Леры не было.
Весь вечер Карабаш работал за чертежной доской. Прошло два часа, три, четыре, — к нему не заходил никто. Ни Аркадий, ни Лера, ни Зурабов — ни один человек. Это был странный вечер. В одиннадцатом часу вдруг пришел фотограф.
— Вы работаете? — спросил он, остановившись в дверях.
Карабаш сказал, что закончит работу через несколько минут, и пригласил фотографа зайти. Тот вошел, сел, молча курил, пока Карабаш, нагнувшись к столу, скрипел твердым чертежным карандашом по листу ватмана, приколотого кнопками к доске. Он не проявлял никакого интереса к тому, что делает Карабаш.
После долгого молчания и скрипения карандашом Карабаш спросил:
— У вас ко мне дело?
— Да вот насчет работы, — сказал фотограф. — Но вы заканчивайте, не хочу мешать.
— Вы серьезно? Я думал, вы баки забиваете нашей Марусе.
— Баки — само собой…
Потом они молчали до тех пор, пока Карабаш не кончил работы и не снял доски со стола. Фотограф сидел на табурете с сигаретой в зубах и, зажмурив правый глаз и склонив голову набок, чтобы избежать струйки дыма, забавлялся маленькой зажигалкой, в которой непрерывно что-то щелкало.
— Что это? — спросил Карабаш.
— Рулетка.
Карабаш взял зажигалку, повертел в руках. Они поговорили о рулетке, о картах и вообще об игре. Фотограф сказал, что игру уничтожить нельзя, люди будут играть всегда и везде. Потому что игра — это как бы разговор с судьбой. А каждому хочется попытать свою судьбу. Он имел в виду, конечно, такие игры, как рулетка или «очко», «скат», то, что немцы называют «глюкшпиль» — игра счастья. В Германии, сказал он, все играют в «скат».
Карабаш слушал его холодно. Фотограф неприятно смотрел на него в упор неподвижным взглядом когда-то голубых, вылинявших глаз.
— Какую работу на стройке вы имеете в виду?
— Да какую угодно. Дело не в том. Вот мы заговорили о судьбе, и я хочу вам сказать кое-что насчет этого. Судьба — серьезная штука. Она действует с разбором, одни ее почти не чувствуют, а другие просто дыхнуть без нее не могут. Стоит такая железная нянька и бьет по голове костылем. И никуда не денешься. Я вас не задерживаю?
Карабаш смотрел на часы. Было ровно одиннадцать. Лера, видимо, уже не придет. Это волновало Карабаша. Он решил подождать до половины двенадцатого и потом пойти к ней.
— Немного погодя мы выйдем на воздух, — сказал он. — Минут через двадцать.
— Пожалуйста. Ну вот. Вы, например, отняли у Сашки жену, но он хоть знает, кто его обидчик, он может бороться, протестовать, биться с вами на кулачках или там жаловаться в местком…
— Может?
— Я бы на его месте не уступил. Я бы знаете как? Вызвал бы вас для разговора в пески и избил бы до полусмерти. Ногами в печень. Милиции тут нет, властей никаких.
— Власти тут есть, вы ошибаетесь.
— Ну, может быть. Я шучу. У меня ведь тоже жену отняли. Судьба отняла. С кого спрашивать, кому в печень давать?
Лицо фотографа потемнело, он умолк, отвернувшись к окну. Глаза его, по-прежнему неподвижные, блестели зло. Но как раз теперь Карабаш почувствовал, что его неприязнь к фотографу исчезает.
— Ну, так кем же вы хотите работать?
— Я сказал: кем угодно. Могу бульдозеристом, могу шофером на грузовике. Мне все равно. Мне сорок два года, а я начинаю жизнь на пустыре. Как Ашхабад после землетрясения. Вы знаете мою историю?
На улице, когда они вышли, все так же дул сильный ветер. Небо, размытое ветром, отчужденно сияло звездами. Скрипел песок. Они шли в темноте за лучом карманного фонарика Карабаша. Фотограф рассказывал свою жизнь. Это был путаный, небрежный и невнятный рассказ о том, как он жил в Москве, бросил, не доучившись, техникум, поехал зачем-то в Среднюю Азию, как встретил Зинаиду, а потом — война, Иран, Севастополь, ранение в голову, плен. А после плена? Да. В том-то и дело! Страх — вот что после плена. Борьба и страх. Он делал все, что мог: был чернорабочим, работал на стройке, мыл машины, хватался за все. «А когда работа кончалась или меня выгоняли, я изобретал что-нибудь, чтобы не околеть: спекулировал, обманывал дураков, играл в „тото“, возил „раушмиттель“ — наркотики — контрабандным путем из Танжера в Гамбург. Итальянские пираты, сволочи, налетали в море с пулеметами, отнимали „рауш“, доллары, а то и лодку…»
Он умолк и потом спросил:
— Я вам сильно противен?
— Нет. — Они посмотрели друг на друга в темноте. — Почему вы спросили вдруг?
— Вы молчите, как кладбище.
— Я слушаю.
— Ну вот. Да, я мошенничал, вертелся среди подонков, сам стал подонком, но политики я не трогал. Они отскакивали от меня, как ошпаренные клопы. А пытались приобщить. Это меня и спасло, потому я и смог вернуться. Мама думала, что я погиб, и вдруг в пятьдесят третьем получила мое письмо из Берлина — случайно, через Восточный сектор, — и, начав читать, умерла от разрыва сердца. С письмом в руках. Мне соседи рассказали. Ну, комната в Москве пропала, вещи тоже; хотя какие там вещи у старухи — хлам, шурум-бурум…
Странный рассказ: он то вызывал сострадание и тепло, то обдавал холодом.
— Называйте как хотите: ошибки, трусость, судьба. Но это кончилось, ушло, понимаете? Все это — «рауш». Вся моя жизнь была «рауш»! Понимаете? Вам ясно? — Голос его прозвучал нервно, с вызовом. — Могу я забыть об этом? Могу к черту похерить, начать все снова?
— По-моему, можете, — сказал Карабаш. — Да.
— Да? По-вашему, да? Или вы не очень-то уверены?
— Почему я не уверен?
— Я не знаю. Но я вас понял. — Голос его звучал все более нервно и грубо. — Имейте в виду: я не слушаюсь ничьих советов. Я поступаю по-своему. Вам ясно? Только потому я и выжил…
— Тихо, тихо! Что вы горячитесь? — сказал Карабаш.
Они остановились напротив барака экспедиции. Карабаш вытащил сигарету и закурил. Он смотрел на темные окна барака. Все окна были темные.
— Что вы горячитесь? — повторил Карабаш. — Подождите меня тут.
Он подошел к двери, осторожно открыл ее. В коридоре был свет: горел электрический фонарь, стоявший на полу. Лера, в пальто, закутав платком голову, сидела на каком-то ящике в углу коридора. Рядом с ней, прислонившись спиной к стене, сидел на корточках Зурабов.
— Что тут происходит? — спросил Карабаш.
Зурабов встал и пошел к выходу. За спиной Карабаша хлопнула дверь.
— Что тут было? — спросил Карабаш.
— Говори тише, все спят… — шепотом сказала Лера. Она плакала и вытирала концом шерстяного платка щеки. — Мы говорили… Он рассказывал про Васеньку…
— Ну?
— Он говорил, что я преступная мать. Что я животное…
Карабаш сделал шаг к двери, но Лера схватила его за руку.
— Алеша! Да, да! Нет, подожди! Нет, я не забыла, я только не хотела, пока мы, пока у нас все… Я люблю сына больше тебя, больше всех. Ты должен это знать! Больше тебя! — бессвязно говорила она, сжимая его руку. — Алеша, ты будешь любить моего сына?
Карабаш сжал зубы. Вырвав руку из ее пальцев, он бросился к двери, выбежал, остановился, ища глазами. Увидел пустой черный холм под звездами. Зурабов уже скрылся, фотографа тоже не было.
19
В начале декабря, когда наступили холода, темные ночи, улицы на окраине города раскисли от грязи, выходить по вечерам не хотелось, а в комнате было сыро и тянуло со двора запахом кизячного дыма, — в это унылое время я много работал. Мне хотелось работать. Я написал три небольших рассказа по записным книжкам своих летних поездок. Один из этих рассказов понравился Борису, и он втайне от меня — потому что я не хотел этого — отнес его нашему редактору. И вот что из этого вышло. Рассказ назывался «Дети доктора Гриши». Я описал свою встречу на колодце Ясхан с одним старым ашхабадским доктором, который несколько лет назад переселился в пески и стал знаменитостью: его знали и любили все чабаны, верблюдчики, изыскатели, шоферы и буровщики, блуждающие на пространстве от Донаты до Казанджика. А сам доктор Гриша был горестно одинок. Вся его семья — два сына, дочь и жена — погибла в одну ночь во время ашхабадского землетрясения. Сюжет заключался в том, что доктора Гришу переводили куда-то назад, в город Кум-Даг или на Вышку, а чабаны воспротивились этому, даже устроили наивную мистификацию — один из них притворился, что сломал ногу и не желал лечиться ни у какого другого доктора, кроме доктора Гриши, и кончилось тем, что доктор Гриша остался на Ясхане.
Диомидов, не успев прочитать, улетел в Москву, и рассказ попал к Лузгину.
На летучке Лузгин вдруг набросился на меня по совершенно неожиданному поводу: за то, что какую-то свою заметку, сто двадцать строк, я подписал не фамилией, а псевдонимом.
— Вы что — стесняетесь печататься в нашей газете? Третий раз ставите псевдоним! В чем дело? Откуда этот снобизм?
Спорить с ним было глупо. Он стал чрезвычайно раздражителен в последнее время: говорят, дни его сочтены, выводят на пенсию. А может, это и разговоры. Выдают желаемое за действительность.
Когда летучка кончилась, Лузгин попросил меня остаться и вытащил из ящика стола рассказ. Пространно и поучительно он стал толковать мне, почему рассказ не может быть напечатан, — общие фразы о чувстве современности, о героях, которым хочется подражать, — но я перебил его, сказав, что я и не собирался печатать этот рассказ и его передали ему без моего ведома. Он молча сунул мне рукопись, и я молча взял ее и вышел.
Я мало заботился о судьбе этого рассказа, но теперь мне захотелось его напечатать.
Редакцию потрясло неожиданное событие: женился Борис Литовко. Это было как снег на голову каракумским летом. Я не видел жены Бориса, а ребята, которые видели, высказывались неопределенно: одни говорили — ничего, другие — так себе, одни называли ее старухой, другие говорили, что моложавая, хотя, конечно, не первой молодости, годков за сорок. Работает художницей в «Гороформлении».
Я сразу вспомнил ту ночь перед праздником, когда мы с Тамарой увидели Бориса стоящим на улице и нас потрясло его одиночество. А он просто смотрел, как работает его жена. Они познакомились в прошлом году в Кисловодске, Борис пригласил ее в Ашхабад, и она приехала в октябре. Сначала жила в гостинице, сейчас — у него. Всех поразило не то, что Борис женился, а его скрытность. Он сказал, что на свадьбу нет денег и он будет приглашать друзей партиями «на рюмку чаю».
Меня он позвал вместе с Атаниязом и Сашкой, который накануне вернулся из командировки. Сашка колебался. Он не особенно любил Бориса. Кроме того, он устал в поездке, вернулся больной, простуженный и в дурном настроении.
— Ладно, пойдем, — решил он. — Надерусь там, как шакал.
Борис сказал, что у него в гостях будет один местный писатель, редактор альманаха на русском языке, и мне не худо будет с ним познакомиться. Он даже посоветовал захватить рассказ про доктора Гришу и прочитать при случае. Я сказал, что это, по-моему, неудобно и рассказ не для свадьбы. «Какая свадьба? Забудь ты про свадьбу! — сказал он сердито. — Ты просто приходишь на рюмку чаю, я тебя знакомлю с моим другом…»
Как бы то ни было, я пошел в магазин подарков возле Русского базара и купил какую-то хрустальную штуку за восемьдесят рублей. Сашка взял две бутылки шампанского. В дверях, когда мы пришли к Борису, нас встретил Атанияз и зашептал предупреждающе:
— Только, ребята, без свадебных тостов и разных там «горько», поняли?
— Да пожалуйста, — сказал Сашка. — Как угодно.
Борис был в нарочито непраздничном виде: в ковбойке, в парусиновых штанах. На хрустальную штуку он уставился с недоумением: «Это что такое? Зачем это еще?» — и поставил ее на шкаф в прихожей. Его комнату было не узнать. Вместо кровати и раскладушки, на которой обычно спал Денис, стояла широкая тахта, покрытая черным узбекским паласом. Появились какие-то полочки, какая-то керамика, гравюры, изображавшие, на первый взгляд, непонятно что. И появились четыре очень больших фотографических портрета, висевшие в ряд, — погибшей жены и троих детей. Раньше этих портретов не было. Раньше маленькая фотография жены и общий детский портрет стояли на его столе.
Художница оказалась тщедушной, смуглолицей, с очень гладкими черными волосами, собранными сзади в пучок. Ее звали Ирина Васильевна. Она была в брюках, курила сигареты в обкуренном деревянном мундштуке и весь вечер тихонько кашляла. Все пришли из любопытства к этой женщине и сначала заговаривали с ней, стараясь выведать, что она такое, но она отвечала односложно или улыбалась бледно, одними губами, отмалчиваясь. И было как-то неловко. Борис нервничал. Но потом, когда выпили, неловкость пропала, и все стали разговаривать громко между собой, забыв при Ирину Васильевну.
Кроме нас с Сашей пришли Атанияз, Тамара, наш завотделом писем Вдовенко, с которым Борис знаком с довоенного времени, и двое мне незнакомых: директор треста «Гороформления», пожилой туркмен, и тот самый редактор альманаха, о котором говорил Борис. Редактор держался внушительно, вступал в разговор, когда вздумается, перебивая других.
Рассказ про доктора Гришу я на всякий случай взял, но читать его было нелепо. Можно было просто передать рукопись, но это тоже казалось неуместным. Какая-то хмыровщина. В общем, я решил об этом не думать.
После того как осушили три бутылки сухого, Борис стал упрашивать Тамару почитать стихи. Она долго отнекивалась, потом стала читать. Из-за этих стихов и начался весь шум. Стихи, конечно, были слабые. Вроде того, что печатают в день Восьмого марта под рубрикой «Из лирической тетради». Но Платон Кирьянович — так звали редактора — обрушился на них совсем не за то, за что следовало. Он сказал, что в них мало современного, что такие стихи могли быть написаны пятьдесят лет назад. Я зачем-то начал с ним спорить. Делать это не нужно было. Я сказал, что его суждения попахивают рапповщиной тридцатых годов. Он вдруг вскипел. «Не трогайте тридцатые годы! Это наша молодость! Вот этими руками я строил Сазы-Кепринское водохранилище, а вечерами работал и посылал корреспонденции в „Зарю Востока“. А Темка Лузгин, который сейчас замом в вашей газете, работал у нас бригадиром кетменщиков!»
Я сказал, что это здорово, но я не вижу связи.
— Как вы не видите связи? Сейчас, когда вам надо поехать в Кушку, вы спокойно садитесь в поезд и едете, а мы брали с собой винтовку! Теперь вы видите связь?
— Вы меня не поняли, — сказал я. — Я не имел в виду ничего дурного, говоря о тридцатых годах. В них было много чистого, романтичного. Но они ушли и никогда не вернутся. Слава богу, они не знали, что такое атомная бомба, тотальная война, лучевая болезнь, Освенцим, Майданек, они не догадывались о многом…
— Зачем же повторять то, что все знают без вас?
— Правильно! Конечно! — сказал старик Вдовенко, человек безобидный и недалекий. — Зачем, понимаете, жевать одно и то же? Давайте-ка поднимем бокалы за Борю! — И он запел:
Выпьем мы за Бо-орю, Борю дорого-ого!— Нет, — сказал Борис. — Постойте. Ты, Платон, мне друг, но истина, как сказано, дороже. По-твоему, просто знать — этого достаточно?
— Не этим, Боря, надо сейчас заниматься. Перед нами стоят громадные народнохозяйственные задачи. Возьми нашу республику: проблема орошения, вековечная жажда воды…
Тогда его начали перебивать:
— Никто не спорит!
— Есть жажда гораздо сильнее, чем жажда воды, — это жажда справедливости! Восстановления справедливости!
— Партия это и делает.
— Партия делает, а вы что же? А вы? — кричала Тамара, и глаза ее сделались маленькими и злыми. — Почему вы не хотите помогать партии?
— Вах, зачем так кричать? — сказал директор «Гороформления». — Вы знаете, как туркмены утоляют жажду? Вот послушайте: сначала утоляют «малую жажду», две-три пиалки, а потом, после ужина, — «большую жажду», когда поспеет большой чайник. А человеку, который пришел из пустыни, никогда не дают много воды. Дают понемногу.
— Иначе ему будет плохо, — сказал Платон Кирьянович.
— Да не будет никому плохо! Чепуха это! Не верю! — говорила Тамара возбужденно. — Как может быть чересчур много правды? Или чересчур много справедливости? Скажите, а в принципе вы согласны с теми переменами, которые сейчас происходят?
Платон Кирьянович, внезапно покраснев всем лицом, произнес отрывисто:
— Я считаю ваш вопрос оскорбительным и прекращаю разговор.
Вскоре после этого он ушел, очень недовольный, едва попрощавшись. Борис был огорчен: «Зачем напали на старика? Он вовсе не догматик и мыслит точно так же, как мы с вами, но с некоторыми иллюзиями ему расставаться труднее, чем нам. Это связано с возрастом».
За столом между тем продолжался разговор о том, как наша жизнь будет развиваться дальше: один из тех бесчисленных разговоров, которые велись в тот вечер в домах Ашхабада, и в домах маленьких городков, прилепившихся к Копет-Дагу, и в тысячах других городов на востоке, где была уже глубокая ночь, но многие люди не спали и разговаривали, и на западе, и на севере, и в Москве, где лил холодный дождь, и шум Арбата доносился в комнату с лепным потолком, и у соседей играл телевизор, и люди сидели вокруг стола под дешевой немецкой люстрой, пили чай и разговаривали о том же самом.
Когда Ирина Васильевна зачем-то вышла из комнаты, Борис вдруг сказал тихо:
— Вы знаете, у Ирины все родные погибли в Освенциме. Она тоже была…
— Да что ты? — шепотом удивился Вдовенко. — Вот бы никогда не сказал!
— Ребята, сейчас Ирина Васильевна поставит чайник, — громко сказал Борис. — Будем утолять «большую жажду»!
Но все уже поднимались, было поздно, второй час ночи. Борис провожал нас по черному, как погреб, переулку. Мы с ним немного отстали от всех.
— Главное, Петя, ты здорово наладил отношения с Кирьянычем. Можешь смело нести рассказ.
— Я, кстати, не думал, — сказал я, — что среди твоих друзей есть такие мамонты.
— Да нет, он недурной мужик. Вы его не раскусили. Это был первый человек, который пригрел меня, когда я приехал сюда с Денькой двадцать лет назад. Он работал тогда знаешь кем? Следователем угрозыска. Ох, это было давно…
— А где Денис? — спросил я.
— Он, я думаю, у Полины. Он ведь только позавчера вернулся. — Борис помолчал. Полина была официанткой из «Дарвазы», знакомой Дениса. — Денис как-то не очень приветствует перемену в моей жизни.
— Мне Ирина Васильевна понравилась, — сказал я.
— Да, да. — Он тихо засмеялся. — В ней есть что-то такое, правда? И когда я с ней, меня ничто не гнетет…
Он стиснул мою руку и быстро пошел обратно. Сначала он шел быстрыми шагами, потом побежал. На проспекте от нас отстал директор «Гороформления», который всем велел записать его адрес и в следующую субботу обязательно прийти к нему на плов. Мы шли впятером посередине проспекта. Вдовенко вздыхал: «Да, Боренька наш спекся! Теперь уж у него не одолжишь денег». Ночь была холодная, Сашка протрезвел на воздухе и что-то нудно, ворчливо говорил Тамаре насчет ее стихов. Она обиделась. Он даже не пошел ее провожать. Возле кинотеатра «Ашхабад» она повернула налево, и вместе с нею пошел Вдовенко, который жил где-то рядом.
И мы остались втроем: Атанияз, Сашка и я. Наши ботинки дружно стучали по асфальту. Сашка шел притихший, пряча лицо в воротник плаща.
— Самое главное знаете что? Перестать барахтаться, — вдруг сказал он.
— В смысле? — спросил Атанияз.
— Ну, вот мы бьемся, барахтаемся, лезем вон из кожи, хотим протолкаться вперед, а зачем? Мне надоело…
— Можно совсем не жить, — сказал Атанияз.
— Нет, жить я хочу. Но я хочу наслаждаться жизнью. Хочу читать хорошие книги, умные статьи и не мучиться завистью, не спрашивать себя: а что ты сделал? Тебе уже тридцать пять, старому дураку, а что ты можешь? Чему научился? Писать отчеты о курултае хлеборобов? О да, лучше меня это никто не умеет… К чертям! Мне все надоело, я больше не барахтаюсь.
Минуты две мы молча стучали ботинками.
— Есть такой рассказ о композиторе Гуно, — сказал Саша. — Гуно говорил о себе: в двадцать лет я говорил: «Гуно!», в тридцать говорил: «Гуно и Моцарт!», в сорок — «Моцарт и Гуно!», и в пятьдесят лет я говорю: «Моцарт…» Вот и я говорю: Моцарт. Не надо быть Гуно, это не обязательно, надо просто сказать себе один раз тихо: «Моцарт» — и пусть все идет как идет.
Он ушел от нас на площади перед театром, сказав на прощанье, чтоб мы не барахтались.
Атанияз — очень молчаливый человек, и мы два квартала прошагали молча. Потом он вдруг заговорил. Он взял мою рукопись и сказал, что попробует протолкнуть рассказ на радио. Если не удастся на радио, он может перевести его на туркменский и отдать в туркменский журнал. Надо писать много рассказов, чтоб был выбор. Надо барахтаться изо всех сил. Работать, как прачка, у которой семь человек детей. Тогда будет интересно жить, будет хорошо на душе, и не надо валять дурака перед друзьями. Так сказал своим замогильным голосом Атанияз — восточный человек с неулыбающимися глазами, которого я полюбил в этом городе.
Он покинул меня на перекрестке возле гостиницы, где я жил прежде.
Мне нужны были деньги. Наступили холода, а я приехал без пальто, с одним плащом. Я мечтал купить пишущую машинку. В универмаге появились портативные немецкие «Эрики» — то, что нужно. Но они стоили дорого. Все, что я зарабатывал, я тратил на комнату и на обеды в «Дарвазе» или в диетстоловой, куда мы почти ежедневно ходили с Катей. А рассказ про доктора Гришу не прошел ни на радио, ни в туркменском журнале. Атанияз был удручен не меньше меня. Он сказал, что все дело в том, что местные деятели как огня боятся темы землетрясения. Не хотят вспоминать.
Мои приятели были уверены, что мы с Катей поженимся. Ни с кем из них я не говорил всерьез. Впрочем, каждый живет своей жизнью. Они только делают вид, что интересуются моими делами, сочувствуют, дают советы, а на самом деле им все равно, женюсь я или нет, на Кате или на ком-нибудь еще. У них хватает своих забот.
Сашка приехал с трассы злым неврастеник-гм. Сначала он ничего не объяснял, потом признался: порвал с Лерой. Она там с кем-то сошлась.
Денис сказал, что хочет поступать на стройку шофером. Кто-то обещал ему место шофера на легковой. Я удивился: странный малый! С таким упорством добивался работы в редакции и, едва устроившись, рвется в пески — крутить баранку.
— Идея возникла там, на трассе, — сказал Денис. — Но сначала я думал об этом несерьезно, а когда вернулся, то понял, что это правильно. Ну что мне в городе? Родных у меня нет. Борька женился. Я, конечно, ушел от него, хотя он предлагал жить в его квартире, и Ирен тоже. Но я не мог. Честно говоря, я не очень верю в этот брак, основанный на взаимной жалости…
Люди кажутся странными, пока не влезешь в их шкуру.
Но то, что происходит у меня с Катей, никому не кажется странным. Несколько дней назад я встретил на улице футболиста Альберта. Мы оба стояли в очереди к газетному киоску на базаре. Это лучший газетный киоск в городе, продавец всегда оставляет мне то, что нужно.
Футболист стоял впереди. Я делал вид, что не замечаю его, но он взял газеты и сам подошел. Разговор вышел самый миролюбивый. Он поздоровался и попросил передать Кате, что ей достали то, что она просила. Я сказал, что передам.
— А то я давно ее не вижу, — сказал он.
— Я передам, — сказал я.
Я взял газеты, и мы вместе вышли через базарные ворота на улицу. Поговорили о футболе, он расценивал наши шансы в Швеции невысоко. Сказал, что у нас приличная защита, но никуда не годится нападение. Мы немного поспорили, у меня были свои соображения на этот счет. Я люблю поговорить о футболе. Это успокаивает. Алик сказал, что он проболел полсезона и лечится до сих пор. Ребята ездили в Афганистан на три игры, а он загорал, сдавал зачеты за прошлый год.
В конце разговора я спросил:
— Что Катя должна сделать: позвонить вам или как?
— Телефона у меня нет. Пусть зайдет.
Вечером я все передал Кате, надеясь, что она объяснит, что у нее за дела с футболистом, но Катя ничего не объяснила. А я не стал спрашивать. Но меня заело: почему она должна заходить к нему? Что за тайны? На другой день я все же спросил, в чем дело. Оказывается, ничего особенного: она просила приятелей футболиста достать в Афганистане нейлоновую кофточку.
Наше объяснение происходило в кино, перед сеансом. Мы сидели в буфете, пили сладкую айвовую воду и ели пирожные из серой муки, украшенные ярко-розовым кремом. От этого крема у меня заныли зубы.
Я сказал, что мне все это не нравится.
— Что не нравится? — спросила Катя.
— История с кофточкой. И то, что ты должна к нему заходить. Ты же говорила, что с ним все кончено?
Помолчав, она сказала:
— Да, все кончено. Но мне нужна нейлоновая кофточка — ты можешь ее достать?
— Ты у меня ни разу не просила.
— А что я у тебя вообще просила?
— Кажется, ничего.
— Не кажется, а так и есть: я у тебя никогда ничего не просила. А с его приятелями у меня деловые отношения. Никто не знает, как я выкручиваюсь, на какие хитрости иду, чтобы хоть как-то одеться, что-то приобрести. Так в чем дело? Что тебе не нравится?
Я налил в стакан остатки айвовой воды, хотя мне пить не хотелось, и выпил. Потом поставил стакан на стол и вытер губы бумажной салфеткой. Прозвенел звонок, и публика потянулась из буфета в фойе, а оттуда в зал. Мы продолжали сидеть. Вместе с нами за столом сидели два маленьких человечка, видимо муж и жена, оба в одинаковых зеленых плащах с капюшонами, откинутыми на спину клетчатой подкладкой наружу. Эти двое тоже пили воду и с интересом прислушивались к нашему разговору. У них были коричневые, совершенно глиняные от многолетнего загара лица: наверно, приехали из песков, с какой-нибудь метеостанции. Они остались сидеть. Их интересовало, как люди ссорятся в больших городах.
— Мне не нравится вот что, — сказал я, — то, что этот парень… В общем, я не хочу, чтоб ты к нему заходила.
— Да?
— Да, да.
— А почему ты так говоришь? — Она встала и пошла к выходу. Я пошел за нею. — У тебя есть права так говорить? Разве ты мой муж?
Двое с глиняными лицами тоже встали — они оказались низенького роста, совсем коротышки — и пошли вслед за нами.
Вместе с толпой зрителей мы вошли в зал. Это был новый кинотеатр с просторным залом, удобными креслами. Несмотря на поздний час — был последний сеанс, — зал заполнялся быстро, некоторые садились на откидные стулья. Воздух был тяжелый по-вечернему. Я отыскал наши места возле прохода, мы сели, но потом несколько раз вставали, пропуская людей в середину ряда. Впереди сидели старик колхозник в бараньей шапке и две старые туркменские женщины, закутанные в платки. Все сидели на местах, когда в проходе появился опоздавший, с ошалелым лицом Витька Критский; за ним шла его жена Надя, сильно накрашенная и напудренная, в кожаном мужском пальто и с белой сумкой. Вырвались развлечься, детей кинули на бабушку.
Начался журнал «Новости дня». Я сказал тихо:
— По-моему, у меня есть какие-то права. По крайней мере, чтоб просить.
— Какие-то права? Чтоб просить? А я не хочу признавать «какие-то права», — быстро прошептала она. — Это гадко, нечестно! Ты повсюду ходишь со мной, знакомишь со своими друзьями, я ночую в твоем доме, и все об этом знают…
Я взял ее кисть и сжал, чтобы она замолчала. Катина рука была сухая, теплая, а кончики пальцев, как всегда, холодные. Катя замолчала.
— Потом поговорим, — сказал я.
Катя отодвинулась.
— Зачем? Ты уже сказал про какие-то права…
Начался фильм «Утраченные грезы». Я видел эту картину еще в Москве, она мне очень понравилась. Были итальянские картины сильнее, например «Похитители велосипедов» или «Рим в одиннадцать часов», но эта была тоже прекрасна. Сначала я смотрел на экран, а думал о Кате, о том, что она, может быть, в чем-то права, но нельзя разрешать ей меня дурачить. Потом Сильвана Пампанини увлекла меня, и я на некоторое время забыл о Кате.
Я следил за печальной историей неаполитанской девушки Анны, и когда вдруг стало особенно жаль ее — она ехала на эскалаторе, а навстречу ехал тот тип с лошадиным лицом, директор рекламной конторы, который заставил Анну сойтись с ним, а потом уволил, он ехал с женой и с детьми, и она увидела его, и он тоже увидел ее, но не поздоровался и даже не кивнул, просто молча посмотрел на нее, как на незнакомого человека, потому что, видно, ужасно боялся своей жены, и так они молча разъехались в разные стороны, — тут я опять вспомнил о Кате. Директор с лошадиным лицом был не просто случайный совратитель, он был Неизбежный Мужчина, который встречается на пути каждой женщины. Неаполитанской девушке он принес беду, но мог и не принести беды. Все могло быть иначе. Гораздо благополучней. Он мог при встрече вежливо улыбнуться и даже приподнять шляпу. Дело в том, что он не принес любви. Он — Неизбежный Мужчина, Не Приносящий Любви.
У нас было все другое. Я не женат. Катя от меня не зависит, и я не принуждал ее ни к чему. И тем не менее я вдруг представил себе: когда-нибудь я тоже буду ехать с женой и с детьми на эскалаторе Московского метро и увижу Катю, — что будет? Я, конечно, поздороваюсь с ней, кивну или улыбнусь. Наши взгляды соединятся на миг, и мы разъедемся в разные стороны, чтобы не встретиться уже никогда в жизни. Я не сравнивал себя с тем, с директором. Я считал, что я лучше, гораздо лучше. Но между нами была какая-то общность. Мы были оба — Не Приносящие Любви.
Тем временем вернулся из плавания жених Анны, моряк. Дело шло к развязке. Моряк не простил Анне ее истории, любовь их разрушилась. Счастливые люди, им было что разрушать! Вот они прощаются в порту. Их разделяет высокая металлическая ограда. Анна бежит вдоль ограды, цепляясь за железные прутья, — как «Бесприданница», падающая на цепи…
Как одинока женщина, несчастная в любви! Ни мать, ни подруги, никто в целом свете не могут спасти ее от одиночества.
Я взял Катину руку. Она сжала пальцы в кулак, но не отняла руки. Так мы сидели несколько мгновений, пока не зажегся свет, и потом встали и, не глядя друг на друга, двинулись к выходу. Старухи туркменки заматывались в платки, попутно вытирай платками глаза. Толпа зрителей медленно продавливалась по проходу, все молчали, у многих были заплаканные глаза. Я шел впереди, держа за спиной в своей руке руку Кати. Я думал о Кате с грустью, думал о ее одиночестве, пустых надеждах, о ее жизни, наполненной мелкими, чепуховыми целями. В этом ее суть: страстное стремление к чепуховым целям. Какая-то мотыльковая целеустремленность. Так было с белым кружевным воротничком, теперь с нейлоновой кофтой. И она готова на все, чтобы добиться своей цели. Зачем только я начал разговор о кофте? Наверняка, что-нибудь жалкое, грошовое, купленное в Кабуле на рынке.
Мы вышли на улицу. Было тепло, звездно. Люди быстро рассеялись. Вскоре мы оказались одни на улице. Теплый ветер гнал по тротуару сухие листья.
Я спросил, хватит ли у Кати денег, чтобы взять эту самую кофту. Она сказала, что решила не брать ее. Если я не хочу, она не возьмет. Есть более необходимые вещи. Мы стали спорить, я убеждал ее взять, она упорствовала. Она вдруг заговорила о футболисте с таким презрением и ненавистью, что я удивился.
— Нет, нет! — говорила она, чуть не плача. — Я не возьму ни за что! Ни за что! И ты не уговаривай!
Был первый час ночи. Автобусы уже не ходили, такси, как назло, не попадались. Возле телеграфа я остановил какую-то машину: это оказался хлебный фургон. Мы влезли в кабину к шоферу. За пятерку он согласился довезти нас до текстильного комбината, а там было близко. В кабине было тесно, пахло свежими булками, и Катя сидела у меня на коленях в неудобной позе, пригнув голову.
Я встретил на улице отца Леры, Николая Евстафьевича, и он очень сухо со мной поздоровался. Потом на базаре я встретил одну из Лериных теток — она прошла мимо, сделав вид, что меня не знает. А раньше мы с ней всегда приветливо раскланивались. Я понял, что тут знал больше других.
Об этом я рассказал Саше в ответ на его просьбу сходить к Николаю Евстафьевичу и что-то там прощупать, прозондировать.
Мы пили в моей комнате кофе. Очень сладкий, дымящийся, неимоверно сытный и питательный кофе: я делаю его сам при помощи кипятка и банки сгущенки. Окно было открыто, синело утро. В саду перебегали солнечные пятна, шуршал ветер, пахло просыхающей землей и весной — хотя какая весна в середине декабря? Но пахло весной.
— Вот поэтому, — сказал я, — мне неловко к ним идти.
— Ты тут ни при чем. Но и я тоже ни при чем. Это очень типично: когда человек обижает кого-то, делает зло, он потом избегает этого человека или же при встрече сам напускает на себя вид обиженного…
— А что я должен говорить?
— Сначала послушай, что тебе скажут. Я был у них после возвращения дважды. Первый раз прямо с аэродрома. Отец ничего не знал, обнимал, улыбался. Я его буквально ошеломил: так и так, мол, ваша Лерхен то-то и то-то, и потому я так-то и так-то. Он глаза вытаращил. А когда я пришел через три дня, он держался совершенно иначе, даже не пригласил к столу. Обычно он меня кормит, когда я прихожу. Видимо, получил письмо. Жалко мальчишку. Он привязан ко мне…
— В общем-то, что сказать-то?
— Скажи так… — Он обнял ладонью лоб. Его пальцы необыкновенно утончились, пожелтели, ногти были нечистые. Может, у него всегда были такие пальцы, но я только сейчас заметил? — Скажи, что я готов простить эту историю, черт с ними… Я могу.
— Скажу.
— Но только при условии, что она уйдет из экспедиции, — понял?
— Ладно.
— Только при таком условии. Никаких поблажек!
Он помолчал, приосанился, пальцами мял лоб. Нависла пауза. Его хотелось ободрить, но что сказать? Я-то знал больше других.
Я спросил — как-то не пришло ничего умнее — про этого человека, из-за которого сыр-бор. Кто такой?
— Мальчишка, сукин сын! Двадцать семь лет. Я его чуть не избил, подлеца — пожалел. Понять невозможно, что она в нем нашла, ну совершенно нельзя понять. Ничтожество, серый малый и больше ничего. Инженеришко…
Он говорил еще долго. «И я, конечно, не ангел, сам знаешь». Я знал. Я думал, что он-то, наверное, и виноват главным образом, но было его жалко, и я думал о Лере недобро.
Он спросил меня насчет своих очерков. Я сказал, что слышал, как кто-то хвалил их, это была правда. Кто-то хвалил, но я забыл кто. Он напечатал два очерка — о вскрытии перемычки и о Головном — и недавно еще производственную статью, очень толковую, о землеройных механизмах. Эта статья оказалась особенно удачной. В редакцию звонил Нияздурдыев из Управления водными ресурсами, благодарил и сказал, что там есть ценные мысли. Сашка вообще умеет работать. У него есть хватка, чутье, легкий слог. Но все, что он пишет, немного холодно, скучно и как-то со стороны.
Я улыбнулся горько, секундно. Мне вспомнились наши студенческие споры, наши мечты и то, что Сашка писал тогда в большой разлинованной тетради для конторских счетов, — был кризис бумаги, и Сашка любил писать на больших листах — острые, полные юмора, наблюдательности воспоминания о своей военной юности, эвакуации, жизни на Урале, в каком-то захудалом городишке. Все мы считали, что из Сашки вырастет блестящий очеркист, фельетонист, а может быть, и писатель. И вот теперь статья о землеройных машинах. И он доволен, считает эту статью большой удачей, и мы тоже так считаем.
Я подумал обо всем этом в течение двух мгновений. Он не заметил моей улыбки. Он что-то говорил насчет своей статьи и насчет этого парня, с которым спуталась Лера. За последнее время мы отдалились друг от друга, это началось после той летучки, когда он струсил. Виктор, Боря и даже Денис Кузнецов стали мне как-то ближе, чем он. Но ему было теперь здорово плохо.
Я сказал, что могу хоть сегодня пойти к Николаю Евстафьевичу. Сашка растрогался: «Спасибо, старик!» Мы вышли вместе. Он стал жаловаться на приятелей: пока немногие знали о его разрыве с Лерой (через неделю будет знать весь Ашхабад), но те, кто знал, не проявляли сочувствия, не выказывали даже удивления. Это его почему-то особенно заедало: никто не удивился, все считали эту историю, поразившую его в сердце, вполне обыкновенной, в порядке вещей.
Я сказал, чтобы он ждал меня в шесть вечера в «Дарвазе».
По случаю воскресенья я застал всех в сборе: старика Николая Евстафьевича, обеих теток и мальчика, который в будни ходит в сад. Меня встретили настороженно, но без враждебности. Пригласили к столу, дали чаю с оладьями. Я сказал Николаю Евстафьевичу все так, как просил Саша. Старик слушал, тяжело дыша и отдуваясь, каждый его вздох сопровождался сложным, многоголосым сипением и клокотанием легких. Он заметно сдал за два месяца, что я его не видел.
Слушая меня, он кивал, кивал, потом сказал:
— Дорогой товарищ, я в их дела не вмешиваюсь. Лерочка как в Москву поехала двенадцать лет назад, так от нас отломилась. Еще мамка была живая, а она все равно никак, нипочем не советовалась… — Он передохнул, поскрипел легкими, потом, глубоко вобрав воздух, продолжал: — Мое мнение? Александр — муж не особенно плохой. И затем — ребенку нужен отец.
— Значит, если Саша простит Валерию…
— А я не знаю. Не понимаю я, кто чего простит…
Мне показалось, что он немного придуривается.
— Но вы же понимаете, что ребенку нужен отец. Значит, нужно сделать все, чтобы восстановить семью…
Он положил на мою руку свою легкую, старческую ладонь.
— Дорогой товарищ, это вы не мне внушайте, а им. Вот про Васеньку я все знаю, все могу объяснить, про себя тоже знаю, а про них — нет. Темна вода… Третьева дни звонила из Маров: не приедем ли мы с Васенькой к ней на Новый год? Тоскует, мол, хочет видеть и так далее. А как туда, в пески, малыша тащить? Я сам-то еле можахом, но я б еще кое-как и даже с удовольствием — мне в песках легче дышится. И у меня к тому же бесплатный проезд по железной дороге раз в году, так что есть расчет. Но как с малышом?
— Рискованно, — сказал я.
— Вот и я думаю. Потому что легкомыслие кругом. Я, конечно, сказал: посмотрим, будет видать…
Отворилась дверь, в комнату на миг зашла одна из теток, остро взглянула на нас и исчезла бесшумно.
— Еще вот что: очень по телефону Александра ругала. Какую-то статью подлую написал. Не знаете?
— Была недавно его статья о землеройной технике, но я не читал. Не знаю, что там подлого.
— Очень, говорит, подлая. Не статья, а донос. Я, говорит, Сашке этой статьи никогда не прощу.
— Надо будет прочитать.
— Я тоже отложил в стол газетку, да не соберусь никак, ведь, как свободное время, кисть в руки — и малюю…
— А я, наоборот, слышал, что статья дельная, — сказал я.
Николая Евстафьевича разговор о статье больше не интересовал, он встал и направился к стене, увешанной самодельными картинками в багетах, выкрашенных серебристой краской: такой краской красят ограды на железнодорожных вокзалах. Но прежде чем старик успел раскрыть рот, я встал и попрощался. В коридорчике ко мне подошла одна из теток — не та, что не узнала меня на базаре, а другая, менее сердитая.
Она сказала, что Николай Евстафьевич очень болен, астма его измучила, и они стараются не беспокоить его, оберегать от волнений, но дочка и зять совершенно не думают о старике. Им кажется, что их дела гораздо важнее его здоровья, которое ужасно. Сегодня ему немного лучше, потому что на улице тепло, а в холода он просто погибал. И, конечно, ни о какой поездке в пески не может быть и речи. Кто с ними поедет, со старым и малым? Вообще, Николая Евстафьевича надо оставить в покое…
Все это она проговорила шепотом, стоя на лестничной площадке и глядя на меня просительно. Мне сделалось неловко: я, что ли, не оставляю старика в покое?
Вечером я сказал Саше, что Николай Евстафьевич плох и надеяться на него нечего. О телефонном звонке Леры и разговоре насчет статьи я промолчал, но, придя после «Дарвазы» домой, отыскал номер со статьей и прочел. Ничего подлого я там не увидел. Обычная производственная статья с резкой критикой главного инженера Пионерного отряда Гохберга за варварское отношение к землеройной технике. Приводились факты. Местами была, наверное, репортерская натяжка, для красного словца, — что ж особенного? У нас это называется: «вставить перо». Газетчики — народ зубастый, иногда и перекусят там, где надо надкусить. Этому Гохбергу «вставлено», конечно, крепко.
И заголовок мне понравился: «Кладбище имени Гохберга» — лихо!
20
Статья А.Зурабова наделала много шуму, как в Пионерном, так и в Марах, и в Ашхабаде. Противники бульдозерного метода, «антиермасовцы» и «кетменщики» воспрянули духом. В обвинениях, выдвинутых газетой против руководства Пионерной конторы, они прочли подтверждение своим мыслям о том, что бульдозерный метод основан на преступной эксплуатации механизмов.
В статье было три главных обвинения: 1) в том, что руководители СМК «Пионерная» вместо того, чтобы ремонтировать тракторы, преждевременно вышедшие из строя, списали 31 трактор, среди которых были машины выпуска 1954—1957 годов; 2) в том, что руководители СМК, чтобы скрыть имеющуюся якобы недостачу тракторов, собрали 7 тракторов и этим покрыли недостачу; 3) в том, что перед приездом на трассу представителей управления водхоза те же руководители СМК собрали со всей трассы механизмы и «спрятали» их в стороне от трассы, на 185-м километре.
Последнее обвинение было особенно грозным. В то время как на трассе радовались удачному заполнению озер и тому, что бульдозерный метод себя превосходно оправдывает, газетчик сумел за всем этим торжеством увидеть незащищенное место и больно ударить. Формально критика была правильной. Да, на трассе скопилось большое количество непригодной техники. Одни механизмы нуждались в ремонте, другие (скреперы) оказались беспомощны в песках, третьи пали жертвой «раскулачивания». Да, было и «раскулачивание». А что делать, если стройка испытывала волчий, неизбывный голод в запчастях? Как удалось бы осуществить в сентябре Великое Наступление Бульдозеров, если бы пришлось отказаться от частичного «раскулачивания» скреперных тракторов и переоборудования их в бульдозеры?
Люди, отвечавшие за доставку техники на стройку, были против бульдозерной затеи. Они не желали давать ни одной лишней машины. В Пионерном было всего 8 бульдозеров и 58 скреперов, висевших на шее конторы мертвым грузом. За короткий срок удалось отремонтировать и переоборудовать из скреперных тракторов еще 34 бульдозера, и это решило успех строительства на самом трудном, барханном участке.
Памятником этому успеху было скопление травмированной техники на 185-м километре. Карабаш держался спокойно, но предвидел густые неприятности. Могло быть что угодно. Статья была пущена с дальним прицелом.
«Как же отчитываются, — спрашивал автор статьи, — за преждевременно угробленные механизмы Аркадий Моисеевич Гохберг и другие? Ведь эти механизмы указаны в балансе как основные средства… До каких пор будут царить безответственность и бесхозяйственность на великой стройке, какой является Каракумский канал?»
Ермасов говорил с Карабашем по рации в тот же день, как появилась статья. Он рычал: «Какого дьявола вы откровенничали с этими прохиндеями? Какой сукин сын возил его на сто восемьдесят пятый километр?» Слова «дьявол» и «сукин сын» были наиболее деликатными среди выражений, которыми Ермасов в тот день потрясал эфир Восточных Каракумов. Ермасова уже штрафовали однажды за излишнюю горячность по радио: специальная комиссия, сидевшая где-то в Узбекистане, строго следила за радиоразговорами и карала беспощадно.
«Сукин сын» вскоре обнаружился: Смирнов. На открытом партийном собрании, созванном через два дня после появления статьи, Смирнов сам признался, что возил корреспондента на рембазу. «Но я ему никаких фактов и цифр не сообщал. Он был полностью в курсе, я даже удивлялся». Ему не очень-то верили, но дело, собственно, было даже не в том, кто и что наболтал корреспонденту. Надо было защищаться. Теперь нагрянут комиссии, посыплются акты, заключения. Гохберг был подавлен случившимся. Его поразило то, что главный удар был нанесен по нему: как раз то, на что другие не обратили внимания. На партийном собрании он нервно оправдывался, попутно обвиняя автора статьи в демагогии и непартийном тоне.
— Вот он пишет… — Гохберг читал, держа газету. Его обычно громкий, резкий голос заметно сел и звучал неотчетливо. — «Перед приездом на трассу представителей Управления водными ресурсами и технадзора главный инженер СМК „Пионерная“ Гохберг и другие руководители конторы единогласно „постановили“: объявить штурм и стащить ранее оставленные на произвол судьбы механизмы подальше от трассы…» Насколько мне не изменяет память, я ничего не «постановлял» и не «объявлял». Тогда оттащили один-единственный трактор С—80, который стоял при въезде в поселок…
— Правильно! — крикнул кто-то из рабочих. — Я его тащил…
— Дальше этот чудесный корреспондент пишет так: «Три дня и три ночи неустанно трудились штурмовики…» Откуда три дня и три ночи, откуда? Что за арабские сказки? Концентрация механизмов на сто восемьдесят пятом километре производилась в течение всего периода работы, это известно, простите меня, каждому верблюду из нашего туркмен-аула на Инче… «Заметая следы варварского…» Ах, боже!.. «Отношение к первоклассной технике, созданной заботливыми руками советских людей на заводах Челябинска, Костромы, Воронежа и других городов нашей Родины для строителей великой водной магистрали». Вы чувствуете? Нас обвиняют уже в каком-то злоумышлении против советских людей Челябинска, Костромы и Воронежа и чуть ли не против нашей великой Родины! Родины — с большой буквы!
На другой день приехал Ермасов, сразу отправился на 185-й километр и сам все осмотрел. Велел Гохбергу написать объяснительную записку и составить подробный перечень выбракованного оборудования. К вечеру перечень был готов. Среди двадцати трех тракторов, двух грейдеров и тридцати восьми скреперов было всего пятнадцать машин моложе 1952 года выпуска. Все они ждали капремонта.
Объяснительная записка была сочинена в тот же день, чтобы Ермасов мог захватить ее с собой в Мары. Комиссии начнут свою бурную деятельность, конечно, с Маров.
Ермасов не рычал, не гневался, не топал ногами, был неожиданно молчалив и сосредоточенно, глубоко расстроен. Усталый старик, глаза в темных мешках, он сидел за столом Карабаша и, чуть улыбаясь, читал «объяснение», написанное Гохбергом. Всегда казалось, что он чуть улыбается, но это была не улыбка, а гримаса напряженной мысли.
Прочитав, вздохнул.
— Знаете, что я вспомнил? Лет двадцать пять назад врачи сказали, что мне осталось жить один год. Злокачественная опухоль и всякая такая штука. Я был тогда летчиком-наблюдателем здесь, в Средней Азии. Ну, я демобилизовался, конечно, а что дальше? Как жить? Что делать? Решил я, не мудруя особенно, пойти учиться, тем более что парень я был не шибко грамотный. Хоть год, думаю, а проучусь, займусь делом. Пошел в Институт ирригации. Вступительные экзамены сдавал с превеликими муками, но сдал, попал, стал учиться. И вот — жив, как видите.
В комнате были Карабаш и Гохберг, они угрюмо слушали.
— А что с опухолью? — спросил Карабаш.
— А леший ее знает. То ли врачи ошиблись, то ли как-то сама собой рассосалась. Я всегда вспоминаю этот момент из моей биографии, когда случаются разные неприятности. «Ну, думаю, и не то бывало! А все живой оставался». Это чтобы вы носы не вешали.
— Да мы не вешаем, — сказал Гохберг. — Но знаете, Степан Иванович, какой-то тон у этой статейки нехороший. Почему, например, он меня выделяет? Называет по имени-отчеству? По-моему, тут есть нехороший душок, как считаете?
— Бросьте вы, Аркадий. Нет тут ничего этого, — сказал Карабаш. — Вообще статья направлена не против вас, а против меня.
— Зачем же такое издевательское название: «Кладбище имени Гохберга»? Софья Михайловна очень правильно сегодня сказала: почему бы не просто — «Еврейское кладбище»?
— Аркаша, у вас больное воображение. Тут этого нет. Но тут есть другое, и вы знаете что. Эта статья направлена против меня, а вы — для ширмы. Отвечать все равно буду я, как начальник СМК.
— Голубчики, братцы мои, — сказал Ермасов, — вы ошибаетесь оба. Статья эта написана не против вас или вас, а против меня. Святая правда. Писал-то ее писака, а вдохновлял и придумывал совсем другой человек, и даже не один, а целая солидная компания. Из известного управления. Ну, посмотрим, что у них получится.
Ермасов встал, накинул кожаное пальто на плечи, взял со стола кожаный старенький картуз.
— У туркмен, между прочим, есть хорошая пословица: «Собаки лают, караван идет вперед». Вот и пойдем вперед. Подавай-ка, Михалыч, коляску, поехали на двести сороковой!
Двести сороковой — это был самый крайний, Западный пикет, до которого дошла Пионерная траншея. Вернулись оттуда глубокой ночью. В гостинице, где Ермасов остался ночевать, посидели немного, выпили по рюмке коньяку, чтобы согреться и развеять усталость. Все устали ужасно, и не столько от поездки, сколько от суеты, разговоров, волнений. Коньяк ничему не помог, только спать захотелось.
Карабаш подходил к своей будке, еле держась на ногах. Его шатало, как бульдозериста после смены. Приезды Ермасова всегда выматывали смертельно, он как-то умел вытягивать из людей последние силы. Карабаш настолько устал, что даже не удивился тому, что в его комнате горит свет в два часа ночи. Он обрадовался, увидев Леру.
— Ты здесь! Что ты делаешь?
Она сидела за столом и при свете керосиновой лампы, поставленной на стопку книг, и электрического фонаря что-то шила, делая энергичные движения правой рукой. Два раза Лера гладила Карабашу белые рубашки и оба раза палила утюгом ворот, а когда брала в руки иголку, то непременно колола пальцы. В общем, эти дела давались ей с трудом, но она упорно практиковалась на вещах Карабаша.
— Лер, милая, что это ты взялась среди ночи? — сказал Карабаш, стараясь говорить как можно более нежно. — Ну зачем? Ведь глупость: третий час ночи. — Он обнял ее, садясь на койку.
— Алешенька, мы уезжаем завтра в Мары. На три недели. А может, и на дольше. Я давно хотела переменить воротник на этой рубашке, тот был совершенно неприличный, ветхий, сыпался по сгибу. Четыре пары носков тебе заштопала…
— Ну зачем эти подвиги? Ведь я могу отдать тете Насте.
— Я тебе обещала и должна сделать. Почему подвиги? Мне это совсем не трудно. Ой! — Она уколола палец. — Не смотри на меня! Как только ты приходишь, я начинаю колоться. Сейчас я кончу…
— А зачем вы едете в Мары?
— Будем там камеральничать. Наш дорогой начальник сообщил нам только сегодня, а завтра днем уже придут машины. Я тебя жду с половины двенадцатого. Еще было электричество, я успела погладить тебе брюки и две рубашки.
— О боже! Громадное спасибо…
— Завтра ведь будет некогда. Вот! Получайте! — Она протянула Карабашу рубашку, воткнула иголку в лист ватмана на столе. — Алешка, я так расстроилась сегодня — просто ужасно. Все радуются, все счастливы, что едут в город, а я одна не рада. Конечно, знаешь как все устали жить в песках? Я сама устала. Хочется и то и это, и в магазин, и в баню, но без тебя-то как же? — Последние слова она сказала шепотом и жалобно, искательно заглянула ему в глаза.
— Буду приезжать к тебе, — сказал Карабаш. — Могу каждую неделю. В сущности, это близко, наши машины ходят каждый день.
Он рассматривал рубашку. Воротник был пришит криво.
— Я буду приезжать. — Он поднял руку, чтобы обнять Леру, и она сразу вся потянулась к нему и пересела на койку. Он поцеловал ее. Лера спросила шепотом:
— А ты совсем не огорчен моим отъездом?
— Ни капельки.
— Я вижу. Готов приезжать раз в неделю, и тебя это устраивает. Ой, Алешка! — Она захныкала. — А я буду так скучать без тебя! Мне стыдно, но знаешь что? Я даже могу совсем бросить работу, чтобы остаться с тобой… честное слово… Хочешь? Ты меня не будешь презирать? Алеша! О чем ты думаешь?
Он думал о том, как стремительно все вдруг стало плохо: разлука с Лерой, эта сволочная статья, неизбежные комиссии, трепка нервов, старания доказать, что ты не верблюд. Ермасов молчалив и угрюм потому, что понимает, что дело плохо и может стать еще хуже.
Это была чистая случайность: мы встретились с Диомидовым в книжном магазине днем в воскресенье и потом долго шли вместе. Он шел домой, а я его провожал. Впервые за все время я разговаривал с редактором дольше пяти минут.
Диомидов взял в отделе подписных изданий новые тома Ключевского, Герцена, «Всемирной истории», еще что-то, нес в обеих руках по тяжелой пачке аккуратно упакованных книг, а я купил какой-то новый немецкий роман в бумажной обложке. Автобусы в сторону центра ехали переполненные, люди висели на подножках, поэтому мы шли пешком. Диомидову было довольно тяжело и неудобно, он часто останавливался, чтобы переменить руки, а я не предлагал ему помощи, чтобы он, не дай бог, не подумал, что я угодничаю. Это была глупость, но я не мог себя пересилить.
Впрочем, редактор не замечал жалких мук моего самолюбия и был весел и доброжелателен. Сначала говорили о книгах. Он вернулся недавно из Москвы, где купил много интересных книг в магазине стран народной демократии на улице Горького. По-немецки он читает свободно. Все деньги, какие были, убухал в Москве на книги. И еще — на бега. Вспомнил старое. Когда-то знал всех московских лошадников, жокеев, игроков, но теперь там не то, дубль отменен, играют только ординар, выдачи чепуховые…
Я удивлялся его разговорчивости. Ему что-то было нужно. Мы медленно шли по тротуару, то и дело встречая знакомых. По воскресеньям весь Ашхабад выходит на улицы, одни шныряют по магазинам и базарам, другие просто гуляют по проспекту и по торговому «пятачку» в районе универмага, разглядывая витрины, киоски, афиши, знакомых, их новые пальто, их шляпы, и тех, кто с ними прогуливается. У редактора знакомых было, конечно, больше, чем у меня, и все они здоровались с ним очень почтительно. Он же отвечал по-разному: одним едва заметно кивал, другим корректно кланялся, некоторым улыбался. Большинству он едва заметно кивал. И я чувствовал, что иду рядом с большим человеком и некоторая тень его внушительности отбрасывается даже на меня. Но однажды нам встретился какой-то полный, белолицый, очень важный туркмен в длинном, горохового цвета макинтоше, в зеленой велюровой шляпе, и Диомидов так заторопился пожать ему руку, что уронил пачку книг. Я поднял ее. Он даже не поблагодарил меня и не представил человеку в гороховом макинтоше, хотя тот познакомил его со своим спутником. Он просто мгновенно забыл о моем существовании. Они о чем-то заговорили. Говорил, собственно, один редактор, а тот только слушал и кивал. Я постоял немного и пошел дальше, решив, что прогулка с начальством благополучно завершилась. Однако через минуту сзади послышалось: «Подождите, Корышев!» Тогда я отчетливо понял, что у редактора есть какой-то разговор поважнее книг и бегов.
Он что-то говорил, оживленно жестикулируя, потом человек в макинтоше, улыбнувшись, протянул ему руку, приподнял шляпу, Диомидов низко склонился, пожимая ему руку, и они расстались. Он догнал меня молодецким шагом. Его лицо слегка покраснело, на щеках выступил пот. Разговор с макинтошем стоил ему напряжения. Я вдруг сказал:
— Игорь Николаевич, дайте мне одну пачку, а то вам тяжело.
— Да нет, ничего, спасибо! — сказал он с поспешностью. — Ну ладно, понесите немного… Спасибо.
Все вышло вполне достойно. Мы пошли медленнее, его лицо постепенно просыхало, бледнело, приобретало прежнее выражение непроницаемой солидности, и вскоре он окончательно стал самим собой и едва заметно отвешивал кивки знакомым. Он заговорил о моем рассказе «Дети доктора Гриши». К моему удивлению, он говорил тонкие и неожиданные вещи. Первый рассказ о ковровщице был, по его мнению, цельнее, свежее, а в этом была изощренность и некоторая литературщина, а значит, и неправда.
— О нет, там все правда! — возразил я. — Я описал живого человека, живую встречу.
— Одно из двух: или в вашем живом человеке была какая-то литературность, сиречь фальшь, или вы его испортили при обработке. Нельзя большое горе раскрашивать, как вазу. Есть магия непосредственной жизни, магия неправдоподобности, нелепости жизни, у вас она исчезла. Вы действительно играли с ним в шахматы?
— Нет, но я мог. У него в комнате я видел доску.
— Могли, видели — это не то. А что вы с ним делали?
— Да просто пили водку и разговаривали. Он рассказывал, как у него погибла семья.
— Ага! Вот это интересно. Спустя девять лет всем рассказывать одно и то же: как погибла семья. А вы прячете это в подтекст, вытаскиваете никому не нужные шахматы, тут-то и есть литературщина. И потом — где же водка? Ведь вы пили водку? Вы пишете, что у него «водянистые, в красноватых веках глаза», и читатель должен предполагать, что он день и ночь плачет. А он хлещет водку со страшной силой. Он спивается, бедняга. Он отказался уехать из песков в город не потому, что ему жалко расставаться с чабанами, а потому, что он уже не верит в свои силы, разучился работать, горе сломило его. В городе нельзя так жить, как в песках. В общем, он махнул на себя рукой. Похоже?
— Может быть, да. Но это уже другой рассказ.
— Да, другой. Который надо было написать. А вы вашего доктора облагородили и всех окружающих тоже. Горе не облагораживает людей, оно их калечит.
— Хорошо, допустим, я напишу рассказ так, как вы советуете. Вы напечатаете?
— Посмотрим, вы сделайте сначала. Но мой вам совет: вы должны использовать газету не для того, чтобы там печататься, хотя и печататься можно, а для того, чтобы ездить, смотреть, пожирать впечатления, вникать в жизнь. Это для вас важнее, чем напечатать двести строк, получить гонорар в три сотни и просидеть их с приятелями в «Дарвазе» за тарелкой гуляша. Писать вы будете, у вас пойдет. Но вы, по-моему, мало ездите. Месяца четыре последних никуда не ездили, правда? Не считая двух дней на трассе?
— Да.
— То-то вот. Плохо. А когда вы будете ездить много, вы начнете писать жадно, разнообразно. Вам даже трудно себе представить, о чем вы станете вдруг писать.
Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда, Как желтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда…Ахматова, волшебные стихи. Привез из Москвы ее новый сборник, только что изданный. А Гете, кстати, считал путешествия самым важным занятием в жизни…
Я смотрел на него с изумлением. Он ухмыльнулся своим булькающим, коротким смешком.
— Я вас чем-то удивляю? Не удивляйтесь, я господин грамотный, окончил, как и вы, Московский университет, правда, в ту пору, когда там преподавали несколько лучшие профессора…
Мы проходили мимо павильона, где продавали шампанское в розлив. Редактор предложил зайти. Сели за стол во дворике, огороженном легкой деревянной решеткой. Нам принесли по бокалу шампанского, такого холодного, что невозможно было понять его вкус. Пили маленькими глотками. Я не мог отделаться от ощущения, что все это неспроста и он еще не подошел к чему-то главному. Но — подходит. Приближается. Теперь, когда мы сидели за столом друг против друга и я видел его гладко зачесанные, черные, блестевшие от бриолина волосы, когда он наклонял голову, и его грифельные зрачки, когда он смотрел через стекло в упор, у меня возникало знакомое чувство некоторого оцепенения, которое бывало в редакторском кабинете.
Говорили о Москве, о каких-то выставках. Вдруг он спросил:
— Вы Кузнецова хорошо знаете?
— Какого Кузнецова?
В следующую секунду я догадался, что речь идет о Денисе, и подумал: «Вот это оно!»
— Нашего фотографа. Которому вы протежировали.
— А! Знаю, да. Здесь познакомился. А что?
— Что он за человек?
— Обыкновенный. Покалеченный войной… — Я помолчал. Мне было неловко потому, что это был вроде как бы допрос. — По-моему, он человек неплохой, хотя немного, что ли, легкомысленный и несчастный.
— У меня было такое же впечатление, — сказал Диомидов, крутя за ножку бокал с шампанским. — Но мне передали такую вещь: будто он всюду ходит и говорит, что якобы в наших газетах неинтересно работать, они все одинаковые и скучные, и так далее. Похоже на правду?
— Не знаю. Я не слышал. Кто вам сказал?
— Какая разница? Я вам сообщаю факт.
Диомидов чуть отхлебнул вина, причмокнул и поставил бокал на стол. «Это Сашка ему сказал», — вдруг подумал я.
— Теперь вы видите, что значит протежировать малознакомым людям. Я помню, как вы и еще другие товарищи бегали ко мне в партбюро и, кажется, даже в отдел печати и требовали, чтобы этого Кузнецова приняли на работу. Два человека тогда возражали: Артем Иванович Лузгин, старый пограничник, и ваш друг Зурабов.
— Но ведь ничего, по-моему, не случилось?
— Случилось, случилось. — Он сделал ладонью успокоительный жест. — Уже случилось. Поступил сигнал, — значит, уже случилось.
«Вот сволочь, трепло, — подумал я про Сашку, — гробит мужика ни за что». Я не верил, что Денис ходит и рассказывает такую ерунду. Тут какое-то вранье.
— Кузнецов вообще-то сильно пьющий, — сказал я. — Мог в пьяном виде сболтнуть, не придавая значения…
— Возможно. Вполне допускаю. Я не намерен заниматься разбирательством этого дела, но я бы хотел вот чего: чтобы сей муж подыскал себе другую работу. Вы его надоумьте. И чем скорее, тем лучше. Зачем мне эта филантропия? Ей-богу, не нужна. И учтите: Артем Иванович пока еще ничего не знает об этих разговорах, но как только узнает, он сожрет вашего приятеля мгновенно.
«Он не такой уж мне приятель», — чуть было не вырвалось у меня, но мне в тот же миг стало стыдно, и я вдруг сказал:
— Игорь Николаевич, а почему вы так боитесь Лузгина?
— Я боюсь? С чего вы взяли?
— Ведь Лузгин — человек прошлого. На чем он держался все эти годы? Не на знаниях своих, не на умении, таланте, а на страхе, который он непонятным образом внушил людям. Кроме этой способности не было ни черта. А сейчас их время кончилось, они голые короли! Вы согласны со мной?
Он посмотрел на меня странным, боковым взглядом.
— Вы все же намекните Кузнецову на то, о чем я просил. Видите ли, Лузгин человек злопамятный, и он не забыл того, что Кузнецова взяли вопреки его воле.
— Насчет Кузнецова не волнуйтесь: он сам хочет уходить из газеты.
— Да? Кто вам сказал? — обрадованно спросил Диомидов. — Куда?
— На стройку канала. Ему там очень понравилось. Он мне говорил об этом дней десять назад.
— О, это правильно! Очень правильно, очень разумно! Мы дадим ему рекомендацию… Хотя нет, рекомендацию мы дать не можем, он слишком недавно работает. Но это очень правильное решение.
Диомидов поднялся из-за стола с неожиданной и радостной легкостью. Подошел официант. Когда я вынул деньги, Диомидов сделал категорический жест, запрещавший мне даже думать об оплате, и заплатил за оба бокала. Мы вышли на улицу и снова медленно пошли по тротуару. Редактор взял меня под руку.
— Дорогой Корышев, а теперь — по делу…
«Черта с два, — подумал я. — По делу уже было…»
Он начал говорить про свой отъезд в Москву и про то, что в его отсутствие наломали дров в газете и надо что-то выправлять, но я плохо понимал, что именно, потому что думал о Сашке. У меня осталось отвратительное ощущение после того, что я услышал про Дениса и Сашку. И я думал о них обоих. Потом начал понемногу вникать в слова Диомидова. Он говорил, что в его отсутствие Лузгин напечатал материалы Зурабова, направленные против руководителей Пионерной конторы, а в конечном счете — против руководителей всей стройки. Это было неосмотрительно. Ермасов написал письмо в ЦК республики с жалобой на газету, и сейчас над Лунгиным нависли большие неприятности. И над газетой, естественно.
— Над Лузгиным все время будут нависать неприятности, — сказал я. — Потому что он не умеет работать по-новому. Он привык ориентироваться не на суть дела, а на то, чтобы понравиться начальству. А сейчас он перестал понимать, что нравится начальству, а что нет.
Диомидов не возражал на мои выпады против Лузгина, но и не поддерживал их. Он как бы пропускал их мимо ушей.
Между Ермасовым и Управлением водными ресурсами, сказал он, происходит непрерывная свара, которая идет, может быть, на пользу делу потому, что обе стороны нещадно критикуют друг друга, а критика всегда полезна. Но газета должна быть гибкой и объективной. Нельзя только критиковать руководителей стройки, надо отмечать и то замечательное, что там делается, а делается там немало. Надо написать положительный очерк о стройке, упомянуть о Ермасове, о его поездке в Америку, связав это с таким событием, как досрочное заполнение Больших Озер: газета писала об этой победе строителей очень скупо.
— Возьмите командировку дней на десять, поезжайте в Мары, на Инче и дайте такой материал, чтобы строители сказали вам спасибо. Приходите завтра утром — нет, завтра утром я уезжаю в ЦК, — послезавтра утром, и мы поговорим подробнее. Вообще заходите запросто. Что вы дичитесь? Я в газете каждый день, в любое время — милости просим. Поездка будет полезной и для вас. Помните, — он наставил на меня указательный палец, — «из какого сора растут стихи, не ведая стыда…».
Он протянул мне руку с выражением неопределенной серьезности, а может быть, неопределенной улыбки. Мы подошли к дому.
На другой день я передал — разумеется, с купюрами — мой разговор с редактором Борису Литовко. Меня интересовало его мнение. Борька работает в газете тринадцать лет и знает Диомидова лучше, чем кто-либо. Он посоветовал не обольщаться редакторским благорасположением. Диомидов, сказал он, человек контрастов. Сегодня он тебя ласкает и поит вином, а завтра не узнает, как чаплинский миллионер.
Перед войной он здорово шел в гору в Москве. Будучи совсем молодым, уже котировался на пост редактора какого-то крупного журнала, но потом случилась осечка. Кажется, его напугал тридцать седьмой год. Сам он не пострадал, но у него атрофировались мускулы честолюбия, он сник, стушевался, постарался исчезнуть с видного места и покинуть Москву. Испуг и интеллигентность — как орел и решка одной монеты — сидят в нем до сих пор, хотя он провел войну в армейской газете, заслужил боевые ордена. До сих пор «исполняющий обязанности». Ни за что не соглашается стать главным, хотя ему предлагали и даже приказывали.
— Ну, это понятно, — сказал Борис. — Он уже немолод, и ему хочется спокойной жизни. Лузгина он не любит и презирает не меньше нас с тобой, но хоть бы раз поднял против него голос! А ведь он мог бы отделаться от него, мог бы взять себе дельного, умного помощника, сейчас время такое, что это можно и нужно делать, но боится, боится! Не верит, что пора лузгиных прошла окончательно…
Когда во вторник утром, как мы условились, я пришел к Диомидову поговорить относительно командировки, тот едва кивнул мне и, не приглашая сесть, сказал с холодным удивлением:
— А зачем вы пришли? Мы ведь обо всем договорились. Идите в секретариат, берите командировку на десять дней и поезжайте.
— Вы, по-моему, просили зайти, хотели что-то сказать еще…
— Что — сказать? — он вонзил в меня зрачки. — О чем? Надо ехать и делать. Да! Не забудьте: о Ермасове пишите потеплее, а руководителей Пионерной особенно поднимать не стоит, там сейчас работают комиссии, дело неясное.
Он стал что-то писать.
— До свиданья, — сказал я, идя к двери.
Он не ответил. Вот так закончился мой роман с редактором. Хотя закончился ли? Я думаю, что, если снова встречу его на улице, в книжном магазине или в бане, мы снова будем говорить о литературе и о стихах, которые растут черт знает из какого сора…
Командировке я был рад. Мы давно собирались вместе с Атаниязом поехать на трассу и заодно навестить родной аул Атанияза, расположенный где-то в районе канала. Атанияз просил меня заранее сообщить, на какой срок я возьму командировку в газете, чтобы на это же время взять командировку на радио. Я решил ехать третьего января, чтобы встретить Новый год в городе.
21
Снова впереди всех — два экскаватора и четыре трактора с бульдозерными ножами. Позади остался поселок Третьего, колодцы, кухня, тетя Паша, варившая борщи из консервов и каши, крутые и обжигающие, как горячий бетон. Позади осталось бесконечное лето. Позади — километры пыли, рев моторов, боль в руках, ночная работа и дневное томление в жару. Позади — готовые дамбы, маленькие клочки пустыни, к которым прикипали душой, счастливые дни, когда взрывалась перемычка и медленно катилась вода в хлопьях кофейной пены.
А что впереди?
Если подняться ночью на бархан и прислушаться, можно расслышать — при западном ветре — далеко-далеко едва различимое стрекотание. Где-то дышат моторы. И, может, это моторы Марыйского участка. Те, что ползут навстречу по-сухому. Марина услышала однажды стрекотание, вбежала в будку, завопила радостно:
— Папа, Сень! Скорей сюда, слыхать уже!
— Чего слыхать? — спросил Нагаев.
— Марыйских слыхать! Вот ей-богу!
— А! Я-то думал…
— А между прочим, свободная вещь, — сказал Марютин, поднимаясь с койки. — Пойти проверить.
Он начал поспешно обуваться, накинул телогрейку и вышел вслед за Маринкой на волю. Нагаев ужинал после смены. Подождав немного, он тоже вышел. Маринка с отцом стояли в темноте на бархане. В забое было тихо. С видом ленивым и скептическим Нагаев подошел к бархану и, ковыряя спичкой в зубах, остановился у подножия бархана и стал прислушиваться.
— Сень, ты сюда иди! Внизу не слыхать! — крикнула Марина сверху.
— Ладно. Услышим…
Помолчали минуту. Марютин сказал:
— Да нет ничего. — Еще помолчал и добавил: — Ни хрена не слышно.
— Почему? Слышно, — сказал Нагаев. — У тебя в ухе волос, тебе и не слышно. Знаешь песню, Демидыч: старик старый, одни мощи… Ха-ха!
Последнее время Нагаев почему-то насмешничал над Марютиным.
Маринка обиделась за отца:
— Надо же — песня! Дурачок-то…
— Да нет, слыхать-то слыхать, — сказал Нагаев, — только то не марыйцы, а просто машина идет в Мары. Или от них к нам.
На новом месте жили тесно, утепленных для зимы будок было только три, поэтому Марина с Нагаевым поместились с Марютиным. В большой будке, составленной из двух, жили шестеро, и в той же будке собирались иногда все в кучу двенадцать человек: попить чайку вместе, почитать газету, послушать радиоприемник «Турист», который Мартын Егерс повсюду таскал с собой.
В тот вечер, за два дня до Нового года, провожали в аул Бяшима Мурадова. Нагаев и Марина вошли в теплое помещение, наполненное табачной гарью и сладким, щипавшим глаза саксаульным дымом от печки, сели на юртовый войлок, расстеленный на полу. Потом зашел Марютин, тоже присел. Бяшим что-то рассказывал тихим голосом.
— Он говорит: «Ты комсомолец, да? Разве комсомольцу можно быть жадным, да?» Я говорю, что не жадный, говорю: дело — принцип. «Какой, говорит, дело — принцип, если ты по четыре тысячи в месяц заработаешь, — мне, говорит, Бегенч сказал, на вашей стройке работает. Яз-Мухамед тоже сказал, на скрепер работает. Здесь, говорит, не дело — принцип, а ты, сволочь, богатый и жадный, как бай».
— Вот гад! — сказал Иван.
— Это кто, Бяшим? Про кого рассказываешь? — спросила Марина.
— Про брата моей жены. Два брата есть, такой сволочь оба. Давно в армии служить надо, а они дома сидят, комиссара обманывают — разные справки-мравки несут, больной там, трахом.
— Ну, ну! А ты чего? — спросил Иван.
— Ничего не сказал и пошел. Сказал только: сам ты сволочь. Тогда один меня догнал, Берды Аман, и по голове ударил. Я упал сразу. Тогда второй начинал меня ногой бить. Ну, я вскочил, начинал драться, но их три человека — два брата и еще один парень, Назар, такой же сволочь, терьякеш, его отец в тюрьме сидит за то, что терьяк торговал, ну и он то же делает…
— Побили, значит? — спросил Иван.
— Нет, не побили. Потому что я домой убежал, схватил ружье и в воздух стрелял. Они убежали, как зайцы. Тогда я подошел к их дому, позвал их мать и сказал: «Огульджан — моя жена и живет в моем доме. А кто будет ее трогать или пугать, я стреляю с ружья. Всех твоих сыновей, сказал, застрелю с ружья и твоего мужа застрелю, а тебе только ноги перебью, чтобы ты была живая и мучилась за то, что родила таких пауков». Так я сказал. Их отца дома не было, сыновья убежали, но мать все слышала. И я пришел и сказал Огульджан, чтобы она жила спокойно.
— Хей, неправильно сказал, — пробормотал Чары Аманов. — Сколько отдать надо? Пять тысяч? Шесть? Хей, чепуха, какие деньги! Зато спокойно живи, и твоя Огульджан будет спокойна… — Он добавил несколько слов по-туркменски.
Беки Эсенов вдруг вскочил и закричал по-туркменски с такой дикой горячностью, что все засмеялись от неожиданности. Он кричал и тряс Бяшима за плечи. Бяшим отвечал неуверенно, но Чары Аманов вступил в спор, и вскоре все трое заговорили запальчиво, перебивая друг друга.
Никто не понимал их, кроме Марины.
— Ребятки, ребятки, — сказал Егерс, лежавший на боку с пиалкой чаю в руке. — Надо соблюдать закон вежливости и говорить по-русски, чтобы все могли понимать.
— Он говорит, — сказала Марина, — что эти люди торгуют в магазине сельпо и деньги им не нужны. Они богатые. Они хотели отдать Огульджан за этого Назара.
— Это как не нужны? — спросил Нагаев. — Брехня…
— Деньги, говорят, к деньгам, — сказал Марютин.
Туркмены продолжали ожесточенно спорить.
— Вот, значит, как: они хотели выдать Бяшимову жену за Назара и получить калым снова. Второй раз то есть, — пояснила Марина. — Вот твари паразитские! Бяшимка, миленький, а ты бы свою Огульджан сюда взял, на трассу. Пусть с нами живет.
— Я сам так думал. Но ей школу надо кончать, десятый класс. Она в учительский институт поступать хочет, в Марах. Нет, я правильно сказал: дело — принцип, но мне тоже деньги надо, потому что хотим свой дом делать. Участок мне дают, матерьял дают, потому что я, когда канал кончу, в колхоз приду трактористом. Дом делать — денег много нужно. Зачем я буду отдавать? Дурак, что ли?
Он усмехнулся, подбадривая себя, но было заметно, что его решимость еще не созрела, и выражение его чистого смуглого лица было нетвердо: в черных глазах на миг мелькали испуг и неуверенность, а в следующий миг лицо напрягалось жестко, надменно, губы сжимались.
— Верно, верно, — сказал Иван. — Нема дурных — такие деньги кидать.
— Ка-анечно!
— Пускай тут поишачат за нас, погнут горбину…
Чары Аманов, цокая, мотал головой.
— Хей, глупый ты, молодой… Я этого Назара-терьякеша знаю и Джафаровых тоже знаю. Они нехорошие люди. Не надо с ними ссориться.
— Бяшимка, а что в письмах пишут? — спросила Марина.
— Отец на прошлой неделе писал. Все хорошо, писал, только приходил Берды Аман и сказал, что ждут моего возвращения к Новому году. Если, сказал, деньги не привезу — плохо сделает.
— Я поеду с тобой, — сказал Егерс.
— Хей, возьми меня тоже, — сказал Беки.
— Сагбол, дост. Сагбол, Мартын Карлович. Приезжай, дорогой гость будешь, я своему отцу про вас много писал, только помощь мне не нужна. У меня ружье есть, старший брат есть, шофером работает в Байрам-Али.
— Поеду с тобой, — повторил Егерс. — Объясню Байнурову, возьму отпуск на неделю.
— Спасибо, Мартын Карлович. Зачем поедешь — не знаю…
— Пускай, пускай, правильно! — сказал Иван. — Мужик здоровый, он там всю торговлю раскидает, если что. Я бы сам поехал, да на Новый год договорились тут…
— Когда Байнуров приедет? — спросил Нагаев.
— Завтра с утра, — сказал Егерс. — Завтра я ему скажу, поедем вместе. Ты теперь мой сынок, я тебя должен защищать.
Егерс захохотал и шлепнул Бяшима по спине. Нагаев сказал:
— У Байнурова насчет расценок спросить. Говорят, снижение с января, не то с февраля.
— Не говорят, а точно, — сказал Марютин.
— Кто сказал?
— Из конторы один.
— Ну и как же?
— Да как: резанут. Особенно, говорит, по бульдозеристам крепко.
— Эй, ребята! — сказал Егерс. — Не огорчайтесь! Мартын Егерс научил вас делать пятьдесят тысяч кубов на бульдозере. Никто не верил, а он сделал и вас научил. А вы, чертовы дети, даже спасибо не сказали. Но ничего! Мартын Егерс придумает что-нибудь новое…
На воле стояла лютая, холодная ночь. Ни единой звезды. Ветер с северо-востока летел с песком и пахнул снегом. Может быть даже, он нес вместе с песком снег, но в темноте не было видно. Снег еще не выпадал ни разу. Но его ждали.
Марютин, как молоденький, побежал вперед, чтобы растопить печку. Молодожены не спеша шли следом. Марина держала Нагаева под руку.
— А жалко, что Бяшим уезжает. На Новом году его не будет… — вздохнула Марина. — Как он свою жену-то любит!
— Ну и что такого?
— Просто говорю…
— Всем отсюда надо сматываться, — проворчал Нагаев. — Расценки срежут — нечего тут делать.
Пришли в будку. Нагаев сидел на койке, курил, пока Марютин возился у печки. Саксаул попался как камень. Нагаев давал советы:
— Не так кладешь, Хрен Иваныч… Под низ клади… Другим концом…
Наконец толстое, корявое дерево схватилось, огонь зашипел. Марина поставила на печку котелок с кашей для отца: Марютин любил поесть на ночь.
— Если правду говоришь, Демидыч, — сказал Нагаев, — и расценки сильно подрежут, я тут оставаться не стану. Нет расчету.
— Это точно, — закивал Марютин. — Нету, нету…
— А ты как?
— Да как я? Как все, так и я.
— А я сорвусь. Мне, Демидыч, не деньги нужны, а устаю я на одном месте. Как все равно гриб ко пню прирастаешь. Теперь ночами не работаем, а привычка осталась — никак ночью не заснешь. И вот лежишь, думаешь-думаешь…
— Ага, всю ночь ворочается, окаянный, — сказала Марина. — Все бока мне протолкал.
— Думаешь насчет этого дела: как, мол, и что. Уехать надо отсюдова. Переменить пластинку.
— Сень! — голос Марины дрогнул. — Да ведь марыйцев уже слыхать! Честное слово, ведь близко же — а?
22
В день нашего приезда было особенно холодно, а вечером выпал снег. Он пролежал полдня. Туркменские мальчишки, ликуя, бегали по снегу босиком. Потом вышло солнце, пролился дождь, и все затопило грязью. День и ночь слышалось гудение тракторов: они не успевали вытаскивать погибающие автомашины.
Два сухих и холодных дня, наступившие затем, подморозили грязь, и распаханные колесами дороги изображали фантастический пейзаж: коричневые, окаменевшие лохмотья, чудовищные комья, воронки, рвы. Но опять проглянуло солнце, и все опять размягчело и потекло, ревели грузовики, утопая в грязи до крыльев, люди карабкались с камня на камень, цепляясь за деревья, жались к дувалам, и только верблюды, гордо вышагивая посередине улицы, месили грязь, не замечая ее, и тощие их ноги, заляпанные жижей, были как будто в чулках.
Атанияз сочинил такие строчки:
Зима! Текинец, торжествуя, По грязи обновляет путь…Смех смехом, а зима в разгаре: сегодня двенадцатое января. Уже три дня, как мы с Атаниязом приехали сюда из Ашхабада. Дела мои не двигаются. Ермасов, как на грех, в Ашхабаде, — на сессии Верховного Совета республики, он депутат, — и приедет только послезавтра утром.
Чтобы не терять времени, решаем съездить на денек в родной аул Атанияза. Тридцать пять километров на восток.
И мы вот трясемся в грузовике на каких-то ящиках, рулонах шерсти, пачках трикотажного белья, упакованных в толстую бумагу. Грузовик принадлежал магазину сельпо. Завмаг оказался знакомым Атанияза. Он сидит в кабине, а мы по-королевски расположились в кузове на пачках белья, глядим в небо и дышим холодным, пронзительно чистым и сырым воздухом зимней пустыни.
Атанияз — на редкость молчаливый парень. Иногда мы с ним молчим часами. Но это не мешает ни ему, ни мне, и даже наоборот, мы молчим продуктивно: он думает о чем-то своем, а я о своем.
Я вспоминаю о том, как мы встречали Новый год у одного Жоркиного приятеля, оператора с киностудии, у кого была большая квартира. Бесконечно длилась сумбурная ночь, в которой было больше нервности, чем веселья. Ни мне, ни Кате не хотелось идти. У Кати было похоронное настроение: с Нового года студия закрывалась, кое-кого перевели в труппу, а остальных отчислили. Катю отчислили. Я сказал, что будем что-нибудь придумывать. Но что я мог придумать? В общем, настроение было непраздничное. Вдобавок ко всему мне не очень-то хотелось видеть Сашку, да и Дениса тоже.
Но настало тридцать первое, и мы все-таки решили пойти. Тем более что уже отдали Жорке полтораста рублей.
Пришли позже всех, как аристократы. Катя три часа возилась с платьем, которое ей одолжила Раиса: они помирились, и Катя снова живет у нее. Платье было великолепное, из черной тафты. И Катя была в нем очень красивая.
Собралась большая компания, человек тридцать, не только редакционные, но и ребята с киностудии, какие-то знакомые Жоркиных знакомых, поэт Котляр и вновь появившийся Хмыров с целой свитой: вторым режиссером, директором картины и композитором. Хмыров недавно вернулся из Москвы. Он сказал мне, что совершенно заново переработал сценарий, теперь там действуют арабы из Египта, они приезжают в Туркмению для обмена опытом, и один араб влюбляется в туркменскую девушку. Сказал, что прошло на «ура». Хмыров был молчалив, держался важно, как генерал на свадьбе, а Жорка с Виктором валяли дурака, пели цыганщину, разные забавные пародийные песенки, и Жорка исполнял еще так называемые «блатные» — то, что любят захмелевшие интеллигенты. Потом пели нашу, журналистскую: «Годы пролетают очень быстро», которую кто-то привез из Москвы:
Годы пролетают очень быстро, Деньги на деревьях не растут, И всю жизнь мечтают журналисты Заиметь свой собственный уют…Бессвязно и глупо, но почему-то щемило сердце. Особенно трогательным был куплет:
В тридцать лет очки себе закажешь, В тридцать пять катары наживешь, В сорок лет «Адью, ребята!» скажешь, В сорок пять — убьют или помрешь…Тут у нас прямо слезы на глаза наворачивались: так было жалко самих себя. Эту песню с необыкновенным чувством пели все редакционные, даже те, у кого не было ни слуха, ни голоса.
Вдруг мирное и даже слегка сентиментальное течение вечера пошло наперекос. Виновницей была Надя, жена Виктора, которая ни с того ни с сего стала говорить Саше, как он замечательно поступил, расставшись с Лерой. О Лере старались не упоминать. Эта тема была табу. Сашка был молчалив, сидел рядом с Тамарой Гжельской и усиленно за ней ухаживал. Танцевал только с ней. Тамара была счастлива. Она не надевала очков, — наверное, чтобы казаться более женственной, — ее близорукие глаза блуждали, она никого не замечала и улыбалась кроткой, блаженной улыбкой. И вот Надежда, которая всегда отличалась заметным отсутствием ума и такта, начала своим громким хриплым голосом общественницы при домоуправлении восхвалять Сашку и поносить Леру. Она говорила про Леру, что та мелочна, эгоистична, лишена материнских чувств, что рано или поздно это должно было случиться потому, что «это» отвечало склонностям ее натуры.
Несколько раз мы пытались перевести разговор на другие рельсы, но Надя упорно возвращалась к той же теме. Она стала восхвалять себя, свою дальновидность:
— А кто первый ее раскусил? Кто предсказал, что это случится? Мой дурачок всегда со мной спорил: она культурный человек, у нее высшее образование, пятое-десятое! Ну и что? Кому нужно высшее образование, если человек — тьфу!
Виктор что-то неуверенно возражал, они заспорили, потом в разговор вступил Денис и сказал, что нельзя судить о людях по их поступкам.
Это замечание всколыхнуло весь стол, поэт Котляр начал читать какое-то стихотворение, но его перебивали, все желали говорить. Тамара Гжельская с неожиданной пылкостью атаковала Дениса:
— Ваша теория ведет к оправданию всяческих мерзостей!
Хмыров, не знавший сути дела, тоже почел долгом высказаться:
— Друзья мои, один римский философ сказал: ненавидеть человеческие пороки — это значит не любить людей…
Сашка прервал его:
— Послушайте, нельзя ли перенести дискуссию?
Вдруг поднялся Денис, лицо его стало багровым и шкиперским как никогда.
— Я не позволю говорить о Валерии гнусности! Ясно? — Он ударил кулаком по столу. — Она замечательная, отличная женщина! И, кроме того, моя родственница, сестра моей первой жены, которая тоже отличная женщина. Ясно? И кто посмеет сказать о Валерии гнусность, будет иметь дело со мной!
— Ради бога! — засмеялась Надя. — Никто не спорит, что она замечательная.
— Не волнуйтесь, — сказала хозяйка. — Я тоже не допущу в своем доме…
Надя подмигивала:
— Нет, она в самом деле замечательная.
— Молчать! — гаркнул Денис и снова ударил кулаком по столу. Все замолчали. Я увидел Сашкины глаза: он сидел сгорбившись, сжав рот, и в глазах его был страх, самый обыкновенный, низменный страх. — Я не желаю выслушивать никаких гнусностей о Валерии! Чем вы гордитесь? Почему вы считаете себя лучше ее? Вот вы, например? — он кивнул на Катю, сидевшую рядом со мной. — Или вы? — ткнул пальцем в Тамару Гжельскую. — А вы? Или вот…
Хозяин дома внезапно включил радиолу на полную мощность, и конец Денисовой речи потонул в музыке. Хозяйка шепнула мне:
— Уведите его, он пьян!
Денис был, конечно, пьян, но не сильно. Он не сопротивлялся, когда мы с Атаниязом вывели его на улицу и потом привели на квартиру Атанияза и уложили спать. Клара, жена Атанияза, уже вторую неделю была в Москве, на какой-то медицинской конференции.
Я бы тоже с удовольствием лег спать. Мне не хотелось возвращаться в душную квартиру, но там была Катя и надо было вернуться. Атанияз пошел со мной. Была теплая ночь. Мы гуляли в одних пиджаках и не мерзли. Атанияз говорил о Льве Толстом, о Пьере Безухове, о его разрыве с Элен.
Пьер винил себя за то, что женился на Элен без любви. В этом, казалось ему, состояло его преступление. У Сашки случилось наоборот: только сейчас, после разрыва, он понял, что любил Леру, что женился на ней по любви, но понял слишком поздно, когда любовь перегорела в его душе, превратилась во что-то совсем другое. Понять себя — что может быть невозможнее! Тем, которые любят, кажется, что они ненавидят, а ненавидящие не догадываются о том, что они больны любовью. А те, что полны самодовольства и сытости, не знают того, что они утешаются пустотой и что их сытость — это сытость верблюдов, вполне довольных верблюжьей колючкой.
Атанияз говорил о Пьере Безухове, а я думал о себе и о Кате. Все тот же поток, который нас несет. Невозможно остановиться. Понять себя — это и значит остановиться, плыть самому против течения. Понять себя — это всегда против течения.
Вокруг была ночь, пустынные новогодние улицы, и мы были погружены в себя и плохо понимали друг друга. Помню, меня охватил страх, ощущение беды: мне показалось, что я, как и Пьер, совершил преступление. Я должен расстаться с Катей! Чем дольше это будет длиться, тем мучительней будет разрыв. Мучительней для нее. Я не имел права мучить ее. Надо набраться сил и ринуться против течения.
Вернувшись в дом, я стал искать Катю. Ее не было ни в большой комнате, ни в кабинете, где танцевали, ни в саду. Кто-то сказал, что она в спальне. Я пошел в спальню и увидел Катю, хозяйку дома, Хмырова и хмыровского композитора, которые сидели на широкой супружеской кровати, застеленной шелковым покрывалом, и играли в дурачка. Я сел на пуф и смотрел, как играют. Катя кокетничала с Хмыровым, а со мной была холодна. Я спросил: «В чем дело?» Она ответила: «Поговорим после».
После — это было через два часа, на рассвете, когда мы пришли домой. Оказывается, мои друзья ей хамят, а я их не одергиваю. Когда это было? Да вот сегодня, например, фотограф сравнивал ее с Лерой и, показывая на нее пальцем, спрашивал: «А вы чем лучше?» Это было при всех, и никто его не одернул. Я тоже его не одернул. Я сказал, что, по-моему, он тыкал пальцем во всех подряд и, кроме того, Лера вполне достойная женщина и сравнение с ней никого не может унизить, а в-третьих, я не могу отвечать за то, что наговорит пьяный фотограф.
— Нет, виноват только ты, потому что ты не внушил своим друзьям уважения ко мне!
— Да в чем оно проявилось, неуважение?
— В том, что меня сравнили с этой Лерой. В таком смысле, что… В общем, все поняли.
— В каком смысле?
— Ты знаешь.
— Да нет же!
— В том смысле… — Глаза ее наполнились слезами, она выпалила: — Что я развратная женщина, такая же, как она!
Я улыбнулся, едва заметно, невольно, но она заметила и стала плакать:
— Ты смеешься надо мной! Твои друзья тоже смеются. Конечно, я ведь тебе не жена, не невеста, неизвестно кто, нет — известно кто…
Чем я мог ее успокоить? Конечно, не тем, что я стал бы сейчас говорить о том, что нам надо расстаться. И я снова поплыл по течению, лег на диван и накрылся с головой одеялом. Но она не ложилась и продолжала разговаривать. Она ходила босиком по комнате и, плача, говорила, что разочарована во мне, поняла, что я такой же эгоцентрик, как другие, и что я не принесу ей счастья. Но она умоляет меня об одном-единственном одолжении: я должен поговорить с Хмыровым. Они ищут артистку на какую-то небольшую роль. Поговорить, больше ничего.
Я сказал, что поговорю. И после этого мгновенно заснул.
Мы спали до трех часов дня. Потом я сходил в магазин, принес пива, какой-то еды, сигарет, купил в киоске газету. За завтраком читал вслух новогодний фельетон Витьки Критского — порядочный, строк на четыреста. Смысл был такой: кого надо пускать в новый год, кого не надо. Обыгрывались фамилии. В этом заключался юмор. Прораба Припискина, шофера Полторастова, продавщицу Недовескину пускать, конечно, не надо было. Я представил себе, какую тяжелейшую ночь провел «литкомбайн», придумывая три десятка фамилий! Он ведь к тому же выдал огромное новогоднее радиообозрение: накануне мы его слушали, сидя за столом.
Катя сказала, что ей приснился зайчонок — такой серенький, хорошенький, которого она ловила, ловила и наконец поймала и сунула под кофту, чтобы он не убежал. Рассказывая, она смотрела на меня как-то странно. Честно говоря, рассказ про зайчонка мне не особенно понравился. Нет, не потому, что я чего-то испугался, а потому, что вдруг подумал, что она, возможно, хитрит. Я спросил, здорова ли она.
— А ты хочешь, чтоб я была здорова?
— Конечно.
— Не знаю… по-моему… может быть, я и не совсем… — Она снова посмотрела таинственно.
Вечером мы пошли в театр, но ни после театра, ни на следующий день Катя больше не заговаривала о своем новогоднем сне. А был ли сон? Может, никакого сна вовсе не было? Скорей всего, никакого сна не было, потому что Катю занимало другое: чтобы я поговорил с Хмыровым. Она твердила об этом с возрастающей настойчивостью, каждый день, а мне не хотелось обращаться к Хмырову с просьбами, вообще не хотелось иметь с ним дело. Кроме того, я знал, что это бесполезно: какая Катя актриса? Почему это ее будут снимать в кино, пусть даже по такому липовому сценарию, как хмыровский? Все это в мягкой форме я попытался ей внушить, что кончилось громадной ссорой. Она сказала, что я ужасный тип, что хуже меня она не встречала никого в своей жизни («Тебе трудно поговорить с человеком, который тебе чем-то немного не по душе, а для меня это жизненно важное дело! Какой ты жуткий эгоист!») и что она сама пойдет к Хмырову и всего добьется. Она привыкла всего добиваться сама. Я-то знал, что это вранье, ничего в жизни она не добилась сама: она всегда прилипала к кому-нибудь, вызывала жалость, притворялась несчастной и в конце концов действительно добивалась своего, но с чужой помощью. В общем, мы расстались неожиданно и, казалось бы, из-за пустяка: из-за того, что я отказался поговорить с Хмыровым. Но я не мог этого сделать!
Все это произошло восьмого января, а девятого я уехал со смутным чувством горечи и облегчения.
…Грузовик замедляет ход и останавливается. Я сажусь на пачки белья и гляжу по сторонам. Нет, это не колхоз. Мы стоим возле домика, сложенного из кизячных кирпичей, на нем вывеска: «Чайхана». Какая-то железнодорожная станция. Барханы до горизонта. С безоблачного неба светит солнце, и теперь, когда грузовик стоит, явственно чувствуется, как оно печет. Но ветер, налетающий порывами, холодный.
Атанияз задремал, я расталкиваю его, мы спрыгиваем на землю и идем в чайхану обедать. Завмаг и шофер уже там. Завмаг — его зовут Халдурды — хочет нас угостить, он считает нас гостями. Но угощать особенно нечем. Берем по тарелке мясного, с ливером, супа, банку рыбных консервов и просим нарезать лук. Хлеб местной выпечки, пресноватый и несдобный. Халдурды спрашивает, не хотим ли мы водки. Сам он не пьет, а шоферу нельзя. Нет, мы не хотим.
Халдурды лет пятьдесят с лишком, у него желтовато-темное скуластое лицо, глаза навыкате, в красноватых веках. На нем китель армейского образца, брезентовые сапоги, на лысой голове невысокая папаха из дорогого, золотисто-коричневого каракуля «сур». Для сельского жителя Халдурды одет богато. У него есть еще макинтош из серого габардина, изрядно поношенный и пропыленный, кое-где в пятнах, который он оставил сейчас в кабине грузовика. В Марах он расхаживал в этом макинтоше по улице, с портфелем в руке, и выглядел очень важным.
Сначала разговор идет о колхозных новостях. Завмаг упорно норовит говорить по-туркменски, но Атанияз столь же упорно перебивает его, заставляя говорить по-русски, чтобы я не сидел дураком. И все-таки они иногда забывают обо мне и начинают все трое бойко говорить по-своему, а я сижу и скучаю. Нет, не скучаю, а думаю о своих делах, о Ермасове, о газете.
Потом разговор переходит на канал: вода уже близко, километрах в восьмидесяти от аула, где живет Халдурды.
— Это будет великая победа, — говорит Халдурды. — Туркменский народ давно мечтал… Джейхун сделает из пустыни сад…
Он, видимо, считает, что с нами, газетчиками, надо разговаривать таким языком. Произнося фразу, он улыбается искательно, как приказчик, и во рту его открываются широкие желтые зубы. Он рассказывает историю про старого чабана, который подошел к каналу на готовом участке и, решив, что это арык, стал переходить его и утонул. Вах-вах, такой глупый яшули! Он не умел плавать. Он не мог поверить, что в пустыню пришла река. Вах, это случилось недавно, к югу от колодца Теза-Кую…
— Вах-вах, какое время! Какое замечательное время! — Халдурды смеется. — Старый человек утонул в пустыне — вах, замечательное время.
Смеются все морщинки его желтого лица, смеются его желтые широкие зубы, но глаза в красных белках глядят серьезно. А потом он куда-то исчезает. Мы ждем его час, другой. Наконец он является и говорит, что был в гостях у своего дяди.
Мы приезжаем в аул ночью.
В доме родителей Атанияза, где все уже спали, — переполох, беготня женщин, куда-то уносят спящих детей, приносят подушки, сворачивают одеяла, расстеленные на ковре. По обычаю, снимаем обувь у порога и в носках входим в комнату, где еще густ запах спальни.
Садимся на ковер. Я разглядываю комнату, в которой живет учитель, отец Атанияза: две полки с книгами, большой портрет Махтумкули в самодельной рамке, радиоприемник «Беларусь», и вместе с тем это комната туркменского дома, где скатерть расстилается не на столе, а на полу, где на почетном месте возвышается гора одеял, а на ней гора подушек: чем больше подушек, тем богаче дом.
Женщины исчезли в глубине дома, отец и младший брат Атанияза расставляют на скатерти фарфоровые чайники, пиалушки, мелко наколотый сахар, лепешки хлеба и мотки сладкой сушеной дыни. Когда Атанияз говорит, что нас привез Халдурды, лица его слушателей вытягиваются. Отец что-то быстро и возбужденно рассказывает по-туркменски. Атанияз вскакивает на ноги. Я вижу, что он необыкновенно взволнован.
— Что случилось?
— Потом, потом! Ложись спать, я скоро приду…
Он одевается и уходит. За ним уходит отец.
На другой день я узнаю, в чем дело. Прошлой ночью в ауле произошло убийство: убили молодого парня, комсомольца. Он работал на стройке и приехал в аул на побывку. В убийстве замешаны сыновья Халдурды, а невольной виновницей стала его дочь Огульджан, которая была женой этого парня. Между родственниками Огульджан и этим убитым были какие-то счеты из-за калыма. Кажется, он что-то не доплатил или не хотел платить вовсе, и они стали его преследовать и старались разрушить его брак с Огульджан, чтобы выдать ее замуж вторично. Убитого звали Бяшим, что в буквальном переводе значит «Мой пятый». Он был пятым сыном у отца.
Бяшим приехал в аул со своим другом, и сыновья Халдурды побаивались затевать ссору. Друг, говорят, был очень здоровый. Но как только он уехал, они устроили драку и крепко побили Бяшима, а Огульджан силой увели в свой дом. Это было три дня назад. А прошлой ночью Бяшима убили. Его нашли на рассвете, с перерезанным горлом, недалеко от дома Халдурды. Сыновья Халдурды убежали в пески, и вместе с ними исчез тот человек, которого они прочили в женихи Огульджан.
Вот что рассказывает Атанияз. Надо выспросить все подробно, записать, запомнить смятенные лица, рыдающие голоса женщин, всю эту атмосферу пролетевшего ужаса, которая всегда сопровождает убийство. Запомнить холодную синь неба с рваными облаками и северный ветер, приносящий озноб. Он летит издалека. В нем чувствуется дальний разбег и холод русской зимы. Запомнить вчерашние глаза Халдурды в красноватых веках, как будто от мелких царапинок, и его зубы, плоские, как у зайца.
Следователь, молодой туркмен с красивым, женственным лицом, молча щелкает фотоаппаратом, измеряет шагами улицу. Возле дома убитого толпятся люди. Никто из колхозников не работает. Издали я вижу убитого: прозрачный вздернутый нос, шея замотана шарфом.
Потом мы с Атаниязом и с несколькими колхозниками забираемся в кузов трехтонки и едем в пески. Мы едем мимо хлопковых полей, пересекаем сухие арыки, вдоль которых с обеих сторон возвышаются земляные валы: горы ила, вынутого во время хошарных работ. Колхозники в кузове непрерывно разговаривают. Кажется, они спорят о том, в какую сторону ехать. Мы едем искать сыновей Халдурды и того, третьего, кого все считают убийцей.
Тот, третий, называет себя туркменом, но на самом деле он фарси. Только фарси, говорят мне, убивают людей таким способом: режут горло от уха до уха.
Грузовик останавливается у кромки песков. Бесплодно и долго мы месим стылый песок барханов. Под вечер возвращаемся в аул. Низкое солнце освещает толпу людей, сгрудившуюся вокруг открытого гроба. Говорят речи. Несколько молодых ребят, среди них двое совсем подростков, что-то кричат громкими, взволнованными голосами. Атанияз объясняет: они дают клятву пойти на стройку и выучиться на машинистов.
Потом выходит маленькая женщина с лицом плоским, бледным, размытым слезами. Ее поддерживают под руки. Сначала я думаю, что это мать убитого, но, оказывается, это жена. Она произносит что-то еле слышное, несколько медленных слов. И тут вдруг толпа задвигалась, все начинают шуметь. Что она сказала? Почему кричат? Атанияза нет со мной рядом. Какой-то старик берется объяснять, с усилием подбирая слова. В общем, смысл такой: она сказала, что ни за что не вернется в дом отца.
Читают телеграмму со стройки канала, из поселка Сагамет.
— Требуем расстрелять злодеев! Точка! — читает один из парней, дававших клятву стать машинистами. — Общее собрание Третьего отряда Пионерной конторы решило присвоить отряду имя нашего дорогого, незабвенного товарища Бяшима Мурадова! Точка! Тут много фамилий: Байнуров, Егерс, Бринько, Эсенов, Ибадуллаев, еще много…
Стало совсем темно, я с трудом разбираю буквы, которые пишу в блокноте. Во всем этом горестном сюжете, раскрывшемся так ослепляюще и кратко, как картина ночи, вырванная на миг блеском молнии, есть какая-то глубинная суть, до которой не просто добраться. В чем истинные причины убийства? Любовь? Жажда обогащения? А может быть, нечто иное, скрытое от нас, понятное лишь Востоку?
Атанияз считает, что убийство носит политический характер. Вон он кричит и потрясает рукой, сжатой в кулак, и его доброе, совиное лицо с расширенными глазами кажется мне неузнаваемо жестким. Его глухой голос неестественно напряжен, он никогда так не кричал. Война этих лавочников с Бяшимом Мурадовым — это война пустыни с каналом. Они ненавидели Бяшима. Они ненавидят канал, который несет в пустыню не только воду, но и другую жизнь.
Он кричит то по-русски, то по-туркменски.
— Если расковырять их, — кричит Атанияз, — то среди их родни наверняка отыщется какой-нибудь бывший бай, владевший многими тысячами овец, или бывший мулла, который спас свою шкуру тем, что клеветал на честных людей. Да у них и сейчас есть, можно не сомневаться, порядочная подпольная отара, которую их дальние родственники в роли наемных чабанов гоняют по глухим пастбищам где-нибудь на севере. Они станут говорить, что он не подчинился «туркменчилику» и за это они убили его. Но это ложь! Он не подчинился их самодурству, и они убили его. Он не подчинился их алчности, и они убили его. Но нет такого ножа, которым можно перерезать горло реке!
Никогда я не видел Атанияза в таком возбуждении. Несколько женщин начинают громко рыдать. Потом встает какой-то низкорослый, в кителе и говорит что-то, прижимая ладонь к груди. То, что он говорит, вызывает шум и движение. Его перебивают криками. Тот же старик объясняет мне, что человек в кителе сказал, что пока еще неизвестно, кто убил Бяшима Мурадова, и надо подождать окончания следствия. Но люди кричат ему, что все известно. В это время следователь садится в машину. Он едет в город и согласился взять меня в легковую. Завтра утром я должен быть у Ермасова.
Атанияз проталкивается ко мне, чтобы попрощаться. Он протягивает мне дрожащую руку.
— Теперь ты понял, — говорит он, — что канал в пустыне — это не только бульдозеры и песок…
Я крепко жму ему руку.
— Когда ты приедешь в Мары?
— Дня через три! Через пять!
— Меня уже не будет…
Водитель включает скорость, машина дергается, лицо Атанияза отлетает назад, и мы уносимся в ночь. И долго едем молча. Следователь не расположен разговаривать. Две черные головы, повернутые ко мне затылками, — следователя и шофера — покачиваются на фоне ветрового стекла, озаренного светом фар. «И по коням! И странным аллюром, той юргой, что мила скакунам…» — вот что меня преследует.
Следователь вдруг говорит:
— Ваш друг Дурдыев, как настоящий поэт, немного фантазирует. Боюсь, что в этом деле нет таких научных корней, какие ему мерещатся. Но насчет одного он сигнализировал верно… — Тут он поворачивается вполоборота, и я вижу его круглый, женственный лоб. — Насчет их родственников. Родственники у них имеются, и довольно сильные в масштабе нашей области, хотя, конечно, их время прошло. Теперь — законность на первом месте…
Человек, о котором я так много слышал и с которым только однажды говорил по телефону, оказался седым, коротконогим, лобастым стариком. В течение разговора его лицо легко меняло оттенки: то бледнело, то мгновенно наливалось краской. Он был плохо выбрит. Его голос был резок и тверд. На его больших, растянутых, как у лягушки, губах все время бродила недобрая усмешка, как будто он каждую минуту собирался сказать нечто ехидное.
Он был недоволен моим приходом и не скрывал этого. Сначала он грубым, презрительным тоном говорил о газете. Говорил, что наша газета не «острое оружие партии», а ружье с кривым стволом, чтобы стрелять из-за угла. Обрушился на Сашкину статью, сказал, что она написана идиотом, что мы проливаем «корокодиловы слезы по поводу скреперов, которые строители отбросили к чертовой матери, как негодную рухлядь». Я смиренно слушал. Он закричал вдруг:
— Вы что, проглотили язык?
— Я? Нет.
— Почему вы молчите? Почему не спорите, черт побери? Для чего вы пришли?
Я сказал, что пришел для того, чтобы услышать его соображения о канале, о положении дел на стройке, а не о нашей газете, деятельность которой мне в общих чертах знакома. Тут он разъярился и закричал:
— А, вам неинтересно говорить со мной о газете? А мне неинтересно говорить с вами о строительстве! Ясно? Идите в политотдел, там получите сведения. Мне некогда. У меня нет желания тратить на вас время.
Однако я не ушел. И правильно сделал. Ему самому не хотелось, чтобы я уходил. Он еще не договорил, не доругался, не вылил весь яд.
— Вы, конечно, посланы за матерьяльчиком? Как это называется: «По следам наших выступлений», так, что ли?
— Нет, не угадали. Просто еду на трассу. Хочу, кстати, попросить у вас машину…
— Ну, ясно, ясно. Это вы всегда просите. Так вот, значит: «По следам наших выступлений». Замначальника управления товарищ Нияздурдыев — тоже «крупный деятель» ирригации, не знаю, как его Атамурадов терпит, — третьего дня прислал бумагу: срочно сообщите, какие меры приняты по статье насчет землеройной техники. Знай, мол, что находишься в подчинении. А какие меры? Вот мой приказ от шестого января сего года: «Приказываю! Параграф первый. Списать с баланса основных средств Каракумканалстроя по их первоначальной стоимости… столько-то тракторов и два грейдера… Параграф второй. Начальнику СМК „Пионерная“ тов. Карабашу и начальнику Управления ремпредприятий тов. Хидырову немедленно организовать в мастерских на сто восемьдесят пятом километре разборку списываемых тракторов, с одновременной сортировкой деталей и узлов… и так далее… на три категории: а, б, в…»
В то время как Ермасов читал, в кабинет зашел сначала один человек в полувоенном костюме, с папкой, потом еще двое, остановившиеся возле дверей, и все они терпеливо слушали, как он читал, и посматривали на меня без особого интереса, но с некоторой, деликатно скрываемой, насмешливостью.
— «Начальнику Управления ремпредприятий тов. Хидырову, — читал Ермасов, — предлагаю договориться с Главвторчерметом об организации на трассе Каракумского канала (желательно в районе сто восемьдесят пятого километра) приемочного пункта… так, так… Расходы по доставке и сдаче металлолома произвести за счет Каракумканалстроя по смете…» и так далее… «Управляющий трестом — Ермасов». Число, дата. Все! Вот какие приняты меры.
Он швырнул листок приказа на стол и посмотрел на меня победоносно.
— Вот так-то! — сказал он.
— По-моему, очень толково, — сказал я.
— Да нет, ваши комплименты мне не нужны. Меры как меры. То, что считаю нужным. Но им-то надо другое, им хочется разнос учинить. Кому в зад коленом, кому в зубы, кому под дых…
Стоявшие возле двери засмеялись. Человек в полувоенном костюме спросил:
— О ком речь, Степан Иванович?
— Да вы знаете! — Ермасов отмахнулся. — Но я им — фигу. Понятно? Никому даже на вид не поставил. Теперь они новое затевают, с другого боку. Вот прохиндеи! Если б они свою настойчивость да изворотливость на дело обернули, тут такие каналы нарубать можно, такие горы своротить…
— Точно, Степан Иванович, — сказал один из тех, кто стоял возле двери.
Ермасов взял меня за пуговицу и, мигнув по-приятельски, спросил:
— А тот корреспондент, что статейку с чужих слов писал, он небось гонорар за нее давно уж пропил?
— Да, возможно, — сказал я. — Точно не знаю.
— Нет, я точно знаю: давно пропил. И давно забыл про нее. И газета та исчезла, нет ее, сгинула, только где-нибудь в библиотеке завалялась на нижней полке, в подшивке. А вот дело, что ею затеяно, — дрянное дело, вранье! — оно существует и живет себе дальше как ни в чем не бывало. — Лицо Ермасова вновь бурно залилось краской. Он спросил резко, задыхаясь: — Вы знаете, что Карабашу и Гохбергу грозит тюрьма?
Я молчал. Он глядел на меня с ненавистью.
— Третий день на Пионерном сидит комиссия, чего-то удят, вынюхивают, в бумагах роются. Но я предупреждаю! Я предупреждаю, товарищи! — Он стукнул костяшками кулака по столу. — Ничего из этого мероприятия не выйдет. Ясно? Я уже написал в ЦК республики, но, если надо, я в Москву полечу, но этих людей не дам в обиду! Я как лев буду драться, ясно?
— Вы говорите так, будто я главный злоумышленник… — сказал я, немного опешив от его крика и ненавидящего взгляда.
Он не слышал меня.
— Предупреждаю: я буду драться как лев!
Тут я подумал, что это выкрикивается, может быть, не только мне, но и кому-то еще, из тех, кто стоял возле двери или был за дверью. Я посмотрел на стоявших возле двери. Человек в полувоенном костюме усердно кивал.
Ермасов вдруг протянул мне руку.
— Спасибо за беседу. Простите, что задержал. Я говорю к тому, чтоб вы помнили, товарищ молодой человек, какое в ваших руках на самом деле острое и беспощадное оружие, и относились соответственно.
— Я понял. Спасибо. А как быть, Степан Иванович, с транспортом, чтоб на трассу…
— Вот к нему, к нему! Он сделает.
— Одну минуту, — сказал человек в полувоенном костюме и, подойдя к столу Ермасова, раскрыл свою папку.
Полчаса я прождал в приемной, пока человек в полувоенном костюме — он оказался начальником Марыйского участка Алимовым — вышел из кабинета Ермасова. Мы спустились с ним на первый этаж, в его кабинет. Он стал кому-то звонить, договариваться, потом сказал, что машина будет послезавтра утром.
— Старик вам дал ходу, а? Я слышал, — сказал он весело. — Ну, знаете, эта зурабовская статейка просто черт знает что!.. Итак, послезавтра утром, в восемь ноль-ноль, прошу вас к подъезду нашего управления. А на старика не обижайтесь.
— Да я нисколько, — сказал я. — Наоборот, ваш старик мне понравился.
Выехать послезавтра мне не удалось. Виною тому была Лера, которую я неожиданно встретил на почтамте: она посылала деньги отцу. Лера как-то изменилась, то ли похудела, то ли поблекла, сошел загар, она была небрежно причесана, в грубой мужской фуфайке, в лыжных штанах. Мы вышли из почтамта вместе и немного прошли по улице. Разговор не вязался, я чувствовал ее настороженность, даже некоторую враждебность, — ведь я был человек другого лагеря, Сашкин приятель!
О Сашке мы не говорили. Лера сказала, что у нее масса забот, болен отец, она должна ехать в Ашхабад, чтобы организовать лечение, а тут еще всякие другие неприятности, по работе и так. Одно за одним, как это бывает. Я сказал, что, видимо, существует такое специальное министерство неприятностей. Оно планирует выпуск неприятностей, следит за тем, чтобы неприятности вырабатывались дружно, серийно.
Лера даже не улыбнулась.
— Да, да, — сказала она, — у меня сейчас трудная полоса.
Когда прощались, я дал ей телефон гостиницы, просил позвонить, если что нужно, хотя знал, что звонить она не будет. Ей было не до меня.
Следующий день, накануне отъезда, я провел почти целиком в тресте. Разговаривал с Алимовым, с его заместителем, был в редакции многотиражки «Каналстроевец», у своего старого друга Искандерова, потом познакомился с инженером Хоревым, тем самым, кто напечатал у нас в газете статью, из-за которой шумели. Хорев возглавляет Керкинский участок, он приехал в Мары на совещание. Он был очень предупредителен, предложил быть моим шефом и гидом в делах стройки, но я вспомнил, что он приятель Лузгина, и уклонился. Больше других мне помогли Искандеров и Алимов, подаривший свою брошюрку, изданную республиканским обществом по распространению политических и научных знаний: «Каракумский канал и его значение для республики». В общем, я провел день с пользой. А вечером в гостиницу неожиданно позвонила Лера и сказала, что ей необходимо со мной увидеться. Я сказал, что уезжаю утром.
— Тогда я прибегу сейчас! — сказала она.
Было около девяти вечера. Я вышел на улицу и ждал Леру перед входом в гостиницу. Она пришла очень скоро и сразу, еще не отдышавшись, спросила:
— Петя, ты можешь завтра не ехать?
— Не ехать? Завтра? Вообще-то я торчу тут уже шестой день…
— Петя, я тебя просто умоляю отложить поездку на два дня. До девятнадцатого. Сейчас я объясню. Но ты можешь, скажи?
— В принципе, конечно, да…
— Но очень не хочется?
— Не хочется потому, что надо наконец попасть на трассу. У меня и срок командировки кончается. А что случилось?
Мы прошли во двор гостиницы и сели на скамейку. Лера была взволнована. Она начала разговор как просительница, и это было так неестественно и не похоже на нее, что я тоже стал держаться неестественно и заговорил с ней как-то по-глупому сухо.
Лера сказала, что звонила мне сегодня весь день, каждый час, но меня не было в гостинице. Я должен помочь Алеше. Это тот человек, ради которого она оставила Сашку: Алексей Карабаш, начальник Пионерной конторы. Ну и что с ним стряслось? Восемнадцатого числа состоится заседание бюро обкома, где будут обсуждаться выводы комиссии о состоянии землеройной техники в Пионерной конторе. Эта комиссия была создана после Сашкиной статьи. Алеше может быть очень худо. Они хотят передать дело в суд. Все зависит от того, как пройдет заседание обкома, на котором я должен выступить и защитить Алешу. Да, да, защитить Алешу. Один голос может оказаться решающим. Я ведь представляю ту самую газету, которая напечатала статью против Алеши, так что мое мнение очень важно.
Все это звучало наивно. О чем я могу говорить на бюро обкома? И как я буду защищать этого самого Алешу? Кроме того, мне, конечно, очень не хотелось еще два дня торчать в городе. Командировка кончается, а я до сих пор не могу попасть на трассу. Я приготовился все это объяснить.
Но Лера стала рассказывать об отце: как он плох, гаснет, а старые тетки бестолковы, беспомощны, ничем не могу помочь. Сейчас она поедет в Ашхабад, чтобы организовать лечение, нанять сиделку. Может быть, ей самой придется пожить с отцом, тогда она возьмет сына из детсада, потому что он оказался сейчас и без матери и без отца. Чтобы поехать к старику, она должна получить внеочередной отпуск, за свой счет, конечно, но дело в том, что экспедиция сейчас здесь, в Марах, занята очень срочными камеральными работами, и начальник уперся — и ни в какую. Алеша советует уйти с работы. Но она не знает. Все так сложно…
Я спросил:
— Когда ты едешь в Ашхабад?
— Завтра, ташкентским поездом. Алешу я не дождусь, а мне хотелось вас познакомить. Петя, я тебя очень прошу. Ты должен это сделать! — Она настойчиво, умоляюще заглядывала мне в глаза. — Тебе неловко, да? У тебя какие-то обязательства дружбы? Но ты пойми, что тут страдают невинные люди, ты должен встать на их защиту, это гораздо важней…
Я сказал, что меня смущает другое. Во-первых, как это я ни с того ни с сего приду на заседание бюро обкома? Меня никто не звал…
Она это устроит. Она поговорит с кем-то. Меня пригласят.
Во-вторых, я не член партии.
Да, но я официальное лицо: представитель газеты, который находится здесь в официальной служебной командировке! Я имею право присутствовать. Это несомненно. Это точно.
Для нее не существовало препятствий. Если б я лежал в горячке, с температурой сорок, она бы, наверно, нашла средства поднять меня с постели и заставить пойти.
— Ну и любишь ты своего Алешу, — сказал я. — Неужели он такой замечательный?
— Он-то замечательный, но дело не в этом. Он просто не виноват, понимаешь? И он, и Гохберг, и остальные хотели только сделать как лучше, ускорить темпы строительства — понимаешь? — а их обвиняют в том, что они нарочно искалечили технику. Это очень подло. Сводят с ними счеты. Я видела эту комиссию, куда нарочно подобрали старых специалистов, пенсионеров: их тут называют «кетменщики»…
— Но ведь Ермасов будет защищать Карабаша и Гохберга, — сказал я. — Он сказал, что будет драться за них как лев. Я сам слышал.
— Еще бы! Конечно, он будет защищать их. Не только их, но и самого себя. Ермасов — лицо заинтересованное. А вот если выступит представитель газеты… Петя, ты меня извини! Я так наседаю знаешь почему? Потому что меня страшно мучает одна мысль…
— Какая?
— О том, что, если б не я, ничего бы этого не было. Я понимаю, что это не так, что тут глубокие причины, производственные или какие-то другие, и все-таки ведь он написал эту статью в отместку за то, что случилось, правда ведь? Значит, я в какой-то степени виновата? Вот что меня мучает, и поэтому я мучаю тебя, а ты, как человек ленивый и нерешительный…
Она улыбнулась и взяла меня за руку.
— Что — я?
— Посылаешь меня, наверно, к черту и не знаешь, на что решиться. Но ты останешься, Петя. И выступишь. Потому что нельзя допускать, чтобы осуждали невинных людей.
— Это точно, — сказал я. — Это уж точно: нельзя.
23
Итак, я остался в этом городе еще на два дня. Лера уехала. Атанияз вернулся из аула и тоже сразу уехал: его зачем-то срочно, телеграммой, вызвали в Ашхабад. Днем я мотаюсь по коридорам и лестницам Марыйского управления, выцеживаю из сотрудников все новые факты, цифры, имена и рассказы о стройке, потом обедаю в ресторане «Мургаб», потом иду к Искандерову с намерением сыграть партию в шахматы, если он не занят срочной работой и жена не загружает его какими-нибудь хозяйственными делами, например купанием детей. У него двое детей. Он хочет уходить из многотиражки. Его мечта — переехать в Ашхабад и поступить в республиканскую газету.
Если Искандеров купает детей, я возвращаюсь в гостиницу и не знаю, чем заняться. На город обрушился снеговой ураган. Улицы завалены снегом, температура упала до минус одиннадцати. Ночью я мерзну под двумя байковыми одеялами, накрываюсь пальто и даже, стыдно признаться, текинским ковриком, который висит на стене возле кровати.
Девятнадцатого мне говорят, что заседание бюро обкома отложили на два дня, то есть до двадцать первого. В песках произошло несчастье: снежным бураном отогнало на юг большую отару овец, несколько тысяч голов. Керкинский райком партии обратился к руководителям стройки с просьбой помочь колхозным машинам пробиться на юг. Всеми операциями по спасению овец занимается Пионерная контора. Если бы я выехал на трассу, как предполагал, шестнадцатого, за день до бурана, вся эта история развернулась бы у меня на глазах и я, наверное, сам увязался бы с каким-нибудь бульдозером на юг. Ведь это сюжет, это дорогого стоит: спасение овец в буране!
Настроение у меня мрачное. Утром девятнадцатого сажусь писать очерк о нашей поездке в аул и обо всех тамошних событиях. Но, написав три страницы — обед в чайхане, разговоры с Халдурды, его внешность, наш приезд в аул, — я вижу, что рассказ об убийстве зазвучит лишь тогда, когда возникнет характер убитого юноши, Бяшима Мурадова, его судьба, а это я узнаю на трассе, в отряде, который называется теперь его именем. Но за три дня, оставшиеся от моего командировочного срока, я, конечно, ничего не увижу и не узнаю.
Сообразив все это, я бегу на почту и заказываю разговор с Ашхабадом. Через полчаса слышу знакомый картавый говорок Бориса: «Старик, что с тобой стряслось? Почему не на трассе?»
Вдруг с удовольствием сознаю, как мне приятно слышать голос Бориса. Так и вижу его: стоит, ссутулившись, в напряженной позе, прижимая плечом трубку к уху, возле своего громадного секретариатского стола, весь в дыму, в бумагах, в заботах, делает правой рукой какие-то магнетические жесты Тамаре, а левой что-то записывает и одновременно улыбается мне в трубку: «Ну, что, что там у тебя?» Сейчас двенадцать часов. У Диомидова идет планерка, и Борис спешит договориться со мной, чтобы поспеть на планерку. А в большой комнате сейчас пусто, но через полчаса все вернутся сюда, закипит работа, начнется треп, застучат машинки, потом прибежит Валечка из машбюро и сообщит, что в кинотеатре «Ашхабад» идет новый мексиканский фильм, и кого-то быстренько снарядят за билетами, потом Критский будет вслух читать свою рецензию, и между ним и Туманяном вдруг вспыхнет высоконаучный спор на бутылку шампанского, который придется разрешать у Даля или у Брокгауза, потом настанет обеденное время, и в буфете будет тепло и тесно, и тетя Клава будет кричать, чтоб не курили, и после обеда снова все завертится, пойдут посетители, будут звонки из бюро проверки, вызовы к Лузгину, срочно, немедленно, о чем вы думали, не надо перебарщивать, семь раз отмерь — один отрежь, спешка до добра не доводит, — и вдруг с невероятной быстротой наступит вечер. Господи, как я уже привык к этим людям, к этим комнатам, к этим разговорам, и к городу, и к автобусу номер четыре, который привезет меня поздним вечером домой! И мне тоскливо безо всего этого. Тут ничего не поделаешь.
Я кричу Борису, что застрял по неотложному делу в Марах и прошу продлить командировку дней на семь. Борис говорит, чтоб я слал «телегу», то есть телеграмму, чтоб был документ, и они сейчас же вышлют командировочные. И затем произносит сухим, официальным тоном:
— Старик, должен сообщить тебе одну неприятную новость: ты больше не подчиняешься товарищу Лузгину.
— В каком смысле?
— В том смысле, что товарищ Лузгин у нас больше не работает. Со вчерашнего дня.
— Да брось! Серьезно?
— Конечно. Сегодня уже есть приказ. Мы все, как ты понимаешь, чрезвычайно опечалены этим событием, в коллективе просто траур. Все-таки столько лет вместе…
Я хохочу, а он продолжает тем же тоном: тут сыграла роль зурабовская статья, из-за которой Ермасов писал в ЦК республики. Артем Иванович совершенно убит. Бедный старик, он так держался все эти годы! А кто на его место? Борис просит, чтоб я не падал в обморок: один товарищ из радиокомитета.
— Атанияз? — кричу я.
— Да, он. Мы уговаривали нашего дорогого Атанияза Непесовича два дня, этот негодяй отказывался наотрез. Говорил, что если пойдет в газету, то никогда не закончит своей диссертации.
— Когда все это произошло? Когда вы его уговаривали?
— Первый разговор был, кажется, перед вашим отъездом.
— Потрясающий человек! Мы жили пять дней бок о бок, и он не сказал мне ни слова…
Борис говорит, что ему некогда болтать по телефону, чтобы я немедленно слал «телегу», а завтра он постарается выслать телеграфом деньги.
Я выхожу из почтамта, переполненный новостями, в радостном настроении, но в кармане у меня восемнадцать рублей, и я должен дожить до завтра. Поэтому я иду обедать не в ресторан «Мургаб», а в столовую возле вокзала. На другой день в этой столовой я встречаю профессора Кинзерского, с которым когда-то ехал в поезде. Мы сталкиваемся у окошка, где выдают вторые блюда. Профессор держит поднос, заставленный тарелками и стаканами компота.
— А! — говорит он без всякого удивления. — Вот и вы! Я же сказал, что здесь пустыня и все друг с другом встречаются…
Мы садимся за один стол. Профессор очень быстро съедает две порции гуляша и, как сырые яйца, высасывает три стакана компота. При свете холодного зимнего дня загорелое лицо профессора кажется темно-красным, закопченным, как старая медь. Он спрашивает, видел ли я развалины старого Мерва. Нет, хотя слышал о них и читал. Они находятся в районе Байрам-Али.
— Как, вы не видели старого Мерва?! — переспрашивает профессор с изумлением.
— Нет.
— Это поразительно! Не видеть «Султана Санджара», который находится в нескольких километрах! Полчаса на машине! — Он хохочет и глядит на меня, как на диковинку. — Люди едут за тысячи километров, чтобы взглянуть на это потрясающее кладбище веков, на этот некрополь цивилизации, на мертвое сердце древней Азии — Мерв, столицу Маргианы! — а вы торчите в дрянной гостинице, ходите по разным канцеляриям, столовым, и вам не приходит в голову поехать и взглянуть на величайшие развалины! Вам не стыдно?
— Мне стыдно, профессор. Я, откровенно говоря, как-то забыл об этих развалинах. Я читал о них…
— Тем хуже! Тем отвратительней! Гарун-аль-Рашид нашел время приехать в Мерв из Багдада только затем, чтобы посмотреть на прославленный город и покопаться в его библиотеках, а вы, молодой журналист, томитесь тут и не знаете, как убить время. Что вы за люди, дьявол вас побери? Что вас интересует? И интересует ли вас что-нибудь вообще?
Он уже не смеется, а глядит на меня неприязненно. Я говорю, что меня интересует очень многое. Даже чересчур многое. И как раз поэтому я не догадался поехать к развалинам.
После обеда мы вместе заходим на почтамт, и я узнаю, что могу получить деньги. Самочувствие мое великолепное, теперь я готов ехать не только к «Султану Санджару», но хоть в древний Хорезм или Бухару.
Единственное, что меня гложет, — это мысль о завтрашнем заседании. Я не люблю публичных выступлений, теряюсь, плохо говорю, особенно если приходится говорить перед незнакомыми людьми, но главная трудность не в этом, а в том, что я почти не знаю существа дела. Я сочувствую Ермасову, сочувствую этому Алеше и его товарищам, которым грозят какие-то беды, и мне не нравится Хорев, приятель Лузгина, и в общем я примерно все понимаю, но ведь ничего конкретного, никаких фактов у меня нет. А как говорить без фактов? Вот что меня тревожит и о чем я думаю, гуляя с профессором по улице. Он рассказывает что-то интересное о пустынях, которые сдавили землю кольцом: Ближний Восток, Африка, Мексика, Китай, Гоби, Средняя Азия. Он считает, что остановить пустыни могут только леса. Уничтожение лесов и истощение почвы привели к образованию пустынь, которые расширяются с угрожающей быстротой. Геродот писал о плодороднейших землях Вавилона и Ливии — теперь это бесплодные пустыни. Из опыта пятисот лет известно, что Сахара расширяется в южном направлении с довольно значительной скоростью. Озеро Чад неуклонно уменьшается по площади и глубине. А пустыня Каракум не менее быстро движется на запад: Каспий мелеет катастрофически, полуостров Челекен недавно, всего несколько десятков лет назад, был островом. Да и Европа не может считать себя в полной безопасности. Юг Европы уже испытывает на себе адское дыхание африканских пустынь, откуда дуют иссушающие ветры. Климат Италии за последние несколько столетий стал гораздо более жарким. Древние римляне часто жаловались на морозы и снегопады, а в нынешней Италии это почти невероятно. Превращение райских кущ в пустыни — вот что принесла цивилизация, истощившая почвы с ошеломляющей быстротой.
— Где же спасение?
— Спасение — в лесах. Только леса могут остановить вселенское истощение почвы. Эй! Бекмурад! Стоп! — Профессор вдруг бросается на середину улицы с высоко поднятой рукой и останавливает замызганный «ГАЗ—57» с латаным брезентовым верхом. — Это наша экспедиционная. Прошу садиться!
Я сажусь назад, профессор рядом с шофером, и мы едем в старый Мерв.
К мавзолею султана Санджара подъезжаем в густых сумерках. Он стоит в совершенном одиночестве на голой и плоской земле, которая кажется пустыней, но вблизи видно, что эта земля исхолмлена остатками древних фундаментов, стен, обрушенных до основания башен. Кое-где в рытвинах белеет снег. Ветер с шорохом перекатывает песок. Можно подойти к мавзолею Санджара, но еще лучше смотреть на него издали: поднимающаяся луна освещает его тупые каменные хребты.
Сидя в машине, мы пьем горячий кофе из профессорского термоса. Кинзерский рассказывает что-то об арабах, о Тули-хане, сыне Чингиса, который сровнял с землей столицу сельджуков, вырезав все население, несколько сот тысяч человек, и уничтожил все здания Мерва. И только мавзолей Санджара не смогли разрушить монголы.
— Хотите подойти поближе? — спрашивает профессор. — Вы увидите эти камни, ощутите движение веков.
— Как хотите. Но, по-моему, все ясно.
— Все ясно! Да, да… Замечательно сказано: все ясно… — Он усмехается и умолкает.
Мы едем обратно. Справа бежит тень машины, скользящая темной волной по белому от луны бугристому полю. Помолчав, я говорю, что мне никогда не удавалось взволноваться при виде старых камней и ощутить нечто торжественное, вроде движения веков, или движения лет, или даже просто движения времени. Но зато я ощущаю это при виде людей. При виде некоторых я вижу годы, десятилетия и даже иногда века. Вот недавно, например, на базаре я видел человека, который вполне мог быть одним из всадников Тули-хана. Он продавал орехи. Но у него были такие глаза и такие руки, что я сразу понял: он оттуда, от Тули-хана. Мой отец всю жизнь пронес на себе печать семнадцатого года. А есть люди конца двадцатых годов, середины тридцатых, и люди начала войны, и люди конца войны, и они, как и мой отец, остаются такими до конца своих жизней.
— Вы согласны, профессор?
— Я согласен, но меня интересует, к какому году вы относите себя, мой славный аналитик? Про меня уж не спрашиваю: наверняка к какому-нибудь девятьсот шестнадцатому или тринадцатому.
— Мой год, я думаю, еще не наступил.
— А мой, мальчик? — Профессор смеется. — Мы все так думаем.
24
Сначала высокий очкастый старик читал заключение комиссии. Ничего страшного. Разные мелкие неполадки и незначительные грешки: площадка мастерских засорена деталями, отсутствуют навесы, нет заводских табличек с номерами…
Его напряженно слушали. Я сидел рядом с Искандеровым, который шепотом объяснял мне, кто тут кто. Меня, естественно, занимал Карабаш — тот, за кого следовало заступаться. Он оказался примерно моего возраста, а может быть, даже чуть моложе, худощав, смугл, невысокого роста. Держался спокойно. В его повадке, в движениях рук, в том, как он брал папиросу, потирал пальцами подбородок и крепкие желтые скулы, во взгляде его черных, редко мигающих глаз была какая-то восточная сосредоточенность и прочность. Хотя он был, кажется, не здешний, а с Севера.
Его сосед, инженер Гохберг, вначале очень нервничал, но потом успокоился. Я тоже успокоился. Все разворачивалось довольно благополучно.
Комиссия предлагала инженеру Гохбергу, как непосредственному руководителю ремонтных мастерских, упорядочить производство ремонта, прибрать территорию, соорудить навесы и так далее. Карабашу предлагалось организовать бесперебойную доставку продуктов и построить на территории мастерских столовую. Вот и все. Ничего похожего на громы и молнии, которые метала газета.
Ермасов ерзал на стуле и пытался сдержать улыбку.
Как только старик в очках с железной оправой закончил чтение и сел, немедленно попросил слово Хорев. Он сразу начал кричать, взмахивая руками, протягивая их то к одному, то к другому из сидящих за столом, обращаясь за поддержкой ко всем по очереди, и один раз он обратился ко мне: я увидел выпуклые и как бы остановившиеся, напряженно-остекленевшие глаза.
Хорев кричал, что заключение комиссии — документ беззубый и непартийный. Замазываются недостатки. Желают спустить дело на тормозах. Но это не выйдет! Пришло время говорить откровенно, начистоту!
— А вы говорите, говорите, — сказал Ермасов. — Вы не лозунги выкрикивайте, а говорите по делу.
— А я скажу, Степан Иванович. Я вас не боюсь…
— Вот и говорите.
— Я и собираюсь. Во-первых, почему не указаны причины? Как возникло это безобразие?
— Что вы называете безобразием? — оглушительно рявкнул Ермасов.
— Товарищ Ермасов! Давайте по порядку… — Председательствующий, первый секретарь обкома Эрсарыев, постучал по столу карандашом.
— Нет, во-первых, объяснения причин, — продолжал Хорев, — откуда взялось такое количество поврежденной техники. Во-вторых, кто виноват в этом безобразии. Я называю это безобразием, не знаю, как другие. Устроили кладбище! Хоронят раньше времени драгоценнейшие государственные механизмы.
— Верно, безобразие, — сказал Ермасов. — Дальше, дальше! Рожайте мысль!
— Мысль простая: кто виноват и что делать? Два, как говорится, вечных вопроса…
Опять встал председатель комиссии, высокий старик в очках, и принялся объяснять. Хорев с ним спорил. Председатель комиссии объяснял деликатно, немного пришибленным тоном.
— Мы, собственно, не ставили задачей делать исторический анализ. Нам казалось, объективная картина…
— От вас ждали другого! — гремел Хорев. — От вас ждали принципиальной, партийной оценки явления, а вы ушли в кусты. Кого вы побоялись? Товарища Ермасова? Не хотели гладить против шерсти? А придется! Придется высказаться, товарищ Уманский…
— Да ты сам выскажись, — сказал Ермасов. — В чем причина, по-твоему?
Хорев помолчал, жуя губами, лицо его побледнело.
— Степан Иванович, я бы попросил не говорить мне «ты», — это не украшает вас…
— Ладно, не буду, извиняйте. В чем причину вы видите?
— В том, что с самого начала строительства вы пошли по неправильному, порочному пути — нарушения проекта. Отсюда все качества. Отсюда армия ненужных, раскулаченных скреперов, отсюда эксплуатация механизмов на износ, отсюда это знаменитое кладбище. Вот о чем надо говорить прямо!
Затем вспыхнул спор между Хоревым и Гохбергом. Я не все понимал в этом споре — слишком много было техники, специальных слов, упоминаний вскользь о чем-то мне неизвестном, — но по мере того, как в водоворот втягивались новые люди, я все отчетливее видел, как размежевывались силы. С одной стороны были Ермасов и руководители Пионерной конторы, с другой — Хорев и приехавшие из Ашхабада работники управления, три человека, один из которых был мой знакомый Нияздурдыев.
Эрсарыев пока что молчал и внимательно слушал, изредка что-то записывая. Члены бюро обкома — среди них было несколько почтенных пожилых, с орденами на пиджаках, вероятно, председатели колхозов, — тоже держались молчаливо и непроницаемо, и непонятно было, на чьей они стороне. Скорей всего они, так же как и я, были не очень-то в курсе дела. Ермасов тоже был, кажется, членом обкома. Мне нравился Ермасов. В его лобастом, с мешковатыми щеками, курносом, старом лице была какая-то непередаваемая, наивная открытость: все чувства, едва родившись, мгновенно отпечатывались на нем. Такая открытость бывает у детей и людей, одержимых страстью. Когда Ермасов кричал на Хорева, тыча в его сторону кулаком: «А это принципиальность, по-твоему: соглашаться со всем, а потом — нож в спину?» — я видел, что гнев распирает его настолько, что, не будь тут стола, он бы схватился с начальником «Восточного плеча» врукопашную. И когда он притрагивался к сердцу ладонью и тут же испуганно отдергивал ее, боясь, что этот жест заметят, и на его лице мелькало выражение досады и боли, я видел, что все это неподдельное и что у него действительно болит сердце, и он стыдится своей старости и своей слабости. Когда, устав от крика, вытирая ладонью слезящиеся глаза, он сказал тихо, ослабшим голосом: «Да черт вас возьми, я ведь одного хочу: скорее вернуть народу его деньги, его миллионы. Понимаете? Скорей пустить воду», — меня эти слова как будто пронзили. Потому что я понял, что это на самом деле то, чего он больше всего хочет в жизни.
У меня тоже слезились глаза от табачного дыма. Все двадцать человек курили беспрестанно. За окном был темный, ненастный день, с утра сочился дождь. В синем стекле отражались горящие лампы под матовыми абажурами.
Иногда меня поражало ощущение странности всего происходящего. Споры были почти непонятны, хотя я слушал их с интересом. Но мне делалось неуютно от одной мысли о том, что я тоже должен вдруг встать и начать что-то говорить. Кому? Им, опытным инженерам, вождям стройки, спорящим о своем сложном, гигантском деле. Хуже всего было то, что присутствующие, очевидно, знали, что я корреспондент газеты, и не какой-нибудь случайной газеты, а той самой, что напечатала статью, с которой все началось. И они посматривали на меня с интересом и, конечно, ждали моего выступления.
Эрсарыев перед началом заседания поздоровался со мной и крепко пожал руку. Видимо, тоже рассчитывал на мое выступление, но в каком духе? Как я понимал, спор шел о вещах более крупных, чем положение дел в ремонтных мастерских. Ермасова и Карабаша обвиняли в том, что они, не считаясь с проектом, не считаясь с завезенной техникой, строили канал по-своему. Хорев и представители управления требовали жестокого наказания руководителей Пионерной конторы. Но спор шел, наверное, еще и о чем-то другом, гораздо более значительном. И вот я старался вникнуть в это «гораздо более значительное», уловить его, расслышать в потоках слов, потому что это было самое главное и понятное и то, что меня волновало, но было ли это здесь? Был ли тот водораздел, который разделяет людей по самому великому счету? Может, мне все это чудилось? Меня переполняла эта тема, я слышал ее повсюду, даже там, где не было ничего, кроме простенького мотивчика…
— Нет, нам не все равно, какой ценой выполняется план, — говорил Нияздурдыев. — И не всякое новаторство нас устраивает. Если это новаторство за счет угробления техники…
Карабаш и Гохберг читали что-то длинное, изложенное на многих страницах невероятно тяжелым инженерным языком: нечто вроде родословной каждого скрепера, экскаватора и трактора, которые находились в мастерских. Они доказывали, что скреперы вовсе не годятся для песков, а тракторы и экскаваторы сделали свое дело и списаны законно. Хорев кричал грозно: «Значит, вы отметаете выступление партийной печати?!» Нацепив очки, он декламировал цитаты из Сашки:
— «До каких пор бесхозяйственность и безответственность будут царить…»
— Хотите уйти от ответственности, дорогие друзья? — спрашивал Нияздурдыев.
— Да за одно такое отношение к критике надо влепить им по строгачу! — воскликнул другой представитель управления. — И напрашивается вывод: а могут ли подобные руководители оставаться во главе?..
Карабашу и Гохбергу было худо. Я чувствовал, что настает мое время, но с чего начать? Реплика Хорева неожиданно подтолкнула меня:
— Товарищи, здесь присутствует корреспондент газеты, которого, конечно, интересует, какие выводы сделали мы, строители, из той справедливой критики…
Я вдруг встал с ненужной поспешностью и, прервав Хорева, заговорил:
— Корреспондент — это я! — Все обернулись ко мне. Я увидел внимательные, настороженные лица, а Ермасов смотрел откровенно злобно. — Видите ли, я не являюсь автором этой самой кладбищенской статьи, то есть не кладбищенской, естественно, а насчет, так сказать, кладбища механизмов имени товарища Гохберга — такое острое название… Но должен сказать следующее. Эту статью написал наш работник Зурабов. Он был на стройке, собрал большой материал и написал довольно интересно и вообще, так сказать, остро. Но! Тут есть одно «но»! — Я всегда ненавидел дурацкое выражение «есть одно „но“ и издевался над ораторами, которые его применяют, и вдруг применил его сам, черт меня знает почему. — Это „но“ заключается в том, что нельзя о большом явлении, большом деле, вот таком, например, как ваша стройка, писать односторонне, отмечая только недостатки. Такой односторонностью страдала статья Зурабова, и наш коллектив признал ее малоудачной и не вполне, ну, что ли, добросовестной… Передаю мнение и нашего редактора, товарища Диомидова, который был в отъезде, когда статья печаталась, а заместитель редактора понес полную и, так сказать, довольно тяжелую ответственность… Вот это я считаю долгом вам сообщить.
Я сел. Кажется, я всех удивил. На меня глядели озадаченно. Вдруг меня что-то подняло вновь, какой-то порыв, второе дыхание, я встал и заговорил:
— Товарищи, я не строитель, не ирригатор, но что я хотел еще сказать: давайте поглядим на конфликт, который мы разбираем сегодня, более широко и, так сказать, исторически. Ведь этот конфликт — тоже одно из следствий недавних больших событий в стране. Люди распрямились, люди стараются работать лучше, изобретательнее, идут на риск ради дела, а не ради своего благополучия. Нет ничего опасней догмы — религиозной, философской или даже догмы в виде проекта оросительного канала…
В таком духе я говорил минут десять. По-моему, я говорил очень спокойно. Меня слушали молча и внимательно, и после того, как я кончил, несколько секунд длилось молчание, и затем встал один из председателей колхозов и начал рассказывать, как много сделал Ермасов для местных колхозников: увеличил оросительную сеть, построил новые колодцы. Оказывается, Ермасов сконструировал какой-то особый колодец с оригинальным насосом, очень выгодный для песков. Каракумские скотоводы благодарят Ермасова.
Хорев крикнул:
— Но это не имеет отношения к вопросу!..
Я вынул платок и вытер вспотевшие щеки.
Дальнейшую часть заседания я слушал плохо, потому что все еще переживал свою речь. Мне казалось, что я говорил слишком длинно и общо и не произвел нужного впечатления. Потом выступили еще один председатель колхоза, директор ремонтного завода, потом один экскаваторщик с трассы, все они защищали Карабаша. И, наконец, взял слово Эрсарыев. Тут я немного пришел в себя и стал вникать в то, что говорилось.
— Как бы вы, товарищи, ни защищали Карабаша и Гохберга, как бы ни расписывали их достоинства и добродетели, я должен сказать, что считаю их виновными. Скреперы в сыпучих грунтах работать не могут, и поэтому, как вы помните, предполагалось сначала смачивать грунт, а потом уж вырабатывать его скреперами. Так?
— Совершенно правильно, — сказал замначальника управления.
— Вы помните, товарищи, как мы мучались с трубами для смачивания грунта? Водопровод шел впереди фронта работ на десять — двенадцать километров. Чтобы таким, как говорится, макаром построить канал — сколько лет потребовалось бы, товарищ Ермасов?
— Лет восемь — десять, — сказал Ермасов.
— Меред Акбарович, это давно пройденный этап! — крикнул, приподнимаясь с места, Хорев. — Зачем вспоминать?
— Вспоминаю к тому, чтобы объяснить: нет, не в том вина Карабаша и Гохберга, что они поставили на прикол скреперы. И не в том, что использовали скреперы как могли и сняли их с тракторов. Надо было выручать стройку. Вина их вот в чем: нашли новое, прогрессивное — да? Родился в муках, в спорах какой-то новый удачный метод — так? Очень хорошо. Ко что вы, как коммунисты, сделали для того, чтобы распространить опыт бульдозерной работы? Как пропагандировали его? Что сделали, чтобы бульдозеры работали не только в Пионерном отряде? Ничего не сделали. Не выступили ни в нашей областной, ни в ашхабадской газетах. С некоторыми товарищами из управления и Института водного хозяйства у вас, как известно, отношения натянутые. Но начальник управления товарищ Атамурадов сам мне жаловался: «Хочу, говорит, помочь Ермасову, знаю о его затруднениях, но он нас вовсе игнорирует. Норовит через нашу голову действовать. Поневоле, говорит, руки опускаются».
— А пускай он себе дельных работников подбирает, — проворчал Ермасов.
— Степан Иванович, но ведь и к нам в обком ты почти ни разу не обращался за помощью. На далекое путешествие, в Америку например, у Степана Ивановича времени хватило, а вот пройти два квартала пешком, из треста в обком партии, ему часто недосуг. Я понимаю, он большой человек, разговаривает прямо с Ашхабадом и с Москвой, но все-таки и свою родную область надо уважать немножко больше. Надо ставить в известность о положении дел. Здесь присутствует корреспондент газеты: я настоятельно рекомендую вам заказать Карабашу и Гохбергу большую статью, обобщающую опыт…
Вот так неожиданно все это кончилось.
Гохберг и Карабаш могли спокойно возвращаться в контору, им ничто не грозило, кроме необходимости писать большую статью. Я выскочил в коридор, нашел Искандерова.
— Ну, как я? Не очень замысловато?
— Ничего! — сказал он. — Здорово! Как Мочалов в роли Чацкого, с такой же страстью…
Искандеров шутил, подмигивал, милый парень, а мне хотелось бы знать всерьез. Я вернулся из коридора в комнату. Ермасов и Эрсарыев о чем-то спорили, стоя возле стола. А Карабаш и Гохберг смотрели на них издали, сидя за опустелым столом, на котором еще чадили окурки и валялись обломанные карандаши и исчерканные, изрисованные вкривь и вкось листы бумаги. Когда Эрсарыев ушел, Ермасов сел на его место. Я подошел к нему. Его лицо было мокро, воротник рубашки расстегнут, и петля галстука сползла вниз.
Я спросил, смогу ли я уехать завтра на трассу. Мне нужно уехать как можно скорее.
Он поглядел как-то косо, устало и усмехнулся.
— Машину подай, а потом напишете невесть что…
— Невесть что не будет, — сказал я.
— Тогда ладно. Договорились. — Он протянул мне руку и ухмыльнулся. — А здорово вы врезали насчет догматизма! Молодец! В половине девятого подходите к гаражу.
Карабаш и Гохберг смотрели на меня, странно улыбаясь. Я пожал им руки и пошел к выходу. Ермасов вдруг окликнул меня:
— Послушайте… как вас? Пойдемте ко мне пить чай? Хотите?
— Пойдемте, — сказал я.
— А вы как?
— Мы не можем, Степан Иванович, — сказал Карабаш. — Некогда, надо ехать.
— И, откровенно говоря, — сказал Гохберг, радостно улыбаясь, — настолько трещит и разламывается голова, что просто не до чая. До чего-нибудь другого — да! Но до чая — нет!
В машине, где было холодно и дождь лупил по крыше, по брезентовым боковинам, и брызги залетали внутрь, и то и дело подбрасывало, потому что сквозь ветровое стекло, залепленное дождем, шофер скверно видел дорогу, Карабаш и Гохберг возбужденно кричали, вспоминая заседание. Перед выездом они хлебнули коньяку, чтобы восстановить силы перед дорогой. Ехать предстояло много часов, может быть, всю ночь.
Карабаш и Гохберг кричали наперебой, как будто торопясь ответить на вопрос шофера: «Ну что там было?» Но рассказывали они главным образом друг другу.
Они хохотали, как подростки, вспоминая всех по очереди. Их потряс корреспондент. Они говорили о нем с восторгом.
— И вдруг встает… Вы слышите? — Гохберг шлепал шофера по плечу. — Встает парень, такой невзрачный, в немецком гороховом пиджачишке, в ковбойке…
— Почему невзрачный? — сказал Карабаш. — С меня ростом.
— Да, но какой-то несолидный. В ковбойке. У нас машинисты лучше одеваются.
— Да разве в этом дело?
— Я понимаю! И говорит: мы, говорит, члены редколлегии, считаем эту статью неудачной…
— Нет, он сказал: недобросовестной.
— Да, да, недобросовестной! Выразился мягко, потому что нельзя же, честь мундира…
— Но у Хорева сразу челюсть отвисла!
— Ха-ха!
— Как его фамилия? — спросил шофер.
— Корешков, — сказал Гохберг.
— Нет, Коршунов, — сказал Карабаш. — Или, может быть, Кошелев.
— В общем, я его знаю, — сказал шофер.
— Ну и после него — пошло!
— Естественное дело! А как вы думали? — кричал Гохберг. — Ведь он выбил у них почву из-под ног! Одним ударом — бац, — и они дрыгают ножками. Денис, вы поняли?
Денис молча кивнул, глядя на дорогу, которая была чуть видна: радиатор толкал перед собой клубящееся, озаренное фарами облако дождя. Да, он понял: они спаслись. И не только спаслись, но выиграли дело и сейчас на седьмом небе от радости. Они выиграли дело. Вся штука в том, чтобы иметь дело, которое стоит выигрывать. Однажды в такую же гнусную ночь, в марте, он возвращался в Альтону после большого выигрыша — что-то около девятисот марок, — и у него было чудесное настроение, всю дорогу он слушал музыку, но был туман и видимость хуже сегодняшней, и на переезде случился карамболяж — четырнадцать машин наскочили одна на другую, как бильярдные шары. И он потерял машину, и девятьсот марок, и все, что у него было. На другой день он был нищ, как крыса. Вот где была пустыня! Самая настоящая пустыня, набитая людьми. А еще через день он открыл газ в своем номере в пансионате «Каиро». Потому что жить было не на что и, главное, незачем. Его вытащили, но суть не в том. Суть в том, что надо жить для дела, не для делишек. Дело больше человека, больше его жизни. Дело — это для всех. Но там этого не знают. Там живут для делишек, иначе не могут. Делишки в двадцать марок или в два миллиона — какая разница?
А эти ребята не выиграли ни гроша, они выиграли общее дело, огромное дело. И радуются, как черти. Это здорово радостно, когда выигрываешь такое дело. Да он, собственно говоря, тоже радуется. А что же? Ему тоже интересно, чем кончится вся эта история с каналом. Ей-богу, это его дело ничуть не меньше, чем их. И он радуется тоже.
— Денис, вы поняли? — кричит Гохберг.
— Понял, понял, — сказал Денис. — Чего тут понимать?
Утром в половине девятого я подошел к гаражу треста. Машины на улице не было, и я зашел во двор. Диспетчер, рябой, с бабьим лицом азербайджанец, играл в нарды с рабочим, сидя под навесом. Дождь недавно кончился. Во дворе стояли лужи, черные от мазута. Диспетчер сказал, что где-то в районе озер прорвало дамбы и все свободные машины ушли на трассу. Машина «ГАЗ—57», на которой я должен был ехать вместе с работниками орса, ушла час назад.
Карабаш и Гохберг, отправив вперед Дениса, остались ночевать в Третьем. Когда на рассвете они примчались к озерам, брешь в юго-восточной части дамбы была уже значительной и вода залила большое пространство. Газик несчастного Дениса Кузнецова стоял в воде до крыльев. Его оттаскивали трактором. За рулем в кабине газика сидел незнакомый парень, а еще один, в ватнике, в казашьем треухе, стоял по колено в воде, возился с тросом, и они оба и тракторист отчаянно матерились. Что-то у них не ладилось. Срывался трос. На бархане, где было сухо, стоял Смирнов — без шапки, в расстегнутом плаще — и, размахивая руками, кричал: «Скажи, чтобы влево! Черт глухой! Выворачивай!» Лицо у него было шалое, глаза лихорадочные, проваленные.
Карабаш выскочил из машины.
— Где Кузнецов?
Шофер лежал на брезентовой полости на верху бархана. Вся его одежда и сапоги были насквозь мокрые, облеплены песком, и на брезенте было много воды, которая натекла с одежды. Лицо его уже посинело. Оттого, что кепка закрывала лоб и глаза, и еще оттого, что лицо было совершенно бескровным, оно показалось Карабашу неузнаваемым. Он смотрел на шофера с каким-то диким недоумением: несколько часов назад этот человек сидел с ним рядом!
Смирнов, подбежав, рассказывал: Гусейн с автолавкой выехал рано в Третий отряд и по дороге наткнулся на карабашевский газик, он вот тут же и стоял, а дамбу уже пробило. Гусейн — обратно в поселок, поднял тревогу. А то, что «козел» был пустой, без шофера, ему сразу и невдомек. Когда приехали, хватились: где Кузнецов? Глядят, а он в воде плавает, его волной вон куда снесло. Непонятно только, как его из кабины выбросило? Живой человек, почему не спасся?
Подошел парень в треухе:
— Может, пьяный был?
Карабаш смотрел на белые, обметанные смертью губы шофера, застывшие в том выражении, какое бывает у человека, когда он лишь открывает рот для крика. Левая рука Дениса была согнута и лежала ладонью вверх. Он кричал беззвучное, чего никто услышать не мог.
Смирнов бормотал трясущимися губами:
— Ниязов в Керках, вас нет… Пришлось взять команду… Делали искусственное дыхание, ложили на живот, воды совсем мало вышло, один песок. Тут темное дело… Я в Сагамет послал за милицией. — И вдруг, треснувшим голосом: — А теперь вы видите, Алексей Михайлович, что ваши окольцовочные дамбы…
Гохберг закричал:
— Дураки, о чем вы говорите? Этот человек спасал стройку, вы поняли? Вы поняли, что тут было? Он увидел, как рвет дамбу, бросил машину, подбежал, пытался заткнуть брешь, — ведь это кажется пустяком, начинается снизу, пузырится почва, а внутри уже все прорыто, все рухнуло, — и тут его накрыло с пяти метров. Вот что тут было!
«Половина ночи разделила нас, — думал Карабаш. — И вот я не могу его узнать, потому что он стал другим. Этот человек с синими руками, который лежит тут на: брезенте, совсем не тот, с кем я ехал несколько часов назад. Этот человек спасал стройку, а тот был не способен на такие дела. Этот человек — герой, а тот был темный неудачник».
Карабаш нагнулся, накрыл мертвого краем брезента.
— Понесли на машину…
Ветер пробил облака на востоке, и в проеме, в свинцовой синеве всплыло солнце: его зимний холодный свет зажегся на гребнях барханов, покрытых панцирем застывшего песка, заблестел на воде, разлившейся широким озером за дамбой. Вода уже залила дорогу. Она уходила в пески.
Только сейчас, глядя на это огромное, зловеще тихое, живое тело воды, — да, оно жило, двигалось, незаметно для глаз, но страшно, стремительно, с каждой секундой все больше набираясь мощи и все дальше вырываясь из-под власти людей, — только сейчас Карабаш ощутил вдруг всем существом, сжавшимся сердцем, спазмой, стеснившей горло, величину катастрофы. Рухнули усилия многих лет, тысяч людей. Вернуть воду немыслимо, она уже далеко за барханами, несется на юг.
Два трактора никчемно ворочались в воде, третий продолжал тащить газик. Разве это сейчас важно? Через два часа здесь будут Ермасов, Хорев, Нияздурдыев и все остальные.
Карабаш все еще держал край брезента, на котором лежало тело Кузнецова, и чуть было не выпустил брезент из рук. Смирнов подскочил, подхватил сзади.
— Что с вами?
Дениса положили в кузов грузовика, на котором Карабаш и Гохберг приехали из Третьего. Потом тут же, на бархане, устроили совещание: Гохберг, Карабаш, Смирнов и Байнуров. Вокруг стояли трактористы, угрюмо слушали.
Причины прорыва были пока неясны. Скорей всего строители не учли разгона волны на озере. Зимою тут сильные ветры, окольцовочную дамбу прорвало волной. Недостаточно пологие откосы. Кто виноват? Откосы закладывались согласно проекту. Почему согласно проекту? А как же: один к четырем. А ваши окольцовочные дамбы тоже согласно проекту? Дамбы нет, а откосы согласно проекту, один к четырем, а надо было закладывать один к десяти. Не время спорить! К черту «кто виноват»! Что делать? Что делать? Кто виноват — разберемся после. Что делать?
— Нагнать бульдозеры и бросить к месту прорыва, — предложил Байнуров.
— Ничего не даст. Вода снесет песок, сейчас уже поздно, — сказал Гохберг. — Надо перекрывать канал.
— Да, придется перекрывать, — сказал Карабаш. — Другого выхода нет. Вот здесь, примерно на двести восемнадцатом, есть удобное место. — Карабаш ткнул пальцем в карту. — Для того чтобы ослабить напор, можно найти лощину и сделать отвод…
— Тут есть отличная лощина на двести шестом! — сказал Гохберг.
Так на бархане, на ледяном ветру, было принято это молниеносное решение. Смирнов сейчас же помчался в поселок, а Байнуров — в Третий отряд, для того чтобы срочно выслать бульдозеры. Пока они сюда доползут, пройдет много часов. Смирнов уехал на машине, которая повезла Дениса, а Байнуров — на газике Карабаша.
— Что будем делать, Алексей Михайлович? — спросили трактористы. Их было четверо. Они оказались поблизости случайно, работали на резервной дамбе. Все четверо были молодые ребята, два русских, два туркмена. Лица были знакомые, но фамилий Карабаш не помнил.
Они глядели преданно, с сочувствием и в то же время с каким-то жадным испугом.
— Тут делать нечего, — сказал Карабаш. — Ползите на двести восемнадцатый, там будем перемычку сыпать. Чего вы так смотрите? Испугались?
— Да нет, чего пугаться, — сказал один из трактористов. — Мужика жалко…
— Да. Жалко.
— По пьянке?
— Не иначе…
— Нет, — сказал Карабаш. — Твердо вам говорю: нет. Потому что ехал вместе с ним из Маров и знаю. Все, между прочим, считали, что он никудышный человек, алкоголик, а он вон какой оказался.
— Свою жизнь не жалел, — сказал тракторист-туркмен.
— Это да, конечно, — сказал первый парень. — Но то, что алкаш, — это точно. В запрошлое воскресенье сам видел, как он в Сагамете набухался…
Они пошли к своим машинам, продолжая рассуждать о шофере, которого они жалели искренне и горько. Солнце поднималось все выше. Пустыня светлела. Мощным потоком, все шире размывая дамбу, выкатывалась густая и тяжелая, блестевшая на солнце амударьинская вода, с бессмысленной злобной поспешностью устремляясь в пустыню, а Карабашу казалось, что это кровь хлещет из его жил, и нельзя остановить ее, и он слабеет, безнадежно слабеет, теряя такую массу крови, у него кружится голова, ноги подгибаются…
Он сел на песок. Второй раз сегодня эта дурацкая слабость.
Подошел Гохберг, взял его руку.
— Алеша, вам плохо?
— Нет. Я в порядке, — сказал Карабаш, помотав головой. — Я просто сел. Вы тоже можете сесть…
Гохберг тоже сел рядом. Он все еще держал его руку.
— Мне представилась такая вещь, — сказал Карабаш, — что вот через четыре месяца здесь опять будет лето, сушь, голые барханы и ни капли воды. Как тыщу лет назад. А, весело?
— Чепуха. Кошмар какой-то, — сказал Гохберг и вытащил из кармана фляжку с коньяком. — Выпейте, Алеша! Вы неважно выглядите…
Карабаш отхлебнул коньяку и посидел две секунды, покачиваясь, с зажмуренными глазами, потом поднялся — резко, одним движением.
Слово «прорыв» неслось по трассе с быстротой «афганца». Оно гремело в палатках, в забоях, бушевало в эфире. К 218-му километру мчались с востока и с запада машины, летело начальство на вертолетах, ползли бульдозеры с поднятыми ножами — как пехотинцы, готовые к штыковому бою. Из Третьего отряда Байнуров распорядился бросить на прорыв все наличные бульдозеры, кроме двух машин. С каждым трактором должны были отправиться два сменщика, чтобы машины работали бесперебойно, днем и ночью.
Ребята одевались потеплее, брали чемоданчики, заплечные мешки со сменой белья, с табаком, едой. В большую будку, где жили шестеро, вошел Нагаев.
— Ну, кто едет?
— Все едем. Вон Сапарыч уже в забой побежал! — сказал Беки.
— А вы с экскаватором своим потащитесь, что ли?
— Нам Байнуров трактор дает, — сказал Иван. — С экскаватором там делать нечего. Сейчас прямо до поселка, берем трактор с ножом — и на двести восемнадцатый, айда! Я его за грудь взял: «Товарищ, говорю, Байнуров, если вы нас с Бекишкой на прорыв не кинете, отставите в сторону, будет вам провал и разоренье! Без нас, говорю, даже не мыслите…»
Беки смеялся, влезая в огромные ватные штаны. Все двигались суматошливо, нервно кидали вещи, переругивались беззлобно. Нагаев глядел на эту суету, перекатывая в желтых зубах окурок.
— Ты что стоишь? — спросил Егерс.
— Я вот что: как оплачивать будут? Ведь тут дней пять, не менее.
— А кто их знает!
— Оплатят, не боись…
— Не за спасибо ж…
Отвечали рассеянно. Иван орал:
— Эй, турки, кто мою фуфайку упер?
— Мое мнение такое, — сказал Нагаев. — В связи, значит, что работа сверхурочная, в тяжелых условиях, и мы не обязаны, — верно?
— Чего не обязаны? — спросил Иван.
— Не обязаны вообще.
— Ну, ну?
— Пускай наряды по высшей расценке выписывают. По полтиннику за куб.
Иван махнул рукой:
— Ничего не выйдет.
— Ни к чему такие дела, — сказал Егерс.
— Выйти-то выйдет, — сказал Нагаев и выплюнул окурок. — Потому что они схвачены, у них исхода нет. Они и больше дадут, только зачем уродничать? Лишнего мне не надо. А по полтиннику — законно.
— Почему ж у них исхода нет? — спросил Богаэддин.
— Потому что дров наломали со своей окольцовкой, вот почему. А теперь им знаете какая кара грозит? Ха-ха! — Он присвистнул. — Неужели ж они будут в таком случае копейку беречь? Тем более государственную? Их сейчас того гляди захомутают.
Суета в будке приостановилась. Все вдруг замерли и уставились на Нагаева. Иван сказал хмуро:
— Ежели захомутают, значит, выручать надо.
— Кого выручать? Ты за них не волнуйся.
— Надо, надо выручать, — сказал Егерс. — Ты не болтай, Семеныч.
— Ну и выручайте, аллах с вами. А я свой труд ценю. Нема дурных зазря шею ломать. — И Нагаев вышел из будки.
Когда он скрылся за дверью, оказалось, что за его спиной стоял Марютин. Он перешагнул порог и, пригнувшись как бы затем, чтобы сесть на корточки, но, не садясь, заговорил нетвердо:
— Семеныч дело говорит… Вопрос сурьезный…
— Да брось трепаться! — со злобой прервал его Беки. — Какой тут вопрос? Ясно, нажиться задумали за счет прорыва. Зараза, кусошники паразитские. Беги отсюда, а то… — И, проворно подскочив к Марютину, схватил того правой рукой за ворот.
— Пусти, уйди… черт, чечмек! — забормотал Марютин, обеими руками стараясь стряхнуть руку Беки. — Я что говорю? Аманыч! Ты слышь?.. — Наконец ему удалось освободиться, вернее, Беки отпустил его, но Марютин не бросился бежать вон из будки и не стал отвечать на оскорбления, а, опустившись на корточки, заговорил довольно мирно, обращаясь к сменщику: — Аманыч, ты как? Я человек неспорный, ты мне сразу скажи… Собираться, что ли?
Но тут и говорить было нечего: Чары Аманов уже собрался, был в меховой шапке, в рукавицах, в брезентовом длинном плаще с капюшоном, надетом поверх ватника. В руке он держал хурджун — небольшую сумку, из которой торчало горлышко медного чайника.
— Пошли, Демидыч, — тихо сказал он и, не глядя ни на кого, вышел из будки.
Марютин встал и вышел за ним.
Бульдозер Сапарова грохотал, выбираясь из забоя. Один за другим ребята выходили на волю, где дул ледяной ветер и тяжелый зимний песок летел с шипением.
К ребятам подбежала Марина:
— Эй, вы! Знаете, Семеныч ехать отказывается.
— Ну и черт с ним, — сказал Иван.
— С Байнуровым чего-то заспорил насчет нарядов, вот дурачок-то! Ребята, вы скажите ему…
— А чего с ним говорить?
— Пошел он куда подальше…
Байнуров стоял возле грузовика «ГАЗ—63», на котором приехал утром, а сейчас собирался везти Ивана и Беки в поселок, и кричал издали:
— Скорей, скорей!
Сменщики побежали к машине.
Бульдозер Сапарова выбрался из забоя и теперь на полном ходу шел по нижней дороге, огибающей бархан, к поселку. Марина смотрела на уходящий трактор, на сапаровского сменщика, долговязого туркмена, который, выглядывая из кабины, махал рукой в большой черной рукавице, и недоброе, тревожное чувство, близкое к смятению, охватило ее. Тревога возникла с утра, с той минуты, когда приехал Байнуров и раздалось слово «прорыв». Но то была тревога всеобщая, жутковатая и чем-то веселящая душу, как приближение грозы, а эта, возникшая сейчас, была совсем особая и по-настоящему страшная, потому что она касалась ее одной. И она испугалась. Она почувствовала свое одиночество в этой суматохе и беготне мужчин, как будто охваченных паникой. Никто не хотел ее слушать. Никто не мог понять того, что происходило между нею и Семенычем, этим чертом упрямым, ненормальным. Его упрямство делало ее бешеной. Они подрались, мгновенно вспыхнув: ей хотелось поехать с ребятами на прорыв, а он говорил — нет, не поедешь. Потому что он поругался с Байнуровым. Ну и что ж? Не ее ума дело. Ее дело молчать в тряпочку, потому что она еще не машинист, а сопля голландская, а рычагами двигать и обезьяну научить можно. И тогда она крикнула ему, чтобы он, жмот, подавился своими деньгами и книжками (это была неправда, она знала, что он не такой, но все говорили про него так, и он приходил в ярость, когда слышал), и он ударил ее ногой не очень сильно, но оскорбительно. Она ему покрепче, ну и он еще, и она еще, отец разнимал. Потом Нагаев с отцом ушли куда-то, а она осталась в будке и чуть не плакала от досады. Из-за чего подрались? С какой радости? Она могла бы, конечно, и не ехать с ребятами, не в том дело, а только обидно: почему всегда по его и никогда по ее?
Байнуров сел в кабину грузовика, захлопнул дверцу, а Иван и Баки уже забирались сзади, карабкаясь через скаты, в кузов.
Марина побежала к машине. Если бы она замешкалась на минуту, не кинулась к Байнурову, не остановила машину — шофер уже включил зажигание, — все могло быть иначе. Вся жизнь Марины сложилась бы, наверно, иначе.
Она забарабанила в стекло, и Байнуров открыл дверцу. Она спросила:
— Николай Мередович, вы говорили с моим? Знаете, что он не едет?
— Да, знаю, знаю, — сказал Байнуров нетерпеливо. — У меня времени нет. Вы понимаете, что значит прорыв дамбы? Понимаете, что под угрозой судьба стройки и дорога каждая минута?
Он захлопнул дверцу. Марина рванула ручку.
— Я понимаю, — сказала она, — но вы тоже поймите, что если он такой баран, такой упрямый, как чурка, вы должны ему мозги вправить…
— Некогда мне его мозгами заниматься! — закричал Байнуров. — Он, во-первых, не баран, а мелкий собственник и шкурник. Решил руки погреть! Я его давно понял! И не желаю с ним разговаривать! Один бульдозер здесь остается, пускай будет ваш. А вам что нужно?
— Мне нужно… — Лицо Марины до корней волос залилось краской и стало вдруг таким глупым, девчачьим, каким было когда-то. — Я хочу на прорыв с ребятами. Можно бульдозер взять?
Из будки вышел Нагаев и стал медленно спускаться по склону. Байнуров вылез из кабины, заговорил громко:
— Вот это правильно решили, Марютина. Это по-комсомольски. Дадим опытного сменщика…
— Куда это? Кому? — спросил Нагаев.
— Сень, ну, поедем с ребятами! Ну прошу тебя… — дрогнувшим голосом заговорила Марина. Еще пять минут назад она клялась себе, что никогда не заговорит с ним первая: так его ненавидела. А сейчас вдруг увидела, как он спускается по бархану, такой одинокий, худющий, лицо темное, ни на кого не глядит, и сердце ее сжалось. Ведь не такой же он, как думают, не такой! — Сень, неужто в тебе совести нет? Вот и отец с Аманычем в забой побежали…
— Зачем шуметь? Зачем крик подымать? — сказал Нагаев, угрюмо глядя на Марину, а остальных словно не видя. Но говорил-то он, обращаясь к остальным, а не к Марине, и чем дальше говорил, тем все более глухо ожесточался. — Ну, спросил насчет расценок — имею право. Потому что свой труд ценю. Что особенного? Я от работы сроду не бегал, хоть ночью, хоть когда. Зачем такое дело делать — криком кричать?
Он схватил Марину за локоть.
— Пошли! Нечего тут лалакать…
— Нет, Сеня, я наш бульдозер возьму.
— Не будет этого.
— Почему не будет? — крикнул Беки, прыгая через борт на землю.
За ним спрыгнул Иван. И тут же подошли откуда-то Мартын Егерс с Богаэддином.
— Сука позорная, — сказал Богаэддин, подходя вплотную к Нагаеву. — Думает, что его бульдозер! Твой бульдозер, что ли? Собственный?
— Эх, Семеныч! — сказал Егерс.
— Ребята, ребята! — крикнул Байнуров из кабины. — У нас времени нет!
— Ведь мы тебя до забоя не допустим, понял? — сказал Богаэддин. — Из кабины выкинем, понял?
Кажется, Нагаев начал понимать. Он должен был что-то ответить, но не мог заставить себя разжать зубы.
— Выкинуть его! — крикнул Беки. — Не давать ему бульдозер!
— Отнять у него бульдозер!
— Пускай в другой отряд валится. Гнать его, куркуля!
Все это кидали злобно, открыто ему в лицо. Нагаев смотрел в яростные глаза своих бывших приятелей, тех, кто уважал его, кто слушал его советы, кто занимал у него деньги, кто завидовал ему, кто пил с ним вино, и видел, что пощады не будет, и сердце его колотилось, и он знал, что надо повиниться, упасть, унизить себя, крикнуть отчаянно: «Братцы, да я хоть сейчас готов! Не нужны мне деньги! Что ж я, сволочь, не понимаю, какое дело? Ну болтанул по глупости, по жадности, простить-то можно?..» Но вместо этого, что было правдой, что он действительно кричал, раздирая легкие, но беззвучно, но так, что никто не слышал, вместо этого он процедил побелевшими губами:
— Если кто к машине подойдет, убью.
И, отпихнув плечом Богаэддина, пошел к забою. Но Богаэддин догнал его, и на пути его встал Иван Бринько, а здоровенный латыш приставил ладонь к его груди и сказал:
— Стоп.
Нагаев оглядел всех троих, увидел подбегающую Марину, усмехнулся:
— Проститутки, все на одного…
Марина схватила его за правую руку. Боялась, что начнет драться. Он оттолкнул ее.
— Ну, все! — сказал Богаэддин. — До забоя тебя не допускаем!
— А леший с вами! — Нагаев повернулся и быстро, размахивая руками, побежал к своей будке. Поднявшись на несколько шагов, крикнул: — Иди вон вещи укладывай! Сегодня расчет берем!
— Ой, дурак, ой, дурак… — плачущим голосом сказала Марина и закрыла ладонями глаза.
Так простился со стройкой Семен Нагаев. Он уехал через полтора часа на попутной машине, которая мчалась из Маров, везя на прорыв какое-то начальство. На бывшем нагаевском бульдозере уехали Иван Бринько с Беки Эсеновым — Нагаев обогнал их по дороге, — а Марина тряслась в кабине грузовика «ГАЗ—63», рядом с Байнуровым, и, отвернувшись, смотрела в окно на темные холмы песка, темные кустики, убегающие назад, и слезы душили ее, она вытирала ладонями щеки, и жизнь казалась ей искалеченной, разбитой навсегда.
Ермасова в тресте не было. Я побежал к нему домой. Он собирался на аэродром, а оттуда на трассу, вертолетом. Мария Никитична, его жена, черноглазая, худенькая старушка с восковыми ручками, со слабым голосом, чем-то очень больная, — я познакомился с нею вчера и пил чай с абрикосовым вареньем ее приготовления — смятенно, по-старушечьи спотыкаясь, носилась по комнате в поисках чего-то. На полу стоял раскрытый саквояж. Ермасов тоже что-то искал в своем столе, чертыхался, выбрасывал из ящиков бумагу.
Оказывается, пропало лекарство, которое нужно в дороге. Мне дали рецепт, я побежал в аптеку.
Вчера мы сидели со стариком до двух ночи, он рассказывал свою жизнь. Не знаю, чем я его пронял. Над ним, он сказал, всю жизнь бушевали грозы, но молнии его щадили, и поэтому он считает себя счастливым. Он был на войне и уцелел. Врачи обрекли его на смерть, но он выжил.
Я спросил, не встречался ли ему на тех, довоенных стройках, такой Корышев, Андрей Александрович? Инженер-строитель, строил мосты. Нет, такого не помнит. Не встречал.
Ни с кем я тут не делился, не откровенничал и вообще не люблю говорить об этом — так же, как ашхабадцы о землетрясении, — и вдруг с этим стариком, которого вижу второй раз в жизни, меня разобрало. Я стал рассказывать об отце, о своей жизни без него и без матери, о том, как я воспитывался у тетки и это было несладко, но все же лучше, чем детский дом, о том, как мытарился после университета. Маленькая старушка смотрела на меня печальными черными глазами и едва заметно покачивала головой. Она не говорила ни слова, только пододвигала ко мне то блюдечко с вареньем, то пирожки, начиненные тем же самым вареньем. Я видел, что старик немного томится моим рассказом. Все это было ему знакомо до боли и не очень интересно. Кроме того, он любил говорить сам. Но я не мог остановиться. Я как будто пьянел от этого абрикосового варенья.
Он спросил:
— Ты член партии?
Я не был членом партии.
— Это неправильно, — сказал он. — Ты должен быть коммунистом. Тем более, что и твой отец был коммунистом.
Я сказал: да, верно. Но раньше, до реабилитации отца, меня, наверное, не приняли бы в партию, а сейчас пока совестно подавать: я ничего не добился. Но я еще добьюсь чего-нибудь, например, напишу книгу о пустыне.
И тогда он сказал, что если нет дела, которое любишь, которое больше тебя, больше твоих радостей, больше твоих несчастий, тогда нет смысла жить.
— Возьми хоть нашу стройку, — сказал он, — сколько мы ругаемся, спорим, топчем друг друга, обижаем смертельно! И сколько вокруг мелких страстишек, сколько несправедливостей мы терпим и сами творим, и ошибаемся, и черт еще знает что, но канал строится, и вода идет на запад, пускай медленно, тихо, но идет, идет! Несмотря ни на что. И вот для этого — для того, чтобы шла вода, — надо жить.
Так он говорил, ухмыляясь своим большим ртом, а глаза глядели проницательно, глубоко. Мне виделась его жизнь: пустая квартира в Москве, где фикусы, пыль в диване, давно не натиравшийся паркет, и живет какой-нибудь племянник, студент Бауманского училища, который приходит только ночевать и завтракает на кухне, где кисло пахнут бутылки из-под кефира и повсюду натыканы окурки и обгорелые спички. Я увидел взрослых детей: они шлют телеграммы. Я увидел старость. И я увидел дело, огромное, гораздо больше старости, больше разлук, и болезней, и всего остального, что приходится испытать человеку. Вот что я увидел вчера, внезапно, в тесной комнате, где стояли две кровати и круглый стол, покрытый клеенкой, и на стене висела фотография каких-то детей, двух мальчиков и девочки с большими ртами.
А сейчас я с ними прощался. Он сидел в кабине, держа саквояж на коленях, и смотрел на жену, все время пристально смотрел на жену, пока машина не тронулась, а меня как будто не замечал. Меня он как будто немного позабыл со вчерашнего дня.
25
На двести восемнадцатом перемычка не удалась: быстроток сносил грунт, который сбрасывали бульдозеры. Не помог и отвод воды в лощину. К вечеру выбрали новое место для атаки, на четыре километра выше. Бульдозеры шли, выстроившись двумя колоннами — одна навстречу другой, — и непрерывно швыряли под откос горы песка.
Стремительно текла ночь. Люди не замечали ни мороза, ни звезд. Они не слышали друг друга, оглохнув от железного грома. Они сидели в кабинах, цепенея от однообразных движений, от яростного желания делать все то же самое, что они делали каждый день, но только гораздо лучше, во много раз быстрее. Они сидели в кабинах до состояния мертвецкой усталости, потом выпрыгивали на морозный песок, садились, вытягивали ноги или даже ложились, и от их лиц и рук, когда они сдергивали рукавицы, валил пар, и сменщики сразу же вскакивали на их места в кабины бульдозеров, а они, мертвецки уставшие, посидев немного на песке, вставали и шли в палатку, где давали горячую еду и по стопке коньяку. Коньяк давали через каждые три часа. Его пили все бульдозеристы, даже Марина, один Мартын Егерс отказывался. Но люди пьянели не от коньяка — что там одна стопка! — а от лютого напряжения.
И те, кто сидел на рычагах, и инженеры, наблюдавшие за борьбой, не смыкавшие глаз вторые сутки, знали, что решается в эти часы. Об этом не стоило говорить. И они не говорили. Они не заглядывали вперед, не старались представить себе даже на минуту, что произойдет, если вырвавшийся поток не будет остановлен в ближайшие два дня, не задумывались над тем, чем это кончится для стройки и для каждого из них лично. Они видели только черную, как руда, лавину воды, которая неслась, кипя, крутя воронки, вздыбливаясь от непомерного количества песка, которое ей впихивали, кидали в жадную пасть, мчащуюся, ненасытную пасть, и она надувалась, и бурлила, и пожирала бесследно, пожирала до последней крупицы, пожирала мгновенно, и могла пожрать еще столько же и гораздо больше того, и неслась дальше, пожирая.
Бульдозеристы выводили машины на самый край откоса, чтобы как можно скорей и полней сваливать с ножа грунт. В ночи, освещенной движущимся светом фар, когда все металось перед глазами, все было зыбко, нетвердо, все делалось на отчаянной скорости, повинуясь не столько опыту, сколько интуиции и какому-то дикому, бесшабашному азарту, — казалось почти чудом то, что бульдозеры удерживаются на краю откоса и не валятся вниз.
Ниязов и Гохберг работали наравне с машинистами, подменяя уставших. Карабаша томил жар, он чувствовал, что с ним неладно, но, как все люди, редко болеющие, не прислушивался к себе и только вдруг удивлялся, когда ощущал внезапную слабость или головокружение. Почти всю ночь он провел на ногах, рядом с Ермасовым. То они сидели в палатке, то мчались к месту прорыва, потом возвращались на двести восемнадцатый, но больше всего часов провели на откосе возле того места, где сыпалась перемычка.
Ермасов не говорил ни о чем, что не касалось бы ближайшего дела. Лишь однажды он сказал Карабашу тихо, усмехаясь как-то странно, секретно:
— А знаете, дорогой начальник конторы, что нынче решается наша с вами судьба?
Карабаш знал это, но посмотрел на Ермасова удивленно. Тот продолжал так же тихо:
— И почему я это заключил — знаете? Потому, что никто сюда не едет: ни замначальника управления, ни Хорев, ни товарищи из технадзора. Они ждут, чем кончится дело.
В середине ночи приехал Алимов с корреспондентом ашхабадской газеты.
Я спрыгиваю на землю, тракторный грохот окружает меня. Какие-то люди бегут навстречу. Алимов с ними здоровается. В потемках никого не могу узнать и меня не узнает никто. Потом я вижу Карабаша, он закутан до подбородка шарфом, меховой треух низко надвинут на глаза. Карабаш пожимает мою руку, не снимая рукавицы, и тут же куда-то исчезает вместе с Алимовым.
Вот они спешат к палатке. Я слышу голос Алимова:
— Текст был такой: прорыв дамбы на озере, как результат нарушения утвержденного проекта…
— Куда телеграмма? — спрашивает голос Ермасова.
— В управление и в ЦК партии республики.
— И что дальше?
— Дальше прогноз: на ликвидацию прорыва уйдет не меньше двенадцати дней…
— Вот как пугают, черти! Ну, это поглядим!
В палатке я нахожу свободный ящик и сажусь. Посредине на таком же ящике стоит керосиновая лампа. Всем дают чай. Мне тоже дают жестяную кружку, которая почему-то пахнет одеколоном. Я пью чай и думаю о Денисе. Шофер грузовика, на котором мы ехали с Алимовым, рассказал о его гибели. Это страшная новость, и мне так горько от нее, так мучительно грустно. Ну что мне Денис? Не родственник и не друг, просто я сочувствовал его неясной судьбе — чего он, собственно, хотел от жизни? — и вдруг такой конец. Такой торжественный и такой нелепый. Как грустно! Он как будто захотел освободить всех от себя. Всех, кому он мешал, кого пугал своим прошлым, кого раздражал своей мутностью — тем, что он не такой прозрачный, как другие.
И вот он показал, что там было, под мутностью. Мне вспомнились его слова: «Нельзя судить людей по их поступкам». Но я буду судить о нем только так.
Люди в палатке произносят слова с панической быстротой. Я вижу, что им не до меня. О Денисе они тоже забыли. Им ни до кого, и даже не до себя. Прорыв произошел в результате того, что не учли разгона волны на озере, где в это время года, в январе, дуют сильные юго-западные ветры. Окольцовочная дамба закладывалась с чересчур крутыми откосами — как того требовал проект, — поэтому быстро разрушилась от ударов волн. Надо было закладывать гораздо более пологие откосы. Вот что я успеваю понять из разговоров.
Кстати, и войну против бульдозеров проектировщики вели под тем флагом, что бульдозерам не под силу выбирать столь крутые откосы. Но теперь они используют прорыв в своих целях, если его не ликвидировать в фантастически короткий срок. Теперь все зависит от машинистов, от этих ребят в черных промасленных комбинезонах, которые входят в палатку, шатаясь от усталости.
Вот вваливается мужчина здоровенного роста, с широким, темным от багрового румянца лицом и начинает на что-то жаловаться Карабашу. Голос у него тонкий, бабий, и говорит он со странным акцентом. Он почему-то требует бутылку коньяку. Оказывается, бульдозеристам через каждые два-три часа дают по стопке, а этот здоровяк выдерживал характер и теперь желает получить бутылку целиком.
Карабаш выходит вместе с ним из палатки. И вскоре все выходят из палатки, и я тоже, и мы идем в сторону воды, где грохочут бульдозеры и блуждают огни фар.
Через короткое время я начинаю разбираться в ночной суматохе: мне становится понятно, куда идут бульдозеры, чего хочет вода и чего добиваются люди. Бульдозеры с двух сторон сдавливают горловину потока. Перемычка возводится очень узкая — в два ножа. Вперед тракторы идут на первой передаче, назад — задним ходом на третьей. И скорость у них довольно большая, примерно, я думаю, десять — двенадцать километров. Тут нужна смелость! Главное, что ночь, ни черта не видно, фары мотаются и создают какое-то судорожное световое мелькание. Бульдозеристы, подходя к костру, трут ладонями шеи. Ну да, шею ломит еще больше, чем руки и ноги: все время оглядываются, крутят головой. Когда-то подростком, в первый год войны, я научился в колхозе работать на тракторе. И меня вдруг охватывает желание сесть на бульдозер, ворваться в этот поток работы, в его суть, в его накал, объединяющий всех людей и все движение этой ночи. Но я не смогу работать на такой скорости. И, наверное, я все забыл.
— Степан Иванович, — говорю я, — мне хочется что-то делать. Что мне делать?
Он не слышит. Мы стоим чересчур близко от бульдозеров. Один бульдозер разворачивается в трех шагах от нас, я вижу в кабине женщину-машиниста; молодое, застывшее в напряжении лицо.
Ермасов не может понять, чего я от него хочу. Он морщится нетерпеливо и с неудовольствием. Наконец он понял и говорит, чтобы я шел к палатке.
Возле палатки, где кухня, хозяйничает коротконогий, пожилой мужичонка, Терентий Фомич. Он руководит костром, едой, отпускает коньяк по мерке, следит за тем, чтобы ребятам после смены — кому надо поспать — было место в палатке.
Он дает мне топор и посылает в саксаульник за дровами. Это недалеко от палатки, за барханом, но свет туда не достигает, и я работаю на ощупь. Саксаул — невыносимо крепкое дерево, а на морозе он превращается в совершенное железо. Рубить его в темноте чертовски трудно. Наконец, бросив топор, начинаю ломать сучья руками. Проходит полчаса, пока мне удается набрать охапку дров, и я бегу с нею, роняя по дороге ветки, из тьмы и одиночества — на свет, к костру.
Возле огня стоят, греясь, несколько человек. Я узнаю женщину, которую видел в кабине бульдозера: она полная, широкая в бедрах и кажется еще шире от грузных брезентовых штанов, а лицо совсем молоденькое, курносое, довольно миловидное, но очень усталое. Она вдруг легко, точно падая, опускается на песок. Двое мужчин наклоняются к ней. Терентий Фомич дает ей кружку с водой, и она пьет, сидя на песке. Потом ее поднимают под руки и ведут в палатку. Ей сделалось плохо. Она что-то говорит, качая головой. Нет, она не хочет, чтобы ее вели под руки, и отталкивает своих сопровождающих — это два туркменских парня в черных меховых шапках, — и сама проходит в палатку и ложится.
Через некоторое время я захожу туда и вижу, что она спит, накрывшись кошмой. Лицо ее серо, сухой, обожженный ветром рот некрасиво, одним боком, открыт. Она мне кажется измученной матерью пятерых детей.
— Ай, господи, мужики-то с копыт валятся… — бормочет Терентий Фомич. Он кидает мне пустые ведра.
Я бегу за водой. Ермасов нисколько не удивляется, когда я пробегаю мимо него с ведрами. Кажется, он принимает меня за кого-то другого. Жажда участия в общем деле переполняет меня. Я еще несколько раз бегаю за дровами, приношу воду, потом Терентий Фомич исчезает надолго — едет куда-то за горючим, — и я один заведую костром, согреваю чай, открываю ножом консервные банки и всячески суечусь. Меня уже все знают, ко мне привыкли. Обращаются ко мне так: «Эй, але!» И я тоже постепенно всех узнаю. Тут работают бульдозеристы из отряда имени Бяшима Мурадова — того парня, которого убили в ауле.
Я им рассказываю, как ехал в грузовике с тестем Бяшима, и как потом ловили убийцу, и как происходили похороны, и как читали вслух телеграмму от строителей канала… Каждый новый человек, подходящий к костру, просит рассказать все снова, и я рассказываю. Они любили этого парня. И получилось, будто я тоже знал его, и любил, и привез последний привет от него.
Так проходит остаток ночи. На рассвете Карабаш и Ермасов садятся возле костра на землю, и по тому, как они просят чай и разговаривают о погоде, о том, что небо очистилось и будет солнечный день, я вижу, что у них отлегло от сердца. Да, перемычка растет! Теперь это ясно. Место по рельефу выбрано правильно.
Карабаш чудовищно исхудал за последние сутки: щеки впали, глаза блестят, как у больного.
Первый успех всем прибавляет силы. Никто в эти рассветные часы не спит, и даже Марина, отдыхавшая, может быть, три часа, рвется на бульдозер и пытается вытолкнуть из кабины своего сменщика.
Но вдруг происходит событие, которое грозит свести на нет все усилия ночи. Один за другим выключаются моторы тракторов. В наступившей тишине слышу, как люди что-то кричат. Мы все, кто были у костра, бежим к перемычке: оказывается, свалился бульдозер. Вон он внизу, наполовину в воде. Машинист успел выпрыгнуть из кабины и выплыть, еще бы немного — и крышка. Долговязый туркмен стоит, дрожа от ледяной воды, весь мокрый, без шапки, хрипло дышит и озирается с диким и бессмысленным выражением.
— Где его сменщик? Где Сапаров? — кричит, мечась по берегу, какой-то молодой, заросший черной щетиной туркмен из начальников. — Сапаров брал трос!
— Дайте ему коньяку! Где горячий чай?
— Несите трос!
— Надо спасать машину!
— Надо перемычку спасать! Вода смоет весь грунт, пока будем его вытаскивать!
— Засыпать его песком! Пожертвовать им!
Все это выкрикивается наперебой, в течение нескольких секунд. Трактор уже глубоко погрузился, над поверхностью торчит одна кабина. Вода, как бы ободренная внезапным смятением людей и тем, что песчаная бомбардировка прекратилась, с удвоенной скоростью проносится мимо берега и разрывает тело перемычки, ее основание, созданное с таким трудом. Пока инженеры и машинисты лихорадочно советуются, как быть, один из рабочих начинает вдруг раздеваться. Это русый бородатый парень, его зовут Иван. Вот он уже в трусах и в рубашке, на белых ногах остались черные скрученные носки, и он бежит к откосу.
— Давай трос! — кричит он.
Ему протягивают металлический трос. Он прыгает в воду. Ныряет в ледяное нутро. Он пропал. Его не видно, его нет, его все еще нет. Его нет, наверное, уже минуту. В такой воде может быть судорога. Но вот он! Выскочил! Всклокоченная голова с разинутым ртом, хватающим воздух. Ему что-то кричат, но он не слышит. Он снова ныряет, и опять его долго нет. Трактора тоже нет. Вода поглотила его, и на том месте, где трактор исчез, кипит водоворот.
Снова выныривает всклокоченная голова и, отвечая на все вопросы с берега, мотает отрицательно: нет, нет, нет! Из толпы стоящих на берегу раздается крик:
— Ваня, я здесь! — Еще один парень раздевается и, мелькая смуглым худым телом, соскакивает с откоса и как-то неумело, боком, но решительно плюхается в воду. Это туркмен, сменщик Ивана.
Теперь они выныривают по очереди. Пока один набирает в легкие воздух, другой работает под водой с тросом. Надо зацепить трос за крюк. Наконец после шестого или седьмого ныряния это им удается. Они выбираются на берег посиневшие, на подгибающихся ногах. Их подхватывают, набрасывают на них кошмы и ведут к костру. Туркменский малый не может вымолвить ни слова, стучит зубами и таращит глаза — шутка ли для туркмена броситься в ледяную воду! — и лицо его ужасно испуганное, как у человека, который думает, что он вот-вот умрет, а Иван гудит невнятное, то ли хочет засмеяться, то ли рассказать что-то, но губы его не слушаются, и он только отдувается и встряхивает головой, и с бороды его летят брызги.
Ребятам дают коньяку и по полулитровой банке горячего чая.
— Корреспондент! Где корреспондент? — кричит Ермасов, приближаясь к костру. Как всегда, он движется стремительно, кожаное пальто распахнуто.
— Здесь, — говорю я.
— Что же вы не пишете? Не скребете пером? Вот герои наших дней. — Он треплет за волосы окоченевших ребят. — Черти, почему головы не сушите? К огню к огню! Сушить немедленно! А вы заряжайте ручку…
— Сделаем, Степан Иванович.
— А то насчет угробленной техники горазды, а вот насчет спасенной…
Он проносится дальше, в палатку.
Через четверть часа Иван и его сменщик отогреваются и готовы вновь садиться за рычаги. Сапаровский бульдозер выволочен на берег. И снова грохочут, выстроившись в колонну, бульдозеры, с шумом обрушивается песок и взбухает вода над местом будущей перемычки. И никто не замечает того, что на востоке встало желтое, как янтарь, солнце и небо в той стороне алое, а наверху, где еще мерцают две-три звезды, редеет прозрачно-зеленый сумрак. Никто не замечает чистоты и прозрачности неба, никто, кроме меня.
Еще день, и ночь, и еще один день ревут, не затихая, моторы бульдозеров и горит костер на берегу. На третью ночь перемычка воздвигнута. Вода остановилась. Теперь можно восстанавливать дамбу.
Люди, не спавшие трое суток, впервые получают удовольствие от затяжки папиросой и горячего чая. Они вспоминают о том, что кончился январь и скоро весна, и сладко вдыхают запах дыма, солярки, мазутных тряпок, горящих в костре, и подмороженных кошм, которые медленно сыреют, отогреваясь возле огня, и чудесно пахнут бараньей шерстью.
Вечером третьего дня Карабаша нашли в палатке, лежащим без движения. У него был жар. Он потерял сознание от высокой температуры. На газике Ермасова его повезли в поселок, и он не видел, как ночью, закончив перемычку, ликовали у костра бульдозеристы, и как во время этого ликования прибыли на трех машинах высокие гости из Ашхабада — один был, кажется, из управления, другой чуть ли не автор проекта Баскаков, и с ними свита человек пять, — и Ермасов иронически благодарил их: «Спасибо, товарищи, что вы так вовремя приехали! Большое спасибо за помощь! Но сейчас все у нас слава богу…»
Гости осмотрели место прорыва, разрушенную дамбу, где уже шли восстановительные работы, и перемычку и не могли скрыть своего ошеломления. Они были рады, разумеется, и все-таки ошеломлены. Им казалось, что тут работы еще дней на десять. Они прибыли спасать стройку от катастрофы, вооружившись для этой цели чрезвычайными полномочиями и программой самых крутых мер. Вплоть до смены руководства.
Все это рассказал Ермасову под секретом старик Уманский, тот самый, что возглавлял комиссию по проверке реммастерских. Я стоял рядом и слушал: старик считал, что я единомышленник Ермасова. Он шептал взволнованно:
— Степан Иванович, но каким образом удалось?..
— Народ выручил! Ребята ночей не спали.
— Подвиг, подвиг, Степан Иванович! И нам, строителям, это ясно, но чиновники, конечно, свои следствия выводят. Паника произошла громадная. И уж приказ готовился, и на ваше место подыскивали. Даже фамилию называли…
— Ну, понятно, — сказал Ермасов. — Как же без фамилии?
Но так и не спросил, какая фамилия. Приезжие покрутились около часу, Ермасов уговаривал их остаться переночевать в палатках — места много, и спальные мешки есть, — но ашхабадцы уехали в Сагамет.
В конце ночи произошло еще одно событие: заболела Марина. Сначала она лежала на кошме и тихо стонала, потом стала кричать от боли. Все сбежались в палатку. Никто не мог ей помочь, даже Ермасов, которого я впервые видел в растерянности. Мы думали, что начались роды, но отец Марины, пожилой бульдозерист, сказал, что она на четвертом месяце и это, должно быть, не роды, а преждевременное, то есть выкидыш. Успокаивая кричащую дочь, он бормотал какую-то чепуху насчет мамки-покойницы, у которой была «такая же петрушка» — повредилась через сильную работу, и ничего, обошлось. А что обошлось? Бедную девку ломало и корчило на кошме. Лицо ее стало как земля. Она совсем обезумела от боли. То она просто кричала: «А-а!», то, когда боль чуть отпускала ее, проклинала кого-то с бешеной силой.
Мы вышли из палатки и стояли возле костра, оцепенев от этих ужасающих воплей, и не знали, что делать. Ребята говорили про того парня, от которого она ждала ребенка. Говорили, что хорошо бы его, гада, сюда и пусть бы послушал.
Ермасов вдруг набросился на Гохберга:
— Кто разрешил ей сесть на бульдозер?
— Я! Я! — заросший черной щетиной Байнуров стучал себя в грудь.
— Вы что — идиот? Нечего ждать, надо везти в больницу! Доставайте машину! Где хотите!
Машин не было. На ермасовском газике увезли Карабаша, а газик самого Карабаша ушел утром в Мары: кассир поехал за деньгами. Байнуров погнал в Инче трактор и через четыре часа вернулся оттуда с машиной. Был уж светлый день, солнце стояло высоко, освещая бурые горбы барханов, дамбу, наполовину опустевший временный лагерь бульдозеристов.
Почти все бульдозеристы ушли к месту прорыва, на двести тридцатый. Ермасов уехал туда же. А я остался в палатке, где лежала Марина и было еще несколько человек: ее отец, Иван со своим сменщиком Беки, Гохберг. Марина лежала притихнув, боясь пошевелиться, ей стало немного легче. Отец, держа ее за руку, все спрашивал: «Ну как?» Марина молча едва кивала: «Лучше, лучше», — и улыбалась смутно, а в глазах ее стояли слезы. И было в ее глазах, мелких, темных и сузившихся от слез, что-то такое далекое и женское, чего мы не могли понять. Но она не плакала.
Марину посадили рядом с шофером. В кузов сели ее отец и Беки, который любил ее, и все это видели. Когда мы стояли возле костра и слушали ее крики, он вдруг сорвался и убежал куда-то. Не мог слушать, как она кричит.
Они уехали, а мы с Гохбергом кое-как умостились на тракторе Ивана и поползли на двести тридцатый. Я провел с бульдозеристами еще три дня, пока не закончили восстановление дамбы и потом вскрыли перемычку, и вода смирно потекла по руслу, как ей полагалось. Все это было при мне. И я даже два последних дня сам работал на бульдозере. Ребята сказали, что я парень ничего, «молоток», вполне могу сделать разряд и работать в отряде хотя бы на бульдозере Семена Нагаева, знаменитого «кита», которого прогнали со стройки. Он-то и был мужем Марины, хотя они жили нерасписанные.
Эту историю мне рассказали, и я записал ее подробно. Я исписывал каждый день по пятнадцать — двадцать страниц. И все мне казалось — мало, мало!
Мне пришло в голову, что я могу остаться на канале и работать в многотиражке «Каналстроевец». Искандеров твердо решил перебираться в Ашхабад и подыскивал заместителя. Я раздумывал об этом всерьез. Мне вдруг представилось, что это замечательная мысль, наилучший выход и решение всех проблем. Здесь я ощущал огромное дело, я видел его и делал.
И здесь, казалось мне, я напишу книгу о пустыне.
У нас был долгий разговор с Ермасовым в Инче, в комнате Карабаша, за несколько часов до моего отлета в Мары. Карабаш еще не оправился после болезни. У него была какая-то местная лихорадка с высокой температурой, и он лежал худой, с шафроново-желтым лицом, как китаец, и молча слушал нас. Ермасов сказал, что я не должен уходить из газеты. Зачем? Там тоже огромное дело, и свой канал, и свои прорывы, и свои хоревы и баскаковы, которых надо выворачивать, как трухлявые пни. Они крепко цепляются, у них могучие корни, но выворачивать их можно. Время идет, как вода, тихо-тихо и незаметно, но попробуй останови его! А ему, сказал он, было бы скучно жить, если бы рядом не было таких хоревых и баскаковых, которых надо выворачивать корнями наружу.
— Сейчас они поднимут шум из-за прорыва, — сказал Гохберг.
— Это как пить дать, — сказал Ермасов.
— Начнут говорить, что в результате нарушения проекта…
— А мы будем говорить свое, не в этом дело. Дело в том, чтобы подняться однажды и посмотреть сверху — и увидеть, как движется вода. Вы поняли? Как она движется, медленно, но гораздо быстрее, чем они предполагали. Вдвое быстрей того. Это самое главное — увидеть сверху…
С высоты пятисот метров, из окна почтово-пассажирского, пропахшего отработанным бензином и нещадно трещавшего самолетика, я увидел пустыню, которая раскачивала внизу свое пупырчатое серо-желтое тело. Я увидел бескрайнюю песчаную голь, старость земли, ее мертвенный облик через тысячи лет, когда мы сами, и наши предки, и все, что жило на земле и еще будет жить, превратится в этот легкий, крошащийся на ветру серо-желтый песок. Миллиарды миллиардов песчинок покроют материки, поглотят леса, города, атомные заводы, зальют собою весь наш маленький земной шар, и в каждой из этих песчинок будет заключена чья-то угасшая жизнь. Так будет, если человек сдрейфит. Если не хватит сил победить пустыню.
Пассажиры трещащего самолетика сидели спиною к окнам. Их было восемь человек. Все это были люди стройки, они летели по разным делам и думали об этих делах и, озабоченные мыслями, не смотрели в окна. Вид пустыни с высоты пятисот метров не занимал их. Одна старая туркменка, мать или жена кого-то из пассажиров, закрыла лицо платком, чтобы случайно не посмотреть вниз и не испугаться. А внизу тянулась бесконечная, в полулуньях барханов, песчаная степь, которую пересекал странный узкий рубец. Я не сразу понял, что это канал. Это был канал! Впервые я увидел, какой он в самом деле. Он был поразительно прямой и блестел под солнцем, как тонкий стальной рельс.
26
Мало кому было известно, чем занимался Нагаев эти восемь месяцев. Говорили, что он долго болтался в Марах, проводил время в ресторане «Мургаб» в окружении разной голытьбы и прихлебателей, которые норовят выпить за чужой счет, потом купил подержанную «Победу» и кто-то подбил его махнуть к чабанам за шкурками — был как раз март, период окота, — но чем это кончилось, неизвестно. Говорили, что вернулся он без шкурок и без машины и вскоре исчез из Маров надолго. Не появлялся всю весну и лето. Работал будто в России, а кто говорил — где-то на Алтае. Но факт тот, что осенью он вдруг явился в Мары, в трест, и сказал, что хочет вернуться на стройку. Он-то думал, конечно, что его примут с распростертыми объятиями, старое, мол, давно забыто, а опытные машинисты нужны позарез, потому что первую очередь завершили, амударьинская вода пришла в Мургаб, и теперь тянули вторую очередь, от Мургаба до Теджена. А ему сказали: ладно, работай, только сначала не машинистом, а слесарем в ремонтных мастерских, за восемьсот целковых в месяц. Это было обидно, но он согласился. Ему хотелось доказать, что он первым сделает на бульдозере пятьдесят тысяч кубов. И что-то еще хотелось ему доказать. Но пока он работал целый год слесарем в Захмете, и потом получил бульдозер, и пришел на Тедженский участок, тех, кому он хотел доказывать, уже не было на стройке.
27
Газик остановился на гребне между двумя барханами. Атанияз выключил мотор, и мы вышли. Впереди за зелеными увалами блеснула вода. Там были озера.
— Не будем задерживаться, ладно? — сказал Атанияз. — А то опоздаешь на самолет.
— Ладно, — сказал я. — Давай подъедем.
Мы снова сели в машину и медленно, вперевалку, поползли вниз. Под колесами трещали кусты черкеза, мялась трава, распространяя душный и горький запах. В низинке въехали в заросли тюльпанов. Все было красно от них. При заходящем солнце здесь, внизу, стоял легкий сумрак, и тюльпановое поле было темноватым, винного оттенка. Атанияз вел машину по старой, видимо прошлогодней, колее, забитой травой. Здесь давно никто не ездил. Среди красных тюльпанов попадались желтые, мелькали какие-то сиреневые и лиловые цветы, лужайками росли ромашки. Как все это густо, жадно цвело! Как яростно торопилось куда-то! И как пахло! От тюльпанов поднимался сладковатый запах, но его перебивал куда более сильный запах ромашки, и надо всем реял одуряющий лекарственный дух полыни. Пустыня навсегда останется для меня соединенной с запахом полыни.
Старая колея вошла в саксаульник. Он сильно поредел. Два с половиной года назад, в морозную ночь, я ломал тут сучья, обдирая кожу. А вот тут стояли палатки, здесь был очаг и горел костер.
Атанияз остановил машину возле дамбы и закурил, оставшись сидеть за рулем. А я выпрыгнул на землю и подошел к воде. Течение здесь было быстрое. Большая рыба бултыхнулась на середине, и по воде побежали круги. Мне вспомнилась та первая январская ночь и потом мой приезд весной, и летом, и еще раз прошлым летом, и прошлой осенью. Прошлой осенью Степан Иванович уже сдавал дела. Вторую очередь начали без него, хотя он опять наделал шуму, выдвинув какой-то встречный проект. Снова были споры, газетная дискуссия, и в конечном счете он, кажется, победил, но потом вдруг уехал на Тянь-Шань. Уехал строить гигантское водохранилище и многих забрал с собой: Гохберга, Алимова, Егерса, еще кого-то из механизаторов. Кажется, и Марина с отцом уехали. Но прежде он сделал дело, а это главное. Разъехались люди, ушли машины на запад, и остались пустынные дамбы и вода, которая журчит там, внизу, и пахнет рыбой.
— Ну что? — крикнул Атанияз. — Будем ночевать?
Он нервничал, потому что это он затеял поездку на канал, достал газик и договорился о катере, который ждал нас в Инче. Он боялся, что по его вине я опоздаю на самолет Керки — Ашхабад. Я летел в Москву, прощался с Туркменией. И не мог делать это наспех.
Но уж очень он нервничал.
— Сейчас едем, — сказал я.
— Садись. Что ж ты стоишь?
— Сейчас. Поехали. — Я сел в машину и захлопнул дверцу. — Это было так недавно, и вот уже все кончилось. Канал построен. И я издал книжку очерков. И даже снят фильм об этом канале, где, кстати, играет одна наша знакомая. Помнишь такую, Катю? Все самое невероятное случилось.
— И даже то, что ты уезжаешь, — сказал Атанияз. — Я думал, что ты не уедешь.
— Я сам так думал, — сказал я.
Становилось темно, мы ехали навстречу мгле, из которой слабо, едва побеждая эту мглу, выблескивали первые звезды. Барханы уже налились чернотой. По каналу протарахтела моторная лодка, потом мы обогнали большую самоходную баржу: в домике на корме горел свет. Атанияз включил фары.
— И все-таки твой Карабаш важничает, — сказал Атанияз.
— Почему?
— Важничает, важничает! Отпустил бороду зачем-то. Валерия тоже изменилась, что-то в ней стало такое домашнее, самодовольное, — мне было вчера скучно, ей-богу.
— Не знаю. А мне нет, — сказал я.
Вчера мы были у них в гостях, в той самой комнате на окраине Маров, где когда-то жил Степан Иванович. Они купили недавно радиолу «Люкс», и Лерин сынишка весь вечер крутил ее, ставил пластинки, и мы даже танцевали. Нет, мне не было скучно. Просто возникло какое-то томящее чувство надежды и желание заглянуть вдаль.
Так бывает, когда расстаешься надолго, навсегда, и впереди маячит новая жизнь, а старая остается как бы за стеклянной дверью: люди двигаются, разговаривают, но их уже почти не слышно.
1959—1962

![Мелодия на два голоса [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/502180/primary-medium.jpg)

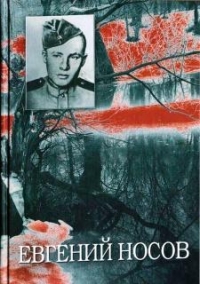
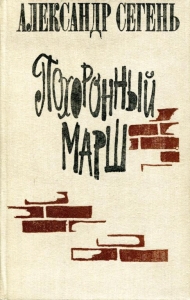
Комментарии к книге «Утоление жажды», Юрий Валентинович Трифонов
Всего 0 комментариев