Женя Журавина
Жизнь началась
В конце августа 1940 года рано утром из Владивостока вышел большой грузопассажирский пароход. Солнце только что вышло из-за сопок и щедро рассыпало свои лучи, отражаясь в окнах многоярусного города. Когда же пароход повернул в пролив Босфор Восточный, они брызнули в глаза пассажирам, усеявшим палубы; все встрепенулось и повеселело.
С неба и от воды, споривших своей синевою, струился бодрящий холодок; начинался широкий солнечный день, какими так богаты конец лета и осень в Приморье. На небе с утра до вечера — ни облачка, ни пушинки; над землей — ни ветерка, ни шороха.
На нивах дозревали хлеба; на лугах сединой паутины покрывалась отава; буйной зеленью дышали леса; только кое-где можно было разглядеть пожелтевшую ветку, но она, как случайный поседевший волос, терялась в густой листве приморской тайги с ее дубами и кленами, ясенем, грецким орехом, пышной аралией, бархатным деревом... А высоко в горах, на каменных осыпях и перевалах, начиналась осень. Там уже пылали осенним пожаром рощицы лиственниц, каменноберезников, мягкие метелки держикорня. Оттуда, с гор, осень спускается в долины, из долин выходит на поля, располагается вокруг городов и поселков.
Среди пассажиров была группа молодежи, вчерашних студентов, учителей, ехавших к месту работы.
Жители центральных районов страны, никогда не видевшие моря, они вдруг очутились на краю своей необъятной родины и жадно вглядывались в морскую ширь, очертания берегов, тонкие линии Сихотэ-Алиня.
Мир был воистину прекрасен, и, пожалуй, не было на палубе человека, которому бы не хотелось подняться повыше и заглянуть: а что же там, за горизонтом?
— Ну вот просто не верится, что я здесь, еду по морю, а рядом Япония, — сказала девушка, казалось подросток, меньше всего походившая на представителя своей профессии, — тоненькая, с копной черных подстриженных волос, девчонка-непоседа с большими, открытыми и как бы спрашивающими глазами.
Она уже успела побывать на капитанском мостике, узнала, что у капитана трое детей, старшую зовут Галей; познакомилась с детьми офицера, ехавшего на север, — мальчиком и девочкой шести и восьми лет, — и те гонялись за ней по палубе и не хотели идти к родителям.
— Просто не верится, — продолжала она. — Вчера «садок вишневый коло хаты», а сегодня море.
Она качнулась слева направо, точно ожидала, что и пароход качнется, как лодка, и все почувствуют под собою морскую пучину.
Девушка — товарищи звали ее Женей — нравилась всем, как нравится веселый счастливый ребенок. Женя была вся на виду, и все знали, кто ей больше всех нравится. Это был Сергей Колесов, юноша лет двадцати трех, ехавший, как и она, к месту работы.
— Вот, друзья, и приехали, — говорил он, обнимая стоявших рядом географа, своего ровесника, на вид грубоватого парня, и белокурую девушку, подругу Жени. — Десять тысяч отмахали и нигде не отдыхали...
Девушка сбросила его руку со своих плеч, да и географ почувствовал какую-то неловкость, точно в глаз попала соринка.
— Ну и силища — наша земля, — продолжал Колесов, ни к кому не обращаясь. — Я бы не прожил и недели в какой-нибудь Бельгии. Только в нашей стране может родиться подлинно великое!..
— Сережка, опять лекция — вмешалась Женя. — А меня папа учил: «Доказывай, дочка, делами. Слова — шелуха, а дела — зерна!» Вот он какой у меня!.. Ребята, давайте лучше споем...
Но запеть молодежи не пришлось: откуда-то, точно со дна моря, вынырнул гармонист, взял два-три аккорда, и перед ним расступились.
Удивительный народ гармонисты: они всегда оказываются там, где необходимы. Женя в один миг организовала круг и потащила Колесова на середину.
— Нашего, украинского!
Колесов оказался плохим танцором, и Женя, вытолкнув его из крута, стала танцевать одна, дразня окружающих.
— А ну, принимай, дочка! — сказал пожилой мужчина, поплевал на ладони, хлопнул по голенищам и пошел вприсядку, а вокруг юлой кружилась Женя с платочком в правой руке, подбоченясь.
Танцующих обступили; на смену пожилому выступил красноармеец.
— Ну девчонка! — сказал старый рыбак Матвей Сурнин. — Бес в ней сидит — не иначе. И чему такая научит? Бывало, идет учитель — человек степенный, взгляд суровый. Посмотрит — рублем подарит.
— Веселость — делу не помеха, а бывает — и подмога, — отозвался собеседник. — Учитель, я так понимаю, должен идти с лицом открытым... Хмурость нам не ко двору. Конечно, характер должен иметь. Без характера — какой он воспитатель.
— Про что ж и говорю! Первое дело — основательность в человеке. Ребенок — он как горох на гряде: что подвернулось, за то и цепляется. Ему нужна опора. А какая опора в такой пигалице. Ногами выписывает, а что у ней в голове?
* * *
На море — не как на суше — скука длиннее, а радость короче. Здесь не бегут на встречу ни с рощами пригорки, ни с речками поселки — холодная синь да темная глубь. А волны идут и идут — не переждать, не сосчитать. Кого оставили, кого догоняют — поди спроси! Не скажут, не ответят. И молодежь быстро угомонилась, сгрудилась на корме в плотный кружок; кто присел, кто прислонился к соседу.
Начиналась новая самостоятельная жизнь, пути расходились; а куда приведут и что ожидает там, в конце пути? Годы учения, забот и опеки родителей, контроля педагогов — все это позади; теперь будут сами определять свои поступки и сами за них отвечать. Единственным учителем становится жизнь, собственный опыт, а это наставник строгий, переэкзаменовок не дает и на второй год не оставляет.
Было их в группе пять человек, и все разные: три девушки, окончившие педучилище, дети рабочих, все из одного поселка Смоленской области; а юноши Колесов и Гребнев из Смоленска, окончили Московский пединститут, дети педагогов, Гребнев — сын учительницы начальных классов, Колесов — сын директора школы.
Девушки не походили друг на друга, а скорее дополняли одна другую. Женя была порохом, душой всякого начинания; Соня Свиридова — труженицей, прозаиком и практиком, — она без всякой просьбы подруг выполняла за них всю работу, когда они жили в общежитии: мыла полы, посуду, стирала белье; Катя Крупенина, мечтательница и ленивица, казалась беспомощным существом, которая без своих подружек не могла ни на что решиться. В то же время в ней было что-то обезоруживающее: удивительная мягкость, застенчивость и задушевность. Это был ребенок, которого никто не мог обидеть; наоборот, всякому хотелось сделать для нее что-нибудь приятное.
Женя первая нарушила молчание:
— Ребята, а в поезде интересней, правда? Море устроено не так. Я бы вот тут справа поставила островок с домиком, а слева — пусть бы тянулся берег, но только ближе, и все бы дома, дома, окнами на восток, и все бы люди, люди, лодки, пароходы, трамваи...
— Согласны, Женечка! Переделывай! — отозвался Колесов. — Какая-то синица, как утверждает Крылов, хотела море сжечь, а переделать — пара пустяков.
— Ох ты!.. Я синица, а какая птица ты? Я на деле докажу, что я ничего не боюсь, а ты боишься. Ты хотел остаться в городе, а мне — куда угодно.
— В городе легче заниматься наукой: библиотеки, институты, клубы, театр. Это много значит!
— Когда я получил назначение в Приморье, — сказал Гребнев, — побежал в библиотеку. Там мне предложили томик Арсеньева. Вот кто любил этот край! Без любви так не напишешь. В каникулы пойду по его следам. На целое лето. Здесь еще можно сделать множество открытий.
— Теперь вы не узнаете тех мест — край изменил свое лицо, — заметил я. (Я ехал проверять школы Ольгинского района).
— Товарищ инспектор, а вы давно живете в этом крае? — спросила Женя.
— Да уже лет двадцать.
— Ого! А мне-то всего восемнадцать! — сказала она с притворной грустью. — И вы ни разу отсюда не убегали?
— Я этот край ни на какой другой не променяю.
— А что у вас хорошего? Цветов нет, птицы не поют, леса угрюмые, реки сердитые, а люди, как сычи: отвечают тебе, точно через забор, — канючила Женя. — Посмотрели бы вы у нас! У нас все ласковое: и лес, и река, и поле, и... моя мама...
Патриот Приморья, я хотел рассказать, как много здесь и цветов, и птиц, как стремительны реки, буйны и веселы леса, как много душевных людей, но меня перебил Гребнев.
— Главное — это климат!
— Помешался на климате! — сказал Колесов.
— Ты — литератор, что ты в климате понимаешь! Ты скажи мне, сколько здесь тепла и влаги, и я тебе скажу все остальное. География — как часы: все одно с другим связано; а главная пружина — климат.
— А мне климат нипочем, потому что на душе у меня жарко, — не унималась Женя. — Когда я уезжала, мама говорила: «Замерзнешь там, как пичужка! Ну кто тебя там такую слушать будет? Куры заклюют». А я ей: «Не беспокойся! Сама всех заклюю! Раз меня поставили, все обязаны слушаться...» И никакого климата я не боюсь. Везде же люди... Ну, один не признает Женьку, другой признает и поможет. Вообще, все хороши и все хорошо, а Женька — лучше всех. Ведь я никому не желаю зла и хочу, чтобы все и всем было хорошо. Скажите, что еще надо?
— О, много, Женечка, много. Представь себе, что твое «хорошо» вот ему кажется плохим, что он хочет совсем другого.
— Ничего, Сережка, подобного! Хорошо то, что хорошо всем. И с правдой надо шагать в ногу. Мой папа так и учил: «Шагай в ногу с правдой — не оступишься. Она поддержит...»
* * *
Второго сентября пароход вошел в бухту Ольга. Бухта — уютный дворик, — казалось, сама заманила пассажиров. Таких, как она, на побережье раз-два и обчелся: спокойная стоянка, высокие гористые берега; ни волнам, ни ветрам доступа сюда не было; бухта, как домовитая хозяйка, сама приглашала сойти на берег.
— Ну вот и приехали! — сказал Колесов. — Располагайтесь, ребята, по-домашнему, всерьез и надолго. А тут недурно. Жаль, от города далеко. Без театра я не могу...
— Уже приехали?! — удивилась Женя. — А я бы все ехала и ехала. Ну, ничего! Пора за работу. Я уже засучила рукава.
На пристань встретить свое пополнение вышел завроно, добродушный украинец, а за вещами прислал машину.
— Добро пожаловать! Заждались мы вас. Вчера школы приступили к занятиям...
Когда приезжие расположились в общежитии и привели себя в порядок, он пригласил их в столовую и во время обеда обратился с коротенькой речью:
— Дорогие товарищи, вас уже ждут ваши ученики. Вы выходите на ниву народного просвещения, знайте, что и на этой ниве — что посеешь, то и пожнешь: посеешь знания и вырастут знания, а прибавишь к знаниям любовь, любовь и соберешь. В нашем деле — как аукнется, так и откликнется. Возможно, что на первых порах у вас будут ошибки, но ваше горячее комсомольское сердце их перекроет: где не возьмете опытом, возьмете жаром души. А жар души для учителя дороже опыта. Надеюсь, что наш край и наш район вам понравятся...
Когда завроно сделал паузу, Гребнев спросил:
— А скажите, товарищ заведующий, какой здесь климат?
— Разрешите, я отвечу, — поднялся Колесов.
— Пожалуйста.
— Здесь такой климат, какая у тебя на душе погода. Заверяем вас, товарищ завроно, погода у нас на душе отличная, и с любым климатом мы справимся...
— Вот и замечательно. После обеда — прошу в роно за назначением.
Завроно ушел. В столовой поднялся шум: все накинулись на географа.
— Твой климат — это ложка дегтя. Ты испортил нам бочку меда.
— А почему не спросить? — недоумевал Гребнев. — От климата все зависит...
— Не от климата — от человека. Папанину на полюсе было жарко, а иной в Крыму мерзнет.
— Брось ты, Колесов, свое краснобайство. Я ведь знаю, какое тебе напутствие сделала мамочка! «Плохо будет — приезжай назад!» И ты выразил полное согласие...
— Правда, Колесов? — спросила Женя.
Колесов замялся. Женя, выждав минутку, встала из-за стола и выбежала из помещения.
Назначение молодых учителей — нелегкое дело. Сначала все просили послать их в одну школу. Когда же выяснилось, что это невозможно, Гребнев стал просить послать его в рыбацкий поселок, ближе к морю;. Колесов — оставить его в районном центре, так как увлекается клубной работой; девушки, Свиридова и Крупенина, сидели обнявшись и «ни за что не хотели разлучаться».
— Вам, товарищ Журавина, придется в поселок Прибрежный. Там прекрасный директор...
Жени не оказалось, и Колесов побежал разыскивать. Сначала он заглянул в общежитие, а затем пробежал по улице.
— Ребята, вы не видали, не проходила тут девушка, такая... быстрая? — обратился он к малышам, игравшим, надо полагать, в сенозаготовки: телегой служила старая калоша.
— Она побежала в лес, по этой дорожке, — ответил один из малышей.
Узкая дорожка поднималась в гору, обходила старые пни, серые замшелые камни, перескакивала через толстые, выпиравшие из земли корни, давно упавшие и догнивающие деревья, иногда ее пересекали втоптанные в грязь ручейки. В лесу стояла звонкая настороженная тишина.
Колесов то и дело останавливался и прислушивался, и, странное дело, в душе росло спокойное очарование. И долгая дорога позади и предстоящая работа казались совсем незначительными, значительнее были вот эта лесная торжественность и тишина.
— Женя! Ау! — позвал Колесов.
Ответа не последовало. Даже эхо откликнулось как-то глухо и неохотно.
Стоял сентябрь — чудесный месяц в Приморском крае. Синее, легкое, глубокое небо одним своим краем опускалось в море, другим опиралось на дальние горные хребты. Воздух был чист и прозрачен, точно и вовсе его не было, и даже на самых отдаленных вершинах можно было разглядеть шагающие по склонам деревья. В лесу царил завороженный покой — царство древней сказки, только кое-где булькали сбегавшие с гор ручейки или робко давал о себе знать падающий листок. Но в полдень, когда солнце обрушивало на землю свой золотой ливень, навстречу ему поднималась знойная песня земли, и тогда казалось, что торжеству жизни не будет конца; вся поднебесная ширь заполнялась стрекотом, цирканьем, звоном и гудом, сверканием крылышек миллионов крошечных существ. Иногда к самому уху доносил свою озабоченную песенку комар; иногда, словно потерявший дорогу, над головой кружил запоздавший шмель. А в ту минуту, когда солнце клонилось на запад и косые лучи зажигали золотые и багряные листья кленов, ясеней, дикого винограда и пышный ковер папоротников, лес казался раззолоченным дворцом, царством еще не рассказанных легенд.
— Женя! Ау! — крикнул Колесов.
— Ау! — совсем близко отозвалась девушка.
Она стояла недалеко от дорожки, прислонившись к стволу огромной пихты, и смотрела вниз, в долину, где теперь роскошествовало солнце.
— Сережка, посмотри, какая тут красота! Никогда ничего подобного не видела! Говорят: тайга, тайга! А тут никакая не тайга, один праздник — и больше ничего! Я думала: тайга — значит сумрачно, за каждым деревом медведь. А тут одна красота! И сколько солнца!
— Ах, Женька, Женька — пустая головушка! Люди получают назначения, выбирают места, а она — в лес.
— А ты ответь: правду говорил Гребнев, что ты, если будет трудно, вернешься?
— Ну, а ты скажи: кто себе враг? Ты разве не вернешься, если будет плохо?
— Сережка, ну, кто ж нам сделает все хорошо, ежели не мы сами? Мне папа так и говорил: «Счастье на серебряном блюде не разносят!» А я домой поеду только тогда, когда здесь будет хорошо. А что мне мать говорила: «От меня уходишь — так тому и быть; от людей не уходи. Ближе к людям — ближе к правде». Понятно это тебе? Ты думаешь, если я тебя люблю, то... А мне просто тебя жалко. Без меня ты пропадешь. Тебя, как дошкольника, еще надо таскать к рукомойнику... Марш назад — не хочу тебя видеть!
— Женечка! Все сразу! Объяснение, ссора! Ну, посмотри в глаза! Разве не люблю?
— Марш! Не прикасайся!
Они посмотрели друг другу в глаза, и слова оказались лишними. Женя уткнулась лицом в грудь Сергея Колесова, он стал разглаживать ее беспокойные кудри.
— Ты погляди вокруг! — сказал он Жене. — Мы с тобой словно в храме или во дворце. Когда я шел сюда, я вспомнил поэму «Песнь о Гайавате», об индейцах Северной Америки. Вот послушай.
Когда они пришли к роно, Колесов уже был назначен в Крутояровскую, Гребнев и Крупенина — в Боровскую школу, Женя — в поселок Прибрежный и Соня Свиридова — в Новокиевскую.
— Товарищ Колесов, вам придется ехать сейчас же. Катер у пирса. У вас — тридцать часов в неделю...
— Что ж, я готов...
— Вот и прекрасно.
Через несколько минут процессия провожающих направилась к пристани. Колесов, как всегда, был многословен:
— Вот, друзья, жизнь и началась. «Вперед без страха и сомненья...» Я предлагаю: писать друг другу каждую неделю. Писать обо всем. Все будет интересно...
Женя шла позади всех. Когда стали прощаться, она отделилась от группы и подошла к воде. В воде отражалось небо, но как оно было далеко и пустынно и какой холодной казалась вода! Женя вдруг почувствовала свое полное одиночество, и первый раз после отъезда ей захотелось заплакать. Она пошла вдоль берега, в сторону от своих товарищей.
— Женька, ну иди, поцелуйтесь, — крикнули подружки.
Женя тряхнула кудрями, чуть запрокинула голову и, кусая губы, торопливо пошла в поселок. Ветер был встречный, поэтому волосы и полы легонького пальто относило назад, и вся она напоминала собою птицу, отбившуюся от стаи, которая летит не ведая куда, а ветер готов закружить ее по своему произволу, взметнуть кверху и бросить на землю...
Началась самостоятельная жизнь.
«Ластовка»
В тот же день вечером и на другой утром нашлась «оказия», и товарищи Жени уехали к месту работы, осталась она одна... Она слонялась по поселку, пришла на пристань, вместе с другими переехала на другой берег и совсем неожиданно очутилась у порога начальной школы.
Звонок только что прозвенел, и учительница, полная, надменного вида женщина, стоя у двери, торопила детей занимать места. Женя поздоровалась, коротко рассказала о себе и попросила разрешения посидеть на уроке. Учительница ответила с явной неохотой:
— Посидите... Что ж с вами поделаешь...
Урок проходил вяло, учительница была сама по себе, ученики — сами по себе, мостика от сердца к сердцу не получалось ни при опросе, ни при объяснении. А солнце бушевало: на стенах, на потолке, суетились «зайчики» — блики ленивых волн, которые, казалось, изнемогая, расстилались под окнами и у самого порога и неохотно уползали назад, уступая место другим.
Женя чувствовала, что главная беда в том, что дети и учитель не стали своими друг для друга, и ей не сиделось, хотелось вмешаться, сказать какое-то слово, чтобы класс воспрянул, дети «прильнули» к учителю, воодушевились работой.
Класс оживился, когда прозвенел звонок. Дети ринулись к двери, снимая на ходу свою несложную одежонку, и через минуту, словно тыквами, усеяли бухточку стрижеными головками. Некоторые купались у самого берега, другие, очевидно, за пределами дозволенного.
— Куда?! Куда! Назад! Вот наказание! Утонут — отвечать придется.
— Я их сейчас назад! — сказала Женя, сняла с себя все лишнее и бросилась в воду.
Скоро все купальщики стянулись к одному центру — «новенькой» учительнице.
— Ребята, довольно! Вода холодная! Считаю до трех! Скажу «три» — чтобы никого в воде не было. Считаю!
Женя стала считать, дети ринулись на берег. Последней вышла учительница.
— Вот чудеса! Никогда не купалась в море! Фу, я, наверно, соленая, как селедка! Какой у вас следующий урок? — спросила она.
— В третьем — естествознание. Почва.
— О, это была тема моей педагогической практики! Разрешите, проведу я! Только мне нужны спиртовка, пробирка, стакан...
— Ничего этого нет. Но рядом лаборатория ТИНРО, они ни в чем не отказывают.
Не успели ребята разместиться за партами, как Женя достала свое оборудование: спиртовку, пару пробирок, воду, горсть песка, глины, почвы.
Учительница занималась рядом с первым классом, косясь на свою непрошеную помощницу.
— Ребята, садитесь ближе к столу, урок буду проводить я.. Зовут меня Евгения Михайловна. Посмотрите, что у меня на столе?
— Земля.
— Земля. Но чем отличается одна кучка от другой?
В третьем классе было всего семь учеников. Через минуту они вышли из-за парт, окружили стол и свою учительницу и по-всякому — на ощупь, по запаху, с помощью воды и огня определили особенности почвы, песка и глины, затем вышли во двор, и здесь Женя показала, как разрушаются горные породы, как образуется галечник, песок, глина и почва.
Когда ученики вернулись в класс, им хотелось действовать, не сиделось на месте.
— А вы будете нас учить?
— Нет. У вас есть учительница. Она знает больше, чем я.
Ребята с недоверием посмотрели на свою учительницу.
Когда кончились занятия и класс опустел, Женя спросила:
— Ну, какие вы сделаете мне замечания?
— Замечания есть. Ну, первое: надо держать детей в руках и... на расстоянии... А вы сразу же в воду! Так они сядут вам на шею. Запанибрата с детьми нельзя. Этого они не ценят. Второе — урок. Много лишней суеты. Что такое почва — они и так узнают. Достаточно было учебника. Во двор можно было и не выходить...
Учительница расспросила Женю, откуда она приехала, кто родители, дала несколько советов:
— Сразу же, как приедете, устраивайтесь со столом или запасайтесь картофелем, овощами. Людям пальцы в рот не кладите, особенно мужчинам. Они мягко стелят, да жестко потом спать. Фигурка у вас ладная, на вас будут зариться...
Женя возвращалась в поселок в полном недоумении. «Странная она какая-то! Держать детей на расстоянии?! А нас учили — стоять к детям как можно ближе. Не надо было экскурсии! А нас учили — наоборот. Не доверять людям?! Ну как же тогда жить?» Тут она вспомнила вчерашние проводы Колесова и, тряхнув волосами, заторопилась в поселок, точно хотела кого-то догнать или убежать подальше.
В тот же день вечером попутный катер доставил ее к месту работы.
Переезд на катере оказался для Жени мучительным. Море вдруг взбунтовалось, волны были как горы, катер как муравей, и ей не раз казалось, что она находится на волосок от смерти. Берег был рядом, но и он выглядел не ласковее моря: высокая черная стена, которая, пока догорал закат, еще сулила некоторый уют, а когда он погас и небо потемнело, казалась неприступной, враждебной человеку. Белая кайма прибоя словно угрожала суденышку: «Не подходить! Держать поодаль!»
Уже ночью вышла она на берег, едва держась на ногах. Она с утра ничего не ела, промокла и продрогла, не знала, куда идти, и готова была расплакаться.
— А можно мне у вас переночевать? — обратилась она к шкиперу. — Я не знаю, куда идти... И не могу...
— А вам куда, собственно, надо?
— Мне бы в школу. К директору.
— К Агнии Петровне. Это мы живо вас доставим. Я живу рядом.
Закончив свои дела, шкипер подхватил чемоданчик Жени, и они стали подниматься в гору. По сторонам стояли какие-то строения, проходили люди, но Женя озабочена была одним — не отстать от своего спутника и не упасть от голода и усталости — и ничего не замечала.
Через полчаса они постучались к директору школы.
— Кто там? — послышалось из-за двери.
Голос был ласковый, теплый и мягкий, и Женя приободрилась.
— Это я, Филимонов. Открывайте. Подкрепление к вам прибыло.
Женя невольно улыбнулась:
— Хорошее подкрепление! Еле ноги тащу.
Дверь отворилась, и она очутилась в просторной светлой кухне. Перед ней стояла, пожилая приветливая женщина, директор школы Агния Петровна Тужилина.
Женя взглянула в глаза директору и сама развела руками, точно хотела сказать: «Да, я такая! Но не смотрите, что я такая, я... хорошая. Вот увидите...»
Агния Петровна, старый педагог и мать троих, теперь уже взрослых, детей, сразу же определила, кто перед ней стоит и что нужно делать, и прежде всего согрела девушку словами:
— Ну, наконец-то мы вас дождались — и я, и дети, и коллектив! Мне звонили из роно: «Едет! Ждите!» Очень рада. Раздевайтесь, располагайтесь по-домашнему. Помойтесь с дороги, потом будем ужинать, а потом — спать. Знаю, молодежь любит поспать... Как же вас звать-величать?
— Женя.
— Нет, вы уж мне полным ответом.
— Журавина Евгения Михайловна.
— Ну вот так-то будет лучше. Сколько же дней вы были в дороге?
— Всего, с остановками в Москве и Владивостоке, семнадцать.
— Далеконько заехали. Но тут у нас так хорошо, что и домой не захочется.
... Молодость быстро восстанавливает силы. Проснулась Женя как ни в чем не бывало, и ее сразу же обуяла жажда деятельности. Она выбежала на крыльцо, осмотрела школу снаружи, заглянула в классы.
— В каком я буду классе? — спросила она у Агнии Петровны.
— Да вы отдохните денек-другой, приготовьтесь. Класс не уйдет...
— Я готова. Я хочу на них посмотреть. Какие они?
— Ну, коли так, пойдемте, покажу ваш класс.
Через несколько минут Агния Петровна ввела Женю во второй класс. Малыши боязливо встали, впрочем, некоторые, занятые своими делами, не торопились, и вошедшим пришлось подождать, пока все обратят на них внимание.
— Ну вот, дети, и приехала ваша учительница. Видите, какая хорошая. Долго ждали, зато дождались. Любите ёе, хорошо учитесь. Зовут вашу учительницу — Евгения Михайловна. Ну, в добрый час! — сказала она Жене, понизив голос. — Любите их... Они славные...
Жене стало легко и даже весело. Агния Петровна всех обдала таким теплом, что и класс и учительница, можно сказать, на глазах у нее расцвели.
Агния Петровна ушла. Женя осталась с классом одна и не знала, что делать, хотела рассмеяться: «Наконец-то! Вот они какие!» Но напустила на себя солидности и приступила к работе и в этот день уже не расставалась со своим классом, как ни ждали ее в учительской.
— Меня зовут Жен... Евгения Михайловна, а как зовут тебя?
— Катя.
— А чем занимается твой папа?
— Он шкипер на кавасаки...
— А что такое шкипер на кавасаки?
Ученица не могла ответить, не знала и учительница. Дальше — больше. Учительница не знала, что такое сейнер, кунгас, пирс, буек и многое другое, и вдруг испугалась: она сама ничего не знает, а дети знают все. Что же делать?
Тогда она стала спрашивать, как дети провели лето, где бывали, из кого состоят семьи, что делают мамы, — и беседа пошла веселее.
— У нее есть еще бабушка! — подсказала девчушке ее проворная соседка,
— Эта бабушка не наша. Она у нас живет, только она чужая...
— А ты ее жалеешь — чужую бабушку?
— Мы ее взяли, чтоб она нас жалела.
Первое знакомство с классом состоялось. Прозвенел звонок, дети высыпали из-за парт, как пчелы из улья, и тут Женя еще лучше увидела, кого ей предстоит учить и воспитывать: одни прибежали в школу босиком, другие — без пояса, третьи — в одежде явно с чужого плеча, некоторые с отросшими волосами, девочки — в платках, в тяжелых сарафанах из грубого домотканого полотна.
У Жени сразу же оказалось много работы: она заглядывала им в волосы, в уши, отсылала к рукомойнику, заставляла застегнуть рубашку, девочкам поправляла прически, бантики, пустила в ход свою гребенку; а когда кончились уроки, так и не зайдя в учительскую, пошла в поселок к родителям.
Она зашла в барак и побывала в двух квартирах, у ребят, которые больше других поразили ее своим неряшливым видом. В первой, куда она зашла, происходила попойка: три женщины и один мужчина допивали вторую бутылку.
Лица были потные, глаза осовелые, языки едва ворочались.
— Здравствуйте... Я учительница Гриши. Кто его мама?
— Я, на свое горе... Что дальше скажешь? — отозвалась одна из женщин, не глядя на Женю.
— Ну, как вас зовут, скажите...
— Марья... По батюшке у нас не принято, а как по матушке — сама, поди, знаешь...
— Тетя Маша, ну что это такое? Ну зачем же так?.. Такой у вас хороший мальчик, сообразительный, а вы с ним так обходитесь?! Босой, без пояса, без пуговиц, грязный...
— Сама вижу... Как могу, так одеваю. Ты посмотри, что на мне, — она подняла платье выше колен, — ни штанов, ни рубашки.
— Ну, зачем же так... Ну вот... а на столе две бутылки... Вы еще такая молодая...
— Маня, подай еще стакан. Учительнице... Допьем — беседа пойдет веселее, — сказал мужчина, разливая водку по стаканам.
— Я пить не буду.
— Ты что? За людей нас не признаешь? Ты должна сделать нам уважение. Сесть за стол, показать нам, что мы тоже люди. Культурненько...
— Ну вот, я присела. Давайте беседовать. Как мне вас звать-величать?
— Ну, Данила Тимофеевич.
— Данила Тимофеевич, пить я не буду, давайте и ваш стакан. Вот так, пусть постоит здесь. Как вы думаете, враг я вам или друг?
Данила Тимофеевич недоуменно моргал глазами: к чему такой вопрос?
— Друг — верное слово. В дружбу мою верьте... А теперь возьмем обязательства: я буду хорошо учить Гришу, а тетя Маня хорошо одевать...
— Нет, ты сначала выпей, тогда разговор пойдет. А так разговору не будет. Давай-ка тару сюда! — Данила Тимофеевич взял свой стакан.
— Выпьем, бабоньки! Пусть учительница поучится.
Он выпил свой стакан и уставился на Женю.
— Ты сколько зарабатываешь?
— Еще не знаю.
— Не знаешь. А я знаю. Сколько хочу, столько и зарабатываю. Хочу две тысячи — две заработаю, захочу пять — пять и зарабатываю. Вот они — денежки!
Он извлек из кармана горсть червонцев, к которым, как видно, относился без всякого уважения: деньги были измяты и грязны.
— Гришку надо одеть?! Оденем! Раз плюнуть! Маня, вот... обмундируй... Понятие имеем. Гришку надо содержать...
Он не считая, на глаз, отделил часть своих денег, остальные сунул в карман.
— Довольна ты?! А теперь выпей.
— Пить не буду.
— Значит, за людей не признаешь? Знаться не хочешь?! Ну, вот тебе бог, а вон и порог! Не мешай веселиться...
— Тетя Маша, я еще к вам зайду, — сказала Женя, вставая из-за стола.
— Придешь — счастья не принесешь, не придешь — скучать не будем.
Женя вышла. Грища сидел у порога барака.
— Ты почему не идешь домой?
— Я не пойду... Она, когда пьяная, дерется и все равно выгоняет.
— Ну, тогда пойдем ко мне.
Мальчик стал всхлипывать. Женя обняла его за плечо и привела к себе на квартиру.
Агния Петровна не удивилась. «Смотри ты, выудила того, кого надо», — подумала она и сказала Жене:
— Ну, корми своего гостя — обед на столе. Он и у меня не раз уже был в гостях... И ночевал не раз...
* * *
Работа захватила Женю, до краев заполнила и время и сердце. Незаметно каждый из сорока «курносых» забрался к ней в душу, потребовал особого к себе внимания, особой заботы. Все были разные: дети, родители, причины, следствия; обо всем нужно было думать по-особому. По вечерам, готовясь к урокам, она, думая о всех, думала о каждом в отдельности; и хоть никто от нее этого не требовал, завела особую тетрадь, в которой для каждого ученика отвела несколько страниц, и эти страницы тщательно заполнялись: кто родители ученика, какая семейная обстановка, как учится, чем интересуется, какая нужна помощь, и когда шла в класс, никто не мог подумать, что эта легкая стройная девушка несет на своих плечах такую большую заботу. Ее уроки, вопреки планам, которые она тщательно составляла, сразу же теряли свою стройность: все усилия уходили на то, чтобы работал каждый ученик, работал самостоятельно и в полную меру своих сил. Тут не было методического мастерства, но была большая забота о каждом ученике и большое душевное напряжение. Когда кончался рабочий день и дети разбегались, она садилась за стол в пустом классе, некоторое время отдыхала, удовлетворенная, насыщенная трудом, и хоть класс был пустым, она все еще видела за каждой партой недавно сидевших за нею учеников.
Но уроками и подготовкой к урокам работа Жени не кончалась: на улицах поселка то и дело мелькала тоненькая фигурка «новенькой» учительницы, кудрявой, черноволосой девушки с веселыми глазами; полы легонького пальто всегда были распахнуты, походка быстрой, движения решительными. Она заходила в квартиры учеников и своими ясными, открытыми глазами и приветливой улыбкой, пожалуй, больше, чем словами, убеждала, что нужно для их ребенка, как одеть, принарядить, чтобы и сами родители и соседи залюбовались им и прониклись бы к нему уважением. В некоторых домах она садилась за швейную машинку, вовлекала мать, а иногда и отца в решение сложной проблемы, как из ничего сделать что-то: перешить, перелицевать, приспособить к лицу и к росту. Нередко получалось так, что родители, до этого почти не замечавшие своего ребенка, начинали прихорашивать его, отогревать своей родительской заботой, и он, захудалое растеньице, «трогался в рост», становился смелее, способней.
Надо сказать, что никто не требовал от Жени такого усердия, не давал ей таких указаний; все происходило само собой, указания давало сердце и сама обстановка.
Однажды на урок к ней зашла Агния Петровна. Вела его Женя как обычно. Придирчивый методист мог бы указать много ошибок, но и он признал бы, что дети учатся с охотой, с видимым удовольствием, что учительница никого не оставляет в «тени», вовремя приходит на помощь.
Урок был последний, и, отпустив ребят, они вместе ушли домой. Женя жила в смежной комнате; нередко они обедали и ужинали вместе. За обедом Агния Петровна говорила:
— Молодец вы у меня, Женя. Уж я вас из школы не отпущу. Сама вам и жениха выберу. Видно, наш опыт не всегда идет нам на пользу. Сегодня я была на уроке в третьем классе у Петра Игнатьевича. Стаж у него большой, а ребятишек калечит. Опыт хорош, пока им управляем, а как перейдет в привычку, да станет нами управлять, тогда лучше бы, если бы его и совсем не было. У вас выходит хорошо... Сама еще девчурка, а как взяла в руки и ребят и родителей!..
— Агния Петровна, какая же я девчурка? Вы пощупайте, какие мускулы!
— Ах, про мускулы я не знала... Извините...
— А детей я знаю, — продолжала Женя. — Сколько я на них намыла да нашила. Я в семье старшая. Папа и мама на работе, а я нянька с пяти лет. Мне бы работать в детдоме. Они бы стали у меня как на картинке...
— У вас на родительском собрании было больше, чем у меня: почти все родители. И вы знаете, как называет вас эта «чужая бабушка»? «Ластовка»! «Не учительница, а ластовка! Летает и щебечет...» Вот вы какая! Ластовка! Поверьте мне — это хорошая похвала. Бабушка эта хоть и слепая, а видит далеко. Я очень рада за вас, не сглазить бы... Кто ваши родители?
— Мой папа — рабочий на транспорте, а мать — домохозяйка. Но, вы знаете, она такая у нас «модница»: никого не выпустит на улицу неряхой. Знали бы вы, какая у нас чистота и в домике и вокруг. А какой садик, огород... А папа такой замечательный... Как скажет что — не сразу и раскусишь. И хочешь не хочешь — не забывается...
— А вы хоть письмо-то им написали?
— Ой, Агния Петровна, забыла, совсем забыла. С дороги написала, а как сюда приехала — забыла... Что же это со мной?
— Ну, сегодня, по случаю субботы, садитесь и пишите, а потом принесете мне: я сделаю приписку. Себя вы не похвалите, а мне хочется вас похвалить... если обещаете не испортиться...
— Ну что вы, Агния Петровна!
После обеда Женя ушла к себе в комнату и взялась за письмо, но, к ее удивлению, письма к родителям не получалось. Она испортила три листка бумаги, и все оказывалось не то и не так: сухо, холодно и скучно...
Чуть не плача от досады, она постучалась к Агнии Петровне.
— Агния Петровна, что это со мной? Я не могу написать. Пишу, а получается совсем не то. Они — такие хорошие. Я знаю, у них только и разговору, что обо мне. Вы сделайте сначала приписку, а потом я разойдусь...
— Понятно, девочка, все понятно... Захватили ученики, забрались в сердце — вот и вытеснили родителей... А может быть, и еще кто-нибудь забрался? Ну-ка, признавайтесь?!
— Да нет же... Ну, есть один... но он еще не забрался...
— Так, так... Находится где-то поблизости?.. Нет, так не бывает. Значит, уже забрался... Ну, пишите, я буду диктовать... пока разойдетесь... Пишите:
«Родные мои, дорогие... Поглядели бы вы, куда залетела ваша Женька. Под окном — Японское море, у порога начинается тайга и горы, а горы — Сихотэ-Алинь — поднимаются высоко... Я работаю в семилетней школе, в рыбачьем поселке... Живу хорошо. Ученики и родители меня любят, а одна бабушка зовет «ластовкой», это значит — ласточкой...»
— Ну, теперь я сама напишу... Я разошлась, — сказала Женя, схватила листок и убежала к себе в комнату. Здесь она долго ходила из угла в угол, смотрела в окно, то присаживалась к столу, то ничком ложилась на кровать и колотила кулаками свою подушку. Она вдруг сразу вспомнила все: родителей, дорогу, Колесова, первые шаги в школе, — сразу нахлынули радость и горечь, хотелось и плакать и смеяться в одно и то же время... А потом она решительно присела к столу, взяла чистый листок бумаги и начала свое письмо. О себе, о дороге она писала немного; больше о них, о родителях, о родных местах. Она давала им кучу советов, и всем вместе, и каждому в отдельности: отцу, матери, братьям, крошке-сестре, — просила подробно ответить на множество вопросов. Вопросы заняли целую страницу. Раньше и не знала, как она любит все, что ее окружало: рощу над речкой, дубок среди поля, цветник перед домом, баловницу-сестренку. Теперь весь этот мир неожиданно встал перед глазами, от каждой мелочи протянулась к сердцу невидимая струна, и все эти струны вдруг зазвенели. Ей непременно хотелось знать, сохранились ли у сестренки ямочки на локотках и щечках, так ли, как прежде, она закатывается от смеха, Кому раздали щенят, и многое другое. Нет, не пустыней была для Жени земля: она была переполнена людьми, делами, вещами, и все было важно и дорого, интересно и нужно.
Дороги расходятся
По-другому началась самостоятельная жизнь у товарищей Жени Журавиной.
Колесова встретили на берегу директор школы и заведующий хозяйством, подхватили чемоданы и проводили до квартиры, особняка, как называл ее директор.
Особняк представлял собою обыкновенную крестьянскую избу с русской печью и плитою, низким потолком на толстых брусьях, с тремя небольшими оконцами. Внутри изба была побелена известкой, некрашеный пол недавно вымыт; в углу стоял простой тоже некрашеный стол, другой такой же у оконца против печки; у стены — кровать; три табуретки, на одной из которых стояло ведро с водой, дополняли собою оборудование «особняка», если не считать керосиновой лампы и веника.
Директор поразил Колесова своим будничным, помятым видом. На нем был дешевый поношенный костюм, грубые сапоги и маленькая кепка; брился директор по-видимому, от случая к случаю. Под стать ему был и заведующий хозяйством — он же преподаватель физической культуры.
— Вот тут и располагайтесь! — сказал директор, когда они вошли в помещение.
Легко было сказать! Жилье, как и поселок и сама администрация школы, показались Колесову крайне убогими, и тут у него впервые мелькнула предательская мысль: бежать! Она еще больше завладела им, когда он стал располагаться по-домашнему.
Оказалось, что заботливая мама, снабдившая на дорогу и вином и всякого рода консервами, забыла подушку и одеяло.
— Это мы в два счета оборудуем! — сказал директор. — Петр Захарович, развернись, дорогой: набей сенник, попроси у жены наволочку, одеяло.
Сенник получился высокий и узкий, и директор со своим помощником принялись уминать, садились и ложились, пока не придали ему в какой-то мере плоскую форму.
— Ну, значит, с новосельем! — сказал директор. — По такому случаю не вредно бы и выпить!
— У меня есть, — сказал. Колесов, выставил и выложил на стол все свои запасы.
Завхоз пододвинул к столу табуретки, и, так как рюмок не оказалось, воспользовались стаканом, наливали по полному и выпивали сразу, чтобы предоставить его соседу.
— Ну, дружба дружбой, а табачок врозь! — сказал директор. — Завтра с утра выходить на работу. Уроки срываются — беда. Завуч совсем забегалась...
— Надо бы подготовиться, ознакомиться с программой, с прошлогодними классными журналами, — возразил Колесов.
— Пустяки, — успокоил директор. — Ты учини проверочку, проведи диктантик, изложеньице, побеседуй... Первое знакомство — простое дело...
Когда гости ушли, Колесов еще раз оглядел свою квартиру. Бедность обстановки и этот столик, заваленный остатками пиршества, которые нужно было убирать, веяли невыразимой скукой. Он сел на свою постель, и перед ним сразу же предстала вся длинная дорога на запад, по которой только что проехал, и то, что осталось в конце, вернее, в начале дороги: заботливая мать, она же и верный товарищ, квартира из трех комнат, его комната с книжным шкафом, большим письменным столом, мягкой постелью... Дальше постели воспоминания не пошли, он склонился на подушку и, не раздеваясь, уснул.
Часа через два Колесов проснулся от какого-то досадного щекотания в носу и горечи в горле. Лампа превратилась в коптящий комок, копоть заполнила комнату, черными хлопьями висела на потолке, запорошила постель. Он торопливо погасил огонь, разделся и — спасибо молодости! — уснул как ни в чем не бывало.
— Завтра наведу порядок, — подумал он засыпая.
Утром квартира показалась еще более убогой. Хлопья копоти, когда он пытался их стереть, размазывались длинными полосами; копоть набилась в волосы, в уши, в нос, и пока он наводил относительный порядок, в школе раздался звонок. Он поспешил в школу.
— Нехорошее начало, молодой человек! — встретила его заведующая учебной частью Вера Андреевна, низенькая пожилая женщина. — Я перед первыми уроками ночь не могла уснуть, а в школу явилась раньше своих учеников. Зайдите ко мне — побеседуем.
В учительской никого не было.
— Иван Федорович мне сообщил, что вы придете на уроки. С чем же вы пойдете в класс? Покажите мне ваши планы.
— Видите ли, простите, как ваше имя-отчество, товарищ завуч?
— Вера Андреевна.
— Видите ли, Вера Андреевна, я не хотел идти сегодня на уроки. Первая встреча с учениками — шаг опасный: я хотел подготовиться. Но Иван Федорович настоял. Я думал просто побеседовать. с ребятами, рассказать о дороге, познакомиться, вызвать одного-двух к доске, написать и разобрать предложения...
— А где у вас план беседы? Где предложения?
Колесов опустил голову.
— Вот что, молодой человек: так у нас дело не пойдет. Директор пусть директорствует, а мне работать не мешает. Идите домой и готовьтесь к урокам. Вот вам прошлогодние классные журналы, вот отчет преподавателя, вашего предшественника, вот письменные работы учеников, программы, учебники. На занятия надо являться за полчаса. Планы уроков я просматриваю ежедневно. Завтра я буду присутствовать на всех ваших уроках... Как ваше имя-отчество?
— Сергей Николаевич.
— Вот что, Сергей Николаевич: лучше мы поссоримся с вами вначале, а в конце расстанемся друзьями, чем наоборот. Так будет лучше. С русским языком дело обстоит плохо. Учительницы, люди приезжие, меняются часто: нынче они здесь, а завтра там, грамоте ребят не научили; работа вам предстоит трудная, черновая. Надо набраться терпения. Первую неделю вы потратьте на повторение и проверку, проведите классификацию ошибок, а потом мы вместе подумаем, как помогать отстающим.
Колесов вернулся к себе в самом скверном расположении духа, убрал со стола, доедая остатки, а затем стал знакомиться с материалами, принесенными из школы, но руки к работе не приставали, и он снова растянулся на своей скрипучей кровати и пролежал до обеда.
«Чудес не бывает, а жаль, — думал он каким-то глухим краешком сознания. — Хорошо бы вдруг очутиться в Москве...»
На обед Колесова пригласил к себе директор школы.
— Не знаю, как устроить вас со столом, — сказал он, усаживая гостя. — Есть столовая при агаровом заводе, но ходить туда несподручно, да и кормят неважно; при комбинате — хорошо, но далеко ходить. Женить бы вас — семейному в этом отношении лучше...
На столе стояла бутылка водки, была расставлена различная снедь: огурцы, помидоры, картошка, сало, после появился борщ и по стакану молока.
Жена директора к столу не присела, взяла на руки ребенка, мальчика лет трех, и устроилась у окна; к ее колену прислонился другой, лет пяти, вошел третий, первоклассник, и сделал то же.
— А почему мы вдвоем? Почему не обедают остальные? — спросил Колесов.
— Они уже пообедали, — успокоил директор и перевел разговор на другую тему: — Завуч у меня требовательная, иногда и меня берет в работу. Скажу прямо: на ней школа и держится. Меня заедают хозяйственные дела. К тому же свое хозяйство. Без него не проживешь, ежели ты обзавелся семьей...
— А что окончили вы? — спросил Колесов.
— Педучилище. Состою заочником в институте, но, понимаете, не доходят руки. Состою, но не учусь. Как это выражаются: прошел гимназию, прошел институт, но только по коридорам... Так и у меня. Семья. Она своего требует.
* * *
С первых же дней работы Колесов утратил привычную для него парадность чувств. Перед ним во всей сложности встала задача — безграмотных, запущенных ребят сделать грамотными. Мечта — вдохнуть высокую идейность литературы, обогатить и поднять интеллект — отодвинулась на второй план. Грамматика и синтаксис, пожирали все учебное время. Заведующая учебной частью требовала упорной черновой работы, хоть и высоко ценила яркость и свежесть его выступлений и перед ребятами и на педсоветах.
— Фундамент, сначала заложите прочный фундамент, — учила она, — а дальше у вас все пойдет хорошо. Не стройте здания на песке, тем более — пышного здания. Рухнет...
Закладывать фундамент — дело нелегкое. Язык ребят был беден; библиотеки не было, довольствовались учебниками; литературные вечера и дискуссии, на которые он рассчитывал, не давали желаемых результатов: говорить ребята не умели. К кропотливой работе Колесов не привык, советы Веры Андреевны начинали раздражать, и он, по возможности, стал избегать ее помощи.
Скоро, однако, в его жизни произошел резкий поворот, поднявший настроение: его пригласили в соседний рыбокомбинат прочитать лекцию о Маяковском; лекция прошла хорошо, и ему предложили прочитать цикл лекций по русской литературе. Это обстоятельство плохо отражалось на работе в школе, но зато дважды в неделю давало ему ту дозу опьянения успехом, к которой он привык с детства. Он сблизился с Ольгой Березовской, преподавательницей английского языка. В школе она выглядела очень скромно, одевалась в простенькие платья, куталась в шерстяной платок, здесь же выступала другим человеком, оживленной и нарядной. Узкая блузка и гофрированная юбка обрисовывали ее стройную тонкую фигуру.
Она подошла к нему первая и похвалила:
— Превосходно, Колесов. Слушала вас внимательно, хотя вы меня и не замечали. Превосходно!
Теперь независимо от того, первыми или вторыми были ее уроки, она регулярно присутствовала на его лекциях, а затем они вместе не спеша возвращались домой.
— Колесов, — сказала она однажды, — не понимаю, как вы, с вашим умом, вкусом и блеском, очутились в этой дыре?.. Вам нужно было в аспирантуру. Вы — готовый кандидат наук. Вы уже сейчас могли бы украсить кафедру в любом институте.
Она взяла Колесова под руку.
— Я записала несколько ваших выражений. Блестяще! Бесподобно! Самобытно! А здесь вы — на положении школяра у этой выжиги, Веры Андреевны. А как она вмешивалась в мою личную жизнь! «Одевайтесь скромнее», «Не красьте ногти», «Не красьте губы!», «Не душитесь!». А по-моему, лучше быть красивой, чем некрасивой, лучше хорошо пахнуть, чем дурно, и все равно где, дома или на уроке. Как вы думаете? Я очень высоко ценю ваше мнение.
У Колесова для лести душа была открыта:
— Я не оставил мысли об аспирантуре. Когда ехал сюда, я ставил перед собою задачу — заняться фольклором. Здесь такое смешение народов, материал богатейший...
Колесов хотел рассказать о своих наблюдениях над языком местного населения, по Березовская переменила разговор:
— С каким бы наслаждением выпила сейчас чашку шоколада. Запасаешь на зиму картошку, овощи, питаешься, как кролик, и ничего вкусненького...
— У меня есть шоколад и сгущенное молоко! Подождите минутку, я вынесу.
Колесов забежал к себе на квартиру и вынес две жестяные баночки: одну с шоколадом, другую с консервированным мол о ком.
— Слушайте, Колесов, мне пришла блестящая идея: пойдемте ко мне и поужинаем вместе. — И Березовская взяла Колесова под руку.
— Поздно, знаете ли. Надо готовиться к урокам. И... неудобно как-то...
— Ответ, не достойный мужчины. Или вы еще мальчик? — сказала она, изменив голос, и приблизилась к нему вплотную.
Колесов почувствовал, как ее грудь прикоснулась к его груди, и с готовностью поднял руки:
— Сдаюсь.
— Хвалю! — сказала спутница.
* * *
О том, как началась жизнь у подруг, Женя узнала из писем, которые получила от них примерно через месяц.
Катя Крупенина писала:
«Ой, Женька, если б ты только знала! Я теперь совсем, совсем другая. Закружилась совсем. Опишу все, все по порядку. Приехали мы, а места нет. То есть оно есть, но уже занято. У директора часов полно, на каждый день шесть уроков, платят-то за уроки, у жены — первый класс и вся география. Он окончил всего педагогическое училище, а она — десять классов. А нам ничего нет. И денег у нас нет. Но Павлик — какой он молодец! — сейчас к телефону и в крайоно; оттуда в роно:
«Дать работу специалистам!» Сейчас у меня первый класс, у Павлика география и еще история, у директора и его жены конституция, английский, физика, пение, физкультура. Теперь они смотрят на нас, как на своих врагов. Они — местные, все у них есть: корова, свинья, куры, гуси, строят свой дом. Нас поместили в одну комнату, временно, пока ремонт. Но ты не подумай, он ночует в учительской, а так мы все время вместе. Сначала он все добывал на двоих и сам готовил, теперь все это делаю я. На меня как кипятком плеснули, ношусь — ног под собой не чувствую. Павлик, он, понимаешь, хороший. Как мы не замечали! Куда твоему Сережке! Понимаешь, у него все хорошо выходит. Директору не к чему придраться, а на педсовете он выступает лучше всех. Уже организовал кружок, изучают фенологию, ходят на экскурсии. Его эта прическа — копна волос — ему совсем не к лицу. Когда он отбросит их назад да снимет очки — он добрый-добрый. И глаза, хорошие, и щеки как у мальчика. Я добилась, чтобы он изменил прическу. И знаешь, как уговорила? «Лоб и глаза — украшение человека, а ты их прячешь». Теперь он другой...
Ну, целую тебя крепко. Пиши. Твоя Катя».
Прочитав письмо, Женя села на стул и опустила руки: «Куда твоему Сережке!» А Колесов не пишет. Катя влюбилась. «Ног под собой не чувствую». А была такая лентяйка!
Только после длительного раздумья Женя вскрыла и другое письмо. Подруга писала:
«Женька, почему ты молчишь? Почему я должна первая? Как тебя встретили? Как начала работу? Моя школа маленькая, всего двадцать восемь учеников, четыре класса. Работаю в две смены. В четвертом ученики — выше меня ростом и, кажется, есть ровесники. Они и сами не помнят, когда поступили в школу.
Учителя меняются на году по два-три раза. Придет молоденькая учительница, выйдет замуж и уходит из школы. И учебный год никогда не кончают. В школе — ничего нет. Приехала — ремонт не проведен, печь развалена, стекол нет, окна заделаны фанерой, уборная на отлете, на виду и без двери. Подвода выгрузила меня на крыльцо и пошла дальше. Вошла я в класс. На всем пыль, на полу грязь: здесь колхозники проводили собрания, а молодежь — танцы. Сижу на крыльце, плачу.
Кругом горы, на горах — лес; под окном — речка. Подошла к речке, умылась, и тут ко мне подошел заведующий избой-читальней, здешний житель; окончил семь классов; ростом с меня, чуть старше, хромой, но, знаешь, славный. Посмотрел, расспросил и давай устраивать. Что было бы, если бы не он! Принес хлеба, молока, сала, картошки, яиц; пришли две женщины и стали мыть полы, парты, а он и еще один колхозник — перекладывать печь. Через три дня все было готово. Помогли геологи. Понимаешь, на другой вечер, как я приехала, пришли два геолога, посидели, поговорили, а утром, смотрю, везут кирпич, стекло, дрова. Прямо как в сказке. Я сразу почувствовала силу. «Ну, — думаю, — дело пошло!» А тут колхоз попросил выйти с ребятами на уборку. И мы работали целую неделю. Колхоз вынес благодарность. Мне привезли картошки, овощей, меду. Делают, что ни скажу. С ребятами на работе сдружилась, теперь они как шелковые. Одно горе — «кавалеры». Каждый вечер приходят и сидят, пока не выгонишь. Тут надо готовиться к урокам, а они сидят. Все они славные — и геологи, и Володя. Как наружность обманчива! Хромой, неразговорчивый, а хороший. Теперь мы работаем с ним заодно: читаем колхозникам газеты, проводим беседы, организовали самодеятельность.
Я думала — будет трудно, как справлюсь, а тут одно цепляется за другое и само подсказывает, что и как надо делать.
Пиши, Женька. Жду ответа, как соловей лета. Я получила от Кати. Понимаешь, влюбилась в Гребнева. Захлебывается от восторга. Пишет о нем так, словно он ребенок, а она — мамаша. Вот чудо! А мы думали — тихоня, без нас закиснет...»
Соня написала о себе не все. Она могла бы написать, как вместе с женщинами-колхозницами мыла в школе полы, белила стены, как при ней молодежь и взрослые «стесняются» в выражениях, как ее присутствие в поселке вносит в жизнь что-то новое, чистое, как она сама, ни на минуту не забывая, что она — народная учительница, «культурная сила на селе», становится строже, серьезнее, порою сама не узнает себя; к ней обращаются за советом, и она дает советы молодым и старым.
Первый год
Первый год в работе учителя незабываем, и чем дальше от него уходишь, тем ярче воспоминания.
В жизни Жени Журавиной будет много лет напряженной работы, богатых событиями, но все они в конце концов сольются в одну сплошную полосу, а первый останется в памяти, как самый яркий кусок жизни, и она с радостью будет припоминать одно за другим события, лица, точно перелистывать альбом с фотографиями дорогих и близких.
Когда она побывала на дому у всех своих учеников, у нее оказалось много свободного времени, и она не знала, куда его девать. Письма подруг и отсутствие письма от Колесова не давали ей покоя. Товарищи по работе — люди семейные — были заняты своим хозяйством.
Однажды, закончив все свои дела, Женя ушла в лес. Дорожка начиналась почти от самого порога и поднималась в гору, а рядом с нею, с горы, в узком ущелье, заваленном когда-то упавшими деревьями, заросшем густым кустарником, среди огромных валунов протискивалась небольшая речка, косматая, шумливая — не вода, а живое серебро, прыгающее с камня на камень, с уступа на уступ. Дорожка, как и все лесные дорожки, была необычайно живописна. То она делала неожиданные повороты и на каждом что-то обещала, манила вперед, то шла прямо, упираясь в сплошную, казалось непроходимую стену из зелени. А стоило оглянуться назад, как неодолимо влекло к себе море. Оно почти всегда было пустынно, но от него трудно было оторвать взгляд. Женя забралась в непролазную чащу, нашла узкий просвет среди ветвей и, как из оконца, долго смотрела по сторонам, не узнавая окружающего, точно попала на другую планету.
С гор уже спускалась осень; на берегу еще держалась зелень, а на горах бушевал осенний пожар. Прозрачность воздуха, синева неба и синева моря были изумительны...
Приморская осень щедра дарами: дубы стряхивают желуди, кедры — увесистые шишки, набитые орехами; пригибаются к земле лозы дикого винограда; кустарники и лианы — лещина, калина, шиповник, кишмиш, лимонник — манят своими плодами и ягодами; люди, звери и. птицы собирают дары богатой природы, а труженица земля, завершив свои дела, согретая осенним ласковым солнцем и ковром опавшей листвы, отдыхает: оживают воздушные дороги: пернатые караван за караваном тянут на юг...
Красота приморской осени неописуема. Ясность, тишина, покой и простор. Станешь ли на берегу моря, сверкающего миллионами блесток, поднимаешься ли на склон или на вершину. горы и окинешь взглядом открывшиеся дали, или наклонишься над заводью утолить жажду — и в воде обнаружишь ту же ширь и синеву небес, те же, но опрокинутые горы, деревья и травы; прислонишься ли к древней скале и прислушаешься к биению своего сердца или затеряешься в искошенных лугах, попрятавших свои яркие цветы, — во всем и вез те умиротворенность и величие.
Женя пристрастилась к прогулкам и каждый день после занятий уходила в лес; то она сворачивала к речке, садилась на камень и наблюдала торопливый бег живого серебра, то — в непролазную чащу, находила «оконце» и смотрела на море, на горы, на берег, который высокой стеною уходил на северо-восток, а у подножия стены то появлялась, то исчезала белая кайма прибоя. Если бы ее спросили в это время, о чем она ломает, она ответила бы — ни о чем. Но это было не так. Она думала обо всем: о дороге, о родителях, о своих подругах, которые оказались счастливей, чем она, о том, что видела кругом. И это не исчезало бесследно, а создавало широкий фон жизни, спокойный, ясный, благородный. Ей казалось, и это было действительно так, что после каждой своей прогулки она с большим пониманием и с 6ольшим сочувствием относится к людям, становится взрослее. В эту осень она сама «дозревала», как все, что не успело созреть за лето.
В выходной день, когда она в обычный час шла по дорожке, ее догнал учитель математики Лысиков, вспотевший и запыхавшийся.
— Гуляете? Идемте собирать виноград. Как видите, я взял два ведра — одно для вас.
— О, с удовольствием! Покажите, как он растет.
Они углубились в чащу в верховье ключа. Здесь все было перепутано лианами дикого винограда. Большие черные гроздья свешивались отовсюду, и они без труда набрали два ведра черных, казалась, подернутых дымкою ягод.
— Ах, а самые крупные вверху, — сказала Женя.
— Давайте я вас подсажу.
Женя доверчиво согласилась, но когда приблизилась к Лысикову, он прижал ее к себе и стал целовать.
— Ты, ты мой виноград! Я за тобой и пошел...
Женя извивалась, била Лысикова по щекам и вырвалась с трудом, опрокинув при этом ведра с виноградом. Раскрасневшаяся, возбужденная, она перескочила по камням на другой берег речки и прислонилась к дереву.
— Яков Фомич, ну как же вам не стыдно! Жена, трое детей! Как вы будете смотреть им в глаза? Отец, воспитатель... Возьму вот и расскажу вашей жене...
— Ну, бросьте вы! Какие пустяки!
— А жене вы признаетесь?
— Конечно, нет.
— А меня учили: «Делай так, чтоб о своих делах не стыдно было рассказывать и старому и молодому».
— Ну, будет вам. Идите собирать...
— Дарю его вам. Он кислый... Как и вы...
Лысиков принялся собирать рассыпанный виноград.
Женя наблюдала за его работой, и у нее вызывали невольную дрожь и крупные веснушки, и рыжие волосы на его руках, и запах изо рта, и она заторопилась к поселку. Лысиков последовал за нею.
После этой прогулки жизнь Жени усложнилась: Лысиков лебезил, заискивал, подстерегал в коридоре школы, на улице. В лес она больше не ходила, а в свободное время убегала на берег моря. Море пленило Женю. Уже на первом уроке она думала о предстоящей прогулке, а когда отпускала ребят, торопилась сделать все самое необходимое и бежала к морю, точно там кто-то ожидал, кого-то надеялась встретить. Но берег и море были пустынны, и она уходила далеко от поселка, иногда садилась на прибрежный камень, подпирала голову сложенными вместе кулачками и подолгу всматривалась в морские просторы. А волны шли и шли и расстилались у ног, и казалось, что задние торопят передних, а дальние пытаются подняться выше, взглянуть; как далеко еще идти, увидеть ее, Женю Журавину. И она то про себя, то громко повторяла:
— Ах, Женька, Женька, и куда ты забралась?! Куда залетела?! И большая же она, наша земля! Идти бы, идти...
Однажды здесь, на берегу моря, она постигла простую истину: жизнь идет и может идти и без нее. Вот она ушла, затерялась, и никто за ней не бежит, никто не ищет, а жизнь идет... Нужна ли она вообще?
«Ну, как же это так? — спросила она себя. — Что у меня — нет лица или нет голоса? Странно! Я совсем этого не хочу... Люди должны чувствовать, что я здесь, что я нужна».
И Женя решительно вскочила на ноги и заторопилась в поселок.
«Вот еще! Жить и оставаться незамеченной», — думала она, подходя к поселку.
Не заходя домой, она навестила одного из своих учеников и с этого дня возобновила посещения родителей. Теперь она подолгу оставалась в каждой семье, и люди не спеша рассказывали ей о своей и о чужой жизни, о плохом и хорошем. Она узнавала, как складывались и разрушались семьи, как еще много среди людей лжи, криводушия, грубости, нечистоплотности, как много места для гнева, негодования, ненависти. Она сжимала свои кулачки, огорчалась, что у нее нет такой силы и нет власти, чтобы призвать к порядку и тех, кто бросает жен и детей, и тех, кто пропивает зарплату, лодырей, лгунов, себялюбцев. И все не могла понять, как это может держаться среди людей столько зла, суеверий, «копоти», когда так светло и хорошо кругом.
«Жизнь может быть такой замечательной! — думала она. — И это они сами виноваты... Ах, собрать бы их в один класс. Я бы им сказала... Как же можно жить с нечистой совестью?..»
В конце первой четверти в школе случилось происшествие, всколыхнувшее ученический и учительский коллектив: старый педагог Петр Игнатьевич вывел за ухо из класса ученика Ковалькова; ученик пожаловался матери, мать — в поселковый Совет — «истязают детей», и в школу пришли две женщины-работницы обследовать состояние воспитательной работы. В связи с этим Агния Петровна предложила педагогам в течение недели посещать уроки друг друга, а затем провести совещание.
Петр Игнатьевич работал в школе тридцатый год, имел большие заслуги, участвовал в партизанском движении, но в работе с детьми дело не ладилось. С годами учитель утрачивал драгоценное качество — «чувство класса», когда кажется, что учитель и его ученики понимают друг друга с полуслова, живут душа в душу; теперь они «брели розно», расстояние между ними все увеличивалось, и учителю то и дело приходилось повышать голос, призывать к порядку, даже кричать, и не потому, что дети стали плохими, а потому, что учитель говорил языком ворчуна, требовал покорности и платил скукой. Детям нужен вожак, а был пастух; хотелось действовать, а от них требовали — сидеть и слушать.
И вот Женя на уроке у Петра Игнатьевича.
Класс представлял собою длинную узкую комнату с двумя рядами парт, перед которыми стояли низенький столик и табуретка; на стене висели: доска, листок социалистического соревнования и портрет Буденного в самодельной раме с бумажными цветами по углам.
Учитель вошел с красным флажком, опустился на табуретку и строгим, укоризненным взглядом окинул ребят. Если бы Женя сидела перед классом, она видела бы, как потухали в глазах детей огоньки любознательности а как селилась апатия — причина всех зол на уроке.
— Откройте книжки, будем читать рассказ «На лугу».
Рассказ был коротенький, дети прочитали его более десяти раз. Сначала прочитали два ученика на передней парте первого ряда, затем на передней же — второго, затем опять в первом ряду на второй парте и т. д. Задние решили, что до них «дело не дойдет» и, прочитав раз-другой, расшалились. При посторонних учитель совсем распустил «вожжи».
В результате чтения он установил, что в соревновании победил второй ряд, присудил ему переходящий вымпел, маленький флажок на подставке, и поставил его на первую парту. Огласив результаты, он повернулся к стене и стал рисовать флажок на таблице «учет соцсоревнования». В это время вымпел очутился в первом ряду, второй не мог допустить попрания справедливости, и в классе началась потасовка. Учитель поставил вымпел на столе перед собою.
Началась беседа о прочитанном.
— Что делали на лугу?
— Клали сено на телегу.
— Так. А для чего нужно сено?
— Кормить коров.
— Так. Раньше думали, что молоко дает бог, а его дает корм. Как покормишь, так и подоишь. У коровы молоко на языке. Понятно?
— Понятно.
— По скольку теперь коров на дворе?
— Теперь на дворе по одной корове.
— Так. А раньше были кулаки, у них было по десять, а то и по сорок коров. Зато теперь в колхозах по пятьсот, а то и больше...
— Петр Игнатьевич, а почему вымпел у вас? Вы же не читали? — спросил ученик Пронин.
Учитель поставил вымпел на передней парте второго ряда.
— Ну, а как накладывали сено на воз?
— Руками...
— Вилами...
— Охапками...
Звонок оборвал учителя на полуслове. Дети ринулись к двери, и попытка задержать, чтобы дать задание на дом, не увенчалась успехом; вымпел снова очутился у побежденных, победители стали утверждать свое право на первенство.
Жени до боли было жалко старого учителя, точно не он, чужой человек, а ее отец очутился в таком тяжелом положении: отца обижают ребята!
Петр Игнатьевич, высокий и сутулый и какой-то нескладный человек, виновато опустился на табурет, чтобы здесь, а не в учительской, отдохнуть и набраться сил для нового урока.
Женя не стала задумываться, в чем причина неудачи своего товарища; ей жалко было старого человека, а как ему помочь — она не знала. Нельзя было винить и ребят: как нельзя сделать молодым старика, так нельзя и детей сделать стариками. А помочь хотелось. Она готова была взять на себя и его класс, только бы избавить человека от его тяжелой участи.
На другой день, на урок к ней пришел Петр Игнатьевич. Он уселся на заднюю парту и, казалось, сразу же задремал. Дети то оглядывались назад на непривычного гостя, то вопрошающе смотрели на свою учительницу: «Что это значит?» Некоторые, уставясь на старого учителя, не могли оторваться, точно решали в уме какую-то сложную задачу.
Женя начала урок. Она посмотрела на своих учеников приветливым понимающим взглядом, и если бы учитель сидел перед классом, он бы видел, как оживали ученики, как вспыхивали огоньки любознательности, теплого, сердечного отношения к учительнице.
Урок был посвящен развитию речи. Женя прочитала коротенький рассказ «Два товарища» и попыталась вызвать детей на разговор «от души». Но такого разговора на этот раз не получалось. Детям все еще не хватало ни запаса слов, ни смелости. Связывало и присутствие постороннего.
— Тогда вот что: давайте играть! — сказала Женя.
Петр Игнатьевич поднял голову.
— Вот ты, Петя, будешь медведь и пойдешь из этого угла; ты, Гриша, и ты, Вова, — два товарища, пойдете от окна. Вот эта табуретка будет дерево. Один из вас полезет на дерево, а другой упадет и притворится мертвым...
Класс привстал, трое ребят разыграли сценку: один бросился на «дерево», другому медведь что-то «прошептал на ухо».
— Что тебе говорил медведь? — спросил первый.
— Говорил, что ты трус: бросил товарища в беде.
Класс ожил, холодок исчез, охотников отвечать оказалось много, но Женя видела, кого еще надо «разговорить», а кого поучить сдерживаться и думать. Казалось, что дальше урок пойдет без всяких осложнений, но тут Гриша, любимец Жени, поднял руку.
— Что, Гриша?
— Так не бывает! Медведь полез бы на дерево, и тому, который на дереве — крышка...
Знатоку медвежьей психологии нужен был вразумительный ответ. Ответа ожидал целый класс. Женя растерялась, наступила заминка.
— Ну, тогда ты придумай другой конец. Медведь полез на дерево... А что дальше?
Гриша, а с ним и весь класс стали «ломать голову»: что же могло быть дальше?
Нашлись фантазеры:
— Он отломил сук и столкнул медведя...
— Он спрыгнул с дерева, и они убежали.
— Его товарищ сбегал за ружьем и застрелил медведя.
— Нет, не так, дайте я скажу...
В классе поднялся шум, и всем хотелось дополнить рассказ. Прозвенел звонок. Женя предложила ребятам дома придумать правдивый конец, нарисовать какую-либо картинку к этому рассказу.
Через несколько дней на педагогическом совещании с участием обследователей школы — делегаток — подводились итоги взаимного посещения уроков.
— Товарищи, задача совещания — выработать некоторые единые требования, или «правила для учителя», — сказала Агния Петровна. — Возьмем начало урока. Одни начинают его в повышенном тоне, устают сами, утомляют ребят: другие начинают работу, не обращая внимания на то, что происходит в классе, как будто задача в том, чтобы выложить все, что принесли на урок, а не в том, чтобы «вложить», вложить не только в уши, но и в души; третьи начинают с распекания нерадивых, тратят на это много времени, снижают интерес к работе. То же и с концом урока... Часто он остается просто незаконченным.
Агния Петровна разобрала несколько уроков и закончила:
— Скажу вам прямо: как молодым надо учиться у старых, так и старым у молодых. В нашем коллективе есть молодой товарищ, Евгения Михайловна, но когда я бываю у нее на уроке, я многому учусь, и ничему не могу научиться у Петра Игнатьевича. К ней дети льнут — а к нему нет, она говорит тихо — и ее слушают, он говорит громко — а его не слышат. В чем причина, что самый старый среди нас стал предметом разговоров в поселке? В том, что он далеко стоит от детей. А воспитателю надо подойти к ним близко, войти в душу. Какие для этого средства? Разные. Вот Евгения Михайловна дошла. А как? Уже по два раза побывала в семьях, пригляделась к каждому ребенку, прихорошила его; и главное, на уроке не выкладывает — берите, кто сколько может, а вкладывает в сознание; и она уже на уроке уясняет — дошло или не дошло, попала в цель или полетело мимо. Вот и хотелось бы, чтобы все хорошее, что вы увидели один у другого, стало нашим общим достоянием, а плохое получило наше осуждение и больше не повторялось. Ну, кто желает поделиться своими соображениями?
Желающих не находилось.
— Может быть, вы что-нибудь скажете, Евгения Михайловна?
— Что я скажу? Я учу, как меня учили, а хорошо это или плохо, пусть скажут другие. У Петра Игнатьевича я была на уроке. Ребята его изводят, и мне его жалко. Я бы взяла их в руки за одну неделю...
Все засмеялись. Женя сконфузилась и опустила голову.
— Кто еще?
— А я вам так скажу, только не обижайтесь, — выступила завуч Мария Петровна, старая, уже поседевшая учительница, которая сама уроков не вела, а ведала и канцелярией, и учебной частью. — Мы от детей требуем правдивости — будем правдивы и сами. Мы с годами теряем способность расти. А жизнь идет вперед, и мы отстаем. Лета теперь другие. Что они раньше приносили в школу? Страх божий, ворох суеверий: сознание того, что над ними бог, царь; наш удел — терпеть и молиться. Я помню это время. И как трудно было расправить душу ребенка, воспитать смелость, чувство собственного достоинства. А с чем сейчас приходят? Слышат от взрослых, что бога нет, царя нет, нечисти, какой раньше пугали, нет, человек вершит большие дела, человек — главный на земле, и главная задача — покорять природу, созидать; не скрюченная у ребенка душа, а с расправленными крыльями. Что же требуется от воспитателя? Развить, укрепить крылья, чтобы «взлетел», большим человеком стал. Вот вы ходите на уроки, а я провожаю вас и встречаю. Какие несете знания — это ясно, тут есть программа; а какой строй души — сами взвесьте. Говорите о нарушителях порядка. А может, такой порядок и следует нарушать?.. Насыщаем ли любознательность, активность, жажду деятельности? Сколько несем знаний, высоких чувств, которые бы отвечали величию планов и задач? Вот о чем думайте. Надо воспитывать на героическом... А его — куда ни погляди; не мне вам рассказывать — газеты читаете, радио слушаете...
— Может быть, вы что-нибудь скажете, Петр Игнатьевич?
— Выходит, отстал... Шел, шел впереди и оказался позади. Выходит, что и опыт из полезного становится вредным. А я думаю не так. Основательности нет. Где основательность в семье? Научите родителей, как вести себя при детях, как воспитывать. Ветер гуляет в семьях! Сходятся, расходятся. А где высота моралей? Ребенок в десять лет судья родителей. И судить есть за что. Строго судить. Теперь учитель. Не выполнен завет Ленина — поставить на недосягаемую высоту. В урокодателя превратили, а про воспитателя забыли. Вывел ученика за дверь — вот они, судьи, и налетели. Что ж, выходит, я глуп, изверг, враг детей? Народный учитель. наказал ребенка, и за это — преступник! На защиту учителя нужно стать! Спасибо сказать, а не судить! А вы взяли под защиту хулиганов, а учителя унизили. И еще скажу: быстро гонимся за новым, без оглядки, и забываем старое. А люди думали и до нас, и хорошо думали. И слово мы выхолостили, слово теряет силу. Слово появилось у нас в муках. В слово, как в сосуд, вложен смысл. И слову надо вернуть силу. У нас словами не дорожат, швыряют охапками, всяк, кому не лень, а больше те, кому делать нечего, кто за слово не отвечает. Слово надо ценить, в слово вкладывать душу. Много игры: на уроке игра, после урока игра; дело превращаем в игру. Заботимся, чтобы все было легко, гладко и сладко. А в жизни не так: хватает и горького и трудного. Доспехи нам снимать рано. Воевать еще придется! Вот я и говорю: меньше игры, меньше парадности, больше дела, твердости в школе, в семье, в быту. Шумихи много! Сделал на грош, а шуму на рубль. А лучше бы — сделал на рубль, а похвалы на грош. Пусть в самом труде находят награду...
Петр Игнатьевич надел шапку и вышел из учительской, остальные потупились и замолчали.
— Кто еще желает сказать? — спросила Агния Петровна.
После продолжительной паузы решительно поднялся Лысиков:
— Позвольте мне.
— Пожалуйста, Яков Фомич.
Говорил он вычурно, бессвязно и то, что всем хорошо известно. Женя чувствовала, что старается он ради нее. В последние дни изводил ее своим вниманием, любезностью, записками, в которых предлагал пойти то за виноградом, то за орехами, то просто прогуляться в тайгу. И сейчас она готова была последовать примеру Петра Игнатьевича, но оратор наконец закончил свою речь и сел, победоносно взглянув на девушку.
Агния Петровна стала обобщать и делать выводы. Все они оказывались повторением прописных истин, и она делала их без всякого воодушевления, а про себя думала: «Не то, не то... Нужно в сущности одно — хорошо работать, воспитывать трудолюбие. Воспитаем любовь к труду — все воспитаем: и сознательную дисциплину, и патриотизм, и волю: а не будет трудолюбия — ничего не будет. Труд — наше зеркало. Вот и надо, чтобы зеркало не укоряло. Не удалось совещание... Вот и старая, и опытная, а оркестр свой не настроила... А в нем должны звучать и старые и молодые голоса. Молодежь несет драгоценные качества: жар души, желание работать, душевную близость к детям, отсутствие рутины. Надо давать этому простор. У старых — мудрость, дальновидность. Вот и надо бы из всего этого создавать в коллективе свой надежный сплав. А как? Не научилась...»
Когда выходили из школы, Лысиков шепнул Жене:
— Завтра выходной — пойдем за виноградом! Буду ждать у дорожки. Сейчас в лесу благодать...
Женя вздрогнула... Какой-то дикий зверь стучится в ее светлицу, и она не может не слушать этого стука. Ее горячая готовность помочь Петру Игнатьевичу, как птица, улетела куда-то в сторону, а в оконце светлицы глядела хитренькая физиономия Лысикова, тянулись волосатые веснушчатые руки... «Надо рассказать жене, пусть она заставит его отвязаться... Неужели так можно жить? А к Петру Игнатьевичу пойду завтра с утра...»
/
* * *
На другой день Лысиков прошел перед окнами Жениной квартиры. В его руках были те же два ведра, и одно из них, не без умысла хозяина, упало и подкатилось к самому окну.
Женя торопливо оделась и догнала Лысикова.
— Яков Фомич, я иду к вашей жене и расскажу ей, как вы ее не уважаете, какой вы нехороший человек...
— А что плохого в том, что ты мне нравишься? Не выходишь из головы. Ты посмотри, какой сегодня день! Что плохого, если мы пройдем по тайге, посидим у костра? В моей жизни нет и не было поэзии, а я хочу... Я даже стихи стал писать. Хотите почитать?
— Поздно захотели поэзии. У вас трое детей, жена... Стыдились бы. А как вы вчера выступали? Все с душой, а у вас — ни души, ни ума. Не успели сказать, как уже все забыли, что вы такое сказали. До свидания! Иду к жене!.. Берегитесь!
Лысиков отбросил ведра и хотел удержать Женю.
— Глупая! Зачем? От меня все равно не уйдешь...
Первой на пути была квартира Петра Игнатьевича, и Женя сначала зашла к нему. Надо было что-то сказать этому человеку.
Домик учителя был обнесен жиденькой оградой из жердей и хвороста. За оградой лежал небольшой огородик; на земле дозревали тыквы, плети которых лезли на ограду, продолжали висеть тяжелые корзинки подсолнухов, торчали стебли кукурузы, под крышей висели папушки табачных листьев, вязанки лука, красного перца; картофель, фасоль и разная мелочь были убраны. У крыльца и позади домика лежали поленницы дров, заготовленных из тонких сучьев.
Петр Игнатьевич и его старушка жена пили чай.
— Здравствуйте. Шла в один дом, а попала в другой, — сказала Женя. — А у вас хорошо! Все видно — и поселок, и мо«ре, и горы. И огородик просто прелесть. Воображаю, как хорошо тут летом!
— Садитесь, садитесь к столу, — засуетилась старушка. — Мы вас напоим чаем, таким, какого вы ни разу и не пробовали: липовым, с лимонником. И чай и лекарство.
Через минуту Женя по-домашнему сидела за столом. Всегда приветливая к людям, она легко находила среди них свое место.
Посветлел и Петр Игнатьевич — вчерашней суровости не было и следа.
— Место хорошее. Сам выбирал. И видно далеко — это верно! А огород — без этого учителю нельзя. Ему не полагается жить в сорняках. К тому же — земля кормит: своя картошка, свои овощи. Тайга тоже не скупится. Моложе были — собирали свою долю и мы. Теперь собирают люди.
— А что собирают? Виноград? Лысиков приглашает меня за виноградом.
Старики подняли головы.
— Лысиков?! Вот ему-то и не верьте! — сказал Петр Игнатьевич. — Этот мягко стелет, да жестко спать. Вот пусть малость пригреет солнце да обсохнет листва, я вас свожу. Поглядите, какая она, наша тайга.
Через час Женя и старый учитель поднимались по той же дорожке, на которой она недавно объяснялась с Лысиковым.
— В тайге есть все, — говорил Петр Игнатьевич. — Только умей взять. Тут один может с голоду умереть, а другой жить припеваючи. Я тайгу знаю! Моложе был — в гости к ней ходил, а пришли американцы да японцы — на защиту стал, в партизаны пошел...
Рассказ об интервенции, о партизанских делах захватил Женю. Ей представилась суровая картина тех лет: боевые схватки, обветренные, обмороженные люди, заснеженные леса, тревожные дороги и тропы, горящие мосты. В ее глазах образ старого учителя представлялся подлинно богатырским: отстаивал и высокие принципы человеческой морали и родную землю. И тут еще больше окрепло желание помочь товарищу, каким-то образом взять на себя часть и его работы, чем-то помочь и старушке жене, внести в их жизнь какую-то надежду — какую, она и сама еще не знала. Ей казалось странным, что люди живут — как дни доживают, тогда как перед ней столько надежд, она — как птица, летящая навстречу солнцу, а они сидят в ничего не ждут...
Занятая своими мыслями, она плохо слушала, а Петр Игнатьевич говорил:
— Что собираем в тайге? Не только виноград: грибы, орехи, ягоду разную, лекарственные растения. Лес — тот же санаторий. Каких тут нет лекарств! В аптеке того не найдешь...
Они свернули с дорожки и стали подниматься в гору. В вершине ключа сделали передышку.
— Вот здесь и начинается наше царство, грибное, виноградное, всякое другое: лимонник, кишмиш, выше — кедрач, а еще выше — заманиха. Ну, конечно, зверь разный: изюбр, кабан, сохатый...
В это время рядом с ними послышался шорох, кто-то шел, не соблюдая никакой осторожности. Старый учитель встал на ноги, прикрыв свою спутницу.
— Кого-то несет нелегкая? Кабан или медведь? Теперь и они приходят на эти места кормиться...
— Не пугайтесь — свои.
К ним шел Лысиков и колол Женю глазами: «Была у жены или не была?» И решив, что жена ничего еще не знает, снова окатил девушку горячим похотливым взглядом.
— Со мной — не хотела, а со стариком пошла! — шепнул он, улучив минуту. — От старика, как от козла, — ни шерсти, ни молока...
... Когда, возвращаясь, они вошли в поселок, Женя сказала:
— Петр Игнатьевич, я зайду к вам завтра, сегодня мне надо к товарищу Лысикову, вернее — к его жене.
— Дело твое.
Лысиков, опешив, остановился. Женя пошла впереди и опередила хозяина на добрых сотню шагов. Когда он вошел в калитку, девушка уже держала на руках двоих его девочек и разговаривала с женой, а затем обратилась к детям:
— А вон и папа виноград несет! Скорей растите, в тайгу с ним будете ходить, а то он один боится, зовет с собою тетю...
— Какую тетю? — спросила жена.
— Да меня, только я предпочитаю с Петром Игнатьевичем. У вас он ненадежный..
Жена опустила руки.
— Каждую осень одно и то же. Когда ты, лысый черт, перебесишься?
Лысиков поставил ведра с виноградом, Женя поднесла к нему детей.
— Вот они, Яков Фомич, ваши виноградники. Посмотрите, какие милые. Возьмите, мне пора домой.
— Да нет, я вас не отпущу, поужинайте с нами да помогите мне пристыдить этого ловеласа. И такому доверили детей воспитывать?..
— Нет, я пойду!
— Ну, выпейте хоть стакан молока. У нас своя корова... — Женщина торопливо поставила на стол стакан и наполнила молоком. — У нас и хлеб свежий. Теплый еще. Вы с хлебом. Наливайте сами — кринка рядом.
Лысиков опустил на пол детей и вышел во двор.
* * *
Женя ждала зимы, ждала перемен. Она думала, что придет зима так же, как она приходила на родине:
Пришла, рассыпалась; клоками Повисла на суках дубов, Легла волнистыми коврами...Так было на Смоленщине. Иное в Приморье: прошел октябрь, к концу подходил ноябрь, а зимы все не было. Стояли солнечные, удивительно спокойные дни; солнце, молодость, избыток сил пьянили Женю. С утра в ней поднималась бурная радость, потребность деятельности, движения. Эту радость она несла в школу, в класс, и дети оживали. Уроки проходили быстро, незаметно, а после уроков тянуло в лес, на берег моря. В лесу она бывала часто и все более поражалась его красотой и яркостью, то и дело повторяла некрасовские стихи:
Около леса, как в мягкой постели, Выспаться можно — покой и простор!Иногда она сгребала ворох листьев, бросалась на него и прислушивалась к лесным шорохам, вглядывалась в синеву неба. Ясность в природе создавала такую же ясность в душе.
Бурю вызвало неожиданное обстоятельство: она получила второе письмо от своей подруги Кати Крупениной. Подруга писала:
«Ой, Женечка, не знаю, с чего и начать! Ну, одним словом, можешь меня поздравить: я вышла замуж. Понимаешь, это получилось как-то само собой. Мы этого даже не хотели, то есть так скоро. Один раз пошли за виноградом. Самые крупные кисти висели высоко, не достать, он и говорит: «Становись мне на плечо!» Я стала, срываю и передаю ему, а когда стала спускаться, повисла у него на шее и не могу оторваться. Ну, с этого и началось... И теперь мы довольны оба. Ты знаешь, я стала хорошей хозяйкой. А он много работает и всем нравится. Даже директору школы. Ну, а я стала такой доброй, что все надо мною смеются. На каникулы ты приедешь к нам. Тут хорошо. И люди хорошие. И Павлик совсем переменился. Очки надевает только когда работает, а прическа у него, как у Колесова. Да, Колесов женился! А жена, говорят, переменила уже не одного мужа. Павлик его осуждает. Говорит, что он морально неустойчив. Ты не огорчайся. Такие, как ты, нравятся всем...»
Письмо взволновало Женю, и первые дни она не находила себе места, работа валилась из рук, на уроках иногда забывалась и отвечала детям невпопад.
«Женился! Вот почему не было писем. Ни одного письма. Катя! Ей жизнь улыбается, а мне строит гримасы».
Она вспомнила Лысикова, табачный запах, веснушки и вздрогнула снова. Неужели жизнь не подарит ничего красивого? И все пойдет у нее так же, как у жены Лысикова или у жены плановика, измученных детьми, хозяйством, школьной работой, ставшей для них, как они говорят, наказанием. Их семейная жизнь представлялась Жене тусклой и безрадостной; казалось, что ни у мужей женам, ни у жен мужьям давно уже нечего сказать; живут и презирают друг друга.
С какого же места и почему жизнь превращается в сожительство по необходимости? Или это неизбежно? Нет, она, Женя, этого не допустит, она найдет свое счастье, наполнит жизнь большим содержанием. Сама того не замечая, она совсем по-другому стала смотреть на мужчин, с которыми приходилось теперь встречаться, старалась вглядеться в лицо, представить себе, что это за человек, что он может внести в семейную жизнь, сколько в нем душевной теплоты, ума, внутренней и внешней чистоты, насколько у него хватит высоких человеческих качеств. Иные ей очень нравились, даже пожилые и семейные, другие вызывали апатию, третьи, как Лысиков, отвращение. Она вновь и вновь перечитывала письмо подруги.
«Ах, Катя, Катя! Вот ты какая!..»
Внезапно наступившая зима изменила настроение Жени и натравила мысли в другую сторону.
В Приморье зима приходит в ясные солнечные дни, в звездные морозные ночи, по сухой траве, по опавшей листве, по мостам и гатям, наведенным морозами. Иногда дорогу зиме подметает огонь, что случилось и в эту осень. Из поселка, оброненный кем-то, убежал в тайгу малютка-огонек. Сначала он, как бабочка, перепархивал с одной сухой былинки на другую, затем, как раненая птица, то взлетал над травою, то падал и терялся в траве, а когда подобрался к густым зарослям кустарников, поднялся цепью и пошел водить хороводы, то припадая к земле, то поднимаясь во весь рост, то разрываясь на. малые группки, то протягивая друг другу руки и взбираясь все выше и выше, на склоны, на горные луга, на перевалы, а за перевалами скакал уже конницей — ни поймать, ни перенять...
Когда Женя впервые увидела хороводы огней, ею овладело беспокойство. Дело происходило в сумерки. Она сидела на своей кровати, подобрав ноги, не зажигая огня, и вдруг увидела на стене отсветы, лесного пожара. Она подбежала к окну. Казалось, горят не деревья, а люди мечутся в огне и вокруг огня, пытаются спастись и спасти один другого, протягивают друг другу руки, молят о пощаде.
Женя торопливо оделась, накинула платок и выбежала на крыльцо. «Огненная конница» пронеслась недавно, поэтому по сторонам дороги то там, то здесь еще копошились огоньки, белками бегали по валежинам. Женя повернулась к поселку. Никто не бежал на пожар, не звучал набат, люди укладывались спать. И снова с болью в душе она осознала, что нет у нее голоса, такого сильного, такого властного, чтобы заставить людей очнуться, увидеть плохое, вступить с ним в борьбу, дружно, всем заодно, и победить.
— Ну что ж это такое? — произнесла она вслух. — Почему же вы спите?..
А на другой день пришла зима. С утра небо было затянуто тучами. Лес, и горы, и море ушли в себя, сосредоточились, загрустили. В воздухе стали порхать редкие снежинки. Они не вдруг падали на землю, а сначала медленно кружились, точно искали места, где бы поудобнее улечься. Но чем дальше, тем больше их появлялось, тем торопливее падали, застилали горизонт, закрывали белой кисеей сначала самые отдаленные, а потом все более близкие горы. И вдруг, словно недовольный кем-то, налетел порывистый ветер; снежинки заметались, струйками поползли по земле, с дорог — к заборам, в канавы, с пригорков — в ложбины, быстрее помчались по улицам, по кустарникам. Море почернело и взбунтовалось.
К полудню ветер усилился, снег обрушился лавиной, закружился по улицам и проулкам, во дворах и на огородах, а ветер стал пробовать прочность крыш и заборов, оконных ставен, столбов, и все, что поддавалось, швырял в сугробы, засыпал снегом, буянил.
Все слилось и смешалось в белом подвижном месиве: ни земли, ни неба, ни моря, ни гор — один мятущийся белый хаос. На маяке безостановочно кричала сирена, но ни ее крик, ни свет маяка не могли уже указывать дорогу мореходам. А в поселке все думали о тех, кто застигнут в море. По суше сюда дороги не было, шли по морским ухабам; поэтому в часы непогоды, иногда они тянулись по нескольку суток, всякий и мыслями и сердцем был прикован к морю. На этот раз в отлучке были два катера: один ушел на юг во Владивосток, другой к северу, в бухту Ольга. Где они и что с ними теперь?
Сумерки наступили внезапно. Занятия в школе прервали; учителя ушли разводить ребятишек по домам. Предоставить их, как обычно, самим себе никто не решался.
Женя занималась в первую смену, и ее ученики вовремя добрались до дому, но когда она увидела на крыльце школы своих товарищей и ребятишек, торопливо оделась и выбежала во двор.
— Правильно! Одних нельзя! Я помогу, помогу... Кого вести?
— Да как же ты поведешь? — накинулась на нее Мария Петровна. — Ты не знаешь квартир, а второе — посмотри на свою обувь. Шаг сделаешь — и туфли потеряешь. Ступай домой, справимся без тебя.
— Ну, я вместе с вами, вам помогу...
— А я и без тебя справлюсь, иди к себе, — настаивала старая учительница.
Женя сделала несколько шагов и вдруг остановилась.
— Мария Петровна, я туфель потеряла.
— Ну, а я что говорила? Марш домой... Теперь до весны будешь на одной ноге прыгать. Держитесь, ребята, гуськом, один за другого...
У ворот школы ребят стали встречать родители, и некоторые из них брали под свое покровительство и своего и двоих-троих соседних. У Марии Петровны осталось двое, ученики четвертого класса, мальчик и девочка. Она прошла с ними шагов двести, выбилась из сил, увидела, что не дойти самой и детей не довести, остановились и не знала, что делать.
— Мария Петровна, вы идите назад, мы сами, — сказал мальчик.
— Нет, так нельзя. Держитесь за меня. Я передохну минутку...
Три жалкие фигурки — старенькая учительница и двое ребят — стояли, прижавшись друг к другу, а ветер безумствовал, швырял в глаза, на головы и под ноги охапки сухого колючего снега, не пускал ни влево, ни вправо, не позволял сделать ни шагу, валил в сугроб.
— Покричите-ка, ребятки, может быть, вас услышат. Зря мы пошли из школы. Кто мог подумать? Ну, я буду считать раз, два, три — крикнем все трое... Раз, два, три!..
Ребята крикнули, но крик был такой слабый и жалкий, что его и в десяти шагах нельзя было расслышать; к тому же завывал ветер, и кто бы мог отличить детские голоса от голосов вьюги?
Мальчик все время. рвался вперед.
— Мария Петровна, пустите! Я дойду. Тут близко. И я за вами приду с папой...
Но учительница не отпускала мальчика и в то же время не видела выхода из своего положения. А между тем снегу намело выше колен.
Дети стали плакать. Слезы катились и по лицу учительницы.
— Что же это такое? Как же мне быть? За что ж такое наказание?.. Пойдем...
Она сделала еще сотню шагов и остановилась — вновь захватило дыхание. Перед мысленным взором отдельными вспышками проносилась вся ее жизнь. Никакой соринки на совести не было. Она до скрупулезности точно выполняла все «заповеди» человеческого общежития. Никакой самый строгий судья не мог бы предъявить ей ни малейшего обвинения, все делала так, как следует делать, и такой конец — губит детей. Пустить одних не может, вести за собой не в силах. Вдруг ноги подкосились, сердце сжалось, голова отяжелела, и она упала в снег.
Ребята стали кричать, звать на помощь, и через несколько минут их же родители, уже побывавшие в школе, обнаружили в снегу и своих детей и старую учительницу.
Жизнь Марии Петровны
Мария Петровна жила в центре поселка, в домике, который раньше служил школой и квартирой учительницы; впоследствии, когда поселок разросся и учеников прибавилось, для школы выстроили новое здание, а старое приспособили для двух квартир. В одной из них так и осталась жить старая учительница. На ее глазах происходили здесь все перемены: приезжали новоселы, строили дома, теснили тайгу, дети становились взрослыми, расходились по свету и терялись из поля зрения, как ни следила она за судьбой каждого из своих учеников.
Сюда и принес ее один из родителей, тогда как другой разводил ребятишек по домам. Она была в обморочном состоянии.
«Легонькая совсем. В чем только душа держится?» — думал он, увязая по колена в снегу.
В лютую непогоду он доставил сюда врача и Агнию Петровну, с которой пришла и Женя, но все их попытки привести учительницу в сознание ни к чему не привели. Последняя искра погасла — Мария Петровна скончалась.
Мужчина ушел проводить женщину-врача. Агния Петровна и Женя остались на ночь в квартире покойной. Женя с испугом следила за тем, как Агния Петровна и сторожиха обмывали и обряжали учительницу, не смела приблизиться и не упускала из виду ни одной детали из того, что происходило. Ее внимание приковали к себе руки Марии Петровны. Она видела их еще сегодня живыми. беспокойными; и вот они, желтые, безжизненные, свисают как плети, послушно ложатся на грудь одна на другую, — они все уже кончили и больше не сделают никакого движения. Женя не осмеливалась взглянуть в лицо покойной; ей казалось, что вся ее жизнь заключалась именно в руках, и смерть — это смерть вот этих недавно таких деятельных рук.
— Придется нам ночевать здесь, — сказала Агния Петровна. — Только есть ли у нее керосин.
Она взяла в руки коптящую керосиновую лампу и слегка встряхнула.
— Лампа пуста. Ты посиди здесь, а я схожу к себе за керосином.
— Агния Петровна, я боюсь. Оставайтесь вы, я схожу...
— Ну, глупая! Чего ж тут бояться? В жизни еще и не такое встретится. Тебя посылать опасно: не ровен час — собьешься с дороги. Я сейчас... Посиди минутку...
Агния Петровна ушла. Женя уселась поодаль и не сводила глаз с покойной. Вдруг ей пришла мысль, что в смерти Марии Петровны виновата она, Женя Журавина: «Ну, почему не пошла с ребятами я? Ничего бы этого не было...»
Ей до боли стало жаль старую учительницу. Она вспомнила, как они впервые встретились, как строго обошлась с нею Мария Петровна и как затем постепенно «теплела», стала приглашать к себе, угощала, показывала все, что было у нее лучшего, предлагала брать все, что нужно, особенно книги. А книг было много, и среди них такие же старые, как, пожалуй, и сама учительница, изданные в начале нашего века, книги — ровесники и спутники, главным образом учебники, по которым она училась, и другие, по которым учила ребят.
«А я, кажется, ни разу не сказала ей ласкового слова. А надо было помогать, как матери, ухаживать, как за больной...» Женя расплакалась, и желтый кружок пламени над лампой расплылся в большой тусклый круг, а бурая струйка копоти, поднимавшаяся к потолку, разрослась в целое дерево. И вдруг лампа погасла, все потонуло в непроглядной темноте, только чуть выделялись два серых пятна — оконца. Женя, не отдавая себе отчета в том, что делает, нащупала дверь, осторожно открыла и вышла в коридор. Над крышей и возле стен буйствовал снежный смерч; домишко скрипел и, казалось, напрягал все силы, чтобы удержаться на месте. В коридоре Женя почувствовала еще больший страх, выбежала на крыльцо, сделала шаг вперед и очутилась по пояс в сугробе.
— Ой, что ж это я делаю? Идти нельзя... Постою здесь. — Она прислонилась к стене и жадно вдыхала холодный воздух.
Меж тем метель швыряла в нее охапки снега, забивала уши, глаза, рукава.
— Постою, пока не придет Агния Петровна.
Рядом с нею светилось оконце на кухне Лысиковых, но постучать к ним казалось кощунством: происшедшее представлялось таким большим и торжественным, что она предпочла слушать голоса вьюги, нежели, как ей казалось, неискренние соболезнования соседей, живших не в ладах с Марией Петровной.
Сколько простояла Женя и сколько бы еще могла простоять, если бы на нее не наткнулась Агния Петровна, — трудно сказать.
— Ты это что? Что с тобою? Ты вся в снегу! Женя, очнись!
— Ах, это вы... А я, кажется, задремала...
— Нашла где дремать... Вот глупая. Ну, пойдем. Да стряхни с себя снег!.. Ты же в сугроб превратилась!
Через минуту комната покойной приняла прежний вид. Две женщины, молодая и старая, прислонившись друг к другу, сидели возле печи; керосиновая лампа по-прежнему коптила, окна были залеплены снегом...
Ночи, казалось, не будет конца. Агния Петровна рассказала Жене о своей жизни.
Муж Агнии Петровны погиб на фронте во время первой мировой войны; старший сын и дочь вступили в комсомол, как только возникла эта организация, разъехались в разные концы страны. Письма, вначале частые, горячие и длинные, постепенно становились все реже и короче. Второй сын погиб в войне с белофиннами.
— Что же поделаешь? Видно, такое нынче время. Вот и ты оторвалась от своих и куда закатилась, — говорила она Жене, прижимая ее к своему плечу.
Женя покорно прислонилась да так и просидела до утра.
— Теперь чем мы живем, старые люди? Не своим личным — много ли нам надо? И не родичами — где они? А нашим общим, советским. Хорошо оно — значит, и моим детям и мне хорошо, а плохо — значит плохо всем, и плохое надо изживать. Пора бы и в сторону отойти — вам, молодым, уступить дорогу; да как отойдешь? Кому передам школу?
Вот и жду смену, чтобы отойти и глядеть с радостью, как у вас лучше нашего получается.
У Марии Петровны жизнь сложилась по-другому. Ее жениха, студента, арестовали за месяц до свадьбы, сослали в Сибирь, и там он умер от туберкулеза. И это зажгло в ней непримиримую ненависть к самодержавию, ко всяческой неправде, в большом и малом. Не было на земле человека, какой бы пост он ни занимал, которому бы она не говорила правду в глаза. Счастье ее, что вот уже почти четверть века она жила при советской власти. Тут и бездушный понимал, что за ней стоит большая правда, и поэтому уступал. Она была у населения поселка вечным ходатаем и заступницей, делила печали и радости каждой семьи в отдельности и всех вместе.
— Да, а ты знаешь, ведь она тебе завещала все свое добро. Однажды, когда ты ушла на урок, она при всех сказала: «Вот моя наследница. Пусть она распорядится моим добром, как ей захочется».
— Агния Петровна, да зачем это мне? Ничего я не возьму. Я боюсь притронуться к этому.
— Воля покойной священна...
Тайфун бушевал двое суток и оборвался так же внезапно, как и налетел. Сугробы намело по самые крыши, залепило снегом стены домов, окна, деревья; но когда небо очистилось и над морем поднялось солнце, мир сразу же помолодел и, казалось, сам на себя загляделся. Никем не потревоженный, чистый, белый до боли в глазах, лежал снег, сверкавший неисчислимыми искорками. Люди тоже казались помолодевшими, и, как ни хотели иные сделать приличное случаю печальное лицо, улыбка, как солнце из-за туч, прогоняла грусть, и разговор сам собою переключался на что-нибудь веселое. То же происходило и с Женей. Люди, кто с лопатой, а кто и без нее, смело лезли в глубокий снег, прокладывая тропинки; подростки толкали друг друга в сугробы, и ей захотелось во всем этом принимать участие. Увидев уборщицу, разгребавшую снег возле школы, Женя направилась к ней:
— Тетя Шура, давайте-ка я!
— Что вы, Михайловна! Разве это ваше дело?
Женя выхватила лопату и, так как «тетя» была немногим старше «племянницы», бросила в нее большой белый ком, который рассыпался по плечам, опушил волосы, ресницы. «Тетя» не осталась в долгу, и через минуту обе, потеряв степенность, швыряли одна в другую охапки рассыпчатого снега. Только когда уборщица спросила о времени похорон, Женя пришла в себя:
— Ой, да сегодня же... Как же я пойду такая. Тетя Шура, отряхните меня хорошенько.
... Похоронная процессия протянулась через весь поселок. Все — старые, и малые, и женщины с грудными детьми — вышли проводить в последний путь свою учительницу. Впереди ученики старших классов несли на подушечках награды: медаль «За трудовую доблесть» и орден Трудового Красного Знамени, а также венки из хвои пихт и веток комнатных растений; за ними четыре пожилых рыбака, когда-то ученики покойной, несли гроб, за гробом шло население поселка.
Когда все подтянулись и расположились вокруг могилы, рядом с которой стоял открытый гроб, выступила Агния Петровна.
— Товарищи, Мария Петровна ушла от нас, ушел самый совестливый и самый беспокойный человек. А беспокойство ее было не о себе, и жила она не для себя — для всех. Сорок два года служила она народу, служила честно, бескорыстно, от всего сердца. Пусть же будет ей пухом земля, а мы унесем в сердце светлую память о ней и будем, как она, любить правду, народ, родину, служить им так же, как и она: бескорыстно и от всего сердца...
Пожилой мужчина, один из тех, кто нес гроб учительницы, сказал:
— Мария Петровна учила нас, учила наших детей, а потом и внуков. Она пришла к вам девчонкой — это было еще на западе, — а когда переселились сюда, переселилась и она. Она нас и учила, и лечила, и судила, и была нашим ходатаем перед начальством. Верно сказано: жила не для себя — для других. Спасибо ей за ее труд, за тревогу обо всех. Место мы выбрали ей хорошее, далеко видно. А могилку ее мы огородим и памятник поставим. Такими людьми правда держится. За себя не постоит, а за правду — ни перед кем не отступит...
Когда гроб опустили в могилу и все стали бросать по горстке земли, женщины расплакались, ученики сосредоточились, точно на какой-то миг и они стали взрослыми.
Женя ушла с кладбища последней. Свежий холмик могилки, один не прикрытый пеленою снега, вдруг наступившая тишина, и эта изумительная прозрачность воздуха, и безбрежные дали над морем и над горами наполнили душу чувством величия жизни. Она остановилась, осмотрелась и словно все вокруг увидела впервые: какая же она, земля! какая жизнь!..
Бывают такие минуты прозрения, когда человеку все кажется несколько иным, новым, когда даже самое обычное приобретает характер необычности и даже необычайности, словно поднимается человек на новую ступень, более высокую, чем та, на которой стоял, словно глаза его вдруг приобретают большую способность видеть, а сердце — вмещать.
Женя вспомнила любимую поговорку отца: «Жизнь прожить — не поле пройти за сохою; жизнь — дело сурьезное, играть ею грешно...»
Она шла домой одна и перебирала в памяти все события своей жизни, первые шаги на жизненной дороге. Давно ли приехала сюда, и вот уже вступила в такие сложные отношения и с таким множеством людей. Ее жизнь переплелась с жизнью учеников, родителей, товарищей по работе, Петра Игнатьевича, директора школы. Никто ее здесь не знал, не подозревал о ее существовании, но вот она пришла, заняла свое место, повела свою линию — люди ее увидели, услышали, определили и к ней свое отношение. Дело жизни становилось большим и серьезным. Но так ли она поступает? Что бы сказал отец?
Женя стала оценивать свое поведение, свое отношение к отдельным людям. Ученики? «С ними все в порядке, — думала она, — я отдаю все, что могу, и они платят мне тем же. То же и с родителями. Но вот товарищи по работе? Мария Петровна! Почему я не пошла вместо нее? Испугалась? Поленилась? Надо во всем идти до конца! Большой мне надо быть, строгой. С этой минуты я буду совсем другою. Надо взять себя в руки и ни перед чем не отступать... Папа говорил: «Зло прожорливо — дай ухватить палец, откусит руку...»
* * *
На другой день наиболее ценные вещи Марии Петровны: стол, шкаф с книгами, сундук, служивший комодом, и небольшой дорожный чемодан — были доставлены в комнату Жени.
— Агния Петровна, ну зачем все это мне? Я не могу пользоваться этим...
— Пусть постоят, там будет видно. Посмотрим, что здесь есть, чтобы ты знала...
— Я не буду смотреть, смотрите сами.
— Женя, нельзя же так! Это воля покойной. Ее надо уважать! Если бы она знала, что ты так отнесешься, это огорчило бы ее и оскорбило...
Агния Петровна стала открывать один за другим ящики стола. В левом лежало около десяти толстых исписанных тетрадей. Некоторые из них состояли из десятка-двух сшитых в одну ученических тетрадок, одна — представляла собой конторскую книгу, другая — классный журнал. На каждой стояла надпись «Для памяти» и годы «1912—1917», «1918—1924» и т. д.
— Ну, вот ее дневники, а вернее — записки. Кое-что она мне читала. Это она доверила тебе. Тут копилка и житейской и педагогической мудрости...
Правый ящик был заполнен связками писем. На связках были надписи: «Письма учеников», «Письма родителей учащихся», «Письма Сережи», «Разные».
— О письмах она ничего не говорила, письма придется сжечь: читать их нам не дозволено, — сказала Агния Петровна и отложила их в сторону.
В среднем ящике находилась чайная посуда, ножи, вилки; на дне сундука, под бельем, в футлярах — два обручальных кольца, золотой массивный браслет, серьги, овальный медальон на золотой цепочке, серебряные подстаканники и по полдюжине чайных и столовых ложек.
— А вот это ты должна беречь как память о Марли Петровне. Жалко, что ты не успела с нею сблизиться. Это был кристальной души человек. Она тебя лучше разглядела, чем ты ее. Не раз, когда ты уходила из учительской на урок, она отзывалась о тебе с большой теплотой. А на такие отзывы она была очень и очень скупа.
Расставленные и разложенные в комнате чужие вещи производили на Женю тягостное впечатление, и она сторонилась их, точно это были одушевленные предметы, но постепенно, вольно и невольно она стала заглядывать в книжный шкаф, - а затем и в дневники Марии Петровны, открывая и тотчас захлопывая пожелтевшие страницы. Ей казалось, что она занимается подглядыванием, и это оскорбляло чувство собственного достоинства.
В книжном шкафу были произведения классиков русской литературы и критиков: Писарева, Добролюбова, Чернышевского, Белинского, педагогические труды Лесгафта, Пирогова, Ушинского, методические пособия и учебники начальных классов за добрую половину века. В объемистых тетрадях-дневниках, исписанных, четким учительским почерком, были и стихи боевого революционного содержания, и краткие описания событий, и даже списки учеников, поступавших в школу. Тетради красноречиво говорили о том, что автор был одиноким человеком, что сплошь и рядом единственным его собеседником были вот эти листки бумаги и та большая общечеловеческая правда, которую избрала она своим спутником и которой служила преданно и бескорыстно.
Жизнь Жени была заполнена до отказа текущими делами, поэтому чтение книг и дневников она откладывала «на потом», хотя и перелистывала их все чаще и чаще, а вещи, белье и платье раздала. Больше всех одарила она Марию Сомову, мать ученика Гриши. Гриша обнаруживал большие способности, и Женя готова была делиться с ним и его матерью всем, что было в ее распоряжении.
После смерти Марии Петровны на плечи Жени легла новая нагрузка: обязанности завуча. Никто из старых опытных учителей не желал сидеть в школе «с темна до темна», и Агния Петровна уговорила Женю вести канцелярию и следить за порядком в отсутствие директора.
— Учебно-воспитательной работой будем руководить вместе. Да и лишняя зарплата не помешает: вам надо приодеться, послать родителям...
— Агния Петровна, ну какой же я руководитель? А родители? Да они ничего от меня не возьмут. Вот увидите: пошлю, а они обязательно. что-нибудь купят и мне же пришлют.
— И это хорошо. Расти вам нужно. Крепче будете стоять на ногах, вам же будет лучше.
Женя согласилась с одним условием: работать она будет, но не будет «руководить».
— Я буду делать, а руководите сами...
Новые обязанности заставили Женю все чаще обращаться к книгам Марии Петровны. Теперь они не пугали, а, казалось, сами приглашали на беседу.
Однажды в непогожий выходной день — в погожие было не до этого — она раскрыла шкаф, пододвинула стул, уселась перед полками и сначала долго и безмолвно смотрела на корешки книг. «Как много написано! И зачем столько? Все ведь просто и ясно... Надо только делать...»
В школе и затем в педагогическом училище Женю не научили любить и читать книги. Она уходила в жизнь с убеждением, что все, что нужно знать, уже знает, а чего не знает, без того можно обойтись; главное — делать, действовать; ошибешься — можно поправиться. К теориям душа у Жени не лежала. Это была деятельная натура и в деле, в действии искала пищу для ума и для сердца.
По-видимому, иного мнения придерживалась Мария Петровна. Главное место в ее квартире занимали книги. Пожалуй, книги составляли и главное богатство. Она содержала их в образцовом порядке и, судя по закладкам, по заметкам на полях и на закладках, читала и перечитывала по многу раз, вдумывалась в каждое слово. Женя читала наспех, «пробегала», и только затем, чтобы найти в книге новый, может быть более совершенный «рецепт», как поступить в том или ином случае, но в рецептах она не особенно нуждалась: выручал собственный здравый смысл и горячая преданность делу.
Беглый просмотр библиотеки убедил Женю, что она владеет большим богатством, что перед нею не просто шкаф с книгами, а целый мир — столько в нем заключено живых людей, мудрых, думающих, страдающих, счастливых и несчастных, столько величественных событий: Бородинское сражение по роману «Война и мир», «Железный поток» Серафимовича, «Дворянское гнездо» Тургенева, «Чапаев» Фурманова, стихи Некрасова и Маяковского. И она решила, что отныне все свободное время потратит на «прогулки» в этот мир, но прежде всего ознакомится с дневниками Марии Петровны: может быть, они научат быть серьезной; Женя все еще считала себя легкомысленной девчонкой, а всех остальных серьезными и многознающими.
Первая же тетрадь и первая страница поразили Женю:
«10 сентября. Клянусь тебе, Сережа, быть верной нашим заветам. Если тебе замкнули уста, то мои открыты; если заковали твои руки, то мои свободны; если ты в заточении, то я на воле; если нас с тобою двое, то я воспитаю сотни: я решила стать учительницей.
Я меняю город на деревню, покой на беспокойство, довольство на нужду, сытость на голод, праздность на труд, но зато и ложь, которой мы жили, на правду, которой будем жить...»
Женя закрыла тетрадь. «Сережа! Это жених Марии Петровны, революционер. Она клялась ему быть верной заветам. Какие заветы? Конечно, борьба за революцию. Что же и на что она меняет? «Город на деревню!» А у нас девчонки повыходили замуж, чтобы не ехать в деревню! «Сережа!» Странное совпадение. И у меня Сережа! Только какой же он мой? И никаких обетов не требовал и сам не давал... Индейцы, стихи, красивые слова, — вспомнила она свою прогулку в лесу. — Нет, этого Сергея ничто не волновало, не звало на борьбу. Он был спокоен... Ах, спокойствие! Можно ли быть спокойным, когда так много дел не доделано, а еще больше — не начато!..»
Женя стала читать следующую запись:
«24 сентября. Приехала к месту работы. Явилась к священнику. Благословил, ткнул руку к губам, поцеловала. Вечером пришел староста. Пожалел, что я маленькая; лучше бы прислали мужчину: учить и не бить нельзя... Заметил, что и рука у меня маленькая; спросил: не отсыхает ли? Я взглянула на его руку — пальцы толстые, и на каждом следы увечья: то содран или расколот ноготь, то свежая ссадина. Я прониклась уважением к его рукам. Это они делают все, чем мы пользуемся. Мне хотелось пожать эту руку, но он не протянул ни когда вошел, ни когда уходил. Неужели стесняется? А я очень стесняюсь. И знал бы он, как я уважаю таких, как он. Вечером пришла старушка с хозяйской половины и стала спрашивать, скоро ли страшный суд. Оказывается, сбывается пророчество: пошло царство на царство, народ на народ, брат на брата, сын на отца; скоро наступит мор и глад; по земле уже ходит антихрист, но все время меняет личины, и распознать его невозможно. Старушка боится, чтобы светопреставление не началось зимою: пуще всего не любит холода».
Женя сделала паузу, вспомнила, как приехала к месту работы она, как ее встретила Агния Петровна, улыбнулась: «Спасибо ей, она понимающая». Стала читать дальше:
«26 сентября. Отслужили молебен перед учением. На молебен пришла вся деревня. Священник окропил школу и всех присутствующих «святой водой», допустил приложиться ко кресту, евангелию и своей руке. После молебна была проповедь: бога бойтесь, царя чтите; за богом молитва, за царем служба — не пропадет; кротость, смирение, послушание, соблюдение постов, праздников, посещение церкви — главные добродетели. И в каждом слове угроза, за все грехи — кара и в сей жизни и в будущей.
Первый урок — закон божий; священник провел его сам; я сидела и слушала. Сначала он проверил, у всех ли есть нательные крестики, затем стал учить, как нужно складывать персты и осенять себя крестным знамением, проверил, какие молитвы знают ребята, попытался хором разучить «Отче наш»; мне сделал наставление: начинать и кончать уроки молитвой, пуще всего воспитывать «страх божий», посещать церковь.
Когда он уехал, перед ребятами выступила я. Поднялись парни выше меня ростом и почти ровесники, и рядом с ними малыши; девочек только две, а всего тридцать человек. Некоторые учатся четвертый год, но читать и даже говорить не умеют. Я спрашиваю, а он молчит и смотрит в угол... Что я буду с ними делать?..»
Дневник захватил Женю: она читала не отрываясь, удивлялась, негодовала, радовалась, что подобного уже нет, что ее жизнь наполнена светом; поражал также живой интерес учительницы к судьбе каждого ученика. Некоторым из них были посвящены целые страницы с добавлениями и соображениями на следующих. Женя то и дело захлопывала тетрадь и подолгу размышляла, делала закладки, подчеркивания, чтобы еще и еще раз вернуться и поразмыслить.
«11 ноября. Парни вернулись с заработков». В сентябре уехали, в ноябре вернулись: работы нигде нет. Двое приходили ко мне, спрашивали, как работает паровоз, телеграф, на чем держится луна и солнце. Истощенные, бледные, но глаза горят, слушают с жадностью. А дома есть уже нечего. Как же нелепо устроена жизнь! Земли много, руки просят работы, желудок просит пищи, голова — знаний, сердце — ласкового слова, все это возможно, но ничего этого нет».
И снова сидит Женя над раскрытой тетрадкой, смотрит перед собой и ничего не видит, потому что смотрит в минувшее и в свою душу: «Как же это все так было! И как хорошо, что стало не так. И какое же спасибо тем, кто все передела л, что все пошло по-новому».
«10 марта. Как часто здесь пускают в ход кулаки и как много плачут, особенно дети и женщины. Дети, очевидно, потому, что на них не обращают внимания, — иногда и на них сыплются проклятия: «Погибели на вас нет! Чтоб вы подохли! Наказание господне!» Для детей не находят ласкового слова. Женщины плачут от нужды и темноты. Ефросинья показывала синяки по всему телу: муж винит в том, что она, некрасивая, «присушила» его, красивого, тогда как сам же в первый год замужества - называл «писаной красавицей». «А теперь, когда дети иссушили, стала немила, на другую залицается...»
«20 июня. Как много над ними начальства. Сегодня пыталась сосчитать: десятские, сотские, староста, старшина, стражник, урядник, пристав, земский начальник, исправник, уездный и т. д. И все грозят, все возвышают голос, всяк готов пустить в ход кулаки. И никто не обойдется по-человечески, никто ничему не учит. Священник учит покорности. А я? Чему учу я? Боже, какая малость! А знаний нужна гора! Кажется, будто у всех одна задача: пригнуть человека к земле так, чтобы он не распрямился и ничего бы кроме земли, под ногами не видел. Когда же придет конец? Сегодня у Еремкиных увели со двора последнюю корову. Пытался вырвать поводок, толкнули в грудь, отлетел в сторону...»
«15 августа. Снова мобилизация. Берут ратников второго разряда — последних кормильцев. По деревне плач. Который раз за эту войну? Брали молодежь, светловолосых голубоглазых парней. Как рожь, «связали в снопы», положили, на землю и всех перемолотили. Вернулось несколько калек. Теперь на смену сыновьям пошли отцы. Забрали лучших лошадей, лучшие телеги, сбрую, выгребли овес... Не сплю ночами, приникаю к окну, выхожу на крыльцо, смотрю в темноту, на запад. Там творится что-то нелепое: взрослые люди потеряли разум, убивают и калечат друг друга, разрушают города и села, а в тылу, с той и другой стороны, священники благословляют идущих на убийства, призывают на помощь бога, обещают счастливую жизнь... на небе. Вот оно, лицо нашего мира! Как оно ужасно! Земля порвана на клочки, разграблена и присвоена. Вступающим в жизнь не оказывается места. Нищие, темные деревни. Их сознательно держат в нищете и темноте. Кто же они, сидящие наверху? В чем их идеалы? Во имя чего эти жертвы? Моральные банкроты, себялюбцы, лицемеры, лжецы и трусы. Боже, неужели в сердце не окажется места ни для чего другого, кроме гнева и ненависти! 1916 лет молимся о любви к ближнему — и вот она любовь! Сколько написано книг, сказано хороших правильных слов — и куда пришли! Неужели нельзя свернуть на другую дорогу?..»
«Февраль 1917 г. Сереженька, родной... Где ты теперь? Мечта твоя осуществилась: солнце новой жизни взошло! Как мы будем теперь счастливы. Люди одумаются, посмотрят, что натворили, ужаснутся, «перекуют мечи на серпы и плуги...»
Женя задумалась над судьбою Марии Петровны. Сережа, конечно, не пришел; после Февральской революции сколько еще было грозных событий! Какую мечту, какую чистоту пронесла она через всю жизнь!
Женя продолжала читать:
«Июль 1917 г. Что же такое происходит? Снова зовут к войне, снова стреляют в рабочих; крестьяне по-прежнему без земли; та же нужда и темнота. Правда заволакивается тучами. Какая жестокость, какая нелепость...»
«... Ноябрь 1917 г. Свершилось: тучи рассеялись, снова показалось солнце. Русский человек, усталый, измученный войною и неправдами, встал во весь рост и сказал народам: «Остановитесь! Одумайтесь! Посмотрите, что мы наделали? Кому все это нужно? А ведь мы люди, братья по труду, товарищи! Мы все это строили! Зачем же было разрушать? К миру зову, братья! К дружбе. Долой войну! (Власть Советам! Земля, недра, фабрики, заводы — трудящимся! Вот она — настоящая правда».
«Апрель 1918 г. Снова тучи заволокли землю, темные силы расправляют крылья. По деревням ползут слухи: обновляются иконы; старенькие, выцветшие, засиженные мухами, становятся «новыми»; сами собою по ночам звонят колокола; у чудотворной иконы «божьей матери» посыпались слезы; в Киево-Печерской лавре пошевелились мощи угодников — близится конец света. К чему тревожиться о земном, надо тревожиться о небесном: здесь прах и тлен, болезни, воздыхания, а там — радость и жизнь бесконечная. Из четырнадцати государств ползут на нашу землю темные силы: «К Москве, к Москве! Сорвать красное знамя! Убить знаменосца! Потушить огонь революции...»
Обо всем этом говорили Жене и в школе-семилетке и в педагогическом училище, но тогда все это скользило по поверхности сознания, теперь же, написанное от души человеком-очевидцем, взволновало душу и сделало участницей великих событий...
Прочитав дневники, Женя принялась за книги. Теперь они производили на нее совсем другое впечатление. Очевидно, и для чтения нужен «настрой», подготовка, нужно вырасти до уровня книги. В книге мы берем столько, сколько можем унести: сначала плаваем по ее поверхности, с возрастом погружаемся все глубже, начинаем извлекать со дна драгоценный жемчуг, познавать тайны глубин. Так было и с Женей: книги несказанно обогащали, поднимали душевный строй, вызывали желание пройти по тем местам, о которых говорилось в книгах, по родной земле, осмотреть и поле Бородина, и окрестности сельца Михайловского, и Ясную Поляну, и город Ленина; проехать — нет, лучше бы пройти — берегом Волги, от истоков до устья! Сколько к ней привязано сел и городов, сколько на ее берегах произошло событий, сколько о ней песен сложено, стихов и картин написано... В душу маленькой, еще неопределившейся женщины вошло большое чувство родной земли, с ее прошлым и настоящим...
«А весной, как только появятся цветы, соберу букет и схожу на могилку Марии Петровны, — думала Женя. — Нет, — передумала она, — буду ходить каждый выходной. А зачем ждать весны! Пойду в ближайший выходной...»
И она выполнила свое намерение.
Ключи к сердцу
В январе, в начале второго полугодия, Петр Игнатьевич вышел из строя. Перед школой встала новая трудность: кто поведет его класс? Уже в первый день, когда учитель не вышел на работу, лихорадило всю школу: бездельничающие ребята заглядывали в другие классы, носились по коридору, мяукали и раньше времени разбежались по домам, не выполнив задания.
Женя вызвалась первая:
— Позвольте мне. Хочу попробовать силы. Мне жаль Петра Игнатьевича...
Вести «распущенный» класс никто не хотел — за дополнительным заработком не гнались, — и все вздохнули с облегчением:
— Пусть попробует! Много на себя берет!
— Только я не буду завучем! Какой я завуч! Просто стыдно сидеть на этом месте.
— Я бы согласился заведовать учебной частью, — сказал Лысиков.
Все приветствовали и это решение, и Агния Петровна согласилась с ним.
Первый урок в чужом классе прошел у Жени мучительно. Все ее усилия навести порядок ни к чему не приводили. При этом, кроме двух переростков, Ковалькова и Пронина, сознательных нарушителей дисциплины не было, дети просто не умели сдерживаться, управлять собою. Что бы ни случилось: шум за окном — все бросались к окну, стук в коридоре — все готовы были бежать в коридор, отвечал один — все готовы были принимать участие; класс взрывался, как порох, от любой искры: непродуманного слова учителя, реплики ученика и «художеств» двух второгодников-переростков. В дальнейшем Женя пробовала ставить их у своего стола, оставлять после уроков, читать нотации, высылать за дверь — ничто не помогало. Последняя мера оказывалась наихудшей: дверь то и дело открывалась, иногда настежь, и два хулигана корчили рожицы, пели по-петушиному, и класс смотрел не на учительницу, а на дверь, ожидая следующей выходки.
— Ну что мне с ними делать? Посоветуйте! — обратилась она к педагогам.
Все потупились. Лысиков с готовностью отозвался:
— Я приду к вам на урок. Если понадобится, буду ходить каждый день. Мы их переломим.
Женя испугалась: Лысиков будет «ломать» у нее на уроке? Чему же она училась? Ломать — это больно. И детям и ей. Нет, надо найти какую-то струну! Войти в душу. Но какую? Как?
Лысиков пришел на урок, уселся на задней парте и сразу же взял на себя обязанности стража: на детей смотрел зверем, на учительницу — ягненком. Женю поразило совмещение в нем столь различных качеств. Когда же к концу урока ребята «выпряглись», непрошеный помощник обоих второгодников вышвырнул за дверь.
Женя возмутилась:
— Я прошу вас — не ходите ко мне на урок.
— Но я обязан! Я завуч!..
— Ну, хоть... две недели! Дайте мне самой... Я справлюсь...
— Надо вызвать родителей, — предложил кто-то. — Распустили — пусть воспитывают как умеют. Это их обязанность.
— Не умеют родители. В том и беда, — вмешалась Агния Петровна. — Кто их этому учил? Никто не учил. Родителям надо помогать, а мы их зовем на помощь. Не будем мешать Евгении Михайловне. Она сама найдет ключи. Она у нас умница...
Агния Петровна не ошиблась: Женя действительно нашла эти ключи, сначала к сердцу второгодников, а затем, с их помощью, и ко всему классу. И произошло это случайно, никакой педагогической мудрости или таланта она и не проявила, но, несомненно, проявила мудрость своего сердца.
Однажды, занимаясь во вторую смену, она оставила своих мучителей на час после уроков. Сначала она стыдила их, укоряла, говорила о долге перед родиной, перед родителями и с горечью убеждалась, что слова летят мимо, не шевелят ни одной струны, душа ребят на замке и отпереть ее не удается; но когда по истечении часа она вызвалась проводить их до дому и при этом сказала: «А то еще медведь задерет!» — флегматичный Пронин ответил:
— Не задерет! Теперь медведи спят. Черный спит в дупле, а бурый — в берлоге, где-нибудь под коряжиной... Теперь их можно самих задрать. Приходи и бери как миленького.
— А какой из них страшнее? — спросила Женя, для которой все медведи были «на одно лицо».
Приятели оживились и стали просвещать свою учительницу:
— Черный медведь поменьше, с белой грудкой, любит лазить по деревьям, на людей не нападает; зато бурый — с ним лучше не встречаться: не уступает и тигру; а до меда лакомки оба.
— Только бурый подхватит улей да в кусты, а черный расправляется на месте. Пчелы кусают, а ему хоть бы что! А если покусают лошадь, то лошади — смерть...
— Смотря сколько укусов, — дополнил приятель. — Один раз черный забрел в деревню днем — сначала мы жили не здесь, — а на него накинулись все: бабы, ребятишки... Тогда он на дерево, а мы окружили дерево, старик один с вилами, а ружья нет. Он сидит на дереве, а мы кругом...
Рассказам о медведях, казалось, не будет конца, и в глазах ребят звери выглядели «хитрее человека», а медвежата — такими же озорниками, как и сами рассказчики.
Исчерпав рассказы о медведях, стали говорить о волках, тиграх, о рыбах. Учительница оказалась хорошей ученицей: внимательно слушала, задавала много вопросов, искренне восхищалась, на какое-то время вовсе забыла свою роль; ребята увлеклись: перебивали друг друга, горячились и тоже забыли, что перед ними учительница, которая только что наговорила им кучу обидных слов.
Женя разворошила огромный запас ребячьего жизненного опыта и сейчас не узнавала своих «трудновоспитуемых», а они — свою «въедливую» учительницу. И когда затем шли втроем по улице, ей казалось, что рядом с нею — взрослый солидный народ, а Пронину и Ковалькову — что учительница самый понимающий человек, и за такую можно и в огонь и в воду.
На следующий день поведение «трудных» было безупречным. Больше того, они выступали непрошенными помощниками, ловили всякую удобную минуту, чтобы дополнить и уточнить свои вчерашние рассказы. Тогда Жене пришла мысль пригласить их на прогулку в лес — тропы уже были протоптаны.
Теперь в лесу было иное очарование, не уступавшее осеннему: тишина, избыток солнца, белизна снега, прозрачность воздуха, резкость теней, редкое, но такое милое пернатое население: поползни, дятлы, синицы, клесты.
Пронин и Ковальков с энтузиазмом приняли предложение учительницы. Войдя в лес, они сразу же стали экскурсоводами, а она — экскурсантом: она спрашивала — они отвечали, показывали и рассказывали, припоминали и то, что происходило здесь летом, и то, что слышали от других. Деревья они узнавали по коре и почкам, птиц — по полету, зверьков — по следам.
— Как вы, ребята, много знаете, — не удержалась учительница. — А я знаю здесь только дубок да березку.
— О, березки у нас разные. Эта, которую вы знаете, белая, эту все знают, а то у нас есть еще черная, а на горах — каменная; а мой отец говорил — есть еще железная, та тонет в воде, как железо. Это самое крепкое дерево, какое у нас растет.
Ребята отыскали амурский бархат, попросили учительницу потрогать кору.
— Ну что?
— Ой, гладкая какая...
— Это дерево называется бархат.
— А такое есть и у нас — сосенка! — сказала Женя, указывая на деревцо, стоявшее в стороне.
Ребята ринулись в сугроб, сломали ветку и показали учительнице:
— Это не сосенка, а кедр! Какая же это сосенка!? Мой папа лесник — он все деревья знает. Тут вот, смотрите, пучок из пяти иголок, а у сосны — из двух. Какая же это сосенка?!
Ребята узнавали на снегу следы зверей и птиц и рассказывали об их повадках. К удивлению Жени, в лесу у них появлялся значительный запас слов, слова были свои, особенные и располагались как-то по-особому. Иногда она просила их повторить сказанное и с интересом вслушивалась, как оно звучит, каким смыслом наполняется.
Незаметно они подошли к горной речушке. Речушка была сказочно красива: пухлые обрывистые берега из рыхлого снега, по руслу — валуны, точно крошечные домики под высокими снеговыми шапками; природные перекладины — ветровал, валежник под пышным снеговым покрывалом, на котором уже наследили зверьки и птицы.
— Но почему она не замерзает? — спросила учительница.
— Ого, как же она замерзнет, когда так быстро бежит? Когда бежишь — не замерзнешь, — пояснил Пронин.
— Много ты знаешь, — возразил Ковальков. — Река откуда? Из гор. А горы промерзают? Нет. Воду выжимает мороз, понятно тебе? Он жмет, а она бежит, он опять жмет...
— А если я тебя прижму, ты побежишь? Будешь на месте! Она сама разогревается...
Ребята продолжали спорить. Женя подошла к берегу заглянуть, как протискивается между валунов незамерзающая речка, и вдруг берег — снеговая глыба — обрушился, и она оказалась по колено в воде.
— Ой, ребята, спасайте...
Ученики бросились на помощь, протянули руки, но поскользнулись сами и, только сидя и пятясь назад, помогли ей выбраться из воды. Все трое были в снегу, руки коченели.
Пронин нашелся первым:
— Снимайте катанки! Скорей! Надо вылить воду, выкрутить чулки...
— Да что ж я буду... прыгать как зайка?
— Снимайте, говорю. Петька, костер! Снимайте! Ноги в пиджак!
Мальчик торопливо снял свою стеганку и разостлал на снегу:
— Вот! Садитесь! А ноги в рукава! Снимайте, говорю! Петька, дров!
Женя сняла катанки и чулки. Пронин укутал ей ноги. Но тут она заметила, что на мальчике одна ситцевая рубашка.
— Нет, так нельзя! Ты простудишься. Давай катанки.
— Не! Я закаленный!..
— Давай, говорю. Как ты можешь не слушаться?
— Тогда вот... Петька, рви сухую траву. Не надо костер! Лучше быстрей побежим!
Мальчики нарвали сухой травы, набили катанки, но когда Женя стала надевать сырые чулки и дело не ладилось, Пронин размотал шарф и разорвал на две части.
— Вот, портянки...
Пальцы у Жени закоченели, чулки не слушались, и она подчинилась ученикам...
— А теперь бежать! Во весь дух! — командовал Пронин.
Они помогли Жене встать, взяли ее за руки и потащили к поселку.
— Ребята, да что вы! Дайте передохнуть. Я не могу!..
— Нельзя передыхать! Надо вспотеть! А стоять — крышка... Петя, вперед!
Надо полагать, в истории народного образования еще не было случая, чтобы ученики так тормошили своего учителя. Когда Женя пыталась сделать остановку, Пронин тащил за руки, Ковальков подталкивал сзади. Она, и плакала и смеялась в одно и то же время.
Приключение в лесу еще сильнее повлияло на ребят: в душу неожиданно вошло и поселилось светлое чувство. Последней мыслью перед сном и первой, когда просыпались, была мысль об учительнице: что еще надо сделать, чтобы ей было хорошо. В эту зиму они были в поселке самыми счастливыми из всех...
* * *
После того как Женя приобрела двух «рыцарей», готовых на любые подвиги, дело пошло лучше, хотя срывы еще и случались. Причиной были два обстоятельства, устранить которые она не могла: вынужденная пассивность и однообразие работы и неумение ребят управлять собою.
Учебного оборудования в школе не было, класс тесный, занятия во вторую смену, при слабом освещении; ребята сплошь и рядом становились «слушателями», тогда как слушать их не научили. В преодолении трудностей ей не могли помочь ни ученики, ни советы товарищей, — помогла общая «установка», с которой она вступала в жизнь. В головке этой на вид такой хрупкой девушки укрепилось простое правило: жизнь должна быть хорошей, и ради этого нужно потрудиться; она не допускала и мысли, что не справится с порученной работой, не добьется своего; ей все должно быть по силам! Не справиться с полсотней каких-то «курносых» — это было ниже ее достоинства. Поэтому Женя не давала себе покоя, пока не убеждалась, что цели своей добилась вполне. Она еще из семьи вынесла повышенную требовательность к порядку, к себе самой и к людям. Оттуда же и ее неутомимая деятельность, и непреклонная убежденность в том, что если возьмешься, то непременно сделаешь. Она с детства стала испытывать приятное чувство насыщения трудом, морального удовлетворения: было так, а стало лучше, красивее, приятнее, и этого добилась она, это ее труд. Это чувство приходило к ней, когда она вместе с матерью наводила порядок в квартире: чистым становился пол, светлее — окна, свежее — цветы; когда они белили палисадник, перешивали одежду старших и «подгоняли» для младших; когда она, старшая в семье, вместе с отцом, железнодорожным рабочим, наводила порядок в садике возле дома: устанавливали столик, скамейки, делали беседку, расчищали дорожку, устраивали пару пчелиных домиков. Ей уже тогда радостно было сознавать, что там, где потрудились ее руки, остается хороший след. И теперь она, не могла допустить, чтобы там, где она находится, было плохо, некрасиво, несправедливо, а она смотрела бы и ничего не делала. Смотреть и ничего не делать, особенно там, где дело просилось в руки, было не в ее характере. В семилетней школе, а затем в педагогическом училище и после — в дороге, когда она ехала на Дальний Восток, сама того не замечая, она становилась непререкаемым судьей и стражем коллективной совести. И, странное дело, ей охотно подчинялись — так категоричны были ее требования, так велика убежденность, так стыдил ее взгляд, по-детски чистый, но и строгий, требовательный, как сама совесть, еще ни разу не сделавшая уступки никакому соблазну, — качество, которым обладают дети, но которое многие из них потом теряют.
На уроках у Жени много времени уходило на то, чтобы ученик отвечал только тогда, когда его спрашивают, а не когда хочется; она не начинала работы, пока не добивалась полной тишины и порядка в классе; она учила детей молчать, говорить, спрашивать, следить за каждым ее жестом; иногда она говорила вполголоса, иногда молчала и лишь движением руки давала понять, что нужно делать классу или отдельному ученику; придумывала самые разнообразные самостоятельные работы для всего класса вместе, а также и для некоторых учеников в отдельности. Она постепенно становилась все более и более необходимым центром их жизни, интересов, желаний; какую-то часть учеников она увлекла учебной работой, которая таким образом сама по себе становилась интересной, заставляла не видеть и не слышать того, что раньше отвлекало внимание и уводило далеко.
Особую заботу и гордость вызывал Гриша. Самостоятельность и самобытность мальчика больше всего радовали Женю.
Все это давалось нелегко и не сразу; Женя забывала все, кроме того, что делала в данную минуту, вкладывала в дело всю душу, и это как-то доходило до души учеников и оставляло в ней заметный след. Дело спорилось у Жени.
Дважды с группой ребят она навестила Петра Игнатьевича. Это оказало большое влияние на учеников, они, по существу, впервые увидели в своем учителе живого страдающего человека и прониклись к нему простым ребячьим уважением, каким проникаются в хороших семьях к отцу и матери. И Петр Игнатьевич, пожалуй, также впервые увидел по-настоящему своих учеников: живых, отзывчивых, способных всем сердцем принимать чужое горе. Он, пожалуй, впервые понял, что необходим, небезразличен этим шумным, веселым, жизнерадостным ребятам.
Знакомство с соседом
Поближе к весне, когда на снегу образовалась ледяная корка, Женя стала отдавать все свободное время лыжному спорту, благо теперь были надежные спутники: Ковальков и Пронин.
Как-то в выходной день в начале марта они перевалили через сопки и спустилась к деревне Межгорной.
На перевале, примерно на полпути, их догнал Лысиков, который уже не раз навязывался Жене в компаньоны. Спортсмен не учел своих сил: вспотел и тяжело дышал.
Присутствие ребят, по-видимому, не устраивало Лысикова, и он настойчиво посоветовал им возвращаться назад готовить уроки, но те вместо ответа ринулись по склону к деревне, за ними последовала Женя, Лысиков отстал на добрых полкилометра.
Между тем книга природы раскрывала перед ними одну за другой свои зимние страницы, но читали их только учительница и ее ученики, Лысиков скользил глазами и ничего интересного не видел.
Как ни глубоки снега в этом районе (южнее зимы малоснежны), жизнь в тайге не замирала и зимой, и следы этой жизни виднелись повсюду.
Приморская тайга богата зверем и птицей. Оскудевший было старожил соболь начинает богатеть; хлопотунья белка все еще никому не уступает первого места; еще нередко отдают человеку свои шубы бурый и черный медведи; украшением тайги по-прежнему являются изюбр и лось; оставляют свои следы кабан и тигр, косуля и рысь; дуболобы — волки, серый и красный; серны — легкая тонконогая кабарга и домосед горал; колонок и простофиля заяц; отшельник крот и общительный бурундук — оседлые жители тайги. Снуют повсюду трудолюбы дятлы, поползни, клесты, сорокопуты; в глухой тайге — дикуши, глухари; ближе к опушкам — рябчики, синицы, тетерева, фазаны.
В марте уже слышится дыхание весны: с моря, с юго-востока, начинает потягивать влажный ленивый ветер; расправляют плечи, стряхивая снег, деревья, разгибаются кустарники; усердствует солнце, отодвигая снег от каждого ствола, упавшей ветки, засохшей былинки; широкий, порою еле внятный шум плывет по вершинам — лес дышит спокойным зимним дыханием.
Ребята то и дело находили что-нибудь достойное внимания, показывали учительнице, делали остановки, затевали споры; в это время их настигал Лысиков, но ребята, а за ними и Женя убегали вперед, и он снова оставался один.
Когда, совсем неожиданно, перед ними предстала деревня, ребята решили:
— Зайдем в школу! Посмотрим, как у них!
Школа — большая крестьянская изба; рядом избушка поменьше служила квартирой учителю. Ребята зашли в школу, Женя и наконец настигший ее Лысиков постучались в квартиру учителя.
— Войдите.
Оставив лыжи в сенях, они вошли в помещение.
— Учитель — юноша-комсомолец Николай Рудаков — был застигнут врасплох: незаправленная постель, не первой свежести рубашка, галстук трубочкой, помятые брюки, беспорядок на столе.
— Товарищ учитель, какой беспорядок!, — шутя напустилась Женя. — Вы поздно спите! Что за обломовщина!
— Никакой обломовщины. Есть дела поважнее.
Он стал торопливо наводить некоторый порядок. Гости, не ожидая приглашения, опустились на табуретки. Женя с любопытством осматривала квартиру и хозяина, Лысиков старательно вытирал пот — шею, лицо, голову, руки; жидкие прядки волос свешивались на висках и затылке — прогулка оказалась тяжелой нагрузкой.
Над столом учителя — единственным в квартире — тянулась длинная полка с книгами, а чуть пониже — разного формата портреты писателей, цветные репродукции картин, открытки.
— Какие это, позвольте вас спросить, дела поважнее?
— А вот книги — не видите? У вас таких нет! Учился — на книги уходила вся стипендия.
— Книг у меня еще больше, а комнату свою мету каждый день и постель привожу в порядок прежде всего. Представляю себе, как вы приучаете к порядку своих учеников. И вы так живете!
— А что? Разве плохо?
— Никуда не годится!
— Ну вы это бросьте. Надо смотреть в корень: важно не то, что в комнате, а что в душе человека...
— А по-моему, одно говорит о другом.
— Ошибаетесь... И не в этом суть. У иного в комнате чистота, зато пустота в голове. Суть в том, чем человек Живет. Я например, допоздна читал Брюсова, а вы...
Женя не нашлась, что ответить, и пристально посмотрела в глаза хозяину, и хозяин ей понравился.
«Да, он лучше, чем кажется с первого взгляда», — подумала она.
Николай Рудаков на вопрос — какое имеет образование — писал в анкете «незаконченное высшее». Он ушел со второго курса института, так как пришлось помогать сестре и матери. Он любил литературу, писал стихи и читал их, свои и чужие, с глубоким проникновением. -Любимыми поэтами были Маяковский и Асеев, а также Валерий Брюсов и Тютчев. Последних читал, пожалуй, бoльшe, чем двух первых...
Женским чутьем Женя угадала за напускной серьезностью мальчишескую податливость и переменила тон.
— А я вам скажу: суть в том, что вам надо подвязывать лыжи и проводить нас до перевала. Чай мы у вас пить не будем, обед у вас, я уверена, невкусный. Ну, живо!..
Рудаков и Женя сразу же вырвались вперед и пошли рядом. Всю дорогу они говорили друг другу колкости, и если бы Лысиков слышал, он остался бы довольным: девушка, ради которой он сделал эту вылазку, явно «отшивала» соперника. Но, увы, это было не так: слова выражали одно, а глаза — другое,
— Вы не Обломов, а байбак, — говорила Женя. — Как только переступила ваш порог, так и решила: не тюфяк, а байбак. Хоть вы и читаете Маяковского. Забавно: байбак, читающий Маяковского.
— А вы мне напоминаете белку. Только та скачет по деревьям и грызет шишки, а вы — по тайге и грызете все, что попадется, даже не понюхав как следует.
— Ой, да я ж понюхала... Обещаю вам: к весне вы покроетесь плесенью с головы до ног.
Хотела того Женя или нет, но в следующий выходной Рудаков примчался к ней, чтобы продолжать разговор в том же духе.
— Здравствуйте, чистюлька! Верно, чисто! На столе ни одной книжки. Я так и знал. А теперь у любого колхозника на столе стопка книг... И заметьте: не библия, а различные справочники, учебники.
— Книгам место в шкафу, — ответила хозяйка. — А вы сегодня опрятненький. Уборщица мыла полы и заодно учителя. И даже брюки разгладила. А может быть, вы клали их под матрац? Кстати, у вас кровать или топчан? Я что-то не разглядела. Топчан для брюк лучше.
— Не в костюме суть. Можно нарядить и чурку. Мы ищем красоту поглубже...
— Правильно: чурке все равно, что на нее одеть, а человеку не все... Выбирает, что к лицу, что прилично, что неприлично...
— Благодарю. Вы, кажется, уже приравняли меня к этому неодушевленному предмету — чурке?!
— Что вы? Это вы меня приравняли...
— Я? Откуда вы взяли? Я люблю людей нашей профессии.
— Очень они нуждаются в вашей любви...
— Почему вы такая злая? Вас кто-то здорово обидел...
— Ничего подобного. Я в обиду не даюсь. И вообще, я добрая. Спросите Агнию Петровну. Злых ученики не любят, а мои готовы за меня в огонь и воду.
— Нам нужна не доброта, а воля, сила...
— А вы думаете, у меня их нет?
— Не вижу.
— Потому что не умеете видеть.
Гость уселся на стул возле окна, и тут Женя заметила, что у него длинные густые ресницы, выразительные умные глаза, на щеках и подбородке мальчишеский пушок, и весь он показался ей зеленым подростком, которого она, как женщина, обязана учить и воспитывать.
— Да вы снимите пиджак!.. Как будто за справкой пришли.
В комнату вошла Агния Петровна.
— Здравствуйте, сосед. Смотрю в окно, думаю: ко мне идет. А он — к моей Женечке. Где это и когда познакомились?
— Неделю назад. На лыжах влетела, учинила разнос и умчалась. Сейчас продолжает в том же духе.
— Она у нас молодчина. И разнос устроит и дело, если надо, настроит. Если бы вся наша молодежь была такой, как она, жить бы да радоваться. За что ни возьмется — сделает... Ну что, будем мы в этом году проводить наш праздник?
— А я за этим и пришел. Время готовиться.
— Ой, за этим ли?! Что-то дверью обознался, — сказала она и погрозила пальцем.
Агния Петровна ввела в школе праздник — «День весны», в котором в последние два года принимали участие и две соседние школы: по окончании учебного года ученики, педагоги, многие из родителей, в сопровождении двух-трех телег, на которых везли посуду, продовольствие, поднимались на облюбованную полянку на склоне горы и проводили там целый день: играли, пели, обедали, пили чай и к вечеру возвращались в поселок.
За обедом у директора школы договорились и о программе праздника. Новым в этом году должны быть стрелковые соревнования и выступления художественной самодеятельности детей и взрослых.
— Надо, чтобы взрослые были ближе к детям и чтобы сближало искусство, — говорила Агния Петровна. — Пусть споют сначала дети, а потом взрослые, и вместе — дети и взрослые. То же и в стрелковых соревнованиях; надо придумать совместные игры. Если бы дети могли восхищаться своими родителями, как бы это было хорошо. А родители, сплошь и рядом, не знают своих детей и потому по-настоящему не любят. А не любить детей, как и детям не любить родителей, — хуже ничего и нет.
Когда все деловые вопросы были разрешены, наступила несколько затянувшаяся пауза.
— За что же учинила разнос наша Женечка? — спросила Агния Петровна.
— Не вымел комнату к ее приходу. У нее чисто: на столе — ни одной книги. Учитель — без книги на столе!?
— О, Женя хороший учитель. Ученики любят, родители ценят, а я не могу нахвалиться...
— Ну, это вы зря. Не стоит она этого.
— Агния Петровна, вы слышите? Вот нахал! Пришел в гости и ругает хозяйку! А знаете, что у него было на столе? Томик Маяковского, полотенце, немытая тарелка, пуговица, сапожная щетка. Все его богатство. Словно выставку устроил...
— Вот выжига, и пуговицу заметила.
— Что, разве неправда? — Женя вскочила с места и подошла к гостю.
— Да правда, но не в этом же суть. Если я этого не замечаю, значит занят чем-то более важным. Пуговица! Большое дело!..
— Вот это и неправда, — возразила Женя. — Чем бы я ни была занята, прежде всего догляжу за собой. Агния Петровна, ну скажите, ну какой же учитель, если он Степка-растрепка! Будь, как на картинке! Как вы научите своих учеников красиво ходить, говорить с людьми, если сами не умеете? Если бы я заставила вас пройти по комнате, вы бы не выдержали проверки. А как вы разговариваете? Вы смотрите куда угодно, только не в глаза тому, с кем разговариваете. Словно у вас нечистая совесть...
— Женя, что с тобой? Разве так разговаривают с гостями? Ты сама себе противоречишь. Покажи сама, как нужно вести себя в обществе.
— Верно же, Агния Петровна! Мы даже ходить не умеем. Иной идет как вахлак, другой как слон. Вот я видела в Москве индуса — вот кто умеет ходить. Идет как солнце. Я нарочно забежала вперед, чтобы еще раз посмотреть. И он, должно быть, заметил, улыбнулся.
— Индусы бывают разные. Один шел как солнце, а миллионы ходят как ночь. Вы не судите по тем, кто приезжает в Москву.
— Знаю! Сейчас начнете про борьбу классов. Но вас-то никто не угнетает, и классовой борьбы у нас нет...
Беседа еще не один раз переходила в ссору и ссора в согласие. Когда же Рудаков стал прощаться, Женя вызвалась проводить:
— Посмотрю, как вы умеете держаться в женском обществе.
— Держусь, как и в мужском...
Сначала они шли молча.
— А все-таки вы злой человек! — сказал Рудаков. — И темный...
Женя остановилась. Остановился и он.
— Рудаков, да вы в своём уме?
— Я вам сейчас докажу. Вот насчет воспитания. Я говорю: надо воспитывать человека больших планов, а вы: научите нос утирать! А вопрос серьезный. Как воспитывалась старая гвардия? В борьбе! Они боролись с царем. Царизм был твердыней, и они разрушили твердыню. Они боролись с религией, с богом! И бог дрожал! И трон опрокинут! Это здорово! Боролись с мировым злом и побеждали. Горы опрокидывали, стены падали. А с чем или с кем боремся мы? Государству нужны люди большого мужества, больших планов. Как их воспитать, скажите? А я скажу. Человека должна окрылять борьба с природой, наука, техника. Тут наш человек должен быть богатырем. Когда я веду своих учеников даже картошку убирать, я воодушевляю на большие дела. Сегодня мы картошку убираем, но мы помогаем строить самолеты, перестраивать мир! У моих ребят высокие мысли, широкие планы. А вы — носы утирать! Не беда, что нос запачкан, главное — что человек делает, чем увлечен. Для меня руки доярки красивее, чем руки бездельницы, как бы ни красила ногти...
Рудаков замолчал, и они пошли дальше. Женя шла опустив голову, а потом вскинула ее и остановилась.
— Стойте, теперь я скажу. Я говорила — не только нос утирать! А честность, Рудаков? А собранность? С этого надо начинать, понятно это вам? И этого можно добиться. Если человек расхлябанный, лгун, лицемер, от него ни в в семье, ни в государстве толку не будет. А как воспитать честность, правдивость, аккуратность — я умею! А вы не умеете.
Они посмотрели друг другу в глаза, оба виновато улыбнулись и, не говоря ни слова, пошли дальше. Дорожка постепенно сужалась, боковые тропинки слились в одну, и они пошли рядом. Жене снова бросился в глаза мальчишеский пушок на щеках Рудакова, длинные ресницы, умные глаза, доброта и теплота, которая так располагает в пользу человека.
— Понимаете, Рудаков, вы мне и нравитесь и не нравитесь. Почему вы рассуждаете, а сам еще мальчишка? Кто-то сказал: кто в юности рассуждает, тот в старости мечтает. А по-моему, мечтать надо в юности! Давайте лучше помечтаем. Что вы думаете делать летом?
— Поеду поступать в институт. На заочное отделение. Хочу на физико-математическое. А вы?
— Меня зовет подруга путешествовать по краю: ловить рыбу, ходить в лес. Надо бы домой, взглянуть, как они там. Но домой далеко. Поработаю годика три...
В дальнейшем каждый выходной день Женя ждала и не ждала Рудакова, хотела и в то же время не хотела встречи. Это было мучительное состояние неопределенности. Казалось, что они оба старательно выискивают один у другого слабые стороны, промахи, ошибки и высмеивают их с упоением. Они были один для другого то же, что коса и оселок; и после каждой встречи косы становились острее. А расставались добрыми друзьями. Примиряла поэзия.
Рудаков знал наизусть множество стихотворений, и случалось, что поток поэтических образов уносил обоих.
— Я люблю и прозу, — говорил Рудаков, — но стихи больше. В стихах иногда одна строка несет столько, что просто не охватить. Вглядываешься, а дна не видно. Как в это небо.
И он приводил ей такие строчки, строфы, целые стихотворения, и они вслушивались, вдумывались и забывали недавние размолвки.
Широкие горизонты
Весна шла в Приморье не спеша: путь не мал и не легок — перекрыт горами, забит снегами, ветры встречные и поперечные, морозы и вьюги.
В урочный час она тронулась в путь, выслала пернатых разведчиков, брызнула горицветами, но север дохнул холодом, снарядил свои снеговые фрегаты и двинулся навстречу.
Заметались на пролетных дорогах птицы, закрылись и поникли чашечки цветов, ссутулились и прикрылись белым покрывалом деревья и кустарники. Снег и холод, будто и не было весны.
Но весну назад не повернуть — весна собралась с силами и двинулась через горы и леса, шумная, многоголосая, победная. Стряхнули покрывала и распрямились деревья и кустарники, отодвинулся в укрытия снег, вновь раскрылись чашечки горицвета, каплями солнца вспыхнули восточные фиалки, лапчатки, одуванчики, калужницы; стронулись с мест и стали пробираться к северу зимовавшие в Приморье белые совы, зимняки, камчатские снегири, тихоокеанские орланы, а с юга ринулись на свои родные места жаворонки, скворцы, утки, гуси, журавли, цапли; как из дырявого сита, посыпалась различная пернатая мелочь. Волна тепла и волна жизни катились все дальше на север, все выше в горы, будоражили все живое: быстрее двигались соки в растениях, кровь в жилах, жизнь на земле, пробуждались насекомые, пели птицы.
Не петь у птиц не было сил. Легко сказать: вернуться на родину, за тридевять земель, из южной ли Африки, верховьев или низовьев Нила, Индонезии, найти родную долину, рощу, дерево, дупло, речку в кустарниках, подругу-хлопотунью, готовую порадовать полдюжиной желторотых, — кто не запоет?!
С необъяснимой тревогой встречала весну и Женя Журавина. Казалось бы, для тревоги не было причины: отношения с детьми, населением, товарищами по работе было безупречным; больше того, многие стали друзьями. Даже тетя Маня, мать Гриши, которая вначале встретила так неприветливо, училась у нее грамоте, в сынке души не чаяла.
Гришу теперь было не узнать. Упитанный, хорошо одетый мальчик, он и учился отлично. Ему и его матери Женя отдала львиную долю того, что оставила ей учительница Мария Петровна. Одела Женя и других учеников, и не только своего класса, а Пронину сама сшила рубашку.
Когда вышел на работу Петр Игнатьевич, дел у Жени поубавилось, и часто она не находила, за что приняться, а натура была деятельная и безделья не переносила. И само собой произошло, что она стала старшей пионервожатой. Пионеры приняли ее с воодушевлением, увлекли своими проектами,. и она на какое-то время «завертелась»: огородили школу, разбили клумбы, огородили и украсили могилку Марии Петровны: натаскали огородной земли, посадили цветы, у изголовья — елочку, а рядом — березки. Но всего этого хватило ненадолго, а дальше снова началась тоска и тревога.
Все чаще вспоминала она Рудакова, сравнивала его с Колесовым. Рудаков — глубже, но он примитивнее; Колесов мельче, но он изящней, культурней, он первый разбудил в ней любовь, — и птица встрепенулась, на короткий миг взлетела, глотнула счастья, хотела запеть, но все так неожиданно оборвалось, и, раненая, она мечется по земле: ни запеть, ни взлететь уже не может.
Что же дальше? Кто-то должен прийти, но кто? Когда? Не может быть, чтобы не пришел. Жизнь еще такая огромная.
Ей казалась идеальной семья ее родителей. Там было взаимное уважение, забота; там одно за другим шли события, как идут времена года; их ожидали, к ним готовились, встречали, наполняли радостью. Там были дети. Без них — какая жизнь?
Она помнила малышей, которых помогала нянчить. Они были как огоньки в очаге: вокруг них по вечерам собиралась семья, и, казалось, все отогревали сердца, всем становилось легко, весело, квартира наполнялась смехом: смеялся уставший на работе отец, смеялась мать, а смешил какой-нибудь карапуз, который, к удивлению всех, обнаруживал кучу талантов: пел, плясал, играл, лукавил.
Особенно «удалась», как выражалась мама, младшая, Верочка. Жене казалось, что она еще и сейчас чувствует теплоту ее тела, пухлые ручки, обхватившие шею, когда они расставались. Женя понимала и ценила поэзию простой будничной жизни, в которой всегда находилось, что сделать, чтобы она стала ярче и светлее. И, думая о своей жизни, она не ждала ничего чудесного, необычайного; ей хотелось простого — своей семьи, где бы можно было будни переделывать в праздник. Ей казалось, что для этого она обладает большими способностями. Нет, она не рассуждала об этом, это само собою разумелось. Родители — малограмотные люди, они мало видели; у нее же столько книг, она много узнала, и может сделать жизнь не только праздничной, но и глубокой, даже героической: героизм есть и в буднях. Как это сделать — она не представляла, но ей казалось, что уже обладает для этого всем необходимым. Пусть только начнется настоящая, серьезная жизнь!
В один из таких дней, когда ее беспокойство, как ей казалось, достигло предела, она получила сразу три письма: от родителей и от подруг. Родители негодовали, что она так скоро забыла их. Ее письма, оказывается, они не получили, послали запрос в крайоно, и, когда узнали адрес, решили написать это «первое и последнее письмо», если она у них «такая дочка». А дальше, сменив гнев на милость, они подробно рассказывали обо всем и обо всех: как коротали зиму, как часто говорили о ней, какие строили планы на весну и на лето — расширить садик, отремонтировать домик; Юрик кончает десятилетку — надо готовить в институт: одеть, обуть, снарядить в дорогу. Дела повседневные и милые сердцу.
Прочитав письмо родителей, она отложила в сторону письма подруг и стала писать ответ. Теперь ей не нужно было идти за помощью к Агнии Петровне: письмо писалось само и получилось длинное, бурное, с клятвами и обещаниями и заканчивалось такими словами:
«Родные мои, дорогие! Если бы мне крылья, я бы сегодня же к вам полетела. Но верьте мне, я всегда, всегда с вами! Отработаю положенные три годика и сразу же к вам. Тогда уж вы отдохнете, а я все, все за вас переделаю, Только отдыхайте. Я не боюсь никакой работы...»
Письма подруг, хоть и было время прочитать немедленно, она отложила до той минуты, когда уляжется в постель.
Первым она вскрыла письмо Кати Крупениной. Подруга, захлебываясь от восторга, писала:
«Живем мы с Павликом хорошо, на большой палец, вот как! Они, знаешь еще в институте решили с Колесовым ехать в аспирантуру, а сюда приехали собирать материал: Павлик — по географии, по климату и фенологии, а Колесов. — по фольклору. Летом мы думаем пойти по краю, по следам Арсеньева. Пойдем с нами! Что тебе стоит? Павлик разработал хороший маршрут... А теперь, только по секрету, — Павлик этого не хотел, так как он собирается еще учиться, а я буду одна, и я этого хотела, —1 кажется, я буду матерью, только еще не скоро, должно быть, в сентябре...»
Женя не стала дальше читать, к горлу подкатил ком горечи, и она погасила огонь и дала волю слезам, но, вспомнив, что есть еще одно письмо, снова зажгла свою «коптилку» и вскрыла письмо от другой подружки, Сони Свиридовой:
«Женька, безобразие. Ну что твои за письма? Ни уму ни сердцу. Ты не уважаешь меня, как и в педучилище. А я теперь взрослая, меня уважает вся деревня, советуются мужчины и женщины. Только как же мало знаний мы получили! Тут надо иметь в голове целую большую энциклопедию или хотя бы маленькую. О чем только ни спрашивают! А как интересно прошла зима! Кажется, за эту зиму я выросла на целую голову. Посмотреться бы в большое зеркало! У меня все то же, маленькое. Зима, знаешь, застигла нас врасплох. Дров не запасли, печи дымили. А тут снега. Я сама ездила с ребятами и с мужиками в лес. Понимаешь, повалили старую липу, а в дупле медведь! Лезет оттуда, а Володька — мы с ним подружились — топором! Перепугались до смерти. А медведь небольшой, черный. Теперь у меня перед кроватью медвежий мех.
А какие еще были приключения! Я, дура, вначале боялась, а люди — простые, хорошие; если ты к ним с душой, они к тебе и подавно: и посоветуют, и помогут.
Знаешь, Женька?! Приезжай ко мне на лето! Хорошо будет. Тут речка. Володька обещает закормить рыбой и дичью. У него два ружья. Одно отдает мне. Сами будем рыбу ловить. За деревней у нас гора — будем встречать восход. Володька говорит: очень красиво... А Колесов — какой негодяй! — женился, а она старше его на целых три года...»
Не дочитала Женя и этого письма. Она понимала: подруги жалеют ее... и очень боятся, что она об этом догадается.
И это было горше всего.
Школьный праздник наконец состоялся. Утро выдалось на славу: яркое солнце, синее ласковое море; буйная, умытая росой, веселая листва; ни ветерка, ни шелеста, бодрящий холодок, зовущие дали... Празднично разодетые взрослые и дети, колонны школьников, пионеры в галстуках пестрой лентой потянулись в горы, сначала по дороге, а затем по узкой тропинке к излюбленному месту и, наконец, по широкой луговине, к палаткам, перед которыми был устроен помост, поставлен стол и десяток стульев.
Полянка представляла собой небольшой амфитеатр, окруженный густыми зарослями кустарников, над которыми поднимались редкие высокие деревья. На юг и на северо-восток открывался широкий вид на море и уходящие вдаль скалистые берега, на северо-западе поднимались горы. Луг и кустарники были в цвету, и скоро многие из детей сплели себе венки, собрали большие букеты для своих учителей и родителей. Празднично и весело было вокруг.
Послышалась дробь пионерских барабанов — подходили ученики соседних школ. Навстречу с букетами цветов поднялись ученики семилетней школы. Поляна заполнилась многоголосым шумом.
В кустарнике над речкой дымили костры — там готовили обед.
Ровно в десять часов, как и было намечено, заиграли горнисты, школьники разошлись по своим местам, на подмостках за столом разместились директор и заведующие школами, представители от родителей и общественности. Первой выступила Агния Петровна?
— Поздравляю вас, ребята, с успешным завершением учебного года, с нашим весенним праздником! Вы все — и кто окончил школу и кто перешел в следующий класс — поднялись на ступеньку выше, перед вами открылись более широкие горизонты. Много еще таких ступенек перед вами. Многие поднимутся на высокую вершину, сделают новые открытия.
Агния Петровна сказала о тех, кто особенно хорошо учился и удостоен награды. Она подзывала к столу своих отличников, поздравляла их, вручала похвальные грамоты.
Так же поступила старушка-учительница, заведующая соседней начальной школой.
Несколько необычным для всех было выступление Рудакова:
— Ребята, здесь, на этой поляне, шумите вы, а рядом шумит река. Я проследил, как она зарождается — из множества ручейков. Одни выбиваются из-под камней, другие — из-под корней деревьев, третьи скатываются с гор, бегут вниз, звенят и зовут таких же шалунов, как и сами, и те отзываются: один стремглав летит с горы, другой продирается сквозь кустарник, третий прыгает с камня на камень, и вот они собираются вместе и получается небольшая речка. Речка бежит дальше, скликает подруг, и те бегут к ней слева и справа... Растет их сила, слышней их песня, дружней работа... Так и вы — наши ученики. Вы скатываетесь к нам со всех пригорков, образуется беспокойная шумливая школа, кончаете школу, вырываетесь на простор жизни, сливаетесь с другими такими же реками, возникает могучая полноводная река молодежи, а ей все по силам, все по плечу...
Рудаков стал рассказывать, что уже сделала, что делает молодежь и что предстоит сделать ей, нарисовал широкую картину созидательного труда, преображенной земли, и все, взрослые и дети, заслушались учителя, а Женя не сводила с него глаз: «Рудаков — какой же он молодчина! Куда до него Колесову». Но у молодчины был все тот же галстук трубочкой, плохо отутюженная рубашка и брюки и на макушке торчал хохолок — точно корешок у тыквы, и отношение к нему Жени все еще было сумбурным: и хорош и нехорош, и мил и немил. Ах, был бы он послушен, как школьник, — она бы привела его в полный порядок!..
— А сейчас, ребята, вам расскажет Еремей Прохорович, как он пришел сюда. Он первый протоптал здесь тропки и дорожки, — сказала Агния Петровна.
Из-за стола поднялся седенький, сухонький старичок с живыми, острыми, совсем еще молодыми, даже озорными глазами.
— Вот и я перед вами, оратель... Говорят мне: расскажи за три минуты, как ты нашел сюда дорогу. А я шел сюда три года. Шел, шел и сел под Красноярском. Яр был красный, а жизнь выходила черная. Посидел год — перебрался за реку Зею. Зея — река широкая, а жизнь выходила узкая. Посидел год, перебрался сюда. Вот и пришел. А что нашел? Лес нерубленый, зверь непуганый, в реке — рыба, в лесу — птица. Вот тут мы и шли. Шаг ступил — куст срубил, еще шаг — еще куст. Сто шагов — сто кустов. А шагов не сто, а тыщи. А кусты и толсты и густы. День идешь — весь в поту, а пройдешь... ну, версту, бывает — две. Лес не пускал: не смей — мое царство! Зверь зубы скалил: уходи, я тут хозяин! А я вот не ушел. Еремей — дело разумей! Бывало, Еремкой звали; а выходит, Еремей Прохоров — богатырь: рукой махнул — лес повалился — дорога легла, топнул ногою — деревня встала. Вот этими плечами и лес растолкал и зверя отогнал. А теперь бахчу стерегу, государству семена заготовляю. Вот я какой! А какие вы? Жидкие... А я как дуб. Попробуй повали! Не повалишь и не согнешь! Вот вам и весь мой сказ... Еремей Прохоров еще не хворый. Пусть враг хворает, а нам недосуг...
Ребята ответили дружными аплодисментами, а две девочки-пионерки преподнесли старику большой букет цветов, и одна из них сказала:
— Еремей Прохорович, от всех ребят вам большое спасибо за то, что вы проложили сюда дорогу. Ребята, теперь все сразу:
— Спа-си-бо Е-ре-мею Про-хо-ро-ви-чу!
— Дошлый, дошлый народ, — ответил Еремей Прохорович и покачал головою. — Решили умаслить старика, к дынькам моим подластиться! Не, меня не подкупишь...
Выступили три человека от родителей, по одному от каждой школы. Затем приступили к завтраку. Солнце уже изрядно припекало, и дети стали прятаться в тени кустарников, собираться группками на берегу речки, разбрелись по косогору.
— Пусть нагуляют аппетит, — сказала Агния Петровна, — отдохнут от наших речей. Никак мы не можем без них обойтись, а лучше бы без них. Дети и речи — одно не подходит к другому, особенно на празднике...
Выпускники в сопровождении Жени и Рудакова стали подниматься на вершину горы — традиционная прогулка — увидеть широкий горизонт, осмотреться, помечтать. Группа окончивших седьмой класс, человек двадцать, и десять человек, окончивших начальную школу, пестрой цепочкой потянулась к вершине.
Женя и Рудаков шли последними и несколько отстали.
— Рудаков, ну что мне с вами делать? — говорила Женя. — Вот вы выступали — и хорошо, и плохо. Ну зачем так длинно? Ведь это сочинение! Вы бы лучше сказали всего три слова, да так бы тепло, да так бы посмотрели на ребят, чтобы они закричали от радости. А то слова, слова... Агния Петровна права: лучше бы без речей. Дети и речи! Умная она все-таки. Душа у нее теплая. Настоящая учительница. Мать. Но вы тоже хороший. Понимаете, из вас получится хороший парень...
— Почему — получится? Он уже получился...
— Нет же, Рудаков. Честное слово, нет. Вам надо выбраться из этой деревушки. Что это за мужчина? Забрался в деревушку, высшего образования не имеет...
— Незаконченное высшее...
— Ах, знаем мы это незаконченное! Чемодан, а что в чемодане? Может быть, и ничего!
— А то, о чем я говорил, будет. Понятно? Землю и жизнь преобразим! Сидеть в деревне надо! Тут корни жизни. Попятно? Давайте-ка остановимся, посмотрим...
Они остановились чуть ниже вершины, на которой уже были ребята. Перед ними открылся поистине чудесный мир: синее, сверкающее блестками море, зеленая земля, необъятное небо, необъятная жизнь...
— Посмотрите, почувствуйте, если способны! — говорил Рудаков. — Земля! Это удивительная планета. И человек может сделать ее лучше. Ну-ка, направьте на это все наши силы и средства! Все на улучшение земли, на улучшение жизни! Вот послушайте, что я написал о земле.
Рудаков повернулся лицом к морю и стал декламировать:
Земля, земля! Чудесная планета! Подобной нет и в сотне световых годов! Таких детей, такого буйственного света, Таких лесов и рек, и гор, и городов; И птиц таких, купающихся в солнце, И рыб, играющих в воде, Букашек, ткущих нити-волоконца, Такого во вселенной нет нигде...Ну, и так далее. И такую планету можно сделать замечательной, удивительной! На одной шестой планеты мы это сделаем. Будет так, как я говорил. Понятно это вам? Пока что мы на стройке. Не беда, что в пыли и глине. Праздник впереди...
Женя вдруг стала сосредоточенной, даже сердитой.
— Рудаков, оставьте меня одну, идите к ребятам. Я здесь посижу.
Но сидеть Женя не умела. Через минуту и она поднялась на вершину. Здесь неистовствовал ветер. Ребята вместе с Рудаковым собрались у ока лист ого выступа, а Женя побежал а в сторону, по седловине, к другой, более высокой вершине. Ветер раздувал ее платье, волосы, заставлял, как травинку, пригибаться до земли. Наконец она достигла цели. Ребята и Рудаков скрылись из виду, открылся целый амфитеатр зеленых гор, таинственный, точно завороженный мир. И море — океан. Где его конец и где начало? И жизнь! Как же она широка!
— Ах, как же хорошо! Как хорошо! — повторяла Женя. — И Рудаков хороший. Только никого мне не надо! Здесь так хорошо. Врасти бы в эту землю и расти, как эта березка...
А Рудаков рассказывал ребятам о широких горизонтах, полностью прочитал свое стихотворение, посвященное земле:
... Пусть многое еще глядится в руки, Моя земля, мой отчий дом, Чего не сделали отцы — восполнят внуки Своим талантом и трудом...Женя — на оборону
Второй день войны советские люди встретили не как обычно; все отдавали себе отчет, что жить по-старому, по-вчерашнему нельзя, и каждый в меру сил и совести менял свои планы. Отпускники обрывали отпуска, туристы — маршруты походов; выздоравливающие торопились из больниц; рабочие до гудка являлись на заводы и, отработав положенное, не спешили домой; увеличился поток вступающих в партию.
Непрошенными, по своему почину, в школы собирались учащиеся:
— Что теперь делать?
Учителя приступали к ремонту зданий, школьной мебели, книг, учебных пособий, к заготовке топлива; один коллектив за другим объявлял себя добровольно мобилизованным; отказывались от заслуженного отпуска. На места мужчин, призываемых в армию, становились женщины и подростки. Десятки тысяч школьников выходили на поля колхозов и совхозов. В жару и холод, от темна до темна, изнемогая от усталости, пряча мозоли и стыдясь слабости, дети перевыполняли нормы взрослых. И всякий не столько понимал, сколько чувствовал, что победа будет за нами, что не родился еще пловец, который бы переплыл наше море, не нашелся бегун, который бы добежал до середины нашей земли, и нет и не будет урагана, который бы повалил лес! Он может повалить или надломить отдельные деревья, но лес устоит, ибо глубоко в землю ушли его корни, тесно сомкнулись и переплелись ветви, неисчислим в лесу подрост! На защиту Родины встал народ, а народ — что лес.
Как лес, как любое растение создает и держит корнями свою почву, так и народ создает и держит свою Родину.
Женя с группой школьников работала на рыбалке. Работа была тяжелая и грязная, но этого никто не замечал. Каждый вечер она возвращалась домой с блестками рыбьей чешуи на ногах, на платье, в волосах, приводила себя в порядок и от усталости валилась на кровать и тотчас засыпала. Но сон длился недолго: в душу вошло мучительное беспокойство. Враг наступал; взят был знакомый Рославль, горел Смоленск. Не раз хотелось бросить все и ехать на запад, делить беду со всеми, а подойдет враг — закрыть собою отца и мать, сестренку, дверь в родную хату. Но можно ли теперь бежать? Что случилось бы, если бы все побежали, кто куда захочет? Нет, теперь надо стоять, где поставлен, стоять крепко, изо всех сил...
Однажды в сумерки, когда, отдыхая после работы, она сидела возле окна, к ней постучали. Вошел Рудаков с чемоданом в руке, с рюкзаком за плечами.
— Добрый вечер, злюка.
— Это я-то злюка? Плохо вы меня знаете! — ответила Женя, впуская Рудакова в комнату. — Ну, здравствуйте! Снимайте рюкзак. Это что за переселение?
— Иду воевать. Призван в армию.
— Верно?!
— А чего ж неверно? А это вот мое имущество, — продолжал он, снимая рюкзак. — Книги оставляю тебе. Читай, набирайся ума. Авось пригодится...
— Значит, идешь! Иди, Коля! Милый мой, хороший. Нужно идти... Я бы тоже пошла... Но куда... баба... Но я, будь спокоен, сидеть не буду. Тут ведь тоже кому-то надо.
— А я и не волнуюсь. А что баба — это верно! И еще вздорная...
— Ты серьезно?! Возьми слова обратно! Слышишь? Не баба и не вздорная. Ну! Кому говорю? — настаивала Женя и тормошила гостя за рукав.
Если бы Рудаков тогда видел, что говорили глаза, и слышал, что говорило сердце Жени, может быть, жизнь обошлась бы с ними не так сурово. Но он увидел и услышал много позднее, когда был далеко и когда не было надежды на встречу... Он ответил:
— Вот пристала! Ну кто ж ты такая? Оса, которая жалит?
— Нет же, Коля, нет. Я, понимаешь, добрая, ну, и еще — иногда бедная. Ну, как же ты? Добровольцем?
— Пока не получил повестки — места не находил. А призвали — легче стало. Мать у меня... старушка... Каждый месяц посылаю. В ту войну немцы убили отца. Но главное — Родина. Она — в сердце. Понятно это тебе? Эх, ты! Литературы не знаешь, а она — наша душа! Откуда это?
Я вижу над Русью далече Широкий и тихий пожар...Или вот это?
Крылами бьет беда... И каждый день обиды множит...Это Александр Блок. Он Родину чувствовал...
Вошла Агния Петровна.
— Здравствуйте, сосед! С чем это на ночь глядя пожаловали?
— Агния Петровна, он идет защищать Родину. Вот счастливый! — поспешила ответить Женя.
— Вон оно — дело какое! Кого же вы оставляете?
— Мама у меня. Старушка... В ней вся задача...
— Где же она у вас?
— У сестры в Киеве...
— А мои под Смоленском, — сказала Женя. — Но разве их до Киева допустят? Война будет идти на немецкой земле... Верно, Коля?
— Абсолютно точно... Мы хорошо подготовились.
— Ну, вы уж, я вижу, одержали победу, — сказала Агния Петровна и обратилась к Рудакову: — А как у вас с бельем? Есть теплое? Чулки, перчатки?..
— Да нет же, Агния Петровна! У него ничего нет. Одни стихи... И у нас нет. А он пусть напишет, мы вышлем, — опередила его Женя.
Обсуждение гардероба, денежных дел, питания в пути заняло много времени.
— Ой, стойте! Что я придумала! Гениально! Агния Петровна, я тоже поеду в город! Знаете зачем? Сдам в фонд обороны золото и серебро Марии Петровны, — заявила Женя.
Все замолчали. Женя победоносно переводила взгляд с одного на другого.
— Все сдают! И зачем оно мне? Нет, это гениально! Правда?
— Дело твое, — ответила Агния Петровна, — тебе доверено, человек ты взрослый. А теперь спать. Николай Ильич, я постелю вам в столовой.
Когда Агния Петровна вышла, Рудаков сказал:
— Спать буду в дороге. А здесь хочется подышать нашим сихотэ-алинским воздухом. Где найдешь лучше? Воздух моря, леса и гор!
Они вышли на лесную дорожку и стали медленно подниматься в гору. Ночь была лунная; по морю убегала к горизонту широкая серебряная полоса, усыпанная беспокойными блестками; лес залит призрачным светом, проникавшим меж ветвей на крошечные лесные полянки, и тишина, тишина во всем и над всем, точно разлилась она, как нечто весомое, до самых звезд. Мир исполнен был высокого и строгого величия.
Женя шла чуть впереди, касаясь пальцами травы и холодной листвы. Рудаков молчал, и Жене пришла сумасбродная мысль — обнять и поцеловать этого парня. Ей казалось, что она и старше и сильнее его, что вот он, комсомолец, в общем, хороший парень, идет на войну и провожает его она, Женя, одна за всех — и за сестру, и за его мать; к тому же он совсем еще мальчишка. И когда они вышли из тени на свет, Женя вдруг остановилась:
— Ты понимаешь, Коля... ты мне не очень нравишься, но все-таки нравишься! Ты хороший, ни на кого не похожий... Такой, какой ты есть. В общем, славный... И провожаю тебя я одна. Мне хочется поцеловать тебя за всех. Вот так...
Она несколько раз неловко, по-детски поцеловала Рудакова и не знала, что же делать дальше и как быть. Получилось нехорошо как-то, и не было той радости, которой она ожидала.
— Ну долг платежом красен! — ответил он. — Ты понимаешь, Женя, ты не очень-то мне нравишься, но в общем, ты замечательная девушка... И вот тебе за это!..
— Верно, Коля, замечательная?! — спросила Женя, ничуть не обидевшись: нынешние поцелуи она считала в порядке вещей — он брат, она сестра, провожает брата на фронт, — так и должно быть. — Замечательная! Это ты хорошо сказал, если от души и честно. Мне так хочется быть замечательной. А меня никто не замечает. Иногда кажется, что я маленькая, незаметная и никому не нужная. А хочется, чтобы я была нужна всем. Верно, замечательная?
— Верно, от души говорю. Могу повторить...
— Нет, повторять не надо, хорошо и столько. Странно, мне так хорошо, что ты идешь, как будто иду я сама. Теперь мы победим непременно.
Рудаков попытался ещё раз обнять и поцеловать Женю, но она оттолкнула его от себя и решительно пошла к поселку. Он неохотно последовал за нею. Прогулка не удалась, и каждый до боли в сердце был недоволен собою. Они молча разошлись по своим комнатам, и оба не могли заснуть до утра.
Ночь не спеша отсчитывала свои минуты; медленно передвигались созвездия; волны, изнемогая, ластились к берегам, и каждый цветок набирался в ночи свежих сил, чтобы свершилось в нем великое таинство жизни; безбрежно было небо и сладостна тишина, а где-то на западе шла война, бежали охваченные ужасом женщины и дети, горели, рушились здания...
На другой день в бухту зашел небольшой пароход каботажного плавания, на борту которого было много мобилизованных из северных районов Приморья.
На пирсе ожидали новые пассажиры, среди них Рудаков и Журавина. Пароход в бухте не задержался, быстро спустили трап, и пирс опустел.
Переходя на левый борт, залитый солнцем, Женя увидела Колесова, сидевшего рядом с женщиной, голова которой покоилась на его груди.
— Здравствуйте, Женечка! Сколько лет, сколько зим...
Женя молча кивнула головой, взяла под руку своего спутника и направилась на корму, где в это время не было никого из пассажиров.
— Кто это с вами поздоровался? — спросил Рудаков.
— Так... один знакомый. Я не хотела бы с ним встречаться...
— Это почему же? Такая общительная и вдруг...
— Длинная история... Не будем об этом...
В это время к ним подошел Колесов.
— Ну, здравствуйте, Женя! Не узнаете старых друзей?
— Не узнаю.
— Почему же? Разве я сильно изменился?
— Сильно.
— Но в чем?
— В моем представлении.
— А!.. А я все тот же, не меняюсь!
— Тоже радоваться нечему.
Рудаков не узнавал Женю. Откуда у нее такой тон, и какое она имеет право разговаривать таким тоном?
— А я вас узнал с первого взгляда, хотя вы и сильно изменились, посолиднели. Познакомьте же со своим... товарищем.
Колесов протянул руку Рудакову:
— Колесов, педагог. Вместе с Женей ехали на Дальний Восток. Она у вас властная женщина. Нас, целую компанию, всю дорогу держала в руках.
— Она не у меня, сама у себя, — ответил Рудаков.
— Правильно, Коля, я сама у себя.
Она обрадовалась такой формуле. В эту минуту в ней боролись два желания: одно — показать Колесову, что она все еще сама у себя, и другое — что у нее тоже есть спутник, что и она уже не сама у себя, а у другого, и этот другой — вот он, рядом с нею — предан ей, и она ему предана.
— Что вы хотите сказать? Вы перебили наш разговор, — обратилась она к Колесову.
— Ого, вы по-прежнему с коготками! Люблю...
— Никто в вашей любви не нуждается. Говорите и уходите.
Рудаков с недоумением смотрел на Женю. В это время к ним подошла жена Колесова, женщина лет двадцати семи, и взяла его под руку.
— Сергей, пошли в кают-компанию. Там интересное общество. На палубе адская жарища.
— Встретил старую знакомую. Вместе ехали. Познакомьтесь — вместе будете солдатками.
Женщина протянула руку.
Женя в один миг разглядела жену Колесова, все увидела и оценила: хороший костюм, модные туфли, но и морщинки, веером разбегающиеся от глаз, и несколько чуть, заметных — на верхней губе. Не укрылись и пятна на костюме Колесова, заношенные воротничок и обшлага рубашки. Все это вполне удовлетворило и даже порадовало Женю. Женским чутьем она угадала, что между супругами поселился холодок, жена относится к мужу с какой-то долей безразличия: как можно мириться с таким неряшливым видом? Муж избегает общества жены: не успел увидеть Женю, как оставил ту в одиночестве и подошел к ней.
«Так ему и надо!» — подумала Женя.
Это чувство злорадства, казалось бы столь не свойственное ее натуре, прокатилось по ней горячей волною, точно сама она мстила Колесову за обиду, и, как бы желая усилить эту месть, плотнее прижалась к Рудакову и склонила голову к нему на плечо.
— Кто они такие? — спросил он Женю.
— Он преподаватель литературы, она — его жена; элегантная женщина, одевается со вкусом. Мне нравятся красивые люди, — сказала она. — Ну что значит красивые? Хорошо, со вкусом одетые, остроумные, веселые... С ними хорошо и просто.
— И только? Мало! В человеке должна быть сила ума и сила духа. Он должен быть как гора! В нем, как в горе, должны быть сокровища! Он, как гора, должен быть далеко виден. О чем я жалею, идучи на фронт? Многого не удалось узнать. Жить — это все равно, что подниматься на вершину. И я стал подниматься. Но вот война! И враг — фашизм, война справедливая! Страшный это враг, жестокий, бездушный как машина! А жизнь хороша. Нужно жить столетия, чтобы все испытать, во все проникнуть. Есть вершины — гении человечества; один в одной стране, другой — в другой, один жил в этом веке, другой — в прошлом, третий — две, четвертый — три тысячи лет назад, и эти вершины перекликаются одна с другою. Ленин — это вершина над вершинами! И нет ничего лучше, как «подниматься» на одну, другую вершину и смотреть через века вперед! Но воевать надо! Надо... Родина! А что она такое? Все. Народ, Ломоносов, Толстой, ученые, поэты, песни, леса, горы. И врага надо ненавидеть. Враг — это сапог, который способен придавить ребенка; это грязная лапа, которая способна сорвать с девушки одежды; это глотка, которая готова проглотить твой хлеб и оставить тебя ни с чем. В этой войне мы должны победить, чего бы это ни стоило. Речь идет не только о земле — о нашей душе, о светлой мечте, которую хотят отнять у человечества... Ты понимаешь, если отнять у человечества те идеалы, за которые боролись лучшие сыны земли, — с чем оно останется? Это все равно, что померкнет солнце.
Начнется одичание...
— Коля, хороший ты мой... мне просто плакать хочется... Как бы можно было хорошо жить. Я ведь тоже много читала, думала... после того как побывала у тебя...
— Не понравилась ты мне... тогда...
— А теперь?
— Теперь... Теперь подаешь надежды...
— Ах, Коля, Коля! Совсем ты меня не знаешь. Вот как сделать, чтобы хорошее в человеке сразу было видно. Конечно, дурное тоже...
— Не знаю.
В бухте Малой пароход остановился на рейде в некотором отдалении от берега. Пассажиров доставил катер.
Когда он приблизился, среди приехавших Женя узнала Павлика Гребнева и свою подругу Катю Крупенину, и как только они поднялись на палубу, повисла у нее на шее:
— Катюша, милая, здравствуй! Вот ты какая!
Катя похудела, осунулась, глаза были заплаканы и рядом с Жениными казались лесными озерами в плохую погоду: не разглядеть, глубоки ли и что таится на дне. Зато спокойно с достоинством поздоровался Гребнев. От него веяло здоровьем и душевной теплотой.
Женя отвела знакомых на корму, где возле ящиков сидел Рудаков.
— Знакомьтесь! Мой сосед по школе... Да, Павлик! Колесов здесь, на пароходе! С женою. Призван в армию. Может быть, желаете встретиться? — говорила Женя.
— Сережа здесь? С женой? Любопытно!
— Вас тоже призвали?
— А чем не солдат! Таких сразу же в артиллерию.
Катя прислонилась к его плечу и снова расплакалась.
В это время, очевидно избавившись от жены, к группе подошел Колесов, но вслед за ним шла и она. Колесов не ожидал встретить друга и, увидев Гребнева, пришел в изумление:
— Павлуша! Да ты ли это? А где очки, где шевелюра?
Друзья обнялись, похлопали один другого по спине.
— Я, Сережа. А это вот моя жена. Надеюсь, узнаешь?
— Как же, узнаю! А вот и моя. Будьте знакомы. Вот мы и снова вместе. Нет, позвольте, кого же нет? Ах, этой... «веснушечки» Как же мы изменились! Ехали мальчишками, а стали... семейными, хотел сказать — многосемейными. Было бы и это, да вот помешал немец! А тебя, Павел, не узнать! Раздался в плечах, возмужал, выпрямился. На тебя, я вижу, семейная обстановка хорошо подействовала.
— А на тебя?
— А вот спроси у нее.
— Он у меня трудновоспитуемый, — ответила жена, — придется отдать в школу умственно отсталых...
— Что вы? — удивился Гребнев. — Он был у нас самым способным...
— Смотря на что, — сказала жена. — К семейной жизни неспособен: легко отбивается от дому. Обедает и спит там, где застанет время.
— Брось выдавать семейные тайны, а то и я начну, — отмахнулся Колесов. — Готовить не умеет, тарелки не моет неделями... Вообще — жена для ресторана!
Рудаков отошел к борту корабля. Женя с жадностью наблюдала за Колесовым и его женой. Она и жалела Колесова и в то же время радовалась: «Это тебе урок!»
Колесов взял Гребнева под руку, и они отошли в сторону.
Женщины не знали, что сказать друг другу. Женя заговорила первая:
— Катюша, ты, я вижу, изошла слезами. Разве ими что-нибудь изменишь?
— Я... я его люблю. Он хороший...
— Ну и что ж, — сказала Березовская, — я тоже люблю, но, во-первых, верно, слезами горю не помочь, а во-вторых, временная разлука даже полезна. Война скоро кончится... Я думаю, наши не успеют даже попасть на фронт, как она кончится.
— Я... у меня будет ребенок... как я буду одна...
Катя прислонилась к плечу Жени и снова залилась слезами.
— А вот это уже глупо! — сказала Березовская. — Зачем тебе ребенок? Такая молодая и вдруг ребенок! Какая с ребенком жизнь? Надо пожить по крайней мере до тридцати лет. А так и не распробуешь, какая она жизнь...
— И совсем неглупо, — возразила Женя, обняв подругу. — Не беспокойся, Катюша! Нас остается трое: ты, я, Соня; переведемся в одну школу, и все пойдет хорошо. Мы не дадим тебя в обиду.
Березовская ушла к мужчинам и втиснулась между ними.
* * *
В августе традиционные учительские совещания носили особый характер. Стоял вопрос о перестройке учебно-воспитательной работы в соответствии с условиями военного времени. Нужно было всех детей охватить обучением, не допустить отсева, нуждающихся обеспечить одеждой, обувью, горячими завтраками.
Явка на совещания была полная; шли и ехали из самых отдаленных школ, используя все средства передвижения: попутный катер, машину, телегу, ульмагу; не останавливали ни бездорожье, ни разливы рек (над краем пронесся тайфун).
Женя была на совещании в том же легком осеннем пальтишке, которое по-прежнему забывала сдавать на вешалку, ходила также решительно и проворно, встряхивая непокорными кудрями, но год и для нее не прошел даром, что-то новое, трудноуловимое появилось в лице: чуть заметные складочки над переносьем, в уголках рта, больше мягкости и меньше задора светилось в глазах.
На совещании она встретилась с подругами — Катей и Соней. Подруги изменились куда больше, чем она. Катя подурнела, что объяснялось ее положением, которое всем бросалось в глаза, и только по-прежнему пышные волосы являлись завидным украшением. Соня, увы, не подросла, но пополнела и дышала здоровьем. Она была довольна собою и своим положением. Все трудности, которые ставила перед нею жизнь, принимала как обычные дела, — такова жизнь, временами нужно идти по бездорожью: в поле может застигнуть ливень, в школе не оказаться дров, в жару неизбежно томиться на нивах; но зато, поработавши, можно с аппетитом поесть и поспать, а подвернется случай — до упаду повеселиться. Поэтому, когда Женя, учитывая положение Кати, предложила всем троим перевестись в одну школу, она подняла ее на смех:
— А что тут особенного! Ну появится малютка, но не в лесу же, а среди людей. У нас в семье было семеро, и мама как-то справлялась. Да меня и люди не отпустят. И сама не хочу. Неудобно же! Люди к тебе всей душою, а ты к ним спиной...
На совещании они садились рядом, держались вместе во время перерывов, вместе ночевали.
Катя была поглощена своей любовью и охотнее всего вспоминала, как они провели с мужем минувшую осень и зиму: учились готовить обеды и ужины, ходили в тайгу, иногда с ночевой, собирали дикий виноград, грибы, орехи, гербарии, коллекции, занимались наблюдениями за погодой, увешали стены квартиры нужным и ненужным. У Сони все было проще и героичнее, но ни она сама, ни окружающие этого не замечали. Иногда не было керосина, и она часами сидела возле полураскрытой печки и готовилась к урокам; иногда печка дымила, и она приоткрывала дверь, выпускала дым, напускала холоду и долго потом не могла согреться; иногда в комнате замерзала вода. А когда заболела сторожиха, она сама топила печи и ходил а к проруби за водой, сама откапывала школу после снежного заноса. Да чего только за зиму не было! Стоит ли об этом говорить! Делали ей предложение, да она отклонила: как это можно? Не успела приехать — уже устраивать свои дела! Ведь нужно было бросать школу: его куда-то перевели. Где бы я теперь скиталась? А тут я как в семье...»
Девушкам было о чем поговорить, и они грешили этим и на совещании. Но тут произошло нечто неожиданное: докладчик, завроно, заговорил о Жене Журавиной. Она — подлинный патриот, непартийный большевик, общественница, сестра и мать для многих детей, родители которых призваны в армию; у нее самая высокая успеваемость в районе; дети и родители ее любят...
Женя не знала, куда себя девать, опускала голову все ниже и ниже, а когда попросили встать и показать себя совещанию, оставила подруг и выбежала из зала. Но дело этим не кончилось: когда начались прения, ей предложили выступить и рассказать о своем опыте. Сначала она хотела повторить свое бегство, но Соня удержала, и нехотя она поднялась к столу президиума.
— Ну что я могу сказать? Работаю как все. У нас все хорошо работают. Дети стараются...
— А если кто отстает? Как вы помогаете отстающим? — пришел на помощь завроно.
— Как помогаю? Сажусь рядом и помогаю. То он ко мне приходит, то я к нему. Но они же сами хотят учиться! И родители хотят, и я хочу. А если все хотят, то как же не добиться?..
— Расскажите, как вы работаете с родителями.
— С родителями? Мы просто подружились. То они у меня, то я у них. Вместе думаем, заботимся. Родители любят, когда любят их детей. Тогда они начинают любить их еще больше. А ребята у меня хорошие...
Женя снова запнулась. Она вспомнила своих ребят, вспомнила Пронина, Ковалькова, могла бы много о них рассказать, и не так легко и просто все делалось, как она теперь рассказывала. А самое главное — на уроке она пускала в ход все свои силы; в семьях вместе с родителями думала, как лучше одеть, обуть, поднять силы ребенка, как вызвать у него желание знать. И делалось так не потому, что этому учили в педучилище, а потому, что так учила жизнь. Ее заслуга была разве лишь в том, что она все силы вкладывала в работу.
— Ну, я больше не могу!.. — заявила Женя и убежала со сцены. Раздалось несколько редких хлопков, никто не был удовлетворен выступлением лучшей учительницы; больше того, всяк посчитал себя и умнее и лучше. А то, что было действительно лучшего, — большое учительское сердце, честность, любовь к детям, — этого никто на совещании не увидел.
Подруги также остались недовольны выступлением:
— Женя, ну что с тобою? Ты так хорошо выступала в училище! — сказала Соня. — Нам рассказываешь часами, а тут не могла рассказать!..
А потом она позавидовала Жене:
— А все-таки хорошо. Про тебя говорят, а про меня ни слова! А я столько делала...
Подруги замолчали. Соня припомнила подробности минувшего года: занятия в две смены, самодеятельность, хозяйственные заботы. Счастье школы, что она была крестьянской девушкой, не боялась никакой работы. И будь обстановка вдвое тяжелее, приняла бы как должное, обычное. Но у нее за всю зиму не было инспектора, никто не видел ее подлинного героизма.
Недовольный выступлением Жени, завроно предоставил слово Агнии Петровне, сидевшей в президиуме.
— У Евгении Михайловны, — сказала она, — есть чему поучиться и молодым, и нам, старым. Секрет ее успеха прост. Пожалуй, и нет секрета — просто внимательное отношение к человеку, сердечное. У нее нет равнодушия, безразличия к ребенку и к любому человеку. Она всех видит. Она начала с того, что стала прихорашивать и, можно сказать, своим сердцем отогревать своих учеников. И отогрела! Помню, пришла к ней одна девочка, сарафан до пят, волосы не причесаны, на шее крестик, личико бледное. Посмотрели бы вы на нее сейчас! Ребенок — глядеть хочется! Или мальчик Гриша. Был как сорнячок при дороге, а сейчас! Мальчик расцвел, посветлел. И мать стала другой женщиной. То не любила ребенка, а теперь души в нем не чает. Так и каждого ученика. А учеников у нее сорок! Конечно, нам надо знать и педагогику и психологию, без теории мы слепые, но прежде всего надо быть человеком, по-настоящему любить детей...
Агния Петровна перешла к работе школы с родителями и хозяйственным делам, которые, как и у всех, заставляли директора отдавать им много времени и сил.
После ее выступления объявили перерыв. Во время перерыва Жене показалось, что все от нее отвернулись, даже подруги стали как-то холоднее, точно она вдруг стала виноватой перед всеми. Ей казалось, что она станет центром внимания, а выходило наоборот. Она отошла к окну, на глазах навернулись слезы:
— Что я плохого сделала?
Вдруг она почувствовала, что кто-то берет ее под руку.
— Ну, а слезы зачем? Слезы нам не ко двору! Такая молодчина — и вдруг слезы!
Женя повернулась и увидела перед собою секретаря райкома партии Ковалева.
— Плакать не следует. Не такое сейчас время. А дело вы делаете большое. Комсомолка?
Женя утвердительно кивнула головой.
— Надо вступать в партию. Сил прибавится, и работа пойдет веселее. Сейчас все лучшие люди, патриоты, вступают в ряды партии.
— Кто меня примет, такую... плаксу...
— Это ничего. Большевики — живые люди. Ничто человеческое им не чуждо... Ну, а слезы почему?
— Не умею я выступать... Сидят все такие умные... А потом наговорили про меня, будто раздели. Теперь никто и не смотрит...
— Только и всего!? Ну, это пустяки. Говорили про вас хорошо! Если бы про меня так говорили, я бы плясать пустился. А выступать надо. Собрания для нас — школа. А сидят в зале всякие..
— А почему одних хвалят, а других, кто больше сделал, не замечают?
— Кого, например?
— Учительницу из Подгорного. Она сама и печь ремонтировала, и за дровами ездила, и воду носила, и как в колхозе работала! Председателя колхоза научила простым и десятичным дробям! И в дыму и в холоде сидела. И о ней ни слова, а меня прославили! А что я такое сделала?..
— О Подгорном у нас хорошие сведения, но того, о чем вы говорите, я не знал. А еще что скажете?
— А еще я прошу перевести Катю Гребневу в нашу школу. Одним словом, назначить нас вместе. У нее будет ребенок, а мужа призвали в армию. Она моя подруга, и я хочу ей помогать.
— Я думаю, что это можно будет сделать.
Женя подняла голову, посмотрела Ковалеву в глаза, и оба улыбнулись.
В годы войны, как ни велики были потери, ряды Коммунистической партии не редели, а росли! На фронте и в тылу в партию хлынули новые силы. Это были патриоты Родины, люди высокой совести и моральной чистоты. Для них быть в партии значило служить народу, отстаивать высокие идеалы человечества, жертвовать всем, не требуя взамен ничего.
Когда Женя рассказала Агнии Петровне о своем разговоре с секретарем, та помогла ей оформить документы, дала рекомендацию, и в октябре, накануне праздника, первичная партийная организация принимала ее кандидатом в партию. Она рассказала свою коротенькую биографию, вопросов не последовало, стали высказываться, и тут Женя поразилась, как тепло относятся к ней эти на вид суровые, всегда озабоченные люди, коммунисты, с которыми, не зная об их партийной принадлежности, она не раз встречалась, как хорошо знают и высоко ценят и ее работу.
— Дайте и я скажу, — попросил слова старый рыбак Матвей Сурнин: -- Я знаю товарища Журавину давно. Я ее первый тут увидел и, прошу прощения, осудил. Ехали мы на одном пароходе. К месту работы она ехала... Ну, смотрю — юла! Есть музыка, нет музыки — пляшет. Кто не подвернется, тот ей и пара. Ну, думаю, эта научит! А тут, смотрю, к нам в поселок прислали. Дальше — больше: внук мой на выучку к ней попал. Ну, гляжу, жду, что будет. Вот она и приходит к нам в дом. Пришла и отчитала! Инспектор по качеству! Выходит, внук мой не мыт, не стрижен, в ушах грязь, под ногтями грязь, в помещении у нас грязь, по углам паутина, мусор в углу. Ну, взорвало меня, каюсь! «Не с этого бы, говорю, начинать! Ты просвещай ум, а чистоту мы наведем сами». А она в ответ: «Как же вас просвещать, когда у вас солнца не видно: окна сроду не протирали». И, поверите вы, загоняла нас с внуком: воды принеси, тряпку подай, давай нитку, иголку. Часа два мы провозились, пока навели порядок. Голову вымыла внуку, вот что! Сиротка он у меня. Ему, пожалуй, первый раз такое внимание. Ну, ушла она, а я целую ночь ворочался — не спится. Вижу: правильно сделала. Как тебя просвещать, когда тебя помыть сперва надо, чтоб ты сам себя уважал, чистоту почувствовал. А дальше что ж? У всех она на виду, худого не скажешь, человека сразу видать. Другие вон сколько лет у нас живут, а не видно их и не слышно. А эта за год до всякого дошла... Мария Петровна, та, верно, доходила, но та больше пилила, а эта, смотри ты, командует: чего не так — переделай, сделай. А оно так и следует. Из слов шубы не сошьешь. Про что и говорю... А теперь про внука: поддерживает порядок! То не замечал, где у нас что, а теперь — то не на месте, другое не так. Потребовал щетку зубы чистить. Я говорю: «На мои погляди! Отродясь не чистил, а они как чеснок!» А он: «Учительница больше тебя знает». Ну, раз больше знает, купил ему все что надо, — наводи чистоту...
— Нельзя и мне промолчать, — сказала Агния Петровна. — Я только напомню один случай. Никто здесь, кроме меня, его и не знает. Мария Петровна, которой Женя пришлась по душе, оставила ей свои вещи. Было золото и серебро. И она (набралось его на три тысячи) все сдала в фонд обороны. Всё, что имела...
Присутствующие на собрании подняли головы.
— А почему это никому не известно?
— Запрещает. Считает, что она только передала чужое из одних рук в другие, и в этом не видит заслуги. То же и с вещами — раздала людям.
В райкоме к Жене отнеслись так же тепло и внимательно, как и в первичной парторганизации. Возвращаясь домой, она не слышала под собой ног. «Хорошо... И все они хорошие. Сначала смотрели строго, как судьи, аж холодно стало, а когда выступил секретарь и все рассказал, сразу потеплели, и мне стало тепло, даже жарко».
Вернувшись в школу, она забежала к Агнии Петровне, бросилась ей на шею:
— Приняли, Агния Петровна, приняли!
— Ну, поздравляю... Ты у меня умница. Дай же и я тебя поцелую. Вот так. Теперь у тебя прибавится сил, смелости. Берись за дело обеими руками. Мы, коммунисты, перед народом в ответе. Это надо осознать. Мы не можем поворачиваться спиной ни к беде, ни к неправде. Нас все касается...
Весь вечер они говорили об этом большом событии в жизни Жени Журавиной.
Первые дни после приема в партию Женя не находила себе места. То ей казалось, что она теперь выше других на целую голову, то — что она самая маленькая и все на нее смотрят и удивляются, то ей становилось весело, и она повторяла про себя: «Хорошо! Я с ними, они помогут. Теперь хоть в огонь!..»
* * *
Забот у Жени прибавилось. Ей хотелось, чего бы это ни стоило, оправдать доверие коммунистов, заслужить одобрение. Круг ее интересов все время расширялся. Она оказывалась незаменимой везде: секретарь на всех собраниях, ребячий бригадир на рыбалке, упаковщик посылок на фронт, рисовальщик плакатов, приемщик печной золы, птичьего помета — удобрений для колхоза. Она вместе с другими заготовляла топливо, работала агитатором, и все у нее всегда выходило. И у всех складывалось убеждение, что она все сделает, ни в чем не подведет. За ее спину стали прятаться многие, голосовали «за» и устранялись от работы. А она встряхивала кудрями, шла и выполняла все, что ей поручали. Ей всегда не хватало времени. По ночам огонек в ее оконце потухал последним в поселке.
Все видели ее приветливую улыбку, но никто не видел большого горя, которое легло на плечи: на стене над кроватью висела небольшая географическая карта, черный флажок на ней обозначал родную станцию, занятую теперь немцами, а красные флажки — линию фронта.
Враг приближался к Москве. Ложась спать и просыпаясь, забегая к себе в комнату во время обеденного перерыва, она подолгу глядела на эту карту, она срослась с нею мыслями и чувствами, точно это была не карта на стене, а частица ее собственного тела, вдруг страшно заболевшая.
«Что там происходит? Что с ними теперь?»
Женя не любила рассказывать о своих делах, тем более о своем горе. Она всячески старалась скрыть его от других. Но скоро оно стало известно всей школе, а затем и всему поселку.
Однажды в комнату к ней зашли ученики Ковальков и Пронин — принесли исправленные лыжи. Мальчики обратили внимание на карту с флажками.
— А черный зачем? — спросил Ковальков.
Приятель ответил:
— Ясно зачем. Здесь ставка Гитлера.
— Нет, ребята, здесь моя родина, мои родители... Это мое большое горе. Когда я вырву этот флажок, я буду самой счастливой на земле.
Мальчики насупились, а в сердце вспыхнула настоящая жажда подвига с ее сладостью и горечью. Им до боли захотелось освободить Родину и родителей своей учительницы, прийти и сказать ей коротко:
— Все в порядке!
Однажды в школу пришло письмо. Солдаты одной воинской части писали о себе, обещали храбро сражаться с врагами и призывали учиться на «хорошо» и «отлично», побывать в семьях фронтовиков, выяснить, в чем они нуждаются, оказать помощь.
Похоже было, что письмо написано под диктовку учителя, и Жене вдруг захотелось, чтобы это было делом рук Николая Рудакова и чтобы интересовался он не только семьями фронтовиков, но и ею. Письмо было прочитано во всех классах, была организована тимуровская команда, которая обследовала положение в семьях, призванных в армию: одним починили завалинки, другим нарубили дров, оклеили окна, помогли по хозяйству и затем со всем тщанием написали ответ.
Так между школой и воинской частью началась переписка.
Женя вполне освоилась со своим новым положением и, пожалуй, была бы довольна своей судьбою, насколько позволяло время войны, если бы не Катя Гребнева. По просьбе Жени и с согласия Агнии Петровны ее перевели к ним в школу. Сначала все шло хорошо: Катя работала с подъемом, с живым интересом к делу; всем нравилась мягкость, застенчивость и добросовестность новой учительницы; но постепенно, по мере приближения родов, настроение понижалось и, как когда-то в педучилище, все заботы пали на Женю (их поселили вместе, в одной просторной и светлой комнате).
Катя жила только письмами мужа, и когда они приходили, менялось настроение, появлялась бодрость, вера в лучшее будущее.
Роды прошли благополучно, родился мальчик, и в Кате снова произошла перемена: она стала требовательна и эгоистична. На Женю свалились новые обязанности: она должна была топить печку, заботиться, чтобы в комнате было тепло, чтобы пеленки были сухие, обед вкусный и питательный. Иногда она намекала Жене, что та, как член партии, лично обязана создать для нее и ее ребенка идеальные условия:
— Вы власть! При чем же мой крошка, что у нас ничего нет?
— Но ведь война, пойми ты!
— А почему в Америке все есть? Обещали воевать на чужой земле, а своей половину отдали...
Женя относилась к подруге так же терпеливо, как и к своим непонятливым ученикам.
«Счастье придет! — думала Женя. — Придет! Иначе не может быть!». И, встряхнув кудряшками, принималась за свою очередную «нагрузку».
Всё для победы
Агнии Петровне предложили занять должность директора школы в сельскохозяйственном районе. В годы войны на директоров сельских школ легла забота и о соседних колхозах: работников поубавилось, к руководству пришли новые люди, и многие школы становились душой и в значительной мере рабочими руками коллективного хозяйства. Очевидно, полагали, что Агния Петровна укрепит школу и поможет колхозу.
Агния Петровна поставила условие — перевести с ней и молодую учительницу Журавину. Условие не вызвало возражений.
Переезд к новому месту работы оказался для Жени болезненной операцией, более тяжелой, чем отъезд из родительского дома: расплакались ребятишки, разревелась Катя:
— Я хочу с вами. Я не хочу здесь оставаться.
Агнии Петровне пришлось долго уговаривать: новая школа, куда они переводятся, укомплектована, в этой же не хватает работников (директором был назначен Лысиков). Женя оставила Кате некоторые свои вещи, часть вещей подарила Агния Петровна. Попросили жену Петра Игнатьевича оказывать ей поддержку, и та с радостью согласилась. Комнату Кати хорошо обставили, и она успокоилась. Вздохнула с облегчением и Женя: первый раз в жизни она почувствовала усталость, но не от школьной и общественной, а от домашней работы: утомила подруга, которая готова была возложить на нее все свои обязанности, материнские и школьные, и винила Женю во всем: в неудачах на фронте, в недостатках в тылу. Став членом партии, Женя действительно чувствовала свою вину за то и другое, но она, как ей казалось, делала все, что нужно, тогда как подруга ничего не хотела делать и ни за что не хотела отвечать. Тяжелым и трогательным было прощание Жени с учениками, особенно с Ковальковым, Прониным и Гришей. Первые не сводили с нее глаз, а Гриша вдруг озлобился, скрючился и ни ей, ни матери не сказал ни слова.
Агния Петровна приняла новую школу. Школа была маленькая, а забот и хлопот оказалось много. Завуча не полагалось; учителей было всего пять человек, и они вели все учебные предметы и начальные классы. Уроков у всех было помногу, работали кое-как: мало давали и еще меньше спрашивали.
Бывший директор Иван Иванович Миляга имел среднее педагогическое образование, но преподавал историю, конституцию, географию и физкультуру; его жена, кроме второго класса, вела химию и биологию. Ни у того, ни у другого надлежащей подготовки не было.
Тяжело было и в колхозе. Наводнение унесло сено, урожай получили низкий; не хватало ни хлеба для людей, ни кормов для скота, а главное — не было распорядительности и желания работать. Плата за трудодни в последние годы была ничтожной, и у людей не было никакого желания работать в колхозе.
Председатель Мирон Кульков, присланный из района, — городской житель, который сразу же насмешил колхозников: не мог отличить ячмень от пшеницы, а стал запрягать лошадь — хомут надел обратной стороною. Это был человек, который совмещал в себе три качества: рассеянность — всегда думал не о том, о чем говорилось, хитрость и полное незнание дела. Но он умел хорошо услужить начальству и, кажется, в этом видел свое назначение.
Ознакомившись с положением в колхозе, Агния Петровна сказала Жене:
— Ну, помощница моя незаменимая, работы и заботы у нас хватит. Первое дело — надо поднять дух у людей; люди опустили руки; второе дело — поднять школу; а третье — провести весенний сев. А там уже отдохнем. А к осени и война кончится.
— Агния Петровна, да какая же я помощница? Тут, смотрите, какие все серьезные! Смотрят буками.
— А ты вместе с людьми думай. Так и говори: «Давайте подумаем... Не лучше ли будет так?..» Может быть, они и много знают, да мало желают. А сейчас надо много знать и желать. Тогда и сила найдется...
Первые дни занятий Агния Петровна ходила на уроки, присматривалась к людям. Однажды во время большой перемены она сказала:
— Далеко мы стоим от детей, товарищи! Чужие они для нас. А надо, чтобы стали своими. Нельзя идти дальше, не закрепив пройденного. Нам надо проверить, кто чего не знает, а затем подумать, как исправить положение...
Проверка показала большие пробелы в знаниях учащихся, у некоторых — отставание на целый год. Учебные группы оказались крайне неровными, отстающие тянули назад успевающих, и все топтались на месте. Ученики третьего и четвертого классов, не говоря уже о старших, не могли припомнить, сколько у них сменилось учителей, они приходили и уходили, и дети не печалились, когда уходил старый, и не радовались, когда приходил новый: никто не оставлял заметного следа ни в обучении, ни в воспитании.
На педагогическом совете давали ученикам резко отрицательные характеристики: ленив, неспособен, невнимателен, слабо развит, запущен...
— Что же нам делать? — спросила Агния Петровна.
— Надо, чтобы в семье взялись как следует! — бросила реплику учительница Гнетова.
— В семье некому. Все дело в количестве и качестве нашего труда. Нам надо подогнать отстающих. Ведь вот на ваших уроках, товарищ Норкина, все время уходит на работу с теми, кто не успевает. А успевающие сидят, ждут и ничего не делают. Надо выделить отстающих и позаниматься с ними отдельно. Как это сделать? Будем учиться один у другого. Организуем серию открытых уроков...
Коллектив не поддержал директора. Выступил Миляга:
— От нас требуют работы в две смены, а платить будут за одну. Только на нашем производстве это и бывает. На любом другом — за дополнительный труд дополнительная плата.
— Но ведь мы исправляем свой брак! — сказала Агния Петровка.
— Я даю уроки по всем правилам. У меня уроки — комар носа не подточит. Сколько у меня перебывало инспекторов — никто плохо не отзывался. А в том, что они не успевают, — не моя вина. У многих плохое питание: сахара нет, жиров тоже; керосина нет — спать ложатся в одно время с курами. В классах холодно. При таких условиях они и не могут успевать. Мы не должны втирать очки: что есть — то есть...
— Что же делать? — спросила Агния Петровна. — Сахару завтра не прибавят, жиров тоже. Сидеть сложа руки? Мириться с тем, что есть?
— Я присоединяюсь к Ивану Ивановичу, — сказала Норкина, учительница русского языка. — Неуспеваемость по русскому языку — это результат низкого культурного уровня. Нашим ученикам не хватает слов. По-моему, — судите меня, как хотите, — седьмой класс слить с шестым и выпуска в этом году не делать! Я и осенью говорила то же самое. А дополнительных занятий вести не буду. У меня свои дети. Я сижу на уроке, как на иголках: как бы дома чего не случалось. Сама в классе, а душа дома...
— Работы требуют, а что получаем? — сказала Гнетова. — Вчера получила по карточке четыреста граммов карамели, принесла домой, и мы их... за один присест... И еще я не понимаю, почему так много разговоров об уроке: открытый, закрытый... Может, я ничего не понимаю? Ну, не я в школу просилась, а меня просили. Не подхожу — ищите другого... Теперь люди с огородов больше выручают, чем мы на службе.
Преподаватель математики хранила молчание и продолжала проверять тетради.
Женя не утерпела:
— Разрешите мне!
— Пожалуйста, Евгения Михайловна.
— Товарищи, ну что это такое? Ну поглядите вы на себя... Мы же учителя! И какое сейчас время! Товарищ Миляга, ну как же вам не стыдно! Рабочие по три смены не выходят с завода, а вы переработали... Наговорили ужасов: есть нечего, керосина нет, дров нет... А где же вы были, директор школы? Вы же за все это в ответе...
— Не вам меня учить! У меня за плечами двадцатилетний трудовой стаж!
— И за двадцать лет не научились заготовлять топливо... для школы. У вас на дворе поленница под самую крышу. Ну какая же работа, когда человек прямо заявляет: сама в классе, а душа дома. Наоборот надо! В классе душа! Или еще: не говорить об уроке... Да как же так? Агния Петровна, ну скажите вы!.. Что же это такое? Так же нельзя! Ведь на то мы и поставлены, чтобы менять условия! Не верю я, что нельзя сделать так, чтобы было хорошо. Что же будет, если в такое время мы опустим руки! Надо работать изо всех сил...
Раздосадованная, не находя нужных слов, Женя опустилась на стул.
— Кто еще?.. Вы, Ксения Григорьевна? — обратилась она к математику. Та отрицательно покачала головой.
Желающих не оказалось, и Агния Петровна выступила сама. Она удивила Женю: ожидала, что будет «метать громы и молнии», а она совсем спокойно:
— Иван Иванович, государство правду знает и, надо полагать, лучше, чем мы с вами, и зовет нас не к обману, а к труду. Мы должны научить. И говорить надо о том, как учить, чтобы научить именно в этих условиях. Минувшая неделя не прошла даром: мы уяснили, что дети знают и чего не знают, теперь надо одних приохотить, а других и приневолить к работе. А средство для этого одно: надо ближе подойти к ученику, больше проявить о нем настоящей заботы. Нужно на каждом уроке видеть, как усвоили материал, с чем ушли из школы. На других производствах, какие вы имеете в виду, шлифуют каждую деталь. А брак просто не принимают, заставляют переделывать. У нас же брак сходит с рук. Это недопустимо...
Расходились с совещания обеспокоенные, но все по-разному. Миляга говорил жене:
— На мне далеко не уедут! Где сядут, там и слезут. Я не из таких...
— Она уже обежала все село, эта подпевала, — ответила супруга, имея в виду Женю.
— Да, и в зарплате нас подрезали. Примерно на четыреста убавится. Надо будет нажимать на хозяйство.
* * *
Для работы с населением на долю Жени досталась окраина поселка. Для начала она побывала в каждом доме, а затем стала собирать в один, наиболее просторный и удобный для всех. Начало было трудным. Женю просто-напросто не хотели слушать: людям нужны были не слова, а дела; и выручали ее здравый смысл и та «бабья мудрость» — живой сердечный подход к человеку, — которые особенно ценила в ней Агния Петровна. Конспектов у нее не было, зато для каждого находилось свое особое слово, не чужое, заученное, но именно свое, согретое в душе, простое, житейское, поэтому и разговор получался живой, человеческий, доходивший до сердца. То, что вначале казалось чужим, далеким, каким-то образом становилось своим, близким, жизненно важным. В одной семье она начинала с детей: как лучше одеть, учить, воспитывать, в другой — с тех, кто на войне; в третьей — с хозяйства. Само собой приходили и начало и конец беседы, и секрет, по-видимому, заключался в том, что она подходила к делу просто, так, как само дело подсказывало. И когда через час-полчаса уходила, люди чувствовали, что в доме осталось что-то новое, какой-то особый дух, то, чего раньше не доставало. Поэтому, когда она предложила собраться для беседы в один дом, к Юрковым, пришли и званые и незваные: все хотели узнать новости, какие принесет учительница.
Знакомства с семейством Юрковых Женя никогда не забудет. Это семейство состояло из старика свекра, старухи свекрови и невестки, женщины тридцати лет, оставшийся вдовою с двумя детьми, мальчиками восьми и пяти лет. Невестка работала на колхозной ферме и по сути была кормилицей семьи.
Когда Женя зашла в дом, старик чинил ветхие катанки, старуха сидела на запечке с внуком на коленях.
— Здравствуйте, — сказала Женя, переступив порог. Старик бросил на нее беглый взгляд, но ничего не сказал.
— Дедушка, здравствуйте! — повторила Женя, подойдя поближе. — Здравствуйте, бабушка.
— Ну, говори, зачем пришла?
— Я учительница. В воскресенье приехала. Учить буду ваших детей.
Старик с сердцем отбросил один катанок и взялся за другой.
— Много к нам приезжало, а какой толк? Приедут, поразводят турусы на колесах и уедут. Ищи ветра в поле. На западе жили — там учитель всю жизнь с нами прожил. Мы его и похоронили. И один восемьдесят человек учил. И всякие перед ним сидели: и те, которым по восемнадцать, и те, кому по десять. А теперь учеников восемьдесят, а учителей — восемь. И к нам же прибегают: «Помогите!» А тот нам помогал. Перед тем дрожали. Муха летит — слышно. Слово сказал — дело свято!
— А чему он учил? И чему научил? — спросила Женя. Вопрос застиг старика врасплох. Он поднял голову и не знал, что ответить.
— И сколько лет вы учились? И чему научились?.. Ну-ка припомните!
— Мне нужда не дала доучиться. Три года учился. Азбуку: аз, буки, веди, глаголь — прошел, а добро не одолел. Складывать так и не научился...
— Вот видите! Сам признался...
Старик промолчал.
— Зато старших почитали, пятую заповедь не забывали, — заговорила старуха. — И бог все давал: и хлебушка людям и корма скотине. Вчера на ферме корова пала, а сегодня, гляди, — другая; а к весне ни одной не останется. Потому — не свое, так и относятся. Лишь бы день до вечера...
— А почему так? — спросила Женя.
— А потому, — ответил старик, — что мужику перестали верить. Планы пишут за нас, что сеять, как сеять, где сеять, сколько сеять — решают без нас. Прислали председателя, а он ячменя от пшеницы не отличит. Пройди-ка вон на ферму, погляди, как скотину содержим! Там наша Дарья. Она тебе и расскажет...
— Хорошо, я пойду. Только я еще к вам приду. Буду вас, дедушка, агитировать.
— Зайдешь — хорошо, мимо пройдешь — плакать не будем и вслед не побежим. Агитировать нас нечего. Агитируют языком. Ты делом агитируй...
Женя зашла в коровник. Дарья Юркова разбрасывала под ноги коровам залежалую солому. Некоторые покорно жевали, другие с беспокойством топтали ногами. В хлеву было холодно и грязно; замерзшие комья навоза лежали под ногами, на подстилке, висели на взъерошенной тусклой шерсти животных.
— Здравствуйте, тетя Даша. Была у ваших. Послали сюда. Я новая учительница... Вы что — одна за ними смотрите?
— Приставлено много, да попробуй — вытяни... Да и как винить? Работаем много, а толку мало...
— А почему мало?
— А потому, что нету настоящей головы. Прислали председателя, а он на этом месте дурень набитый. Да и такой назад в город смотрит. Все ему чужое, ни к чему душой не прирос. Разве настоящий хозяин до этого допустит? А гостей у него со всех волостей. Все приятели да прихлебатели. Им и сметанка, и медок, и гуся, и порося... А скотину разве этим накормишь? Кожа до кости. Разве такая растелится? Сил не хватит. Кормить нечем. Хоть сама под нос им ложись. И легла бы да есть не будут...
— Тетя Даша, надо что-то делать... Война! Кончится, все пойдет по-другому...
Женя стала гладить потянувшуюся к ней корову.
— Сами знаем, что война. Как бы не такая беда, кто б терпел. То обидно, что мы вроде бы и не люди. Хозяин он, а ты гляди из его рук... Пусть бы хоть распоряжался с умом, а то и ума не видно.
Женя вместе с Дарьей Юрковой вновь вернулась к ней на квартиру. Оказалось, что за хорошие показатели ее назначили заведующей, и это повышение заставляет ее почти круглосуточно работать на ферме. Другие, кому положено, на работу не выходят.
— За скотиной гляжу, а свой ребенок запаршивел. А люди в торговлю ударились. Тащат в город и семечки, и яички, и мясо. Да и тащить не надо — дома находят. Директор школы наменял отрезов — надолго хватит; что надо и чего не надо — всё у него найдется...
— Дедушка, ну а что вы нам посоветуете? — обратилась Женя к старику Юркову.
— А ты спроси у председателя. Ему с горы видней...
— Нельзя же так, дедушка. Не чужое ж это все?
— Чужое не чужое, да и своим не стало...
— А, вы возьмитесь, оно и станет...
Старик ничего не ответил, только с еще большим усердием принялся за починку обуви.
Женя подсела к старику, уставилась, подперла голову кулачками.
— Дедушка, скажите! Вы же знаете! Вы же всю жизнь вели хозяйство. Я не уйду, пока не скажете!
Старик молчал и торопливо орудовал шилом, Женя следила за его движениями.
— Ну, говорите же, дедушка. Ведь коровы же голодают. Разве вам не жалко? Мычат! Я ни о чем другом не могу думать, пока не накормим.
Старик швырнул в угол и другой катанок.
— Надо начальника с головою. Надо мужика уважать. Надо, чтоб была честность...
В тот же день, по настоянию Жени, было созвано партийное собрание: председатель колхоза, Агния Петровна, Женя, Дарья Павловна Юркова; пригласили Милягу, беспартийного.
Юркова сделала доклад о положении на ферме. Говорила она три минуты: кормить нечем, скотина отощала, начался падеж, до весны не дотянем...
— Что же вы предлагаете? — спросила Агния Петровна.
— Спросите его, что он предлагает, — кивнула она в сторону председателя.
Тот, очевидно, думавший о чем-то другом, очнулся, оглядел присутствующих и, придя к выводу, что он тут сильнее всех, накинулся на Юркову:
— К ответу тех, кто лето здесь просидел. Я с осени приставлен. К разбитому корыту. Ты тут сидела! Почему не запасла кормов? Судить буду. А теперь какой выход? Половину скотины забить и сдать государству, а другую — колхозникам, кто в силах прокормить. А по весне пусть вернут — кто приплод, а кто скотину.
— Вот он какой у нас хозяин, — сказала Юркова. — Ему ничего не жалко, потому — легко досталось. Дай волю — все растранжирит. А взятки с него гладки. Прилетел с попутным ветром, с ним же и улетит. Ручки в брючки да в другой колхоз. Край большой — на его век хватит... сметанку слизывать...
— Как это прилетел с ветром?! — возмутился председатель. — Меня партия поставила. А за падеж скота ты мне ответишь! Куда летом глядела?
— Я-то глядела куда следует. Я их тут всех годовала; своих детей забывала, а за ними смотрела; всех подняла. И теперь сутками от них не выхожу. А тебя не видно. Да ты и не знаешь, как к скотине подойти. А до тебя другой был, такой же. Ему говорили поставить стога повыше, а он — нет! Вот сено и уплыло. И он уплыл... в другой район... Порядок наводить. А партия ставит вас, чтоб дело делали, душу вкладывали, ночей недосыпали...
— Я свое дело делаю. Я в партизанах был, боролся за Советскую власть. Тайгу эту вдоль и поперек излазил...
Председатель вышел из себя. Миляга молчал. Он тоже еще не определил, где сила, какую погоду принесли с собою две женщины, молодая и старая, появившиеся в деревне в середине учебного года.
— Я тебя заставлю отвечать! — кричал председатель. — Вчера скотина пала, ты мне на ее место поставишь свою.
— Надо будет — поставлю.
Совещались долго. Агнии Петровне стало ясно, что Кульков не хозяин, но пока что неотложная задача — добывать корма. Решили на другой же день послать Милягу в соседний колхоз, не пострадавший от наводнения, просить взаймы овса, сена; организовать резку, запарку и подсаливание соломы; утеплить хлева; школе взять шефство над молодняком; обратиться за помощью в райком партии: там должны знать, где есть излишки и где недостача...
Вечером следующего дня Миляга вернулся ни с чем: соседний колхоз не располагает излишками.
Женя возмутилась:
— Не может быть! Миляга плохо просил. Агния Петровна, я поеду сама! Как же так? Я им докажу...
К удивлению Агнии Петровны, Женя вернулась с кормами. Вслед за нею везли воз сена, десять кулей овса.
— Агния Петровна, вы знаете, как он просил, Миляга? Там и не поняли, зачем он приезжал...
— Вот как!.. Ну, а ты как просила?
— Я? Я их заставила...
— Даже... заставила?.. Как же это?
— Ах, не опрашивайте!.. Было всего. Они хитрые: молчат — ни да, ни нет; а потом — все согласны... А когда согласились, я заплакала, а они засмеялись. А в коридоре один сказал:
— Молодец, дочка! Вот так и действуй... Где зубами, где когтями. Иначе нас не проймешь...
На следующий день Женя снова была у старика Юркова. Разговор произошел на дворе, старик старательно утеплял хлев для своей коровы.
— Дедушка, а я вчера была в колхозе «Знамя». Помогли нам кормами...
— Неужто помогли? — опросил он, откладывая работу.
— Помогли...
— Штука! На них это не похоже.
— Похоже, дедушка. Все же хотят победы.
— Победы хотят. Под немца — не дай бог. Залютует...
— А я пришла вас пристыдить: невестка передовой человек, а вы отсталый элемент.
Слово «элемент» взорвало старика:
— Какой илимент! Я человек. У меня есть понятие...
— Понятие, дедушка, есть у всех, только — какое? Вы вот для своей коровы хлев утепляете, а колхозные дрожат. Вот подгоню к вашему двору и пусть мычат: «Холодно, дедушка, холодно...»
— А ты сделай так, чтобы все заодно. Я принес ношу, а он еще больше. Тогда и я силов не пожалею. Разве так работают? Бывало, утром недоспишь, ночь прихватишь. А теперь, на покос идут — роса высохла, с покоса — полдничать рано... Мужика приучили, что за него думают. Надо, чтобы он сам думал и сам отвечал. А он вроде батрака. А на батраках далеко не уедешь. Дарья трудится, а Кульков транжирит. Ты покажи мне, что труд мой на пользу идет, и я горба не пожалею. А ежели труд идет прахом, у кого будет охота...
— А вы покажите пример — принесите ношу. Может, тогда другие понесут еще больше... Хотите, я вас грамоте выучу?
— На тот свет пускают и неграмотных.
— Вас не примут! Вы еще на этом не все сделали! Не дадим справку от сельсовета и не примут.
— Надоедливая ты, как муха. Ну, чего пристала?!
— Чтобы вы колхозный хлев утеплили.
Старик искоса посмотрел на Женю, но ничего не ответил.
— А грамоте я научу, так и знайте. Нехорошо! Выучили «аз, буки, веди», а «добро» не знаете. Сами признались.
Старик стал конопатить еще усерднее.
* * *
Лето выдалось трудное и для колхоза, и для школы. По настоянию Агнии Петровны Кулькова убрали, председателем поставили Дарью Юркову. Это обстоятельство произвело переворот в мировоззрении старика, ее свекра. На другой же день, повеселевший, он пришел на колхозный двор, при всех поплевал на руки и потребовал работы:
— Съел волк кобылу, пусть подавится хомутом.
Перечинил сбрую, инвентарь, совался в свое и не в свое дело, сыпал шутками и прибаутками.
В колхоз то и дело наезжали представители из района, из края, из редакций газет, из радиокомитета, находили всех на своем месте, работа шла дружно, без перебоев, и земля сулила хороший урожай. Не обошлось и без курьеза: приезжал профессор с двумя дамами ассистентами, изучавший возможности разведения чая траншейным способом, — выбирали место для опытов, но так и не выбрали; а за ними — кандидат наук, изучавший дикоросы, обнаружил вокруг поселка множество диких съедобных растений и решил «протереть глаза» колхозникам, сделал доклад «Дикие съедобные овощи и способ приготовления», демонстрировал крапиву, подорожник, листья дикого винограда, щавель и многое другое; рассказывал, сколько и какие содержат соли, витамины; какие можно готовить блюда, что следует добавлять. Оказывалось, что ко всякому блюду нужны мучица, яйца, сметана, специи...
Когда кандидат наук предложил задавать вопросы, все насупясь молчали.
— Что не будет вопросов?
— Как не будет? Вопросы будут, — сказал Юрков. — Вот такой, скажем, вопрос: значит, земельку можно и не пахать, выходить в поле вместе с коровками и пастись? А тыкву побоку, картошку долой? Так или не так?
Колхозники дружно рассмеялись.
— Вы шутник, дедушка. Ну зачем же так? Картошка картошкой...
— И такой еще вопрос: вот ты, сынок, когда приехал к нам, пошел не на лужок за травкой, а в правление за сметанкой; это как же понимать надо?
— У меня вопрос: вы знаете сказку, как солдат из топора суп варил?
— У меня вопрос: сколько вам приходится на трудодень? С командировочными?
В этот вечер наука слегка пострадала, и не потому, что она плохая наука, а потому, что попала в плохие руки. Однако доклад принес несомненную пользу: люди потом долго смеялись, а лодырей грозили отослать на дикоросы, но без мучицы, сметаны и специй.
Когда стали собирать урожай, в колхоз потянулись одни с туесами, другие с бидонами, третьи с мешками. И всякому казалось, что он имеет право купить непосредственно в. колхозе, но Кулькова уже не было, и многие возвращались ни с чем.
— Не могу... Надо рассчитаться с государством, ему нужно для фронта, а мы тут как-нибудь обойдемся, — отвечала Юркова. — Слыхали: вce для фронта, все для победы? Я своим отказываю, кто работает. Зайдите взглянуть, что у колхозников на столе...
И проныры уезжали ни с чем. А работали колхозники, вернее колхозницы, с предельным напряжением и довольствовались самым малым. Хлеба многие не видели по неделям: хлеб заменяли картошка и кукуруза. Клочки земли, приусадебные участки, на которых работали урывками рано утром и поздно вечером, кормили и одевали. И не колхоз помогал населению, а население — колхозу. Еще тяжелее было положение учителей, если не считать таких, как Миляга. Многие обносились, «опростились», и ни по внешнему виду, ни по образу жизни не отличались от колхозников.
Женя Журавина не была исключением: загорела и огрубела и, казалось, совсем забыла, что она учительница. Она была солдатом на трудовом фронте и, можно сказать, на передней линии. Это был маленький человек из числа тех, совокупными усилиями которых делались большие дела. Для нее лозунг — «всё для победы» — был заполнен делами до отказа. Она сама, а не только ученики, писала письма на фронт, шила кисеты, вышивала платочки, вязала перчатки, упаковывала посылки, собирала деньги и облигации в фонд обороны и, самое главное, с утра до вечера работала в колхозе, воодушевляла учеников, а сводки о положении на фронтах и каждое слово партии доносила до каждой избы, до каждой души. Собственно, сила партии, ее влияние на население осуществлялось такими, как Женя Журавина. Таких, как она, в то время было множество — в каждой школе, в любом коллективе. В то время, как где-то далеко на западе, в стане врага, планировались убийства, уничтожение на советской земле всего живого, — здесь Женя и ей подобные стояли за жизнь. Там корчилась злоба, а здесь расцветала любовь ко всему живому...
Особый характер носили теперь и уроки в школе. Многие начинались коротеньким рассказом о положении на фронтах и в стране, о воинской и трудовой доблести советских людей и заканчивались словами-формулой: «Наше дело правое — победа будет за нами».
Лишь немногие продолжали «ковать» собственное благополучие, но и сами они, и это благополучие были ничтожны по сравнению с тем подлинно великим, что делалось в стране. Время разделило людей на два неравных лагеря: в одном были подлинные богатыри, люди высокой чести, мужества и бескорыстия; в другом, маленьком, — пигмеи по мысли и чувствам, трусливые корыстолюбцы, мыши в амбаре. К таким принадлежали бывший директер школы Миляга и заведующий роно Ложкачев.
— Ну как вы тут живете? — спрашивал Ложкачев дружка при посещении школы.
— Плохо живем. Ты это должен знать... Во-первых, зарабатываю почти на полтысячи меньше, а во-вторых, эта пигалица — Журавина! Она мне, вот где сидит... В печенку въелась...
— Сам виноват. Зарылся в свое хозяйство, как жук в навоз. Или эта торговля на рынке! Директор школы в мясника превратился! Позор!..
— Ну, знаешь, не тебе читать нотации. Кое-что и тебе перепадало.
— Ты это брось! Меня не вмешивай! А помочь тебе не могу. Про Журавину идет хорошая молва, хорошо работает. Этого у нее не отнимешь... Кандидат партии.
— Вот на этом ты и сыграй...
— А как?
— Возьми ее в аппарат. Заведующей педкабинетом.
— А ведь это идея! Ну и жук ты, Миляга! На это и райком пойдет. Должность эту я никак не могу укомплектовать. Партийная — куда ей деваться? Идея!
— Тамара Павловна! — обратился Миляга к жене. — Сообрази нам чего-нибудь погорячее...
Когда Ложкачев пришел в школу, были уже сумерки. Настроение у него было приподнятое и явно наступательное.
Женя проводила собрание школьников, работавших в колхозе. Заведующий роно зашел в класс и примостился возле двери.
— Ребята, колхоз определил нам плату за труд: две тонны картофеля, двести килограммов меду, куль сои, фасоль, тысячу рублей. Вынес благодарность. Выбирайте председателя, обсудим, как распределить. Сами заработали — сами распределяйте. Я только одно скажу: работали хорошо! Мы помогли колхозу, колхоз помог армии, армия погнала врага. Слыхали: наши войска перешли в наступление?.. Кого выберем председателем?
— Гурьянова.
— Правильно! У него трудодней больше всех. Гурьянов, веди собрание.
Гурьянов, конфузясь, занял место председателя.
— Пусть выбирают секретаря, — подсказала учительница.
— Ребята, секретаря выбирайте...
Секретарем выбрали Милу Шестакову.
— А теперь пусть высказываются, как распределять урожай, — помогала Женя.
— Ребята, высказывайтесь, как будем распределять...
Ученики не знали, с чего начать, и Женя вмешалась снова:
— Можно, ребята, все пустить на горячие завтраки, можно распределить по трудодням, все отдать на оборону, раздать детям фронтовиков. Вот вы и решайте, как будет лучше. Доказывайте, почему лучше сделать так, а не иначе.
— Ну, ребята, высказывайтесь...
— На оборону!
— Мед — танкистам.
— Танкистам и летчикам...
— А что, артиллерия не воюет?..
— А пехота?! Пехота — самое главное! Если она не пройдет, местность не завоевана. И потом — пехоте трудней.
— Я скажу, — подняла руку живая, энергичная девочка, ученица седьмого класса.
— Ну, выступай, — согласился председатель.
— Ребята, нам предлагают плату. Но разве мы работали за плату? Разве солдаты воюют за плату? Они стоят за Родину. Мы тоже служили Родине. Я думаю так: половину в фонд обороны, другую — семьям фронтовиков... Да, забыла!.. Еще надо Евгении Михайловне. Она работала больше всех, и у нее нет своего огорода.
— Голосуй! Согласны.
— Я хочу сказать, — поднял руку обсыпанный веснушками пионер Вигорчук.
— Ну, скажи, — разрешил председатель.
Вигорчук решительно вышел к столу, но вдруг перезабыл все, что хотел сказать, постоял минутку и закончил, не успев начать:
— Смерть фашистам! Гитлеру — капут!
— Согласны! Голосуй!
— А что голосовать — как делить или... «капут»?
— «Капут», голосуй «капут»!
«Капут» приняли единогласно.
— А как будем с медом и картошкой?
— На оборону!
— Танкистам!
— Пехоте!
— Я хочу сказать, — поднял руку плотный малыш, сидевший на передней скамейке.
— Ну, высказывайся!
— Ребята, кто нашел мой синий карандаш, — лучше отдайте...
— У меня вопрос: а есть у катюши ствол?
— А как же пушка без ствола!
— А вот и нет! Бомба по рельсам катится.
Женя выступила снова.
— Ребята, я хочу сказать. У меня тоже есть трудодни, послушайте и меня. Я думаю так. Картошки у нас тридцать кулей: десять — семьям фронтовиков, десять. — на горячие завтраки, а десять — членам нашей бригады, которые нуждаются. За деньги починим обувь, а мед пошлем нашим защитникам: танкистам, летчикам... Согласны?
— Артиллеристам! Артиллерия — «бог войны».
— Мед — пехоте!
— А почему морякам нет? Мед — матросам...
— Хорошо, пошлем всем поровну. Согласны?
— Согласны!
— Голосовать!
Предложение приняли единогласно. Тут Жене пришло на ум написать об этом на фронт, она вспомнила адрес — воинская часть 23/257 — и внесла новое предложение. Ребята приняли его с энтузиазмом, сразу выбрали, кому писать, и переписка с воинской частью возобновилась.
Собрание закончилось, ученики посыпали из класса. Последней вышла Женя. У двери ее поджидал заведующий роно.
— Здравствуйте. Пойдемте в учительскую, я хочу сделать вам несколько замечаний.
— Пожалуйста.
В учительской Ложкачев сказал:
— Товарищ Журавина! Вы не умеете проводить собрания. Что вы тут развели гнилую демократию — кто в лес, кто по дрова...
— А как нужно было?
— Нужно было подготовить докладчика, два-три горячих патриотических выступления. Нужно было добиться, чтобы все, что заработали, на все сто процентов пошло на оборону...
— А нас учили не так. У нас был методист, старый заслуженный учитель. Он говорил: с детьми — только правда, как бы горька она ни была. Если бы я подготовила выступающих, все бы видели, что они говорят чужое, а сами выступающие были бы просто попугаями. Не уважали бы ни себя, ни меня. Потом многие нуждаются. А патриотизм они проявили на полях...
— Постойте, постойте! По-вашему выходит, что все докладчики — попугаи?
— Не все, а многие.
— А кто именно?
— А кто говорит, как балаболка, чужие слова, чужим языком.
— Как же чужие слова, если это слова нашей партии?..
— Так их же сначала надо сделать своими... Ну, переварить, согреть, сделать здешними, выросшими на нашей земле, в нашем колхозе...
— Ну, вот вам конкретный вопрос: живем мы сейчас счастливой зажиточной жизнью или нет? Что вы будете говорить детям?
— Они и сами знают, что нет. Я буду говорить им, что мы будем жить счастливой зажиточной жизнью и что для этого нужно делать...
С меня достаточно. Завтра вы приедете в роно, мы вместе сходим в райком партии...
— Ну, как же я могу говорить о зажиточной жизни, когда идет война и многого не хватает, и люди страдают... Они будут считать меня дурочкой или лгуньей...
— Завтра жду вас в аппарате. Там мы обсудим.
— А вы скажите здесь... У меня работа...
— Я сказал все. Вас вызовут в райком.
Ложкачев ушел.
Агния Петровна хотела поговорить о школе, но начальник снова заспешил к Миляге.
Страдные годы
На другой день вечером Женя вернулась из районного центра усталая и разочарованная.
— Что с тобою? Ты за один день словно постарела.
— Постареешь. Хочешь не хочешь, а тебя переделывают в старуху. Вы только послушайте, что было. Захожу к первому секретарю. Ни разу до этого не видела. Уткнулся в бумаги, а мне вопрос:
— Какую вы там агитацию разводите? Агитаторы-балаболки, счастливая жизнь не наступила?!
— Такой агитации не развожу. Какая жизнь — люди сами знают. Агитаторы бывают и балаболки. Я только говорю, почему так есть и что надо делать, чтобы стало лучше.
— Что же надо делать, чтобы стало лучше?
— Всем хорошо работать.
— А вот начальник ваш, Ложкачев, думает иначе: надо кричать «аллилуйя» и все будет хорошо. Что вы об этом думаете?
— Я своего начальника еще не знаю.
— Но иногда и плохим начальникам приходят хорошие мысли. Ему пришла мысль: взять вас к себе в помощники — заведующей педкабинетом. Признаюсь, я несколько удивился: осуждает и в то же время повышает. В вашей новой должности надо будет помогать людям, дух поднимать. Члены партии, кандидаты делают большую работу — организаторы, вдохновители, разум и совесть...
— Но я не пойду. Не могу. Не умею!
— А вот так коммунисты не рассуждают. Надеюсь, что и от вас больше этого не услышу. Для нас это не мотив. Большевики, когда делали революцию, не умели строить Советское государство и поучиться было не у кого. А вот строят же. Учатся и строят. Если бы оторвались от народа, ничего бы не вышло. А вросли в народ — получается. Слыхали: одна голова умна, а две еще умнее? А если их двести? Сбиться с пути не дадут.
— В общем, я — нет и нет, а он свое. Я сказала: посоветуюсь с вами. С этим только и отпустил.
— Знаю, звонил...
— Ну. и что? Что вы сказали?
— Убедил и меня. Надо идти.
— Агния Петровна, да какой же я методист? И вам меня не жалко?
— Жалко, а идти надо... Для школы вы большая потеря, да в районе не одна наша школа. Знаний у тебя мало, а головка светлая и сердце чистое. Это твои козыри. Что увидишь хорошего в одной школе, у одного учителя, неси в другую, другому учителю. И не навязывай, а рассказывай, показывай. Организуй обмен опытом. Пусть сам опытный показывает неопытному, как он делает и что у него получается. А для начала — поезжай в город, в институт усовершенствования учителей, побывай в лучшем педкабинете.
Женя пробыла в командировке целую неделю и вернулась не только не воодушевленной, а скорее — потерявшей всякую уверенность в себе, в своих силах.
— Нет, я не могу, — говорила она Агнии Петровне. — Поеду в район отказываться. Туда ехала, еще кое-что понимала, а наслушалась, насмотрелась — и теперь ничего не понимаю. Тут надо быть «горою», все видеть, все понимать. А я попала в схемы, как муха в паутину. Схемы уроков, схемы экскурсий, разбора предложений — все схемы, схемы... Но ведь ученики разные, учителя разные, условия разные. А схема одна! А потом: учить, воспитывать — это говорить по душам, а не по схемам. Ну скажите, разве можно объясняться в любви по схеме?
— Этого я не знаю. Чего не знаю, того не знаю. Это тебе должно быть известно лучше, чем мне...
— Нельзя.
— Вон как! Нельзя, оказывается. А ты настраивай души. С учителем больше говорят по схеме, а ты говори по душам. И схемы тоже нужны. Хорошего учителе т сравнивают с пианистом, но и тот играет по нотам. Пусть иной играет и без нот, с закрытыми глазами, но без нот не обходился ни один. А сколько у нас учителей-недоучек, с семилетним образованием. Для них и схема, и методическая разработка — те же ноты. Без них ничего не получается. А ты мнения своего не навязывай — сначала выслушай чужое. Может быть, оно и лучше твоего. К педагогу нужен педагогический подход. Не суди о нем по одному уроку. У хорошего — главная работа до урока. Учи готовиться к уроку, а проводить научатся сами... Да ты меня не слушаешь...
— Ой, простите... Задумалась...
— О чем же?
— Сказать?
— Да дело твое.
— Думала, что бы со мной было, если бы не вы!.. Спасибо вам за все. Если бы все люди так относились! — У Жени навернулись слезы.
— Ну, будет, будет... Отношусь, как полагается коммунисту. Понадобилось поставить тебя на другой, более трудный участок — вот и не пожалела. За что тут спасибо?
— Так это вы не ради своей выгоды...
— А выгода моя в том, чтобы все в стране было хорошо. Вот кончится война — пошлем тебя учиться. А пока — определяйся на заочное. А в школах сначала посещай более опытных и говори, что пришла не учить, а учиться. А потом пойдешь к менее опытным. А этим говори: «Давайте подумаем, не лучше ли будет так... Некоторые делают так...» И дело пойдет.
* * *
Квартиру Жене предоставили рядом с библиотекой. Библиотека — небольшой домик украинского типа, мазанка, вросшая в землю. Побелка от времени посерела, замазка местами обвалилась, и такие места были залатаны глиной, отчего домик напоминал собою пятнистую букашку — божью коровку.
Комнатушка Жени была небольшой пристройкой, другая такая же — квартирой заведующей библиотекой. Симметрия полная. [По фасаду четыре окна: два побольше — библиотечных и по краям два поменьше — квартирных; три двери: средняя —в библиотеку, крайние — в квартиры Жени и библиотекарши. Ветхий сарайчик и продуваемая со всех сторон уборная стояли поодаль и на почтительном расстоянии.
— Вот видишь, я для тебя все приготовил, — говорил Жене заведующий роно, когда они вошли в комнату. — Вот — какая есть — кроватка, вот столик, полочка, ведро с водой, кружка, мешок картошки, кулечек сои... Дровишки в сарае. Хлеба ты будешь получать четыреста граммов. Как учительница ты получала шестьсот, но теперь ты канцелярский работник; зарплата тоже уменьшится. Таков закон: повышение в должности — понижение в зарплате. Когда я был директорам школы — получал полторы тысячи, стал заведующим роно — ровно половину; выручает огород.
Ложкачев обнял девушку за талию. Женя отстранилась.
— Ну, устраивайся, а завтра выходи на работу.
— Что ж тут устраиваться? Через час я буду готова. Только... Семен Данилович, почему вы меня зовете на «ты»? Я этого не хочу...
Ложкачев удивился.
— А почему нет? Мы — коммунисты; я твой начальник, маленько старше годами. Меня, например, в райкоме зовут на «ты»... В порядке вещей...
— А я не хочу... В Уставе этого нет. Зовите меня на «вы». Когда Агния Петровна назначила меня завучем, сразу же перешла на «вы». Теперь, говорит, у нас отношения служебные. Я буду с вас требовать, а вы меня критикуйте...
— Ну, ладно...
Ложкачев ушел, Женя стала устраиваться на новой квартире. Устройство не заняло и часа: разостлала постель, скатерть, развесила по стенам кое-какие гравюры, карту Европейской части СССР с линией фронта и черным флажком — местом родины в тылу противника. Перед картой Женя немного постояла, а затем села на табуретку, уставилась в окно и задумалась. Перед окном на завалинке торчал прошлогодний бурьян, качался от ветра и, казалось, кланялся ей и просился в комнату. Бурьян приковал внимание и унес далеко. Она перестала видеть оконце, столик, стены своей комнатушки; перед глазами проходили одна за другой солнечные картины детства, а затем эта суровая зима, вторая зима войны. Она читала и перечитывала все, что писалось о зверствах немцев, и стоило на минутку задуматься, как воображение рисовало одну и ту же картину: зима; сугробы снега; немцы гонят в рабство ее родных; все без рукавиц, легко одеты; Верочка то и дело спотыкается, ручонки озябли, ямочки на щеках исчезли, щечки бледные, ручки тоненькие, глазки печальные...
В комнату кто-то вошел, но Женя не могла повернуться: жуткая картина, какую нарисовало воображение, поглотила все внимание...
— Здравствуйте! А я стучу, стучу — никто не отзывается, и замка нет. Я и вошла. Здравствуйте... Я — Настя. Статистик. Семен Данилович велел идти в роно. Ой, вы плачете... Что с вами?
— В роно?.. Но он же дал мне день на устройство.
— Совещание какое-то...
— Ну, пойдем...
Роно помещался в отдельном домике во дворе райисполкома. Пристройка чуть побольше квартиры Жени, с односкатной крышей и двумя оконцами, отводилась под районный педагогический кабинет. Оборудование кабинета состояло из длинного, сколоченного из досок некрашеного стола, столика поменьше, одного стула, табуретки, двух скамеек, шкафа, в котором находилось около сотни брошюр, две папки, сверток плакатов и кумач с написанными на нем лозунгами к прошедшим праздникам. На стене висел небольшой портрет Калинина в самодельной, тоже некрашеной рамке.
— Ну, тут, как видите, ничего нет, — сказал завроно, когда они вошли в помещение, — но тем шире поле деятельности. Творите! Садитесь. Ну, готовились вы достаточно. Я не возражал, чтобы вы съездили в город, посмотрели. Какие теперь у вас соображения о работе?
— Я думаю сначала обойти школы, посмотреть, как кто работает, ну, и опыт лучших передавать всем; организовать консультации, взаимное посещение уроков... Конечно, нужно оборудовать кабинет. Тут ведь ничего нет. Вы должны отпустить на это средства...
— Денег нет. А вообще... все это чепуха! Типичное не то! «Изучать опыт, обобщать, распространять». Это разговор в пользу бедных. Мы должны поднимать соцсоревнование! Район с районом, школа со школой, класс с классом, ряд с рядом, ученик с учеником. Сверху донизу. Мы должны выйти на первое место в крае. Показать самую высокую успеваемость!
— Дать или показать? — спросила Женя.
— Мы должны выйти на первое место! Сейчас первое место занимает соседний район. Вы поедете к ним заключать соцдоговор. Я набросал пункты: охват всеобучем — сто процентов, горячие завтраки — сто процентов, успеваемость — сто процентов.
— Успеваемость — нельзя... Есть ученики, которые...
— Чепуха! Отрыжка педологии! Можно!
— А какая успеваемость была в прошлом году?
— 89,7 процента. У соседей — 93. Но я знаю, они натягивали. Почему мы не можем натянуть? Надо поработать с директорами школ. Я это беру на себя.
— Но ведь. это — обманывать государство! Учеников надо учить. Перед ними жизнь...
— Честное слово, вы начинаете разочаровывать с первого дня. Так мы не сработаемся. Вы должны с одного слова угадывать мои мысли. Во-первых, я ваш начальник; во-вторых, старше годами, богаче опытом. Без моих указаний вы не должны ничего делать. Сейчас военное время. Что получится, если один в лес, а другой по дрова?
— Семен Данилович, ну так ли я понимаю? Педкабинет — чтобы помогать учителю лучше работать. Вот я досмотрю: найду хорошего директора или что-нибудь хорошее в его работе — пусть поделится с другими директорами; то же — в работе завуча, учителя, классного руководителя. Одним словом, перенимать хорошее у одних и передавать другим; а затем учить всякими другими способами...
— Типичное не то! Может быть, где-нибудь так и написано, но жизнь требует другого: социалистического соревнования! Нет его — ничего нет!
— Ну, как же нет! А если человек хорошо учит. Вот я была у одного физика. У него нет соревнования, а как он хорошо учит! Всех учит! И все успевают! И как любят его предмет!
— Любят предмет, а душа карьериста! Соцсоревнование — вот что надо! Успевающие неуспевающих берут, на буксир! К отличникам прикреплять двоечников, отстающих не должно быть. Район должен стоять на первом месте.
— Я с вами не согласна.
— Завтра поедете заключать соцдоговор. А сегодня наведите порядок в кабинете.
Ложкачев ушел, Женя принялась наводить порядок.
Ложкачев думал: «Милягу освободил от занозы, а себе посадил! С ней мы далеко не уйдем».
Женя думала: «Главное будет в том, как я организую обмен опытом. Только бы не мешал Ложкачев».
* * *
На следующий день Женя была в соседнем районе. Заведующего роно она нашла в его кабинете. Это был пожилой человек, по виду больной, усталый, которому бы лежать в постели и не двигаться, но человека «выдавали» глаза, способные вспыхнуть и нежностью и гневом.
— Соревноваться с нами? Доброе дело. Будем помогать друг другу. Покажите ваши обязательства. Сто, сто, сто, сто... Нет, мы таких на себя не берем. В прошлом году у нас успеваемость поднялась до 93 процентов, в этом повысим на один-два. Но скажу вам прямо: я не верю своим цифрам, не поверю и вашим. Проверять будем по качеству, а как — еще не знаю. Скажу больше: я не верю в этот метод в учебно-воспитательной работе. Цифры показываем, а показывать надо душу ребенка. Цифры расставлять легко; у халтурщика они всегда будут выше, у требовательного — всегда будут ниже. Своя рука владыка! Что за цифрами — в этом все дело...
— Ой, какое же у нас сходство во взглядах! А Семен Данилович кроме цифр ничего не желает видеть. Но у вас все же успеваемость выше, чем у других. Как вы этого добиваетесь?
— Как добиваемся? Трудом. Работаем!
— Работают все... Но как?
— Да, в этом все и дело: как? Скажу коротко: по-честному, с душой. Были у нас работавшие в белых перчатках: уроки хороши, а успеваемость низкая. Потому что уроками все дело и кончается. Отзвонил — и с колокольни долой. Урокодатель еще не воспитатель. А вот когда работает душа, тогда дело идет! А количество души не отражается у нас ни в цифрах, ни на зарплате.
— Но как же вы заводите этот двигатель — душу учителя?
— Просто заводим! Внимательным отношением, заботой о человеке. Лучшего средства не знаю! Осенью, когда начнутся занятия, я иду по школам. В иной задерживаюсь дня на два, на три. Помогаю решать хозяйственные задачи, устроиться с квартирой, отоплением, питанием; смотрю, как учитель работает. А вечером садимся за стол — учу планировать, готовиться к урокам, иногда провожу уроки сам. Беседуем, спорим. А расстаемся по-хорошему: он — с желанием работать, я — с уверенностью, что дело пойдет. Это особенно важно для молодых, начинающих, в однокомплектных школах. В больших школах работа посложнее. Тут моя задача — помочь оформиться учительскому коллективу, задать тон. Вслед за мною через недельку-другую идет инспектор. Я обидел одну школу — взял в инспектора лучшего учителя. И он, пожалуй, один из сильнейших педагогов в районе. Иначе нельзя. Руководитель должен стоять выше руководимых. У нас этот принцип не соблюдается. И что получается? До проверки учитель работает лучше, а после проверки хуже: инспектор для него мера должного. А мера низкая. И выходит, что он не повышает, а снижает качество работы. У методиста педкабинета свои задачи. И мы ему не мешаем. Он на опыте лучших учит слабейших. А формы учебы самые разнообразные. Так, в течение года мы по разу, по два побываем в каждой школе. Людей знаем и говорим с ними конкретно, по частным методическим вопросам, как наилучше решить ту или иную «маленькую» задачу учебного или воспитательного характера. Мы приучаем учителя учиться на собственном опыте, анализировать каждый свой шаг. А если ближе посмотреть, главное — в директоре школы. Если он на высоте положения, мы лишние. Он и лучший инспектор, и лучший методист, и только он может сделать школу подлинной лабораторией мастерства. Мы приходим и уходим, а он все время в школе, на своем посту. Поэтому больше всего мы работаем с директорами школ.
— И все у вас хорошо работают? — спросила Женя.
— К сожалению, нет. Вот сегодня я устрою вас на ночлег к учительнице Лесниковой. Поговорите с ней... Есть и другие. Но тут надо винить школу, которая выпустила в жизнь. Для этих труд — печальная необходимость. Находить в нем радость они не научились.
Лесникова, учительница биологии, когда вошла к ней Женя, сидела на кровати, а рядом на табуретке стояла виктрола. Груда проигранных пластинок лежала рядом возле хозяйки.
— Здравствуйте... Кудрин направил к вам переночевать. Не откажите, пожалуйста. Будем знакомы: Женя Журавина.
— Здравствуйте... Лида Лесникова. А у меня беспорядок. Как пришла с работы, так и валяюсь на кровати. Видите, сколько пластинок переиграла. Только и развлечение, что виктрола. Так мало в жизни красивого! Завела «То было раннею весной» и, дура, разревелась...
— Ну, что вы! Наоборот, много красивого...
— А в чем же, в чем? Вот и не скажете!
— Ну, вот... ехала сегодня — чудесная дорога. Вдалеке горы, по сторонам лесок, все в инее; мороз, а небо синее, глубокое. А потом, ваш завроно — интересный человек! Умница, и дело любит. С таким бы я с удовольствием работала. А потом... за что ни возьмись, можно сделать интересным.
— Только и всего! Ну, вы довольствуетесь малым. Да, что же это я! Раздевайтесь! Будем готовить ужин.
После ужина Лесникова снова стала проигрывать пластинки, но когда попалась «То было раннею весной», резко оборвала музыку.
— Ну почему, почему у меня такого не было? Все у нас грубо, безобразно! Ах, давайте лучше ложиться спать. Может быть, приснится хороший сон.
— У вас что — нет завтра уроков?
— Есть. Буду спрашивать. Все равно ничего не знают, ничем не интересуются. Я к урокам не готовлюсь. Прошлый год готовилась, а нынешний — нет. Они и учебника не знают.
Девушки придвинули к кровати кушетку, улеглись рядом, потушили огонь и укрылись одним одеялом. Минут пять длилось молчание.
— Вы спите? — спросила Лесникова.
— Нет.
— Вы согласны разговаривать? Только откровенно, как с самым близким человеком?
— А зачем это?! Я про себя не люблю рассказывать.
— А я вот не могу. Несешь ношу, а поговоришь с кем, как будто и сбросишь. Вы... вы были замужем?
— Нет.
— Я, дура, была... Вы только послушайте. Приехала я с Запада. Пошла в крайоно за назначением. Народу полно. А вечером пошла с подругой на танцы. Стоим, смотрим. Подходит один, высокий, стройный, глаза ласковые, хороший костюм... Приглашает. Пошла... Несколько раз. Не отходит. А потом пошел провожать. На другой вечер — то же. Радист с парохода... На третий день мы расписались, а вечером свадьба. У него свой домик. Живет с матерью. На свадьбу пришла вся команда с их парохода. Перепились как свиньи. Ревут: «Горько, горько!» Ну несколько раз мы поцеловались. Они орут, а он не хочет... Ну тогда я поцеловала, а он отвернулся. А они ревут. Тогда я тихонько: «Ну поцелуй, глупый». Только и всего. А ночыо... Ну понимаете, избил... Утром я все-таки пошла за назначением. Назначили в город, потому что своя квартира. Стали жить. Что ни ночь, то побои. Только и жила, когда он в рейсе. Рейсы были в Америку. Возил он оттуда всякое барахло, а мамаша продавала. У них целая компания. Заранее узнают, что появится в магазинах, становятся в очередь, скупают — нужно — не нужно, а потом перепродают. Втянулся и он. И я оказалась лишней. Принесу им за полмесяца триста рублей, а они меня — на смех. А потом стали питаться врозь... А потом он столкнул меня с кровати, и я неделю хромала. Так прошел год. А потом они просто-напросто вышвырнули меня из квартиры. И я очутилась здесь. Виктрола — это его. Он купил себе в Америке. Ну, что мне теперь делать? Скажите!
— Не знаю. По-моему, работать с темна до темна, и все забудется.
— Ах, бросьте вы. Вы, должно быть, комсомолка или партийная. У вас один рецепт: работать, работать. А если душа не лежит? Потом, я все-таки его люблю. Он — интересный. Завтра покажу карточку. Работать?! Я, дура, пошла на биологический. Говорили, самый легкий факультет. Учиться было нетрудно, а теперь вот копайся в навозе, создавай участок, а я даже издалека его не видела. Позорище — не узнаю семян некоторых огородных растений; на экскурсию и вылезать боюсь. Тут все не такое, как у нас. Мне бы надо было поступить на литературный.
— Преподавать русский нелегко... Тетрадки...
— Ну, все-таки тетрадки, а тут грядки. А завроно — вы его не знаете! Он — сплошная желчь. Так тебя выставит напоказ, что неделю места не находишь. Ну теперь вы расскажите про себя...
— Не хочется. Да и нечего рассказывать.
— А мне, что все-таки мне сделать? Это его мамаша виновата. Я думаю съездить к нему в город.
— Не понимаю. Если бы на меня кто-нибудь поднял руку, тронул пальцем, посмотрел зверем, — я бы не стала жить с таким человеком. Мне кажется, — вот не могу выразить эту мысль, — жить — это благородство нести, чтобы ты мог честно, с достоинством смотреть на всех. А если тебя оскорбили, как же смотреть в глаза, как себя чувствовать? Не знаю, не понимаю... Вот сейчас у меня никакой горечи, на совести — никакого груза. И мне легко...
— Ах, не говорите. Ничего вы еще не знаете. Во-первых, надо как-то жить; во-вторых, вдвоем куда интереснее... «И плакал я перед тобой, на лик твой глядя милый...» Не верится, что были такие люди. Или еще: «Как мимолетное виденье...» Пережить бы такую минуту, а там уж все равно...
— Я думаю, из жизни это не ушло. Оно есть, должно быть! Только мы не умеем его находить, а когда находим, не умеем беречь.
— Я бы уберегла...
Разговор оборвался, но и та, и другая долго не могла заснуть.
* * *
Для Жени началась новая жизнь. Пользуясь всякой оказией, она перебиралась из школы в школу и не столько учила других, сколько училась сама. По совету Агнии Петровны, она начала с маленьких отдаленных школ, в которые никогда не заглядывал инспекторский глаз. Поэтому ее посещение сплошь и рядом становилось маленьким праздником в жизни таких же, как и она, молодых учительниц, приехавших с Запада. Они сразу же находили общий язык. Иногда, так как школы были однокомплектные, становились рядом: одна работала с одним классом, другая — с другим; проводили уроки, готовили обед, а затем ужин, а вечером делились опытом педагогической работы и всей самостоятельной жизни. Женя рассказывала о том, что она видела в других школах, и это было лучшей помощью, какую она могла оказать своим сверстницам. А больше они мечтали. Мечты — вольные птицы — маленькие и робкие, большие и смелые. В долгие зимние. ночи, у малюсеньких керосиновых ламп они создавали особый мир, не похожий на окружающий. Мечтали и о том, чтобы поступить в институт, поехать в Москву, побывать в музеях, в картинных галереях, в театрах; а втайне, каждая про себя, мечтала о том, как встретит его, человека со светлым челом, чистыми и честными глазами, богатого умом, щедрого сердцем, смелого и ласкового, навстречу которому поднимется поток нетронутых чувств.
А жизнь была тяжела. И коллективы, и учителя-одиночки решали одну и ту же задачу: как охватить обучением всех детей, как не допустить отсева; а это значило: как одеть и обуть сотни детей, как организовать в школе горячие завтраки, как обеспечить топливом не только школы, но и квартиры многих учащихся. Стояли неотступно и требовали решений сотни других задач: не хватало учебников, бумаги, чернил, мела, учебно-наглядных пособий. И все это приходилось решать на месте, собственными силами: выписывать на классные доски целые страницы букварей, «столбики» по арифметике, приготовлять чернила из сажи, из сока ягод, мел — из глины, мастерить наглядные пособия из цифр отрывного календаря, из крупных букв — названий и заголовков газет.
Теснейшую связь поддерживали школы с фронтом: писали письма и получали ответы, посылали посылки, помогали семьям фронтовиков, собирали металлолом, бутылки, лекарственные травы, собирали деньги и облигации в фонд обороны, помогали засеять колхозные поля и получать высокий урожай: собирали печную золу и птичий помет на удобрения, верхушки картофеля, початки кукурузы; щепотками, горстями и пригоршнями семена других культур, полевых и огородных. А когда приходила пора сева, ухода за посевами и затем уборки урожая, целыми неделями работали на полях. В то время как там, на Западе, взрослые вооруженные люди денно и нощно разрушали, убивали и калечили, — дети рыхлили землю, бережно клали в бороздки семена, терпеливо ждали, когда прорастут, зацветут, принесут урожай; ждали, когда же, наконец, кончится война...
Жене было нелегко. Она была не из тех, для кого чужая беда — как с гуся вода; всякая беда была своей, и всякое горе — своим горем, и с каждым днем ноша становилась все тяжелее. Зато тем большую радость вызывало в ней все хорошее, что встречалось на пути: в школах, вне школ, сообщения с фронта, наметившийся перелом в ходе войны.
В одной из школ Женя попала на урок к заслуженному учителю Павлу Петровичу Астапову. Это было первое посещение уроков в старших классах.
— Павел Петрович, разрешите мне посидеть у вас на уроке, — попросила Женя.
Низенький седой старичок, подстриженный под бобрик, тщательно выбритый, посмотрел на Женю колючими стариковскими глазами и ответил не сразу:
— А зачем это вам? Будете изучать? Ох, много вас, изучающих. Много. Как же вы будете изучать?
— Я хочу поучиться. Я посижу на уроках, а потом вы мне расскажете.
— Так, так... И это все?! Мало, мало! Не глядеть надо, а делать. Горький хорошо говорил: надо, чтобы руки учили голову, а затем поумневшая голова учила бы руки, а умные руки снова и еще лучше учили бы голову. Ну, вот он и звонок. Пойдем, изучайте!
Женя вошла в класс и скромно уселась на последней незанятой парте. Учитель, как только вошел в класс, вызвал трех учеников, каждому вручил листок бумаги с алгебраической задачей, и те, разделив доску на три части, приступили к работе; а он стал заниматься с другими: проверил домашние задания, повторил пройденное. К этому времени ученики решили свои уравнения и один за другим разъяснили классу. Затем стали решать задачи посложнее. Ученики работали с подъемом, с живым интересом к материалу урока.
— Ну, критикуйте! Рассказывайте, что вы у меня обнаружили, — обратился Павел Петрович к Жене, когда они пришли в учительскую.
— Вы много за урок сделали; ученики работали с большой охотой; вы успели спросить каждого, а некоторых по два-три раза. Вы хорошо их настроили, некоторые и после звонка продолжали додумывать.
— Ага, так, правильно! Вот видите, — обратился он к педагогам, — берет быка за рога: много сделал, ученики думали! А это главное и есть. А та, из института, разорвала урок на кусочки и за каждый высекла: одна часть велика, другая мала, один вопрос труден, а другой — легок, там завысил, а там занизил, там пересолил, а там недосолил. А главное — что? Сколько дал, сколько унесли, как думали! Ну — пойдем на урок физики...
На уроке физики было очень мало слов и много дела, не было здесь и лишних движений — все было просто, ясно, к делу и к месту. Ученики, группами по четыре человека, работали с приборами, определяли удельный вес дерева, гранита, железа. Инструктаж и вступительная беседа заняли не более пяти минут, после звеньевые получили оборудование, и звенья приступили к работе; заключительная беседа сопровождалась отчетами учащихся. Отвечали ученики спокойно, с достоинством и знанием дела.
После урока Павел Петрович показал Жене «свое хозяйство». Он открывал один за другим шкафы, выдвигал ящики. Все они были заполнены приборами, материалами, инструментами. Тут можно было найти все — от гвоздей и проволоки разного размера и калибра, слесарных и столярных инструментов до сложных и дорогостоящих приборов.
— Вот это и есть моя «кухня», вот тут я и копаюсь, иногда рано утром, иногда поздно вечером. Без этого — какая физика? Пустословие. А словом надо дорожить; надо быть точным; в каждое слово вкладывать только то, что оно обозначает, наполнять физическим содержанием. Такова физика.
Учитель занялся приборами и совсем забыл о присутствии Жени. Никто и никогда не видел его отдыхающим. Он никогда не опаздывал на работу и не болел. Но круг его интересов не ограничивался физикой: на окнах и на полках его квартиры лежали коллекции минералов, стояли солидные тома «Всемирной истории», «Вселенной и человечества», «Истории искусств», «Мироведения», «Жизни растений» — все старинные издания, пожалуй, ровесники своего хозяина.
— Теперь вот задача: кому хозяйство передать? Каждая вещь добывалась с трудом, — сказал он, закрывая шкафы. — До войны прислали помощника — не любил приборов, боялся притронуться. Боялись и его приборы: возьмет исправный, а вернет испорченный. А вещь, как дитя, — любви и заботы требует. Тогда и долго живет и хорошо служит.
В Озерках Женю встретил директор школы Климов, учитель, приехавший сюда сорок лет назад вместе с первыми новоселами. На его глазах раздвигалась тайга, уступая место распашкам; росли поселки, менялась жизнь. Из деревеньки в семь избушек, которые, как грибы, терялись в зарослях, вырос поселок в сто семьдесят дворов, из школки — избы с одним учителем и десятью учениками — выросла школа, в которой обучается триста учеников и работает пятнадцать учителей. Вырос и сам учитель: заочно окончил институт, стал директором школы и общественным деятелем. Нынешние отцы семейств, дедушки и бабушки, их сыновья и внуки — его ученики.
Женю поразил внешний вид поселка и школы: они были окружены плотным кольцом деревьев и кустарников, отдельные деревья были почтенного возраста; черемуха, дикие яблони, груши, дубки и липы росли то там, то здесь на широких улицах: население оберегло их по настоянию учителя.
Школа — новое двухэтажное здание — была обсажена деревьями, имела свой сад, питомник, школьный дендрарий.
Живой справочник по своему району и краю, учитель рассказал Жене, когда возник тот или иной поселок, почему получил свое название, какие события происходили здесь за последние полвека. Он показал ей свою школьную летопись, толстую книгу, в которой, записанные его рукою, нашли свое отражение главнейшие события из жизни школы и поселка со времени их основания. За первые годы запись была сделана по памяти, за последние — по свежим следам. Тут было много сведений из жизни природы: начало и конец ледостава, первые осенние и последние весенние заморозки, таблицы наблюдений за температурой воздуха, глубиною снегового покрова, прилетом и отлетом птиц, цветением деревьев, растущих на улице, которые таким образом являлись живым всеобщим календарем; заметки о посещении поселка тиграми в первые годы поселения, медведями — пасек, подходом морской рыбы для икрометания.
Особенно обширны были записи первых лет революции, периода гражданской войны, коллективизации сельского хозяйства.
Учитель развернул перед Женей карту-самоделку своего района, особенно подробную на участке поселка и его окрестностей. Здесь были обозначены маршруты экскурсий, нанесены ручьи и речки, земельные угодья, озерца и отдельные деревья.
Жене непонятна была такая внимательность человека к месту своей жизни, и старый учитель прочитал ей лекцию-нотацию:
— Ах, ах... И кто вас учит — современную молодежь? Нет у вас любопытства. И глаза хорошие, а видеть не умеете. Как же зачем? Вот я умру или уйду отсюда, придет другой, откроет шкаф, найдет все это, узнает, что его окружает, что было здесь раньше. Прошлое — фундамент настоящего. А фундамент надо закладывать надежный. Ну, а, кроме того, «с природой одною он жизнью дышал...» Известно вам такое? Вот я прожил тут сорок лет и все еще не надышался. Куда ни манили, уйти не могу. Вон за той горкою есть озерцо. Ничего в нем особенного. Над озерцом скала, а берега — непролазные заросли, в одном месте — песчаные. Раньше лебеди, утки водились, лоси на водопой ходили. Вот я, бывало, под вечер или на утренней зорьке заберусь в укромное местечко и жду. Загорятся скалы от восходящего или заходящего солнца, отразятся в воде, — вот он и ломится, лось; войдет в озеро, всколыхнет воду, войдут круги, оживет и зашатается отражение скал под водой; а из зарослей пара лебедей выплывает, уточка выведет свое семейство, цапля пригорюнится, кулички пойдут расхаживать по отмели, зимородок гладь возмутит, а я сижу и пасу это древнее стадо. Ружье со мною, а стрелять — и мысли такой нет; встану, покажусь — не шарахаются, и я — на седьмом небе. Думаешь: не было рая на земле; а почему бы ему и не быть? Зверь подходит к человеку и лижет ему руку, птица садится на плечо... Вот к этому озерцу я и проторил тропу. То же мог бы сказать о многих других местах. Вот, и попробуй, оторви меня от этих мест. Как раз за год перед войной поехал на Запад, на родину, на Черниговщину, поехал пораньше, думал: соловьев наслушаюсь, тамошней весною надышусь. Там тоже весна хороша! Нет, не выходит: и соловьи те же, и весна идет по-заведенному, но душа осталась здесь. И соловьи не в соловьи... Сын в Ленинграде, дочь в Полтаве, другая в Киеве. Тянут-потянут к себе, а вытянуть не могут. И не вытянут.
В той же школе Женю поразил преподаватель русского языка и литературы Кочнев, поразил своей любовью к слову и умением передать эту любовь ученикам. Правила грамматики и синтаксиса не только не иссушали предмет, но, наоборот, делали его еще более интересным. Казалось, что они завершают работу над словом, и сами, как созревшие плоды, падают к учащимся — так шла у него работа. Начинал Кочнев с чтения вслух. Читал превосходно и стихи и прозу. Каждое слово и каждая фраза приобретали у него свое особое лицо, особое звучание, свою живую душу. Много читали ученики, заучивали наизусть, инсценировали, писали сочинения, в том числе коллективные. Но главным, решающим в работе учителя была его собственная любовь к слову. Он относился к нему, как к драгоценности, полученной от прошлого. Его оскорбляло неряшливое, выхолощенное слово, оскорбляло многословие и пустословие.
Учитель старших классов, он ради опыта провел один класс от первого до выпускного, и был в восторге от своего опыта.
— Не умеют, не умеют у нас роднить со словом. Приучают к пустышкам. И они уходят в жизнь не с родным языком, а с пустышками. Не слова, а резиновые мячи. И они жонглируют ими. А слова рождались в труде, переполнены содержанием. В первом классе мы и оживляли их, и дети радовались, когда новое слово начинало жить, переливаться, как радуга. Мы не пропускали ни одного слова без того, чтобы не показать, не представить того, что оно обозначает, и не воспринять всеми органами чувств. Скажем, слово «птица» было для нас не картинкой, не силуэтом, а живой птицей, которую мы поглаживали, заглядывали в глазки, ощущали теплоту тела. И слово вызывало у детей другие слова, к «существительному» — самые неожиданные «прилагательные». Еще интереснее была наша работа над предложением. А в старшем классе, когда мы пишем коллективное изложение или сочинение, мы критически, с большой тщательностью подбираем слова и располагаем их в предложении так, что мысль, выраженная словами, становится как стрела, пущенная из лука...
Женя провела целый вечер у преподавателя русского языка и литературы, знакомилась с работами учеников, сочинениями, рукописными журналами, диктантами, по добранными самим учителем. В заключение он подвел ее к книжному шкафу своей библиотеки:
— А вот и сокровищница слов!
В шкафу стояли словари русского языка, в том числе Даля, сборники сказок, пословиц и поговорок, исторических и обрядовых песен, былин, сочинения русских поэтов и писателей.
— Но это не только сокровищница слов, — говорил Кочнев. — это сокровищница мысли. Они — дороже золота. Что золото? — мертвый металл, может потянуть и ко дну, а это гора, с которой все видно и слышно, это жизнь, преображенная в душе народа. Наш директор не уходит отсюда потому, что сжился с природой, а я потому, что владею вот этим богатством.. С ним я всегда в кругу самых просвещенных и честных людей.
За время работы в педкабинете Женя видела и слышала сотня учителей и других работников, и они были для неё страницами мудрой книги — книги жизни. Ей самой казалось, что за это время она и поумнела и постарела. Она приобрела много друзей и еще больше хороших знакомых. Теперь на земле было много людей, которые при встрече с ней приветливо улыбались, дружески протягивали руки, настойчиво приглашали к себе в дом. Одинокая девушка — она еще не знала, что уже не найдет ни своего дома, ни родителей, — на каждом шагу встречала родных и близких, готовых сделать для нее все, как для родной дочери. Человек человеку друг и брат — этот принцип она утверждала сама, своим отношением к людям.
Однажды непогода застигла ее в дороге. Попутная машина с трудом выбилась в поселок.
— Куда вас подбросить? — опросил шофер.
— Куда-нибудь к порогу учительницы.
— Тогда выходите. Сразу направо. Стучите сильнее. Тут живет Надежда Ивановна...
Женя с трудом одолела десятка два шагов. Ветер охапками швырял снег, перехватывал дыхание, валил в сугроб, а перед крыльцом сугроб был уже по пояс.
Женя постучала раз, другой, третий.
— Кто стучит? Что надо? — послышалось из-за двери.
— Надежда Ивановна, откройте, свои.
Дверь открылась, Женя вошла в темные сени и стала стряхивать с себя снег.
— А ничего, заходите на кухню. Тут я обмету веником. У меня и чай горячий. Я одна, как сова. Рада, когда кто-нибудь приходит. Да и сама без нужды дома не сижу — все с людьми, все на людях. Теперь такое время — люди должны держаться вместе. У каждого какое-нибудь горе одному нести тяжело, а когда вместе, оно и легче...
Женя сняла пальто, платок, почувствовала тепло и уют квартиры, увидела добрые глаза старой учительницы, невольно рассмеялась:
— А у вас хорошо. И метель сразу забыла.
— А вы, я вижу, сама хорошая. Невестку бы мне такую. Все думала: женю сына, буду с внучатами возиться. Да вот не вышло...
Женя и в самом деле была хороша. Теперь, после холода, щеки горели, на ресницах и волосах дрожали росинки от растаявшего снега, доверчивые глаза светились добротой и радостью, и веяло от нее свежестью, чистотой и здоровьем.
— Переодевайтесь. Вот вам халат, туфли. Сейчас найду сухие чулки.
Надежда Ивановна работала в школе тридцать шестой год. Было много прожито и пережито, много растеряно в пути друзей, товарищей по работе, много ушло в жизнь учеников, и каждый унес с собою частицу ее сердца. Но сердце не обеднело, теплоты и внимания к людям не убавилось.
Годы войны усложнили работу, не хватало всего: книг, пособий, керосина, топлива. А учить надо всех.
Всякий раз, возвращаясь из школы, она несла кипу ученических тетрадок, и каждая была для нее маленькой «грядкой», на которой ученик посеял свои знания, и первой заботой было «выполоть» сорняки-ошибки, чтобы уже на следующий день ученик «вынес их на поля» и больше не делал. А затем начиналась главная забота — подготовка к следующему дню. Нужно было продумать, что принести в класс, чтобы корень учения не был горьким, чтобы радость познания ничем не омрачалась. И она тщательно подбирала к урокам нужные слова, предложения, стихотворения, рассказы, рисунки, перечитывала газеты, журналы, старые и новые учебники, делала таблицы, разнообразные наглядные пособия. Ее мудрой изобразительности не было конца. Все шло в дело: цифры отрывного календаря, открытки и рисунки, собранные и засушенные листочки растений, пойманные учениками бабочки; все это перестраивалось в арифметические таблицы, иллюстративный учебный материал. Она увлекала этой работой и самих ребят и некоторых родителей. Изучая сезонные ли явления природы, историю или географию Родины, они искали в газетах, в старых учебниках, в книгах и журналах все, что дополняло и расширяло сведения из учебника, и все это переписывали, вырезывали, наклеивали в свои рабочие тетради, которые таким путем превращались в толстые альбомы, делавшие особенно интересными уроки повторения. У каждого оказывалось что-нибудь свое, новое; было что сказать, чем дополнить.
В работе Надежды Ивановны большое место занимала газета «Пионерская правда», а также местные, краевая и районная газеты. Подвиги воинов на фронте, героев труда в тылу давали богатую пищу для ума и сердца Дети составляли альбомы: «Герои-летчики», «Города-герои», «Славные танкисты», «Герои трудового фронта». Иногда газетные очерки читали и разбирали на уроках, после уроков, брали на дом и читали родителям. Светлое чувство Родины все больше и больше наполняло детские сердца, поднимало дух, звало на подвиги. С этим чувством они учились, выполняли общественную работу, вступали в тимуровские команды.
Когда учительница шла на урок, ее лицо и глаза светились радостью, точно это была счастливая, спокойная мать, которая возвращалась в свою семью и заранее радовалась тому, как они ее встретят, когда она развернет перед ними все, что принесла в класс. Каждый день, с глубокой любовью к человеку, она рассказывала им о лучших людях страны, о защитниках Родины, о богатстве и славе Отчизны, о тех, кто ее возвеличил своим трудом и умом, своим горячим сердцем и чистой совестью.
Квартира учительницы была заполнена книгами, газетами, журналами. Они лежали в большом раскрытом шкафу, на столах, на стульях. Большая комната казалась заполненной до отказа, но здесь ничто не мешало, все было на своем месте, все под руками, и хозяйка хорошо знала, что и где у нее находится. В этой «кухне» было множество «припасов», было из чего приготовить для детей самые разнообразные «блюда»: интересный урок, классный час, пионерский сбор, утренник, школьный вечер, — отметить знаменательную дату, подобрать предложение для разбора, сказку, поговорку, книжку для внеклассного чтения, которая с первой же страницы захватила бы и увлекла учеников. В течение многих лет она подбирала и копила эту «пищу» для детского ума, проверяла, отбрасывала все «неудобоваримое», оставляла наилучшее, что вызывало живой интерес, поднимало силы, побуждало к самостоятельной работе, наполняло детское сердце теплом и светом.
За окном безумствовал тайфун. Две электрические лампочки — одна на кухне, а другая над столом — то вовсе потухали, то светили в полнакала, и хозяйке в помощь им пришлось зажечь керосиновую лампу. За столом сидели две учительницы: старая с гладко причесанными седыми волосами и молодая с непокорными локонами, которые приходилось то и дело укладывать на место.
Сначала Надежда Ивановна расспросила свою гостью о ее семье, о личной жизни, затем стала журить, что так далеко уехала от родителей.
— Надежда Ивановна! Да что вы меня корите! А где ваша дочка?
— Ну, она партийная. С нее особый спрос.
— Я тоже партийная, — сказала Женя и встала на ноги, точно хотела показать, как она выросла.
— Ой, девушка, что-то мне не верится. Такая молоденькая...
— Верное слово! Вот он — партийный билет!
— Доченька! Вот ты какая... Умница... А я думала... Ну, я буду с тобой запросто... Коли что — не осудишь. Чем же тебе помочь?
— Опыт ваш хочу перенять, чтобы передать другим. За этим и приехала.
— Трудное это дело, доченька. Перенять — надо поработать. Со стороны кажется просто, а на деле — не так. Вот, скажем, первый день в школе, добукварный период, первые шаги ребенка в школе! Какое большое значение имеют они для дальнейшего! И об этом у меня — полочка книг, сверток таблиц, пособий. Или безударные гласные. Ошибки по этому разделу идут до десятого класса. А можно избежать. И по безударным есть у меня все что необходимо. Но и это не главное. Главное в другом — в нашем авторитете. Знание — это как бы плоды на дереве: мало в этом году — вырастут в следующем; важнее само дерево, его способность плодоносить. А это определяется воспитанием. А воспитывать можно, только обладая авторитетом. Нет его — ни родитель, ни учитель воспитателями не будут, слово их не дойдет, весу в нем не будет. Спросишь, где его взять, авторитет? А он никому не дается в готовом виде. Он создается самим человеком. И чем создается? Знанием дела, безупречным поведением, требовательным, уважительным, заботливым отношением к детям. Знание учителя — это и есть та пища, которая обеспечивает роет. Но знания-то наши должны лежать у нас глубоко в сознании. То же и требовательность. Без нее не может быть авторитета. Нетребовательному не место в школе: нетребовательный не воспитывает, а развращает.
Три дня, пока длилась непогода, Женя не выходила из квартиры Надежды Ивановны. Здесь она, пожалуй, впервые поняла, что значит подлинная глубина знаний. Ее удивило и даже испугало, какой иногда малостью мы довольствуемся, считая, что уже достигли глубины, тогда как только скользнули по поверхности.
Вернувшись в педкабинет, она доложила своему начальнику о положении в школах, отмечая то хорошее, что обнаружила у отдельных преподавателей и что нужно сделать достоянием всех; рассказала, что делала в каждой школе; упомянула, на какие вопросы не могла ответить.
— Типичное не то! Вы должны были наладить социалистическое соревнование школы со школой, а внутри школ — класса с классом, в классе — ряда с рядом, ученика с учеником. Уходя из школы в другую, вы должны были нести проект соцдоговора.
— Но ведь соревнование должно быть от души; для этого надо было как-то войти в душу, иначе оно превратится в формальность. Надо, чтобы учитель имел в виду не цифры, а знания, внутренние качества ученика. Но как их учесть — трудолюбие, интерес, любознательность.
— Вы против основного метода в нашей работе. С меня довольно. Беря вас в аппарат, я допустил ошибку. Уже видно по всему, что мы с вами не сработаемся. Ваши поездки по району я считаю бесполезными, а может быть, и вредными, я еще посмотрю. В район я больше вас не пущу: поедете в Узалинскую школу. Там учительница уходит в декрет, поведете ее класс, пока вернется. А там посмотрим...
На следующий день, сложив свои вещички, Женя ждала попутной машины. Ждать пришлось долго. За это время она много передумала, припомнила все подробности своей жизни за последние полтора года. «Большинство на земле, — думала она, — честные люди, и цель у них одна — сделать жизнь счастливой, но среди них орудуют миляги и делают жизнь горькой. Как сказать большинству: смотрите, они поступают нехорошо, неправильно! И кто послушает, кто проверит? Пойти к секретарю райкома? Но ведь это значит оправдывать себя и осуждать другого! Нет! И затем — права ли я сама? Написать Агнии Петровне? Нет! Спасибо ей и за то, что уже сделала».
Подошла грузовая машина, Женя перебросила в кузов свои вещи, а затем взобралась сама. Когда выехали в поле, машина пошла по ухабам, накинулся ветер и холод, и Женя пряталась между пустыми бочонками, как будто они могли согреть.
В новой школе Жене поручили четвертый класс. Квартира оказалась столь же бедной внутри и снаружи, как и в районном центре. Встретили ее как «несправившуюся» с работой, - поэтому с первого же дня директор зачастил на уроки. На первом же уроке, как только она открыла журнал, мальчики ринулись к столу, и каждый стал предлагать свою ручку; большинство из них разместилось на передних партах, задние — опустели.
— Сядьте на свои места.
— А мы на своих! А вы очень сердитая?
— Сердитая. Сядьте на свои места. Я хочу с вами познакомиться. Виктор Селезнев! Кто Виктор Селезнев?
— Он сегодня не пришел.
— Николай Дубов?
— Его нет. У него болят зубы.
— Василий Ермоченко?
— Нет! У него болит пятка.
Женя вызвала всех мальчиков — ни одного из них «не оказалось» в классе. Тогда она стала вызывать девочек; девочки были на своих местах.
— Вот что, мальчики, последний раз говорю: займите свои места.
— А мы на своих...
— Тогда я позову директора.
Молчание.
Женя закрыла журнал и направилась к двери, ученики быстро вернулись на свои места. Тогда и она вернулась к столу, но ученики снова заняли прежнее положение. Женя пошла к двери, ученики — на задние парты...
Пришел директор. Ученики сидели на своих местах. Женя сделала перекличку, особо отметила тех, кто сидел теперь на задних партах.
— Все, кто на задних партах, останетесь после уроков. А сейчас я проверю ваши знания. Сначала по арифметике, а затем по русскому.
Женя повела опрос. Сначала она ставила перед классом совсем легкие примеры для устного счета, легкие устные задачи, и класс оживился; затем — более сложные, более трудные, и ребята приуныли; вызванные к доске обнаружили большое отставание от программы. Затем она потребовала написать несколько предложений, прочитать небольшую статейку из книги для чтения.
— Вот что я вам скажу, ребята. Вы отстали от программы, плохо считаете, пишете с ошибками, читаете, как во втором классе. С такими знаниями вам не выдержать экзамена. Кто хочет хорошо учиться и выдержать экзамен — встаньте. Все хотят! Хорошо! А я хочу научить и научу, если не будете мешать. Кто сорвал сегодня половину урока, встаньте!
Мальчики встали.
— Ребята, если бы на фронте командир крикнул: «Вперед, за мной!», а солдаты остались бы сидеть на месте, хорошие бы это были солдаты? Нет! Трусы! Но таких на фронте нет. Учитель в классе — тот же командир. Он зовет вас вперед! Пообещаем директору: только вперед! Ну, все вместе со мною — раз, два, три:
— Только вперед!
Ребята повеселели. Урок кончился. Директор ушел к себе и унес двойственное чувство: учительница может работать — это хорошо, но она же подвела итог плохой работы его жены, ушедшей в декретный отпуск, и если в дальнейшем понравится ученикам и населению — каково будет положение жены? Нет, он себе не враг — хвалить новую учительницу не будет.
Женя задержалась в классе и пришла в учительскую только перед звонком на урок, живая, возбужденная, готовая делиться впечатлениями.
— Ну, кажется, дело пойдет, — сообщила она товарищам. — В перемену обступили, дают обещания...
Никто не отозвался, все уткнулись — кто в стол, кто в свои тетрадки. Директор только что говорил:
— Прислали нам горе: не могла справиться с классом — пришлось идти на помощь.
Женя с недоумением обвела своих коллег встревоженными глазами. Молчал и директор, куривший возле окна.
— Они наобещают чего угодно, — сказала наконец пожилая учительница. — Только выполнять не любят...
Женя благодарна была и за это замечание и хотела уже подсесть к ней, но прозвенел звонок, и она поспешила в класс. К ее удивлению, задние парты снова были пустыми, а на передних сидело по три-четыре ученика. На этот раз она «не заметила» нарушения порядка и начала урок:
— Достаньте тетрадки, будем писать.
Часть ребят пересела на свои места, но не все.
— На передних партах тесновато. Кому нет места, с теми я буду заниматься после урока. Давайте их сумки.
Женя собрала ребячьи сумки и положила к себе на стол.
— Ребята, будет диктант! Пишите: «— За мной, ребята! — сказал командир. Храбрые бросились вперед, трусы остались на месте». Расставим знаки препинания.
— Евгения Михайловна! Дайте мне мой портфель, я буду писать.
— Нет! После уроков пойдем к директору, а потом к твоим родителям, и там ты скажешь, что нарушил свое обещание.
— Я больше не буду.
— А можно тебе поверить? Ребята, можно ему поверить?
— Можно!
— Ну хорошо, поверим.
Следующие две перемены она оставалась в своем классе, а после уроков с одним из учеников, Витей Селезневым, который продолжал изводить ее и на третьем и на четвертом уроках, пошла к его родителям.
По пути ученик спросил:
— Вы хотите меня перевоспитать, да?
— Хочу.
— А как?
— Да как сумею.
— Ну ничего же у вас не получится... Меня не такие перевоспитывали...
— А почему не получится?
— Я повышенно возбудимый.
— Кто тебе сказал?
— Ну, все говорят. Я особенный. Это и в характеристике записано, в личном деле. Вы посмотрите. Я сам видел. И мама говорит, что я особенный...
Родители, отец майор и мать домашняя хозяйка, встретили Женю весьма неприветливо.
— Мамочка, вот наша новая учительница. Она будет меня перевоспитывать.
— Опять перевоспитывать.
Мать Вити встала с кушетки. Это была высокая полная женщина в длинном халате и туфлях на босу ногу.
— Что случилось? — обратилась она к учительнице.
— Пока ничего особенного. Я хочу познакомиться с родителями своих учеников, чтобы воспитывать общими силами...
— Ах, мы слышали это уже не раз. За четыре года у Вити сменилась семь учителей. То мы переезжаем, то они уезжают. И все хотят перевоспитывать, но никто не замечает, что он повышенно возбудимый, особенный ребенок. Дома он и развит, и талантлив — душа общества, а в школе не успевает. Папочка, иди сюда. Опять собираются перевоспитывать Витю.
Вошел майор. Он так же, как и жена, одет был по-домашнему: в туфлях, без ремня, с расстегнутым воротником гимнастерки, открывавшим волосатую грудь.
— Нуте-с, что скажете?
Майор окатил Женю холодным снисходительным взглядом, и она впервые почувствовала, как она слаба, как бедно одета, какая сила стоит перед нею: заведующий роно, директор школы, родители...
Женя посмотрела на свои туфли — они утратили первоначальный цвет и форму и превратились в неуклюжие шлепанцы, — бросила взгляд в большое зеркало, стоявшее напротив. Оттуда на нее глянула убогая девчонка с большими испуганными глазами.
— Нуте-с, я вас слушаю.
Женя посмотрела в глаза офицеру и вдруг ощутила, что она — член партии, как, надо полагать, и он; что они равны, а сейчас она даже выше его.
— Что вы все подгоняете: нуте, нуте... Вы даже не предложили мне присесть. А я учительница вашего сына.
Мальчик стоял здесь же и с любопытством наблюдал за всем происходящим.
— Что еще скажете? Садитесь, пожалуйста. — Он пододвинул стул, Женя продолжала стоять.
Она коротко рассказала, как проходили ее уроки, как вел себя Витя, и закончила:
— Вы офицер. Что бы вы сделали, если бы солдаты — ноль внимания на ваш приказ? Скажите это при вашем сыне. Я хочу, чтобы он слышал.
Офицер стоял перед Женей, чуть покачиваясь вперед и назад.
— Все?
— Все.
— Виктор, было это?
— Было, папа. Но ведь я же особенный... повышенно возбудимый. Хочу так, а выходит по-другому. И никак не выходит так...
— Что же вы думаете делать?
— Я хочу поставить вопрос о воспитании детей на вашем партийном собрании. Половина моих учеников — дети ваших сослуживцев.
— Вы... комсомолка?
— Я член партии.
Жена офицера засуетилась:
— Проходите сюда! Присаживайтесь. Сейчас будем чай пить.
— Хорошо. Я займусь воспитанием сына. Виктор! Сидеть за партой как гвоздь! Понятно!
— Понятно, папа.
— Федя, не вмешивайся не в свое дело. Воспитывай своих сержантов.
— Молчать! По-вы-шенно возбудимые... Кто тебе это внушил?
— Мама, а ей какой-то профессор, еще когда жили в Москве.
— Так вот: забудь об этом раз и навсегда. Понятно?
— Понятно, папа.
— Благодарю. Прощайте, — сказал он Жене, посмотрел на сына и жену уничтожающим взглядом и ушел в свой кабинет. Майорша стала приглашать Женю к столу.
— Благодарю, у меня работа — мне нужно идти. До свидания.
Выйдя на улицу, Женя сначала замедлила шаги, а затем остановилась: «Зачем я к ним приходила? Чему научила? Это «молчать» и этот тяжелый взгляд — что они обещают? Как это странно, что мы, большой коллектив взрослых людей, не можем справиться с ребятами. Почему? Потому, что все действуем врозь. Директор, вот бы кому воодушевить! Ни времени, ни сил не пожалела бы».
Словно нехотя, опустив голову, Женя пошла дальше, к другому ученику, а затем снова остановилась: «А может быть, лучше не ходить? Что я посоветую? Попробую сначала сама...»
И Женя, точно у нее спала пелена с глаз, вдруг увидела, поняла, что она может и обязана повышать голос, требовать, что никто не имеет права поступать нечестно, никому не дано стоять над правдой.
И если в первый день своих школьный занятий, перед войною, она шла по рыбацкому поселку с ясными открытыми глазами и вскинутой головой, то тогда она была в сущности девчонкой, Способной просить, уговаривать; сейчас она шла как солдат в наступление, в броне убежденности, веры в собственные силы.
И в классе у Жени повеял свежий ветерок, вопрос о дисциплине потерял свою остроту. Это видели и сами ребята, и только директор школы ничего не хотел видеть. Он упорно посещал уроки и всегда находил одни только недостатки, настойчиво записывал их в тетрадь и предлагал Жене расписываться под его предложениями: «Читала — Журавина». И всякий раз, отмечая новые, напоминал о старых. Это было похоже на нудный дождь, конца которому не предвидится. То оказывалось, что она завысила или занизила оценки, то плохо учитывала результаты соцсоревнования, то мало или много уделяла внимания тому или иному ученику или обстоятельству, возникшему на уроке. И радость, которую она находила в труде, в непосредственном общении с детьми, в их любознательности, в самостоятельной живой мысли, которая то и дело вспыхивала то в одном, то в другом уголке класса, стала исчезать, потухал огонек творчества, искренности и задушевности, которые так много значили в работе Жени. Между учительницей и ее учениками росла стена, и эту стену старательно возводил директор школы. Порой на уроке так и казалось Жене, что она говорит со своими учениками через стену, что они вдруг почему-то от нее отдалились и стали совсем чужими; иногда приходила к мысли, что учительская работа не по ней, что взялась она не за свое дело. Трудно сказать, чем бы закончился для нее этот тяжелый год, если бы не два поднявшие силы обстоятельства. Вдруг, неожиданно для всех, отменили социалистическое соревнование в учебной и воспитательной работе. И наконец — радостная весть! — родные места освобождены от немцев! Это известие так взволновало Женю, что она, минуя учительскую, вбежала в класс, повесила географическую карту, которая столько времени висела в се комнате, и начала урок до звонка.
— Ребята, какие вы сегодня хорошие! Гляжу на вас и не знаю, что бы такое для вас сделать. Но и вы должны меня поздравить. В это время в класс вошли завроно Ложкачев и директор школы, уселись. на задней парте, вооружились тетрадками и карандашами.
— Сегодня вы должны меня поздравить, — продолжала Женя. — Вот поглядите на эту карту. Черный флажок — здесь моя родина. Она была оккупирована немцами. Сейчас я выброшу его вон и воткну здесь вот такой — красный: наши доблестные воины освободили и мою родину. Слава нашей армии! А теперь давайте работать...
Но не тут-то было! Посыпались вопросы:
— А кто у вас там, на родине?
— А вы к ним поедете?
— А вы назад вернетесь?
Настроение в классе было праздничное. Радовалась учительница, радовались ученики, и только двое на задней парте, завроно и директор школы, продолжали хмуриться и безостановочно строчить в своих тетрадках.
После звонка ученики окружили Женю и продолжали расспросы. Она с радостью отвечала, готова была закружиться с ними, выбежать во двор и носиться, как и они, до упаду, но ее позвали в учительскую.
Ложкачев начал разнос без всякого вступления:
— Кто вам дал право в рабочее время добиваться поздравлений? Вы сорвали урок, превратили его в какой-то кордебалет. Товарищ директор, ваши замечания...
— Я сначала напомню старые, которые я раньше делал и все без пользы.
Директор стал напоминать прежние замечания. Разбор урока, теперь уже не как нудный дождь, а как настоящий град, хлестал Женю со всех сторон, а итог подвел Ложкачев:
— Как ни жаль ребят, а учебный год вам придется заканчивать в другой школе или садиться в роно на статистику. Когда возвращается твоя жена на работу?
— Да может уже выходить. Погуляла достаточно.
На следующий урок Женя пришла с заплаканными глазами, зато сияли глаза учеников: они продолжали радоваться ее счастью.
Вид учительницы поразил ребят. Встав из-за парт — обычное приветствие, — они продолжали стоять, Стояла и учительница, забыв сказать: «Садитесь».
Наконец «повышенно возбудимый» не выдержал:
— Евгения Михайловна, а что — разве неправда, что вашу родину освободили?
— Нет, правда.
— А почему вы плачете?
— Ничего... Пройдет... Садитесь.
— А вас что — директор ругал, да?
— А ты разве не видел, как они писали, — сказал его сосед. — Это все на нее...
— Достаньте учебники — будет арифметика.
Вечером весь поселок знал, что новенькую учительницу снимают как не справившуюся с работой, что в этот день ее большая радость — освобождение родителей из-под немца — закончилась слезами: обвинили в плохом ведении урока.
В дело вмешались родители: в райком партии была послана делегация, которая потребовала, чтобы учебный год закончила Журавина, к которой уже привыкли ученики и которая, по единодушному мнению родителей, увлекла детей учебной работой.
Женю оставили в школе. Директор перестал посещать уроки. В классе снова воцарилась отличная погода.
На первый урок она приходила до звонка и вместе с учениками отмечала продвижение наших войск на запад. Они сообща переживали поистине счастливые дни. Уроки проходили незаметно, а после уроков начиналась беседа о подвигах героев, о поездке Жени на Запад, на розыски родителей. Эти беседы всегда проходили перед географической картой, которая с каждым днем наполнялась для детей большим содержанием. Отмечая места происходивших боев, припоминали прошлое: битвы Александра Невского, Петра Первого, Кутузова — и с каждым днем все больше познавали Родину.
Личные планы Жени стали достоянием тридцати семей — родителей учащихся; их обсуждали, взвешивали вместе с нею и между собою; некоторые подумывали о том, как собрать ее в дорогу: известно было, что по пути она не сможет ничего приобрести ни для себя, ни для родителей.
Между тем ответа на свои письма Женя не получала, а в личной жизни произошла еще одна перемена: по настоянию Агнии Петровны, которой поручили заведывание райкомхозом, Женю назначили директором школы: снова передавать школу Миляге она не хотела.
Ложкачеву пришлось смириться, стоял вопрос о замене и его самого другим работником.
Большое лето
С фронта приходили радостные вести — победа близилась. Над страной, как весенние грозы, один за другим раскатывались салюты в честь одержанных побед. Люди приободрились. Всякий видел, что и его труд не пропал даром. Оставалось сделать еще одно-два усилия, и кошмар, охвативший землю, кончится; люди и сама земля вздохнут полной грудью. Жизнь после войны по сравнению с той, какой жили в эти годы, представлялась сплошным праздником: свет в домах, который так старательно прятали, победно вспыхнет, появится керосин, большие лампы заменят коптилки, вспыхнет электричество, магазины заполнятся товарами, на поля выйдут машины, к людям вернется радость...
С фронта стали возвращаться люди, пусть это. пока что были инвалиды, но уже и мужской голос звучал в правлениях колхозов, на фермах, на собраниях. Жить стало полегче.
... Население и школьники встретили Женю с радостью, Миляга и его жена — с огорчением: Женя опять становилась на их пути и, как выражался муж, била по карману.
Миляга жил здесь пятнадцать лет. Деревня пришлась ему по душе: лес, река, охотничьи угодья, рыбная ловля, покладистые люди. Практичный человек, обыватель по нутру, он решил, что нашел здесь все, что ему нужно: хороший стол, спокойную жизнь, возможность кое-что отложить про запас.
Сначала школа была маленькой, Миляга занимался в две смены и получал около тысячи рублей, которые некуда было тратить. Года через три, когда подъехали новоселы и количество детей увеличилось, прислали помощницу, также больно ударившую его по карману. И он невзлюбил ее с первого взгляда. Правда, вскоре его отношения несколько изменились.
Новая учительница отрекомендовалась Тамарой Павловной. Это поэтическое имя никак не вязалось с ее внешностью: низкий рост, недевичья полнота, крупные губы. Помощница оказалась на редкость хорошей хозяйкой. В первый же год, до начала занятий, она успела обзавестись тарой, - насолить огурцов, капусты, грибов, засыпать сахаром две огромные бутыли дикого винограда, добавила в них меду и получила довольно крепкий напиток, который, собственно, и решил судьбу Миляги. Сначала он ходил к соседке в гости, затем стал у нее столоваться, а затем стал и мужем, не допуская мысли, что это будет навсегда. Но Тамара Павловна умела запасать впрок не только овощи. Она окружила мужа материнской заботой, и сухонький мальчик располнел и еще больше обленился. Все житейские вопросы решала жена, и он не мог не оценить преимущества семейной жизни. А затем, когда появились один за другим дети, стряхнул лень и ринулся «в наступление по всему фронту»: приобрели корову, домик и двор, а в домике и во дворе оказалось много свободного места, которое постепенно заняли куры, утки, собака, свинья, ружья, велосипед, стенные часы, трюмо и даже барометр. Особенно много приобрели они в годы войны. Из города то и дело наезжали за картошкой, мясом, медом и привозили в обмен отрезы на костюмы, платья, ковры, золотые и серебряные вещи, и многое оседало у Миляги. Иногда привозили и книги — дорогие издания, но к ним у Миляги и его супруги было редкостное равнодушие. Незаметно для самих себя началось сужение интересов, безразличие к общественной жизни. Они теряли не только знания, но и чуткость, начинали работать по шаблону, мало давали и мало спрашивали, но показывали едва ли не самую высокую успеваемость по району. Инспектора заглядывали редко, всегда новые лица, и все оставались довольны, правда, не столько работой в школе, сколько угощением на квартире. Конечно, находили и указывали недостатки, писали акты, но все это были удары кулаком в подушку: кулаку приятно и подушка пышнее. Когда же школа из начальной была преобразована в семилетнюю, Миляга был назначен директором. Заработок резко повысился, работа усложнилась, но знания оставались прежними. В то же время — своя рука владыка — часов Миляга набирал столько, сколько вмещалось в расписание, не забывая и супругу. Молодые, более подготовленные учительницы в школе не задерживались: одни выходили замуж и уезжали из поселка, других, кто. пытался критиковать директора, просто-напросто выживали. Уроки в старших классах как у мужа, так и у жены, сводились к тому, что ученики читали учебники, а затем пересказывали прочитанное.
Так получилось, — ко всему, что происходило в жизни, стены, завешанные коврами, стали глухими. Колхозники и колхозницы лучше понимали текущие события, чаще бывали на собраниях, на курсах, и Миляга уже не мог занять ведущего положения в деревне. Но у невежества множество масок, и главные из них — апломб, высокомерие и безразличие, и они выручали Милягу.
Отстранение от должности директора и назначение Агнии Петровны было серьезным сигналом: «Отстал — догоняй!» И можно было догнать, поступив на заочное отделение института, взявшись за книги, но он пошел иным путем: сначала избавился от Жени, которую Ложкачев «взял в аппарат», а затем ушла и Агния Петровна, и он воспрянул духом. Но вот снова появляется эта «девчонка»! И в качестве кого? Директора!
Между тем, приехав в школу, Женя тотчас отправилась к Миляге.
— Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте, Тамара Павловна.
— Привет, привет... Наше вам, — ответил Миляга.
— Опять нам предстоит вместе работать. Я пришла просить помощи. У вас большой опыт, — сказала Женя.
— А зачем было браться, когда нет опыта, — ответила жена. — Любите на чужой спине ехать.
— Да я отказывалась. Не принимают во внимание. Дисциплина...
— У вас дисциплина, а почему мы должны страдать?
— Тома, перестань!
— Я думаю, если мы будем дружно работать, дело не пострадает, — ответила Женя. — А у меня одно желание — чтобы не пострадало дело. Вот вы и помогите...
— Чем можем — поможем, — ответил Миляга. — Школу я знаю, как свои пять пальцев. Конечно, со мной поступили несправедливо. А потому, что я беспартийный. А будь я партийный, поругали бы и замяли. Большое преступление: продал то, что сам сделал. А эту школу я поднял. Можно сказать, каждое бревно на своих плечах... Ценить людей у нас не умеют.
— Нет, Иван Иванович, я с вами не согласна: партийных судят строже. А в том, что с вами случилось, я неповинна. Будем работать дружно, и жизнь пойдет веселее. Война скоро кончится, придут настоящие люди...
— А мы, выходит, не настоящие? — заметил Миляга.
— Нам не до веселья — надо детей растить, — сказала Тамара Павловна.
— А между прочим, как вы думаете распределять часы? Кто у нас будет работать?
— Приедут двое: по физике и математике и по русскому и литературе. Значит, будет нас шесть человек. Начальные классы — они у нас маленькие — Тамара Павловна и Гнетова; вам история, конституция и физкультура.
— Это часов двадцать! Вот видите, как вы бьете меня по карману. Вы приплюсуйте мне пение и рисование. Их все равно никто не проводит, только числятся...
— Иван Иванович, ну, что вы, право: «бьете по карману»! Никто вас не бьет...
— А вы взвесьте нашу реальную зарплату и увидите, что мы работаем бесплатно.
— Но ведь так работает вся страна. Сейчас самое главное — победить! А кончится война — какая будет главная забота? Поднять жизненный уровень. У партии других планов и нет.
— Это вы рассказывайте в первом классе. Если я о себе не позабочусь, никто обо мне не позаботится. А если я ненароком споткнусь, никто не поднимет.
— Ну как же не позаботится! А то, что мы за спиной у нашей армии? Посмотрели бы вы, что наделали немцы на Западе. Отнимали у населения все, а самих, как скот, сгоняли в сараи и сараи поджигали. У нас был свой домик, садик — никого и ничего не осталось... И где родные — никто не знает.
Женя и Миляга ни до чего не договорились, а когда она ушла, в семье продолжали разговор:
— «Так работают все»! А какое мне дело до всех? Когда-то сделают счастливым! Ты не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. «За спиной у армии!» Не моя же вина, что плохо подготовились к войне...
— Взялась за гуж, а теперь — помогите! Помогать и не думай...
— У тебя буду спрашивать разрешения, — огрызнулся муж.
* * *
На полях зрел богатый урожай. Казалось, и сама земля хотела поддержать своих защитников. Школьники, городские и сельские, по-прежнему трудились на нивах, сплошь и рядом перевыполняя нормы взрослых. Прополка, окучивание, рыхление лежали на детских плечах. Но уныния не было и в помине. Победы и эхо салютов отзывались прежде всего в юных сердцах, а чувство Родины преобладало над всем. Однажды около группы детей, с которыми работала Женя, остановилась машина, они ее окружили. Из машины вышла очень полная женщина, Белецкая, жена инженера, крупного специалиста, а из багажника шофер извлек тяжелый чемодан.
— Фу ты, еле добралась. Когда у нас наладят дороги? А где моя Адочка? Где Игорек? Где мои дети?
Дети, мальчик и девочка, явно не проявляли склонности броситься к матери на шею, но наконец неохотно протиснулись вперед.
— Мамочка, тут так интересно, — сказала девочка. — Я уже каталась верхом на лошади, коров не боюсь, была на пасеке. Мы тут купаемся, носимся как угорелые.
— Адочка, ужас! На кого ты похожа? Боже мой, она босая! А руки! Нос шелушится. А чем вас кормят?
— Суп, борщ, молоко.
— А этот! — всплеснула она руками, взглянув на сына. — Кто у вас старший?
— Я старшая, — сказала учительница, стоявшая поодаль. — Ваши ребята молодцы, хорошо работают...
— Что мне ваша работа! Вы посмотрите, на кого они похожи?
— На себя и похожи. Ничего с ними не случилось.
— Как не случилось? Что я — слепая?! Огрубели, опустились... Адочка, сейчас же надень тапочки. Я привезла вам резиновые перчатки.
Женщина открыла чемодан. Девочка выхватила кулечек с конфетами и показала ребятам; через минуту он опустел. Досталось не всем, и некоторые делили свои конфетки пополам. То же произошло с печеньем. Печеньем распоряжался Игорек; он также оделил всех.
Все, что было в чемодане съестного, включая и колбасу и балык, было немедленно съедено.
Адочка, Игорек, давайте я буду сама угощать?
— Уже все, мама. Надо было больше привозить.
— Боже мой, уже все! Теперь так трудно что-нибудь достать. Вот, одевайте резиновые перчатки.
— А зачем, мама? — недоумевал сын.
— Ну как зачем? В земле бездна микробов.
— Игорек, берегись, микроба схватит! — бросил кто-то из ребят.
Школьники, увидев, что чемодан ничего интересного не представляет, разбежались по своим местам, а резиновые перчатки успели разделить по одному пальцу на двадцать человек...
— Ребята, сюда! Микробу поймал! Ква-ква! На четырех ножках!
— Ах, мама, зачем ты привозила эти перчатки! Так хорошо было, а теперь...
— Я заберу вас домой!
— Как же, заберешь! Так мы и поехали! Нам здесь хорошо, вот и все!
— Я не посмотрю на вас! Много вы понимаете!
— Вот и посмотришь! Вот и понимаем! Все ребята на оборону, а мы...
— Я; не хочу с тобой разговаривать!
— А я с тобой...
— Ада, ты с ума сошла! Грубиянка!
В школе, где помещались ребята, Белецкой не понравилось все: спали дети на соломе, прикрытой не первой свежести простынями, по двое укрывались одним одеялом; ели по нескольку человек из одной алюминиевой чашки, ложки у некоторых были деревянные; пища невкусная, хотя ребята то и дело требовали «прибавки». Внешний вид поварихи вызвал у Белецкой раздражение:
— Послушайте, когда вы моете свои руки?
Повариха растерялась.
— Всегда мою. Сейчас только что мыла. А что?
— У вас под ногтями по телеге навозу. Вы детей заразите.
Повариха пришла в себя:
— Маникюр не наводила — это точно, недосуг. А что про навоз, так на нем же хлебушко и растет. Вы стали бы на мое место! А мне и в поле найдется дело...
Белецкая в тот же вечер вызвала мужа к телефону и отдала распоряжение немедленно приезжать за детьми, — благо завтра выходной день; ночевать напросилась к Жене Журавиной.
— Не могу же валяться в этой грязи, как чушка.
Не понравилось ей и на квартире учительницы.
— И это вся ваша квартира, вся обстановка?
— Вся.
— Ужасно! В каких условиях живут у нас учителя!
— Кончим войну, разбогатеем — построим получше.
— Ах, не говорите! Вы, учителя, такие нетребовательные. Чем культурнее человек, тем у него шире запросы. Мой муж — он из беспризорников — кандидат наук, а требования самые скромные. Приходится следить, как за ребенком. Я сама ему все покупаю. Он совсем не разбирается, что ему к лицу и что не к лицу.
Женя уступила Белецкой свою кровать, а сама легла у стены на полу; но и кровать не устроила гостью: она всю ночь ворочалась, то и дело повторяла свое неизменное «ужасно».
— Ужасно! Как можно так относиться к своему телу! Одну треть своей жизни мы проводим в постели...
Утром приехал отец — инженер Сверчков. Предки наделили его неподходящей фамилией, более удачной была бы Медведев: это был мужчина крупного роста, широкий в плечах, на вид угрюмый, но добродушный и покладистый. Узнав, что ничего особенного не случилось, он стал катать ребятишек по всему поселку, свозил к реке искупаться, с аппетитом пообедал, похвалив и обед и повариху.
Когда же встал вопрос об отъезде, оказалось, что сын куда-то исчез, а дочка стояла на своем:
— Не поеду!
— Поедем, Адочка! На кого ты похожа! — молила мать.
— На себя похожа. Не поеду.
Мать вышла из себя, стала кричать и топать ногами, дочь повторяла и крик и жесты матери; одна отражалась в другой, как в зеркале.
— Оставайтесь! — решил Сверчков. — Передай Игорю — молодец! Я поступил бы так же.
В это время к нему подошла Женя.
— Подвезите меня до районного центра.
— Пожалуйста. В один миг докатим.
Вслед за Женей в машину, вся в слезах, забралась и Белецкая. Машина тронулась. Супруги молчали.
— Твоя вина, что они такие, — сказала наконец жена. — Вот увидишь, они убегут от нас в беспризорники, как бегал ты сам. Твоя кровь...
— Очень хорошо! — ответил муж. — Убегут — наберутся ума.
— Спиридон, я не хочу тебя слушать. Ты подумай, какая неблагодарность! Я полгорода обегала, просила, унижалась. Теперь так трудно что-нибудь достать, а они расхватали, разделили, и хоть бы от кого-нибудь спасибо. А перчатки — ужас что такое! Разорвали на мелкие клочки.
— Хорошо сделали. Я бы поступил так же.
— Что ты говоришь? До чего доведет эта свобода?
— Я давно говорил: не будь наседкой — они не цыплята. Учи летать — орлами будут...
— Как ты со мной разговариваешь?
Белецкая стала всхлипывать. Женя попросила остановить машину, и когда очутилась одна среди поля, вдруг ощутила огромное облегчение.
С левой стороны расстилались колхозные поля, справа сбегал к речке редкий лесок, за речкой круто поднималось взгорье, покрытое лесом. Женя свернула с дороги и стала собирать цветы.
Июнь в Приморье — месяц цветов. Цветут боярышники, бересклеты, калина, на лугах — красные и желтые лилии, огоньки, лютики. Что не цветет в июне! На смену весенним певцам приходят летние певцы, музыканты, барабанщики и плясуны из мира пернатых и насекомых: козодои, кулики, кузнечики, стрекозы. Насекомые заселяют все щели, все морщинки на земле. Они теперь везде — на коре деревьев, на цветах, на листьях, в воздухе, в земле, в водоемах. И в полдень, когда солнце низвергает на землю горячий золотой ливень, звон и стрекот, циркание, гудение, песни и гомон сливаются в один могучий хорал, гимн величию жизни, заполняющий собою весь воздушный океан.
В июле — другие голоса, другие цветы: на лугах лиловые и синие касатики, у дорог и на выгарях — малиновый кипрей, пышные охапки лабазника, рябинолистника, синие колоски вероники. Цветут сирень, аралия, шиповник. Тайга плотнее натягивает свой зеленый полог, сближает колонны-стволы, переплетает их лианами, точно готовится к празднику. Но солнце проникает и под полог леса и роскошествует в каждом ярусе. Пения птиц уже не слышно — вывелись птенцы, и родители с темна до темна снуют во всех направлениях, выискивают корм для своих желторотых. Зато мир бабочек поражает красотой и яркостью нарядов: махаоны, ленточницы, радужницы, перламутровки, зефиры, голубянки.
К концу июля и в августе полуденный зной достигает предела; томятся и млеют листья и травы; все живое готово разметаться на жаркой земле, как дети в постели, и зажмуриться. Дни сменяются величественными предосенними ночами. На небе из края в край перекидывается серебряная звездная дорога. Земля — чудеснейшая из планет — представляется празднично убранным кораблем, несущим свое население среди созвездий в неизмеримые дали. А в траве во всех направлениях вспыхивают бесчисленные светлячки — живые крошечные искры, — чертят свои короткие огненные линии; циркают сверчки, звенят и булькают ручейки, плывет по кронам плавный вековечный шум листвы и времени.
Незаметно Женя углубилась в лесок и подошла к речке, огибавшей в этом месте серый выступ скалы. Скала и росшие на ней деревья отражались в воде.
Здесь царила тишина и прохлада. Редкое кружево листвы не мешало солнцу разбрасывать свои золотые пятна по траве, по воде, по галечнику. Огромное количество бабочек и пчел слеталось на отмель утолить жажду; над водой прядали стрекозы; из-за поворота прилетел зимородок, уцепился за ветку и повис над водой.
— Как тут хорошо! — сказала Женя и, точно вспомнив что-то, торопливо сняла туфли, села на камень и вымыла ноги, а затем так же торопливо сняла кофточку, спустила с плеч рубашку и освежила себя до пояса и точно впервые увидела себя, свое тело и стала с любопытством разглядывать свои руки, ноги, грудь.
— Как странно... И все это — мое, все это — я...
Она почувствовала вдруг как по всему телу прокатилась горячая водна, словно встрепенулась в ней каждая жилка, каждая кровинка. Ей захотелось потянуться, распрямиться, припасть к холодной траве. Она осмотрелась по сторонам, быстро разделась и побежала к противоположному берегу, где, как ей казалось, глубина достаточная и можно окунуться. Но и там было чуть выше колен, дно каменистое, течение быстрое, и она стала пригоршнями плескать на себя холодную воду, смочила голову, лицо, грудь, а потом вернулась на песчаную отмель и улеглась на горячий песок, вспугнув целый вихрь разноцветных бабочек.
Впервые в своей жизни она почувствовала всю радость безмятежного покоя, сладостного отдыха, точно вдруг в ней распрямилась какая-то пружина, которая до того была скрученной и все держала в напряжении. Родная земля! Вот что это значит! Она может отдыхать сколько угодно, идти куда хочет, петь песни, собирать цветы, читать любимые книги, делать любимое дело, и куда бы ни пошла, везде встретит своих людей, которые откроют ей и свою дверь и свою душу.
В эту минуту она ни о чем не думала, ничего не желала, переживала всю полноту и сладость отдыха. Ей ни за что не хотелось вставать, отрываться от земли, точно она и земля — неотделимы, одно тело, одна душа, — слиться бы с ней и лежать вечно. Она повернулась на спину, закрыла пальцами глаза и стала цедить между ними синеву неба, золото горячего солнца, зеленое кружево листвы, нависшее над речкой. А слух жадно ловил звуки знойного полудня, и вся жизнь земли сливалась для нее в один широкий поток без конца и начала.
* * *
Однажды, когда Женя работала с учениками на колхозном поле, на дороге показался солдат. Дети заметили его первыми:
— Евгения Михайловна, идет какой-то солдат и все время на нас смотрит! С костылем! И рука у солдата перевязана.
Все разогнулись и стали смотреть на солдата. Поравнявшись, он свернул с дороги и направился к ним.
— Продолжайте работать, а я спрошу, что ему нужно, — сказала Женя и пошла навстречу солдату, и только когда уже поздно было отступать, вспомнила, что она босая, ноги в пыли, одета никак не для встречи с мужчиной. Она остановилась и не знала, куда себя девать. «Ой, ну какое безобразие! Хоть в землю провались!» Она запрыгала на одной ноге, точно уколола другую, и опустилась на траву шагах в двадцати от солдата, пряча все, что можно было спрятать.
К ней подходил Колесов. Левая рука была забинтована и поддерживалась довольно грязным платком, завязанным на шее. В правой был костыль, который по-видимому терял свою надобность.
— Здравствуйте, Женя. Насилу нашел.
— Зачем было искать? Искать незачем...
— Незачем — не искал бы. Разговор будет большой. Разрешите?
— Пусть будет лучше малый. Мне некогда.
Колесов протянул руку, Женя неохотно приняла и посмотрела в глаза, — глаза такие же умные и, кажется, виноватые.
Он опустился рядом на траву.
— Меня направила сюда Агния Петровна, — сказал Колесов. — Я прожил у нее целые сутки. Замечательная женщина! Она говорит, что вы для нее все равно что родная дочка. Так что я от вашей мамы...
— Скажите лучше: от Оли Березовской.
— Давайте поговорим и о ней.
— Нет никакого желания.
— Хорошо. Но вы должны меня выслушать. Когда я лежал в госпитале, она прислала мне письмо: «Колесов, вам теперь нужна нянька, а я для такой роли не гожусь. К тому же я полюбила другого». Можете прочитать...
— Я не читаю чужих писем.
— После ранения — вот такой, как есть, — я поехал в Смоленск. Ни дома, ни родителей. Я приехал сюда — ничего и никого. Я решил повидать вас. Просто повидать и рассказать все это, чтобы вы знали, что я получил по заслугам. Вот и все. Теперь я мог бы и возвращаться, но... у меня есть надежда... Женя, начнем с того, на чем остановились, когда, помните, так некстати я ударился в декламацию. Помните поэму об индейцах? Березовскую я никогда не любил и не уважал.
— Как же вы могли жить с человеком, не уважая человека? Какая пошлость! И это вы, Колесов? Не можете дать женщине пощечину! Рыцарь! Зато после брака такие, как вы, не скупятся... Если не рукою, то словом. Идите-ка вы своей дорогой. Желаю вам счастья.
Женя хотела подняться и уйти, но вспомнила, как она одета, и продолжала сидеть. Не собирался вставать и Колесов.
— Ну, что ж вы не идете?! Уходите! Слышите!..
Колесов стал закуривать. Видно было, что первым он не уйдет, и Женя, улучив минуту, когда он стал одной рукою зажигать спичку, зажимая коробку меж колен, вскочила на ноги и не по тропинке, а прямиком по по севам поспешила к ребятам.
Колесов остался сидеть и сидел довольно долго. Ре бята то и дело докладывали:
— Все еще сидит! Поднялся! Пошел. Пошел к нам в поселок. Это ваш знакомый?
— Да, мы вместе ехали сюда на работу.
— Он с войны?
— Да, с войны.
— Ой, Евгения Михайловна! Попросите его рассказать! Мы позовем! Хорошо?
Под вечер, когда Женя возвращалась домой, Колесов, сидевший у нее на крыльце, поднялся навстречу:
— Вы послали меня «своей дорогой», и я никуда не свернул. Все еще надеюсь, что исполнится ваше пожелание: «Желаю счастья...»
Женя внутренне улыбнулась: «Все повернул в свою пользу! И как я могла так сказать?!»
Она молча отомкнула дверь и вошла в свою квартиру. Вслед за нею вошел Колесов и сел на стул возле окна.
Женя так же молча стала наводить порядок: поправила подушку, одеяло, скатерть, а затем ушла к рукомойнику, стоявшему в углу за ситцевой занавеской, и стала мыть ноги, лицо, шею, руки.
— Молодчина вы, Женя, — начал Колесов, когда она вернулась к столу. — Агния Петровна рассказала мне, как вы жили, что делали. Таких, как вы, немного на свете. В этом я с ней согласен. Все эти годы я не забывал о вас. А та прогулка в лес, и эти несчастные индейцы стояли передо мной как на ладони. Помните, тогда вы запустили руку в мои волосы и сказали: «Ах, голова, голова! Чем ты только набита. Меньше было бы в голове, больше бы досталось сердцу». Верно, в голове у меня и то, что нужно, и то, что ненужно. Но, верьте мне, хватит для нас и того, что в сердце...
Женя молчала. В это время девочка-ученица принесла ей хлеба и кринку молока.
— Давайте ужинать. Мойте руки...
— Руку?! Это мы живо!
Колесов ушел к рукомойнику, а она стала нарезать хлеб, разливать молоко в стаканы.
Когда он вернулся к столу, Женя увидела, что тыльная сторона руки была по-прежнему грязной, и он, как школьник, попытался спрятать ее в карман, но нужно было брать хлеб, и он виновато оказал:
— Понимаете, не получается, — рука руку моет...
У Жени перехватило дыхание: такой беспомощный. И тоже сирота: ни родителей, ни дома.
— Идите, я помою.
Колесов посмотрел ей в глаза и направился к рукомойнику. Женя вымыла ему до локтя руку, увидела донельзя заношенную рубашку, грязную шею, уши, голову и, кусая губы и пряча слезы, помыла и голову и шею.
— А помнишь, ты однажды говорила: «Тебя, как дошкольника, нужно таскать к рукомойнику...»
— Никто вам не давал права говорить мне «ты». Меня зовут Евгенией Михайловной.
— Извините, Евгения Михайловна...
Ужин прошел в молчании.
— На ночлег я устрою вас к соседу, учителю Миляге, — сказала Женя, вставая из-за стола. — Завтра у нас опять работа в поле.
— Нет, зачем же! Я пойду в районный центр. Там в гостинице у меня забронирована койка.
— Скоро стемнеет. А туда — восемь километров. Завтра поутру и дойдете.
— Э, нет! Ночью совершать переходы легче. «Не пылит дорога, не дрожат листы...» А т небесах торжественно и чудно...» До свиданья. Спасибо за ужин...
— Не стоит.
Когда Колесов ушел, Женя минутку постояла, а затем выбежала за дверь.
— Счастливого пути, Колесов. Передайте привет Агнии Петровне. На днях, может быть завтра, я к ней приду.
— Передам. До свидания.
Всю эту ночь Женя не могла заснуть: то ложилась в постель, то подходила к окну, выходила за дверь. «Куда он теперь? Кому нужен? И родителей нет. Такой же, как и я... И как он ловко повернул мои слова: «Идите своей дорогой», и он пришел... к моему порогу...» — думала Женя.
Внешне Женя продолжала хмуриться, а внутренне смеялась, что-то ликовало в ней и просилось на волю.
Утром, поставив ребят на работу, она заторопилась в районный центр.
— Что ты так рано? Ну, был у тебя этот офицер? — спросила Агния Петровна, как только она переступила порог. — До чего договорились?
— А о чем нам договариваться?
— Ну, не юли! Будто не знаешь! А мне он нравится. Человек покладистый, культурный. Офицер, два раза ранен, два ордена. Смотри, вон сколько тебя искал...
Бели бы Колесов вернулся с фронта цел и невредим, Женя прогнала бы его и легко успокоилась, но он пришел к ней бедный и несчастный, и это меняло положение: его нужно было «таскать к рукомойнику», и это наполняло ее теплом и грустью; а его беспомощная рука казалась ей такой дорогой и близкой, точно в ней одной и заключалось все самое лучшее, что только бывает в человеке.
«С одной рукой не беда! — думала Женя. — Зато у меня две, да какие проворные. И я сделаю его таким, каким надо. Ах, Женька, Женька! На кого ты похожа? Пришел, позвал — и побежала. Думала, ты герой, а оказалась... обыкновенной теткой».
Перспектива таскать Колесова к рукомойнику умилила и рассмешила Женю, точно она нашла именно то, чего ей недоставало, и когда Колесов зашел проститься и застал женщин за чаем, он сразу увидел, что прощаться не придется, что вопрос решен. Женя встретила его такими теплыми сияющими глазами, в которых было все: и ласка, и понимание, и любовь, любовь прежде всего.
— Садитесь чай пить! — сказала Агния Петровна.
— Что чай! По такому случаю чего бы погорячее, — ответил Колесов.
— А какой такой случай?
Колесов принял театральную позу:
— Дорогая Агния Петровна! Я прошу руки вашей дочери Евгении Михайловны.
Агния Петровна взглянула в глаза Жени.
— Да она никак согласна?! Что ж ты меня за нос-то водишь? А говоришь — не договорились!
— Значит, все взвесила?
— Ах, ничего я не взвешивала. Я без весу... Сережка, я согласна.
Женя вскочила из-за стола и принялась целовать Колесова, повисла у негр на шее.
— Вот что, молодой человек, — сказала Агния Петровна, — коли церемония, так церемония. Позволь тебе сказать: тебя я не знаю, а ее знаю давно; чистая у нее совесть, щедрое сердце. Если ты ее оскорбишь, заставишь страдать, — не показывайся мне на глаза, защищать буду я.
Старая учительница смахнула слезу.
... Для Жени началась поистине счастливая жизнь. Cнова, как и во время приема в партию, она с удивлением увидела, как хорошо относятся к ней люди. Колхозники решили сыграть ее свадьбу у себя, и свадьба вышла на славу. Колесов оказался послушным и добродушным мужем. Пока она находилась в поле на работе, наводил порядок в квартире, раздобывал полевых цветов и расставлял по столам и подоконникам. Одно тревожило Женю: Колесов сошелся с Милягой и никак не соглашался с нею, что их соседи — плохие люди.
— Ты посмотрела бы, как они едят! Какие у них наливки! Пальчики оближешь!..
— А ты посмотрел бы, какая у них душа, как они работают! — возражала Женя.
— Работа дураков любит, — отшучивался Колесов.
Но такие размолвки возникали редко. В душе Жени бушевало настоящее большое счастье, такое огромное, что его трудно было нести. «Ах, Миляги, — думала она про своих соседей. — Много у вас вещей, а того, что есть у меня, нет у вас и не будет! У вас наливки, а у меня — солнышко! Вот тут, в груди...»
Иногда ей хотелось вбежать в дом к своим соседям, растормошить их, сделать друзьями навек, осветить своей радостью и чужую, как ей казалось, неуклюжую жизнь.
Сказка про папу
Осенью комиссия признала Колесова годным для дальнейшего несения воинской службы, но оставила здесь, в Приморском крае. Время от времени он навещал Женю, но, к ее удивлению, проводил время у Миляги: настойки соседа привлекали его больше, чем жена.
У соседа были свои планы. Колесова тянуло в город, и Миляга надеялся, что с ним уедет жена и, таким образом, место директора опять перейдет к нему: как ни мал начальник — все же начальник! Есть подчиненные и есть некоторая материальная выгода. «Рыба ищет, где глубже», — думал про себя Миляга.
— Ваше место в высшей школе, — говорил он Колесову. — Здесь вы покроетесь мохом, как и мы. Но наша песня, видимо, спета, а перед вами вся жизнь! С вашим умом, заслугами оставаться в деревне — самоубийство.
Между тем Женя с головой ушла в работу. Приехали две учительницы, почти ровесницы, только что окончившие учительский институт, и разговоры о школе, об учениках, о личной жизни заполняли все свободное время.
Милягу тревожило, что «новенькие» покоряют не только детей, но и взрослых; и как раньше копил деньги, так теперь стал копить улики против молодых учительниц и директора школы. Часто по вечерам, когда проводились различные внеклассные занятия, в квартире Миляги обсуждались ошибки Журавиной и ее помощниц. Казалось, чем светлее становилось в школе, тем темнее на душе у Миляги. Теперь чаще, чем прежде, он приглашал к себе наиболее влиятельных родителей, жаловался на несправедливость: его, человека, создавшего школу, хорошего хозяйственника, опытного педагога, оттеснили на задний план, а на первый поставили какую-то девчонку, которая завалит школу. Конечно, в конце концов справедливость свое слово скажет, но дети пострадают, а этого не поправишь.
Между тем дела в школе шли неплохо. Молодые учительницы поспевали везде: на свои участки как агитаторы, на колхозные собрания, в поле на работу, на кружковые занятия; организовали тимуровские команды и увлеклись их работой, точно и сами стали тимуровцами. Готовясь к урокам, они обсуждали, что делать с отстающими, какие внеклассные и внешкольные работы стоят на очереди и как их провести. И через месяц-полтора их аудитория — в пятых — седьмых классах было сто семьдесят учеников — была настолько хорошо изучена, что при подготовке к урокам учитывались знания и способности каждого ученика; и ученики, как растения после дождя, ожили и воспрянули; учеба становилась интересной, а еще интереснее всевозможные внеклассные занятия.
С середины зимы большой помехой в работе учительниц стали посетители: сельская молодежь, изредка — геологи, работавшие по соседству. Гости обычно не торопились и готовы были сидеть до утра; хозяйки вначале церемонились, а затем стали выпроваживать за дверь, иногда вовсе не пускали через порог:
— Нам некогда. Нужно готовиться к урокам.
Но бывало и так, что кто-нибудь задерживался допоздна; случалось, что они пели и плясали. Это было время, когда с фронта приходили радостные вести, салюты раскатывались по стране торжествующим громом, а песни, казалось, пели сами себя, люди лишь подпевали. Скоро, однако, эта радость оказалась отравленной: поползли слухи о недостойном поведении молодых учительниц. В конце марта из города приехал инспектор.
Инспектор Маслюк, мужчина крупного роста и представительной наружности, к тонкостям педагогического процесса относился с полным равнодушием, зато с большим подъемом инспектировал хозяйственную деятельность школ и разбирал жалобы; и чем грязнее была жалоба, тем с большим удовольствием он принимался за работу и, смакуя подробности, отнюдь не спешил с завершением дела.
По приезде в школу он прежде всего решал два вопроса — где будет жить и где питаться — и приступал к работе только после того, как «замаривал червячка».
— Приехал, понимаешь, проверить вашу школу, — говорил он Журавиной. — Вот отдохну, и начнем. Где бы у вас «заморить червячка» и часок всхрапнуть.
— Пойдемте к нам на квартиру, — сказала учительница Левкова. — Живем мы небогато, но... чем богаты, тем и рады — не обессудьте...
— Ничего... Я существо всеядное.
«Червячок» у Маслюка оказался прожорливым, и девушки, торопясь на урок, оставили его одного завершать завтрак. Гость не церемонился: все съедобное, оказавшееся на виду, было съедено, а «всхрапнуть» он выбрал кровать, которая показалась пышнее другой.
В школу инспектор заглянул уже под вечер, когда учителя обсуждали итоги прошедшего дня.
— Ну понимаешь, и отдохнул я у вас, — сказал он, входя в учительскую. — Давайте решим, где мне устроиться с ночлегом.
— Пожалуйста, ко мне, — ответил Миляга, — больше здесь не у кого.
— Ну тогда пошли. Разбираться будем завтра. Работа не волк — в лес не убежит.
Когда учительницы пришли к себе на квартиру, ими овладело негодование: на полу следы сапог, постель Савиной смята, одна из чашек превращена в пепельницу.
И они стали мыть пол, посуду, готовить ужин.
— Девоньки, а хлеба-то нет, — оповестила Савина. — И масла нет, и карамельки исчезли.
— Как нет? Неужели все съел?
— Скушали, — сокрушенно подтвердила Савина. — У них «червячок», понимаешь, большой, вроде удава... Ха-ха-ха! — залилась она и упала на кровать. — Ха-ха-ха!
Савину поддержала Левкова. Хохот заполнил квартиру и едва не довел хозяек до истерики. Слово «понимаешь» не сходило с языка, а «червячок» инспектора подливал масла в огонь.
— Паек, понимаешь, нынче маловат!
— А «червячок», понимаешь, прожорлив!
— А карамельки, понимаешь, сладкие...
Совсем другой разговор происходил в квартире Миляги. Хозяин и гость подогрели себя настойкой и едва различали, что стояло у них перед глазами, а стояла огромная сковорода с яичницей, нарезанные крупными кусками сало, капуста, грузди, рассыпчатая картошка, от которой поднимался к потолку густой пар, и кувшин с наливкой.
— Почему у нас учителя плохо живут? — рассуждал Миляга. — Потому, что не умеют жить. В деревне жить — можно как сыру в масле кататься. Всякий может развести птицу, пчелу, посадить огород. А дикоросы! Грибы, ягоды, виноград! А они ждут пайка, вымаливают у колхоза. Лично я в колхозе не нуждаюсь.
— Вы партийный? — спросил инспектор.
— Нет, я беспартийный.
— Я, понимаешь, тоже.
— А наши учителя, как малые деточки: дай яичко, облупи да еще и в рот положи. А вот насчет гулянки у них выходит! В квартире каждый вечер тарарам. Болтают, кое-кто остается ночевать. А как это отражается на воспитании?
— Да, это, понимаешь, недопустимо.
— Скажу вам прямо, хоть вы и начальство — крайоно плохо знает свои кадры и, видно, по всему, не дорожит ими. Я в этой школе семнадцатый год, поднял ее на ноги поставил, и вот благодарность: меня по шапке, а на мое место — пигалицу...
— Позвольте, ваша фамилия Ми...
— Миляга.
— Это о вас была заметка в газете?
— Обо мне. Но тут раздули, извратили...
— Ну как же! Неудобно! Директор — и вдруг стал за прилавок.
— Но ведь я продавал то, что добыл вот этими руками. Помогаю тому, кто не имеет. Мне же надо одеть-обуть четырех человек.
— Согласен, но тут, понимаешь, политика — деликатная вещь. Но мы с этим разберемся. Лично я не возражал бы...
На другой и на третий день Маслюк посещал уроки, знакомился с хозяйством, с документацией школы, а вечером устроил педагогическое совещание.
— Целью моего приезда является, понимаешь, не инспектирование школы, как таковое, а общее ознакомление, поскольку ваш район закрепляется за мною, — начал он совещание. — Есть одна жалоба. Ну, хозяйственная сторона вообще хромает. Об этом я буду особо говорить с директором, представителем колхоза, в районе. Об уроках ничего плохого не скажешь...
— А вы скажите хорошее, — не утерпела Савина. — Плохое, товарищ Маслюк, мы каждый день обсуждаем. Интересно знать, что хорошее увидели у нас?
— Ну что ж... Разбирать, понимаешь, все уроки, не стоит; для себя я сделал записи; выводы оставлю, а вообще...
— Вообще мы сами умеем, — наседала Савина. — Вы скажите, в частности, о моих уроках алгебры.
— По алгебре я, понимаешь, не специалист; но что можно сказать? Хорошо! Живо. Все работают. Материал знают. Во времени вы уложились. Задание на дом дано...
— Только и всего?
— Ну тогда разберите мой урок по русскому языку, — оказала Левкова.
— По русскому — это мне ближе. Русским языком пользуемся все. В целом урок прошел хорошо. Ребята хорошо сидели; дисциплина была хорошая. Хорошо прошел организационный момент. Во времени не уложились, задание давали после звонка. Вот только на доске вы не заметили ошибки: ученик написал «В витрине магазина», а нужно было «В ветрине магазина». А теперь позвольте остановиться на жалобе. Родители жалуются на плохое воспитание, по вечерам у вас гулянки, дело дошло до нецензурных надписей на стенах... Вы уясняете?
— Хорошо, мы спросим родителей, — вмешалась Савина. — Если они заявят, что мы плохо воспитываем, я не останусь в школе. Товарищ директор, я предлагаю пригласить на совещание председателей сельсовета и колхоза, а завтра, если понадобится, — родительское собрание!
Савина набросила на плечи пальто и выбежала за дверь.
— Зачем же, понимаешь, родительское собрание? Мы разберемся и сами.
— Для нас важно мнение родителей, — сказала Женя. — Они сейчас придут. Подождем минутку.
— Позвольте мне слово, — сказал Миляга. — По-моему, вовсе не надо ни родительского собрания, ни председателей. Мы действительно разберемся сами. Возьмем факты; против них не попрешь. Песни у вас по ночам разливаются? Факт. А кто поет? Парни. Успеваемость в школе какая? Семьдесят пять процентов. Никогда она не была такой низкой. Каждый четвертый не успевает. А какое мы видим руководство? Никакого...
— Я отвечу на ваши вопросы, — сказала Женя, — когда соберутся все...
Наступило молчание, которое впрочем скоро оборвалось: в учительскую вошли Савина и председатель колхоза Юркова.
— Председатель сельсовета в отлучке.
— Товарищ Юркова, мы пригласили вас вот по какому делу, — начала Женя.
— Знаю, какое дело. Не дам учительниц в обиду. Сама в край поеду! Покажите нам жалобу, товарищ инспектор!
— Письменной жалобы у меня нет.
— От кого слыхали устную?
— Да вот член коллектива, он же и родитель. Он только что выступал...
— Миляга?! Рассказывай, Миляга, послушаем еще раз.
— Я говорю: успеваемость в школе низкая, руководства со стороны директора нет; на квартире у них по вечерам песни, гулянки.
— Позвольте мне, — поднялась Савина. — Песни у нас редко, нам не до песен. Низкая успеваемость — это ваши грехи, Миляга. Вы ни за что ставили пятерки. Теперь руководство. Нам хорошо помогают. Директор давала показательные уроки, мы посещали уроки друг друга. Хуже всего уроки у вас и вашей супруги. А почему? Потому, что вы заняты своим хозяйством. Вы приходите на урок с пустым сердцем и с пустой головой — вы оставляете их дома, с гусятами и поросятами. Мне жалко наших ребят! Живые, любознательные, они ничего не могут у вас почерпнуть.
— Я прошу слова, — сказал Миляга. — Очень хорошо, что у нас представитель края. Он, конечно, разберется, какой у нас коллектив, какое руководство. Теперь личное хозяйство. Оно не запрещается, а поощряется. Имея свое, я не требую пайка.
— Но исправно его получаете.
— Кроме того, я помогаю другим...
— По тридцать рублей десяток яиц!
— В городе — сорок.
— Бедный, какой несете убыток!
— Постойте-ка, дайте мне сказать, вас не переслушаешь. Накинулись, как сороки на грача. Я скажу, как люди думают. Ты, Иван Иванович, у нас старожил. На наших глазах вырос сам и выросло твое хозяйство. Пришел к нам — все твое богатство умещалось в чемодане. А теперь не увезешь и на десяти телегах. Вези, мы на твое не заримся. А детей ваших ты обделял знаниями. Что есть, то есть. Гляди правде в глаза. А что говорят люди? Бывало, детей не выгонишь в школу, а теперь дома не удержишь. А что до песен — пойте, девушки. А мало будет голосов, зовите меня.
* * *
Весна шла дружная, многообещающая. Она шла по лугам и полям, по лесным дебрям, поднималась в горы, все выше и выше, трубила в свои многоголосые трубы, будила в земле семена, вела за собой свой шумный хоровод, а путь устилала цветами.
Земля готовилась к празднику: расстилала свои пестрые скатерти по тол ям и лугам, начинала свой победный гимн во славу жизни, звала людей к труду, мирному, созидательному, подтверждая мудрый завет: все минется — только правда останется.
В этот памятный день Женя работала с учениками на пришкольном участке: сгребали и сжигали прошлогоднюю ботву, убирали хлам, исправляли ограду.
В годы войны почти все школы Приморья разработали для себя земельные участки и занимались выращиванием «горячих завтраков», главным образом для детей фронтовиков. Сплошь и рядом они отнимали земли «из-под ног у тайги», на целине, покрытой густым кустарником, усеянной старыми пнями и тяжелыми камнями. Это была не детская и не женская работа, но и камни и пни уступали свое место огородам. Людей воодушевляла высокая цель — хоть чем-нибудь помочь своей Родине.
— Евгения Михайловна, в сельсовет! Сейчас же! — бросила через забор возбужденная женщина и побежала дальше, в конец поселка.
— Победа! — встретили ее на пороге сельсовета. — Звонили из района! На митинг! Выводите школьников! Приготовьтесь выступить...
— Победа!!! — вскрикнула Женя, обняла и расцеловала какую-то женщину, стоявшую рядом. — Победа! Какое счастье! Пришла! Дождались! Трудились не зря!..
Но больше она ничего не могла сказать, прислонилась к плечу женщины и разрыдалась.
— Семью у нее, отца и мать, извели немцы, — пояснил кто-то.
Наступило молчание.
Слезы стояли на глазах у многих, но, как солнце после грозы, радость разогнала печаль, и Женя бросилась в школу. Она распахивала одну дверь за другою и бросала одно короткое слово:
— Победа!
В классах поднималась кутерьма: летели к потолку сумки, платки и фуражки.
— А теперь по домам! Скажите всем — победа! Наше дело правое, победа за нами! И на митинг к сельсовету!
Школа опустела.
Педагоги собрались в учительской.
— Товарищи, какое счастье! Мир на земле! Пусть он будет и в нашем коллективе! Руку, Иван Иванович! — сказала Женя.
Миляга лениво протянул руку.
— Какое время идет! — продолжала она. — Я думаю, что эта война будет последней. Не может быть, чтобы люди не образумились. А какая жизнь пойдет! Ни горя, ни забот, ни страха...
После митинга, когда все разошлись по домам, Женя зашла в школу. Все двери были открыты, снопы солнечного света пронизывали неосевшую пыль, стояла непривычная тишина, которую, казалось, можно было потрогать. Женя опустилась на стул. Хотелось думать о будущем, строить планы, мечтать. Первое — родители. Где они и что с ними? Где братья? Сестреночка Верочка? Тысячи позабытых мелочей встали перед мысленным взором. Жене казалось, что она бродит по земле своего детства и еще раз упивается радостью тех далеких дней. Но вдруг спустилась темная завеса и все закрыла. Она вспомнила последнее письмо, написанное незнакомым человеком — новым начальником станции, на которой служил отец: «О судьбе ваших родителей ничего не известно; от поселка остались груды кирпича — в этой местности немцы создавали «зону пустыни...» Дальше предстал Колесов — с ним связана жизнь. Где он сейчас, как встретил и проводит этот день? Приедет, она его порадует — он будет отцом. Как он встретит эту новость? Ему она передаст школу, и жизнь потечет по-хорошему. Через год они съездят на родину — пусть не найдут ни родных, ни знакомых, — посмотрят на ту землю, припомнят людей, с которыми встречались, друзей, с которыми росли, побродят по той земле, а потом сюда! И всю нежность, какая была в ней, она перенесла на Колесова, припомнила все хорошее, что было с ними связано! «Ах, не буду думать!» —, решила она и, повинуясь привычке, взялась за работу: вышла на пришкольный участок и стала вскапывать прошлогодние грядки.
Через некоторое время на участок пришел Миляга и тоже принялся за работу, а там подошли учительницы Савина и Левкова, незваными явились ученики, и работа закипела. Если бы в этот час кто-нибудь заглянул в души этих безмолвно работающих людей, детей и взрослых, он поразился бы тому, каким теплом и светом они наполнены! Это был не просто физический труд, а песня во славу всего лучшего, что есть на земле, что есть в человеке. Даже Миляга, орудуя лопатой, и в себе самом раскапывал что-то новое, светлое, о присутствии чего ни сам, никто другой не подозревал.
... Война на Западе кончилась, и люди пошли с войны. На дорогах, на улицах, в домах происходили незабываемые встречи, которые окрыляли одних, другим подрезали крылья; у одних снимали «гору с плеч», на плечи другие взваливали гору; у одних утирали, у других вызывали горячие слезы; одних наделяли яркими надеждами, у других убивали последние надежды.
Солдат встречали невесты, жены, заждавшаяся детвора, престарелые родители, которым «теперь не страшно было умирать», встречали целые коллективы; встречали не только люди — встречала земля, домашний скот, заржавевшие инструменты, заросшие сады, одряхлевшие заборы. Казалось, все забегало наперед, лезло в глаза, просилось в руки; а руки, которые столько лет сжимали железо, с невыразимым трепетом сжимали в объятиях детей, жен, невест; тело, которое столько лет прижималось к земле, ища укрытия, — то к мерзлой, запорошенной снегом, то мокрой, расквашенной дождями, то зеленой, пахучей, усеянной цветами, — тело, в котором теперь пел и плясал каждый мускул, блаженно отдыхало на мягкой постели. Кто не знает, как хорошо возвращаться домой, к любимым и близким, после длительного отсутствия, возвращаться с радостной вестью, с победой, в добром здравии, готовым и к песне, и к труду, и дерзанию! Вчерашние солдаты появлялись на. заводах возле ставков, возле колхозных машин, в садах, на пасеках, на нивах. Теперь защитный цвет не скрывал, а выдавал солдата, выдавал одеждой, обувью, и, может быть, больше всего сноровистыми руками, жадными до работы.
Мир царил на земле. Его излучало все: не спеша, точно коровы по пастбищу, шли по небу облака, в лазури журчали жаворонки, разбегались по всем направлениям дороги, а по дорогам шли и ехали люди, и у всех была одна забота — мирный труд; и если в отдалении слышались раскаты грома, все знали, что это уже не гром войны, а настоящий весенний гром, утверждающий победу жизни.
Дождалась наконец и Женя своего солдата, но, увы, радость встречи через минуту омрачилась. Будничный, серенький вид жены поразил Колесова. Положение, в котором она находилась, не делало ее красавицей, а новость, которой она хотела его порадовать, испугала его, и он поспешил к Миляге: там угощение было обильней.
А вечером, когда остались одни, Колесов окончательно раскрыл свои карты.
— Меня такая перспектива не радует — жить в этой дыре и нянчить ребенка. В крайоно мне предлагают директорство в городской школе. А там рядом институт. Я неплохой лектор. В последнее время читал лекции для солдат и офицеров. Успех был исключительный. То, что ты заводишь ляльку, меня печалит. Она будет мешать. Лучше бы, если бы ее совсем не было...
Эта тирада — слова, как палочные удары, — заставила Женю съежиться, как от побоев, расплакаться, посмотреть на себя со стороны: бедно одетая, некрасивая, безродная, — кому она такая нужна?! Но через минуту она была другой: гордой и сильной, такой, как однажды, во время посещения семьи офицера. Нет, она не для того существует, чтобы терпеть и сутулиться, не для того, чтобы сносить чьи-то оскорбления, — она для того, чтобы делать жизнь разумной и счастливой.
— Ляльку завожу не я, а мы оба. Если тебя она печалит, то меня радует. Для тебя лучше, чтобы ее не было, для меня — лучше, если она будет. Вспомни, не я тебя по свету искала, а ты меня искал и нашел, не я нуждалась в твоей помощи, а ты — в моей. Вспомни, как началось. Ты не хочешь моего... нашего ребенка — что ж, иди... добивайся «исключительного» успеха. У нас есть судья — Агния Петровна. Завтра же пусть и рассудит.
— Женя, да что ты! У меня и намерений таких нет...
— Ты сам не знаешь своих намерений. Сегодня нет, завтра появятся...
К удивлению Жени, Агния Петровна, которая теперь заведовала районным отделом народного образования, стала на сторону Колесова:
— Ему надо расти. Я теряю вас, двух работников в своем районе, но государство-то вас не теряет. Вы свое везде сделаете. А ученые люди нам нужны. И всякому, кто хочет учиться, надо открывать дорогу. Что мы будем стоить без ученых?
— Агния Петровна, но ведь расти можно везде! И нужно было посоветоваться со мною, а не изрекать свою волю. Я не хочу быть тенью: куда он, туда и я. Тут такие люди... такие дети... Как я их брошу? Они трудятся, а мы... переводимся...
Женя расплакалась.
Агнии Петровне и Колесову с трудом удалось уговорить Женю ехать в город.
На другой день Колесов уехал принимать школу, а недели через две уехала и Женя.
— С работы меня не увольняйте — я иду в отпуск. Вы знаете, за все годы, что работаю с вами, я ни разу не была в отпуске. Подходит мой декретный...
— Знаю, Женя, все хорошо помню. Время было такое — не до отпусков. А теперь отдохни, — говорила Агния Петровна. — О моей дочке ничего не слышно — теперь ты у меня за дочку.
— Агния Петровна, спасибо вам за все. Представить не могу, что бы я делала без вас. А про мужа скажу как матери. Ведь верно же, Агния Петровна: если нет уважения, равенства, какая жизнь? Служить ему, а он будет командовать и помыкать... Нет, нет...
— Сложное дело — семейная жизнь. Мы и себя плохо знаем, а про других — говорить нечего. Надо уметь кое в чем уступать, кое-чего не замечать, а кое с чем и мириться...
— Нет же, Агния Петровна, нет! Тогда не жизнь, а болото... Хочется, чтобы было солнце, а у вас выходит — выполнять повинность! Я ни перед кем не виновата...
Город встретил Женю неприветливо: моросил дождь; Колесов был озабочен и плохо слушал; директорская квартира была не прибрана, захламлена, казалась неуютной; многого не хватало; посуды, мебели, штор, скатертей; нужно было произнести побелку, тщательную уборку. И на этом фоне и Колесов и Женя казались чужими людьми, забежавшими сюда только чтобы переждать непогоду.
Женя видела, что Колесов тяготится и ей и обстановкой, но, деятельная натура, она сразу же решила и в этом запустении как можно скорее навести порядок.
— Ну вот что, товарищ директор: жить в этом хлеву нельзя! Думала, приеду, в квартире чистота, на столе скатерть, цветы. Неужели ты об этом и не подумал?
— Будем ходить в столовую. Тут близко...
— Тогда уходи на свой педсовет, а я наведу хоть небольшой порядок.
— Да, я уйду. Педсовет не скоро, но надо подумать, подготовиться. Народ здесь зубастый...
Колесов ушел в школу, а Женя, недавно получившая отпускные, ушла в магазины и за несколько часов, пока заседал педсовет, произвела в квартире «полный переворот»: на окнах висели занавески, стол был застлан скатертью, на столе стояла ваза с цветами, кое-какая закуска и даже бутылка вина и две рюмки.
Педсовет затянулся, и Женя успела показаться и в школе. Муж познакомил ее с учителями, и те, особенно учительницы, разглядывали директоршу с нескрываемым любопытством, а когда расходились, Женя услышала, как говорили:
— Она ему не пара.
— Простенькая очень.
— А он мне нравится: широта взглядов, остроумие...
— Головка — ничего, а в остальном — колхозница. Да еще в интересном положении! Зачем ему ребенок?
Женя возмутилась: что значит колхозница? И как они смеют произносить это слово так пренебрежительно! Посмотрели бы, какие там люди! Как работают!
Она взяла мужа под руку:
— Пойдем.
— Да, пойдем, а то в столовой ничего не останется.
— Мы не пойдем в столовую. Не забывай — ты теперь семейный человек: пока отпуск, я покажу тебе, какая я хозяйка!
— Что я вижу! — воскликнул Колесов, когда они переступили порог и зажгли электричество. — Волшебница! Откуда эта скатерть-самобранка? Какая чистота! Какой порядок! И цветы! И вино! Ну, дай же я расцелую тебя, мою хозяюшку-козарушку! А мне, понимаешь, и домой идти не хотелось! А тут такая прелесть! Ну и умница же ты у меня, Женька.
— У себя, а не у тебя! А вернее — у обоих! А ты имел исключительный успех! Я слышала, одна учительница сказала, что я тебе не пара, что ты не лишен остроумия, а я простая колхозница.
— Верно? Так и сказала? Кто же это такая?
— Да эта — в синем платье.
— А! Таисия Владимировна! Эта уже покушалась на мою невинность, да я не поддался, как Иосиф...
— А ты хорошенько взвесь: почему и не поддаться! Жена — колхозница, муж — офицер, к тому же не лишенный остроумия, — действительно не пара!
— Хорошо, подумаю. А пока давай справлять новоселье. Верно, как мне не пришло на ум подготовиться к встрече? Ведь все это мог сделать и я. Теперь угощай ты. Ты устроила встречу, и у тебя лучше получится.
— Ну, прошу к столу, Сергей Николаевич.
— О, с удовольствием, Евгения Михайловна! Стол великолепный.
— Вы какое пьете вино?
— Я отведаю всех марок...
Ужин прошел весело, и Женя подумала: «Вот так бы всегда...»
* * *
За время своего отпуска Женя навела в квартире полный порядок. Три дня вместе со школьной сторожихой они белили, мыли, скребли, красили окна, двери, развешивали шторы, кое-какие репродукции. Многое пришлось заводить заново. На это ушли все отпускные, но Женя сияла.
— Пусть наша крошка придет в чистую квартиру. Надеюсь, к ее приходу ты догадаешься и цветов купить и чистоту навести.
Колесов был равнодушен и к будущему члену семьи и к стараниям Жени.
— Почему ты меня не похвалишь? Посмотри, разве не хорошо? Посмотри на свой письменный стол! Разве не красиво, не располагает к работе?
— Да, да, спасибо... Но знаешь, работать я буду у себя в кабинете, в школе.
— Ого, Сереженька, ты уже отмахиваешься от общества жены и будущего ребенка? А кто же будет с нами. Малютки — они неинтересны, пока ничего не понимают, а как начинают узнавать — прелесть: глядишь, как в зеркало.
— Ты откуда это знаешь?
— Ой, да я вынянчила и братишек и сестренку!
— Ты пришлась по душе школьной сторожихе. Говорит: «Сергей Николаевич, какое золото у вас жена!»
— Что же ты ответил?
— Говорю: не разглядел.
— Верно — не разглядел?
— Разглядел. Все разглядел. Ну, мне пора.
Перед уходом в больницу Женя присела, окинула взглядом квартиру, и ей стало до боли грустно и жалко и себя и тех простых хороших людей, которые ей встречались: так много они дают людям и так мало от них получают. Та же школьная сторожиха: муж бросил с двумя детьми, и неизвестно где находится, а она и своих воспитывает и в другие семьи, куда приглашают на работу — стирка, уборка помещений, — вносит столько теплоты и доброты, что и чужая жизнь на какую-то долю становится светлее. А стены квартиры, как их ни украшай, холодны и безучастны. И муж — вот он сидит такой же, как и стена, холодный и безразличный.
— Если со мной что случится, все, что я имею, передай Даше, — сказала она.
— Да брось ты скулить! Знаешь, сколько ежедневно рожают. Астрономическая цифра...
Неосторожные слова, какие то и дело срывались с языка Колесова, нанизывались, как бусы, на невидимую нитку в памяти Жени, и эта нитка становилась все тяжелее и тяжелее.
— Хорошо. Не буду скулить. Проводи меня до больницы.
... Роды прошли благополучно, но это не повысило настроения Колесова. В больницу он пришел без цветов, а принес небольшой торт, и когда сестра разъяснила, что торт роженице не рекомендуется, унес назад и с аппетитом напился чаю: в этот день никто не приготовил для него ни обеда, ни ужина,
То же произошло и в день выписки из больницы: квартира не подметалась, цветов не было, отношение к ребенку было безразличным. Выполнив некоторые распоряжения Жени — растопить печь, нагреть воды, купить молока позвать Дашу, — Колесов ушел в школу, хотя директорский кабинет и не был идеальным местом для работы: Школа шумела, то и дело заходили посетители — ученики, педагоги, родители, а Таисия Владимировна проводила здесь почти каждую перемену.
* * *
— Сережа! Ты погляди на Наташу. Какая она прелесть! На тебя похожа...
— Прелесть, конечно, да, да... Ты прости, мне нужно заниматься. День защиты уже назначен.
— А зачем она тебе?
— Нелепый вопрос.
— Нет, ты скажи. Сначала подумай, а потом скажи: зачем тебе нужна эта защита?
— Во-первых, нужна не мне, а нам; во-вторых, для заработка, конечно, в-третьих, для науки...
— Ах, оставь науку в покое, если она для тебя в «третьих». Мне кажется, Сережа, самое главное в жизни — добрая слава, заслуженная. Ну, скажи, что ты хочешь открыть как ученый, что доказать? Я не замечала, чтобы тебя тревожили нерешенные вопросы. А деньги? Да разве в них счастье?!
— Сначала нужно научиться открывать. Для этого и существует ученая степень кандидата. И перестанем говорить на эту тему. Ты имеешь среднее образование и довольствуешься этим — я имею высшее, и мне этого мало.
— Ах, Сережа, Сережа, как мы плохо друг друга знаем! «Высшее», «среднее». Если бы мы жили тем, что дает нам школа, не много бы мы стоили. Цена человеку не в том, что он знает, а в том, что делает, как относится к людям.
— Неужели ты не думаешь о том, что мы должны обеспечить нашего ребенка, создать ему известное положение?
— Сережа, о каком положении ты говоришь? Всякий должен создавать его сам! И детей нужно растить не для того, чтобы они проживали готовое, а чтобы строили лучшую жизнь! Ты говоришь, что будешь защищать диссертацию; а я тебе говорю, что в твоем положении она должна тебя защищать: твои дела, твои заслуги, твои собственные мысли. А ты не желаешь поделиться ими со мной, чтобы я стала твоим последователем, помощником? Представь себе, что сегодня ты просишь «диплом» у жизни, — подумай, сколько она поставит тебе «пятерок» и за что именно! Ты только не сердись, Сережа...
— Перестань! Надоело слушать!
Подобные разговоры стали возникать часто. Обычно расхождение во взглядах начиналось с безобидных вопросов: стоило ли вызывать в школу родителей ученика Смыкова, может ли учительница, идя на урок, подкрашивать губы, — и кончалось «мировыми» вопросами, при этом Женя становилась мягче и добрее, Колесов — суровее и злее.
* * *
Однажды поздно вечером, когда Колесов, готовясь к кандидатскому экзамену, работал у себя в кабинете, Женя, справившись со своими делами, пошла пригласить мужа к ужину.
В школе никого уже не было, и Женя на правах своего человека вошла в кабинет не постучав. Колесов сидел у себя за столом, а рядом, прислонившись щекой к его щеке, сидела Зорина. При появлении Жени оба моментально встали, как встают школьники, когда в класс входит учительница.
Женя после сама удивлялась своему самообладанию.
— Садитесь, дети! — сказала она. — Урок буду вести я.
«Дети» отодвинулись один от другого и послушно сели.
Она подошла ближе к столу.
— Стыдно, дети! Такие большие, а так себя ведете! А что вы днем говорили, когда учили маленьких? Выходит, вы лгали! А лгать нехорошо. Я бы вызвала ваших родителей, да что они с вами сделают, когда вы сами родители? Урок окончен...
Женя вышла из кабинета и, встретив тетю Дашу, попросила ее прийти пораньше помочь уложить вещи.
Сделав несколько шагов, Женя вернулась:
— Тетя Даша, разве вы ничего не замечали?
— Видела, Михайловна, все видела.
— Почему же молчали?
— До поры не хотела тревожить.
— До какой поры?
— Пока грудью кормите. Заволнуетесь — молоко пропадет.
* * *
На другой день вечером приехал Колесов. Он вошел в комнату, когда Женя и Агния Петровна купали ребенка.
— Не подходите, вы с мороза, — остановила его Агния Петровна.
Не снимая пальто, Колесов присел на табуретку.
Процедура купания, как ему показалось, длилась очень долго. И старушечье лицо Агнии Петровны и раскрасневшееся Жени светились радостью. Судя по всему, ребенок чувствовал себя превосходно, и, наблюдая за ним, женщины вовсе не замечали гостя.
— Может быть, можно взглянуть? Я, кажется, отогрелся, — напомнил он о себе.
Ему не ответили. Ребенка завернули в пеленки и отнесли в кроватку.
— Не приглашают раздеваться, попробую сам, — сказал Колесов и снял пальто.
— Здравствуйте, Агния Петровна. Спасибо вам за материнскую заботу.
Агния Петровна не приняла протянутой руки, но Колесов не мог понять, то ли она не заметила, то ли выражала крайнее осуждение.
— Садитесь, — сказала она после паузы и указала на стул. — Поговорить надо. Хотела ехать... Что ж это вы... Выходит, и я повинна в несчастье Жени. А я на вас надеялась. Сватала... Сбивала с толку.
— Да никакого несчастья нет! Это такая взбалмошная голова, от нее всего можно ожидать.
— Э, нет... Вы на ее голову не валите. Эту голову я лучше вашего знаю. Если бы все вносили в жизнь столько добра, сколько она вносит, жить бы да радоваться. А выходит так: она вносит, а вы выносите, и сосуд не наполняется.
Женя уложила девочку и подошла к столу.
— Зачем приехал? Поезжай назад. Говорить нам не о чем! — сказала Женя.
— Вы слышите! Распадается семья, а ей не о чем говорить?!
— Колесов, все ясно. К чему слова? Вы нечестный, грязный человек, и жить с вами я не могу.
— Как ты можешь так говорить. Я член партии! Я воспитан идейным богатством нашей литературы! Мне поручено народом воспитывать более тысячи школьников...
— Бедные школьники! Такие, как ты и Зорина, растлевают, а не воспитывают. Внешне вы хороши, а внутри — грязь. Где тебя по-настоящему проверила партия? Я бы не дала тебе рекомендации.
— Я получил партбилет, идя в наступление. Я кровью подписал свою верность...
— Подписал, да подпись неразборчива.
Женя ушла в смежную комнату, туда же переставила кроватку и закрыла дверь. Колесов замолчал. Заговорила Агния Петровна:
— Как же это вы так? Так много вам дано, и вы так плохо распоряжаетесь полученным? Вы отдаете себе отчет, как это много, как высоко поставила вас партия! Вы понимаете долю вашей личной ответственности? Ведь на вас смотрит не только Женя, не только я. Теперь о Жене. На моих глазах растет человек. Вы разглядели, какой это человек? Вот на нее может положиться и партия, и народ, и друг, и товарищ: не обманет, не покривит душою. Представьте себе, что и она и все другие — так же, как вы... Что бы у нас получилось?
— Агния Петровна, вы нам обоим желаете добра. Скажите, что же делать?
— Что ж я вам скажу? Видно, вы друг другу не пара, как говорят в народе. Она высокой души человек и требования у нее к человеку высокие. Вы не удовлетворяете эти требования.
Наступило молчание, которое длилось очень долго. Нарушил его ребенок в соседней комнате.
* * *
Прошло три года. Женя продолжала работать «в своей школе». К ней перевелась и ее подруга Катя Гребнева, муж которой с войны не вернулся, а сыну шел восьмой год.. Они жили теперь вместе, в одной квартире, и на Женю снова свалилась забота о двух, в сущности беспомощных, существах: с учебной работой Катя кое-как справлялась, с личным хозяйством и своим сыном не справлялась никак.. За годы войны она ничего не приобрела, обносилась и перевелась к Жене в таком состоянии, о котором говорят: «яко благ, яко наг, яко нет ничего». И Жене пришлось не раз переворошить свой скудный гардероб и кое-как приодеть подругу и ее ребенка. Мальчик рос разболтанным и так же, как и его мать, доставлял Жене немало хлопот. Самое трудное заключалось в том, что Катя утратила волю к жизни и жила только одной энергией своей неутомимой подруги.
Доченька Жени, Наташа, несколько отставала в физическом развитии, но значительно опережала свой возраст в умственном. Женя, ее подруги, а также школьницы уделяли ей много внимания, изливали на нее всю свою нежность. Наташа всегда видела над собою чье-нибудь ласковое лицо, улыбку, слышала голос. Сначала лепетали друг другу одни междометия, щедро улыбались, хлопали в ладошки, выговаривали слова, а потом пели, рассказывали сказки. Мамины глаза оживляли детские, детские — заставляли светиться радостью материнские. Приходилось и разлучаться, и Наташа часами ожидала свою маму; зато как велика была радость, когда кончались часы разлуки.
Когда в крае проходила конференция сторонников мира, Женю послали делегатом и попросили выступить, так как у нее было что сказать на конференции.
Женя уехала вместе со своей дочуркой: Катя наотрез отказалась присмотреть за ребенком.
В город они приехали за час до начала конференции, и когда вошли в зал, он был уже заполнен делегатами. Женя сообщила о своем желании. выступить и уселась в последнем ряду возле прохода к трибуне.
После доклада первым выступил представитель науки — профессор Холмогоров:
— Товарищи! Всю свою жизнь я изучаю растения. Они — источник жизни на земле, они роднят нас с солнцем. На земле есть все, чтобы сделать жизнь людей полной и счастливой, и лишь одно препятствие на этом пути — кучка стяжателей, лишенных ума и совести. И сегодня мы обращаемся к разуму и мужеству людей: «Свяжите безумцев! Остановите войну!»
Ученый сделал краткий обзор происходящих в мире изменений и пришел к выводу, что силы мира и света превышают силы войны и тьмы — мир неизбежно и непременно победит войну.
Следующим на трибуну поднялся колхозник Гоменюк.
Седые, но еще вьющиеся волосы оратора, широкая белая борода, круглые плечи и высокая грудь приковали к нему внимание конференции.
— Прожил я, товарищи, семьдесят девять лет и семьдесят из них выращивал хлеб, строил, прокладывал дороги. И таких нас на земле большинство. Но что получается? Мы строим, a нас заставляют рушить, убивать и калечить друг друга, ломать те самые руки, которые строили. Вот я и спрашиваю: где разум? где совесть? Не может земля терпеть этого. Люди, говорю я, все, кто строит, взрыхляет землю, умудряет книгой, растопчите гадину! Слава будет вам вовеки. Возрадуется земля. К миру, к дружбе, к братству призываю...
Старому колхознику горячо аплодировали, а когда он сходил с трибуны, какой-то офицер флота усадил его в переднем ряду, рядом с собой.
— Слово предоставляется директору школы товарищу Журавиной, — объявил председатель.
С последнего ряда к столу президиума прошла стройная женщина среднего роста, в черном, строгого покроя платье, с пышными, все еще непокорными волосами девушки-подростка. Взойдя на трибуну, она обвела огромный зал, заполненный народом, строгим и тревожным взглядом. Если бы кто-нибудь из тех, кто слышал ее первое выступление на учительском совещании, когда она, ничего не сказав, смущенная, убежала с трибуны, увидел ее теперь, он не мог бы не подивиться тому, как она выросла и возмужала. Но тот, кто знал, какой груз перенесли ее хрупкие плечи, сколько работы выполнили тонкие руки, лежавшие теперь на кафедре, отметил бы, что она по праву заняла это место и что за ее словами, что бы она ни сказала, лежит большой жизненно важный труд.
Своей доченьке она строго-настрого наказала сидеть на месте и слушать «сказку», которую она будет рассказывать. Наташа охотно согласилась. Такое требование для нее было привычным. Она не раз сидела у мамы на уроках и слушала ее «сказки». Сказки были скучные, но она терпеливо сидела и ожидала конца. Увы, сидеть и ждать ее приучили. И первое время она охотно слушала «мамину сказку», но затем решила, что рассказывает она не ту, которую нужно, что про доктора Айболита было бы куда интереснее, слезла со стула и робко пошла к трибуне.
Между тем мама говорила:
— Товарищи, война отняла у меня родителей — их убили немцы; двух братьев-подростков и сестренку угнали в Германию, и они не вернулись. Наш домик и садик втоптали в землю... Кто же они такие, причинившие нам столько горя? Кто дал им право? Что несут они миру?
В это время Наташа подошла к лесенке, ведущей на сцену. Ступеньки оказались редкими, и она оглянулась назад, надеясь, что кто-нибудь ей поможет. Но дяди слушали маму, и Наташу никто не заметил. Тогда она, не щадя ни розового платьица, которое нужно было беречь, ни белых бантиков, ни ручек, которые должны быть чистыми, с большим трудом — задача предстояла серьезная — взобралась на сцену, очутилась возле трибуны и повернулась к зрительному залу. Участники конференции увидели ребенка и по чьему-то легкому почину стали аплодировать. Женя и президиум удивились, что в таком неподходящем месте выступления вдруг шумные аплодисменты.
Женя смутилась и сделала паузу, и тут почувствовала, что кто-то тянет ее за платье, посмотрела вниз и увидела свою дочь. Она подхватила ее на руки и подняла над трибуной. Зал затих, и Женя закончила свое выступление:
— Мир, мир и труд нужен земле! Пусть растет и расцветает простая человеческая радость, большое и маленькое счастье, в каждом доме, в каждом сердце. Да здравствует разум, да здравствует мир и счастье на земле!
Речь Жени Журавиной и особенно неожиданное появление Наташи произвели большое впечатление. Когда они сходили с трибуны и затем шли по залу, участники конференции, и в том числе многочисленный состав президиума, аплодировали стоя.
Казалось, что молодая женщина несет не только своего ребенка, но знамя всей конференции, ее символ, наше будущее, ради которого можно и нужно сделать все, что в наших силах.
Объявили перерыв. В вестибюле Женю окружили, расспрашивали о родителях, о работе, а Наташа стала переходить с рук на руки. «Дяди» и «тети» оказались такими хорошими, что нельзя было не познакомиться и не побеседовать с каждым в отдельности.
Беседа Наташи с офицером-пограничником несколько затянулась. Он унес ее к окну, стал показывать, что происходит на улице, и расспрашивать о домашних обстоятельствах:
— А что делает твоя мама?
— Моя мама рассказывает детям сказки.
— А тебе рассказывает?
— Рассказывает. Только когда ложимся спать...
— А игрушки у тебя есть?
— Есть мяч и еще куколка, только у нее ручка оторвалась.
— Ну, я куплю тебе много игрушек.
Возбужденная, счастливая, словно встретила здесь на конференции своих родных, друзей, лучших знакомых, Женя разыскала наконец Наташу.
— Наташа, ты куда это забралась?
— Дядя купит игрушек! Много, много! И куклу с закрывающимися глазками. И мишку, и зайку, и еще много-много. — Девочка раскинула ручками, показывая, сколько игрушек, и повела головкой — вот какая она теперь богатая особа!
Офицер повернулся от окна лицом к Жене, и она растерялась: в этом лице было что-то до боли знакомое, родное и в то же время чужое, незнакомое: эти плотно сжатые губы, глубокие складки вокруг рта и эта седина на висках.
— Не узнаете?
— Нет, не узнаю.
— Приглядитесь получше.
— Николай Рудаков?!
— Он самый.
— Какой же вы стали! Сколько это прошло лет?
— Ровно восемь.
— И вы ни разу не написали?!
— Писал. И ответ получал.
Рудаков достал пачку писем, которые писали на фронт ученики Жени, иногда под ее диктовку.
— Вот они. Узнаете? Тут о ваших делах.
Женя взглянула сначала на письма, а затем в глаза Рудакову.
— Какой же вы... — Она опустила голову. Наступило молчание.
— Интересная была переписка. Я жалею, что она оборвалась. Письма читали все, начиная от командира, — сказал Рудаков.
— Меня перевели на другую работу, — ответила Женя. — А теперь вы откуда?
— Был на Западе, теперь с Востока. С Курильских островов. Приехал на эту конференцию... и в отпуск. Давайте спустимся вниз, присядем и поговорим.
Женя почувствовала вдруг страшную усталость.
Они сошли на второй этаж и в огромном пустом зале — участники конференции высыпали в сад — сели за столик. Наташа пошла от одного кресла к другому, решив посидеть минутку в каждом из них.
— Война закончилась — почему вы там, на Курилах? — спросила Женя.
— Наше дело такое, служба...
— И вас все еще не отпускают?
— Не, ухожу сам. Предстоял выбор, где стоять: здесь или на Западе. Выбрал Восток. Здесь, пожалуй, важнее. Думаю съездить в свою школу...
— Ах, а мне как хочется в мою... Там у меня остались любимцы — Гриша, Пронин. Что из них получилось?
— Вот и поедем вместе.
— Но почему именно вы должны служить? Вы учитель... Можно же смениться...
— Кому же, как не мне? В ту войну немцы убили отца, в эту — мать и сестру. Нашел лишь ров, куда их сбросили вместе с тысячами других. Кипит на душе и сейчас. Прошел по всей нашей истерзанной земле, и, кажется, не осталось никаких других чувств, кроме ненависти к фашизму. Буду стоять, доколе хватит сил. А Курилы — это поистине край первозданной, величественной красоты.
Рудаков показал Жене миниатюрную карту Курильской гряды.
— Вот эта черточка — это наш островок. Вот здесь мы и стоим. А впереди, как видите, океан. Я проехал вдоль всей гряды с востока и с запада. Вот эти южные острова прошел вдоль и поперек. Это, должно быть, единственный уголок в мире, где борьба стихий не утратила первобытной силы. Смотрите: вот здесь проходит холодное течение с севера, вот здесь — теплое с юга; в этих узких проливах они встречаются; с востока — дышит океан, с запада — Арктика. Какие ветры, штормы, туманы, снега! А осенью, как и в Приморье, — избыток солнца, синева неба! А вот на этом островке — чудесный лес! Здесь наши приморские аралия, бархат, актинидия... Какое там — гортензии, магнолии! В лесу горячие ключи, речки, озера, действующие, потухающие и потухшие вулканы, запекшаяся и еще не остывшая кора земли; на берегу — горячие пляжи, подогреваются снизу. А каких людей сюда послала Родина! Они сами как эти скалы, не сдвинуть никаким штормам. Смотрите, какая цепь! Как нарочно протянута, чтобы преградить путь к Большой земле. Ведь тут, кроме этих больших островов множество мелких, небольших скал, и когда наблюдаешь за ними во время шторма, видишь, как водяные горы пытаются сбить их с ног и как они снова и снова появляются над водою и кажется, гонятся за убегающими волнами. Тут сами собой приходят на память слова:
И тридцать витязей прекрасных Чредой из вод выходят ясных...В это время Наташа, обойдя весь зал и посидев в каждом кресле, взобралась на колени Рудакову, стала водить пальчиком по орденским планкам, а затем напомнила недавнее обещание:
— А ты купишь игрушек много-много? т
— Да, да! Много-много. Сейчас пойдем. А где же твой папа, Наточка?
Ответить поспешила Женя:
— Наш папа занят.
Девочка повторила ее слова:
— Наш папа занят! — и повела головкой показывая: «Вот какой у нас папа!».
Жене не раз приходилось слышать этот вопрос, обращенный к ребенку, и она всегда спешила на помощь: «папа уехал», «папа занят». Она представляла себе, что и впредь, когда Наташа подрастет, перед ней не раз встанет этот вопрос, рано или поздно она поставит его перед матерью... Нужно будет дать какой-то вразумительный ответ. От него не уйти. «Но беда не в этом, — думала Женя, — а в том, что в какой-то мере пустой остается душа ребенка. Заполняет только она, своим, материнским, а будь отец, он также вносил бы свое, отцовское; полнее, богаче и ярче становился бы внутренний мир Наташи, светлее был бы ум, богаче сердце».
В эту минуту с присущей ей прямотой и страстностью она вдруг подумала: «Рудаков! Вот бы кому быть отцом Наташи!..»
— Чем же он у вас занят? — обратился Рудаков прямо к Жене.
— Пишет диссертацию.
— Хорошее дело. А я, видно, не вернусь уже к педагогической работе. Ну, что ж... Надо выполнять обещание... Кажется, напротив детский магазин, а рядом — ресторан. Надеюсь, ваш ученый не осудит, если вы со мной пообедаете. Когда приезжаешь на Большую землю, охватывает желание ближе подойти к людям, все узнать, перечувствовать, как идет у нас жизнь, чего добились, какие трудности. Острова отделены водой, но люди к Родине приросли — «водой не разольешь»... И, знаете, это очень хорошо, что мы с вами встретились. Мне есть что рассказать и о чем спросить...
Рудаков, как будто запнувшись, умолк, взял Наташу на руки, и они вышли на улицу. Женя радовалась, видя, как ребенок прильнул к Рудакову.
* * *
С конференции Женя возвращалась в приподнятом настроении. Ее окрыляло и то отношение делегатов, какое она увидела после своего выступления — она не одна, она в кругу большой семьи; и тот общий строй мысли, какой, по словам докладчика, овладевал народами — положить конец войнам; и отношение к ней Николая Рудакова. В течение дня, который они провели вместе, она поняла, что он всю войну думал о ней, ехал сюда ради нее, готов увезти и ее и Наташу туда, на край света, на берег океана, и сделать все, чтобы они были счастливы.
Но Женя — теперь она сама этому удивлялась — во время обеда еще и еще раз обманула и его и Наташу: «Наш папа занят наукой...» Почему она не сказала правды? И как бы пошел тогда разговор?
Но эта праздничность чувств, с какой возвращалась она домой, столкнулась с серыми буднями, как только она переступила порог. В квартире царил беспорядок. Уборка не проводилась со времени ее отъезда. Катя лежала на кушетке, заспанная, неряшливая. Вещи были разворошены, дневники Марии Петровны валялись на полу и но окнам, некоторые — изукрашены рисунками Павлика.
Подъезжая к дому, Женя надеялась поднять настроение подруги, рассказать, какая открылась страница истории, каким праздником была для нее конференция, но все это оказалось не ко двору...
— Катя, ну как тебе не стыдно?! Посмотри, что ты сделала с квартирой?
— Ничего... Погуляла в городе, теперь с охотки наведешь и порядок.
— Ты так думаешь?
— Ты испортила мне жизнь, теперь — помогай.
— Я? Испортила?! Каким образом, Катя?
— Ты потащила меня сюда, на край света; ты второй раз перетянула меня в свою школу... Ты... ты партийная... взялась строить счастливую жизнь. Где она — счастливая жизнь?
— Катя! Ты совсем опустилась. Ты лежишь и ждешь, что тебе поднесут ее на блюде. Не жди, никто не поднесет. Изволь трудиться сама.
— Опустилась? Вот и поднимай... мой культурный уровень. Ты обязана...
Женя села на стул. К ней подошла Наташа и, чувствуя недоброе, втиснулась между колен и стала насупившись глядеть на тетю Катю. Вбежал Павлик и принялся тормошить мать:
— Мамка, кушать! Слышишь, мамка...
Женя поняла, что ей предстоит заняться приготовлением пищи, добывать растопку, идти за водой, в колхоз за продуктами — целый частокол маленьких, нудных и в то же время неотложных, неотвратимых дел. А жизнь так широка, такие захватывающие, волнующие проблемы стоят перед миром, такие большие творятся дела! Почему же она прикована к этим мелочам? Нет, она отдала им богатую дань. Теперь она может делать больше и лучше.
Две женщины сидели одна против другой, смотрели друг другу в глаза, две души — два мира: один — минуту назад залитый светом и радостью, другой — заполненный сырым холодным туманом.
Женщины молчали, но глаза говорили, говорили горячо страстно и отлично понимая друг друга. Это был поединок, и никто не хотел отступать.
Молчание длилось долго. Молчали матери, молчали недоумевающие дети. Наташа опомнилась первая, взяла мальчика за руку и повела показывать свои сокровища, какие она привезла из города.
Наконец Женя сказала:
— Катя, так жить нельзя. Тебе надо становиться на собственные ноги. Я послужила тебе достаточно.
Она прошла в свою комнату, переоделась и затем принялась готовить обед и заодно ужин. Катя легла на кровать и отвернулась к стене.
Ночью, уложив девочку, Женя решила написать Рудакову.
Она писала:
«Николай Ильич!
Не удивляйтесь! Сегодня расстались и сегодня же пишу это письмо. Хочу, чтобы оно застало Вас во Владивостоке. В том, что я пишу, виновата моя доченька. У нас вошло в привычку, что перед сном я рассказываю ей какую-нибудь сказочку, часто по ее заказу. Сегодня она потребовала: «Расскажи сказку про папу!» Требование законное: про козлят, про зайцев рассказываешь; почему не расскажешь про папу? Другим детям рассказывают если не сказки, то интересные были. А ей, бедной, похвалиться нечем: папу своего мы прогнали, когда Наташе был всего один месяц. Доченька ждала, и я, что бывает часто, стала сочинять: придумала ей «папу» и поместила его на далекой заставе. Сказочка короткая и, как обычно, начинается словами: «За горами, за морями живет наш папа...» Девочка уснула, а я сижу вот и думаю. Ведь сказочку придется повторять, пока «по нашей воле» папа «не умрет», совершая свой последний подвиг. Мы будем возвеличивать его, насколько позволит фантазия...
Николай Ильич! Дело, конечно, не в сказке, а в большой правде. Ребенку нужен отец и, конечно, такой, чтобы о нем можно было рассказывать с гордостью. Воспитывая ребенка, мы наполняем его собою. Но если нет родителей или одного из них, если мы опустели и опустились, кто же и чем наполнит?
Нам с Наташей «на папу не повезло». Я прогнала его как нечестного человека, и мне в конце концов стало легко. Я не представляю себе, как можно жить с человеком, вообще — жить, если совесть отягчена грузом пошлости, больших или малых неправд, совершенных тобою или твоим спутником. Идти через жизнь можно только с чистой совестью, сознавая свое право смотреть всем в глаза и всем говорить правду. И как бы счастливы были дети, как бы легко было воспитывать их, если бы мы, матери и учителя, указывая на отца, могли повторять «будь таким, как он», могли бы рассказывать про их доблесть — в бою ли, в труде, в быту, потому что и быт, наша будничная жизнь — какое она широкое поле для подвига, для доблести.
Почему я пишу об этом Вам? Я не забыла наш спор о воспитании человека большой воли, больших планов, большевика типа «старой гвардии». Вы были этим озабочены, но не знали, как решить эту задачу, как к ней приступиться. Не знала и я. Теперь мне кажется, что нужно начинать с воспитания родителей, нужно в полной мере использовать героизм нашего народа. Наше время представляется мне настолько величественным, героическим, что для воспитания людей больших планов, смелой мечты и славных дел — самые широкие возможности, каких никогда и нигде еще не было. Весь вопрос в том, как включить детей в планы и мечты народа, захватить пафосом борьбы и труда. Ведь стоит только осознать величие эпохи, роль народа в решении мировых проблем, как поднимется богатырское чувство. И если невозможно рассказать сказку «про нашего папу», то сколько их можно рассказать про наш народ, про его лучших сынов. Когда подрастет моя доченька, какие «сказки» я будут рассказывать! А про народ и сказок всех не расскажешь и песен всех не пропоешь — так велики его дела...»
В это время пошевелилась Наташа. Женя отодвинула письмо и подошла к кроватке: ясное, довольное личико, порозовели щечки; должно быть, видит во сне свое неожиданное богатство — ворох игрушек. И тут мысли Жени приняли другое, казалось бы совершенно неожиданное направление: «Нет, не то, не так... И он не поймет. Он такой же, как и был, недогадливый. А что она должна ему сказать? Нам надо быть вместе! Приезжай или приеду я. Наша жизнь будет светлой, чистой, радостной...»
И Женя, разорвав свое большое письмо, торопливо написала одну только строчку, сунула листок в конверт, надписала адрес и снова, с письмом в руке, подошла к кроватке, словно хотела. вручить его своей доченьке. Постояв минутку, она опустилась на детский стульчик и задумалась...
Утром, когда Наташа проснулась, она увидела, что мама еще спит, уткнувшись в ее подушку, и такая ласковая, точно рассказывает ей самую счастливую сказку.
— Мама, а у нас солнышко. Много-много...
Женя открыла глаза.
Поток утренних лучей прядал по комнате, а пучок, упавший на круглое зеркальце, стоявшее на столе, играл на потолке.
В это время в соседней комнате Павлуша тормошил свою маму:
— Мама, кушать хочу...
— Проси у тети Жени.
Женя очнулась, увидела на полу свое письмо, подхватила, порвала его и заторопилась на почту.
«Приезжай, мы ждем!» — такой короткой была ее телеграмма Рудакову, а отправив ее, Женя почувствовала огромное облегчение.
Она возвращалась домой легкая и счастливая, как в первый день своей работы в школе, когда после уроков шла по рыбацкому поселку, распахнув полы легонького пальто, встряхивая непокорными волосами.
Наконец-то все невзгоды позади. Она будет там же, где и он; будет по ночам слушать прибой океана, по утрам первой в нашей стране встречать солнце, а день заполнять работой и заботой. Школа есть и там.
«Ах, скорей бы шла телеграмма! Скорей бы ехал...»
В том, что он приедет, Женя не сомневалась.

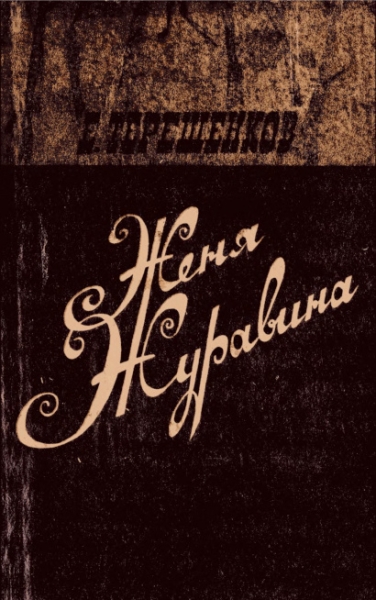
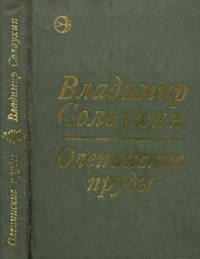

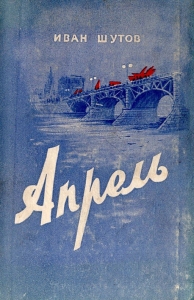


Комментарии к книге «Женя Журавина», Ефим Яковлевич Терешенков
Всего 0 комментариев