ЛИДИЯ КОМПУС
«ДВА СЕМЕСТРА»
Отсканировано и обработано:
1
Конечно, в этом белом здании, что стоит на горке, диплом получить можно, и дипломы есть там серьезные, добропорядочные, и говорится в них о физике, о медицине, об экономике, о кибернетике даже... Однако есть и несколько сомнительные. Например, в дипломе, который получит весной Фаина Кострова, будет написано: филолог. К тому же еще и фольклорист. Не очень-то громко это звучит, товарищ Кострова. Шепот, робкое дыханье, трели соловья — почти так, дорогой товарищ...
Приблизительно с этими мыслями Фаина и смотрела сейчас на белое здание с шестью колоннами. Отсюда, из окна общежития, его хорошо видно. Но оно так знакомо по множеству гравюр, снимков, открыток, по бесчисленным оттискам на альбомах, бумажниках, футлярах, записных книжках, что его уже трудно увидеть собственными глазами, можно даже забыть, сколько у него колонн... Все-таки шесть. И оно прекрасно — это белое здание. Мягкий и влажный эстонский ветер качает облака над его строгим фронтоном, сентябрьские астры в каменных вазах у входа свежи после ночного дождя, асфальтовая площадка и ступени портика отсвечивают голубыми бликами... Не совсем голубыми, впрочем, но это неважно.
Час еще ранний, народу немного. Под колоннами толстый юноша в очках, известный на курсе поэт, озабоченно всматривается в облака, — по-видимому, собирается увязать их с темой современности; внизу два доцента хмуро беседуют о чем-то сентябрьском, а там дальше, на краю площадки, сбились в стайку первокурсницы, любопытно вертят головками в новехоньких пестрых шапочках, очень довольные... Вероятно, поступили на менее сомнительный факультет. Так и есть: бегут направо, к химическому корпусу.
Да, фольклор, фольклор. Что и говорить — специальность не увесистая. Недаром нынче летом отец подсмеивался: какая же это, дескать, у тебя работа — бабьи припевки записывать, давай лучше за лещами поедем...
А что? Взяться бы за честный рыбацкий промысел, никто не глядел бы свысока. И ездить бы с отцом на Чудь, и жить у себя на острове — кругом волна да небо. Вон то сизое облако, наверно, плывет оттуда — похоже на лодку с веслом...
— Иди же к столу, Фаина! Чай остынет!
Фаина, проводив взглядом плывущую лодку, отвернулась от окна. Но смотреть на комнату и на подруг было в высшей степени неинтересно, скучного чаю из старого чайника тоже не хотелось.
— Беда мне с вами... — говорила Кая Тармо, расставляя чашки. Голос у Каи нежный, и вся она, длинненькая и бледная, напоминает голубоглазый северный лен, но она здесь самая хозяйственная, непорядков не любит. — Хочется вместе завтракать, как дома, а ничего с вами не выходит. Одна лежит на подушке, другая думает, думает...
— Фаина не думает, а мыслит, — лениво отозвалась Ксения со своей кровати. — Она у нас мыслящая личность, как выражался Писарев еще в прошлом веке... — Ксения сладко зевнула.
— Личность-то я сомнительная, — сказала Фаина, садясь за стол, — и вы обе не лучше. Весь факультет сомнительный.
— С чего бы это вдруг?
— Нисколько не вдруг. Читай и слушай! Все науки полезны, вплоть до собаковедения, только наша филология всегда где-то на задворках — извините, мол, существует еще и такая наука...
— Опять выдумки... — возразила Ксения, разыскивая очки, которые у нее пропадали каждое утро. — Устарел уже, матушка, этот спор о физиках, лириках и собаковедах.
Фаина, налив себе молока из вчерашней бутылки, осторожно попробовала.
— Кислое... — брезгливо сказала она, но легкая улыбка не сошла с ее губ. — Налей мне кипяточку, Кая. Спасибо... Как вспомню, на каком я факультете, так мне и мерещится сердитый бородач с палкой. Рычит прямо из бороды железным голосом: «Будь мелиоратором, будь мелиоратором!»
— Почему же мелиоратором? — удивилась Кая.
— Иногда и не мелиоратором. Иногда говорит: «На крышу, на крышу, трубы чистить!» Или стучит палкой, посылает в лес: «Гони скипидар, гони скипидар!..»
Кая моргнула и с маленьким опозданием засмеялась.
— Мерещится? — повторила она новое для нее слово. — Это так, как во сне?
Ксения, щурясь сквозь плохо протертые очки, посмотрела на Фаину:
— Ровно ничего ей не мерещится... Опять ты, Фаинка, играешь в эту игру. Никто тебя не заставляет гнать скипидар и никто не покушается на филологию. А твой фольклор, конечно, тоска смертная, но тоже никому не мешает — жуешь своего Змея-Горыныча, и жуй на здоровье. — Ксения надела платье и, отыскав в ящике иглу, зашила на себе пояс. — На здоровье!
Кая, старательно сняв серебряную бумажку, положила в рот кусочек халвы — своего любимого лакомства. Сказала серьезно:
— Никто змея не жует. У нас на первом курсе экспедиция была, мы в Каркси ездили, очень интересное записали насчет одной ведьмы...
— Экспедиция насчет ведьмы — это, конечно, сила! — рассмеялась Ксения. — Тем более, что на первом курсе... Ладно, ладно, не сердись, птенчик, дай и мне халвы...
— На первом курсе тоже взрослые, не только на пятом... У нас в прошлом году две девушки замуж вышли.
— О! Это, пожалуй, еще сложнее, чем экспедиция!
Кая, обидевшись, принялась укладывать книги — некогда ей пустословить, еще на лекцию опоздаешь.
Ксения снова пристала к Фаине:
— Не думай, Фаинка, что ты загадочная. На своем причудском фольклоре ты хочешь сделать карьеру...
— Оставь меня в покое!
— Ну что ты вскидываешься! Я говорю об ученой карьере.
Фаина, молча встав, распахнула окно. На лбу у нее появилась морщинка досады, но губы все так же смутно улыбались, и теперь видно было, что эта улыбка дана ей в рисунке рта.
— Карьера или не карьера, мне безразлично, — не унималась Ксения, — но притворства я не терплю. Никаких душевных конфликтов у тебя нет, ты их нарочно придумываешь…
— Не тебе бы говорить. Я никогда не притворяюсь.
— Погоди, погоди... Я понимаю, что это не грубое притворство. Это ты создаешь себе иллюзию умственной деятельности. Я понимаю — человек просыпается утром и вдруг осознаёт, что мысли у него шевелятся вяло, и все бытовые, бедные... Ну, и становится ему как-то неприятно, неловко — он же о себе хорошего мнения! Тогда он и начинает придумывать себе идейных противников, или сомневаться в своем высоком призвании, или чесать под коленкой...
— Непременно хочешь поругаться? — сухо спросила Фаина.
Но Ксения уже дала отбой, заговорила голоском доброй лягушки:
— Я шучу, шучу... Ты трудяга, я тебя уважаю, Фаина! Но мне тебя жалко, потому что у фольклора нет будущего. Что у тебя впереди? Запишешь еще сто тысяч поговорок, снесешь в музей, будут они лежать под спудом...
— Что значит «под спудом»? — заинтересовалась Кая.
— В закрытом, в тайном месте, — быстро ответила Фаина.
— Без употребления! — так же быстро добавила Ксения. — В сундуке.
— А еще в писатели собираешься... — Фаина передернула плечами. — И тебе ничего не надобно из этого сундука?
— И заглядывать туда не буду! Ни за какие коврижки!
— А откуда ты коврижки вытащила?
Как всегда, когда ее припирали в стенке, Ксения сделала вид, что ей лень возражать, и зажмурилась.
Кая, уже у двери, вполголоса уронила:
— Чересчур вы богатые.
— Что, что?.. О чем ты, птенчик?
— Добра чересчур много, вот и не знаете, куда девать — в сундук положить или выбросить.
Она застегнула туго набитую сумку и ушла, оставив на прощанье еще одну тихую фразу:
— А мы свое бережем... в тайном месте.
Ксения молча усмехнулась.
— Она права, — сердито сказала Фаина. — А с тобой я больше на эту тему разговаривать не стану, ясно, что ты глухая... Поедем ко мне на озеро, я тебя окуну с головой, авось отляжет. Сиди потом на берегу и слушай, как наши рыбаки говорят! Писательница!
Ксения вдруг поперхнулась чаем.
— Разве это поможет, Фаинка? Вот сейчас у меня герой — кандидат наук. Чувствую, что язык у него немножко стертый, но не может же он говорить, как сказитель! Никакие рыбаки тут не помогут. Все кандидаты говорят по-кандидатски. — Она вздохнула. — И все одинаково: в общем и целом, оптимально, как правило, в разрезе и в конечном счете... Я не глухая, я все время слушаю, но вот взять хоть наших студентов — один и тот же синтаксис плюс жаргон: завалить зачет, судью на мыло и до лампочки... — Вздохнув еще раз, она подняла руку в знак прекращения беседы и, усевшись поудобнее, раскрыла книгу. — Пока что надо мне учиться запутывать фабулу позанятнее, а жизнь моя в этой комнате материала мне не дает! Уайльд — вот мастер! — После этих слов Уайльд был вывернут переплетом внутрь и закурена папироса.
Фаина была не прочь высказать свое мнение и об Уайльде и о том, что Ксения сегодня не умывалась, но теперь — пали из пушек, ответа не дождешься. А пожалуй, и хватит на сегодня.
Из окна в комнату залетел ветер, начал сдувать пыль со столов и полочек. Однако утренний беспорядок не отнимал прелести у этого теплого девичьего жилья, здесь было весело и немножко пестро — акварели, эстонские вышивки, желто-красный осенний букет, книги учебные и книги в цветных обложках, зеркальца, коробочки, флаконы... Пестрота не касалась только уголка, занятого Ксенией, и над ее кроватью, застланной темным шерстяным одеялом, не было ничего, кроме вбитого в стену гвоздя. Впрочем, гвоздь (как и грубое одеяло) был не простой, а принципиальный: он символизировал презрение к мелочам быта.
Ко всему этому, не исключая гвоздя, Фаина давно привыкла, но сегодня все казалось навязчивым и пошлым — отвернуться бы и не видеть никогда...
Нужно сходить на кафедру, забрать у Астарова черновики дипломной, хотя, наверное, он их не просмотрел... Да вот еще эти позорные диктанты на пятом курсе! Следовало бы ей, как старосте, пойти сейчас и узнать, что там творится. Ира Селецкая бегала жаловаться на Сильвию Александровну, будто бы та не так диктует да не так объясняет, а чья вина, что пятикурсники писать не умеют...
— Хандришь, целомудренная дева? — внезапно спросила Ксения.
Фаина повернула голову, но, встретив особо внимательный взгляд, отошла подальше, к книжной полке — все подруги ненавидели эти испытующие взоры будущей писательницы.
— Садись сюда, проанализируем твою хандру. Тебе станет легче, а мне пригодится для работы. Сымай порты, Иван-царевич, я тебя спрысну живой водой! — Ксения захохотала. — Ну, не злись, это же твой любимый стиль... Я тебе серьезно говорю. Иди сюда!
— Не хочу, — отрезала Фаина.
— Почему? По моим наблюдениям, на тебя плохо действует избыток целомудрия. Тебе давно пора влюбиться.
— Хорошо, влюблюсь, — холодно отозвалась Фаина.
— Да будет тебе известно — я обдумываю эксперимент. Честно сообщаю, что мой опыт будет поставлен здесь, в этой комнате, и именно над тобой.
Фаина не проявила ни малейшего любопытства.
— Да, очень возможно, что над тобой. Методы прошлого устарели, теперь писатель немыслим без сырьевой базы. Ты будешь базой!
— Понимаю. Буду поставлять пеньку твоему захудалому предприятию.
— А по-твоему, нужно ждать наития? Ну, в таком случае Вадим тебе понравится, он свои стихи высасывает из собственной души, как из пальца.
— Какой еще Вадим?
Ксения, раскурив потухшую папиросу, сказала с нажимом:
— Заметь, Фаина. Вадим входит в эксперимент.
— Хорошо, заметила.
— Он мой двоюродный брат, живет под Ленинградом. Скоро ты его увидишь, он хочет поступить к нам, на заочное отделение. Заметь — на заочное... И представь, он немножко похож на тебя, только, извини, красивее. Он как-то больше отчеркнут: глаза и волосы темнее, чем у тебя, профиль еще строже, и улыбка не такая блуждающая...
— Это ты Вадима описываешь или критикуешь меня?.. На какой же факультет он поступает?
— Ага, клюнуло! На наш, конечно. Куда ж еще со стихами? Вообще он странноватый парень, мало ему одного факультета — он юрист... Пришла теперь фантазия изучать литературу, стихи не дают покоя. Погоди-ка, сейчас вспомню... — Ксения, выпустив клуб дыма, продекламировала:
Кружусь наклонно с землею вдвоем,
Пылится трасса до лодки Харона,
Но верю, что имя твое
Зажжется в пыльной душе
Огнями неона...
— Да, запылился бедняга, — пожалела Фаина.
Ксения покраснела — с ней это случалось редко.
— А что? А не хуже, чем у других! — Она минутку помолчала. — Ах, Фаинка, научиться бы мне... Не стихи, а прозу, обыкновенную прозу. Да это еще труднее. Память, что ли, у меня сквозная: пока вывожу буквы, самое важное куда-то улетает. Нужен бы аппарат: пронеслось в голове — страница отпечатана!
— Не падай духом, изобретут.
Ксения вдруг вскочила и, бросив окурок на пол, вынула из запертого на ключ шкафчика портфель, тоже с ключиком. Свои произведения и какие-то книги она прятала с болезненной скрытностью и с тщательностью, вообще-то нисколько ей не свойственной.
— Довольно, Фаина! Первый сеанс окончен, теперь тебе надо держать в уме одно — Вадим, Вадим, Вадим!
— Ерунда, ерунда, ерунда!
Фаина стала убирать посуду. Эта Ксения Далматова ни о чем не печется — отодвинула чашку, и пусть стоит до вечера. Швырнула окурок... Ее можно посадить на кучу мусора, все равно будет писать. Волосы растрепаны, очки набок...
— Ва-дим! — проговорила Ксения, не подымая головы.
Неинтересно. Выкопала какого-то Вадима... Надо переменить блузку и идти. Белая с кружевом выглажена, только одна пуговка некрепко держится. Ничего, еще не оторвется...
Блузка к лицу, это видно даже в мутноватом зеркале. Но дурное настроение Фаины дошло сейчас до предела — хоть разбей это стекло! Мелкая суета, нелепые разговоры — вся комната полна бестолковщины. Заглянул бы сюда старик с палкой, сразу бы и выяснилось, что он прав, презирая не-мелиораторов. Все здесь пришито на живую нитку — и пуговицы, и научные интересы, и литературные труды. Та же Ксения отлично знает, что папка с рассказами ей больше к лицу, чем кружевные блузки... Ох, стыдно так думать о друзьях! Сердитый-то старик и начал бы с нее самой, с Фаины. Досталось бы ей на орехи! Так и сказал бы, что у нее неврастения от слишком легкой работы...
Чтобы заглушить надоедливую речь старика, Фаина с шумом задвинула ящик тумбочки, чуть не опрокинув ее вместе с зеркалом. Уйти поскорее!..
— Куда ты? — небрежно спросила Ксения.
— На кафедру.
Часы показывают ровно десять. Значит, диктант кончился, и пятикурсников уже и след простыл...
Длинный коридор встретил Фаину снисходительно и спокойно. Здесь все стройно, все благополучно — и в расписаниях, что висят по стенам, и на широкой доске почета, и в аудиториях, откуда доносятся степенные голоса, внедряющие науку в суетные головы.
Кафедра на втором этаже. За белой дверью сидит Астаров, заведующий. Этот молодой ученый целиком отдал себя исторической грамматике, а грамматика, со своей стороны, вероятно, целиком входит в его душу, вытесняя суетность и дурные настроения. Вот славно-то ему живется!.. Невольно усмехнувшись, Фаина слегка постучала в дверь.
Заведующий сидел рядом с Сильвией Александровной и, судя по удрученному виду этой милой женщины, читал ей вслух Изборник Святослава или, может быть, Ипатьевскую летопись. Он слегка удивился, что студентку Кострову уже в первом семестре так заботит ее дипломная.
— Ваш черновик?.. — Он провел ладонью по высокому гладкому лбу и немного подумал. — Да, да. Но у вас, по всей вероятности, будет другой руководитель, специалист по фольклору, поэтому... я не углублялся.
— А уже решено, что он приедет? — спросила Сильвия Александровна, вертя в руках карандаш.
— Вчера приехал.
Карандаш упал на стол и покатился к краю. Поймав, его, Сильвия Александровна улыбнулась и похорошела.
— Аркадий Викторович, вы мне все-таки отдайте черновик, — сказала Фаина. — Это первые наброски, я еще переделаю, пока новый руководитель не читал.
— Пожалуйста... Ммм… Право не помню, куда лаборантка положила эту папку. Зайдите как-нибудь в другой раз. А в дальнейшем новый руководитель даст вам все указания...
Заведующий назвал и фамилию нового руководителя, но Фаина почему-то тут же ее и забыла. Кажется, засмотрелась на опущенные ресницы Сильвии Александровны и на ее пушистые светлые волосы. Было сегодня что-то непонятное в ней. И как хороша... Чудесное винно-красное платье...
В эту минуту Сильвия Александровна подняла голову и — с неожиданной холодностью — проговорила:
— Товарищ Кострова, пятикурсники плохо ходят на диктанты. Последите за посещаемостью, вы староста.
Позднее, уйдя в читальный, зал, Фаина все еще вспоминала этот тон — и взгляд. Очевидно, отстающие вконец вывели ее из терпения... А не узнала ли она, что на нее жаловались? Гадость, конечно. Но незачем так леденить глаза и делать замечания Фаине Костровой. Мало ли что староста, не бегать же ей за каждым отсутствующим. А жаловалась Ирка Селецкая, не спрашиваясь у старосты, по собственному дурацкому почину...
Надо немедленно взять «Вопросы литературы», прочесть последние статьи о фольклоре. Вообще надо подтянуться, летом она ничего не читала... Новый руководитель. Пожалуй, это приятно, а то Аркадий Викторович очень уж равнодушен к фольклору. А может быть, этот еще хуже? Явится пересушенный доцент и скажет, полистав рукопись: «Это что за отсебятина, товарищ Кострова? Вы должны подтвердить свои мнения ссылками на авторитетные источники. И не забывайте ставить кавычки...»
Принеся журналы, Фаина села на привычное место и занялась статьями. Здесь хорошо работается, в маленькой семинарской библиотеке. Светло, тихо. Филологи молча сидят за столами — сомнительный факультет, как видно, принимает свое дело всерьез. Шелестят страницы, поскрипывают перья. И Фаина, усмехаясь, подумала, что и душа у нее успокаивается здесь, шелестя и чуточку поскрипывая.
2
Сильвия Александровна смутилась, услышав, что доцент Гатеев уже приехал, хотя и знала, что на днях он приедет. Она нарочно уронила карандаш, и, кажется, заведующий ее смущения не заметил. Все же, вспоминая эту минуту, она и вечером, у себя дома, ощущала неловкость.
Алексей Павлович Гатеев... Сколько же прошло лет? Десять? Одиннадцать? Во всяком случае в то время была она легким и, вероятно, легкомысленным существом, совсем не похожим на почтенную (да, к сожалению, именно почтенную!) преподавательницу русского языка в весьма почтенном учреждении. Теперь ей тридцать лет, теперь она вдова (уже в одном этом слове есть что-то старческое и убогое!), и жить ей уже не так легко, как тогда... Подумать только — в тот год она умела преподавать решительно все предметы во всех четырех классах Раннаской школы и нисколько не сомневалась в своей учености...
Поднявшись с дивана, Сильвия отыскала в столе альбом. Вот здесь, на маленьком снимке, жмурясь от солнца, смеются ее ученики — те самые, обученные решительно всем предметам. Среди них и она, в пестром мотыльковом платье, и тоже смеется. А внизу еще два снимка — на одном лодка в морском заливчике, на другом скамья под кленом. Ни в лодке, ни на скамье никого нет, пусто: Сильвия сделала эти снимки позднее, когда из поселка Ранна уже уехал человек, дремавший, бывало, в этой лодке над поплавками или сидевший с книгой на этой скамье. Его карточки у Сильвии нет, он не раздавал своих портретов случайным знакомым... Лицо его казалось иногда надменным и презрительным — у него был странный профиль: и горбоносый и точно немножко приплюснутый. Но когда он смотрел прямо в глаза, то общее выражение становилось слишком даже покладистым, и Сильвия, сердясь, нарочно уверяла себя, что он похож тогда на младенца: у маленьких детей бывает такой невнимательно-веселый взгляд. Но беда в том, что она придумывала это (и многое другое) с досады на его невнимательность, на непонятные настроения, на те минуты, когда он в рассеянности путал имена девушек в пестрых платьях... Беда в том, что врезалась в память эта скамейка под кленом, и слишком долго обжигал руки этот наивный альбом, и... и мужу она так ничего и не сказала.
А и нечего было говорить. Жил на даче в Ранна некто Гатеев, писал диссертацию, заходил иногда в школу поболтать с молодыми учительницами, любил пошутить с самой глупенькой — с Сильвией Реканди. Один раз за столом незаметно поцеловал ее при всех, шепнув на ухо пустяковое слово, которое можно было сказать и вслух. Вероятно, и это случилось по рассеянности.
Поздно осенью, в конце октября, он уехал — защищать диссертацию. Прощаясь, улыбнулся: приезжайте в Ленинград, Сильвия… Очень милое приглашение. Любопытно, за чем бы она поехала? Уж не за ответом ли на открытку, которую она (ах, дурочка!) послала ему в его университет. Ну, к счастью, хватило ума не бежать на вокзал за билетом. И все же долго, до нелепости долго ждала она ответа на эту бедную открытку.
Да, она ничего не сказала мужу. И альбом зачем-то прятала от него.
Хмурясь, Сильвия сунула альбом в ящик. Снова легла на диван, взяв книгу... Напрасно — кто будет читать в такой вечер? Но лишним мыслям нельзя давать волю. Сегодня полагалось бы подумать о пятом курсе, и, если человек не тряпка, он и начнет сейчас думать именно о пятом курсе.
В восемь часов утра на пороге аудитории появился заведующий. Что Аркадий Викторович потревожил себя в такую рань и пришел без предупреждения, это бы еще ничего, это его право. Но почему студенты знали о его приходе заранее? Несомненно, они знали, мало того — держали себя так, точно у них с Аркадием Викторовичем тайный сговор... А при разборе ошибок стали пожимать плечами и притворяться несчастными детками, и все велось к одному — они безграмотны оттого, что их плохо учат.
Потом на кафедре был разговор с Аркадием Викторовичем, но он ведь не в состоянии сказать прямо, чем он недоволен. Мямлил, мямлил, потирал руки и кончил все многоточием: занятия поручены ей, следовательно...
Следовательно, она и отвечает за то, что студенты дошли до пятого курса и не умеют писать папу-маму? Очень остроумно, главное — найти виноватого.
Но что за народец эти студенты! Живешь с ними, каждый день видишь ясные глаза, милые улыбки — и вдруг все обрывается, перед тобой жесткие чужие физиономии. Стоит лишь возникнуть вопросу о чем-то «своем» — о своих зачетах, о своих отметках, о своей стипендии, и они уже расчищают себе дорогу локтями. Это они узнали, что весной будет контрольный диктант и их могут не допустить к экзаменам, — вот и пошла в ход школярская техника: свалить с себя ответственность и как-нибудь отвертеться!..
Диктант этот надо устраивать при поступлении. Да и без диктанта видно, кого мы принимаем, — в сочинениях полно ошибок. А на пятом курсе хватаемся за голову...
В прихожей позвонили. Сильвия, вскочив, взглянула на часы. Одиннадцать! Это же Давид Маркович и Муся, сейчас надо идти с ними в общежитие — проверять вечернюю нравственность студентов…
Давид Маркович вошел, прихрамывая, но, как всегда, с блеском — у него блестели каштановые волосы, блестела проседь в них, блестели глаза, зубы. Полная и румяная Мария Андреевна, которую вся кафедра звала Мусей, рядом с ним казалась тусклой.
— Неужели вы спали! — воскликнул Давид Маркович, сразу увидев смятую подушку и упавшую на ковер книгу.
— Вовсе нет!
— А почему же обличье у вас, извините, заспанное и в глазах неземная грусть?
— Не умею веселиться без причины...
— Господи, сколько презрения!.. Хотел бы я знать, почему человек, имеющий склонность уныло лежать на диване, всегда презирает людей веселого нрава? Лежит и, наверное, думает: ах, какой я содержательный и нешаблонный — у меня в душе все поперек!..
— Кто лежит? — лениво спросила Муся, поднимая книгу с ковра. — Никогда не понимаю, что вы такое говорите...
— Это не я говорю, это говорит Нил Синайский: «Унылой, читая книгу, часто зевает и клонится ко сну, потирает лицо, тянется, поднимая руки, и, отворотив глаза от книги, пристально смотрит в стену...»
— Вот еще... какой-то Синайский... Одевайтесь скорее, Сильвия!
Сильвия быстро надела шляпу, запахнула на груди синий шелковый шарфик. Теперь еще сумочка, блокнот, не забыть ключ...
— Сумочка на кресле, — сказал Давид Маркович. — Так что же с вами, Сильвия Александровна? Почему вы пристально смотрите на стену?
— Что вы хотите знать, Давид Маркович?
— Гм... Я все хочу знать. Я хочу знать, какой червь вас точит?
— Пойдемте, пойдемте, — торопила Муся. — И так спать хочется, а тут еще черви...
Улица была сырая, туманная. Фонари светились тускло. Город менял очертания, казался чужим в этой неверной мгле.
Давиду Марковичу вздумалось закурить, огонечек вспыхнул у его лица, глаза блеснули.
— Видел я сегодня нашего нового доцента.
Муся слегка оживилась:
— Гатеева?
— Именно Гатеева. Вы, Муся, сражаете меня своей проницательностью.
— А какой он?
— Бледно-серебристый.
— Седо-ой?
— Нет, Мусенька, не беспокойтесь. Еще не старый, но в бледных тонах... Аркадий Викторович шел с ним в деканат и обвивался вокруг него, как виноградная лоза.
— Хочет очаровать, — сказала Сильвия, — это манера такая у него с новыми людьми. Впрочем, он и со своими любезен: утром с улыбочкой сделал мне выговор за то, что у него студенты неграмотные. Сам же их напринимал. Двадцать ошибок в сочинении, а он ставит четверку — за общую одаренность. Сидят теперь одаренные у меня и пишут детские упражнения... Надоело.
Давид Маркович бросил огонек в сырую тьму, удивился:
— Странно. В первый раз слышу, чтобы кто-нибудь говорил «надоело» таким радостным голоском.
У Сильвии невольно поднялась рука подтянуть шарфик повыше, закутаться... Так-то вот — радость скорее спрячешь от себя, чем от других.
Часы на ратуше двойным ударом пробили половину. Здесь, в центре города, было люднее и светлее. Шумные прохожие — совсем не те, что днем, — бродили по двое, по трое, кто-то насвистывал, кто-то громко добивался справедливости у стоянки такси, кто-то напевал, и не то чтобы все были пьяны, но казалось, что все под хмельком... Худощавый, немного узкоплечий, в пальто и шляпе туманного цвета, прошел совсем близко, остановился у книжной витрины за углом. Сердце так и екнуло... Ошибка, ошибка, не он.
— Помешаем студентам в карты играть, — зевнув, сказала Муся.
— Ах, вздор какой! — отозвалась Сильвия. — Эти обходы просто унизительны — идем ночью, стараемся застать врасплох, и не знаю, зачем...
Давида Марковича вдруг взорвало:
— Вы не знаете, а я знаю! Иду, потому что жалею этих дураков, которые в карты дуются, беспутничают, водку пьют! Жалею, черт бы их побрал!..
— Что вы бранитесь, Белецкий... — проговорила Муся. — Это еще вопрос, насколько карты вредны. Может, не вреднее, чем шахматы или шашки.
— Бросьте вы, Мария Андреевна!
— Студент должен быть бесплотным и безгрешным, — иронически заметила Сильвия, — и в корне отличаться от остального человечества...
— А что вы предлагаете, Сильвия Александровна? Спокойно ждать, пока все человечество вместе со студентами станет совершеннее?.. Оставьте, ради бога! Копыта и когти сами собой исчезают очень медленно!..
— Вы просто не в духе, Белецкий, — перебила Муся, — ни у нас, ни у студентов нет копыт и этих всяких... А если и есть, то незначительные рудименты. Студент — обыкновенный индивидуум, и незачем так горячиться.
— Индивидуум!.. — фыркнул Давид Маркович. — Надо же!..
Муся, помахав на него рукой, мирно продолжала:
— Они нормальные. Вы, Давид Маркович, как парторг, конечно, вспыхиваете правильно и в нужном направлении...
— Правильно вспыхивающий парторг — это мне нравится, Муся. Сдаюсь.
— И посещать их необходимо, чтобы не распускались, а если они пьянствуют, мы напишем в отчете, и деканат примет меры. Да эти и не пьянствуют, мы же к девушкам идем, там грехи девичьи — например, они постирушки делают, чулки сушат в комнате...
— Стрип-ниб разучивают… — таким же постным тоном прибавил Белецкий.
— Сейчас все узнаем, — усмехнувшись, сказала Сильвия. — Вон там, посмотрите, два окна светятся в высшей степени подозрительно.
Давид Маркович молча открыл калитку в чугунной ограде, и все взошли на крыльцо общежития.
3
Дверь отворила Фаина и сразу почувствовала себя ответственной за все, что комиссия застала в комнате. Собственно, придраться можно было только к поздним гостям: на кровати Каи, раскинувшись, лежала Вельда Саар, а за столиком возле кровати Лео Тейн играл в шахматы с Каей. Но что же тут плохого? Вельда, хоть и не спеша, спустила ноги на пол и пригладила космы, а шахматы, как-никак, игра, развивающая ум. Ксении Далматовой, к сожалению, не оказалось дома, но почему бы ей не пойти в театр. Зато вот она, Фаина Кострова, допоздна сидит за работой, фольклорные материалы раскиданы по столу — чего желать больше... Однако чувство неловкости так и витало в комнате номер двадцать третий.
Члены комиссии пытались вести себя добрыми друзьями, зашедшими на огонек. Белецкий поговорил о шахматах, Мария Андреевна о трещине в оконном стекле, а Сильвия Александровна поинтересовалась работой Фаины.
— Вы собирали фольклор в Причудье? Давно?
— Да, — ответила Фаина, следя искоса за Вельдой, как бы та чего не выкинула.
— Как называется ваша дипломная?
— Я еще не совсем решила, посоветуюсь с руководителем.
— Кажется, он уже и приехал...
Белецкий кашлянул не совсем естественно, и Фаина оглянулась на него. Ну что? Похлопывает шляпой по колену и будто бы смотрит на шахматную доску, над которой будто бы задумался Лео... Вот тоска — все неестественно! И Сильвия Александровна, хотя и очень мила сейчас, даже нежна, но в фольклоре-то, в причудском, она все равно не смыслит ни синь-пороха, и напрасно она заглядывает в эту тетрадь со сказками...
Разговор кое-как плелся дальше без срывов, пока Мария Андреевна не спросила вдруг начальственно, в котором часу здесь ложатся спать. При этом вопросе Лео Тейн с кривой усмешкой опрокинул несколько фигур, а Кая нахмурилась.
— Не всегда в одно время, — ответила Фаина.
Вельда Саар, покачивая ногой, сказала:
— А можно спросить, зачем в общежития ходят комиссии?
Давид Маркович внимательно посмотрел на нее — сперва на ее свежее дерзкое лицо, потом на ногу в чулке без туфли.
— Познакомиться ближе со студентами, с их бытом, — проговорил он.
— Но что можно увидеть за полчаса? — Вельда томно потянулась. — Трещину в окне? А студенты на вид все одинаковы, за полчаса вы даже не отличите филолога от математика.
— А между ними большая разница?
— Огромная! Филологам надо было бы уже закрывать свою лавочку, если бы не математики.
— Гм... А вы на математическом?
— Второй курс, мои подшефные, — не очень радостно сказала Сильвия Александровна.
Вельда рассмеялась:
— Да, мы с Лео математики, но охотно общаемся с филологами. Лео учит играть в шахматы вот эту девушку, а я за него болею... Но разве это имеет значение для комиссии? И разве можно сразу постигнуть сущность того, что здесь происходит?
Фаина попробовала мигнуть Вельде — нельзя же так держать себя, но та только опять засмеялась.
— Мы живем неплохо, — вежливо сказала Кая (невежливо толкнув локтем Вельду). — Только внизу два крана не действуют, по утрам большая очередь, а в коридоре печка дымит, и тогда у нас тоже дым. И... и у нас в двери замок испорчен.
Мария Андреевна деловито раскрыла блокнот:
— Я запишу.
— Записывали уже, два раза уже записывали...
— О дверном замке просто следует заявить коменданту.
— Мы говорили, он не реагирует.
— Почему же?
На это, к огорчению Фаины, ответил Лео Тейн:
— Он недавно женился на блондинке — вероятно, потому.
В его замечание было вложено столько тихого нахальства, что даже Вельде стало чуточку неловко. Кая опять быстро заговорила на какую-то немудреную тему, пригодную для беседы с комиссией, Фаина ее поддержала, и визит на том закончился.
Едва лишь преподаватели скрылись за дверью, Вельда снова разлеглась на кровати и заиграла на губах марш.
— Это я их выжила!
— Ну и глупо! Зачем показывать себя невежами! — сказала Кая. — Видела, какое лицо было у Реканди?
— Ах, она еще больше губы поджимает, когда на урок приходит. Да еще она теперь у нас шеф! Как будто математиков не хватило. Пускай бы шефствовала на своем факультете!..
— Она же у вас преподает, — сказала Кая.
— Так ведь не математику, а русский язык!
— Надоедная тетка... — буркнул Тейн.
Кая возразила, ставя на место опрокинутые фигуры:
— По-моему, она симпатичная... А если люди пришли в дом, можно с ними и поговорить.
— Я и поговорила! Без меня была бы одна тоска: в коридоре дымит, на кухне сквозит...
Кая, двинув белую пешку, проговорила вполголоса:
— Пожалуйста, перестань ворочать мои подушки.
— Ах, ах, прошу прощенья! Вот твои благородные подушки, я ухожу! Пойдем, Лео!
— Хочу доиграть партию, — сказал Тейн, помедлив.
— Неужели? Ну, еще раз прошу прощенья! — И Вельда, надутая, схватила пальто и убежала.
Кая беспокойно посмотрела на дверь, словно собираясь побежать вслед, но каблучки Вельды постукивали уже далеко, в конце коридора.
— Так у тебя тура полетит... — сказал Тейн.
Стало тихо. Фаина поморщилась, косясь на острый профиль снова замершего над доской Тейна — до каких же пор он собирается просидеть? — и взяла свернутые в трубку листы с последними записями, сделанными нынче летом.
Но мысли отвлекались и работа не шла. Задуманная дипломная опять представилась ей школьным сочинением, сухим перечнем материалов с сухими комментариями, без своего чувства и тона и без всякой научной ценности... Правда, собрано очень много. Сильвия Александровна, увидев эту кучу тетрадей, два раза спросила, давно ли она, Фаина, занимается этим делом... Давно ли? Пожалуй, с детства. В чемодане и сейчас еще лежит тетрадка с косыми линейками, а в ней сказка о ветрах на Чудском озере, о том, как к Северику пришли в гости Теплячок, да Мокрячок, да Частый дождичек. Сказку рассказывала тетя Настя — так Фаина звала мачеху, а тетя Настя рассказать умеет, и очень рано, в школьные годы, Фаине захотелось записать эти сказки, присказки, а особенно веселые поговорки, которые тетя Настя рассыпа́ла, как красные ягодки. Так вот и появилась привычка ловить на лету и прятать в тетради все, что нравилось, что слышалось вокруг, — и тетрадей накапливалось больше и больше... Однако же не сразу Фаина поняла, что это и есть ее настоящая работа — разве работа может быть такой легкой? Да и теория потом давалась ей с подозрительной легкостью, и она, в глубине сознания, даже радовалась, если было что потруднее, посложнее, если нужно было посидеть подольше над чем-нибудь вроде диалектологии или старославянского языка. И все-таки ей становилось смешно, когда на курсе перед экзаменами начинались стоны и жалобы...
Нет, работа у нее не будет ученической, материалов и энергии хватит хоть на три дипломных. А если сейчас все и валится из рук, то, во-первых, от усталости, а во-вторых, эти шахматисты все же мешают сосредоточиться. Странно, но почему-то мешают глухие неровные постукивания — шаги шахмат.
Где-то внизу хлопнула дверь — Ксения идет наконец...
— Ночь на дворе, а ты бродишь! — упрекнула ее Фаина. — Комиссия приходила, мы наврали, что ты в театре.
— Могли и не врать, я у Астарова была. Студентам не запрещено бывать у заведующего кафедрой… — Ксения сладко зевнула. — Нечаянно засиделась... Он на днях купил чердак книг.
— Чердак?
— Да. Умер один старичок-библиофил, и Аркадий Викторович купил у вдовы книги с чердака — редкостное барахло, нигде не увидишь. Я помогала разбирать, пыль страшная, но очень интересно. Мы все время чихали и разговаривали о литературе... Знаешь, Фаина, он вполне согласен со мной: писателю необходимо ставить опыты... — Ксения повернулась на каблуке. — Лео, сколько партий ты выиграл у Каи?
— Двадцать семь, — без улыбки ответил Тейн и, сжав в полоску и так тонкие губы, пошел надевать пальто.
Кая проводила его за дверь, — вероятно, надо было условиться насчет двадцать восьмой партии. Когда она возвратилась, Ксения выразила свое мнение о матче в словах, близких к непечатным. Кая быстро улеглась и натянула одеяло на голову.
— Хоть бы понять наконец, какая именно деталь нравится Кае в этом шахматном коне, — говорила Ксения, раздеваясь. — Второй год маячит здесь это стоеросовое дерево.
— Что такое — стоеросовый? — послышалось из- под одеяла.
— А что такое дерево? Обаятельный молчаливый юноша, могла бы сама догадаться.
— Он нисколько не молчаливый. — Из-под одеяла раздался смех. — Мы молчим, чтобы не мешать тебе и Фаине.
— Ладно уж, птенчик. Спи, не чирикай... А что здесь комиссия делала?
— Любовалась твоей кроватью, — сказала Фаина. — На подушке окурок, на одеяле Уайльд и старые тапочки. Белецкий просто глаз не мог отвести.
— А в обморок не упал из-за моих тапочек? Мещанство!
— Придумай что-нибудь новое... — Фаина, сонно вздохнув, потянулась, сложила тетради в стопку. — Все неряхи говорят, что они борются с мещанством.
— Фаина, ты становишься злюкой. Если Вадим спешно не войдет в твое бытие — тебе крышка.
Когда легли, Ксения сказала шепотом:
— Тебе приснится Вадим.
Фаина, тоже шепотом, ответила:
— Идиотка.
— Ну, Фаиночка, поиграй со мной в Вадима!.. В сущности, он уже вошел в твою жизнь, в нетронутую душу так легко войти. Ты непременно увидишь его во сне.
— Не увижу, у него нет облика... Спи.
— А разве снятся только конкретные вещи? Мы же не всегда видим во сне реальную кошку, чаще это знак кошки. Вот и тебе приснится знак Вадима...
Ксения пошептала еще, и вскоре донеслось ее мерное дыхание. Уже спит! Как это ей удается выгнать из головы все мысли сразу?..
Ночная тишина — вернее то, что считается здесь тишиной. Где-то в глубине коридора поскрипывают половицы, за стеной под сурдинку играет скрипка, тихие голоса переговариваются за другой стеной, чуть-чуть звенят оконные стекла... Не то ветер, не то смех. А по крыше ходит кто-то в тапочках — вероятно, знак Вадима. Фаина зажмурилась: белесый, едва заметный. Ксения все-таки описывает плоховато. Да вот уже и не слышно ни шагов, ни смеха...
4
Перед дверью кафедры Сильвия задержалась, чтобы успокоиться. Все в мире стоит на своем месте. На кафедре будет работать новый доцент по фамилии Гатеев, других изменений нет. Если от чего-нибудь и надо обороняться, то только от первой минуты…
Она вошла. Кровь все же обожгла щеки, и оставалось лишь порадоваться, что встреча не состоялась: нового доцента здесь не было. Буднично стучала на машинке лаборантка Эльвира Петровна, а у окна читали газету Белецкий и Муся — вдвоем одну и ту же газету.
На вешалке незнакомое пальто — серое, чуть синеватое, и мягкая шляпа такого же цвета. Значит, он уже побывал на кафедре. Сильвия обвела комнату взглядом, пробуя посмотреть на все это его глазами, и поморщилась. Что он увидел, открыв дверь? Вот эти нелепые диванчики на гнутых ножках? Откуда их раздобыли, почему они на кафедре? Никогда не замечала, до чего они здесь неуместны. Хорошо, что хоть столы нормальные, без всяких вычур. Но этот допотопный ремингтон, но облупленные шкафы, но мутные обои!..
Минута прошла и остыла, теперь можно повернуться лицом к Давиду Марковичу — наказание с ним, вечно он все замечает!.. Впрочем и Муся поглядывает не так, как всегда, и Эльвира Петровна имеет какой-то таинственный вид. Или это только кажется?..
— Сильвия Александровна, вы статью уже читали? — спросил Давид Маркович, кашлянув.
— Какую?
Лаборантка с любопытством взглянула на Сильвию, в ее умных глазках заиграли искры, тощее лицо оживилось, и она стала похожа на молодую ведьму, очень привлекательную — на чертов вкус, конечно.
Взяв газету, Сильвия, уже в предчувствии чего-то неприятного, сразу поймала самую неприятную строчку: «Сильвия Реканди не справляется с работой...»
Она села и прочла все с начала до конца, Статья, за подписью какого-то Асса, была разносная. Три обвинения: Сильвия Реканди плохо знает русский язык, Давид Белецкий преподает туманно, а Нина Эльснер — «торгует пятерками». Нине Васильевне попало больше всего — и пятерками-то она торгует, и ищет дешевой популярности, и политический кругозор у нее узкий, и мораль не такая, как нужно...
Муся нетерпеливо вырвала газету у нее из рук.
— Ну-ну, нечего расстраиваться! Вас обвиняют только в том, что вы языка не знаете, это не обидно...
— Почему же не обидно?
— Потому что вы эстонка, не успели выучить, вот и все.
— По образованию я русский филолог, должна была успеть.
— Ах, что там! О вас хоть приличным тоном говорят, без ритурнелей. А послушайте, как о Давиде Марковиче!.. «Белецкий читает лекции с умыслом туманно и с умыслом запутанно и, кроме того, не борется с опаздыванием студентов, в особенности же — студенток...»
— Намеки, намеки! — хихикнула Эльвира Петровна.
— Пустое... — пробормотал Белецкий. — Это уже давно из моды вышло: доносы под псевдонимом. Анахронизм...
Муся сердито встряхнула газету.
— Вы, Давид Маркович, как Ийон Тихий! Опять залетели в другую галактику и смотрите на нашу кафедру оттуда! А Нина Васильевна этот анахронизм очень скоро почувствует на своей шкуре. Вот увидите!..
— Интересно, читал ли уже Аркадий Викторович?.. — в нос сказала Эльвира и опять хихикнула. — Интересно!..
— Что вы злорадствуете! — обрезала ее Муся.
— Это не злорадство, это канцелярская радость, — со вздохом заметил Давид Маркович. — Канцелярская работа была бы невыносима без скандальчиков в учреждениях.
В ответ Эльвира выпустила пулеметную очередь по клавишам так, что даже засвистело.
Тут и вошел Астаров.
— Здравствуйте, здравствуйте... — медленно сказал он, обращаясь больше туда, где стояли никем не занятые диванчики рококо.
— Вы читали статью, Аркадий Викторович? — спросил Белецкий.
Астаров ответил именно так, как ожидала Сильвия:
— Статью? Ммм...
Муся спросила:
— А как вам нравится это вранье?
— Ну вот, сразу и вранье... — Аркадий Викторович переступил с ноги на ногу и отвел глаза к диванчикам. — Разве нет у нас никаких недостатков?
— Недостатки везде бывают, — скромно поддержала Эльвира и запустила две очереди.
— Аркадий Викторович! — сказала Муся. — А как это у нас Нина Эльснер пятерками торгует, хотела бы я знать... И если ее второй раз бросает муж, так неужели это от политического кругозора? Ну, нехорошо, что она то разводится, то замуж выходит, но это вовсе не от политики, а просто мужчины сами еще хуже, вот и получается несоветская психика...
— Минуточку, Мария Андреевна, — мягко остановил ее Белецкий, — попробуем сперва выяснить, по каким данным написана эта статья...
Аркадий Викторович с безмятежным видом сел за свой стол. Белецкий повторил:
— Вам известно, кто давал сведения о кафедре этому корреспонденту?
Аркадий Викторович развел руками:
— Я, позвольте заметить, не давал.
Все замолкли. Множество досадных мыслей пронеслось в голове у Сильвии. Гатеев сразу попадет в эту неразбериху на кафедре, еще до первой встречи прочтет газету...
Неторопливые шаги послышались за дверью. Сильвия, вздрогнув, покосилась на дверную ручку... Нет, мимо.
— Аркадий Викторович, — обратилась она к Астарову, пребывавшему в той же безмятежности, — а что, если созвать кафедру и пригласить неведомого товарища Асса? Пусть обоснует свои обвинения.
— А как его пригласить, если он неведом? — спросила Эльвира, зажмурившись от удовольствия.
— Это уж дело заведующего, — сказала Муся. — Через редакцию или... Это не наше дело.
Астаров долго потирал руки, наконец выговорил:
— Поразмыслим, поразмыслим. Зачем же специальное собрание? Скоро будет очередное, побеседуем, разберемся...
Сильвия с досады чуть не сказала за него «ммм»... Промолвила, кусая губы:
— А пока разберемся, пусть студенты думают, что это правда...
Аркадию Викторовичу, видимо, становилось неуютно. Он поднялся и, слегка сутулясь, направился к выходу.
— Студенты разбираются в окружающем примерно так же, как и мы, — вяло проговорил он, закрывая за собой дверь.
Пыхнув папиросой, Давид Маркович сказал ему вслед:
— Тоже зелие.
Эльвира оторвалась от ремингтона, вытянула шею:
— Кто зелье? Какое зелье?
Давид Маркович вмял в пепельницу окурок и пошел к зеркалу. Приглаживая блестящие волосы, начал пространно объяснять:
— Это, Эльвира Петровна, из старинного лечебника. Там сказано: шалфей тоже зелие. Прият внутрь, соблазнство и помысл блудный отгоняет.
— Вот потому на вас и нападки, — укоризненно сказала Муся, вынимая из шкафа тетради.— Вечно вы с придумками.
Давид Маркович подмигнул ей и продолжил:
— От того же духу уймется и насморок, кой бывает в холериках от лишнего горячества...
Он вышел вместе с Сильвией. Когда спустились по лестнице к углу, где стояла статуя Клио, сказал:
— Не огорчайтесь, Сильвия Александровна. Статья тупая.
— Разве от этого легче? Тупая еще неприятнее, чем остроумная.
— Нет, нет, не в смысле остроумия. Просто я хотел сказать, что теперь такая статья никого не убивает — нож не режет, кинжал не колет. Вопреки желанию автора. Конфликта из-за этой статьи не выйдет, можете быть уверены.
— А я не уверена. Муся права, неприятности не отменяются оттого, что прием у Асса старый.
— Отменим.
Сильвия приостановилась, заглянула в сумку — все ли взято, что нужно... Ну, все есть, нечего нервничать.
— Мне-то в самом деле надо еще учиться, — хмуро сказала она, — и пусть бы этот Асс критиковал меня, но... но...
— Но не сегодня? — пошутил Давид Маркович.
Сильвия рассердилась — куда бы он ни метил, шутка все равно злая, но, подняв голову и встретив мягкий блеск карих глаз, сразу оттаяла:
— Кому же хочется, чтобы его били сегодня! А только я не то собиралась сказать, я о Нине Васильевне. Что за подлость ни с того ни с сего нападать на нее! И так у нее кругом беда, и муж опять сбежал... — Сильвия вдруг запнулась и договорила смущенно: — Не слушайте меня, Давид Маркович! Я, кажется, тоже начинаю сплетничать... Честное слово, сейчас я Нину Васильевну жалею больше, чем себя. Зачем бить такое беззащитное создание?
— Гм... А меня вы не жалеете? Ведь и меня в статье обидели? Или нет?
— Ну вы... Что вам сделается!
— Какая жестокость! Это потому, что от меня никто не сбежал? Так поймите же — некому бежать, я одинок, как пальма в пустыне... Статья, конечно, подленькая и от нее дурно пахнет. Но, скажите, Сильвия Александровна, почему я не написал статью о нашей кафедре?
— А что бы вы написали? — с любопытством спросила Сильвия.
— Да что ж теперь-то... Нам две кафедры нужны или даже три, а у нас все в куче: и язык, и литература, и практические уроки на других факультетах. У той же Нины Васильевны, не угодно ли, и современный русский, и методика, и занятия с эстонцами...
— Вот и надо защитить Нину Васильевну! Чтобы ее не били...
— Защищать-то надо... — Давид Маркович поежился. — Да ведь, между нами говоря, ее бог убил... Вы куда сейчас?
— В шестую. Я не опаздываю?
— Нет, — сказал Давид Маркович, придержав Сильвию за плечо. Жест был необычен, и она взглянула удивленно. Он улыбнулся. — Посмотрите-ка туда, Сильвия Александровна! У дверей вас поджидает некто в белых одеждах и со свитком в руках. Кажется, это мадам продекан... Клянусь, она похожа на Клио... — Он кивнул на гипсовую статую в углу. — Так сказать, муза неприятных историй... Но что это за свиток у нее? Не прижимает ли она к груди сегодняшнюю газетину?
— Да уж добра не будет... — пробормотала Сильвия и быстро пошла вперед.
5
Тамара Леонидовна Касимова, продекан, стояла у двери, загораживая вход. Высокая, стройная, в свободном светлом платье, она и в самом деле напоминала гипсовую или, пожалуй, мраморную музу, только у муз выражение лица не такое суетливое. В руке у нее была папка для бумаг.
— Товарищ Реканди, заменим ваш урок небольшим совещанием. Студенты просят освободить их от диктантов...
— И от контрольного диктанта весной? — быстро спросила Сильвия.
— Да. Разумеется, не все просьбы студентов имеют резон, но я все же предлагаю обсудить этот вопрос совместно с вашей группой. Вы не возражаете?
Однако Сильвия возразила:
— А не лучше ли провести урок в вашем присутствии? — Сильвия отлично понимала, что спорить с продеканом неразумно, но ею овладел дух строптивости. — При разборе ошибок сразу и выяснится, нужны ли диктанты.
Касимова ответила с гипсовой сухостью:
— Скажу вам откровенно, студенты находят эти занятия пустой тратой времени, а тратить время им нельзя, пора писать дипломные.
— А дипломные можно писать безграмотно?
— Не заставляйте меня ставить точки над и, товарищ Реканди! — Тамара Леонидовна, проявляя законное продеканское нетерпение, нажала на ручку двери. — Необходимо проверить на месте претензии студентов, особенно в связи с событиями дня... — сложив пальцы щепоткой, она что-то посолила в воздухе и улыбнулась. — Неужели вас страшит беседа со студентами?
— Нисколько, — сказала Сильвия, чувствуя, что дух противоречия мутит ей голову все сильнее. — Я просто думаю оживить эту беседу анализом ошибок прошлого диктанта, там их несколько дюжин. У меня и тетрадки с собой...
Тамара Леонидовна опять сложила пальцы в щепоть.
— Вы меня удивляете, дорогая. Вы по себе должны знать, как трудно изучить язык в совершенстве. Чего же требовать от студентов?.. — насмешливо протянула она.
«Ну, дорогая, я тоже могу немножко посолить», — сердито подумала Сильвия и спросила наивным голоском:
— Так это ваша статья, Тамара Леонидовна? А мы-то все гадали, кто такой Асс!..
Сильвия не без удовольствия отметила, что музы, разинув рот, теряют величественность.
— Что с вами сегодня, товарищ Реканди? Что за идея! — выговорила наконец Касимова. — Будьте любезны, начинайте урок по своему плану, я не намерена присутствовать при разборе ошибок. Прошу уложиться ровно в полчаса... — Она взглянула на часики и в гневе удалилась.
Входить в аудиторию Сильвия Александровна умела по-разному. Сейчас она вошла так, что об отмене занятий никто и не заикнулся. Сразу же начали работать над ошибками у доски, а потом было предложено письменное упражнение, нарочито примитивное и обидное для пятикурсников.
Пока пишут, есть время поразмыслить… Вот сидят голубчики, решили бороться за право на безграмотность. Кто же они? Что ей о них известно? Не очень-то она задумывалась над ними до сих пор... В личной жизни они, наверное, сильно отличаются друг от друга, но здесь, в шестой аудитории, различия между ними почти стерты — по крайней мере на поверхностный взгляд того, кто призван диктовать им диктанты.
Кого же она все-таки приметила здесь?.. Всегда была заметна Ира Селецкая: яркие блузки, моднейшая прическа, коралловые губы и холодные старческие глаза. Остроумна, любит задавать посторонние вопросы и поражать народ своей удалью — смотрите же, как я могу разойтись! Зато вот эта ее подруга молчит за двоих, и на лице у нее написано полное отсутствие страстей — этим она и привлекает внимание... А там у окна молодой поэт с громким именем — Роланд Бах. Круглый, румяный, в очках. На русское отделение он попал по той причине, что провалился на английском, считает себя жертвой несчастного случая и, надо полагать, пишет упадочные стихи. А может быть, и не пишет, но диктанты у него получаются крайне упадочные. Тощая смуглая девица, которая ходит за ним по пятам, замечательна тем, что ее страшно вызывать к доске — плачет... Юрия Поспелова нельзя не заметить из-за роста — он выше всех на факультете, да и натура у него широкая, не носит галстуков, не стрижется...
Кто еще? Остальные не так выделяются, но именно тем и радуют искоренителя ошибок — молча пишут, молча правят, снова пишут, снова правят... А почему опять нет Фаины Костровой. Старосте не мешало бы прийти, если здесь затеваются какие-то собрания вместо уроков и вообще заваривается каша. Уже и заварилась, и довольно крутая. Не следовало все же так злить Тамару Леонидовну, без того неприятностей не оберешься... Ай-ай, а на кафедре висит на вешалке чужое синеватое пальто...
Упражнение закончено. Поднимают головы, приветливо улыбаются. Дружески, приветливо улыбаются! Ну нет, как раз этого она не позволит. Жалобы за ее спиной и улыбки в глаза? Нет.
Собрав тетради, Сильвия Александровна сказала:
— К следующему занятию прошу написать сочинение.
— Что?.. Сочинение!.. Какое еще сочинение!.. — послышалось отовсюду. — Мы не школьники! Нам дипломную писать!..
— К сожалению, в некоторых вопросах вы еще школьники.
— У-у!.. Вот это да!.. Но-но!..
Приглушенно, будто из-под земли, донесся еще один возглас:
— А следующего занятия и не будет!
— Сочинение, товарищи пятикурсники, должно быть без орфографических ошибок. Проверяйте себя по словарю и по другим пособиям.
— На какую же тему? — высокомерно спросил поэт.
— На легкую. Озаглавьте так: «Предательство».
Притихли не то в недоумении, не то...
Юрий Поспелов крякнул и спросил:
— Это как же... с какой стороны? Предатели родины, или как?
На его вопрос Сильвия Александровна ответила, обращаясь ко всем:
— А вы обдумайте со всех сторон.
В дверь легонько постучали, вошла Кострова, с журналом. Немножко смущена...
— Товарищ Кострова, вам было известно, что сегодня придет продекан?
— Нет... то есть, да. Извините.
— Что же вы опаздываете. Садитесь.
Юрий Поспелов запустил руку в дремучие волосы и сказал, поднявшись во весь рост (что с ним редко случалось):
— А что вы имеете в виду, задавая такую тему?
Смуглая девица, уронив голову на плечо поэта, печально спросила:
— Разве предательство относится к правописанию?
Кострова наклонилась к соседке — узнать, в чем дело. Объяснять ей начали все, кто сидел близко, но Сильвия Александровна только взглянула поверх голов, и шепот смолк.
— Я вижу, аудитории не нравится тема. Почему?
Поспелов вытащил руку из волос и сказал:
— Потому что она... предвзятая. А больше я говорить не хочу, потому что тут не орфография, а этого самого... педагогический прием. А больше я говорить не хочу.
— Говорить и не надо, вы напишите. Изложите свои мысли на бумаге.
— Сочинение не исповедь...
Дверь распахнулась без стука, вошла Касимова. Все встали, а Поспелов сел. Касимова недовольно посмотрела на него, но уже успели сесть и другие, и недовольный взгляд устремился на Сильвию Александровну.
— Вы уже начали совещание?
— Нет, у нас шел разговор о домашней работе.
— Тогда начнемте! — Касимова села. — Кто выскажется о занятиях по орфографии?
Молчание — ни у кого нет охоты высказываться первым.
— Товарищи, у меня мало времени.
Поэт Роланд Бах втянул румяные щеки, мешавшие ему иметь измученный вид, и произнес:
— Реформа этой орфографии давно назрела, и нет смысла усваивать то, что будет отвергнуто в недалеком будущем. А что касается знаков препинания, то я глубоко убежден в их ненужности.
Тамара Леонидовна покачала головой и нерешительно посолила щепотью воздух.
— Кто еще выскажется? Прошу — не в общем плане, а по существу... Не стесняйтесь говорить в присутствии преподавателя.
— А мы не стесняемся!.. — сказал кто-то из-за чьей-то спины.
Тихонькие девочки в задних рядах стали подталкивать друг дружку и шептаться. На Сильвию Александровну они, кажется, смотрели с жалостью...
Поднялась Ира Селецкая. Покусывая губки и, как всегда, играя в искренность, проговорила:
— Мы только пишем и пишем, но не чувствуем системы. Я не знаю, это мы такие бестолковые, что ли...
Ее подруга прибавила равнодушнейшим голосом:
— Ничего не понимаем.
— Да ну брось! — сказал Поспелов. — Все понятно, только оно не запоминается.
Одна из тихоньких возразила, чуть шепелявя:
— Для этого и диктанты, чтобы запомнить... — И Сильвии Александровне опять подумалось, что тихонькие ее жалеют.
Ира Селецкая стояла, поправляя бантик у горла.
— Дальше, дальше! — поторопила ее Касимова,
На щеках у Селецкой вспыхнули два красных пятна.
— Сильвия Александровна не всегда умеет объяснить, — сказала она, — мы спрашиваем, а нам отвечают неопределенно.
Ага, так-то лучше — в открытую! Сильвия Александровна, несмотря на боль как от ожога, спокойно спросила:
— Какой же вопрос остался для вас неясным, Ирина?
— Не вопрос, а так вообще... Кое-что повисало в воздухе.
— Никакого «вообще» здесь не может быть. Просмотрите свои диктанты за прошлый год и выпишите все, что повисло в воздухе. Если я не смогу разрешить ваши недоумения, обратимся в академию наук...
Селецкая пожала плечами.
«Нехорошо, не надо мне иронизировать, — мельком подумала Сильвия Александровна, — ведь я действительно не все знаю. Но боже мой, эта девчонка...»
— Я не храню того, что вы диктуете, — с презрительной гримаской сказала Селецкая.
На этом поддержка аудитории вдруг оборвалась — вероятно, Селецкая взяла не ту ноту, а может быть, вступили и иные причины, неизвестные Сильвии Александровне. Студенты хмурились, поеживались, и возник какой-то шумок не в пользу выступавшей.
— Дело не в диктантах и не в объяснениях, — откашлявшись, сказал Поспелов, — дело в том, что нам теперь все это поможет, как мертвому припарки...
Общее удовольствие, смех.
— А что смеяться? Мы еще со средней школы запущенные, нам теперь помогать поздно, нам теперь пусть хоть сам Щерба диктует...
— С того света?
— Ну, все равно... Виноградов, или кто там еще. Нам сейчас не до того, не до запятых, у нас практика, у нас дипломная, у нас...
— Времени нет, времени нет!.. — зачастили все наперебой.
— Странно, что вы выбрали себе науку, которую не любите, — сказала Сильвия Александровна. — Как же вы сами будете преподавать? Сколько тогда вопросов повиснет в воздухе? Посмотрите в свои тетради!..
— Как-нибудь подтянемся, — пробасил Поспелов. — Словари там, разные пособия... — Он безнадежно махнул рукой. — Эх, все упования на реформу, тогда, черт-те, все одинаково с панталыку собьются...
Снова смех. Касимова нахмурилась, величавым мановением установила порядок.
— В аудитории не принято упоминать черта и панталык, — сказала она Поспелову. — Кто еще хочет выступить?
— А как же с контрольным диктантом перед экзаменами? — спросила Кострова. — Кто на двойку напишет, не допустят?
Как и следовало ожидать, шум поднялся страшный, и все напали на Кострову:
— Что ты болтаешь!.. Такого сроду не бывало!.. Незаконно!.. Не имеют права!.. Мы и не пойдем на диктант!
Касимова, по-видимому, несколько растерялась. Подождав, пока утихли, сказала:
— Меня удивляет эта буря в стакане орфографии. Я вынуждена отложить вопрос об освобождении вас от занятий и рассмотреть его заново в деканате. Товарищ Реканди покажет нам ваши последние работы, и мы...
— Ой! Наши работы!.. — вдруг всполошились и тихонькие.
— Да, покажет работы, и мы примем то или иное решение.
После этого Тамара Леонидовна вновь обрела величавость и заговорила о желательном моральном облике студента. Скоро всех укачало одинаково, и тихих, и буйных.
— Я думаю, мы придем к соглашению, товарищ Реканди, — любезно сказала она в коридоре, после звонка. — Вы принесете мне их тетради, дорогая? Или отдайте Астарову, я с ним посоветуюсь...
«Моим унижением, дорогая, вы насытили свою кровожадность, — мысленно сказала ей Сильвия Александровна, — и теперь вы милостивы...»
Возле лестницы они расстались.
Следующий час был свободный. Чтобы не сразу вернуться на кафедру, Сильвия вышла через боковое крыльцо во двор, села на скамью. Под осенней березой самое подходящее место для такого настроения…
Как все обнажилось в этой аудитории. Им совсем не важно, хорошо ли, плохо ли она преподает, им надо разделаться с помехами и получить диплом. А ей? Ей скучны эти диктанты. Неправда, что она не умела объяснять, но правда, что занятия велись бессистемно. Пока она не напишет диссертацию, более интересной работы ей не дадут, нечего и надеяться. Об этом и надо помнить, не рассеивать по ветру дни, недели, годы... Касимова не умна, однако у нее и диссертация, и доцентура, ей не нужно ходить в шестую аудиторию и диктовать всякую чепуху отставшим студентам. Диктуют не доценты, а отставшие преподаватели.
Четверть двенадцатого... Солнце светит, береза шелестит, как ей и полагается. Не нужно больше думать о шестой аудитории. Просто посидеть в тишине, пока идет этот длинный час.
Шестая аудитория понемногу отступила, будто такой и не бывало. Но вместе с аудиторией исчезло и солнечное сентябрьское утро, и странный сероватый луч пролег через весь двор до улицы. Когда-то Сильвия видела его во сне, сны эти повторялись. Серый луч, деревья, среди них дом, похожий на тот, что виднеется сейчас напротив. Сердце и во сне замирало так же, как сейчас, но было еще темнее вокруг, и во всем — в серых деревьях, в белеющих цветах, в траве — таилась безнадежность. Надо было войти в дом, узнать, кто там живет, не он ли... Но все уже было известно: я не найду его, я его никогда не найду. И вслед за тем наступало пробуждение со сладкой, тягучей болью в сердце...
Сильвия вздрогнула, точно проснувшись и сейчас. Никакого серого луча, вздор и бред. Студенческие тетради чуть не вывалились из сумки, она быстро привела их в порядок, бегом вернулась в коридор, поднялась по лестнице к дверям кафедры, сильно дернула ручку двери, решив разом вырваться из вздора, из путаницы…
Но это не помогло. Еще не видя лица человека, сидящего рядом с Астаровым, она вдруг в страхе ощутила, что дверь открыта в мертвый мир, что входить туда нельзя. Человек, повернувший к ней худое, сжатое с висков лицо, был, конечно, тот же самый Алексей Павлович Гатеев. Он тот же, но ее, той Сильвии, здесь нет, девушка в пестром платье исчезла навсегда. И он понимает это, иначе он не смотрел бы на нее таким скучающим, чуть презрительным взглядом...
— Познакомьтесь, Алексей Павлович, — равнодушно произнес Астаров. — Сильвия Александровна...
Сильвия молча протянула руку — и вдруг в скучающих глазах приезжего появилось удивление. Он крепко пожал ей руку и проговорил:
— Мы с Сильвией... Александровной давно знакомы.
Эльвира Петровна тотчас же затормозила — дробный стук машинки оборвался. Потом она клялась, что Гатеев очень тихо сказал: «Неужели это ты, Сильвия! Как я рад!» Однако сама Сильвия ничего не слышала, и, во всяком случае, он не мог сказать ей «ты»...
Через миг все прояснилось, глаза Сильвии увидели Мусю, Белецкого и Нину Васильевну, а уши услышали, что у них опять идет разговор о статье. Разобиженная Нина Васильевна сидела в углу дивана, пудрилась и сморкалась, а те двое ее утешали... И еще, краем глаза, было видно, что Гатеев улыбается.
Сильвия только подумала, куда бы ей сесть или куда бы стать, чтобы не чувствовать себя такой скованной, как Муся поднялась с диванчика, освободив хорошее, безопасное место, и обратилась к Астарову:
— Когда же мы напишем опровержение?
Заведующий ответил, морщась:
— Обсудим, обсудим в свое время... Эльвира Петровна, надо бы вывесить объявление — кафедра будет в следующую среду...
— Что за опровержение? — полюбопытствовал Гатеев.
Какой низкий голос... Оказывается, она совсем забыла его голос. Как он похудел, щеки обтянуты сухой кожей. Но все-таки до отчаяния похож на себя.
Астаров ответил:
— Да так... Критикуют нас. Опровержение — это, конечно, не совсем то... Надо собраться, обдумать.
— Сколько же времени думать? — продолжала Муся. — Целую неделю, до среды, будем сидеть, как блаженные, и думать?
Астаров недобро повел бровью, Эльвира Петровна прошептала:
— Мария Андреевна, при чужом человеке...
— Ну! — отмахнулась от нее Муся. — А куда Ушаков запропастился, второй том?
— Вон там, на полке, — показал Белецкий. — Сильвия Александровна, а у вас что... грипп начинается?
Сильвия посмотрела на него так, что он отвернулся, и ответила:
— Пятый курс не желает учиться грамоте, Давид Маркович.
— А какой желает?.. — вздохнула Нина Васильевна.
Сильвия, встав, выложила тетради из сумки на стол. Следовало бы уйти, вовсе не обязательно оставаться здесь, но уйти трудно, невозможно...
— На пятом курсе сейчас больше литературоведов, чем лингвистов, — сказал Давид Маркович. — Не знаю, откуда такая традиция, но они убеждены, что они выше грамотности. По курсовым видно, да и по дипломным.
— Не слишком ли... мм... большое значение мы придаем этой пресловутой грамотности? Можно писать глупо и плоско, не делая ни единой орфографической ошибки, — вымолвил сквозь зубы Астаров.
— Они безграмотны от самомнения, — веско сказала Муся.
— Господи боже мой... — пробормотал Давид Маркович.
— Нисколько не господи боже мой, а так оно и есть. Они на ногах не стоят от самомнения, вы поглядите на них. Нормальный человек при встрече снимает шапку машинально, не замечая даже, а наш студент впадает в тяжелое раздумье — снять или не снять...
— И не снимает... — опять вздохнула Нина Васильевна.
Астаров все морщился. Сильвия сейчас была на его стороне: ведь и он следит за впечатлением, которое производит «его» кафедра на Гатеева. Как назло разговорились по-домашнему и… и хоть бы Нина Васильевна перестала, наконец, пудриться...
Муся между тем говорила:
— У вас, Сильвия, никакого толку от этих диктантов не будет. Ваши пятикурсники уверены, что сверхчеловеку закон не писан — может свободно накарякать двадцать ошибок на одной странице... Мания величия!
— Накарякать!.. — в ужасе прошептала Эльвира Петровна. — При чужом доценте...
— Там у вас снобизм завелся, там эта Далматова тон задает. Носятся с Кафкой, потому что модно. Хоть давятся, да глотают...
— А вы против Кафки? — осторожно осведомился Гатеев.
— Я против малограмотности! — отрезала Муся.
— Далматова ни при чем, — заступилась Сильвия. — Вполне грамотна. А Кафку, пожалуй, она одна и читает на этом курсе. Ну, еще два-три человека...
— Шизофреники! — брякнула Муся. — Я, голубчики, за здравый смысл!.. А вы, кажется, со мной не согласны? — в упор обратилась она к Гатееву, поймав его улыбку.
— Да ведь что понимать под здравым смыслом? — так же осторожно возразил он. — Термин этот не очень точный, и можно ли с ним подойти, скажем, к прозе Апдайка, или к пьесам Беккета, или хотя бы к фильмам Феллини...
Он оборвал вдруг, точно спохватившись, и было что-то неясное в наступившем молчании: он как бы зачеркнул Мусю, а заодно и других...
Потом все заторопились. Нина Васильевна, жалобно похлопав длинными, непросохшими от слез ресницами, немножко подмазала губы и ушла первой, Гатеева забрал с собой заведующий, Эльвира Петровна ускользнула вслед за ними.
Все, как всегда? Нет, подумала Сильвия, все сдвинулось с привычных мест, и странно, что нигде не отмечен этот час... Заглянув в свое расписание, она с удивлением обнаружила, что ей никуда не надо идти. Все путается сегодня, даже расписание... Хорошо бы остаться одной, но у Давида Марковича, видимо, тоже нет лекции — сидит, поигрывая портсигаром, хотя Муся, уходя, звала его куда-то к заочникам...
Вот и прошло благополучно. Только неудобно перекладывать тетради левой рукой, а правой заслоняться от Давида Марковича. Впрочем, он не смотрит сюда...
Сильвия придвинула красные чернила и развернула тетрадку поэта Роланда Баха.
Ошибка на ошибке. Но мешает ли это ему понимать Кафку? Вероятно, не мешает. Возможно, что и у Кафки были нелады с орфографией... Феллини, пьесы Беккета — Гатеев прекратил разговор о них, что ж тут говорить с безнадежными провинциалами, у которых нет ничего, кроме здравого смысла. Сильвия вспомнила пьесу, которую недавно видела по телевизору, и здравый смысл при этом сильно протестовал. Старик слушает свой магнитофонный дневник за много лет. Он алкоголик, ежеминутно прикладывается к бутылке и закусывает бананами. Почему стал пьяницей, неизвестно. Была когда-то возлюбленная, но пил он и до встречи с ней. Что ж еще? Да ровно ничего: пьет, любит бананы... Сильвия даже подосадовала, что артист Ярвет тратит свой чудесный талант на изображение противного, пустого старикашки. Неужели там было скрыто нечто, непонятное для нее и открытое Гатееву? Любопытно было бы спросить у него...
— Оказывается, Гатеев ваш старый знакомый? — поинтересовался вдруг Давид Маркович.
Сильвия опять заслонилась ладонью и ответила:
— Вы наблюдательны почти так же, как Эльвира Петровна. — Выжидательное молчание, однако, заставило ее добавить: — Мы встречались очень давно.
На это Давид Маркович с охотой откликнулся:
— Всего лишь за один рубль вы можете получить двенадцать полезных предметов: полный бритвенный прибор, часы на рубинах, фаянсовый чайник с крышкой, а также художественную олеографию «Наяда»...
Сильвия, пряча улыбку, перебила его:
— Давид Маркович! Ваши фокусы совсем ни к чему, вы очень далеки от истины.
— Какая вы мнительная! Это объявление напечатали еще в прошлом веке. Зачем все принимать на свой счет?..
6
Войдя в читальный зал, Фаина сразу заметила незнакомого посетителя. Он стоял слева, у среднего шкафа, рассматривая корешки книг. Не новый ли доцент?.. Сухой, горбоносый... Долго глазеть было неловко, Фаина отыскала словарь, села к своему столу. В этой маленькой учебной библиотеке она занималась каждый день, облюбовав себе уютное место за переборкой, где стояло только два стола, разделенных низким деревянным барьерчиком.
Она вынула тетрадь и раскрыла этимологический словарь, поборов искушение посмотреть на незнакомца еще — ведь это же, вероятно, Гатеев, ее будущий руководитель, третьекурсники говорили, что он уже читает лекции... И через минуту она увидела его вблизи, он сел за соседний стол. Библиотекарша принесла ему толстую книгу с красным обрезом, он положил на край стола крошечный блокнот и начал листать книгу так быстро, что вокруг него поднялся ветер. Фаину это соседство немножко стесняло, но не уходить же отсюда. Тем временем сквозняк за смежным столом прекратился, сосед, по-видимому, взялся переписывать огромную страницу в свой смехотворный блокнотик. На Фаину он не обращал ни малейшего внимания, ему она не мешала.
Повернувшись боком к барьеру, Фаина на целый час погрузилась в словарь, надо было сделать много выписок. Затем, уже равнодушная к помехам, посмотрела, чем занят сосед, и ее вдруг бросило в жар: Гатеев — несомненно это Гатеев! — читал ее дипломную работу. Она мгновенно узнала эти сшитые листы линованной бумаги...
Читает. Похоже, не очень-то внимательно. Нет, остановился, заглядывает в предыдущий лист... Губы сложены презрительно, и весь он горький, как полынь... Зачем же Астаров отдал ему этот жалкий черновик, такой далекий от того замысла, которым она живет уже столько месяцев! Ведь она ходила на кафедру, говорила, что хочет изменить, переделать, что это только наброски, что ей нужно было только спросить, какие материалы подходят больше. А он, конечно, все спутал, забыл и попросту передал рукопись этому... Ой, улыбается! Что там ему попалось на глаза? Сморозила какую-нибудь глупость! Ну, кто бы поверил, что это такое мученье — смотреть, как читают твою дипломную работу. Где же она была у него спрятана? Ага, за спиной рыжий портфель, он ее оттуда вытащил... Нет, невыносимо! Опять улыбается и — честное слово! — презрительно...
Фаина, кое-как собрав вещи, обратилась в бегство.
Дома — беспорядок. Какой-то удивительный, сверх нормы. Кто-то, видимо, рылся в ее тумбочке — дверца полуоткрыта, на полу размотанная катушка. Вероятно, Ксении спешно понадобилось что-нибудь вроде заколки для кудрей. Но зачем она вынула конверт с фотографиями? Возмутительно!.. А это еще что? Старые фольклорные записи, лежавшие в чемодане, ворохом навалены на стол — вот сказка о золотом весле, песни....
Фаина, сердясь, разложила все по местам. С этой Ксенией чем дальше, тем хуже...
Ну вот, слышен ее голосок за дверью — поет, красавица, как ни в чем не бывало. И дал же бог человеку еще и такой слух — ни единой верной ноты!
Ксения вошла, села, и над нею тотчас же заклубился дым. Фаина открыла окно, молча. Но разве ее проймешь молчанием!
— Ты, Фаинка, табаку не любишь, потому что ты из староверов, — закинула она словечко, продолжая дымить. — Кстати... мне нужны были твои карточки. Ты заметила?
— Мудрено было бы не заметить... Только ума не приложу, зачем. И послушай, Ксения, что это за гадость — для чего ты выворотила из чемодана мои рукописи? К своим, небось, не даешь пальцем притронуться! Могла бы сказать, что тебе нужно.
— Ну, виновата, виновата... Сейчас я тебе все объясню. Дело в том, что... приходил Вадим. Погоди, сейчас я объясню. Ну, чего ты остолбенела? Пришел, разговаривали, и я кое-что рассказала о тебе. Он очень заинтересовался, и тогда пришлось вытащить твою карточку… Между прочим, ты веришь в любовь с первого взгляда?
Фаина в сердцах хватила ладонью по столу так, что стало больно.
— Я запрещаю! — крикнула она. — Болтай со мной о чем угодно, а втягивать посторонних я запрещаю! Слышишь? Чтоб это было в последний раз!
Глядя в угол и сильно сбавив тон, Ксения проговорила:
— Не кипятись, Фаинка. Уверяю тебя, все шло на самых возвышенных регистрах. Он очень умный, Вадим, он все понимает так же тонко, как я...
— Я не желаю участвовать в экспериментах!
Ксения вздохнула.
— Напрасно я тебя предупредила, что это эксперимент, но не предупредить было бы нечестно... Только поверь мне, Фаина, опыт совсем безобидный, и Вадим о нем даже не подозревает. Просто я для самой себя хотела бы установить, возможна ли любовь без всякой примеси... телесности. — Ксения повертела рукой в воздухе. — Возможна ли заочная любовь!
— Глупости какие!
— Что же тут глупого? Желтков в «Гранатовом браслете» полюбил Веру, видя ее только издали. Кстати, это типично мужской подход к любви: ведь он влюбился в наружность этой княгини, о ее внутренней жизни он мог только догадываться. Правда? А Вадим заинтересовался именно твоей внутренней жизнью, я хотела построить это иначе...
— Не морочь мне голову!
— Ну, успокойся, Фаинка! Сделаем по-другому... Когда он придет — он обещал еще забежать около пяти — я вас познакомлю. И больше вмешиваться не буду, вернемся к обычному банальному ходу событий... Ты никуда не собираешься в пять?
— Даже сейчас уйду.
— Хоть надорвусь, да упрусь, как говорят фольклористы… — Ксения усмехнулась. — Показала я Вадиму твои труды. Я-то от них совсем не в восторге, а он чего только не нашел — и чистоту стиля, и поэзию, и ученость...
— Прикажешь мне запирать свои вещи на замок? — резнула Фаина.
— Я же прошу извинения... Не думала, что ты так рассердишься. Собственно, ничего дурного не случилось, не украдет же он у тебя твои материалы. Зачем их прятать!
— А свои рассказы от меня прячешь?
— И ты не видишь разницы? Когда я начну писать дипломную, смотри сколько хочешь, а рассказы не школьное упражнение. Черновые мысли писателя боятся чужого взгляда — ежели на гриб взглянуть, он больше не будет расти... — Ксения захохотала. — Это мы с Вадимом тоже вычитали в твоих записях. Вообще, Фаинка, видела бы ты, как его закрутило за какой-нибудь час! Я и сама не ожидала таких результатов. Вот что значит художественная подача!.. — Легкое смущение Ксении, слышное все же в ее речах, исчезло совсем, и, следя за надевавшей пальто Фаиной, она спросила совсем уже дурашливо: — Неужели тебе не любопытно познакомиться с ним?..
Фаина закрыла за собой дверь, не слушая дальше.
В студенческой столовой Фаина съела два мутных кушанья — рассольник и кисель, думая о выходке Ксении. Ей хочется править человеческими судьбами, ни более ни менее. А получается идиотское сватовство. Коли даже действительно этого Вадима что-то заинтересовало и если даже ей, Фаине, на минуту и стало по-глупенькому приятно, что она кому-то понравилась, то все равно это чертовы игрушки, и участвовать в игре она не желает... Вертелась, вертелась Ксения, подмазывалась, однако не преминула и уколоть: у меня, мол, писательская работа, а у тебя школьное упражнение... Враки. Не упражнение, а настоящее дело, и на всю жизнь.
Выйдя из столовой на улицу, где, несмотря на сентябрь, веяло теплом, и поглядев на белизну и свет облаков, Фаина решила подарить себе этот день. Вчера она работала до поздней ночи, а сегодня пусть будет праздник. Вот и облака светятся по-праздничному и уходят, предсказывая день ясный.
...А дипломная уже в руках этого доцента с презрительно сжатым ртом, все самое любимое в его руках. Самое любимое? В школьном упражнении? Да. И пусть подтрунивают, кому не лень. Ксения придумала, и на курсе теперь тоже злоязычат, будто бы она, Фаина Кострова, хочет сделать карьеру на своем захолустном причудском фольклоре, будто бы она честолюбива, ждет похвал, ждет общего признания и невесть чего еще...
Ждет признания? А как же иначе, как же не хотеть, чтобы работа была признана? Карьера... При чем тут карьера, если просто хочется заниматься любимым делом. Чем лучше будет дипломная, тем больше шансов попасть в аспирантуру. Очень многое зависит от этого незнакомого доцента, от его отзыва... Но над чем же он смеялся? Эта усмешка сидит в памяти, как заноза. Ну, когда-нибудь он перестанет смеяться, впереди еще несколько месяцев...
Поднявшись по отлогому склону, Фаина вошла в тишину парка. Здесь в своем красновато-желтом царстве жил сентябрь. Фаина побродила по аллеям, но легкости в душе не было, и все досаднее становилось от того, что усмешка какого-то доцента портит ей настроение... А не лучше ли, чем слоняться бесцельно, пойти на кафедру и спросить, кто смел отдать ее черновик Гатееву. Ведь она толком говорила Аркадию Викторовичу, что хочет переделать рукопись. В конце концов — что такое черновик? Клочки и обрывки мыслей, сырой материал... Да, да, но смеяться там не над чем.
Не то ей повезло, не то не повезло — неизвестно, но Гатеев был на кафедре, стоял под портретом Федина, заложив руки в карманы. Тот самый... Он посмотрел на Фаину педагогическим взглядом — дескать, пришла студентка как таковая. Однако же приподнял бровь, когда Эльвира Петровна сказала ему:
— Это та, о которой вы справлялись. С дипломной.
У Гатеева приподнялась и другая бровь — брови были не то чтобы мефистофельские, но все же с изломом. Открыл рыжий портфель, вынул рукопись.
— Вы, товарищ Кострова, лично собирали материалы?
— Не все... Там у меня отмечено, — быстро заговорила Фаина, пряча смущенность под деловым тоном. — Сама я собирала только у себя на острове, остальное взято из литературного музея...
— У себя на острове? Где?
— На Чудском озере, это маленький остров, там всего две деревни, одна русская, другая эстонская...
Но Гатеев дальнейшего интереса к острову не проявил, сел за стол, кивком предложил стул Фаине и сказал:
— Есть мысли. Не очень много, но они есть.
«Он отчаянный нахал...» — опешив, подумала Фаина.
Помедлив, будто давая Фаине время порадоваться такому обстоятельству, доцент продолжал:
— Записи довольно интересны, и комментарии не представляют собой сплошного плагиата...
У Фаины перехватило дух.
— ...как это бывает нередко.
Он бережно расправил загнувшийся краешек листа, и это движение почему-то подействовало на Фаину успокоительно.
— О плагиате не может быть и речи, — проговорила она, решив держаться холодно и независимо.
Гатеев усмехнулся. Оказывается, умеет и не презрительно...
— Я и говорю, что его нет, работа ваша. Да-а... И авторский язык довольно точный, гра-амотный, это так. Но, к сожалению, через всю рукопись проходит... — он позамялся, — да-а, проходит лазо-оревая нить. К примеру вот здесь: «И сидит на том дереве птиченька желтая, грудка в ней лазоревая...» А на этой странице опять! «Вы цветы ль мои лазоревы...» И даже корова у вас пьет из озера «воду лазореву».
— Так что же? — спросила Фаина.
— Вам не думается, что это звучит несколько слащаво?
— Но сами сказочницы именно так и говорили, я записывала точь-в-точь. А это из песни: вы цветы мои лазоревы, много было вас посеяно, да не много уродилося...
Он покивал головой как бы с печалью — это было возмутительно — и протянул:
— Да-а... Из песни слова не выкинешь.
Фаина, отведя глаза — не желает она смотреть на его ужимки! — сказала:
— А зачем из сказки выкидывать?
— Из сказки не надо, а вот из комментариев...
Затем, скользнув взглядом по лицу Фаины, доцент стал добрее и вымолвил — очевидно для того, чтобы не вовсе обескуражить эту бедную, насквозь лазоревую студенточку:
— Недурны бытовые зарисовки насчет сетей, рыбы, лодейных мастеров. Д-да, местные отличия... Здесь вы меньше любуетесь стариной, и не чувствуется стилизации.
Фаину опять передернуло — а где он нашел у нее стилизацию!..
— Но мне не совсем ясна тема вашей работы. Войдут ли сюда то-олько песни и сказки? Как с частушками? Интересно бы заняться ими, они крепче связаны с современностью...
— Это у меня даже не черновик, это сырые материалы, — мрачно сказала Фаина. — Я хотела посоветоваться с Аркадием Викторовичем, что взять, что оставить... Верните мне, пожалуйста, рукопись, я еще подумаю.
— Прошу. Непременно надо подумать… Времени у нас достаточно.
Около них раздался легкий звон — Эльвира Петровна сперва позвонила ключами, а затем положила их перед Гатеевым.
— Нет, нет, мы тоже уходим, — заторопился он. — Я просмотрел все это очень пове-ерхностно, товарищ Кострова. Подумайте, подумайте, мы еще поговорим...
На дворе накрапывал дождь. Фаина постояла на крыльце, уговаривая себя, что огорчаться глупо. Речь шла о пустяках, настоящая критика еще впереди, с ребячеством надо покончить. Смешно и наивно ожидать, что руководитель придет в восторг от дипломной работы пятикурсницы Фаины Костровой. Но досада брала верх — отзыв был обидный, обидный...
Она медленно спустилась к краю площадки, подставила лицо под холодную изморось. Перед дверью общежития опять остановилась, вспомнив, что и дома неуютно — сваха Ксения сидит с Вадимом. Ладно, не возвращаться же — много чести еще и бегать от него...
Однако дома не оказалось никого лишнего, и вдобавок был готов вкусный ужин. Сегодня хозяйничала Кая: угол стола покрыт чистой скатертью, кушанье из овощей, называемое «огородником», стоит на проволочной решетке, и от него валит пар. Нигде не видно клочков газеты, огрызков сыра и колбасы, окурков и прочей трухи, которая вечно сеется за Ксенией, а сама Кая в косынке и чистеньком фартуке нарезает хлеб — прелесть!..
— Напрасно ты не пришла раньше, Фаина, — сказала Ксения, обжигаясь картошкой и едва выговаривая слова. — Вадим сегодня был в ударе... О-о-о! Вот это еда!..
— Кто был в ударе? — спросила Кая.
Ксения лукаво прищурилась.
— Вадим. Человек, который влюбился в Фаину с первого взгляда.
— Я тоже влюбилась в нее с первого взгляда... — мило заявила Кая, улыбнувшись Фаине. — А кто он такой?
— Поэт! — Ксения подняла вилку. — Слушайте!..
Но из декламации ничего не вышло — Ксения закашлялась, и ее надо было похлопать по спине. Потом она сказала:
— Теперь Вадим будет посвящать стихи ей.
— А Фаина — тоже с первого взгляда? — смеясь, спросила Кая.
— Увы, увы! Фаина его еще не видела.
— Не видела? — удивилась Кая.
— Он тоже не видел... ее бренной плоти. Он пленился ее портретом и ее, с позволения сказать, творчеством. Это необыкновенный случай — плениться черновиками дипломной. Надеюсь, ей он тоже понравится: талантливый поэт, стройный шатен, с темными глазами, с овальным лицом, пепельно-белокурый...
— Погоди, погоди! — не выдержала Фаина. — Белокурый шатен? Признавайся, не лысый ли он у тебя?
— Выдумаешь тоже — лысый! Прекрасные густые волосы!
— Но какого же цвета?
— Смотря по тому, какое освещение!..
Все захохотали, и разговор о Вадиме прекратился.
К работе Фаина в этот вечер не прикоснулась, читала новый журнал, сердясь на авторов — зачем скучно пишут, потом легла спать раньше всех и, закрывшись подушкой от радио, скоро заснула.
Сон был некрепкий, наполненный видениями. Видела свой остров, круглый и плоский, как блин. Рыбаки втягивали в лодку длинную-предлинную сеть, ветер шумел в ракитовых кустах, белые облака, описав дугу, тонули в озере... А в доме-то тетя Настя полы вымыла, половики настилает, чистые, стираные — завтра праздник. И вот уже гости за столом, песни поют, да все про волну, про ветрило, про младого рыбака... На улице тоже очень шумно, надо бы на озеро уйти. И Фаина пошла сторонкой, огородами; зелено кругом, лук густой, буйный, и картошка лиловым цветет. А навстречу бежит, перегибаясь, Катя Ермишина. старинная подружка. Увидела Фаину и хохочет: «Любовь с первого взгляда, любовь с первого взгляда!..» И вдруг как брызнет водой из ведра!..
Фаина проснулась. В комнате темно — спят... «Какая вздорная мысль...» — сказала она себе шепотом и улеглась поудобнее.
А вода-то у Кати в ведре — забавно! — была совсем голубая, лазоревая...
Может, и в самом деле, в дипломную переложено лазури? Тема ведь так и тянет к дурной романтике: озеро, камыши, чайки, на улицах трава растет, по берегу кони без коновязи пасутся, на главном проспекте теленок мычит. Дома новые, с кружевной резьбой, после войны отстроены. Рыбаки кряжистые, сытые — место рыбное, а за рыбку всего достанешь вдоволь. Прямо-таки идиллический островок, даже милиции нет: кому милиционер нужен, тот пусть за ним моторку посылает на другой причал.
Днем на озеро, ночью на озеро — шапка на голове держится, значит, не буря. Бабки тоже, куда ни поверни: и рыбу потрошить, коптить, подвяливать, и сети чинить, и в поле, и в огород, а вечером, глядишь, плывут на лодках коров загонять — коровы-то водяные, так и лезут в озеро за тростой... А уж когда нарядится какая тетя Граня в синее с пестринкой или в алое горошками, то и глаз не оторвать.
Но вот весь склад и лад летит кувырком — праздник пришел. Хоть Первомай, хоть Петра-Павла, а все равно кувырком, потому что на выпивку разница не влияет. Ночь напролет рыбаки пьют, а тети Грани — тихие-тихие, ни словечка поперек — носят на стол печеное, вареное, жареное да меняют бутылки со столичной, со своей, с настоенной на мяте, на анисе, на можжевеловых ягодах, на геенне огненной... До тех пор, пока не уйдут гости отсыпаться, оставив на столе полные рюмки: больше утроба не вмещает. А назавтра все начинается сызнова. И лишь на третий день ввалят приезжих гостей в моторки, одного за другим, как мешки с солью, вот тогда и скажет хозяйка мужу все еще тихим голосом: «Иди-ка спать». Тот теперь ни гугу, покорно семенит под яблоню или в малые сенцы, где ему на полу постелено. И уж потом только забирают силу бабы, суток четверо ругают своих благоверных, и отнюдь не лазоревыми словами.
Руси есть веселие пити... Не веселие, а несчастие. Вот и свое счастье не вышло из-за этого веселья. Фаинке семнадцать лет, а кареглазому Николке восемнадцать. Один раз увидела пьяным, другой раз, третий — и отрезало, как ножом.
Веселие... Стоит лишь посмотреть, как дети после праздника играют в гулянье: орут дикими голосами, ломают кусты, дерутся, а после драки «хоронят» друг друга...
Доценту Гатееву не понравилось, что в сказках слишком много лазури. Но не тащить же в дипломную все подряд, приходится делать отбор. Любуетесь, говорит, стариной. А почему нельзя полюбоваться? Неужели он видит в прошлом только черные головешки?
Он, похоже, советует заняться не сказками, а частушками. Если и так, все равно надо отбирать — иную частушку и бумага не выдержит... Хорошо, пусть частушки, но я у него прямо спрошу, по какому принципу отбирать. Ой, боюсь, будет так: все пьяное и черное — пережитки, а сейчас... что сейчас? Кукуруза уже не в моде, кормить окуней бобовыми тоже не приходится, вот и призадумаешься, что взять, а что отбросить. Во всяком случае частушечного героя надо представить доценту в достойном виде:
Я любил тебя, Маланья,
До партийного собранья,
А как кончилися пренья,
Изменилось мое мненье...
Хорошо бы набраться храбрости и в следующий раз выложить ему все начистоту... Беда, беда, если не будет контакта с руководителем. Говорит, частушки связаны с современностью. А интересно, как он рисует себе современность вот на этом самом острове, с которым связаны мои частушки? Знает ли он, почем фунт лиха и — фунт судаков? Он рыбу, поди, только в ресторане видывал — судак фри!
Лазоревая нить через всю работу? А если через всю ее жизнь проходит эта лазоревая нить? Пока чумазая Фаинка бегала босиком по этому берегу, купалась в этой воде, росла, училась в школе все на том же берегу, копилось что-то в душе... и работа ее выросла на траве, у воды, у рыбацких лодок...
А почему это я с ним все спорю, с доцентом Гатеевым, и что я ему вкривь и вкось доказываю?.. Нельзя быть такой недотрогой — вон как припекло первое же замечание. Нечего воображать, что пишется настоящая научная работа... А что, если будет настоящая? Сколько времени понадобится, чтобы знать не меньше, чем он знает? Не так уж это недостижимо, он сам скажет, что еще надо прочесть, выучить, к кому еще обратиться, куда поехать...
Работать каждый день, без поблажек, идти, не останавливаясь... Нет, иногда остановиться на минуту и поглядеть на озеро, увидеть его цвет, иначе почернеешь и обуглишься.
7
Аркадий Викторович любил заседать. От предстоящего собрания едва ли можно было ожидать больших радостей, но он все же сел за стол с приятной улыбкой и истово сдул пылинку с повестки дня.
— Мы немножко задержимся с началом, товарищи. Тамара Леонидовна придет минут через пять…
Собрались в маленькой, но неуютной аудитории рядом с кафедрой. Было холодновато, от голых лампочек на потолке действительность рисовалась в самом неприкрашенном виде. Сильвия безнадежно села под одну из лампочек — пусть уж светит, от истины все равно никуда не спрячешься, и Гатеев все равно услышит на первом же собрании, что она не справляется с работой. Пусть светит!
— Итак, будем разматывать клубок, — сказал, подсаживаясь к ней, Давид Маркович.
— Клубок?.. — рассеянно повторила Сильвия, следя глазами за Гатеевым, сидевшим неподалеку.
— Ну да, клубок банальностей: статья в газете, обвинения, псевдонимы, анонимы. Вся ветхая бутафория намотана на нашего продекана... Неинтересно, а разматывать придется, и предстанет перед нами красавица во всей своей первозданности и ослепит многих. У меня уже сейчас, от одного предчувствия, страшная тяжесть под ложечкой.
— Эльвира Петровна подслушивает... — шепнула Муся, дернув его сзади за рукав. — Лучше уж говорите во весь голос, а то она перепутает и наврет еще больше.
— Спасибо, Мария Андреевна, за ваше чуткое отношение! Но зачем же мне говорить о своих недомоганиях во весь голос?
Дверь начала открываться — медленно-медленно. Все повернули головы, но оказалось, что это не продекан, а Нина Васильевна. Сильвия усмехнулась. Надо же уметь так одеться! С первого взгляда ясно каждому: пришла страдалица. Черное закрытое платье, на шее вороненая цепь, волосы падают длинными прядями, а в плоских черно-белых туфлях, ей-богу, чудится что-то покойницкое...
— Какой наряд! — ахнул Давид Маркович. — Идите к нам, Нина Васильевна!
Но Нина Васильевна только качнулась в его сторону, как стебелек, и, сделав несколько неуверенных шагов, села на свободный стул рядом с Гатеевым.
Сильвия прекрасно поняла это полуобморочное кокетство, как поняла бы любая женщина, но она не сомневалась и в том, что мужские глаза видят иначе. Гатеев, конечно, видел сейчас только тонкую фигуру, высокую грудь, алые губы на бледном лице — и не замечал ничего смешного, ничего деланного...
Потом в аудиторию вошел старый Саарман и, угнездившись в дальнем углу, высыпал из портфеля свои научные труды. Старый Саарман (он не был стар, но эпитет прирос к нему, вероятно, еще в колыбели) обладал способностью писать научные труды на всех собраниях, и к этому давно привыкли.
Бдительная Эльвира вдруг вытянула шею и зазвучала, как зуммер:
— Ззз... ззз... Тамара Леонидовна...
Тамара Леонидовна вошла в сопровождении доцента Эльснера, щупленького блондина, выгодно оттенявшего ее величавость. Тот, впрочем, сразу куда-то исчез, будто рассеявшись вместе с дымом своей сигареты.
— Вот бессовестный, даже не поздоровался с Ниной Васильевной!.. — шепотом негодовала Муся. — Все ж таки собственный муж, хоть и сбежал!..
— Ззз... тсс...
Аркадий Викторович жизнерадостно огласил повестку дня: обсуждение открытых лекций, обсуждение критической статьи, разное.
Начали с лекции Саармана. Обсуждать ее было совершенно бесполезно, все отлично знали, как он читает лекции. Старый Саарман был похож на разрозненную библиотеку — в таком беспорядке были свалены в его голову всяческие знания, — и в этом же беспорядке он выгружал их перед студентами. Другого давно бы сняли с работы, но его терпели — за искреннюю, хотя, может быть, и неразделенную любовь к науке, за простодушие, за правдивость. Да и выручал он кафедру часто: где бы ни обнаруживалась брешь из-за отсутствия преподавателя, туда посылали Саармана — он мог одинаково хорошо, или одинаково дурно, преподавать любую дисциплину.
Сегодня нашли, что лекция выдалась особенно нескладная. Старый Саарман увлекся и, вместо разговора о чередовании гласных, стал объяснять происхождение слова «пудрет», а потом занялся своей любимой проблемой праязыка и сорок минут рисовал на доске суковатое дерево с неразборчивыми надписями вдоль суков.
Его дружно побранили и, как всегда, отступились: он никак не желал понять, в чем его вина, и все порывался завести спор о праязыке.
Затем обсуждались уроки молодых преподавателей. Это прошло гладко, и всем было ясно, что неприятности начнутся не раньше, чем заговорят о Нине Васильевне. Наконец Аркадий Викторович, потирая ладони и откашливаясь, назвал и ее имя.
Высказались осторожно. Нина Васильевна закрепляла-де изученный уже материал. Занимались синтаксическим разбором. Студенты обнаруживали достаточные познания. Все благополучно.
На благополучие, конечно, никто не надеялся. И вот...
— Разрешите мне, — холодно сказала Тамара Леонидовна и на минуту замерла светлокаменным изваянием.
Сильвия во время этой зловещей паузы украдкой взглянула на Гатеева. Кажется, ему смешно...
— Я тоже посетила урок Нины Васильевны, — продолжала Тамара Леонидовна, — в связи со статьей, опубликованной в печати...
— Аркадий Викторович, а почему не пришел Асс? — негромко спросила Муся.
— Ззз... ззз... ззз...
— Меня отнюдь не порадовало это посещение. В своих отзывах, товарищи, вы либерально обходите вопрос об ошибках. Нельзя забывать, что элемент воспитательной работы должен присутствовать везде, то есть и при синтаксическом разборе. Прежде всего — была взята неудачная фраза, вот эта... — Тамара Леонидовна, поднеся блокнот к глазам, прочла: — «Она пришла с мороза, раскрасневшаяся, наполнила комнату ароматом воздуха и духов, звонким голосом и совсем неуважительной к занятиям болтовней...» Право же, Нина Васильевна, студенты и без того склонны к болтовне и не всегда уважают серьезные занятия. Почему вы выбрали именно эту, кстати сказать, синтаксически неинтересную фразу?
— Но это Блок... — пробормотала Нина Васильевна.
— Тем более напрашивался воспитательный аспект. Разумеется, в настоящее время мы считаем Блока вполне приемлемым великим поэтом, однако вы должны были оговорить уклоны, в которые он впадал. Чреватая туманными образами мистика, бесплодные метанья...
— Он искал сокровенную сущность жизни... — едва слышно выдохнула Нина Васильевна.
— Значит, и следовало подчеркнуть, что сокровенную сущность жизни невозможно найти в тенетах буржуазно-дворянского индивидуализма, и отметить дальнейшую эволюцию Блока...
— Мы об этом говорили раньше...
— Очень прошу вас не перебивать меня... Остановимся теперь на другом отрывке, который вы анализировали. Надеюсь, все помнят начало «Василия Теркина»? Так вот. В начале поэмы сказано, что на войне нельзя прожить без воды, без пищи и без немудрой шутки, то есть без бодрого настроения. Вы согласны? А затем, после несущественного замечания о махорке, автор называет Василия Теркина. Кто же такой Теркин? Боец! — Тамара Леонидовна бросила блокнот на стол. — Следовательно, речь идет о четырех факторах — о пище, о воде, о шутке и о Теркине, на что и указывают запятые в данном отрывке. Однако этот четвертый — и самый важный! — фактор при разборе был затемнен, у преподавателя получилось только три фактора, получилось абстрактное и нездоровое выключение самого человека, бойца Василия, олицетворяющего наших воинов и отделенного у автора запятой...
На этом месте послышался чей-то нездоровый смех. Касимова сердито оглянулась.
— Но я не собираюсь более подробно говорить о недочетах, обнаруженных лично мною, — произнесла она, вскинув голову. — Быть может, они случайны, и во всяком случае они бледнеют по сравнению с кардинальным обвинением. Больной вопрос о пятерках должен быть вскрыт! Торговать пятерками! Это словосочетание употреблено в печати. Тяжкое обвинение довлеет над членом вашей кафедры!
— А кто обвиняет?.. — раздалось из рядов, где сидела молодежь. — Где доказательства?..
Нина Васильевна прижала платок к глазам, Гатеев произнес что-то довольно громко, но Сильвия не расслышала.
— Разумеется, это надо доказать, — сбавив тон, согласилась Тамара Леонидовна, — но факт, что подобные обвинения возникают, очень печален сам по себе. — Она села. — Прошу товарищей изложить свои соображения, но без выкриков с мест. Я буду рада, если обвинение, которое пока довлеет над Ниной Васильевной, окажется несостоятельным.
Белецкий и Гатеев подняли руки одновременно, Астаров дал слово новоприезжему.
— Выступать я не собирался, но в тех случаях, когда филолог употребляет глагол «довлеть» в смысле «тяготеть», у меня появляется жгучий интерес к этимологии. Каким образом филолог доходит до такого смысла? Давить, давление, а потом довление через «о»? Или как-нибудь иначе?
— Я искусствовед, а не филолог, — отозвалась Тамара Леонидовна, обдав Гатеева взглядом, от которого чуть не задымился его пиджак.
— Простите, я не знал. Тогда, конечно, давить... — Голос у него прервался, он вытер лоб, и тут Сильвия увидела, что он взбешен до крайности. — Кроме того, четыре ф-фактора... — Он поперхнулся. — Об этом, впрочем, я не стану... это выше моего разумения! Но термин «торгует пятерками» опять-таки заинтересовал меня настолько, что я вынужден обратиться с вопросом к продекану — что именно означает это выражение?
По лицу Тамары Леонидовны трудно было догадаться, что будет дальше. Обиделась насмерть? Или не все поняла? Пока что свернула в сторону...
— Я как продекан вполне согласна с нашим новым товарищем: во всяком деле необходима ясность. Выражение «торгует пятерками» носит двусмысленный характер, но в статье критикующего кафедру Асса...
— А с ним кто-нибудь знаком? — донесся вдруг тихий голос старого Саармана.
— ...в его статье сказано следующее... — Тамара Леонидовна зашуршала газетой. — Сказано именно так: «Нина Эльснер ищет дешевой популярности, торгуя своими пятерками...» Вероятно, это выражение надо понимать фигурально, я не спорю. Да, я согласна с доцентом Гатеевым. Дорога двусмысленности не наша дорога, она не обнажает явления во всех его аспектах, однако опасен и путь неуважения к печати и зажима критики. Нельзя тормозить процесс улучшения преподавательской работы и углубления…
— Теперь возьмет измором... — буркнул Давид Маркович.
И в самом деле поволоклось: углубление, усиление, освоение, оздоровление... Астаров негромко постукивал пальцами о стол, осуждая шепот и зевки, но заметно было, что и он томится. Не теряла бодрости лишь Эльвира Петровна, писавшая протокол, перо у нее летало по бумаге, шея дрожала от усердия.
Через несколько минут внимание слушателей снова обострилось, Тамара Леонидовна заговорила о Белецком:
— В статье, однако, затрагиваются и другие конкретные вопросы. О доценте Белецком сказано, что он проявляет либерализм по отношению к студентам и студенткам... и что он умышленно запутывает свою речь. Первое требует проверки, что же касается второго, то я присоединяюсь к автору статьи. Не будем формалистами, я вполне допускаю, что доцент Белецкий запутывает ее неумышленно, однако он ее запутывает, то есть переосмысливает в духе мистификации и каламбура... Товарищ Белецкий, вы не отрицаете же, что вы ее запутываете? Не так ли?
— Сейчас я, правда, до некоторой степени запутан, — ответил Давид Маркович, — в одной арабской пословице есть даже такое указание: запутай раз, запутай два, а потом воздержись...
Астаров слегка побарабанил пальцами.
— Если деканат находит нужным, — продолжал Давид Маркович, — пусть проверяет мою работу и отношение к студентам. А сейчас я постараюсь, не запутывая своей речи, высказаться по теме собрания. Я тоже посетил лекцию Нины Васильевны. Четыре фактора, упомянутые вами, товарищ Касимова, по поводу синтаксического разбора, вызывают у меня протест. Ваш анализ очень своеобразен, но я обнаружил в нем и пятый фактор...
Тамара Леонидовна, почуяв недоброе, стремительно перебила Белецкого:
— Едва ли необходимо задерживать ход собрания и возвращаться к синтаксису. О тонкостях можно поговорить и после, в рабочем порядке.
— Конечно, можно. Но нельзя утверждать, что Нина Васильевна не справилась с материалом разбора. Кажется, вы именно так выразились, Тамара Леонидовна?
— Я ведь подчеркнула, что дело не в данной лекции. Решающее же слово в оценке работы членов кафедры должно принадлежать заведующему! — с напором произнесла Тамара Леонидовна, свалив таким образом весь сомнительный груз на плечи Астарову.
Астаров на глазах у всех искривился под тяжестью клади, но не выдал. Он пространно потолковал о необходимости самокритики, о добрых намерениях деканата, о своих надеждах на лучшую работу преподавателей, а затем предложил текст резолюции:
— Кафедра обещает учесть критические замечания и поднять уровень преподавания на более высокую ступень.
Не успел он умолкнуть, как кругом зашумело:
— Позвольте, позвольте! А опровержение?.. Надо же опровергнуть чепуху!.. Это что за вздор — торговать пятерками!.. Опровержение, опровержение!..
Поднялась одна из молодых преподавательниц и, чинно попросив слова, сказала:
— Нам кажется, что надо написать ответ на статью... — Она, краснея, оглянулась на подруг. — Мы можем сами написать, потому что несправедливо, потому что нельзя обвинять без доказательств...
Тамара Леонидовна недовольно пожимала плечами. Астаров, теребя тугой узел галстука, возразил:
— Видите ли... Я полагаю, пока писать рановато, не все еще ясно, еще далеко не все ясно...
Неожиданно заговорил старый Саарман. Приветливо улыбаясь и обводя всех невинными глазами, чуточку выцветшими в голубизне, внес свое предложение:
— А если мы включим в резолюцию такой пункт: желательно составить комиссию и изучить те явления, на которые намекает в своей статье...
— Хорошенькие намеки — утюгом по затылку!.. Ззз... Тсс... При чем здесь утюг... Не перебивайте Саармана!.. Ззз... Тише!..
— ...желательно составить комиссию и изучить те явления, о которых говорит вышеназванный Аспарагус...
— Асс!..
— Совершенно верно — вышеназванный Асс... — Саарман сел, подмигнул всему собранию и вновь принялся писать научные труды.
Возник спор. Касимова объявила, что не видит необходимости созывать комиссию; Астаров, к общему удивлению, ее не поддержал, стоял за комиссию, только при этом затянул петлю галстука так, что стало страшно, не задохнулся бы; из угла вышел на свет божий Эльснер-муж, сипло высказался против и опять стушевался. Потом голосовали, и победило большинство: комиссию решили образовать.
Расходясь, все сторонкой огибали продекана — очень уж недовольный вид имела Тамара Леонидовна, но тут возле нее снова очутился Эльснер, и она начала мило улыбаться «этому мозглявому субъекту», как выразилась Муся.
— Кому что на роду написано, — сказал Давид Маркович, — хоть и мозгляв, бедняга, а успех имеет...
— А вы-то чего вздыхаете?
— Жениться хочу, Мусенька. Как вы к этому относитесь? Откровенно говоря, я — завидная партия, красивый мужчина, сержант в отставке. Опять же таки бездетный вдовец, и вы, по-видимому, тоже бездетная...
— Я не вдова!
— А разве я сказал — вдова?.. Словом, предложение я бы вам сделал, но вы же заставите меня ходить вокруг аналоя, а я обязательно завалюсь, потому что хромаю...
— Вот еще! вечно какой-то аналой придумаете!..
Когда вышли на улицу, Сильвия сказала:
— А ведь нам, Давид Маркович, должно быть стыдно, что у нас такой продекан. Вам лично — в особенности, Давид Маркович! Мы с Мусей меньше отвечаем...
— А я за нее отвечаю лично, да?
— Лично.
— Не мог же я помешать ее появлению в мире... — Давид Маркович, усмехнувшись, продекламировал:
Всех поражая, как стилетом,
Своей ученостью лихой,
Она взошла над факультетом
Бальзаколетнею звездой!..
— Она у нас уже второй год сияет. До каких же пор?..
— Мельницы богов мелют медленно, и наш деканатский ветряк не исключение.
— Очень утешительно. — Сильвия помолчала. — Циркус, а не заседание.
— По-русски говорят — цирк, — поправила Муся. — Только это неправда, глупости говорила одна Тамара Леонидовна. И никто не ездил на велосипеде по стенке.
— Ездили.
Давид Маркович произнес сухо:
— У вас, Сильвия Александровна, сегодня один глаз косил, и потому вы видели только смешное и нелепое, а на самом-то деле молодежь взяла верх, этого вы и не заметили.
Муся вздохнула:
— Невелика у нас победа, Давид Маркович. Нечему радоваться... А вы вот не потрудились даже узнать, кто такой Асс...
Давид Маркович дернул плечом, и Сильвии подумалось вдруг, что он отлично знает, кто такой Асс...
— ...не потрудились узнать. А может, сама Касимова? Почему она не хотела комиссии? Чтобы не доискались, кто назвался Ассом.
— Радость моя, вы начитались детективных романов. А может быть, это я сам и есмь Асс?
— Вы-то в статью за язычок попали. Думаете, ей нравятся арабские пословицы или она не слыхивала о ваших стишках? А сказать вам правду, я тоже не в восторге от вашего юмора. Например, сейчас сравнили наш деканат с ветряком. Это стыдно — плохая та птица, которая свое гнездо марает...
Давид Маркович даже приостановился, опешив.
— Вы, Мария Андреевна, отличная, благородная птица, несмотря на... несмотря ни на что. И в какой-то мере вы правы, — пробормотал он, шагая дальше.
— Несмотря на, несмотря на... — передразнила его Муся. — Не воображайте, Белецкий, знаю я, какого вы обо мне мнения. Ну, юмора у меня нет, зато есть здравый смысл. Если над Касимовой только подсмеиваться, она у нас останется на веки вечные.
— Не останется.
— А почему вы в этом уверены? Почему вы делаете такое лицо, словно вам все известно, а мы высшей мудрости все равно постигнуть не можем, и с нас хватит ваших шуточек!
— Хорошо, пусть не будет шуточек, пусть будет серьезик! — сказал Давид Маркович, начиная раздражаться. — Вот перед вами тупой научный работник. За что его можно отстранить? Только за что-то веское, с уголовным оттенком — подлог, плагиат или вроде этого, натуральная же его глупость прикрыта дипломом и ненаказуема. Надо, чтобы она, то есть тупость, просвечивала ярче, чтобы количество идиотских выступлений бросалось в глаза, и тогда...
— Неужели еще недостаточно? — строптиво сказала Сильвия.
— К сожалению, такова у нас практика борьбы с тупостью.
— Значит, ждать, пока Касимова дозреет до полной спелости?
— Сейчас можно было бы добиться только перевода в другой вуз. Поедет куда-нибудь в Ижевск и будет красоваться там, пока ижевские товарищи не погонят дальше... К чему этот кругооборот?
Сильвия, помолчав, заметила:
— А меня сегодня так и не тронули. Странно даже...
— Ваше имя сунуто в статью для видимости! — с жаром заявила Муся. — А мишень — Нина Васильевна. Так подсказывает мне здравый смысл. Эта статья...
— Эта статья — покушение с негодными средствами! — перебил Давид Маркович. — И... и мишень жалкая.
— Вы, Давид Маркович, опять не то говорите... — не согласилась Муся. — Статья-то свое дело сделала? Человека-то хотят съесть? Или Нина Васильевна не человек? Отвечайте!
— Что вы, Мусенька! Я знаю, что дамы тоже человеки, — отшутился Давид Маркович. — У меня тоже есть здравый смысл...
На этом и распрощались. Сильвия не пошла привычной дорогой, свернула в парк. Сначала ей было приятно шагать по дорожкам меж темных деревьев, в памяти неясно проступал и повторялся нечаянно пойманный сегодня взгляд, и на душе теплело все от той же надежды, не подвластной здравому смыслу. Но вскоре пришлось поспешить к дому, приближалась ночь, и воздух становился слишком холодным и трезвым. Осень.
8
У девушек разговор о любви может возникнуть по любому поводу. На этот раз поводом оказались рыжие усы коменданта, заглянувшего в комнату.
Ксения тотчас сказала:
— Мужчины гораздо брезгливее женщин. Женщине эстетика не нужна, женщина способна влюбиться в пугало гороховое.
— Ну, неправда! — воскликнула Кая и, смутившись, добавила: — Чем ты это докажешь?..
— Доказательство только что заглядывало в дверь. Мужчина, дорогие мои подруги, не поцелует женщину, если у нее красный от водки нос, или вздутая физиономия, или лысина во все темя, или...
— Или рыжие усы... — докончила Фаина, не отрываясь от работы.
— Какие тут шутки, это подтверждается на каждом шагу. Вот наш комендант и его жена — разве он женился бы на ней, будь она такая старая и красноносая, как он? Ни за что! А она-то за него вышла, молоденькая, хорошенькая...
— Дурочка, потому и вышла.
— О, не в том суть, любезные подруги. Обе вы, при всем вашем уме, способны выйти замуж за этого коменданта, то есть за ту или иную разновидность этого коменданта. Да, да, обе! И не отпугнут вас ни рыжие усы, ни лысина, ни запах спиртного...
— Почему ты только про наш ум говоришь? — спросила Кая. — А как ты сама?
— Меня спасет творчество. Я — вне. Я буду описывать вас, несчастные! — торжественно произнесла Ксения, но сразу же засмеялась сама. Смеху ее не очень-то поверили — неизвестно, когда Ксения шутит, а когда и всерьез ставит себя вне всего или над всеми. — Опишу Фаину и ее толстого пресного супруга, доктора филологических наук...
— Уймись, Ксения, — равнодушно проговорила Фаина.
— Уняться мне нетрудно. Но что девушки глупы, это доказано всей мировой литературой. Девственница соображать не в состоянии, на нее действует всякий вздор, ах бал, ах музыка, ах роща, кукушка, незабудки на сыром месте! И вот она уже ждет. Посмотреть со стороны — потеха: сидит, разинув ротик, и ждет поцелуя. А потом сама удивляется — неужели я целовалась с этим подонком? И, чтобы не так совестно было, здесь же решает: я его люблю и буду любить до гробовой доски! Ну а потом все зависит от темперамента — до гробовой доски или до следующей пятницы...
— Тебя слишком интересует одна и та же тема, приелось уже, — сухо заметила Фаина.
— Всех интересует, и гораздо больше, чем меня.
— Но не все такие киничные, — тихо сказала Кая, подняв глаза, почему-то испуганные, как у ребенка. И занятие у нее сейчас ребячье — сидит у своего столика и раскладывает узором коллекцию крымских камешков.
— Ого! Но, видишь ли, я не циник, а теоретик, и тебе очень даже полезно знать, что любовь не игра в камушки. И, пожалуй, не игра в шахматы.
— Не трогай меня.
— Ладно, ладно, птенчик. Твой случай довольно примитивен и описан много раз. Вот когда Лео Тейн тебя разлюбит, то, может быть, получится капельку занятнее... — Ксения сделала нарочитую паузу, но Кая выкладывала узор из камешков, будто не слыша. — Ха-ха... Измена в наш век! В ней есть какое-то новое качество. В прошлом столетии девушек, узнавших об измене, как правило, валила с ног нервная горячка. Я справлялась в старинных словарях, что это за болезнь такая, и, оказывается, брюшной тиф! Уму непостижимо!..
Красноречие Ксении наконец иссякло. Кая начала напевать, держа на ладони пестрый камешек, и у Фаины защемило сердце, хотя она не впервые слышала этот печальный напев. Кая почти всегда поет без слов, голос чистый, прохладный...
Напев дрогнул и оборвался. Что с ней? Что-то ее томит...
— Некто приближается к нашей двери ходом коня. Кая, сделай поэтическое лицо! — сказала Ксения и запела отвратительно: — Челуется изменник, челуется с другой!..
Но в дверях появилась Ира Селецкая. Не здороваясь, злая и возбужденная, пристала к Фаине:
— Объясни ты Сильвии Александровне, что мы этого глупого сочинения о предательстве писать не будем! Неужели она воображает, что это у нее очень остроумный намек на нас? При чем тут предательство, если нам не нужны ее неумелые поучения вместо науки, и мы об этом сказали прямо!..
— То-то и есть: не прямо сказали, а наябедничали, — поправила Фаина. — А все дело в том, что вы ловчите. Наука, наука! К чему эта болтовня, если вам надо азы повторять...
— Ах так? Нам азы? Наука только для тебя!.. — вспыхнула Ира. — На пьедестал лезешь? Мы тебя знаем хорошо! Готова всех смести с дороги!
— Погоди, погоди!.. — Фаина тоже рассердилась. — Кого это я сметаю с дороги?
— Всем от тебя тошно! От твоей знаменитой дипломной, от твоей замечательной учености, от твоей вечной улыбочки!.. Ксения правильно говорит — типичная старая дева!
Фаина, ошеломленная этим натиском злобы, хотела было ответить поядовитее, но ее остановил взгляд Каи — опять она похожа на обиженного ребенка, и смотрит, как ребенок, когда в доме нелады.
— Что за глупости! — вмешалась Ксения. — Мало ли что можно сказать шутя! Не сваливай на меня и на каких-то «всех», не верю, что кому-нибудь тошно от улыбки Фаины... Разберись в своих чувствах!
Сняв очки, она уставилась на Иру с таким исследовательским интересом, что та сразу остыла.
— Ты думаешь, завидую? А вот ни чуточки. Было бы чему... Просто я не выношу чванства, а у Фаины...
— Дорогие собутыльники! — воскликнула Ксения, и на это тотчас засмеялась Кая. — От вас невыносимо разит скукой! Ссора без фабулы, страсти элементарные, любовь едва тлеет. Нужен хоть какой-то толчок со стороны!.. Ира, ты не так расставляешь ноги, в модных журналах колени держат вроде как вывихнутыми... Повторяю, нужен толчок, я в этой комнате скоро умру со скуки, поверьте мне!
— А я от диктантов умру, и все умрут, — сказала Ира, понемногу успокаиваясь. — Поспелов обругал меня интриганкой за то, что я ходила на кафедру, а я только подняла вопрос, который давно наболел. На каком основании курс разделили? Кто решил, кому нужно писать диктанты, а кому не нужно! Почему мы второй год мучимся?
— По курсовым работам видно, кто как пишет, — сказала Фаина.
— По курсовым видно, кто пишет самостоятельно, а кто в словарь заглядывает... Да ну!.. Ты, пожалуйста, уладь как-нибудь с этим сочинением, а то Юрка Поспелов меня совсем заест. Реканди, я понимаю, сейчас не в духе, в газете тоже было насчет ее познаний...
— Хватит ее познаний для этого дела, и еще останется...
— Вот! Ты опять хочешь подчеркнуть, что... — начала Ира, но тут же решила пренебречь новым поводом для ссоры. — Так ты поговоришь с Сильвией Александровной?..
Чей-то звонкий голос прокричал за дверью:
— Костровой письмо! — Дверь приоткрылась, и письмо влетело в комнату.
— От кого, от кого?.. — не терпелось Ксении, пока Фаина вынимала из конверта синеватый лист.
Отмахиваясь от вопросов Ксении, Фаина прочла это странное послание про себя:
«Фаина! Вам, пожалуй, покажется непонятным мое к вам отношение. Я видел вас лишь издали, я знаю вас лишь по рассказам Ксении, двусмысленным и неопределенным, но мне случилось заглянуть (простите, простите...) в ваши записи-дневники, и я внезапно понял, как мы с вами близки. Среди реальностей мира я для вас только бледный призрак, да и вы для меня только знак, но разве не чужды нам обоим увесистые, краснощекие реальности? Доверьтесь мне, Фаина. Пусть это старо и избито — переписка без встреч, но ведь и встречи двоих тоже стары и избиты. Попробуем узнать друг друга в самом важном, в самом незамутненном, и наша будущая встреча станет или необычайной радостью, или... прервется топотом носорога. Ответьте. Вадим Витаньев.»
Почерк был с сильным наклоном влево, очень ровный, четкий — точно писал увесистый бухгалтер, а не бледный призрак. На конверте — Ленинград, 27, до востребования.
— Это Вадим? Вадим? — не отставала Ксения. — Что он пишет? Что?
— Да ты, наверно, сама знаешь, на что способна твоя родня, — пыталась отшутиться Фаина, слегка смущенная — как-никак любовное письмо, хотя и несколько загробного характера. — Ну, читай, если хочешь.
— Ответ напишешь?.. — жадно допытывалась Ксения, мигом пробежав письмо. — Ах, как интересно! Можно, я прочту вслух?
Письмо прослушали два раза, со смехом. Фаина смутно пожалела — не надо было отдавать. Конечно, он убогонький, этот Вадим, если поддался на фокусы Ксении, но...
Ира, веселясь больше всех, просила показать ей Вадима, Ксения отмахивалась:
— Ни за что! Никому! Вы банальные, вы краснощекие! Его должна увидеть, и то в далеком будущем, лишь она, лишь Фаина Кострова!
— Только бы он в будущем не спятил совсем, — вдруг усомнилась Ира, — он у тебя и так ненормаша, это же ясно! Что это у него такое, что за носороги?
— Тебе недостает эрудиции, Селецкая! А он читал Ионеско! — похвалялась Ксения. — Вы посмотрите-ка лучше на Фаинку — краснеет и похорошела!
Наконец, пришел Лео Тейн, и все угомонились — не говорить же при нем о письме, не мужского ума дело. Ира отправилась домой, Кая загремела коробкой с шахматами, Ксения взялась за книгу.
Фаина усадила себя за стол насильно — опять мешал молчавший Тейн и чем-то раздражала Ксения. Вероятно, пристальным вниманием, которое она скрывала, впустую перелистывая страницы книги.
Полчаса тишины. И вдруг молчание Каи и Тейна странно изменилось: не то король у них ушел с доски, не то у королевы разорвалось сердце, не то сами они перестали дышать, но что-то там стряслось. Оба быстро надели пальто и молча исчезли. Тейн, впрочем, пробормотал нечто, похожее на «до свиданья»...
— Действие развивается, — зевнув, сказала Ксения.
Фаина зябко повела плечами. Точно топиться пошли. Или нет, он утопит ее, а сам... Ох, какая чепуха лезет в голову. Надо ведь им и поговорить, не все же молчать целыми вечерами.
А без них и работается лучше... Итак, доцент Гатеев повелел подумать над темой. Что ж, подумали и еще подумаем. Можно взять и частушки, если, по его мнению, это самый интересный жанр. Все равно — после дипломной она напишет диссертацию, а там уже ее воля... А Ксенечке, стало быть, удалось-таки закинуть петельку. Но на этом и кончится, на этом и кончится...
Стало быть, причудские частушки. Начинать нужно с Адама. Дескать, Причудьем называется побережье Чудского озера. Вдоль западного берега деревни с русским населением тянутся двумя ветвями, и так далее, перечислить. Первые насельники — где, как, когда, и так далее. Рыбаков влекли богатые рыбные угодья... Так. Потом о народном творчестве Причудья вообще, и, наконец, о частушках более подробно. Дескать, частушка создается чаще молодежью, поэтому диалектные черты сглажены — умеренный тип яканья, близость консонантизма к литературному языку, и прочее. Ритмика. Перебои в ритме заполняются при пении паузами и комической мимикой... Тут же не поспоришь: Катя Ермишина только подымет бровь — кругом хохот...
Живо представив себе ясноглазую Катю, Фаина с улыбкой перевернула страницу. «А вот и про меня!..» — подумала она, прочтя четыре строчки сверху:
Я сидела у ворот,
Мил спросил — который год?
— Совершенные лета,
Сижу никем не занята...
Именно. И лета совершенные, и сидит умница — никем не занята. И поэтому ей можно навязывать полоумных... Фаина исподлобья взглянула на Ксению — вообразить только, чего она напела этому Вадиму!..
— Ты что смеешься? — быстро спросила Ксения.
— Так, частушка смешная.
— Какой прелестный научный труд — хочешь припевай, хочешь приплясывай!.. Но ты не из-за частушки смеялась... Фаинка, а ты ему ответишь, да? Если хочешь, я помогу... Слушай, а на душе все-таки сладко, а? Есть такое чувство, а? Я заметила, как ты держала письмо в руке. Сладко? Признайся, что ты ощутила в руке? Рукой?
— Сладко, — сказала Фаина. — И рукой тоже — будто прямо в банку с вареньем.
9
Усадив Фаину на стул, который едва умещался между столом и стеной, Гатеев просматривал частушки довольно долго. Ему на диване, видимо, сиделось очень удобно. Когда вся тетрадь была перелистана, он потер прекрасно выбритую щеку и заговорил гладко, как на конференции. Фаина, заранее решив не возражать, спокойно приняла общие замечания о методологии, с удовольствием согласилась, что фольклор явление художественное, а не просто памятник быта, покивала головой, слушая рассуждения о специфике фольклорных жанров. Ей даже показалось (и польстило слегка), что серьезный ученый говорит с ней, как с равной. Но как только Гатеев, открыв тетрадь на восьмой странице, помахал над ней острым карандашиком, обманчивое чувство равенства развеялось бесследно. Школьница, да еще и будто провинилась в чем-то...
— У вас, товарищ Кострова, к сожале-ению, нет четкой разницы между фольклором и устными произведениями отдельных лиц. Не всякая частушка относится к фольклору. Например, вот эта... — он уколол частушку острием карандаша. — Откуда она у вас?
— Я ее сама записала.
— Вы хотите меня уверить, что этот вирш поют? Так, свободно, без навязывания со стороны какого-нибудь культработника? — Он с отвращением посмотрел на Фаину и прочитал:
Норму отлично выполняем
И за качеством следим,
Опыт свой распространяем
И другим передадим...
— Пели в клубе, — сказала Фаина, — возможно... и с навязыванием.
— Зачем же вы записали фальшивку? Разве вы не видите, что она плавает брюхом кверху, как дохлая рыба?
— Но куда ее девать? Нам еще на первом курсе был приказ записывать все.
— Вы такая послушная?
— Я и теперь послушная, я не диссертацию пишу.
Он поднял бровь и буркнул:
— А вы вот и в дипломной изложите собственные мнения.
— Я не знаю, по какому признаку выбросить эту частушку. Нельзя же по тому, что нет традиционной основы...
— Подделывают и с традицией. — Он полистал тетрадь. — Пожалуйста, есть зачин, пожалуйста:
С неба звездочка упала,
Патефон приобрели,
Мы в культурном отношеньи
Далеко вперед ушли...
Не очень решительно Фаина сказала:
— Все-таки трудно определить, что фольклор, а что не фольклор.
— Неужели трудно? Фальшь так и режет ухо. — Он, морщась, подумал, еще посмотрел на Фаину. — Не слышите?..
— Слышать-то слышу...
— Ага! Тогда попытайтесь проанализировать, почему это относится к «нефольклору»... Вот это, и это, и это... — В тетради появилось несколько птичек. — А дальше поищите самостоятельно. Хорошо?
— Хорошо... — И Фаина нечаянно засмеялась. — Я их терпеть не могу!
— Ну, так! А говорите — трудно... Это у вас будет целый интересный раздел. Я вам отмечу кое-какие статьи, не мешает прочесть. Зайдите сюда на кафедру завтра, я оставлю у лаборантки...
Вошла Сильвия Александровна, а за ней Белецкий. Гатеев улыбнулся им, не разжимая губ, потом взглянул на обложку тетради и проговорил неизвестно к чему:
— Так-то, Фаина Кострова... У вас красивое имя.
Он отдал ей тетрадь — по рассеянности вместе с карандашиком. А выйдя за дверь, Фаина услышала смех.
Если красивое имя, зачем же смеяться. Наверно, решил, что оно слишком лазоревое. Не знает же, что у них на деревне это самое обыкновенное имя, Фаин сколько хочешь. Одна, толстая, в кооперативе торгует, сплетница отчаянная...
Не сделав и трех шагов по коридору, Фаина вернулась. Нет, вовсе не отдавать карандаш. Надо сказать Сильвии Александровне насчет того злополучного сочинения о предательстве...
— Не писать сочинения? — небрежно переспросила Сильвия Александровна, выслушав Фаину. — Пусть не пишут, если оно им не по силам.
С таким ответом Фаина и вышла на улицу, раздумывая о том о сем. Изменилась Сильвия Александровна, холодна, неприветлива. Все же глупо срывать злость на старосте курса... А к доценту, пожалуй, нетрудно притерпеться. Возможно, он и не над ней смеялся. Интересно, какие он выпишет статьи. Задание немного странное, не сразу и в толк возьмешь. Жаль, не спросила, как он смотрит на импровизацию, но ничего, в следующий прием. Принимает по-барски, свысока. Для мефистофельских брови у него слишком редеют к вискам, а то бы... Ладно, сейчас на почту, написать отцу.
Купив открытку, написала краденым карандашиком несколько ласковых строчек. Завтра отец получит, наденет очки, прочтет, а вечером, когда мачеха уляжется, он еще к столу сядет с письмецом, и кота за дверь выкинет, чтоб не мешал читать и думать...
...Казалось бы, немудреное дело — окончить, поехать туда, учить в школе ребят, пускай глядит отец на любимую дочку, спокойно доживает век. А то еще — надеть синее с пестринкой платье, покрыть лишние книги салфеткой, вязанной в звездочку, выйти замуж за Николая Ермишина и ждать его к ночи с лодкой, полной окунями. За Николая?.. «Эх, Фаина Степановна, имел я надежду до сего вечера, а сейчас вижу — все напрасно...» Да, напрасно, напрасно, не нужен синенький сарафан, не надо окуней, домика с резным крыльцом, праздничных застолиц... Отошло.
Не надо играть с собой в пустышки. Она здесь, с черновиками дипломной, с черновиками совсем другой жизни. Идет по городской улице, немного дымной — кое-где уже начали топить, сланцем пахнет...
В комнате — никаких перемен. Кая вытирает пыль, радио наставительно и громко говорит... вероятно, о мелиорации, и никто его не слушает. Ксения пишет про-из-ведение, а за ее спиной маячит невидимый миру Вадим.
Фаина спрятала в стол тетрадь и карандаш, за работу можно приняться завтра. Выключила радиоприемник. Взяв для отвода глаз книгу, закуталась в мягкий платок. Хоть минуту посидеть в тишине...
— А благосклонный читатель уже давно обо всем догадался, — туманно сказала Ксения.
Ну и пусть догадывается.
10
Сильвии очень хотелось бы зачеркнуть весь вчерашний день, все мыслишки и переживания, начиная с той минуты, когда она увидела на кафедре Кострову. Сначала Гатеев ни к селу ни к городу сказал, что Фаина — красивое имя, потом Давид Маркович пошло сострил насчет тесного единения руководителей и студентов, потом оба неумно рассмеялись, и студентка за дверью могла слышать их смех. А Сильвией овладело то самое неумное и пошлое чувство, которое она в себе презирала.
Дома пыталась работать, но, просидев несколько часов, написала меньше страницы, да и ту пришлось выбросить. Иначе и быть не может, если научную работу прописываешь себе, как лекарство от надоедливых мыслей.
А вечером пришла Нина Васильевна — за утешением. Пили вдвоем чай с пирожными, Нина Васильевна подробно рассказывала о своих горестях: обидная статья грозит большими неприятностями в будущем, дети простужены, кашляют, любимое существо в образе мизерного доцента Эльснера терзает душу двусмысленным поведением. Сильвия добросовестно утешала ее до тех пор, пока гостья не начала вдруг хвалить Гатеева: какой он внимательный, да как умеет сочувствовать, да как легко становится, когда поговоришь с ним. Услышав это, Сильвия, вместо утешения, могла предлагать только чай с пирожными.
Бесплодное занятие — зачеркивать вчерашние дни, все равно они просвечивают. Но поутру, придя на кафедру, Сильвия все же спросила у Давида Марковича:
— Можно зачеркнуть, Давид Маркович?
Тот, не моргнув глазом, ответил немедленно:
— Рыдает страстное томленье в моей зачеркнутой строке!..
Ремингтон у Эльвиры Петровны поперхнулся и замолк. А Давид Маркович произнес безжизненным голосом:
— Из цикла «Зиглинда».
Сильвия не улыбнулась — шуточка царапнула. Впрочем, сама она и напросилась на нее.
На кафедре новости: надо ехать со студентами копать картошку. Колхоз не поспевает, погода ненадежная. Короче говоря, ничего веселого. Ей, вероятно, придется ехать со вторым курсом математиков. Вариант приемлемый, если бы не Лео Тейн...
Сильвия, вздохнув, вытряхнула на стол содержимое своей сумки и стала раскладывать все по сортам. Этот второй курс математиков, пожалуй, тоже можно рассортировать. Водятся там разные породы: студент-светоч — не приставайте к нему, он завтра изобретет нечто неслыханно кибернетическое; студент-работяга — учит то, что положено, только не требуйте от него песен и плясок; студент, берегущий голову, — не захламливайте ее филологией, места и так мало... Еще: тупица-весельчак и тупица-мрачный, студенты средние, студенты симпатичные, студенты молчаливо-загадочные... Все это привычно, все это в пределах. Но Лео Тейн!..
Выбросив ненужные бумажки, Сильвия сложила остальное в сумку и, забывшись, продолжая думать, прижалась лбом к столу... Лео Тейн? Что в нем скрыто, она не знает, но в аудитории Лео Тейн — шут. Чтобы добиться смеха на уроке, он готов на что угодно, он не щадит и себя. Он даже нарочно ставит себя в жалкое положение, уверенный, что втягивает в это жалкое, шутовское положение и своего партнера — преподавателя, что аудитория смеется над обоими...
— Сильвия Александровна! — окликнул ее Белецкий. — Вам пора идти, а вы поникли главой и, ей-богу, стонете вслух!
Сильвия, быстро поднявшись, пригладила волосы. Эльвира Петровна елейно промолвила:
— Ничего, еще только шесть минут прошло.
— Две! — весело сказал Белецкий.
Сильвия посмотрела на него, и докучные мысли растаяли под его внимательным взглядом. Не так уж трудно идти к математикам и даже к Лео Тейну, когда тебя провожает такое облачко тепла...
Но в аудитории надо держаться крепко... Вот, пожалуйста, Лео Тейн всегда попадает в поле зрения, как ни стараешься его не видеть. Сидит у окна, против двери, разинув рот, — беззвучно зевает. Можно не сомневаться, что рот он разинул заблаговременно, что зевать ему вовсе не хочется и что просидит он так, с полуоткрытым ртом, столько времени, сколько вытерпит. Замечать не стоит, ему же неудобнее.
Поздоровавшись, полезно взглянуть на Алекса Ланге. Перед ним всегда лежит наготове тетрадь, и хотя нельзя ручаться, что она имеет прямую связь с русским языком, однако пристойное отношение к работе налицо, и простодушный взор не таит никаких подвохов...
— Товарищи! — сказала строгая и уверенная преподавательница Сильвия Реканди. — Сколько раз вам говорилось — занимайте места впереди. Что вас тянет к стене?
Студенты из задних рядов медленно, неохотно пересели. Это начало входило в игру: если у нас не лекция, а урок, то и мы не взрослые, а школьники.
Затем все пошло своим чередом. Работяги отвечали бодро, равнодушные плелись потише. Новый текст читался толково, лишь под конец Вельда Саар нагнала на всех тоску. Эта здоровая и румяная девица читала на редкость расслабленным голосом.
Слова на доске писал Каллас, широколобый юноша, одолевавший науку так, как его деды одолевали каменистую землю. Продвигался не спеша, но уже в прошлом семестре все на курсе увидели его силу. И был в нем дух независимости: общая, довольно легкая настроенность аудитории никогда его не заражала. Сейчас ему было трудно записывать на слух, но он упорно писал, сам стирал написанное, сам правил — и только шея у него все больше краснела от напряжения.
Потом осталась еще та часть урока, которая называлась беседой, то есть попросту надо было заставить их вымолвить несколько слов по-русски. Сильвия Александровна предложила:
— Припомните что-нибудь, что недавно привлекло ваше внимание — вчера, позавчера или еще раньше. Интересная статья в газете, в журнале, интересная встреча... Вспомните, подумайте и расскажите.
Все послушно задумались и думали так долго, что стало ясно — ждут звонка. Пришлось обратиться к одному из покладистых лично:
— Начните вы.
— Хорошо, — откликнулся покладистый. — Я могу за всех сразу. У нас была очень интересная встреча с деканом, и мы узнали, что в колхоз поедем. — Кругом засмеялись. — А интереснее ничего не помню я.
— Так. Об этой встрече вы сказали за всех, теперь будем говорить на другие темы.
Каллас честно вышел на работу:
— Я читал про трех спутников Юпитера, но это очень трудно передавать, а интересно. Они имеют атмосферу...
Сильвия Александровна слушала, стараясь не сбить его поправками, зная по опыту, что это приведет к молчанию.
После Калласа рассказывали, вернее, скупо отмеряли по две-три фразы о спортивных состязаниях, о фильме «Новый Дели», о концерте Эрнесакса...
Алекс Ланге поделился своими опасениями, как бы машина не отбила хлеб у учителей:
— Если программу знаменитые педагоги составят, то все плохие должны поехать в болото или на пенсию. А я, наверно, стипендию не получу. Я читал, как одна умная машина... Ну, значит, студент много раз ошибся, а она ему ответила: «Идите домой, вы лентяй!..»
— Не говори страшного! — остановил его, под дружный смех, весельчак из первого ряда, где сидели отважные. — Я лучше про дельфинов расскажу или про тетю!.. Или наоборот!..
— Отлично, товарищ Томсон, — согласилась Сильвия Александровна, — рассказывайте о дельфинах.
— Нет, я сначала о тете. Это толстая женщина в розовом платье. А если она тетя, то у нее есть племянница...
— Или племянник.
— У нее племянница, и эта добрая тетя всегда защищает ее от врагов.
— От каких же врагов?
— От студентов, особенно от Лео Тейна... — Лео Тейн показал Томсону кулак. — Тетя боится, что кто-нибудь поцелует ее племянницу, она даже готова, пусть поцелуют ее, но только не дорогую племянницу...
В аудитории становилось все веселее. Сильвия Александровна с опаской поглядывала на длинную серьезную физиономию Томсона — куда его еще занесет?..
— А я знаю, чья это тетя! — фыркнул кто-то справа.
— Я тоже знаю! — фыркнули слева.
— Неправда, не моя! — бойко отозвалась Вельда Саар. — У моей нет розового платья!
Рассказ о тете рассмешил всех чрезмерно и не совсем естественно.
— Хватит, товарищ Томсон... Давайте уже о дельфинах.
— Я читал, что дельфины — это интеллектуалы. Они любят трудные задачи, они умнее обезьян. Играют в баскетбол, а в карты еще не играют, но, может быть, научатся, и тогда можно будет с ними перекинуться в бридж...
Каллас поморщился и сказал:
— У тебя не академический разговор... Это не смешно, что с дельфинами можно установить более разумный контакт, чем с обезьянами.
До звонка осталось четыре минуты.
— Расскажите и вы о чем-нибудь, — обратилась Сильвия Александровна к Тейну.
Четверть минуты продолжалось молчание, затем Тейн, развалившись на стуле, покривил губу и спросил:
— Зачем это?
— Чтобы научиться русскому языку.
— Благодарю вас, — протянул Тейн. — Я сейчас не расположен учиться... Как-то нет настроения.
Холодная наглость была не только в словах студента, но и в его позе, в голосе, в прищуренных глазах. Не помня себя от гнева, Сильвия Александровна бросила ему в лицо:
— Жаль! Очевидно, вы не из тех, с кем можно установить разумный контакт!..
Потом, после урока, Сильвия долго думала об умной машине. Что бы та сказала Тейну? Помягче, или порезче, или просто хватила бы его по уху какой-нибудь особой лопастью?..
11
Отъезд в колхоз был назначен на воскресенье. С пятницы уже не работалось, хотя Фаина несколько раз принималась за свои записи и раздумывала над тетрадью с пометками руководителя.
В эту же пятницу Фаина заговорила с Ксенией о Кае:
— Неужели ты не видишь, как у нас нехорошо? Кая на себя не похожа, мрачная, злая...
— Ревнует к Вельде, очень просто.
— Очень просто! — передразнила Фаина.
Ксения, закрыв книгу и держа палец между листами, писательски изрекла:
— Это кажется сложным, если брать отдельную жизнь, но вообще это закономерно: Лео Тейн изменяет — Кая Тармо злится.
— Ну и голова у тебя! На что ни взглянешь, все распадается на одинаковые серые кусочки.
— Далеко не все, есть вещи, которые не распадаются... — с неожиданной искренностью начала Ксения, но тут же перешла на иронический тон: — Современная серьезная мысль находит, что с самотеком в любви пора покончить. Женская особь должна записать себе по пунктам, какими интеллектуальными и моральными качествами обязан обладать избранник, потом посмотреть, кто подходит под эту анкету, и тогда уже полюбить его чистой девственной любовью!..
— Все можно повернуть на смешной лад...
— Опять-таки не все... Но к этому Тейну, по-моему, надо было приближаться, поглядывая в анкету. Кая ошиблась. Мой совет тебе, Фаина! Бди! Даже кандидаты наук бывают подонками!..
— Да ну тебя...
Фаина опять задумалась над той тетрадью, где Гатеев насажал галочек. За окном моросило, со скуки казалось, что моросит и в комнате. Стоит ли сейчас возиться с дипломной, ничего уже не успеешь до отъезда. Статьи все прочтены — по его списку, который она получила на кафедре, и, кстати, вернула ему прикарманенный карандашик...
Одна из статей его собственная. Упоминает в ней и о частушках. Пишет, что подделки, сочиненные по поводу той или иной «кампании», опошляют важные политические темы. Дидактизм и ходульность выдают халтурщиков с головой. Это вообще не фольклор, и, кроме жанра, в них нет ничего общего с народной частушкой...
Так-то так, а методология все же неясна. Чутьем отличать фольклор от не-фольклора?..
Все идут в народный дом,
Там приехал агроном,
Будет лекцию читать,
Как природу побеждать...
Дили-дили-дили-бом... Здесь — его правда! — так и высовываются локти расторопного клубного работника.
«Халтурщики любят псевдонародные речения...» Есть, есть и такие. «Ой, да запевай, подруженька активная», «Начинай-ко-ся, миленок, эх, соревнованьице...»
Но надо ведь доказать, что это плохо. С чего же начать?.. Вот одна частушка, отмеченная доцентом:
Мы, стремясь удой повысить,
Создавали скотный двор,
Облик колхоза изменился,
Написал о нас селькор...
Если ее пропеть, язык вывихнешь, но это еще не доказательство, для пользы дела можно и вывихнуть. Газетные обороты? Но газета может отражаться в современном фольклоре, не все же петь о том, как придет свататься матаня... Фольклор, товарищ Кострова, явле-ение искусства. Хорошо, Алексей Павлович, с этим я согласна. Значит, у нас уже есть один признак не-фольклора — отсутствие художественности...
В комнату молча вошла Кая, молча села в угол и начала писать письмо. Писалось оно уже не первый день, примерно по строчке в сутки. Украдкой взглянув на нее, Фаина вздохнула.
— Что ты все вздыхаешь! — сказала Ксения. — Частушки грустные? Или, быть может, вздохи твои не относятся к ученому тексту?
— Как тесно в этой комнате, ни охнуть ни вздохнуть.
Кая, скомкав лист, взяла новый, наклонилась над ним. Фаина видела ее волнение, и у нее почему-то появилось неприятное, раздражающее чувство, и опять захотелось уйти из этой комнаты куда-то, где веселее, а может быть, и не веселее, может быть, печальнее, но своей печалью. Надоело почему-то заглядывать в чужую жизнь.
Но чужая жизнь шла дальше и развертывалась перед глазами. Дверь распахнулась, и вбежала Вельда — вероятно, соперница. Вероятно, чужая печаль...
— Здравствуйте, девочки! Что ты сидишь дома, Кая! Дождь перестал, пройдемся по городу. Или выпьем кофе с пирожными, в колхозе не дадут!
Покружившись, она из-за плеча Каи бросила быстрый взгляд на письмо. Лист был чистый, но Кая тотчас смяла его — очевидно, он испортился от взгляда Вельды.
Вельда неестественно засмеялась:
— Я тебе помешала? Прошу прощенья!.. Ну как? Прогуляемся? Хотя я, кажется, уже простудилась…
— В колхоз не хочется? — предположила Ксения.
— Чего это все думают, что я не поеду в колхоз! Я и с простудой поеду. Здоровые никогда не верят больным... Тейн сюда не заходил? Вот он-то, по-моему, очень серьезно болен.
Кая упорно молчала. Становилось неловко, и Фаина нехотя спросила:
— Что же там с Тейном?
— Кажется, сошел с ума.
У Каи дрогнули веки. Фаина быстро сказала:
— Какая ерунда!
— Уверяю вас! Со злости чуть не кусается, в субботу на русском уроке такого наболтал этой Реканди, что мы просто обалдели.
— Чего он наболтал? — продолжала Фаина, выручая Каю.
— А дерзостей всяких, тормоза не работают... Теперь вторые сутки где-то пропадает, и никто понятия не имеет, куда он провалился. Откровенно говоря, боюсь самоубийства!
— Мели Емеля, твоя неделя... — лениво отозвалась Ксения.
— А где же он? Вчера никто не видел, сегодня никто не видел... У вас тоже не был?
На этот вопрос промолчали все.
— Садись, Вельда. Что ты стоишь посреди комнаты... — сказала Фаина.
Но Вельда сделала гримаску и засмеялась некстати.
— Так гулять со мной никто не пойдет? Тогда прощайте, надоело мне у вас, и голова болит... Что ты на меня дуешься, Кая? Не я же виновата, что Тейн пропал! — заключила она и ушла.
— Не волнуйся, Кая, — безразлично сказала Ксения. — Я утром видела Тейна и эту самую Вельду на улице. Помню очень хорошо, у него были кирзовые сапоги под мышкой, наверное, в колхоз собирается. — Ксения закурила. — Вечное вранье, вечное ненужное вранье. — От Ксении повалил дым, Кая открыла окно. — А впрочем, тут замешана любовь, и, значит, без лжи не обойдешься. Все поголовно врут, любовь и вранье неразлучны!
Попав на свою зарубку, Ксения рассуждала бы до второго пришествия, но Фаина, заметив, как у Каи задрожали плечи, — та все стояла лицом к окну, — рассердилась:
— Перестань! Не все врут!
— Фаинка, помяни мое слово! Не сегодня—завтра начнешь ты! Точнее говоря, ты уже начала, тебя уже подпалило, а ты будто бы не замечаешь!
— Это Вадим? — внезапно спросила Кая, обернувшись и испытующе глядя на Фаину. На ее запекшихся губах скользнула улыбка, такая редкая в эти дни.
Ксения засмеялась, зеленые глаза весело прищурились сквозь очки.
— Закрой окно, птенчик! Холодно... — сказала она, бросив окурок через голову Каи. — Почему это пятикурсники едут на картошку? Пятый никогда не ездил.
— Можешь не ехать, едут желающие.
— Нет, поеду. Мне нужны новые впечатления...
Фаина вытащила старые ботики. Каблук еле держится, — пожалуй, будут пропускать воду...
— Кая, а у тебя есть что-нибудь на ноги для колхоза?
— Я куплю, мама прислала денег. В деканате давали сапоги, но сороковой номер... — Кая подошла ближе и каким-то упавшим голосом попросила: — Фаина, а нельзя мне поехать с вашей группой? Были бы вместе...
— Я могу поговорить с Сильвией Александровной, но... может быть, тебе удобнее со своим курсом?
— А я тоже хочу новых впечатлений... — смущенно сказала Кая.
— Гм... Мы с Фаиной просто ошеломим тебя новыми впечатлениями, — насмешливо обнадежила ее Ксения, но развивать эту тему не стала. — О боги!.. Совсем из памяти вон, я же обещала Астарову, что приду вечером. Фаинка, пойдем со мной, а? Поможешь разбирать книги.
— Не хочется что-то...
— Да ты сообрази — где еще ты увидишь такие книги!
— Ладно, пойду, — согласилась Фаина. — Только приберу немножко... Вот возьми себе эти сапоги, они мне маловаты. Еще крепкие...
Ксения поставила старые сапожки на стул и минут пять смотрела на них, приговаривая:
— Погрузимся в буколическую сельскую жизнь, полную бесхитростных радостей!
После этого сапожки были заброшены под кровать, а Ксения принялась читать газету, в которую они были завернуты. Читала вслух и нараспев.
— Перестань ты, — сказала Фаина. — Схватила дырявую газету столетней давности...
— Нет, ей годика три-четыре... Внимание! «В стокгольмском турнире легендарный Тейн привлекает все взоры. Это последний турнир перед матч-реваншем...» Подумайте, привлекает все взоры!
— Да не дури!..
— Ах извините, ошибка! Оказывается, это легендарный Таль... Ну, неважно. Слушайте о сельской жизни!.. «Председатель не верил в удобрения, считал, по Вильямсу, что травы без всякой химии восстановят плодородие почвы. Но урожаи были низки. Осенью правленцы уговорили Ивана Николаевича поехать в Выселки. Пожилая женщина — бригадир — сразу повела его на склад. Он зачерпнул горсть пшеницы, пересыпал крупные зерна, пробовал на зуб. Под навесом председателя ждал новый сюрприз — гора силоса. Иван Николаевич нюхал ароматную зеленую массу...»
— Сочиняешь опять!..
— Смотри сама — «нюхал»... Погоди, есть еще и о нас, то есть о картошке: «Квадрат на поле — закон для всех. На двух тысячах гектаров прошли квадратно- гнездовые сажалки, и результат изумил Ивана Николаевича. Да, плохой хозяин тот, кто тянется к старинке либо порочит квадраты неумелой работой, неряшливостью, халатностью…» Ну, тут еще много, а кончается так: «Прозрел председатель!» — Ксения смяла газету и засмеялась. — А как будет лет через десять? Как тогда будет прозревать председатель?..
— Скучно читать старые газеты, — сказала Кая.
— Собирайтесь, пойдем к Астарову. Ты, Кая, тоже. Ты можешь складывать журналы по номерам и смотреть картинки. Это безусловно разгонит скуку, ты отдохнешь душой, Кая!.. И заодно убедишься, что на русском языке написано большое количество книг.
— Я и так знаю.
— Ничего ты не знаешь, Кая. Тебе известна только хрестоматия, составленная знаменитым педагогом Фуфаечкиным. Он переделал все великие произведения так, чтобы они были тебе по зубам, и вот вместо русских писателей ты читала одного лишь Фуфаечкина.
— Ну, не выдумывай, никакого Вухваечкина я не читала...
12
О собрании и о принятой резолюции никто не вспоминал, пока не пришла Нина Васильевна и не начала жаловаться. Полулежа на диване, в печальной позе, так же не шедшей к стилю кафедры, как и сам диван, она негромко повторяла одно и то же: после статьи Асса студенты перестали ее уважать, товарищам нет никакого дела до ее судьбы, не выяснено, кто автор статьи, неизвестно, когда будет образована комиссия... Почему так равнодушен Давид Маркович? Если его не волнует клевета на него лично, то все же мог бы он поинтересоваться репутацией кафедры. Почему равнодушен Аркадий Викторович? Почему все, все равнодушны?..
К ней будто и прислушивались, но реплики ее тонули в общем разговоре. Всякий раз, когда на кафедре появлялся Гатеев, он неизменно заводил речь о порче языка, и это, видимо, очень раздражало заведующего, — ему едва ли не казалось, что новый доцент метит в него самого и в его докторскую диссертацию. Сильвия Александровна знала, однако, что это конек Гатеева с давних пор, у него всегда делалось несчастное лицо, если при нем ошибались.
Гатеев прошелся по комнате, сочувственно кивнул Нине Васильевне, но сейчас же заговорил снова:
— Противно. Как только мелькнет в печати чье-то живое удачное слово, его сразу начинают глодать, пока оно не превратится в обглоданную кость. А потом эти голые кости переходят из доклада в доклад, из статьи в статью, пока кто-то самый дошлый не обнаружит, что появилось новое слово. Смотришь — опять набросились, опять гложут...
— Весьма образно... — морщась, похвалил Астаров. — Но не совсем справедливо.
— Как же не справедливо? Сколько слов убито в бесконечных повторениях: и мощная поступь, и вклад в сокровищницу, и энтузиазм, и маяки, и даже совесть, которая появилась исключительно по почину Заглады...
— Но дело не только в повторениях, — сказал Давид Маркович. — Дело в том, что за избитыми выражениями стояла, скромно говоря, неполная истина... Королева полей сильно нуждалась в рекламе.
— Нет, это началось еще раньше. Насчет неполной истины вы правы, конечно, но я вижу опасность и в самих повторениях, в выработке заготовок и в массовом их распространении. У штампов при этом рождаются дети. В первоштампе есть все же какой-то смысл, но его потомок — всегда полная бессмыслица...
— А у меня от этого объяснения ум за разум заходит, Алексей Павлович, — послышался из-за горы тетрадок голос Муси. — Очень закручено.
Гатеев вежливо подождал, не будет ли продолжения, и снова повернулся к Давиду Марковичу:
— Блеск стерт даже с таких сияющих слов, как звезда, светоч, счастье: звезда подается «в разрезе текущих фактов», счастье — «целиком и полностью», светоч «стимулирует освоение насущных задач» и светит ровно столько же, сколько закопченная кастрюля...
— Да-да... Ммм... — сказал Астаров. — Сейчас широкая общественность поднимает голос против бюрократизации языка, однако...
— Аркадий Викторович! — перебила его Нина Васильевна. — Извините, но я прошу вас выслушать меня!
Астаров выслушал.
— Комиссия будет образована немедленно, — пообещал он таким рассеянным тоном, что Нина Васильевна только вздохнула и направилась к двери.
— Почти все едут в колхоз, — сказала Сильвия Александровна после ее ухода. — Не понимаю, когда же будет организована комиссия.
— Хоть сегодня, — любезно ответил Астаров. — Не угодно ли вам ее возглавить?
— Вы удивительный человек, Аркадий Викторович. Вы уже забыли, что меня тоже надо проверять.
— О вас, товарищ Реканди, в протоколе собрания ничего не сказано... — важно вымолвил он, но все же призадумался. — Ммм... Ну, сделаем так: возглавлять комиссию буду я, а членами будут Алексей Павлович и Давид Маркович.
— Анекдот... — попыхивая дымом, засмеялся Белецкий. — Я ведь на одних правах с Сильвией Александровной.
— Никакого анекдота, — сердито возразил Астаров. — Решено обследовать работу Нины Васильевны, и пока только ее работу, и деканат тоже стоит на этой точке зрения. Вас я, конечно, могу заменить Саарманом, но от этого ничего не меняется, и вы, и все остальные члены кафедры должны побывать у Нины Васильевны не менее двух раз, чтобы наши данные были вполне объективными. Все это придется сделать после возвращения из колхоза. Ясно? — Он потер ладони и снова повернулся к Гатееву. — Я полагаю, что ценность любого высказывания, в первую очередь, зависит не от тех или иных лексических норм, а от ценности самой информации. Не так ли?
— Информа-ация, выраженная суконным языком?.. — протянул Гатеев. — Нет, благодарю покорно. Я не пропущу такой курсовой работы, не пропущу дипломной!..
— А диссертацию должны будете пропустить, чтобы не обидеть коллегу!.. — развеселился вдруг Давид Маркович.
Астаров неторопливо поднялся и, улыбаясь, вышел. На пороге сказал, не оборачиваясь:
— Я обедать, Эльвира Петровна.
Дверь захлопнулась.
— Как вам не совестно, Давид Маркович, — укоризненно промолвила Муся. — Тут же на столе его научный труд, а вы все закидываете насчет бездарных диссертаций. Это бестактно.
Все дружно захохотали. Машинка под рукой Эльвиры Петровны скрежетнула.
— Что за смех! — удивилась Муся. — Разве вы не читали? Прекрасно написанная диссертация, вы же знаете, какая у него ясная голова... Ну, что вы заливаетесь, Сильвия! Все уже перестали, будет вам!..
Зазвонил телефон, Эльвира Петровна сняла трубку.
— Товарища Реканди? Когда?.. Сейчас передам. — На лице Эльвиры Петровны зажглась адская улыбка, от которой она сразу похорошела — опять-таки на чертов вкус. Сильвия Александровна даже поежилась в ожидании дальнейшего. Дальнейшее было сказано нежным свирельным голосом: — Сильвия Александровна! Вас приглашает к себе декан. Если вы не заняты, просит теперь же.
Минута прошла в раздумье.
— Платье у вас подходящее, — сказала Муся заботливо, — мне нравится такой винный цвет. А волосы всегда, как сияние, даже завидно. Значит, соберитесь только изнутри... Мы будем ждать!
— Не ждите, я от него прямо домой пойду, если жива останусь.
— Возьмите меня на помощь, — пошутил Гатеев, — я скор на расправу с деканами.
— Все вы скоры заочно, — усомнилась Муся. — Сильвия Александровна, непременно забегите сюда!
Декан Онти кого-то принимал, и Сильвии пришлось подождать в секретарской. В комнате было хмуро не то от надвигающихся сумерек, не то от унылого лица секретаря. Разговор предстоял не из приятных, но тем лучше: столько уже накипело досады, что пора начинать бороться. Бороться? Вот тоже слово, с которого, как говорит Гатеев, стерт блеск. Да если бы оно и блестело, так сто́ит ли Тамара Леонидовна Касимова этого слова? Но все равно, пусть будет «бороться». А вот как? И против кого, собственно? Она ведь запрятана в недра деканата и окружена крепкими стенами высшего учебного заведения. Так против кого же? Не угодно ли — против ректора? Или только против деканата? Кто ее сюда впустил, кто отвечает? Давид Маркович пока что умывает руки, посмеивается. Остальные?.. Удобная формула: все мы виновны, если терпим такого продекана. Все, то есть никто. Будем жить смирно, как-нибудь обойдется... Ну, нет!
«Пусть только Онти даст мне малейшую возможность замахнуться, я ударю! Надо же кому-то и начать...» — подумала она, вытирая со лба капельки пота.
Дверь скрипнула, от декана вышел студент бодрого, но слегка встряхнутого вида — вероятно, получил нагоняй.
— Пожалуйста, — сказал секретарь.
Декан Онти был небольшого роста, сухощавый и верткий. Его узенькие глаза смотрели на мир божий умно и до ужаса проницательно. Соображал он с удивительной быстротой и такой же сообразительности требовал от собеседника, что приводило к частым недоразумениям. Его стремительный говорок надо было ловить на лету, не переспрашивая, ибо повторял сказанное он еще быстрее. К Сильвии он обратился сначала по-эстонски, потом по-русски (не для того ли, чтобы проверить обвинение Асса в незнании языка?), но обе длинные фразы были неразборчивы. Затем последовало несколько вопросов, на которые нельзя было ответить из-за отсутствия промежутков между ними, и, наконец, декан предоставил время для ответа на главный вопрос:
— Как вы повышаете свою квалификацию?
Внимательно выслушав объяснения Сильвии насчет кандидатского минимума, темы работы и всего прочего, декан произнес рекордно быструю речь, основные тезисы которой были остры, как копья:
— Есть сигналы. Нарекания. Упреки в недостаточных познаниях. Наблюдения продекана. Жалоба русистов. Асс.
На все это Сильвия сказала:
— Я стараюсь и буду стараться пополнять знания.
Декан Онти дружелюбно заулыбался и мелко отчеканил нечто одобрительное. По-видимому, он хотел уже распрощаться с покладистой преподавательницей, но та неожиданно для него спросила:
— Кто скрывается под псевдонимом Асса?
Декан замигал с такой же быстротой, как говорил.
— ... тья Асса никому не может причинить вреда, деканат знает свои кадры и ничего не принимает на веру! ... лютно ничего!
Но статья уже принесла вред Нине Эльснер. Статью читали студенты, деканат выразил недоверие — уже образована комиссия для обследования работы, и, кроме того...
— Обследование работы никому не приносит вреда. Пользу! Студенты? Если Эльснер ни в чем не виновата, то студенты знают об этом больше всех других и, следовательно, считают статью Асса неосновательной. Также да будет всем известно, что деканат анонимных высказываний не одобрял, не одобряет и одобрять не намерен, хотя и вынужден на них реагировать. Если комиссия и представитель деканата найдут, что работа Нины Эльснер стоит на должной высоте, то тем самым вопрос будет разрешен. Именно такого мнения держится деканат по поводу статьи, преподавательницы Эльснер, комиссии и шума.
— Товарищ Онти, вы сказали, что судьба Нины Эльснер зависит от комиссии и от представителя деканата. Вы имеете в виду Тамару Леонидовну Касимову?
— Да, да, да! Я имею в виду нашего продекана ... ща Касимову!
— В таком случае я... я должна сигнализировать деканату: товарищ Касимова невежественна и пристрастна.
Декан Онти чуть не вскочил с места.
— Товарищ Реканди! Вы отдаете себе отчет?!
— Отдаю.
Откинувшись в кресле, декан взирал на свою собеседницу с неподдельным изумлением. Сильвия опять вытерла проступивший на лбу пот. Хорошо бы сказать, что Касимова тупее курицы, но это было бы бранью. Да и храбрость уже почти истощилась...
— Пожалуйста, конкретнее! — выговорил наконец Онти. — Деканат знает товарища Касимову как отличного работника! Да!
Сильвия снова бросилась в ледяную воду:
— Конкретно — учебная работа на нашей кафедре вне ее компетенции. Ее выступления у нас — юмористика. Это может подтвердить любой член кафедры, если... захочет.
— Несомненно мы побеседуем и с другими членами кафедры. — Онти уже овладел собой. — Я желал бы знать, что означает — юмористика?
Сильвия подумала, глядя на декана словно сквозь дымку, и сказала:
— В данном случае — нечто нелепо-комическое.
Декан тоже подумал, по лицу его, одно за другим, скользнуло несколько выражений, за которыми Сильвии было не угнаться. Потом он еще и улыбнулся, как- то уж совсем не на тему, а через секунду простер левую руку к телефону, а правую подал Сильвии в знак того, что собеседование кончено.
На улице, без декана Онти, все двигалось очень медленно — встречные студенты, такси, облака в темнеющем небе... Ай-ай, разговор без последствий не останется. Но каковы они будут? Если декан Онти, способный постигнуть все в мире, не знает вдруг, что такое юмористика, то... то можно брякнуться так, что костей не соберешь. А все из-за него, из-за Гатеева — не приехал бы он сюда, не жгло бы, не дергало... Кто ее теперь поддержит? Только не Аркадий Викторович. Если бы тупость Касимовой задела его самого, если бы она наболтала чепухи о его лекции, он бы на стену полез, а если не о нем, он еще и поддакнет...
Трое все-таки ждали Сильвию — Муся, Белецкий и Гатеев. Просили рассказать подробно, но тотчас же были сражены не подробностями, а самой сутью. Особенно разошлась Муся.
— Все слишком привыкли читать о подвигах! — восклицала она, похлопывая себя по тугим бокам. — Никто уже не понимает, что такое храбрость в мирное время и в мирном учреждении! По-моему, сейчас во всем городе нет никого храбрее Сильвии. Вы только вдумайтесь — сказать декану, что продекан тупица!
— Хватит уже о моем подвиге!.. — рассердилась Сильвия, чувствуя, что восторги Муси делают ее смешной в глазах Гатеева. Тот больше помалкивал, усевшись в углу дивана так, будто собирался остаться там на ночь.
— Для книги, конечно, это не подвиг, — продолжала Муся, — для книги это слабый эффект, в книге нужно было бы стукнуть декана веслом по голове, тогда да, тогда был бы эффект!..
— Мария Андреевна, у вас разбойничья фантазия! — восхитился Давид Маркович. — Откуда весло?
— Очень даже просто, Стеньку Разина вспомнила... А вы, Белецкий, когда вас вызовут, вы так и скажите: «Товарищ Онти! Тамарочка отбила мужа у Нины Васильевны и теперь хочет убрать соперницу подальше!»
— «Безумная» — это, кажется, роман Крашевского. Вы не помните, Мусенька?
— Давид Маркович, я терпелива, но вы все-таки не переходите границ.
— Хорошо, не буду переходить. Но вам я тоже кое-что посоветую: когда декан вызовет вас, не говорите с ним о любви, о кинжалах и о кубках с ядом.
— Ладно, ладно... Вы смотрите на эту Касимову с возвышенных позиций и ничего внизу не видите, а если и видите, то вам неловко делается — как же это мир может быть таким примитивным. Надо, чтобы было сложно!
— Вы, Мария Андреевна, сегодня настоящий Цицерон.
— Цицерона-то вы сразу приплетете, я знаю... Прощайте-ка, я уже домой пойду!
— Все уходим, — сказал Давид Маркович, поднимаясь.
Но ушли не все — Гатеев и не шевельнулся на своем диване, думал о чем-то, зажмурившись. За дверью, впрочем, Сильвии послышалось, будто он тоже встал.
Площадка перед колоннами была освещена, толпились студенты. Сильвия чуть-чуть замедлила шаг, уступив дорогу Мусе. Давид Маркович тотчас же приподнял шляпу и тоже прошел вперед, и даже на спине у него было написано: пожалуйста, замедляйте шаги, сколько найдете нужным... Сильвия нахмурилась, но пошла дальше еще медленнее.
Гатеев окликнул ее издали, из-под колонн портика:
— Сильвия Александровна! Подождите!
Сильвия остановилась, ее догнали Гатеев и Аркадий Викторович, вынырнувший вдруг неизвестно откуда.
О чем-то поболтали — не то о вечерней сырости, не то о ранних сумерках. Когда поравнялись с зеркальным окном, где была нарисована чашка с загогулиной, изображающей кофейный пар, Аркадий Викторович предложил:
— Зайдемте в кафе.
Сильвия отказалась.
— Вы тоже боитесь уронить свое достоинство, Сильвия Александровна? — проговорил он, взглядывая на Гатеева. — А я думал, что наши кафе пугают только приезжих. И, признаться, не понимаю, почему. Но вот ресторана нисколько не боятся, там хоть до положения риз — и то ничего.
— Это вы со мной спорите? — усмехнулся Гатеев. — Я не против кафе, только привычки нет.
Астаров все поглядывал на него и, кажется, обдумывал какой-то ход. Вероятно, диссертация заботила его не на шутку, и хотелось ему обласкать возможных оппонентов. Через минуту догадка Сильвии подтвердилась. Астаров откашлялся и потер перчатку о перчатку.
— А поедемте ко мне, Алексей Павлович, — не совсем уверенно сказал он. — Вам, пожалуй, будет любопытно увидеть мою библиотеку, я ее приобрел недавно — наследство местного библиофила... Сильвия Александровна?.. Поедемте!
— Да что ж!.. — весело согласился Гатеев. — Поехали, Сильвия?
Сильвия молча кивнула.
Сели в такси. Глядя сквозь стекло на бегущие мимо бульвары, Сильвия испытывала чувство радости, странно смешанное с боязнью. Он в первый раз назвал ее: Сильвия. Как когда-то давно, как в другой жизни. Она не ослышалась, так и сказал: Сильвия...
Боже мой, уже приехали!.. Машина вильнула в проулок и остановилась перед домиком, выкрашенным в светлую краску и похожим на дачу. В этой части города все дома похожи на нарядные дачи и тонут в садах...
— Сильвия Александровна, вы в колхоз с математиками? — спросил Астаров, открывая калитку. — Возьмите и русистов с пятого, их там всего человек десять, они не все едут. Пусть познакомятся — так сказать, дружба между факультетами...
— Да, да, вы уже говорили об этом, Аркадий Викторович.
Пройдя по мощеной дорожке, они очутились у двери с цветными окошечками.
— За холостяцкий беспорядок простите, жена на курорт уехала, — пояснил Астаров и ввел гостей в маленькую переднюю, а затем в просторную комнату, освещенную тремя светильниками.
Беспорядок, однако, был только посередине комнаты — на полу огромной кучей лежали книги, все же остальное — мебель, обои, занавеси — радовало глаз свежестью.
Гатеев при виде груды книг оживился чрезвычайно, быстро листал старые журналы, вытаскивая из вороха то одну, то другую книгу, присаживался на корточки и тащил из-под низу какую-то еще, самую заманчивую. Сильвия не могла удержаться от смеха — столько игрушек получил сразу!..
— Здесь кое-что следовало бы просто уничтожить, — говорил Астаров, — например, эти белые книжки. Эмиграция... Печатались в Париже.
— А по-моему, все можно читать, что есть в мире, — сказала Сильвия.
— Может быть — нам с вами, но молодежь нельзя кормить чем попало.
— Если так, то надо быть последовательными, запрещать и другое. Вчера у магазина стояла длиннейшая очередь за «Декамероном». Это полезная книга?
Астаров развел руками:
— Классика, классика.
— Вы уверены, что все ищут там классических красот? — вмешался Гатеев.
— Но нельзя же отрицать, что это классика, и не стоит быть ханжой.
— Да, да, я читал не однажды, что это классика. И таким на меня несло от этих статей лицемерием, таким поистине ханжеством! — Гатеев даже оторвался на минуту от книжных груд. — Елейные похвалы, и ни слова о похабщине, будто там ее и нет, и не бывало!..
— У вас оригинальные суждения, — усмехнулся Астаров. — Вы всерьез полагаете, что произведения древних могут развращать молодежь?
— Это вопрос сложный, не берусь я его решать с маху. Но в одном я убежден твердо, хоть на костер: лицемерие развращает всех, и молодежь в особенности.
— Ммм... Да, разумеется, но я не совсем улавливаю, что вы имеете в виду. Не совсем ясен переход от «Декамерона» к лицемерию...
— Да уж извините меня, Аркадий Викторович, вы сами только что лицемерили. Не стоит прикидываться скелетом... Как раз недавно читал статью одного моего ученого коллеги. Он будто бы не понимает даже, что именно там написано. Дескать, верьте: я отрешен, высок и светел, я не вам чета, мне видны только красота, стиль и борьба с клерикализмом. Вот и лицемерие, печатная ложь...
— Ну, Алексей Павлович, хоть вы меня и обругали, но не можете же вы отрицать новаторства Бокаччо, вскрытие противоречий у него ново. И сама тема любви...
Гатеев хлопнул ладонью по переплету книги и перебил со злостью:
— О любви в «Декамероне» нет ни слова!
— Пусть так, — возразил Астаров с принужденной улыбкой. — Но не все же там новеллы на одну тему. Согласитесь, что там действительно есть и художественность, и опровержение религиозной морали. Не замалчиваются преступления римской курии...
— Вот, вот! — снова перебил Гатеев. — Как раз римская курия и интересовала тех, кто стоял в километровой очереди!..
— У меня где-то должно быть недурное вино, — сказал на это Астаров, удаляясь в соседнюю комнату.
Сильвия недоуменно подняла брови. За распахнутой на миг дверью мелькнула белокурая головка. Потом донесся тихий смех...
— Сильвия Александровна! — воскликнул вдруг Гатеев, опять зарывшийся в книги. — Слушайте стихи: рекачкачайка! Это стихотворение...
— А дальше что?
— А дальше ничего, все в одном слове — река, чайка и качание.
— Футурист?.. — Сильвия потянула книгу к себе, он не давал...
— Слушайте еще! «Раздую брюшину, засвищу-заору, исцарапанной мордой зачураю свою нареченную...» Замечательно! И все без запятых, как и в наши дни... «На харчи навалюсь — как приеду — приготовьте все необходимое...» Прелесть!
За дверью опять раздался смех — уже погромче. Алексей Павлович повернул голову. Сильвия отняла у него книжку, томик был без обложки и без титульного листа. Белецкий, наверное, знал бы, кто это...
Тут загадочная дверь отворилась, вышел Астаров, неся вино и бисквиты, а вслед за ним — не одна девушка, а две: Ксения Далматова и та, белокурая.
— Рекомендую — мои помощницы! Приводят в порядок эту библиотеку...
Астаров ушел и тотчас снова вернулся с коробкой конфет.
— Вы давно здесь работаете? — спросила Сильвия у девушек, чинно усевшихся рядом с ней. Младшая, видимо, стеснялась.
Далматова ответила:
— Я уже недели две, а Кая первый вечер. Очень много интересных книг, я больше из-за этого...
Аркадий Викторович ласково посмотрел на своих помощниц.
— Далматова у нас сама писательница, — сказал он, улыбаясь. — Сильвия Александровна, Алексей Павлович! Вино, на мой взгляд, неплохое... В столовой карточки на столе разложены, давайте уж на письменном!
Выпили действительно вкусного вина, попробовали конфет. Для Каи, которая все смущалась, Астаров выбрал самую толстую шоколадку с розовой нашлепкой сверху.
— Правда, есть любопытные книжицы? — говорил он Гатееву. — Ну, и трухи достаточно. Вон там, видите? «Похищенные минуты счастья» и все этакое... — Он налил еще вина и позвал кого-то из столовой: — Идите же скорей, а то вам и не останется!
— На харчи навалюсь, где же тут останется, — смешливо шепнул Сильвии Алексей Павлович, грызя бисквит, немножко подсохший.
На второй оклик из столовой вышла Фаина Кострова, сероглазая красавица... «Нет, она не очень красива, — мелькнуло в мыслях у Сильвии, — ее красит неприступный вид...»
— Да у вас здесь целый цветник! — сказал Гатеев, проведя рукой по волосам.
«...Ах, как они выдают себя этими незамысловатыми жестами — пригладить волосы, поправить галстук…»
Кострова, взяв бокал, протянутый ей Астаровым, поставила его на поднос.
— Я не пью, — сказала она почти надменно.
— Даже вина? — удивился хозяин и придвинул коробку с конфетами.
— Бери ромовые, Фаинка. Они для трезвенников... — засмеялась Далматова, и ее неправильное насмешливое лицо понравилось сейчас Сильвии гораздо больше, чем горделивый профиль этой трезвенницы. Впрочем, все равно — обыкновенные студентки, двенадцать на дюжину...
— Как же дела с частушками? — спросил Гатеев. Волосы у него не пригладились, будто уже продувал их сквознячок...
Кострова что-то ответила, не понять что. Но и это все равно — обыкновенные слова насчет обыкновенной дипломной... Гатеев пересел на другой стул, там было удобнее говорить о дипломной.
Сильвия повернулась к тихонькой Кае. Милая девчушка, но почему она-то грустит?..
— Вы на каком курсе? Я помню вас, вы живете вместе с ними в общежитии...
Кая взглянула нерешительно и вдруг попросила:
— Возьмите меня с ними в колхоз! Я к ним привыкла...
Сильвия засмеялась. Худенькое, хрупкое существо смотрело на нее чуть не с мольбой.
— Хорошо, поезжайте, только надо будет согласовать с вашей группой.
— Да, да, я поговорю, я устрою... Спасибо!
Конфеты становились все слаще, общий разговор не завязывался, пора было уходить. Сильвия взглянула на часики, и в это же время Гатеев сказал:
— Хозяин замолк, пора уходить. Как вы думаете, Сильвия Александровна?
— Да, поздновато, и улица пустынная.
Далматова бросила на нее насмешливый взгляд, как на боязливую старушонку, и проговорила:
—- Бандиты, конечно, здесь так и кишат, но я хожу одна, и мне не страшно.
— Мне тоже не страшно, — подхватил Гатеев, — я буду всех провожать и распугивать бандитов, вы только указывайте, чтоб мне не заблудиться.
— Не желаете ли взять что-нибудь с собой? — вежливо предложил Астаров. — Алексей Павлович, не увлекают ли вас «Похищенные минуты счастья»?
— Все в прошлом, все в прошлом, — засмеялся тот. — Если позволите, возьму вот эти журналы...
Кая тотчас же принесла ему газету для упаковки, потом хозяйственно расставила по местам стулья, убрала с дивана книгу, подняла с пола конфетную бумажку. Астаров следил за ней с видимым удовольствием.
— А вам, Сильвия Александровна, ничто не приглянулось? — спросил он, провожая гостей до двери.
— Нет, благодарю. Мне декан велел квалификацию повышать, некогда.
— На то он и декан, — либерально заметил Астаров. — А вы когда с ним говорили?
— Сегодня.
Он улыбнулся, потирая руки. Всегда в нем что-то неясное, ненадежное. Вероятно, уже забегал в деканат...
— До свиданья, дорогие гости. Заходите, пожалуйста, всегда рад...
Сильвию Александровну довели до дому первой, распрощались и весело двинулись дальше — серединой улицы. Алексей Павлович был сегодня молод, сам похож на студента.
...А она, Сильвия Реканди, была скучная, чопорная учительница. Такой она была в глазах студенток, это очень чувствовалось и заставляло ее делаться еще скучнее. Разница в возрасте не так уж и велика, но девочки уже сбрасывают ее со счетов и, вероятно, думают, что она, приходя вечером домой, натирается мазью от ревматизма и, помолясь богу, повышает квалификацию.
Между тем, жизнь никогда еще не приносила ей таких острых переживаний; даже в то юное время, в Ранна, не было ни такой радости от незначительных, казалось бы, причин, ни таких огорчений. Не было и такого придирчивого внимания к собственному поведению. Сейчас, например, мучил ее пустяк: зачем она замедлила шаги в надежде, что он ее догонит. Пусть бы лучше Алексей Павлович замедлял шаги, ожидая ее.
С такими мелкими уловками надо покончить, иначе она станет похожей на Нину Васильевну, а этого она не желает.
Сильвия раздумывала долго, не щадя себя. Потом, хоть и не натершись целебной мазью, села за работу. В конце концов декан Онти тысячу раз прав — повышать квалификацию нужно. И сейчас это нужно больше, чем когда-либо.
13
Итак, математики были отправлены в колхоз вместе с русскими филологами для укрепления дружбы между факультетами. Сильвия Александровна, которая должна была всячески содействовать этому, пока что могла радоваться: в грузовике не было никаких разногласий — на двух языках все дружно ругали холодный ветер, ухабы и обоих деканов, снарядивших поездку в воскресенье, а не завтра бы, в понедельник. Когда же наименее способный к дружбе народов и факультетов Лео Тейн предсказал, что лопнет шина, и когда шина действительно лопнула, то развеселились поголовно все. Кое-кто взялся помогать шоферу накладывать заплату, остальные разбрелись по лугу.
Томсон, стоя на кочке, держал речь:
— Почему меня мажут патокой? Зачем меня мажут патокой? Во вчерашней газете я прочел, что копать картошку меня призывает долг патриота, что, копая картошку, я выполняю свою священную обязанность, что картошка сама по себе дело десятое, а главное то, что я студент, и поэтому я должен стоять на вахте мира, выполнять, крепить и воздвигать. А я и без этой статьи поехал бы. Что тут стрелять из таких крупных орудий? Не поедем — картофель сгниет в земле. Значит, надо ехать...
— Попробовал бы ты не поехать! — сразу ввязался Тейн. — При первом удобном случае — тебя бы фюить!..
— И правильно бы сделали, — буркнул комсорг Каллас.
— По-твоему, конечно, правильно. А если даже и неправильно, то говорить иначе тебе не положено, ты обязан, как уже заметил наш друг Томсон, убеждать, направлять, воздвигать и надрываться.
— А картошку любишь?
— Что из того? Я колхозников не приглашаю за меня зачеты сдавать.
— А ты пригласи! У тебя, кажется, есть должок? — посмеиваясь, сказал Томсон и ловко прыгнул на другую кочку. Гладко причесанный, в новом спортивном костюме, он точно выехал на партию тенниса.
Тейн, засунув руки в карманы, оглядел его с ног до головы и проворчал:
— Ну и поздравляю с поездочкой! Сам только что бранился, чего уж там...
— Студент должен браниться, без этого нельзя. Экзамен, или семинар, или еще что, сразу надо пошуметь: материала много, времени мало, профессор придира. А в конце концов все равно сделаешь. И картошку выкопаем, свежий воздух, понимаете, чудесное дело!
— А почему это раньше, когда колхозов не было, картошку без студентов копали? — спросил Тейн.
Каллас — он с аппетитом ел большой бутерброд, подставив ладонь, чтоб не падали крошки, — ответил Тейну не слишком ласково:
— А потому что такие дурни, как ты, в студенты не выходили.
— А такие умные, как ты?
— А такие умные, как я, для тебя картошку копали.
Тейн подмигнул ему с шутовской гримасой,
— Вот и проврался! — сказал он. — С такой логикой в математики ты не выйдешь.
Каллас добросовестно задумался, соображая, где же у него ошибка, и бутерброд не доел, завернул в бумагу.
Сильвия Александровна, стоя в сторонке, слушала все это с усмешкой: каждый исполнял свою партию, как по нотам, она могла бы заранее предсказать, что они будут говорить об этой поездке... Впрочем, Каллас, подумав, прибавил кое-что:
— Распрекрасно я понимаю, куда ты клонишь. И ты прав, если рассматривать студента икс как количество часов, которое он должен затратить на ученье. Тогда получается плохо, тогда каждый час работы в колхозе будет превращать икс в икс минус единица, минус два, и так далее. Но на самом-то деле часы мы нагоним, программу за семестр пройдем. Так что...
Подошла Вельда Саар, в зеленых брючках, с распущенными кудрями, завертелась вокруг Тейна, но, не добившись внимания, стегнула его хворостинкой и убежала к подругам.
— Схоластика!.. — сказал Калласу Тейн. — А что ты об игреке напутаешь? О колхозе?
— Это другой вопрос, это пусть экономисты вычислят, почему там своими силами не справились...
Зашумел мотор, начали быстро усаживаться. Вельда цеплялась за колесо и немощным голосом жаловалась на мужчин, пока Томсон не втащил ее наверх. Сильвия Александровна подоспела последней — у нее увязла туфля, пришлось задержаться.
— Дайте и мне руку!
Грузовик уже трогался, ее подхватили, и, чуть не упав, она оказалась рядом с Тейном. Соседство это ее не обеспокоило, Тейн молчал и, кажется, улыбался.
Дорога пошла лесом. Высокие сосны еще дышали в лицо летней смолой, и папоротники зеленели по-летнему, и мелькнул даже кустик синих колокольчиков... Но добрый теплый лес скоро кончился, поехали по низине между полями, пыль ела глаза, набивалась в волосы, щекотала горло. Небесную даль затянуло темно-сизой тучей, пыль смешалась с холодным туманом. Веселый гомон затих, все ежились, поднимали воротники, и когда наконец увидели хутор, ометы, рябину у изгороди, то обрадовались, будто домой приехали. Через четверть часа на легковой машине подкатил и Астаров.
Разместились на двух соседних хуторах, недалеко от правления колхоза, и на третьем, подальше. Сильвию Александровну устроили у председателя, в одной комнате с его дочерьми, хотя она просилась на сеновал, уверяя, что это ее заветная мечта — спать на сеновале. Председатель, худой быстроглазый мужчина в навеки прилипшей к голове кепочке, еле отговорил ее от этой простудной затеи, и то лишь поклявшись, что на сеновале ночует тракторист.
Фаина, Ксения и Кая остались на ближнем хуторе, вместе с Вельдой и Ирой Селецкой. Ксения тотчас же объявила, что она обязана погрузиться в народную стихию и изучить ее; с этой целью она облюбовала себе местечко в кухне, у теплой печи, откуда только что вынули хлебы.
В комнате кровать была одна, очень широкая, деревянная. По жребию ее получила Фаина. Кая, тщательно осмотрев все пазы и щели (она была страстной ненавистницей клопов), половину кровати выпросила для себя. Потом ходили за соломой, настилали другую постель на полу, а Вельда при этом, кашляя, пророчила себе скорую смерть. Кашель ее производил впечатление только на лохматую собачонку по имени Топси, пришедшую из кухни поглядеть на беспорядки, — при каждом приступе раздавался негодующий лай.
Вдова-хозяйка, высокая, статная старуха, принесла молока и хлеба, за ней пришла и Ксения, похваливая свой теплый угол в кухне.
— Мягко? — печально осведомилась Вельда.
— Топчан спартанского типа. Но зато наблюдения: хозяйка, хозяйская дочка, — мать тихая, дочь громыхает. За печкой что-то шуршит, возможно, оборотни. Есть трехцветный кот.
Поев, решили прогуляться. Вельда отказалась. Завтра и без того заморишься, как негр на плантациях.
Уже вечерело. За воротами сразу начинался луг. Девушки, обогнув изгородь и рябины, пошли по влажной тропке, осторожно обходя болотца, прикрытые поникшей травой. Тропа привела к ручью, раздвоилась, петляя по берегу. Ручей был травянистый, едва поблескивал из тальника, местами терялся совсем.
На холме, где росли желтовато-ржавые осинки, захотелось остановиться — таким здесь подуло теплым ветром, совсем не похожим на тот пыльный вихрь, что несся навстречу грузовику... Девушки замолчали. Почему теплый ветер всегда вселяет радостную надежду?
Фаина, поглядев на подруг, которые стояли, приоткрыв губы и улыбаясь, так и спросила:
— Почему вы радуетесь?
— Потому что мы на лоне природы и окунаемся в идиллический ручей, — тотчас ответила Ксения.
— Окунаемся? Жаль, что нельзя... — сказала Кая.
— Предпочитаю ванну, — заявила Ксения. — Здесь пиявки и кака.
Кая спустилась к ручью попробовать, холодна ли вода, вскрикнула, стряхивая с рук студеные брызги. Глаза у нее, еще недавно грустные, сияли и, кажется, надеялись на теплый ветер...
Ксения, держась за осинку, запела нехорошим альтом. На этот раз никто не запретил ей фальшивить — пусть человек хоть на вольном воздухе отведет душу, однако всем стало легче, когда она умолкла.
От осинок повернули обратно. Фаина начала рассказывать, как она в детстве, тайком от тети Насти, купалась в озере до заморозков.
— Вот тогда и настыла на тебе корочка на всю жизнь, и живешь в ледяной скорлупке! — будто бы по-доброму сказала Ира Селецкая, но тут же добавила со смешком: — Самый подходящий характер для добывания научных степеней, все долой с дороги!
— Не приставай к ней, — лениво возразила Ксения, — всегда у тебя одно и то же.
— Я же шучу, шучу... — заюлила Ира. — Слушай, Фаинка, а ты этому ненормаше ответила? Вадиму?
Фаина промолчала.
— Вадим, кажется, запоздал, — многозначительно сказала Ксения.
Темнело все больше. Девушки чуть не бегом вернулись к знакомой уже изгороди. Во дворе Ксения повторила свою фразу о запоздалом Вадиме, собираясь, видимо, развить эту тему, но тут под ноги ей с яростным лаем кинулась собачонка.
— Топси, Топси! — закричала Ксения, надеясь задобрить этим собачонку, но та залилась еще пуще, а из-под сарая выпрыгнула другая, точно такая же черная и лохматая, — она-то и была настоящая Топси. Обе страшно злились, оспаривая друг у дружки право укусить Ксению. Наконец из дверей вышла хозяйка и уняла лохматых; Ксения сразу же пошла за ней в кухню на свой топчан.
В комнате оказалось, что Вельда незаконно заняла кровать. Пробовали будить, но она только плотней заворачивалась в одеяло. Обидевшись, ни Кая, ни Фаина не пожелали лечь с ней рядом, улеглись на соломе. Кая утешала, что так еще лучше — дальше от этих хитрых, противных, бурых, плоских тварей, если они все же притаились в кровати.
Крепко пахло овчиной от тулупов на круглой вешалке-вертушке. Воздух был холодный, сыроватый, как всегда в деревне осенью, пока мало топят. В окна смотрела непривычно темная и непривычно тихая ночь. Клопы не появлялись, но Кая долго шептала, что они могут сойти с кровати на пол, что они, бывает, лезут на потолок, доходят до того места, под которым лежат люди, и свергаются вниз. О нравах и обычаях этих мерзавцев она рассказывала со страстью и знала множество невероятных случаев, так и шептала бог знает до какого времени...
Утром встали рано, с нервной зевотой, с дрожью во всем теле. Было сумрачно; низко навис деревянный потолок, под окном стояли фикусы в зеленых кадках и застили свет. Зато из кухни так и тянуло теплом, паром, сытным запахом снеди.
Пришла заспанная, но веселая Ксения, начала «наблюдать». Ткнулась носом в овчинные шубы на вешалке — что за вешалка! Вертится вокруг оси и скрежещет! Под вешалкой невиданных размеров валенки с раструбами, а изнутри валит нафталинный дух. В кровати за подушкой наложены узорчатые пояса, рукавицы с бахромой, огромные носки, пасмы серой шерсти. На стенах увеличенные фотографии строголицых стариков и старух, семейные группы в рамках; над комодом, тоже в рамке, изречение — по черному полю серебряными буквами: «Кротким овцам в стаде не тесно».
— Это про нас! — сказала Кая. — А Вельда самая кроткая овца. Вельда, тебе не тесно было на кровати?
Вельда улыбнулась без всякого стыда и стала натягивать чулки на полные икры. Из-под подушки высунулся переплет — книжечка стихов. Ксения сразу схватилась за нее: кто же это читает изысканные стихи молодого поэта? кому принадлежит кровать и замечательные валенки?
— Легко сказать — наблюдай жизнь, — бормотала она, листая книжку. — А осмысление? — Книжка тут же была отложена в сторону. — Гм... Овчины и все шерстяное указывают на благосостояние колхозников, подушки-громадины — на присутствие водоплавающей птицы. Или, может быть, это вылезло из наволочки куриное перышко, рыженькое? Зеркало на комоде, одеколон и пудра, крем от загара — в доме девушка, возможно, влюблена. Фаина, кого ты видела во сне на новом месте — приснись, жених, невесте?.. Черный картон с изречением — религиозные пережитки, опиум. Фикусы — некоторое отставание от современных эстетических взглядов. Но! Стихи, радиоприемник, затем… один, два, три... восемь учебников на полочке!..
Фаина была рада, что Ксения не обращает внимания на нее, и сама удивлялась этому чувству облегчения; значит, там, в городе, вечный наблюдающий взор тяготил все же, несмотря на пятилетнюю привычку. Хорошо бы еще и самой не наблюдать, не видеть поджатых губок Иры и не считать ее скучным ничтожеством, не раздражаться от неприкрытого, надоедливого нахальства Вельды, не видеть синяков под глазами у Каи и не осуждать ее за любовь к изломанному, напыщенному мальчишке, Несчастье у нее неинтересное, оттого что неинтересен он. Ведь и несчастье бывает прекрасным... Да, пусть все несбыточно, немыслимо, пусть все предвещает беду, но если он, если человек прекрасен, если от улыбки, голоса, простого движения руки становится понятной и близкой его душа, если сам он отзывается на едва ощутимое, на едва слышный трепет... Впрочем, трепет — слово книжное и слегка лазоревое. Давайте ближе к современности! Например, от того же корня — треп. Это у вас, товарищ Кострова, мысленный треп после утомительной ночи. Ступайте копать картошку!..
— Кот зовет завтракать, — сказала Ксения.
На пороге трехцветный кот, изогнув лапку, вежливо мяукнул, и, правда, сразу же позвали к столу.
Хозяйка еще возилась у плиты, а за столом сидела круглоглазая дочка — крем от загара ей не помог! — и погромыхивала посудой, хотя и улыбаясь. Начали есть ячменную кашу с жареной свининой, и стояла еще большая миска с простоквашей, откуда можно было черпать уполовником себе, в глубокую тарелку или в кружку.
Было тепло и парно, хворост весело потрескивал под плитой, из приоткрытой дверцы выпадали угольки в виде веточек и гасли, чуть дымя и распространяя запах можжевельника. Кая почему-то смотрела на них, как завороженная.
К концу завтрака пришел и сын хозяйки. Взглянув на него, все догадались, кто носит непомерные носки и валенки с раструбами, Ксения затеяла было разговор о стихах, но Антс (так его назвала сестрица, громыхнув тарелкой) помалкивал и налегал на простоквашу.
Утренний туман еще не совсем рассеялся, когда вышли в поле. Собрались и остальные, немного озябшие, но настроенные очень храбро, даже Тейн что-то насвистывал. Астаров, в перчатке на одной руке, учтиво разговаривал с бригадиром, на него с любопытством посматривали две пожилые колхозницы — вероятно, загадывали, наденет ли он лайковую перчатку и на другую руку, когда будет вынимать из разрыхленной земли холодные картофелины. Сильвия Александровна тоже смотрела на него — с досадой; сама она, стройная и гибкая, в темном рабочем комбинезоне, видимо, намеревалась не отставать от своих воспитанников.
Ксения тотчас же устремилась к намеченному объекту наблюдения, то есть к Антсу, стоявшему около картофелекопалки. Он снисходительно глядел ей в макушку — голова ее находилась на уровне карманов его куртки, — ронял по два, по три слова в ответ на вопросы. Вельда жаловалась на зубную боль. Кая все озиралась, задевая украдкой взглядом свое счастье, а счастье посвистывало и ухмылялось. Кругом гомонили, бодрились. Крепкий пасленовый запах картофельной ботвы наполнял туманный воздух.
Бригадир разметил участки, машина начала работать. Расставили ящики, роздали ведра.
14
Через неделю стало полегче, попривыкли. Меньше деревенели ноги, и если у кого была раньше бессонница, то ее как рукой сняло, спали все крепко, хотя и во сне виделись всем рыхлые отвалы, и черные комья, и клубни, облепленные землей. Погода держалась ясная, однако же председатель, недоверчиво поглядывая из-под кепочки на небо, выставил на краю поля плакат: «Друзья! Завтра пойдет дождь!» По его мнению, это должно было повысить производительность труда.
Сильвия Александровна старалась работать наравне со всеми. Уставала от работы, а еще больше от чувства ответственности, ей все казалось, что студенты слишком суетятся, мешают друг другу, копошатся на месте без толку, — и правда же, поминутно у них что-то терялось, болело, проваливалось, корзины у них ломались, мешки продырявливались, Вельда Саар без конца спрашивала, куда делось синее ведро... Можно было позавидовать Астарову, он на этом поле являл собой нечто внепространственное и вневременное, к картошке не прикасался, бродил в отдалении, не то ища незабудок, не то ожидая, что запоют соловьи. Студенты про него куплеты сочиняли.
Особенно злился Тейн, но сейчас он не так возмущал Сильвию Александровну, как в аудитории — там он притворялся и паясничал, а здесь, хоть и выказывал характерец, однако шутом не был.
Как всегда и везде, добивался правды Юрий Поспелов, досаждая бригадиру неуместными вопросами насчет трудодней, цен на картофель, снижения себестоимости и прочих деликатных материй, но всякий раз, когда нужно было поднажать, налечь плечом, поднять тяжелый мешок, оттащить ящик, подходил первым. Толстый, флегматичный Ивар Матто тоже любил поразмяться с мешками, и вечером, когда мешки эти стояли у стен амбара, а он прислонялся рядом, то разница между ними была лишь в том, что мешки не улыбались.
Хорошим работником оказался Алекс Ланге, смотреть на него было так же приятно, как и в аудитории, — в лепешку не расшибается, но никаких подвохов. Томсон работал споро, мало утомляясь, всегда был выбрит, подтянут, и вокруг него часто звенел смех девушек. Деловитый, выросший в этих же краях Каллас отвозил мешки и ящики — приезжал в поле на телеге, сидя боком и помахивая кнутом над гнедой лошадью, имевшей несколько несговорчивый нрав... Строго говоря, Сильвии Александровне беспокоиться было нечего, картофель-то все же выкапывали.
Приходил на поле и дядя Сааму. В любом колхозе бывает такой дядя Сааму: ходит вразвалку, глаз прищуренный, не дурак выпить, а под хмельком охоч пофилософствовать. Но обычно дядя Сааму бывает преклонных лет, а здешний был мужчина в соку, годков пятидесяти, крепкий и коренастый. В конце недели Сильвия Александровна услышала как-то его беседу с Тейном. Дядя Сааму, сидя на ящике, говорил с умилением:
— Вот работают детки. И хорошо. На сердце радостно.
— А вы почему с нами не работаете? — спросил Тейн, стягивая край полного мешка и завязывая его веревочкой.
Дядя Сааму удивленно оттопырил губу:
— У меня же дочка!.. Во-во, гляньте-ка, вон там, в желтом платке!
— Дочка дочкой, а вы?
— Пэ-пэ... — недовольно произнес дядя Сааму. — Разве это мужская работа? Это ни то ни се... Девицы да подростки, для них как раз по плечу.
Сильвия Александровна тоже села на ящик и спросила:
— А какая работа мужская, дядя Сааму?
— У! Молотьба, к примеру! Лес валить — к примеру! Это для нормального мужчины.
Тейн желчно усмехнулся:
— А сколько штук вас здесь — нормальных мужчин? Оторвали людей от дела, а сами похаживаете да дожидаетесь мужской работы.
Дядя Сааму поковырял ногой в ботве, возразил строго:
— Ваше дело терпит, приедете в город обратно, учись сколько башка вместит.
Тейн стянул веревкой другой мешок и пробурчал:
— Выпивают с раннего утра.
Дядя Сааму обиделся:
— Не нами началось, не нами и кончится. Конечно сказать, Ной теперь человек немодный, а только, извините, это еще при нем началось. И пораздумать не мешает. Он, покойник, зашибать-то зашибал, а тем часом и ковчег построил, а что касается до его сынков, то хотя были они непьющие, да вот ковчега не построили ни малейшего... А на той неделе, к примеру, сообщаю вам, молотилка работать будет.
Сказав это, дядя Сааму степенно пошел прочь.
— Он ковчег строит, а я за него работай, — проговорил Тейн, не поднимая головы.
Сильвия Александровна, собиравшаяся уйти, задержалась. После той безобразной выходки в аудитории он в первый раз обратился к ней, и в голосе у него была нотка робости и неуверенности — так говорят, когда ищут примирения после ссоры.
— Пусть с ним председатель разбирается, нам и своих забот хватит, — сказала она намеренно безразличным тоном, — у нас вот Вельда Саар на работу сегодня не вышла, и никто не знает, почему.
Глаза у Тейна забегали.
— Мне это тоже неизвестно, — вымолвил он, — не я ее воспитываю.
Слова были дерзкие, тейновские, но в голосе дрожала та же нотка, и Сильвия Александровна опять не ушла. Помолчав и последив глазами за темной тучей на горизонте, которую ветер рвал на мелкие куски, сказала:
— Года через два придется вам кого-нибудь воспитывать, посмотрим тогда, что у вас выйдет.
— Я математик. Буду требовать, чтобы таблицу умножения учили. Это филологи любят воспитывать.
— Прекрасно! — одобрила Сильвия Александровна. — Запрячетесь в математику, как... червяк в редьку. Бывает и такое.
Тейн застегнул пуговицу на стареньком полосатом пиджаке, покривил губы, но не успел ничего сказать, а может быть, и не захотел. Уже подъезжал за мешками Каллас.
— Лео! Ящик со мной поднимешь? — спросил, он, спрыгивая с телеги и заматывая вожжи. — Или Поспелова позвать?
— Подниму, — мрачно ответил Тейн.
Сильвия Александровна отошла, чувствуя на себе его тяжелый взгляд. И все же она была довольна — пусть хоть неприятный разговор, да человеческий, пусть хоть неприятный человек, да не клоун с бубенцами.
Картошка выкапывалась отличная — не очень крупная, не мелкая, овальная, внутри светло-желтая, как сливочное масло, — словом, известный йыгеваский сорт. Но даже сваренная с чуточкой соли, дымящаяся, рассыпчатая картошка не может ответить на все запросы сердца. Поэтому по вечерам в колхозе «Сулеви» происходили вещи, не имеющие прямого отношения к росту колхозного благополучия…
В субботу Антс позвал в сад, на яблоки. Осенние яблоки необычайно вкусны, если их снимать с дерева в лунном свете... Смеху и веселой бестолочи было в саду, пожалуй, чересчур много, особенно с точки зрения двух серьезных деканатов. Но обе точки далеко, да и не все здесь смеются, если хорошенько вслушаться. Может быть, представители деканатов и вслушиваются, но едва ли они способны угадать, кому сегодня весело, кому грустно, кто влюблен, кто покинут. Кажется, больше всех влюблен математик Алекс Ланге, но возле него две девушки — в которую же? Кругом полнейшее отсутствие научных интересов — и под ранетом, и под боровинкой, и под суйслепом. Непродуманные утверждения... «Я никогда не буду говорить о любви...» — «Бывает и так, увидишь — и на всю жизнь...» — «Все можно простить, только не измену...» Под ранетом замолчали. Яблоко упало в траву... А Томсон позволяет себе лишнее — кого это он обнял и поцеловал на бегу? Впрочем, чего ждать от Томсона, если даже Далматова Ксения — девица серьезная и с дыркой на рукаве — уже битый час изучает колхозную молодежь в облике Антса, и Антс отгоняет от нее несуществующих комаров. Луна, луна... А где же Лео Тейн? Да вот — сидит в одиночестве на яблоневом пне, режет яблоко на дольки перочинным ножом, присматриваясь, нет ли червя...
Представительница деканата Сильвия Реканди дождалась, пока кончился яблочный пир и все разошлись на покой. Она тоже направилась к себе, к дому председателя, и по дороге улыбалась: кажется, и ее прихватило луной...
15
На соседнем поле курились облака пыли, кругом гудело — шла молотьба. Дядя Сааму в первый же день прибежал оттуда на картофельный клин вроде бы за делом, но все норовил показаться Тейну и ввернуть словцо насчет мужской работы: вона гляди, какие труды у мужчины — весь лик и то запорошило, свету божьего не видать… К вечеру, положим, лик опять был нетрезвый.
Тучи и председатель обещали дождь, но погода пока стояла тихая, теплая. Студенты, попутно с работой, узнавали кое-что из здешней жизни — хотя бы то, что было зримо. Председатель бесспорно вызывал уважение: он весь, по самую кепочку, был погружен в колхозные хлопоты, не давал поблажки ни себе, ни другим. Правда, чуточку близорук — не видит, что старшая дочка без ума от женатого тракториста, который, чем бы храпеть на сеновале, до полуночи прогуливается с ней под рябинами. Известны были еще некоторые разрозненные явления: Андрес строит дом, Линда получила премию за поросят, Антс учится заочно, Якоб первый кляузник на всю округу, кладовщик лихо играет на баяне, а бухгалтер правления ходит мрачный от недосыпа и от ревности к трактористу... Но некогда вникать глубже и в дела серьезные, и в дела несерьезные, скоро уедем, скоро уйдут из памяти все эти лица — молодые, старые, румяные, морщинистые, и степенные речи, и балагурство, и лукавые девичьи усмешки. А сейчас неглубоко входят новые впечатления, слишком густо сыплются на них круглые, влажные, облепленные землей картофелины…
Чтобы картошка не стояла совсем уж поперек горла, решено было устроить вечеринку. Говорилось об этом много, особенно среди девушек — надо ведь обдумать наряды.
Фаина относилась к этой затее равнодушно. Ее тянуло в город, а если не в город, то пусть бы работать не здесь, а у себя на острове. Не нравится ей такое сухопутное положение — и чаек нет, и воду видишь только в ведрах. Поехать бы к озеру хоть на денек, побродить по берегу, по осенней траве, поискать корешок от девичьей дури...
— Фаина! Опомнись ты наконец! Это же невыносимо — третий раз спрашиваю, куда ты дела мои бусы? — возмущалась Ксения, роясь в чемодане.
— Далматовой понадобились бусы! — со смехом отметила Ира. — Тяжелый случай, девочки! Отродясь бус на ней не видела... Где ты их купила? В кооперативе, вместе с повидлом?.. Да-а, вот что значит здоровый деревенский воздух и валенки под вешалкой!
— Пошлые намеки! — отозвалась Ксения.
Кая, забившаяся в угол необъятной кровати, тоже засмеялась.
— Дай мне свою блузку, кокетка. Я рукав зашью, — сказала она, — а то ты и на вечеринку так пойдешь.
Ксения послушно стянула через голову узкую кофточку.
— За забор зацепилась, наблюдала, какой забор. Колючая проволока сверху, колючая снизу, и две жерди между... А на вечеринку кофта мне не нужна, решили же — костюмированный бал!
— Вовсе не решили, — возразила Кая. — Какие здесь костюмы, у меня с собой голубое платье, и больше ничего.
— Тем интереснее. Завернись в простыню, и будешь русалкой, бледной ундиной с губами, как коралл... — говорила Ксения, пожимаясь от холода. — Зашивай скорее!
— Не желаю я в простыню, заворачивайся сама.
— Завернись, Ксеночка! — подхватила Ира. — Антс будет в восторге.
— Банальные реплики меня не трогают. Антс заслуживает самого пристального внимания — человек со своей собственной сущностью, а не кулебяка, начиненная лекциями. Это фигура колоритная...
— Как же не колоритная — косая сажень в плечах, соломенные волосья и веснушки по всему фасаду!
— Глупости, глупости. Антс — явление сложное. Кое-что я выяснила: медлительное упорство в работе и зубодробительная честность, он одному жулику, говорят, скулу вывихнул. Интересно встретить такое настоящее, ржаное, без сахара. Правдивость, суровость, дело… А в кармане своей куртки он носит письмо, которое жжет ему сердце.
— А это тебе откуда известно? — спросила Кая. — Бери свою блузку...
— Сестрица выболтала... Но вообще я недовольна, мало наблюдений. Что в этом колхозе внутри, не знаю. Как и почему председатель прозрел, тоже не знаю. Вижу только, что сыты, одеты, обуты. Вот Антс написал бы, если бы писателем был...
16
Вечеринку решили отпраздновать не в народном доме — до него далеко добираться, а здесь же у себя, по-домашнему. Матто и Томсон уже вернулись из кооператива с колбасой и вином, сметану для винегрета принесла дочка дяди Сааму, телятину — дочки председателя, Антс раздобыл копченой рыбы, огурцов, сестра его громыхала тарелками. Стол накрывали в большом, чисто выметенном амбаре, без окон, но зато с широчайшей дверью — во время танцев можно распахнуть обе створки и будет свежо, как в поле. Со столом было много возни, пока его соорудили из длинных досок, поставленных на чурбаны. Стены украсили зеленью и кистями рябины — нарядно, а главное, не похоже ни на какие официальные стены. И вообще ни на что не похоже, как каламбурила Ксения.
Вельда о чем-то долго перешептывалась с, Ксенией, а потом обе они исчезли из кухни, как раз когда надо было готовить винегрет. На кухне дым стоял коромыслом — винегрет выйдет необыкновенный, за это ручались две математички и Кая. Все дело в соусе: сметаны полная банка, да еще какой — хоть ножом режь, а в нее добавляют уксусу, соли, сахару, и капельку горчицы, и сельдерея, изрубленного мелко-мелко, и грибков, и смеху...
— Почему они целый день шепчутся? — спросила вдруг Кая, нарезая кубиками телятину. — Ксения что-то закручивает?
Ира Селецкая хихикнула, подняла выскользнувшую из рук луковицу, пряча лицо.
— Не знаю, не спрашивала, — сказала Фаина. — Да не все ли равно!.. Дай-ка мне ту ложку...
— Странные секреты, — сухо проговорила Кая. — Мне это не нравится.
— Ничего странного, маленький эстрадный номер с переодеванием! — опять хихикнув, заюлила Ира.
Кая подняла взор на Фаину, в нем была тревога и робость, и Фаина сама встревожилась, хоть и понимала, что для этого нет причины. Беда с влюбленными девушками, все у них какие-то предчувствия, загадывания, страхи...
Вечером, когда все собрались, но еще не сели за стол, Фаина, нарядная, в сиреневом платье, прибежала из амбара за солонкой, соль забыли поставить. Хозяйка сидела у окна, чистила яблоки для сушки.
— О, здесь на полке еще одна тарелочка! Можно и эту взять? Тарелок никак не хватает!..
Хозяйка молча, неласково кивнула, продолжая вырезать сердцевинки яблок. Фаина вымыла тарелку, стараясь не брызнуть на платье, и хотела уйти, как вдруг старая женщина вымолвила как бы про себя:
— Нехорошее придумали.
Фаине стало неприятно.
— А что плохого? Посуду разве перебьем?
— Мне посуды не жалко.
— Повеселимся немного, и все... — неуверенно сказала Фаина, не понимая, к чему клонится эта речь.
— Веселитесь, каждый молод был. А игру выдумали глупей глупого.
— Какую игру?
Женщина взглянула исподлобья.
— Не годится в свадьбу играть, не маленькие, — жестко проговорила она, постучав ножом по подоконнику.
— В свадьбу?.. — растерянно повторила Фаина.
— Что, не знаешь?.. Вельда невестой вырядилась с большого ума. Вот останется ужо в старых девках, будет тогда помнить.
— Почему невестой? Так себе, белое платье...
Хозяйка продолжала, не слушая:
— Тейна женихом посадят. Посмотреть — будто бы дельный парень, а туда же в дураки полез. Жених да невеста — век вековать, а не шутки шутить.
Фаина помчалась через двор, полный шума и смеха. Томсон схватил ее за сиреневый рукав — скоро ли к столу позовут? Она вырвалась, влетела в амбар, где у порога толпились девушки — свои и из колхоза. Вельда стояла посередине — в белом платье, в венке из гроздьев рябины, а к венку был прицеплен длинный прозрачный шарф.
— Фата, фата!.. — кричала Ира Селецкая, расправляя легкие складки шарфа. — Девочки, держите там дверь, чтобы Тейн не вошел!
— Что ты здесь вытворяешь! — в гневе бросилась к ней Фаина. — Что это за гадость!
— Никакой гадости, обыкновенная студенческая шутка! Уходи ты подальше, святая душа на костылях!.. Вельда, теперь накинь плащ и спрячься! Ксения, можешь идти за Тейном! И сейчас же посади его рядом со мной... А ты, Вельда, не зевай! как только я поднимусь, ты сразу на мое место. Следи, вот здесь!..
Вельда, смеясь, закуталась в плащ, девушки кругом тоже смеялись, предвкушая потеху. Ксения пошла к двери, но Фаина загородила ей дорогу.
— Ксения! Ты в своем уме? Ты подумала о Кае?
— А что с ней станется? Мне как раз интересно, как они будут реагировать, и Кая, и Тейн.
— А тебе не стыдно перед колхозниками? Такие идиотские развлечения у студентов?
— О глубокомыслии позаботится Каллас, у него и декламаторы, и музыкальные номера, а мы посмешим публику попросту, тем более, что все начальство простужено, никто не придет!
— Ну, Ксения, прошу тебя!.. Ей и так трудно! Зачем ей еще страдать от ваших глупостей!
— Любовь без страданий — опреснок. Пусти-ка, надо перехватить Тейна, чтоб он не догадался!..
Ксения вышла. Фаина огляделась, пытаясь уяснить себе положение вещей. Каи здесь нет, где же она? На дворе? Подождать, пока придет, предупредить, уберечь... Появился Томсон, тащит из угла еще бутылки, любовно вдвигает их в промежутки между тарелками, Матто прикрывает зеленью ящик, белобрысый кладовщик тихо наигрывает на баяне, а на него самозабвенно смотрит розовая толстушка, дочь дяди Сааму. Антс водружает на высокий ларь керосиновую лампу… Ага, в дверях мелькнуло голубое платьице Каи, сейчас же рассказать ей! Но в это время со двора повалили все, началась толкотня, и Фаина не успела опомниться, как фокус был уже проделан — Тейн сидел рядом с Вельдой. Кая оказалась на другом конце стола, возле нее Антс, Каллас, кругом теснота, опрокинули табурет, хохочут... И Фаина, заняв свободный еще уголок, махнула рукой — пусть, не все ли равно!..
Матто взобрался на ящик, начал шутливую вступительную речь. Как только он замолчал, Ксения подняла рюмку и сказала в полный голос, на всю застолицу:
— За здоровье новобрачных!
Томсон, не то участвуя в заговоре, не то мгновенно сообразив, в чем дело, вскочил и, старчески кашляя, заболтал что-то о правах и обязанностях супругов. По амбару раскатился хохот. Фаина не спускала глаз с Каи, та не выдавала себя ничем, разве только напряженно сжатыми губами.
Позднее всех понял смысл шутки сам Тейн. Когда закричали «горько», он покосился через плечо на фату Вельды и, резко дернувшись, вышел из-за стола.
— Ну что такое, зачем обижаться! — воскликнула Ксения, но он молча направился к двери.
Томсон догнал его, притащил к столу:
— Садись на мое место, Лео. Поменяемся!
Тейн сел, делая вид, что улыбается, и сказал Ксении:
— Какая безвкусица! Я думал, у тебя больше ума.
Ксения посмотрела на него внимательно, засмеялась:
— А мне нравится, что ты меня обругал! И, пожалуй, ты прав. Но у меня нет власти устраивать более острые испытания.
Томсон, усевшись рядом с Вельдой, потрепал ее по щеке и спросил:
— Ну как, белла-белла-белла — донна? Довольна заменой?
— Расходов жалко, я на него сильно потратилась! — Вельда, говоря это, налила себе водки. Выпила залпом.
— Вот это в моем духе, — похвалил ее Томсон. — Налить еще? Такую невесту дай бог всякому... Поженимся, Вельда! Клянусь тебе, твой Тейн влюблен в другую...
— Неправда! Просто он глуп, тычется из угла в угол, как слепой щенок. — Вельда протянула стакан. — Налей-ка мне пива...
— В философском словаре сказано, что водку не следует смешивать с пивом...
Настроение за столом понизилось, но тут Каллас неожиданно обнаружил огромные запасы хлебосольства, он как-то поспевал во все концы стола, кому-то хвалил винегрет, другому передавал хрен, третьего угощал студнем. Не ударил лицом в грязь и Матто — началась декламация, потом загадки, потом викторина. Снова зазвенел смех... ну, и рюмки тоже зазвенели.
Веселье было в разгаре, когда Фаина заметила, что Каллас потихоньку отставляет бутылки подальше от Томсона и Вельды. Томсон, правда, выпил слишком много, его просто не узнать — глаза налились кровью, волосы слиплись от пота. Вельда громко хохочет, кричит, но, пожалуй, она не столько пьяна, сколько притворяется пьяной...
— А я все равно невеста! — доносится до Фаины. — Вот я сейчас докажу всем, кто красивее — я или этот картофельный росток. Вот пойду и докажу!
— Не уходи, Вельда, — бормочет Томсон, — после пойдем вместе к твоей тете за благословением. Женатый баран лучше холостой козы, я это давно говорю...
Но Вельда отмахивается от него и, в самом деле, идет к двери. Куда же она?.. А, пусть ее уходит, догадалась бы лечь спать... И Фаина, облегченно вздохнув, пробралась за спинами к Кае и Антсу — сидят оба молча, Антс глядит в сторону, а она застыла как неживая в своем голубом наряде...
— Антс! Что ж вы не угощаете Каю винегретом? Она сама его делала, а теперь голодает...
Антс расцвел широкой веснушчатой улыбкой и свалил на тарелку Каи полмиски винегрета, после чего между обоими начался оживленный разговор — точно Фаина расколдовала их от молчания.
Фаина снова села на свое место, и снова все полетело мимо нее: улыбки — не для нее, слова — не для нее, обиды, обманы — не для нее...
Запели эстонскую застольную песню, вразброд, с надсадой, не слыша собственного голоса, но кладовщик, отсев в угол, растянул баян — и все вдруг притихли, удивленные мягким переливом. Песня зазвучала тише и стройнее, а белобрысый музыкант, странно похорошев, глядел победителем, покорившим хаос. Розовая дочка дяди Сааму так и обмерла, не в силах отвести взор от его быстрых пальцев.
Потом вышла заминка с Юрой Поспеловым — он оглушительным басом заявил, что ему хочется к звездам и, выйдя из-за стола, пытался взлезть на ларь, чтобы прижать к груди керосиновую лампу... Потом стали отодвигать табуретки и ящики, чтобы освободить место для танцев... И вот тогда-то появилась Вельда. Почти голая.
На ней было надето нечто вроде купального костюма, скомбинированного из прозрачных штанишек и бюстгальтера; стояла в дверях она спокойно, словно в предбаннике.
— Вот это я понимаю, это экзотика!.. — медленно выговорил Томсон.
Баянист ухмыльнулся и заиграл веселенький вальс.
— Уведем ее, уведем! — отчаянно зашептала молчаливая математичка, соседка Фаины. — Она пьяная!
Но Вельда в это время сказала совсем трезвым голосом:
— Почему же меня никто не приглашает танцевать?
К ней подошла Ксения, видимо взволнованная, но та отстранила ее и, сделав несколько шагов, остановилась перед Тейном:
— Пошли танцевать, Лео?.. Ну что ты остолбенел! У нас же костюмированный бал, разве ты не знаешь?.. Невесту отвергли, она утопилась и стала русалкой... Не хочешь? Томсон! Тогда приглашай ты!
Томсон вдруг выпрямился, точно хмель разом слетел с него.
— Нет, извини меня, купальный сезон кончился, — проговорил он.
Тейн встал.
— Ты нездорова, Вельда. Иди домой, я тебя провожу, — сказал он, едва разжимая зубы.
Ксения быстро принесла плащ и накинула на Вельду, которая стояла куклой, не сопротивляясь и не помогая.
Ушли втроем, но Ксения вскоре вернулась. Притворяясь расстроенной, она не смогла все же скрыть насмешливую улыбку, и Фаина не поверила ее досаде — она опять наслаждается игрой марионеток. А кругом смеялись, сердились, шептали, ахали.
— Почему неприлично? Почему?.. — кричал кто-то. — Почему на пляже можно, а здесь нельзя?
Другой научно объяснял:
— Неприличие в контрасте! купальник и фата!
— Какой там купальник, она в белье, — возмущался еще один. — Розовые панталончики...
— А она ничего, хорошенькая!
— Черт знает что!
— Чепуха, чепуха, мы не в монастыре!
— Но и не в бане!
— Да ладно, идем танцевать! Девушки скучают!
— Сконфузились!.. Не беда, не робейте, братцы!.. Стриптиз уже начался!
Фаина подошла к Кае.
— Видела сумасшедшую? — сказала она полушепотом. — Надо же!..
Кая коротко засмеялась сухим смешком — она никогда так не смеялась. Антс повернул голову и пристально посмотрел на Фаину. Под этим простодушным и в то же время холодным взглядом у Фаины вспыхнули щеки от жгучего стыда, словно это не Вельда, а она сама только что приходила сюда обнаженной.
Минута была тягостная, Фаина не могла больше выговорить ни слова, в горле стоял комок, и вдруг снизошло избавление, самое реальное, несмотря на чудесную свою внезапность: в распахнутую дверь амбара вошли два преподавателя — Астаров и Гатеев.
— Незваный гость хуже татарина! — весело произнес Астаров, настолько весело и свободно, что кислые гримасы, появившиеся кое у кого, сразу исчезли.
Он издали увидел Фаину и Каю и подошел к ним. Фаина с радостью пододвинула ему табурет. Он чихнул, садясь, и сказал:
— Страшное поветрие. Сильвия Александровна нездорова, и я совсем расклеился, но все-таки решил побывать у вас. Завтра уеду...
Гатеев между тем стоял у двери и, щурясь, смотрел на танцующих. Фаина, опередив Калласа, пробралась к нему, взяла под руку, не чувствуя ни малейшей стесненности, точно так и надо, и повела к столу. Хорошо, что есть еще непочатая миска этой вкусной мешанины...
— Я ужинал, право, ужинал. Зачем столько?.. — отказывался он, но, отведав, засмеялся и попросил еще.
— Вы когда же приехали? — занимала его Фаина.
— Сегодня. На смену Аркадию Викторовичу, он мне позвонил, что никак не дотянет до конца, хворает и боится совсем слечь... Нет, спасибо, я больше пить не буду. — Он потрогал рукой волосы, улыбнулся. — Жаль, что мы так поздно, Аркадий Викторович все мешкал... Были интересные номера?
— Да-а... — ответила Фаина, не глядя на него.
Музыка прервалась, захлопали в ладоши, и баянист снова подхватил с полутакта мотив задорного старинного вальса. Фаина оглянулась. Ага, Астаров уже кружится с Каей. Ну, пусть его...
— Пойдемте и мы?.. — сказал Гатеев, вставая.
Фаина не очень хорошо танцевала, но сейчас тесно, если и собьешься, будет незаметно. Впрочем, она не сбилась... Да и не все ли равно. Сухая горячая рука держит ее руку, и непрозрачный взгляд, кажется, говорит что-то, не относящееся к дипломной. И куда-то ушло недавнее чувство — будто праздник не для нее. Для нее, для нее, и она уже не чужая в этом веселом, кружащемся ветре... Как жаль, что музыка опять смолкла!..
Они вернулись к столу. Гатеев сказал:
— У вас празднично на душе?.. Кругом такие сияющие лица. Пожалуй, никто здесь не замечает, что это амбар, и никто не чувствует запаха прелой соломы.
— Пожалуй, это очень грустно, Алексей Павлович, на празднике не чувствовать ничего, кроме запаха прелой соломы...
Он улыбнулся.
— Я почувствовал этот запах, когда вошел сюда, а сейчас пахнет только сиренью.
Глаза у Алексея Павловича неопределенного, смешанного цвета, и есть в них смутительное свойство — говорить лишнее. Отвечать на это лишнее — не знаешь, как и чем, а молчать — сколько же можно молчать?.. А лоб у него — ай, ай! — начинает немножко лысеть...
Подошла Ксения.
— Алексей Павлович, как вы легко танцуете!..
— Ну, где там, укатали сивку крутые горки...
— Не скромничайте!.. Фаинка, а ты что такая вялая? Скучно без Вадима?.. Слушай-ка, тебе очень идет это сиреневое... Куда же ты убегаешь?
— Не уходите, Фаина!..
— Лампа коптит, — не оборачиваясь, сказала Фаина.
И прекрасно, что коптит. Фитиль надо поправить. Вот так... Теперь бросить два слова Кае и ее простуженному кавалеру, потом минутку поговорить с Калласом, хотя он мрачен и несловоохотлив после неприятности с Вельдой, и — к двери...
Она шла через двор в своем легком платье, не ощущая холода. Почему, почему надо уйти и не вернуться? Это же невероятно трудно. Но она уходит и не вернется. Почему? По какой-то старозаветной, забытой традиции? Мать ли, бабушка ли убежала когда-нибудь из веселого хоровода, вырвав руку из горячей, сухой ладони? Не знаю, не знаю, но не вернусь...
Вот уже и дом, вот и спасение... В комнате свет, голоса: Вельда ссорится с кем-то. Мужской голос, злой, скрипучий, как будто и незнакомый. Чуть помедлив, Фаина вошла. На кровати, полуодетая, сидела Вельда, а рядом с ней Тейн.
— Ты что так рано? — сердито спросила Вельда.
— Устала.
Тейн ушел. Фаина молча разделась и легла. Вельде все же захотелось дать какие-то пояснения, она сказала:
— Я не желаю приноравливаться к золотой середине. И все вы мне надоели, и не читай мне наставлений!
— И не читаю.
Среди ночи, а может быть, под утро, Фаина проснулась. Громко тикал будильник. Фаина потянулась за спичками, посмотреть, который час, но в это время дверь скрипнула.
— Кая? Почему так долго? Неужели еще не разошлись?
Кая ответила неохотно:
— Расходятся.
— Ты все танцевала?
— Нет.
— А что делала?
— Выясняли отношения с Тейном.
— Выяснили?
— Нет.
— Где Ира и Ксения?
— Посуду убирают с Антсом.
— Который же час? Потише говори, Вельда спит...
— Где? Кровать пустая.
Фаина привстала, вгляделась — на кровати никого. Зажгли свет, и тогда обнаружилось, что Вельда исчезла не просто, а вместе со своим чемоданом, верхней одеждой и всеми вещами.
17
Веселое настроение, появившееся у Сильвии Александровны после приезда Гатеева, ей приходилось скрывать, так как обстановка должна была рождать скорее грусть, чем веселье. Ночные дожди, размокшая земля, отсыревшие студенты, собственная простуда, и вдобавок неприятность с Вельдой Саар, которая самовольно бросила работу. Не сказав никому ни слова, девица улизнула утром после вечеринки, а через два дня прислала письмо, достаточно бестолковое, и свидетельство о болезни — неразборчивую латынь. Долетали намеки, что во всем будто бы виноват Тейн, но это не меняло дела.
Между прочим, Тейн успел уже показать себя и Алексею Павловичу — прикинулся, что не понимает по-русски.
— Способные у вас ученики, Сильвия Александровна, — пошутил по этому поводу Гатеев, зайдя к ней в один дождливый вечер.
Сильвия огорчилась больше, чем он ожидал. Заговорила, волнуясь и сбиваясь, о своих неудачах: год начался так плохо, все время точно сквозь колючки продираешься, а этот Тейн, честное слово, самая острая!..
— А может быть, за его выпадами попросту скрывается узкий национализм? — спросил Гатеев, когда Сильвия оборвала свою речь на полуслове.
— Попросту?.. — усмехнулась она. — Нет, Алексей Павлович, Тейн далеко не так прост и однозначен, как вам могло казаться по моим жалобам. Я вот приглядываюсь к нему здесь, он здесь другой, не тот, что в аудитории... — И вдруг прижала пальцы к вискам. — Ох, и изводит же он меня в этой аудитории!
— Да разве нельзя дать отпор? Что за малодушие!.. — даже возмутился Гатеев.
— Алексей Павлович! Я знаю, я брюзжу, как старуха, я иногда всех их вижу в самом черном цвете и свете, но я хочу... ну, как это сказать без пышности... ну, помочь им. Что из того, если мне удастся побить Тейна на словах, он все равно останется при своем темном упрямстве... Дать отпор! Но надо же знать, чему давать отпор! Мне же не все понятно, не на все у меня есть отгадка!..
Гатеев улыбнулся.
— Так ли уж загадочен ваш Тейн?
Сильвия прикусила губу. Такая улыбка может остудить самый горячий и искренний разговор...
— Загадочен так же, как вы, как я, как все мы, — резко ответила она.
Он, кажется, пожалел о своей улыбке, попросил примирительно:
— А вы расскажите, какие у вас есть отгадки. Мне очень интересно.
— Интерес у вас — сверху вниз, — сказала Сильвия, все еще сердясь. — Но это не важно. А отгадки есть некоторые... Вот, например, Тейн не захотел говорить с вами по-русски. Думаю, что тут я знаю отгадку.
— Да-а?..
— Вероятно, Тейн полагает, что вы должны знать эстонский язык, если вы здесь живете... — Сильвия вдруг смутилась. — Если вы собираетесь остаться здесь надолго...
— Да, я собираюсь остаться здесь надолго, — сухо заметил он.
Сейчас его тон мог бы задеть ее больше, чем недавняя улыбка, а вместо того всполыхнула радостная мысль — он хочет остаться здесь надолго... не навсегда ли?
— Иначе я не бросил бы все в Ленинграде, — еще суше договорил он.
Сильвия неслышно перевела дыхание. Боже мой, как мало она знает о нем... Что он бросил? Кто его заставил уйти? Что такое он там покинул, на что и глядеть не хочет... или не может?
— Очень у вас многозначительное молчание, Сильвия Александровна, — натянуто пошутил он. — Остроумные люди в таких случаях спрашивают в упор: о чем вы думаете?
Сильвия посмотрела на него, понимая, что и смотреть так нельзя и нельзя же быть искренней до глупости. Но и лгать не нужно... И она, не солгав, только продолжила свою мысль:
— Я думаю... Если вы останетесь здесь надолго, надо все-таки язык выучить. Скучно ведь жить глухому.
Он несколько опешил. Потом засмеялся.
— А вы будете меня учить?
— Если будете слушаться.
— Ну, меня можно приструнить, я такой…
Разговор опять прервался, оба молча слушали, как в окна хлещет дождем. Гатеев облокотился о стол председателя, заваленный толстыми папками, из которых выбивались наружу колхозные дела... Стол тяжелый, как и стулья, как и все в этой комнате — прочное, дедовское, не на городских растопырочках, а кряжевое. Но и неповоротливое же, правду сказать. Пожалуй, нелегко было председателю унести свою душу от этих грузных комодов, надеть кепочку и забе́гать по колхозным полям. А он все-таки унес. Мужество... А от чего унес свою душу ленинградец, молодой ученый, доцент? Тоже мужество?..
— ...или слабость?.. — нечаянно докончила вслух Сильвия и, испугавшись, что и другие ее мысли полетят в воздух без ее воли, быстро сказала: — Алексей Павлович! Я не шучу, перед вами всегда будет закрытая дверь, а ключ к ней один — язык... Поверьте мне! Вы не пожалеете, что потратили время. Это прекрасный язык, к тому же очень конструктивный и точный...
— Буду рад, если дверь в самом деле откроется. А то ваш Тейн навел меня на грустные размышления — в шестидесятые годы какая-то первобытная распря: ты говоришь не так, как я, и шкура на тебе не такая, дай я тресну тебя по шее...
Она тоже засмеялась, немного принужденно.
— Дверь непременно откроется, и вы увидите за ней много интересного. Кроме Тейна...
— Мне бы только азы одолеть с вашей помощью, — сказал он, — а дальше я сам, я сообразительный...
— Посмотрим! — Сильвия развернула газету. — Зачем откладывать в долгий ящик...
Но часы на стене как раз захрипели и укоризненно отстукали двенадцать. Гатеев вскочил.
— Я потерял всякую совесть! Вы простужены, вам пора спать... Простите, Сильвия Александровна! Завтра вечером явлюсь и буду послушнейшим учеником...
Послушнейший ученик приходил три раза, каждый вечер, но только три вечера и осталось до отъезда в город, а там наступило утро, когда подкатил знакомый грузовик и студенты начали взваливать на него свои пожитки. Теперь будто и жалко было расставаться с полянкой под рябинами... Антс принес кошелку яблок на дорогу, усадил возле кошелки Ксению Далматову и, стоя у борта, исправно отвечал на ее прощальные вопросы насчет настроений колхозной молодежи. Томсона вплотную окружили девушки, и он клялся им, что будет писать и телеграфировать. Пришел попрощаться и дядя Сааму, не совсем внятно поговорил о пользе трезвости и помахал Тейну большим носовым платком с розовой каймой.
В последнюю минуту появился председатель, передвинул кепочку со лба на затылок, выразил всем благодарность, а Гатееву соболезнование — у того был забинтован палец. Сильвия Александровна живо отвернулась, чтоб не рассмеяться. В Алексея Павловича здесь все время впивались занозы, ногти у него обламывались, в глаза залетали соринки...
Дорога, дорога. Залаяла вслед лохматая собачонка, проржал за овином гнедой коняга, раскаиваясь в своих неладах с Калласом, качнулись померкшие гроздья рябины... Вот и лес. Он постарел за эти недели. Скорее, скорее домой, холодно и в лесу, ветер мешает дышать. Очень сильный ветер — Алексей Павлович хочет отдать свое пальто Фаине Костровой, но та отказывается, чуть не отбивается...
Дорога странная. Одним она кажется длинной-предлинной, другим — такой короткой, что не успеешь прислониться плечом к плечу, как уже маячат впереди городские крыши. Да и ветер тоже — кому холоден, кому тепел. Алексей Павлович до ушей закутался в пальто, молчит, поглядывая на упрямую соседку, не зябнет ли, а у той только щеки разгорелись от ветра. Все примолкли, кто улыбаясь, кто хмурясь. Печальней всех молчат Тейн и Кая Тармо. Сидят рядом, и губы у обоих сомкнуты одинаково.
Дорога кончается. Сильвия Александровна рада, что кончается и ее ответственность. Хорошо хоть иногда чувствовать себя просто Сильвией, ни за кого не отвечать, ни за кого не тревожиться...
Но есть примесь горечи в этом освобождении. Никто не разделяет с ней сейчас ни одной ее мысли, ни одного воспоминания... и больше всего она чужда ему, самому близкому, ему, Алексею. Для него все экзотика — и то, что видел он в колхозе, и вся земля, по которой они едут. А ее раннее детство прошло в деревне, вот в таком доме с темной крышей, как тот, что мелькнул за елками. То детство осталось навсегда в ней... закваска ржаного хлеба, с вечера поставленная возле теплой печи.
След остался не только от вечно любимого и давно воспетого, хотя было все — и весенний луг с яркими одуванчиками, и радужные стрекозы, и соловьиный разлив в роще. Но глубже вошло другое: красно-зеленый узор — шиповник, вышитый матерью на твердотканом, ею же вытканном, одеяле; шорох и сладкий запах стружек, вьющихся из-под рубанка в руках отца, и — глубже всего — черная вспаханная полоса, на которую не смела она ступить ногой — там жили семена... Это всегда будет для него чужим, даже если...
18
Через два дня начались занятия. Это был понедельник, а в среду у математиков организовали собрание со специальной целью — осудить поведение Вельды Саар. Сильвия Александровна пошла туда неохотно. Все известно наперед: констатируют и пригвоздят. Ничего другого тут и предложить нельзя, но такая предрешенность всегда раздражает…
Аудитория была полна. Подсудимая сидела, опустив плечи и горестно склонив голову, но лицо было насмешливое и упрямое.
Каллас открыл собрание, но заправлял ходом дела низенький четырехугольный студентик, весь утыканный пуговками и кнопками, как счетная машина.
Заговорил он именно так, как ожидала Сильвия Александровна: констатировал факт несвоевременного ухода с работы и начал пригвождать. Слушали его плохо, двигали стульями, однако не прерывали, пока он не кончил и не ушел в глубину аудитории.
— Ладно, картошку мы выкопали и без Вельды Саар, — сказал потом Каллас по-человечески, — но что это за гадость — сбежать с работы. Поставить себя в такое дурацкое положение!
Вельда вскинула руку.
— У меня врачебное свидетельство, я заболела.
Кто-то тихонько свистнул. Томсон корректно попросил слова, напомнил, что Вельда уехала лишь в конце срока, но о свидетельстве высказался так:
— К нашему врачу пойди и скажи, что у тебя чума, он сию же минуту напишет: чума.
Сильвия Александровна посмотрела на Вельду и на самодовольные лица судей. Глухое раздражение закипало в ней все сильнее: она не жалела Вельду, но было что-то противное и в общем самодовольстве, и в том, что приговор вынесен сначала, а инсценировка суда идет теперь... Какое недоброе выражение даже у этой кроткой девушки, у Каи Тармо...
— Если мы не доверяем своему врачу, — сказала Сильвия Александровна, — то возникает вопрос о враче. Но пока не доказано, что он выдает ложные свидетельства, мы не имеем права не считаться с ними.
Вельда бросила на нее быстрый удивленный взгляд. Тотчас же прозвучал злой выкрик из аудитории:
— Непрошеных защитников нам не надо!
— Кому это «нам»? — вспыхнула Сильвия Александровна. — Кто меня называет непрошеным защитником?
Кто крикнул, не обнаружилось, но из угла пробурчал кто-то другой:
— Вельду нельзя оправдывать.
— Почему? Нам нужна ясность, если мы взялись судить. Суд может и осудить и оправдать... И давайте организованно, не кричите из углов.
Наступило недолгое молчание, затем из глубины рядов послышался бесстрастный голос:
— Я предрекал, что она сбежит. И что потом будет собрание. И что потом будет свидетельство.
— Кто это там умеет предрекать? — спросила Сильвия Александровна.
Поднялся студент с пуговками и кнопками,
— Я. Получилось точно.
— Каким методом вы пользовались, предрекая?
— Научным. У меня имелись данные прошлого года, — ответил студент машиновычислительным тоном.
— Ничего подобного! — воскликнула Вельда.
Заговорил Алекс, разминая плечи, будто его что давило:
— Разрешите о враче. Он лабораторных исследований не делает, может и ошибиться, нельзя же в каждом подозревать симулянта. Если Вельда больна... Вельда, ты и сейчас больна?
— Да.
— Если Вельда больна, ей надо отправиться в больницу, сделать анализы. Она румяная, но кто ж ее знает. Румяные люди тоже иногда умирают...
Раскат смеха.
— У меня направление, я завтра иду в больницу! — крикнула Вельда.
Ее сразу заглушили:
— Стратегия!
— Она десяток врачей обведет вокруг пальца!
— Да не пойдет она, неправда!
— А ты всегда правдива? Судят, а про свои грешки не помнят!
— Ну так что? Судить с учетом своих грешков?
— …! …! …!
К Вельде обратилась Фаина Кострова:
— Хорошо, Вельда. Ты заболела, ты больна, но почему ты убежала тихонько из нашей комнаты? Почему не сказалась подругам?
Вельда ответила злобно:
— Я отлично знаю, что у подруг сочувствия не найду.
На минуту застыла тишина — мимолетное сочувствие отверженному, каков бы он ни был. Потом щелкнуло и раздался бодренький возглас:
— Вот видите, какое отношение к коллективу!
Глядя на Вельду, Сильвия Александровна заметила теперь, что та вовсе не так равнодушна к происходящему, как казалось раньше, и было что-то в самом деле болезненное и робкое в ее сжатых плечах.
— Не будем больше говорить о болезни, — сказала вдруг Кая Тармо, и все повернулись к ней. — Но нельзя же молчать о поведении Вельды на вечеринке!..
Ее перебил глухой гром мужских голосов. Удивленная Сильвия Александровна не смогла уловить, к кому относилось неодобрение и почему звучит только мужской хор. Что там стряслось на вечеринке, если открыло рот это молчаливое божье творенье?..
Кая Тармо закрыла лицо руками. Две математички в первом ряду заговорили наперебой:
— Да, да, всем девушкам было стыдно перед колхозниками... Конечно, стыд и срам!..
-— Почему именно перед колхозниками? — осведомился со своего места Тейн и скрестил руки на груди. — Не понимаю.
— Очень жаль, если не понимаешь, — жестко сказала Кострова. — Приехали академики и не умеют себя вести!
— Чего ж ты не забрала у Вельды бутылку, если уж так следишь за приличиями, — пробормотал Томсон.
— Я бы и у тебя забрала, да очень крепко все вы за бутылку держитесь.
— Не прекратить ли этот разговор? — тихо сказал Алекс. — Не стоит делать из мухи слона.
— Тем более, что я уже беседовал с Вельдой по этому поводу, — хмуро заявил Каллас.
— В рабочем порядке? — насмешливо спросила Селецкая. — Тогда и о побеге надо было пошептаться в рабочем порядке... А в общем чепуха! На Прудовой африканский вечер устраивали в одних бусах, и то ничего!
— Как ничего? Всех выгнали!.. — возразила одна из математичек.
— Значит, был доносчик! — сказала Селецкая и многозначительно посмотрела на Каю Тармо.
— Вельда раскаивается... насчет вечеринки. И прошу ближе к делу, — перебил Каллас.
— Нечего мне раскаиваться, — подала голос Вельда. — Подумаешь, преступление!
— Я хотел сказать... сожалеет.
Сильвия Александровна, потеряв терпение, обратилась к Калласу официальным тоном:
— Товарищ комсорг, прошу сообщить мне как шефу, что случилось на вечеринке.
Каллас покраснел, рассердился и ответил не менее замороженно:
— Преступления действительно не было. Вельда Саар пришла в амбар в купальном костюме.
— В белье, — уточнил машиновычислительный. — В прозрачном. Нейлон.
Вельда взвилась с места:
— Сначала решили — маскарад, потом передумали, а я все равно решила — купальщицей. Вечеринки для того, чтобы весело!.. Подумаешь!
— Перестань, Вельда, — сказал Томсон. — Предадим забвению этот инцидент и внутренне вынесем порицание тем, кто к нему причастен...
— Как это внутренне? — запротестовал вычислительный. — Что это означает — внутренне? А внешне что?
— А внешне вынесем порицание Вельде Саар за самовольный уход с работы без предупреждения.
Пошумели:
— Правильно!.. Она не комсомолка, что с ней сделаешь!.. Свидетельство о болезни есть... Это порицание ей что с гуся вода!.. Обман и выверты! Ей лишь бы своего добиться!..
Порицание вынесли. Оно, видимо, не отяготило Вельду, вышедшую из аудитории первой, легкими шагами. Второй ушла Сильвия Александровна. Остальные не торопились — возможно, порицали за дверью непрошеного и неумелого защитника.
Вернувшись на кафедру, Сильвия Александровна, усталая, недоумевающая, тоже порицала себя. Часть собрания, по существу, прошла без нее. Как же она должна была поступить, услышав о выходке Вельды? Кому-то дать отпор, кого-то направить, к чему-то подвести. А ее эта неожиданность выбила из колеи. И неясно, недосказано, что именно случилось на вечеринке. Странно — ведь там были Гатеев и Астаров, что же они-то?.. Голова разбаливается... и эти пуговки-кнопки мельтешат перед глазами. Да ну, вовсе и не было у него так много пуговиц, просто показалось, и разыгралась фантазия. Обыкновенный студент, четверка по русскому языку...
В дверь постучались. Сильвия Александровна не откликнулась. Что там стучать, входите, если есть охота войти в эту пустую комнату, потому что Сильвия Реканди сейчас не в счет. Так себе сидит здесь и правит тетрадки и ни в чем не принимает участия.
Постучали еще раз — и вошел Томсон.
— В чем дело? — спросила Сильвия Александровна, выдержав паузу.
Он ответил, тоже помедля и старательно выговаривая русские слова:
— Одиночная девушка плачет в погребе.
— Какая девушка? В погребе!..
— В подвале, где лаборатория, Вельда.
Сильвия Александровна сказала нарочито сухо:
— Возможно. У этой одинокой девушки есть причины плакать.
— Да, я так и хотел сказать, что она там одинокая и плачет.
— Что же я могу сделать? Утешьте ее.
Томсон помолчал и вымолвил:
— Она, может быть, в самом деле нездорова.
— А зачем вы мне об этом сообщаете, товарищ Томсон? Она ведь собирается в больницу.
Томсон обвел взглядом Сильвию Александровну, точно измеряя степень ее бесчувственности, и сказал:
— Пожалуйста, пойдите к ней.
Когда дверь за ним закрылась, Сильвия Александровна сжала виски, но, не выжав ни одной толковой мысли, бросила ручку на тетрадь и быстро пошла вниз, в подвальное помещение.
На последней ступеньке споткнулась и чуть не упала; сердясь, едва нащупала выключатель. Наконец зажглась чахлая лампочка на потолке и осветила нижний коридор. У дверей фонетической лаборатории стояла Вельда, неудобно прислонившись головой к филенке, точно она только что ударилась лбом об эту доску и так и застыла.
— Почему вы плачете, Вельда? — заговорила Сильвия Александровна, глядя на руку девушки, судорожно стиснувшую платочек. — Вернее, зачем вы плачете? Надо кое-что переделать. Нельзя вступать с миром только в самые несложные отношения: выучить, что нужно для экзамена, отбиться от неприятной работы, выпить, чтобы было весело...
Вельда отвернулась и со злостью крикнула:
— Со мной лучше сейчас не разговаривать!
Подавив раздражение, Сильвия Александровна укорила ее, как ребенка:
— Ну, разве можно так отвечать!
— Значит, можно!
Сильвия Александровна сделала шаг к лестнице, но Вельда вдруг бросилась к ней:
— Не уходите! Я не могу жить!.. Почему мне не верят?
— Да так получается. Могли же вы в колхозе сказать мне о болезни.
— Я стыдилась... я стыдилась сказать правду.
— Как можно стыдиться болезни?
На заплаканном лице Вельды появилась гримаса.
— У меня женская болезнь. Я не могу им сказать, они подумают, я развратная, а я простудилась, и все. А они не поверят, они жестокие!..
— Тише, Вельда! Вы вылечитесь, не горюйте... Вам не верят? Вот из-за этого, правда, стоит поплакать. Поплачьте и... Да что там, вы же отлично знаете, где причина.
— Подумаешь! — огрызнулась Вельда. — Я никогда не вру для развлечения, всякий защищается, как умеет!
— Защищается?.. — протянула Сильвия Александровна. — Что ж, до свиданья, продолжайте плакать.
— Придется продолжать, — с недоброй усмешкой сказала Вельда. — Мои милые друзья уж постараются оставить меня без стипендии. Иначе никак нельзя! Я же там весь колхоз развратила своим купальником... Весь этикет в амбаре развалился!
— А вы, значит, против этикета? Почему же вы сейчас вытираете слезы платочком? Он совсем мокрый, утирайтесь подолом.
— Ничего с ними не сталось от моих трусиков! — упрямо повторила Вельда.
— Все-таки неловко и... глупо. Вы нарочно добивались сенсации?
— Не скажу я вам больше ничего! — Вельда, вспыхнув снова, с сердцем швырнула платочек на пол. — Эти же лицемеры на пляже догола раздеваются. Хитрые! Побоялись вынести мне порицание за купальник! Они это нарочно замяли, чтобы протокол не загорелся на этом месте и чтобы им самим не нагорело за такую вечеринку!.. — Она злобно засмеялась. — Мораль!..
— Пойдемте-ка, Вельда, из этого подвала, — сказала Сильвия Александровна. — На пляж тоже не стоит ходить в одном фиговом листке. Мораль моралью, а есть что-то смешное и жалкое в нарочитом оголении... — Вельда посмотрела на нее, искренне недоумевая. Слезы смыли пудру и грим, лицо сейчас было простым и милым, и Сильвии Александровне вспомнился тут один деревенский Нечистый, — когда его прогнали с его горы, он ушел с проклятием: «Пусть на селе волы не растут и пусть девичий стыд пропадом пропадет!..»
19
Семестр потянулся дальше, угнетая Сильвию будничностью, какой-то прошлогодней, затхлой будничностью. Прошлогодние звонки, прошлогодние студенты, прошлогодние ошибки в тетрадях, разговоры на кафедре, шуточки Давида Марковича.
Тот смешной крохотный бунт, который заставил декана Онти вскочить с кресла, очевидно, не будет иметь никаких последствий. Все останется на месте — и Тамара Леонидовна, и она, Сильвия, и декан в своем кресле, и оскомина от статьи, и чепуха в тетрадях, И Гатеев, как ни странно, тоже вернулся в прошлый год, когда его здесь не было. Ходит, конечно, по коридору, сидит на кафедре, говорит о чистоте языка, но все так, будто его по телевизору показывают. Об уроках и не заикнулся. Словом, вернулось прошлогоднее унылое нечто, которому и названия не приберешь. Человек сам плетет его для себя каждый день потихоньку-помаленьку и слишком поздно замечает, что оно, нечто, цепко держит его, и не выпускает, и заставляет кружиться, и не дает выплыть из какого-то мутного раствора.
В этом растворе созрело небольшое событие — посещение лекции Нины Васильевны по приказу заведующего.
Идти собрались Сильвия с Белецким вдвоем, но Гатеев в последнюю минуту тоже присоединился, и очень охотно.
— Если услышите неподобное, пропустите мимо ушей, — напутствовала их Муся.
— А будет неподобное? — засмеялся Гатеев.
— Будет, будет... Но вы не давайте лишних козырей Касимовой. Ваш подвиг, Сильвия, кажется, не принес плодов.
— Надоели вы с подвигом... — пробормотала Сильвия.
— Кишка тонка у нашего декана, — вздохнула Муся. — На Тамару Леонидовну надо бы проректора напустить. Да страшновато: он сидит-сидит, а если уж сдвинешь, так намнет бока и правому и виноватому...
— Извините, маркиза, я перебью вашу изысканную речь, — сказал Белецкий. — Нам пора идти, оревуар... В одиннадцатую, Сильвия Александровна?..
Одиннадцатая аудитория была пристанищем четвертого курса русистов. Найти ее было легко по невероятному шуму и крикам — это курс обсуждал свои текущие дела. Когда вошли преподаватели, шум прекратился не сразу, он затихал волнообразно. Наконец очнулись все, кое-кто даже крякнул в виде приветствия. Справа, у вешалки, опоздавшие сваливали куда попало пальто и макинтоши, потом, будто из-под макинтошей, показалась и Нина Васильевна. Видимо, ее слегка примяли, но лекцию она начала, нежно улыбаясь.
Нежная улыбка мало вязалась с темой («Морфологические процессы»), слушатели, еще не угомонившиеся, тоже не располагали к нежности. Но минут через пять четвертый курс удивил Сильвию: все, кроме троих, слушали и записывали так сосредоточенно, точно и не они только что сотрясали аудиторию.
А вот этих троих у стены следовало бы выставить за дверь: потягиваются, глаза рыбьи, чешут за ушами. Пари можно держать — где-то провалились и решили стать русистами.
Аркадию Викторовичу все равно кого принимать. Есть место, пожалуйте. Он сноб, для него студенты серая масса, из которой он выделяет одного-двух и носится с ними, заражает собственным самомнением, а остальным заполняет зачетки, лишь бы отделаться. И плодятся у него новые Тамары Леонидовны...
Как медленно, однако, идет время, когда не сама работаешь. У Нины Васильевны несносная манера: подает свои морфемы под сладким соусом... «Морфемы, которые являются конструктивными элементами слов, мы называем продуктивными морфемами!..» Ну, зачем такую фразу произносить, умиляясь и поднимая глаза к небу? Смешно. Но, кажется, оба ученых мужа этого не улавливают. Белецкий пристойно скучает, Гатеев... да ну, не буду я на него смотреть.
— Морфема, морфема... — в последний раз задушевно пропела Нина Васильевна, и звонок заглушил ее патетический вздох.
Четвертый курс с воплями исторгся из аудитории.
В воздухе стояли густые филологические излучения — так выразился Давид Маркович и открыл окно.
— Вам не понравилось, товарищи? — нервно спрашивала Нина Васильевна. — Алексей Павлович, вам не понравилось? Я вас так боюсь!
Гатеев медлил с ответом, отозвался Давид Маркович, но поговорил несколько неопределенно — обсахаренные морфемы, кажется, его тоже утомили.
— Я боюсь, я очень боюсь... — повторяла Нина Васильевна, не сводя молящего взора с Гатеева.
— Чего же вы боитесь, — холодновато сказала Сильвия, — все в порядке.
— Всегда, всегда волнуюсь при чужих, а тем более теперь...
— Да мы не чужие, — мягко заметил Гатеев.
Нина Васильевна трогательно покраснела.
— Я чувствую, не то у меня, не так. Ошибка в чем-то... — лепетала она. — Эта жуткая статья, во мне что-то остановилось от нее, сломалось!.. Я хотела не только о морфемах, я всегда хочу излить самое дорогое. .. Чтобы они полюбили эту дисциплину...
Она говорила будто и искренне, но слушать было тяжело; слова, сходившие с ее влажных губ, казались тоже влажными, и влажные глаза молили о пощаде, — и, к сожалению, мольба относилась не к морфемам. Сильвия могла бы поклясться, что... Вот и не надо клясться: Алексей Павлович взял ее за руку и начал успокаивать.
— Вы не волнуйтесь, Нина Васильевна... — Он отпустил ее руку, и рука слабо упала, как у больной. — Если и была ошибка, то только в тоне. Нужно немножко суше, деловитее...
— Понимаю, я вас хорошо понимаю, — уверяла Нина Васильевна, — неправильный тон у меня от волнения. Настроение ужасное, хотя я уже смирилась со своей судьбой...
Брезгливая гримаса скользнула по лицу Гатеева, но он только ласково попросил:
— Пожалуйста... пожалуйста, не говорите «смирилась с судьбой», говорите: «примирилась». У меня, видите ли, идиосинкразия. Если в книге вижу что-нибудь этакое, у меня всегда зубы скрипят. Я могу укусить автора!
— Не буду, не буду, — смущенно обещала Нина Васильевна, — а то вы и меня укусите! Может быть, я и на лекции?.. Мне так трудно следить за собой, когда я увлекаюсь! Мне хочется зажечь своих студентов, я хочу отражаться в их душе...
— Да было бы в чем отражаться, — слегка перебил Давид Маркович, — всем же давно известно, что у студентов не душа, а пар.
— Зачем надо мной смеяться... — обиделась Нина Васильевна. — Я и так еле на ногах держусь. Уйдите, пожалуйста, на минутку, я сейчас...
Вышли в коридор.
— Подождем здесь, пусть успокоится, — сказал Гатеев. — А отзыв напишем все вместе? Я рад, что не придется врать, в общем все было приемлемо.
— А вы готовы были соврать? — невинно спросила Сильвия.
— Готов! — Он засмеялся. — В пику вашему продекану.
— Он и ваш, кстати.
— К величайшему сожалению!..
Нина Васильевна все еще не выходила из аудитории.
— Стоит ли ждать, — сказал Давид Маркович. — Очень уж сердобольная комиссия...
— Да ведь она в самом деле мучится, — возразил Гатеев.
— Это так, — согласился Давид Маркович, — но Нина Васильевна самой природой уготована для мучений. Сколько ее помню, она всегда «переживает».
Сказав это, он заложил руки за спину и удалился.
— Опять муха в супе! — с отвращением проговорил Гатеев. — Переживает!.. Удивляюсь Давиду Марковичу.
— Давид Маркович шутя! Как вы не понимаете!.. — вспылила Сильвия, — Да и ничего особенного, все говорят «переживать»!
— Да, да, переживают, бедняги, без прямого дополнения… Что же поделаешь! Под дружным напором невежд все будет канонизировано, будем и переживать, и обратно кушать, и одевать пальтухи, а академикам останется только записать все в словари и «смириться с судьбой»... Тьфу!.. Но у вас, Сильвия Александровна, тоже какой-то переживательный вид. Что? Простуда? Колхоз?
— Ну, колхоз... Я и дома картошку копала. Это у вас папа профессор, мама доцент, тетя пианистка.
— Почти правильно, — усмехнулся он. — Догадались же!
— Нетрудно догадаться, вам и мешка было не завязать: веревочка убегает, картошка прыгает вон...
— Клевета! Я такой ловкий!.. — Он взглянул на дверь аудитории. — Плачет она там, что ли... А знаете, меня очень тянет пойти на лекцию Тамары Леонидовны. Воображаю, какая это прелесть! Она у историков читает?.. Пойти бы с Белецким, потом показать ее ректору. По-моему, о ней не рассказывать надо, а просто показать. Странно, что студенты не протестуют, интересно и с ними поговорить... Да мне как-то пока неловко выступать в роли «молодого энтузиаста» — приехал и одним махом навел порядок... — Он вдруг помрачнел. — Я все еще чувствую себя здесь, точно в вагоне. Кругом случайные попутчики... — Он тронул ее руку, что бесспорно должно было означать: «...кроме вас...», но Сильвия не поверила. — Думаю, это скоро пройдет, это чувство неприкаянности... Вы смотрите на меня так укоризненно! А я уже себе купил учебник эстонского языка...
— И сами засмеялись! — сказала Сильвия. — Видно, покупка очень помогает... Ага, идет Нина Васильевна!..
Заплаканная Нина Васильевна сразу отвлекла все внимание Гатеева, и Сильвия пожалела, что не ушла раньше. Впрочем, можно и сейчас...
На улице афиши звали ее в кино на «Девушку-джигита», в театр на «Случай с Андресом Лапетеусом», приглашали на лекцию «Достижения женщины в легкой атлетике», на доклад «Будущее энергетики»... Улицы казались длинными, время тянулось. Вот еще: концерт, выставка, вечер молодых поэтов. А вот и научное: «Средний глаз — приемник ультрафиолетового излучения». Правда, у членистоногих, но все-таки соблазнительно. Средний глаз — это интригует… Сильвия оглянулась и вдруг увидела обыкновенным боковым глазом, что по тротуару на другой стороне идет Гатеев. Она круто повернулась и вошла в кафе.
Было дымно, пожилые дамы за столиками жевали ватрушки, это действовало успокоительно. Но, к сожалению, к Сильвии тотчас же подсела знакомая. Дама эта обладала редкостным даром — говорить о веревке в доме повешенного. Красавицу она спрашивала, скоро ли у той будут внуки, с бодрой старушкой заводила речь о загробной жизни, больному описывала операции со смертельным исходом, — и все не со зла, а из теплого сочувствия.
Господь умудрил ее и сейчас:
— У вас неприятности? Бедная! Даже морщинок под глазами прибавилось. У меня тоже адские неприятности, я вам потом расскажу... — Отхлебнув кофе, она по непостижимому наитию опять ударила без промаха: — Что там ваш новый доцент поделывает? Говорят, в газете было напечатано, что он за студентками ухаживает... Сливки-то кисловатые, замечаете?.. Или это про Белецкого было напечатано, да все равно и про него напечатают. Вчера иду, а он с этой воблой... От таких сливок безусловно расстроится желудок, замечаете? Говорят, надо дышать, как иоги. А что толку. Дышишь, дышишь, а тебя ежеминутно отравляют... Да, а скажите, как с вашим увольнением? Это же просто несчастье, эти газеты... Куда же вы, милая, куда?.. Берегите сердце, вам уже не семнадцать лет, чтоб так вскакивать! Ну, до свиданья, до свиданья! Заходите...
20
Кая сидела, держа книгу на коленях, и смотрела на картинку над изголовьем своей кровати. Нарисовано там голое дерево, сразу не додумаешься, какое, — кажется, береза, потому что ветки его все-таки напоминали березовые розги. Картинку Кая повесила, вернувшись из колхоза, и глядела на нее так часто и в такой меланхолии, что Фаине уже не раз хотелось выкинуть эти розги за окошко.
Вечерело. Ксения писала рассказ — за дипломную еще и не бралась, непонятно, когда и успеет. Фаина только что поссорилась с ней: подружка опять рылась в ее чемодане, выискивая неведомо что.
— Если ты, дорогая писательница, еще хоть раз залезешь без спросу в мой чемодан, я разворошу твою тумбочку и прочту твои заветные писания. Умру со скуки, а прочту, так и знай.
— Я же Вадиму ничего не показывала, — оправдывалась Ксения, — у меня коричневая штопка кончилась, вот и все.
— Не выдумывай, фотографии вынуты из конверта.
— Вадим любовался, — насмешливо вставила Кая.
Фаина только стиснула губы. В этой комнате можно незаметно сойти с ума. Невидимый и неслышимый Вадим забирается в чемоданы, ищет коричневую штопку, теряет свои носовые платки — вчера огромный чужой платок лежал под кроватью… И что гнездится в голове у этой Ксении? Пишет сейчас, не отрываясь, и какое живое, умное лицо! А сколько глупостей, чепухи, даже непорядочности...
— Фаинка, не смотри на меня, ты мне мешаешь, — не останавливая пера, сказала Ксения. — Кая, какой процент в человеческой любви составляет чувственное влечение?
— Сто процентов, — сердито пробормотала Кая.
— Преувеличение. И даже «кинизм», как ты выражаешься. Кроме того, ученые считают, что его можно преобразовать и даже выключить. Заметь это себе! Возьмись за книги или... за пение, у тебя голос прекрасный.
Кая, все так же сердито, фыркнула в ответ:
— Читать, петь и любить Вадима? Спасибо!
— Птенчик, не шебарши! — Ксения поправила очки, чтобы видеть Каю пояснее. — Оставим Вадима, он не удался: спящая красавица продрала глазки и без него... Я говорю сейчас о тебе. От души желаю тебе такой любви, когда все равно, любит он тебя или не любит...
— Не бывает все равно!
— А я тебе говорю, что бывает, я знаю... — Ксения запнулась, покраснела, но докончила решительно: — Бывает и так, что его уже нет в живых.
— Еще раз спасибо! Я не хочу на кладбище.
Краска схлынула с лица Ксении, и она замолчала надолго.
— Веселенький мы народ, — пошутила Фаина. — Не знаю, что будет годам к шестидесяти. Все влечения выкорчуем начисто. Интересно, какой тогда станет Вельда?..
Кая вдруг вскочила.
— Я себе простить не могу!.. Кто меня дергал за язык на собрании? Какое мне дело до Вельды? Безнравственно! Не нужно мне вашей нравственности, жизнь пройдет и без нее, а на кладбище все будем одинаковы!
— Кая! Кто тебя развращает? — прикрикнула на нее Ксения, отложив ручку. — Одевайся, пойдем книги разбирать у Астарова, тебя необходимо посыпать книжной пылью.
— Лучше я пойду к девчонкам в седьмую комнату, там хоть не так скучно. Любви сколько хочешь, и вино всегда есть. Марочное!
— Марочное! — передразнила Ксения. — Ты когда-нибудь видела теленка с соской, Кая? Я однажды видела в совхозе, у дяди. Неизгладимое впечатление.
Фаина возмущалась молча. Каю надо прибрать к рукам. Противно, когда она вот так болтает. Без конца повторяет свои шалые мысли вслух, и они будто все плотнее от этого делаются... Сдуру свяжется с этими девчонками и их приятелями!
— Взять бы да описать тебя, — пригрозила Ксения, — как ты спиваешься с кругу и помираешь под забором, да больно уж мелкая тема... — Ксения задумалась, видимо забыв, откуда начала свою мысль. — Где крупная тема? — сказала она, глядя на лист бумаги перед собой. — Кажется, несчастье всегда считалось крупной темой... Какие бывают несчастья в тихое время? Смерть, болезнь... Описывать опухоли предоставляю врачам, а к смерти не смею приступиться. Что еще разрывает сердца человеческие? Бессилие перед несправедливостью? Тогда уж требуется несправедливость покрупнее, чем незаслуженная двойка на зачете у Белецкого или у Эльснера... Вот незадача — в академическом плане несчастий не хватает! Фаинка, включи радио! Нет ли чего в мировом масштабе?.. Стойте-ка, а куда это Кая собирается?
— Куда ты? — спросила Фаина.
Кая, не ответив, продолжала одеваться, потом долго причесывалась перед зеркалом. Синее платье сидело на ней как влитое, волосы сами укладывались в мягкие волны. Медленно отойдя от зеркала, она остановилась в нерешительности.
— Какое славное платье, — еще раз попыталась заговорить Фаина, — почему ты его редко надеваешь?..
В ответ Кая взглянула исподлобья и рывком стянула через голову платье, не расстегнув его у ворота, так что упала и покатилась круглая пуговица. Таким же порывистым движением она запахнулась в старенький халат и легла на кровать, смяв одеяло и уронив на пол думку.
Пробрало даже Ксению. Она подошла, подняла подушечку, положила ее в ногах у Каи, на цыпочках вернулась к столу.
Фаина же, сквозь выступившие слезы, самым странным образом позавидовала этой силе чувства, а свое тихое, незамутненное существование ощутила вдруг, как пустоту. Живешь, как схимник!..
Молчали до ужина. Потом Фаина накрыла на стол, позвала Каю. Та выпила налитую ей чашку и снова легла.
— О действительности надо судить по фактам, а не по догадкам, — сказала Ксения, ни к кому не адресуясь. — Интуиция обманчива. Сколько раз приходилось читать, как героиня, поддавшись ошибочным предположениям...
— Не надо, Ксения, — вполголоса попросила Фаина.
Когда улеглись на ночь, Фаина и не пыталась заснуть. Как тяготит эта комната! Лежать бы одной, ни к чему не прислушиваться. Так нет же, все тело не свое, не смеешь шевельнуться и должна дышать так же тихо, как Кая. А тут еще назойливо тикает будильник. Спрятать бы его в печку, оттуда его меньше слышно, это испробовано. Но ведь разбудишь обеих — кажется, спят все-таки...
Фаина в досаде повернулась к стене, загнала кулаком подушку в угол, натянула одеяло. Лежи тут, как схимник в гробу!.. Какой еще схимник лезет в голову? То мерещились старики с палками, а теперь дело дошло до схимников. Этак и спятить недолго!..
Понемногу все спуталось, будильник сам ушел в печку, и дремота, подкравшись, отяжелила веки.
Фаина очнулась вдруг, в испуге. Посмотрела на кровать Каи... Опять плачет! Едва-едва слышно прерывистое дыхание... Так она плакала и в первые вечера, когда Тейн перестал ходить к ним...
Подождав, пока уймется дрожь, бившаяся где-то возле сердца, Фаина бесшумно скользнула к постели Каи. Крепко охватив худенькие плечи девушки, шепнула:
— Подвинься.
Кая молча отодвинулась. Фаина легла рядом и сказала тихо, но тоном приказа:
— Сейчас же выкладывай все с начала до конца.
Кая ответила помедлив, тоже шепотом, но шепот у нее был, как и ее голос в пении, глубокий, грудной и слышный на всю комнату.
— Можно и без того догадаться. Я его люблю, а он меня не любит, вот тебе начало и конец.
— Тише!.. Что у вас произошло?
— Зачем тебе знать?
— Не рассуждай. Что случилось?
— Ничего. Был разговор.
— Какой?
Кая молчала. Фаина мерно повторила:
— Какой?
Кая легла навзничь, глаза Фаины теперь ясно различили гримасу, исказившую нежное лицо.
— Ну, подробно! — торопила Фаина. — Как началось?
— Обыкновенно. Гуляли и разговаривали. Тооме кругом обошли, все дорожки и мостики.
— Дальше! — Фаина нашла руку Каи и крепко сжала ее.
Кая быстро повернулась лицом к подруге и зашептала, как ребенок, не в ухо, а в рот:
— Трудно же рассказывать... Вечер, стемнело, деревья шумят… Я была глупая, я вообще глупая. Я думала — если поцеловал, значит, больше ничего не надо говорить, все уже сказано. А он нисколько не считал, что этим все сказано, он так себе поцеловал, в придачу к темному вечеру... и деревья шумели...
— Да не тяни ты, Кая! Дальше?..
— Он признался мне, что в него влюблена другая — не девчонка, как я, а настоящая женщина...
— Вельда?! Это настоящая женщина?
— Нет, не Вельда... — Кая задышала горячее, задохнулась. — Это он теперь в колхозе с Вельдой... Он о другой рассказал — артистка, очень интересная, ты ее не знаешь, но это неважно. Он рассказал, а у меня все заболело. Вот все, все заболело, и я решила сейчас же побороться с ней...
— В тот вечер? А как? — спросила Фаина.
— Я позавидовала ее прошлому. У нее жизнь артистки, творчество, успех. Ее многие любили, и сама она увлекалась. А у меня что в прошлом? Тетрадки да конспекты. Ну, я и придумала себе прошлое поинтереснее!
— Что?!
— Да, да. Будто бы я уже кого-то любила и будто бы эта любовь оставила глубокий след в моей жизни. Так вот и сказала — глубокий след... — Кая не то всхлипнула, не то засмеялась.
— Ох, Кая... Не думала я, что ты такая дура!
— Сейчас-то я вижу, что дура... Он поверил. Сразу! И застыл как глыба. А у меня перемешалось все, сама не знаю, что со мной сделалось. Я страшно рассердилась, зачем он поверил, как он смел поверить! И тогда еще нарочно подбавила... А потом он остался на скамейке, а я убежала. Так бежала, чуть не падала!..
— Тсс... Ксению разбудишь... Да ты ему объясни! Скажи, что пошутила! Как же так можно!
— Что ты! Какие шутки, я целую историю сочинила...
— А он у тебя, оказывается, умный: плетут ему всякий вздор, а он и уши развесил!..
— Я придумала хорошо, я еще и раскаивалась, чтоб было похоже! — Кая сквозь рыдания простонала: — Не прощу! Никогда не прощу, что он поверил!..
— Да я этому дурню сама все объясню в пять минут...
Кая так и затрепыхалась, задрожала от гнева:
— Попробуй только!.. Вот и доверяй тебе, вот и будь откровенной!.. Запомни, Фаина, если ты хоть заикнешься, я... я поступлю еще хуже. Запомни, запомни!..
— Успокойся, — грустно сказала Фаина, — буду молчать. Надеюсь, сама придешь в себя, посмотришь в глаза своему Лео и... Слушай, а может быть, его артистка тоже ффф... ффф?..
— Теперь все равно. Я знаю, Вельда в колхозе...
Кая не докончила, внезапно раздался ровный голос Ксении:
— Я положила подушку на ухо, и через подушку шипит. Теперь у меня бессонница. — Она величественно поднялась с постели, включила свет и навела приемник на полную громкость — По крайней мере не будет слышно дурацкого шепота. И понять ничего нельзя, и спать невозможно!..
Фаина бросилась к радио. Музыка стихла, но Ксения тотчас же запела немыслимым голосом:
— Долой сентименты! Долой!.. Пошла баба в поле жать, да забы-ы-ы-ла серпа взять! Эх! Соловей, соловей, пташечка, канареюшка жалобно поёть!..
Фаина и Кая закричали на Ксению — не было сил терпеть. Получился дикий шум, потому что Ксения продолжала, еще и притопывая босыми пятками:
— Раз! Два! Горе не беда! Канареюшка жалобно поёть!..
Фаина заткнула уши, смеясь; у Каи блестели слезы, но и она смеялась. Кончилось тем, что с потолка послышался дробный и отчетливый стук.
— Кочергой стучат!.. — урезонивала Ксению Фаина, тряся ее за плечи.
— Раз! Два! Горе не беда!..
Стук повторился.
Ксения замолкла, влезла на кровать и, после протяжного зевка, вежливо сказала подругам:
— Спокойной ночи.
Сверху постучали еще разок, для острастки.
Фаина погасила свет, легла...
...Вот и тяготишься этой двадцать третьей комнатой, и тесно-то в ней, и суетно, и мало возвышенных мыслей, а ведь здесь не так и плохо. Если вспомнить все годы, все вечера — как часто сон приходил с улыбкой.
Но Кая...
21
Придя из библиотеки, Фаина увидела у себя на столике чудесную белую розу. Рядом лежала записка Ксении: «Тебе от Вадима». Пожимая плечами, но и улыбаясь, она поставила цветок в воду. Конечно, это приятнее, чем носовой платок под кроватью, однако же, если вдуматься...
Но вдуматься не дала сама Ксения. Вбежав в комнату, она принялась тормошить Фаину и молоть вздор о своем загадочном братце — тут были и стихи, и воспоминания детства, и невероятные случаи из его жизни и бог весть что еще. Ксения даже поцеловала Фаину, чтобы помешать ей высказать мнение о носовых платках и розах.
— Молчи, молчи, Фаинка!.. — просила она и, отстав наконец, села к столу. — Ты пока молчи, а я начну писать дипломную, чтоб поскорей отвязаться. Недельку придется потратить все-таки... Что ты подымаешь брови? Очень просто! Эльснер советует расширить прошлогоднюю курсовую о Чехове, а долго ли мне? Разбавлю водицей, посыплю рубленой передовицей... вот и в рифму вышло нечаянно! — Ксения расхохоталась. — Мой Эльснер руководитель покладистый, помычит и согласится. Для отвода глаз надо подсыпать побольше современных терминов, а вчитываться он, не станет... Внутритекстовая система, стохастический ряд, эквивалентность, энтропия, ропия, опия... Что тебе Кая выложила со дна души в тихий ночной час?
— Зачем же я буду передавать.
— Не для сплетен же. Ты собираешь частушки, а мне нужен материал для романа... Вот только бы разделаться с дипломной! Интерференция, ренция, импотенция... — Она протерла очки платком Вадима, полным вирусов. — Кстати, Фаина, ответь мне... только сразу, не размышляя! Какие плотские ощущения вызывает у тебя запах розы, подаренной заочным поклонником?.. Ну, не злись! Это шутка, лирический намек! Просто я хочу сказать, что вам пора познакомиться!..
Настроение у Фаины было сегодня отличное, но за работу она взялась нехотя. Когда на сердце легко, люди работают с охотой, а у нее что-то не так, как у людей. Частушки приелись, комментарии однообразные... «Наше озеро в тумане, чайка вьется над водой…» И чайка здесь не чайка, и озеро не озеро, а зачин, традиция. Сейчас озеро темное, тяжелое, едва поднимает круглые валы. На берегу сумерки, скоро пойдет тот дождь, что обдирает последние листья с деревьев. Зачин. А после зачина неизбежно воспоминание о доме. Вытоплена печь, и отец, вернувшись с лова, будет пить чай с особым удовольствием. Стаканов шесть выпьет вприкуску... Да-а... Фаина приехала... «А это кто с тобой, дочка?» — «Так, знакомый…» — «Что ж, милости просим, чай пить, Алексей Павлович...» Вот туман-то какой на острове, даже доценты могут примерещиться...
А работа сегодня не идет, абзацы повторяются, мысли чужие. «Наряду с самобытной у нас живет и книжная частушка с литературными эпитетами и книжным синтаксисом...» То-то и есть, какая живет, а какая дохнет, как моль на ветру. Об этом доцент и велел подумать... А терминами ему глаза не отведешь, высмеет, поморщится с презрением. Вчера встретился на улице, был очень добрый, и губы не сжимались презрительно... Вот эта глава тоже трудная — о лирическом герое. Проанализировать, кто же он такой? Зовут его по-старому, он миленок, дроля, дорожиночка. Он не лодырь, он расхороший бригадир, у него три нашивочки подряд, он и учится, и ловит рыбу лучше всех, он и гармонист, и баянист. Но вот он, по-старому, и растяпа: обнимает, вместо любимой, пень березовый, по ошибке целуется с кошкой, жует веники от смущения. Иногда морочит голову: милый любит, и не любит, и отказу не дает... Вообще говоря, с ним бывает трудновато:
Мы с миленочком сошлися,
Он молчит, и я молчу,
Я осмелилась, сказала:
«До свиданья, спать хочу...»
Бывает и хуже:
Меня милый провожал
Все елками да елками.
До чего меня довел:
Грудь колет иголками...
Фаина перестала листать тетрадку и разгадывать характер милого, услышав вдруг смех Ксении. Смех явно относился к ней, к Фаине, и Ксения, конечно, ждала вопросов по этому поводу, однако не дождалась и скоро ушла из дому.
Хорошо, что никого нет. Можно дать себе волю, пожить своим, тайным. Не надо его называть, оно здесь, неясное, теплое... В комнате темнеет, пора зажечь свет. Добрый вечер. Вчера при встрече были сказаны эти простые слова: добрый вечер. Собственно, этого далеко не достаточно, это почти то же, что «до свиданья, спать хочу». Но...
Лампа мирно осветила стол и белую розу. Пусть будет и сомнительная белая роза, и гвоздь над кроватью Ксении, и надоедливая пластинка за стеной, вечер все равно останется добрым. Хотя розу, пожалуй, лучше перенести на стол Ксении.
Фаина поставила розу на столик, где валялись окурки, огрызки карандашей, клочки бумаги, и вдруг, нечаянно взглянув на кровать рядом, не поверила глазам: из-под подушки Ксении виднелся край блекло-синей записной книжки — ее собственный, Фаинин, дневник. Да, это он, старый дневничок... там о Николке, о любви, об отчаянной глупости! Этого никто не смел трогать, никто!.. Ксения показала его Вадиму? Подлость, подлость!..
Она перелистала книжку. И это они читали вдвоем с полоумным!.. Не вспомнить даже, где лежал этот дневник... и зачем, к чему он хранился! Его надо было уничтожить давно, его и самой читать неприятно!..
Фаина, разыскав спички, открыла печную дверцу и по листочку сожгла свои детские признания, такие стыдные сейчас. Все...
Ладно же! Сейчас она возьмет портфель с замочком, где спрятаны рукописи Ксении, и перетряхнет их как следует. Хорошо бы сломать замочек! Пусть бы хоть раз почувствовала эта негодница, что и на нее есть управа!.. Но, к сожалению, портфель не заперт, ключик болтается сбоку на шнурке.
Фаина вынула несколько папок и большой заклеенный конверт, лежавший в особом отделении. Вот его-то и надо вскрыть. Если там письма, читать не стоит, но пусть у них будет вид прочитанных. У Ксении скрытность болезненная, письма доймут ее еще больше, чем рукописи!..
Из конверта выпала тетрадка. На первой же странице крупно выделилось заглавие: «Вадим». Фаина на секунду зажмурилась от отвращения к самой себе, но тут же вспыхнуло любопытство и вихрем понесло дальше, — уж очень многообещающей была первая фраза: «Вадим — робот, сконструированный умозрительно...»
И Фаина залпом прочла все вступление:
«Вадим — робот, сконструированный умозрительно. Он в корне отличается от призраков, созданных для низменных целей (Бенбери у Уайльда и т. п.). Цель: узнать, способен ли он вызвать у Фаины эмоции подлинные, не отличающиеся от тех, которые вызывают живые возлюбленные.
Аскеза Фаины. Эстетика первобытная, натуралистическая. Тяготение к тому, что для нее закрыто и навсегда останется закрытым. Вадим должен пробудить в ней иллюзорную уверенность, что она приобщилась к закрытому.
Символ, знак войдет в обыденный пошлый мир. Жизнь будет вливаться в него самой Фаиной в соответствии с ее собственным восприятием. Взаимопроникновение.
Подозреваю некоторую преступность замысла — гомункулы всегда опасны...»
Фаина, точно в дурном сне, пыталась улыбнуться, стряхнуть с себя тошную тяжесть. Тотчас вспомнилась Кая — та тоже выдумала себе опасный призрак. И, все-таки улыбнувшись насильственно, Фаина прошептала: «Ксенка напустила в комнату нечисти, вот и выводятся здесь анчутки...»
Она перевернула страницу:
«Да, гомункулы опасны, но — — —
Модель
Сегодня Вадиму немного мешал, отвлекая, стук за окном. Стук уплотнял то темное, что и так загромождало душу.
Внимание Вадима к тому же отвлекал и собственный стул. Сидеть на нем становилось все неудобнее и неудобнее. Стул не на шутку таял, оседая и кривясь на сторону, как снежный болван в оттепель. Сиденье мягкими толчками опускалось на пол. Талая вода журчащими ручейками растекалась по комнате. Запахло весной.
В серванте шумно завозились скворцы. Писать стало невмоготу, строфа исказилась необратимо. Вадим воткнул карандаш в стену, задрапировал его старым носком и, испытывая к носку гнетущее омерзение, не сгибая ног, перешагнул через подоконник.
Над городом, погруженным в хрустящую полутьму, висел заляпанный известкой, но все еще прекрасный профиль носатого турецкого полумесяца. Город не спал. Засучив рукава, горожане старательно мыли деревья на бульварах, прочесывали частыми гребешками газон, стригли под бобрик одичавшие проволочные изгороди, на нет затаптывали секретные тропинки к общественным ретирадам, опрыскивая утрамбованную землю лавандовой водицей. Готовились к празднествам, которые город устраивал в честь Мужественного Гермафродита.
В густых колоннах шли поздравители с именинными кренделями через плечо, отряд веселых и находчивых самоубийц мчался на мотоциклах, дряхлый филантроп бесплатно раздавал туристам открытки-ню. У костра грелись мороженщицы, протягивая к пламени изуродованные соленым льдом культяпки. Мэр города легко вписывался в пейзаж.
В центре пространства сидела на табуретке Марина...»
Фаина потрясла головой. Ну, что это такое? Пародия? На кого, на что?..
«...сидела Марина. Неподвластная времени, она измеряла бесконечность. Здоровье позволяло ей вести такую жизнь.
— Марина, — сказал Вадим, с трудом повернув во рту вялый, обмякший язык. — Марина, остерегись!..
— Вы редуцированы! — гаркнул за спиной донельзя знакомый голос, и Вадим, делая неимоверные усилия не глядеть вниз — на свои подкосившиеся ноги, подстелил под себя пальто и опустился на тротуар.
Луч метапрожектора наотмашь ударил по городу. Город смолк. Горожане, вытирая руки о фартуки, замедляли шаги, суровели, бледнели, никли.
Вадим, балансируя, поднялся с плит, кое-как укрепился на ватных, разъезжающихся ногах и пошел, уводя за собой перспективу.
Стрелка вокзальных часов, вздрогнув, показала два румба вправо.
Поезд медленно уходил в ноль-изо-ноль».
Фаина пожала плечами. Не читать, бросить? Но дальше идет заголовок «Бытовой аспект» и мелькает имя «Марина», значит, можно ожидать худших вещей...
«...жених моей подруги был похоронен, и эта славная девушка увлеклась позой вдовствующей невесты. Образ жениха сиял все ярче, а мои осторожные намеки на рыжие усы и на алкоголизм скончавшегося вызывали лишь слезы. Тогда я решила возвратить радость моей бедной подруге. Случай помог мне. Однажды на кладбище Марину увидел Вадим...»
Фаина нервно провела рукой по лицу. Что за паутина...
«Подруга не заметила его крайне худощавой фигуры (впоследствии Вадим несколько окреп и округлился, но тогда он был именно таков), не заметила и восхищенных взглядов, которые он кидал на нее, притаившись за кустом. Налюбовавшись вдоволь, он шагнул через небольшой памятник и, направившись к воротам, вскоре превратился в зигзаг.
Этот макет я представила Марине вместе со стихами Вадима.
О, вечно женственное! Марина не могла не поверить в свою неотразимость. А затем подоспело и письмо: «Марина! Вам, пожалуй, покажется непонятным мое к вам отношение. Я видел вас лишь издали и знаю вас лишь по рассказам моей родственницы...»
У Фаины застучало в висках. Ведь, кажется, то поганое письмо до сих пор лежит где-то среди бумаг! Вдобавок ко всему кто-то помогал Ксении, кто-то прислал это письмо из Ленинграда. И тут Фаине вспомнилось мимолетное приятное чувство, испытанное тогда. Стыд за это чувство был мучительнее, чем стыд за свое легковерие. Она перевернула страницу, не читая. Начала с оборванной фразы:
«...ее терзала совесть, Марина не могла больше грустить честно: Вадим заслонил неустойчивого покойника. Вид у нее был здоровый и жизнерадостный, — следовательно, Вадим появился вовремя. Он был создан для нее, ибо любил добродетель. Он был поэт некурящий и непьющий, его невозможно было представить себе икающим, он никогда не сморкался, у него никогда не урчало в животе — и всем этим он выгодно отличался не только от бывшего жениха, но и от своих собратьев по перу.
Марина похорошела, стала кокетливее, увереннее. Письма Вадима раздували ее маленькую душу, и душа растягивалась, как розовый резиновый шарик. Однажды Вадим прислал цветок, в другой раз колечко...»
Фаине захотелось вышвырнуть вон белую розу, но она сдержалась.
«...Однако встретиться они не могли, на их пути все время стояли препятствия. Время шло, и тут-то начались настоящие события. В наш поселок прислали нового доктора — Алексея Павловича...»
Фаина отшатнулась, как от пощечины. Ксения знает! Как она догадалась?.. Значит, следила за каждым дыханием!..
«Алексей Павлович, то есть, скажем, Павел Тарасович (и дадим ему трубку) несомненно уступал Вадиму в поэтичности. Зато для семейной жизни он бесспорно подходил больше. За какие-то грехи небо покарало его любовью к Марине. Когда кончился инкубационный период, он стал ходить за ней по пятам и хрипеть трубкой, как удавленник. Марина же сопротивлялась, страшась изменить Вадиму. По ночам она писала Вадиму отчаянные письма, умоляя приехать и спасти ее. Письма Марины шли через мои руки и надоели мне до смерти. Наконец Вадим пообещал, что скоро приедет, хотя это связано с трудностями. Я лично имела основание считать эти трудности непреодолимыми...»
Поведя затекшим плечом, Фаина заметила, что читает она стоя, согнувшись в какой-то воровской позе, и очень устала. Она перешла к большому столу, расположилась удобнее.
«...Павел Тарасович, которому Марина все выболтала, извелся от ревности, почернел. Потом куда-то уехал...»
Здесь у Ксении кончалась главка. Дальше шли каракули, не относящиеся к тексту, и затем продолжение:
«Дверь загрохотала, будто в нее бухали поленом, и ворвался Павел Тарасович. Размахивая своим портфелем, он заорал: «На кой дьявол вам понадобилось морочить голову Марине этим свинячьим Вадимом?..» Внутри у меня захолонуло... «Почему же я морочу? Он сам морочит...» — сказала я. Угрожающе сопя, Павел Тарасович швырнул в меня лиловым конвертом. Я заглянула в него, будто бы недоумевая. «Это же ваш почерк, — бешеным шепотом сказал Павел Тарасович и продолжал все громче и громче: «Я сам ездил искать этого туманного скота. Его не существует! Не су-ще-ствует, вы это отлично знаете! Я вас выведу на чистую воду! Сейчас же идем к Марине!..»
Игра была проиграна... «Павел Тарасович, — сказала я, — не надо к Марине. Она именно вам не простит этого. Ведь положение у нее глупое?..»
Фаина со злостью согласилась: глупое. Не перед Ксенией даже, а объективно глупое. Ксения не очень и старалась обманывать. Разок усомниться, и она, вероятно, расхохоталась бы и не стала бы отпираться. Вольно же быть дурой и верить явной чепухе... Но все-таки издевательство!
«...видя, что в душе Павел Тарасович согласен со мной, я предложила: «Пусть Вадим скончается в творческой командировке, а? Но имейте в виду, он не пьет и не курит! Марина всю жизнь будет ставить его вам в пример...»
Павел Тарасович топнул ногой и высыпал на меня пепел из трубки. «А ну без потуг на остроумие! — закричал он. — Ваше дело в двадцать четыре часа убрать его к черту на рога!» — «Вадим никогда не чертыхался, — заметила я, — и вообще прожил свой век достойно. Вашей Марине он принес только пользу. До встречи с ним, уверяю вас, она всегда выглядела так, будто объелась молочным супом...» — «В двадцать четыре часа!..» — рявкнул доктор и вышел...»
Дальше Ксения, видимо, писала наспех, неразборчиво... Цитата из Уайльда, рисунки. Потом конец этой нелепейшей истории:
«Постаревший и осунувшийся Вадим, кряхтя и потирая поясницу, писал свое последнее письмо:
Любимая!
Ты ждешь, ты надеешься, но я... я не приеду. Много раз я откладывал нашу встречу, ибо это был единственный способ продлить наше блаженство. Марина! Приготовься к самому страшному! Вчера врачебные анализы подтвердили жестокую правду: для меня невозможны утехи брачной жизни. Путь поэта труден, творческие окрыления подорвали мой хрупкий организм…»
Фаина поднялась и положила тетрадь Ксении ей на кровать, на самое видное место. Затем, одевшись, вышла на улицу и, помедлив, отправилась в парк. Не желает она встретиться с Ксенией вот так, невооруженной, не обдумав хотя бы первого разговора с ней... Обдумать, конечно, обдумать, и не поддаваться, и поднять на смех самое Ксению с ее жалкими экзерсисами, но… сейчас-то хочется попросту заплакать.
22
В воскресенье Сильвия переделала множество мелких дел: штопала, чинила, убирала. Ей казалось, что надо поскорее от всего этого освободиться, и тогда уже поразмыслить о своем намерении пойти к Тейну.
Вчера на уроке стало ясно, что после колхоза ничто не изменилось: весь урок он притворно кашлял и идиотски пучил глаза. Можно было попросить его уйти из аудитории, но он именно того и дожидался, держа в запасе еще какой-нибудь фортель...
На кафедре Муся дала совет обратиться к декану математического факультета, так как по идее любой деканат должен быть против идиотизма; Нина Васильевна, покачав клипсами, скорбно высказалась в том смысле, что тля может тлить всякий деканат, чему примером служит филологический, а Давид Маркович, уже не в первый раз, спросил, не болен ли Тейн. Сильвия, правда, и сама знала такой случай в школе — кривлялся, кривлялся ученик, острил невпопад, и кончилось все лечебницей. В зрачках у того, помнится, тоже вспыхивал какой-то злобный, блажной огонек...
Но, конечно, она не считала Тейна ненормальным, и было тут еще одно обстоятельство. Ей давно хочется сорвать с него шутовской колпак еще и потому, что за всеми его отвратительными повадками есть что-то неразгаданное и, как ни странно, привлекательное. Впрочем, пойти к нему следовало и просто для того, чтобы добиться порядка на уроках. Смешно, что об этом приходится думать, имея дело со взрослыми, но вот приходится. Педагогика пока твердит одно: готовых рецептов нет, рассматривай каждого Тейна отдельно. Пора бы сдвинуться с этого заколдованного места... Нет, все-таки лучше без готовых рецептов, еще отравишь кого-нибудь по ошибке...
Когда Сильвия уже вышла на улицу, появилась у нее и тихенькая опаска: как бы не налететь на оскорбление... Возвратиться домой и заштопать еще пару чулок? Но, поддразнив себя такой возможностью, Сильвия зашагала еще решительнее.
В этом сером домишке? Да, на втором этаже... Поднявшись по деревянной лестнице, Сильвия неодобрительно посмотрела на дверь: глухая, обитая стеганой черной клеенкой, ничего хорошего за такими дверями не водится.
Она постучалась, от клеенки стук прозвучал слабо. Потом донеслись неясные шумы, ключ щелкнул, и Сильвия очутилась лицом к лицу с Тейном. Неприязненная мина, настороженность...
Поздоровались; Тейн придвинул стул, соблюдая минимум вежливости. Поток смутных ощущений захлестнул Сильвию, мешая ей говорить. Острее всего поразила пыльная аккуратность этой комнаты: связки и стопки книг, старых папок, тетрадей, точно перед отъездом. И обреченность, странная обреченность хозяина... С чего же начать? С увещания? Увещание — самый слабый способ воздействия. Сквозь стеганую клеенку...
— Да вы садитесь, товарищ Тейн. Надо поговорить.
Он молча сел, близко к столу, почти пустому: шахматная доска без фигур и начатое письмо.
— Нам придется поговорить о вашем кашле...
Плохо, банально. Мешает он сам: его подчеркнутое молчание, хмурость, дух неразумия, витающий вокруг его широкого умного лба. А говорить нужно, сегодняшняя встреча измерит ее силы. Если впустую, то она не педагог, а автомат для исправления ошибок. И для штопанья чулок...
— У вас, по-моему, не бронхит. Вы не замечаете за собой невротических состояний?
— Чему я обязан таким диагнозом, товарищ Реканди?
... Даже не обиделся, и полон самомнения. Он здоров, но все же ему грозит какая-то беда, этому мальчишке со злым огоньком в глазах. Шут в трагедии, и умрет вместе с королевной... Глупости, глупости! Но почему так жутко в этой комнатенке? Неестественный порядок, и тут же пыль, пачки старых тетрадей, ни одной картинки, ни портрета... А начатое письмо посередине стола — о боже мой! — похоже на предсмертное...
— Не будем притворяться, товарищ Тейн. Ваше поведение на моих уроках выходит за пределы нормального.
Мальчишка вдруг показался старше своих лет, проговорил тоном брюзги:
— Вы предлагаете не притворяться? Так зачем же вы притворяетесь, будто бы вам нравится ваша непопулярная дисциплина?
Сильвии стало горько и больно. Он не поверит на слово, что ей дорога эта дисциплина, не примет и логических доводов. Он отвергает вслепую чудесный язык, ведущий в чудеснейшую литературу. Кто виноват в этом? Быть может, виновата и она, Сильвия Реканди, с ее диктантами, упражнениями, беседами о тетушке в розовом платье?..
— То, что вы сказали, Тейн, для меня оскорбительно. Впрочем, вы оскорбляете меня на каждом уроке...
Что-то дрогнуло в его лице, но лишь на миг.
— ...на каждом уроке. Вас, студент Тейн, я оскорблять не хочу по причинам, для вас пока непонятным. Скажу только — не стоит жить убеждениями из вторых рук. Вам кажется, что вы уже в колыбели всосали всю мудрость мира, а на самом деле ваш мирок неинтересен.
Тейн не выдержал позиции старого брюзги и сбился на простой мальчишеский задор:
— Откуда вы знаете, какой у меня мирок?
— По вашим инфантильным выходкам, они нестерпимо скучны.
— Уроки тоже нестерпимо скучны.
— Возможно. Не хотите ли заниматься самостоятельно? Я дам вам список литературы. Словари у вас есть?..
...Только бы самой не впасть в инфантильность и слащавость: учительница предлагает душеспасительное чтение, растроганный ученик поспешно перерождается...
— Словари... — насмешливо пробормотал Тейн.
— Можете и без меня выбрать себе любую книгу, потом посмотрим, что же вы усвоили. Это поставит вас на курсе в исключительное положение, о котором вы так заботитесь. Вы еще сильнее почувствуете, что вы — пуп земли.
Здесь Тейн удивил Сильвию: улыбнулся.
— Неужели вы согласны тратить на меня драгоценное время? — сказал он, тут же меняя улыбку на скверную гримасу. — Почему бы это?
— Потому что... вы несчастны! — вдруг вырвалось у Сильвии.
Игра, ирония, расчеты, престиж — все полетело прочь, и, чтобы скрыть хоть слезы, она почти выбежала из этой мертвенно прибранной комнаты, не оглядываясь на ее обитателя.
Она прошла несколько улиц, не думая, куда идет. Только бы выветрить из головы этот разговор, отложить размышления на после, когда забудется его неприятная острота.
Вот тихая улочка с одноэтажными домами, с узкими тротуарами. По одной стороне тянется ряд старых берез, еще тускло-зеленых. Видно, здесь теплее — на других улицах деревья полуголые. Нет, не теплее, — из-за заборов выглядывают георгины с красными сморщенными мордочками, побитыми ночным морозом. Терпкие запахи напоминают детство... А беспокойные мысли все-таки не выключаются.
Резкий перелом в мыслях и в чувствах произошел внезапно при взгляде на одну приоткрытую калитку. Сильвия чуть не споткнулась... Хороша же она, нечего сказать! Уже начинаются маниакальные штучки: как же она не опомнилась раньше и добрела до самого дома? Ведь они с Белецким были однажды на этой улице, и Давид Маркович указал ей на этот дом, и еще смеялся тогда: «Какой уют с геранями у нашего Гатеева!..»
Отсюда надо бежать немедленно, не глядя ни на калитку, ни на сад, ни на окна. Вон там поворот, булыжная мостовая, остановка автобуса. Подходит... Скорее, скорее!..
Автобус с готовностью увез Сильвию как можно дальше от тихой улицы — прямо к вокзалу. Там она пересела и скоро приехала туда, где ей и полагалось быть, — к себе домой.
То настроение, с каким она вышла от Тейна, больше не возвратилось, и конец дня можно было бы назвать благополучным, если бы не дикое желание — войти в ту калитку. Но с дикими желаниями можно и бороться.
23
Фаина, решив не допускать никаких объяснений, твердо выдерживала характер. Все попытки Ксении обратить историю с Вадимом в шутку наталкивались на глухоту, и в конце концов такие разговоры прекратились. Лишь изредка писательница еще несла околесину о преломлениях действительности в ее сознании, и в этих ее речах чувствовалось некоторое смущение.
Шли дни — такие гладкие, что в них понемногу сгладились и отношения, будто и вправду не было оскорбительной чепухи. Осталась у Фаины лишь глухая боязнь, что Ксения опять что-то подсмотрит, что-то угадает, и боязнь эта странным образом перекидывалась на встречи — на деловые встречи — с Алексеем Павловичем: и смотреть в глаза неловко, и опускать глаза — глупо, и, вероятно, руководитель уже замечал, что дипломантка безнадежно поглупела. Встречи, положим, были нечастые; работа, как и дни, как и недели, шла гладко, без особой надобности в консультациях.
После октябрьских праздников Ксения собралась ехать в Ленинград, уверив и доцента Эльснера и заведующего, что ей необходимо побывать в библиотеках. Дома ей не верили: неужели здесь не хватит книг...
— Не только книг. Мне нужны личные встречи с учеными. Дипломная о языке и стиле писем Чехова, а кто мне здесь скажет точно, что такое стиль. Пусть настоящие ученые ответят.
— Так уж настоящие ученые и выстроятся все в ряд, когда ты приедешь! — усомнилась Кая.
С отъездом Ксении ничто будто и не изменилось, однако Фаина вздохнула с облегчением — пожить хоть недолго без недремлющего ока.
Но никакого облегчения не получилось из-за Каи, которая вела себя возмутительно. По вечерам на месте Тейна разваливалась косоглазая личность с начесом на лбу и бахромчатой бородкой. Каков ни был Тейн, но в нем все же чувствовался человек, с человеческими интересами, а представить себе, чем живет эта личность, было невозможно. Никак нельзя было бы вообразить, что этот обалдуй держит в руках карандаш, или книгу, или хоть гитару. Ни-ни — весь целиком он укладывался в начес и бородку.
Фаина попробовала достучаться до Каи:
— Зачем он тебе?
— А разве плох? Все они одинаковы.
— Вот лет через тридцать будешь сидеть с Тейном у печки, то-то смешно вам будет, что из-за глупостей ссорились. Из-за выдумок ребячьих...
Светлые глаза потемнели, стали чужими.
— А он ничего не выдумывал! Вельда во всяком случае не выдумка, ходит по земле ножками... И пусть, и мне все равно! Я такая же!
И на другой день Фаина встретила ее в целой компании растрепанных девчонок и полупьяных мальчишек — противных, полоротых...
Было ясно, что пора вмешаться, что отдавать Каю на съедение — преступно. Поговорить с ее однокурсницами или с преподавателями? А кого она послушается! Помирить ее с Тейном? Но как к нему подойти? К нему тоже и на козе не подъедешь!..
Пока Фаина ломала голову, прошло какое-то время, почти неделя, и тогда совершилось нечто непонятное...
Утром Фаина, выходя из дому, оставила Каю еще в постели (помнится, накануне от нее пахло вином), а вернувшись часа через два, нашла ее так же в постели, но одетую. Кая плакала навзрыд... и была прежней Каей. Прежней — бледным цветком льна, бледным, несчастным, некрасивым даже, но тем же, но льняным, и это давнее, полузабытое впечатление потрясло Фаину больше, чем слезы, и она замерла в ожидании каких-то слов. Но Кая молча вытерла глаза, поднялась и, собрав книжки, пошла на лекции.
Вечером притопала косоглазая личность, но была удалена вместе с начесом, а Кая до поздней ночи сидела за работой: переписывала конспект, взятый, видимо, у подруги. Все это, быть может, не казалось бы таким удивительным, если бы не стало повторяться в точности: слезы, лекции, конспекты, изгнание личностей. Фаина думала, что скоро придет Тейн, — не приходил.
Можно было и порадоваться, но все же хотелось бы иной перемены, более простой, без самомучительства. Чем круче Кая брала себя в тиски, тем ненадежнее представлялось Фаине такое положение вещей.
Приехала Ксения, будто бы с готовой дипломной.
— До весны припрячу, чтобы у Эльснера было поменьше времени вчитываться... Как освежает большой город! У меня столько планов! Поговорила я с одним... ну, литератором. Обещал напечатать рассказ или повесть, но все должно быть немного сдвинуто, не в фокусе, и надо во что бы то ни стало перемешать прошлое, настоящее и будущее героя, иначе не пойдет. Это, положим, я и сама знала...
О библиотеках и ученых Ксения упоминала мельком и не очень убедительно: достоверно было лишь то, что она побывала в театрах и у знакомых. Как-то сорвалось с языка и имечко Вадима, но тут она сразу и осеклась.
За писанье принялась немедля, разложив по всему столу привезенные журналы и книги, — вероятно, для справок, как писать «не в фокусе». Больше, впрочем, разговаривала:
— Сейчас пошла бы такая тема: дочка бросает к чертовой бабушке школу и убегает от родителей — совершать подвиги. Какие? Неважно, что-нибудь да найдется: целина, тайга, болото. Отец — косный сиволдай, сидит в академии наук, порывов юной души не понимает. Мать — этакая отсталая доцентиха, заботится только о том, чтобы дочку накормить, одеть и грамоте выучить. Мещанка собачья... После побега у папы инфаркт, но так ему и надо, пусть не препятствует свершению подвигов!.. — Ксения захохотала. — Честное слово, видела похожую пьесу!.. Но плагиата можно избежать, если дать ретроспективное развитие сюжета и фабулы, то есть начать с болота! Как ты думаешь, Фаинка? Вот я тебе прочту кусочек одной статьи... «Интенсивный поток информации, который проходит сегодня в единицу времени через мозг человека, требует разрыва действия и многоэпизодности...» Чуешь? Газета врать не станет!..
— Посмотри хорошенько, — отозвалась Фаина, — может быть, это та, в которую ты ботики заворачивала?
— Ни боже мой!.. Вон портрет Громыко и У Тана!..
Так в разговорах провели день. Кая помалкивала, без единой улыбки. Но ночью не ворочалась и не сморкалась — может быть, таилась от Ксении или выплакала уже все свои глупости.
На другой день — очень памятным оказался этот день — Фаина принесла Алексею Павловичу новую главу. Он сидел на кафедре в одиночестве, читал «Ученые записки». Фаину поразило его бледное, расстроенное лицо, однако он улыбнулся ей, и они разговаривали несколько минут, пока не пришла лаборантка. Пожаловался, что погода — черный туман — мешает ему работать.
— Нужно написать статью, а я, кажется, разучился писать со злостью. Вот здесь товарищи... — он указал на журнал, — ... пишут, захлебываясь от ярости, уличают друг друга в мошенничестве, в передержках... Прекрасно, жизнь кипит!
— О чем вы собираетесь написать? — несмело спросила Фаина.
Он открыл ее тетрадь, прочел страничку, посвистывая едва слышно, потом сказал, тоже очень тихо:
— Теоретик я, не хватает материала из первых рук. Нам бы вместе поработать... Возьмите меня летом на ваш остров?
— Поедемте... — проговорила Фаина, недоумевая, шутит он или нет.
Но он уже застыл, замерз, и ровно ничего нельзя было понять. Потом вгрызся в запятую — не на том будто бы месте... Фаина поспорила, сдалась. Вот тогда и пришла лаборантка.
Чудесный был день — нет, это уже был вечер. Никакого черного тумана, ему привиделось. Просто теперь уже рано темнеет... На чем строится счастье? На голосе, на обмолвке, на чем-то мелькнувшем так слабо?..
Совсем бы не идти домой в этот вечер, посидеть до утра на Тооме. Помечтать о его шутке... Пароход «Александр Невский» уходит на рассвете, но сна не будет и в помине. Всю дорогу они будут разговаривать, и на реке, и после, когда пароход плавно закачается в озере. Нет, лучше мы будем молчать, смотреть, как плывут зеленые берега...
Но как ни заманивала Фаину ночь, она все же направилась домой. Путешествие по озеру кончено — ни зеленых берегов, ни свежего запаха воды, ни пышной пены за бортом. Однако осталось в памяти, и надолго.
Недалеко от общежития бродили косоротые личности — не разобрать, знакомые Каи или другие... Идите, идите, подальше от наших ворот!..
В окне не виднелось света, значит, подруг нет дома. Кая тоже ушла?..
Но Кая, облокотившись, сидела у стола.
— Что ты делаешь в темноте? — окликнула ее Фаина, зажигая верхнюю лампу.
— Погаси, — тихо и хрипло сказала Кая.
— Что? Еще что выдумаешь!
— Погаси свет, — повторила Кая.
Пожав плечами, Фаина повиновалась, комната снова затонула в синеватом сумраке.
— А дальше? — насмешливо спросила Фаина. — Сесть мне тоже к столу и окаменеть?
Кая, не поворачивая головы, проговорила с усилием:
— Подожди...
Фаина, вдруг испугавшись, подбежала к ней.
— Что с тобой опять?.. — допытывалась она, обнимая Каю, гладя ее волосы, шею, худенькие руки. — Тоскуешь? Или опять выдумки, морока какая-нибудь?..
— Морока?.. — с ненавистью вскрикнула Кая. — Нет, реальность!.. Слушай, Фаина... Никогда я не была о себе высокого мнения, но что я такая дрянь, этого я тоже не думала!
— Кая, ты?.. Что с тобой?
— Да, да, настоящая дрянь! Негодная девчонка, которой все равно, кто ее обнимает! — Она заплакала тихо и горестно, повторяя почти беззвучно: — И уже нет возврата, нет возврата...
Собрав все свое самообладание, Фаина пыталась утешить Каю, но в растерянности не находила ни слов, ни мыслей.
— Кто же он? — вырвалось у нее.
— Зачем?.. Зачем ты спрашиваешь?.. — шептала Кая, прижимаясь мокрым теплым лицом к рукам Фаины. — Это же и есть несчастье. Мне было все равно, кто...
— Этот поганый мальчишка? — в ужасе сказала Фаина.
Кая вдруг выпрямилась и проговорила зло и сухо:
— Я тебе никого не назвала, и не смей больше спрашивать. Теперь ты знаешь, какая я. И мне легче, спасибо... Молчи, молчи! Больше не скажу ни слова.
24
На кафедре выдалось несколько на редкость тихих недель. Со стороны деканата прямо-таки веяло черемухой: будто не было ни статьи Асса, ни комиссий, ни жалоб и будто продекана Касимову взяли живой на небо. Никто не мешал работать.
Уже две субботы подряд Сильвия проверяла домашнее чтение. Дело это довольно скучное: просмотреть словарь, составленный студентом, прослушать по крайней мере страницу текста, перевод, пересказ.
На втором этаже у окна была площадка, где стоял стол и две скамьи. Не найдя свободной аудитории, Сильвия сегодня слушала студентов здесь. Отвечали монотонно, почти не мешая думать о своем. Да впрочем, и не о своем, все о них же... Вот эта маленькая болела с самого начала семестра, бледна, прозрачна, как яичная скорлупка; у этой уже есть семья — в сумке у нее книги, а в сетке крупа, макароны, стиральный порошок. Тот, высокий, с соколиным взглядом, тоже женился нынче — на булке. Вообще на первых курсах замуж выходят девицы двух типов: или похожая на булку, или же костлявая, похожая на щуку. На булке женится самый красивый и самый умный на курсе — вот как этот сокол, а костлявая сама выбирает себе старосту или комсорга и до тех пор ходит за ним по пятам, пока тот не сдастся...
А Тейн на уроки не ходит. Трогать его она не будет; по правде говоря, им обоим нужен маленький перерыв...
Последний студент, наконец, окончил свое худосочное повествование и ушел. Отметив его фамилию птичкой, Сильвия посидела минутку, разглядывая исписанный и изрисованный стол. Это, кажется, карикатура на Эльснера: его очки и плюгавая фигурка, и две красавицы разрывают его пополам — очевидно, Нина Васильевна и Касимова. А это, пожалуй, на нее, на товарища Реканди: ангелок с локонами бьет студента палкой. На нее ли? Да ведь узнала же себя — значит, так...
Звонок, толпы врассыпную из всех аудиторий. Надо подождать еще немного. Вышел...
— Алексей Павлович!
Он приблизился, улыбаясь и в то же время храня отчужденный вид. Сильвии понадобилась отчаянная смелость, чтобы сказать, да еще весело сказать:
— Алексей Павлович, приходите сегодня часов в семь. У меня яблочный пирог к чаю...
— День рождения?
— Нет, нет, просто так... беспричинный яблочный пирог.
Гатеев помедлил, посмотрел на стол внимательно, а на нее вскользь и вдруг согласился с неожиданной даже живостью:
— Очень люблю яблочный пирог. Непременно приду!
Сел рядом, рассматривая рисунки на столе.
«Очень люблю яблочный пиро-ог...» — мысленно передразнила Сильвия, почему-то не испытывая радости от его согласия и уже сожалея о сказанном.
— Студенческий фольклор... у вас на столах, — усмехнулся он и прочитал: — Курсовое собрание — «Сорочинская ярмарка», двойка на весенней сессии — «Майская ночь, или утопленница», академическая задолженность — «Необыкновенное лето». А дальше что-то о Давиде Марковиче...
— Обо мне? — спросил голос за спиной у Сильвии.
Сильвия оглянулась. У лестницы стоял Давид Маркович — как всегда с блеском, но очень уж насмешливым. Казалось, даже огонек его папиросы поблескивает с насмешкой, не говоря о глазах, очках, улыбке.
— Да, да, о вас, — сказал Гатеев. — Не интересуетесь? А я люблю узнать, каким я кажусь со стороны. — Посмотрев на часы, он поднялся. — Сильвия Александровна, улицу помню, а номер?
— Семнадцатый, внизу, первая дверь слева, — не без неловкости ответила Сильвия.
— До свиданья... Вы остаетесь, Давид Маркович?
Давид Маркович остался.
— Пачкают столы, архаровцы, — проговорил он, опуская руку на стол. Сильвия внезапно заметила легкую дрожь его пальцев. «Не надо... ах, не надо», — подумала она, и он, точно услышав, убрал руку. — У вас заочники, Сильвия Александровна?
— Нет, свои. Домашнее чтение...
— А я с заочниками третий день маюсь... Сон видел. Одна надела шляпку и стала уходить в землю, все глубже. Я потребовал — снимите шляпу. Она сняла, а меня чуть с ног не сшибло: лезет из земли глокая куздра...
— Какой же у нее вид, у куздры? — засмеялась Сильвия.
— Лучше не спрашивайте... Пойдемте?..
Дома Сильвия несколько раз вспоминала Давида Марковича, блеск его глаз, задрожавшую руку, и все повторяла про себя: не надо, ах не надо, Давид Маркович... Но тут же забывала о нем, радостно суетилась. Это хорошо, что не стала она придумывать дело или заделье, а просто позвала — приходите. И он согласился, придет. Успеть бы только...
Яблочный пирог удался на славу, подрумянился и не пригорел. В сияющий чайник налит кипяток — только включить, сразу забурлит. Чай засыпан в фарфоровый чайник, его нужно сухим поставить на пар, чтобы листики расправились, а потом залить крутым кипятком и настаивать недолго, а то веником будет пахнуть... Так когда-то давно, в приморском поселке Ранна, он сам учил Сильвию — ту Сильвию, навеки пропавшую, вместе с мотыльковым платьем, с кленами, с лодкой, с морем... Две чашки с голубым узором стоят на подносе под салфеткой.
В половине седьмого Сильвия надела светло-розовую блузку из тонкого шелка и серую шерстяную юбку. Блузка с короткими рукавами, летняя, а на дворе стужа. Но в комнате тепло, а розоватый шелк такой мягкий, матовый, от него душе теплее... Нарядилась? Смешно? Да, нарядилась для него, для Алексея Гатеева, и ничего не хочет скрывать ни от него, ни от себя.
После семи время начало растягиваться и сжиматься самым ненаучным образом. Спасаясь от тревожных мыслей, которые вдруг затолпились в голове, Сильвия включила телевизор — без звука, чтобы не пропустить звонок, но беззвучие наполнило экран призраками, раздражающими и бестолковыми. Как это люди могли смотреть немое кино?.. Она заглянула в программу, нет ли сегодня балета или хоккея. Нет, идет пьеса «Авария», и ясно, что переживания героев нельзя показать только при помощи рук и ног. Надо выключить...
Жаль, что нельзя выключить часы. Время стало тяжелым и холодным, давит.
Сильвия накинула вязаный платок. Она ходила по комнате, присаживалась то на диван, то к столу, вглядывалась в темень за окном.
В дверь просунулось добродушное лицо соседки. О чем-то она спросила, и Сильвия что-то ответила. Как хорошо быть старой, толстой, добродушной, никого не ждать... Нет, плохо! Сильвия даже вздрогнула, и на минуту к ней вернулась та радость, которой начался вечер. Но лишь на минуту.
Откуда-то из-за стен донеслась неясная, едва различимая музыка и сразу затихла, но принесла новое мучение: в ушах Сильвии вдруг зазвучала старинная эстонская песенка, которую когда-то пела мать... А почему мама так часто пела эту грустную песню? О тени...
Тень со мною рядом,
Будто двое нас,
Будто ты со мною
Здесь в вечерний час...
Сильвия томилась, даже зажимала уши, чтобы не слышать, не думать. Пыталась смеяться над собой...
Но опять вскакивала, открывала дверь в прихожую, чудилось, что кто-то позвонил, кто-то постучал...
Когда, наконец, она, посмотрев на часы, поняла, что такое они показывают, было уже девять. Потом еще несколько раз слышала, как бьют часы за стеной, у соседки. Гатеев не пришел.
25
Он пришел на другой день, в воскресенье, ровно в семь часов, веселый, мокрый от дождя, с блеклым кленовым листком, прилипшим к рукаву пальто. Пригладив волосы, весело извинился, — спутал дни, ну вот спутал и спутал, показалось, зван на воскресенье, — весело помог отодвинуть стол и поставить узорчатые чашки, весело похвалил вчерашний пирог за румяный вид, затем уселся на диване и приготовился вести беседу непринужденную и безответственную. Но Сильвия сегодня желала говорить серьезно и, пропустив мимо ушей первые легковесные фразы, спросила в упор, без улыбки:
— Алексей Павлович! Что вы делали эти десять лет?
Он как будто опешил, но легкого тона не изменил:
— Де-есять лет? А сколько дается времени, чтоб ответить?
— Можете рассказывать хоть до утра.
— До утра? Всю ночь?
— Да, да, до утра.
— Гм... А вы мне тоже расска-ажете, что вы делали в течение десяти годиков?
— Отчего же... Расскажу, если это вас интересует.
— В эту ночь? Или в следующую?
Сильвия прикусила губу. Чуть помолчав, ответила:
— Мне не понадобится так много времени. Когда вы уехали из Ранна, я скоро перебралась в Тарту, училась. Потом... — она на миг запнулась, — ...потом вышла замуж. Муж был мне другом, но я его потеряла, он умер от рака. С тех пор живу одна. Жалею, что у меня нет детей.
— Признаться, мне трудновато так коротко рассказать о десяти годах жизни, — проговорил Гатеев. — Собственно, вы ничего не рассказали. Но извольте, я попробую о себе... Все время жил в Ленинграде, работал. Но работал, как оказалось, не по средствам: старался выжать из себя больше, чем мог дать. Замыслы не удались... — По лицу веселого гостя скользнула довольно мрачная усмешка. — Расстроил отношения с людьми, особенно так называемой правдой в глаза: очень приятно, знаете ли, говорить правду в глаза, когда хочешь досадить собеседнику. Да-а... Прочел однажды объявление, что вашей кафедре требуется преподаватель, вспомнил Эстонию... — Он усмехнулся, но иначе и едва заметно. — Вот и все. Вот и я ничего не рассказал...
Сильвия тоже усмехнулась, но еще незаметнее, чем он: рассказал, рассказал все-таки — ожесточен, ущемлен, жизнь не задалась... Она опустила штору на окне, спросила, выравнивая край:
— Вы были женаты?
Он не ответил, потянулся к чайнику, потрогал, отдернул руку — горячо. Чайник тут же бурно закипел, стуча крышкой, заливая поднос кипятком. Сильвия вытерла поднос, заварила чай и, стоя спиной к гостю, спросила еще раз (погибать так погибать!):
— Жена осталась в Ленинграде?
— Мы с женой разошлись по взаимному соглашению.
Сильвии пришлось довольствоваться этим казенным ответом.
— Простите... Вам, кажется, был неприятен мой вопрос. Давайте пить чай. Мы-то здесь больше пьем кофе, но, я помню, вы предпочитали чай.
Пока придвигаешь сахар, лимон, отрезаешь кусок пирога, все идет отлично, гладко. Но вот уже выпита первая чашка...
— А ведь раньше вы курили, Алексей Павлович.
— В прошлом году бросил, и без того угарно было.
У Сильвии невпопад стукнуло сердце. Угарно было в прошлом году? Не очень-то давно...
— Послушайте, у меня и вино есть, я совсем забыла. Хотите?
— Спасибо... Я с чаем...
Он долил чашку вином, выпил эту, по мнению Сильвии, невкусную смесь... Тем, кто курит, наверно, проще переносить такие минуты — возьмет несчастная женщина папиросу, зажжет, выпустит дым, может полюбоваться кольцами. А то прямо деться некуда от молчания...
Молчание прервал он, неожиданно сказав:
— Мне у вас хорошо, тепло.
Она смутилась, но, вспомнив, что решила ведь ничего не скрывать, ответила твердо:
— И мне с вами хорошо.
То есть, она только думала, что скажет твердо, а на деле — пропал голос, прозвучал слишком тихо. Взглянув на замолчавшего опять собеседника, поняла, что и он не спокоен, и ей вдруг захотелось отступить, хотя сама она и желала вызвать в нем это беспокойство.
— Хотите еще чаю? — очень громко (чтобы снова не получился шепот) спросила любезная хозяйка. — Дайте чашку, я сполосну…
Отдав чашку, он осторожно переставил зачем-то сахарницу на другое место, а Сильвия в это время налила чай. Сердце еще раз стукнуло, но где-то далеко и неизвестно у кого. Не подняв глаз и едва касаясь, он провел ладонью по руке Сильвии, но... боже мой... в другой руке чашка с горячим чаем! — и в ту же минуту раздался резкий звонок в прихожей...
Есть такие звонки. И тайные силы. И знаки зодиака. И гости... За дверью оказалась Нина Васильевна с дочкой, девочкой лет восьми. С дождевиков струится вода, обе иззябшие, неприкаянные...
— Мы к вам, Сильвия Александровна... Извините, так и льет, не поверишь, что зима...
— Раздевайтесь, раздевайтесь, — заторопилась Сильвия, помогая девочке.
Нина Васильевна сняла плащ, бросила его на пол. Здесь только Сильвия заметила, что гостья пришла с чемоданом и теперь ставит его в угол... Девочка стянула берет со стриженой русой головки и положила его на пол рядом с плащом матери. Сильвия повесила берет и подняла плащ.
— Пусть бы лежал, у него вешалка не пришита, — пробормотала Нина Васильевна, равнодушно наблюдая за действиями Сильвии. Затем, посмотрев на дочку, серьезную, спокойно стоявшую посреди передней, сказала: — Виктория, ты не поздоровалась.
Девочка протянула Сильвии мокрую лапку.
— Скорее пить чай! Вика совсем замерзла... — приглашала Сильвия.
— Мы выпьем чаю, да... — говорила Нина Васильевна, раздирая пальцами спутанные волосы. — А знаете, вам эта розовая блузочка не очень к лицу, бледнит...
Они вошли в комнату, и здесь Сильвия имела случай увидеть сказочное превращение. Истинным чудом от одного взмаха руки прямые волосы Нины Васильевны легли локонами, от другого — расцвели губы, от третьего — мокрые щеки стали молочно-фарфоровыми.
Уселись пить чай. Нина Васильевна сразу начала жаловаться на жестокий мир. Девочка пила чай степенно, с удовольствием уничтожая яблочный пирог. Гатеев, улыбнувшись, сам отрезал ей еще кусок.
— А я к вам с маленькой просьбой, Сильвия Александровна, — сказала Нина Васильевна, положив в чай варенья. — Хочу оставить у вас Вику недельки на две. Я непременно должна поехать в Таллин. Олимпия я отвела к Шмидтам...
— Кого отвели? — вскинув бровь, спросил Алексей Павлович.
Нина Васильевна одарила его беспомощной улыбкой и объяснила:
— Сына. У меня от первого мужа Виктория, дочка, а от Эльснера Олимпий, сын. Я, вы знаете, со вторым мужем не живу, с ним жить невозможно.
Алексей Павлович поставил сахарницу на прежнее место. Вика — так показалось Сильвии — посмотрела на мать с укором и отодвинула тарелочку с пирогом. А Нина Васильевна продолжала:
— Сама не знаю, что делать. Хочу устроиться в Таллине... Не могу работать здесь, руки опускаются. Попросила у Астарова отпуск — так, негласно. Старый Саарман меня заменит, я ему за это книг привезу...
— А практика? Саарман с нашими пятикурсниками, ручаюсь, погибнет!
— Ну, Сильвия, это же пустяки. Справится... Разок пойдете с ним вы, Алексей Павлович заглянет, Астаров... Откладывать поездку нельзя, подруга так и пишет: куй железо, пока горячо...
Девочка тяжело, не по-детски вздохнула и опять принялась за пирог.
— Где же вы собираетесь устроиться? — спросил Гатеев.
Нина Васильевна слегка замялась, повела плечиком:
— Работа найдется. Основное — найти квартиру. У моей подруги есть родственник, инвалид. Он недавно овдовел и нуждается в помощи, у него огородик, две собаки... Площадь довольно большая…
— О боже мой! — вырвалось у Сильвии.
— А что? — удивилась Нина Васильевна. — Поеду, посмотрю... Виктория вам мешать не будет, она очень благоразумная девочка, у нее был полноценный отец...
Алексей Павлович кашлянул, не то поперхнулся.
— Я не буду мешать, — неожиданно подтвердила Вика, печально посмотрев на Сильвию.
— Конечно, не будешь!.. — Сильвия погладила русую головенку. — Мы с тобой славно проведем время...
— У нее в чемоданчике книги, белье, — говорила Нина Васильевна, — в школу она ходит в первую смену... А Шмидтам хватит и Олимпия, у него, к сожалению, не такой сдержанный характер, как у Вики...
— Сколько ему лет? — спросил Алексей Павлович.
— Четыре года, но он совсем не владеет собой. Я думаю — наследственность, у Эльснера тоже животные страсти...
Сильвия не могла удержаться от улыбки. Эльснер... что-то мигающее, нервное, хлипкое...
— Но ваш муж всегда такой тихий, — возразила она.
— Эльснер? Посмотрели бы вы на него раньше, когда он всей кафедрой вертел! Жить не давал людям: то вредителей ищет, то космополитов, то семитов!..
— Ну? И так переменился? — сказал Гатеев. — Не видно и не слышно.
— Да, да! — с ожесточением подхватила Нина Васильевна. — Переменился! От эпохальных событий такие типчики всегда меняются, теперь он мягкошерстый. Конечно, если нужно написать статью за подписью Асса, то он тут как тут...
— Он? За подписью Асса?.. — изумилась Сильвия. — И вы это знали?..
— Недавно догадалась. Кто же еще? Скучно ведь жить и видеть, что твоя персона не производит в мире никаких пертурбаций. И кстати — свадебный подарок Тамаре Леонидовне...
Нина Васильевна разволновалась. Гатеев налил ей вина, глядел сочувственно. Сильвия верила и не верила...
— Виктория! Ты кончила есть? — строго сказала Нина Васильевна. — Поблагодари, возьми из моей сумки пластилин и лепи... Она способная, умеет лепить чудесные вещицы. А главное — рассудительная девочка, не то что Олимпий.
У Вики подозрительно часто заморгали ресницы, — кажется, ей было жалко нерассудительного Олимпия.
— Может быть, Вика хочет печенья, вот здесь кренделек... — сказал Алексей Павлович.
-— Нет, нет, достаточно! Возьми пластилин, Вика, и слепи что-нибудь для тети Сильвии.
Девочка послушно встала и, вынув из сумки коробочку с пластилином, села в угол на кресло и принялась лепить, быстро перебирая пальчиками.
Сильвия подошла к ней, заинтересованная быстротой движений, но девочка застеснялась, смяла пластилин. Сильвия, оставив ее в покое, взяла чайник, чтобы унести его в кухню и долить. И вдруг краем глаза увидела нечто невероятное: Нина Васильевна на миг прильнула головой к плечу Гатеева. И миг-то был довольно долгий... Пожалуй, можно было сосчитать до трех.
Долив в кухне чайник, Сильвия вернулась. Нина Васильевна посмотрела на нее блуждающим взором и засмеялась. Вика в кресле прилежно лепила.
— Разрешите встать... — сказал Алексей Павлович и пересел на диван. Выражение у него было слегка озадаченное, но благосклонное.
— А мне пора, — промолвила Нина Васильевна. — Нет, нет, больше никакого чаю... Виктория, я на тебя надеюсь!
— Не потеряй опять сумку, — сказала Виктория. Пальцы ее продолжали мять пластилин, ресницы вздрагивали.
— Завтра непременно сходи к Олимпию!
По щеке девочки покатилась крупная слеза. Она ее вытерла очень быстро, ладонью, и снова принялась лепить.
— Алексей Павлович! А ведь мы с вами почти соседи, — проворковала Нина Васильевна, роясь в сумочке, где деньги были перемешаны с конфетными бумажками и пересыпаны пудрой. — Вика, это тебе на расходы. Вот я сюда кладу, на тетин письменный стол... И дождь перестал, Алексей Павлович...
— Конечно, мне тоже пора, — сказал Гатеев, поднимаясь.
— Вика, ты смотри! У Олимпия, наверно, чулки прохудятся, купишь новые. Прощай, я тебе письмо напишу... — Она рассеянно чмокнула девочку, та не шелохнулась. — Уж вы извините, Сильвия Александровна, не сердитесь...
Гатеев церемонно, за руку, попрощался с Викой, что было очень оценено, — она сделала книксен и светски улыбнулась.
Светски улыбнулась и Сильвия, провожая гостей. Дверь за ними наконец захлопнулась, и можно было идти к Вике. Девочка подняла на нее виноватые глаза.
— Ну, что же тут у тебя?
Вика протянула ей свою работу: круглая подставочка из зеленого пластилина, а на ней группа маленьких фигурок. Сильвия, подойдя ближе к лампе, с удивлением разглядела все, что было на подставочке. Посередине группы стоял хромой человечек — одна нога вдвое короче другой, а вокруг него зверюшки — лиса, медвежонок, котята, птица, похожая на цаплю. Выразительность и чистота линий... Не верилось, что это сделали руки ребенка.
— Сколько тебе лет, Вика?
— Скоро будет девять, уже очень скоро.
— А что это за человечек?
Девочка не ответила. Сильвия разглядывала красную шляпу хромого с крошечным синим пером на тулье и снова дивилась чистоте и тщательности работы. Руки у человечка вытянуты вперед, пальцы растопырены...
— Вика, а зачем он вытянул руки?
— Он колдует, он заколдовал девочек. Это около него были девочки раньше.
— А почему он хромой?
— Он колдун-инвалид, — ответила Вика. Голосок у нее дрогнул.
— Вот оно что... — вздохнув, сказала Сильвия и поставила группу на письменный стол.
У Вики, очевидно, промокли ноги, на полу возле кресла виднелись грязные следы. Сильвия увела ее в кухню; там соседка, добродушная пожилая женщина, топила плиту. Она заохала над девочкой, хотя Сильвия изложила историю ее появления в самых веселых тонах: маме надо поехать в Таллин, и мама скоро вернется. Вдвоем они помогли Вике вымыться, причем та рассказала, что дома она сама умывает Олимпия.
— Шмидты его умоют, — неуверенно сказала она, вытирая ноги.
— А кто там у этих Шмидтов? — спросила Сильвия.
— У них очень хорошо, у них папа, мама, бабушка и дети. Они все один раз женились.
Принесли в кухню чемодан, нашли там среди учебников чулки, надели домашние туфли Сильвии, и тогда лишь заметили, что девочка совсем сонная, еле держит глаза открытыми.
— Мы с мамой вчера очень долго не спали, мы обсуждали насчет Таллина...
Соседка заохала еще больше и, отстранив Сильвию, сама уложила Вику у себя в комнате — там стояла детская кровать.
— Это внучкина, — объясняла она девочке, — у меня есть в Таллине внучка, Катрин, она ко мне на праздники приезжает и в этой кроватке спит. Это ее одеяльце, голубенькое, а на подушке, вот увидишь, всегда снится интересный сон...
Под разговор о внучке Вика тотчас же заснула, улыбаясь.
Придя в свою комнату, Сильвия минуту простояла там у стола — в состоянии, противоположном раздумью, затем поспешно оделась и вышла на улицу.
Там помрачение нахлынуло на нее еще сильнее, и она уже не чувствовала нелепости своего плана — план-то все-таки был, но нарисованный сумасшедшим чертежником... На повороте показался зеленый глазок, Сильвия подняла руку, шофер затормозил. Поехали...
Вот здесь остановиться... Удивительно, что в кармане есть кошелек с мелочью, могло и не быть. Шофер укатил довольный — значит, достаточно.
Весь ряд окон на втором этаже освещен, в окне Нины Васильевны тоже свет... В котором часу идет поезд на Таллин? Да нет, она, кажется, сказала, что едет утром...
Сколько минут можно стоять и смотреть на чужое окно? Ничего, прохожих мало, никто не обращает внимания.
Холод подступает к сердцу, поднимаясь откуда-то снизу, из ада. Холод имеет имя, скверное, пошлое имя, и заставляет стоять здесь, не отводя глаз от чужого окна.
Сильвия сделала усилие отвернуться, но шея не двигалась — и в это время в окне погас свет. Раз, два, три, четыре... да, это ее окно... Домой, домой, хватит этой муки!
Стыдно? Некогда думать, после, после... Домой тоже после, а сейчас сумасшедший чертежник начертил другой план. Отсюда недалеко до тихой улочки, до той, где никнут за заборами побитые морозом георгины...
Вот и его дом. Да, это здесь, над номером горит лампочка. Забор, деревянная калитка... А в окнах темно.
Сильвия в изнеможении прислонилась к калитке. Неужели ей не совладать с собой, не уйти отсюда?..
Внезапно до нее донесся голос — справа, совсем с другой стороны. Значит, он идет не от Нины Васильевны? Или она ошибается?.. Нет, это его голос, и еще мужские голоса. Кажется, студенты... Куда деваться? Сильвия нажала на калитку, она открылась бесшумно. Свет лампочки до кустов не доходит...
— Вот здесь я и живу, до свиданья...
Кто-то ответил... Прощаются.
Звенят ключи, напевает вполголоса... Ах, почему люди не могут проваливаться сквозь землю!..
Гатеев закрыл за собой калитку, еще позвенел ключами. Звон вдруг прекратился. Заметил?.. Еще шаг...
— Вы?.. — изумленно спросил он, вглядываясь.
Да, да — безумие, поцелуй, нежданное счастье, и все же успела мелькнуть мысль: ей подали милостыню у ворот...
26
У пятикурсников началась педагогическая практика. Как и в прошлом году, приходилось ежедневно писать конспекты в виде кошмарных диалогов между придурковатым учителем и таким же учеником, однако без них на уроке было бы еще страшнее, это понимал каждый. Боялись, конечно, не старого Саармана, а учеников: как войти, как выстоять под огнем любопытных, озорных, лукавых взглядов, как унять шалунов, каким голосом спрашивать, как бы самому не влипнуть с вопросами, куда деть руки — на уроках их больше, чем две...
В четверг Фаина проснулась затемно, потому что сквозь сон пробилась беспокойная мысль: сегодня надо давать урок. Открыв глаза, она немножко погадала, кто у нее будет на уроке, кроме старого Саармана, и, подсунув ладонь под подушку, нечаянно заснула опять. Снилось ей, что звонил будильник, что Ксения ушла без нее, что урок начался, а в конспекте перепутались страницы и она городит вздор… Снилось еще, что Кая тихонько плачет.
Очнувшись наконец и взглянув на стрелки будильника, Фаина перепугалась — так было поздно. Не идти на первый урок? Юру Поспелова, конечно, можно бы и не слушать, и Саарман не заметит отсутствия, но Сильвия Александровна способна сделать выговор при всех. Вчера и Алексей Павлович был в школе...
А Ксения в самом деле ушла без нее, это не снилось. Может быть, и про Каю не снилось, но сейчас некогда о ней думать, некогда...
В школьный коридор Фаина влетела, запыхавшись, и только на втором этаже замедлила шаг, увидев, что перед ней без всякой спешки продвигаются педагогические тузы: высокая старуха в огромных очках, перепачканный мелом Саарман, молодая учительница в платье мутно-чернильного цвета... Ох, педагогика в общих чертах все-таки наводит ужас!
У закрытых дверей седьмого класса кучкой стояли практиканты. Сильвия Александровна посмотрела на Фаину укоризненно, но ничего не сказала: уже подходили тузы.
В классе Фаина села рядом с Ксенией на последнюю скамью, а Юрий, бедняга, пошел к доске. Ученики вынимали тетради и ручки, шептались, оглядывались. Юрий молча писал на доске крупными кривыми буквами: «Деепричастие».
Фаина, думая о своем уроке, посматривала на дверь — Алексей Павлович мог еще прийти. Лучше бы не приходил, при нем она провалится с треском. Ведь пятый же класс — на переменках кровь льется! Разве она их угомонит!..
Юрий кончил писать, обернулся к столу. Однако! Сильный характер у Сильвии Александровны — заставила причесаться, застегнуть рубашку, и даже нечто вроде галстука повязано. Но что же он молчит?..
— Где журнал? Дежурный!
Журнал появился на столе.
— Прекратить движение! — бодрым басом скомандовал Юрий. Учительница в чернильном платье слегка вздрогнула, класс затих. — Откройте тетради! Будем проверять упражнение. Ильвес, читай!
Бело-румяный, с короткой верхней губой, Ильвес оглянулся на учительницу с немым вопросом: читать, что ли?.. Потом вздохнул и прочитал, не выговаривая шипящих:
— Девочка молча шла по зеленой лужайке...
Юрий, почесав за ухом, вызвал Ильвеса к доске. На доске тоже получилось шепеляво, все через эс, и на этом оба застряли — и учитель и ученик. Минута бежала за минутой, а они все шипели и жужжали вдвоем, не обращая ни на кого внимания. И вдруг оба обрадовались: Ильвес зашипел и зажужжал самостоятельно. Юрий похлопал его по затылку, заулыбался, и ученик тоже расплылся в улыбке, показывая верхние зубы до самых десен. После этого фокуса перешли к деепричастиям, и урок двинулся дальше. Хмурые лица преподавателей прояснились.
Юрий ходил между партами, поглядывал, покрикивал, вызывал к доске.
Ксения шепнула Фаине:
— Рубит сплеча, а смотри — каждому что-нибудь да втемяшит!
Потом опять вышла заминка: у одной девочки работа была не выполнена.
— Почему? — строго спросил Юрий.
Но ему не удалось добиться ответа. Учительница, не выдержав, вмешалась:
— Да говори же, Анни, говори!
Анни высморкалась и прошептала!
— Не скажу.
У Юрия лицо покраснело, рассердился. Зная его вспыльчивость, Фаина испугалась — не наговорил бы лишнего.
— В таком случае... — начал он и вдруг запнулся. Фаине не видно было лица девочки, но, вероятно, Юрий увидел в нем то, что заставило его замолчать. Он опустил глаза, а когда поднял их, Фаина и Ксения удивились: неужели Юра Поспелов умеет смотреть так умно и спокойно?..
— Мы поговорим с тобой после урока, — сказал он девочке.
Оставшиеся пять минут уже никого не волновали. Звонок выпустил Ильвеса на волю, он выбежал первым.
В учительской у практикантов был свой угол, отгороженный полкой, на которой стояли классные журналы. У стола сидел Гатеев, читая газету.
— Здравствуйте, — сказала ему Сильвия Александровна.
Звук ее голоса поразил Фаину, и одним взглядом она успела поймать и нежность в голубых глазах Сильвии Александровны, и отблеск улыбки Гатеева. Глухо защемило на сердце...
Об уроке Поспелова не говорили — он сам еще не пришел из класса. Молодая учительница обратилась к Ксении:
— Вы вчера не принесли мне конспекта. Покажите сейчас, я хоть немного просмотрю.
— Нет у меня конспекта, — небрежно ответила Ксения.
Сильвия Александровна подняла голову. Фаина удивилась: Ксения вчера вечером писала же конспект… Желает привлечь к себе внимание публики, что ли?
— Если так, я не могу позволить вам идти в класс, — сказала учительница.
Поправив очки, Ксения возразила:
— Неужели все учителя такие беспамятные, что без конспекта не в силах объяснить детям басню Крылова?
Хлоп! Внимание привлечено: Гатеев прищурился, Сильвия Александровна сдвинула брови, старый Саарман крякнул.
Ксения мило улыбнулась всем троим.
— Я пойду давать урок, — сказала учительница, надевая вязаную кофту. — Холодновато сегодня... Должна заметить, товарищи, что перед нами предстоит задача бороться с разгильдяйством практикантов...
— Разрешите вас перебить, — крайне вежливо проговорила Ксения. — Кажется, я и без конспекта припоминаю, что обычно задача перед нами стоит, а не предстоит.
Учительница вспыхнула заревом, Гатеев едва скрыл усмешку, практиканты оживились — наша взяла! Старый Саарман поспешил на помощь, залил пожар волной теоретических рассуждений о нормах языка, и замечание Ксении незаметно уплыло. Только у Иры Селецкой еще извивались насмешливо губки, хотя — Фаина была уверена — до нее и не дошло, почему там эта задача не может «предстоять перед».
Сильвия Александровна уронила несколько льдинок:
— Далматова, конспект завтрашнего урока принесите мне.
Вероятно, в воздухе наметились очертания деканата, а то и ректората, потому что улыбки исчезли, и Ксения сказала:
— Хорошо, я принесу.
Появился нахмуренный Юра Поспелов, подошел, зацепившись по дороге за стул. На него оглянулись и чужие учителя — вон какой парень вымахал, чуть не до потолка.
— Поговорили с девочкой? — спросила Сильвия Александровна.
— Говорил. Молчит, и все. Другая девчонка сказала, что отец там пьяница, буянит дома. Известно, как... Детям тогда не до ученья.
— Что же ты будешь делать? — полюбопытствовала Ксения.
— А что с пьяницей сделаешь?
— Твоя обязанность — пойти к ним, побеседовать с отцом, — авторитетно сказала Ксения. — Ты думаешь, учитель должен только конспекты писать?
Сильвия Александровна переглянулась с Гатеевым.
Они, вероятно, поняли друг друга, да и нетрудно было уловить их общую мысль, но в Фаине это вызвало раздражение. Конечно, Ксения только хотела показать себя, но разве сейчас не все одинаково равнодушны к судьбе девочки? Педагогика! Какая бессильная, вялая наука! Движется в четырех стенах, побеждает мелкие, комнатные препятствия, а стоит ей натолкнуться на настоящее препятствие вроде пьяницы, отравляющего жизнь своим детям, и вот она уже отступает, ничего у нее за душой нет, кроме назидательной беседы! Беседовать с пьяным животным?..
— Если уж беседовать, так не с отцом! — вырвалось у Фаины и, пожалуй, слишком громко, потому что все удивленно обернулись к ней. — С матерью надо говорить!
— А о чем именно говорить? Как вы себе это представляете? — спокойно осведомился Саарман.
— О том, что пусть забирает девочку и уходит от пьяницы! Что ее держит? — воскликнула Фаина. — Зачем женщины терпят пьяниц?
— Женщины обычно надеются на перемену, — сказал Саарман, — надеются исправить.
— Его всю жизнь исправлять? А ребенок пусть пропадает?
— Вот вы какая строгая, — протянул Гатеев. — Это прекрасно, товарищ Кострова, но не всегда применимо. Жалость иногда бывает очень сильным чувством, чрезвычайно сильным... и определяющим поступки.
— Вот и я думаю... — пробормотал Юрий. — Станет мать меня слушать, и как это я ей брякну — разводитесь! Для меня-то он пьяница, а для нее, может, ненаглядное сокровище.
— Такое сокровище без всякой жалости надо выкинуть за дверь! — вспыхнув, сказала Фаина не Юрию, а Гатееву.
Ксения засмеялась. Фаина, идя к двери, услышала отзыв Сильвии Александровны:
— Какая она нервная...
На урок Иры Селецкой Фаина не пошла, вспомнив, что с утра у нее крошки во рту не было, надо поесть перед своим уроком. Выпила в буфете чаю, перечитывая конспект и думая о вещах, не относящихся к конспекту. После звонка на всех лестницах и по всем коридорам появились ватаги младших школьников, успевавших на бегу и повертеться юлой, и дернуть приятеля за вихор, и залихватски свистнуть. Фаина, волнуясь от мысли, что через несколько минуток нужно будет давать урок таким сорванцам, остановилась у подоконника, озабоченно перелистывая тетрадь.
За спиной у нее продолжалась кутерьма; шумели, возились, потом немного затихло, но кто-то дышал уже слишком близко, мешая сосредоточиться. Повернув голову, Фаина увидела целую компанию, явно заинтересованную ее особой. Впереди переминались с ноги на ногу две девчушки, смешно похожие одна на другую; их тотчас оттерла в сторону третья, красная и потная, отважная. Руки у нее были закручены в фартук, локти двигались взад-вперед. Она спросила Фаину:
— Вы будете у нас в пятом?
— Да, — серьезно ответила Фаина, чувствуя, что улыбка может обидеть. Компания сильно смахивала на делегацию.
— Вот что... мы хотели сказать... Да не лезь, я сама!.. Вот что... Мы выучили! Вам отметки за нас ставят? Мы знаем, что ставят!..
— Конечно, ставят, — подтвердила Фаина.
— Можете быть уверены — пятерка! Мы решили!.. — Она оглянулась на членов делегации. — Только Тоомас еще не решил... Тоомас! Ты, наконец, решил?
Тоомас быстро отвернулся, но ясно было, что скорчил рожу.
— Спасибо, — сказала Фаина. — Главное — чтобы без шуму.
— Можете быть уверены!.. Тоомас, а?
Но Тоомас отошел, так и не пообещав ничего определенного. Вообще всякий мог понять, что такой разговор он считает сентиментальной женской затеей. Но зато по лицам передней шеренги видно было, что на них-то можно положиться без всяких сомнений.
В учительской Фаину уже ждали. Сильвия Александровна смотрела неприветливо — кажется, боялась, что и эта практикантка выкинет какой-нибудь номер. Алексей Павлович улыбнулся. Старый Саарман сказал, что он надеется на молодых коллег и потому пойдет в библиотеку. Юрий хлопнул ее по плечу и пробасил: «Не робей, Фаинка!» Остальные зевали, им все трын-трава, у них уроков сегодня больше не будет.
В пятом классе Фаина уже бывала, видела учеников, но они сливались для нее всякий раз в глазастую, вихрастую ораву. А сейчас она сразу узнала свою решительную, красную и потную приятельницу, и двух ее подружек, и еще Тоомаса с круглой стриженой головой и густыми бровями. В классе было тихо, все смотрели прямо на Фаину, очень довольные собой и полные таинственности.
Все шло как по маслу, старались невероятно. К столу выходили, прокашливаясь для чистоты голоса, на место возвращались вприпрыжку. Падежи? Пожалуйста, падежи так и сыпались. На доске ошибка? С первой парты вдвоем побежали ставить пропущенный предлог. Толстая девочка в белой блузке сразу шлепнула соседку по руке, чуть только та зазевалась. Мальчишка в длинных штанах с заглаженной складкой так энергично ввинтил точку на доске, что мел треснул напополам. Девочка с малиновым бантиком на макушке от усердия, что ли, сползла под парту, но ее живо вытащили, встряхнули...
Фаина старалась не смотреть на взрослых слушателей, там все время тихо смеялись, глядя на ребят. Но в середине урока она остановила взгляд на Сильвии Александровне, которая что-то шептала Гатееву. Он слушал, но смотрел на нее, на Фаину, смотрел пристально… и грустно. На этом месте урок у Фаины спутался.
Она задала классу какой-то нескладный вопрос, потом слишком долго молчала. Никто не ответил, а она сама начисто забыла, о чем спрашивала. Заметила волнение учительницы — той, высокой старухи в очках, увидела злорадную улыбку Иры... Девочки на первой скамейке расстроились, зашептались...
Вдруг в классе что-то случилось. Все головы повернулись к Тоомасу, посмотрела и Фаина. Тоомас тянул руку далеко вперед и ободрительно мигал ей: ничего, мол, я что-нибудь да отвечу, все лучше, чем молчать... И он в самом деле сказал что-то о родительном падеже множественных медведей. Тут же его поправили, зашумели, и Фаина снова выбралась на дорогу.
Потом, в учительской, Фаина никак не могла собраться с мыслями, невнимательно слушала замечания и невпопад улыбалась, вспоминая медведей. Ксения даже шепнула ей:
— Что ты все таешь в улыбках? Урок был так себе, не воображай...
Перед уходом Сильвия Александровна еще раз сказала Ксении:
— Не забудьте, товарищ Далматова, принести конспект. Урок ответственный — выпускной класс, литература…
— Не беспокойтесь, Сильвия Александровна, я постараюсь сделать из литературного произведения — нелитературное.
Сильвия Александровна снова переглянулась с Гатеевым. Однако Фаину теперь это не огорчало. Она была уверена... В чем? Да так, отрицательные признаки: не сказал ни словечка об уроке, не разжимал губ, не смотрел. Взял на себя труд не видеть ее — вот сейчас не видит, опять не видит, еще раз не видит... Какая сладкая ложь... Ну, хорошо, хорошо, все уже поняли, что ему нет никакого дела до этой практикантки.
Все кончилось, все разошлись. Фаина, задержавшись нарочно, одна прошла по длинному коридору с коричневыми панелями, с портретами в белых рамах, с вьющейся зеленью в настенных вазах. Возле стенда с какими-то рисунками несколько пятиклассников обступили молодого учителя. Или практиканта? Потная приятельница опять впереди... Она сейчас, впрочем, не потная и не красная, но на круглом личике та же озабоченность. На Фаину оглянулась равнодушно, и здесь-то Фаина поняла, что давешний урок был организован этой девочкой не по личной симпатии, а по другим причинам. Вероятно, так и будет она жить дальше с решительными поступками, с милой озабоченностью — чтобы в мире все было в порядке и чтобы все получали хорошие отметки!
На улице слякоть, сыро. За стеклом цветочного магазина альпийские фиалки — пунцовые, белые, вишнево-красные. Девушки выходят из дверей с цветами, бережно завернутыми в бумагу. Спешат домой, украсить комнату, ждать любимого. Любимые тоже идут домой, некоторые забегают в буфет выпить сто граммов — стограмм, как у них говорится... Алексею Павловичу, кажется, не понравилось ее антивыпивочное выступление. Ну, как вам угодно.
Перед кинотеатром веселая очередь: «Семьдесят слов о любви», или что-то в этом роде... Какое легкомыслие! Еще недавно увлекались исключительно стряпухами на орбите.
Дома Ксения писала конспект, с устными комментариями: до каких пор ее будут поучать неучи? почему со студентами обращаются, как с подсудимыми?.. Весной у практикантов будут такие же дипломы, как у этих зазнаек. Убожество!
Кая явилась поздно вечером. У Фаины не было ни времени ни охоты говорить с ней. Почему она должна отвечать за взрослую девушку? Даже смешно разыгрывать мудрую наставницу. Пусть себе сидит на кровати и накручивает локоны на бигуди…
27
Педагогические кошмары почти все на один лад. Сильвия не раз видела во сне, что она читает лекцию по математике и погибает от своего невежества, или же блуждает по лабиринту, не находя аудитории, или опаздывает, или даже превращается в расписание и чуть ли не висит на гвоздике. Студенты в таких снах тоже зыбкие: то светятся, то распадаются, то лежат на полу... Поэтому она, перешагнув порог аудитории, ощутила нечто похожее на испуг во сне: Лео Тейн сидел на приступочке вешалки — на той, под которую ставят ботики, и играл на какой-то дудке. Он с немыслимой быстротой, тоже так, как бывает во сне, очутился на своем месте, а дудочка — кажется, это была окарина — исчезла.
Прекрасное утреннее настроение Сильвии тоже исчезло: целый месяц не посещал уроков, теперь явился, обрадовал!
Ладно, пусть пишут сочинение: «Мой досуг». Для желающих есть и другая тема: «Мои друзья». Темы новизной не блещут, но ведь больше двух страничек не напишут они ни на какую тему, хоть убей.
Вельда Саар, разомлевшая от лени, сказала:
— Как жаль! Я думала, будет беседа, специально готовилась.
— Даже готовились? — усомнилась преподавательница.
— Ну да! Слышала, что на Тооме есть три грабителя. Нарочно пошла туда поздно вечером, чтобы было что рассказать.
— И как же? Видели грабителей?
— Видела. Но они не напали, так ничего и не случилось.
Кто-то засмеялся, другие не поддержали.
— Начинайте писать, товарищи. Время идет.
— Это локальное время, — сказал Томсон, — а если с большой скоростью отправиться на звезду Бетельгейзе, которая удалена от нашей аудитории на триста световых лет, то... Все, все, товарищ Реканди, я уже пишу!
Вот и чудесно, теперь можно сидеть спокойно и дожидаться плодов их вдохновения. Плоды будут сухие, сморщенные, жесткие.
Итак, Тейн опять здесь, и опять трудно на него не смотреть. На этом лице видывала она много гримас, ухмылок, личин. Сейчас они сняты — выражение сосредоточенное. За что же она рассердилась на него, входя? Очевидно, по инерции.
Не пора ли задуматься над своим отношением к студентам. Она пока еще не брюзжит вслух, но мысли-то у нее почти всегда брюзгливые. А между тем в ее жизни произошла перемена, которая должна же отражаться на всем, и, если не отражается, то она, Сильвия, бедна духом и не способна меняться. Да, одно из двух: или она бедна духом, или... перемена незначительна.
Все прилежно царапают что-то. Вельда протирает глаза, Томсон тоже, — боятся заснуть, что ли. Маленькая, кудрявая рядом с Вельдой беспрерывно сморкается — весь семестр в насморке, потому что немыслимо легко одета. Бедняжка хочет кого-то пленить... Каллас заглядывает в словарь, пусть. Тейн, слава богу, пишет... В углу кто-то икнул.
Очень радостно, что кончилась практика у пятикурсников. Эти здесь симпатичнее, хоть и икают.
Тейн закашлялся. Сильвия насторожилась. Нет, ничего, пишет... Есть там сейчас какая-нибудь живая мысль, за этим широким лбом, или только камушки перекатываются? Что-то слишком быстро бегает у него перо — в каждом слове будет ошибка...
Звонок, конец. У всех тетради, а Вельда принесла бумажку с зазубринами. На оборотной стороне рисунок: трое толстяков держат друг друга за руки. Рисунок забавный.
— Это кто же у вас?
— Грабители.
— А почему такие толстые?
— Давно не грабили.
Глаза у девицы веселые, мило шутит — очевидно, здорова и больше не плачет в подвале. А смотреть на нее неприятно. Неверный, двусмысленный облик...
— Так. Возьмите свою бумажку для хозяйственных надобностей. Какая же это контрольная работа...
Тейн подал свою тетрадь последним, засунул ее в середину стопки.
Надо идти домой, Вика ждет. Тоскует, как ни стараешься отвлечь ее от мыслей о матери... Который час? Еще можно заглянуть на кафедру — Алексей Павлович, вероятно, там. Вероятно, вероятно... А почему бы ей не знать точно, придет он или нет? Неверный, двусмысленный облик жизни... Ах, не все ли равно! Может быть, это мещанские мечты — зажить своим домком, укладывать мужу в портфель мочалку и полотенце, когда он собирается в баню. Сейчас она увидит его, если он еще на кафедре, и сомнения рассеются...
Он был там, спорил с Белецким. Споры у них часто, слишком часто.
— Женщина знает житейские причины многих конфликтов, — говорил Давид Маркович эпически, но далеко не эпическим тоном. — Мужчина величественно отмахивается, но в конце концов садится именно в ту житейскую калошу, от которой остерегала его домовитая жена...
— Позвольте, Давид Маркович, — возражал Гатеев также не без горячности, — во-первых, совершенно не доказано, что пресловутую статью писал Эльснер, это только догадка его домовитой жены, а во-вторых, непонятно, о какой калоше идет речь.
— О той, в которую мы сели, любезный Алексей Павлович. Если причина конфликта на кафедре так проста, то мы все невероятные простаки. Подумать только: ревнивая бабенка заставляет своего хахаля написать статью, чтобы очернить соперницу. И что же? Ведутся заседания, возникают комиссии, хромает работа...
— Именно так и есть, — вмешалась Муся, — я давно это говорю. Именно такова причина конфликта на кафедре. — Она поднялась и захлопнула приоткрытую дверь. — Нами вертит склочная бабенка.
— Давид Маркович, — сказал Гатеев, поморщившись от стука двери, — мы с вами сейчас все время скользим и нас заносит на поворотах. Статья, кто бы ее ни писал, явление вторичное.
— А что первично? — спросила Сильвия.
— Трусость, — ответил Гатеев и усмехнулся: — К вам, Сильвия Александровна, это ни в коей мере не относится!
— А к кому относится? — вспылил Давид Маркович.
— Ко всем, ко всем, Давид Маркович, дорогой! — нежно сказала ему Сильвия. — Не сердитесь! Я вот считаю, что первичен первый курс, там Тамару Леонидовну и надо уничтожать, пока она еще в продеканы не пролезла.
— Мудрить можно сколько угодно, — возразила Муся. — Первичное явление, вторичное явление... У нас это явление имеет имя, отчество и фамилию.
— «Изредка встречающееся явление...» — опять усмехнулся Гатеев. — И будет оно встречаться, пока мы будем инертны и терпимы. В худшем смысле этого слова — терпимы. Вы согласны, Давид Маркович, что нетерпимости на нашей кафедре нет? Если и есть, то только теоретически, — возмущаемся в кулуарах.
— Прежде чем переходить к практике, надо додумать все до конца, — сказал Давид Маркович уже спокойнее. — Рубить сплеча неразумно. Доказать, что Касимова вообще не должна работать в вузе, не так легко, как кажется. Прослушать одну-две лекции — мало: не всякое начальство сразу схватывает суть дела. Читает она по бумажкам то, что выудила из книг, и редко излагает собственные концепции...
— Я уже не раз слышала это, Давид Маркович, — заметила Муся.
— И я, — коварно поддержала Сильвия, надевая пальто.
— Куда вы спешите, Сильвия Александровна? Вика ждет?.. — спросил Гатеев, встав, чтобы помочь ей.
— Да...
Одна минута близости — самой обыкновенной и схожей с вежливостью, но... Муся почему-то покраснела и застенчиво улыбнулась, а Давид Маркович — нет, он ничем не выдал себя, он просто понял...
— Что ж, давайте додумывать до конца, Давид Маркович, — сказал Гатеев, снова садясь. — Какой у вас план?.. Пойти к ректору?
Сильвия охотно осталась бы послушать, но сейчас пора было уже идти.
По дороге она все вспоминала, что такое задело ее лично в этом разговоре на кафедре? Какое-то неприятное слово... Уже подойдя к своей двери, вспомнила: «хахаль».
Вика встретила ее, сияя счастьем:
— Тетя Сильвия! От мамы письмо! В субботу приедет, в субботу!..
Письмо было дикое, возмутительное. Мать писала девочке так, как пишут взрослому человеку. При этом страшный вздор:
«...Очень жалко, но мы не сможем устроиться
в Таллине. Инвалид капризен и требователен.
Как мужчина он не производит на меня никакого
впечатления. Здесь еще и две собаки, которых
нужно угощать овсянкой, и пегая кошка. Отравить
их он не соглашается...»
Вика, видимо привыкшая к подобным излияниям, весело читала вслух всю эту дребедень. Письмо кончалось обещанием приехать:
«Скажи тете Сильвии, что я приеду в субботу
днем.
Навещаешь ли Олимпия? Следи, чтобы он не
хамил, как его отец...»
Спрятав письмо в чемодан, Вика тотчас схватилась за пластилин. Каждый день на столе или на подоконнике появлялись фигурки, отражавшие настроение Вики: веселый заяц — пятерка по арифметике, курица под зонтиком — скучный дождь на дворе, ведьма с метлой — за что-нибудь влетело в школе. А после первого письма от матери в кухне была обнаружена кастрюля с пляшущими человечками на крышке. Девочку нужно учить, способности необычайные... Но мама-то у нее сильно с придурью, жалко даже отдавать ей эту Вику.
— Кончай, Вика. Пойдем обедать, и так поздно.
— Сейчас!.. — шумно дыша, ответила Вика.
Через минуту Сильвия получила готовую работу. На подставке лежат кверху лапками две собаки и кошка — явно дохлые. Ага, понятно: отравленные. Но... боже мой, не отравлен ли и инвалид? Он тоже лежит, задрав хромую ногу...
— Одевайся, Вика!
Пожалуй, лучше не расспрашивать и не уточнять — скорее забудется. Завтра или уже сегодня вечером пластилин будет смят, воплотятся менее кровожадные идеи... Ну и Вика!
— Тетя Сильвия! Можно мне после обеда к Олимпию? У него наверно дырка на чулке, он ужасно несдержанный. Его надо осмотреть перед маминым приездом.
— Пойдем вместе, — сказала Сильвия. — Осмотрим.
Вечером Сильвия села проверять сочинения. Тетрадь Тейна нарочно отыскала и отложила в сторону — напоследок.
Неинтересные тетради. Редко-редко блеснет капелька искренности: люблю отца, обидел друга, не хочу одиночества. Или неожиданное короткое признание: «Весной сердце становится сумасшедшим...» Это та, маленькая, с насморком... Один выдумал, что все его друзья умерли — поднялась же рука написать этакое...
А Томсон расшалился: «У меня много друзей, но еще больше начальников: тренер по футболу, она, которой я пою серенады, комендант ее общежития — человек немузыкальный и моя бабушка, которая приехала лечить зубы, но вместо этого занимается шпионажем. Всем им я обязан подчиняться, и они разрывают в клочки мой досуг».
Алекс тоже шутит: «Я бы рассказал вам, как я провожу свободное время, это очень-очень интересно, но у меня не хватает слов, я плохо знаю язык. Так что, пожалуйста, подождите».
У Калласа лаконизм и суровая правда: «По субботам хожу в баню...»
Вот и все. Осталась одна тетрадь. Написано довольно много — как это он успел?.. И тут же сразу Сильвия увидела, что Тейн пишет по-эстонски. Так вот в чем дело, так вот что...
Сильвия отложила ручку и в раздумье посмотрела на пластилинового Олимпия, стоявшего под лампой. Маленький, круглый и явно несдержанный — правой рукой на кого-то замахнулся... Скульптор давно спит, двенадцатый час.
Прочесть завтра? Было бы благоразумно — едва ли полезно читать Тейна на ночь... Однако Сильвия знала, что прочтет все сейчас же.
«... Я не мог решить, которая тема лучше, поэтому пишу и о друзьях и о свободном времени.
Однажды в свободный вечер я очутился в шумном обществе, состоявшем из моих друзей. Играла музыка, танцевали. Но пришла плохая минута, и мне вдруг показалось, что это вовсе не мои друзья, а стаканы, бокалы, бутылки — стеклянная посуда...»
Какая, однако, галиматья! Вычитал в сверхмодном романе!..
«Я схватил один бокал, ударил о пол и разбил вдребезги. Потом мне стало страшно, я наклонился, начал собирать осколки, пытаясь снова сложить их. И вот теперь все свободное время я стараюсь вернуть этим кусочкам стекла их прежнюю форму...»
Сильвия перевернула страничку. Нехитрая символика, но... по спине бегают мурашки. Вспоминается его предсмертно прибранная комната, неоконченное письмо на столе... Ну, что он еще понаписал?
«...К сожалению, времени у меня в обрез — у нас много лекций и в высшей степени интересных уроков, вроде русского языка. На последних мы занимаемся высококачественным пересказом антихудожественного произведения братьев Бернацких, а также беседами о выеденном яйце...»
Нахальный мальчишка! Но разве она сама не говорила себе того же? Разница только в одном — когда говоришь сама, то тебя не бросает в жар и в холод...
«Итак, я думал, что с друзьями покончено, и далеко не сразу заметил, что у меня все же есть друг. Это надоедливый, неприятный друг, он вызывает ненависть. Натурально, меня он тоже ненавидит всей душой. Пробовал я отвязаться от него, всячески выводил его из терпения, но безуспешно.
Однажды этот надоеда вздумал явиться ко мне с визитом. Случилось это в такой вечер, когда осколки... впрочем, о них говорить не стоит. Словом, я не был расположен к приему гостей. Оба мы были в отвратительном настроении и начали ссориться. Я не выставил его за дверь, так как парадокс оставался парадоксом: он мой друг. На прощанье он ударил меня и ушел.
После его ухода я долго не мог прийти в себя. Я, не двигаясь, сидел у стола. Что-то изменилось вне меня. Не во мне, а в нормальной цепи причин и следствий. Должен, однако, сказать, что наша взаимная ненависть не исчезла».
Сильвия тоже сидела у стола, не двигаясь, и с трудом приходила в себя... Она ударила его? Жалостью? Возможно. Значит, он дожидался удобного случая, чтобы пустить в ход кулаки? Да, дерется и кусается.
Она усмехнулась, сердясь и почему-то торжествуя. Перечитала внимательно историю со стеклянной посудой. Что же его терзает?..
Подумав еще, она написала обычным четким почерком:
«Только мальчишки забавляются банальными аллегориями и кокетничают своими страданиями. Пора вести себя по-мужски. Может быть, ваши черепки склеятся лучше, если вы скажете человеку прямо, в чем вы раскаиваетесь и о чем сожалеете».
28
В субботу Сильвия, не задерживаясь на кафедре, поспешила домой. Вика, в берете, с шарфом на шее, сидела, как на вокзале — рядом стоял чемодан с уложенными вещами.
Сильвия принялась за уборку комнаты. Девочка, обычно помогавшая ей, не двинулась с места. На коленях у нее лежала булка, обкусанная по краям, точно мышь грызла, — так и не удалось отучить ее от этого.
— Ты опять булку кругом обкусала, Вика. Что за гадость!
— Совсем не гадость, мама позволяет. А потом можно сухарики сделать... Тетя Сильвия, вы леденцов не хотите? — Вика, положив булку в чемодан, достала оттуда бумажку с липкими леденцами. — Это я Олимпию купила, он утром на кухне у Шмидтов упал и бровь расшиб, а потом сел на пельмени, они были полотенцем покрыты, он не заметил...
«Надо было сказать Алексею, чтобы не приходил сегодня, — думала Сильвия с леденцом во рту. — Нина Васильевна начнет строить догадки. А впрочем, пусть...»
— Мама ему обещала вязаные штаны привезти, но, я думаю, забудет, — сказала Вика и поправила перед зеркалом узел шарфа.
— Почему же забудет... — рассеянно возразила Сильвия, стирая пыль с радиоприемника.
— Разве у нее одно дело — вязаные штаны покупать. Во-первых, она научную работу делает... Хотите еще леденца?
В это время раздался звонок. Вика кинулась в переднюю, леденцы посыпались на пол. Сильвия не успела спрятать пыльную тряпку, как девочка уже втащила за руку Нину Васильевну.
— Пойдем за Олимпием! Попрощайся, мама, с тетей Сильвией, и пойдем! — радостно твердила Вика, хватая свой чемодан.
— Погоди, погоди, — остановила ее мать, — успеем еще к Олимпию. Тетя Сильвия сначала расскажет, какие новости на кафедре... Вы знаете, так и не удалось мне найти квартиру. А жить с собаками и кошками я не согласилась, особенно имея в виду низменные наклонности их хозяина...
Вика, сдвинув брови, выслушала это и убежала:
— Мама, я иду попрощаться с бабушкой, я там спала!..
— Нина Васильевна, хорошо ли, что вы посвящаете Вику во все ваши дела? — осторожно спросила Сильвия, когда гостья сняла пальто.
— О! Мы с Викторией друзья, она все понимает, решительно все!
— Но... она слишком много огорчается, ей рано делить с вами заботы. Посмотрите, какие черточки у нее возле рта.
Нина Васильевна засмеялась.
— Ну что вы! Это совсем не плохо, если дети узнают жизнь со всех сторон. По крайней мере разочарований будет меньше... Рассказывайте, как там у нас. Писала я и Астарову и Алексею Павловичу, но ответа не получила. Очевидно, все благополучно. Как практика у пятикурсников? Много было возни?.. Большое вам спасибо!
Вика вернулась. Пока разговаривали и пили кофе, она несколько раз напоминала матери об Олимпии, но та только ласково кивала ей и продолжала говорить о низменных страстях, которыми одержим таллинский инвалид, о том, как она соскучилась без лекций и студентов, о том, как трудно жить молодой женщине, если она одинока.
— Вам, Сильвия Александровна, я думаю, не так трудно, у вас северный темперамент. Иначе вы бы давно в кого-нибудь влюбились, хотя бы в Гатеева. Неужели он вам не нравится?
— Нет, отчего же... — пробормотала Сильвия.
— Прелестный человек, прелестный. Некрасив, но какое обаяние! Кстати, как он поживает? Он часто приходит к вам?
— Работы много... — неопределенно ответила Сильвия.
— Да вот подите же, какие странности бывают. Если сравнить его, например, с Астаровым, так ведь тот просто красавец — гладкий, холеный, а наш Алексей Павлович словно обгорелый какой-то. — Она засмеялась. — Как у Блока — опаленный. Может быть, это и привлекает... В тот вечер, когда я уезжала и мы ушли от вас вместе, он совсем вскружил мне голову. Но вдруг ни с того ни с сего вспомнил, что ему нужно отправить телеграмму, посадил меня в такси, а сам убежал. Иначе не знаю, что и было бы. У меня осталось впечатление, что он боялся и за себя и за меня!.. Тем лучше: такие внезапные романы не имеют будущего. Не так ли? Он сейчас одинок, скучает, и это, конечно, почва. Но очень ненадежная! Как вы думаете?
— Д-да... — сказала Сильвия. — Вы, значит, с Таллином покончили?
— Начисто! Только бы здесь снова не начали клеветать, дали бы работать. Эльснер, кажется, угомонился, им с Тамарой Леонидовной теперь не до меня... Я предложу ему развестись официально, хочу быть свободной. К чему мне это двусмысленное положение, оно только отпугивает порядочных людей. Не так ли?
— Да, — с тоской согласилась опять Сильвия.
Наконец мать велела Вике одеваться, и обе ушли.
Сильвия убрала посуду со стола, переменила скатерть. В соседней комнате, тяжело ступая, ходила соседка, передвигала то стул, то кресло. Вероятно, жалеет, что Вика не будет больше спать в кровати внучки...
В голове вертелись всякие несообразные мысли. О чем ей напоминает почти каждая встреча с Ниной Васильевной? И теперь, и раньше... О чем-то очень досадном — как будто кто-то показывает ей, Сильвии, неприглядность женской натуры и издевается: а ты, а ты какая?..
Алексей Павлович застал ее в грустном настроении, удивился, но, вместо того чтобы спросить, в чем дело, сказал:
— Не надо грустить, дорогая.
Потом он нежно поцеловал ее и повторил:
— Не надо, не надо...
Она жалобно посмотрела ему в глаза. Он чуть-чуть пожал плечами, очевидно, не понимая, как может женщина грустить, когда он ее целует.
— Я все хочу спросить, — сказала Сильвия, отстраняясь от него и, кажется, этим опять его удивляя, — что же было тогда у ректора. Как он принял план Давида Марковича насчет Касимовой?
— А мы с Давидом Марковичем потом все-таки решили не партизанить. Он поставит вопрос на бюро...
Гатеев сел в кресло; они поговорили еще о кафедре, о том, о сем. Но мысли Сильвии шли отдельно от разговора — дурные мысли... В жизни мужчин, думала она, в холостые периоды их жизни есть одна сторона, которую они будто скрывают сами от себя, точно ее не существует. Кончая холостой период жизни, они вскользь говорят невесте или жене: «Да, у меня иногда бывали встречи так, ни к чему не обязывающие». Невеста или жена обычно мудро пропускает эти признания мимо ушей — не стоит придираться к тому, что, собственно, и не существует. А еще чаще добропорядочные люди об этом вовсе не говорят и сами не вспоминают... У Алексея Павловича теперь холостой период, и, следовательно, она, Сильвия, не существует...
Он заметил наконец что-то неладное и встревожился:
— Сильвия, что случилось?
Но она, ответив уклончиво, упустила редкий случай утвердить свое существование — или исчезнуть насовсем.
Почему не поговорила просто и откровенно обо всем наболевшем? Потому что всякие вопросы и выяснения показались бы ей вымогательством. Так повелось у нее с того вечера... Страшно называть этим словом ее поступок, и можно легко подыскать оправдание себе: не все ли равно, кто сделал первый шаг? разве старомодная бабушкина мораль не ушла в прошлое? Да, да, все так, все правильно... Но почему так тяжко на душе?
29
Кончилась практика; после нее посещение лекций казалось удивительно несложным делом. Дни мчались один за другим без оглядки и внезапно очутились у порога: экзамены, экзамены, сессия! Некогда любить, некогда горевать, некогда ссориться — надо закрутить голову полотенцем, чтобы не разлетались утлые мысли, и зубрить. Философия, теория литературы, история литературного языка... боже мой, история языка у Гатеева, да это же зарез, провал, погибель! Не у Гатеева, а у Эльснера! Да что вы, товарищи, Эльснер же заболел... У Гатеева, братцы, как ошибся на каком-нибудь дохлом ударении, тут и аминь — пойдет гонять по всему курсу! А Белецкий? А вообще?..
Непонятно, как и выжили, но все-таки выжили. В двадцать третьей комнате тоже все были живы, хотя Кая чуть не застряла, еле-еле выплыла на троечках.
Фаина блестяще сдала экзамен у Алексея Павловича, и это был единственный день за всю сессию, когда она с ним виделась. Благодарю за такую встречу: билет в руках, ноги подкашиваются, во рту сохнет. А холодный взгляд экзаменатора едва прикасается к лицу Фаины Костровой, очередной студентки, — сколько там их еще осталось, этих наскучивших студенток? Пять... шесть... восемь... Дайте, пожалуйста, зачетную книжку...
«Дорогой папа, дорогая тетя Настя, я уже переписываю начисто дипломную. Домой приеду только весной, после государственных, но зато уж останусь на целое лето. Сейчас работы много, каждый день хожу в библиотеку...»
Знала Фаина, что, читая ее письмо, будет вздыхать и отец, и тетя Настя, но... надо же каждый день ходить в библиотеку.
Правда, ни разу не пошла она туда ни в четыре часа, ни в пять: в эти часы там бывал Алексей Павлович.
Кая уехала к матери, и, провожая ее, Фаина опять обеспокоилась: на автобусной станции появился какой-то наш современник с длинными сальными волосами — видимо, по уговору — и поехал вместе с Каей. Пусть бы ехал, но Кая опять неестественно смеялась и была непохожа на себя.
Однажды вечером Фаина заговорила о Кае с Ксенией. После истории с Вадимом их общение ограничивалось короткими фразами, без которых не обойтись, живя в одной комнате, — и сейчас Ксения, кажется, обрадовалась, решив, что все забыто и прощено. О том, что ей доверила Кая, Фаина умолчала, но Ксения и сама была догадлива. Зеленоватые глаза засветились, как у кошки, и, намолчавшись за время безмолвной ссоры, она с оживлением начала рассуждать о молодежи. Тон у нее при этом, как всегда, был такой, словно лично она не имеет отношения ни к молодежи, ни к человечеству вообще.
— Честно говоря, Фаина, положение у вас ложное. Спорт и аскеза? Прелестно, в семнадцать лет спорт и аскеза, в восемнадцать спорт и аскеза, в девятнадцать, в двадцать, в двадцать один... но ведь природа может пробиться и сквозь спорт и сквозь аскезу. А что я могу вам рекомендовать? Ранний брак? А чем вы детей будете кормить? Вы же непременно начнете размножаться!
— Конечно, начнем, — пошутила Фаина. — Но давай еще о Кае. Ты согласна, что она на дурной дороге?
— Да. Слушай, Фаинка, а не пойти ли в кафе? Скучно ужинать дома на каникулах. Пойдем, а? У меня настроение поболтать под музычку...
В студенческом кафе отыскался уютный столик. Неяркий свет, тихая музыка, приглушенный говор — все это облегчало сближение, и Фаина только сейчас поняла, как труден был ей первый шаг, и как им обеим хотелось прежней близости.
Выпили кофе, съели по куску орехового торта. Ксения за каждым глотком откликалась на то, что маячило перед глазами: ...видишь, какие детские рубашечки в моде... она обнажила костлявые шенкеля и похожа на недоноска без пеленок... вот эти двое идут по облакам... смотри, на вид все просто — живот, руки, ноги, подагра, а сам профессор, а творения велики и многотомны!.. а вот эта, рыженькая, пишет пьесу с античным хором, на манер «Иркутской истории»... Фаинка, выкрасись и ты в рыжий цвет!..
Потом, закурив, Ксения сказала:
— Так ты, Фаина, предлагаешь — ранний брак...
— Когда это я предлагала?
— Ну, все равно кто... По правде говоря, я не уверена, что счастье в том, чтобы спать рядышком. Понимаешь, любимый в исподнем — это очень далеко от поэзии. Опять же отрыжка, и мало ли что. Вот ты разгневалась на меня за Вадима, а ведь он... — Ксения осеклась, встретив взгляд Фаины. — Ладно, мимо... — сказала она. — Я не навязываю тебе своих мнений, ты человек здоровый, реалистка. Словом, я немножко займусь Каей. Цель — убрать лоботрясов. А потом пусть падает в законные объятия Тейна!
— Имей в виду, что морочить ее я не позволю.
Ксения улыбнулась неожиданно доброй улыбкой.
— Не будь такой злопамятной, Фаинка. Я просто попытаюсь воздействовать на нее средствами литературы.
— Ох и еще раз ох! Будешь читать ей отрывки из классиков?
— Это тоже недурно. Начать с конца восемнадцатого века: опомнитесь, о Селина, очнитесь, о Валерьян!.. Ты, кстати, не знаешь ли, куда делся Валерьян, то есть этот шахматный конь, Тейн? Он в городе?
— Ксения! Я боюсь! Ты все испортишь! Не надо, я сама!..
— А что ты можешь сама? Ты слишком неопытна.
— Посоветуюсь с каким-нибудь умным и сердечным человеком.
Ксения с минуту молча смотрела на Фаину.
— Не обижайся, Фаина, но... Говорить откровенно, как раньше?
— Конечно.
— Не намечен ли уже у тебя этот умный и сердечный человек? И не затем ли ты к нему пойдешь, чтобы развернуть перед ним богатства собственной души? Я знаю, ты очень привязана к Кае, но... ведь так сладко ощутить свою безупречность, особенно перед умным и сердечным человеком. Да и тема такая приятно щекочущая — чья-то любовь, чьи-то страдания... Не обижайся!..
— Это у меня твердое решение — не обижаться на тебя.
— Значит — так глубоко обижена, что больше не обижаешься... — вздохнув, сказала Ксения.
Она была опечалена, и Фаину это тронуло. В эту минуту ей захотелось уничтожить преграду между ними, быть искренней... и справедливой — не носиться так со своей обидой.
— Ты знаешь мои слабости, Ксения, — тихо сказала она. — Иногда я принимаю твои обвинения, хоть и сержусь... Но нельзя же постоянно подлавливать меня, искать за каждым моим словом низкие мысли и побуждения. Поверь мне, я хочу помочь Кае, а не любоваться собой.
Ксения невесело задумалась.
— Да, у тебя живые чувства, — проговорила она упавшим голосом, — а у меня только теория, холодный план. Может быть, я и не знаю, что такое живые чувства...
— Зачем ты так, Ксения... Это же не правда или, вернее, не вся правда...
Ксения вдруг вскинула голову, дыхание у нее участилось — кажется, Фаина никогда не видела ее в таком волнении...
— Слушай, Фаина, сейчас я скажу то, чего никому не говорила... Может быть, ты тогда простишь мне игру с Вадимом. Этот Вадим... вся эта история — искажение моего собственного странного случая, который теперь... ведет за собой мою жизнь. Ты не смотри так, не пугайся! А впрочем, пугайся... Да нет же, я не схожу с ума, хотя тебе это покажется сумасшествием. Не перебивай, а то не скажу совсем...
Фаина не перебивала замолкшую на миг Ксению, молчание тоже нельзя сейчас перебивать.
— Я часто валяю дурака, — сказала та чуть спокойнее, — но для меня литература — чудо. Я не о своих писаниях говорю, я о чудесных, их мало... — Ксения опять заволновалась. — И вот случилось — одно произведение потрясло мне душу... Если бы автор не умер, а он умер несчастным и рано, я перевернула бы всю жизнь, чтобы приблизиться к нему, я хоть бы в домработницы к нему пошла. А те крохи, что у меня есть, отдала бы ему... понимаешь, у него тоже могло быть — вдруг не то слово. Если бы за всю жизнь я подсказала ему пять или шесть слов, я была бы счастлива, они бы остались в его книгах. — Ксения резко побледнела. — Это и есть любовь, самая бескорыстная, какая существует в мире. Я выучила его вещи наизусть... Его лицо такое же прекрасное... Скажи, кого можно полюбить при таком состоянии души? Юру Поспелова? Или... ну, был, был подобный же Юра, и нравился даже, но это не любовь, и не будет ее у меня... О боги мои!.. Фаинка, прошу тебя, не спрашивай и никогда больше не будем об этом говорить!.. Понимаешь?
Что-то Фаина понимала, но больше жалела Ксению, чем пыталась понять. Ксения же сделала крутой поворот, от которого у Фаины екнуло сердце, хотя его и можно было ожидать:
— Тсс... Ты, Фаинка, меня не оплакивай преждевременно! Летом я буду ходить на пляж. Я тыщу раз читала, что любовь начинается на краю какого-нибудь водоема. Герой случайно видит героиню обнаженной — и тут его и прихлопывает возвышенная любовь на всю жизнь. Правда, это происходит с мужчинами, но чем черт не шутит, может быть, повезет и мне!..
В таком роде Ксения болтала дальше. Слушать было неприятно, однако Фаина слушала, жалея ее и помогая ей замкнуть наглухо ту минуту искренности.
— Я все-таки хочу спросить тебя, — сказала Фаина, — как ты собираешься повлиять на Каю?
— Так ведь я уже говорила: подходящим литературным произведением. Прежде всего пусть узнает, как к ней относятся ее лоботрясы... Куда ты смотришь, Фаинка? Что там?..
— Уйдем... — прошептала Фаина. — Нас слушают...
— Кто? Этот?.. — Ксения искоса поглядела на молодого человека за соседним столиком, но он поднял такие бледные, пустые глаза, что сразу стало ясно — не слушает. — Да что он разберет? и зачем ему?..
— Все равно, не хочется больше здесь сидеть. Со всех сторон уши...
Однако Ксению трудно было провести, она осмотрелась еще и, тихонько засмеявшись, сказала:
— Тебе мешают два умных и сердечных человека, которые пьют кофе вон в том углу.
Это была чистая правда — в том углу пили кофе Гатеев и Сильвия Александровна. В другой раз проницательность Ксении раздосадовала бы Фаину, но сейчас она только усмехнулась в ответ, с радостью осознав вдруг, что в их дружеских отношениях сегодня произошла перемена.
— Ладно, Ксения. Но не называй ничего определенными словами, а то — знаю я тебя! — ты из незабудки сделаешь банный веник... Пойдем домой!
Вернулись домой молча, если не считать неодобрительного отзыва Ксении о рыжих усах коменданта, встретившего их в дверях общежития. Молча обе принялись писать — Фаина дипломную, Ксения неизвестно что.
Прошел почти час, затем Ксения сказала:
— Перванш.
— Что, что?..
— Перванш — цвет барвинка, темно-голубой. Тебе тоже был бы к лицу.
— Когда это ты научилась разбираться, что кому к лицу? — небрежно спросила Фаина.
— Сегодня. На работе эта Сильвия Реканди зануда и придира, а так, за чашкой кофе, прелестная женщина. От волос сияние... И кофточка красивая — настоящий барвинок.
— Да, — ответила Фаина.
— А если уж зашла речь о цветочках, то я все-таки тебе, Фаинка, горячо рекомендую начихать на незабудки, пока они в самом деле не превратились в банный веник.
Доказав таким образом, что она умеет обойтись без определенных слов, Ксения снова замолчала; перо бегало по бумаге до полуночи, писало неизвестно что.
На другой день Фаина работала дома. От вчерашнего вечера осталась мелодия в миноре — от музыки в кафе, которую она будто и не слышала, а оказывается, принесла домой, и теперь надо делать усилие, чтобы она не звучала. Надо непременно увидеться с ним, что-то переменить, заглушить, пусть звучит иначе... Ксения всего не знает, потому и советует «начихать на незабудки». Довольно противное словосочетание, кстати говоря...
Но когда же будет встреча? Хоть сегодня, если ее чуточку подтасовать. Подтасованная, шулерская?.. А что же делать, если нет терпения...
В пять часов Фаина, с краплеными картами, отправилась в библиотеку. Если его там нет, то можно условно считать, что нечестной игры не было.
Его нет. На его месте сидит старик, читает газету. На Фаину он почему-то посмотрел злыми глазами. Уж не воплотился ли тот, выдуманный, с палкой в руках? Вот сейчас подымется и скажет: «Вы, товарищ Кострова, даже газет не читаете? О международном положении и о сельском хозяйстве вы вспоминаете только перед экзаменами? И дипломная у вас пустяковая. Займитесь хотя бы товароведением. И не улыбайтесь — на складах нет подтяжек...»
Повеселив себя этой речью, Фаина принесла на стол газеты. Старик, довольный ее послушанием, перестал бросать недобрые взгляды. Конечно, его правда, газеты надо читать регулярно... Так. Сельское хозяйство? Посмотрим, не пишут ли о рыболовецких артелях. Есть. Рыбаки Причудья честно выполнили свой долг перед государством... Подледный лов, тонны, цифры... А Фаине Костровой полагалось честно поехать к отцу. Чем себя оправдать? Учиться можно было и дома.
За рубежом. Президент Джонсон внес предложение о реформе системы выборов. Интересно, указал ли в примечаниях, что не следует убивать предыдущего президента?.. В Бонне намечена программа исследований в области ядерной техники. Мороз подирает по коже, но надо дочитать до конца. Волнуется весь мир, нельзя исключать себя.
А вот укол в сердце — снимок. Расстреляна двадцатилетняя девушка, схваченная во время мирной демонстрации в Сайгоне. «Этот фотодокумент обличает кровавый режим южновьетнамских марионеток...» Фаина отвела глаза от снимка, как будто он упрекал ее в чем-то. Нет, не ее, но как могла она только что улыбаться... Чтобы прогнать странное чувство вины за то, что эта девушка уже никогда не улыбнется, Фаина нарочно задумалась над словом «марионетка». Слово не подходит. Если кровавый режим, то это не только не куколки, это даже не чертовы куклы, это сам сатана. А может быть, слово и верное в одном смысле, но так или иначе — правит сатана.
Фаина развернула другой широкий лист. Вот что-то о воспитании... «Каждое время рождает новую технику, и оно же определяет нравственные идеалы людей, их душевное богатство. Большая роль в познании жизни принадлежит науке, и интерес молодежи к науке велик. Но достаточен ли интерес к эстетической культуре человечества? К сфере культуры чувств и бытового поведения? Несомненно здесь есть пробелы, иначе нам не приходилось бы так часто говорить о перевоспитании, то есть об исправлении уже испорченного. Человек же для своего исправления нуждается не только в «трудовых мероприятиях», но и в привитии ему эстетики чувств. Это не падает с неба. Нужны усилия писателей, педагогов, врачей, юристов, усилия общественности...»
А разве у Каи нет эстетики чувств? Куда же она делась?..
Дочитав статью, Фаина вынула ручку, чтобы подчеркнуть особенно важное, но вдруг спохватилась, взглянув на старика, — нельзя же пачкать библиотечные газеты, да и вообще, что за поганая привычка...
— А мой стол занят... — раздался едва слышный голос, от которого Фаина вздрогнула, вмиг почувствовав себя шулером, испуганным, пойманным, невероятно счастливым шулером. — Здравствуйте, Фаина.
— Садитесь сюда, Алексей Павлович. Я все равно ухожу... — так же тихо сказала Фаина.
— Нет, зачем же. Вон там свободно...
— Да мне пора уходить, давно пора. Садитесь, Алексей Павлович...
Фаина ушла, унося газеты и меченые карты. Оглянувшись, увидела, что игра проиграна: он листал книгу, отчужденный, сухой, горький, как полынь-трава. Не поднял головы, не посмотрел. Ушла студентка, они все такие одинаковые, так наскучили...
Во дворе она села на скамью, припорошенную снегом. Холодно, люди быстро проходят мимо. Кто же в такую погоду сидит на скамье? Но она очень устала. Нет, больше никогда не надо, не умеет она, не по ней это...
Неужто так и жить от одной пустой встречи до другой такой же? Почему ей достается только: «Здравствуйте, Фаина...» А все остальные слова он раздает другим, а им, может быть, они и не очень нужны, а если нужны, то не так, как ей... Не хватает еще здесь простудиться на этой скамье. Сию же минуту встать!
Дома Фаина отправилась на кухню кипятить чай, Ксения тоже выразила желание попить чайку с вареньем. В кухне никого не было; от огромной плиты веяло жаром, чайники стояли рядком, попыхивали, постукивали крышками, из самого пузатого вода выплескивалась через край, шипя и расточаясь паром. Фаина грелась, с удовольствием поглядывая на пыхтящее семейство чайников: большой, поменьше и пять маленьких. Сейчас закипит и наш, плита раскаленная... Ну, кто-то из хозяек уже бежит за своим...
— Ксения?.. Что случилось?
— Ровно ничего не случилось, тебя к телефону!..
— Кто? — на лету спросила Фаина.
— Не знаю... Баритон. Строгий.
Трубка лежит на столе. Не из дому ли, не с отцом ли?..
— Это вы, Кострова?
— Алексей Павлович?..
— Да.. Вы не забыли свою ручку? Коричневую?
— Ах, правда забыла!.. — сказала Фаина, вспомнив, как она вынула ее и...
— Я оставлю на кафедре... — снова прозвучал голос, сухой, горький, как полынь, но...
— Алексей Павлович, вы в библиотеке? Я сейчас, это же два шага!..
— Пожалуйста.
Фаина одним духом взбежала наверх, накинула пальто. На улице замедлила шаг — нельзя же так, запыхавшись...
Он ждал ее у крыльца.
— Да что это вы без платка, без шляпы! Холод!.. Вот ваша ручка, бегите скорей, простудитесь!..
— Спасибо, Алексей Павлович!.. Мне ни чуточки не холодно!..
— Не холодно? Ну, может быть... У вас такие чудесные волосы... Но все-таки зима! — Он за плечи повернул ее спиной к себе... и Фаина ощутила легкое прикосновение к волосам. — Бегите домой!..
Оглянуться Фаина не решилась. Дома, отделавшись от чая, от варенья, от расспросов Ксении, стала разгадывать происшедшее. Поцеловал? Или погладил девочку по головке? Нет, нет, дотронулся губами...
— Ксения, у меня красивые волосы?
Ксения добросовестно протерла очки.
— Очень красивые, хотя и не сияют. Редкий ореховый оттенок. Ты вообще бываешь красивая, когда оживляешься... — Сказав это, Ксения запела на непростительный мотив: — Я люблю тебя, моя сероглазочка, золотая ошибка моя!..
Фаина терпеливо перенесла пение. Вечер прошел в работе, и, наконец, наступила ночь.
Ночь пришла легкой, теплой, загадочной... А если заблуждение? Все равно — состоялась встреча, замечательная по своей ненужности. Он мог не звонить, просто отдать ручку библиотекарю. Она могла не идти, пусть бы оставил на кафедре. Но он позвонил, она побежала к нему. Этого уже нельзя изменить, и это замечательно своей бессмысленностью... Позвонить — это значит: найти номер общежития, взять телефонную трубку, спросить Фаину Кострову, подождать... Этого уже нельзя изменить, это было.
30
Утром ожидался приезд Каи. Фаина, приготовив вкусный завтрак, успела сбегать за цветами и за халвой — пусть Кая видит, что ее любят, ждут. Но Кая не приехала.
— Все у нее теперь перекривилось, — сказала Фаина. — Раньше она ни за что не опоздала бы на лекции. Давай-ка завтракать, мне сейчас не хочется думать о ней.
— Надоело? — спросила Ксения, усмехнувшись. — А я как раз думаю.
— Мне надоело, что мысли все вертятся по одному кругу. Пойду к Сильвии Александровне и посоветуюсь с ней. Вот решила и пойду.
Ксения, отодвинув стакан с недопитым чаем, стала зашивать чулок на колене.
— Иди, если тебе любопытно посмотреть, как она живет... Но что ты будешь ей говорить? Знаешь ли ты точно, что именно ты ей скажешь?
Нет, Фаина не знала точно, что именно она скажет. Так, приблизительно: младшая подруга, у нее несчастная любовь, разочарование, потом скверные мальчишки, которые ее окружили...
— Смерть не люблю таких консультаций, — сказала Ксения, зашив дырку и снова принимаясь завтракать. — Что может предпринять Сильвия Александровна против скверных мальчишек? Смешно и наивно, но ты уже вбила себе в голову эту мысль... И пожалуйста.
Когда Фаина убрала посуду, Ксения разложила по столу свои рукописи.
— Между прочим, написала я вчера конспект рассказа — для Каи, — объявила она. — Пусть увидит, как позорно быть объектом щенячьего вожделения!
— Только не обижай ее, — заметила Фаина.
— Можно и обидеть, лишь бы подействовало... Так вот, основные компоненты моего рассказа общеизвестны: щенок с претензией на остроумие, его родители, хорошая девушка, плохая девушка, положительный слюнтяй в очках. Основной конфликт — расквасить рожу сопернику... — Лицо Ксении вдруг исказилось от отвращения. — Ненавижу! Ненавижу описания мордобоев, пьяных оргий, изнасилований! Говорят, это и есть глубокое проникновение в жизнь — эти истории о дегенератах, наркоманах, развратниках, гомосексуалистах. Глубокое! Конечно, это глубоко — в выгребной яме, под толстым слоем... экскрементов. Кабы только не девичий стыд, что иного словца мне сказать не велит!.. Так хочешь прочесть набросок рассказа?
— Как же не хочу! Давай сюда.
Фаина начала читать. Рассказ был написан в форме дневника:
Понедельник
После лекций она стояла под часами. Рассмотрел подробнее. Бюстгальтера не носит, за это ручаюсь. Заметила, ушла.
Догнал, напустил оригинальности: психология разорванных связей, поколение икс, ваши губы — красные рыбы в фужере моего сознания...
Вторник
Эдуард о ней кое-что знает: в прошлом году существовало какое-то облако в джинсах; не то она его бросила, не то наоборот. Тем лучше — папаша-романтик не набьет морду, чтоб женился.
Создал впечатление случайной встречи, пригласил на танцы. Погудел насчет экстаза, транса и программирования любви. Ну и прочее — твои, значит, губы пляшут в сером веществе моего мозга. Смотрела на меня, как овца на градусник.
Среда
Вклинился Виктор. Набитый олух, размазня, очкарик. Сказал ему без побочных информаций, что участок застолбил я.
Алка-транзистор вешается на шею. Отшвартовался, хватит с нее.
Четверг
Пригласил в клуб. Твистик, то да се. Ждет мужской инициативы: люблю, единственная и тэ дэ. На это они падки, но я трепаться не стал, сойдет и так.
Пошла танцевать с Виктором. Пригрозил идиоту вторично. Хорохорится, утащил у меня из-под носа, пошел провожать.
Ничего, я ему разъясню формулу антитяготения.
Пятница
Эдуард согласен, но без коньяка не пойдет, и ассистенту бутылку. Намекнул предкам насчет нескольких купюр. Дали с проповедью, но достаточно.
Место подходящее: олух ходит домой через парк. Пусть полежит денька три-четыре, пока зашпаклюет трещины, а я за это время... Только бы найти удобное пространство.
Суббота
Олух растрескался по всем швам, неделя обеспечена. Полное алиби: прошвырнулся с Алкой за город.
Напросился в гости на завтра. Папаша-романтик вместе с мамочкой по воскресеньям ходят в кино на третий сеанс. Сказала, что пригласит и Виктора, пусть он тоже придет. Будьте спок, не придет.
Воскресенье
Надеюсь, что у ее предков, кроме серванта и пианино, найдется какая-нибудь кушетка...
— Ну как? — спросила Ксения.
Вопрос был задан небрежным тоном, не обманувшим, однако, Фаину. Ксении интересен ее ответ, но что ответить? Впечатление неприятное, но, может быть, так и надо?..
— Не знаю, Ксения... Когда ты отделаешь, то, вероятно, будет иначе, а сейчас как-то оголенно. Понимаешь?
— Понимаю, — сказала Ксения и, взяв у Фаины свои листочки, разорвала их.
— Что ты! Зачем! Ты все-таки допиши!.. Ох уж это авторское самолюбие!
— Не повторяй чужих пошлостей, Фаинка.
Настроение потускнело. Фаина была недовольна собой — очевидно, сказала не то и не так.
— Зачем же рвать черновик, едва я успела раскрыть рот!
Ксения засмеялась:
— Вот видишь, какая у тебя силища! Ничего, ничего, не смущайся, мне самой не нравится...
Обменялись еще несколькими фразами в духе такой же зыбкой искренности и взаимных уступок. Потом, после молчания, Фаина сказала:
— Я все-таки испортила одну возможность.
— Все это преувеличение, — возразила Ксения. — В наших заботах о нравственности Каи есть что-то пресное и сентиментальное, какие-то завитушки и бантики. Я вот написала — больше для себя, чем для нее, ты собираешься к Реканди...
— Да, собираюсь, — упрямо перебила ее Фаина и замолчала надолго.
Может быть. Может быть, поискав, и увидишь завитушки и бантики, увидишь даже белую нитку, которой смётаны добрые намерения, но искать не стоит. Она все равно пошла бы к Сильвии Александровне, если бы и не влекло ее туда смутное любопытство, связанное с мыслью об Алексее Павловиче. Пошла бы из-за младшей подруги.
И пойдет сегодня же. Жаль только, что голова побаливает.
В семь часов Фаина, волнуясь, звонила у двери с медной пластинкой: «С. Реканди».
Быстрые шаги. Легкое удивление Сильвии Александровны. Маленькая передняя сверкает чистотой. Фаина старательно вытирает ноги, снимает пальто...
В комнате. Очень тепло, пахнет духами, головокружительными. На столике альпийские фиалки. Светлая мебель, книги, зеленоватый пейзаж на стене. Пушистый ковер...
Все мелькнуло и будто исчезло. Остался только внимательный взгляд и мягкий голос:
— Рассказывайте, я слушаю...
И Фаина рассказывала. Сначала называла Каю «моя подруга», потом, забывшись, назвала по имени — и ее, и Тейна.
— Это та бледненькая, милая, что была с нами в колхозе?.. — сказала Сильвия Александровна грустно. — Неужели она ищет забвения в каких-то сомнительных компаниях? И неужели вам не удается ее удержать? Что же я могу сделать?..
Фаина молчала. Мысли у нее блуждали, внимание отвлекалось ненужными мелочами: на письменном столе часы с черным циферблатом, фигурка из пластилина — смешная лисичка в переднике, голубая лампа... Часы тикают, уверяя, что нельзя же просто так сидеть, так, так, так...
— Может быть, мне встретиться с ней? — спросила Сильвия Александровна. — Вы хотели бы этого?
Фаина замялась — не станет Кая никого слушать...
— С ней трудно разговаривать, она замыкается в себе. Извините меня, Сильвия Александровна. Я, кажется, пришла напрасно...
— Нет, что вы! Подумаем вместе... Она оскорблена недоверием? И так сильно?
— Да. По-моему... она все чувствует слишком сильно, и потому сразу оборвалась и полетела вниз. Если ее сейчас подхватить, потом уже будет безопасно. Я непонятно говорю, Сильвия Александровна?..
— Понятно, понятно. Вы правы, потом будет безопасно, она сама поймет, что Тейн — мелкая причина для разгрома всей жизни...
— Я не уверена, что он мелок, — нерешительно сказала Фаина.
Минута молчания. В комнате жарко, дурманно. Голова болит... Правду говорила Ксения — незачем ходить к добрым и сердечным людям. Не поможет и эта сердечная женщина, которой так к лицу вязаная кофточка цвета барвинка. Нечего принести Кае, нечего. Только растравилось сердце у самой... Почему?
— Мне тоже думается иногда, что Тейн не весь на поверхности, — заговорила Сильвия Александровна. — Но характер у него все-таки тяжел, и, может быть, ваша подруга была бы несчастна с ним. Лучше перетерпеть сразу... — Она вздохнула. — Вы ждали от меня совета, когда шли сюда, и сейчас разочарованы? Мне очень жаль, но я могу пока сказать вам одно: не молчите. Иногда нужен совсем маленький толчок, чтобы человек пришел в себя, а иногда нужно схватить его за шиворот. Но не надо стоять в сторонке... Самое лучшее, конечно, когда человек сам себя хватает за шиворот! — усмехнувшись, докончила она.
— Спасибо, Сильвия Александровна... — сказала Фаина, поднимаясь. — Извините...
— Пожалуйста, приходите еще. Непременно! А я постараюсь придумать, как мне познакомиться ближе с вашей Каей... Обещаете прийти? Я буду ждать вас... Пожалуйста, в эту дверь... Буду ждать, до свиданья.
Фаина не стала ничего рассказывать Ксении. Голова была пуста до звона в ушах и сильно болела; заодно ломило спину и плечи, хотелось жмуриться и потягиваться. Вероятно, вчера все-таки простудилась.
Она отыскала самую теплую ночную рубашку и легла. Таблетки от простуды и прочих бед хранились где-то у Каи, а Кая все не приезжала. Голова, голова, в голове...
— Я пойду в аптеку, — сказала Ксения. — Что, собственно, у тебя в голове?
— Концепция, — ответила Фаина, хотя голова была пуста по-прежнему.
— Не позвать ли доктора?
— Ты думаешь, бред? Ни-ни, у меня сегодня в самом деле появилась одна концепция, немного странная.
— То-то и есть, что странная. Я позвоню...
— Доктору поздно, а неотложные приезжают в шубах и колют чем попало. Омочу бебрян рукав в Каялереце, утру́ князю кровавые его раны на жестоцем его теле... вот это антисептика!... Слышишь, Кая уже идет по коридору. Таблетки...
Ксения с сомнением пощупала лоб Фаины. Горячий, как утюг...
Но Кая действительно шла по коридору, и открыла дверь, и вообще — приехала. С ней не было никаких патластых попутчиков, и никуда вниз она не летела — это, пожалуй, Сильвия Александровна сама придумала. А Кая вся чистенькая, ни пылинки, ни пятнышка, во всем новом. Только мать может так одеть дочку, так расчесать льняные волосы... и так умыть, чтобы порозовели щеки и прояснился взгляд… И сразу нашлись и таблетки, и сухая малина, и второе одеяло, очень мягкое и теплое.
Теперь можно лежать молча, а можно и кое-что сказать. Например, о беседах: они спасают от гибели, от пропасти, от извержения Везувия. Можно и кое о чем спросить. Например, о фотографии: зачем фотографируют деревянную скамью и два дерева и ставят в рамке на стол рядом с черным циферблатом? В ответ тебе дают таблетку, но пусть. Здесь есть хитрость: простуда бывает разная, можно дотронуться до волос, и пройдет. На это, впрочем, опять дают таблетку. Что за дрянь, зачем так много!.. Вовсе не бред — кто же бредит так складно? А если получается не совсем понятно, то только потому, что вчерашний вечер едва мерцает...
31
Астаров был занят своей диссертацией и совсем потерял охоту заседать, собрания бывали редко. Меж тем шли слухи о разделении кафедры на две — языка и литературы. Поговаривали о конкурсе, о сокращении нынешних штатов (всех не-кандидатов долой!), пересчитывали по пальцам доцентов, гадали о заведующих — словом, беспокоились.
Наконец состоялось собрание, на этот раз в помещении кафедры. В семь часов все уже сидели на диванчиках рококо, и Эльвира Петровна уже чинила карандаш так рьяно, будто собиралась проткнуть им каждого, кто не кандидат.
Аркадий Викторович перелистывал свой доклад — об эстетических основах древнерусской литературы. По существу это была глава из его диссертации, которая была знакома всем еще с осени, но, вероятно, он ее переделал. Белецкий читал газету, старый Саарман покачивал многодумной головой, а Муся упрашивала его не говорить сегодня — в виде личного для нее одолжения — о праязыке. Сильвия села подальше от Нины Васильевны, дарившей улыбки Гатееву с древнеженской загадочностью, и старалась смотреть только на деловитого Аркадия Викторовича.
Появился Эльснер, какой-то осовелый сегодня, нашел угол потемнее. Можно и начинать.
Астаров потер руки, поулыбался и одним духом разделался с докладом, не заглядывая в конспект. Ему даже похлопали немножко, не ожидали такой краткости.
— Товарищи, я был бы рад услышать вопросы или замечания...
Муся тотчас же задала вопрос:
— Скажите, как насчет разделения кафедры?
— Ммм... Вы, Мария Андреевна, не о том спрашиваете, но... Наша кафедра все еще носит название кафедры славянской филологии, что давно уже не соответствует содержанию работы, и поэтому с будущего учебного года мы разделимся. Но, конечно, это не помешает нам работать дружно...
Раздался голос Эльснера:
— А известно ли вам, Аркадий Викторович, кто намечается заведующим кафедрой литературы?
— Нет, это пока никому не известно, — любезно ответил Астаров, проглотив, однако, что-то кислое. — Возможен конкурс... Товарищи, товарищи! Не начинайте шуметь и задавать вопросы! Все это бесполезно, надо спокойно закончить год... Прошу высказываться по повестке! Во-первых, о воспитательной работе, а во-вторых, о состоянии дипломных на пятом курсе. Кроме того, я так и не слышал замечаний о своем докладе...
— У меня есть замечание, — сказал Гатеев. — Помнится, в сентябре или октябре в вашем тексте были другие цитаты. Вы приводили слова Ильичева?
— Да, и что же? — спросил Астаров.
— А сейчас, если я не ослышался, вы назвали Демичева?
— Да. А вы имеете что-нибудь против?
— Против слов Ильичева и Демичева — ничего. Я против манеры заменять одни цитаты другими... в одном и том же контексте.
— Время идет вперед, — строго сказал Астаров. — И мы не стоим на месте. Я работал над этой главой.
— Вы пересмотрели свое мнение? Или мнение Ильичева?
— И то, и другое, — ответил Астаров, не теряя выдержки.
— А вы давно уже начали вашу диссертацию? Интересно, как это осуществляется технически? Вы делаете наклейки? И сколько у вас уже слоев?
— Вы ищете ссоры, товарищ Гатеев?
— Нет, я пользуюсь правом задавать вопросы, касающиеся научной работы. Не я создал на кафедре атмосферу разложения, в которой критические замечания воспринимаются как личный выпад
Астаров побагровел.
— Что вы подразумеваете под атмосферой разложения? Кстати, для ревнителя чистоты языка вы выражаетесь довольно неудачно!
— Возможно. А как вы назовете среду, в которой пишут анонимные доносы в виде газетных статей и...
— Довольно! Прошу вас оставить этот тон, он неуместен... Товарищи, есть еще вопросы?
— Нет, все и так ясно... — саркастически заметил Белецкий. — Давайте говорить о воспитательной работе.
Поговорили гладко, но не успел Астаров отдышаться, как выступила Муся:
— На третьем курсе чепе. Кузнецова родила дочку абсолютно без всякого отца...
— Я думаю, это не совсем точно, — отозвался старый Саарман и вопросительно посмотрел на заведующего.
— Ах, я отлично понимаю и без вас, — отмахнулась Муся, — но тем не менее собрали на колясочку, а профсоюз выдал пособие. А когда староста спросил у Кузнецовой, кто будет платить алименты, она дала ему пощечину.
— Эт-то характер! — искренне восхитился старый Саарман.
— Мне такой характер не нравится, — отрезала Муся. — Взялась учиться, так учись, а пощечины давай вовремя.
— Вы рассуждаете, как благочестивая старушка, — возразила Нина Васильевна. — Личная жизнь учиться не мешает: эта же Кузнецова — очень эрудированная филолог... Почему вы морщитесь, Алексей Павлович? Вы стоите на точке зрения старушек?
— Морщусь от головной боли. А старушки разные бывают. Я вот одну знаю — она очень эрудированная воспитатель.
Саарман закатился младенческим смехом и закивал Гатееву:
— Да, да! Он развелся с передовым маляром и женился на хорошеньком трубочисте! Но какой же выход вы предлагаете? Суффиксальный путь не всегда возможен, а...
— Ближе к делу, товарищи! — сказал Астаров. — Кто еще о воспитании?..
— В связи с колясочками? — спросил Гатеев. — Да-а. Все было бы в порядке, если бы студент был ребенком, но биологически он взрослый. Жениться? По своему положению он этого делать не должен: иметь семью может человек, зарабатывающий сам, живущий не на стипендию и не в общежитии. Отдавать детей бабушке? Просить пособий? Это приучает к иждивенчеству... Однако как же быть? Отказаться от своей молодости? Не всякому это под силу.
— Не защищайте их, Алексей Павлович, — строго сказала Муся. — Они и не хотят жениться, они порхают. Знаю я их, я в профсоюзе не первый год работаю. Вчера студент-математик в пьяном виде ломился в наше общежитие, к девушкам. Разбил стекла в дверях... Это, между прочим, ваш подопечный, Сильвия Александровна, ваш знаменитый Тейн...
— Тейн! — испугалась Сильвия. — Никогда не слышала, что он пьет!..
— А он, нате-ка, стекла перебил. Теперь все будут виноваты, что плохо воспитывали, начиная с вас и кончая ректором. Только не он сам — ему не под силу отказаться от своей молодости.
Горькая досада овладела Сильвией. Ректор-то не виноват, а она? Нет, лучше бы работать в вытрезвителе, там по крайней мере твои обязанности тебе ясны, а здесь бьешься, бьешься, и все впустую...
Заговорили о дипломных работах. Эльснер, не выходя из своего слабо освещенного угла, начал хвалить работу Далматовой. Сильвия оглянулась. Всегда он в полутьме, всегда виден, как сквозь мутное окно — до того смазанные, неопределенные черты. И голос фальшивый, как у дудки с трещиной.
— Если работа Далматовой готова, дайте ее мне, я рецензент, — сказал Белецкий.
— Да хоть завтра! — ответил Эльснер. — Там чистая пятерка!
— Завидую вам... А вот, скажем, у Ирины Селецкой — чистое горе. Слог, как у протодьякона, и орфография чудовищная…
— А как же с диктантами, Сильвия Александровна? — укорил Астаров.
— Аркадий Викторович! Вы же сами отменили занятия.
— Ммм... верно. По распоряжению продекана. Я лично был против, но...
— А почему вы лично были против распоряжения продекана, товарищ заведующий?
Сильвия ушам своим не поверила — это Эльснер, но куда же делся его сиплый тенорок? Вот как он умеет громыхнуть!..
— Ну, не совсем так... — замямлил Астаров. — Строго говоря, орфографическая грамотность не имеет большого удельного веса в интеллектуальном багаже человека. Хотя, с другой стороны, наша задача... — Он посмотрел на часы. — Однако не будем отвлекаться от темы.
— А мы и не отвлекаемся, — опять заговорил Гатеев. — Но как же понимать вас? Продекан Касимова стоит за то, чтобы выпускать недоучек. А вы?
Астаров растерялся. Крикнул Эльснер:
— Вы ответите за свои слова в другом месте, доцент Гатеев!
— Сколько угодно! В любом месте! А пока ответьте мне, Аркадий Викторович.
— Я ни в каком случае не стою за недоучек, — довольно твердо сказал Астаров. — Никто не получит диплома, если работа будет безграмотна. А как с вашей дипломанткой?
— У Фаины Костровой работа серьезная. К тому же она сама собрала ценные фольклорные материалы.
— И в самом деле ценные? — заинтересовался Саарман. — Это не очень легкое дело, я ездил с практикантами однажды. Помню, там с девушками неловко получилось. Для них, по-моему, нужны особые наушники с автоматическим глушителем: как только трехэтажная поговорка, так в аппарате сразу бы «шшш... шшш... шшш...»
— Бывают на этой практике такие объекты, вернее субъекты, что, кроме шипения, ничего девушки и не услышали бы, — пессимистически заметила Муся.
Астаров вздохнул:
— Приятно, что сегодня все настроены весело, но я вынужден предложить регламент — три минуты.
После этого собрание скоро кончилось, стали одеваться.
— Ну и говорильня, — ворчала Муся. — Угораздило меня попасть на эту кафедру. Кругом жизнь бурлит, над нами космические корабли летают, а у нас...
— А нас декан Онти осеняет своими крылами! — опять развеселился Саарман.
— И зачем я здесь? Вот надо было на физкультурный идти...
— Правильно, Мария Андреевна! В здоровом теле здоровый дух!
— Да перестаньте, я серьезно... Арктику исследуют, строят, от рака лечат... А мы? Что мы, собственно, делаем?
— Пытаемся удержать человеческий дух в здоровом теле, — сквозь зубы сказал Гатеев, не вставая с дивана.
— Пытаемся... — пробормотал Белецкий.
Домой Сильвия приехала на такси, хотя спешить было незачем. Вынула из сумки купленную утром книгу. Методика преподавания языка — прекрасное новое пособие, но где бы найти методику проникновения в головы этих невыносимых студентов? Что творилось в недозрелой голове Тейна, когда он отправился бить окна в общежитии? Дошел до хулиганства в чистом виде, без всякой уже загадочности, которую он на себя напускал. И тут полное поражение ее, Сильвии Реканди.
Студенты, студенты… Есть и другие. У Фаины Костровой серьезная работа. А у Алексея Павловича голос дрогнул... Неверно, неправда, показалось, не желаю вслушиваться, не желаю превращаться в детектива!
Но почему у нас нет дома? Смешно вспомнить, как он сочувствовал студентам, что они не могут завести семью. Какие у него-то теперь препятствия?
Сильвия удобно уселась в кресле, но мысли от этого не стали веселее. Откуда этот мрак?
Да, конечно, есть своя прелесть в неопределенности их отношений. Но... сегодня романтично, завтра романтично — и вот ей уже сорок лет, пятьдесят, шестьдесят. Тогда тоже романтично назначать свидания, встречаться тайком? Нет, уже не романтично, нет, уже нелепо, смехотворно...
Внезапный звонок помешал Сильвии вообразить любовное свидание в семьдесят лет. Звонок необычный — точно на кнопку легко нажали два раза. Кто?.. Сильвия, закусив губу, не двинулась с места. Соседка идет открывать.
В дверь постучали. Да, пожалуйста...
— Извините за поздний визит, графиня, — сказал, входя, Давид Маркович. — Задержался на рауте. А вы уже задремали?
Сильвия обрадовалась — сейчас он разгонит черные думы.
— Как хорошо, что пришли, уж и не помню, когда вы у меня были!
Давид Маркович ответил на это неясным «гм...» Тогда Сильвия увидела, что впору ей развлекать его, а не ждать от него веселья. Он и сидел не так, как всегда, а согнувшись, опустив руки на колени. Но все же старался шутить:
— Итак, графиня, по вечерам вы похрапываете в кресле. Вы хоть пасьянс раскладывайте, что ли... — Он нерешительно вынул портсигар. — Закурить можно?
— Курите, что с вами поделаешь...
Он пересел к столу, облокотился, держа папиросу у виска — того и гляди загорятся волосы.
— Право, графиня, пасьянс. Или гадайте... У меня когда-то была знакомая — военный врач, умница, операции делала прекрасно, а вот заберется, бывало, с ногами на диван и раскладывает на бубнового короля. О женщины, кто вас поймет! — сказал он, пытаясь улыбнуться.
— Давид Маркович, видеть не могу! У вас сейчас волосы вспыхнут!
— Паленым пахнет? — Он отвел руку.
«Что с вами?» — хотелось спросить Сильвии, но она побоялась ответа, промолчала.
— Нет, не вспыхну... Скажите лучше, когда же я вас увижу счастливой, радостной? — Он, кажется, тоже испугался чего-то и быстро подсказал, что она должна ответить: — Вы из-за Тейна расстроились?
— Тейн для меня очень много значит. Я свои силы измеряла...
— А я свои силы, Сильвия Александровна, пробую на продекане и тоже расстраиваюсь, как говорят поляки, до холеры... Ее-то уберут скоро: решено наконец записать ее лекции на ленту и прослушать в ученом совете. Этого мы с Гатеевым добились...
— С Гатеевым?
— Он вам не говорил? — Давид Маркович сухо засмеялся. — Да, это наше достижение. Мелкое.
— Ну, я не согласна!
— Слушайте! Представим на минуту, что защищать надо не Нину Васильевну, которая... между нами говоря, не более чем клякса... Нет, нет, давайте начистоту! Представьте, что надо защищать не ее, а талантливого, знающего педагога, и защищать не от Касимовой, от дуры кромешной, а от Эльснера, от прохвоста. Все встали бы на защиту сразу, и преподаватели, и студенты, и не тянулось бы это так долго. Потому что и защищали бы не кляксу, и достижение было бы настоящее — свалить Эльснера. А Касимова что... Уверяю вас, ее уберут втихую, без скандала, потому что и ректорату будет неловко — как же так она попала к нам, да еще в продеканы. Чего же мы-то смотрели. И вот! Касимову долой, а Эльснер останется. Вот наше достижение! И Касимова живехонька!..
— Давид Маркович! Не убивать же ее!..
Он поглядел странно, как-то боком.
-— Скажите, Сильвия Александровна... У вас, мне кажется, все неприятности со студентами как бы обобщаются в одном Тейне, а у меня — просто наваждение! — все Тамары Леонидовны сливаются в одну и... и получается круглое скользкое чудовище с длинным пухлым языком. Оно лопочет одно и то же, одно и то же, а потом начинает лизать меня, чтобы заставить и меня лопотать...
— Давид Маркович!
— Что? Схожу с ума? А вы уверены, что мы с вами еще не заразились и не лопочем?.. — Поднявшись, он поискал пепельницу, махнул рукой: — Всегда забываю, что у вас нет пепельницы. Все гости некурящие?..
— Вот эта вазочка вполне может быть пепельницей.
— Я понимаю, Сильвия Александровна, почему вас беспокоит Тейн, почему беспокоит так сильно. Он для вас незаметно превратился в олицетворение, до некоторой степени в абстракцию...
— Нисколько!
— А когда мы ловим не настоящего черта с рогами и хвостом, а ловим и громим абстракцию, то нас можно и не отличить от лопочущих тупиц: те тоже умеют складно говорить и о борьбе с мещанством, и о светлом будущем, и о воспитании молодежи...
Продолжая говорить, он подошел к окну, вернулся, снова подошел. Следя за ним и не совсем его понимая, Сильвия смутно чувствовала, что какая-то мысль опережает его слова и мешает сосредоточиться. Когда он, наконец, сел на диван и в упор посмотрел на нее блестящими глазами, она уверилась в своей догадке: сейчас скажет то, ради чего и начал разговор об абстракциях.
— Мы, Сильвия Александровна, иногда успокаиваемся от приятного осознания своих достоинств. Впрочем, правильнее будет в единственном числе... Итак, я успокаиваюсь от приятного сознания, что я-де умен, знаю, что происходит в мире, на каком уровне промышленность, какие неполадки, каковы происки врагов, как ведут себя соседи справа и слева. Кроме того, я отлично умею ловить абстрактных чертей и вдобавок еще забочусь о чистоте языка... заметьте, кстати — языка, а не своего поведения, а если еще у моих студентов нет орфографических ошибок, то мой ум радует меня донельзя!.. Однако скажите, Сильвия Александровна, чем же я отличаюсь от лопочущей Тамары Леонидовны? Широтой информации? Правильными оборотами языка? А о поступках своих я не думаю, я просто выключаю их из той сферы, где царит ум, логика и все прочее, необходимое для докторской диссертации!
Речь свою Давид Маркович оборвал круто — быть может, решив, что сказано достаточно, быть может, сожалея, что дал себе волю. Пока он молчал и морщился, как от боли, Сильвия печально думала: «Не надо, не надо, Давид Маркович, нельзя...» И не сердилась на него за иносказания.
— Выпьемте кофе, Давид Маркович?
— Нет, спасибо.
Он посидел еще минуту молча. Сильвия попробовала заговорить о пустяках, чтобы ослабить натянутость, но он только помотал головой и встал тотчас же.
— Пойду, Сильвия Александровна, — коротко сказал он.
Сильвия проводила его до двери, опять борясь с желанием утешить его, взять за руку, погладить сухие блестящие волосы. Бороться было нелегко, невысказанное обожгло и ее.
Оставшись одна, Сильвия по привычке попыталась убедить себя, что ничего не произошло. Вечер как вечер. Завтра начнется новый день, который можно повернуть и так и иначе. Никто не умер и не заболел. Ничто еще не умерло.
32
Фаина и Ксения столкнулись с Тейном в узеньком переулке: они поднимались по горке вверх, он спускался. Здесь ему невозможно было притвориться, что он их не видит, — пришлось поздороваться.
— Хорош, очень хорош! — воскликнула Ксения и, когда он хотел обойти ее сбоку, без церемонии схватила его за локоть. — Нет, ты погоди, погоди, Лео! Мы старые знакомые! Нам нужна консультация — мы вот идем бить окна в общежитии математиков. Объясни, как это дельце провернуть получше?
— Оставьте меня в покое! — со злостью проговорил Тейн.
— Будь же справедлив, Лео! Мы тебя не беспокоили, наоборот — это ты бил стекла в нашем общежитии... Да подожди ты, успеешь! Я тебе скажу что-то очень для тебя интересное, век будешь жалеть, если не услышишь!
Фаина тоже вступила в разговор:
— В самом деле, Лео, смешно тебе сердиться на нас — мы же с тобой не ссорились.
— А зачем она издевается? — Он пальцем показал на Ксению. — Я не бил окон.
— Окна ли, двери ли — по-моему, большой разницы нет, — фыркнула Ксения.
— Ксения, дай же человеку слово сказать! — остановила ее Фаина.
— Никаких слов я не собираюсь говорить, прощайте, — отрезал Тейн, однако с места не двинулся.
— Лео, я верю, что ты не бил стекол, — поспешно сказала Фаина, — это не в твоем стиле... Но почему висит приказ ректора?
— Я был в этой компании, — нехотя буркнул Тейн.
Ксения, с разгоревшимися глазами, не дав ему опомниться, скороговоркой выпалила:
— А ты знаешь, что Кая при смерти, очень-очень больна?
Тейн весь сжался и побелел:
— Что с ней? — хрипло спросил он. — Где она?
— Пока дома. Иди сейчас же туда, дверь открыта.
— Ты выдумываешь?..
— А ты хотел бы, чтобы она вправду была при смерти? — рассмеялась Ксения. — Если уж на то пошло, я и не выдумываю: она хуже, чем при смерти... Слушай, Лео! Ты затхлый математик! Если бы ты прочел столько книг, сколько я, тебе стало бы ясно, что такие ссоры, как у тебя с Каей... Да не лезь на стену... Знаю я! Ты думаешь, что у тебя ссора особенная, необыкновенная и сам ты необыкновенный. Думай на здоровье, но выслушай! Самые банальные ссоры и недоразумения могут иметь банальные же, но очень печальные последствия, если с одной стороны упрямый козел, а с другой — нежное творение, которое шатается от ветерка. Заруби себе на носу: Кая пропадет, станет уличной девкой — из-за тебя… Молчи, не спорь — из-за тебя. Сейчас же ступай к ней! Мы с Фаиной уходим в кино. За это время, если у людей есть хоть крошка ума, можно выяснить любое недоразумение... А впрочем, делай, как хочешь! Прощай! Неси свое мужское достоинство и смотри не урони!..
Ксения потащила Фаину вперед.
— Ну как, Фаинка? Погуляем или пойдем в «Экран»?
— Пойдем, пожалуй, но... ты думаешь, он решится?
— Не знаю. Ва-банк, ва-банк! — захохотала Ксения. — Если юноша ночью разбивает дверь и ломится в то общежитие, где живет его любимая, то...
— Но он говорит — не ломился.
— Однако был в компании. А может, и ломился, может, наврал сейчас... Ох, если б можно было послушать, как они будут объясняться, эти двое набитых дураков!
— А я бы не хотела слушать... — раздумчиво сказала Фаина.
— Тебе и не нужно... Так погуляем?
— Нет, боюсь опять простудиться.
— Ну, давай в кино... А ты, Фаинка, забавная была, когда болела. Столько наговорила, и все с выкрутасами...
— Я не бредила.
— Не бредила, но тормоза у тебя не работали. Мне теперь все ясно. Удивляюсь только...
— Будь добренькая, Ксения, удивляйся про себя.
Ксения вдруг остановилась как вкопанная.
— Слушай, Фаина! А ты не боишься, что он ее убьет? Он отчаявшийся, какой-то одичалый!
— Что за фантазии! — воскликнула Фаина... но в груди екнуло. — Вернемся домой?
— Да нет, не стоит. Он безоружный, а душить — получится слишком по-оперному... Пошли в кино!
Когда вернулись из кино, Кая сидела у стола за работой. Глаза были красные; на лице выражалось только одно: не смейте задавать никаких вопросов!
Но когда ложились спать, Ксения не утерпела и вопрос задала:
— Приходил сюда Тейн?
После долгой паузы Кая ответила ровным бесцветным голосом:
— Да, приходил. Просил передать вам обеим, что женится на Вельде.
Утром Фаина тихонько оделась и вышла на улицу. Боже мой, тоненький золотой крайчик месяца на зеленом небе, и алые полосы!.. Зачем это разрешают? Ведь от этого можно повернуть совсем не к деканату, совсем в другую сторону!..
В деканате сонная лаборантка неохотно отыскала адрес. Фаина пошла по этому адресу пешком, хотя туда есть и автобус. Прикидывала в уме предстоящий разговор.
Противная какая у него дверь, и лестница темная, и звонка не видно. Она постучала, дверь приоткрылась.
— Это ты, Кострова? — изумленно и (показалось?) радостно спросил Тейн, — Постой минутку, я оденусь.
Когда Фаина вошла, голос у Тейна был уже не радостный, а насмешливый:
— Садись, добрая женщина! Ты принесла мне какие-нибудь новости?
— Говори со мной по-человечески, Лео.
— Могу.
— И не ври, имей в виду, что я многое знаю. И еще имей в виду, что мужской психологии я не понимаю — за тобой стоят целые века идиотских традиций. Ты их отбрось, пока мы разговариваем.
— А ты отбрось предисловия, — процедил Тейн.
— Так вот. Это правда, что ты женишься на Вельде?
— Ха-ха. А почему бы и не жениться? Или у тебя есть другая невеста на примете?
— Это, по-твоему, человеческий разговор?
Он с усмешкой разглядывал свои пальцы. После молчания сказал:
— Ну, допустим, я не женюсь на Вельде. А дальше что?
Фаина смутилась. Действительно, получается неумно, назойливо...
— Ничего, могу только порадоваться за тебя, — вымолвила она, наспех придумывая, как ей выпутываться дальше.
Тейн посмотрел на нее искоса.
— Я понимаю твое затруднение, мудрая женщина, — сказал он, — и приду тебе на помощь. Но, не забудь, ректор прекратил со мной знакомство. Ты убеждена, что я — это блестящая партия для Каи?
— Ты самая ужасная партия для всех, кроме Каи.
— У меня даже работы нет.
— Найдешь работу.
— И у Каи будет счастливая жизнь? Вот этот кров, — он показал на грязный потолок, — гороховая похлебка и чудесный парень — я.
— Это единственный выход, — сказала Фаина. — Иначе...
— Что иначе, мудрая женщина?
— Иначе оба пропадете.
— Благодарю тебя, мудрая женщина, — высокопарно проговорил Тейн. — Ты осветила мне путь. Я поступлю по твоему совету.
— Вот несносный какой! Чего ты скалишься?
— Почему же я несносный? Я принял твой совет и поблагодарил тебя от всей души. Сейчас я пойду искать работу — куплю «Эдази» и посмотрю, не требуется ли кому недоучившийся математик. Найдя должность и получив первую же зарплату, я уведу Каю из вашей комнаты и поселю ее в этом очаровательном коттедже. Вельде скажу, что ты посоветовала мне не регистрироваться с ней. Ты довольна?
— Очень! — с сердцем сказала Фаина. — Дальше я твои насмешки терпеть не намерена. Прощай!
— До свиданья!.. — он встал и низко поклонился. — Примерно через месяц я появлюсь в вашем общежитии с букетом.
Дома Фаина не застала уже ни Ксении, ни Каи. Завтракая, думала о поведении Тейна. Кое-что до него дошло, как он там ни кривлялся. Но боже упаси, чтоб она еще раз в жизни явилась к кому-нибудь с такой миссией! Все это отголоски нравоучительных повестей — вечно кого-то спасают, то поодиночке, то целым коллективом. И никогда нет наиболее реального конца — не спасли!..
Она старательно переписала последнюю страницу дипломной. Что же написать перед последней-распоследней точкой? Пошутить на прощанье — стащить один чужой абзац? Это будет единственный «элемент плагиата», как выразится Алексей Павлович, если заметит. Но нужно выбрать то, с чем сама накрепко согласна.
Фаина, улыбаясь, полистала журнал в синей обложке и — слово в слово — переписала несколько строк: «Двадцатый съезд положил начало оживлению и подъему всей нашей общественной науки. В дальнейшем предстоит внимательно разобраться в ворохе фольклорных публикаций, установить, что действительно принадлежит народной поэзии, а что относится к случайным опытам сказителей или является сознательной фальсификацией и несомненно должно быть исключено из поэтической летописи нашей эпохи».
Если Алексея Павловича нет сейчас на кафедре, она придет в другой раз. Они не виделись с того дня, когда... он позвонил ей. Как встретятся?..
Все изменилось за эту зиму — и темноватый коридор, и истертая лестница, ведущая на второй этаж, к белой двери, за которой раньше гнездилась только официальная скука. Все осветлено радостью, надеждой, ожиданием.
Алексей Павлович был на кафедре. Радостная уверенность, с которой Фаина поднималась по лестнице, померкла при виде его лица — серого, с бескровными губами. Он тоже был болен?.. Посмотрел пристально, молча, как будто не узнавая. Кивнул, принимая рукопись.
— Когда можно прийти? — спросила Фаина.
— Я вам позвоню, — ответил он, и при этих словах мелькнула и погасла короткая искра.
На секунду Фаина зажмурилась от счастья. Однако же там были еще люди, и Сильвия Александровна смотрела на нее, тоже как будто не узнавая, чуть сдвинув брови.
— До свиданья, — сказала Фаина и вышла, поймав по дороге еще один пристальный взгляд — Белецкого. Этому-то, казалось бы, совсем незачем к ней приглядываться.
Она вернулась домой, упорно и упрямо не желая осознавать одну мысль. Стоит ее осознать, и она больше не даст покоя.
Прибрала к месту черновики. Все. Теперь впереди только экзамены, последние, государственные. Теперь сидеть за книгами и старыми конспектами... Сидит заяц и грызет осину. Горько тебе, заинька?.. Да, почему-то горько.
33
Сильвия, выправив кучу тетрадок, с улыбкой откинулась на спинку стула. Сегодня ясный, прозрачный день, сегодня ничто не тяготит душу; рассеялись все тайные обиды, из которых еще недавно можно было составить длинный список. Последняя обида была на прошлой неделе, когда Фаина Кострова принесла на кафедру свою дипломную. Алексей посмотрел на нее долгим взглядом, как будто после разлуки, как будто боясь новой разлуки, хотел запомнить ее лицо. Но, вероятно, это только показалось...
Сложив тетради ровными стопками, Сильвия вспомнила еще одну... не то чтобы обиду, а так — неприятную минуту. Слушали передачу по радио, что-то о любви, и Алексей сказал (к сожалению, она точно помнит его слова):
— Настоящая любовь проста до странности: появляется человек, его узнаёшь сразу, как бы ни притворялся перед собой, что не узнаёшь, и начинает править жизнью, как бы ты ни притворялся, что сам правишь...
Относилось это к ней? О нет! Она его жизнью не правит.
Позвонить ему сейчас? У нее теперь есть телефон, красивый белый телефон; он сам хлопотал, чтобы провели; и не столько порадовал ее телефон, сколько хозяйственная эта забота.
Позвонить? Сразу будет легче, день опять станет прозрачным. Однако Сильвия не позвонила.
Через часок красивый белый телефон мягко зазвонил сам:
— Сильвия, приходите сейчас же на кафедру!..
— Кто говорит? Мария Андреевна? Что-что?..
— Приходите на кафедру! Нина Васильевна уволена...
По дороге Сильвия успела сделать множество предположений, вплоть до самых нелепых. Потом начались какие-то нелепые встречи: с полубезумным видом несся куда-то доцент Эльснер, в расстегнутом пальто, макаронные ножки заплетались от быстроты; затем встретился нелепо веселый Тейн — с чего бы, кажется, радоваться. Дальше пошло еще хуже: с крыльца деканата, как с цоколя, соскочила величественная муза — Тамара Леонидовна и помчалась по следам Эльснера, топая каблуками. Увидя Сильвию, она замедлила бег, пошла плавно, но пальто у нее было застегнуто наперекос, а шляпу она держала в руках...
В коридоре, по лестнице, ведущей в ректорат, пробежал декан Онти. Это неудивительно, он всегда бегает, но в цепи явлений и он показался предзнаменованием...
На кафедре было чадно: Давид Маркович прокурил все насквозь и сейчас зажигал зажженную уже папиросу. Нина Васильевна лежала на диване, бледная, с размазанной вокруг губ помадой. Муся сидела у телефона и кричала кому-то: алло, алло!
— Что же случилось? — спросила Сильвия, подходя к дивану.
— Меня принудили уйти.
Давид Маркович нетерпеливо дернул плечом. Муся швырнула трубку.
— Рассказывайте толком, — сказала Сильвия, садясь в ногах у Нины Васильевны.
— Разве это поможет? — слабо откликнулась та, слизывая остатки помады. — Никто и ничто мне не поможет... Она потребовала меня в деканат и говорит мне: «Лучше будет, если вы подадите заявление об уходе по собственному желанию. Почему бы вам, дорогая, не испробовать свои силы в средней школе?..» Я и подала, потому что иначе она выставила бы меня с плохой характеристикой. Тут и статья, и моя поездка в Таллин... Я подумала и согласилась.
— Она подумала! — Давид Маркович воздел руки. — Она подумала!.. А теперь что прикажете с вами делать? По собственному желанию? Пожалуйста, отчего же не пойти навстречу вашему желанию!
— Мне ничего другого не оставалось. Я хотела отложить на завтра, а она дала мне бумагу и говорит: «Пишите сейчас, потом поздно будет: у меня целый блокнот ваших промахов и нарушений дисциплины».
Муся потрясла головой:
— Гипноз!
Давид Маркович, пыхнув дымом в ее сторону, сказал:
— Пупок цаплин от всякого гипнозу пособляет! Почему она меня не гипнотизирует?
— Это наивный вопрос, — вздохнула Нина Васильевна, — я не такой волевой человек, и я беспартийная.
Муся тоже вздохнула:
— Одинокую женщину всегда легко обидеть, и обижают.
Давид Маркович рассердился:
— Если одинокая женщина чирикает, как жареная утка, то, конечно, обижают!
— Утка крякает, — поправила его Муся.
Нина Васильевна, видимо задетая, села и начала расчесывать сбившиеся волосы.
— Ну и ну, — заметила Муся. — Что, она вас за волосы таскала?
— Вы меня извините, Нина Васильевна, но, право, я не ждал от вас такого малодушия. Разве я вам не говорил, что Касимова доживает у нас последние дни?
Вошел Гатеев. Рассказали и ему. У него потемнело лицо, и, как всегда в гневе, стал прерываться голос:
— Это мы с вами, Давид Маркович, должны немедленно подать заявление об уходе. Если при нас могут происходить такие вещи, то мы... то мы на кафедре лишние... Угрозы? Запугивание? Я сейчас же потребую объяснений в деканате!
— Не хочу я никаких объяснений, — капризно сказала Нина Васильевна, — я же буду выглядеть дурочкой, она мне револьвером не угрожала.
Давид Маркович явно хотел сказать что-то свирепое, но сдержался, только крепко почесал голову обеими руками.
— В деканате сейчас никого нет, кроме секретаря, — буркнул он, не глядя на Гатеева. — Надо подождать.
— А где наш великолепнейший Астаров? — спросил Гатеев. — Какую роль он выполняет в этой трагикомедии? Танцует на пуантах?
Пришел Саарман, неся громадный портфель, набитый учеными трудами. Ни на кого не обращая внимания, сел к столу, погрузился в портфель по шею, разыскивая нужное, а потом начал писать.
Явилась и Эльвира Петровна, в чудесном настроении, как всегда, когда пахло злодейством. Села за машинку.
Белецкий и Гатеев стали разговаривать вполголоса, кажется, решали, кому идти в деканат.
Эльвира Петровна сказала в нос:
— А в деканате есть новости.
Ей не ответили. Выждав, она продолжала с наслаждением:
— Насчет Тамары Леонидовны.
Машинка под ее пальцами захихикала с перебоями и подвизгиванием. Старый Саарман отвлекся от праязыка, посмотрел вопросительно.
— Замуж выходит! — сказала ему Эльвира Петровна.
Нина Васильевна ахнула:
— За кого?
— Говорят, за грузина из Тбилиси!
Давид Маркович сердито пробормотал:
— Никто, кроме нас, не знает, кто ваш возлюбленный, а мы знаем вашу тайну, ваш возлюбленный — сапожный крем фирмы Антон и компания.
Этим он вызвал неудержимый смех старого Саармана, который тут же пустился рассказывать об американской рекламе. Но его никто не слушал, и он умолк.
— Нина Васильевна, — сказал Давид Маркович, — пожалуйста, подождите, пока я вернусь из деканата. И, пожалуйста, не пишите пока никаких заявлений.
Он пошел было к вешалке, но в это время зазвонил телефон.
— Да, да, слышу! — схватив трубку, прокричала Эльвира Петровна. — Белецкого? Сейчас, сейчас, он здесь!.. — Давид Маркович протянул руку, но она бросила трубку и, адски улыбаясь, сказала: — Не идите в деканат, идите в ректорат! Вас зовет ректор!
— Тем лучше, — жестко отозвался Белецкий, хлопнул дверью.
Нина Васильевна уже повеселела, окрыленная надеждами, но тут появился Астаров, мрачный как ночь, и сразу обратился к Мусе:
— Мария Андреевна, обдумайте, какие лекции Нины Васильевны вы можете взять на себя. Год все равно кончается, вы с Саарманом (Саарман поднял голову) разделите между собой это небольшое количество лекций, а к осени я подыщу преподавателя...
— Подыскивайте! — возмущенно перебила его Муся. — Я в этом деле участвовать не буду.
Саарман в задумчивости посмотрел на дверь.
Несколько смутившись, Аркадий Викторович повернулся к Гатееву:
— В таком случае, Алексей Павлович, я могу рассчитывать на вас?
— А почему вы можете рассчитывать на меня в таком деле, от которого отказалась Мария Андреевна?
Астаров с размаху бросил на стол портфель, бумажки полетели на пол, Эльвира Петровна мгновенно подобрала их. Все молчали; Саарман в недоумении шевелил бровями.
— Будьте любезны, товарищи, объяснить мне как заведующему, что это за бойкот! По-вашему, я виноват в том, что Нина Васильевна уходит по собственному желанию?
— Нет, нет, вы не виноваты... — проговорила Нина Васильевна, опустив глаза и разглядывая свои стройные ноги в дымчатых чулках.
— Так что же здесь происходит?
— Что происходит? Мы перестали показывать кукиш в кармане, — ответил Гатеев.
— Будьте добры выражаться яснее! — начальственно потребовал Астаров.
— Я выразился достаточно ясно.
— Однако я не несу ответственности за неприятную — согласен, неприятную — ситуацию с Ниной Васильевной. И прошу вас это учесть, товарищ Гатеев!
— А вы кто? Руководитель кафедры или потустороннее видение?
Саарман с шумом отодвинул стул.
— О чем идет речь? — спросил он. — Я желал бы вникнуть в суть дела.
— Суть в том, — сказал Гатеев, — что за спиной у нас ведутся интриги, мелкие и недостойные интриги. Участвует ли в них заведующий кафедрой или не участвует, нам неизвестно. Известно лишь, что он устраняется от ответственности...
Астаров побагровел.
— Вы метите на мое место, товарищ Гатеев? Тогда говорите прямо!
— Нет, ваше место меня не прельщает, — презрительно ответил Гатеев.
Но Астаров до странности быстро овладел собой и вернулся в свое обычное ватно-мягкое состояние, будто и удара не почувствовав сквозь эту вату.
— Меня, кажется, не поняли, — замямлил он, потирая руки, — я вовсе не имел в виду должность заведующего, я имел в виду руководство в идеологическом отношении. Если меня считают... если меня подозревают в чем-то, то я вынужден предложить это руководство хотя бы вам, Алексей Павлович. Кроме того, я хотел заметить, что стою выше всяких склок, да, выше, и надо стоять выше...
После третьего «выше» Саарман забеспокоился.
— Насколько мне известно, склоки в коллективе понижают жизненный тонус, — проговорил он, — а также трудоспособность. И в общем получается ниже, а не выше — простите неудачный каламбур...
Астаров повел на него глазами, и по этому взгляду Сильвия поняла, что он ненавидит сейчас этот коллектив и стыдится его.
Вернулся Давид Маркович. Вид у него был одновременно замученный и торжествующий — словом, вид победителя, которому сильно досталось от побежденных. На вопросы, посыпавшиеся на него, он только кивал головой и приговаривал:
— Сейчас, сейчас, все откроется и без меня...
Астаров демонстративно занялся чтением газеты, Нина Васильевна нанесла свежий слой губной помады, Эльвира Петровна чуть не расшибла машинку, предвкушая разворот событий, — короче говоря, все подготовились.
Но никакая подготовка не могла ослабить эффект появления декана Онти. Вихрь влетел вместе с ним на кафедру.
За одну минуту декан Онти успел с каждым поздороваться за руку и — Сильвия была в этом уверена — уяснить себе душевный уклад каждого из присутствующих, вплоть до ватного состояния заведующего. Каждый услышал от него несколько слов, бьющих в самый центр души.
Сильвии от него достались вопросы:
— Как диссертация? Почти готова? Не закончена? Когда? Осенью?
И восклицания:
— Автореферат! Две статьи! Рецензенты! Оппоненты! Защита!
Покончив со светским обхождением, декан Онти сел на стульчик с гнутыми ножками и с быстротой фокусника вытащил не то из кармана, не то из рукава сложенный вчетверо листок бумаги.
— Товарищ Эльснер, Нина Васильевна, у меня к вам особое дело! — Нина Васильевна выпрямилась, а декан продолжал, не отдыхая на запятых: — Здесь ваше заявление относительно вашего ухода с работы. В виду того, что обстановка несколько изменилась, а она изменилась за период времени с девяти до полудня, не желаете ли вы взять ваше заявление обратно?
Оторопелый взгляд Нины Васильевны, конечно, его раздосадовал — отчего, дескать, она недоумевает? И декан тотчас же обратился к Астарову с немым вопросом, на который тот ответил:
— У меня нет никаких официальных сведений.
Декан Онти всплеснул руками в отчаянии от того, что официальный аппарат работает столь медленно, и проговорил:
— Начиная с полудня, наш продекан уже не числится продеканом нашего факультета. Так как я осведомлен... — Блицвзгляд в сторону Давида Марковича. — Я и ректор осведомлены, что вы, товарищ Нина Эльснер, по существу не имеете желания уходить с работы, так вот, пожалуйста! — Лист бумаги перелетел на диван к Нине Васильевне. — Если же вы настаиваете на своем желании уйти, то мы препятствий чинить не будем!.. — Декан Онти вытянул руку, готовый принять лист и отдать его в регистратуру.
— Нет, нет, — залепетала Нина Васильевна, прижимая лист к груди. — Я не хочу уходить с работы...
Декан Онти поднялся, как на пружинах. Астаров, однако, успел у него спросить:
— По каким же причинам уходит продекан Касимова?
Декан прищурил острые глазки и задумался — на мгновение, но все же задумался — и ответил:
— Ректор обладает властью снимать конфликты. Он снял конфликт.
С этими словами декан Онти сделал общий полупоклон и исчез.
34
Этот памятный день в истории двадцать третьей комнаты начался просто и малообещающе. Фаина читала, Кая, вытирая пыль, перекладывала свои вещи и вещицы, а Ксения с самого утра разрабатывала вслух теорию своего творчества.
— Слушайте, подруги! Если я пишу, то надеюсь, что будет и читатель. А о читателе говорилось в печати не раз, и не два, и не три, и не четыре, и не пять...
— Ксения!..
— И не шесть... Теперь у меня составилось и свое мнение. Во-первых: читатель всегда чувствует, что он умнее самого умного героя! Затем: читатель никогда не принимает на свой счет отрицательного героя! Представляете, чтобы кто-то сказал: ах, это я и есть Чичиков! Или Ноздрев, или Тартюф, или Иудушка? Самый настоящий Тартюф все равно уверен, что он перл создания. Или Казанова... Кстати! Я отказываюсь писать о любви. Неразумно, можешь сразу налететь. Герой поцелует героиню — скажут: пошлость, зачем вы тянете меня в омут скабрезности!
— Кто это скажет?.. — рассеянно возразила Фаина, продолжая читать.
— Кто-нибудь да скажет. Зачем рисковать?.. Любовь — это добавка, притом необязательная.
— Ну, ты отстаешь. Смотри-ка: Аксенов, Вознесенский...
— Нет, нет, у меня здоровье не такое, я не выдержу. Буду ориентироваться на геронтов: любовь надо добавлять в героя строго дозированно. Так, чтобы при химическом анализе могли обнаружить не более милиграмма на каждые десять кило туловища. А еще лучше — следы! В остывшем картофельном супе находят лишь следы аскорбиновой кислоты. А вот в квашеной капусте... Фаина! Ты меня не слушаешь?
— Я что-то потеряла нить...
— Я тоже. Обратимся к практике… У нас на курсе! Юра Поспелов — тот захочет эмоций чистых, определенных, без всякого там туманца и экивоков. Показывай овец и козлищ, и чтоб было ясно, кого уважать, а кого презирать. Пррре-зирать!.. Роланд Бах — тому подай на каждой странице Сэлинджера, Камю, Фриша, Силлитоу, чтоб было умственно!..
— Зачем ты притворяешься, Ксения... — вдруг вымолвила Кая. — Ты только притворяешься такой...
— Такой «киничной»? — Ксения вздохнула. — Ты глубоко права, Кая. На дне души у меня лежит увядшая фиалка. Но куда мне с ней приткнуться, скажи ты мне!..
— Неправда, она живая. Ты любишь сухие слова... Это скучно.
Ксения и Фаина взглянули на Каю. Она, опустив голову, пересыпала из руки в руку свою коллекцию пестрых камешков. Все замолкли, и будто прохладная, свежая струя прошла по комнате, смывая и скуку, и сухие слова. Потом Кая подняла глаза, хотела заговорить, но —
Но явилась Ира Селецкая.
— А видишь, Кострова, диктанта перед государственными не будет! — застрекотала она уже на пороге. — Напрасно только время тратили с этой Сильвией Александровной. Сознайся теперь — она ведь слабый работник... А кстати, вы слышали, девочки, что про нее рассказывают?
— Что? — небрежно уронила Ксения.
— Про нее и про Гатеева?... — хихикнула Ира.
— И пусть себе рассказывают, экая беда... — еще равнодушнее отозвалась Ксения.
— Что она нашла в таком Гатееве, непонятно, — насмешливо удивлялась Ира. — Худой, страшный, глаза рассеянные!
— Тебе, конечно, непонятно, — сказала Ксения, — тебе нравятся смазливые. Которые на рынке мочалками торгуют.
Ира засмеялась, словно ее пощекотали, — пожалуй, и в самом деле пленил ее кто-то с усиками и черносливным взором.
Фаина смотрела на нее брезгливо и неприязненно: не видит эта Ира ни Гатеева, ни Сильвии Александровны. Говорят, что кошки видят только серые тени...
— А ну их всех! Лишь бы экзамены сдать да отделаться! — воскликнула Ира. — Надоели хуже горькой редьки!
— Добрым словом никого не помянешь? — хмуро спросила Фаина.
— Это уж ты поминай! Ты себе меду добудешь и с малины и с редьки. А я? Белецкого, что ли, благодарить, который над нами издевался?
— Да, благодарить. И никогда он не издевался, не клевещи!
— Как же не издевался? Вот и теперь зимой я ему все дочиста по билету ответила, а он мне говорит: «С какою тайною отрадой тебе всегда внимаю я!..» Отдал зачетку и велел прийти на следующей неделе... Не издевательство разве? А как он всех терзал, когда «Слово о полку Игореве» переводили! Зачем это? Там и ученые о темных местах спорят... А Юрке Поспелову при всем честном народе отляпал: неужели, говорит, нельзя ненавидеть мещанство, причесавшись и застегнув пуговицу на брюках?
Кая засмеялась.
— Так это же истинная правда!.. — проговорила она, пряча коробку с камешками в чемодан.
— Так надо же быть тактичным и выбирать время для своей правды!.. Вот и поминай их добрым словом. Нину Васильевну, что ли? Как начнет петь про красоту аффиксов, всю душу, бывало, вымотает. Ну, Астаров — тот еще туда-сюда, он хоть не мелочный, не цепляется за каждое слово, как Гатеев на экзаменах... Хи-хи... Как бы у Гатеевых свадьба после крестин не вышла! Интересно, какой у них ребеночек будет...
— О ребеночке всегда трудно сказать, какой он будет, — серьезно заметила Ксения. — Разве твоя мама могла подумать, что из ее дочки получится сплетница?
Ира разобиделась и ушла.
— Зачем ты ее выгнала? — поморщилась Кая.
— Сожалею, что раньше не выгоняла. Присосется, как пиявка, и висит над ухом... — сказала Ксения. — Все это сплетни. Если бы правда, то кто бы им мешал жить вместе? Оба свободны.
— Может быть, сами себе мешают, — проговорила Кая. И покраснела до слез.
Сплетни, сплетни, думала Фаина, настойчиво отгоняя тревогу. Сплетни, сплетни... Если бы он любил Сильвию Александровну, не могла бы возникнуть никакая близость ни с кем другим, даже самая легкая, самая неясная...
А Кая сегодня опять прелестна... Вон сидит, как свечка. Все убрала, переложила. Ага, спрятала и картинку с розгами, это хорошо. Сидит в новом платье, в том, что привезла от мамы, — тихая, правда же, как восковая свеча.
Но все это уже повторялось, она уже не раз делалась кроткой, милой, прежней... Ну, посмотрим на нее еще раз, пристальнее. Тихая? Нет, не очень, она почему-то волнуется. Чего-то ждет?
Эта минутка вспоминалась Фаине после, когда все уже было позади. Вспоминалось, что и сама она чего-то ждала, глядя на Каю и волнуясь. Возможно, впрочем, что все это — и волнение, и ожидание — она примыслила потом.
Но у Каи-то было и волнение, и ожидание — и минутка, какая бывает раз в жизни. Короче говоря, тогда все и произошло: дверь открылась и появился Тейн.
Церемонно пожал всем руку, а затем спросил:
— Все в порядке, Кая?
Кая кивнула, вытянула из-под кровати чемодан, надела пальто и, подойдя к Фаине, поцеловала ее теплыми детскими губами. Потом пошла целовать Ксению.
— Куда ты? — вымолвила Фаина, уже догадываясь, уже зная.
Ксения тоже смотрела, улыбаясь лукаво. Однако дальнейшее было вполне в духе Тейна. Низко поклонившись Фаине, он сказал:
— Видишь, мудрая женщина, я поступаю по твоему совету. Я говорил тебе: получу первую зарплату и уведу Каю в свой вигвам. Правда, я обещал прийти с букетом, но как-то не получилось. — Он повернулся к Ксении. — Обеим вам, заботливые женщины, сообщаю, чтобы вы не беспокоились: все оформлено по закону — уже вчера. Но без фокусов: Кая не захотела ездить три раза вокруг фонтана перед ратушей. Я тоже нахожу, что это безвкусица. — Поклонившись еще раз, он взял чемодан Каи и добавил: — За остальными вещами мы придем завтра… Не рыдайте, добрые женщины, все к лучшему!
Добрые женщины не рыдали, но Кая разливалась в три ручья, снова целуя подруг. Затем Тейн пропустил ее вперед, и оба скрылись.
35
Снятый ректором конфликт долго обсуждался на все лады и на кафедре и за ее пределами. Чего только не говорили! Говорили, Касимова вовсе не доцент, раскрылась подделка документов, — ведь помните, был такой случай у экономистов! Да, да, и в строительном техникуме! Говорили, что студенты подали жалобу министру — Касимова на семинаре рассказывала неприличные анекдоты, — помните аналогичный случай в Конотопе? Говорили, что ревизор из Москвы слушал лекцию по эстетике, и потом его едва откачали. Носились туманные слухи о статье Асса, об анонимных письмах, о клевете, и даже о шпионстве, и даже о том, что Эльснер убил какого-то грузина...
— Почему же не сообщить всем, что именно произошло с Касимовой? — выговаривала Муся Белецкому. — Что это за тайны? И куда она ушла?
Давид Маркович отмахивался:
— Ушла в рогорогие кустарники, вереща пяткой!
— Ну что вы опять говорите, Давид Маркович!
— Это не я, это в свое время сказал Андрей Белый.
Но Муся даже не улыбнулась.
— А мне обидно, что с нами не считаются. Мы тоже боролись.
— Это да! Мне самому обидно. Почему не было фанфар? Какой бяка этот ректор! Взял да уволил ее простенько, а нас, храбрецов и силачей, оставил без лавров!..
— Я у декана сама спросила, — продолжала Муся, не слушая. — Так это же Онти! Закрутил, повернул, вывернул и спрашивает, где моя диссертация. А где она? Только растревожил меня. Когда ее писать, если у меня сотня заочников. Диссертация! Хорошо ему требовать, а у меня еще минимум не сдан...
— Мария Андреевна! А что же скажет слабый дух, если узнает, что за фохатом находится парафохат, а далее панфохат?
— И не надоест вам, Давид Маркович!..
— Это не может надоесть, Мусенька. Это мудрость йогов — иожья мудрость, понимаете?
— Конечно, я вас понимаю, Белецкий. Вы все развеселились, когда добродетель восторжествовала, а порок ушел в эти ваши кустарники... Но я сейчас о заочниках. Юристы! Это они у меня изучают русский язык. Сообразите, что это значит на заочном! Рассядутся за партами прокуроры, начальники тюрем, милиционеры — множество милиционеров, ну жуть!
— Да вам-то чего бояться, Мария Андреевна, — откликнулся старый Саарман, — вы же не уголовник.
— Все равно тут есть что-то уголовное. Домашние работы они представляют без единой ошибочки, а в аудитории пишут такое, что больше двойки никак не поставишь. Вы пробовали когда-нибудь поставить двойку прокурору? Нет? То-то же... Жуткое состояние у обоих! — при этом глаза у Муси сделались совсем круглыми.
— Это что! — сказал Саарман, посмеиваясь. — Мне для заочников в анатомикуме аудиторию отвели. Вчера прихожу со своими филологами, а дверь закрыта, — говорят, идите с другой стороны. Иду, а навстречу опечаленные родственники с гробом, иду в помещение, а там справа — под простыней и слева — под простыней...
— Вы же взрослый человек, — резонно заметила Муся. — Это не страшно.
— Я и не устрашился, а вот заочники народ нервный — по дороге половину растерял. А вторая половина потеряла способность воспринимать информацию в аудитории. Аудитория — она же кабинет судебной медицины, кругом, знаете ли, утробные младенцы в банках, и холод собачий, чтобы они не портились, видимо. Заглянул за печку, а там...
— Ну, пожалуй, лучше не рассказывайте, — решила Муся. — Вам тоже не сладко...
Во время всего этого разговора Сильвия смеялась, глядя, как смеется Алексей Павлович — совсем так, как когда-то в Ранна, безмятежно, весело.
Но когда вышли они вдвоем на улицу, пропал не только смех, пропала безмятежность.
— Голова опять болит, — сказал он.
— Надо идти домой и лечь.
— Нет, на воздухе скорее пройдет.
Некоторое время шли молча. Солнце проглядывало и снова скрывалось. Высоко в небе орали галки, сердясь, что ли, на скуповатое солнце.
— Скуповатое... сердце, — вполголоса сказала Сильвия, переходя через улицу.
— Что?.. — переспросил он, догоняя ее и беря под руку.
— Да так, весна уже, а солнца мало...
У поворота он пообещал:
— Я приду вечером.
Купив колбасы, килек, масла, Сильвия пришла домой в приподнятом настроении. Никто его не заставлял сказать — приду... Надо ему полечиться от головных болей. Весенняя усталость? Сварить витаминный чай?..
Радостное ожидание не помешало Сильвии сесть за работу — радостное ожидание работать не мешает. Жизнь прекрасна, хотя и нужно писать отчет за прошлый месяц. Еще включить радио — будет тихая музыка... Алексей Павлович, правда, однажды сказал, что тот, кто, работая, слушает музыку — не любит ни работы, ни музыки. Ну, тут что-то... Не обязательно любить отчет за прошлый месяц.
У него сейчас болит голова. Путаются ли у него мысли? О чем он сейчас думает? Мог бы он в любую минуту ответить ей на этот наивнейший из вопросов. Она-то может. Но он никогда не спрашивает, это вопрос, который задают женщины, причем глупые женщины.
Отчет был почти готов, когда явилась вдруг Вика. Сильвия заставила ее снять пальто, хотя девочка спешила — ей нужно только немножко поговорить.
Сидя в кресле, где она любила сидеть, когда жила у Сильвии, Вика повторила:
— Мне надо немножко вам что-то сказать, тетя Сильвия.
— Ну, говори немножко.
— У нас дома не очень хорошо.
— Что же? — обеспокоенно спросила Сильвия.
— Во-первых, у нас Эльснер — он папа нашего Олимпия. Он покаялся.
— Господи! В чем покаялся?
— Мама говорит, он выпил водки и покаялся, что написал статью, и хочет опять жить у нас. Как вы думаете, тетя Сильвия, это нормально?
Сильвия только вздохнула, ожидая продолжения.
— Мама говорит, что это нормально. Она говорит, что только человек с большой буквы может покаяться от всей души... Тетя Сильвия!.. — Голосок стал умоляющим. — Я хотела попросить, чтобы вы пришли к нам и сами посмотрели, нормально или нет. Мама иногда ошибается, она потом так и говорит, что ошиблась...
Сильвия почесала бровь. Вика смотрела серьезно, выжидательно.
— А удобно будет, если я к вам пойду?
— Очень удобно. Вы пойдете сейчас вместе со мной, а там уже как-нибудь... Папа Олимпия, наверно, спит, и с мамой можно очень хорошо поговорить, пока он не проснулся.
Сильвия оделась, и они с Викой вышли. Сели в автобус.
— Тетя Сильвия, по-моему, пока что Олимпию ничего не надо рассказывать, — сказала девочка, когда уже подъезжали к дому. Сильвия на это опять только вздохнула молча.
Нина Васильевна, увидев их, чуточку удивилась, но тотчас же заговорила приветливо:
— Вот и вы собрались ко мне, милая Сильвия Александровна! Извините, у меня не прибрано... А знаете, на кафедре как-то не замечаешь — вы очень похудели, и под глазами синее. Вы обязательно проверьте почки.
Сильвия пообещала проверить почки. Вика, освободив стул от наваленных на него блузок, чулок и полотенец, пригласила тетю Сильвию сесть.
— А где же Олимпий? — спросила Сильвия.
— Ушел. Вероятно, к Шмидтам, — небрежно ответила Нина Васильевна, садясь против Сильвии. — Ну, как поживаете?
— Н-ничего... — смущенно вымолвила Сильвия. Труднее всего было освоиться с полноправным присутствием Вики.
Нина Васильевна, понятно, и глазом не моргнула:
— А у меня вот новости... Вика, ты уже рассказала?
— Да, немножко рассказала, — отозвалась Вика.
Здесь Сильвия, прислушавшись, различила неясные звуки, доносившиеся из соседней комнаты. У кого-то отрыжка — вероятно, у человека с большой буквы.
— Я стою перед дилеммой, — сказала Нина Васильевна, вертя в руках какую-то бумажку. — Он раскаялся. Но верить ему нельзя. — Она бросила бумажку на стол.
— Я же тебе говорила, что нельзя, — сейчас же вставила Вика.
Нина Васильевна досадливо махнула рукой:
— Не вмешивайся, ты не можешь судить об этом.
— Очень даже могу, — спокойно возразила Вика.
В это время из-за двери послышался легкий стон раскаявшегося, и Нина Васильевна поспешила туда, оставив гостью.
Сильвия чувствовала себя неловко. Что ей тут делать?.. Она машинально взяла бумажку, брошенную Ниной Васильевной, задумалась.
Вика села на стул матери и принялась развлекать Сильвию:
— Как ваше здоровье, тетя Сильвия?
— Хорошо. А ты почему редко ко мне приходишь? — спросила Сильвия, рассеянно читая какие-то слова на смятой бумажке.
— Когда же мне ходить? Времени у меня в обрез, — рассудительно сказала Вика.
— Чем же ты так занята?.. — Сильвия, зевнув, прочла: «Милая...»
— Во-первых, школа, во-вторых, Олимпий... — перечисляла по пальцам Вика. — В-третьих...
В это мгновение слова на бумажке вдруг ярко очертились: «Милая Нина Васильевна, благодарю вас, но я лишен возможности принять приглашение. Буквально все вечера заняты. А. Г.» Прочитав это, Сильвия ошеломленно мигнула и, тут же придя в себя, положила записку на стол... Когда же это Нина Васильевна приглашала Алексея?.. Отказался!
Нина Васильевна вернулась. Вика, отсев в сторонку, уже что-то лепила, но вид у нее был озабоченный, и она настороженно прислушивалась к разговору.
— Так что же вы мне посоветуете, Сильвия? — грустно спросила Нина Васильевна. — Он раскаялся, и это меня убивает. Ведь он опять может уйти... Я ему говорю, что он явился ко мне из-за скандала с Касимовой, — ведь всякий дурак поймет это. А он отвечает, что у него функция любви строго отделяется от общественных функций и... и стонет. Мне следовало бы собраться с духом и прогнать его. Как вы думаете?
Сильвия взглянула на Вику — было совершенно понятно, какого ответа она ждет от тети Сильвии, и ответ был дан:
— Трудно мне думать за вас, Нина Васильевна, но я бы прогнала немедленно.
Вика весело закивала, и Сильвия поднялась, с облегчением чувствуя, что ее миссия подходит к концу.
— Подождите немножечко, тетя Сильвия! Я что-то для вас вылепила!..
— Неудача за неудачей, — говорила между тем хозяйка. — А сердце еще не угомонилось, нельзя же в мои годы отказаться от всех надежд и жить одной наукой. Правда, иногда я мечтаю — вот я академик, вхожу в зал, где идет конференция, и все взоры оборачиваются ко мне. На мне скромное платье с одной только бриллиантовой стрелкой у шеи...
— Идите сюда, тетя Сильвия!
Как и можно было ожидать, пластилиновые фигурки дышали злободневностью: кругленький Олимпий в зеленых штанах замахивался палкой — увы! — на собственного отца (макаронные ножки Эльснера не оставляли никаких сомнений).
Сильвия оделась, ей отворили двери, и тут же за дверью оказался Олимпий — кругленький, в зеленых штанах.
— Где ты шатаешься? — закричала Вика, втащив его в прихожую. — Куда ты ходил?
— К Шмидтам, — нехотя ответил Олимпий.
— Что ты там делал? — строго допрашивала сестра, расстегивая ему тугой воротник курточки.
— Ужинал, — так же нехотя буркнул Олимпий.
— Как будто дома нет ужина! У нас есть булка и сгущенное молоко, я уже провертела в жестянке дырочку, можешь сосать...
Вика повела мальчика в комнату, а Нина Васильевна, приветливо улыбаясь, попрощалась с Сильвией.
Дома в передней висело синевато-серое пальто — пришел! В комнате кипел чайник; Алексей Павлович с хозяйственным видом осматривал накрытый стол: кильки, колбаса, хлеб — все было расставлено, и голубые чашки вынуты из серванта. Посередине в вазочке ярко горели желтые нарциссы... Но никакие цветы не могли бы так обрадовать Сильвию, как этот накрытый стол и узорчатые чашки, вынутые из серванта им самим, Алексеем.
36
«...Искусство живет в прошлом и в будущем, от вчера переходит к завтра; это мы, живущие с ним, хотим удержать его в настоящем, прикрепить к нашему дню. Такое желание естественно. Однако труднее всего говорить о том, что всего ближе нас касается, что срослось с нашим существом и образует стержень нашей судьбы и средоточие нашей личности...»
Прочитав это вслух, Ксения закашлялась от своего же дыма.
— Откуда? — спросила Фаина.
— Вот выписала и не отметила, теперь не помню...
Ксения еще полистала тетрадь со своими заметками, потом задумалась. Дым становился все гуще.
Через некоторое время раздался вопрос:
— Фаина! Как я должна трактовать твой внешний вид? Платье на тебе праздничное, с воланчиком, голова вся в кудрях химического характера, а на ресницах спит печаль. Почему?
— Ерунда, никакой печали.
— Ты погрузилась в размышления о стержне своей судьбы и средоточии своей личности?
— Да-да.
Отмахнуться от шутливого вопроса легко, но что-то кольнуло. Что?.. Весь мир вокруг живет, дышит, волнуется — и пришло время участвовать, пришло время действовать. Еще несколько дней ожидания, еще несколько дней меня ведут, мной управляют. Из аудитории в аудиторию, в библиотеку, на кафедру, в актовый зал...
Средоточие личности? При всех обстоятельствах останусь Фаиной Костровой, никогда не откажусь от своей работы, пройду через все сомнения и неудачи, даже если...
— Ксения, мне никто не звонил, когда меня дома не было?
— Никто. А должны были позвонить?
— Да... с кафедры.
— Насчет дипломной?
— Да! — вызывающе ответила Фаина, вдруг пожелав утвердить что-то, не имеющее веса. — Да. Гатеев должен позвонить.
— Мгм...
Томительное молчание. Ну, к чему она выболтала Ксении, что ждет звонка, — теперь ждать будет еще труднее. Теперь Ксения мешает ждать. Радио мешает ждать, песенка Ива Монтана мешает ждать, дым мешает ждать — полным-полно дыму в комнате...
Ксения взялась за работу — сейчас станет немножко вольнее... Фаина открыла окно, столбы дыма закачались и потянулись вон.
— Ксения! Радио выключить?
— Пжалста... Знаешь, Фаинка, до чего писатели дошли? Правда, пока не у нас, но, пожалуй, и наши подхватят. Представь себе: автор прилагает к своему же роману «диспозицию» и там объясняет, в какой последовательности идут события в его спутанном и перепутанном произведении! А? Что же это — он нарочно путал эпизоды? Сидел и придумывал, как бы намутить помутнее? А потом был вынужден сам себя пояснять... Нарочитость, рассудочность — это наверняка. По-моему, и фальшь какая-то!..
— Писатели многое делают нарочно. Даже если берут тон бесхитростного рассказчика... А кстати говоря, ты сама разве не стараешься путать?
Ксения вспыхнула.
— Только шутя! — воскликнула она. — Только из озорства!.. Да и какой я писатель, этим словом швыряться не надо!
Опять тихо. Можно бы пойти прогуляться, бывают нечаянные встречи. Есть даже улица, где на углу прибита невидимая табличка: «Улица Нечаянных Встреч». По одной стороне растут березы; дома маленькие, с садами. Заборы, калитки, щербатый тротуар... Идет
Алексей Павлович. Он говорит ей: «Фаина, теперь исчезло все, что мешало мне открыться...»
Дудки, совсем не то он говорит. Он говорит: «В вашей дипломной мало чувствуется дыхание современности. Где же новое в быту?..» Вот это другое дело, такая мечта может сбыться.
Ужинали. Есть не хочется, а надо глотать. Ксения пустилась в разговоры, надо отвечать. Вечер. Алексей Павлович уже не на кафедре, а дома, и не помнит уже о какой-то дипломантке, которой он обещал позвонить...
Читать не хочется. Опять разложить по столу черновики?.. Вот такую частушку можно добавить, если он хочет. Это не подделка...
Вертолет сидит на кочке,
Гуси удивляются,
Мой миленок, что теленок,
В сторону бросается!
Беда! Без миленка ни шагу, девушки сочиняют... Но правда истинная: бывало, Емельяниха опрометью бежит телку отогнать, чтоб не зашибло грехом.
Карандашные пометки Алексея Павловича на полях — здесь и здесь. И еще одна драгоценность, не имеющая веса, — старинная заставка, нарисованная пером. Нарисовал в рассеянности над веселой частушкой:
Слава богу, понемногу
Стал я разживаться:
Продал дом, купил ворота,
Буду запираться...
Половина одиннадцатого. Конечно, больше ждать нечего, можно ложиться спать... Господи, еще и Ксения поглядывает сочувственно!
Ксения вынула из тумбочки новую пачку папирос, взяла спички и вышла. Фаина, полураздетая, села на край кровати, радуясь хоть недолгому одиночеству. Но Ксения вернулась минут через десять, с недокуренной папиросой и с улыбкой, предвещающей критико-литературный разговор. Пошевелив свои рукописи, она прочла вслух:
«Изголодавшийся фон Зоммер, который только что прибыл из-за границы, где он проводил время в приключениях, катил в направлении имения, брюхо набитое едой бобыля, в то время как маленькая Луиза рыдала и ходила с головой набок».
На сонную Фаину напал вдруг смех.
— Ну что это такое, Ксения! Это же невозможно... — хохотала она, залезая под одеяло. — Прочитай-ка еще раз!..
— Это художественный перевод, — сказала Ксения. — Я когда-то сделала выписку, пораженная красотой стиля. Подумай только: «Изголодавшийся фон Зоммер...»
Фаина внезапно перестала смеяться, прислушалась. За дверью кто-то шагал, лениво приближаясь.
— Комендант, — задумчиво проговорила Ксения.
В двери, приоткрывшейся без стука, действительно показалось недовольное лицо коменданта.
— Кострову к телефону, — прохрипел он.
Торопясь, путаясь в рукавах, Фаина накинула пальто и побежала вниз, перепрыгивая через две ступеньки.
Взяла трубку.
— Это вы, Фаина?
Она ответила, неслышно переведя дыхание:
— Да, Алексей Павлович.
— Это вы мне звонили?
— Нет! — быстро, удивленно сказала Фаина.
— Гм... Мне показалось, будто ваш голос. Я собирался позвонить завтра, но если уж так случилось... Вы слышите меня, Фаина?
— Слышу...
Приковылял комендант. Какой симпатичный, хоть и рыжие усы и красный нос...
— Вашу работу я отдал перепечатать. У вас почерк четкий, но так рецензенту будет еще удобнее читать...
Комендант сел к столу, локоть положил вплотную к телефону.
— Я слушаю, Алексей Павлович. Большое спасибо...
— Вот что, Фаина... Я хотел бы с вами поговорить... Не о работе...
Фаина замерла в ожидании, но голос Гатеева странно переломился, замолк, и она услышала только конец фразы:
— ...приходится отложить. Но рано или поздно мы все-таки поговорим. Спокойной ночи, Фаина...
— Спокойной ночи...
Фаина вернулась в комнату, сознавая только одно: никогда в жизни она не была такой счастливой...
Ксения раздевалась. Глаза у нее блеснули, как у кошки, и вид был смиренный — тоже, как у кошки.
— Ты звонила Гатееву? — спросила Фаина.
— Звонила, звонила, звонила...
— Скажи: что ты ему наплела?
— Не все ли равно, не все ли равно...
— Я тебя очень прошу, — сказала Фаина. — Скажи точно, что ты ему говорила!
— Я позвонила. Он сразу откликнулся — значит, сидел у телефона. Я спросила тоненьким голоском: «Это вы, Алексей Павлович?» А потом замолчала. Послушала, как он дует в трубку и добивается ответа. А потом положила трубку.
— Это правда?
— Фаина! — важно произнесла Ксения. — Ты должна бы знать, что я никогда не лгу — я творю.
— А сейчас ты не выдумываешь и не творишь?
— Конечно, нет. Ведь цель достигнута: лицо у тебя сияет огнями неона.
— Но если я тебя попрошу, Ксения, если я очень серьезно попрошу — не вмешивайся больше. Мне страшно, не надо больше!..
— Ну, ладно, ладно, успокойся! Не буду...
— Мне страшно, Ксения... Я очень прошу!
— О боги! Сказала — не буду... Ведь я сейчас ничего плохого не сделала, правда? Я никогда ничего плохого не хочу, но как только вижу, что кончик нитки торчит откуда-нибудь, никак не могу удержаться, чтоб не дернуть. А сейчас ничего плохого нет, правда?
— Сейчас нет... Но ты не боишься, когда дергаешь, что может случиться и другое, что там где-то разорвется чье-то сердце?..
Помолчали.
— Я обдумываю, прежде чем дернуть… — серьезно сказала Ксения. — А вообще-то... Разве вы сами не дергаете как попало? Сами все путаете вслепую...
— Кто это «вы»?
— Вы. Человеки, жители. Сами ежеминутно дергаете без толку, зубами развязываете узлы и затягиваете еще туже, наступаете ногами на свое же плетение, рвете...
Фаина выслушала, не перебивая, потом сказала шепотом:
— Ты когда-то запретила мне говорить о твоей любви. Я молчу.
— Говори, если начала, — мрачно разрешила Ксения. — Только без прикрас. Что ты подумала?
— Я подумала — люди для тебя «вы», потому что ты любишь нежить, а не живого человека.
Ксения дернулась на кровати.
— Жаль, Фаина, — грустно заговорила она через минуту, — что ты так это понимаешь. Не одну меня влечет его творчество и его человеческий облик, но мое чувство острее и глубже, чем у других. Ты страшным словом назвала этого человека, так нельзя. Моя любовь рядом со смертью не стоит.
— Но сознайся, что это странная романтика. Не умираешь ли ты? Незаметное опустошение...
— Да нет же, Фаина. Если я встречу в другом человеке хоть тень такого волшебства, я же не стану противиться, я буду счастлива... Ну, ладно. Спи, Фаинка, или продолжай свой телефонный разговор.
Телефонный разговор, полный загадок и неясностей, длился до утра.
37
Как-то раз Алексей Павлович, проходя вместе с Сильвией мимо почтового ящика, опустил письмо. Обыкновенное письмо в обыкновенном синем конверте. Но Сильвию внезапно встревожило острое желание — прочесть бы! Кому он пишет? Как пишет? О чем? Хоть несколько строк, хоть бы на миг заглянуть в его жизнь — в ту, скрытую от нее, связанную с его прошлым! А что он говорит о своей жизни здесь, о настоящем? Ведь в письмах человек так или иначе пишет о себе.
Желание это, возникнув однажды, понемногу стало навязчивым, и когда случалось ей видеть на его столе письмо, она испытывала мучения, которых сама стыдилась.
И вот сегодня вечером желание исполнилось — письмо лежит перед ней, она вольна в любую, минуту прочесть его с начала до конца. Однако, вместо того чтобы впиться в строчки, написанные этим некрупным, не очень красивым, невыносимо милым почерком, Сильвия сидит и играет с собой в гордость, зная наперед, что сдастся. Жадный взгляд успел захватить только: «...Борис, не стану просить прощения за долгий перерыв...»
Да, вполне уместно вспомнить сейчас наставление старой учительницы, когда-то поймавшей ее с поличным: «Сильвия, никогда не читай чужих писем и не подслушивай у дверей. Можешь быть уверена — ничего приятного для себя не узнаешь...»
Так-то так, но это письмо Алексей сам дал ей... Вернее — она его выпросила, вот только что. Ужасно, ужасно...
Вот только что, уходя, он переложил это письмо из одного кармана в другой и пробормотал: «Опять забыл опустить...» А она, потеряв всякий стыд, «пошутила» — сказала, что отдала бы десять лет жизни за это письмо. И — самое ужасное! — на глазах у нее вдруг выступили слезы.
Он отдал ей письмо. Усмехнулся и отдал: «...за него не стоит платить так дорого...» Она не брала, спрятала руки за спину — нет, нет, не надо, я шучу! Тогда он разорвал конверт и положил письмо на стул у вешалки, улыбнувшись еще раз: понимаю, распечатать трудно... И ушел. Улыбка была добрая, он вообще добрый, но Сильвия может поклясться, что в глубине души он возмущен ее вторжением в заповедный круг. Просто на него подействовали эти нечаянные слезы. Позор! Опять выпросила подаяние...
Что же остается теперь? Насладиться своей добычей...
«Дорогой Борис, не стану просить прощения за долгий перерыв. Хотелось привести голову хотя бы в относительный порядок.
Касимова, тебе уже знакомая, освободила факультет от своего присутствия — прекратилось наконец это богомерзкое положение. В первом семестре я чувствовал себя идиотом, паяцем с тряпичными ногами, неспособным встать с дивана и поступить по-человечески. Представляешь, как это мило — отвешивать поклоны гидре безграмотности, потому что она дама и продекан!
Как бы ни было, Белецкий объединился со мной, хотя он меня не очень жалует, и мы с ним пошли на лекцию Касимовой об античном искусстве. Убедились лично, что на острове Буяне стоит бык печеный, а рядом с ним лук толченый... Поговорили со студентами, подключили декана, две-три лекции были записаны на ленту. Дальше действовал один Белецкий, и в результате — фью!.. Кафедра ликует, но не совсем удовлетворена, не зная хода событий. В ректоре и в декане есть нечто от авгуров, они не разъясняют и таким образом заставляют кафедру верить в античный рок: неизвестно откуда свалился на голову неграмотный продекан и неведомо куда исчез. Пока об этом все, но есть еще Эльснер, а главное — есть и будет Астаров, фигура не столь ясная, но не менее одиозная. Раскусить его не легко, можно и ошибиться, и я не совсем уверен в своей правоте. Его особенности очень слабо выражены, у него даже не обличья, а легкие покрывала, которые он меняет, почти не сознавая этого. Вероятно, он никогда не чувствует себя отступником, так как ничему не служит.
Передо мной два твоих письма: одно — сплошной яд и неприличие, другое — непритворное смирение, вызывающее слезу и желание прильнуть к твоей жилетке. Хорошо, я отвечу на твои вопросы.
Меня сводит с ума ущербность моей жизни, меня раздражает, что я испытываю здесь совсем не то, чего ожидал. Приехав сюда, я как будто внезапно остановился на бегу и сейчас не могу справиться с дыханием. Конечно, прошлый год был тяжел, и мне хотелось уйти от неприятных встреч. Развод — отвратительная вещь, даже если он необходим... Но та «туманна даль», куда я стремился, не дает мне новых сил, и докторская моя словно удаляется, а не приближается. Все это не по лени, а по какой-то душевной сухости. Напишешь страницу, а потом прочтешь и вспомнишь ту самую сухую ложку, что рот дерет. Если что и радует, так это великолепная работа моей дипломантки, но это не моя заслуга, она написала бы ее так же хорошо и при другом руководителе... В конце концов я дал ей только список дискуссий и перебранок по поводу того, что сейчас, в современности, считать фольклором.
Что еще сказать о себе? Здесь я заметил, что вызываю у людей раздражение, почти неприязнь. Вероятно, на это есть причины, и это печально.
А еще? Замкнутость особого рода, вызванная плохим знанием эстонского языка. Мало читать местные газеты, это не включает меня в жизнь города, а город интересный. Доклады, клубные вечера, собрания в редакции газеты, выступления психологов, врачей, биологов — для меня все за семью замками. Театр прекрасный, а меня наушники сразу делают инвалидом. И так далее...
Летом собираюсь поехать на Чудское озеро. Если оставаться в Эстонии, то именно там можно встретиться с живым бытием фольклора. Возможно, что это потребует некоторой ломки в моей работе, но зато я оторвусь от сборников — от вторичного существования народной поэзии, часто мнимого.
Конец семестра — конец вялой жизни. Так я, по-мальчишески, поставил себе предел. Надо покончить со всем тем, что не имеет внутренней освещенности.
И так же по-мальчишески я живу с чувством ожидания — вот еще шаг, еще день, и что-то сбудется, что-то откроется. Помнишь стишки, которыми ты меня дразнил: «Кукушка повторяла, что где-то есть ку-ку, и этим нагоняла на барышень тоску». Да, именно так: я опять страдаю оттого, что где-то есть ку-ку, хотя сидящий во мне доцент уверен, что надо квакать — ква.
На озеро поеду еще не скоро, пиши по прежнему адресу.
Алексей».
Сколько времени просидела Сильвия, перечитывая и ища спасения? Разжечь огонь — огромную печь, костер — и бросить туда письмо? И самой в огонь?..
Зачем же выдумывать небывалые печи? Принять снотворного, и дикие желания погаснут.
38
Сильвия два дня носила письмо с собой, чтобы отдать его Гатееву как-нибудь невзначай, при других. Отдавать его наедине было бы мучительно — с какими же словами?..
О содержании письма она старалась не думать, убеждая себя, что это бесполезно, что понимать его можно так и иначе. Даже то, что в письме ничего не сказано о ней, о Сильвии, можно объяснить особой мужской деликатностью. Однако невольно возвращалась к ней едкая мысль: не упоминают о том, что не имеет значения. Навязчиво вспоминались мелочи — обмолвки, словечки. Почему он иногда называет ее Вишней? Да все потому же — сладко-то сладко, но кто будет сообщать, что поел вишневого варенья, или укорять себя за это? Такие мысли пугали Сильвию, и она корила уже себя — за циничные подозрения.
Письмо она вложила в чистый конверт, заклеила его, и так и носила в своей сумке это запечатанное несчастье.
На третий день Сильвия увидела Алексея Павловича на кафедре, но отдать письмо сразу было неудобно — кипел и бурлил спор о дипломной Ксении Далматовой. Доцент Эльснер, прижимая папку с дипломной к своей впалой груди, казалось, даже небольшими своими физическими силами отстаивал дипломантку. Белецкий и Гатеев — давно уже не были они так единодушны — нападали.
— Это не дипломная, а смертный грех! — твердил Гатеев (Сильвии он улыбнулся, но глаза были холодны — возможно, конечно, что из-за смертного греха). Не говоря уже о легкомыслии дипломантки, о ее развязности, совершенно недопустимой в отношении Чехова, не говоря о наборе пустозвонных речений...
— Почему же пустозвонных? — перебивал Эльснер. — Вполне современная блестящая терминология!
— А что там блестит? — спрашивал Белецкий. — Самым наивным образом разбросаны тут и там разные «анти», вплоть до «антиинформации» — как же иначе, теперь в приличном обществе без «анти» никак нельзя! А вместо анализа — болтовня.
— Какого здесь ждать анализа, — брезгливо сказал Гатеев. — Будь моя воля, вообще запретил бы касаться писем Чехова.
— Как же так! — живенько возразил Эльснер. — Биография писателя...
— Да, да... — нетерпеливо отмахнулся Гатеев. — Но когда таких вещей касаются грубо, или безвкусно, или спекулируют на них, то автора надо убивать или же предавать анафеме за грех против святого духа...
— Какой религиозный уклон... — прошептала Эльвира Петровна.
— В прошлом году читал я рукопись одной диссертации, — продолжал Гатеев. — О Блоке...
— Ах, как интересно! — вставила Нина Васильевна. — Я тоже собираюсь о нем написать!
— И вот читаю я, и волосы у меня встают дыбом. Добрался, понимаете ли, диссертант до дневников Блока и делает добронравный бытовой вывод: нехороший, дескать, этот Блок — жене изменял!
— Очень трудно быть женой гениального человека! — в виде свеженького открытия объявила Нина Васильевна. — За измену и я отплатила бы тем же! — Язвительная усмешка Гатеева не смутила ее нисколько, и она томно докончила: — Мужчины сами во всем виноваты...
— Гениальный человек стоит вне бытовых понятий о морали, — сказал Гатеев, обращаясь не к ней, а к Давиду Марковичу.
Давид Маркович пыхнул дымом.
— Человек есть человек, — сказала Муся. — Почему для гениального другие мерки? Как это так?
— А так. У гениального человека могут быть падения, но не выпивон и не интрижка.
Давид Маркович пыхнул пламенем.
— Следовательно, гений имеет право изменять жене? — спросил он. — А где граница? Скажем, большой талант? Тоже имеет право?
— Тогда и жена должна изменять! — от всей души поддержала Нина Васильевна.
Эльвира Петровна ударила по машинке, с клавиш соскочил люциферчик.
— Вы, Давид Маркович, умышленно не хотите меня понимать, — упрямо сказал Гатеев. — Для гения, подобного Блоку, не существует категории «он изменяет жене», он, может быть, погибает, сходит с ума, но он не развлекается, а всякая изменяющая ему жена — веселящаяся барынька...
— Разная терминология! — ехидно ввернул Эльснер. — А почему вы, Сильвия Александровна, не высказываете своего мнения?
— Боюсь сделать бытовой вывод из вашего ученого разговора, — огрызнулась Сильвия, продолжая заниматься своим делом.
— Да, пора вернуться к дипломной, — сказал Давид Маркович. — Я эту работу к защите не допущу.
Эльснер откинулся на спинку стула, точно в обмороке.
— Это немыслимо!..
— Вполне мыслимо, — отозвался Гатеев, — и даже необходимо.
— Укажите на конкретные недочеты, она переделает!
— Переделать ахинею невозможно, — возразил Белецкий.
— Вы оскорбляете и меня! — вскричал Эльснер.
— Оскорбляю, — невозмутимо согласился Белецкий.
— Я протестую!.. Я добьюсь!.. Далматова будет допущена к защите!..
— Можно и так. Пожалуй, еще лучше. Позаботимся, чтобы все члены комиссии ознакомились с работой и с вашим отзывом, комиссию несколько расширим, и пусть Далматова защищает. Ее придется смахнуть с доски, но игра крупная и стоит того, чтобы пожертвовать одной фигурой... Впрочем, дипломантке это пойдет только на пользу, а вот вам — мат.
Эльснер онемел. Трясущимися пальцами пошевелил листы дипломной. Собираться с мыслями ему никто не мешал, молчали.
— Далматова не успеет теперь написать новую работу... — заговорил он наконец. — Она... она самая способная студентка на курсе, но времени же мало…
— Она способная, — кивнул Белецкий, — увидит, что халтурой не проживешь, и к осени напишет толковую работу. Сейчас она и материалом не владеет. Видно, что прочитала письма очень поверхностно и очень немногие. Выхватила кое-что наугад, факты путает, тонкости от нее ускользают…
Гатеев безнадежно махнул рукой: какие уж тонкости!
— ...дело доходит до курьезов. Судя по контексту, дипломантка не уяснила себе, кто был Яков Андреич, и восхищается меткостью, с которой описана его наружность. Пастельные тона... — Здесь Белецкий прервал свою речь и захохотал.
Гатеев тоже не выдержал, и оба, дружно хохоча, пошли к двери.
Муся схватила Давида Марковича за рукав:
— Сию же минуту скажите, кто был Яков Андреич?
Белецкий отбивался:
— Мусенька, не доводите меня до крайности!.. Любопытство погубит вас, радость моя!
— Скажите!
— О господи!.. — громко прошептал тот. — Ну, Яков Андреич... был не человек. Это, как бы выразиться, утварь, предмет домашнего обихода. Изредка он бывает изукрашен нежными тонами, но чаще одноцветный... Пустите меня, Муся, ваша близость меня волнует!..
Эльснер сидел злой и нахмуренный, глядя в окно; Нина Васильевна окликнула его, он пересел к ней на диван и запрокинул голову, завел глаза, как утопленник. Жена нежно положила руку ему на плечо... Эта картина супружеского согласия показалась Сильвии донельзя непристойной, и она ушла.
В нижнем коридоре, если повернуть направо, минуя статую Клио, можно увидеть на стене доску с приказами ректора. Приказ, интересующий Сильвию, был помещен посередине:
3
Безнравственное поведение студентов как в трезвом, так и в нетрезвом виде должно быть строжайше осуждено. Лица, ведущие себя неподобающим образом, недостойны высокого звания советского студента. Поэтому наказываю исключением студента второго курса математического факультета
Тейна Лео. Студ. бил. №§§7892411
Веселые, нравственные студенты, шумя, смеясь и переговариваясь, проходили за спиной у Сильвии, а она стояла, до смерти жалея этого беспутного, безнравственного, безнадежного
Тейна Лео...
Вот и достижение. Чему же она его научила? Ничему. Ах нет, все-таки она научила его писать букву «я», раньше он ее писал так — бублик и две ножки внизу.
С кем бы поговорить из математиков? Узнать подробности... Да-да, если бы Тейн был великим человеком, это — по Гатееву — называлось бы падением, а так... Впрочем, великие люди крайне редко бьют окна, что правда, то правда.
Прозвучал звонок. По дороге к своей аудитории Сильвия заглянула к математикам и попросила Томсона прийти к ней после лекции.
Томсон явился, и в пустой аудитории произошло собеседование.
— Товарищ Томсон, есть у вас более точные сведения о Тейне, чем те, о которых сообщено в приказе ректора?
Томсон усмехнулся и охотно ответил:
— В приказе ректора не сказано, что Тейн недавно женился.
— Вот как! — удивилась Сильвия Александровна. — На ком же?
— На Кае Тармо. Это филологичка второго курса, если вам нужны точные сведения, товарищ Реканди, как шефу нашего курса, вернее — бывшему шефу нашего курса, поскольку наш прошлогодний шеф вернулся уже из академического отпуска.
Сильвия Александровна засмеялась.
— Томсон, бросьте валять... то есть, расскажите по-человечески, что и как с Тейном.
— Но, товарищ Реканди, вы же сами начали... иначе.
— Да ну, ладно... Что же, он больше учиться не будет?
— Непременно будет, но со временем. И, вероятно, заочно.
— Как с ним приключилась такая беда? Даже странно — бить стекла! Он же не пьяница?
Томсон доверительно понизил голос:
— Товарищ Реканди! Между нами — он не бил стекла. Он побил одного подонка, а происходило это под дверью. Ну, в двери было стекло — чистая случайность. Ну, подонок стукнулся головой о стекло — чистая случайность. Цепь случайностей привела к тому, что стекло треснуло. А подонка было необходимо побить.
— Необходимо!
— А как же, товарищ Реканди? Но этот факт не мог быть представлен ректору в виде результата разумной необходимости, тем более, что комендант общежития — единственный свидетель — был пьян, и у него двоилось в глазах.
Сильвия, сдержав улыбку, сказала серьезно:
— Послушайте, Томсон! У вас выходит, что Тейн невинен, как ягненок...
— Да ведь Тейн и есть ягненок в волчьей шкуре. Неужели вы не заметили?.. Я не имею права говорить вам больше. Просто типичный треугольник, в котором один угол был совершенно тупой, нахальный и марающий хорошую девушку. Я ничего не скажу насчет ее ума, но Шекспир однажды сказал: «Та женщина, которая красива, никогда не бывает глупа...»
— Хорошо, Томсон, спасибо. Будем надеяться, что женитьба поможет Тейну жить не так неуравновешенно...
Томсон замахал руками с преувеличенным восторгом (бессовестный мальчишка, подсмеивается над ней!):
— А то как же, а то как же! Жена в доме, товарищ Реканди, все равно, что труба на бане!..
На этой поговорочке они и покончили, и Сильвия пошла на кафедру, улыбаясь и не совсем понимая, чему она улыбается.
Приказ ректора... Отменено ли ее участие в жизни Тейна этим приказом? Женился, синеглазый младенец — жена. Обоим понадобится еще тепло человеческое.
Тепло человеческое... В первые годы работы было мало знаний, мало терпения, а тепла — больше. Неужели оно убывает?..
На кафедре Эльснер сидел один в углу и что-то писал. Точит, точит козни. Он змеюка, но о Сильвии Реканди правду сказал: знаний у нее и теперь недостаточно. Змеиный яд тоже бывает полезен, из-за той статьи она подтянулась и еще подтянется... Но сейчас не убил бы кого — вон какая черная струя сочится из-под пера.
39
Вместе с сессией налетела весна. От весны надо было отречься и всей душой предаться сессии, что не всем удавалось. Впрочем, румяный и грустный поэт Роланд Бах поместил в стенгазете стихи, в которых тема государственных экзаменов была очень удачно увязана с темой любви. Девушки оделись в лиловые, красные, зеленые плащи, а самые бойкие и склонные к твисту уже перебегали через улицу в узких брючках до колен. Профессора и доценты относились к весне сдержаннее, а на декане Онти предостерегающе высилась пыжиковая шапка.
Пятый курс был поражен неслыханным событием: Ксению Далматову не допустили к защите дипломной!
Фаину же больше всего поразило поведение Ксении: она не протестовала.
— Белецкий умен, — мрачно говорила она, — я его недооценила, думала, проглотит и он мою стряпню.
— А зачем ты вообще так настряпала?
— Оставь, Фаинка! Ты же знаешь — хотела освободить время для другого... Ладно! Зато нашла положительного героя, а то они все у меня были, как Райкин говорит, отрижительные и полоцательные.
В день защиты она все внимание — искренне и нежно — отдала Фаине, и видно было, что она волнуется за подругу. Сама Фаина почти не волновалась, готовая защищать свою работу не только перед комиссией, но и перед стариком с палкой. А тот сразу после блестящего успеха сдался и больше не гнал ее на мелиорацию...
После защиты Ксения и Кая встретили ее у дверей с охапками тюльпанов и нарциссов. Чуть поодаль стоял и Тейн, держа в руках не дреколье, как можно бы думать после битья стекол, а розу.
— Поздравляю тебя, мудрая женщина, — сказал он, ухмыляясь. — Приходите с Ксенией к нам сегодня в гости в пять часов.
После этого он подхватил свою супругу и увел ее с осанкой пожилого отца семейства.
Дома вся комната расцвела, и мысли были светлые и алые, как цветы. Смутная надежда, теплившаяся в душе, тоже засветилась ярче. Алексей Павлович не повторил своего обещания «поговорить», но пожатие его горячей сухой руки... да нет же, совсем не надо разрывать на клочки то, что ясно и цельно.
После позднего обеда стали собираться к Кае, купили пирожных. На улицах чуть не все прохожие шли с цветами, с пирожными, с тортами — такое уж время в этом городке, экзамены...
Можно было еще побродить по весенним улицам, но синеватая тучка внезапно брызнула дождем, и девушки забежали в крытый подъезд переждать.
Стряхивая с плаща крупные капли, Ксения сказала:
— В зале, конечно, все смотрели на тебя, когда ты говорила, а я наблюдала за твоим руководителем. Он сиял вместе с тобой, но...
— Нисколько не сиял, он никогда не сияет.
— Ну да, а тут, понимаешь ли, засиял, но — односторонне.
— Это еще как?.. — будто бы рассеянно спросила Фаина, подставляя руку под дождь.
— Да так: с одной стороны сияние, с другой — мрачная тень. Его что-то сильно тревожит. Но я не могу поручиться, что это душевные муки, возможно, несварение желудка. Вероятно, эта общая неопределенность его облика тебя и привлекает.
Фаина промолчала, улыбаясь.
— Но, по-моему, надо тебе бороться за него, а не сидеть у окошечка косящата и ждать, пока добрый молодец подъедет на лихом коне. Ты нестерпимо старомодна. Воображаешь, что он примчится к тебе на твой захолустный остров, а ты будешь посиживать в светлице и кобениться...
— Ксения, нужно выдерживать какой-то стиль, если ты писательница. Ты не имеешь права говорить «кобениться», для этого надо иметь совсем другую фигуру, и не такое ученое лицо, и очков тогда нельзя. А так режет ухо...
— Ты мне зубы заговариваешь и уводишь от главного... А насчет стиля — хорошо, отныне я буду говорить с тобой языком Хераскова. Итак, ты воображаешь, что твоему герою будут милы трясины твоего острова и захолустны те дороги, твои касалися которых сухощавы ноги!
— У меня совсем не сухощавы ноги, прежде всего!.. — фыркнула Фаина.
— Это для стиля... Так вот. Ты ошибаешься, Фаина: твой герой на остров не поедет.
В воображении Фаины мелькнуло, как Алексей Павлович идет от причала по зеленой тропинке, потом по главному проспекту, где гуляют коровы и мычит рыжий теленок, а соседские мальчишки пялят на него глаза — Степа, Гришка и круглобровый Илья…
— Приезжай ты, Ксения, если он не приедет.
— Я-то приеду... Конечно, это тебе интересно — свернуться в клубок и ждать, чтоб тебя распутывали, но... Впрочем, я думаю, эти сплетни о Сильвии Александровне не имеют значения, они с Гатеевым давно бы зарегистрировались, если бы вправду...
— Слушай-ка, Ксения, дождя нет больше. Кая ждет.
Ксения, засмеявшись, больно дернула Фаину за волосы.
— Ну, пойдем, пойдем, Кая ждет... Интересно, как они себя чувствуют! А впрочем, нет, не интересно.
Дождь еще капал редкими каплями, но можно было идти.
— Почему не интересно? — спросила Фаина.
— Да так, скучновато. Один маленький эффект был, когда он ее умыкнул из двадцать третьей комнаты, но вообще... Хотелось бы чего-нибудь таинственного, искупительного, сложного, пауль-эрик-руммовского... Чтобы минута грозила гибелью!
«Может, и грозила...» — мельком подумала Фаина.
Кая встретила подруг взволнованно; Тейн продолжал играть в почтенного отца семейства. Видно было, что их радует и смущает новое положение. Все сейчас важно: и обручальные кольца, и недавно выкрашенные полы, и даже то, что пришли всамделишные гости и Кая варит для них кофе на электрической плитке.
За столом Ксения, конечно, не удержалась от «наблюдений».
— Лео! Можно задать тебе бестактный вопрос? — спросила она, допивая вторую чашку.
— А я от тебя других и не слыхал.
— Как ты сам считаешь: случайность привела вас к тихой пристани или так было написано в книге судеб? Проще говоря: оказал ли кто-нибудь влияние на ход вещей? Например, ректор?
Тейн поморщился, как от горчицы, и ничего не ответил. Кая протянула ему половинку пирожного и сказала, будто ничего не поняв (хотя разговор шел по-эстонски):
— Мы в субботу к маме в Вильянди ездили.
— Ну, и как? — поспешно подхватила Фаина. — Зять произвел впечатление?
— Произвел. Она ему красивую рубашку подарила.
Тейн ел заварной кренделек, все еще морщась, заедая то, горькое. Фаине пришлось довольно долго болтать о чем попало, пока не вернулось беззаботное настроение, а Тейн даже развеселился непритворно.
После кофе, выйдя в маленький дворик, сели вчетвером на сыроватую скамью, и было в этом что-то милое и смешное, какое-то напоминание о раннем детстве — вот сейчас нарисуем мелом «классы» и будем кидать черепочек, а потом прыгать...
— Так где же ты работаешь, Лео? — спросила Фаина.
— Скоро выгонят, — жизнерадостно ответил Тейн.
Кая усмехнулась и подбросила ногой черепочек, может быть, тоже мысленно играя «в классы».
— Я думал, будет просто: бухгалтерия, а я все ж таки математик. Да вижу теперь, там с фондами пропадешь, как тот дьявол у Порджеса, который решал теорему Ферма. Кажется, я уже все спутал, и еще кажется мне, пахнет там жульничеством.
Кая поддразнила его:
— А что же остается говорить честному человеку, который все фонды спутал!
— Я бы от бухгалтерии в первый день умерла, — сказала Ксения, — да и от математики тоже.
Тейн так и взвился, защищая математику. Никто с ним уже не спорил, все замолкли, а он все кипел:
— Да что может быть интереснее!.. — потом откашлялся и одним махом перекинулся прямо к Спинозе: — Еще он сказал: без математики люди никогда не узнали бы истины!..
Спиноза был встречен легкомысленным филологическим смехом, и Ксения сказала, что если дело до него дошло, то гостям пора уходить.
По дороге она все что-то бормотала, как будто разбирая нечетко написанный черновик:
— Тейн — добрый семьянин в результате небольшого дебоша с битьем стекол. Серьезного исследователя жизни это может поставить в тупик... Полетел со второго этажа, стукнулся, опомнился. Теперь с пеной у рта — моделирование, рубелирование... Выкрасил полы, хочет перекрасить Каю. Она Ева, а не Лилит... Пополнел даже, а раньше был виден только в профиль, как нож. Человеку необходимо потерпеть крупную неудачу, да!..
— Что ты сказала, Ксения?
— Сказала, сказала... А счастье живет в недостижимой обители...
— Дурачишься или уже ум за разум заскакивает?
— Ни то ни другое. Мысли вслух... Скажи, Фаина! Соединение двух сердец в одной квартире — это настоящая концовка для повести или формальная? Вроде «мороз крепчал» или «а море рокотало»?.. — Ксения громко засмеялась. — Честное слово, бывают такие концовки: «Тогда я сказал ему, что у него сифилис. А вдали рокотало море...»
— Ну, куда тебя несет, Ксения!.. Подумай лучше, зачем ты Тейну настроение испортила? К чему колоть в больное место. Знаешь же, что не очень легко и просто у них...
— Не беда, не беда! Можно и кольнуть. Не люблю я благополучных молодоженов — толстые, сытые, довольные! А впрочем, Фаина Степановна, и вам того же желаю от господа бога!..
Обе рассмеялись.
— Легкий и нежный сумрак уже окутывает уходящий день. И ничто не рокочет, товарищи! — сказала Ксения. — Фаина, не забывай этот день, он у тебя был счастливый!.. — Вздохнув, прибавила: — Не повезло мне с дипломной, чтоб этот Белецкий здоровенький жил до ста лет! Спасибо, хоть экзамены держать разрешили!..
Легкий и нежный сумрак, несмотря на насмешку, окутал уходящий день.
40
Письмо уже давно было отдано Алексею Павловичу, строчки его понемногу забылись и обесцветились — быть может, от весеннего солнца. Сама Сильвия жила теперь в теплом весеннем забытьи, прогоняя дрему лишь для того, чтобы убедиться, здесь ли он, рядом ли, не унесло ли его в холод. Она прятала свое негаданное счастье и боялась только, что улыбка выдаст ее, но их отношения с Гатеевым уже вышли из круга внимания и никто, кроме разве Давида Марковича, не замечал, как она улыбается.
Весна вообще сильно чувствовалась на кафедре. Эльвира Петровна круто завила локоны и нарядилась в платье с разноцветными гусеницами (черт не сегодня— завтра присватается), Муся напевала, за окном курлыкали голуби, у заведующего галстук отливал радугой. Эльснер загорел, змеился, шелушился и, вероятно, собирался менять кожу, а у Нины Васильевны головка клонилась ландышем и говорила она, что хотела бы умереть именно весной, но перед этим внести еще свой скромный вклад в лингвистику. Сильвия и смотреть на нее не могла: опять казалось, что видит себя в кривом зеркале, хотя ничего ведь похожего не было...
Старый Саарман удивлял народ необычной разговорчивостью и крайне прозрачными намеками, все повторяя, что у него нынче пелена спала с глаз (незаметно было нисколько), и он увидел, какой болезнью страдает кафедра.
— Опухоль удалена, но есть метастазы! — красочно выражался он.
О метастазах говорилось неоднократно, а вслед за тем рассказывался деревенский анекдот:
— Был у соседа поросенок и ходил к моему дедушке на огород. Вот дед и решил забить дырку в заборе. Приходит с досками, а поросенок тут как тут. «Пасись, пасись, сказал дед, это уже будет в последний раз!»
Закончив эту бесхитростную историю, Саарман моргал блекло-голубым глазом и подсвистывал в высшей степени загадочно. А если присутствовал Давид Маркович, то обращался к нему:
— Когда будете забивать дырку, позовите и меня. А пока пусть пасется, это уже в последний семестр... У меня пелена упала!
Давид Маркович отмалчивался. Муся сердилась:
— Это хорошо, Саарман, что вы перестали ходить по кафедре, как лунатик, но ваши шуточки действуют мне на нервы, у вас стиль плохой.
Саарман не обижался, подмаргивал, но когда выяснилось, что разделение кафедр и конкурс будет наверное, он принес свой знаменитый портфель и заставил Давида Марковича себя выслушать. При первых же словах Гатеев поднялся и подошел ближе. Сильвия и Муся насторожились.
— Здесь у меня небольшое исследование. Я собрал в архиве рецензии одного человека на курсовые работы — за последние четыре года, а также некоторые другие материалы. Этот человек быстрыми шагами идет к бесславному концу... Вернее — этот доцент!
— Вот! — воскликнула Муся. — Никто никогда не смотрит, что там у доцентов понаписано по мелочам. Доцент — и все!
— Я говорю только о данном доценте, — вежливо сказал Саарман. — Мое исследование озаглавлено таким образом: «Псевдонаучные утверждения, а также ляпсусы доцента Икс»... Как вы думаете, товарищи, следует ли еще до конкурса предупредить доцента Икс о том, что существует это исследование?
Страшный скрежет послышался из недр ремингтона — об Эльвире Петровне-то все забыли. Саарман оглянулся, вынул платок, стер последние клочки пелены с глаз и сказал:
— О дальнейшем, впрочем, мы переговорим завтра, так как сейчас я должен идти в морг, то есть, виноват, в кабинет судебной медицины к заочникам.
— Несерьезно как-то... — пробормотал Гатеев после его ухода. Давид Маркович пожал плечами.
Последний государственный экзамен — по литературе. У длинного стола, покрытого красным сукном, сидит Астаров, заспанный и чванный, как боярин в думе, рядом с ним седой красавец в очках — заведующий кафедрой эстонского языка. Билеты уже разложены широким веером... Сильвия и Белецкий сели к окну, Алексей Павлович устроился в другом конце стола и пока что читал газету.
Три первые студентки, бесстрашно взяв билеты, начали готовиться. Тихая скука осенила комиссию.
Через полчаса пришел Эльснер, чуть подвыпивший и веселенький, как утопленник в отпуску, а вслед за ним вметнулся декан Онти. Одна из студенток уже отвечала, и Сильвия, сдерживая улыбку, стала наблюдать за муками декана, принужденного слушать медленный и не очень связный пересказ од Державина. Когда студентка умолкала, ища нужное слово в своей нерасторопной памяти, декан даже шевелил губами — не то от нетерпения, не то собираясь подсказать. Сильвия порадовалась за него, когда к столу подошла следующая дипломантка и начала частить не хуже самого Онти.
Студенты сменялись, экзамен тянулся и тянулся.
Астаров, как всегда, равнодушно задавал вопросы и равнодушно выслушивал ответы. При ошибках смеялся в лицо студенту, оставаясь равнодушным и в смехе: все это настолько ниже меня, что мне все равно.
Сильвия скоро устала слушать: в голове невольно заводится какая-то смута, когда история литературы предстает в виде отдельных кусочков, перемешанных самым странным образом...
Юрий Поспелов отвечал очень толково, но вышел с ним небольшой спор.
— Я должен и на экзамене сказать правду, — прогудел он басом, от которого декан Онти слегка вздрогнул. — Как бы там ни комментировали, а по-моему, это белиберда: всходит месяц обнаженный при лазоревой луне. Я читал — месяц у него создан воображением, а луна реальная, и прочее, но я больше согласен с его пародистами...
Астаров сказал ему:
— Вам больше по вкусу: «Звезды ясные, звезды прекрасные нашептали луне сказки дивные»? Или, может быть, даже: «Чудный месяц плывет над рекою»?..
Поспелов густо покраснел и, вероятно, рубнул бы что-то в ответ, но Давид Маркович мягко заметил:
— Не забывайте о времени, Поспелов. Стихи Брюсова могут не нравиться вам эстетически, но этот обнаженный месяц безжалостно осветил апухтинские, надсоновские и другие, еще более сентиментальные ночи. Это был удар по косности, по эпигонству...
Когда Поспелов ушел, Эльснер нервно высморкался и сказал Гатееву:
— А вы тоже против простоты в поэзии? Вам нравится и то, что у нас пишут теперь? «Я выкрашу все анемоны губной помадой своей жены...» Или еще: «Толстые полуноты потели, пока не стали двойной фугой...» А?
Гатеев улыбнулся:
— В контексте это, вероятно, очень хорошо.
— Даже великолепно!.. — подтвердила Сильвия. — Из наших молодых, по-моему, самый талантливый поэт.
Затем перед столом стояла Ирина Селецкая, и сыпались общие фразы, настолько общие, что трудно было догадаться, о каком писателе идет речь...
Ушел декан Онти. Студент говорит о фольклоре. Алексей Павлович поднял голову, слушает внимательно... Ага, сейчас перебьет.
Студент уже заканчивал. Тряхнув русым чубом, сказал:
— Для писателей фольклор, как правило, является твердым и незыблемым источником образов и художественных средств, обогащающих литературу...
Набрав в грудь воздуху, он собирался продолжать, но здесь Гатеев хрипловатым голосом повторил:
— Фольклор, как правило, является твердым и незыблемым источником. — Студент взглянул недоумевающе, а Гатеев спросил: — Вы видели когда-нибудь источник, родник? Ключевую воду пили когда-нибудь?
— Да... — нерешительно сказал студент.
— И заметили, что источник, из которого вы пили, был тверд и незыблем?
Студент усмехнулся, чуть свысока даже.
— Это в переносном смысле.
— Нет. К сожалению, это без смысла, — печально возразил Гатеев. Глядя на надутые губы студента, добавил: — Последний экзамен запоминается надолго, хотелось бы заставить вас подумать о нашем разговоре. Самое прекрасное слово становится уродливым, если оно не на месте... Нет, нет, не надо оправдывать себя — сейчас, мол, экзамен, волнуюсь... Никогда не допускайте, чтобы язык щелкал механически, я не верю, что у вас нет своих слов. Просто невнимательность, но дурная невнимательность... А материал вы знаете.
Студента отправили с миром... Который же час? Выпить бы кофе, но уйти неудобно, никто не уходит.
Ксения Далматова. Небрежно одета и причесана, но смотреть на нее интересно — живость, изменчивость... Почти не готовилась, отвечает широко, свободно. Быстро соскользнула с главной темы билета, собирается поразить чем-то недавно выученным:
— ...Роман Якобсон сводит структуру литературных произведений к определенному единству грамматических категорий. Сопоставляя такие разные вещи, как гуситский хорал, стихи английских поэтов шестнадцатого и семнадцатого века, стихи Пушкина, Христо Ботева, Мандельштама, Блока, он нашел общие схемы, основанные на бинарном принципе...
— Что ж, вы не напрасно разбирали мою библиотеку, Далматова, — благосклонно заметил Астаров. — Ммм... А вы согласны с Якобсоном?
— Нет, он не говорит о том, что отличает Мандельштама от Филиппа Сиднея... — Далматова вдруг прищурилась, как озорной мальчуган, и добавила: — А Блок, по-моему, от каждого структурного анализа в гробу переворачивается.
Астаров поспешно задал вопрос по последнему разделу билета. После, когда студентку уже хотели отпустить, Алексей Павлович, подвинувшись вперед, сказал:
— Собираетесь ли вы пересмотреть свое отношение к Чехову?
Далматова растерялась и будто погасла.
— Я пересмотрю свое отношение к себе... — негромко ответила она.
— Зачеркнув Чехова?
— Нет, к Чехову я и раньше относилась уважительно.
— Не совсем понятно. К кому же или к чему же вы относились неуважительно, когда писали дипломную работу?
Комиссия насторожилась. Реплики, а особенно интонации, все больше выходили из рамок экзамена.
Побледнев, Далматова проговорила, с усилием отрывая взгляд от глаз Гатеева:
— К дипломной работе. Ее написал сосед Букашкин.
— А как же дальше? Будет писать Антибукашкин? — усмехнувшись спросил Гатеев.
— Я уже сказала вам все! — резко ответила студентка. Гатеев наклонил голову с подчеркнутой вежливостью.
После ее ухода Астаров, пошептавшись с Давидом Марковичем, передал ему свои полномочия, пошел обедать.
Появилась Фаина Кострова. В белом платье, не совсем подходящем для экзамена. Но оно чудесно освещает ее лицо с темными бровями и смугловатой, очень чистой кожей. И эта едва уловимая улыбка...
Отвечала она очень хорошо, уверенно. Видимо, понравилась седому красавцу с эстонской кафедры, он даже — в первый раз за все время — нарушил свое молчание и задал ей какой-то вопрос о Гоголе.
Долго и придирчиво спрашивал Эльснер — были искромсаны и «Вечера на хуторе», и «Миргород», и «Шинель»...
Гатеев молчал. Сильвия на него не взглянула ни разу, стараясь не смотреть и на Кострову. Она эти несколько минут тоже держала экзамен, строго требуя от себя невозмутимости и отказа от мелочных наблюдений. Но внимание к своим чувствам само по себе было минусом.
В аудитории становилось душно, несмотря на приоткрытое окно. Алые гвоздики в вазе увядали на глазах и начинали пахнуть маринадом. Голоса звучали глухо...
— У меня вопросов больше нет, — проскрипел Эльснер.
Когда Кострова скрылась за дверью, встал Гатеев и тоже вышел... Да боже мой, да ничего в этом нет особенного, вышел и вышел. Вон Эльснер тоже собирается уйти.
Вернулся. Слишком скоро, слишком скоро. За такое время можно сказать только два-три слова: «Фаина, я буду ждать вас вечером...» Какой вздор приходит в голову! Ничего он ей не говорил.
Дверь отворилась — Астаров. Надо тоже пойти пообедать, но прежде...
Сильвия написала записку: «Пойдемте вечером в кино». Сложив ее вчетверо, передала через Астарова Алексею Павловичу. Пришел ответ: «К сожалению, буду очень занят».
Студентка, тихонькая, совсем заморенная наукой, длинно рассказывала о Жуковском. Давид Маркович вынул было портсигар, но, спохватившись, опять спрятал. У Сильвии началась головная боль, сильная, в темени.
Выслушав все о Жуковском, Давид Маркович ушел покурить, но пропал надолго. Перетерпев еще четверть часа, Сильвия шепнула, что идет обедать, и Астаров кивнул утвердительно. Но, выйдя, она почувствовала отвращение к самой мысли о еде... Буду очень занят... буду очень занят... Приблизительно такую записочку написал он однажды Нине Васильевне.
Все же Сильвия пошла в буфет, нужно хоть кофе выпить... И сразу стукнуло сердце: за столиком сидела Кострова. Сказать ей — приходите сегодня ко мне?
— Приходите сегодня ко мне, Кострова. По-моему, нам не мешает кое о чем поговорить, пока вы еще не покинули наш город. Вы когда уезжаете?
— В субботу.
— Так вот сегодня и приходите. Часов... в семь.
— В семь я не могу... А в пять нельзя?
— Можно и в пять, пожалуйста, — решительно сказала Сильвия.
— Я приду. Мы ведь не будем очень долго разговаривать?..
Сильвия, выпив кофе, пошла на кафедру... Милая девушка, но хорошо, что в субботу она уезжает.
«Вечером я буду очень занят». Ну и что же? Человек может быть очень занят вечером. «В семь часов я прийти не могу». А что? Мало ли куда студентка Кострова собирается идти в семь часов.
Зачем придумывать себе горе? Все это совпало случайно, горе имеет более резкие очертания. Не так ли?
С Костровой в пять часов нужно будет поговорить о Тейне — она о нем что-нибудь знает, наверное. Разговор вполне естественный и даже необходимый. Женитьба далеко не всегда меняет судьбу, а судьба этого второкурсника слишком близко задевает самое главное в работе некой Сильвии Реканди.
Невзначай можно и спросить, куда Кострова торопится к семи часам. Ах, сумасшествие! Ничего не надо спрашивать.
На кафедре Давид Маркович неистово курил и читал какую-то бумажку. Не взглянув на Сильвию, начал декламировать:
Дети, овсяный кисель на столе.
Кушайте, светы мои, на здоровье!..
Сильвия молча села на диван — не было сил притворяться веселой, да и к чему. Давид Маркович поднял голову, посмотрел. Тем же тоном, каким декламировал, сказал:
— А может быть, надо кому-нибудь шею накостылять? Так я к вашим услугам.
Сильвия таким предложением была неприятно удивлена, хотя и тронута. Белецкий же спросил еще раз:
— А может быть, в переносном смысле?
— Спасибо, Давид Маркович. Не надо ни в прямом, ни в переносном.
— Ну что ж, буду принимать пилюли «Марбор» для укрепления бюста... — Он сел рядом и показал Сильвии список путевок на лето. — Вот смотрите, прекрасная путевка. Как вы думаете? Эта лучше всех... Я сам непременно поехал бы, но ведь я моментально свалюсь в реку Арагву при моей походке... Поезжайте, Сильвия Александровна.
— У меня еще один экзамен.
— Я согласен проэкзаменовать всех ваших балбесов. А отпуск можно передвинуть, поговорите с Астаровым. Садитесь-ка к столу, пишите заявление в профсоюз, я продиктую...
— Нет, нет, я должна подумать.
— Что ж тут думать? Отличная путевка... Ну, думайте. — Он встал. — Пойду оценивать языковые уродства, а вы идите обедать, у вас глаза голодные. И не возвращайтесь, мы скоро кончим.
Давид Маркович ушел. По правде говоря, его заботливость еще больше расстроила Сильвию — что это он обращается с ней, как с тяжело больной? Какова бы ни была его наблюдательность, однако не может же он догадываться о том, что...
Сильвия не успела довести свою мысль до конца, как вдруг Давид Маркович вернулся. Она подумала — забыл что-нибудь, но он, глядя ей в лицо, сказал:
— Вы воображаете, что я райская лилия? Не воображайте.
И тотчас же ушел. Взгляд его смутил Сильвию больше, чем слова, будто бы и шутливые... Зачем это? Только растравляет боль.
Не надо поддаваться тоске, не надо... Но в голове опять встает четкий рисунок надвигающихся событий. В семь часов Алексей Павлович и Фаина встречаются в парке. Она с девичьей нежной покорностью смотрит ему в глаза. Все ясно без слов. Но ему мешает нечто, не имеющее особого значения, однако еще не ушедшее из действительности. Это она, Сильвия.
Он любит Фаину, любовь, не совсем осознанная, зародилась уже тогда, осенью, при первых встречах. Из «мужской вежливости» Сильвию он не оттолкнул — как же можно, просто неловко было бы... Потом, вероятно, возникла и жалость. Не мог же он не видеть горчайшую ее любовь. Понемногу запутался: счастье зовет к себе, жалость держит за полы. Но вот Фаина в субботу уезжает, как же отпустить ее?..
Сильвия посидела еще в тоскливом раздумье. В распахнутое окно вливалась далекая томная музыка, но была это отравленная музыка.
Если все это так, если ее ясновидение не ошибка, то следует неумолимый вывод. Сегодня в семь часов Алексей Павлович Гатеев должен быть свободен, ведь он не негодяй, не развратник, не обманщик. Он страшно затянул, он до последней минуты затянул разрыв с Сильвией, но только потому, что он добрый, жалостливый человек. А теперь — еще до семи часов — необходимо прийти к ней и сказать: «Сильвия, я не волен в своих чувствах, расстанемся друзьями...»
Сильвия, вздрогнув, решительно поднялась и пошла домой.
Вся эта фантасмагория улетучилась еще по дороге. Дома стало смешно и весело. Ее болезненная мнительность вполне объяснима, и от объяснения на сердце становится еще веселее. Надо же столько напридумывать, и на таком скудном материале, как пустая записочка и двухминутная прогулка по коридору!
В пять часов она поговорит с Костровой о Тейне и простится с ней.
В кино с Алексеем можно пойти и завтра. Или в субботу... Они редко ходят вместе. Впрочем, недавно были в театре, смотрели эту печальную пьесу Когоута... В субботу он не будет занят.
Настольные часы с черным циферблатом говорят, что срок истекает. Красивые часы, подарок мужа ко дню рождения. Но почему черные?.. Ах, начинается пошлая символика: черные часы — черное время! Чепуху надо выкинуть из головы, я даже не имею права портить себе здоровье.
Сейчас придет Кострова, скоро за дверью раздастся звонок... А интересно, как Алексей поступит с ключом от этой двери, если он придет сегодня в последний раз? Положит его на стол? или пришлет потом в письме? или оставит на кафедре? Нет, это совершенно невозможно, он воспитан в профессорском доме — он бросит ключ в реку... Что за наваждение, опять эти мысли!..
Прислушиваясь, ожидая звонка, Сильвия ясно различила звук ключа, повернувшегося в замке. «Соседка...» — резонно сказала она себе, не веря этому ни на миг. Тяжкие надуманные события разорвались в клочья, и где-то мелькнул лишь последний обрывок: «...к семи часам он должен быть свободен...»
— Ну, кончили истязать студентов?..
— Кончили... На прощанье одна, длинная, как жердь, басом заговорила. Я, говорит, тургеневских девушек понимаю лучше, чем Тургенев, потому что Тургенев все-таки не девушка.
— Не улыбайся, Алексей, если не хочется. Проступают морщины возле губ... и основное настроение тоже проступает. Голова опять болит? Кофе тебе или чаю?
— Нет, голова не болит.
Сильвия принесла на диван подушку с кровати, еще раз приказала не улыбаться, заставила снять галстук, расстегнула воротник — и ушла в кухню.
В кухне под полочкой висело маленькое зеркало. Сильвия пригладила волосы; лицо было радостное, порозовевшее, но с глазами ничего нельзя было поделать, глаза еще не успели уйти оттуда, из выдуманного несчастья.
А ведь сейчас явится Кострова. «Жаль, что я ее позвала...» Но вслед за этим метнулось чуточку злорадное: «...ничего, пусть узнает!..» И даже шевельнулась еще одна полумыслишка: «А не нарочно ли ты забрала у него галстук?» Ах, какая мелкая труха! Стыдно...
Настоящий мужчина уклончив, прямо говорить «нет» он не любит. Избегать встреч, не отвечать на письма... или писать, что занят, или улыбаться с морщинами у рта — это и есть «нет», которое надо уметь прочитать вовремя и не добиваться, чтобы оно было сказано... в официальном порядке.
Ну и сумбур в голове! Надо же налить в чайник воды и идти в комнату.
— Я вскипячу тебе чаю, от кофе ночью спать не будешь.
Алексей Павлович не ответил ничего. В эту минуту и раздался звонок.
— Это Кострова звонит, — сказала Сильвия и пошла открывать, преследуемая совсем уж идиотской мыслью — наденет он галстук или не наденет?..
Она ввела Фаину Кострову в комнату... Галстук лежит на диване: бывают и такие положения у воспитанного человека, когда надеть галстук более неприлично, чем не надеть. Сам же человек стоит у окна...
На этой вымученной шутке игра Сильвии с несчастьем кончилась — сейчас оно ее задушит. Она увидела их лица.
Но и полузадушенная, она сделала еще одну попытку. С жестокостью, затмившей разум, — пусть хоть умрут сейчас эти оба! — она сказала, чуть дрогнув голосом, но медленно и раздельно:
— Извини, Алексей! У нас с Костровой маленький разговор, мы тебя пока оставим... Потом будем все вместе чай пить.
Не дожидаясь его ответа, она пригласила девушку в смежную комнату: соседки нет дома. Обе сели. Думать о логике разговора было невозможно, однако Сильвия задавала все же какие-то вопросы о Тейне и получала ответы, глядя, как на пепельно-бледные щеки возвращаются нежные краски юности. Говорилось что-то и о будущем Фаины, об аспирантуре, но это было еще мучительнее, и Сильвия вернулась к первой теме, пытаясь закончить эту нескладную беседу.
— А Тейн и Кая еще молоды, — сказала она. — Людям молодым часто нравятся сложные отношения, они их сами и усложняют.
Кострова вдруг подняла голову, серые глаза заблестели.
— Сложные отношения — это большею частью лживые отношения! — жестко проговорила она. — Для правды всегда найдутся простые слова.
— Слова — самое важное? — спросила Сильвия. Хотела спросить иронически, но голос опять дрогнул.
Кострова только пожала плечами и встала. Сильвия ее не удерживала.
Обе молча прошли через комнату Сильвии. Гатеев стоял на том же месте. На него не взглянули.
Заперев дверь за девушкой, Сильвия на минуту остановилась в прихожей. Да. Пожалуй, слова сейчас — самое главное. Пусть все рухнет, но слова будут сказаны, будут!..
Он все еще стоял у окна. Лицо такое же помертвелое, но ничего, жив. Сильвия подошла ближе, посмотрела ему в глаза и твердо спросила:
— Кого ты любишь? Меня или ее?
Он ответил не сразу, но тоже твердо:
— Ее.
Сильвия быстро отвернулась, села на диван. Она не поверила бы другому ответу, но... за что, за что?.. Чтобы справиться с холодом и дрожью внутри, она задерживала дыхание, сжимала ладони.
— Ты говорил ей об этом?
— Нет. Но она знает.
Чувствуя сама, что улыбка у нее похожа на недобрый оскал, Сильвия сказала:
— Теперь она тебе не поверит. Почему ты не пошел за ней?.. — Он не ответил.
— Но все-таки спасибо тебе, Алексей, что ты выдержал мое нетактичное обращение на «ты»... И за то, что не побежал за ней. Вообще за то, что не поставил меня в неловкое положение. Мужчины редко бывают так жалостливы...
— Сильвия!..
— Погоди, Алексей... Сейчас все кончится, кончится мой стыд. Ты никогда не любил меня, я это поняла сразу, почти сразу, но почему-то терпела. Надеялась — полюбишь... Сейчас мне легче, поверь, что легче. Я несчастна, но это пройдет, есть у меня лекарство. Терпеть стыд было хуже... Уйди, Алексей! Я побуду одна...
Рот у нее уже не растягивался и не болел от принужденной улыбки, глаза были полны слез. Сморгнув их, она с необыкновенной, с сегодняшней ясностью увидела в его глазах жалость, так похожую на любовь, что ей стало страшно — не ошибка ли, не заблуждается ли он сам?..
Он сел, хрустнул пальцами. Тихо проговорил:
— Не могу уйти. Чувствую себя преступником...
Сильвия перебила его:
— Да, да, ты добрый... я знаю. Но добротой здесь не поможешь. Ничем не поможешь. — Она помолчала. — Помнишь, мы были в театре? Она покончила с собой, эта героиня, и автор на все лады доказывал, что это и была настоящая любовь...
Он сделал испуганное движение. Сильвия усмехнулась болезненно:
— Не бойся... Я не согласна с автором. Если любишь, то не станешь навязывать другому свою смерть. Что ты! Взвалить на тебя такой ужас... Что я хотела сказать? Ах да, ты обо мне не беспокойся, вот что я хотела сказать... А сейчас уйди, Алексей, прошу тебя. Я буду жить, я совсем хорошо буду жить...
Она встала, прошлась по комнате, пряча от него лицо, и, наконец, сказала уже нетерпеливо:
— Ты прекрасно знаешь, Алексей... Сколько бы ни продолжался такой разговор, он окончится тем, что ты уйдешь. Даже если у человека очень мягкий характер, он все равно после такого разговора уходит…
Типичный треугольник, как сказал бы со смешком студент Томсон. Будут и другие поминать этот пресловутый треугольник, в который, по их мнению, все укладывается. Надо вытерпеть, надо вытерпеть…
41
Уехать, поскорее уехать домой. Может быть, там станет легче, не будет этой страшной нищеты. Никогда еще Фаина не чувствовала себя такой нищей, такой обобранной... Уехала бы хоть завтра, но нельзя, придется объяснять отцу и тете Насте, почему глаза заплаканные. Что им скажешь? Надо подождать...
Ксения зашевелилась в кровати; проснулась, но пока еще молчит. Минутка — и начнется зубоскальство...
Как выпутаться? Впрочем, это не путаница, это пустота. А как выбраться из пустоты? Куда ни пойдешь, куда ни уедешь, везде будет одинаково — бесцветно и голо.
Фаина сама не заметила, как снова начала плакать, неудержимо, и уже бездумно, и уже как будто с пустой душой, и уже как будто ни о чем. Ксения подошла к ее кровати, молча постояла над ней, потом выкурила папиросу и ушла из дому — действительно, что ей здесь делать, третий день одна тоска в комнате, надоест же...
Пустота.
Наплакавшись до изнеможения, Фаина попыталась утешить себя, что-то преодолеть, посмотреть, что же осталось, чем жить дальше.
Впереди все самое интересное, думала она. Обещана аспирантура, я об этом так мечтала раньше. Сдам экзамены, буду писать диссертацию. Допишу до последней страницы и пойду к нему, нарочно пойду. Будет трудно, а я позвоню, и он откроет... «Алексей Павлович, просмотрите, пожалуйста, если найдете время...» Он возьмет рукопись, полистает и сразу же сделает пометку острым карандашиком. А за дверью раздастся смех... и вбежит голубоглазая девчушка с косичками. Потом придет Сильвия Александровна в халате, холодно поздоровается. Я скажу: «Сейчас мне некогда, Алексей Павлович. Меня на улице муж ждет, спешу. Когда можно пройти за рукописью...?» А муж ждет нетерпеливо. «Что ты так долго, Фаина?..» Он красивый, молодой, широкоплечий, лицо у него не дергается, губы не усмехаются презрительно... К черту, к черту его, красивого, широкоплечего!..
Значит, перед тем как встретиться со мной, он пошел пить чай к Сильвии Александровне. Значит, я во всем ошиблась и все понимала неправильно. Надо вспомнить, как было...
Я отвечала о Гоголе. Сказали: довольно. Я вышла, он вышел сразу за мной и сказал: «Фаина, я хочу с вами поговорить. Вы свободны вечером? Отлично... Встретимся около библиотеки, в парке. Погода прекрасная... В семь или в восемь? До свиданья, в семь буду вас ждать».
Значит, это следовало понимать так: хочу поговорить с вами об аспирантуре, о фольклоре, о семиотике, о международном положении, о зарубежной живописи, о рябой собаке... А почему в парке, а не на кафедре? Потому что погода прекрасная.
А я поняла иначе, я поняла непозволительно. Но разве так смотрят, когда приглашают поговорить об аспирантуре?..
Вернулась Ксения, очень оживленная.
— Всю кровать просолила, лежишь, как огурец в бочке! — сказала она.
На это можно бы и обидеться, но ведь так выражается у Ксении самое неподдельное участие.
— В литературе трагедию можно не разрешать. Пусть трагедия остается в душах героев! Это впечатляет... Но я не хочу, Фаинка, чтобы трагедия осталась в твоей душе. И я решила бороться за тебя!.. Прежде всего — пей кофе!
Фаине пришлось встать с кровати, потому что подруга намеревалась подать ей кофе, как больной, и уже расстелила салфетку на одеяле. Но после завтрака она, несмотря на негодование Ксении, снова легла.
— Да отвлекись ты хоть немного от своих узких переживаний! Подумай обо мне, например! Во мне произошел переворот, а ты ничего и не заметила!
— Какой переворот?
— Ага, все-таки спрашиваешь!.. Так вот. На экзамене пришлось мне объяснить, почему я написала дрянную дипломную. Пришлось сознаться в наплевательском отношении к делу... Ф-фу! До сих пор глаза жжет, так стыдно!
— Ты это всерьез?..
— То-то и есть, что всерьез. Пришла домой и выкинула в помойку все свои рассказы и прочие опусы. Потому что они тоже...
— После пожалеешь... — через силу сказала Фаина.
— Жалею, но иначе не могу. Перестраиваю отношение к жизни... Вот каким высоким штилем я с тобой говорю! Чувствуй!.. Кстати, о стиле. Я как раз вчера натолкнулась на замечательную статью… — Ксения схватила журнал и начала читать, поглядывая на Фаину, слушает ли. — «...Возникла литература, связанная с отрицанием прежней фразеологии. Литературные герои отрицали любые высокие слова. Это означало: они отрицают ложь, подчас стоявшую за этими словами... Но приверженцы «нового» стиля еще не замечают, что юмористическое, ироническое, пародийное слово, проникшее в литературу, лишь по традиции выступает в качестве сигнала чего-то нового. За ним уже стоят свои каноны, своя инертность мысли и стиля...» — Ксения вздохнула. — Плохо ты слушаешь, Фаинка.
После этой попытки развлечь Фаину она принялась убирать комнату. Подняла пыль, налила воды на пол, размазала тряпкой, вытряхнула из пепельницы окурки через окно кому-то на голову. Затем — это было уже удивительно — повесила на гвоздь какую-то акварельку. Очень довольная, окинула взглядом свой уголок и, обернувшись к Фаине, торжественно сказала:
— Теперь все в порядке. Завтра приезжает Вадим!
Фаина не могла не засмеяться.
— Да. Я послала ему телеграмму такого содержания, что он приедет непременно. Придется тебе, дорогая подруга, вылезть из-под одеяла.
Но Фаине уже надоело смотреть на нее. Хоть бы ушла куда-нибудь...
Ксения, однако, не ушла и весь день заставляла Фаину пить, есть, вставать с кровати.
Назавтра Фаина проснулась поздно. Сон еще заманивал ее вернуться в поддельную жизнь, где не было печали, и она, на мгновение открыв глаза и увидев пустую кровать Ксении, закуталась в одеяло. Сон пришел опять, но на этот раз какой-то шутовской. Будто бы Ксения показывает газету, а в ней портрет Вадима. Держит газету, а Вадим начинает кривляться, растягиваться. Фаина смеется и думает: «Вот идиот! Разве можно позволять себе такое? Это только при Гоголе бывает!..» Но смеяться во сне очень трудно, потому что Гоголь в экзаменационном билете... Короче говоря, Фаина проснулась окончательно и решила одеться и умыться, а то скоро будешь, как тот угодник, что сорок лет не мылся.
Заглянула в кухню; там уже чувствовалось запустение, все понемногу разъезжаются и каждая оставляет какую-нибудь гадость на подоконнике: мутную бутылочку, пустой тюбик, щербатую гребенку. На полке стоит чайный гриб... тьфу, видеть не могу — губа на сторону, склизкий... Плита грязная, чей-то чайник перекипает.
Фаина пошла обратно. В верхнем коридоре с другой лестницы навстречу ей поднимались, смеясь, две студентки, самые шумные и веселые девушки в общежитии, а вслед за ними показалась Ксения и с ней еще кто-то с чемоданом в руке. Увидев Фаину, Ксения бросилась к ней, оставив спутника, прижала губы вплотную к ее уху, сказала «Вадим!» В ухе зазвенело, Фаина не успела опомниться, как все трое уже очутились в комнате, — тот, с чемоданом, тоже.
— Познакомься! Это Фаина, — победоносно произнесла Ксения и вскинула руки кверху, как циркач после удавшегося трюка.
Вадим — он был невысокого роста, очень подвижной — быстро снял пальто, повесил у двери, шляпа полетела на чемодан.
— Витаньев... Извините за вторжение!
Легкое смущение Ксении проявлялось в слишком бурной болтовне:
— Хочешь чаю? Мы живо устроим... Пока пусть чемодан здесь, а потом я пойду к коменданту, на той половине у мальчиков есть свободные места. Ты тоже бывший студент, как-нибудь да устроим!..
— Можно и в гостиницу, — подал голос Вадим, озираясь с явным любопытством.
— Нет, зачем же! Ну, садись, садись... Фаинка, тебе все еще нездоровится? Глаза совсем распухли. Ничего, пройдет... Так как же чаю? Садись!..
— Спасибо, я в вагоне пил. — Вадим не сел, продолжая озираться.
Фаина, чтобы отвернуться от него, пошла оправлять свою кровать, кое-как уже застланную. Потом, придвинув стул к кровати, села — нельзя же все время стоять спиной к нему. Вообще неловко и непонятно... Но что он никаких писем не писал, можно поручиться, — смотрит прямо в глаза, простодушно и весело.
— Мне, может, лучше все-таки уйти? — спросил он. — Я же мешаю, если вы нездоровы...
— Нет, нет! — перебила Ксения, без толку вертясь по комнате. — Это не беда, что нездорова, ты нас немножко развеселишь, отвлечешь, и болезнь скорее пройдет. Это у Фаины даже не болезнь, а так, недомогание, скорее психического... психологического характера... Да нет же, нет, это не Фаина, а я сама псих! Ты нам поможешь, обеим поможешь, потому что я тоже на краю гибели!..
— Да вы садитесь, Вадим, — сказала Фаина, чтобы положить конец сумасбродной болтовне Ксении.
Вадим посмотрел не то удивленно, не то опасливо и спросил:
— Позвольте... почему именно Вадим? Это ваше любимое имя?
Как ни мало хотелось Фаине смеяться сегодня, она засмеялась от души, глядя на Ксению.
— Мне послышалось... А как ваше имя?
— Андрей.
— Очень хорошо. Садитесь же, пожалуйста.
Вадим, он же Андрей, сел, оглянувшись на Ксению. Очевидно, что-то здесь казалось ему странноватым. Та опять завертелась, как на сковородке.
— Ничего, ничего, Андрей! Все обойдется, ты к нам привыкнешь, Фаина очень интересная, милая. Это у нее сейчас меланхолия, совершенно излишняя, и у меня тоже. А Фаина еще лучше, чем я тебе говорила, вот увидишь!..
— А что она вам обо мне говорила? — коварно спросила Фаина.
Андрей заморгал, припоминая, послушно ответил:
— Да ничего особенного, все хорошее... Она очень быстро говорила, всю дорогу говорила, пока с вокзала шли. А почему это важно?
Тут Ксения, взяв чайник, с озабоченным видом отправилась в кухню.
— Да вот вспомнил! Говорила, что у вас блестящая будущность, что вы окончили с отличием, что будете аспиранткой, — добросовестно отчитывался бывший Вадим, вероятно, боясь расстроить психическую.
— Ну, хорошо... Я только между прочим спросила. А вы поэт?
Вадим рассмеялся.
— Нет, что вы! Я в леспромхозе работаю. Но стихи я люблю...
— Вы к нам надолго?
— На несколько дней удалось вырваться. Меня телеграмма Ксены встревожила все-таки, хоть и знаю, что она фантазерка. Подумал, подумал и приехал.
— Она вас напугала телеграммой?
— Отчасти да... — Вадим вынул телеграмму. «Приезжай немедленно, диплом провалила, нужна помощь...» Ксена мне двоюродная, росли вместе, и, знаете, хоть не очень переписываемся, но... Словом, я рад бы помочь, только пока еще не уяснил, что от меня требуется...
Явилась Ксения, с чужим чайником. Пытливо оглядела обоих.
— Там у кого-то вскипел, я взяла, а свой поставила. Давайте чай пить!
Вадим вскочил.
— А я вафли привез! — Он живо вытащил из чемодана кулек, потом коробку. — И конфеты... Пожалуйста!
Уселись пить чай. Ксения улыбалась и, кажется, гордилась своим братцем, хотя он был только Андрей.
— Он инженер, — веско сказала она. — Серьезный человек. Расскажи Фаине, что ты там делаешь в леспромхозе. Она очень уважает мелиораторов, но лесную промышленность также, и это правильно. Объясни ей вкратце, что ты делаешь!
— Вкратце? Надо дерево срубить — по возможности спелое — распилить и отправить по назначению. Понятно?
— Понятно, но Фаине ты потом расскажи подробнее. Скипидар тоже гоните?.. Давай-ка сюда чашку!
— Я сам налью... А вам, Фаина? Берите же конфеты, сам выбирал, старался... О скипидаре я тоже расскажу, только погодя... Так что же у тебя, Ксена? Какой провал?
Ксения притворилась, что в душе у нее драма.
— Дипломная не вышла, позор на весь курс. Рецензент придира. Надо заново писать.
— Они все придиры. Бери вафли!..
Ксения тяжело вздохнула.
— Он и Иру Селецкую чуть не провалил, из-за него ей тройку поставили, а тема была совсем легкая: «Омонимы в романе «Евгений Онегин»...
— Омонимы? — сочувственно переспросил Андрей.— Кошмар... — Он разгрыз вафлю. — Но в одном я тебе, Ксена, завидую: ничего у тебя не ломается...
— Ломается, Андрей!..
— ...и все на складе есть, и работа только от тебя лично зависит. А у меня вот цепи для бензомоторных пил кончились, а новых не достать! Карданный вал поломался, хоть галстуком связывай. Опять же сказать, омоним у тебя не бригадир, он пьянствовать после получки не идет и полбригады с собой не уводит… Работка у тебя не пыльная, Ксеночка!
— Не хвастайся, Андрей, своими трудностями! Мы и так болезненные, у нас комплекс... Мы помощи ждем!
— Да я с радостью! Но чем же я помогу?.. Ха... омонимы! Ну, спасибо за чай, за сахар, все! — Он посмотрел на Ксению, потом на Фаину. — Я, знаете, насчет этих самых ни бум-бум, подзабыл и несколько теряюсь. А впрочем... — Он встал. — Где твое рабочее место? Здесь? Ну вот, садись... Чистая бумага, прекрасно! Садись, Ксена!
Ксения, забавляясь, села.
— Фаина, убери, пожалуйста, со стола, — вежливо попросила она.
— Теперь, брат, выводи сверху покрупнее «О-мо-ни-мы»... — говорил Андрей. — Я потом тебе напишу заглавие замечательным шрифтом… Ну, что ж ты хохочешь, сама вытребовала помогать!
— Да какие омонимы! У меня совсем другая тема!
— Так пиши свое заглавие. Я жду... Написала? Теперь я пойду посмотреть город, устроюсь в гостинице, а ты будешь сидеть здесь и писать. Вернусь, проверю. После обеда опять писать — вечером проверю... Жаль, что вам, Фаина, нездоровится, вы бы показали мне город. Давно хотел приехать, и Ксена когда-то звала, но, знаете ли, страшно завален работой... Написала?..
Фаина понесла чайник в кухню... Завтра суббота. Надо уложить вещи и в воскресенье уехать. Глаза отойдут к тому времени, и душа будет не такая заплаканная. Надо ехать.
Когда Фаина вернулась, Андрея уже не было. Ксения сняла очки и посмотрела на нее ясным зеленым взором.
— Понравился тебе прототип Вадима?
— Зачем ты его вызвала? — хмуро спросила Фаина.
— Для разрядки. Попробуй сейчас лечь в кровать и погрузиться в скорбь!.. Да и вообще, почему же кузина не может вызвать кузена, если она провалилась с дипломной? Естественный порыв!.. Ну, что ты пытаешься выразить укоризну? На распухшем лице это все равно не получится! Ничего дурного я не сделала. Андрей получил маленький отпуск, всем приятно и полезно. И нельзя же все любовь, да любовь, да разлука, нужны и леспромхозы и более широкий взгляд на мир. Уверяю тебя, Андрей человек содержательный... Хотя, по-моему, это неудачный термин. Что, собственно, мы содержим? Ведь содержать можно и страшную дрянь. Лучше я просто скажу, что Андрей славный парень… Укладываешься?
— В воскресенье уеду.
— Ладно, укладывайся... Так что я хотела сказать? Андрей вот чем хорош... Не дергайся, пожалуйста, я тебе его не сватаю!.. Хорош он тем, что в нем нет ложной многозначительности. Ты понимаешь, что такое ложная многозначительность, Фаина?
— Нет, не понимаю, — нетерпеливо отмахнулась Фаина.
— Гм... А должна бы понимать. Ну, я тебе на примере объясню. Видела я фильм. Девица многозначительно идет в ванну, медленно, чтобы зритель рассмотрел все стати. После ванны, слегка завернутая в полотенечко, ходит по комнате с глубокомысленным видом. Есть у нее птичка, обыкновенная пичужка, но на нее, беднягу, возложен какой-то идиотски глубокомысленный подтекст. Вокруг девицы, видишь ли, безумная роскошь, а она тянется к бесхитростному воробью! Дальше показан герой — в благородной лачуге. Он тоже многозначительно любит птиц, это идиотский лейтмотив всего фильма. Затем — встреча героев, и опять птица — он дарит ей деревянного аиста. В этом тоже должен быть глубокий смысл плюс юмор... А в конце показано, как благолепно спит на двуспальной кровати положительная чета и как развратно возлежит отрицательный соперник... Все!
— Очень мило, — сказала Фаина, — но к чему это можно пристегнуть и зачем оно говорилось?
— Как зачем? Во-первых, критика на зарубежный фильм, что само по себе почтенно, а во-вторых, мораль: Алексей Павлович Гатеев таит в себе многозначительную птичку, которая и сбивает тебя с катушек.
— Это ты его развенчиваешь? Оставь ты меня, Ксения, в покое... Ты какая-то кривая, ей-богу!
— Ну вот! Я же тебя развлекаю, как могу и чем попало. А если выходит неуклюже, то только от большого старания.
— А ты не старайся.
— На что же тогда дружба? Ты ведь мешала плакать Кае!.. Удивительно, сколько в этой комнате пылких страстей и сырости. Откровенно говоря, Фаина, я тоже испытываю желание кинуться в водоворот любви!
— Кидайся на здоровье.
— Какое уж тут здоровье... Буду искать возлюбленного, это хлопотливо. Мужчинам легче...
Ксения взяла книгу. Фаина в первый раз за эти дни посмотрела на нее внимательно. Она даже похудела как будто. Так привычно ее зубоскальство, и забываешь, что и она молода, что и у нее есть печали… Любит кого-то, кого нет на свете. Так странно...
Ксения, почувствовав взгляд Фаины, подняла голову, прищурилась. Почитала еще недолго и бросила книгу, обругав автора:
— Ну его в болото! Одним глазом читаешь, другой вываливается с тоски. Пьяные бабы, душные, циничные признания, а ему не противно, любуется!.. Так о чем мы с тобой говорили, Фаинка? Ах да, о том, что я хочу найти возлюбленного по мужскому способу, то есть на берегу водоема. Скоро лето, я застукаю его на пляже и пленюсь его наготой. Я уже пишу стихи на эту тему! Слушай!..
Гиеной впиваюсь в ляжек бесстыдье на пляже,
Задов замшелых задор выводит из спячки
сохатое солнце,
И, пыжась, оно стает на карачки...
— Что за свинство!.. — возмутилась Фаина.
— Ну, как угодно. Ваш шут умолкает. Пусть в вашем воспоминании об этих странных днях останется и моя маскарадная харя...
42
Сильвия сидела в парке. Вечер был прохладный, тихий. Солнце еще не зашло, мелкие серые тучки сбегались к нему греться. Пахло покосом, как в деревне; недавно скосили траву между кустами, и она лежала острыми рядками, нежно-зеленая с увядшими желтыми одуванчиками. Было чудесно сидеть здесь и подсчитывать, сколько дней осталось до старости. Говорят, в старости приходит успокоение. Пока прожито только три дня, они были мелкие, серые, но скоро она поедет к морю, и дни посветлеют под теплым солнцем.
На соседней скамье сидит молоденькая, кудрявая, с задорным носиком, держит ребенка. Сама в линялом платьишке, ребенок закутан в бабушкин платок. Лицо осунувшееся, бледное... Не отрываясь, смотрит на ребенка — все в нем, все в него ушло — смех, задор, беззаботность... Алексей Павлович любит детей, Вику закормил было конфетами.
Он тоже скоро уедет. Сейчас еще не все равно, куда, но когда-нибудь станет все равно. А пока нужно терпеть запах сена, едва слышную зовущую музыку, срезанные одуванчики. То есть, почему же терпеть? Ведь здесь так хорошо.
Справа, по боковой аллее идет Давид Маркович. Его можно окликнуть, но не стоит. О чем с ним говорить?.. Но вот он сам оглянулся и увидел ее.
— Тем лучше, — сказал Давид Маркович, не здороваясь, и сел рядом.
— Что, собственно, лучше? — спросила Сильвия, повернувшись к нему. Сегодня он без блеска — припорошило...
Закурил, конечно, но это ничего, пусть заглушит томные запахи.
— Сильвия Александровна, поговорим серьезно.
Сильвия взглянула опасливо. Он начал не сразу, выкурил полпапиросы.
— Я хочу внести в наши отношения простоту, — сказал он наконец, гася папиросу. — Нет, нет, вы не беспокойтесь! О Гатееве я оставлю свое мнение при себе...
— Давид Маркович, — перебила его Сильвия, волнуясь, — лучше потом, позже когда-нибудь...
— Нет, сейчас. Я вижу, вы стали избегать меня. Вот уже три дня вы, невежливо даже, уходите, чуть не прячетесь. Этого не нужно. Для меня это слишком тяжело, тяжелее всего другого... Почему вы боитесь моего чувства? Извините меня, это глупо. Неужели вы думаете, что я способен предложить вам руку и сердце? Уж поверьте мне — для меня так же невозможно поцеловать вас, как невозможно вас задушить, хотя и то, и другое — самые мои... гм... заветные желания. Я бы не женился на вас, даже если бы вы меня просили об этом... Я лучше на Мусе женюсь, ей-богу!..
От неожиданности Сильвия засмеялась, хотя ей было далеко не весело.
— Именно, именно! — подтвердил Давид Маркович. — Какой тут смех? У нас с ней шансы равны: я ее не люблю, она меня не любит, но мы, как говаривалось в старину, друг другу не противны... и вполне могли бы образовать содружество для удовлетворения физических и духовных потребностей, а также для продолжения рода… Хотя не знаю... Она такая добродетельная — она, может быть, будет размножаться почкованием...
— Давид Маркович, пощадите!.. — взмолилась Сильвия с досадой и со смехом.
— А я уже молчу. — Он поднялся. — Пойдемте, вам холодно, дрожите... В общих чертах это все, что я хотел сказать вам, и, пожалуйста, обращайтесь со мной попросту. Могу я требовать от вас простого обращения? Могу!.. Пойдемте!
Спускаясь с горки по главной аллее, Давид Маркович подчеркнуто деловым тоном спрашивал у Сильвии, как ему экзаменовать ее студентов. Сильвия объясняла так же деловито, и вдруг вспомнила:
— Там есть такая Вельда Саар... Вы ей задайте дополнительный вопрос, если она будет путаться. Она все-таки кое-что знает.
— Вот как! Любимчики? Либерализм?
— Она противная, Давид Маркович, и несчастная. Останется без стипендии и будет плакать в подвале...
— Эва!
— Ну да, вы на экзаменах несправедливый. Ксения Далматова у вас на совести...
— Это нам хуш бы что!..
— И поэта чуть не срезали, Роланда Баха.
— Я не резал, он сам напоролся на нож, как царевич Дмитрий... Добро, ничего с вашими любимчиками не сделается, уезжайте поскорее. Напишите мне открытку с дороги, потом на месте сообщите точный адрес. Я вам тоже открытку пошлю. Люди должны быть вежливыми и общительными...
Он довел Сильвию до дому, балагуря, как всегда, как раньше. Но когда Сильвия открыла уже дверь, сказал:
— А все потому, что она умерла рано. Была бы она теперь полуседая, как я, поблекшая, но своя, кровная, и я жалел бы ее... Ничего, ничего, не надо так смотреть... До свиданья! Чебрец-корень, терт мелко, грежение ночное отводит... Позвоните, я вас на вокзал отвезу!..
Ушел Давид Маркович.
Дома ее ждало письмо. Сильвия осторожно отрезала ножницами край конверта, стараясь не задеть письма. Оно будет долгие годы лежать вместе с конвертом, пока не пожелтеет, не истлеет бумага.
Один лист, несколько строчек.
«Сильвия! Мне жаль, что у нас нет ребенка. Мы
не расстались бы, и это было бы самое верное.
Бывает трудно покончить с прошлым, но покончить
с настоящим — это жестокая, бесчеловечная
расправа. Не с вами, нет, а с собой.
Конечно, я уеду отсюда, уеду один. Это тоже будет
бесчеловечная расправа, но больше мне нечего
подарить вам. Алексей».
Сильвия застыла в задумчивости, сначала тронутая, потом разгневанная этой концовкой, которая, по его мнению, так изящно завершает эпизод «Сильвия». Уедет один! Без сомнения, сейчас он уедет один, хотя бы из благовоспитанности — нельзя же так, губы еще не остыли...
Посидев еще, она начала рассуждать спокойнее. Ведь это даже не измена: он уступил тому огню, который сжигал его все время. А уж кому знать, как не ей, какой бывает огонь.
Письмо надо спрятать в ящик стола, бережно, чтобы не помялось, — ему ведь придется лежать долгие годы.
Но Сильвия вдруг усмехнулась, ловя неясную мысль. А можно ли хранить такое письмо? А что, если заглянут в него ненароком любопытные глаза?.. Ну, ничего. Пусть полежит, пока эти глаза научатся читать...
Жаль, что у нас нет ребенка? Ребенок будет, Алексей Павлович, а вот драм не будет никаких. Я не стану от него скрывать, что у него есть отец, и, если захотите, вы сможете его видеть. Но немножко позже, когда вы найдете свою Фаину. К чему бессмысленные жертвы и отказы? Мне они не нужны, такие подарки.
Слез тоже не будет, не должно быть. Наступает прекрасное, чистое время... Сильвия Реканди любит отца своего ребенка, и теперь ей не стыдно за эту любовь. Будет любить долгие годы, но никогда, никогда она не придет к чужой двери и не заглянет в чужое окно.
43
Фаина поднялась на рассвете. Тотчас же проснулась Ксения и начала быстро одеваться, сонная, но полная решимости творить добро.
— Андрей обещал прийти рано, я сейчас завтрак устрою, — говорила она, набивая на ноги нерасшнурованные туфли. — Фаинка, слушай... Хочешь, я уговорю его прокатиться с тобой на пароходе. Тебе будет веселее, а?
— Нет, нет, не будет веселее.
— Жаль... Вадим материализовался, но и в таком виде годен лишь на то, чтобы нести твой чемодан. Какая роковая ошибка!.. — Ксения зевнула и сладко потянулась. — Ты смотришь на Андрея сверху вниз потому, что он кажется тебе понятным. А некая унылая фигура, которая занимает теперь твои мысли... Не смей перебивать, я дело говорю!.. Данная фигура сумрачна и неразговорчива, не так ли? Вот тебе и интересно узнать, что там у нее внутри тикает...
— Наша песня длинная, начинай сначала.
— Фаина! Нас ждет разлука! Должна же я сделать для тебя все возможное... Ты не видела, где мое полотенце?.. Андрей — золотой парень. Хвастун немножко насчет своей работы — вчера, например, говорит мне: «Если я вам стула не сделаю, будете вы изучать свои омонимы, стоя!» Но это от молодости... Да в конце концов и правильно. А главное — цельная натура. Эти надтреснутые герои, которые так нравятся женщинам, зародились в старых романах, но, как видно, битая посуда два века живет...
— Поссориться нам с тобой на прощанье? — сказала Фаина, но скорей шутя. Сегодня утром боль обманчиво затихла. Горе не нашло еще постоянного места в душе, давало роздых...
— Ты уже умывалась, Фаинка? Прелестно! И глазки уже прорезались на личике! По правде сказать, ты сейчас в этом самом... перигее, то есть в апогее... Не понимаю, где мое полотенце?.. Ты в смятении, и это тебя очень красит, но не в этом суть. Тебе нужен был заряд, или взрыв, или что-то такое. Словом, ты уже не будешь спокойно плыть по течению, и это можно приветствовать. Изобретая Вадима, я смутно намечала такую цель... Да не лезь на стену, давно все прошло, ничего я не говорю! Через полчаса избавишься от меня! — Ксения умолкла и начала кромсать колбасу к завтраку.
Фаина отняла нож — страшно было смотреть, как он вихлялся у нее в руках, у этой несносной Ксении, с которой все же так жалко расставаться, — нарезала колбасы и сыру, накрыла на стол.
— Ксения, ты ко мне в гости приезжай! Недалеко ведь...
— А дипломная? Ты обо мне забываешь. Думаешь, я поболтала, и опять буду такой же, как была. Перемены происходят не только по слезно-романтическим причинам.
— Можешь у меня писать, — сказала Фаина.
— Ну что ты? А библиотека?.. — Темная тучка, налетевшая было на Ксению, рассеялась, вернулся веселый задор: — Я к тебе приеду под осень, буду омываться в волнах Чудского озера и писать эпилог.
— Эпилог?
— А как же! Подобьем итоги последнего года, Что мы имеем на сегодняшний день, дорогие однокашники? Двое молодых кретинов причалили к пристани, Тейн с супругой. А дальше? Вельда раскаялась и никогда не появляется на банкетах в бикини. Юрий Поспелов, себе на удивление, внедряет грамотность. Ира Селецкая сеет разумное, доброе, вечное, а также склочное... А Роланд Бах закончил поэму о пользе уничтожения архитектурных излишеств. Ура, ура, исполать ему! Это Сологуб нашего века — он берет кусок старой инструкции, сухой и грубой, и творит из нее легенду!..
— Вот твое полотенце, иди в умывалку!
— Пойду, но что мне сказать о нашей комнате? Обидно за нее... Я вообще за счастливые концы. Всегда желаю героине встретиться с Вадимом и народить ему маленьких Вадимчиков! Но для этого автор должен иметь невинность и чистое сердце... Девушка в тюбетейке прощает изменника — тонконогого усатого красавца, и они вдвоем пасут баранов в лучах восходящей зари. Бараны восхищенно блеют! Или так: симпатичный пьяница под руководством невесты отрекается от спиртного и, женившись, заботится об улучшении кооперативной торговли. Да мало ли что... Ах, досада! Отличный был бы конец! Андрей очень подошел бы, потому что он от сохи. Мы с ним оба от сохи...
— О господи...
— Но это правда. Его отец агроном, я в детстве у них каждое лето жила.
— А бараны блеяли, глядя на соху?
— Во всяком случае Андрей вырос, глядя на баранов, то есть на здоровых оптимистов. А ты склонна к ипохондрии. Ипохондрики же, в худшие свои минуты, едят солому, землю, мел, а иногда даже майских жуков и гусениц. Андрей отвлекал бы тебя от таких привычек...
— Я попробую сама отвыкнуть.
— Ну, кажется, идет. Это его шаги!.. Ты все уложила, Фаинка?
— Книги и зимние вещи остаются, а так все...
Ксения надела очки и распахнула дверь перед Андреем.
— Входи, входи, давно ждем!.. Садитесь за стол, ребятки!
— Ну, как тут с омонимами? Здравствуйте! — весело сказал Андрей. — Хотел такси взять — ни одного! Но и так успеем...
Его веселый, непринужденный тон вызвал у Фаины ощущение неловкости, будто было что-то предательское в разговорах, которые велись здесь о нем...
— А я вот думаю, не проехаться ли тебе с Фаиной по озеру? — не утерпела-таки Ксения, когда сели за стол.
Фаина промолчала, рискуя быть невежливой. Но этот Андрей до того легок на подъем, что...
Однако Андрей ответил не совсем так, как ожидала Фаина. Усмехнувшись, тоже не совсем так, он сказал:
— Я очень рад, что повидался с тобой, Ксеночка. Только меня почему-то смущает воспоминание о ненужном мальчике... — Он повернулся к Фаине. — Знаете, Ксения когда-то убедила меня, что она волшебница и что у нее есть волшебная мазь, и от этой мази я в любую минуту могу превратиться в ненужного мальчика. Ровным счетом никому не буду нужен — ни папе, ни маме, и вообще ни одному человеку на свете... Я часа два ревмя ревел, пока она не пообещала выбросить мазь вон. А ты ее наверняка выбросила, Ксеночка? Что-то я не уверен...
— Как тебе не стыдно, Андрей! — захохотала Ксения. — Ты очень нужный мальчик!
— Да, да. Но скажи правду, зачем ты прислала телеграмму?
— Я тебе после объясню, сейчас пора нам отправляться... А вкратце могу сказать. Без тебя наш последний год кончался тупиком, и твой приезд символизирует выход в будущее!
Андрей безнадежно махнул рукой и засмеялся.
На улице Фаина невольно оглянулась на белые колонны. Их, конечно, можно увидеть еще не раз, можно и войти в тяжелую резную дверь, но тогда будешь уже гостьей. И на этой зеленой горе будешь гостьей, и везде. Скорее бы пристань, скорее бы пройти знакомые улицы... Андрею не трудно нести ее чемодан? Нет, нет, нисколько... Хоть бы солнце было, хоть бы не серый рассвет!
Пароход еще качался в тумане у другого берега. Сегодня не «Александр Невский», сегодня идет «Пейпси». Тем лучше — с «Александром Невским» связана одна воображаемая поездка, и ее не надо...
Купили билет, сели на скамью — и тут, запыхавшись, прибежала Кая, сияющая, с пучком белых левкоев.
— Мы к тебе приедем, Фаина, ты не скучай... Лео тоже приедет, он тебя очень уважает... — лепетала она, вытирая лицо платком. — Вот щека вся в саже, это я торопилась. Лео на работу уходил, а я боялась сюда опоздать... Лео на железной дороге работу получил, мы так рады!
— Крушения обеспечены, — сказала Ксения. — Ты его яичницей кормила? На другой щеке желток и еще немножко сажи. Три хорошенько... О, святой домашний очаг! О, тихое блаженство!..
Подходили пассажиры: женщины с корзинками, два-три рыбака в высоких сапогах, старик со множеством кульков и пакетов, мальчишки. Ксения с любопытством оглядывала всех, приговаривая:
— Прекрасно, прекрасно. Толща народа, соль земли... Фаина, не отчаивайся! Я напишу о тебе поэму!..
— Пароход поворачивает сюда, — заметил Андрей.
— Я напишу о тебе, Фаина, с дрожью в голосе, — не унималась Ксения. — Пусть чувствуют! Дочь рыбака, выросшая в камышах Чудского озера, достигла вершин науки!
— Господи, почему же в камышах?.. — засмеялась Кая и вдруг крепко обняла Фаину.
— А где же еще? Я напишу тебя, Фаина, на фоне ряпушки и сребробородых патриархов! — Ксения незаметно кивнула на старика, пересчитывавшего тюки и свертки. — На фоне кондовых старцев, переполненных благочестивыми изречениями!
— Ну, изречения-то у них как когда... — рассеянно возразила Фаина, и тут же старик в самом деле произнес нечто фольклорное, сердясь на свой неудобный багаж.
Пароход продолжал медленно, неуклюже поворачиваться; народ бросился к причалу. Андрей тоже прошел вперед с чемоданом.
— Идем все вместе, Фаина! — бодро говорила Ксения, но видно было, что она нервничает все больше и, пожалуй, поехала бы провожать печальную подругу, чтобы та не утопилась по дороге. — Иди, иди, тетки с корзинами уже на палубе...
— Евстратий! — кричала самая толстая тетка. — Куда тебя понесло, мазурика? Держись за меня!..
Евстратий — лет трех, в ситцевых штанишках пузырем — упирался, не хотел идти.
— Бес в тебе засевши, что ли! — сердилась тетка, таща его за руку. — Вот надаю по шее!..
Ксения подмигнула Фаине:
— Садись рядом, записывай!
Заняли место на палубе. Фаина заглянула было в дверь с надписью «Салон», но салон этот оказался очень пыльным. Нет, на палубе лучше...
Пора прощаться, грустно. Было бы еще грустнее, но, по счастью, сбоку выскочил лысый мужчина, растолкал подруг и поставил у ног Фаины четырехугольный бидон, из которого сочилась керосинная влага. Пришлось пересаживаться, последние минуты пробежали незаметно, и вот уже кто-то крикнул: «Отчаливаем!..»
— Ой, ой!.. — запищала Кая и, чмокнув Фаину в щеку, кинулась к сходням. — Жди нас, Фаина! До свиданья!..
Ксения поцеловала нежно, сказала вполголоса:
— Живи вольно!.. Продлённый призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака!..
Протянул руку Андрей.
— Будьте здоровы, Фаина. Ненужный мальчик желает вам всего доброго!
Пароход качнулся. Кая машет платком, Ксения растерянно улыбается... Плывем, плывем, город медленно тонет в сером сумраке. Исчез.
На палубе притихли, только лысый мужчина в самозабвении мечется от борта к борту, прикидывая, куда бы установить понадежнее свой бидон с керосином, да Евстратий мурлычет песенку, смотря на воду из-под локтя строгой бабки.
Всю реку прошли в тумане; береговые кусты маячили сквозь беловатую мглу, облака плавно качались, и небо плыло вместе с рекой. Было холодновато, но Фаина не уходила с палубы. Рядом с ней сидели две закутанные женщины, тоже грустные, тоже обиженные...
Томит утренняя дремота. «Пейпси» чуть вздрагивает. Голова кружится, дымные берега гибнут и расплываются тусклым сном. Сны редко бывают цветные... Слабый рокот, гул, плеск. Тише, тише.
В Браге все очнулись от полузабытья. Кое-кто сошел; сели разбитные пареньки в кепках, начали пересмешничать.
— С Подборовья ветер, гляди, как бы скулу не продуло!.. Вон барышню застудило, какая скучная сидит!
— Барышня от цветков страдает — прокупилась в городе на левкоях!
— А ты попроси себе левкоя на память!
— Эу, сам проси! Она, видать, с характером, живо-два капитану пожалуется, а он тут бородатый — чистый Фидель Кастро... Давай лучше насчет буфета!..
Пароход уже колыхался глубже — река кончилась, вошли в озеро. Туман почти рассеялся, но вода зеленоватая, темная, и небо все обтянуто рваными облачками, как старой рыбачьей сетью. И все же здесь веселее — свое озеро. Вон моторка стрекочет, подымая носом белую кипень, а дальше на лодочке матаня в белой рубашке увозит девушку на край света, и еще трое плывут рядом с пароходом, и можно прочитать на борту надпись: «Форель»...
Обиженные женщины тоже будто повеселели, разговорились... Лучок нынче уродится, и перо зеленое, жирное. А рыбы-то мало, Кузьма Петрович ничего не поймал, так на уху разве. Да это что, будет еще рыба... Он на самодеятельный смотр поехал, а она на хозяйстве самодействует... Культура в него не с того боку входит, скоро весь евонный педикюр сквозь лапти увидишь... Погоди, Таня, я тебе про себя скажу: он же ей третий год алименты отрабатывает...
Фаина отодвинулась, не стала слушать про алименты — противное такое слово.
Смутно все. Как это Ксения, прощаясь, сказала? Призрак бытия синеет за чертой страницы...
Из «салона» выбрался патриарх, сходил в буфет за пивом, сел закусывать, похрупывая крепким соленым огурцом. Зубы белые, как у молодого. Владелец бидона сидел в задумчивости, нюхал свой керосин. Тоска какая...
По озеру бежали желтые дорожки пены, вдоль бортов пена кипела пышная, кремовая; рваную рыбачью сеть уже убрали с неба, кругом голубело, начинался легкий солнечный день. Но Фаина закрыла глаза. Никогда еще не ехала она так по своему озеру, такой равнодушной, такой усталой. Потом вспомнила отца, тетю Настю, но сердце от этого не согрелось. Вот и вернулась Фаинка домой. И зачем только ее отсылали...
Кто-то вздохнул рядом. Это старик что-то вспоминает, кого-то жалеет. Фаина посмотрела сквозь ресницы и удивилась — да это он ее жалеет?.. Понятный такой старик, свой, и, кажется, и она ему понятна...
Фаина подняла голову, не уклоняясь, встретила добрый взгляд.
Старик тоже не сразу отвел глаза. Потом помолчал, глядя в озерную даль, откусил еще огурца.
— Покуда молод, ничему конца нету. Это нам дно видно, — сказал он явно в назидание и вдруг сделал широкий, поистине патриарший жест: — Вон тебе, Маша, все озеро — неучерпаемая вода!.. — и, забрав пивную бутылку, пошел в буфет.
«Маша» посмотрела ему вслед, потом на озеро. Нечаянно уронила в воду левкои, но жалко не было, пусть плывут… пусть тонут.
Вскоре показался остров. Нежданно замерло дыхание, и Фаина улыбнулась. Дома не знают, что она едет, обрадуются.
Вот и все. Пароход осторожно идет по узкому каналу.
44
Мысли Фаины обострились в эти последние минуты. Сейчас она сойдет по сходням «в жизнь». И так малодушно? Так она привезла сюда свой долгожданный диплом? Сдалась при первом ударе... Нет, не сдалась. В работе все светло и ясно, в работе можно будет дышать. Но, садясь за работу, придется говорить ему: уйди, Алексей, я после о тебе подумаю, и вспомню, как ты обманул меня, не сказав ни одного лживого слова… Вот это правильно. Жаль только, что он не уйдет.
Лысый крепко держит в объятиях свой бидон, и на лице его написано блаженство, — видно, везет его в бескеросинное место. Тоже работишка!.. Грустные женщины безучастно глядят на воду, думают об алиментах. Да, да...
Причалили. Сходят, тащат корзинки, ящики, кули. Старик, подаривший озеро, едет дальше. Бидон — тоже дальше. Евстратий вертится вьюном, хочет сойти, но бабка ловит его сзади за ситцевые штаны:
— Куда, куда, мазурик! Не наша ж деревня!
Как зелено кругом, как пахнет травой весенний берег! Наша деревня...
Фаина спустилась по зыбким сходням; встречная толпа шумела, ребятишки сновали взад-вперед, чуть с ног не сшибли. Помедлив в смутной надежде, что увидит отца или тетю Настю, она заметила двух соседских парнишек, в сторонке глазевших на пароход, подозвала к себе:
— Снесите-ка чемодан к тете Насте!
Младший, круглощекий и рыжебровый, подбежал первым, но старший оттер его плечом:
— Без тебя управятся!..
Фаина отдала младшему пальто:
— Только по земле не волоки, держи хорошенько.
Мальчики пошли прямиком через луг, Фаина свернула на тропку, огибавшую озеро слева. На минуту остановилась — додумать. Надо же войти в свой дом, понимая себя... Любить его издали, радоваться тому, что он живет? Нет, это не для меня, не желаю я делать его иконой!.. Не дамся, не дам убить себя! Вот с этим и пойду домой — не дамся!..
— Подождите, Фаина!..
Голос был не очень громкий и будто чужой, но не могло же ей привидеться: из толчеи у причала протискивался Алексей Павлович... Без шляпы, в какой-то странной спортивной куртке, но это он...
Сердце забилось отчаянно, но почему-то она не удивилась — так по крайней мере вспоминалось ей после.
Гатеев заговорил сразу, быстро, еще не шагнув на тропку:
— А я вчера утром приехал! Ничего, славно здесь у вас, я уже рыбу удил с лодки, поймал одного забубенного окунька, хотя, правду сказать, неловко баловаться с удочкой, когда кругом рыбаки, сети, — мальчишкой себя чувствуешь... Но до чего интересно, сплошные фольклорные бороды, хоть вторую диссертацию пиши, ей-богу... Неудобно только записывать — подумают, корреспондент, или еще хуже... Удивительный остров, право же...
Что-то еще он говорил, поздоровался, кажется. Спросил, кажется, что-то о пароходе...
Не очень у него была складная речь, но зато можно было немножко опомниться — что же дальше, как ей держаться... Вот сейчас спросит, почему она не пришла в парк в семь часов... Да нет, не спросит, он, верно, и сам не приходил... А если спросит?.. А если скажет то, невозможное?.. Она была готова дать отпор, гордо отвернуться, отослать его в ту голубую комнату, молча уйти, но в том-то и дело, что отпор давать нечему: приехал фольклорист как раз туда, куда им и следует ездить, еще и окуня выудил... И уж так-то старательно объясняет, что его появление ровно ничего не значит, — а ей только остается неопределенно поддакивать…
— Просто позавидуешь вам, — продолжал он, не давая себе передышки. — Есть чуть-чуть отсталость, в городе больше живешь интересами нашего времени, но...
Враждебность, не совсем осознанная, заставила Фаину сказать:
— А что это значит — жить интересами нашего времени? Читать и разговаривать о том, что происходит в мире? Это и здесь можно делать.
Он был задет, но промолчал. Потом перевел разговор на другое:
— Удивительная тишина на улицах... то есть на этих зеленых прогалинках между домами, и, смотрите, нигде ни души, полное уединение...
Фаина усмехнулась. Уединение! Да пока они сейчас идут, сколько глаз уже оглядело их с ног до головы, сколько шепотков и смешков в каждом окне, за каждой занавеской...
Одна дверь отворилась, на крыльцо вышла женщина с половичком в руках — будто вытряхнуть.
— С приездом! — окликнула она Фаину. — А батя-то тебя в пятницу ждал. Нынче ночью на озеро поехал...
— Тетя Настя дома? — спросила Фаина.
— Дома, видно. Где ж еще... А может, на грядах.
Говоря это, женщина смотрела не на Фаину, а на Алексея Павловича, и так пристально, что тот поежился.
— Все друг друга знают, — пробормотал он, когда пошли дальше. — Пастораль... — Он вытер взмокший лоб.
— Вы у кого остановились?.. — Фаина вдруг запнулась, покраснев, — ведь он мог приехать с Сильвией Александровной...
— У Демидовых, на Меже. Матвей Семенович, четверо внуков: Федя, Ваня, Миша и Ириней... — Он засмеялся. — Дотошный дед, восемь раз спрашивал меня, кто я такой. Уж я исповедовался, исповедовался, а знаю — сейчас увидит меня, опять спросит...
Они прошли маленькую рябиновую рощицу, потом откос, где бродили лошади, щипля траву. Лошадей Алексей Павлович, кажется, побаивался... Потом чуть не завязли в ивняке у берега — Фаина забыла, что там вязко. В воздухе летал ивовый пух, цеплялся за ресницы, за губы; из-под ног прыгали лягушки. Коровы, натужливо мыча, лезли в озеро.
— Занятные коровы, — сказал Алексей Павлович, — весь день в воде.
— В лазоревой... — негромко добавила Фаина.
— Что?.. А, да, помню. Я вас упрекал за лазоревую воду...
— И напрасно! — строптиво молвила Фаина. — Вода у нас бывает и лазоревая, и черная. Разная бывает — теплая, ледяная, счастливая, горькая... Старик на пароходе сказал — неучерпаемая.
— Ка-ак?..
«Не вам бы пугаться русского языка...» — хотела было кольнуть фольклориста Фаина, но удержалась.
Когда выбрались на сухое место, Алексей Павлович остановился. Рукав клетчатой куртки у него расстегнулся, глаза были печальные, вообще — вид не геройский. Сердце Фаины на миг смягчилось, но тут в памяти у нее резко и ясно прозвучал голос Сильвии Александровны: «Извини, Алексей... мы тебя оставим...» Алексей, Алексей, ты, ты, тебя, тебя...
— Вы хотите вернуться? — спросила Фаина. — К Демидовым можно пройти вот здесь — выйдете прямо к дому.
— Нет, спешить еще незачем... — Он сдул с руки пушинку. Пушинка перелетела на плечо Фаины. — Целый час до отъезда. — Он посмотрел на часы. — Даже больше...
Желто-серая, похожая на сухой лист жабка прыгнула ему на ногу, подумала и ускакала в траву. С озера повеяло холодом, остро запахло тиной. Молчать было невозможно, говорить — еще невозможнее... Из кустов вышла девочка, сгибаясь под тяжестью ведра, босоногая, в синеньком. Она с любопытством посмотрела в их сторону и пошла быстрее, проливая воду. Они двинулись за ней, будто она указывала путь, но вскоре ее синее платье скрылось.
Мысли у Фаины путались, голова горела, горели слова, не доходя до губ. Сказать, спросить, добиться правды! Сказать, что она ненавидит и его, и всех женщин, которые смеют говорить ему «ты»! Спросить, зачем же он приехал мучить ее, если... Обнять его, прижаться к этой смешной клетчатой куртке, не отпускать никуда! Закричать, чтобы уезжал скорее, с глаз долой!
Вот уже виден дом, сейчас все кончится. Она в отчаянии взглянула, повернув лицо к нему, к ненавистному, и этим заставила и его посмотреть в лицо ей. Ага, и у тебя губы сжаты, чтобы не вырвалось слово, и у тебя отчаяние в глазах!.. Но кто же ты такой? Что ты сделал с нами обоими?..
— Это ваш дом, — хрипло проговорил он. — Прощайте, Фаина, не поминайте лихом... — Он протянул руку.
Фаина, не помня себя, не отрывая взгляда от его глаз, сказала — дерзко, вызывающе, едва не задохнувшись:
— Я руки не подам вам, Алексей Павлович.
Он побелел, опустил руку. Фаина бросилась к дому... Плакать нельзя, плакать сейчас нельзя!..
Он догнал ее, загородил дорогу.
— Послушайте, Фаина! Вам захотелось оскорбить меня, ну что же... пусть будет так. Но в человеческих отношениях имеют значение не только слова и поступки.
Ушел, не оглядываясь.
Вы здесь, мудрый старик? Вы правы, а он кругом виноват? Да еще и приехал сюда... А я прощаю ему его вины за эту встречу — никто никогда не отнимет ее у меня, даже вы, дорогой старик с палкой. Вы сердитесь? Тогда условимся, будто он и не приезжал, не шел по улице под колючими взглядами, не смотрел, не протягивал руку. Условимся, что не было последней встречи, и не синеет озеро.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



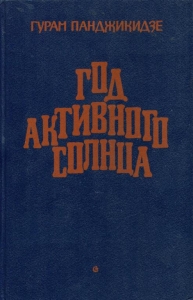
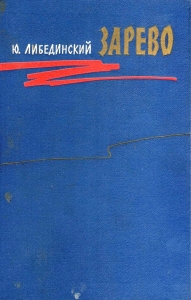
Комментарии к книге «Два семестра», Лидия Компус
Всего 0 комментариев