Константин Ершов Следы
Повести новеллы
Издательство
ЦК ЛКСМУ
«Молодь»
Киев 1969
Нормальное военное детство
Повесть
1. Довоенный пирог
Детство мое распадалось на две далеко не равные части: при пироге и после пирога. Первая часть почти целиком стерлась из моей памяти, кроме разве вот этой бессмертной для меня картины: собравшаяся вокруг довоенного пирога семья, отец, разрезающий этот пирог на части, и дымок, волшебный дымок над пирогом…
Вторую часть я помню гораздо лучше. К нам на Урал война пришла как-то постепенно. Вот мы еще сидим за столом, еще душист и тепел пирог, но уже война по-своему кроит его; еще вся семья наша в сборе, но уже торопится доесть свою порцию пирога дядя Федя — скоро ему на фронт, и двор наш как будто все тот же… и люди ходят по двору такие же, как и вчера… и уже не такие… и мягко, и покойно, как первый снег, опускается на крышу нашего дома та невидимая и бесшумная бомба, которая не сразу, не вдруг свершит свои бесшумные разрушения… Она заставит лечь в постель моего младшего брата, она превратит отца в худого нервного человека, она произведет странную перестановку в доме: исчезнет навсегда из квартиры часть вещей, а остальные вещи утратят свой смысл и назначение… А в остальном никаких перемен.
И в общем, детство как детство. Никаких особенных потрясений… Нормальное военное детство.
…Всё началось с пустяка. А именно: с коробки спичек. Я сидел в столовой и читал газету. Взяв машинально со стола сигарету, я так же машинально потянулся рукой к спичкам. Но спичек на столе почему-то не оказалось. Я проверил карманы: и там пусто. Тогда я заглянул под стол. Спички были там. Но чтобы дотянуться до них, нужно было залезть под стол. Очутившись под столом, я вдруг почувствовал, что мне вовсе не хочется вылезать оттуда. Я зажег спичку… Ее робкий огонек осветил старые запыленные кулисы стола… Кое-где видна была паутина. На старинных резных ножках памятные с детства царапины и какие-то слова, начертанные детской рукой. Я поднес спичку к надписи и прочел: «Фекла». И дальше: «Фаля, Фрол… Математика…» Я напрягаю зрение, память… Скрипят паркетины… Семья наша спешит к столу, Это вся некогда большая семья наша спет шит к столу! Усаживаются. Вот они все усаживаются! Ноги отца в довоенных туфлях с компостерными дырочками. Ноги матери. Никогда не сидят. Ходят, ходят… Дядины сандалии. Тетины ноги в домашних туфлях. Не достающие до пола ноги младшего брата Мишки. Пустует пока только мой стул. А уже слышен запах пирога.
Интересно, если вылезть из-под стола, куда все они денутся? Обиднее всего то, что куда-нибудь они обязательно денутся… Ну, а если попробовать так: ухватиться одной рукой за дядину штанину и, не выпуская этой самой штанины, ухитриться все-таки выглянуть из-под стола. Поглядеть на них. Пусть попробуют исчезнуть, штанина-то дядина у меня в руке! Да, как же, ухватишь дядю, когда он то и дело дрыгает ногой. Нервный. А где ж я сам-то? Что-то не видать… Ага, появился!
Запах пирога все сильнее. Должно быть, приступили к его дележу, и весь его нутряной дух пошел наружу.
— Эй, мальчик, — дергаю я за ногу мальчишку, — подкинь пирожка!
— Самому мало.
— А ты не жадничай, не жадничай.
Детская рука неуверенно протягивает мне небольшой кусок пирога. Я осторожно, чтобы не просыпать ни крошки, принимаю его из детских рук и медленно, растягивая удовольствие, ем. Вкусен довоенный пирог, начиненный мясом, яйцом и луком!..
Ну, вот и все. Кончился довоенный пирог. Началась вторая часть моего детства. После пирога. Вот ушли из-под стола дядины ноги, поменяв сандалии на солдатские сапоги… Вот унесли в соседнюю комнату больного Мишку… Я сижу за столом и собираю крошки. Раздается негромкий стук в дверь. Кто-то пришел. Я соскакиваю со стула и бегу открывать. Это эвакуированные из Киева. Усталые, они застенчиво улыбаются, стоят в дверях, не решаются войти. Высокий худой мужчина. Улыбающаяся белозубо женщина. И девочка, стоящая почти вровень с чемоданами, Я иду им навстречу.
— Вы киевляне?
— Да, мальчик.
— Пожалуйста, заходите…
2. Братья Ишутины
— А это наш двор, — говорю я Гальке, маленькой киевлянке.
Я ввожу Гальку в этот мир, щедро начиненный добром и злом. Его границы: «хулиганский двор», отгороженный от нас забором; учреждение, где работает мой отец; помойка, за которой кончается мир вообще, то есть, конечно, и дальше есть земля, но уже не обетованная — это уже какой-то безбрежный пустырь с непролазной грязью. Перейти этот пустырь еще никому не удавалось.
Средоточием зла, разумеется, является «хулиганский двор». Так окрестили этот двор взрослые. Двор кишит хулиганами.
— Одни хулиганы, — печально констатирую я. — Ни одного пионера.
Для наглядности на заборе появляются сразу три хулигана: Фаля, Коляй и Рока. Все трое настроены благодушно. По-видимому, у них часы меланхолии, философского самоуглубления. Лениво напевает Коляй:
У моего отца была рубаха, И десять лёт ее он не стирал…— Не бойся, — успокаиваю я Гальку и тайно показываю ей кончик рогатки.
Но это я бодрюсь: все трое внушают мне страх, в особенности Фаля.
На заднем дворе, у брандмауэра, стоит тощая лошадь. Лошадь эту отец мой привез из геологической партии. Часть причитающегося ей овса съедает наша семья. Лошадь тоща. Но что поделаешь! Иногда во время обеда я потихоньку, обжигая пальцы, прячу в карман несколько горсточек вареного овса, чтобы вернуть его лошади. Правда, это уже не овес, а каша.
— Ешь, Математика, — протягиваю я лошади извлеченный из кармана овес.
Математика? — спрашивает Галька.
— Ну, конечно. Это я ее так назвал.
Почему? Наверное потому, что отец, когда кричит на лошадь, каждый раз прибавляет что-то похожее на «математику».
Возле сараев — братья Игорь и Фрол Ишутины. Фрол колет дрова. Игорь выбивает одежду. На заборе висят какие-то старые брюки, полушубок. В руках у Игоря серый пиджак, он остервенело лупит им по забору. Фрол колет дрова легко и весело. А лицо Игоря мрачно. Он все стегает и стегает пиджаком забор. Слышно, как щелкают о забор пуговицы.
— Завтра братья уходят на фронт, — шепчу я Гальке.
Галька понимающе кивает. Уйдет весельчак Фрол. Уйдет богатырь Игорь. А вдруг не вернутся? И уж не видать ребятам нашего двора новых деревянных ружей и пистолетов, которые так здорово мастерили Фрол и Игорь Ишутины. Кроме того, Фрол и Игорь — основная сила, защищавшая наших ребят от хулиганского двора. Что будет с нами теперь?
Возвращаясь обратно, мы снова проходим мимо трио на заборе. Там небольшое оживление.
Часы философского самоуглубления миновали, идет небольшая разминка. Великовозрастные Фаля и Рока лениво пытаются сбросить с забора щуплого Коляя. Коляй вцепился в забор и орет благим матом.
Заметив нас, Рока приказывает Коляю:
— А ну, спустись и скажи этому козьему пастушку, пусть принесет баночку козьего молочка. Быстро!
Коляй спускается с забора и подходит ко мне:
— Ты что, глухой?
— Сколько? — спрашиваю я.
— Чего?
— Молока сколько принести?
— Ну, литр-полтора, — снисходительно уточняет Рока.
— Да она в день-то дает не больше литра, — пытаюсь возразить я.
— Ну, ты, — налезает Коляй на меня, — гуляй за молочком!
К счастью моему, мимо проходит Фрол с охапкой дров.
— Вам что от него надо? А ну-ка все за забор!
— А что, запрещено, да? — петушится Коляй.
— Давай, давай! — грозит Фрол, подталкивая Коляя поленом.
— Ни с места! — приказывает сверху Фаля. — Умри, но с гордо поднятой головой. Красиво.
У бедного Коляя ничего такого не получается. Он мечется с дикими воплями между забором и Фролом. Появляется Игорь. При виде его Коляй, уже в совершенной панике, бежит к забору и пытается вскарабкаться вверх. Но Фаля и Рока спихивают его обратно.
— А ну, помогите ему подняться, — командует Фрол.
— Что мы ему, няни? — презрительно произносит Рока и исчезает за забором. Вслед за ним исчезает и Фаля.
Инцидент исчерпан. Фрол смотрит на Гальку.
— А это кто?
— А это Галя… из Киева. Теперь будет жить у нас.
— Ну, вот и хорошо. А мы, Галя, уезжаем завтра. Такие дела… А ты, — Фрол обращается ко мне, — стой на страже двора, и вообще… А там и мы с Игорем подойдем. Обязательно. Ты, главное, до нашего прихода продержись. Понял?
Я, конечно, обещаю держаться. А про себя думаю: куда уж мне против такой силы! Один Рока чего стоит!
3. Фекла
Одной из виновниц инцидента с Коляем оказалась наша коза Фекла. Это ее молока захотелось Роке. Фекла появилась в доме вместе с болезнью моего младшего брата. Только козье молоко могло его спасти. Феклу выменяли на сколько-то мешков картошки у какого-то типа, которого, в довершение всего, еще и угощали не то брагой, не то другим алкогольным снадобьем.
— Коза хорошая, чистая, — нахваливал хозяин скотину.
Коза печально стояла в углу.
— Умница, — приговаривал захмелевший хозяин. — Фекла! Феклуша!
Коза обернулась и заблеяла.
— Отзывается, — вяло согласился отец.
— А как же! — захлебывался тип. — Коза — самая умная животная. Кошка на что умна, а и та глупее козы.
— Кошка глупее, — снова согласился отец, надеявшийся, что таким образом он скорее избавится от гостя.
— А уж молоко! — схватился за голову поклонник козьего ума. — Молоко ее можете на хлеб мазать — мед, маслице!
Он подошел неверными шагами к козе, поцеловал ее в морду и, махнув рукой, вернулся на место. Впав в меланхолию и тоску, он придвинул к себе баночку и стал задумчиво поедать дефицитный мед, купленный матерью. Я все ждал, когда же, наконец, гость выйдет из странного состояния неизбывной тоски. Но тоска его не проходила, а мед убывал.
— Эй вы, перестаньте тосковать! — хотелось крикнуть ему.
Отец и мать тоже с тревогой смотрели на банку. Когда же меду пришел конец, пришел конец и тоске гостя. Он снова повеселел. Но на столе стояла еще не тронутая банка с тушенкой. С тревогой смотрел я теперь то на тушенку, то на гостя. Не впал бы он снова в эту испепеляющую, в эту всепожирающую тоску.
Пришел Иван Дмитрия Ишутин, отец Фрола и Игоря, товарищ отца по работе.
— Вот, Ваня, — грустно объяснил отец, — обзаводимся хозяйством — скотинкой. Смехотура, стыдище. А что делать? Мишеньке, говорят, молочко нужно козье.
— Понятное дело, — одобрил Ишутин, — я коз люблю.
— Коза-то непростая — умница! — опять расхвастался продавец козы, чуть было снова не впавший в губительную тоску и уже подбиравшийся к банке с тушенкой. — Все, как есть, понимает, всю химию!.. Вот мы разговариваем с вами, а она понимает. Что, Фекла, как на ладони мы перед тобой, а? Я уж и жалею, что продал вам ее. Честное слово! Продешевил!
— Ну, знаете, — не выдержал отец, — об этом надо было раньше думать, а не теперь, когда…
Отец даже сделал неопределенный жест, как мне показалось, в сторону банки из-под меда. Продавец козы скорчил миротворческую гримасу:
— Хорошо, хорошо. Пускай остается. Живи, Фекла, у новых хозяев. А я взял банку — и нет меня.
Он действительно взял со стола банку с тушенкой, причем на этот раз с какой-то поразительной естественностью и легкостью, не мистифицируя, не впадая в тоску. Бросил банку в мешок, одел кепочку и был таков.
— Вот так и угощай людей, произнес отец с виноватой улыбкой. — Жулики.
А потом они сидели с Ишутиным за столом, и отец все спрашивал:
— Ты-то как, Ваня, даешь санкцию, а? На козу-то? Ведь стыдище, а? Жильцы начнут издеваться…
— Да брось ты, Володя, брось… Разве люди не понимают? Никто не осудит. Что ты?.. Я вот скоро сыновей отправляю на фронт… Война, а ты со своей щепетильностью… Зачем?
С тех пор и живет у нас Фекла. Летом на балконе, а зимой на кухне. Конечно, это вызов всему дому. Ведь дом наш новый, пятиэтажный. Среди других домов выглядит этаким аристократом в белых перчатках. Но когда с балкона второго этажа появляется козья морда и начинает блеять, — разумеется, престиж и аристократизм дома тут же летят в тартарары.
После сегодняшнего инцидента во дворе я долго не могу уснуть. Что же теперь будет с нами? С уходом на фронт Фрола и Игоря над двором нависла угроза Фалиного господства. Все вспомнит Фаля. И сегодняшний случай…
А это уже мне снится… Я иду через двор. В руках у меня банка белого-белого молока. Я несу его Роке. Как бы не расплескать! Смотрит с балкона потрясенная Фекла, вскинула уши Математика. А я иду, стараясь не обращать на них внимания: не расплескать бы молоко! Подхожу к забору. На заборе сидит Рока. Протягивает руки к молоку. Я поднимаю высоко над головой банку с молоком, тянусь на цыпочках, но никак не могу дотянуться до рук Роки. Чувствую: вот-вот руки мои упустят банку. И вдруг голос отца:
— Сейчас же отнеси молоко назад! Это молоко твоего больного брата.
Но уже руки хулигана вцепились в банку с молоком и не хотят отпускать ее. Тянутся губы к молоку. Я же теперь пытаюсь вырвать из его рук банку, почти повисая на ней. Молоко течет по моим рукам. Наконец, мне удается вырвать банку, и вместе с ней я падаю на землю. Рыхлая земля быстро впитывает пролитое молоко. А я хватаю землю и кидаю политые молоком комья земли в банку, приговаривая:
— Больше не буду, не буду!..
4. …Как конфетти в Новый год
Сегодня выходной. Отец, мать, я и Галька идем в Зеленую рощу. Там праздник не праздник — показательные занятия по противозвоздушной обороне. В руках у меня кулечек с песком. Так нужно. Я смотрю на Гальку, беру ее за руку, и вместе мы бежим вперед. Мне весело. Смеется Галька. И кажется, нет войны, нет голода, а есть роща, солнце, оживленная публика и какое-то почти феерическое, почти довоенное зрелище — пожар, но не настоящий, а почти как в театре… Пожар с учебно-показательной целью. А тут еще недалеко от нас расположилась какая-то компания с патефоном. На скатерти закуска.
День сегодня такой лучезарный,— пела пластинка.
На довольно просторной поляне установлено было небольшое деревянное сооружение: имитация здания, в которое должна была угодить мнимая бомба.
Когда сооружение загорелось, на него набросилось сразу несколько пожарных. Но подул ветер, и пламя стало разгораться. Тогда несколько человек из зрителей, вероятно недостаточно проинструктированных, начали кидать в огонь горстями песок, принесенный ими в бумажных кулечках. Я последовал их примеру. Я отчаянно кидал песок, стараясь как можно ближе подступиться к огню. Но все наши попытки были настолько нелепы, что вызывали смех у окружающих. А тут еще пластинка совершенно откровенно издевалась над нами:
Он готов погасить все пожары, Но не хочет гасить только мой.Спохватившиеся родители стали оттаскивать меня от огня, а я отчаянно вырывался и все пытался добросить горсть песку до пламени. Не долетая до цели, песок распылялся, вызывая во мне бессильную досаду.
— Успокойся, пожарные сделают ото и без тебя, — строго сказал отец, высыпая содержимое кулька на землю.
И до сих пор я толком не знаю, зачем нужны были эти кулечки с песком. В памяти же осталась эта нелепая, почти карнавальная сцена с людьми, кидающими в огонь жалкие горстки песку, как конфетти в новый год…
А где-то Игорь и Фрол и тысячи других ребят шли сквозь нешуточный и жаркий огонь.
5. Довоенные запахи
Мы сидим с Галькой одни и сторожим квартиру.
— Давай играть в слонов, — предлагает Галька.
— Давай, — соглашаюсь я, хотя не знаю такой игры.
Галька рассказывает мне, что недалеко от их дома стоял старинный дом с какими-то слонами. И никак я не могу понять, что это были за слоны. Вроде бы эти слоны с приходом в город немцев исчезли в неизвестном направлении. Гальку это страшно огорчает; ей кажется, что слоны уже никогда не вернутся. Как я могу утешить ее? Если бы я знал об этих слонах ну хоть немного больше. Я предлагаю ей другую игру — игру в следопытов. Игра эта сводится к умению отыскать в доме что-нибудь съедобное. Играть в эту игру с каждым днем все труднее: дома теперь редко остается еда. Тогда я иду на упрощение игры: будем определять по запахам, где и когда что лежало из вкусного. Первым делом мы залезаем в старый буфет и вынюхиваем оттуда довоенные запахи. Призывно и аппетитно звенит пустая посуда. Дремлет в углу буфета деревянная скалка. Я помню ее катающейся по столу под ловкими руками матери, когда вся наша семья собиралась вокруг стола за веселым обрядом приготовления пельменей. Мне кажется, она еще хранит знакомый пельменный запах. Потом очередь доходит до супницы. Я открываю крышку, и в наши носы вторгается запах супа. О, как я жалею теперь, что раньше, до войны, не признавал супов! И вдруг я вижу, как голова Гальки медленно клонится книзу.
— Эй! — кричу я, тряся ее за плечо.
Галька открывает глаза. Слабо улыбается. Плечи ее вздрагивают. Ее знобит. В квартире холодно.
Мы сидим в шифоньере с платьями. Все-таки здесь теплее, чем в комнате. Забравшись за отцовскую шубу, Галька очень быстро засыпает, изнуренная буфетом, грезами о супе… А я не сплю. Я стерегу ее сон. В руках у меня деревянное ружье производства братьев Ишутиных. Мне хочется накормить Гальку. Во что бы то ни стало! Но чем? Я вылезаю из шифоньера и рыщу по квартире. Я заглядываю во все углы, где, по моим расчетам, может оказаться пища. И вдруг до слуха доносится какое-то потрескивание: не то кто-то скребется в дверь, не то питается открыть ее каким-то предметом. Воры! Я лезу в шифоньер к Гальке и закрываю за собой дверцу. В темном шифоньере просыпается Гальку. Ничего не понимает. Трясется. Я объясняю ей, что мы в засаде. Слышно, как подается дверь, как входят. Кажется, их двое. Один из них приближается к шифоньеру. Открывает дверцу. Мы с Галькой стоим за огромной отцовской шубой. В шифоньер проникает запах лука, бензина и чего-то еще. Вор начинает с маминых платьев. Вот он берет и рассматривает на свету мамино довоенное, самое ее лучшее. В этом платье мама танцевала на дне рождения Мишки. Она Кружилась по комнате, и платье ее постепенно превращалось в розовый зонт. Затем вор снимает с вешалки отцовский костюм в елочку. Скоро очередь дойдет до шубы. И вдруг чей-то голос. Вор кидается в сторону. Это радио. Все-таки кто-то взрослый, не так страшно. Радио сообщает сводку: наши войска освободили город Таганрог.
— Чего там? — спрашивает другой вор из соседней комнаты.
— Город освободили.
— Какой?
— Таганрохт.
— А-а…
Я никогда не слыхал об этом городе, но чувствую в себе прилив какого-то внезапного отчаяния.
— Ура! — ору я под шубой.
Вор панически бросается к шифоньеру, срывает с вешалки шубу и видит меня и прижавшуюся ко мне Гальку. Некоторое время мы молча смотрим друг на друга: вор на меня, я на вора. Затем вор захлопывает дверцу шифоньера и, захватив отцовский костюм, бежит к выходу.
— Руки вверх! — с некоторым опозданием произношу я в темноте шифоньера. Через несколько секунд стремительно выскакиваю оттуда. В квартире уже пусто. Только слышно, как плачет в шифоньере Галька. Спотыкаясь о брошенную одежду, я выбегаю с ружьем на лестницу, несусь вниз. Весь двор видит, как я бегу, а может быть, лечу, держа наперевес деревянное ружье образца братьев Ишутиных. Щеки мои горят. Воры давно скрылись. А я все лечу. Лечу мимо лошади, чей овес ест наша семья, мимо помойки, мимо зеленого забора, под громкое блеянье козы…
— Таганрог! — кричу я изо всех сил. — Таганрог!..
Их не поймали. Но из вещей они успели унести только отцовский костюм в елочку да валенки, купленные мне прошлой зимой. Пришедший Иван Дмитрии Ишутин сказал:
— Гуси Рим спасли.
Выхожу вечером во двор. На заборе сидит Коляй и напевает:
В квартиру к нам вчера залезли воры, Опасности никто не ожидал…Черт его знает, этого Коляя. Может быть, он наводчик?..
6. Девятов
А я сижу без валенок. И даже один раз пропустил школу.
Мне купили ботинки на деревянной подошве. Я давно мечтал о таких. Я иду в школу, с наслаждением стуча подошвами новых ботинок. В ботинках этих можно ходить на носках, а зимой они — как коньки. Встретив Вовку Зырянова, я не могу удержаться, чтобы не пройтись перед ним на носках. Вовка делает гримасу: подумаешь, мол. Вовка Зырянов (Зыря) — наш сосед, живет на одном этаже с нами. Вовкина мать спекулирует на базаре сахарными петушками и какими-то потрясающими лепешками — 25 рублей штука. А отец Вовкин работает на танковом заводе. Дома бывает редко. Как-то Вовка спросил меня:
— Послушай, а почему твой отец не на фронте?
— А твой?
— Ну, мой работает на танковом заводе. Это как фронт.
— А мой… ищет руду для этих танков.
— К концу войны найдет?
— Что?
— Руду свою.
— Он уже нашел, — соврал я.
Вовка скептически усмехнулся.
После этого разговора я все собирался спросить у отца про руду, о которой я наврал Вовке, но все откладывал. Боялся, видимо, что отец скажет: нет, еще не нашли.
У входа в школу меня встречает Рока. Он привычным жестом обыскивает меня и, найдя у меня в кармане рубль, забирает его. Здесь же, у входа, я замечаю Тузика. Тузик учится у нас в школе. Я часто вижу, как он бойко торгует рассыпными папиросами на углу Ленина и Куйбышева. Тузик подзывает меня к себе и, ударяя по плечу, говорит:
— Ничего не бойся! Теперь за тебя сам Девятов будет тянуть.
Кто это Девятов? И что значит тянуть?
— Ну, заступаться, чудак, чтобы Рокало не приставал.
Он кивает в сторону коренастого парня в ватнике.
— Девятов, — произносит он подобострастно и добавляет небрежно: — Будешь отдавать ему завтраки.
После уроков нам выдают по хлебной дольке и по ложечке сахару. Сахарный песок я съедаю, а к хлебу не прикасаюсь. У выхода меня поджидает Девятов. Я еще не совсем освоился со своим новым положением и не знаю, радоваться мне или горевать. Жалко, конечно, хлеб…
Опять вижу Року. Он подзывает меня. Я подхожу. А вот и счастливая возможность испробовать новое покровительство в действии.
Ну, так как, козий пастушок, принесешь молочка, а? — спрашивает Рока и гычет.
Я молчу. Появляется Девятов.
— Этого не трогай, — говорит ой, дожевывай мой хлеб.
— Ладно, — отвечает Рока и глупо хохочет.
Я тоже смеюсь. Мне уже начинает казаться, что я принят в их общество, что я даже могу фамильярно похлопать Року по плечу, что и делаю. И тут же получаю ответный хлопок, только более крепкий. Рокало продолжает смеяться, а я потираю плечо, пытаюсь вновь рассмеяться, но у меня это уже не получается.
Интересно, как бы на все это посмотрели Фрол и Игорь Ишутины? И где они теперь? Во сне я их вижу довольно часто…
Лес. Белая от снега поляна. Посреди поляны Фрол рубит дрова. А вокруг немцы. Обступают его. Но разлетаются в разные стороны поленья, и каждое находит своего немца. Тюкнет полено немца по макушке, и тот — с копыт. Уложил Фрол таким способом всех немцев и присел покурить. Заметил меня, поманил:
— Ну, как там у нас в доме, все в порядке?
— Угу.
— Ты там смотри держи марку, не пасуй перед всякой мелочью. Мужчиной быть нелегко, но надо. Ты думаешь, воевать легко? Это тебе не дрова колоть и не ружья деревянные мастерить. Это, брат, работенка…
Он не успел договорить, кто-то выстрелил ему в спину. Рухнул богатырь Фрол. Тогда вышел другой брат — Игорь Ишутин. В руках ничего — один пиджачишко. Немцы очухались, давай окружать его. А он подпустил их близко и ну хлестать пиджаком немчуру, да так, что пуговицы сыпались, как горох, в снег. Немцы — орать: не нравится им пиджаком по глазам получать…
Но тут я проснулся, потому что действительно кто-то сильно орал в коридоре. Потом стали стучать в дверь. Я выскочил на лестничную площадку. Там мечется в нижнем белье Вовкина мать, увертываясь от ударов мужа. Вырвавшись, она с криком заскакивает к нам в квартиру Вовкин отец, сопя, бросается ей вслед, но дорогу ему перерезает мой отец. Он в кальсонах, в руках у него старая незаряженная берданка.
— Полкан Данилыч, остановись!
— Он убьет меня, убьет! — орет Вовкина мать из ванной.
— Не стреляйте в папку! — вопит Вовка.
— Дурак, она не заряжена, — успокаиваю я его.
— Я десять ночей не спал, срочный заказ Родины выполнял! — кричит Вовкин отец. — А она… эх!..
7. Полтора валенка
Валенки да валенки, Эх, не подшиты, стареньки!На семейном совете решено купить мне на базаре новые валенки.
Вместе с отцом мы ходим по базару. Увлекшись пестрым базарным зрелищем, я немного отстаю от отца.
Слепая гадалка:
А ну, кому погадать, О судьбе своей узнать? Приворожим, приколдуем — Ноги будешь целовать!Я перевожу взгляд на гадалкины ноги: черные, обмотанные тряпьем, в каких-то узлах и шишках. А зима, мороз!..
Тут же рядом гадальщик с морской свинкой. Свинку зовут Боря.
— А ну-ка, Боренька, закомпостируй счастье, Боренька!
Тут же безногий инвалид с двумя алыми монпансьенками на шершавой ладони. Леденцы горят и переливаются, как два драгоценных лала.
Аккомпанирующий себе на гармони охрипший слепой:
За Родину нашу в боях умирать Советски танкисты умеють!..Горластые мальчишки на коньках:
— Химических, химических! А ну, кому химических!.. Химических, химических таблеток для чернил!!!
В толпе торгующих замечаю Вовкину мать. Синяк под глазом придает ей демоническое выражение. Она торгует своими знаменитыми лепешками. Заметив меня, смущенно улыбается и протягивает лепешку.
— Спасибо, — говорю я и от лепешки отказываюсь. Я знаю: лепешки эти дорогие — двадцать пять рублей штука. Хочется пристыдить ее:
— Послушайте, гражданка Зырянова, ваш муж сталинский заказ выполняет, а вы тут со своими лепешками!..
Вижу, как отец выторговывает у одноногого бородача валенки. Валенки добротные, крепко прохваченные суровыми нитками. К таким привинтить коньки — и айда! Бородатый торопит нас, оглядывается по сторонам. Наконец, обе стороны останавливаются на окончательной цене, и валенки у меня в руках. Я несу их под мышкой. Нести их удобно; один валенок вколочен в другой — этакая двунога.
Вдруг мое внимание приковывает человек, продающий иглы для примуса. Не знаю, что первое привлекло мой взгляд: костюм в елочку или его глаза, запомнившиеся мне с того момента, когда он заглянул в шифоньер. От неожиданности я чуть не вскрикиваю:
— Таганрог!
И снова, как и тогда, вор смотрит на меня, я — на вора. Он сильно изменился с тех пор: впали щеки, и взгляд стал жалкий, потухший. Он стоит на морозе без пальто в уже сильно потертом отцовском костюме в елочку, зябко переминается С ноги на ногу, держа в руке тощий пучок примусных игл.
В этом костюме, таком заметном, особенно зимой, когда все в пальто, он похож на человека-невидимку, но уже в последние минуты его жизни, незащищенный и всеми видимый. Сказать отцу, чтобы позвал милицию? Отнимут у вора этот уже утративший свой блеск костюм в елочку, вернут отцу. А вора посадят.
— Что ты там увидел? — раздраженно и как-то подозрительно спрашивает у меня отец.
И тут я — не знаю, что меня толкнуло, ведь я не хотел этого — почему-то панически кричу:
— Вор!
И тычу пальцем. Отец смотрит на вора, узнает свой костюм с громкой руганью бросается на несчастного и бьет его по лицу. Пучок примусных игл летит в снег. Я бросаюсь подбирать их. Опомнившись, вор наконец соображает, что надо бежать, и как-то неумело, вприпляску, бежит от нас. Мы за ним. Зачем? Вероятно, так надо. Наконец, вора хватают. Появляется милиционер. Отец что-то бодро объясняет ему. Я стою в стороне. Мне стыдно смотреть в глаза вору. Зачем я это сделал? Ну как же! Зло должно быть наказано. Вор — зло. Но вот это зло стоит и зябко переминается с ноги на ногу. Под глазом синяк.
Идем домой. И уже не в радость покупка.
Дома отчитываемся. Отец извлекает один валенок из другого и — караул! Вместо целого левого валенка в руке у отца — только его нижняя половинка. Тетя и мать ругают нас, а отец виновато замечает:
— Да, наказал нас мужичок на полваленка! То-то он все оглядывался.
И чтобы хоть как-то реабилитировать нас, вяло хвастает:
— Да, кстати, поймали вора! Мы с Котькой! Идем и вдруг видим: стоит, голубчик, торгует примусными иглами. Надо же!..
Я одеваю валенки и бегу во двор. Меня не смущает, что один валенок короче другого. Во дворе каждая вещь оценивается по иным прейскурантам. Там валенок с укороченным голенищем может стать предметом зависти и роскоши.
Высказываются самые крайние гипотезы. А Семка Меркулов даже полагает, что валенок этот снят с отрезанной поездом ноги того бородатого, оттого-то один валенок короче другого.
Во загнул! Акции валенка растут. Кончается все это тем, что Ленька Пронин, не выдержав, достает из кармана ножик и делает своему валенку харакири, то есть начисто отчекрыживает половину своего левого валенка. Как назло, на балконе появляется мать Леньки.
— Лешка! — кричит она. — Зараза! Домой не являйся!
А Ленька, дурак, прыгает перед ней в своем укороченном валенке да еще гримасничает: дескать, обзывайте меня как угодно, а я был и есть свободная личность и даже могу из валенок сделать себе тапочки.
8. Бедняга Горшков
Мы с отцом идем в городскую баню. Хвост от очереди выходит на улицу. Стоять приходится на морозе. Но чем мучительнее ожидание, тем блаженней минута, когда с шайкой в руках ты наконец ступаешь по мокрому и скользкому полу, и клубы пара жарко ударяют тебе в лицо. Ежишься, но не отступаешь, наоборот, хочется продвигаться все дальше и дальше, вглубь, к самым, что называется, истокам этих паров, к какому-то библейскому началу начал, где земля еще первозданно горяча, а человек гол. В бане все изначально. Люди кажутся сошедшими с древних фресок, а банный резонанс напоминает о разыгрываемых в античной древности трагедиях, где каждый персонаж не говорил, а трубил в маску. Впрочем, это из области более поздних ассоциаций, а тогда я лишь инстинктивно тянулся к этому извечному человеческому действу — общению человека с водой.
Отец здоровается с разместившимся вдоль скамьи тучным розовым телом, вокруг которого суетится тощий, подпоясанный полотенцем, банщик. Тело кряхтит, а банщик хлопает его ладошкой по гладкой спине, чуть наклонив голову и как бы прислушиваясь к чему-то.
Дождавшись, когда освободится место с краю скамьи, отец оставляет меня стеречь это место, а сам отправляется за горячей водой. Принеся шайку горячей воды, он окатывает ею краешек скамьи, но при этом нечаянно ошпаривает зад соседу. Тот вскрикивает и, несмотря на то, что у него намылена голова и глаза не видят, замахивается на отца мочалкой и заикаясь матерится.
Я тру отцу спину. Отец покрякивает.
— Папа, — спрашиваю я, — зачем ты ударил?
— Кого?
— Ну… вора.
Я терпеливо жду, что он ответит, и даже перестаю тереть спину.
— Ну, что же ты остановился? — раздражается отец. — Взялся за гуж… так уж и три по-человечески.
Молчим. Я тру.
— Он был голодный, замерзший… — снова пристаю я.
— Голодный, голодный!.. — сердится отец. — Что же ты ткнул в него пальцем-то, а? Не показал бы на него, я бы и не ударил!
— А можно было не показывать? Да?
Отец мнется:
— Ну… разумеется, это было бы неправильно… преступник должен быть наказан.
— Значит, мы оба поступили правильно?
— В общем… да, — сердито бурчит отец.
Опять молчим. Я уже не тру отцу спину. Он повернулся лицом и смотрит на меня.
— Правильно-то правильно, но по-свински, — печально резюмирует отец, а потом разражается ненужным многословием: — В ту минуту я, вероятно, не владел собой. Знаешь, когда подумаешь, с каким трудом дается каждая вещь, каждая тряпка, когда лезешь из кожи, чтобы накормить или одеть вас… И вот какие-то люди в одно прекрасное время берут и уносят веек. Вот и разберись. Конечно, и нервы. Война, брат, все перекосила.
Мне неловко смотреть в глаза отцу. Я чувствую себя виноватым, что заставил его так много говорить, оправдываться… В чем? Ведь это наша с ним тайна, наш общий грех, и надо нести его, а не списывать, как очередную издержку войны. Война войной, а совесть одна.
Мне хочется спрятаться от отцовских виноватых глаз, виноватых слов, я намыливаю себе голову и ухожу в мыльную пену. Здесь я чувствую себя спокойнее. Во мне снова просыпается потребность каких-то откровений.
И неожиданно для себя, для отца я спрашиваю:
— Когда же вы найдете руду-то, папа?
И снова томительная пауза.
— Какую руду, сынок?
— Ну ту, которую вы все время ищете.
— A-а… что ж… ищем вот… да… а не нашли… не так это просто. Найдем, я думаю… со временем.
Скорей бы.
— Володя! — окликает отца чей-то голос.
Я промываю глаза и вижу, как к нам приближается тощая фигура: кости, да кожа, жиденькая бородка, — все, что осталось от геолога Горшкова, которого я помню еще по довоенному времени веселым и румяным, похожим на писателя Демьяна Бедного.
— Сколько лет, сколько зим! — восклицает тень Горшкова. — В последний раз, кажется, в сороковом, а?
— Когда же ты вернулся? И откуда? С фронта?
— Был и на фронте…
Потом, наклонившись к уху отца и поглядывая по сторонам, рассказывает хриплым шепотом:
— В плену тоже довелось побывать, Володя. Это страшно, Володя. Чудом вырвался. Вернее, не я, а мощи мои… Мощи, Володя… Ну а ты-то как, Володя? Как семья? Детишки?
— Семья жива… относительно здорова, — виновата произносит отец. — Вот сынок… школьник.
— Что ж, и слава богу! Живы, здоровы… Чего ж еще?
— Младший прихварывал. Но теперь лучше.
Я вижу, как мимо нас бойко скачет на одной ноге, словно мальчик, играющий в классы, инвалид с шайкой в руке. Возле тела, над которым неутомимо трудится банщик неожиданно останавливается, смотрит.
— А не противно тебе, Семен, мылить эту свинью? — начинает он укорять банщика. — Гляди, вон ты упарился весь, а этот тыловой боров и пальцем не пошевелит. Ух, гад!
Он замахивается на толстяка шайкой. Толстый визжит, а банщик Семен кидается наперерез, прикрывая толстяка жидким своим телом, как какую-то святыню:
— Не фулиганьте, гражданин! Ослобоните моечную! Вы выпимши!
— Эх, Семен, холуйская твоя душа. Имя даже мое и то позабыл. Перед кем же ты стесняешься назвать меня по имени? Перед этой сволочью?
Семен, видимо действительно поначалу не узнавший его, издает радостный возглас:
— Колода Степан! Землячок!
Он бросается обнимать своего одноногого земляка, но тот гордо отстраняет его и, сплюнув, резюмирует:
— Была колода, да упала в болото. Не думал я встретить тебя здесь, Семка!
Сказав это, он быстро скачет к выходу…
— Ну, как там на фронте? — тихо спрашивает отец у разместившегося тут же Горшкова.
— Трудно… Но, знаешь, ничего у них не выйдет. Просто ничего. Понял я, Володя, что народ-то у нас кряж… Ты не смотри на меня — духом кряж!..
— Значит, выдержит?
— Выдержит.
Он разжимает ладонь, на которой тонкая мыльная пластинка.
— Мыльце вот смылилось. Мыльца не найдется?
Потом отец трет Горшкову спину, а тот все расспрашивает:
— Иван Дмитрии жив ли?
— Жив. Сыновья его воюют.
Потом Горшков умолкает. А отец все трет и трет ему спину.
— Не устал? — спрашивает отец.
Горшков не отвечает и вдруг начинает странно клониться книзу.
Отец едва успевает подхватить его.
— Человеку плохо! — кричит кто-то.
Сбегаются люди.
— В предбанник его! Здесь парко.
— Упарился бедняга. Отощал. Нынче банька-то не всем впрок.
Горшкова осторожно поднимают на, руки и медленно несут к выходу. Отец тоже несет его.
А я остаюсь один. А тут еще разносится слух, что вода кончилась. Начинается паника. Появляется в дверях человек в грязном халате:
— Товарищи, кто не домылся, пройдите организованно в моечную номер два!
Все кидаются к узкому проходу. Образуется пробка. Те, у кого намылена голова, двигаются к выходу на ощупь. А я сижу на опустевшей скамье с шайкой и растерянно смотрю на проносящихся мимо голых людей. И вдруг слышу далекий голос отца. Отец пробивается ко мне оттуда, из предбанника, но встречные не пускают его. Я кидаюсь ему навстречу. И так мы долго пробиваемся друг к другу сквозь мыльные и мокрые тела…
Приходим домой.
— А у нас гостья, — сообщает радостно мать.
— Кто?
— Нина!
Из комнаты навстречу нам как вихрь вылетает женщина, — сияющая, красивая, в каком-то необыкновенном платье. Она обнимает отца, меня и смеется. А я стою обалдевший и не могу отвести от нее глаз.
Кисигач Нина. Младшая сестра моей матери. Нет, фамилия у нее совсем другая. Это я так называю ее: Кисигач Нина, потому что живут они возле озера Кисигач, и произносит она это слово ослепляюще-жгуче: Ки-си-гач!.. Муж у нее — знаменитый врач. Врач с озера Кисигач.
Тетя Нина тормошит нас, забрасывает вопросами, приглашениями, подарками:
— Когда же вы, наконец, приедете к нам в Кисигач? Люди!.. Ну, пусть хоть Котька приедет в это лето! И почему он у вас такой угрюмый? Котька!.. Володюша! Дорогие!
А я не угрюмый, я обалдевший. Появление этой женщины в нашем доме будит во мне наивные представления о счастье, о красоте, о чуде. В эти дни все вещи живут под знаком Кисигач Нины, под знаком счастья…
9. Поросячьи хвостики
Мне очень хотелось обновить валенки, и я попросил у Леньки его гаги. У меня были снегурки, но снегурки по сравнению с гагами ничто.
И вот я мчу на Ленькиных гагах, уцепившись железной клюшкой за кузов грузовика. Вскоре к кузову цепляется еще чей-то крючок.
— Эй ты, полтора валенка! — слышу я знакомый голос.
Фаля! Но что мне Фаля, когда за меня сам Девятов тянет. А ехать за компанию — пожалуйста! Мне даже лестно, что я еду на полном ходу с такай личностью. Но вдруг Фаля, отцепив свою клюшку, сильно ударяет по моей. И оба мы, чтобы не очутиться под несущейся сзади машиной, резко сворачиваем вбок. Откуда-то появляется Рокало. Тоже на коньках. Фаля подставляет ножку, а Рокало толкает меня, и я кубарем лечу в сугроб.
— Ты чего падаешь? — ласково спрашивает Фаля, наваливаясь на меня и зажимая мне рукой рот.
Рука у Фали грязная, в мозолях. Фаля работает на заводе в ночную смену. Чувствую, как другие руки, сильно обхватив мои ноги, перепиливают ножиком веревки на валенках. Нож тупой, и процедура затягивается. Гораздо проще размотать веревки… Ну, да это их дело. Недовольный Рока изрыгает ругательства. Мне не хватает воздуха, я барахтаюсь, стараюсь вырваться, но губы мои и нос прочно упираются в подушечки Фалиной ладони. На языке привкус чего-то маслянисто-соленого. Хочется крикнуть им, что коньки не мои, Ленькины! Игорь, Фрол! Где вы?.. В конце концов я затихаю, как больной под общим наркозом. Мною овладевает философское безразличие: пилите, гады! Наконец Рока допиливает последнюю веревку, и меня освобождают. Вам никогда не приходилось ступать после длительной морской качки на берег или после хорошей болтанки в воздухе на землю? И, наконец, вам никогда не срезали коньки? О, это прекрасно! Кажется, что ты ступаешь не по земле, а по луне, ноги твои невесомы, а хвостики от веревок на пятках сродни крылышкам на ногах бога Гермеса. Из глаз моих текут счастливые слезы, И я произношу вслед уносящимся хулиганам запоздалое и жалкое:
— Вдвоем против одного маленького, да? Вдвоем, да?
Потом я вспоминаю про Девятова:
— Ничего, ничего, я Девятову расскажу!
Бессмыслица! Ибо Девятов уже предупреждал Року. А что толку? Эх, скорее бы вернулись Фрол с Игорем!.. Но вот-чудо! Откуда-то, словно из-под земли, как добрая фея, как сказочный джин, появляется пьяный Девятов.
— Что с тобой? — спрашивает он.
Я бросаюсь на грудь своему покровителю, рассказываю со слезами всю историю и требую немедленного возмездия. Девятов разражается страшными угрозами в адрес моих врагов и обещает при случае «накидать» им.
— Будешь теперь и сахар отдавать мне, — строго заключает он.
Я тупо смотрю, на Девятова, на его коньки, и тут черное подозрение закрадывается мне в голову. Все это была инсценировка! И Девятов видел все с начала и до конца. А появился из засады, когда акт насилия уже был совершен!
Разочарованный в лучших своих чувствах, размазывая по щекам слезы, я плыву по воздуху, едва касаясь земли. А что мне еще остается делать?
Дома меня встречает тетя. Она смотрит на волочащиеся за валенками, похожие теперь уже на поросячьи Хвостики, а не на крылышки на ногах бога Гермеса, огрызки веревочек и все понимает. Вечером приходит Ленька. Я прошу тетю, чтобы она отдала ему вместо гаг мои снегурки. А сам сижу под столом. Слышу, как тетя объясняет Леньке, почему снегурки, а не гаги:
— Срезали у него их… хулиганье срезало. Бери… Ничего. Лучше даже.
Стыдище. Конечно, Ленька прав, что ворчит, снегурки по сравнению с гагами ничто.
В комнате полумрак. Горит только одна коптилка. А под столом и того темнее. И вдруг — электрический свет! Бьет в глаза. Некоторое время я сижу с зажмуренными глазами. Хочется открыть их. Но стоит свету дать лишь маленькую щелку, как он тут же начинает жалить в самые зрачки. Постепенно все-таки привыкаю к нему. Вещи. Давно я не видел их такими. Днем я привык к ним, привычны мне и их угрюмые лица в часы, когда горит коптилка. Но вот такими… Такое веселье! Может быть, скоро конец войне? Меня зовут спать. А я не хочу. Если бы можно было всю ночь сидеть при свете! Меня пытаются вытянуть из-под стола, а я не даюсь. Тогда кто-то выключает свет. Я выскакиваю из-под стола и бросаюсь к выключателю:
— Ну пожалуйста, еще немного! Пожалуйста!
10. Политая шляпа
Случилось непоправимое. Начальник одного крупного учреждения, живший в нашем доме, при входе в дом был полит сверху не разборчивой к рангам Феклой. Сначала он подумал, что кто-то поливает на балконе цветы, но когда сквозь балконную решетку просунулась голова Феклы, стало ясно, что не цветы. Разгневанный, он влетел к нам в квартиру и в качестве обвинения положил на стол пострадавшую шляпу. Побушевав, он ушел, а мы сидели и, как зачарованные, смотрели на оставленную им шляпу. Смотрели долго. Никто не знал, что с ней делать. Наконец, отец осторожно взял шляпу за поля и отнес ее на кухню, где она была поставлена на просушку возле печи. Потом меня попросили удалиться из комнаты. Совещались около часа. Не надо было подслушивать, чтобы понять, что речь шла о Фекле.
— Вы продадите Феклу? — спросил я у отца с надеждой.
— Возможно, — ответил отец, отводя взгляд.
Вечером я сидел под столом, когда отец и дядя Вася провели Феклу в ванную комнату. Она не упиралась. Я выполз из-под стола и убежал на улицу.
— Что с тобой? — спросил Вовка.
— Сейчас там режут Феклу, — ответил я и показал на выходившее на улицу окошечко ванной. Там горел свет и метались какие-то тени.
— Позырить бы! — сказал Вовка и полез было вверх по трубе, чтобы поглядеть, как это режут, но я стянул его вниз за ногу.
На другой день утром, когда зашел в ванную, я увидел под потолком подвешенную за рога голову Феклы. Глаза ее вопросительно смотрели на меня.
А вечером пришел Ишутин Иван Дмитрии. Он принес полведра браги. По-видимому, его пригласили на Феклу.
Я бесшумно сидел под столом. Вскоре Ишутин и отец захмелели.
Отец. Остались от козлика рожки да ножки… Жалко скотину. Написала на голову важной персоне… Стыдище. Но и нас понять надо. У нас Мишенька больной… Хорошо, Мишеньке стало лучше, а не стань ему лучше, ни за что бы не дал Феклу под нож. Кушай, Ваня…
Ишутин. Что ж, кушать успеется… Выпить надо. Канительный был этот поиск.
Отец. Сысоева балка…
Ишутин. Кто б мог подумать, что именно там!..
Отец. И в то же время сколько мы ходили вокруг нее, сколько принюхивались! Нет-нет, да и свернем к Сысоихе. Чуяло сердце: там бурить.
Ишутин. И не ошиблись. Лучших кровей руда.
Отец. Теперь скорее в дело ее: рыло своротить Гитлеру!
Ишутин. Немец-то уже далеко. Фролушка пишет: скоро вышибем его за пределы России.
Отец. Ну что ж, руда эта нам и после войны сгодится. Хорошая руда у хорошего хозяина…
Тут я не выдержал и вылез из-под стола:
— Значит, нашли руду, папа?
Отец. А ты что здесь делаешь, рудознатец? Ишутин. А-аг гуси Рим спасли!
Я. Нашли, папа?
Отец. Нашли, сынок…
Удовлетворенный ответом, я лезу обратно под стол. И там уже чуть ли не пляшу от радости. А Вовка сомневался! Дурак он после этого.
11. Бунт
После уроков Фима Кукин раздает булочки и сахар. Теперь уже нам дают не по кусочку черного хлеба, а по теплой, почти горячей булочке. С булочкой расставаться особенно горько. Крохотную щепотку сахарного песку я зажимаю в кулаке, а булочку запихиваю в карман брюк. Спускаясь медленно по лестнице, я чувствую на ноге ласковое булочкино тепло и, не удержавшись, отламываю небольшой кусочек. За кусочком следует второй, третий… Вскоре в кармане остаются одни крошки. А у выхода меня поджидает Девятов. Что я скажу ему? Может быть, попробовать улизнуть? Но поздно. Вот он заметил меня, идет навстречу. Чтобы хоть как-то оттянуть час расплаты, я протягиваю ему кулак с горсткой песку. Песок размок, прилип к ладони. Ссыпав песок себе в рот и лизнув языком мою сладкую ладонь, Девятов спрашивает:
— Булочка где?
Я что-то бормочу в свое оправдание. Он молча берет мое ухо и несколько раз поворачивает его то вправо, то влево. И тут страшная обида поднимается во мне. За что, по какому праву он должен есть мои булочки, крутить мне ухо?! И какой он мне покровитель? Паразит он мне, а не покровитель! Я молча бросаюсь на своего липового покровителя, колочу кулаками в его ватную грудь, бодаю головой в живот. Он отмахивается от меня, отступает. Для него это явная неожиданность. Появляются какие-то люди. И тогда Девятов, сделав еще один оборот моему уху, быстро скрывается за углом.
Я иду домой. О, кажется, я снова лечу! Интересно, когда впервые обнаружилась у меня эта летательная способность? Кажется, когда я гнался за ворами. Потом, когда мне срезали коньки. И вот теперь, когда я освободился от Девятова. А ухо мое горит, как сигнальная лампочка. Это ничего. Ведь я поднял руку на хулигана Девятова. Я знаю, это сулит мне новые неприятности. Зато я свободен. Свободен от кабальных обязательств, от позорного покровительства.
По улице идет строй солдат. Куда они? На фронт?
Стоим на страже Всегда, всегда! Но если скажет Страна труда, Прицелом точным Врага в упор, Дальневосточная, Даешь отпор! Краснознаменная, Смелее в бой, Смелее в бой!Я вхожу во двор. Мне хочется разом покончить со всеми терроризирующими меня хулиганами. Я полон буйства. Я бросаю вызов самому Фале.
— Эй, — кричу я, — хулиганье! Фаля!..
Из-за забора появляется голова Коляя:
— Чего шумишь?
Потом голова его снова исчезает. А через несколько секунд из-за забора на меня летят Ленькины гаги, те самые… Они летят не спеша, в каком-то сомнамбулическом трансе и, наконец, медленно опускаются прямо у моих ног. Некоторое время я молча стою, не решаясь взять их. Что это? Снова появляется Коляй.
— Фалю-то на фронт забрали, — мрачно сообщает он, — а это (Коляй кивает на гаги) он просил тебе передать. Лично.
Фалю забрали на фронт… Как же так? Я вспоминаю строй солдат, прошедший по улице… Может быть, там среди них шел и Фаля?
Помолчав, Коляй уже совершенно грустно добавляет:
— А Рока в тюрьме.
Я вижу: он чуть не плачет.
— Так вам и надо, — уже не так воинственно говорю я.
— Ну ты, канифоль, — лениво огрызается осиротевший Коляй.
Почему канифоль?
— Скоро вернутся братья Ишутины, — не очень уверенно говорю я.
— Жди! — смеётся Коляй. — Вернутся твой братья… Когда рак свистнет…
— Врешь! — кричу я. — Танк братьев уже подходит к границе! Так сказал их отец! Они ему пишут!
12. Ягоды
Хоть в жизни нас и путал бес,
Пусти нас, дядя Петра, в лес.
Из эпистолярных сочинений отцаПо лесу едет телега. Тащит ее отцовская лошадь. В телеге отец, тетя и я. Отец едет в геологическую партию, а мы с тетей — в деревню, менять вещи на продукты. На дне телеги в соломе лежит большое в резной раме зеркало, снятое со стены в прихожей. На коленях у меня старинные дедушкины часы. На кочках часы вздрагивают, бьют. Голос их разносится по всему лесу.
— Эх, Математика! — покрикивает отец на лошадь.
Лошади тяжело. Мы слезаем с телеги и идем пешком. Часы в телеге начинают бить еще громче. И старая лошадь, понукаемая их боем, прибавляет шагу. Я смотрю под ноги. Иногда из-под хвойного укрытия выскакивают грузди, пугая и радуя. В тылу война коснулась людей, но не коснулась леса.
Смеркается. Теперь уже лес не кажется мне безлюдным. Я слышу знакомые голоса, я угадываю силуэт сидящего на суку гадальщика с морской свинкой:
— А ну-ка, Воренькя, закомпостируй!..
И то появится, то исчезнет на дороге силуэт женщины, похожий на Кисигач Нину. Может быть, там, за лесом, — Кисигач-озеро?
…Сидящая на пеньке старуха-гадалка:
А ну, кому погадать, О судьбе своей узнать? Приворожим, приколдуем — Ноги будешь целовать!…Выскочив из-за пригорка, перебегают дорогу два валенка (один в другом), а за ними вприпрыжку одноногий бородач на костыле. Я жмусь ближе к тете. И снова лес в его величественном безлюдье…
Сначала заезжаем в партию к отцу. Там нас встречает Иван Дмитрич. Ночуем в деревянном бараке.
Мне снится сказочный Галькин город. Дом со слонами. Только почему-то слоны эти больше похожи не на слонов, а на людей в противогазах…
Утром, вооружившись корзинами, мы с тетей отправляемся за ягодами. Входим в лес. И тотчас же ягодные и грибные полчища обступают нас. Я бросаюсь в траву, я ползаю на четвереньках, срывая ртом землянику, пьянея от ее аромата, от ее вкуса. Земляника, костяника, черника… Земля, с ее травами, качаясь, движется на меня, дыша, рябя… Жуки, муравьи, кузнечики кажутся мне чудовищно крупными, неузнаваемыми и странными, совсем как в самом начале, когда все еще в новинку, впервые, и еще так мало всему названий, и нужно придумывать свои и раздавать их жучкам и бабочкам, пока язык взрослых не отнимет у них эти придуманные тобой имена и не наречет их бабочками и жучками.
Когда мы, нагруженные корзинами грибов и ягод, возвращаемся на базу, отца там еще нет. Мы сидим на крутом берегу озера. Тетя жарит на костре грибы. Я подбрасываю в костер сучья. Скоро солнце уже упадет за горизонт озера. Вдали показывается плот. На нем две фигуры. Солнце мешает мне разглядеть их. Но я знаю: это отец и Иван Дмитрич. Сердце учащенно бьется от какого-то упругого и древнего, как лес, чувства. Это чувство отца. Я бегу вниз ему навстречу. Мне хочется броситься к нему на шею, но я не делаю этого, а только вьюсь вокруг вьюном, корча какие-то сатанинские гримасы…
Домой едем без часов и зеркала, но с целым чемоданом ягод и кое-какими продуктами. Та же дорога, та же лошадь…
13. Фрол
Телега неторопливо въезжает во двор. Гордый, я сижу на плетеном чемодане с ягодами, ища глазами ребят. Могу ли я предположить, может ли предположить Иван Дмитрич, что, въезжая во двор, мы медленно въезжаем в беду. Вот они, первые ее сигналы: вышел на крыльцо Вовка Зырянов, увидел в телеге нас и быстро назад, домой. И что они все шарахается от нас?
Я прыгаю с телеги.
— Ишутиных привезли, — шепотом сообщает мне подбежавший Ленька.
Потом мы узнаем уже более подробно. В одном из боев был подбит танк Фрола и Игоря. Игорю обожгло глаза, а Фролу перебило ноги. Идти он не мог. Тогда Игорь взвалил Фрола на себя. И они пошли. Два брата медленно двигались по лесу, как одно существо, у которого была только одна пара ног и только одна пара глаз.
Братьев привезли в Свердловск. Оба были помещены в госпиталь.
Вскоре пришел домой Игорь, держась за рукав отца. На нем были черные очки. Через неделю привезли домой и Фрола. А еще через два дня Фрол скончался.
Народу собрался полон двор. Вот вышел из дому, держась за локоть товарища, Игорь. Потом мой отец и еще кто-то вывели под руки Ивана Дмитрича. Когда стали выносить гроб, Игорь кинулся на ощупь к гробу. Подставил плечи под гроб. Те, что его несли, почтительно подвинулись назад. В воцарившейся тишине Игорь торопливо и очень деловито заговорил:
— Куда нести? Говори, Фролуха, куда? Не вижу я! Дорогу видишь? Ну вот, поехали! Ты мне только правильно дорогу подсказывай, Фрола, а уж я донесу тебя!
Слышались только всхлипыванья людей и странная, страшная в этой тишине скороговорка Игоря.
— Пускай поговорит с Фролушей, — качал головой отец Ишутин, — пускай. Не мешайте.
Когда гроб поставили на кузов, начался митинг. На грузовик взошел какой-то незнакомый мужчина:
— Товарищи, сегодня мы провожаем в последний путь нашего земляка, солдата, отдавшего жизнь за землю нашу, — Фрола Ивановича Ишутина. Все мы знали его…
— Фрола!.. Братан! — позвал Игорь.
Оратор сделал паузу. Игоря подсадили на кузов. Он сел рядом с гробом и успокоился.
— …Все мы знали Фрола Ивановича, — продолжал оратор, — как жизнелюбивого и обаятельного человека. И вот его нет. Война оборвала прекрасную молодую жизнь. Склоним головы перед светлой памятью сына и бойца, а ты, земля уральская, прими его высокий прах. Смерть фашистским захватчикам!
Заиграл оркестр. Я плакал. И многие плакали.
— Фрола, братан, здесь я! — опять вышел из оцепенения Игорь.
Машина с гробом снялась с места, и вся толпа двинулась вслед. Я проводил их да угла. Потом вернулся во двор и полез на крышу дома. Оттуда я еще некоторое время мог видеть похоронную процессию, высокую неподвижную фигуру Игоря у гроба брата, а в ушах моих все стояло:
— Фролу ха, братан!
И здесь на крыше, один, я разревелся в полную меру своих мальчишеских слез. Я бил кулаками по железной крыше и проклинал войну, фашистов, пытался себе представить их реально и все не мог наделить их человеческой плотью, человеческим обликом. И все твердил, как Заклинания, имя незнакомого и родного мне города:
— Таганрог!.. Таганрог!..
14. С легким паром!
И снова баня. Я тру отцу спину. И вдруг врывается голый человек и кричит:
— Победа!
В воздух летят шайки, мочалки. Люди от радости окатывают друг друга водой… Я продолжаю тереть отцу спину, потому что вижу: спины он не разгибает и к происшедшему относится безучастно. Я осторожно заглядываю отцу в глаза: там слезы. Я делаю вид, что не заметил, и продолжаю отчаянно тереть ему спину. А вокруг летают шайки, мочалки… Я не выдерживаю и тоже взвиваюсь мочалкой вверх и плаваю в воздухе, разгребая руками клубы пара.
— Спускайся немедленно вниз! — приказывает отец, а сам смеется.
Я наблюдаю сверху, как банщик Семен, не выдёржав, бьет под зад своего очередного клиента, а тот не обижается и только в ответ хлопает его по лысине мочалкой. Такое веселье, господи! Люди, голые, худые, прыгают, веселятся… Как долго ждали они этого дня!
Мы идем с отцом распаренные по весенней улице. И все вокруг улыбается нам и говорит:
— С легким паром вас! С легким паром!
Входим во двор. На балконах жильцы укрепляют красные флаги. Подходит Зыря и сообщает еще одну новость: Фаля геройски погиб на фронте. Где-то под Берлином. Это не укладывается в моей голове. Фаля погиб! Как же так? Еще совсем недавно он казался мне мрачной и враждебной силой. Отчетливо помню вкус его маслянисто-грязной ладони. Раньше я четко разделял Фрола и Фалю, как два враждебных мира, а теперь они стоят рядом, молчаливые и строгие… как братья. Кажется, теперь я уже начинаю понимать, что жизнь сложнее арифметического деления на добрых и недобрых, что в мрачном и зловещем Фале, оказывается, жило подспудно что-то гораздо более важное, что вдруг в одну минуту породнило его с Фролом, с Игорем… Прости меня, Фаля, прости меня и ты, вор, что украл у моего отца довоенный костюм в елочку, а отец тебя ударил по морде; простите все, кого я считал недобрыми и красил, как забор, в серо-зеленую краску.
Вот я смотрю вокруг и вижу, как дом наш, и двор, и люди — все вдруг начинает кружиться в бесконечном кругообразном танце, меняя на ходу свое обличье, — от негатива к позитиву и обратно. Помойка вдруг становится горой, сверкающей роскошными камнями… Потом опять помойка. Или Коляй… Уже он не Коляй, а менестрель… И вновь Коляй. Сидит сиротина на заборе и орет доставшиеся ему по наследству песенки… Остановитесь! Вернитесь в свое первоначальное положение! Замрите! Станьте неподвижны, как фотография. Я хочу еще раз заглянуть вам в глаза и проститься. Ведь такими я больше уже никогда не увижу вас. Война кончилась. Начнется другое, лучшее время. И все вы тоже станете другими.
Взгляд мой задерживается на окне первого этажа. Там, в окне, — неподвижная фигура старого геолога Ишутина, отца Фрола и Игоря. Внизу под окном сидит Игорь в черных очках и что-то строгает. Вся его фигура также неподвижна, подвижна только строгающая на ощупь рука с ножиком. А я не могу забыть того дня — накануне ухода братьев на фронт. Слышу, как весело разлетаются поленья от ударов топора Фрола, слышу, как лупит пиджаком о забор Игорь… А сейчас Игорь сидит и строгает. Взгляд мой, метнувшись в сторону, застает у забора Гальку. Галька стоит, прижавшись спиной к забору, и смотрит на меня. Скоро она уедет к себе в Киев. Когда-нибудь и я непременно побываю в Киеве. Мы исходим с Галькой весь город и отыщем ее слонов. Потом взгляд мой находит пустоту там, где когда-то стояла печальная Математика. Она умерла, не дождавшись конца войны. И ты, Математика, прости нас, что мы ели твой овес!..
Зачем они все уходят? А может быть, они уходят не из жизни, а из детства?
Вокзал. Наша семья провожает Галькину. Идет снег. Я смотрю на Галькино лицо, прижавшееся к стеклу вагонного окна. Мне хочется сказать ей что-то такое, что, вероятно, тут же отделит меня от детства. Это какие-то взрослые слова. Поезд трогается. Галькино лицо медленно начинает отодвигаться от меня. И я не выдерживаю. И кричу эти слова. Мне жаль их. Жаль Гальку. Жаль себя. Ведь это укатило мое детство, От него осталось уже очень мало, какие-нибудь рожки да ножки…
…Прошло много лет. Образы моего детства, память о вас никогда мне не в тягость, напротив, родные вы — и самая счастливая ноша. Хотите, я докажу вам это? Хотите?.. Тогда дадитесь за стол да крепче держитесь! А я понесу вас! Мама, ты где? Отец!.. Тетя Лена, подвиньтесь немножечко, пусть сядет и Фаля. Садитесь! Все садитесь! Милости просим!
Сначала я становлюсь под столом на колени, пробуя спиной груз. Затем медленно выпрямляюсь во весь рост и стою ветвистый, как дерево, увешанный гроздьями дорогих мне вещей. Слышу, как над головой моей попыхивает самовар, как дребезжат на столе чашечки, вилки. И вот я делаю шаг; второй… И так постепенно со столом на спине вхожу в наш двор. Ускоряю шаги. Быстрее, быстрее!.. И вот уже бегу по зеленой лесной поляне к солнечному холму, дребезжа, как бубенцами, чашками, блюдечками, ножами. Пыхтит самовар, выпуская, как паровоз, клубы пара…
Там, на холме, вся в белом, смеется и машет мне рукой далекая и близкая, как счастье, Кисигач Нина…
Вщегря
Сатирическая повесть с русалками, заседаниями, фейерверком и другими киночудесами
Часть первая
1. Кино врасплох
— Современное кино? Жизнь врасплох? В потоке событий, так сказать… текет! Понимаю…
— Кто текет?
— Жизнь текет. Так ведь?
— Ну, так…
— Хе-хе-хе! Понимаю, что к чему. Не кретин.
— А вы, собственно, кто? Из журнала «Искусство кино» или сами по себе?
— Сами. Горе-Злосчастье мы.
— А-а!.. Из самодеятельности! — обрадовался я, хотя человек, разговаривавший со мной, был не первое, не второе и даже не третье.
На голове у него была старая, надвинутая на лоб кепочка, на голом теле — пиджак. Возле него в траве лежала гитара. Короче говоря, он имел вид хулигана, каких я часто встречал на базарах времен войны. Чем-то он был похож на жившего в соседнем с нами доме хулигана. Но как он умудрился попасть сюда? По каким каналам?
— Сидим вот, ждем солнца, — пояснил я. — Какая уж тут жизнь врасплох?
Мой собеседник взял в руки гитару и начал негромко настраивать ее. Я огляделся по сторонам: не наблюдает ли кто за нами. Но каждый был занят своим делом.
— Вот народ, — пожаловался я, — стоило солнцу скрыться за тучку, как все общество рассосалось. Лодыри! Им ведь наплевать, что мне надо спешить. Осталось меньше полугода. Всем, знаете ли, начихать, что ты не успел, что сроки были малы, что камера давала брак… Впрочем, что это я?.. Вы ведь не в курсе.
А вы их на пленку! Скрытой камерой. И в Москву.
— Нет, нет, на это я не пойду. Подло. Кинодонос получится.
Я пошла на речку — Навстречу мне бандит, Я стала раздеваться, А он мне говорит… —начал негромко субъект.
— Тс-с! Что вы! Ради бога, не продолжайте!
Тогда он запел другое:
Да, мы не битлзы и не мимы, Пройдем, неузнанные, мимо! А вы валяйте, наворачивайте, сыпьте!— Что это, устное творчество трудового народа? — спросил я с дурацкой ухмылкой.
Он не ответил.
«Странный товарищ, — подумал я в который раз. — Как бы это избавиться от него?»
— Знаете, кажется, мне пора, — сказал я, вставая. — И потом, вас могут заметить, вы ведь, некоторым образом… мираж, фикция…
Не вступая более со мной в разговор, он поднялся и, повернувшись ко мне штопаным задом, направился в сторону леса.
Ах, это подло, страшно подло, Ах, это так бесчеловечно — Носить пинжак и бруки наизнанку… —долетело до моего слуха.
Я проснулся. Недалеко от меня сидела компания ребят из операторской группы. Механик Боря бренчал на гитаре. Я посмотрел на небо. Солнце по-прежнему пряталось за тучи. Группа «загорала».
Подошел Вадим, оператор.
— Послушай, Вадим, эти орлы тебе роют яму?
Я показал в сторону двух энтузиастов, копавших яму. Вадим отрицательно мотнул головой.
— Кому же тогда?
Червей добывают. Червь глубоко в землю ушел.
— Ну и группа! «Фитиля» на них нет, Михалкова, Салтыкова-Щедрина на них нет! Послушай, Вадим, сними всю эту шайку-лейку на пленку. Методом скрытой камеры, так сказать. И в Москву. Пусть там на них полюбуются.
— Какой смысл? Тебе же намылят шею, что распустил группу. И потом, разве у нас так много пленки?
— Не думай о пленке, старик, — произнес я не без пафоса. — Словом, я прошу тебя, сделай это для меня. Разоблачим этих тунеядцев! Начинай с водолазов. Кстати, что они делают в воде?
— Раков ловят.
— Хороши. Пленку посылать в Москву я, конечно, не буду. Но снять и показать им же, пристыдить…
Звуковая бригада. Съемки нет, но движок работает, вкалывает. Почему, как вы думаете? Потому, что кто-то там внутри тонвагена бреется или жарит яичницу. Так и есть!
Из тонвагена выглядывает бреющийся звукооператор. Улыбается:
— Заходите в гости!
Тс-с, Щечкин грядет! Сачок-солист, сачок-частник. Окруженец. В том смысле, что числится у нас как артист окружения. Бывший провинциальный актер. Большой оригинал. Чуточку даже с достоевщинкой. Почувствовал камеру — и прет прямо на нас. Чует камеру за километр Федя. Сейчас все испортит. Ноздри-то, ноздри-то! Как у мавра. Хочет что-то спросить, бедняга, но волнуется. Надо ведь и систему Станиславского соблюсти, и нас надуть. А оно не по зубам. Ну-ну, голуба, смелее!
— Николай Константинович, скажите, пожалуйста, вам для съемки не понадобятся свиные головы? А то в соседнем селе навалом и недорого.
— Пока нет. Держите на приколе.
Делаю ему знаки: кончай, мол, маячить, видишь, камера крутится, помаячил — и в сторону!
— А что? — переходит он на конспиративный шепот.
Я кое-как объясняю ему знаками. Он радостно взвизгивает и доверительно жмет мне локоть:
— Да, да… Понял вас! Гениально! Методом скрытой съемки? Как у «новой волны», да? Ой, молодцы!
Бросив глубокий понимающий взгляд в объектив камеры, он на цыпочках удаляется. Ну вот, все испортил, свинья! Сорвал чистоту приема. Ничего, мы его вырежем.
С горки спускается ассистент по реквизиту Саша Удодов. Хозяйственный мужичок.
— Ну что, Саша, как дела?
— Да вот грузовичок яблок привез, — отвечает Саша, скромно потупив глазки. — Чем, как говорится, могу, тем, как говорится, и помогу.
— Каких яблок? Разве я говорил тебе, что на съемке нужны будут яблоки? Вези обратно!
— Нет… Но… — мнется Саша, — а все-таки… вдруг, на втором плане? Как у Довженко, а? Тут председатель колхоза — душевный человек, фронтовик, неудобно было отказаться.
— Самогоном тоже он угощал?
Саша окончательно смущается:
— Душевный человек, фронтовик…
— Ну хорошо… хорошо… разве для группы, — добрею я. — Пусть витаминизируются.
— Чем, как говорится, могу, тем, как говорится, и помогу, — блаженно поет Саша.
А это что за пузанчик? А, это Маляр; Айвазовский. Настоящей фамилии его никто не знает. Пантеист: с природой одно целое, дитя ее. Вместо того, чтобы самому красить природу, чтобы было как в «Шербурских зонтиках» у Деми или как у Параджанова, как у Ильенко, — вместо этого подставил солнцу свое брюхо: крась, мол, художествуй! Наверное, еще пришептывает, как красить:
— Оранжевенького… лимонного… да охрецы, охрецы не жалей!.. Опосля политуркой пройдешь. Пол-литра с меня.
Да, кстати, солнце-то вышло! Почему же никто не предупредил? Куда смотрел ассистент оператора? Где второй режиссер?
— Сатурнович!
— Сатурнович!!! — вторят ассистенты.
— Вон он, ловит бабочек для второго плана!
— Для какого еще второго плана? Вадим, достань этого сына полей, достань этого эльфа, достань этого юнната!
Сатурнович (порхая, с бабочкой на плече):
— В чем дело?
— Ты где был?
— Ловил бабочек.
— Для второго плана?
— Нет, для сына. У него коллекция.
— А группа? А группа?! — клокочу я.
Что группа? — спрашивает эта невинность.
— А группа что делает?!
— Но ведь солнце-то…
Тут, наконец, и Сатурнович замечает, что солнце давно уже вышло. И тогда, как-то странно изогнувшись, войдя в штопор, он оглашает местность пронзительным криком:
— Внимание!!! Приготовились к съемке! Все по места-ам!
Замелькали удочки, повыскакивали из воды голые тела. К камере подлетел обалделый помреж и, ничего не соображая, хлопнул перевернутой вниз хлопушкой.
2. Браконьерствующие
Вечером я прогуливаюсь тенистыми улицами провинциального городка.
В белой рубашке, в белых брюках и в белых, начищенных зубным порошком туфлях идет мне навстречу походкой ловеласа-аматора окруженец Щечкин.
— Добрый вечер! — приветствует он меня.
— Добрый вечер! — приветствую я его.
— Дышите благорастворенной прохладой вечернего воздуха? — загибает он этакого Карамзина.
— Наслаждаюсь.
— Только почему же одни?
— Это как же? — настораживаюсь я.
Щечкин мнется: хочет что-то сказать, но робеет.
— Простите, конечно, не мое это дело и дело в высшей степени деликатное, спиритическое… — начинает он выстраивать очередного Карамзина. — Разумеется, если это только не секрет, не тайна мадридского двора, не… словом, у вас здесь есть женщина?
Вопрос не из легких.
— Видите ли… — выпутываюсь я, — как бы это вам объяснить… жена у меня красавица писаная… Джина Лолобриджида… Нефертити… Анук Эме.
— Конечно, жена ваша, если позволите применить аллегорию, индейка, горлица, — выводит Щечкин, — блюдо изысканное, но ведь бывают, согласитесь, моменты, — тут Щечкин наклоняется к моему уху и страстно шепчет: — когда хочется отведать и чего-нибудь… Этакого… Доисторического… Несъедобного!.. Рыбицы какой-нибудь… (у него перехватывает дыхание) каракатицы!..
Ага! Что я вам говорил! Вот она, достоевщинка-то! Проявилась! Чистой воды! Эка загнул! Какое же у него амплуа было в театре? Смердяков?..
На противоположной стороне улицы замечаю Сатурновича. Он ведет под руку маленькую женщину. Маленькие женщины — это у него пунктик, конек. Сам он не Геркулес, роста, однако, выше среднего. Как-то я поручил ему найти нескольких карликов. Он ездил куда-то за город, где, видимо, была их артель. Для масштаба он фотографировался с каждым из них. Вскоре это стало его страстью: каждый день в режиссерской комнате появлялись новые фотографии, где Сатурнович был снят с очередным карликом. С папироской и с улыбкой добряка-великана. А результат был как раз обратный: карлики почему-то оттеняли незавидность его фигуры.
Приезд наш в город Н. произвел переполох, сравнимый разве что с приземлением марсиан. Город вздрогнул и как-то даже присел от неожиданности. Но пройдет еще немного времени, и город распрямится, развернется во всю свою мощь и с песнями и плакатами двинет широкой лавиной в массовку. Прорвутся наружу дремавшие силы, займутся огнем надежды сердца: «Когда же, если не теперь! А что, если могучая стихия кино подхватит и меня и, чем черт не шутит, унесет в столицу!»
— Простите, вы режиссер картины? — раздался у меня за спиной поставленный голос.
Я обернулся. Ко мне приближался пожилой мужчина со старушечьим лицом.
— Разрешите представиться: актер Меч-Оралов. Снимался у Червякова, Чардынина, Довженко. Считаю своим долгом участвовать в вашей картине. Думаю, что рекомендации Анатолия Васильевича более чем достаточно.
Я кивнул головой, плохо соображая, кто же такой Анатолий Васильевич.
— Простите, чьей рекомендации?
— Анатолия Васильевича.
— Не имею чести…
— Луначарский Анатолий Васильевич, — ответил Меч-Оралов и полез в боковой карман пиджака. Оттуда он извлек пачку газетных вырезок и протянул мне. Часть из них упала на тротуар. Я кинулся собирать их, мучительно решая, что же ответить старику, как объяснить ему, что роли для него у меня нет, а окружение я ему предложить не могу — Анатолий Васильич не простит.
— Видите ли, — запинаясь, начал я, — роли у нас распределены, да их и немного. Разве в окружение… но на это не согласитесь вы.
— Да, — гордо ответил Меч-Оралов, — на это я не пойду.
Он выбрал из пачки одну из вырезок подведя меня к фонарю, взволнованно прочел:
— «Особенно поразительна мимика актера Меч-Оралова. Я поздравляю наше искусство с такой мимикой». Он поздравлял!..
— Вот видите, — промямлил я, стараясь не глядеть ему в глаза, — я просто не имею права предлагать вам какое-то окружение.
Он бросил на меня убийственный взгляд, как в старом кино, и, галантно расшаркавшись, пошел прочь.
Переваривая случившееся, я незаметно для себя дошел до городского парка. Слышалась музыка. Пятачок танцплощадки был забит танцующими парами: осваивали шейк.
Вдруг музыка прекратилась, и в динамике завозился чей-то знакомый и довольно противный голос. Сатурнович! С бесцеремонностью массовика-затейника он начал очередную вербовку:
— Уважаемая молодежь! Прошу извинить за прерванный танец. Вам, конечно, известно, что в вашем городе находится съемочная группа кинокартины «Отрок». Каждый из вас сможет принять участие в съемке! В увлекательном творческом процессе! Всем желающим необходимо явиться к гостинице «Космос». При себе иметь паспорта. Спасибо за внимание! Танцы продолжаются! Кавалеры приглашают дам, гы-гы!..
Позади себя я услышал прерывистое дыхание. Обернулся. Лицо Меч-Оралова было жалко: актерская маска исчезла, осталось просто старое лицо.
— Знаете… актер горяч… — невнятно заговорил он, глядя мимо меня. — Я слишком долго ждал этого момента. В конце концов, я мог бы согласиться и на эпизод. Поймите старика.
— Да, да, — поспешил я перебить его, — мы обязательно что-нибудь найдем для вас. Вы извините меня. Я, вероятно, был неправ.
Почувствовав, что я сдаю, он начал давить на жалость и перестарался:
— Ну, хорошо, не гожусь. Устарел. Баласт-с. Но дайте же заработать старому актеру… хотя бы на оградку.
— Ну зачем вы так? Ну, я обещаю, наконец, но не надо же так!
— Правда? — он схватил мою руку. — Тогда разрешите, я кое-что продемонстрирую вам?
Я начал поспешно отговаривать его. Но он стремительно отскочил от меня шага на три и, шутовски поклонившись, объявил:
Комический жанр — Куплетист Жан!Перебирая ногами и жонглируя шляпой, он запел:
И у синички есть гнездо, И у верблюда дети. А у меня нет никого, Ах, никого на свете!..Стали собираться люди. Меч-Оралов тем временем перешел с легкого жанра на трагедийный:
Печально это все, но Яго знает: Срамное дело с Кассио свершала. Признался Кассио…Меня покрыл пот. Я не видел никакой возможности кончить этот спектакль. Но совершенно неожиданно Меч-Оралов прервал его сам:
— Стыдобушка, а? Стыдобища! Ха-ха! Подите вы к дьяволу! Актер горд! Горд я, брат Аркадий! И никаких ваших эпизодов мне не надо!
Надев шляпу и поклонившись публике, он пошел прочь. Все, разумеется, по-недоброму смотрели на меня. Выручил Сатурнович.
— Николай Константинович! — обрадовался он мне. — Вот кстати! Идемте, я познакомлю вас кое с кем. Как раз то, что мы ищем.
Он снова ненадолго исчез в полумраке, чтобы извлечь оттуда свою находку — пенорожденную Афродиту местного разлива. Афродита застенчиво хихикала и не хотела идти.
— Вот, Николай Ксиныч, рекомендую, — торжествовал Сатурнович, — Нора. Норочка готова сниматься у нас русалкой.
— Вы готовы? — спросил я обреченно.
— Готова, — ответила Норочка, пронзая меня взглядом.
— Это похвально, — ответил я, наступая на Сатурновича. — И вообще похвально, что вы ищете, Сатурнович, экспериментируете. Молодец! Ищите и дальше в том же духе. Новаторствуйте!
Он не понял моей убийственной иронии. Но я уже знал, что вся мужская половина группы занималась браконьерством, а именно: вербовала для съемки «русалок», не имея на то никаких полномочий.
С девушкой под руку проплыл шелудивый Щечкин. От него пахло зубным порошком «Метро». Тоже, наверное, браконьерствовал.
Приблизившись к ним так, чтобы они не могли меня видеть, я прислушался.
— Вы знаете, Нина, почему я ушел из театра? — печально спросил Щечкин.
— Нет, не знаю.
— Со Станиславским не сработался.
— Как? С самим Станиславским?
— Система его меня подавляла. Жестокая, потогонная это система, Ниночка. Не дай бог! Все время в образе. Ни минуты передышки. «Большой круг внимания»… «Малый круг»… Господи!.. Не успеешь выбраться из «большого круга», как тут же попадаешь в «малый». Сплошные круги, Ниночка. И так каждый день.
Молодец, Щечкин, умница. Про круги — это ловко. Давай, давай! Особенно приятно, что он не использует кино в корыстных целях — охмуряет девушку за счет смежного вида искусства. Но — чу!
— Вот я и ушел в кино, Ниночка. Меня ведь Эйзенштейн давно звал. Иди, говорит, Исидор, в кино, не связывайся ты со стариком, ну его! Но я все тянул, все надеялся, что старик, наконец, образумится, пересмотрит систему, вынесет послабление. Нисколько! Чем дальше, тем хуже. С Немировичем ссориться стал, с Данченко. Ну, тут я и не выдержал, ушел.
— Из МХАТа?
— Нет, из Луганского музыкально-драматического.
Это последнее признание явно разочаровало спутницу Щечкина. А мне даже стало немножко жаль всего, что он наврал здесь. Надо же, построил такое великолепное здание — и вдруг одним неосторожным движением сам же и сокрушил его. Право, будто дорогую вазу разбил.
— В кино, Ниночка, в этом отношении легче. Там монтаж. Вы начинаете фразу в январе и кончаете ее где-то в бархатном сезоне. А в промежутке, в паузе, в цезуре, так сказать, отдыхаете, занимаетесь личной жизнью, художественной резьбой по дереву.
— Вы режете по дереву?
— Я режу правду-матку… — задумчиво произнес Щечкин.
И вдруг его прорвало:
— Нина, хотите, я сниму вас в кино? Хотите? В роли русалки! Я обещаю. Режиссер — близкий мне человек. Мы с ним друзья-единомышленники. Ну?
Я… не знаю, — заволновалась Нина. — Как-то уж очень неожиданно. Хотя я давно мечтала… в кино… Но русалкой… Она ведь должна сниматься как-то по-особенному?
— Неглиже! — прохрипел Щечкин. — Это будет замечательно… На длинном фокусе!
«Длинный фокус» смутил Нину, она глубоко задумалась, но через некоторое время сказала твердо:
— Хорошо. Я согласна.
Решив, наконец, пресечь это затянувшееся браконьерство, я громко кашлянул. Щечкин и его спутница вздрогнули. Когда она обернулась, я вынужден был признать, что Исидор Щечкин был далеко не промах. Вот вам и аматор! Куда!.. Опытный стервятник, злодей, коршун!
— Вот, Ник Синыч, — заюлил Щечкин, — хочу познакомить вас — Нина Косуля. Готова сниматься у нас в роли… э-э… нимфы.
— Плавать умеете? — спросил я деловито.
— Умею.
Нина смутилась.
Застенчива. А для такой роли даже чрезмерно застенчива. Надо все-таки еще раз дать ей понять, насколько это необычные съемки.
— Вам, конечно, Исидор Валентинович изложил условия съемок?
Вместо ответа она тихо спросила:
— Съемки ведь будут подводные?
— М-м… ну, как вам сказать? Скорее подводно-надводные. Так что подумайте хорошенько.
— Нет, нет, я решила, — поспешила она перебить меня, боясь, как видно, что на этот раз передумаю я.
И тут я вдруг обнаружил, что Щечкина рядом с нами нет. Исчез! Вспомнились его намеки в самом начале прогулки. Я едва удержался, чтобы не закричать «караул».
Всю дорогу Щечкин незримо сопровождал нас. Я рассказывал Нине о «русалиях», о древних языческих обычаях наших предков. Она слушала, молча кивала. Одновременно я думал о том, как бы вел себя на моем месте старый стервятник Исидор Щечкин.
В номере я долго не мог уснуть. А когда уснул, приснился старик Меч-Оралов.
— Я от Анатолия Васильевича, — шептал старик, — вот ордер на могилку. Памятник взял на себя Дом ветеранов. От вас потребуется только установка оградки и общий вид: отделка и полировка. Ну, и цветы… можно анютины глазки.
Проснувшись среди ночи, я зажег свет, сел за стол и до утра просидел, придумывая Меч-Оралову роль, но так ничего и не придумал.
3. Русалка — Нина
— Да гляди, чтобы ни один «пластун» не проник! — предупредил я Сашу.
— Хорошо, — волнуясь, ответил он. — Чем, как говорится могу, тем и…
Смотри, как его колотит! Нехорошо.
Что вообще происходит с группой? Ходят, как очумелые, прячут глаза. У многих на лицах какая-то суровая озабоченность: делают вид, что они здесь самые необходимые, что без них съемка не состоится. А она состоится. И именно без них.
Перед самым моим носом, не замечая меня, крался, пригибаясь, ассистент художника Паша Люсин.
— Вы куда, шеф?
Он вздрогнул. И, не оборачиваясь в мою сторону, мгновенно перевоплотился в ловца кузнечиков: сложил ладошку узенькой лодочкой и всем телом рухнул на воображаемое насекомое.
— Ладно, ладно, товарищ Марсо, заворачивайте из зоны.
Он покорно поднялся с земли, повернулся и пошел в противоположную от озера сторону.
Над озером возвышалось деревянное четырехметровое сооружение. Там механики устанавливали камеру. Я двинулся по доскам к месту съемок, когда вдруг меня догнали взволнованная Люба:
— Нине плохо!
Я побежал к автобусу. По дороге встретил еще одного «пластуна» и, уже не выдержав, наорал на него так, что он рванул куда-то в район заливных лугов.
Влетел в автобус:
— Ну как?
— Ничего, прошло, — ответила Нина, вытирая слезы и слабо улыбаясь.
— Может быть, отменить съемку? — спросил я.
— Нет, нет, — решительно произнесла Нина и поднялась с сиденья.
На ней был длинный халат. Волосы распущены.
Мы шли с ней по узким доскам к деревянному сооружению, похожему на эшафот. Я поддерживал ее за локоть и чувствовал, как вся она дрожала мелкой дрожью… И все-таки шла. Потом я передал ее Любе. Вместе они пошли дальше и скрылись в кустах.
— Вася, подбрось дымку! — крикнул второй оператор.
Вскоре озеро заволокло дымом.
— Ну что? — спросил голос Вадима сверху.
— Сейчас, — ответил я, охваченный внезапной паникой, школярским безотчетным страхом и еще бог знает чем.
За спиной у меня кто-то тяжело засопел. Оглянулся, а это тень моя — Исидор Щечкин.
— Вы почему здесь, Щечкин?
— На правах первооткрывателя, Колумба, так сказать.
— Немедленно уйдите.
Он сделал вид, что не слышит.
— Ну, как у вас вчера? — спросил он и уже совсем понимающе протянул: — А-а!.. Вкус еще никогда не изменял Щечкину. Никогда!
— Немедленно уйдите! — закричал я.
— Понимаю вас, — ядовито произнес он. — Вам ведь уже кажется, что вы единственный ее, так сказать, обладатель и душеприказчик. Но есть и другие! Да-с!
Гордый в своем нелепом соперничестве, он удалился.
— Внимание! Приготовились!.. Нина!!!
— Нина!!! — повторило эхо.
Поправляя на ходу волосы, она вышла из кустов и направилась к озеру.
— Камера!
— Есть камера!
Она шла. Это первая женщина земли ступала по мокрой траве. Тысячелетия разделяли нас. Языческий хор гремел у меня над башкой. И были мы муравьями, кузнечиками, а она… женщиной, началом начал.
Где-то в районе камышей появилась чья-то нелепая голова в подводной маске и, громко фыркнув, снова ушла под воду.
— Объектив триста! — рычал первый оператор на второго. — Живее!..
Ночью приснился экзамен по химии. В школе я был посредственным учеником. И сколько я ни помню себя — то я кому-то совал шпаргалки, то мне совали. Больше же всего боялся химии. И вот этот экзамен. Стою у доски рядом с Вовкой Изюмовым, сую ему в руку шпаргалку, а он не берет. Причем стараюсь не глядеть в его сторону, сую вслепую, как будто это делает мои манипуляции менее заметными. А Вовка то ли не понимает, чего я от него Хочу, То ли боится, но не берет — и все. И уже почти насильно, с каким-то отчаянием я пытаюсь засунуть ему шпаргалку в карман. Завязывается борьба. Я весь в испарине. Все уже давно, включая учеников и комиссию, наблюдают за этой борьбой. Непонятно только, почему они не пресекают этого безобразия. И карман у Вовки какой-то дикий. Зашил он его, что ли?.. Да нет, кажется, вообще нет никакого кармана. Я набираюсь смелости и поворачиваю голову в сторону Вовки. А там не Вовка, а Нина! В русалочьем наряде. Нина улыбается мне, но, как и Вовка, шпаргалку не берет. В руке у нее мел, она пишет на доске. Крошки от мела сыпятся на пол, на голые ее ноги. Комиссия шепчется, и я слышу, как завуч произносит заветное свое слово: «Исключить!»
4. Пиротехнический гений
Снимаем в степи у дороги. Жара. Почти вся группа до половины раздета. Солнце утюжит спины. Гудит башка.
Оператор с ассистентом, как пулеметный расчет, лежат на животах, прильнув к камере. Оторвавшись от нее на мгновение, Вадим просит о чем-то постановщика Гришу, и тот, вооружившись веревкой и топором, идет в степь.
Я поворачиваю голову и вижу, как с другой стороны к нам приближается странная пара. Четко рисуются их длинноволосые силуэты на тонких ногах. Оба одеты в какое-то подобие трико. Он и она. У него за плечами мешок. На голове клетчатая шапочка с кисточкой. Бродячие комедианты. Арлекин с Коломбиной. Анахронизм. Но, может быть, я перегрелся и галлюцинирую?
Поворачиваю голову обратно, в ту сторону, куда ушел с топором постановщик Гриша. Там тоже большие перемены. Гриша сидит на верхушке березы, а внизу по земле бегает человек в гимнастерке и размахивает руками, грозит.
— Вадим, в чем там дело?
Вадим пожимает плечами:
— Я просил его подкоротить березку. Только и всего.
Сатурнович устремляется на место конфликта. За ним еще несколько человек. Подбежав к человеку в гимнастерке, они хватают его за руки, держат. Перепуганный Гриша панически падает вниз, а затем быстро уносит ноги. Остальные успокаивают человека в гимнастерке. Отсюда мне кажется, что он плачет. Неужели плачет?
Возвращается Сатурнович.
— Ну, что там?
— Березку не дает рубать папаша. Прежде чем, говорит, ты ее зарубаешь, я тебя зарубаю, кричит. Березка-то посажена им в память о сыне.
Да, хороши бы мы были, успей Гриша с топориком. Недаром говорят: там, где побывала киноэкспедиция, трава не растет года три.
Подошла Люба:
— Тут двое каких-то… просятся в массовку.
— Помилуйте, Люба, какая сегодня массовка?
— Нет, вообще. Они говорят, что знают вас.
— Кто?
Поворачиваю голову и вижу Арлекина с Коломбиной. Ну конечно, это Вовка Незуев с женой. Вовку я знаю давно. Сначала мы учились вместе в университете. Потом он ушел оттуда. Работал с рыбаками на Каспии, потом завлитом какого-то ТЮЗа. Потом я слышал, что он долго скитался в районе Байкала. Несколько раз привлекался за нарушение паспортного режима. Потом он пришел к нам в театр рабочим сцены. И, наконец, мы встретились в Москве на сценарно-режиссерских курсах. Он жил, как и я, в общежитии. В комнате у него не было никакой мебели. На, полу постель и циновка. И кофеварка в углу. На стене на больших гвоздях своеобразный монтаж рукописей. С курсов он тоже ушел.
И вот встреча. Нет, я положительно считаю, что есть люди, обреченные на странное постоянство случайных встреч, на фатальные пересечения друг с другом. Я абсолютно уверен, что куда бы меня ни зашвырнуло, я обязательно, непременно через какой-то промежуток времени с неотвратимостью биллиардного шара натолкнусь на Вовку. Я уже настолько привык к этому, что воспринимаю сие как нечто само собой разумеющееся. А когда-то эта штука очень занимала меня. Еще в университете я интересовался разными параллелизмами и пересечениями человеческих судеб, сложной паутиной человеческих связей. Можно это называть игрой рока.
Носясь с этой идеей, я даже решил однажды взять на себя функции рока и произвести эксперимент над моими московскими дядями. Дяди мои были злостные «параллелисты». Вот уже тридцать лет жили они в Москве и ни разу не встречались друг с другом. Пути их не пересекались.
Заранее все было предусмотрено так, чтобы знакомство это не выглядело подстроенным. И вот однажды, когда вместе с дядей по материнской линии мы ехали в один из живописных подмосковных уголков, я вспомнил по дороге, что забыл этюдник. Где? У другого своего дяди, что по отцовской линии. Машина свернула на Чистые Пруды, и дядя по материнской линии неотвратимо двинулся на сближение с дядей по отцовской линии. Дядю мы застали за починкой рыболовных снастей. Оба дяди представились друг другу, поахали по поводу того, что, живя в одном городе, ни разу почему-то не встретились. Но дальше этого разговор не пошел. После долгой и нудной паузы более словоохотливый дядя по материнской линии высказал соображение, что рыба весьма охотно клюет на так называемого «говнецкого» червя, на что дядя по отцовской линии резонно заметил, что каждый рыбак свою насадку хвалит.
— Ну вот, — обрадовался я, — и махнули бы вместе на рыбалку!
— Непременно, непременно, — подхватил более инициативный дядя по материнской линии. — Обязательно надо съездить. Взять как-нибудь и, не откладывая, махнуть на озера.
На этом и расстались. На озера они так и не махнули. И никуда они не махнули. После этого я уж не брал на себя функций рока.
С Вовкой мы никогда не были близки по-настоящему. Всегда мы как-то настороженно присматривались друг к другу. По-видимому, слишком уж ощутима была разница между нами: мною, — рабом определенного положения вещей, привычек, условностей и авторитетов, — и им, — бессребреником, пилигримом, еще кем-то.
Он и его жена на неделю стали «окруженцами».
С дороги сворачивает «Волга». Что это принесло нашего директора? Идет сюда и даже не идет, а трусит. Какую-нибудь весть несет в клюве. Телеграмму. А что в телеграмме?.. «Вызываетесь Москву разговор отснятому материалу Минц». Что это? Экзамен? Экзамен по химии? Сон в руку. Опять этот ученический страх! Когда он кончится?..
За спиной — мнимо сочувствующий вздох директора:
— Это они тебя по поводу русалки, Коля.
Прежде чем я улетел, произошло событие, потрясшее едва ли не весь город: пиротехник Вася взорвал городскую уборную. Произошло это при следующих обстоятельствах. После съемки Вася и Паша ужинали в городской столовой. Ужин их был сдобрен доброй дозой горилки и доброй беседой, за которой Паша Люсин неосторожно упрекнул Васю в профессиональной немощи и отсутствии фантазии. Трудно было обидеть Васю сильнее, чем это сделал Паша. Уязвленный Вася хватил кулаком по столу и заявил, что через пять минут эта столовая взлетит на воздух. Паша не на шутку перепугался и начал отговаривать Васю от греха. Слегка поостыв, Вася тем не менее не оставил своих намерений и продолжал угрожать взрывами, но уже не столовой, а стоявшей во дворе деревянной уборной на шесть мест. Паша понимал, что вулкан не утихнет, пока не удовлетворится жертвой. И Паша решил: пусть лучше погибнет уборная, чем другие общеполезные места. Минут десять Вася таскал в уборную какие-то свертки, что-то там налаживал, потом вышел оттуда и велел Паше отойти шагов на тридцать, чтобы «дерьмецом не обметало».
— Внутри никого нема? — спросил на всякий случай Паша.
Вася отрицательно мотнул головой.
Секунд через тридцать грянул взрыв. Уборная со всеми шестью отсеками взлетела на воздух.
— Шути, да знай меру, — назидательно произнес Вася после взрыва.
Паша виновато улыбнулся, отчетливо, видимо, представив себя запертым в одном из отсеков летящей, как комета, уборной.
Лечу в самолете. В ушах гудит. И чудится мне: гонится за нами огнедышащим Змеем-Горынычем, свистя и хлопая дверцами, Васин шестиместный сортир.
5. Дома
Метро. Часы пик. Зажатый между пальцами двугривенный двигался по проложенной миллионами таких же двугривенных глубокой борозде. Мраморное блюдечко в окошке кассы от прикосновений пальцев и пятаков прохудилось. Все это были какие-то жутковатые следы, образуемые не временем, не историей, но баснословным количеством людей, прикасающихся к камню. Толпа вынесла меня к эскалатору. Здесь самое интересное. Встречные потоки. Один поток молча рассматривает другой. Никогда не устаешь смотреть на людей.
Наш дом.
— Наташка, принимай грешника, прибывшего для душеспасительной порки.
— Тебя вызвали?
— На экзекуцию.
— Ты весь в бороде.
— Так задумано. Защитный панцирь.
Озеро было огромным. Я сидел на корме с заломленными за спину руками. Руки горели от впившейся в них веревки. Я постарался незаметно погрузить руки в воду. Это сразу успокоило боль. Немец заметил, но ругаться не стал. Вдруг что-то с силой царапнуло днище лодки. А еще через мгновение я почувствовал, как веревка, которой я был связан, зацепилась за что-то острое, спрятанное под водой. Не удержавшись, я опрокинулся в воду и начал барахтаться. Лодку отшвырнуло в сторону. Немцы панически выгребали. А меня по-прежнему продолжало держать это нечто. Потом вода стала убывать, обнажая скрытые под ней руины затонувшего города. Теперь я уже почти висел, вода была у меня под ногами. С трудом ощупав предмет, который держал меня, я установил, что у него пять острых концов. Это было похоже на звезду. Лодка с немцами была уже далеко внизу, плывя, как по каналу, между скелетами зданий узнаваемого мною Охотного ряда.
Я проснулся, обнаружив, что лежу в неудобной позе, заломив за спину левую руку.
— Что с тобой? — спросила Наташка.
Я не ответил. Сверху, с потолка, прямо на меня блюдцеобразной люстрой валилась жизнь с ее утренними бликами. Наташка лежала рядом. И выходило, что мы… спасены! Я смотрел на нее… Крупный план плеча… Раскосый глаз скифянки. Дорогой мне микромир! И спасены!
Завтракаем. Наташка наливает кофе. Неужели могло случиться, что ни я, ни она не дожили бы до этой минуты, до этого вот негромкого подрагивания чашечки в блюдце, до этого мига, в который руки ее совершают путь от сахарницы к блюдцу…
— Читала в «Неделе»: Гитлером был разработан план превращения Москвы в гигантское водохранилище. Но мы не стали озером… выжили, победили… Понимаешь, как это важно, как это нужно помнить, что мы не дали превратить себя в водоросли, в ил… Спасены! А мы живем и скулим. Какая-то экзекуция… Плевать я хотел!.. Ерунда все это!..
Погромыхивая чашечками и блюдцами, Наташка вышла из комнаты. Сделай она это чуть медленнее — мне казалось, — я успел бы разглядеть легкие завихрения воды где-то в районе ее локтей. Задержись она, и я заметил бы, как вода забегает ей в рукава. Но ничего такого я не успел разглядеть, потому что незачем ей идти медленнее, чем нужно… И мы — не озеро.
6. Судный день
Железные врата студии «КЕНТАВР». У-у, железные!.. У-у, на семи замках!..
Я не стал подниматься на лифте, курсирующем между объединениями. У каждого объединения свой этаж. Объединение «Меч», к которому я сопричислен, находится на пятом. Я полагал, что это самый почетный этаж. Выше нет, а ниже, согласитесь, все-таки не то. Объединений пять — и этажей пять. Приятная комплектность, альянс! Будь этажей меньше, каким-то двум объединениям пришлось бы ютиться на одном этаже: начались бы ссоры, интриги, склока бы вышла нехорошая, а так — вполне благородно. Удельные княжества. Поэтажно.
Медленно поднимаюсь по лестнице. Сегодня мне будут мылить голову в масштабе объединения, а завтра, надо полагать, в масштабах всей студии. Где вы, дни незапятнанные? А ведь не так уж это было давно… Года полтора назад мы с Сашей Оффенбахом робко вступили под сень «Меча». По какой-то оказии Сашка был, как вы заметили, однофамильцем родоначальника опереточного жанра. Фамилия-то и подкузьмила Сашку. Сценарии, которые мы предложили «Мечу», не то чтобы не были приняты, но обоим нам предлагалось переписать их на иной лад — в духе объединения, которое страстно, почти исступленно тяготело к музыкальным фильмам. И вот Сашка стал жертвой этой слепой страсти, Ступину все не давала покоя Сашкина фамилия. «Не отпрыск ли того самого? — думал он. — В воспреемники возьму, ежели подтвердится». Так постепенно полюбил Ступин в Сашке свою мечту о возрождении начатого им в свое время, а ныне пришедшего в упадок жанра лирической комедии. Таким вот нелепым образом и закрепилась за Сашкой репутация «музыкального» режиссера. Сашка терпел-терпел это издевательство да и выдал однажды, что не только не любит музыкальных фильмов, а вообще не терпит никакой киномузыки. Все так и ахнули, обалдели. А Сашка ушел. Да еще дверью бабахнул. Я же походил, походил, принюхался к «духу» да и поддался ему. Меня запустили в производство.
В своем объединении Ступин был вроде губернатора. Соответственно, и объединение было чем-то вроде губернии. Лет пятнадцать тому назад он был в зените славы и ворочал не объединением, а, почитай-ка, всем кинематографом. Потом уже, в менее сладкие для него времена, он был худруком студии, и вот сфера его влияния сузилась до масштабов объединения. Произошло что-то вроде ссылки, что-то вроде Меншикова в Березове. И стал «Меч» ступинской вотчиной, заповедником старых и добрых традиций, оазисом музыкально-лирического жанра.
Уходя, Сашка сказал мне на прощание:
— Смотри, как бы эти лакировщики, эти лудильщики, эти последние могикане не охмурили тебя.
— Ничего, — ответил я, бодрясь, — тоже ведь не лыком шит.
— Там Ступин с бабою Ягой… — мрачно пригрозил Сашка. Директором этого объединения был некто Минц. Еще его называли Мин-Херц. Человек циничный, но, как ни странно, в объединении наиболее порядочный. Его цинизм проистекал скорее от занимаемого им положения, нежели от его человеческой сути. Хотя, наверное, этот вынужденный цинизм по должности сильно подтачивал и самую человеческую суть. Это был мудрец, резонер, философ. Ему понятна была скрытая драматургия страстей, бушевавших в объединении, он заранее предвидел все грустные и смешные парадоксы ступинского самодурства; и, верно, давно сдали бы и выдержка, и совесть, если б не юмор, — но юмор-то, увы, циничный.
Другая, не менее важная фигура — главный редактор «Меча» Оселков. Маленький щуроглазый человечек с бледным лицом. Этакий кардинал Мазарини при необузданном Ступине.
Была в этом объединении еще одна значительная фигура — режиссер Фаянсов, человек эрудированный и даже слегка фрондерствующий. Трудно была понять, как эти два в общем-то равновеликих, но очень разных кита уживаются, сосуществуют в одном объединении. Один из парадоксов этого объединения, его кентавр. Фаянсов постоянно вояжировал за границу, якшался с «новой волной», носил парижскую обувь, знал толк в скрытой камере и понимал Босха. Ступин Босха не понимал, парижской обуви не носил и с «новой волной» не якшался. От этой разницы возникали небольшие недоразумения. Правда, не такие уж частые, как ни странно. Когда меня запускали, Фаянсов, поглаживая меня по затылку, сказал, обращаясь к Ступину:
— Знаешь, Петруша, кого ему надо сейчас штудировать? Босха Иеронимуса. Глобальный ведь мужичок.
Ступин помялся — какой, мол, такой Иеронимус, — но все-таки согласился:
— Это непременно. Но я бы еще к нему и Уолта Диснея пристегнул. Энциклопедия!
Фаянсов сделал кислую, гримасу, но смолчал. Я тоже дураком сидел. Вот так и ладили. Трудновато, но ничего не попишешь. С одной стороны, Ступин понимал, что Фаянсов слывет сейчас модным и, вероятно, угодным новатором и в седле сидит, как привинченный; с другой стороны, и Фаянсов разумел, что сильны еще ступинские дрожжи и, что бы там ни было, долго еще будет старик замешивать на них свое крутое тесто.
Все остальные в объединении почти ничего не решали. Правда, их иногда внимательно и по-отечески выслушивали, чтобы не обижать уж вовсе, но без всякой пользы для дела.
Сейчас все они в сборе. И те, кто все решают, и те, которые ничего не решают. Особенно озабоченный и серьезный вид у тех, кто ничего не решает.
Ступин выступает первым. Его не устраивают натурализм и серятина в моем материале. И вообще — плохо, к дерьму близко.
— Этак мы с вами бог знает до чего докатимся, — печально резюмирует он. — Надо закрывать картину.
Мертвая пауза. Я в состоянии невесомости, парю. В штанах какой-то сквозняк. Интересно, что же скажет Фаянсов? Сейчас начнет сервировать свою речь замысловатыми терминами: ложечки, подстаканнички, фамильное серебро. Свою критическую мысль он помещает в этакое элегантное русло, что-то на манер сообщающихся сосудов: он не сторонник приукрашивания, причесывания действительности (камешек в огород Ступина!), но он же враг натурализма, приземленности (булыжничек в мой!); он за изящную форму, за остроту… а в сущности (это уже я делаю вывод) за ту же лакировку, только на более совершенном этапе, с легкой иллюзией правды.
Итак, можно считать, что оба кита против. Этого вполне достаточно, чтобы поставить на картине крест. Собственно, есть еще полукит — Мин-Херц. Но даже если он и поддержит меня, все равно он будет в меньшинстве. Оселков меня поддерживать не станет. Что он, очумел? Но тогда что же, конец?.. Господи, зачем же я тогда связывался с ними? Зачем шел на компромиссы, наступал себе на горло?..
Итак, меня нет, я смят, остались одни формальности — ритуал погребения: выслушать Мин-Херца, Оселкова и тех, озабоченных… Озабоченность их, я думаю, вызвана одной-единственной мыслью: не брякнуть бы лишнего!
— Я тоже вижу в материале серьезные недочеты, — тихо сказал Минц, — но и не считаю его настолько уж бесперспективным. Кроме того, нам, как говорится, не привыкать воспитывать и направлять молодежь. Объединение у нас, слаба богу, не без рулевого, не без ветрила, чего нельзя сказать о других объединениях. Словом, я не вижу причин для пессимизма. Не вижу я причин и для закрытия картины.
Вот те на! Попер против самого Ступина! С реверансами, но… попер! И куда девался его цинизм? Человеческое пробилось, простое. В чистом его виде. Хотя не совсем понятно, почему. Не с руки ему доброту-то свою показывать. Не с руки, а показал. Спасибо.
Теперь очередь за Оселковым. Ему-то уж совсем не с руки. А он и не будет. Не дурак! Еще чего! Я и не жду.
— Много суровой и горькой правды в словах Петра Силыча и Ивана Осипыча (ну вот, как по нотам), и я думаю, были бы все основания для паники, все!.. Но только не в нашем объединении. (А это еще что? Нет, нет, я не возьму!) Есть у нас, слава богу, и у кого поучиться, есть, слава богу, кого и о помощи попросить. (Ишь куда гнет!) Молодому же режиссеру это не только необходимо, а и полезно. На будущее. (Почему у меня на языке привкус какой-то гадости? Почему в коленях зуд?.. На что намекает Григорьич?) Вот и смирите гордыню-то да и ударьтесь в ножки Петру Силычу, Ивану Осипычу… Помогите, мол, распутаться. И помогут! Честное слово!
Он Сел. А они молчали и ждали. Тихо так. В этой тишине в самый раз звякнуть коленками об пол.
— Нет уж, — мрачно произнес Ступин, когда, наконец, миновала эта страшная пауза, — довольно с нас. Учили, подсказывали, умоляли… А Васька слушает да ест! Хватит есть денежки-то государственные! Уж хватит!
На последней фразе он осклабился.
Но почему так темнит Григорьич? Лукавый ум. На слабых ступинских струнах хотел сыграть. Брожение внес. По-видимому, у него есть особые полномочия: периодически сдерживать разрушительный темперамент Ступина. Теперь уже вопрос будет выноситься на суд Большого совета студии как спорный. И все, следовательно, впереди. Не буду и я до времени ломать копья. Собственно, остался уж сущий пустяк: речи озабоченных, «лучников». Ступин махнул рукой — и редакторские стрелы дружно посыпались на меня.
После всей этой процедуры ко мне подошел один из «лучников» и, видимо, желая как-то оправдаться, тихо запел, суча перед моим носом ручкой и как бы взбивая суфле.
— Все может принять не такой уж плохой оборот для вас. Конечно, Ступин — сила, но и к словам Минца следует прислушаться. Ведь он в данном случае потенциально выражает точку зрения дирекции студии. Закрывать картину — дорогонькая штука: деньги-то затрачены. А художественные качества материала — дело спорное. Так что все еще можно повернуть.
— В самом деле? Есть надежда?
— Да… только не надо так громко… это сугубо между нами.
— Ах, разумеется, разумеется… полная тайна вклада.
Странно все-таки, почему Ступин не упомянул кадры с русалкой? Такой козырь!.. А может, он припрятал его?.. Эх, как же это я сразу не догадался, что он этот самый козырь на потом, на потом оставил!.. На потом оставил он и Васин сортир!.. Ах, я телятина!..
7. След отца
Каталоги, каталоги… Второй день не вылезаю из библиотеки. Меня омывает океан имен, человеческих судеб, борений… Может быть, наивно думаю я, где-то на дне этого океана спрятана великая крупица смысла, в которой сфокусирована вся прежняя и грядущая мудрость мира?..
Роясь в одном из ящиков, я случайно напал на знакомую фамилию. Вот и инициалы сходятся… Не может быть! Отец!.. Что ты здесь делаешь? Как попал сюда? Собственно, фамилия отца была упомянута здесь как объект одной ругательной статьи, где отец выступал в качестве консервативного элемента, противящегося реформациям в системе геологической службы. Но неужели это все, что осталось от него? Вообще-то отец писал мало. Но неужели это все? Единственный след? Я кинулся к другим, более специальным каталогам. Запестрели знакомые фамилии геологов… Повеяло Уралом, детством, домашним довоенным пирогом, гостями… А вот еще имена… его враги — «академики». И снова — автор разгромной статьи… И — никаких других следов.
Еще учась в школе, я часто слышал о какой-то войне отца с, «академиками». Я плохо понимал, кто такие «академики», да и вообще суть этих боев часто ускользала от меня. Я видел: отцу трудно. Хотелось прийти на помощь. А как? Собственное бессилие злило. Я думал: никогда не сумею помочь отцу, не сумею довоевать за него. Ну, а если правы они?
И вот однажды я очень сильно ошибся. Отец резко выступил против реорганизации геологической службы. И сразу же появилась эта статья. Я, охваченный энтузиазмом ломки, тут же отнес отца к ретроградам. Еще бы! Отец против нового! Тогда ведь все эти операции казались последним словом, оптимальным решением. Вскоре отец ушел на пенсию. А через два года умер. После его смерти было восстановлено статус-кво. Все оказалось сложнее, и уже в ретроградах оказался я сам.
…Гроб отца несли друзья-геологи. На отце лежали такие же светотени, как и на живых. Его голова, его черты еще были подчинены тем же пространственным отношениям, что и живые. Это, по-видимому, и вводило в заблуждение солнце. Кто-то из несших гроб споткнулся. Гроб пошатнуло.
— Не уронили бы… плот, — подумал я.
Узкий, из длинных и прямых бревен, плот плыл на плечах людей, чуть покачиваясь. Это был плот со старой пожелтевшей фотографии, висевшей в кабинете отца. На фотографии отец был молодой, небритый, в глубоких охотничьих сапогах…
Вот для какой святой идеи Нужны нам эти Прометеи: Титан, лантан, ниобий, торий, Актиний, гафний и цирконий… —гремел во мне некий языческий хор, заглушая звуки похоронного марша.
Отец специализировался по редким металлам. Было что-то наивное, архаичное, почти ломоносовское в этом зарифмованном отцом перечне редких металлов. Эти импровизированные строчки я подслушал однажды, когда застал отца над кроваткой внука. Негромко напевая, отец поверял внуку своих богов:
Оставишь детскую кровать И тоже станешь открывать Титан, лантан, ниобий, торий, Актиний, гафний и цирконий…Могучие бородатые боги, одетые почему-то в белые парусиновые костюмы, обступали кроватку, кивали бородами. Помню, меня охватила зависть. Мне тоже хотелось, чтобы меня баюкали боги. Но отец давно уже махнул на меня рукой. Еще в школе обнаружился у меня «гуманитарный крен», который навсегда установил жесткую дистанцию между мной и отцом. И никак мне не удавалось преодолеть эту дистанцию. Даже гораздо позже. Ах, если бы можно было бросить все и начать заново, думал я. Двинуть дорогой отца в то далекое утро с отцовской фотографии, где тихо покачивается бревенчатый плот, туда, где тайно, при тусклых свечах, как схимники, в рудах чужих металлов сидят, притаившись, закованные боги:
Титан, лантан, ниобий, торий, Актиний, гафний и цирконий…И вот в этом замысловатом лабиринте имен и названий — встреча с отцом.
— Что же они сделали с тобой, отец? Неужели это единственный след, оставшийся от тебя?
— Если измерять числом бумажек, то да. Но бывают ведь и другие следы. Полуночное, Марсяты, Старая Ляля — месторождения, следы мои… Там давно кипит работа, там жизнь, а ведь могло и не быть этой жизни.
— Я был в метро… там следы на камне от гривенников. Боюсь этих следов. Скажи, что мне делать, отец? Я запутался. Я попал в самую жестокую область искусства. Там производство переплелось с искусством, и сам черт не разберет, что к чему. Кроме того, я допустил компромисс и теперь пожинаю плоды. Я думал словчить, то есть сначала как бы согласиться, уступить, а потом… Понимаешь? Не получилось. Либо я в последний раз дам им обещание снимать так, как, они хотят, либо меня закроют. И тогда все, конец. Работе конец!
— Какой работе? Нечестной? И слава богу!
— Ну, хорошо, я проиграл. Я сам в этом виноват. Но ты-то, ты! Разве ты это заслужил? Геолог-ретроград? И вее? Какая чушь!
— Заботься о следе скрытом, но истинном, — негромко сказал отец и исчез в каталоге, в разделе «Геология», подраздел «Редкие металлы».
Я спускался по широкой мраморной лестнице. Навстречу поднимались люди. Пеклись ли они о следе истинном? Наверное. Что-то было в их лицах такое… И все они, сильные и слабые, красивые и уроды, равные пассажиры на палубе огромного корабля, раскачиваемого океаном Познания. Я часто встречал здесь одного карлика. Умница. Авторитетище. Здесь важен мозг и совершенно не важно, передвигается этот мозг при помощи костылей или легко, по-мальчишески взбегает по лестнице. Мозг важен. Славный корабль.
Я еще раз оглянулся на этот океан. Сегодня, совершенно случайно, я встретил здесь парус… Парус отца. А может быть, галеру, к которой отец был прикован?
8. Судный день 2
Мама моя, сколько их! Куда ни глянь, всюду личность — не какая-нибудь ерунда. С суконным языком сюда и лезть нечего, — здесь витийство требуется, талант. Щечкин бы здесь купался, как в родной стихии.
— Да-с, — услышал я за спиной голос Щечкина. — Редкий набор. Ассорти! Богоподобные. Лики, лики-с!
Я не отважился обернуться. Вне всякого сомнения, это был Щечкин. Каким образом? Странная фигура все-таки этот Щечкин, не перестаю удивляться.
— Что вы здесь делаете, Исидор?
— По вашему вызову, как вы мечтали описание мною высокого вече-то послушать.
Стараясь не общаться с ним впрямую, я шепнул:
— Ладно, Щечкин, валяйте, описывайте, только не путайте вече с собором и, пожалуйста, тихо, ради бога, тихо.
— Ну-с, все это высокое собрание я уподобил бы говяжьей туше, — начал вдохновенно Щечкин.
— Э-э, что-то вы не туды!
— А вот послушайте. Вот эту благородную группу маститых я сравнил бы с филе. По признаку комплекции. Другую группу — с грудинкой, третью — с лопаточкой… А это, изволите ли видеть, козелок-c… Этих бы я пустил как огузок. Ну, а уже молодежи, извините, остаются одни голяшечки.
— М-да, занятно… Но почему же так зло?
— А теперь, позвольте, я к ним, к богоподобным-то, с поздравленьицем подкачу, — не унимается Щечкин.
— Ну, это уж чересчур. Вы кто, Щечкин, — Гомер? Ломоносов?
— Гомер — не Гомер, а цитатку имею. Из «Илиады»: «Старцы, уже не могучие в брани, но мужи совета…»
— Ну, на эти слова они, пожалуй, могут и обидеться. Вот что, Щечкин, ступайте лучше. А то, чего доброго, начнут интересоваться: кто, откуда. Так что не взыщи.
— А меня уж и нет здесь. Вот вы обернетесь сейчас, и вместо моей другую физиономию обнаружите.
Я обернулся: и верно, за спиной моей стоял редактор объединения «Часы» Гнедых. Я же с исчезновением Щечкина почувствовал даже некоторое сиротство.
Появился Ступин с железной коробкой. А что в коробке? Русалка? Вот оно, коварство Ступина! Ну все, пропал, пропал!
Когда все были уже на местах, оказалось, что нет Фаянсова. Должно быть, махнул в Париж.
Первым, разумеется, был выслушан Ступин. Он говорил не торопясь, с какой-то прозрачной грустью, как будто читал Есенина:
— Уйду я, уйду… и то правда, зачем мешать им, дадим дорогу гимнастам, канатоходцам… А мне уже и не устоять на канате-то, Не те годы. А когда-то у Мейерхольда… Вот этот стол в длину перепрыгивал, как пустяк. Седые мы с вами, седые…
Тихий ангел пролетел над столом и сел на люстру.
— Лезем с советами и, может быть, с глупыми советами-то, а?.. — продолжал Ступин свою элегию. — Пристаем, умоляем, на коленях ползаем, а им хоть бы что, словно тебя и нет…
И уже чуть сурово, но не теряя общей грустной тональности:
— И словно нет истории нашего кино, а только они, молодые да удалые… Тебя нет, Данилыч, тебя нет, Петрович, тебя, Фомич, и тебя, Самсоша.
Названные апостолы согласно закивали головами.
— Так вот: либо мы не нужны, и тогда пусть этот юноша творит свое молодое плотское дело, — при этих словах Ступин выразительно постучал по железной коробке, — либо стоит еще к нам немножко прислушаться. И вот, если окажется, что стоит, то я, а вместе со мной и многие мои товарищи по «Мечу» полагаем, что картине этой более не жить. Не верю я в нее, не поверю я и заверениям молодого режиссера, ежели таковые прозвучат здесь. Мы-то их слышали предостаточно. Все равно будет петь свою песенку. У нас в объединении даже родилась пословица: «А Васька слушает да ест».
Закончив свое выступление элегантно — пословицей, Ступин широко осклабился и, оглядев присутствующих своим прищуренным взглядом, пригласил их к смеху.
Дальше пошло опять-таки без сюрпризов.
Минц остался верен своей позиции, Оселков тоже юлил. Затем Ступин выпустил своих «лучников». И там тоже последовал повтор. Затем, хотя это было не совсем по правилам, решили выслушать и меня, чтобы уж все объединение исповедалось. Я поднялся, прокашлялся и попер на рожон.
Я нахально заявил, что действительно хочу петь свою песенку: у вас, говорю, Петр Силыч, — октава, а я из себя тенора воспитываю.
— Да он хочет поссорить поколения! На святыню замахивается! — раздался орлиный клекот Ступина.
— А вы не стучите по коробке-то, не стучите! — не выдержал я.
А когда сел, то в воцарившейся тишине услышал негромкие, не вполне различимые слова Ступина, обращенные к Оселкову:
— Кончать надо.
Но, странное дело, Оселков не только не выразил молчаливого согласия, но даже едва заметно отодвинулся от Ступина. Чудеса! Что же он, с ума сошел?..
Потом выступил Буравчик, мой бывший педагог, или, как его еще называли, Вщегря (Вщегря — ощипанное «вообще говоря»). Он подробно разобрал материал, а в заключение пальнул по Ступину:
— Пора бы уже отказаться, уважаемый Петр Силыч, от столь явных, вщегря, провокационных методов выступления. Меня, по крайней мере, вы можете не вербовать в ваш, вщегря, крестовый поход во спасение истории кино и ее, вщегря, столпов. И не надо приписывать молодому режиссеру желание, вщегря, поссорить поколения. Меня лично его выступление, вщегря, не ссорит с ним, а наоборот, вщегря, сближает.
Ступин слушал и все тревожнее постукивал пальцами по железной коробке. Сначала двумя пальцами, затем пятью. Вскоре постукивание это превратилось в барабанную дробь. А Вщегря продолжал костить его.
— Довольно! — вдруг закричал Ступин.
И смолкла барабанная дробь. И смолк Вщегря.
— Довольно, — повторил Ступин. — Я вижу, что наступила пора открыть ларчик. Все мы тут занимались немножко не тем. А вот ведь чем следовало нам заняться-то, — он нежно погладил коробку с пленкой, как бы прося у нее прощения за незаслуженные щелчки. — Мало кто знает, что материал, который вы, к сожалению, видели лишь фрагментарно, в более полном своем издании есть (лицо Ступина просияло) срамота! И я приношу свои извинения, что вовремя не показал этот материал художественному совету. Я приглашаю всех присутствующих пройти на пять минут в проекцию и полюбоваться этими, с позволения сказать, этюдами.
Все оживленно устремились в зал. В глазах многих можно было прочесть любопытство, даже нетерпение. В директорской проекции, где мест было меньше, чем желающих, возникла даже маленькая ссорка из-за местечка.
Вспыхнул экран. Тишина. Слышен только стрекот проектора. Озеро. Ни души. Плывет над водой туман… Вот из кустов вышла Нина, поправила волосы… Группа старичков возле меня подалась вперед. Ждали крупного плана. Ага, вот он, объектив триста!.. Ну, это Вадим переборщил!.. Но, черт возьми, ведь это же рабочий материал, все вырежется — войдет метра три. У сидящего слева от меня старика Зыбина нервно заплясала левая нога.
— Ах ты, лебедь, ах ты, лебедь!.. — простонал кто-то у меня за спиной.
— Тише, не мешайте!..
И громкое, и краткое, как удар:
— Позор!
Лента оборвалась. Включили свет. Одни как-то странно съежились, словно их застали за подсматриванием, как школьников; другие, наоборот, открыто и нехорошо подмигивали мне, видя во мне какого-то сообщника по страстишкам, по запретному плоду.
Снова погас свет. И снова Нина предстала их взору. И снова кто-то сопел у меня за спиной и пел о лебеди. Когда шли из просмотрового зала обратно, старик Зыбин взял меня за локоть и зашептал:
— Не обращайте вы на них внимания. Лицемеры! Побольше секса! Довольно фиговых листочков! Натерпелись! Кстати, скажите вашей монтажнице, чтобы вырезала мне метриков пятьдесят для домашней фильмотеки. Только это между нами.
Бедная Нина!..
После ступинского сюрприза все высокое собрание некоторое время пребывало как бы в состоянии прострации, мечты, будто кто-то далекий позвал их из этой кабинетной прокуренности в библейскую первозданность, в озеро… Нагишом через камыши… Но разве признаешься в этом вслух? Думаешь-то как раз об этом, а язык привычно мелет другое. Впрочем, пока никто ничего. Молчат. И чем дальше, тем тяжелее пауза. Именно она, эта пауза, медленно, но верно ткала во мне неясное чувство невинной виноватости, безотчетного страха… Вот Ступин. Молчит. Торжествует. Что зреет еще в его голове?.. Я смотрю на ступинскую лысину и с ужасом вижу, как над вершиной ее возникает облачко, туманность — наподобие нимба… Что родит эта туманность?.. Какую каверзу?.. Ой, кажется, уже родилось!.. Родилось! Четырехугольное, с многими дверцами, выбеленное к празднику… Кружит над ступинской лысиной, постреливает воинственно дверцами… Наконец, сделав несколько таких кругов, «оно» исчезает в ступинской голове. До поры, разумеется, до нужной поры. И только капельки росы на ступинской лысине…
— Ну-с, кто имеет желание выступить? — спрашивает, наконец, директор у поверженного в прострацию собрания.
Редактор объединения «Пространство», женщина лет сорока, сидевшая рядом со мной, положила мне на колени записку. Я вздрогнул, как школьник, и нервно зажал эту записку в кулаке. Улучив момент, прочел записочку. Крупными, прыгающими буквами там было написано: «Бойтесь старика Коромыслова. Он сегодня не в духе». Что это? Странное волнение охватило вдруг меня. И этот тайный жест… Что-то похожее однажды со мной уже было в школе.
…Восьмой класс. Идет экзамен по математике, И вдруг классный руководитель подходит ко мне и незаметно оставляет у меня на парте скомканную бумажку. И тут во мне все перевернулось. Это было нечто большее, чем просто помощь. Взрослая женщина, к которой я к тому же питал уже недетскую симпатию, в какой-то миг превратилась в мою сообщницу, сверстницу. В этот миг для меня это было почти как тайное признание. Разумеется, экзамен я тогда завалил, настолько все вдруг переменилось: в какую-то секунду были преступлены некие священные рубежи, мир размотался и пошел вертеть кренделя.
И вот это же самое идиотское состояние на мгновение ощутил я и теперь. Хотя с чего бы? Совсем как будто не тот уже возраст. И ситуация несколько иная. Или здесь намек, что я ошибаюсь и ситуация именно та же: они учителя, а ты школьник. И верно, что-то школярское, ребяческое зашевелилось вдруг, залепетало во мне. А тут еще эта мучительная пауза. Входит педагог в класс, и все притаились, как мыши: на кого падет жребий, кого вызовут к доске? «Ну что ж, — говорит учитель, — тогда буду, как обычно, по списку». И снова мертвая тишина: кого же?
— Ну-с, так никто не желает высказаться? — повторяет свой вопрос директор.
— Позвольте мне, — не выдерживает кто-то.
Гляжу, а в дверях Щечкин. Тянет руку. Дескать, прошу слова. Что за наваждение? А Щечкин сыплет приветствия и уже к столу семенит. Да каламбурами, каламбурами:
— Славные вы наши радетели, неусыпные наши родители, всеведущие наши заведующие!.. Выпотрошусь, как на духу. Историйка тут любовная. Соперники мы с ним, с молодым дон-жуаном-то. Отбил он у меня девочку, увел, можно сказать. А я и не в обиде. Пускай, думаю. Искупленьице-то все равно придет. Вот и пришло. Не замешкалось.
Кто-то не выдержал, прыснул.
— Ширмочки, простите, у вас не найдется или занавесочки какой захудалой? — засуетился вдруг Щечкин. — Тогда разрешите, я встану за креслице. Вполне устроит.
Он действительно зашел за кресло и все улыбался, хихикал. Никто пока не понимал, к чему он ведет и почему ему нужно прятаться за кресло.
— Сию секунду, — произнес с благодатью в лице Щечкин.
Достав из-за уха маленький прутик, Щечкин несколько раз стегнул им воздух.
— Позвольте, я им, — он кивнул в мою сторону, — молодежи-то, примерец самокритики преподам, как собственную-то гордыню укрощать.
После этого он бойко приступил к автоэкзекуции, сопровождая ее веселыми прибаутками и каламбурами.
— «Да ведь это он смеется над ними! — дошло, наконец, до меня. — Как же это я сразу не смекнул? Ай да Щечкин! Пригодился, пригодился!»
— Ну вот и превосходно, — услышал я примирительный голос директора.
И никакого Щечкина. А это я стою и держусь за спинку кресла. Что же это я им наговорил такого? А директор смотрит на меня, улыбается и как будто итог подводит:
— Вот и славно. Молодой режиссер осознал свои ошибки и постарается больше не повторять их. А чтобы в экспедиции ему не было одиноко, чтобы не грызли тоска и сомнения, мы направим к нему нашего уважаемого редактора Степана Степаныча, спасшего своими добрыми наездами не одну картину.
— Да уж, Степан Степаныч, не откажите! — юродиво клянчит Ступин. — В ноженьки вам низко поклонимся!
Что это с ним? Откуда это благодушие? Вообще, что произошло? Неужели я и в самом деле что-то не то сказал? А может быть, это не Щечкин сек себя, а я, в беспамятстве и восторге? Нужно встать, объяснить им всем! Но, оглядевшись, я увидел на лицах такое облегчение, такую удовлетворенность и такое аппетитное желание поскорее уйти отсюда, что ничего, разумеется, не сказал. Все было решено. И притом в мою пользу. Но какой ценой! А ведь все решила эта пауза, это замешательство, спровоцированное Ступиным.
В коридоре меня поймал своей палкой-клюкой недовольный Буравчик:
— Что же вы, вщегря, молодой Аника-воин, начали хорошо, а кончили, вщегря, за упокой, в самобичевание ударились, да не простое — с коленцами. А надо было до конца, вщегря, стоять. В этом весь смысл. Путаник вы! Нужна ясность, а не иносказание. Двойственность, зыбкость — вот что вас погубило, вщегря. Ну, давайте говорить начистоту: состорожничали, а? Признавайтесь! Сработал инстинктец предосторожности?.. А жаль! Очень сожалею, вщегря.
Он ушел. А я стоял, тер себе затылок. Черт возьми, весь смысл свелся именно к этому: Буравчик остался недоволен. И в этом было все дело. Этот старичок никогда не кривил душой. Он стоил многих. И я не оправдал его ожиданий.
Проковылял тучный Коромыслов. И почему нужно было бояться этого добряка?
Кто-то взял меня под руку. Это оказался мой давешний тайный осведомитель из «Меча».
— Ну вот, все и уладилось, — начал взбивать он свое суфле, — я же говорил вам. И знаете, какие тайные пружины вас самортизировали? Никогда не догадаетесь! Ведь наиболее рьяным вашим союзником был… кто бы вы думали, а?.. Ступин! Да-с! Он честь мундира спасал, хотел передать картину в другие руки, снять с нее опеку свою — и только, а закрывать — ни в коем случае! Последнее время старик сильно побаивается за свою репутацию. И здесь можно понять его. «Меч» — ведь это единственное, что у него осталось. Он передал вас из рук в руки. И только. Теперь он за вас не несет уже прежней ответственности. А закрывать картину — ни-ни, что вы! Этими-то вот пружинами и был начинен тот матрац, на который вы так удачно спланировали. Поздравляю!
— Простите, но чем я заслужил такое откровение и такое сочувствие?
— Гм… сердце-то не камень. Вижу, как бьетесь… Вот и стараешься помочь. Посильно, разумеется. Вы уж извините, что я вас ущипнул тогда, на прошлом-то заседании.
— Ну что вы, ради бога… Как я могу обижаться, что вы! Пустяки сущие.
— Ну, что? — спросила Наташка.
— Ничья, — ответил я.
— Не понимаю…
Она не знала этой истории. Маститого Самосадова спросили, как у него идут съемки по чеховской повести. Он подумал, поморщился самокритически и признался, что на победу не рассчитывает, а рассчитывает он на ничью. С Чеховым!
Часть вторая
1. Сашка
И снова тихий приднепровский городок…
Я поднимаюсь по лестнице гостиницы. Навстречу мне Щечкин. Я даже несколько удивляюсь, видя его здесь. Меня до сих пор не оставляет ощущение, что это он, Щечкин, откалывал номера на последнем собрании в Москве. Больше того, он же и сбил меня с толку.
— Ну, как? — интересуется Щечкин.
— Ничья.
— Хе-хе, остроумно. Понимаю вас. Никто, стало быть, никого. На равных. А нелегко, наверное, было? Корифеи, благодетели, олимпийцы, можно сказать, — и ничья. Невероятно!
К великому моему удивлению, в номере у себя застаю Сашку.
— Не прогонишь? — спрашивает он. — Спасибо вашему администратору. Говорит: раз вы его друг, то и живите в его номере, других номеров нетути.
Разумеется, мне лестно, что Сашка по-прежнему считает меня другом, а не скотиной.
Я достаю из портфеля московские гостинцы и потчую ими Сашку. Пьем, беседуем.
— Как дела-то, Саша?
— А ты как будто не знаешь? Решил вот подрядиться к тебе в массовку.
— Худо тебе? Я понимаю… Конечно, на первый взгляд мое положение может показаться гораздо более счастливым. Но я ведь того… уже не чист, Сашура. Ты, Саня, еще как бы девственница, а я уже напартачил, намолотил. Ты, может быть, подаришь еще шедевром, а я уже накрутил белиберденции.
— Что же ты успел навертеть, доктор? А вообще, бойся евангелического снобизма. Это сейчас повально. Какие-то люди коллекционируют иконы, кресты… Ужас! Хотя, в общем-то, наверное, это неизбежно. Появился интерес к истории, желание глубже осмыслить многие ее вехи. Ну и, естественно, вокруг этого роятся всяческие трепачи и снобы. Ты не из них?
— Наверное. Не знаю… А что? Похож, похож?..
Вошла уборщица и сообщила, что у меня в номере проломлен умывальник. Вот те на! А я и не заметил.
— Но когда я уезжал, раковина была цела, — ляпнул я.
— Спросите у вашего дружка, — произнесла ехидно уборщица, — они ведь здесь жили целых полторы суток.
— Но когда я въехал, раковина была уже повреждена, мамаша, — возразил Сашка. — Так что не ломал я. Да и нечем вроде.
— В самом деле, чем можно сделать такую пробоину, — поддержал я его. — Разве утюгом. Ты не захватил с собою утюжок, Саня?
— Как же, захватил!
— Так это он, мамаша, он! Утюжком. Сам и признался.
— И лучше так-то, — вздохнула удовлетворенно уборщица. — Чистосердечное признание всегда лучше.
— Да вы что, мамаша! — спохватился я. — Я же пошутил. Не разбивали мы раковины. Ни он, ни я! Понятно вам?
— Понятно-то понятно, только без дежурной по этажу тут не разобраться.
— Валяйте, зовите дежурную! — крикнул я голосом подгулявшего купчика.
— Тайный замысел вынашиваю, — сообщил я шепотом Сашке. — Тайный. Нас никто не подслушивает?
Э-э, в чей это я «штиль» впадаю? В щечкинский! Опять? Худо.
— Крещение Руси хочу снять, старичок. Обращение в веру христианскую. Скажу тебе по секрету, не все в воду шли, не все. Были и противнички.
А что это я, собственно, перешел на конспиративный шепоток? Уж не обратился ли я и в самом деле в Щечкина? И, чтобы успокоить себя на этот счет, я как бы невзначай подошел к зеркалу, и — мама моя! — Щечкин! Но вида не показываю, рассуждаю.
— Да ну? — не очень естественно изумился Сашка. — Не все, говоришь? Но есть ведь свидетельство очевидца: «И не бысть ни единого жь противящася его повелению». Так ведь, кажется?
— «Да аще кто и не любовию, но страхом повелевшего крещахуся: понеже бе благоверие его со властию сопряжено», — продолжил я начатую им цитату. — Дело, братец ты мой, темное.
Я снова взглянул в зеркало: Щечкин, Щечкин глядел на меня и подленько ухмылялся. Проклятие! И уж не намек ли это, что крамола моя щечкинского пошиба? Вот и понимаю это, а остановиться не могу, развиваю мыслишку, пыжусь:
— И вообще, что это еще за штука такая — «сопряжение благоцерия со властию»? И особенности если учесть, что когда волокли Перуна в Днепр, народ плакал.
— Ну и что? И я бы плакал. Жалко ведь. Симпатичный ведь старичок.
Дверь отворилась, и в комнату вошли двое — дежурная по этажу и уборщица. И сразу к раковине.
— Так и есть! — воскликнула радостно дежурная. — Раковина разбита не ранее, чем вчера. А вот и улики: свежие осколки на полу, мелкая крошка.
— Вчера — значит, я, — произнес спокойно Сашка, — а я не разбивал.
— Кто же тогда? — спросила деловито дежурная. — Осколки свидетельствуют о том, что нарушение произошло после уборки. Уборка же производилась позавчера. Как раз в мое дежурство.
— А я поселился здесь вчера, — начал объяснять Сашка, — позавчера, вы знаете, меня здесь еще не было. И раковину я застал уже разбитой. Разумеется, я ничего здесь не трогал, осколков не убирал, дабы не вводить в заблуждение следственную комиссию.
— Но тогда вы должны были немедленно сообщить о нарушении, — парировала дежурная, — вы же этого не сделали.
— Я думал, что вы об этом уже знаете.
— Индюк думал, да в суп попал! — вежливо произнесла дежурная.
— Прекратите этот вздор! — вступился я. — В конце концов, это мой гость, и всю ответственность за поломки в моем номере несу я.
— А давеча сам показывал на него, — вставила уборщица.
— Да это же я шутил!
— А вы не кричите, — сурово произнесла дежурная. — Здесь вам не съемка!
Обе женщины с достоинством удалились.
— Надо же, — нарушил я, наконец, паузу.
— Напрасно ты вступился за меня, — сказал Сашка. — Впрочем, в твоем стиле. Сначала дождаться, когда человека уличат, а уж потом… Потом, как правило, бывает поздно. Это мне напомнило… Впрочем, ладно… — он не договорил и махнул рукой.
Что за чушь? Как странно он говорит! Собственно, какая связь между тем случаем и этим? Тьфу, вздор… Просто ему вредно пить. Черт возьми, может быть, он и в самом деле расколол мне раковину. Свежая крошка-то, свежая! Тьфу, мерзость какая лезет в голову!
— Ты хочешь меня ударить? — изумился Сашка. — Это приятно. Надежда, хоть и не прочная, что я ошибался в тебе.
— Да говори, же, говори! — закричал я.
— Трус ты, — сказал он спокойно.
— В чем, в чем трус?
— Ты разрушил единство, союз. Мы пришли с тобой туда вместе как одно целое. И так к нам и относились. И когда мне инкриминировали непослушательство, jo это относилось и к тебе. Мне стыдно об этом говорить, но это так. И уйти мы от Ступина должны были вместе, старик. Как же ты не понял этого?
— Ну, это ты напрасно! Почему же обязательно вместе? — неожиданно для себя заоктавил я (господи, ступинские нотки прорезаются, дозреваю!).
— Потому что когда дверью хлопают двое — это сила. Явив пример послушания, ты дал им понять, что не такие уж мы распринципиальные и что можно и уломать нас. Не вышло дуэта, отец, не получилось.
— Что ж, может быть и так. А я не хлопнул? Не хлопнул? Да?
— А ты не хлопнул, — мрачно сказал он.
— А я не хлопнул, — засмеялся я. — Дверцу-то, идиот, придержал!
— И сома убивать сдрейфил. Пожалел вялого усача!
— Какого еще сома?!
— Смалодушничал, скис!
— Какого сома?! При чем тут сом? Сом! Дверь! Вообще, что за бред ты несешь? Хочешь, я скажу тебе (это пришло ко мне, как озарение!), в чем здесь вся соль? Ты неудачник, старик!
Скажи мне кто-нибудь, что я смогу бросить человеку в лицо такое, — никогда не поверил бы! Да еще Сашке! А я-то — удачник, гусар — сердцеед — Оттер Сашку, предал и — удачник!
Вез стука в номер решительно вошла дежурная, а за ней слесарь-сантехник, несший над головой новую раковину.
— Вот, — сказала дежурная слесарю, — молодые люди постарались. Надо заменить.
Потом она ушла. Слесарь с бодрым сопением принялся отвинчивать раковину.
— А ну-ка, уважаемый, подёржь, — попросил он Сашку как более трезвого.
Вместе с Сашкой они осторожно стали снимать раковину.
— Может, выпьете с нами, папаша? — предлагаю я слесарю.
Он мнется, но в конце концов соглашается.
— Кино сымаете? — интересуется он после первой стопки.
— Ее.
— А может, и меня зафотографируете? — шутит он.
— Отчего бы и нет, — поддерживаю я его мысль.
— Зафотографируй меня, сынок, — наседает захмелевший сантехник. — Ей-богу, а, шут ее дери? Зафотографируй!
Появляется дежурная по этажу.
— Что вам надо? — с пьяным пафосом спрашиваю я ее.
— Богема, — констатирует она. — Ничего, ничего, наложим соответствующий штраф, найдем управу. Недаром, слыхала я, в Москву вас вызвали. Неправильно снимаете, говорят. Не по сценарию. И голых.
— Ступайте вон! — кричу я.
— Ничего, ничего, — принимает она спокойно мой крик. — А ты, Семеныч, не сиди с ними: на работе находишься!
Семеныч привстает, видимо собираясь дать гневную отповедь, но, не удержавшись, плюхается мне на колени.
— Слыхал? — клокочу я, высвобождаясь из-под Семеныча. — Дежурная по этажу — и та знает, зачем меня вызывали в Москву. Больше того, она знает, что мне там прописали, какие пилюли и куда и по сценарию ли я снимаю!
Расхаживая беспокойно по номеру, я снова как бы невзначай заглянул в зеркало — а там хоть и не полный, но все же Щечкин! В карманном издании, выбранные места, массовая серия. Глазенки его и уши, красные и навыпуск. К черту! Не хочу, не желаю быть Щечкиным!
— Что с тобой, Кока? — тихо спросил Сашка.
Почему он назвал меня Кокой?.. Так называли меня в детстве. Это вдрызг рассиропило меня:
— Запутался я, старик, совсем запутался. Надо было мне хлопнуть вместе с тобой дверью. А я не хлопнул. Прости меня… Прости ради бога!..
— За что?
— Ну… что не хлопнул-то! Ну, хочешь, я отдам тебе эту картину? Хотя зачем она тебе? Подмоченный товар. И я не знаю теперь, что снимать, не знак#..
— А этот тайней эпизод, в котором вся соль?
— Не уверен… не знаю… Может, это мне его Щечкин нашептал, скотина?!
И вдруг кожей лица почувствовал, как медленно, с легким щекотанием начал стекать с меня Щечкин. И было мне хорошо… А в углу плакал навзрыд Семеныч. И слезы его капали в новую, совсем еще целомудренную раковину.
2. Эпизод
Я сижу над обрывом. На шее у меня мегафон. Внизу бегает Сатурнович в трусах, разводит массовку.
Чувствую, кто-то стоит за спиной. Оборачиваюсь. Так и есть — Щечкин! На голове парик, тело голое, мокрое, только что из воды.
— Как вода? — спрашиваю.
— Нега, нектар. Как девушка. Искупались бы, ей-богу!
— Не могу. Не имею права.
— Ой, — застонал он, — ну и характер у вас неколебимый!
— А ведь вас ждут внизу, — заметил я, морщась.
— Лечу.
А сам продолжает стоять. Ждет чего-то. Из-за холма, снизу, лезет Сашка. Он тоже раздет и в парике.
— Ну как, Коляша, отсюда? Смотрится, впечатляет?
— А тебе-то зачем лезть туда? — ворчу я.
— Как это — зачем? Тоже хочу обратиться в христову веру. Язычество опостылело. Даешь христианство!
— Послушай, Сань…
— Что?
Мне вдруг хочется сказать ему что-то важное, но мешает Щечкин. Как-нибудь в другой раз, а сейчас я говорю ему:
— Ты уж, отец, проследи, пожалуйста, чтобы не очень перли на глубину. Там, правда, есть несколько водоплавающих милиционеров, но лучше, когда кто-нибудь свой.
— Буседелано!
Он отпил из бутылки глоток воды и побежал вниз. Щечкин за ним.
— Итак, скоро начнем.
— Вадим, у тебя все готово?
— Еще одну репетицийку — и можно портить пленку. И потом желательно, чтоб все что хозяйство двигалось покомпактнее.
— Это я им сейчас скажу, и репетицийку сделаем. Хочу попробовать одну штуку.
И вдруг за спиной гул машины. Оборачиваюсь — «Волга». В окне знакомая физиономия Степана Степаныча. Успел-таки! Теперь — выдержка. Выходит из машины, спешит ко мне.
— Я не даю разрешения на эту съемку! — кричит он еще издали.
— Поздно, дорогой. Теперь уж сидите и смотрите. Сейчас снимаем.
— Запомните, это ваш конец!
— Я знаю!
— Снимать-то будем? — кричит оператор с крана.
— Непременно! — кричу я. — И немедленно.
Эх, с богом! Только с каким? С христианским или еще покуда с языческим? Ору в мегафон:
— Товарищи! Будьте осторожны на воде! (Что-то я не то, не в духе язычества, совсем как радиослужба пляжа.) Просьба держаться компактно, но друг друга не толкать! Внимание!!
(Все замерло, — слышу, как ухает мое сердце). Приготовились! Камера!.. Начали!!!
Люди медленно двинулись. Почему-то их оказалось больше, чем на репетиции. Сачковали, не хотели лезть в воду. Немного заносит вправо.
— Левее! Левее!!!
Вот оно. Красотища! Прощание с язычеством. Да, я ведь хотел, чтобы часть людей двинулась вспять, противясь новой вере. Жаль, не успел прорепетировать целиком — помешал Степаныч. Первые бунтовщики-староверы… Как бы это их обозначить?.. А люди с берега все идут да идут. Даю команду:
— Передние! Бросились наза-ад!..
Что-то неладное с мегафоном. А, ч-черт, не работает! Во главе движения образовалось завихрение. Вот уже свалка. Размахивают руками. А задние напирают. Почему мне машет оператор? Тревожное предчувствие. Кричу:
— Стоп! Стоп!!!
Да что они, очумели? Идут и идут, тесня передних. По-видимому, задние не видят, что происходит впереди.
— Стоп! Остановитесь!.. Сто-оп!!!
Наконец, немного успокоились. Что это? В переднем ряду несколько человек держат кого-то на руках. Чье-то тело… Тело плывет над головами.
— Что случилось?! — истошно ору я в мегафон, а затем, швырнув его в сторону, лечу с горы вниз.
Расталкиваю толпу. Да песке лежит Сашка. По виску бежит кровь. Сашку пытаются откачать. Могучее тело его бесчувственно. Нет, нет, было бы слишком нелепо, чтоб именно он. Появляется Щечкин. Рассказывает взволнованно:
— Люди ничего не слышали, шли и шли в каком-то блаженстве. Мне палец отдавили. Вот. Он показал розовый, как картофелина-американка, большой палец левой ноги.
— А товарищ ваш останавливал их, — продолжал Щечкин. — Но оскользнулся и упал. Донце-то склизкое. А там уже, сами понимаете, стихия масс…
Подошли Степаныч с директором.
— Поехали, — сказал директор. — Он умер. Кровоизлияние…
Взгляд мой встретился с тяжелым, как мокрая тряпка, взглядом Степаныча.
— Вас ведь предупреждали!.. Предупреждали!..
Подскочил Щечкин и крепко сжал мне локоть: держитесь, мол.
— Идите вы, дорогой!.. — вяло попросил я его.
— Понимаю и не обижаюсь, — спокойно ответил он мне в спину.
3. Присяжные
Я лежу на тахте, повернувшись лицом к стене. В номере темно.
Кто виноват? Все. Сашка не шел на компромиссы. Сценарий ему зарубили, потому что он не шел на компромиссы. Он бы снимал и не лез бы в эту идиотскую массовку.
— Но в массовку его пустил ты сам!
Ага, внутренний следователь явился.
— Я не пускал! Есть свидетель — Щечкин. Я не пускал. Все меры предосторожности были приняты. Я даже напомнил ему тогда про «водоплавающих милиционеров». Шутил. Кстати, куда смотрела милиция? О, это вина милиции! Явная вина!
— Хорошо. Но не кажется ли тебе, что главной причиной явилось изменение команд?. Почему ты дал команду передним бежать назад? На репетиции этого не было.
— Стоп! Да, да! Это же главное. Этого ничем не объяснишь. Я и сам не помню, почему я вдруг приказал им бежать назад. Все! Пас! Берите меня, я ваш. Хотя, позвольте, какие команды? Кто слышал их? У меня же сломался мегафон! Никто не мог слышать моей команды. Никто! И была ли команда-то, может быть, команды… Какой вздор! Все было! И команда была. И мегафон жарил на всю железку. Вот, Сашундра, и подвел меня запрётный-то плод… Щечкинская жажда крамолы, кисленького… А что уж там кисленького? Ничего. Безответственность, говоришь?..
— Послушай, мне надоел твой скулеж. Я, может быть, сам все это. Взял да и утонул. Сам. В блаженстве, как говорит Щечкин.
— Брось! Это правда, Саша?
— Что, хороша версийка, что сам-то? А я вот не скажу. Тайну на дно унес, в песок. К рыбке-одноглазке… М-да, хорошо, однако, ты печешь за нас монологи. Ловко. Мастер прямой речи, Софронов.
— Наверное, свернут экспедицию, — ноет кто-то.
Опять Сашка:
— Вот еще! Несчастный случай. Погиб массовщик. Не главный герой ведь. Переснимать ничего не надо. Все обойдется.
Голос Степаныча:
— Все упирается в изменение команд. Было изменение или не было? Комиссия должна установить.
— Кино все спишет…
А это кто? Какой-нибудь кассир, вроде Щечкина? Но почему он опять сидит во мне? Как пролез? Надо держать ухо востро. Сейчас в меня еще какие-нибудь домовые полезут.
Нет, раз Щечкин начал, его уже не остановишь. Ладно, черт с ним!
Щечкин:
— Был, например, такой случай. За подлинность его ручаюсь. Одному из прославленных режиссеров необходим был особой породы кактус для воспроизведения африканского ландшафта. И в Московском ботаническом саду, представьте, был найден именно такой кактус. Но у этого красавца кактуса оказался хозяин — старенький профессор. Привез он этот кактус в Москву еще до революции, причем, как говорят, из самой Африки. Старичок ухаживал за кактусом, холил его, лелеял. И так вместе дожили они до глубокой старости. И вот однажды на территории сада появились кинематографисты.
— Желаю именно этот кактус! — заявил режиссер.
А в те времена не то, что сейчас: слово режиссера — закон, золотая буква. Стали обхаживать профессора. А тот даже и слышать не хочет: не отдам, говорит, вся моя жизнь в этом кактусе. Но кого не уговаривало кино? Уговорило оно и профессора. А дело усложнялось тем, что кактус был необходим не в Москве, а в экспедиции. Погрузили в одну машину кактус, а в другую профессора: пусть, мол, едет себе сзади и наблюдает, чтобы иголочки у кактуса не погнулись. Довезли в целости и сохранности и кактус, и профессора. Стали готовиться к съемке. И вот в первую же съемку упал на кактус осветительный прибор, и от редкого кактуса осталась одна мокрая лужица. В переполохе позабыли о профессора, а когда хватились, то оказалось, что профессор мертв. Умер старичок от разрыва сердца. Да… Так что кино все спишет.
— А ну, пошли вон отсюда со своими балладами! — заорал я вдруг. — Я сам разберусь, сам!..
4. Насовсем в гости
Аэродром провинциального городка. Кочки. Устаревшие «яки». Что-то есть трогательно-довоенное в этих захолустных аэродромах, что-то от наивного авиаэнтузиазма тридцатых годов, что-то от авиамоделизма…
На ветру в легком коротком платьице стоит девушка. У ног ее небольшой чемоданчик. Кажется, что ветер метнул в нее этим платьицем, обернул им ее упругое тело, но ненадолго… Изменив направление, он уже пытается отнять его у нее. Девушка понимает это и крепко держит руками платье.
Я узнал ее. Это Нина Косуля. «Русалка».
— Здравствуйте, Нина! Нам: не по пути?
— Не знаю. А вы куда?
— В Москву. Сворачиваем экспедицию.
— Да, я слышала…
— А вы куда?
— К тетке.
— В гости?
— Да… насовсем.
— А как это — в гости и насовсем?
— А так. Вы же знаете, как у нас… С тех пор, как я снялась у вас, на меня смотрят как на вавилонскую блудницу. Наверное, это лестно. Мне лично это мешает. Но я не виню их. Ведь город так беден событиями…
— Простите нас, Нина…
В самолете я уснул. Приснился гигантский кактус, вокруг которого Сатурнович с карликами водил хоровод. Неподалеку, прикованный к колоде, сидел старый профессор с лицом одного из отцовских друзей. «Вот такой ширины, вот такой ужины…» — пели карлики. Профессор то и дело хватался за сердце и вздрагивал. Потом карлики подбежали к кактусу и давай выщипывать из него иглы. Сатурнович отгонял расшалившихся карликов. Профессор плакал. Потом кто-то здоровый подошел к кактусу и молча ударил по нему тяжелым предметом, укрепленным на штативе. Должно быть, камерой. Из кактуса во все стороны брызнул зеленый сок. Брызги ударили мне в лицо.
Я проснулся. Рядом сосед откупоривал бутылку боржоми.
— Пардона просим, — извинился он, заметив, что я вытираю с лица брызги. — Водички не хотите?
— С удовольствием. Я долго спал?
— Да нет, еще лететь и лететь.
Странное это чувство, когда просыпаешься в воздухе. Никакого чувства времени… За окном облака, и черт его знает, где ты, в какую галактику заброшен. Нет земли под ногами, и стало быть, можно думать о себе что угодно, помещать себя в любой из миров. Но вот, постепенно приходя в себя, начинаешь привязывать себя к земле, к своему месту на ней, к людям… Итак, что же происходит? Во-первых, лечу в самолете. Допустим. Но куда? И тут выплывает страшное: хоронить Сашку. Где-то в подсознании запульсировало: если бы… с самолетом… какая-нибудь ерунда… Ничего, голуба, прилетишь и за все, за все заплатишь.
5. Кольцевой
В Москве на аэродроме ко мне подходит женщина лет сорока пяти. Глаза ее влажны. Я никогда не думал, что у Сашки такая молодая мать. Я представлял себе сгорбленную, убитую горем старушку, но передо мной стояла еще молодая женщина.
— Как это произошло? — спросила она.
Я не ответил. Я еще не верил, что передо мной была его мать.
— Я его мать, — сказала она, видимо поняв мое недоверие.
Я молчал.
— Я его мать! — почти закричала она и, схватив меня за плечи, зарыдала.
Я мог утешить старушку, но как утешить молодую женщину, потерявшую сына, моего ровесника? Мне казалось, что это какой-то бредовый сон, в котором матери молоды, а сыновья стары.
…Я прошу Сашкину мать посидеть на лавочке, а сам направляюсь к серому зданию. На стене табличка: «Выдача пепла за углом». Захожу за угол, спускаюсь в полуподвальное помещение. У окошка небольшая очередь. Рядом выставлены образцы урн.
Подаю квитанцию.
— Вам какую? — спрашивает у меня полная женщина в черном халате. — Из оргстекла или из мрамора?
— Из мрамора.
В трамвае трясет. Я крепко держу урну. Только бы не уронить. Трамвай наш, кольцевой. Сколько раз мы ездили на нем с Сашкой! И вот едем опять. Только он теперь у меня на руках, как ребенок.
6. Щеточка
В Лялином переулке движение было перегорожено. Я обрадовался этому внезапному препятствию. Мне не хотелось ехать в тот дом… А здесь пожар. Толпа людей, пожарные машины, милиция. Все, как и положено на хорошем пожаре. Прорвав оцепление, к горящему дому кинулся какой-то парень. Он наскакивал на огонь и жестами что-то показывал пожарным. По-видимому, учил тушить. Оказалось, пьяный. Энтузиаста оттащили двое милиционеров. Он заплакал:
— Я говорю, нужно тушить водичкой… по-христиански… Н2О… По Менделееву крой!.. У Менделеева навалом всего в таблице, но Н2О я знаю, не собьешь!
— Шел бы домой, Менделеев, того и гляди, сам вспыхнешь, — заметил, принюхиваясь к парню, шофер такси. — В спирт тебя мокали, что ли?
— А ты не остри, — я, трезвый-то, не глупее тебя, — огрызнулся энтузиаст.
И опять со слезами к публике.
— Эх, почему они мне помешали, почему? От души ведь бросился. Трезвый-то я не брошусь, дудки! Проявил человек энтузиазм, так пользуйся, подхватывай дорогую инициативу! Ну, хорошо, я не брошусь, он не бросится — кто же из нашего брата бросится?.. Э, не так он тушит, не так! Н2О надо! По Менделееву!..
Мы развернулись и поехали дальше.
— По Менделееву! — надсадно кричал энтузиаст, как будто Менделеев был брандмайор, не меньше.
Возле старого серого дома машина остановилась. Целый год прожили мы здесь с Сашкой. Потом он жил здесь один, без меня. Дверь мне открыла «бабушка-чекистка». Так мы с Сашкой называли ее. Когда мы в первый раз явились к ней, она долго выясняла, кто мы и что мы и нет ли у нас случайно в чемодане винтовки с оптическим прицелом. Свою бдительность старушка объяснила географическим положением их дома. Это было вскоре после убийства президента Кеннеди.
— Горе-то какое! — опередила она меня. — Такое горе! — И заплакала.
— Тут Сашиного ничего не осталось? — спросил я.
— Как же, как же!.. — быстро перешла она от слез к деловитости. — Ботиночки и тетрадки какие-то.
Я вошел в комнату. Когда мы жили здесь, единственной мебелью были две раскладушки, книги и чемоданы. Правда, было у нас еще две табуретки, но потом «чекистка» отвезла их на дачу. Вечерами, лежа на своих раскладушках, мы болтали с Сашкой до бесконечности. Свет в комнате был потушен, и в окно наше глядели сразу две кремлевские звезды. Сейчас комната была совершенно пуста, если не считать Сашкиных ботинок и двух тетрадок на подоконнике.
— Да, вот ещё что, — вспомнила старушка, — в ванной комнате осталось его мыло и ваша щеточка.
Я вошел в ванную. Поди разберись, какое тут — Сашкино. И зачем оно? Не передавать же его матери? Но вот странно: моя зубная щетка в потрескавшемся футляре с дырочками лежала на прежнем месте! Я даже обрадовался ей… За последнее время все рассыпалось, расползлось, а щетка лежала на месте. Всюду, где ни останавливался, я непременно оставлял зубные щетки, всегда их забывал. Разумеется, как только уезжал, их выбрасывали… Но эта пролежала на своем месте целых три года. Очень почему-то я был благодарен бабке за эту щеточку.
Прислушался. Молодецкий голос старушки. Разговаривает по телефону. Жалуется на своего мужа:
— Два часа уговариваю надеть ордена. Ни в какую! Стесняется!.. Что ты говоришь?! И твой? Да они что, дураки? Не воевали разве? Да так-то ведь, миленькая, достесняемся до того, что и войну забудем, словно не было ее!..
Из крана в ванну капала вода. И тут вдруг до меня дошел смысл Сашкиной фразы: сдрейфил убивать сома. Я вспомнил! Мы сидели в комнате на стопках книг и выпивали. Постучала «чекистка», попросила: «Мальчики, убейте сома». Огромный сом плавал в ванне. Бабка протянула нам молоток. Почему-то молоток оказался в руках у Сашки. Видимо, я долго колебался. Сашка быстро поймал сома, прижал его головой к борту ванной. Раздались два удара, словно по мокрому ботинку.
— По Менделеева! — кричала в телефон бабка. — А потом направо, по Сеченова.
Бред какой-то. Дался им Менделеев!
Я шел по улице, держа в правой руке Сашкины ботинки, а в левой его разрозненные записи. Перед глазами стояла Сашкина запись: «К. — беспринципный чудак».
— Вам что, плохо? — спросил меня прохожий.
— Нет, нет, что вы, что вы! — почти закричал я.
Но он все-таки был прав, иначе ноги не привели бы меня к маме. Когда очень плохо, они всегда приводят меня к маме.
7. Мама
Стою у дверей и слышу шаркающие мамины шаги. Шаги начинаются из кухни, потом маме нужно пройти длинный коридор. Я припадаю к дверям, скребусь в них, как пес. Я ничего не скажу маме, я скажу ей, что все в ажуре. Ведь я у нее последний островок, последняя надежда. На этом островке все должно быть в ажуре.
— Мама! Открой… Это я!..
И вот мы сидим с ней на кухне и пьем чай. Я рассказываю, как хорошо идут у меня дела и как сам Ступин видит во мне свою надежду и опору.
— Ты уж не ссорься с ними, — предостерегает меня мать.
— Я и не ссорюсь, мамочка. Господи, как давно я не пил твоего чая с вареньем!.. Помнишь, как папа каждое утро просил: «Крепчайшего!»…
К вечеру меня начинает знобить. Ложусь в постель. Мать укрывает меня двумя одеялами. Дает лекарства. Потом гасит свет и уходит в соседнюю комнату. Двери полуоткрыты. Мне видно, как мать усаживается за швейную машину. А здесь, в комнате, глядят на меня из полумрака мои старые знакомые — вещи. Почему, когда я болен, они смотрят именно так — настороженно, словно перед прыжком? Многие из них пришли из детства: синяя лампа на книжном шкафу, старая чугунная чернильница отца (каслинское литье) — голова с приподнимающейся шляпой… Есть что-то забытое и пугающее в них… И только мать — единственное спасение, к которому я прибегал в детстве, когда, охваченный кошмарами, запуганный пристальными взглядами вещей, в панике бежал от них, прижимался к матери и шептал:
— Мамочка, миленькая!.. Там… страшно!..
— Успокойся, родной, это был всего лишь сон.
И вот уже не вещи-люди обступили меня, рассматривают… Ступин, Глухота, Щечкин… Что им надо? Я срываюсь с постели, но кружится голова, и я падаю на пол. Волоча за собой простыню, я ползу по полу в соседнюю комнату:
— Мамочка!.. Мне худа а!..
8. Сон с башмаками
Стол, за которым они сидели, был гораздо длиннее и массивнее, чем наяву. Они сидели и ждали.
— Ну-с, рассказывайте, — сладко пропел Ступин, шевеля усами.
— Вы же все знаете, — ответил я мрачно, а про себя подумал: «Ведь это же сом! Сашкин сом!.. Как же я раньше этого не замечал?»
— Ну, допустим… а что это у вас в руках? Вы бы положили ваш сверток на стол.
Я положил. Посмотрел вправо, а там, у стены, в железной клетке сидит и плачет Нина-русалка! Возле клетки возится толстый Зыбин, пытается подобрать ключик.
— Итак, мы ждем, ждем, — снова пропел Ступин, лоснясь. — Расскажите, как это вас осенило снимать не предусмотренный сценарием эпизод, как именно вы снимали этот эпизод, какие команды давали массовке, как, наконец, утопили своего друга?
— Трудно что-либо возразить… Все и без того ясно.
— Ну почему же?.. Говорят, у вас мегафон не работал?
— Нет, работал…
Ветеран комедии, мастер утробного смеха, Вениамин Кучин заметил отечески:
— Кино, миленький, надо снимать для народа. Забыли? Отсюда и беды ваши. Модными новациями увлеклись, стиляжеством. Народ не простит вам этого.
Ай да Кучин! Ведь я же знаю его. Публично он именует себя полпредом народа, а в менее торжественной обстановке обзывает зрителя волосатиком.
— Позвольте! — возмутился я. — Это уже не по адресу. Я молчал пока обвинения были справедливы.
— Народ не простит… — повторил, как эхо, Кучин.
— А кто это вам внушил, Кучин, что вы полпред народа? Глупость какая! Хотите, я открою вам тайну, Кучин?.. Вы Кучин — голавль. Ей-богу! Старый сонный голавль. А вы, Ступин — сом! Вас Сашка прибил в ванной, а вы здесь. Почему? Я только стоял рядом, а бил Сашка. Стало быть, пожалел я вас, Ступин, то есть Сом… Сомуля!
— Что он несет? — ужаснулся Кучин. — Остановите его!
— Позвольте, Кучин! Вы кичитесь своей лояльностью? Ал кто же, по-вашему, сукин сын?
— Убийца! — заорал Кучин. — Вяжите его!
Ворвавшийся в комнату ветер смел со стола какие-то бумаги, а затем, набросившись на сверток, начал с шумом разворачивать его. Распеленав до конца, он открыл взору присутствующих Сашкины стоптанные ботинки. Потоптавшись в нерешительности, ботинки вдруг начали отплясывать на столе кадриль. Потом давай зафутболивать в разные стороны чернильницы, пепельницы. И уже совсем обнаглев, подскочили к Фаянсову и опустились к нему на плечи эполетами. Затем Сашкин ботинок спорхнул с плеча Фаянсова и промокнул протокол собрания.
— А теперь, Сашка, айда отсюда! — закричал я.
Скинув сандалии и вышвырнув их в окно, я натянул на ноги Сашкины ботинки и покинул высокое собрание.
— Куда бы нам с тобой куликнуть, Сашундра?
— Куликнем в Серебряный бор?
— А что, это мысль!
Такси примчало меня в Серебряный бор, подкатив прямо к домику, где, учась на курсах, мы жили веселой шарагой в осьмнадцать душ. Зимой в морозные дни, в особенности по субботам и воскресеньям, мы мерзли здесь, как черти. В эти дни истопник напивался и исчезал. А мы как ни пробовали кочегарить, ничего не получалось.
Я прошел в сад. Там было уже темно. Отыскав старую сосну, я вырыл у подножья ямку. Потом разулся и положил туда Сашкины башмаки. Высоко надо мной дремали кроны. Было тихо. Зачем мне понадобился этот обряд, объяснить трудно. Наверное, мне захотелось схоронить Сашкину частичку именно здесь, среди сосен.
Мне показалось, что на террасе мелькнула чья-то долговязая тень. Я обернулся.
— Кто там?
Из темноты вышел человек. Не обращая на меня внимания, он подошел к месту, где я только что закопал Сашкины вещички, и опустившись на колени, зажег спичку. И тут я узнал его. Это был эстонец Ян, мой товарищ по курсам, умерший два года назад от порока сердца.
— Что ты здесь ищешь, Ян? — спросил я.
— Жду Сашку…
Я прикинулся, что не понимаю. Откуда ему знать про Сашку? В это время спичка в руке Яна погасла.
— У тебя нет? — спросил он.
Порывшись в карманах, я отыскал коробок, а когда зажег спичку, то увидел на том месте, где минуту назад еще ничего не росло, свежую травинку, стебелек жизни.
— Проросли… ботинки-то!.. — подумал я про себя. — Сашка… пророс!
И что-то тихо зазвенело во мне. Осторожно склонившись над стебельком, Ян радостно хохотал своим северным басом, ласково прижимался к стебельку небритой своей щекой. А я звенел.
9. Где же лыко-то?
Мы стоим друг против друга, вечная пара: больной и эскулап. Я вижу свое отражение в стеклянной дверце шкафа. Поеживаюсь, несу какую-то ахинею:
— Профессор Барнард, вам не нужны подопытные? Я, знаете ли, попал в катастрофу… почти что автомобильную. Возьмите от меня какую-нибудь деталь из уцелевших. Авось пригодится. На сердце не рассчитывайте, на мозги тоже. Что-нибудь из периферии. Хочется продолжить свое существование в качестве селезенки. Барьер несовместимости? Ничего, я перепрыгну.
— Не скоморошествуйте!.. Какой я вам Барнард? Вы мне мешаете.
— «Вы мне мешаете у камыша идти…» Профессор, приживите мне сердце бесстрастное и упругое, как футбольный мяч.
— Ничего я вам приживлять не буду! Перебьетесь! А вот профессию вам надо будет придумать какую-нибудь другую, более меланхоличную.
— Шутите, профессор? А как же психотерапия? Это ведь не совсем согласуется с психотерапией. Как это — взять и заявить больному: вместо баритона будешь, товарищ, петь тенором, как в том анекдоте. Не по правилам. Я протестуй).
— Моя психотерапия — говорить больному правду.
— Господи, а если я попрошу у вас чуточку лжи, неужели не сжалитесь?
— Хорошо… Я подумаю. А анекдотец за вами.
— Только в обмен.
— В обмен на что?
— На психотерапию.
— Ради бога. Как это говорится: бери мое добро и горе-злосчастье в придачу.
Он ушел. А меня опять уложили в постель. И вскоре я уснул. И снова мне приснился этот тип в потрепанном пиджаке, с гитарой. Он сел возле моей кровати, сочувственно покачал головой. Потом, осмотрев все микстуры на столике, спросил строго:
— Выпить ничего не найдется?
Я развел руками: рад бы, мол.
— Ты что, Горе-Злосчастье? — спросил я. — Вместо сиделки?
Он кивнул. Выходит, это доктор подсунул мне его. Психотерапия.
— Послушай, ты ведь уже был у меня?.. Ведь я же сбыл тебя однажды… кому-то.
— Саше. Саше сбыл, — хрипло пояснило Горе. — В кабинете у Ступина. Но Сашка утонул-, а я выплыл, спасся.
— И снова ко мне? Что, очень плохи мои дела?
Он кивнул.
— А может, обойдется? Нет, послушай, ты вправду Горе-Злосчастье? То самое? Лыком подпоясанное?.. А где же твое лыко? Где?
Мне стало вдруг страшновато.
— А лыка-то нет! — закричал я. — Уберите его! Это самозванец!
Подбежали санитары, схватили Горе подмышки. А Горе запело, загорланило своим хриплым голосом абракадабру:
— Да, мы не битлзы и не мимы, Пройдем, неузнанные, мимо, А вы валяйте, наворачивайте, сыпьте!— Фаля! — закричал я. — Я узнал тебя! Фаля, вернись! Я понимаю, ты пришел сюда инкогнито, чтобы не вызывать подозрений… Фаля, прости!..
Но они выволокли его из палаты, и он орал уже в коридоре.
А потом за мной пришли, чтобы везти в операционную.
И вот я лежу на операционном столе, и предупредительный ординатор с услужливостью официанта спрашивает:
— Вам заменить мозги?
— Да, пожалуйста.
— Вам мозги по-каковски?
— Мне?.. По-ступински.
— Это можно. У нас они идут как мозги-фри.
— Ладно, фаршируйте.
Представляю, как все пойдет кувырком в «Мече», если у Ступина окажутся мои мозги. Корабль без ветрила. Среди редакторов брожение, паника: шеф изменил курс!
После операции — снова палата. Кто-то знакомый толкает меня в бок, улыбается. Батюшки, Щечкин!
— А вы-то как здесь, Исидор? Неужели и вам что-нибудь… приживили?
— Именно. Аппендикс! От писателя Курятина. Ему он был ни к чему, а мне пришелся впору. Ну, и лестно. Малостью, хвостиком, можно сказать, а причастен.
— Поздравляю! Писать еще не пробовали?
— Нет, но вот окрепну, выпишусь — потребую принятия в Союз, а там и за перо.
— Правильно, правильно, — поддержал я его. И сразу же требуйте трехкомнатную квартиру и дачу.
Рядом с койкой Щечкина, спиной ко мне, полулежал некто и писал крупным, подозрительно квадратным почерком (клянусь, это был мой почерк!) письмо моей жене. Пригляделся внимательнее — Ступин! Сом! Я не выдержал, вскочил с постели и, вырывая из рук Ступина письмо, закричал на всю палату:
— Отдайте мои мозги, Ступин! Отдайте мозги!
Произошел скандал, от которого я проснулся.
Прямо передо мной сидели Вадим, Сатурнович, Саша Удодов, притихшие, в белых халатах.
— Братцы, вы почему здесь, не в экспедиции? Что с картиной?
— На консервации мы, — признался Сатурнович. — И вот еще что: комиссией установлено, что Саша погиб совсем не оттого, что была изменена команда. Мегафон действительно не работал.
— Какое это теперь имеет значение, — сказал я, пытаясь подняться. — Саши-то нет.
— Лежи, лежи! — заворчал Вадим.
— Вот яблочков принесли, — вставил хозяйственный Саша Удодов. — Апельсинов.
— Спасибо.
— Чем, как говорится, могу…
— Тем, как говорится, и помогу, — закончил за него Вадим.
Мне стало вдруг хорошо, я растрогался, раскис:
— За что же вы, братцы, так… Чересчур. Не по заслугам… К грешнику-то… с апельсинами?
— А ты помалкивай, — обрезал Вадим. — Тебе эти тексты сейчас вредны.
— А что же с картиной-то будет? Неужели Глухоте отдадут?
— Нет уж, — мрачно произнес Вадим, — сам доснимешь. Как миленький. Не отвертишься.
— Правда? — воскликнул я с надеждой и тихо добавил: — Хорошо бы… доснять.
10. С поправкой на весну
Я вхожу в кабинет директора студии. Застаю его за несвойственным для директора занятием: стоя на зыбкой пирамиде из стульев, он ввинчивает в люстру лампочку. Ноги его слегка дрожат, и я, опасаясь, как бы генеральный директор не загремел вниз, крепко обнимаю верхний стул.
— Ну, вот и ладно, — со вздохом произносит директор, слезая с моей помощью со стула, — а то ведь и сидел бы в потемках. Директор — и в потемках. Неприлично.
Долго он еще балагурит в таком духе о пустяках, о моем здоровье, о существенных приметах весны, но только не о деле. Наконец, я не выдерживаю:
— Да вы не стесняйтесь, Иван Феоктистыч, говорите прямо: идите, мол, дорогой, туда-то и туда-то. Я и пойду… в ассистенты там, в помрежи…
— В деревню, к тетке, в глушь, в помрежи… — грузно острит директор. — Давайте лучше разберемся, дорогой, в наших совместных грехах. Бывают, знаете ли, встряски, после которых стоит разобраться каждому, не только главному виноватцу, а каждому: а ты где был в это самое время, что поделывал? К сожалению, в этом самом «Мече» сильны еще традиции, с которыми, прямо скажу, и нам бывает трудновато сладить. Ведь вот, казалось бы, покончено с этими самыми традициями, ан нет, глядишь, и объявится такая вот цитаделька — с пушками, с бойницами, со всей своей средневековой требухой. А попробуй возьми ее голыми-то руками — дудки. Вот вас и обпекло. Да еще в одиночку хотели, по-донкихотски. Поймите, что у нас на студии не одни только Ступины. Мягко говоря, вам не повезло. И давайте продолжать картину. Давайте! С богом! Только не обособленно, не на отшельнических началах.
Он улыбается, жмет мне руку, а я почему-то не рад, уж и не знаю почему. Верно, подозреваю подвох: не верится в простое доброжелательство, стыдно, а не верится.
— Но я, наверное, не смогу… — бормочу я. — Я теперь весь зажат… боюсь чего-то…
— Ступина боитесь? Ступина? — с каким-то торжеством перебивает меня директор.
Дверь отворяется, и в кабинет, опираясь на палку, входит Вщегря — Буравчик. Я не видел его с того самого дня, когда он буквально заслонил меня собой от ступинского тарана. Как глядеть в глаза старику? Как?.. Стыдище.
И вот мы бродим по весеннему городу. Молчим. Вщегря постукивает своей сердитой палкой по асфальту, словно простукивает землю. Как доктор. А кругом идет стрижка деревьев, лязгают ножницы. Мы забредаем на безлюдный стадион второразрядного спортивного общества. Пахнет весной, масляной краской… Между рядов ходит папаша с кисточкой и с ведерком синей краски.
— Благодать, — вздыхает Вщегря, — запах весны, капитального ремонта…
Снизу вверх по планкам скамеек бежит девочка, словно по огромному, но беззвучному ксилофону. Что-то напевает папаша, прикладывая к крайней планке ряда трафарет и шлепая по нему кистью.
— Что это вы делаете, коллега? — любопытствует Вщегря.
— А цифирь ставлю, отец.
— Понимаю, что цифирь, вщегря. Только почему же вы все цифры подряд без всяких интервалов шлепаете? Эдак ведь у вас ни один нормальный зад здесь не поместится, коллега.
— А это… тс-с!.. Не шуми, отец. Калека не калека, а так надо, — стало быть, не шуми. Ведь зрителя как ни стискивай, он все равно орет, ядрена карусель. Что так, что этак. А так, я тебе скажу, даже лучше — смирнее становится. Упакованный-то, он безвредный и в узде. И в ухо никому не двинет, потому не развернешься, и с бутылкой ему не так ладно управляться, я уж не говорю о разливе, — шалишь, дуй из горлышка. А из горлышка не всякий станет, другой постесняется; обратно же — прирост населения.
— Мальтузианец какой-то, — шепнул я Буравчику.
— Но позвольте, — не отставал Буравчик, — разве нельзя, вщегря, надстроить ряды?
— Ну, это нам не по карману. Другие стадионы могут себе позволить, а мы общество небогатое, у нас средствов нет. У нас в команде один Бузукин, и того вот-вот умыкнут в высшую лигу.
Энергично нашлепывая цифирь, папаша быстро перемещается вправо.
Мы сидим, помалкиваем. Вщегря беспокойно ерзает на скамейке, постукивает палкой. Наконец, он ворчливо начинает давно ожидаемый мною разговор. Он говорит мне жесткие и верные слова, но иногда ему начинает казаться, что он чересчур уж суров со мной, и тогда его начинает относить в сторону, в смежную галактику.
— …И вот рана или поздно наступает момент, когда человек платит за все полной мерой, полным, вщегря, рублем; и прежде всего за собственную, вщегря, безответственность. Вы мне простите, вщегря, эту дидактику. Поймите, все мы ответственны друг перед другом, перед нашими людьми, перед нашей планетой, наконец.
Что это он все про планету-то? Тактичность проявляет, боится обидеть, окольничает.
— Я старик, вщегря, но многое мне не безразлично, да-с! Мне, ежели хотите, не безразлично, в какой пепел я превращусь — в полезный или в бесхозный, вщегря. Представьте, даже в этом качестве хотелось бы участвовать в жизни, в ее коловращении. Упасть бы пеплом на борозду, которой еще предстоит плодоносить!
Снова возле нас очутился папаша-маляр.
— …Один Бузукин и остался. И то только потому, что плешив, как колено. Лысина его, понимаешь ты, вводит в обман народы. Некоторые даже пенсионером стали его называть. А он, Бузукин-то, молоденький, ну, а плешь, конечно, большая, заметная, вот как примерно у тебя, отец. Только он ведь молоденький, Бузукин-то, а ты — старая перечница, тебе в самый, значит, раз гаревую дорожку песком посыпать, хе-хе… Шутю.
Но Вщегря не обижается на юмор папаши. Глупо, конечно, обижаться. А мне не дают покоя, меня будоражат вщегрины слова.
Над стадионом висит запах свежей краски, слышится пощелкивание ножниц. Хлопочет весна.
— На Бузукине и держится вся команда. А умыкнут они Бузукина — считай, что полная нам, отец, кадриль.
Вщегря смеется и вдруг, размахнувшись по-мальчишески, швыряет в небо свою палку-клюку. Палка делает над стадионом круг, а затем резко взмывает вверх… И долго парит, курлычет в пронзительной синеве. Мы все трое стоим, смотрим ей вслед. Я благодарен Вщегре за это маленькое чудо, я думаю, он сделал это специально для меня. Мне хочется тут же чем-то отблагодарить его, и тогда я хватаю ведро с краской и тоже зашвыриваю его в небо.
— Синё-то как! — умиленно восклицает маляр и вслед ведру швыряет в небо и свою кисть.
Весна… Щелкают ножницы…
Новеллы
Дядя Яша
А каково человеку с возвышенной-то душой в суфлеры?..
Л. Н. Островский. «Лес»Рассказ актера
Суфлер — профессия уходящая. В провинции их уже давно нет. И только в некоторых привилегированных театрах столицы сохранились еще суфлерские будки, маленькие сторожки на меже сцены и зала. Там доживают свой век ветераны, этого дела, его последние могикане. Таким ветераном был у нас дядя Яша — маленький подвижный старичок, острослов и меломан. Музыка заменяла ему дом, семью. Ей, как жене, отдавал он большую часть своей скромной зарплаты.
Не помню, в каком именно году приезжал к нам филадельфийский оркестр. В Киеве оркестр должен был дать всего два концерта. В оба эти вечера у дяди Яши в расписании стояли спектакли, а подменявший его суфлер заболел. «На Яшу больно смотреть», — говорили актеры. Кто-то даже предложил взять в этот вечер шефство друг над другом и провести спектакль без суфлера. Но Дядя Яша замахал руками: ни в коем случае, в спектакле заняты «трудные» Курков и Мигальская, у которых плохо с текстом.
В том спектакле я был занят лишь во втором акте, но, выходя на сцену, уже знал, что «старик не подает», а «трудный» Курков мелет на сцене какую-то чепуху и вообще гребет не туда. Выхожу на сцену и вижу: партнера моего корчит смех, а из суфлерской будки доносятся восторженные восклицания: «Великолепно! Браво! Брависсимо!..» Оборачиваюсь: из будки выглядывает взъерошенная голова дяди Яши в наушниках, глаза его лучатся восторгом, а правая рука плавает в воздухе — дирижирует. Разъяренный Курков ходит взад-вперед перед будкой, как кот перед блюдечком с горячим молоком. Наконец, не выдержав, дрыгает ногой перед носом дяди Яши. Дядя Яша величественным жестом отстраняет ногу, как если бы она мешала ему, дирижеру, видеть оркестр.
— Снимите с него наушники, — шипит Мигальская.
Смотрю — и в зрительном зале начинают похихикивать. Еще бы, дядияшина рука вылезла из будки и беззастенчиво жестикулирует на глазах у зрителей.
На другой день утром в проходной театра возле доски объявлений толпилась едва ли не вся труппа. Пробившись к доске, я прочел отпечатанный на машинке приказ директора театра: «…во время вечернего спектакля „Комедия ошибок“ суфлер Я. Дюшес, забыв об актерах, слушал по радио посредством наушников симфонический оркестр из города Филадельфии, допускал себе при этом восторженные восклицания, а в отдельных местах пытался даже дирижировать.
Суфлеру Я. Дюптесу объявить строгий выговор с предупреждением. Радисту В. Калинкину, проведшему в суфлерскую будку наушники и тем самым способствовавшему срыву спектакля, объявить выговор». Он появился в дверях сутулый, виноватый. Посмотрел на нас, развел руками, подбородок его дрогнул, и он быстро заспешил к себе вниз. Нам было стыдно.
Вскоре после этого случая дядя Яша ушел на пенсию, а штатная единица суфлера была упразднена. При этом директор в рамках положенного ему юмора пошутил: «Актерам перейти на самообслуживание. Сейчас это модно». Дяде Яше устроили проводы. Преподнесли набор пластинок. Кто-то из актеров прочел:
Немало пропито рублей И съедено немало каши. А сколько сыграно ролей Под тихий шепот дяди Яши?!А однажды из декорационного корпуса на сцену спустился столяр Гриша с пилой и молотком. Он сел на авансцену и не спеша стал спиливать будку.
И все-таки без дяди Яши обойтись было нельзя. Когда актер Курков забывал текст, он инстинктивно приближался к тому месту, где раньше стояла будка, и к чему-то прислушивался. При этом происходило чудо: текст, который забывал Курков, тотчас оказывался у него на языке. Это не могло не заинтриговать меня. Однажды, очутившись на месте снесенной сторожки, я действительно услыхал знакомый, чуть свистящий шепот. Наверное, это случалось с каждым. Только никто из нас не признавался в этом друг другу.
Велосипед
И когда посланец Земли ступит
на Луну, люди будут ликовать и
аплодировать, а потом скажут: «Мало».
К. Феоктистов— Слыхал новость? — спросил вбежавший ко мне Глеб.
— Какую?
— На улицах появился велосипед!
— Вот удивил, — постарался я как можно спокойнее принять это известие. — Да-появись сейчас на улице целый взвод роботов, направляющихся с песней и полотенцами в баню, — и то вряд ли кто обратит внимание. А ты — велосипед.
Однако я говорил неправду. Известие, которое принес мне Глеб, не только было не безразлично мне, но касалось меня гораздо больше, чем кого бы то ни было.
— Да ты почитай, что пишут в газетах! — закричал Глеб.
И он, захлебываясь, стал вычитывать какие-то невероятные фразы:
— «Последнее достижение телепатии: велосипед, управляемый на расстоянии!»
«Железный мустанг спешит за городскую черту»…
«Примем участие во всеобщей облаве!»
«Записывайтесь в добровольное общество по поимке двухколесного хулигана!»
— Ну и как, ты уже записался? — скептически спросил я.
В это время с улицы донесся шум. Я распахнул окно и, перегнувшись через подоконник, увидел следующую картину.
По мостовой, по-оленьи запрокинув рога, несся мой велосипед. За ним бежали люди. Они кричали. Впереди со свистком в зубах бежал милиционер. А в самом хвосте, усиленно нажимая на педали и тоже что-то крича, ехал на трехколесном велосипеде мальчик лет шести. Один из преследователей держал в руках лассо из бельевой веревки. Когда велосипед достиг угла, я увидел, как над его рогами взмыла петля и захлестнула ему горло. Велосипед задребезжал, поднялся на дыбы и, сделав невероятное усилие, рванулся вперед.
Мы с Глебом выскочили на улицу. Там уже никого не было. И как мы ни старались потом напасть на след, все было напрасно.
Вечером, сидя в парке на скамеечке, я почувствовал, как кто-то тронул меня за плечо. Обернувшись, я увидел велосипед. Он был изрядно помят. На раме его болтался огрызок веревки.
— Сам виноват, — сказал я мрачно.
Велосипед молчал, но и не уходил. Я тоже молчал.
— Ну, что тебе? — не выдержал я наконец.
Он продолжал молчать.
— А-а, — догадался я, — веревка. Мешает.
Я отвязал ее. Он сдержанно поблагодарил и снова отправился куда-то.
— Домой можешь не возвращаться! — крикнул я вслед.
Доехав до угла, он остановился, почесал правой педалью заднее колесо и скрылся, дребезжа старым багажником.
А через два дня я снова встретил его. Он разъезжал по улицам, и на него уже почти не обращали внимания. Стоя в очереди за квасом, я прислушивался. Говорили о велосипеде.
— Не понимаю, как это позволяют беспризорным велосипедам безнаказанно разъезжать по улицам? — возмущался гражданин с потным носом.
— Да он безобидный: можете подойти и свободно потрогать его. Он позволяет, — благодушно отозвался парень с двумя бидонами.
— В самом деле? — изумился гражданин в белой кепке. — Это любопытно!
— Очень любопытно, — опять заворчал гражданин с потным носом. — Велосипед как велосипед, только чуть понахальнее других.
Гражданин в белой кепке, оглядываясь на очередь, несмело подошел к велосипеду и слегка потрепал его по седлу.
— Позволяет! — радостно сообщил он очереди.
Затем, взявшись руками за руль, он попытался сесть на велосипед, но тут же был сброшен на тротуар. Очередь заволновалась. Она выделила еще одного укротителя, но и он был сброшен.
— Надо всем вместе, — посоветовал кто-то, — артелью.
Я понял: еще одна такая шутка, и очередь придет в ярость — тогда моему велосипеду конец. И главное, он никуда не собирался бежать.
Я подошел к велосипеду и сел на него. Пружины его седла благодарно скрипнули. Я нажал на педали.
— Смотрите, человек на велосипеде! — закричал кто-то.
— Железный мустанг усмирен! — восторженно воскликнула полная женщина из очереди. И побежала за велосипедом. Ее примеру последовала почти вся очередь. Я отчаянно жал на педали. Но, кажется, одному ему было бы легче. И все-таки им не удавалось настичь нас. Среди голосов преследователей я различил и голос Глеба.
— Почему вы за нами гонитесь? — спросил я его, обернувшись.
— Не знаю, — ответил он, ускоряя бег.
Внезапно огромный грузовик выскочил из-за угла прямо наперерез нам.
— Все! — решил я.
И тут же почувствовал, что отрываюсь от земли, продолжая оставаться в седле. Как это ему удалось перелететь через грузовик? Непостижимо.
Вот мы уже за городом. И тут мне показалось, что он изнемогает. «Единственный способ сласти его, — подумал я, — спрыгнуть». И я спрыгнул. Упал. Едва не сломал себе ногу. И тотчас же люди перестали гнаться. Неужели им снова стало неинтересно?
А он продолжал катиться, пока не въехал на небольшой холм. Достигнув его вершины, он, как раненый олень, сделал последнее усилие, поднялся на дыбы и рухнул. Его переднее колесо повернулось диском к солнцу. Заходящее солнце провело лучами по его спицам. Колесо сделало несколько оборотов и остановилось.
Когда я подошел к нему, он был еще жив.
— Чепуха, — сказал он. — Все-таки мне дважды удалось заставить их бежать за мной.
Потом попросил:
— Отвинти руль. Хочу, чтоб хоть что-нибудь осталось от меня.
Я выполнил его просьбу. Остальное разобрали мальчишки. Кому досталось седло, кому спицы…
Руль этот я повесил у себя на стене, как вешают рога оленя.
Однажды до моего слуха долетел какой-то очень знакомый звук. Я выглянул на улицу.
По тротуару бойко бежал мальчишка, звоня в велосипедный звонок. Мальчишка старался выжать из звонка как можно больше звона, но звон был надтреснутым и хриплым. Я узнал этот голос. Он разбудил во мне память о ветре, о тайнописи шин на мякоти пыльных дорог, о встречах, коротких, как вздох… Я выскочил на улицу и побежал за мальчиком.
Учителиада
Фрагменты
Кто не приносил огорчений своим учителям? Я вас спрашиваю: кто? Э-э, мало, ох, мало найдется таких, что скажут: не огорчали мы своих наставников. Остальная, и притом лучшая, часть человечества, с горечью признает: огорчали. Теперь спросите у той же части человечества:
— Негашеную известь учителю в чернильницу подбрасывали?
— Было, — признает человечество.
— Пьяную кошку по классу прогуливали?
— Виноваты! — рыдая, воскликнет все та же лучшая часть человечества.
А ведь при всем том все они, огорчители, любили своих учителей. По крайней мере на всю жизнь сохранили к ним самые что ни на есть сыновние чувства.
1. «Захожу с хвоста!..»
Это были первые послевоенные годы. Некоторые из наших учителей пришли в школу прямо с войны, многое подзабыв.
Английский язык, например, преподавал нам морской летчик — Вениамин Леопольдович Майский. На уроки он приходил в американском смокинге с орденом боевого Красного Знамени.
Первая часть урока была скучноватой. Учитель довольно сухо излагал правила английской грамматики, часто сбивался, путал слова. Иногда мучительно вспоминал какое-нибудь слово, а мы-то все знали это слово, но молчали, понимая, что бестактно подсказывать учителю. Наконец, кто-нибудь из нас не выдерживал и все-таки подсказывал. Мы все виновато опускали головы, сам же Вениамин Леопольдович краснел и страдал при этом невероятно.
Мы знали, что он был контужен и что у него что-то случилось с памятью. По-видимому, контузия поразила ту часть мозга, те кладовые памяти, которые были связаны с довоенным временем; военную же часть своей жизни он помнил хорошо, даже исключительно хорошо.
— Ну, ладно, — говорил Майский после очередной такой заминки, — на сегодня хватит.
И переходил ко второй части урока, которая изобиловала рассказами о воздушных схватках, таранах, штопорах и проч.
— Однажды я вылетел по спецзаданию с полным грузом туалетного мыла, — рассказывал Майский вдохновенно. — Навстречу мне мессер. Как быть? Принимаю мгновенное решение: надо заходить с хвоста. Захожу с хвоста — трах-трах!.. Короче говоря, мыло было доставлено по назначению и в срок.
И вдруг спохватывался и спрашивал:
— Да, а как будет по-английски «самолет», орлы?
В такие минуты он называл нас не иначе, как орлами или соколами.
— A plan! — хором отвечали мы.
Довольный, он опять переходил к своим таранам и штопорам. Мы живо реагировали на все перипетии воздушных схваток, а в некоторых местах даже аплодировали. Польщенный, он вскидывал вверх руку, смиряя наши овации:
— Silence, мои орлы! Silence!
И снова, не то проверяя нас, не то себя:
— Так как будет по-английски «самолет»?
— A plan! — гремели мы дружно.
Мне казалось, он уходил от нас окрыленный. А может быть, это мне так только казалось? Может быть, уходя от нас, он думал, что вот война отняла память, оставив только память о самой войне, и, кто знает, надолго ли хватит ему этих военных историй, и надо, наверное, уходить?..
И однажды, простившись, ушел от нас насовсем.
Не знаю, насколько хорошо мы усвоили английский язык, но по окончании школы один из наших ребят, хорошо усвоивший слово «самолет», попал в летную школу и стал мирным соколом, асом, летчиком-опылителем.
2. «Пой, Белецкий!»
Уроки истории вел Петрищев. Материал Петрищев излагал несколько эклектически. Особенно у него неважно было с хронологией. Рассказывает, бывало, что-нибудь из времен Кая Юлия Цезаря и — трах! — глядишь, он уже в нашей эре, форсированием Днепра распоряжается, с маршалом Ватутиным спорит, как брать Киев, в лоб или в обход.
— По-моему вышло, — скромно заключает Петрищев, — в обход брали Киев.
Петрищев считал себя тонким педагогом, мастером своего дела, ювелиром. И даже иногда приоткрывал некоторые тайны своего мастерства нам:
— Учитель должен быть гибким, — сообщал он нам одну из тайн. — С одним учеником так, с другим этак.
Вызвал он как-то отвечать урок ученика Томашевского. А тот не готов оказался, книгу кто-то у него украл, что ли. Выслушал Петрищев все доводы Томашевского да и говорит ему светло так:
— Верю я тебе, Томашевский!..
И также светло добавляет:
— Два, Томашевский!
Томашевский не понял — сначала, а затем разрыдался, повторяя, что книгу у него украли, что не виноват он.
— Верю, Томашевский! Два! — повторил Петрищев уже совершенно светло.
Другой бы не поверил и влепил двойку. Петрищев же влепил, но поверил. Тонкость педагогического ремесла проявил, съювелирничал.
— А вот к Белецкому у меня уже другой подход, — продолжал Петрищев демонстрировать свои тонкости. — Ну-ка, Белецкий; подойди сюда!
Была у Петрищева идея-фикс: отучить ученика Белецкого от заикания.
— Ты, Белецкий, не отчаивайся, ты растягивай слова, — утешал он Белецкого. — Ты пой, пой Белецкий. Итак, Белецкий, сколько палат в английском парламенте?
— Пала-а-ата о-общин!.. — робко запевал Белецкий.
Вместе с ним начинал петь и сам Петрищев:
— А сколько тех па-лат?..
Белецкий:
— Их две-е!..
Петрищев:
— Так назови, мой друг!..
— Палата лордов — ра-аз!
— Соль, соль, Белецкий, чище соль! — придирался Петрищев.
А я думал, уж не зарыт ли в Петрищеве талантливый учитель пения? Мысли шли дальше: Петрищев, думал я, это знаменитый маэстро Верджинэ, а Белецкий, Белецкий — не Карузо ли?!..
Класс замирал, когда Белецкий брал верхнее «до». Петрищев ему вторил. Таким образом, получалось что-то вроде импровизированных маленьких опер, что-то вроде Даргомыжского. Петрищев и Белецкий солировали или пели дуэтом. Мы в этой истории были хором.
Таков был историк Петрищев.
Да, а Белецкий, говорят, поет нынче в Большом театре. Не главные партии, но поет.
3. «Пчелы»
Физику преподавал нам усатый «Якраз» — Яков Семенович Лидиев. Чем-то он был похож на старого пасечника, этот Якраз. Да и родом он был из Великих Сорочинцев. Он постоянно курил трубку, хотя курить в классе не разрешалось даже учителям. Но, видимо, не мог без трубки. Якраз был добряком, но мы пользовались его добротой скверно, эгоистично. А он пыхтел своей трубкой и качал головой. И непонятно было, одобряет он нас или корит.
Иногда мне казалось, что это не мы гудим, а пчелы, и что не класс это, а пасека. «Мы — пчелы», — думал я. Мне казалось, что старику нравится этот гуд, что ему хорошо. Но как-то заглянул в глаза Якразу, и увидел там горькую обиду, и понял, что не пчелы мы, а свиньи.
Однажды он заметил, что группа учеников сидит на подоконнике и мирно беседует. Во время урока! Другой бы взорвался — совсем иначе повел себя Якраз. Он подошел к мерзавцам, попыхтел трубочкой и горько так произнес:
— Вот у Чехова, якраз, есть хорошая вещь. «Вишневый сад» называется. Так там Чехов показал свинство господ, якраз.
Четверо учеников лишь снисходительно рассмеялись: говори, мол, говори, папаша. Бедный Якраз, он пытался воздействовать на них аллегорией! Тонка, трагически тонка оказалась его аллегория!
А года через два Якраз ушел на пенсию. Подался, я думаю, к настоящим пчелам.
4. «Дедушка, не надо!»
Математику преподавал старый-престарый Карпов, современник, как нам казалось, самого Леонтия Магницкого, автора учебника, по которому учился еще великий Ломоносов. Мы называли старичка Карпычем и тоже нехорошо пользовались его старостью.
У Карпыча была страсть поднимать с полу всякие гвоздики, кнопочки, шурупчики, так мы утыкали этим товаром весь его путь от дверей до стула. Заметив кнопочку, старик нагибался и начинал выколупывать ее, затем с тяжелым кряхтением переходил к следующей — и так, пока не выколупает все кнопки и гвоздики. Затем шел к окну, там на подоконнике он заботливо выпрямлял, чистил и сортировал товар, гвоздики к гвоздикам, шурупчики к шурупчикам. Сложив всю эту добычу в карман, он, наконец, шел к столу и приступал к уроку.
— Ну, здравствуйте! — со вздохом произносил он, изнуренный процедурой выковыривания кнопок и гвоздей.
Иногда, когда гвоздик был особенно трудный, он сердито обращался к кому-нибудь из сидящих на передней парте:
— Чем глазеть-то, дал бы ножичек или плоскогубцы, ротозей!
Но ножичек, а тем более плоскогубцы находились далеко не всегда, в этом случае ученик сам накидывался на гвоздик, чтобы голыми руками выколупать его, но Карпыч ревниво отстранял добровольца:
— Я сам, сам! Прочь!
А затем, словно очнувшись, кричал на помощника:
— Что, подхалимничать? Фамилия?.. Два!..
Нелюбовь Карпыча к подхалимам доходила до трагического. Как-то в школе давали учителям картошку — время было послевоенное, несытное. Получив свой мешок картошки, Карпыч взвалил его на спину и поволок домой. Непосильная ноша мотала старика из стороны в сторону. Ученики, встречавшиеся ему по дороге, искренне предлагали свою помощь, но он разгонял их криками:
— Подхалимничать?! Фамилия?.. Два!..
В общем-то он был добрый старик, но вот находил на него этот стих. А то как-то пригрозил выставить двойки всему классу. В ответ на эту угрозу мы дружно скандировали:
— Дедушка, не надо! Дедушка, не надо!
А Карпыч в ответ:
— Подхалимничать, да?.. Фамилия?..
Вероятно, он считал, что называя его «дедушкой», мы тем самым подхалимничали перед ним.
Мало кто знал из нас, что в войну Карпыч потерял двух сыновей.
5. «У-у, гении!..»
У преподавателя химии Окислителя была больная печень. Он сидел с грелкой на уроке и тихо стонал. Мы знали, что сегодня день печени, и сидели молча. В такие дни, не будучи в состоянии объяснить новый материал, Окислитель устраивал контрольные.
Кроме печени, была у Окислителя еще одна болезнь — боязнь комиссии. Все ему казалось: вот нагрянет комиссия и произойдет что-то страшное. Нас он тоже пугал комиссией. Но мы, совершенно естественно, боялись этой комиссии гораздо меньше, чем он. Наоборот, нам даже нравилось, когда на уроки приходили какие-нибудь представители «оттуда». В такие дни к доске вызывали одних отличников, а нашего брата, троечника, не трогали.
Лицо у Окислителя всегда было скорбное, губы едва артикулировали, уголки рта всегда чуть отвислые. Вероятно, от этого в словах, которые он произносил, преобладала передняя гласная «и», а сами слова выглядели какими-то прокисшими. Например, он говорил не «комиссия», а «кимиссия», не Боровик, а «Биривик». Кстати, о Боровике. Это был любимый его ученик, который действительно отлично знал химию и которого Окислитель готовил как подарок «кимиссии». Когда он смотрел на Боровика, лицо его теплело, в эту минуту печень, вероятно, отпускала его, а кислая гримаса расправлялась в подобие улыбки.
— Эх, — вздыхал Окислитель, — иметь бы мне десяток таких Биривиков, плевал бы я на кимисеию!..
Но увы, «Биривик» был один, все же остальное было совсем не на уровне требований мифической «кимиссии».
— У-у, гении! — издавал Окислитель тоскливое и протяжное, как стон.
«Гениями» он презрительно называл всех нас, «небиривиков». Такова была мера его сарказма.
И вот однажды в класс вбежал ученик Суббота и крикнул:
— Борис Абрамович, комиссия! В школе комиссия!!!
Окислитель побледнел, схватился за печень и стал медленно опускаться на пол. Кто-то подхватил его, кто-то побежал в учительскую. Среди державших Бориса Абрамовича оказался и его любимец «Биривик». Окислитель глянул благодарно в сторону Боровика и тихо произнес:
— Биривик… Десяток бы таких Биривиков… Никакая б кимиссия… А так…
И потерял сознание.
А потом приехала скорая помощь и Окислителя увезли.
Ученики-мифы
1. «Вот ученик Дремучик, дети…»
Однажды классная руководительница привела в класс новенького. Новенький моргал глазками-щелками и глупо улыбался.
— Вот ученик Дремучик, дети, — представила его Марья Васильевна, — учится на пять и четыре.
Странно, но в тот же день Дремучик оторвал две двойки. В дальнейшем он получал их уже систематически. Но ироническая репутация ученика, который учится на пять и четыре, так и осталась за ним. И когда кто-нибудь из учителей называл фамилию Дремучика, весь класс хором добавлял:
— Учится на пять и четыре!
— Скажи мне, Дремучик, любимец богов, — спросил его как-то учитель истории Петрищев, — как называли воинов армии полководца Кромвеля?
Дремучик вместо ответа часто заморгал глазками.
— Их называли «железнобокими», — подсказал Дремучику Убоев.
Дремучик не расслышал и брякнул:
— Железнодорожники!..
Спустя лет пятнадцать я встретил Дремучика на улице. Те же маленькие глазки, но лицо довольное, сытое — директор какого-то предприятия.
— Дремучик, — представился он моей жене.
А я с трудом удержался, чтобы не добавить: «Учится на пять и четыре».
И все-таки я не выдержал, спросил у него:
— Послушай, Яша, дело, конечно, давнее, но все-таки почему Марья Васильевна представила тебя тогда так?
Дремучик нисколько не смутился, а даже, наоборот, с удовольствием пояснил мне:
— Понимаешь, эта ваша Марья теткой мне приходилась. Ну и сбрехала. Понял? Ха-ха-ха!..
2. Кучеров — ученик-тень
Кроме Дремучика, в классе была еще одна мифическая фигура — Кучеров. Долговязый и рыжий ученик Кучеров появился в классе в начале учебного года, а затем исчез. Никто не знал, где он, что он. Другого бы давно исключили за столь долгое отсутствие, а этот в течение всего года значился в журнале. Впрочем, какое-то объяснение этому было: его номинальное существование продлевали как бы мы сами. В то время очень часты были у нас замены педагогов. Заболел кто-нибудь из учителей, его подменял другой, который не знал класса совершенно. Вот тут-то и всплывала фамилия Кучерова. Вызовет новый учитель какого-нибудь ученика к доске, а тот, допустим, урока не знает.
— Как фамилия? — спрашивает учитель.
— Кучеров, — кротко отвечает самозванец.
И против фамилии Кучерова в журнале появлялась двойка. Иногда, впрочем, бедняге доставались и тройки. Так, казалось бы, несуществующий Кучеров обретал плоть, жил полнокровной жизнью двоечника. Что-то вроде подпоручика Киже. Иногда за право быть Кучеровым спорили, устанавливали очередность.
Как-то, идя в школу, я обратил внимание на шедший мне навстречу грузовой трамвай с углем. В хвосте грузовой платформы стояла высокая и гордая фигура. Правая рука уверенно держала ремень полевой сумки с книгами. Дождь хлестал исполина в лицо, но он стоял неподвижно и гордо. И тут что-то защемило мне сердце, что-то до боли знакомое показалось мне в этой трагической фигуре. Да, это был он, Кучеров, ученик-легенда. Как летучий голландец, возник он передо мной и, как летучий голландец, исчез. Трамвай, громыхая, увез его куда-то в противоположную от школы сторону, в туман, в дождь, в неизвестность.
А в классном журнале против его фамилии продолжали появляться двойки. Иначе говоря, продолжалась вторая жизнь Кучерова. Мне казалось, было в этом что-то обидное, унизительное, когда из фамилии человека делали мусорную свалку, посудину для отбросов, пусть даже если этот человек и не вернется к нам никогда. Все равно скверно. А в это самое время, думал я, грузовой трамвай мотает по городу Кучерова, а он стоит возле кучи с углём, неподвижный и гордый, словно бессменный часовой, словно несущий за всех нас некий тяжелый крест… И дождь хлещет ему в лицо, и град, а он стоит, горемыка, держась правой рукой за ремень сумки и вроде чуть-чуть улыбается нам, ласково так, пользуйтесь, мол, ребята, паразитируйте!..
И однажды я не выдержал. В этот день у нас было сразу несколько новых педагогов, и на бедного Кучерова двойки сыпались градом. Последним запятнал себя грехом «кучеровщины» Рома Кукин. Я подошел к Роме и дал ему по затылку.
— Это тебе за Кучерова! — пояснил я.
— Дурак! — набросился на меня Кукин. — Кучерова же давно нет! Где он, этот Кучеров? Ты видел его хоть раз? Видел?
— Видел! — закричал я. — Кучеров существует! Он работает на грузовом трамвае! — соврал я. — Может быть, в это самое время, когда мы здесь позорим себя, Кучеров грузит под дождем уголь. Да! Но однажды он вернется. Как же мы все будем смотреть ему в глаза, Рома?!.
Я никогда больше не встречал Кучерова. Но людей, выдававших себя за Кучерова, встречал. Ну не за Кучерова, так за другого. Иногда и меня самого, когда торжествовал во мне трус, подмывало назваться Кучеровым, но я вовремя спохватывался. Кучеров, Кучеров… ведь это когда было!.. В школе я ведь никогда не называл себя Кучеровым. Зачем же — теперь?
Ершов Константин Владимирович родился в 1935 году в городе Челябинске в семье геолога.
С 1947 года живет в Киеве. Окончил филологический факультет Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко.
Сотрудничал в газетах, писал для телевидения. В 1959 году был зачислен в актерскую труппу Киевского русского драматического театра имени Леси Украинки. Снимался в кино.
В 1967 году закончил Высшие курсы кинорежиссеров.
«Следы» — первая книга автора.




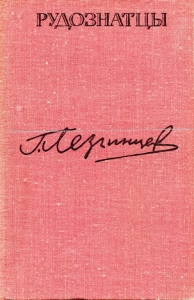
Комментарии к книге «Следы (Повести и новеллы)», Константин Владимирович Ершов
Всего 0 комментариев