Юрий Карабчиевский Тоска по дому
Жизнь Александра Зильбера
Налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь — потеряешь, потеряешь, потеряешь…
Надпись на камнеЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
1
Пионерский лагерь — вот знак моего детства.
С лагеря и начнем.
Ни одно слово не живет само по себе — но лишь в сочетании с другими, названными и неназванными. Мы говорим «лагерь» — и мрачные призраки обступают это слово со всех сторон, и толпятся, и машут черными крыльями. Но мы говорим «лагерь» и добавляем «пионерский», и это действует, как крестное знамение. Призраки убираются к себе в преисподнюю, и звучит горн, и бьет барабан, веселые игры, футбол-волейбол, река и лес, ягодки-цветочки…
Но у каждого, как бы ни сложилась его жизнь, есть своя лагерная тема — да не прозвучат мои слова кощунственно, да не оскорбят они ничьих страданий. У меня же и название совпадает — что делать, так уж вышло, не моя вина…
Высокий зеленый сетчатый забор. Территория. Сегодня я выйду за ее пределы не как нарушитель и трусливый беглец, а как свободный сын своей свободной мамы. Свою свободную маму я буду держать за руку, свободную от моего чемодана, буду нервным фальцетом рассказывать ей веселые лагерные истории, и мама будет гладить меня по головке и радостными восклицаниями перемежать мой слюнявый визг, отвечая не мне, а своим умильным мыслям, что вот какой у нее хороший и умный сын и как все вообще хорошо, спокойно и гладко. Я расскажу ей, как я играл в футбол и забил два красивых гола, какое хорошее дно в реке, как я здорово врезал вчера Самойлову и как в последнюю ночь мы издевались над спящими. И моя мама, прекрасно знающая, что я никогда не играю в футбол, не дерусь и не плаваю, что если кто-то и издевался, то уж точно не я, — моя прекрасная мама, которую я люблю больше всего на свете, будет радостно мне поддакивать и гладить меня по головке, с привычной готовностью отметая суть происходящего.
Мои полуистерические рассказы не преследуют тщеславных целей. Просто я не хочу огорчать свою маму, она так старалась, доставая путевку на мою ежегодную каторгу. «В Москве пыль и такая жара, а там такой замечательный воздух!» Она меня любит, родная и добрая, и вот, приехала раньше других и уводит меня все дальше и дальше от страшной ограды, а впереди, за узкой полоской леса, уже слышна станция, и там — мороженое, толпа, электричка, живые отдельные нормальные люди, и никто из них, чужих, ничего мне там не прикажет, а свои — вот они, рядом, гладят меня и любят, и не меньше других, и не так, как других, а больше всего на свете! Разве я мог расстроить ее? Я давно включился в эту игру, мне и в голову не могло прийти нарушить ее условия.
Кончалась учеба, все вокруг расслаблялись, ныряли в каникулы, как в прохладную воду плеса, — а я с содроганием ждал того неизбежного дня, когда мама однажды придет с работы и голосом слишком радостным, слишком праздничным, слишком взволнованным, как если бы в доме, кроме нас, был еще десяток посторонних людей… «Ну, Сашенька, пляши, — скажет она, делая ударение на „я“, — удалось достать тебе путевку!» Она будет смотреть мне прямо в глаза, и я не брошусь ей в ноги, не забьюсь в истерике, не сбегу из дому. Мутное море слез, которым наполнится моя душа, выпустит на поверхность несколько пузырей, они лопнут бесшумно, не оставив никакого следа. «Спасибо, хорошо, спасибо…»
Конечно, мама немного волнуется, но в этом волнении нет страха неудачи, это волнение профессионала, благородный тревожный настрой перед сотым спектаклем. Она настолько во мне уверена, что может позволить себе даже некоторый риск. «Ты что, недоволен? — спрашивает она. — Если ты недоволен, скажи, я тут же отдам путевку. У меня ее с руками оторвут. Все дети счастливы уехать из города, здесь такая пыль, а там такой воздух, река, лес, питание…» — «Нет-нет, доволен…» И я выбегаю на улицу, потому что силы мои на исходе.
2
Мы живем в отдельном собственном доме, «в особняке», говорят мои родичи, и я думаю, что «особняк» как раз и означает собственный. Наш собственный дом собран из телеграфных столбов, горбылей, желтых и серых листов фанеры с надписями «карачаровская база» и голубых листов алюминия с пунктирными самолетными номерами. Прежний наш довоенный дом растащили весь на дрова, а теперешний знает лишь два состояния: он или ремонтируется, или ожидает ремонта. И все же — мы здесь хозяева, моя мама, моя тетя, мой дядя (мой двор, моя дверь, мой стол — замечательные сочетания!). У нас свои печи в комнатах, свой сортир во дворе, своя собака в будке, своя картошка на огороде. А вокруг стоят бараки, где живут несчастные люди, у которых нет почти ничего своего. И нам завидуют, и нас не любят. И я их понимаю. Не могу сказать, что я им сочувствую, но — понимаю. Три года, два военных и послевоенный, мы тоже жили в бараке. Три года в маленькой комнатке, стоявшей навытяжку в общем строю, комната справа, комната слева, бесконечный ряд комнат напротив. У каждой двери помойное ведро. Но самое страшное — уборная. Все лето я обычно ходил босиком и запомнил навсегда то близкое к обмороку чувство омерзения, когда сквозь босые пальцы ног мягко продавливается холодная жижа, сплошь покрывающая черный цементный пол…
И вот теперь у нас особняк, снова, «как до войны». Только нет нашей мебели, растащенной соседями, нет фруктовых деревьев, спиленных под корень, нет верной овчарки, подохшей с голоду, и нет моего отца, погибшего в сорок втором.
И вот я выбегаю из нашего собственного дома в наш собственный двор и залезаю в щель между шершавой, грубо оштукатуренной стеной и высоким забором из почерневших досок. За забором — овощная база. Оттуда плывет беспокойный запах сырой картошки и подгнившей капусты. Там работает мама. Иногда, когда я в одиночестве сижу в своем самом собственном доме — шалаше между углом дома и углом забора, — к моим ногам падают несколько мелких картофелин или скромный вилок капусты. Это значит, что мама прошла с той стороны. У нее есть начальник, толстый, хитрый и добрый грузин, он сажает меня к себе на колени, гладит меня по головке (все гладят меня по головке) и пронзительно щурит глазки. «Маладэц, маладэц. Ну как, маладэц, мамка тибе пимидоры носит?»
Помидоров мама не носит, видимо, с ними строго, про картошку же он не спрашивает, и я молчу со спокойной совестью. В обеденный перерыв она приносит кастрюльку супа и пол-литровую банку с манной кашей на дне. В супе нет ничего, даже картошки, я ем его безо всякого чувства, а вот каша хоть и без масла, зато сладкая и твердая, как мармелад. Обратной стороной ложки я разрезаю ее на ломтики и медленно съедаю, каждый ломтик отдельно.
Я люблю стоять на перекладине забора, держась за скосы заостренных досок. Длинные хранилища крыты щепой, тут же рядом стоит замечательная машина, эту щепу изготовляющая. Я знаю, что все основные хранилища расположены под землей — этого достаточно, чтобы направить мое воображение по соответствующему руслу. Сюда же идут вечная темнота, холод, сырость и бездонная глубина дошников — вкопанных в землю огромных бочек.
Однажды при мне в дошник шинковали капусту, и я долго, с непередаваемым сладострастным ужасом смотрел на шинковочную машину, между страшными кривыми ножами которой перекатывались, трясясь, как живые, бледные и лохматые капустные головы…
Я почти уверен, что где-то там, в дальних углах, на затерянных территориях, за грудами трухлявых досок, за полями крапивы — происходит что-то страшное. Что именно? Не знаю. Страшное… Когда я начинаю думать об этом, я слезаю с забора и ухожу подальше.
Я ухожу к моему другу Алику. Алик живет хоть и не в собственном доме, но зато на втором этаже. Он берет два куска черного хлеба с сахаром, и мы отправляемся на реку. Мы идем не купаться, это мне запрещают, а я никогда не нарушаю запретов, мы идем срезать, а вернее, срывать ветки для удочек, луков, палок, свистулек. Пожирая хлеб, мы спускаемся к воде и входим в густой кустарник. Ножа нам тоже не полагается, и вот мы выкручиваем, гнем и ломаем жесткие ольховые ветки. Я пыхчу и мычу, перетирая в мочало расслоенные сопротивляющиеся волокна, и вдруг слышу над собой голоса и мгновенно понимаю, что дело плохо. Это они. Они постарше нас года на три, и их четверо, хотя мне хватило бы и одного. «Эй, Ёся! — кричат они почти хором. — Ты зачем наши русские деревья ломаешь?!» — «Алик!» — ору я гнусаво и бросаюсь бежать. Мы бежим с Аликом вдоль реки. Ядовитая слюна отравляет мои внутренности, стенки легких трутся друг о друга, как наждачная бумага. Алик, конечно, бежит быстрее, я отстаю, в глазах темнеет от ужаса. Я бегу, бегу, я перебираю ногами и не двигаюсь с места. Все, конец. Я падаю в высокую траву, падаю на выдохе, и нет у меня сил вдохнуть. Пусть убивают, всё равно умру от удушья. Но я не умираю. Я вдыхаю раз и другой, встаю и оглядываюсь. Никого нет, только один осторожный Алик возвращается крадучись, полуползком, вдоль заросшей травой железнодорожной насыпи…
На обратном пути мы не разговариваем с Аликом. С трудом преодолеваем крутой булыжный подъем. Зимой здесь часто буксуют машины, толпы ребят останавливаются на обочине, глазеют, как неловкие грузовики, пожужжав у самой вершины, беспомощно откатываются назад, разгоняются и все начинают сначала. Все они едут к нам на базу. Каждую машину при въезде и выезде взвешивают на огромных весах. Однажды я попросил весовщицу взвесить на них меня. «Ноль целых, ноль десятых, — сказала она. — Проезжай!» Острота показалась мне замечательной, я много раз ее потом пересказывал.
3
Алик ныряет к себе в подъезд, дальше я иду один. Длинная-длинная переменной расцветки и скачущей высоты гряда сараев. Запах сена и кроличьего помета. Я открываю нашу калитку, я все еще тяжело дышу, и ноги мои за мной не поспевают, мои руки черны от древесного сока, а лицо вспухло от слез. И я знаю, что не надо ничего рассказывать, и знаю в то же время, что все расскажу, и еще приукрашу, и еще поплачу под родственные вздохи и причитания. Двуязычная воркотня окружит меня теплой стеной, и я стану думать, что эти еврейские возгласы не дублируют русские, но несут в себе нечто свое, особое, действительно важное и утешительное.
Мама уже вернулась с работы, она стоит у дверей террасы в зеленом своем крепдешиновом платье, и, увидев ее, я ускоряю шаг, но печаль моя, готовая вырваться наружу потоком душераздирающих слов, загоняется внутрь другой, несравненно большей печалью. Прекрасные, черные, чуть косящие глаза моей мамы смотрят прямо на меня, за меня, сквозь меня, дальше, дальше, в бесконечность. Яркие губы ее разжимаются, и…
— Сашенька! — говорит она радостно. — А ты знаешь, что завтра утром мы едем в лагерь?!
До последнего момента я надеюсь на чудо. Мне не дадут какой-нибудь справки, отряд окажется перегруженным, вдруг у кого-то дизентерия, объявляется карантин, и всех распускают. Как искренне, с какой благодарной отдачей я бы изображал огорчение! И только уже оказавшись в автобусе рядом с худым белобрысым парнем, я понимаю, что пути отрезаны. Автобус трогается, я смотрю в окно, я стараюсь не видеть своих новых товарищей: я ненавижу их всех. Трусливая ненависть переполняет меня и выплескивается наружу. Я боюсь себя выдать, я смотрю в окно. Мы едем по чужим, незнакомым мне улицам, там живут чужие, остающиеся люди. Все остаются, а меня увозят. Скользящим взглядом я задеваю своего соседа. Зеленая конфета перекатывается у него во рту, распирая то одну, то другую щеку. По временам он складывает губы трубочкой и выталкивает ее обкатанное, раз от раза тающее тельце на всеобщее обозрение. Автобус застревает у светофора, вожатая встает со своего сиденья, синее в горошек платье до отказа наполнено грудью. «Ребята, песню! — выкрикивает она. — Самойлов, ты где? Запевай! „Это чей та-ам смех веселы-ый, чьи глаза огнем горя-ят!..“»
Самойлов сидит через ряд от меня, вокруг него — старички с предыдущей смены, и он поднимает голову, наши взгляды встречаются, и вот он уже не поет, Самойлов — он смотрит. Господи, как я знаю этот взгляд, какой он всегда одинаковый! С какой удивительной неотвратимостью на двадцать пять безразличных взглядов найдется хотя бы один такой — взгляд Самойлова. В нем нет даже злости, скорее радость: он нашел меня, мой Самойлов. Все у него было хорошо, не хватало только меня, и вот я объявился, как по заказу. Я еще двигаюсь, трепыхаюсь, я еще пытаюсь отвести глаза от этого жуткого перекрестка, еще делаю вид, что ничего не случилось, хотя точно знаю, что уже обречен. Ну хоть бы раз, думаю я, хоть бы раз пронесло! Ну может же быть одно исключение, ну хоть бы, ну только бы, ну пожалуйста!.. «Во-он тот, курчавенький», — говорит Самойлов. Все. Началось.
4
Из всех доводок лучше других удавалась самая примитивная, самая в то время распространенная.
Идет дождь, вожатые у себя в комнате, мы сидим в палате на заправленных койках, ждем сигнала к обеду. Разговор идет об отцах — кто кем работает. Естественно, высказываются только те, у чьих отцов профессия яркая, конкретная: шофер, офицер, токарь. У Савицкого, я знаю, отец начальник, какой-то большой человек в наркомате, но Савицкий молчит, что тут можно сказать, начальник — это ведь не профессия. Кто-то вдруг говорит: «Погиб». Я тоже влезаю: «Да-да, и у меня погиб», — хотя меня-то как раз никто и не спрашивал. Но тут наступает очередь Самойлова.
— Поги-и-иб? — тянет он с удовольствием, далеко выпячивая нижнюю губу. — И-иди болтать, тоже погиб — помер, небось, от поноса!
Эта шутка нравится, все смеются. Слезы застилают мне глаза, забивают глотку.
— Да ты что! — сиплю я. — Да ты что, ты что!..
— Да ничё! Да евреи, если хочешь знать, и на фронте не были, по домам на печках сидели. Ну вот, Эдик, скажи, воевали евреи?
Умненький, гладенький, очкастенький Эдик, наш «профессор», или, как сказали бы теперь, интеллектуал, смотрит трезвым невидящим взглядом.
— Да, пожалуй, это факт, ничего не скажешь. Евреев на фронте было очень мало.
— Можно сказать, что и не было, верно?
— Ну… можно и так сказать…
Самойлов в восторге.
— Ага, Зильбер! Эдька зря говорить не будет. Эдька уж знает, Эдька сказал — можешь заткнуться!
— Эдик! — прорываюсь я наконец. — Эдик, ну что ты, ну погиб же у меня, в сорок втором, я же пенсию получаю!..
— Во! Пенсию! — хохочет Самойлов и жестко сплевывает за окно. — Морковка! — обращается он к Марковичу. — Морковка, у тебя отец — еврей?
— Еврей, — тихо говорит Маркович, проглатывая первое «е»: «иврей».
— Слушай, кончай! — вдруг вступает звеньевой Симоненко. — Делать, что ль, нечего?.. — но тут же смолкает и даже отводит взгляд в сторону. Самойлов его как бы не слышит.
— Ну скажи, Морковка, — миролюбиво продолжает Самойлов, — был он на фронте?
— Нет, не был, — все так же тихо отвечает Маркович. — Он в войну на заводе работал.
Самойлов ласково смотрит на Марковича. Сейчас он его едва ли не любит, хотя в другое время доводит почти как меня.
— Ну вот, на заводе. Морковка-то хоть не брешет. А твой где? В палатке торговал? Где работал твой папа, Зильбер? Ты скажи, не бойсь, ничего тебе не будет…
Фальшивый звук горна вымывает всех из палаты. «Бери ложку, бери хлеб…» Обед.
Я лежу ничком на своей койке, и самое острое мое желание — стать одеялом, таким же плоским и серым, как то, что лежит сейчас подо мной, чтоб входящая в палату Вера не заметила и не окликнула.
— Что это, что это с тобой, Сашенька, — говорит она задушевным голосом. — Обидел тебя кто-нибудь? Ну так что же ты? Идем, идем скорее строиться, а то весь отряд подведешь…
5
Много лет спустя я прочел про американского мальчика, которого тошнило при виде затылка впереди стоящего. Меня поразила точность ощущения, но я почувствовал, что чего-то мне здесь не хватает. И только со временем понял: не хватало столовой. Для меня затылок впереди стоящего тоже связан с тошнотой — но только через столовую. В лагере я никогда не хотел есть. Всякая еда мне была отвратительна, и непрерывная мука лагерной жизни достигала предела четырежды в день, по часам.
Вот мы все вместе стоим в строю, я вижу затылок впереди стоящего, затем мы так же все вместе идем, я вижу затылок впереди идущего, я вижу много затылков впереди, но и сзади еще осталось достаточно лбов. Кто-то подталкивает меня в спину, кто-то бьет прутом по ногам. Веселые шуточки перед кормежкой, выход здоровому нетерпению. Скорее, скорее бы уже столовая, хотя лучше бы, чтоб вообще ее не было…
Я все пытаюсь осмыслить этот странный факт, понять сегодня тогдашнее свое состояние. Вот я беру влажную тряпку, тщательно стираю с доски все написанное, память моя пуста, чувств — никаких. Я представляю себе большое помещение, столы, стулья, на столах тарелки, рядом с тарелками ложки, вилки и хлеб. Вбегает шумная ватага мальчиков, задевая стулья, толкая друг друга, они — как это? — озорничают немного, это ничего, это так естественно. Располневшая добродушная вожатая снисходительно на них покрикивает. Рассаживаются и начинают торопливо есть. Суп, конечно, не тот, что дома, но тоже вполне съедобный, а набегаешься по лесу за день, съешь не такой. Ну вот, они едят и болтают — и что тут плохого? Что можно придумать, чем напугать?
Но вот я вижу не столовую вообще, не детей вообще, а себя того, в том именно лагере. Я еще шагаю в общем строю, но слышу уже приближающийся запах и чувствую, как к горлу подступают спазмы. Это пахнет еда, приготовленная для многих. Запах столовой — это символ моего одиночества, это образ моей беззащитности.
Столовая — это такое большое, открытое, но и замкнутое пространство, где тебе абсолютно некуда деться, где ты всем доступен, «как слон в зверинце, как муха в стакане, как гусь на блюде», где нельзя отойти, передвинуться, отвернуться…
Я сажусь со всеми, я начинаю есть, борясь с тошнотой. Тарелка большая, до конца далеко. И вот радостный взгляд Самойлова пересекает разделяющее нас расстояние, веселый свежескатанный хлебный шарик летит по направлению этого взгляда и ловко шлепается мне в тарелку. Так, это начало. Теперь я просто обязан скатать такой же и бросить в Самойлова. Но ничего хорошего это мне не сулит. Во-первых, я непременно промажу и попаду в сидящего рядом Рогова, и Рогов мне этого не забудет. Во-вторых, Самойлов кидает легко и тихо, я же кидаю суетливо и шумно, раскачиваясь всем корпусом и размахивая руками. Это значит, что его вожатая не заметит, а мне сделает строгий втык, к восторгу и ликованию двадцати наблюдателей. Но самое главное: мне вовсе не хочется кидать, а Самойлову хочется. Для меня это утомительная необходимость, для него — веселое развлечение, для меня — повинность и потеря времени, для него — жизнь и удовольствие. Так мы перекидываемся некоторое время, и ему становится все веселей, а мне становится все тоскливей. Меня выматывает эта тупая работа, я кидаю только из самолюбия, а потом уж и совсем ни от чего, по инерции. Я уже не целюсь, кидаю наугад, попадаю то в одного, то в другого, и все демонстративно и шумно возмущаются и наперебой обещают мне всякие радости. Моя тарелка полна уже хлебных шариков, серых липких шариков с отпечатками пальцев Самойлова. Мельком, в одно касание я пробегаю взглядом лица моих соседей, робко ища сочувствия, — нет его на этих лицах. Радость, любопытство, равнодушие, но сочувствия нет. Впрочем, мне некогда теперь рассматривать, я не могу позволить себе такую роскошь, я смотрю прямо перед собой, в отвратительную, мерзкую свою тарелку, давно переставшую быть моей, превратившуюся в очередное орудие пытки, в продолжение и развитие проклятого Самойлова, в круглую и жидкую его разновидность…
— Зильбер, ты опять не ешь! Не заболел? Посмотри, ты весь красный. Нет, лоб холодный. Ты что, не хочешь со мной разговаривать? Николай Иваныч! Николай Иваныч! Вот тут у меня мальчик один…
И теперь уже не трое соседей по столу, не шестой отряд в полном составе — теперь вся столовая, весь лагерь, с вожатыми, председателями и рядовыми членами, весь лагерь оторвался от пойла и хлёбова и смотрит в мою сторону, ожидая от меня последней непоправимой глупости. И я эту глупость делаю. Звонко всхлипнув, я вскакиваю из-за стола и бегу к выходу. Я бегу через весь бесконечный зал, закрывая лицо согнутой в локте рукой. Наверно, это очень смешное зрелище, я слышу шум, вроде бы смех, в узкую щелочку мне видны только крашеные половицы да ножки стульев, кто-то подставляет мне ножку — не стула, свою, — но я не падаю, удивительное везение, и выбегаю, наконец, в открытую дверь. Я бегу через всю территорию лагеря, трясутся по сторонам фанерные щиты с выцветшими лозунгами и стихами, розовые пионеры и пионерки с зубной пастой на месте зубов отдают мне свой вечный фанерный салют, я бегу мимо них куда глаза глядят, так мне, по крайней мере, кажется, хотя на самом-то деле путь мой лежит все к тому же, уже ставшему привычным корпусу, к чужой и холодной моей койке с колючим одеялом и жесткой подушкой. Но и это еще не конец. Нет предела моему унижению, нет предела! Я слышу сзади приближающийся топот: вожатая послала лучших бегунов и, конечно же, среди них — Самойлова. Они перебегают мне дорогу, хватают за руки цепкими, бесчувственными пальцами. Все молчат, только Самойлов широко улыбается:
— Ку-уда, ку-уда! На-азад, на-азад!
Я сопротивляюсь, меня волокут, усмиряют, бьют — легонько, без злобы. Без злобы — но с удовольствием. Это не драка, это мероприятие, они при исполнении, у них приказ… Наконец, уже почти у входа в столовую идущая нам навстречу Вера освобождает меня, залитого слезами, соплями, и, обняв за плечи, уводит в вожатскую — поить компотом и говорить по душам…
6
Среди взрослых я стараюсь побыть подольше, лезу помогать, заискиваю перед каждым и хоть всем порядком надоедаю, зато становлюсь своим человеком. Мне кажется, что, в отличие от хаоса и произвола мира детей, здесь царят спокойствие, порядок, равновесие. Конечно, и это не настоящие взрослые, детская стихия со всех сторон омывает и лижет этот островок доброжелательства и здравого смысла, но все же она никогда не захлестывает его с головой. Пионеры забегают сюда по необходимости, нормальным детям здесь делать нечего.
Вот Лариса Архипова, главный редактор, брызжет мокрой зубной щеткой на голубеющий на глазах ватманский лист.
— Зильбер, — строго говорит Лариса, — напиши заметку, вон место осталось.
— Про что? — спрашиваю я с готовностью.
— Да все равно, про что сам захочешь.
— Ну например?
— Ну что ты пристал? Если б я знала, так сама б написала. Ну напиши, как вы на реку ходили.
— На реку?! Что ж, хорошо, напишу.
Я беру карандаш, сажусь за стол и уверенно пишу на листке из тетради:
«ПОХОД НА РЕКУ
Утром, сразу же после завтрака вожатая Вера сообщила нам…»
Я зачеркиваю «сообщила» и пишу «объявила». «Вожатая Вера объявила нам…» Или лучше все-таки «сообщила»? «Мы все очень обрадовались и с веселой песней…»
Утром, сразу же после завтрака, вожатая Вера построила отряд перед корпусом и сказала:
— Кто не умеет плавать, шаг вперед!
Я остался стоять на месте.
Человек восемь спокойно вышли, и, выйди я тоже, большого позора бы не было. Но на этот раз я остался. Я просто больше не мог. Каждый раз повторялась та же история: кто не умеет? — я не умею; кто еще ни разу? — я еще ни разу; кто хочет остаться? — опять я, снова я, всегда я! И сейчас словно какой-то скрытый механизм, быть может, интуитивное чувство ритма, не позволил мне сделать этот маленький шаг. Будь что будет, как-нибудь выкручусь.
Но я не выкрутился.
Пока мы все, умеющие плавать, отдельным строем спускались к реке, пока спорили, что быстрее, кроль или саженки, — я мысленно неустанно молился. Слова «Господи» не было в моем лексиконе, я говорил вместо этого «хоть бы». «Хоть бы! — молился я. — Хоть бы все обошлось! Приеду домой, буду каждый день — каждый день! — ходить на реку, научусь плавать лучше всех, ну не лучше всех, но хорошо и быстро. Потом приеду в лагерь… Что, опять?! Ну что ж, я и на это согласен, но только сейчас — только бы, хоть бы!..»
И вот мы выстраиваемся у самой воды — теперь уже только одни пловцы, неплавающие болельщики — счастливые люди! — сидят на пригорке, щиплют травку и глядят на нас с деланным равнодушием.
— Значит, так, — говорит Вера. — Будем готовиться на БГТО. Сегодня проплываем десять метров. До того берега и обратно. Здесь мелко, не утонете (и то хорошо…).
— Р-раз! — лихо командует Вера.
Мы все стоим по пояс в воде, до другого берега рукой подать, так легко, наверно, доплыть, если только уметь…
— Два! — командует Вера. Мы все прогибаемся, выжидая. Я-то зачем пригибаюсь, идиот несчастный! Вода теплая, но я весь дрожу. «Вера! — говорю я, не разжимая губ. — Я что-то плохо себя чувствую…»
— Три! — командует Вера, и все, кроме меня, кто как может, работают руками и ногами. Ну, а что же мне, мне-то что делать? Я делаю вот что. Я погружаюсь в воду по шею и начинаю перебирать ногами по дну. Так я понемногу ползу на карачках, касаясь воды подбородком. Дно здесь песчаное, видно все, как в стакане, и останавливаюсь я только тогда, когда до меня доходит истошный гогот болельщиков.
— Во дает! — орут они. — Всех обогнал!
Я останавливаюсь, оборачиваюсь и вижу, как хохочет серьезная строгая Вера, лежа ничком на траве, прикрывая лицо руками. Никто уже не плывет, все стоят и смеются.
— Это он по-еврейски, — вдруг говорит Самойлов.
— Ну да, это он по-еврейски, — радостно повторяют за ним другие.
— Перестаньте, ребята, — бормочет сквозь слезы Вера, но все понимают, что она не сердится, что это только так, для порядка.
— Ну, — громко говорит Самойлов, в упор и весело глядя на меня, — а теперь по бережку, кто быстрей, стилем Зильбера!..
«Хорошо в жаркий день на реке!» — это я написал последнюю фразу.
— Ну, молодец! — говорит Лариса. — Ловко это у тебя получается. Как в «Пионерской правде»…
7
Я не научился плавать в следующем году и поехал совсем в другой лагерь, где, по счастью, не было ни реки, ни пруда. А научился я плавать гораздо позже, испытав перед этим не меньший позор, больший, потому что был уже взрослым, способным видеть себя со стороны, и чувство собственного ничтожества долго меня потом не оставляло.
Я жил в доме отдыха на Кавказском побережье, и девушка, которая тогда мне нравилась, плавала до поплавка и обратно, а я барахтался у бетонного волнореза, дожидаясь ее возвращения. Я умел уже немного держаться на воде, мог проплыть метров пятнадцать-двадцать, если твердо знал, что подо мной неглубоко. А она все зазывала меня с собой: «Тут недалеко, потихоньку, потихоньку, а там отдохнешь, за поплавок подержишься». И однажды я не свернул, как обычно, к своему уютному волнорезу, а, чуть задержавшись, двинулся дальше, чувствуя, что впадаю в то бесшабашное состояние, которое хоть и не очень часто, но уже случалось со мной в прошлом. Эти приступы бесшабашности продолжались недолго, никогда мне не хватало заряда лихости, он всегда иссякал в самом нелепом, самом неудачном и опасном месте. Так случилось и на этот раз. Скоро, очень скоро я стал беспокоиться, оглядываться, не вернуться ли, но до берега уже было — как до поплавков, и я тупо продолжал двигаться дальше. Моя девушка плыла, на меня не оглядываясь, потому что, как я понял потом, позже, плавала сама не намного лучше и смертельно боялась любого беспокойства. Справа и слева, на разных расстояниях, болтались знакомые и незнакомые головы, но они лишь усиливали мое чувство одиночества, не представляя никакой реальной опоры, но наглядно обещая позор и унижение в том случае, если бы я попросил о помощи. Уже все мои мышцы были напряжены, я беспорядочно двигал руками и ногами, стоя в воде почти вертикально, и время от времени содрогался, удивляясь, почему это вода меня держит, хотя вполне могла бы и отпустить. Я чувствовал, что в том, что я еще не утонул, нет уже никакой моей заслуги. Так, топча воду ногами и царапая ее растопыренными пальцами рук, я все же понемногу приближался к поплавкам. И вот он уже близко, тот поплавок, вот он совсем уже рядом, милый, вот он уже тут, мое спасение… Но самое страшное было впереди. Поплавок представлял собой деревянную крестовину, в центр которой был воткнут красный флажок. Крестовина размокла, отяжелела, целиком погрузилась в воду, и только длинная палка со слипшимся флажком торчала еще на поверхности. И когда я судорожным движением вцепился в толстый и скользкий брус, и когда подтянулся и навалился, — вся конструкция тут же ушла под воду, немедленно потащив меня за собой, так что я едва успел отцепиться. Возможно, для плавающего человека все это шаткое сооружение и могло быть некоторой точкой опоры, его ничтожный запас плавучести мог быть достаточен для легкого отдыха в том случае, если ты не очень устал. Но что было делать с этой чуждой размокшей дурой моему уже полубезжизненному телу, не знавшему координации, не владевшему собой, дрожавшему и напряженному?
С ужасом и омерзением я отбросил в сторону подлую крестовину, отчаянным рывком повернул голову к берегу — до него был миллион километров. И тогда, отметив как можно ближе незнакомую мужскую голову, я как будто сразу вдруг успокоился и быстро поплыл к ней на спине, широко загребая прямыми руками, на удивление четкими и ровными взмахами. Я приблизился вплотную, увидел мужчину с сильной шеей и густыми светлыми бровями и произнес, не останавливаясь, тоже четко и ровно, как сказал бы в троллейбусе или в магазине: «Простите, помогите мне, пожалуйста, я не могу доплыть до берега…»
Уже все сказав и закрыв рот, я почувствовал такое острое сожаление, какое редко когда испытывал в жизни. Я понял вдруг, что именно теперь, вот так, на спине, спокойно и размеренно, я мог бы доплыть, наверняка бы доплыл, потому что почти не испытывал страха. Но было поздно. Уже летела ко мне на всех парах желтая спасательная лодка, неожиданно огромный спасательный круг сухо шлепался рядом со мной на зеленую воду, любопытствующие лица, мужские и женские, стекались ко мне со всех сторон и еще больше лиц ждало на берегу, который оказался на удивление близким…
Замечательное это плавание с оранжевым кругом, триумфальное прибытие мое на берег на глазах у всех мужчин и женщин (особенно женщин!) — это уже было, пожалуй, слишком, этого я простить себе не мог. Впервые, может быть, за всю свою жизнь я не ограничился фантазиями и прожектами. Я решил, наконец, поднять руку на фатальное свое невезение.
Я уехал в Москву через три дня, как только сумел достать билет, ни разу больше не приблизившись к морю и почти ни с кем не заговорив. В Москве, в бассейне, я начал с азов: дуть на воду, приседать и махать руками — такую непривычную, такую детскую, такую до странности серьезную работу. И, когда весной через несколько месяцев я начал уже наплывать километры, я первое время неизменно отсчитывал, сколько сумел покрыть поплавковых дистанций: оранжевый круг все еще маячил перед моими глазами…
Следующим летом я снова поехал на Черное море, на Кавказское побережье, в тот же самый поселок, на тот же пляж. (Что поделать, я был еще очень молод, у меня был дурной вкус!)
Я сошел с автобуса и спустился к морю, в лучших своих выходных туфлях, в выходном костюме, с чемоданом в руке. День был как раз на удивление прохладный, солнца не было, дул ветерок. Никто не купался. Несколько скучных семейных групп расположилось вокруг на сухих лежаках. Играли в карты, жевали, поглядывали. Я поставил чемодан у самой воды, прямо на прибрежную гальку, медленно и, как мне показалось, спокойно разделся (плавки я, конечно, надел еще в поезде) — и затем, не оглядываясь, бросился в воду. Я поплыл кролем, дыша на четыре такта. Вода в море была как вода, вела себя естественно и дружелюбно, и только небольшие шальные волны по временам захлестывали голову, было неудобно, когда они приходились на вдох, но я быстро к ним приспособился. Поплавки оказались совсем другими, на месте той дурной крестовины болталась красная полая бомбочка, уж эта выдержит хоть пятерых! Я нарочно медленно проплыл мимо, похлопав бомбочку по чугунному боку, — механически, без всякого вдохновения, просто так было задумано. Дальше не было уже ничего, никаких ориентиров, только море, и я плыл и плыл, пока, оглянувшись, не увидел, что поплавки слились с берегом, впечатались редкими мелкими бусинками в его тонкую ровную кромку. Это тоже входило в программу. Этим взглядом извне я как бы уничтожал унизившее меня пространство, как бы сводил к нулю ту злосчастную дистанцию, которая год назад показалась мне огромной.
Теперь я мог вернуться обратно. Я поплыл легким спокойным брассом, и на душе у меня было спокойно, большого восторга я не испытывал, но мне было хорошо. И лишь стоя у раскрытого чемодана и растираясь длинным махровым полотенцем, я вдруг обнаружил вопиющую пустоту на месте того, неизвестно чего, что должно было быть сегодня главным. А ведь главным должно было быть чудо! Я чуть не утонул в ста метрах от берега — и я же проплыл километр. Совмещение этих событий, конечно же, было чудом. «Но чудо есть чудо и чудо — есть Бог». В действительности два этих события разделил естественный промежуток времени, между ними был год, и все теперь было естественным. Я пытался скомпенсировать потерю времени чудесным совмещением места действия — но и этого, в сущности, не получилось. Место оказалось тоже другим: другие люди, другая погода, даже поплавок и тот другой. На меня смотрели — но не те и не так. Слишком долго я готовил для себя это чудо, слишком точно знал, как оно выглядит. Я использовал слишком естественные свойства предметов и сред. Да иначе и быть не могло. Чудеса — исключительная привилегия Бога, нам остаются только закономерности. Грустно, но это так.
8
Но вот время, все замедляя и замедляя свой ход, переползает все же на последнюю неделю. Завтрак, обед, полдник, ужин, завтрак, обед, полдник, ужин, остается три дня. Закрытие лагеря, звезда из хвороста на опушке леса, я, конечно, читаю стихи. «И послал солдат немецких против всех людей советских…» Самойлов и Лосев подставляют колени Эдику, двое других тянут их за локти в стороны — шаткая пирамида под бурные аплодисменты; пятый отряд танцует «яблочко», девочка из третьего — украинский танец. В заключение мы все хором поем «Это чей там…». Кусаются комары, так поздно мы еще никогда не засиживались. «Ты всегда пионерским салютом солнце родины встречай!» Все. «Не разбегаться, не разбегаться, строем, строем! Никуда не убегать, прямо в спальни!» Все, теперь уже совсем скоро. Я иду один, плевать я хотел на строй, все равно ничего не видно. Я уеду на день раньше срока, в воскресенье за мной приедет мама. Возьму чемодан из кладовки, печенье из тумбочки, ни на кого не взгляну, ни с кем не… А-а-а! Сильный удар в скулу сбивает меня с ног. Я лечу куда-то вбок, но не падаю, потому что получаю кулаком под ребро, меня подхватывают и цепко хватают за руки. За что, ну за что?! Лицо Самойлова, прекраснейшее из лиц, выплывает из тьмы и надвигается на меня.
— Что, сука, думал, так и умотаешь? Думал, так и улизнешь от меня? Думал… У-у, е-э-э-врейская морда!
Потными пальцами он выкручивает мне нос, потом брезгливо вытирает пальцы о мое же лицо.
— Ну и противные они все, — говорит он, немного отходя, и вдруг мерзкий его плевок шлепается мне на щеку и начинает медленно стекать к подбородку.
— На, утрись, — слышу я справа от себя голос звеньевого Симоненки, и правую руку мою отпускают. Я утираюсь, чувствуя, что и на левой руке хватка ослабла.
— Кто еще хочет? — спрашивает Самойлов. — Ну, давай, ребя, рассчитывайся, сегодня последний случай. Да вы не трухайте, он не скажет, знает, что ему тогда будет.
— Зна-а-ет, — тянет вслед Симоненко, и тут я делаю рывок вправо и бегу в сторону, противоположную той, откуда слышен голос Самойлова. Бежать, конечно, глупо, кругом наши, но кто-то, на кого я сразу же натыкаюсь и кто мог бы легко меня задержать, не делает этого и даже посторанивается, давая мне свободный проход. И я бегу, опять бегу, подвывая и истекая кровавыми соплями…
Ночью я стараюсь не спать, но меня не трогают. Видимо, решили, что с меня достаточно. Так или иначе, но я не попадаю в число вымазанных пастой и гуталином, выкинутых в одеяле на улицу, омытых мочой и обожженных «велосипедиком».
С утра я хожу по всей территории, молюсь и колдую: «Хоть бы приехала, хоть бы приехала!..» Колдовство удается. И вот я уже иду по лесной тропинке за территорией, не строем, я не боюсь никого на свете, я визгливо рассказываю небылицы, и моя молодая прекрасная мама несет мой уродливый чемодан.
Глава вторая
1
Уже в Москве, в провинциальной суете Комсомольской площади я замечаю, наконец, что моя мама, и в обычное время не очень внимательная, сегодня рассеяна, как никогда. Вот мы идем мимо входа в метро, я тяну ее за руку, но она уверенно проходит дальше, в зеленом платье с большими белыми цветами, не слыша моих настойчивых окриков, а слушая лишь свои, неизменно важные, всегда абсолютно серьезные — взрослые мысли… Так понемногу, замедленные чемоданом и моим дурацким сопротивлением, мы проходим под аркой путепровода к остановке трамвая, и тут только меня осеняет, что мама не ошиблась, не заблудилась, что она знает, куда идет.
— Мы что, разве не домой поедем?
— Нет-нет, сыну, — отвечает мама таким высоким, таким ужасно обычным голосом. — Нет, мы не домой. — Голос ее искусным курбетом переходит в иной, праздничный регистр, на такое же удаление, но по другую сторону от действительно обычной интонации: — Мы поедем! С тобой! К дяде! Яше!
— К какому такому дяде Яше? Что еще за дядя такой выискался? Нет у меня такого дяди. Тебе надо, ты и езжай!
Нет, конечно, не стоит волноваться, я не был способен на такую бестактность. Я что-то коротко промычал, что-то как бы пропел в ответ — молчать мне тоже не полагалось, это могло нарушить гармонию, — и мы поехали к дяде Яше.
Мы сошли с трамвая в незнакомом мне месте на большой людной улице, у ворот рынка. Помидорные лужи вытекали из ворот на широкую булыжную мостовую. Мы перешли на другую сторону, там была еще поперечная улочка, тоже булыжная, тоже грязная, и дома на ней были вполне соответствующие, деревянные, серые, в два этажа. Мы вошли в один из этих домов, прошли по вонючему коридору с шеренгой дверей и помойных ведер, и я сразу вспомнил шестой барак и словно бы почувствовал босыми ногами мерзкую жижу на цементном полу… В самом конце, в полутемном закоулке, рядом с уборной, мы, наконец, остановились у последней двери, и мама в нее постучала.
Мы оказались внутри — я не сразу понял, внутри чего, но сразу почувствовал облегчение, потому что исчезла вонь коридора или стала намного слабее. Затем, с некоторым опозданием, я услышал гнусавый мужской голос, издававший какие-то странные звуки, нечто вроде подвывания с прихихикиванием: «Э-э-э, хе-хе-хе! Э-э-э, хе-хе-хе!» И только потом уже, постепенно обретая зрение, я увидел бордовые доски пола, тяжелую толстую ножку, скорее ногу или даже ножищу стола, коричневую бахрому скатерти и, наконец, встающего из-за стола человека.
Человек был невысок, сутул, лысоват, крючковат. Короткая шея, маленькая головка, узкий лоб, слишком узкий даже для такой головы, мохнатые черные брови и свиные глазки с кроваво-желтыми мутными белками. Багрово-красные прожилки, точки и черточки покрывали его выпуклые, сдвинутые друг к другу щечки и крылья резко изогнутого носа.
— Э-э-э, хе-хе-хе, — тянул он и хихикал. — Приехали? А-а-а? Приехали? Приехали, приехали. Ну-у? Хе-хе! Ну-у, драствуйте, драствуйте…
Я пожал его руку (короткие, толстые, крепкие пальцы, черные жесткие волоски), немного потоптался на месте и сел на диван, покрытый тяжелым ковром. Мама тоже села рядом со мной и стала говорить про электрички, расписание, жару и как много народу в транспорте. Дядя Яша, сидя на прежнем своем месте, демонстративно, всем корпусом повернулся, наклонился, направился в мою сторону, мне улыбнулся и со мной заговорил. Я увидел в непосредственной близости от себя его мелкие мышиные зубы, коричневые, но совершенно целые, ровные и острые. Рот его, явно не привыкший улыбаться, был вытянут в кривую, напряженную щель. Во время пауз он двигал нижней губой, взад-вперед, обдувая верхнюю выходящим воздухом.
— Ну-у? — гнусавил он, глядя вбок, мимо и дальше меня. — Ну-у? Как ты отдыхал, как? Хорошо отдыхал? А-а-а? Хорошо? А-а-а? В лагере хорошо было, в лагере? А-а-а? Ягоды ты собирал, ягоды? Собирал. А клубничкэ ты любишь, клубничкэ? Сейчас дадим тебе клубничкэ, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас-а-ас, сейча-а-ас…
Он встал, отпустил уставшие свои губы и слегка враскачку затрусил в другую комнату (оказалось, есть еще одна комната), напевая все тем же гнусавым голосом: «Сейчас, сейчас, клубничкэ, клубничкэ…» Моя мама прижала меня к себе, поцеловала и погладила по головке.
Он вернулся с тарелкой клубники и банкой сметаны. Он цепко держал короткими своими пальцами эти немыслимые сокровища и мурлыкал все те же два слова, две ноты, а я смотрел и смотрел и не мог поверить, что эти ягоды — настоящие, что они могут когда-нибудь отделиться от тарелки, где так уютно и удобно лежат, и попасть в рот — не мне, а вообще кому-нибудь… У меня даже слюна не текла. Не то чтобы я не часто ел клубнику — я попросту не ел ее никогда.
Однако скатерть была отвернута, на открывшуюся желтую клеенку поставлено блюдечко. Несколько ягод, с десяток, наверное, были по одной переложены из тарелки. Он производил это действие ложечкой, помогая себе другой рукой, и после каждой ягоды облизывал палец, далеко высовывая язык. «Клубничкэ, клубничкэ…» Он ворковал и радостно пританцовывал, и, когда перемешивал ягоды со сметаной, кривил губы от напряженного усердия. «О! Немножечко сахарок, немножечко. О так! Кушай, кушай…»
Я успел еще мельком взглянуть на маму — лицо ее было напряжено. Бедная, она ведь тоже не ела клубники, разве что до войны, сто лет назад. Какое-то чувство, похожее на совесть, шевельнулось во мне и тотчас затихло. Я ничего не мог для нее сделать, я уже не владел собой.
Я ел клубнику, вставляя ложку между двумя соседними ягодами, аккуратно, стараясь не повредить, не помять, поддевал, медленно нес ко рту и долго перекатывал, смаковал и обсасывал, ощущая волнующую границу между кисловато-холодной сметаной и ароматным, плотным, сопротивляющимся мясом. Это было какое-то немыслимое наслаждение, мало общего имевшее с едой. Я был один на один со своим сказочным блюдцем — мама отсела к нему. У них шел длинный скучный разговор о каких-то шкафах и буфетах, но когда у меня остались две ягоды, самые крупные, прибереженные напоследок, и я мог более или менее справедливо распределить свое восприятие между вкусом и слухом, я вдруг в единый миг с необычайной остротой осознал все, что говорилось сейчас и раньше. И тогда я понял, что жизнь моя прежняя — кончилась.
— Он? Он? — переспросил дядя Яша, косо мотнув головой в мою сторону, как бы боднув воображаемое препятствие. — Он будет на диване. А что? Плохо? Плохо на диване? Хорошо!
2
Переехали мы к нему не сразу, месяца два он ходил к нам домой, каждый раз принося пакетик карамели и свои хлебные карточки. Из карточек мама вырезала талоны и с талонами посылала меня в магазин, где все продавщицы меня знали и не могли заподозрить в обмане. Я нес черную тяжелую буханку и никогда не съедал по дороге довесок: знал, что мне наверняка разрешат его съесть, но все же предпочитал дождаться разрешения.
Они садились за большой обеденный стол, накрытый белой парадной скатертью — он, мама и все наше остальное семейство, — пили тепловатый чай с карамельками и вели чинные разговоры, наполовину по-еврейски, наполовину — по-русски, причем его медлительные корявые фразы с полувопросительными интонациями, с многозначительным движением одной из бровей и поминутным обдуванием одной из губ — воспринимались всеми с особенным вниманием и с плебейским заискивающим уважением.
— Вы знаете, — обращался он к моему дяде, — почему они делают девальвация? Почему девальвация, почему?
— Да! — отрывисто реагировал дядя. — Ну?! — и почти ложился на стол, выражая абсолютный, безраздельный интерес.
— А я вам скажу. — Он откусывал карамельку, облизывал большой и указательный пальцы и ставил чашку на блюдце. — Я вам скажу. Я вам скажу, зачем. Потому что деньги перестали что-нибудь стоить! Ничего не стоят эти деньги! — выкрикивал он с пафосом. — Вы понимаете? Гурнышт![1] — и крепко хлопал по столу ладонью и с торжеством откидывался на спинку стула.
— Гурнышт! — радостно повторяла мама, как бы вынося это замечательно важное слово на авансцену, на всеобщее умиленное рассмотрение.
— Гурнышт! — вслед за ней повторял дядя, расслаблялся и согласно кивал головой.
Если речь случайно заходила обо мне (в порядке вежливого перебора всех общих тем), то на лице его появлялась кривая улыбка, должная, по-видимому, изображать терпеливую снисходительность к столь мелкому предмету. Эту натянутую его улыбку и случавшиеся при ней слова мама также подчеркивала, окружала заботой, обставляла цветочками и виньетками…
Долго еще после его ухода все оставались на своих местах, обсуждая и делясь впечатлениями. Вообще-то говоря, у нас в доме было не принято вслух обсуждать по-настоящему важные вопросы. Наша жизнь была покрыта гладкой оболочкой само-собой-разумеющести. Так было всегда, и потрясения войны только укрепили эту оболочку, выдвинув для нее такое оправдание, как измотанные за все эти годы нервы и необходимость бережно относиться друг к другу. Вот и теперь обо всем этом говорилось как о деле давно решенном, под вопросом оказались только детали, всякие незначительные подробности. Из этих бережных, непрямых разговоров я узнал, что у Якова много денег, и впервые, наверное, в своей жизни услышал слово скупой. Раньше ему неоткуда было взяться в нашем доме, теперь же оно произносилось довольно часто, каждый раз с новыми оговорками. Скупой, но честный, скупой, но не злой, скупой, но деловой, скупой, но порядочный…
— …И к мальчику хорошо относится, — сказал дядя, любивший меня, как сына, и все поспешно с ним согласились.
Перед самым переездом со мной случилась истерика. Я сидел в комнате вместе со всеми, слушал мирные вечерние разговоры, и после очередного «скупой, но…» вдруг опять, во второй уже раз, но с еще большей ясностью, чем в то злосчастное клубничное воскресенье, почувствовал, как жизнь моя обрывается в пустоту. Стены комнаты закачались у меня перед глазами, меня стало подташнивать и знобить. Мама же в этот как раз момент начала рассказывать со смущенной улыбкой, как они с ним были на «Риголетто», и как он заснул и стал громко храпеть, и ей пришлось его разбудить, и они ушли со второго акта, хотя она так давно нигде не была, так мечтала послушать Алексея Иванова…
Дядя с тетей просто от нее отмахнулись: что ты хочешь, человек устал, есть о чем говорить. Но тут уж я, весь перекошенный, со сведенными судорогой плечами, бросился к ней в ноги и стал выть в голос, сразу забыв все на свете слова, не умея произнести ни одного…
Когда потом я лежал на кровати, отмоченный полотенцем и отпоенный чаем, и моя мама сидела рядом со мной, целовала меня и гладила, и когда я снова вспомнил человечий язык, — я лежал тогда и повторял почти непрерывно, оставляя лишь небольшие паузы для отдыха:
— Ну не надо, ну не надо, ну мама, ну не надо!..
— Да-да, — говорила она, — успокойся. — И целовала меня, и гладила. — Да-да, успокойся, все будет хорошо…
3
И, однако же, странно, я очень скоро привык к безалаберному огромному дому, где в разных комнатах, в многочисленных семьях жизнь текла по различному распорядку, и потому в среднем дом всегда жил, всегда дышал, ежечасно шевелился и всячески себя проявлял. И, значит, никогда здесь не было скучно, а всегда находилось что послушать и на что посмотреть. Я привык даже к вони бесконечного коридора и не чувствовал ее, если она не превышала нормального уровня. Мне нравилась огромная квадратная кухня с закопченным, запаутиненным потолком, тесная, несмотря на свои размеры, от снующих непрерывно бабьих тел в засаленных халатах и сарафанах, звенящая надрывными их голосами, гудящая и стреляющая примусами и керогазами. Здесь жили, что называется, «простые люди», типичные московские рабочие. Все они были выходцами из деревень, половина — родственники. Все, за исключением самых молодых, были полны воспоминаньями крестьянского прошлого, разными лесными и полевыми историями, которые могли рассказывать до бесконечности, размеренно окая и смягчая окончания. Поздно вечером примуса отставлялись в сторону, столы вымывались и вытирались насухо. Наступал праздник.
Вот он… Все женщины возбуждены, говорят напряженно-веселыми голосами, перекидываются испытанными остротами.
— Кто кричать будет? Ты, Маруся? Давай, у тя голос громкий. Вон, на мужика свово как гаркнула, так терь и ходит глухой…
Мордатая хриплоголосая Маруся пускает по столам карточки с цифрами, развязывает тесемку коричневого мешочка, ворошит его содержимое крупной, сильной рукой. Кто-то бежит за очками, кто-то за семечками, кто-то за деньгами. «Не начинай, я сейчас, сейчас…»
Я сижу на табуретке за нашим столиком, рядом с мамой, мне тоже выдали карточку, и вот уже хриплые Марусины числа падают на нее и отскакивают, не задерживаясь. Хорошо бы выиграть, но и так неплохо. Я слушаю с удовольствием, как в промежутки между выкриками успевают проскочить давно и на всякий случай заготовленные частушки, пословицы, присказки, какие-то завитушки и загогулины, не имеющие, может быть, ясного смысла, но несущие в себе странное песенное обаяние. Пройдет еще достаточно много времени, прежде чем появится телевизор, появится, чтобы всосать в свою серую пасть весь вечерний остаток внимания, чтобы вконец раскрепостить усталого человека, избавив его от бремени диалога, от необходимости ответа, от неизбежности авторства. Тогда-то и придет конец фольклору. Однако до этого еще далеко.
Я готов сидеть так до бесконечности, но наступает время идти спать. Бодрые счастливцы сгребают в ладонь медные кучки, проигравшие вымученно улыбаются.
— Сам-то твой небось чаю не дождется! — говорит маме тетя Надя, старая дева с выбритым подбородком.
— Сам-то? Да, небось… — отвечает мама.
Мы разжигаем примус, кипятим чай и идем домой.
Сам — ждет не дождется. Он сидит на своем любимом месте, за столом, на диване. Умеренное его брюшко выгибает внутрь тяжелую скатерть, округлые ступни в носках и шлепанцах скрещены, колени в засаленных штанинах широко раздвинуты, руки лежат на столе, голова — на руках. Он спит похрапывая. Мама трогает его за плечо, начинается игра, ежевечернее представление.
— Что такое, что? — бормочет он, открыв один глаз и обдувая губу. — Я вздремнул немножко? Гехопт а дримл?[2] А-а? Нет, нет, я не спал. Я немножко задумался, я не спал…
— Ты слышишь? Это называется он не спал. Дядя Яша говорит, что он не спал! — это мама призывает меня к контакту, к участию в мирном, уютном, семейном веселье. — Нет-нет, ты не спал, кто говорит! Ты не спал, ты только дремал!
Невообразимое веселье звучит в ее голосе. Ей смешно, ей ужасно смешно. Но все же недостаточно смешно, чтоб смеяться…
И вот мы садимся пить чай.
— Ну как, — спрашивает он, причмокивая, — сегодня ты разбогатела, сегодня?
Это не упрек, это шутка.
— Да-а, а как же! — отвечает она. — На газированную водичку набралось.
— Ну! Ну! — он криво улыбается. — Так тебе не надо заработок, не надо. Я уже могу не давать тебе деньги.
Это не упрек, это шутка.
— Да, конечно, зачем мне деньги! — подхватывает мама опереточным голосом, и ей опять не хватает веселья, чтоб засмеяться.
Я пью вприкуску, я тороплюсь, я захлебываюсь.
— Не знаю, не знаю, — произносит он вдруг, как бы отвечая собственным мыслям. — Как так можно? Ты говоришь, культурэ, ты говоришь, воспитания. Не знаю…
Он обращается вроде бы к маме, но взгляд его направлен мимо нее, маленькие красные его глазки скошены вниз и вбок, он обдувает губу и водит рукой по столу, как бы перекатывая невидимые крошки.
— Что? О чем ты говоришь? — вскидывается мама.
— Не знаю, где тут культурэ, где воспитания? Он думает, что так принято в обществе. Он думает! Он знает больше всех!
— Скажи же, в чем дело, — волнуется мама. (Опять эти острые углы. Ну зачем? Ну зачем?)
— Не знаю… Все пьют чай, как люди, никто не хрумкает, никто, он один должен хрумкать!
Я весь подбираюсь. Деревенеет рот, начинают подрагивать руки.
— Перестань, — мягко говорит ему мама. — Он не нарочно.
— Ты говоришь! Что ты говоришь, что? Вчера не нарочно, сегодня не нарочно… Нет, он думает, что я идиёт. Он думает, что он умнее всех!
— Ну ладно, — просит мама, — перестань. Лучше не будем говорить об этом.
— А что? — продолжает он, не слушая. — Что ему, плохо? Поцелуй, поцелуй его, погладь по головкэ, дай ему пятерочкэ на кино, пусть он будет получать удовольствие, а я пусть буду подставлять голову, чтобы он получал удовольствие. Спасибо? Спасибо от него не услышишь, спасибо. Он может только тратить деньги и делать назло!
Мама в отчаянии: все пропало. Сегодня уже, по крайней мере, загладить ничего не удастся.
Я молча выхожу из комнаты и долго стою в уборной, упираясь спиной в закрытую дверь. Мне хочется плакать, мне хочется блевать, мне хочется бежать, мне хочется убить…
Когда я возвращаюсь, он сидит уже иначе, отвернувшись от стола на пол-оборота, и тут же, за столом, раздевается. Он медленно и вдумчиво снимает брюки, стягивая их за концы брючин, аккуратно и ровно складывает друг с другом протертые бахромчатые манжеты, неторопливо и любовно вешает на спинку стула. Трикотажные кальсоны вялыми лиловыми складками лежат под его животом. Затем он поднимает правую ногу, кладет ее на колено левой и начинает снимать носок. Он тянет его двумя руками, одной за мысок, другой за пятку, держа всеми пальцами, без малейшей тени брезгливости. Сняв носок, он поднимает его прямо перед собой, встряхивает и вешает на перекладину стула. Затем, не снимая ноги, начинает вычищать между пальцами…
Я пристально слежу за его движениями, я дорожу каждым штрихом его облика, каждой мелочью, каждой подробностью, питающей мою ненависть.
Ступни у него короткие, закругленные, тридцать восьмой размер при высоком подъеме — он очень гордится, что всегда покупает дешевую детскую обувь. Он подносит добытое к глазам, близоруко рассматривает, растирает в пальцах, ссыпает на пол…
В баню он ходит не чаще раза в два месяца, но каждую неделю на грязное тело надевает свежевыстиранное белье.
Вот он встает, направляясь в «спальню», мешок растянутого трикотажа мошной повисает у него между ног, он идет, тяжело волоча шлепанцы и переваливаясь с ноги на ногу, и мурлычет под нос какую-то тихую, странную, безмелодийную тягомотину. В дверях он останавливается и начинает чесаться. Он чешется спиной о дверной косяк, слегка приседая и вращая всем телом, и при этом еще продолжает мурлыкать, но уже с каким-то сладострастным стенаньем, и обдувает губу, и глядит сосредоточенно куда-то прямо перед собой…
Наконец дверь за ним закрывается, я слышу продолжительный скрип кровати и, кажется, явственно слышу в нем все омерзение, с которым многострадальная старая сетка принимает в свое лоно его кособокое тело.
— Спокойной ночи, — говорит мне мама, целует меня и уходит туда же.
— Спокойной ночи. Но не спите с дядей!..
Нет, это так сегодня хотелось бы. Тогда я «Гамлета» еще не читал.
4
По утрам возле самой нашей двери выстраивается длинная очередь. То есть строя, конечно, никакого нет, очередь образуется, составляется из разбросанных там и сям вдоль стен жильцов с мыльницами и полотенцами: две уборные и два умывальника на семнадцать семей. Шуточки-прибауточки, новости, разные разности. Здесь уже никто никого не стесняется, здесь всем всё и про всех известно. Про всех, кроме нас…
Вот, переминаясь с ноги на ногу, ждет своей очереди Валька Пирогова, взъерошенная, заспанная, помятая, с коротким шрамом на костлявой руке: какой-то ухажер полоснул из ревности, так она, по крайней мере, всем говорит. Напротив нее, по диагонали, рядом со своей красивой высокой женой, стоит, опираясь локтем о стену, Вовка Лукьянов. Это музыкант, плясун и пьяница. Верхняя его челюсть выдается вперед, вся вылезает из-под губы и сверкает вставными зубами разного цвета. Все свои ему выбили в драках.
— Ну как? — спрашивает он Вальку. — Ничего, а? — И громко хохочет, широко открывая свою металлическую мозаику.
— Да ну!.. — машет рукой Валька.
— Что ж так? — кричит Вовка и снова хохочет. — Не пошло, а? Не в дугу, а?
— Перестань, успокойся, дурак сумасшедший, — лениво реагирует его жена.
— Да ну, — серьезно отвечает Валька. — Что ты, мать мою, что ли, не знаешь?
— А чё мать-то? — Вовка опять хохочет, и как его только хватает!
— Ну как чего? Как раз и чего. Пришел он вчера, ну прямо с работы. Да ты видел. К Машке, говорит, больше ходить не буду, буду, говорит, жить с тобой. И все. Ну, бутылка у меня припасена была, посидели чин чинарем, стали спать ложиться…
Теперь уже слушают все присутствующие, стягиваются понемногу поближе. Вальку это радует, она воодушевляется.
— Ну вот, стали, значит, спать ложиться. Только я свет погасила… Господи! Мать… вроде бы и спала давно, а тут как начнет очереди выдавать! Ну, и вся любовь…
Вовка грохочет, блестит зубами, бьет чечетку и хлопает себя по ляжкам. Те, кто умылся, уходят с сожалением, оборачиваясь и пятясь.
Однажды вечером этот самый Вовка принес большой грязный мешок с какими-то выпирающими обломками и, не заходя домой, прошел прямо на кухню. Я как раз слонялся без дела в коридоре и сразу почувствовал интересное.
— Вот, Сашок, — сказал он, обнимая меня за плечи. — Знаешь, что в этом мешке? Гитара! Понял? Лучшая из всех гитар!
И он стал осторожно вынимать из мешка различной формы куски дерева, в которых с трудом и не каждый раз можно было узнать музыкальные части.
— Знаешь, сколько я отдал за эти щепки? Ну да ладно, х… с ним, не в этом дело. Я ее соберу и склею, понял? Эта гитара всех наших стоит, вместе взятых, понял? Вместе взятых. Сделал ее австрийский мастер еврей Циммерман, а сломал ее… один наш русский мудак. Ну х… с ним, не в этом дело. Циммерман. Так она и называется — циммермановская. Лучшая в мире, ей цены нет, понял? И я ее склею.
Гитару он клеил месяца два, я уж и следить устал за его работой, подчас не замечая никакой разницы между сегодняшним и вчерашним днем. Он мог часами легонько водить надфилем, что-то еле заметное подчищая и подпиливая, и порой казалось, он и сам отчаялся и теперь только так, создает видимость.
Но в одно из воскресений он вдруг вышел в коридор с совершенно готовой гитарой — как-то сразу всем стало известно, что она готова.
Быстро стали собираться слушатели, ждали, молчали. Он стоял у двери своей комнаты, в голубой майке и флотских широких брюках, в кожаных тапочках на босу ногу, и огромные руки его с татуировкой ползли и стелились вдоль этой блестящей, лаковой, серебром разлинованной штуки. Здесь, в задымленном, полутемном коридоре, с сопливыми потеками вдоль когда-то крашенных стен, были все условия, чтоб подчеркнуть по контрасту ее небывалую красоту.
Он взял несколько аккордов — звук был действительно что надо. Потом помотал головой, сказал:
— Не, не могу… — громыхнул металлическим хохотом и ушел домой.
А потом он долго играл в своей комнате, а я сидел и слушал через стенку — наши комнаты были соседними. Никогда я не слышал такой гитары и никогда, в этом я и сейчас уверен, никогда больше не услышу такой игры.
Странная вещь: у него отсутствовал певческий слух. Он это знал и слова романсов и песен не пел, а, как стихи, проговаривал. Но играл при этом удивительно музыкально и тонко.
В тот вечер он ушел и пропал надолго. О нем рассказывали всякие забавные истории, говорили, что кто-то из блатных его дружков хотел отнять у него гитару и он того дружка изувечил и сам получил рану в живот. Он сидел в тюрьме — это было точно известно. Года через три он, впрочем, вернулся — худой, страшный, обритый. Выходил редко, глядел зло и непрямо и больше не хохотал. Он напился до беспамятства, избил жену и однажды утром ушел — уже навсегда. Опять выплыла история с гитарой, нечто совсем уже сентиментальное, впрочем, вполне похожее на Вовку. Рассказывали, будто бы шел он по улице, увидел в окне полуподвала гитару, вошел, не думая, и снял со стены. Так и попался.
5
В декабре появилась у меня мечта: новогодняя елка. Зачем она мне была нужна? Зачем нужна елка — не праздник елки, а сама елка — зеленое дерево со всякими дурацкими украшениями — тому человеку, каким я был: не такому маленькому, чтобы верить в чудеса, не такому взрослому, чтобы верить в символы? Я могу задаваться этим вопросом сколько угодно, до бесконечности, отсюда мне все равно ничего не понять.
Вот я стираю с лица морщины, разглаживаю скептическую складку у рта, смываю со лба печать тупого всезнайства. Я снимаю с души тяжкий камень стыда и вины и кладу его осторожно на стол, вот сюда, рядом с машинкой. Ничего, пусть полежит, я ненадолго. Я прохаживаюсь, прохаживаюсь взад-вперед легкой походкой беззаботного человека — нет, озабоченного, но своей заботой, заботой о себе, любимом. Я немного привыкаю к этой напряженно-легкой, беззаботно-озабоченной походке, затем вынимаю из кармана тяжелый, двухбородчатый ключ от сейфа, вставляю, поворачиваю и вхожу. Нет, не в сейф, я вхожу в комнату. Это у нас такой замок, чтоб труднее было подделать. Ну что, что там? Ничего особенного. Сырость, запах прокисшего пота. Круглый стол, желтая скатерть, бахрома и складки. Огромный душный колючий ковер, круто спускающийся со стены, покрывающий весь, до полу, диван, повторяющий лениво и приблизительно извивы спинки и валиков. Прямые стулья с клеенчатой обивкой, пятнистые, облезлые, холодные. Высокий буфет никакого дерева со сломанными латунными ручками. Шаткая точеная этажерка с немногими книгами. На верхней полке этажерки — приемник, темный, овальный, глазастый, узколобый. Двустворчатая, масляной белой краской крашенная дверь во вторую комнату. Ну а там, там-то что? Все то же. Обшарпанный, кустарной работы кухонный шкафчик с фарфоровым роликом вместо ручки. Миски, кастрюли, банки, чашки. Напротив — нечто вроде туалетного столика, с трельяжем, духами и пудрами. Дальше вдоль стены — платяной шкаф, где на самой верхней полке, под бельем, хранятся продолговатые книжки на предъявителя. Напротив — кровать, огромная, железная, с панцирной сеткой, колесами и шишками. Под кроватью, среди прочего барахла, лежат два чемодана со старыми облигациями и стоит зеленый горшок с крышкой. Уборная у нас — буквально под самым носом, но мой осторожный, многоопытный отчим не любит ночью отпирать дверь. Иногда, просыпаясь, уже под утро, я слышу поначалу пронзительный и резкий, а затем все понижающийся звон струи, бьющей об эмалированное дно. Постепенно он переходит в бульканье и бурление, затем, несколько раз прервавшись, окончательно умолкает. Все это сопровождается громким сопеньем, оханьем, постанываньем, кряхтеньем, каким-то обрывочным бормотом и умиленным сюсюканьем.
Долго потом я не могу заснуть, я лежу, оцепенев, на своем душном диване, и мне в щеку впивается жесткая щетина ковра. Утром я вижу, как моя мама выносит этот проклятый горшок, несет его за скользкое неудобное ухо, придерживая другой рукой за краешек. Я не могу смотреть, я отворачиваюсь к стене, но, отвернувшись, вижу еще отчетливей и стискиваю зубы, с трудом удерживая подступающую к горлу тошноту и ненависть…
Комнаты наши узки и тесны, все предметы соседствуют в них чужим, каким-то вынужденным соседством: коммунальная квартира в коммунальной квартире. Зачем же здесь елка?
Да вот, очевидно, затем и нужна, неужели не ясно, зачем?
— Мам, давай поставим елку!
— Елку? Что это ты придумал? Куда? В этой тесноте…
— Ну, найдем: уберем, отодвинем, переставим, как раз угол освободится.
— Не знаю… Я не могу сама. Надо посоветоваться с дядей Яшей.
— Посоветуйся…
— Знаешь… Попроси его сам! Да-да, и ничего тут такого. Он что, чужой тебе человек? Надо быть поласковей, повнимательней. Ты же никогда к нему не обращаешься. Он придет с работы, подойди и скажи: «Дядя Яша, можно мне поставить елочку?»
— Дядя Яша! — говорю я мокрым, пупырчатым голосом.
Он останавливается. Я поймал его в самый неудобный момент. Я стоял посередине комнаты, он двигался вдоль, и пока он шел прямо на меня и был обращен ко мне лицом, я все никак не мог решиться, а потом, когда он уже прошел мимо, вдруг окликнул, неожиданно для самого себя и оттого тихо и невнятно. Но он услышал. Он остановился почти мгновенно, тяжело споткнувшись ногой в шлепанце, настороженно повернул одну только голову, из-за плеча, исподлобья, вбок и вниз уставил свои свиные глазки. Никогда прежде я с ним не заговаривал.
— Что? Что такое? — пробормотал он глухо и так же невнятно, как я окликнул: «Шэ? Шэтэкэ?»
— Дядя Яша, — продолжил я в том же регистре, выделяя из себя эти чуждые слова, как мочу, как слизь — ни секунды не сопровождая их в их движении к его маленьким круглым ушам, заросшим седыми волосами. — Можно мне поставить елочку?..
Через много лет, в часы томительного бденья, припоминая постыднейшие куски своей жизни, я с особым сладострастием буду произносить эту «елочку», этот жалкий дохлый уменьшительный суффикс, уже тогда мне совершенно не свойственный.
— Елочкэ? — вдруг обрадовался он. — Где же мы поставим елочкэ, где?
И мы стали с ним ходить по двум нашим комнатам, мы дружно озирались по сторонам, как бы впервые увидев все это убогое барахло, мы измеряли растопыренными пальцами и прикидывали в уме, мы соревновались во взаимной предупредительности, и мы почти любили друг друга…
Это можно было бы объяснить красиво. Значит, так. Пожилой уже человек, не то чтобы добрый, но и не слишком злой, женится на молодой сравнительно женщине с маленьким сыном. Человек этот давно не общался с детьми, очерствел в своей одинокой жизни и, несмотря на любовь к жене, так и не смог найти контакта с ребенком. В свою очередь, мальчик, впечатлительный, нервный, воспринимает эту отчужденность как враждебность и отвечает на нее враждебностью. Разумеется, кроме всего прочего, он ревнует мать к чужому человеку (вот!), а тот, со своей стороны, ревнует ее же к сыну. И, конечно, справедливость должна восторжествовать, но как ей это сделать в такой ситуации? И вот приближается Новый год. Наш мальчик (нервный, впечатлительный…) слышит разговоры товарищей, видит предпраздничную суету соседей, и тоска одиночества, желание ласки и тепла выливаются для него в мечту о елке. Со всей силой детского воображения он представляет себе это зеленое душистое чудо, ему кажется, что с появлением елки изменится все течение его жизни, что она перестанет быть лишь сменой будней, а превратится в непрерывный праздник. И вот, он преодолевает… он идет на унижение… и неожиданно встречает… как будто тает ледяная преграда… Ну и так далее.
Так вот, по существу данного дела. В тот момент, когда я с ним заговорил, никакая елка мне уже не была нужна. Во всяком случае, ни о какой жажде или тем более мечте не могло быть и речи. Это был так, легкий бзик, кратковременный импульс, и не им я руководствовался, когда обращался к Якову. Просто я больше так не мог. Я не мог выдержать такую долгую ненависть, у меня на это не хватало ни сил, ни характера. Ненависть и злость, злость и ненависть — я сам лелеял в себе эти чувства, и они душили меня самого, не находя себе иного выхода. Нет, я не годился для этой работы. И дело тут не в возрасте. Но и не в доброте. Все дело в страхе. Я испытывал постоянный страх перед ненавистью, своей и чужой, а больше перед чужой, органическую боязнь вражды, которая была еще, в свою очередь, крайним случаем боязни недоброжелательства, свойственной мне всегда, изначально, как какая-нибудь хромосомная болезнь.
6
Разбираясь в своих чувствах и ощущениях, я нередко поражаюсь бесконечному многообразию проявлений этой странной болезни, в самых неожиданных ситуациях выплывающей как главная причина и главный двигатель.
Вот я, уже взрослый, стареющий человек, сижу в такси рядом с шофером. Я веду с ним вялый разговор о том о сем, о вещах мне чуждых и безразличных, о хоккее-футболе, о скользкой дороге и о новых ценах на автомобили, косенько, невзначай поглядываю на счетчик и чувствую, что принужденность этого разговора — не та обычная, ежедневная принужденность общения с чужими людьми, нет, это еще и скрытая вражда, причина которой лежит в неминуемой противоположности интересов. С одной стороны, я по роли своей не могу не думать о счетчике. Я просто обязан о нем думать и прикидывать, сколько еще набьет и сколько надо дать, чтоб и не обидеть, и чтоб не вышло чересчур много. И совсем не потому, что мне жалко денег (хотя и это тоже), но ведь нельзя же выглядеть простаком, хотя бы в глазах того же шофера. С другой стороны, он, по своей уже роли, тоже не может не думать о том, сколько набьет и сколько я дам, и уже заранее на меня примеряет два отношения: снисходительно-доброжелательное, если дам много, злобно-остервенелое, если дам мало. Я, допустим, готов дать много, но он-то ведь этого еще не знает, это выяснится только в последний момент, а пока что я должен безропотно выдержать положенное мне число злобных примерок. И даже если мы заранее договорились о плате, все равно остается эта скрытая напряженность, потому что я, к примеру, думаю, что он, возможно, думает, что решил взять с меня слишком мало, и теперь жалеет и ненавидит, а сам я тоже, в свою очередь, возможно, мог договориться на меньше, и, конечно, черт с ними, с деньгами, не в деньгах дело, но все-таки обидно, когда тебя обводят, как маленького… И даже не это, а то, что о тебе думают как о маленьком, которого обводят. Ну и так далее. И в конце концов меня так изматывает эта непрерывная пятнадцатиминутная вражда, что я долго еще потом прихожу в себя и долго не могу себе простить, что не вышел, допустим, на час раньше и не поехал в метро, как все нормальные люди: по крайней мере, мог бы почитать книжку или подумать о разных разностях, не имеющих отношения к процессу езды…
В парикмахерской — то же самое. В магазине — нечто близкое. В ресторане — что и говорить.
Но если теперь, когда я такой взрослый и такой понимающий, я могу удержать себя в руках в подобной ситуации, коль скоро не удалось ее совсем избежать, если теперь я сознательным усилием воли все-таки подавляю врожденный свой страх, заискивающим лепетом лезущий наружу, — то в детстве…
Соревнования. Бесконечной цепью соревнований представляются мне мои школьные годы. Уроки физкультуры, просто уроки, девочки, общественная работа, не говоря уже о кратких моих набегах на спортивные секции. Я просто в принципе не мог соревноваться. Я заранее был обречен на поражение, потому что не мог выдержать испытания противоположностью интересов, открытого желания хорошего себе и плохого — товарищу. Здесь это не было преступлением, это даже не было аморально, наоборот, таковы были необходимые условия.
Стометровка. Что может быть безобидней? Мы выходим на старт, пятеро из класса, мы все хорошо друг к другу относимся, никаких нет между нами счетов, никакой тяжести на душе. Но вот команда «марш!» — мы срываемся с места, и неминуемо наступает момент, когда я испытываю настоящую ненависть к остальным, особенно к тем, кто ушел вперед. Вот бежит впереди Юрка Смирнов, вообще-то говоря, прекрасный парень, но как отвратительно он бежит! Какие уродливые черные тапочки с белыми шнурками (почему белыми?!), какие противные волосатые ноги, какая мерзкая манера держать на весу расслабленные пальцы рук!..
И страшное это чувство не исчезает бесследно, где-то оно навсегда отпечатывается, что-то такое в душе изменяет, и если и не приводит к результату сразу, то понемногу все же неминуемо подтачивает крохотный какой-то устойчик существования, какой-то мелкий суставчик — вывихивает.
Логика последнего, скажете вы. Типичный образ мысли отстающего и слабого. Что уж тут размусоливать! Проигрывал, проигрывал, всегда проигрывал, вот и выработался комплекс неполноценности. Ясно как день.
Да, насчет комплекса — это как день. Но в остальном, в подробностях, которые одни только и составляют суть дела, если не отмахиваться готовой формулой, а попробовать разобраться в реальных обстоятельствах, — тут как раз все оказывается не так уж и ясно.
Вот, к примеру, секция вольной борьбы, где я промучался целых полгода из одного только самолюбия: сбежать мне хотелось на второй день занятий и далее ежедневно. Побед у меня не было, одни поражения, все уже к этому привыкли, привык, пожалуй, и я. Но однажды я положил на лопатки своего одноклассника, Славку Дубовского, который был гораздо сильней и ловчей меня. Каким-то чудом, совершенно случайно, мне удалось провести правильный «ключ», и я навалился ему на грудь всем своим тощим костлявым телом, которое показалось мне в этот момент замечательно тяжелым и мощным. Я долго доворачивал его левую лопатку, и когда она все-таки коснулась ковра — я почувствовал, что по-настоящему счастлив. Мне показалось, что сил у меня — бесконечно много, что я мог бы сейчас же, вот здесь, немедленно, положить на лопатки кого угодно, что борьба — это и есть мое любимое дело, ничем другим я не хотел заниматься в жизни… пока не взглянул в лицо Дубовскому. Я взглянул — и тотчас же отвернулся, так это было страшно. «Ваше представление о счастье?» — спросили как-то Маркса…
Именно после этой победы я и перестал ходить в секцию.
Нет, речь здесь идет не только о спорте. Соревнование — вот о чем речь. Дружеское, допустим, соревнование. Допустим, просто, кто лучше и кто кого. Насчет «кто» — это понятно, но как же быть с тем, «кого»? Что делать нам с этой жесткой лесенкой: лучший, похуже, совсем плохой? С этой демократической иерархией, установленной пусть на время, но бесспорно и однозначно? Не бесчеловечна ли тут всякая определенность? Не всегда, ли бесчеловечна определенность? «Негр, занявший десятое место…» Как в каком-то дурацком анекдоте: «Вам мало, что вы негр?»…
Чего ты, собственно, хочешь? — спросите вы меня. — Бесконфликтности? Но ведь это равносильно смерти. Жизнь есть борьба противоположностей, в этом весь ее вкус и смысл. Что ты можешь возразить против этой азбуки? Подумай сам, что бы ты сказал, если бы…
Все правильно. Кончим об этом. Ничего я не хочу, ничего мне не надо. И будь она проклята, ваша диалектика!
7
Куда это нас занесло? Что там, собственно, происходит? Да! Вот — елка! Елочкэ. «Куда же мы поставим елочкэ, куда?» Мне кажется, он тогда тоже устал от вражды. Чувствовать на себе неотступный ненавидящий взгляд — это мало кого оставит равнодушным. И все же никаких перемен не произошло. Мы походили с ним по комнате, потолкались, померяли, я действительно назавтра купил елку и поставил ее на место трельяжа, но на этом вся идиллия и кончилась. Его мирные условия были для меня неприемлемы, несмотря на всю мою приспособленческую сущность. Очередной взрыв произошел очень быстро, сразу же после Нового года.
Ко мне зашел мой друг Ромка, и мама пригласила его обедать. Постелили клеенку поверх скатерти, поставили три тарелки с борщом — и открылась дверь, и вошел Яков. Что-то ему вдруг понадобилось дома, какие-то рабочие документы. Ядовито и кроваво стрельнул он в нашу сторону, прошел мимо к дальнему шкафу, не снимая пальто, порылся там, бормоча и сопя, и ушел, не ответив на мамин вопрос.
Возникла мрачная тяжелая пауза, которую мама стала, спохватившись, заполнять извиняющимися, примиряющими, всякими шероховатыми гладкими словами. Но уже ничего нельзя было сделать, уже было поздно: мы нарушили. Ромке нельзя было обедать у нас. Каждый должен был есть только там, где он или за него платили, иными словами — у себя дома.
В тот день он вернулся поздно, ужинал молча. Потом, как всегда, спал за столом, и мы разговаривали тише обычного, да и не разговаривали, по сути, а лишь обменивались тревожными сигналами. И только в конце, перед ночным уже сном, вычистив ноги и повесив носки, он вдруг остановился на пути в спальню и застыл, своротив голову набок.
— Он думает, что я ему нанялся! — произнес он громко и внятно, и первые же звуки его гнусавого голоса прошили меня насквозь. Я почувствовал какой-то голубовато-белый вибрирующий холод. Белым ужасом, пустым пространством, лишенным цветов и теней, наполнилось вдруг мое тело, и в глазах у меня не потемнело, а страшно так посветлело, побелело, как от яркой вспышки света. — Он думает, что я ему нанялся! Я должен таскаться на работэ, я должен делать дела, подставлять головэ, сидеть в тюрмэ, а он будет жрать и спать и больше ничего. А что? Пусть приходит Ромкэ, пусть Вовкэ и Колькэ, пусть сидят у меня дома и жрут на мои деньги, им мало у себя дома — так пусть они жрут у меня! А что ему, жалко? Или он знает, что такое деньги?
Мама пыталась что-то сказать, как-то смягчить, исправить… Он, не слушая ее, продолжал менторским, размеренным и почти спокойным тоном. Это было уже где-то в области абстракций, за пределами простой вражды и ненависти. Это звучало чуть ли не ласково:
— Потому что он не знает заработать рубль. Если бы он знал заработать рубль — он так бы не делал!..
Голова его была наклонена в мою сторону, глаза при этом смотрели в пол, но так точно был выбран угол падения, что злобный взгляд этот, отскочив рикошетом, попадал не куда-нибудь, а прямо в меня, и я чувствовал его на себе неотступно…
Тут существовала одна лазейка, один вполне реальный выход, возможность, которую я — теперешний — тщетно пытаюсь подсунуть себе тогдашнему. Я имею в виду комичность ситуации, то, как был он тогда смешон, в лиловых кальсонах, с пустой мотней между ног, с большим задом над обезьяньими, чуть согнутыми в коленях ногами, с круглой спиной и ничтожной головкой, где не было ни подбородка, ни лба, где все незначительное пространство лица было распределено между щеками, бровями и носом, где рот существовал лишь в силу непрерывного движения… Не говоря уже о том, как он произносил слова…
Но нет, я тогда не смеялся, это было для меня невозможно. Смеяться — значит проявлять независимость. Я же был всецело от него зависим и никаких перемен, за исключением повзросления, ни с какой стороны не ждал.
Глава третья
1
Были ли у него друзья? Странная вещь — были!
Ну и кто же? Кто бы мог быть его другом? Такой же крот в прорезиненном плаще, с пальцами, как бы созданными специально для счета денег, с влажным ртом, чтобы мусолить эти пальцы, нет, еще — чтобы бормотать еврейские числительные: детские считалки, абсурдные стишки, некие шутовские ориентиры, курам на смех расставленные здесь и там в базарной толчее этого пародийного языка.
Эйн-ын-цвонцик, цвей-ын-цвонцик, драй-ын-цвонцик… Эники-беники ели вареники… Кто же это в незапамятные времена обладал таким изощренным слухом, чтобы в кованом строе немецкой речи различить все черты местечкового балагана?
— Вот вам язык, язык как язык: звуки, слова, предложения. Все как настоящее, как водится у людей. Живите, говорите, считайтесь, ругайтесь. Захотите написать письмо жене — возьмите старые финикийские буковки, они тут как раз подойдут, как корове седло. Пишите, не бойтесь, что бы вы ни наврали, стихов у вас не получится, романа — тем более. А станет вам грустно — спойте песенку, песенку и немой споет, отчего же вам-то не спеть, с таким языком!..
Дядя Яша не пел песенок — зато деньги он считал хорошо. Он явно любил это занятие, здесь он чувствовал себя мастером, профессионалом. Каждую сумму он считал два раза, иногда три, но не меньше двух. Это были в основном его собственные деньги, но я никогда не воспринимал их как деньги, как то самое, на что можно что-то купить. Те десятки и пятерки, что я нес в магазин, — вот это были настоящие деньги, они были живыми, они превращались. В любой момент могли они стать чем угодно, банкой керосина или пакетом сахара, и эта бесконечная неуловимость возможностей, эта благородная неопределенность намерений, допускающая в то же время абсолютную конкретность любого воплощения, — все это придавало настоящим деньгам особую прелесть и даже поэзию. Те же деньги, что длинными вечерами, заперев дверь сейфовым ключом, закрыв окна дощатыми гармошечными ставнями, сосредоточенно и упоенно пересчитывал Яков, — те деньги были ничем. Все эти толстые пачки сотенных ничего не стоили в моих глазах, я смотрел на них с полным равнодушием.
Был у него друг — не такой, конечно, чтобы поверять ему все свои тайны (у кого это, интересно, есть такой?), но друг старинный, чем-то испытанный, в чем-то безоговорочно верный. Нет, он не ходил в прорезиненном плаще и не мусолил пальцы, хотя деньги тоже считать умел. Звали его, как Ганнибала, Абрам Петрович, и это было постоянным предметом его каламбуров. Тут и без пояснений становится ясно, что он, в отличие от моего отчима, был человеком если и не начитанным, то читавшим и даже, что еще интересней — писавшим. Он пописывал шуточные стишки, немного стеснялся их, немного гордился, читать не давал, но иногда сам проборматывал скороговоркой две-три строфы.
Живут в пакете на портрете Мои откормленные дети, Жена прекрасная моя, Перед которой я свинья…Жена у него была действительно очень красивая, полная, гладкая, черноволосая, черноглазая, с низким, чуть сипловатым голосом — типичная еврейская красавица.
«Откормленные дети» — был единственный сын, разбитной и самодовольный парень, знавший в Москве половину мужчин и, вероятно, две трети женщин.
Они жили в самом центре города, в доме актеров Малого театра, уж не знаю, как они туда попали, говорили на чистом русском языке, оставляя еврейский для анекдотов и крамольных суждений.
И была у них еще одна черта, которая делала их присутствие в мрачной берлоге Якова совсем уже странным и неуместным: у них было чувство юмора. Это не был еще тот безоговорочный юмор, который снимает все маски и упраздняет все позы, но легкую шутку они любили и к любой как угодно серьезной теме умели найти иронический ключ. В них присутствовал какой-то врожденный артистизм — быть может, и недаром они жили в том самом доме: порой они здорово смахивали на эстрадную пару.
Что же связывало их с этим человеком? Так сразу трудно сказать. Ну, во-первых, Яков и Абрам Петрович были выходцами из одного городка, много лет назад оказались в Москве и так с тех пор и держались вместе и друг за друга. И хотя давно ни тому, ни другому не нужна была эта поддержка, но они уже были пожилыми людьми, им поздно было менять привычки, они привыкли держаться — и держались. Однако существовало тут и другое, не менее важное обстоятельство. В том кругу, в который они входили, наш Яков, как в это ни трудно поверить, пользовался неизменным, всеобщим и полным уважением. «Держит слово, не болтает лишнего, деловой, честный, не продаст, не обманет» — все эти важнейшие еврейские достоинства приписывались ему безоговорочно.
Мой отчим Яков Самуилович Ройтман был уважаемым человеком в деловом мире, и дружить с ним считалось не только не унизительно, но скорее даже почетно.
Но что же это был за деловой мир?
Но разве вы не знаете? Знаете, конечно…
На всякий случай сообщаю подробности.
Яков Ройтман служил коммерческим директором в одной из артелей промкооперации. Он был, ко всем своим прочим достоинствам, еще и очень осторожным человеком, и, когда его, хоть не надолго, но все же посадили, все не столько расстроились, сколько удивились — так это было на него не похоже…
Но я опять не уверен, что ничего не упустил. Разумеется, осведомленному достаточно. Но достаточно ли осведомлен мой читатель? Да и сам я — достаточно ли осведомлен?
Тут, конечно, надо быть специалистом. Надо видеть все в целом, так сказать, обозревать. Надо иметь в запасе кучу разных цифр и уметь обращаться с терминологией. Народное хозяйство, национальный продукт, доход на душу населения…
Какова она, эта душа населения, и что он такое, национальный продукт?..
Однажды летом мы с мамой ехали в деревню. Соседка пригласила нас отдыхать в свою вотчину, в Смоленскую область. Мы ехали на поезде в общем вагоне и везли с собой кучу продуктов. Пожилой мужик мрачного вида внимательно оглядел все наше барахло и, покряхтев и покашляв, обратился к маме:
— Вот ты баба хорошая, сразу видать, хоть и еврейка. Нет, я ничего, злобы не имею. Но ты мне скажи, почему это так, у русского человека денег нету, а у евреев… а? Ну скажи? И продукту нигде никакого, а у вас — па-а-жалуйста! Вот ты в нашу русскую деревню едешь, мы там все с голоду помираем, отруби жрем, а ты — хоть бы что, ты свой еврейский продукт привезешь и обратно будешь как сыр в масле…
Что-то мама тогда ему отвечала, что-то испуганно объясняла, а он слушал отчужденно, с брезгливой усмешечкой.
И когда потом, уже в зрелые годы, я услышал про совокупный национальный продукт, то сразу же словно увидел тот самый, полутемный и душный вагон и рассованные по углам чемоданы наши и ящики. Все это в совокупности и был наш продукт, национальный продукт, еврейский. Так я с тех пор навсегда и запомнил, а иначе и представить уже не могу.
Итак, все, что я об этом знаю, вместе со всем, что могу домыслить, умещается буквально в нескольких строчках.
Это была такая политика, что-то вроде нового нэпа. Вложишь деньги — получишь деньги. Сделаешь больше, продашь налево — не попадайся и будь здоров. Частную инициативу заключили в трубы и направили в нужную сторону. И сразу же все, необходимое для производства, нашлось в послевоенной голодной стране: станки, помещения, материалы, умные специалисты и честные рабочие, и, конечно, — умелые продавцы. Палатки, палатки — от артели «Борец», от артели «Вперед», от артели «Большевик», ленты, кружева, ботинки, но прежде всего — метизы. Красивое иностранное слово, метиз, метис, Мюр и Мерилиз, означавшее всего лишь «металлические изделия»…
А когда производство было налажено и всем хватило кастрюль и ведер — тогда виновных пересажали, конфисковали у них имущество, а все организованные ими артели объявили государственными заводами. Не все из посаженных были евреи, но уж четверть — наверняка. Но даже если одна десятая — все равно процент фантастический. Национальный продукт, ничего не скажешь!
2
Абрам Петрович и Мария Иосифовна никогда не приходили неожиданно. Каждый их визит был запланирован заранее, причем, как правило, соблюдалась очередность. Если они приходили к нашим, значит, в прошлый раз наши были у них. «Ну а теперь уже мы вас ждем. Когда вы соберетесь?» Больно было мне это слышать: меня ведь туда не брали. Но зато каким для меня праздником становился их каждый приход!
Я прислушивался в этот вечер к каждому стуку за дверью, я всегда еще издали ловил их шаги, я угадывал их безошибочно. То была не развалистая, домашняя походка идущего в уборную жильца, то были именно шаги гостей, — дробный, тяжелый, шаркающий, с прочерком, направленный и неотвратимый звук. Он завершался громким стуком в дверь, я заранее рассчитывал этот момент, я настраивался в резонанс с этим стуком, и когда он действительно раздавался, сердце мое подскакивало, как мячик.
— Можно? — она входила первая, в черной блестящей котиковой шубе, дыша духами и туманами, румянощекая, полная — не толстая, а именно полная, наполненная и живая, красноречивая и подвижная, даже когда не двигалась и не произносила ни слова.
— А-а-а-а, хе-хе-хе! — гнусавил Яков и криво подымался со стула, чтобы снять с нее шубу, и Абрам Петрович, подавляя собственный, десятилетиями выработанный порыв, терпеливо наблюдал, как он неуклюже цепляется за гладкие блестящие отвороты, и затем сам ловким, изящным движением снимал свои кожаные перчатки и драповое с черным каракулем пальто.
Я, что называется, смотрел ему в рот. Я знал, что он откроет его, только раздевшись, скажет коротко «здравствуйте» и каждому по очереди протянет белую сухую и чистую руку. Мамину руку он всегда целовал и держал в своей заметно дольше других…
Они рассаживались по своим уже традиционным местам, она на диване, он на стуле, а стол уже был покрыт другой, белой, празднично-гостевой скатертью, и стояла на нем бутылка «столичной», и сразу начинали расставлять тарелки и закуски — всегда одни и те же, так что можно было легко сравнивать, когда что лучше удалось. Паштет из печенки, редька с луком, какой-нибудь салат, дефицитные консервы… Если это был праздник — все равно какой, пасха, Пирым[3] или Октябрьская революция, ко всем прочим прибавлялись: фаршированная рыба, холодец и пироги с мясом. Все пили водку, с удовольствием, но мало, бутылка была всегда одна — на четверых, на пятерых и на шестерых (годам к пятнадцати мне тоже стали позволять прикладываться).
О чем они говорили? О том же самом. Но, конечно, и о совсем другом, и когда о том же — все равно по-другому. Была в них легкость и непредвзятость, и хотя (теперь-то я это знаю) не такие уж они были широкие люди, но и в самой их узости как-то проявлялась возможность многого, возможность разного, вообще возможность, как нечто противоположное нашей, моей в этом доме, невозможности.
Она рассказывала, красочно и снисходительно, анекдоты о своих соседях артистах, и, наверное, все это были сплетни, но важно то, что люди в них действовали: репетировал, вышел, спела, влюбилась, развелась, оступилась, уехала, бросила… Все ее рассказы насыщены были глаголами, каких нигде бы я больше не мог услышать.
Он тихо комментировал, ровно, спокойно, никогда не повышая, не форсируя голоса, и от этих скептических его замечаний рассказ ее только выигрывал, приобретал еще большую подвижность и живой объем. Я хохотал до слез над его каламбурами, уж не знаю, так ли они были смешны, какая разница, я хохотал…
Иногда заходил разговор о книгах, всегда ненадолго, чтобы не обидеть Якова, ничего, кроме газет, не читавшего.
— Книжкэ? Да-а, почему нет? Я читал книжкэ по-русски и по-еврейски, как же, читал книжкэ. В школу? Нет, я не ходил в школу, но к нам ходил учитель из хедера. Да-а! Как же, ходил учитель, и я читал книжкэ. А потом у меня стала плохая зрения, потом, и я уже не мог… Да-а! А как же!..
Но книжный шкаф мы все же купили («Шкаф? Пусть будет шкаф, пусть будет. Мебель — это всегда мебель!») и потихоньку его заполняли. Как-то удалось его убедить, что и книги — это тоже всегда книги, верный вклад капитала. Он так и пояснял деловым знакомым, как бы извиняясь за это бесполезное и такое с виду нелепое имущество. Он и им это повторял, уже не как оправдание, а просто чтобы вставить какое-то слово, и они ему эту глупость прощали, как, впрочем, прощали и все остальное, что могло и, казалось, вот-вот должно было вызвать их раздражение и насмешку, но по какому-то молчаливому соглашению — не вызывало…
Мы говорили о книгах: Полевой, Эренбург, Драйзер, Фейхтвангер, Каверин, Маршак — примерно такой маячил дежурный список… И Яков тоже не молчал при этом, а ухитрялся что-то бормотать неразборчиво, то одобрительно, то вроде бы и осуждающе, с важным видом уважаемого человека — и я кипел и рвался его разоблачить, и, конечно же, никогда не решался.
Но, несмотря на такое посильное его участие, разговор о книгах в его доме оставался запретным удовольствием. Мы все чувствовали неловкость и вину перед ним. Все проговаривалось как-то наспех, в конце концов сминалось и сжевывалось, мы (они?) переходили на дела и политику и испытывали неизбежное облегчение: снималась какая-то часть напряженности, которой и всегда здесь было достаточно.
Оба, и Яков и Абрам Петрович, были исправными членами партии, их партийность никогда не подвергалась сомнению, даже в самых доверительных разговорах. И это для них не была маскировка, это была вторая натура. Вторая или, может быть, третья, четвертая, кто знает, сколько их было у них в запасе… Оба происходили из богатых семей и хорошо помнили, что и как потеряли. Но это было само по себе, а то — само по себе. Тут существовали четкие перегородки, и никто не посягал на их разрушение. Замечательные они вели разговоры. С наслаждением вспоминали дореволюционное изобилие, забытые блюда, смехотворные цены — и тут же переходили, легко и естественно, к суровым будням коллективизации, к борьбе с коварными кулаками, троцкистами и всякими другими вредителями. На все вопросы мои о нэпе отвечали строчками из учебника — и буквально в следующую минуту, возвращаясь к собственной бурной молодости, высказывали нечто противоположное. Понижая голос, ругали мелиху[4], это была уже как бы присказка, как бы запевка к любому рассказу, — и так же легко проклинали Трумэна, и Даллеса, и весь капиталистический мир за хитрые антисоветские козни, повторяя почти дословно, а порой и дословно каламбуры и шутки Ильи Набатова[5]…
Оба они делали свои дела, и интеллигентный Абрам Петрович — не хуже Якова Самуиловича. Но вот передо мной подарок тех лет: «Избранное» Лермонтова, огромный том, вмещающий все, как любили тогда издавать. Аккуратным, округлым, старательным почерком, прямыми, разнопротяженными строчками с простейшими глагольными рифмами, этаким сутулым канцелярским раешником — выполнена дарственная надпись. Абрам Петрович советует мне слушаться старших, расти настоящим советским человеком и быть достойным членом социалистического общества…
3
Длинненькие книжки на предъявителя были спрятаны в шкафу под бельем, окна забраны решетками и закрыты ставнями, двери заперты сейфовым замком. Но всего этого казалось недостаточно. Наше жилище (здесь я в затруднении: не знаю, как его называть; комната? — но их у нас было две, квартира? — но ничего, кроме комнат, не было…) никогда по вечерам не оставалось без присмотра. Кто останется дома? — это был вечный вопрос, который решался всегда однозначно: дома оставался я.
Мама и Яков — куда они ходили? В гости. В кино. В театр.
Незадолго до окончательного своего разгрома Еврейский театр, всегда наполовину пустой, устроил вечер для «еврейской общественности», то есть для всех, кто захотел прийти; среди прочих — для Якова Самуиловича и Абрама Петровича. Собрали небольшое количество оперных, драматических и эстрадных артистов, согласившихся и не побоявшихся вспомнить, что они евреи, и устроили концерт — в фонд помощи театру. Эммануил Каминка и Марк Хромченко, Михаил Александрович и Пантофель-Нечецкая, и еще какие-то «оказавшиеся». Вел концерт знаменитый Михаил Гаркави, всячески намекавший на свою непричастность, на то, что его пригласили со стороны, упросили, наняли гоя… Еврейская общественность с большим воодушевлением прослушала этот еврейский концерт, отработала еврейские речи и здравицы, пощекотала свои еврейские нервы и купила по абонементу на очередной театральный сезон. Таким образом, участь моя была решена. Два-три одиноких вечера в месяц в этой мерзкой квартире (все-таки квартира?) были мне обеспечены.
И вот я сижу один в пустоте и сырости, сижу на диване и читаю книгу. Тускло светит оранжевый абажур — у нас, у единственных, счетчик отдельный, и мы экономим на электричестве. В четвертый раз я читаю «Двух капитанов». «Ромашка! — вскрикивает Саня. — Я его убью!» Но больше я не могу, мне хочется спать. Но спать мне нельзя ни в коем случае. Стоит на секунду закрыть глаза — и из той, второй, дальней комнаты, полуприкрытой белой масляной дверью, из мягкого черного вещества, заполняющего пространство между двух ее створок, выйдет, отбрасывая крылатые тени, и пойдет, и захохочет в зловещей истерике, и… Нет, лучше об этом не думать. Сейфовый ключ торчит из скважины: считается, что это мешает грабителю отпереть нашу дверь снаружи. Я отпираю ее изнутри, выхожу в уборную. В уборную мне вовсе не надо, но не могу же я покинуть свой пост без особой причины. «В уборную», — говорю я себе и топчусь в коридоре до и после, прислушиваюсь к звукам, принюхиваюсь к запахам, греюсь, топчусь и тяну время. Проходят соседи, интересуются. Открываю дверь, ныряю обратно. Бодрым шагом, минуя первую комнату, я сразу прохожу туда, во вторую, включаю там свет и возвращаюсь к себе на диван. Теперь он сможет вылезти только из-за шкафа или из-под кровати. Я успею увидеть с большого расстояния, успею повернуть ключ и убежать. Надо только неотрывно смотреть туда, в самый конец, чтобы не упустить момент. Я смотрю, смотрю, смотрю, смотрю, глаза мои слезятся, я боюсь моргнуть, серый туман стелется передо мной, предательский серый туман, из которого как раз-то и выйдет, и выплывет…
Меня будит громкий стук в дверь. Я вскакиваю, хватаюсь за ключ, отпираю… нет, я не отпираю, я толкаю дверь, и она открывается: я забыл запереть!
— Я тебе говорю, я тебе, как знаешь, я больше никуда не пойду. Иди сама, иди в театр, иди в ресторан, иди, куда хочешь, а я останусь и буду сторожем. Он хочет, чтобы меня обокрали. Ему трудно запереть на ключ, ему трудно. Он знает одно: прийти, нажраться и сесть с книжкэ. Я должен один работать и ставить головэ, и все отдавать ворам, пусть приходят и пусть берут. А я тебе говорю, это потому, что он не знает заработать рубль. Если бы он знал заработать рубль…
— Сашенька, разве можно так поздно? Ладно, ложись и не возражай. Тебе говорят, ты не спорь и слушай…
— Нет, ты посмотри, посмотри-ка сюда! Посмотри сюда, я тебя прошу. Ты видишь?! Здесь горит свет! Ему мало одной большой комнаты, он должен включить все лампочки. Он делает ёнтыв, праздник он делает. Он думает, у меня миллион денег и я могу заплатить за всё: за книжки, за лампочки и за жрать сколько влезет…
Так кончается мое одиночество.
4
Каждое лето, когда моя мама уезжала в свой обязательный дом отдыха, я целый месяц — блаженное время! — обедал и ужинал в столовой. Столовая в лагере и столовая на воле — два как будто одинаковых слова, но какие разные значения!
На крыше огромного серого здания стоймя стояли гигантские буквы: «ФАБРИКА-КУХНЯ». Вначале я никак не мог понять, что отпугивает меня в этой надписи, но потом, уже побывав внутри, задним числом догадался: в ней не было места еде. Кухня — это вроде бы где готовят, фабрика — где что-то во что-то перерабатывают. Казалось, стоит только войти, и тебя задействуют, включат в процесс, пустят в дело — шум, пот, пар, — но поесть так и не дадут. Я удивился и обрадовался, когда увидел внутри длинные залы, квадратные столы и в четыре ракурса — профиль, анфас, профиль, затылок — сосредоточенно-отсутствующие лица жующих. И столовая мне понравилась.
Конечно, дома готовили вкуснее. Но какое это имело значение? Наш стопудовый круглый стол был задуман и сконструирован таким образом, чтобы за ним невозможно было сидеть. Тяжелая скатерть свисала до полу, и на глаз было трудно угадать расположение ножек. Но даже счастливо избежав ножки и устроившись где-то в промежутке, вы немедленно начинали чувствовать коленями одну из четырех жестких перекладин, расположенных на необходимой высоте. На скатерти был установлен раз и навсегда пустой графин больничного типа, рядом с которым на стеклянной подставке валялись огрызки карандашей, счета за электричество, пакетики с лекарствами. Если не было гостей, то на время обеда часть стола закрывалась сложенной вдвое клеенкой. Клеенка топырилась на закруглениях, скользила и сползала вниз. В ожидании тарелок ее прижимали к столу пластмассовой хлебницей, слишком легкой и неустойчивой, чтобы удержать эту равнодушную тяжесть. Если хлеба было мало, клеенка падала, ее поднимали, укладывали заново, ставили хлебницу, собирали хлеб, придерживали край рукой… И хлеб в этой хлебнице был всегда черствый… Впрочем, тут, быть может, я ошибаюсь. Нет, конечно же, ошибаюсь, но избавиться от этого убеждения не могу. Вот она, стоит у меня перед глазами, неестественного голубого цвета, с влажной от заплесневелых крошек салфеткой, с серыми ломтями крошащегося хлеба, с широким щербатым столовым ножом: тупое потемневшее скругленное лезвие, ручка из дутого мельхиора… Таких ножей было двенадцать, какой-то трофейный немецкий набор, и на лезвии каждого — заводское клеймо: конан-дойлевские пляшущие человечки… Зловещий знак, который при желании можно было бы отнести ко многому.
Прямо над столом на толстых шнурах висел оранжевый абажур в форме двух сложенных друг с другом тарелок, в верхней из которых имелось отверстие для провода и патрона. Мне он всегда напоминал мухоловку, и, видимо, не только мне, но и мухам — мама выгребала их оттуда горстями.
За этим тяжелым круглым столом, упираясь в проклятую перекладину (до сих пор отчетливо чувствую коленями ее активную бескомпромиссную твердость), я поспешно пожирал отведенный мне борщ, уткнувшись в книгу, если не было Якова, или в тарелку, если он был. Еще только усаживаясь за стол, я уже мечтал о том, как встану, как схвачу в охапку свое пальто и вылечу на скользкую грязную улочку и помчусь, помчусь, все дальше и дальше, к приятелям, к родственникам, к приятелям родственников, куда угодно, только бы не дышать этим сырым округлым воздухом, который вкатывается в глотку упругими порциями, и где-то щелкает счетчик, и пока ничего, успокойся, но когда-нибудь, где-то, кому-то, не отвертишься — придется платить…
Сырость в этом доме была особая, она была человеческого происхождения, никакие проветривания или даже ремонты не могли ее уничтожить. Потолки, стены и мебель — не имели к ней отношения. Запах сырости не был запахом плесени или, допустим, запахом пота, он был сложнее любого реального запаха. Мне кажется и сегодня, что таким образом сгустилась и материализовалась вся наша здешняя, нудная, лживая и постыдная жизнь.
Что говорить, я не был избалован свободой, и когда я поднимался по ступенькам учреждения, куда я шел исключительно по личным делам, до которых никому не было касательства, по своей личной инициативе (мог ведь и передумать в последний момент; никогда не передумывал, но ведь мог же!), когда я поднимался по этим ступенькам, входил в холл и занимал очередь в кассу — я чувствовал себя человеком! Я пришел сюда сам, захотел и пришел, на важное государственное предприятие (на фабрику!) просто потому, что голоден, и никого это не удивляет и не возмущает. Каждый входящий пришел потому же, и я не менее серьезен и уважаем в своих нуждах, чем все остальные.
И, конечно же, высшее наслаждение — выбор меню. Вот где истинная свобода, вот где власть! Здесь я бог, здесь я король, никто не запретит мне и не прикажет. Говоря по совести, я почти наверняка выберу флотский борщ и гуляш, но чего стоит сама возможность выбора! Ведь вот же прямо над моим борщом, на соседней строчке, примостился суп гороховый на м/б со свининой, а я не хочу его, не возьму, как бы он мне ни отсвечивал, и этот не взятый мной гороховый суп будет долго согревать мою одинокую душу.
Есть еще и другие развлечения. Можно взять не гуляш, а свиную отбивную и пойти на мойку, попросить нож. Их всего шесть на весь огромный зал, и старая толстая судомойка будет копаться специально для меня в грязном алюминиевом хламе, будет мыть эту пятнистую тупую железку с дыркой, просверленной в ручке, и прополаскивать ее заученным движением в двух одинаково грязных водах, и вытирать серым вафельным полотенцем…
А еще раньше, когда не было этого самообслуживания и между столами, как цирковые лошади, тяжело и упруго отталкиваясь от пола, ходили высокие жилистые официантки, я приметил среди них одну… Не то чтобы она мне понравилась, она не понравилась мне, но я ее приметил и всегда подолгу на нее смотрел. Нет, я не умел еще смотреть на женщин. Ног и бедер для меня не существовало, я видел лицо, глаза и руки, ну, может быть, грудь… Лицо у нее было очень бледное, с какими-то не старческими, но усталыми складками поперек лба и по углам рта. Кожа между ними была гладкая и молодая и, наверно, приятная на ощупь. Она была довольно худа, но при этом лишена всякой угловатости, ходила некрупными мягкими шагами и часто поглядывала на меня продолговатыми, серыми, порочными глазами. Эту порочность я тогда хорошо почувствовал, но и жалкость ее, и одинокость, и доброту, мне казалось, видел я в этом взгляде. Никогда я не порывался с ней заговорить, да и что бы я стал делать дальше? И не то чтобы я не знал ничего этого, я недаром столько мотался по лагерям, но одно дело так, вообще, а другое — вот эта живая конкретная женщина…
Друг мой Рома был не многим опытней меня, но зато гораздо решительней. (Нахальней — так и хочется мне сказать, и я мог бы, потому что он и был нахалом, но нет, я не должен так говорить, не имею права. Я ведь не осуждал его, я завидовал. Но чему же? Решительности, смелости, твердости, чему угодно, но ведь не нахальству же!) Друг мой Рома часто обедал со мной: его мать не любила вести хозяйство. И однажды, несколько раз подряд проследив мой взгляд, он вдруг мотнул головой в ее сторону и спросил снисходительно: «Что, нравится?» Я вздрогнул от неожиданности, сказал: «Нравится!» — и с большим опозданием напялил на себя нахальное (решительное) лицо, приличествующее моменту. «Нравится!» — повторил я уже с этим лицом и голосом, который, как мне казалось, более всего ему соответствовал. Это было не то, она мне не нравилась, но как еще я мог бы сказать?
— Что ж, баба как баба. Что-то в ней есть. Да, ты прав, молодец, разбираешься, глаз-ватерпас, подходящий станок, — говорил он, приглядываясь к ней все внимательней, и не могу сказать, чтобы его слова были мне в тот момент неприятны. — Хочешь, познакомлю?
Я пожал плечами.
— Да ты не думай, они все хотят.
Я промолчал. Я не знал, может, и все. Да и он, похоже, не очень-то знал. Хотя уж наверное лучше, чем я. Это было нетрудно — знать лучше, чем я. Ему понравилась эта тема, он стал ее развивать. Я слушал, мне не было неприятно, даже, скорее, наоборот. Даже очень наоборот. И он это чувствовал. «Каждая баба… конечно, поначалу… даже самая такая…» Но потом как-то сразу мне надоело. У него было не так уж много сведений, он начинал повторяться. И запас слов был тоже невелик, и повторы смысла неизбежно выражались повторами фраз — это раздражало меня больше всего.
— Каждый новый парень, — говорил он, к примеру, уже в пятый или в пятнадцатый раз, — может ее заинтересовать!
И чувствовал, в пятый или в пятнадцатый раз, недостаточную убедительность этих слов, но сказать иначе не мог. И начинал снова, в шестой или шестнадцатый, с той же в точности интонацией — их ведь тоже было ограниченное количество.
— Каждый новый парень, понял?..
— Может, она и хочет, — сказал я наконец, — но только уж не с тобой… и не со мной.
«Не со мной», — я добавил только для смягчения, но он-то услышал, как ему хотелось, то есть именно это, а «не с тобой» — пропустил.
— Не дрейфь, — сказал он. — Ты, главное, не дрейфь. Не съест же она тебя. Вот сейчас подойдет…
— Все, пошли, — сказал я, вставая. Мне надоело, да и начинал я уже чувствовать потерю, какую и должен был чувствовать. Он схватил меня за руку и не отпускал, и все повторял: «Не дрейфь, не дрейфь!»
Она как раз подходила убрать посуду, подошла — и он с ней заговорил. Нет, и он еще не умел это делать. Мешали остатки детской застенчивости, да и слов своих никаких не было, только заученные, чужие. Он нырнул без оглядки, крепко держа меня за руку, скорее себя, чем меня, подбадривая. Неизвестно было, выплывет или нет. Так мы стояли, как дети, взявшись за руки, мы и были детьми, и он, скривив резиновую улыбочку, больше похожую на гримасу боли, проговаривал всю эту чепуху, будто сплевывал застрявшее в зубах мясо. Его тон был небрежен, слова приглушены нейтральными гласными («ну чтэ, ну кэк»), и я стоял рядом и тоже не молчал, а что-то такое добавлял, подвывал, проявлял необходимую солидарность.
Она взглянула и улыбнулась. Улыбка ее мне не понравилась. Текло время, кончался период, необходимый для того, чтобы послать нас подальше, а она улыбалась — и не посылала. Руки ее продолжали собирать посуду, а глаза глядели на нас (и на меня…), и светилось в них то самое выражение, какое я ни разу еще, может, не видел, но сразу безошибочно угадал. Те слова, что принужденно и небрежно сплевывал Ромка, не были словами в обычном смысле — ни вопрос, ни сообщение, ни предложение. Это был некоторый знак, пароль, но пароль, хорошо ей известный. Она слушала, не возмущаясь и не удивляясь, слушала — и не посылала.
— Мальчики, — наконец сказала она, высоко поднимая полный поднос, живописно так и киношно из-за плеча повернув к нам голову, — подрастите немного, тогда приходите.
— А у меня уже подрос! — вдруг выпалил Ромка и застыл в оцепенении.
Но ничего страшного и на этот раз не случилось.
— Дурачок ты, — бросила она снисходительно и плавно и спокойно прошла мимо, даже мягко толкнула его бедром, выгнувшись и сбалансировав подносом.
— Ну что, видел? — спросил Ромка, отпуская, наконец, мою затекшую руку. — Вот так, полный порядок!
Полного порядка, конечно, не было, но спорить я с ним не стал. Действительность и так уже превзошла.
Это был великий момент в моей жизни. Я понял, как просто обстоит дело. Не надо уметь, не надо быть, а надо только знать — и пользоваться. Все было уже бессчетное число раз, все расписано как по нотам. Нажимаешь на те же клавиши — возникает та же мелодия. Я это понял, принял как истину, заучил назубок. Так возникло худшее из моих заблуждений. Потому что ни разу, ни один замок не удалось мне отпереть универсальной этой отмычкой. Одни и те же слова в одинаковой ситуации приносили удачу другим и не приносили мне. Все, казалось бы, подтверждалось, надо было только сказать пароль. Сказать-то пароль, но знать — язык! В этих краях я был иностранцем, меня выдавало произношение.
Оставаться попросту самим собой — было для меня единственной возможностью, единственным способом существования. Но такое мне и в голову не приходило. Весь опыт окружающих говорил против этого.
5
Почти все дома на нашей улице имели прозвища, никак не связанные или мало связанные с их внешним видом и составом жильцов. Наш, откровенно бревенчатый, назывался «Котлом» — его строил завод «Котлсантехмонтаж», и жили в нем в основном рабочие. Соседний, обшитый досками, был «Цыганий». Там не было ни одного цыгана, но зато там жили кустари, барышники и торговцы краденым барахлом. Дальше шел единственный трехэтажный, кирпичный, который, неизвестно почему, назывался «Сосновым». В нем селили по преимуществу чистую публику: инженеров, врачей, учителей…
И неведомо, в каком доме, в основном же просто на улице, обитал известный всему населению сумасшедший Герасим.
Герасим… Не очень частое имя, и сейчас я только сообразил, что должно оно было, по редкости своей, напоминать мне того, другого Герасима, кроткого силача с маленькой собачкой, сколько раз я оплакивал несчастную их судьбу! Однако никаких таких ассоциаций у меня в то время не возникало, быть может, потому, что наш Герасим был полной противоположностью тургеневскому. Тот — огромный, широкий, сильный, этот — долговязый, худой, нескладный. Тот — глухонемой, кроткий, послушный, этот — болтун, задиристый и вздорный. Одно у них было сходство — борода. Густой рыжей бородой заросло лицо Герасима, и в этих диких зарослях, как хищные звери, таились его злые зеленые глаза. Впрочем, об этом знали немногие, мало кто стоял лицом к лицу с Герасимом, мимо него, в основном, проходили.
Постоянного места у Герасима не было, но было излюбленное: у поликлиники, у решетчатого литого забора. Он простаивал здесь часами, строго вертикально, ни к чему не прислоняясь, как столб, как памятник. Он стоял на своем посту, твердокаменный Герасим, и весь он был сделан из одного материала, из чего-то всклокоченного, грязно-рыжего: шапка, шинель, борода… Он стоял всегда неподвижно и прямо, только голову поворачивал, как на шарнире: то влево, то вправо, то навстречу, то вслед то тому, то другому прохожему.
Он не снимал шапки, не протягивал ладони, а стоял, широко расставив ноги в рыжих кирзовых сапогах, и туда, к бесформенным головкам сапог, к белесым протертым их выпуклостям, повторявшим шишковатую форму ступней, прямо на тротуар, на заплеванный асфальт или на грязный притоптанный снег — кидали ему гривенники и пятиалтынные.
Герасим не был ни убогим калекой, ни — тогда еще — беспомощным стариком. Не был — но и не притворялся. Он не просил милостыни, он ожидал гонорара. И ему платили, потому что ценили его талант. Он обладал редчайшей способностью не молчать ни секунды. «Стихия речи» — это сказано как раз о нем, и именно его сумасшедший бред я представляю, когда слышу эти слова.
Вот я вижу длинную узкую его фигуру с толстой палкой, твердо продолжающей правую руку. Он стоит, как железный ржавый треножник, как раз под уличным фонарем. Мягкий зимний вечер окутывает улицу синей мглой, конус желтого света давит на шапку и плечи Герасима, и блестящие снежинки кипят в этом конусе, ударяясь о его прозрачные стенки.
О чем он говорит? Обо всем. Если говорить непрерывно, с утра до вечера, можно успеть сказать обо всем. Но главная тема Герасима — это жиды. На том он, видимо, и свихнулся. «Бей жидов, дочка! — бодро приветствует он приближающуюся пожилую женщину, и если она оказывается еврейкой, это никак для него не меняет дела. — Бей жидов, дочка, от них все наши несчастья!» Затем он продолжает прерванную речь, свой монотонный нищенский речитатив. Но погромче и поотчетливей — у него появился слушатель. О том, допустим, как отважно он воевал, показал этим вшивым жидам, что такое русская храбрость. Как он шел в атаку, вперед, на врага, на ура, на тада, на а-а-а, а-а-а! — и не брали его никакие жидовские пули. И как он один, нет, вдвоем с Кабаном, с Кабановым Васькой, настоящим, веселым, здоровым, смелым, лихим, замечательным русским парнем, захватил в плен целый взвод трусливых, вонючих — кого? — конечно, жидов.
В голове у него была полнейшая каша, и сначала я слушал его с замиранием сердца, содрогаясь от страха и ненависти, но со временем понял, что страх мой нелеп, а ненависть направлена в пустоту. Я понял, что, говоря о своих жидах, Герасим никак не имеет в виду евреев и даже вообще не отличает евреев от русских. Трудно поверить, но это было именно так. Русские и жиды — это был для Герасима простой и универсальный способ деления мира, как белое и черное, как свет и тень, как добро и зло. Все хорошие были русскими, все плохие — жидами. В жиды, таким образом, попадали все враги Герасима, в том числе и немцы, все трусы на свете, в том числе и русские; и лейтенант Кавун, который в армии заставлял его таскать свои жидовские чемоданы; и какой-то Клейщиков из райсобеса, которому жаль его жидовских денег для настоящего русского героя; и даже собственная жена Герасима, которая отняла у него родную дочку, и бросила его, и пустила по миру, и если бы не добрые русские люди, не жалеющие своей русской трудовой копейки (спасибо, сынок! бей жидов, сынок! дай тебе Бог здоровья, сынок!), то он бы пропал совсем, замерз под забором, подох где-нибудь в подъезде, под вонючей жидовской лестницей…
Я перестал ненавидеть Герасима, но и любить его тоже мне было не за что. Язык — упрямая вещь, и не в нашей власти изменить живое значение слова, приглушить или стереть один его смысл, проявить и усилить другой. Как волшебное заклинание вызывает появление джинна, так и произнесение этого слова вызывает появление этого смысла. Только скажи — и он уже тут как тут.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
1
В последний раз я попал в пионерский лагерь уже после девятого класса. Однажды я уже пробовал бриться, рыжеватый мох покрывал мои костлявые скулы, и детишки из младших отрядов называли меня — «дядя». Нет, конечно, это было не то, что прежде, — другое лето, другие люди, другие отношения. Нас было четверо, взрослых парней, и сильнее всех других развлечений тянул нас к себе соседний коттедж. В нем жил девчоночий старший отряд, и там, возле их веранды, вблизи их окон, мы топтались и ржали, как жеребцы, приходили с надеждой, уходили с сожалением, а всего-то была там одна наша сверстница, остальные все — еще совершенные дети.
Зато эта одна была настоящей девушкой, с гладкой розовой кожей, без всяких следов загара. Была она как-то отключена от всего окружающего или, может быть, включена во что-то иное: ходила медленно, говорила мало, отвечала с заметным опозданием. Нас четверых она вблизи не видела — и было это хорошо, было это справедливо, создавало такую стабильную тягу, без надрыва, без риска, без злости и зависти и всего, что сопутствует… Звали ее Тамара.
Она нас не замечала, и было это прекрасно, потому что если бы и заметила — то уж, наверное, не меня. Так я тогда привыкал уже чувствовать, к такой постоянной мысли себя готовил.
(Вновь наступает время произнести это самое слово — «комплекс». Вот оно уже и произнесено. Но — в скобках, только в скобках.
Терминология — коварная вещь. Она дарит, но она же крадет. Вот, к примеру, однажды мы соблазнились, произнесли разок: «информация» — еще запинаясь, еще не вполне уверенно, еще неопытные на пути порока. И сами не заметили, как продали душу дьяволу, и вот уже ходим изо дня в день этой новой дорожкой, и ни сведения, ни справки, ни известия, ни сообщения, никого из этих старых друзей для нас как будто не существует, только одна информация, информация, асфальтово-безликая информация…)
Вот я иду по улице, мокрый тротуар, сырость такая тревожная в воздухе, мелкий дождик — любимая моя погода. Я прогуливаюсь, у меня хорошее настроение. Сзади меня идут девушки, они прыскают, смеются, хохочут. «Не надо мной, — говорю я себе твердо, — просто так, мало ли почему…» Но в глубине души знаю точно: надо мной, а то над чем же еще, что еще тут смешного на улице? Я спешно выравниваю походку — и начинаю идиотски размахивать руками, не попадая в такт шагам. Я с усилием выпрямляю спину, перестаю глядеть под ноги и немедленно попадаю ногой в лужу. Грязная вода заливает туфли, забрызгивает мою штанину и портфель идущего рядом старичка. Старичок ругается, я молчу, краснею, потею, хромаю и хлюпаю. Девушки обгоняют меня, оглядываются. Знакомые, из соседней школы. Смеются. Теперь-то уж точно, теперь — никаких сомнений…
Этого горя хватит мне на неделю. Если, конечно, его не догонит что-нибудь еще, поновее.
Вот мы делаем уроки с лучшим моим другом Ромкой. Я объясняю ему разложение многочлена. Он слушает внимательно, смотрит мне прямо в глаза и, когда я замолкаю, произносит задумчиво: «Знаешь, почему над тобой смеются?..»
Все. Конец. Больше мне не жить. Все вокруг плывет, даже приятное какое-то чувство, теплое и уютное, как болезнь. Но Ромка продолжает что-то говорить, и я с опозданием осознаю, что ведь он имеет в виду мои же рассказы, мои собственные ему сокровенные жалобы, а не какие-нибудь свои отдельные сведения. Я осознаю это, но все равно, оттого, что это сказал он, и сказал уверенно, как об очевидном факте, — остается непоправимое ощущение объективности.
«А ты не смотри такой овечкой! — начинаю я слышать его слова. — Ты понахальней, они это любят, понял? Давай, потренируйся, а я проверю. Ну-ка прищурь-ка один глаз. Нет, не этот, лучше правый, здесь у тебя бородавка, она выделяется. Ну вот, совсем другое дело!»
На ближайшем совместном школьном вечере я испытываю новое свое лицо. Зал полон, девочки стоят шпалерами, одна нога — на перекладине шведской стенки, белый фартук облегает выпирающую коленку. Мой серый костюм давно мне мал, на рукавах и брючинах выпущен запас, брюки протерты, и на них даже есть заплата — из того же материала, тщательно заглаженная, но вблизи, конечно, вполне заметная. Я прохожу по залу, перекосившись, неестественно повернув голову, — даже теперешними, нахальными глазами я все еще не умею смотреть им прямо в лицо. «Ты чего щуришься, глаз, что ли, болит?» — Это Любка Новикова из нашего дома, некрасивая девочка с сухими бледными губами. Дура, вот дура! Ничего, ничего, это еще ничего не значит, она же не понимает, у такой некрасивой — не может быть женского взгляда… Эту страшную мысль, этот вырванный с мясом кусок чужой души я походя кладу на свои раны, одному лишь человеку на свете сочувствуя — себе самому. Но тот же буквально вопрос: «Болит?..» — задает мне и Марина Левина, прекрасная Марина, Марина Мнишек, как зовут ее в нашей мужской школе. У этой не может быть неженского взгляда, только женский и может у нее быть. Вместе с отчаянием появляется и чувство облегчения. Ничего не получается, но ничего и не надо делать. Я свободен от всех обязательств, я могу встать в привычный свой угол и спокойно и одиноко наблюдать за танцующими. «Гостинцы-прянички для милой Танечки». Подумать, как меняются времена: разрешили поставить Лещенко! Или просто кто-то недосмотрел и ребята в радиоузле сами?.. «От друга Ванечки медовый дар…» И вот я вижу моего друга Рому, он танцует с Мариной Мнишек. Он говорит, она увлеченно слушает — так, по крайней мере, мне кажется, — глядит ему прямо в рот. Один глаз у него прищурен, нижняя губа презрительно выпячена — в точности такое выражение лица, какое должно было быть у меня. «Пусть знает Танечка, что помнит Ванечка… Медовый дар… Горит пожар».
Или вот еще одна сцена. Буквально — сцена, эстрада школьного зала, протертые пружинящие доски, я на них стою. Объединенный хор все тех же двух школ репетирует популярную песенку. У меня вдруг обнаружились способности. (Немедленная суетливая мысль: как использовать, что выгадать?) Я не просто хор, я солист. И песня у нас не просто песня, а целая инсценировка, поющая картинка. По ходу пьесы я должен выйти из рядов, обнять за талию солирующую партнершу и под умолкнувшее фортепьяно пропеть ей: «Дорогая!» — есть там такое обращение в середине куплета. Партнерша у меня что надо, бойкая стройненькая девица в черном вельветовом сарафане. Репетируем. Начали! Я пою вместе с хором, потом выхожу вперед, вытягиваю руку в сторону, сквозь тонкий вельвет прикасаюсь к чему-то теплому и живому, проверяю на ощупь: правильно, талия! — и падаю в обморок. То есть нет, я, конечно, не падаю буквально на пол, но застываю в полном оцепенении, в глазах у меня глухая чернота, я ничего не чувствую, кроме вращения Земли — то ли вокруг Солнца, то ли вокруг собственной оси. Ничего не чувствую, ничего не говорю и, уж конечно, ничего не пою. Руководитель хора, отхохотавшись, назначает другого солиста, с менее выдающимися способностями, но с более устойчивой психикой. (Без комплексов — скажут через двадцать лет.)
Или вот еще… А впрочем, больше не стоит. Так ведь можно до бесконечности. Возвращаемся. Пионерский лагерь.
2
Перед самым закрытием лагеря — военная игра: желтые против синих. Сорвал нашивку — значит убил. Мы, старички, вроде бы в командирах, команд никаких нет, каждый за себя. Глупая детская игра, но затягивает.
Я иду по лесу, пригибаюсь осторожно, прячусь за кустами, стараюсь не шуметь. Останавливаюсь у густой ольхи, дальше, в низине, — открытая поляна, лес спускается к ней уступами с трех сторон. С четвертой стороны — узкая речушка, за ней снова — кустарник и лес.
И на этой поляне, «на речке, на том бережочке» сидела Тамара, одна, вполоборота ко мне, переплетала косу и смотрела на воду.
Интересно, что никаких посторонних мыслей не возникло сначала у меня в голове, а только — в какой она «армии», в синей или желтой… Я медленно спустился и подошел к ней почти вплотную. Она обернулась, взгляд был немного встревоженный, но, увидев меня, успокоилась и даже слегка улыбнулась. Улыбнулась — и ничего не сказала. Так, словно я уже целый час стою с ней рядом на этой поляне. Она была в черных трусах и черной футболке, сидела на невысоком пригорке, вытянув голые ноги, длинные, белые, с альбиносной розоватостью… Но это я увидел немного спустя, а вначале первое, что заметил: на черной футболке, слева, на четко обрисованной груди — аккуратно, как брошка, приколотую желтую нашивку, бесконечно враждебную моему синему сердцу. «Почему на груди, — подумал я машинально, — должна же вроде быть на плече?»
Она почувствовала мой взгляд, проследила его, прошлась по этой ниточке, увидела свою грудь, не торопясь внимательно так ее рассмотрела и ласково, одними кончиками пальцев, сверху вниз, сверху вниз — погладила…
Мы были с вей совершенно одни на этой поляне, но даже если бы и не так, если бы весь наш лагерь, с барабанщиками и горнистами, пришел нас приветствовать и сводный хор четырех отрядов пропел «Это чей там смех веселый?», ручаюсь, что и тогда бы я ничего не услышал и ничего не увидел. Это было удивительное состояние, уже случавшееся со мной когда-то прежде… Впрочем, так остро и так мощно, с таким реальным ощущением нереальности, с такой полной отдачей сна, безо всякой даже попытки контроля — нет, такого еще никогда не было. Я стоял перед ней как бы в круге света, в глубоком колодце из цветного шума, все вокруг было расфокусировано для зрения и слуха, там был хаос, распад, никак не организованное пространство. Здесь же, внутри, резкость изображения превышала все возможные пределы, доходила до физической боли, становилась уже не резкостью, а резью. На глазах у меня выступили слезы.
Она молчала, но не выглядела при этом застывшей. Это было такое ее существование, она оставалась вполне живой, я бы даже сказал, оживленной — как-то чувствовалось, что именно оживление выражали те немногие движения, которые она, при ее темпераменте, делала. Положила ногу на ногу — одну белую ногу на другую белую ногу; оперлась левой рукой о пригорок позади себя; правая рука оказалась свободной, она ведь уже погладила грудь, теперь освободилась и лежала, отдыхая, на бедре, немного выше колена. Коса ее так и осталась незаплетенной, волосы были светлые, почти рыжие, лицо белое и чистое. Глаза у нее оказались зеленые — прежде я ни у кого не замечал цвета глаз, тут же ясно увидел и отметил: зеленые, большие, огромные, слишком большие, до ощущения каких-то периферийных, ничем не заполненных пустот. Так мы жили с ней на этой поляне и прожили долго, целую жизнь. Три или четыре минуты сценического времени. Двадцать раз я срывал с нее дурацкую эту нашивку — то легко и воздушно отцеплял, не коснувшись, как бы с руки или плеча; то накладывал всю ладонь, прижимал, наваливался и рвал, как зубами; то ласково и заботливо обводил вокруг, не одними пальцами, не одной только кожей, но всем телом, нутром, душой ощущая этот нежный контур…
Наконец она что-то сказала. Я не расслышал, не понял. Она повторила. Я понял: «Садись». Я сел, вернее, упал. Это было — как игра в «замри-отомри», как снятие колдовства. Я упал на траву, полежал с минуту, расслабившись, глядя в небо и в сторону; потом вынул платок из кармана брюк, вытер лицо и глаза; спрятал платок, повертел головой, посушил лицо на ветру. И лишь после этого повернулся к ней.
Она сидела все в той же позе, времени прошло ведь очень немного, и смотрела на меня со спокойным любопытством. Осмотрела всего, улыбнулась чуть кривовато, двойной такой улыбкой, с загибом, выждала еще немного, спросила:
— Ну что, воюешь?
Я кивнул головой, как последний идиот.
— Что ж ты меня не убиваешь, я же твой враг?..
И снова погладила нашивку, тем же движением.
Но теперь я это вынес гораздо легче: я уже не стоял на подгибающихся ногах, а сидел полулежа, у меня теперь была опора… Я прохрипел в ответ что-то несуразное, «жаль мне тебя» или «поживи еще»…
— А я вот сама не хочу больше жить, кончаю самоубийством.
Она наклонилась, вынула булавку и протянула мне свой желтый лоскут. Я машинально поискал глазами на прежнем месте, как будто он мог быть в двух местах одновременно, и вытянул эту тряпочку из ее пальцев, осторожно, даже не прикоснувшись к руке.
— Ну вот. — Она подтянула согнутые в коленях ноги и снова занялась своей косой. — Ну вот. Скажешь, добыл в смертельном бою. Орден тебе дадут. За отвагу.
— За отвагу… дают… медаль… — ответил я тупо, по отдельности и с трудом произнося каждое слово. Голос все еще мне не давался.
— Ну да, конечно, медаль…
Она уже думала о чем-то своем, переключилась на обычное свое отсутствие. Ситуация была исчерпана, мне нужно было встать и уйти. Конечно, другой бы на моем месте… Но что, что бы он сделал, этот другой? Единственный поступок, на который я сейчас находил в себе силы, был чисто негативным: я не вставал и не уходил. Впрочем, кое-что я все-таки сделал: снял с плеча свою — синюю — нашивку, сжал в кулаке вместе с ее желтой, скомкал, смял и выкинул прочь. То есть это мне так хотелось — выкинуть прочь. Они были для этого слишком легкими, отлетели метра на полтора и лежали порознь (что особенно было обидно), ярко отсвечивая в невысокой траве. Но я как бы и не смотрел в ту сторону, я старался видеть лишь то, что хотел: символ нашего с ней единения. Теперь мы с ней были одни на свете (на том свете, подумал я), никто вокруг не имел уже к нам отношения, и мы не имели отношения ни к кому (только друг к другу!).
— Теперь нас с тобой похоронят, — произнес я, наконец, чуть более свободно.
«Дурак!» — должна была она ответить. Или что-нибудь еще в том же духе. Или в крайнем случае промолчать, у нее это очень хорошо получалось. Но она вдруг оставила косу, посмотрела прямо перед собой и сказала с той самой, особой своей, кривоватой улыбочкой (горьковатой! — понял я с удивлением):
— А я, знаешь… в Москве живу… как раз напротив кладбища…
— Какое кладбище?! — чуть не крикнул я, приподнявшись, и кощунственная дрожь моего восторга пронизала это печальное слово. Оно не означало для меня ничего из того, что должно было означать, и если еще и не было радостью, то предчувствием радости, тем светлым порогом, через который только перешагнуть… Я почти не сомневался.
— Какое кладбище?!
— Петровское, — сказала она спокойно, и я оказался на той стороне. Петровское кладбище! Жизнь была прекрасна.
3
Помню, мы только что переехали, был летний ровный теплый день, мы с мамой раскрыли окно, включили радио. Передавали какую-то новую песню, очередную однодневную погремушку, ничем решительно не примечательную. Вначале, наверное, я не очень-то слушал, хотя теперь мне это трудно представить, так четко звучит в моей памяти та мелодия, так ясно слышу я голос того певца… Но с какого-то момента ритм мелодии стал сбиваться, к ней прибавились какие-то новые звуки, стали замедлять ее и растягивать, и вот уже слышно было только это, грозно нарастающее, астматически жесткое дыхание.
Я взглянул на маму.
— Похоронный марш, — сказала она замечательно беззаботным голосом. — Похоронный марш, ничего особенного. Закрой окно.
Но духовой похоронный оркестр заполнял уже улицу и всю нашу комнату, вибрировал стеклами окон и чем-то внутри меня, какой-то холодной инородной мутью, растекавшейся по животу и подступавшей к сердцу. Странное дело: слова песни были четко слышны на этом фоне, но тут же пустые эти скорлупки теряли привычное свое значение, или, вернее, привычное отсутствие значения, и получали совершенно новый смысл, непостижимо зловещий.
Меня покосило и повело, почти против собственного желания я оказался на улице. Там уже собралось достаточно зрителей, возле каждого дома стояла кучка. Впервые в жизни я видел похоронную процессию. Она состояла из нескольких групп, четко разделенных между собой, и так я и воспринял их по отдельности, перепрыгивая взглядом от одной к другой, в каждой видя сначала то, что ожидал, а потом уже то, что было на самом деле. Ожидал же я увидеть — смерть. Слово это, исходившее из моего потрясенного сознания, из моего страха, из моей растерянности, я втыкал острием в самую гущу идущих людей, и оно каждый раз отскакивало обратно, но каждый раз — в измененном виде, все большую свою часть оставляя там.
Сперва я увидел только оркестр, он-то, казалось бы, и нес в себе самое страшное, во всяком случае именно он это страшное вокруг себя распространял. Но нет, напрасно я в мучительной лихорадке перескакивал от одной фигуры к другой, от одного металла к другому металлу, от одних рук и губ к другим рукам и губам. Здесь, в звуковом центре процессии, были только отзвуки того самого, истинный центр находился где-то в другом месте.
Взгляд мой метнулся вперед, там несли венки. Скорбный запах хвои, смешанный с каким-то еще, тягучим и едким запахом, проплывал по узкой нашей улочке. Да, тут уже это присутствовало, и как мало его ни было, это было оно и ничто другое. Оркестр мог быть просто оркестром, инструменты могли быть просто инструментами, но венки были только венками и ничем иным. Да, похороны. Да, смерть… Но главное было еще не здесь.
Еще одна группа людей, и в глубине, жирным пунктиром между черными фигурами — яркое, красное, длинное… «Вот!» — подумал я и похолодел. Но это была еще только крышка. Гроб двигался следом. Он показался мне непомерно большим, красная сборчатая ткань его обивки излучала сияние, взбитая пена цветов заполняла всю внутренность, и только в самом конце, на белой подушке, виднелась маленькая человеческая голова. «Зачем подушка? — пронеслось. — Чтобы мягко?»
Почему-то я был уверен, что это будет мужчина. Но это была женщина, и не старая, возможно, что и совсем молодая. Я успел увидеть ее только мельком, слишком много людей толпилось вокруг, и такого страху натерпелся я до этого момента, что теперь центральную эту картину воспринял если и не спокойно, то по крайней мере достаточно трезво, безо всяких там видений и кружений. Да, вот оно, вот самое страшное, страшнее ничего уже не может быть… Но я и на этот раз ошибся. Самое страшное было не это.
Еще одна, последняя группа двигалась следом за гробом. И там-то все и происходило, там-то и концентрировалось несчастье, там-то и жила смерть.
Двое крепких мужчин поддерживали пожилую женщину, по сути, несли ее на плечах. Каждый обхватил ее рукой свою шею, и ноги ее лишь изредка касались земли, безжизненно перескакивая носками туфель с булыжника на булыжник. Женщина билась в их объятиях, голова ее моталась далеко от тела справа налево, потом сверху вниз, затем снова справа налево. «Нет, нет, нет, нет!» — кричала она непрерывно. Никаких больше слов, только это одно. Другая женщина, тоже немолодая, быть может, подруга или сестра, протискивалась к ней время от времени, ловила голову, совала рюмку с лекарством. На момент она вроде бы успокаивалась, выпивала послушно, замолкала, затем откидывала голову назад, резко, как выкидывала, и начинала снова: «Нет, нет, нет, нет!»
И сразу же за ней везли в коляске парализованного старика. Руки его лежали на подлокотниках, лицо было неподвижно, но глаза открыты, и из этих стариковских, глубоко в подлобье сидящих глаз непрерывно текли слезы. Шедший рядом высокий седой мужчина вытирал их ему белой тряпкой с неподрубленными краями: я ясно видел белые нити, застрявшие на плохо выбритых щеках.
Вокруг еще много шло плачущих, в одиночку и группами, но эти двое были несомненным центром несчастья. Те, вокруг, еще принадлежали жизни — эти не имели к ней отношения. Те, другие, еще могут утешиться — этим уже не суждено никогда. Горе, горе, живая смерть двигалась мимо меня! Теперь, наконец, я это почувствовал. Вся процессия, все ее отдельные части выстроились теперь в единое целое. Звук смерти — запах смерти — вид смерти — и, наконец, самая смерть, сущность ее для живущих…
Я вернулся в дом. Оркестр еще играл за окнами, «нет-нет-нет» — слышался крик женщины, и песня по радио еще звучала.
— Ты чудак, — мама закрыла окно. — Что ты расстраиваешься? Мало ли на свете людей умирает. Ты здесь часто такое увидишь, привыкай, ничего страшного.
— Почему часто? — удивился я.
— Здесь же кладбище рядом, на соседней улице.
— Какое кладбище?
— Петровское…
4
Разумеется, нашлись общие знакомые. Да и друг друга мы, конечно же, где-то видели. Ну, например…
— Ты не ходишь к Риве на танцы?
Вот именно! Как же это я не хожу? Кто же это не ходит к Риве на танцы? «И жук, и жаба», как говорит мама.
Менее всего этот двор был приспособлен для танцев. Там не было ни одного квадратного метра, не вздыбленного камнями, не изрытого канавками. Когда-то здесь что-то зачем-то копали, так и оставили, все утопталось, отвердело и узаконилось. Теперь казалось, что иначе и быть не могло. «Во дворе, где каждый вечер все играла радиола…»
Радиола стояла у Ривы на подоконнике, кто хотел, приносил пластинки. Под эту музыку мы, спотыкаясь, бродили парами. Никакого ритма не соблюдалось, не танцы, а ходьба по пересеченной местности. Но тем яснее становился второй план, то, что в нормальных, обычных танцах прячется за ритм и слаженность движений. Кому-то с кем-то хотелось ходить, кому-то с кем-то ходить не хотелось, это проявлялось сразу и четко, ошибки быть не могло. Одни пары увядали и рассыпались еще до конца пластинки, другие соединялись и расцветали на целый вечер, их уже никто не пытался разделить.
Непременная уборная в углу двора источала тонкую вонь, туда через нас посторонней торопливой походкой то и дело проходили недовольные жильцы. Недовольные — но молчаливые. Никто не скандалил и не протестовал.
Подошедшего к окну сменить пластинку обнимал за шею душный воздух тесного жилого нутра, там царил другой, многослойный запах, котлеты и жареная картошка составляли в нем лишь один из слоев. Полная Рива, чуть уже рыхловатая, но все-таки еще хоть куда, сама высовывалась порой из окна, выставляла рядом со своей радиолой кудрявую черную голову и большую грудь в шерстяной кофте, глядела долго и с пониманием, улыбалась и кивала всем головой. Иногда затем она выходила, брала кого-нибудь из мальчишек и ходила с ним несколько танцев подряд, водила по двору, тесня и обнимая…
Муж Ривы Яшка, кривоногий и маленький, добрейшей души человек, выскакивал стремительно на быстрый танец, всё движение сразу же останавливалось, и он отплясывал в центре круга, взбрыкивая и выкидывая коленца, ко всеобщему смеху и удовольствию…
Как же мне не бывать у Ривы! Но странно, не видел. Ну нет, я не мог бы забыть. Может, дни наши не совпадали?
Я уже не думал о теме для разговора, общая тема бесконечным пространством лежала перед нами обоими. Мы были с ней людьми с одной площадки, из одного и того же куска жизни, и здесь, в этом чужом лесу, далеком от нашего общего дома, мы чувствовали себя родными друг другу людьми. Столовая, кинотеатр, автобаза, рынок, клуб завода пожарных машин… Вовка Ляхов, Марина Мнишек, Ленка Железнова, Мишка Калачов?
— А Герасим, — спросил я в общем потоке, — как тебе наш Герасим?
Что-то вдруг прошло по ее лицу. Может, он обидел ее когда-нибудь? Или ей неловко за него передо мной, за его навязчивый бред? Но я взглянул еще раз — нет, кажется, все в порядке. И только опять эта легкая горечь в улыбке, этот милый загиб рта, чуть заметный такой уголок…
«Я люблю ее, — сказал я себе. — Я люблю ее!» — именно так и сказал, такими точно словами. Никаких других я не знал и знать не хотел.
Я уезжал в Москву на следующий день, она оставалась на вторую смену. Я не стал с ней прощаться — боялся что-нибудь нарушить, испортить. Фантастическое вчера оставалось внутри меня нерастраченным, цельным и чистым. Где-то там, в глубине моей души, жил этот день счастливой и безоблачной жизнью, он был защищен ото всех случайностей моей властью и моим желанием.
В окно автобуса мне был виден ее коттедж, но ее там не было, только прочие мелкие девочки прыгали и развлекались вокруг. Наконец… О Господи, наконец! Она вышла с распущенными длинными волосами, с тазом в руках (мыла голову, подумал я, замирая от нежности), выплеснула воду, постояла еще с минуту (эмалированное коричневое днище упиралось в ее колено) — и ушла в дом, не оглянувшись. «Да-да, — подумал я, — да-да, правильно, она тоже понимает, она тоже так думает, она тоже боится испортить. Пусть трогается автобус, скорей, скорей, дальше отсюда, ближе к Москве. Там, в Москве, возродится эта радость, там продолжит замершую свою жизнь. Пройдет только месяц, это так немного, а сейчас чем дальше я от нее уезжаю, тем ближе к ней становлюсь…»
И только в метро, поднимаясь по эскалатору, я вспомнил, что не знаю ее адреса. Я сразу вдруг вспотел и ослаб, чемодан чуть не выпал у меня из руки. На улицу я вышел другим человеком, худым и сутулым еврейским мальчиком, снова, как прежде, ни в чем не уверенным, опасающимся всего на свете.
Петровское кладбище тянулось на целую улицу, полностью занимало одну ее сторону, а на другой стороне было много домов, и в каком именно, — поди угадай. Нельзя же было обойти все (хотя мысль такая, пусть на краткий миг, тут же у меня возникла). Остается ждать случая, чуда. Да вот — танцы у Ривы! Я буду ходить туда каждый вечер, два раза, допустим, ее не будет, но на третий она непременно появится. Я буду стоять один у окна, буду ждать ее и менять пластинки. «Что с тобой стряслось, — спросит Рива, — не танцуешь, а ходишь, как на дежурство. Поспорил с кем-нибудь? Или дал зарок?» «Зарок, — скажу я, — как ты угадала?» — «Ну-ну, это было нетрудно. Не скажу много, но немножко я вашего брата знаю. Все вы, мужчины…» И так согреет меня это слово в дурацкой испытанной фразе, такие сильные крылья прицепит мне на лопатки, так по-новому посмотрю я Риве в глаза… И она вытащит мягкую руку из-под груди и погладит меня по щеке — аккуратно, внимательно, ласково и подробно — совсем не как мать… Медленно, медленно, двадцать градусов, еще десять, еще пять, постепенно повернусь я к ней спиной — и буду уже совсем иным, изменившимся, что-то такое чужое присвоившим и несущим в себе, как свое. Что делать, раз мне это надо! Я уже буду сильным и точным и не стану крутить головой, как в тумане, не стану пялить глаза во все стороны, а взгляну прямо туда, на угол сарая, на обитый ржавым железом угол, откуда сейчас, сию минуту выйдет Тамара. Она будет в розовом… нет, в голубом платье, и так оно будет ее облегать, и такие длинные белые руки, и такие длинные белые ноги, только чуть розоватые, почти без следов загара — впрочем, в сумерках я этого не разгляжу. Она сразу увидит меня… Нет, лучше не сразу. Пусть она еще пройдет нерешительно, слегка смущаясь, внутренне выстраиваясь, еще только готовясь как-то себя вести, пусть так пройдет середину двора, спотыкаясь на выбоинах и камнях, — и тогда уже вскинет глаза и увидит. И — «Ого, — скажет, — Саша, вот это случай!» — «Нет, — скажу я, — это не случай. Это я тебя ждал». — «Вот молодец! Как же ты знал, когда я приду?» — «Знал. Я все про тебя знаю…» Впрочем, нет, этой пошлости я не скажу. Просто: «Знал». — «Я так рада! — скажет она. — Я жалею что осталась на эту вторую смену. Такая была тоска („Без тебя“, — чуть не скажет она)». Я возьму ее за руку… Тут я должен перевести дыхание. Я возьму ее за руку. «Потанцуем?» — «А ты любишь танцевать?» — спросит она. «Люблю! — скажу я, вложив в это слово особый, дважды усиленный смысл. — Люблю! Ты же видишь, если б не танцы, мы могли бы с тобой никогда и не встретиться». — «Да-да! Страшно подумать!» — скажет она.
5
— О! Наконец-то. — Глаза у мамы тревожные, красные.
— В чем дело? Ты волновалась? Да что со мной…
Я осекся. Дело было сейчас не во мне. Что-то действительно произошло. Яков ходит в пижаме, роется в шкафу, открывает и закрывает чемоданы. «Вторник, — подумал я, — будний день…»
— Дай ему, — бросил он маме, — пусть он отвезет.
— Он устал? — полусказала-полуспросила мама. — Пусть, может быть, чаю попьет?
— Нет, вы послушайте! — взвился он фальцетом. — Вы послушайте, что она говорит! Мне уже все, мне конец, мне крышкэ, а он будет сидеть и жрать. Что ему, плохо? Что ему, жалко? Я буду в тюрьме лизать гомно, а он будет пить чай с сахаром. Гит! Хорошо! Погладь его по головкэ…
— Ну ладно, ладно, — сказала мама решительно-примирительным тоном. — Перестань, хорошо, сейчас он поедет.
— К Марии Иосифовне! — сказала она мне подчеркнуто твердо, так, чтобы он остался доволен. — Отвезешь чемодан. Не задерживайся. Туда и обратно.
Больше я не спрашивал, что случилось, не спросил и что лежит в чемодане, не спросил ни о чем и у Марии Иосифовны, а только поддакивал и пожимал плечами так, будто знаю не меньше ее, но не желаю болтать лишнее. Опять, как и прежде, все разумелось само собой. Молчаливый наш договор действовал, я не был в силах его нарушить.
Всю ночь они с мамой не спали, ждали, когда придут. Пришли под утро. Я сразу проснулся от стука в дверь и сразу понял, что просыпаться не следует. Я лежал, повернувшись к стене, стараясь ровно дышать, и меня не стали тревожить. Обыск был простой формальностью, они знали, что он предупрежден. Две старушки соседки были понятыми, сидели молча, подавленные. Те трое ходили по комнатам, переговаривались. Он держался спокойно, не суетился, не причитал, ни о чем не просил. «Одевайтесь!» — сказали они ему. Он спокойно оделся, обнял маму, сказал: «Не волнуйся», — и вышел.
Как это так получилось? Я не радовался его уходу. И совсем не потому, что было мне жаль, это потом уже, через годы, стал я его жалеть. Я не мог радоваться, потому что не должен был радоваться. Моего отца (так говорили соседи, так говорили ребята на улице, так говорили у нас дома чужие, непосвященные люди, посвященные в его, не в мои дела), моего отца постигло несчастье — нельзя же было этому радоваться. Это был естественный и бесспорный запрет, а запретов я не нарушал. Разумеется, и свободу, которую я вдруг получил, и легкость, воцарившуюся у нас в доме, я не мог не почувствовать и не оценить, но и в этом я не давал себе воли. Жизнь моя должна была отравляться мыслями о бедственном его положении — и она этими мыслями отравлялась. Участвовало ли здесь, ну хоть самую малость, некое доброе начало? Вряд ли, не думаю. Ни на секунду я не чувствовал мучений Якова, никаких его страданий не мог вообразить, а только знал доподлинно, что ему плохо, а раз плохо — то не хорошо. То есть: раз человеку плохо, то не может быть от этого кому-то хорошо. Например, мне. А то, что мне самому было плохо при нем, — это тоже стало отныне запретной мыслью. Удивительно, даже в сердце своем я не мог нарушить!
Каждый месяц двадцать третьего числа мы с мамой отвозили в тюрьму передачу. Двадцать третьего принимали на букву «Р». В этот день я уже на всю катушку растравлял свою грусть и свое сочувствие — не для внешнего вида, а искренне, по душе. Но была эта грусть беспредметна, а сочувствие было безлично, как бывает в день поминовения усопших — не каких-то конкретно, а так, вообще… И, странно, я не запомнил ни здания тюрьмы, ни дороги к ней от метро, никого из людей, ожидавших очереди, ни самой процедуры приема. Помню только запах — колбасы и яиц. Да еще широкий лоток перед окошком, обитый белым оцинкованным железом. Надо было упереться в него животом, перегнуться и вытянуться вперед, и толкать и подсовывать пакеты и банки, и протискивать их в глубину окна, пока хватало кончиков пальцев.
Показалось мне в эти дни, что и мама тоже не столько всерьез сочувствует Якову, сколько честно и добросовестно выполняет свой долг. У меня же и долга никакого не было, никакой между нами не было связи. Не было — и вдруг она обнаружилась.
Посадили не только его одного, загремело все руководство артели, а среди остальных — также и Яшка, Ривин чудаковатый муж. В пионерских лагерях еще не кончилась вторая смена, а танцы у Ривы прекратились, и уже навсегда.
6
Не могу сказать, что я жил одной этой мыслью. Много всяких других бродило у меня в голове. И не то чтобы та была ярче и резче очерчена. Скорее даже наоборот, это был расплывчатый неяркий рисунок, но занимавший все пространство сцены, расписной задник, на фоне которого происходила вся остальная жизнь. Другие события, другие чувства поглощали мое внимание, и казалось порой, что все, что кончено, ничего того для меня уже нет. Но расслабишься на секунду, соскользнешь в сторону взглядом, и смотришь: вот оно, тут как тут, присутствует постоянно… Странная светловолосая девочка, с которой я не проговорил и часа, белые ноги, черная футболка, и это неотвязное движение рукой… Что-то все же со мной тогда произошло, какое-то прошлое случилось в моей жизни. Это была уже как бы модель иного, взрослого состояния, с прошлым, которое важнее и ближе настоящего. Я переходил в другой разряд.
Друг мой Ромка выслушал меня с интересом, посерьезнел, даже чуть-чуть помолчал, но от похлопываний по плечу все же не отказался. Это так уже было заведено, наши роли раз и навсегда расписаны, нарушать тут тоже не полагалось. «Все ясно, — сказал он, — я тебя понимаю. Но знаешь — плюнь. Мало ли баб по улицам ходит. (Он уже уверенно говорил „баб“.) Хочешь, пойдем на веранду, подцепишь чувиху в тыщу раз лучше твоей… (Черт дернул меня сказать ему имя!)».
Почему-то я легко его словам поверил и так и представлял себе танцверанду, где не был еще ни разу: волшебная музыка, полумрак и целая толпа приветливых девушек, каждая из которых ну не в тыщу раз, но что-то вроде Тамары. С такой, другой Тамарой я готов был ей изменить.
Полумрака не было, ярко светили огромные лампы, обнажая мою растерянность и беззащитность. Волшебную музыку изображал один пожилой аккордеонист: по средам у оркестра бывал выходной, сегодня была среда. Я сразу вспомнил пионерский лагерь, не Тамару, а так, вообще лагерь, во всей его для меня совокупной прелести. Запахло общей столовой, хлебными шариками в супе. «Это чей там?..»
Полной свободы тогда еще тоже не было. На один современный танец полагалось два или три бальных. Аккордеонист, видимо, держался за место и от инструкции не отступал. Все эти краковяки и па-де-эспани разрежали центр и сгущали кольцо вдоль стены. В центре, взявшись за руки, трепыхались девушки. На вальс кидались решительно все, но делали вид, что это танго. Когда же действительно наступала очередь танго или фокстрота (это называлось «медленный танец» и «быстрый танец») — вся огромная круглая клетка начинала кишеть и роиться, шарканье ног заглушало музыку, а запах пота стоял, как в борцовском зале. Хотелось домой, но уйти я не мог. Почему? Да все потому же. Я пришел сюда, чтобы познакомиться с девушкой, и значит, должен был это сделать. Познакомлюсь — тогда уйду, а иначе никак нельзя.
Понемногу я осматривался. Наврал мне Ромка. Ничего похожего на… известное нам лицо не наблюдалось. Попадались изредка симпатичные, но и к ним не испытывал я никакого чувства. Впрочем, все они были уже заняты, все, что было достойно хоть какого-то внимания, было этим вниманием окружено. И заботой — чтобы не увели. Ромка, впрочем, нашел себе нечто приличное и ходил вокруг этой своей находки и тоже — лелеял ее и берёг. Я же танцевал с какой-то дурнушкой, даже с двумя, такое разнообразие, и каждой застенчиво врал, что учусь в институте. Поверить этому было нельзя, они и не верили. Они стояли, прижимаясь друг к другу, держась под ручки, и непрерывно разговаривали, жестикулируя и артикулируя, так что со стороны могло показаться, будто им никто другой и не нужен, будто они и пришли сюда специально, чтобы встретиться и наговориться. Я вставлял порой незначащее слово, не умнее и не глупее ихних, но они делали вид, что не слышат, смотрели исключительно друг на друга, и даже если замолкали, прислушиваясь, и даже если хихикали на что-то, имеющее быть остроумным, то и это — как бы в ответ друг другу, на какие-то свои, а не мои слова.
Одна была потемней и повыше, коротко стриженная, с крупными веснушками, сплошь покрывающими невыразительное лицо, худую шею, длинные руки. Другая, посветлей, пополней и пониже, несла на спине своей длинную косу, но даже коса ее не украшала, казалась отдельной и лишней. Я танцевал то с одной, то с другой, а больше стоял, топтался, участвовал, ждал, когда эта мука кончится. Наконец, аккордеон надежно умолк, и толпа бросилась вон из клетки. Я махнул на прощанье рукой Ромке, заботливо склоненному к своей, добытой, но урвавшему все же миг, чтобы взглянуть в мою сторону. Мы прошли по темному парку к выходу, они — под ручку, нежно держась, а я — в стороне, но как бы и вместе. Тротуары блестели: пока мы топтались на пыльных досках, здесь, в открытом мире, прошел дождь. Посвежело. Ничего не хотелось. Хотелось домой…
И я раскрыл уже было рот для прощания, но тут же закрыл — и вовремя. Странное слово, очень важное для меня сочетание звуков, начало вдруг выплывать из дурацкого их щебетания. О чем они говорили? О девчачьих своих делах, о каком-то дешевом и красивом платье, фасон которого надо взять…
— У какой Ка-релиной? — спросил я, дрожа от холода. — У Тамарки Карелиной? (Никогда, даже мысленно, не называл я ее Тамаркой, но здесь — животом — почувствовал уместность.)
— У Тамарки, — удивилась полная. — А ты ее знаешь?
— Х-хо! — сказал я. — Конечно, знаю, мы же с ней в лагере… (Дурак, а институт? Но они не заметили, да и было уже это неважно.) А вы живете с ней или учитесь?
— Маринка, — она кивнула на подружку, — Маринка живет с ней в одном доме.
— Где, где, в каком доме?!..
Очень зло посмотрела на меня Марина, и я в первый раз ее пожалел.
— Ишь ты, в каком! Будешь много знать — скоро состаришься.
«Умница!» — усмехнулся я про себя, а вслух сказал:
— Да это я так. Я знаю где. Напротив кладбища, верно?
— Верно, — сказала Марина, отвернувшись в сторону. — Если знаешь, так и нечего дурака валять…
«Напротив» — означало для меня: с другой стороны. Там я и предполагал искать, если бы когда-нибудь всерьез решился. Мое счастье, что не пришлось этого делать, потому что дом, где жила Тамара, находился не напротив, а рядом с кладбищем, на той же самой стороне улицы, и хотя от кладбищенской кирпичной стены его отделяло изрядное пространство: палисадник, пустырь, развалины церкви, — все же это была не улица, и этот именно дом я никак не стал бы учитывать.
Знал ли я, видел ли его прежде? Господи, да тысячу раз! Это был длинный двухэтажный барак, топырившийся множеством разнотипных крылечек. Квартиры там были с отдельными входами, небольшие, каждая — на две-три семьи.
— Ну вот, — сказала Марина, — вот мое крыльцо.
Мы были одни. Толстая наша коса юркнула десять минут назад в подъезд пятиэтажки на Потемкинской. Эти последние десять минут были мучительны для нас обоих. Мы шли рядом, то касаясь друг друга локтями, то расходясь далеко в стороны. Она напевала, я бормотал, шагал неуклюже, спотыкался на ровном месте, лихорадочно ворошил в мозгу все известные мне интонации и, назначив себе наиболее, как казалось, надежную, разворачивал жиденький диалог на ближайшую тему: не страшно ли жить возле кладбища. Я открывал рот, я закрывал рот, я слушал ответ с бесконечным вниманием, я мычал, вспоминая веселые шуточки о покойниках, — и от этих шуточек тошнило меня, как от английской соли, и вот я говорил уже почти беззвучно, так что она по нескольку раз переспрашивала, но это было как раз хорошо, потому что на это уходило время, а оно шло теперь не зря: мы приближались к дому Тамары…
— Ну вот, — сказала она, — вот и мое крыльцо. А Тамаркино — вон, последнее, знаешь, наверно? Я на первом, а она на втором этаже.
— Знаю, — кивнул я, не глядя, — она на втором… А ты, значит, на первом… Ну что ж, буду к тебе теперь в гости ходить. Позовешь? (Голос незримого Ромки подрагивал у меня в горле.)
— Позову! Придешь? — она вдруг оживилась, вскинула голову. — Приходи!
И я с удивлением подумал, что ведь и верно — приду…
Мы стояли с ней по разные стороны крыльца, каждый опирался на свое перило, никуда нам не надо было идти вместе, мы легко могли оборвать разговор, — и оттого, быть может, не обрывали, а стояли вот так и говорили запросто, радуясь взаимному расположению.
Что же завтра? Завтра можно в кино. Она с готовностью согласилась. А сейчас уже поздно, холодно, ей нужно домой. Она опять согласилась, попрощалась вкрадчиво, но не уходила, стояла молча, смотрела в сторону. Я догадался, придвинулся к ней, потянулся губами к ее щеке, безо всякого желания, просто зная, что надо. Она пробормотала: «Что ты, что ты!..» Но не отодвинулась, а повернула голову, так, что я попал на уголок ее рта. Свершилось!.. Губы ее были сухи и безжизненны.
7
— Ничего, — сказал Ромка, — не унывай! Мымра, конечно, первый сорт, что и говорить, но это ничего, морду можно полотенцем прикрыть, а остальное у них одинаково…
Совсем недавно он узнал, каково оно, остальное. Опыт его был еще небогат, но делился он им с большим удовольствием. Впрочем, надо отдать ему должное, он провел всю операцию с большим хладнокровием. Заранее выбрал объект, рассчитал все этапы, разделил задачу на ряд примеров и каждый выполнил с высокой точностью. Она была продавщицей в овощном киоске, и разглядеть ее привлекательность и готовность мне лично помешали бы вечно грязные ее руки, замызганный передник и хриплый голос, с утра до вечера выкрикивавший ругательства. Ему же это все не помешало, он разглядел. Он обхаживал ее ровно три дня, каждый день приближаясь на необходимое расстояние, на четвертый принес четвертинку водки и поставил ей на прилавок. Она молча кивнула, открыла ему дверь, закрыла ставни, и в душной полутьме, в прелой картофельной пыли, сидя на ящиках из-под яблок, они распили четвертинку и закусили зеленым огурцом. Затем она встала, в узкий проход позади прилавка побросала кучу пустых мешков… И тут уж Ромка не скупился на подробности. И как она то, и как она это, и что говорила, и что приговаривала, и как потом хвалила его и упрашивала на ней жениться, и обещала ему золотые горы, а он ответил ей, что подумает, но чтоб она к нему пока не приставала…
Итак, дружок мой поднялся выше, перешел в другую весовую категорию, я же по-прежнему оставался внизу. И если он иногда, прищурившись, замечал меня невооруженным глазом, то проявлял теперь несравнимо больше доброты и отеческой заботы: его преимущества были неоспоримы.
Я окончательно это понял, когда однажды втроем, я, он и Марина, мы пошли гулять в наш детский парк, примыкавший к кладбищу, а вернее, расположенный на старой его территории — мы еще помнили, как оттуда вывозили памятники и как бульдозеры разравнивали могильные холмики. Развлечений в парке было немного: зимой — каток и горы, летом — игротека и тир. Мы ходили по аллеям, пили воду, сидели на скамейке. И если в прежнее время друг мой Ромка не упустил бы случая — мымра, не мымра — показать себя с наилучшей стороны, а меня, соответственно, с наихудшей, не обидеть, не унизить, ничего не сказать плохого, но наметить незаметно, как бы случайно, два-три направления разговора, где бы я попадал в тупик, упирался в забор, стукался лбом и растерянно останавливался и где он проходил бы легко и красиво, то теперь он вел себя скромнейшим и тишайшим образом, выказывал мне различные знаки уважения и даже в тире мазал по всем мишеням и в конце концов отказался стрелять, сокрушенно махнув рукой, хотя стрелял, вообще говоря, неплохо.
Результат, впрочем, получился тот же, что и всегда. «Не нравится мне твой Ромка, — сказала она мне назавтра. — И давно ты с ним дружишь? И где, говоришь, он учится? И что же он раньше не появлялся?..» Ну и так далее. Я уличил ее и поссорился с радостью: она и сама становилась мне в тягость и к тому же мешала думать о Тамаре…
Казалось бы, скорее наоборот, я многое мог от нее узнать, они ведь были соседи. Но на самом деле никакой разговор на эту тему с ней был невозможен.
«С кем живет? — переспрашивала она и делала длинную паузу, и поправляла куцую свою прическу, и перепрыгивала через лужу, изображая легкость и грациозность, при этом ее ноги разбегались в разные стороны, правая забывала догнать левую, она неловко топталась на месте, выравнивая походку, брала меня под руку и наконец отвечала: — С матерью живет. Нет отца. Не знаю. А тебе зачем?» И следующий свой вопрос я оставлял уже на следующий день. Но это было еще хуже, потому что получалось — каждый день об одном и том же. «Так-ак! — тянула она на этот раз бесцветным, занудливым своим голосом. — Та-ак, значит… Ну и ну!.. Вот это да… Теперь понятно…»
И только однажды вдруг заговорила сама.
— Наша-то Алексеевна — знаешь? — не живет уже у нас в доме.
— Какая Алексеевна?
— Ну как же какая, Тамара твоя ненаглядная.
— Что, что такое? Что — Тамара?
— Ничего. Не живет в нашем доме, и все.
— Как, почему?
— А! Вот то-то! Переехала. Мать ее замуж вышла. За офицера. С погонами. Представляешь?
— Так… И где же она теперь?..
— Захочешь — узнаешь. Мне-то зачем. Говорят, видели ее у Самарского. Обойдешь все дома в том районе, расспросишь.
Мне стало не по себе от нечаянной ее проницательности. Не могла же она знать, что когда-то я и вправду об этом подумывал. Но тогда мне не пришлось ходить по домам, я встретил ее, Марину. Теперь не хватало сказочного повтора. Вот я снова пойду на веранду, на танцы, познакомлюсь с первой попавшейся мымрой — это будет новая соседка Тамары… Но зачем мне теперь это чудо, что я с ним буду делать? Буду встречаться с той новой, такой же скучной, буду изредка видеть Тамару с другими и ждать, когда она в третий раз переедет… Нет уж, не надо ни подруг, ни соседок. Упустил — значит, не судьба.
8
Так случилось, что это мое освобождение совпало с освобождением Якова. Энергичные жены, заседавшие у нас по субботам, сумели купить кого надо, и вот уже моя мама ждала назначенного часа, чтобы ехать туда, за ним, и нервно ходила по комнате, поблескивая прекрасными своими глазами, и с заметным внутренним усилием, как заглохший мотор, разогревала и поддерживала в себе давно забытую радость. Как всегда, она здорово пережимала. Можно было опасаться, что весь ее запал иссякнет задолго до встречи, на которой и надо будет его демонстрировать.
Что касается меня, то я был не более искренен. Возможно, что ей-то его приезд сулил хоть какие-то блага, мне же — одни огорчения. И однако я не позволял себе огорчаться, как несколько месяцев назад не позволял себе радоваться. И тоже — делал над собой усилие, стараясь припомнить все хорошее, что могло иметь к нему отношение. Но как назло, таких его черт, не то чтобы приятных, но хотя бы нейтральных, набиралось в моей памяти не более двух-трех, и не то что на образ — на простенькую схему не мог я ничего наскрести. Зато всякая горькая муть поднималась со дна от этих усилий и, крутясь, как смерч, оставляла на дне воронки совсем иную фигуру, противоположную той, что привиделась мне в моих добродетельных снах. И вот, не успевал я опомниться, как уже наслаждался реальностью этой фигуры и, забыв подумать, хорошо это или плохо, любовался четкостью ее линий, чуть дрожавших под напором моей ненависти — такого странного, такого сладкого чувства, как давно я его не испытывал!..
— Был ли я к нему справедлив? — спросите вы сегодня. —Нет, — отвечу я вам сегодня же, — я не был к нему справедлив. — Так ли уж был он ужасен? — спросите вы вслед за этим. — Нет, — отвечу я вам, не помедлив, — нет, он не был ужасен. Да, скупой!.. Но уж это просто смешно, это просто нелепо, это, я бы сказал, унизительно — заводить сегодня всерьез разговор о скупости, и не так мы просты, чтобы вовремя не понять, что скупость Якова — есть лишь внешнее проявление чего-то иного, лишь некий конкретный символ, лишь поверхностный результат, доступный простому глазу, за которым стоит целый ряд глубинных процессов, связанных с самыми тонкими…
9
Гладкая прямоугольная восьмиэтажная коробка из крупных панелей в мелкую шашечку; тугие стеклянные двери туда-сюда; толпа робеющих родственников; соки, компоты, свертки, букеты, мокрая, расползающаяся бумага: полиэтиленовые мешочки были еще в новинку…
Мы прошли беспрепятственно: он считался тяжело больным, к нему был выписан пропуск. Мы поднимались в лифте на пятый этаж, мама смотрела прямо перед собой, в свое отражение на пластиковой стенке, и молчала. Я тоже — не знал, что сказать, перекладывал из руки в руку ее тяжелую черную сумку, в которой были такие же, как у всех, компоты, свертки, пакеты, никому, как вскоре оказалось, не нужные.
Я давно уже жил отдельно от них, две недели назад у меня родился сын, и сейчас каждый мой день до краев был заполнен заботами, насыщен подробностями той странной, напряженно-праздничной жизни, где нет мелочей, а все одинаково важно. Маленький крикливый зверек, странным образом имевший ко мне самое непосредственное отношение, оказался вдруг в центре мира, все же остальное, и люди и предметы, играло теперь вспомогательную роль, было лишь средством для его существования и исправного функционирования. И если раньше, когда я жил для себя и отчасти для другого, эта самая часть взаимно перекрывалась и была оттого незаметной и вроде бы как и необязательной, — то теперь жизнь для другого становилась безоговорочной необходимостью, я уже не мог не отдавать свою часть, он не мог ее у меня не брать, от этого зависела его жизнь — и моя тоже.
Он лежал на спинке, работал беспорядочно своими тонкими паучьими лапками с красными подопревшими пальчиками и орал почти непрерывно. Я ложился рядом с ним на диван, рассматривал в упор его сморщенное личико и не уставал поражаться его сходству с моим. «Не может быть, — думал я часто. — Не может быть, чтобы так точно! Я — это ведь только я, никто не может быть мной, кроме меня. Но вот — пожалуйста! Как же так? Да-да, не во всем, да-да, он будет меняться, но вот сейчас я смотрю на него и вижу: это — я!» Как-то сразу, в несколько дней, я почувствовал, что получил, наконец, самое главное: и смысл жизни, и бессмертие, и верную точку опоры…
И так я был полон этими заботами и этими мыслями, что ни для чего другого не было во мне места. И вот теперь это место потребовалось, приходилось потесниться, и вот я уже стоял в лифте, вертел сумку с компотами и не очень-то понимал, где я и зачем.
«Возле третьей палаты», — сказали в справочном. Он сидел в коридоре на раскладушке, и оттого, что именно сидел, а не лежал, было еще страшнее. В лежащем человеке не так видна беспомощность, здесь нет почти никаких вариантов позы: ну руку на грудь положить, ну голову вбок повернуть. У сидящего возможностей несравнимо больше… Он сидел на раскладушке, и еще издали, до всяких всматриваний и оценок, пронеслось у меня в голове: труп! Именно так бы сидел труп, если бы его посадили. Но уже за десяток шагов от него начинало слышаться его страшное дыхание, хриплый свист, бессмысленно холостой, скользящий туда и обратно без всякого зацепления.
Он сидел, тяжело опершись на подушку, лежать он уже не мог — задыхался, грузное его тело глубоко прогибало матрас, так что колени приходились на уровень груди. Руки были безжизненны, ногти посинели. Простыня под ним была черна от какой-то невиданной рвоты, никто не подходил к нему, никто не убирал.
Он услышал нас, приоткрыл глаза, не сразу поймал промежуток между свистами и прошептал: «Драсти». — «Ну? Как?» — спросила мама, и он пошевелил немного губами и чуть-чуть качнул головой. Это должно было означать, что плохо.
Жить ему тогда оставалось два дня, и умереть он должен был не от астмы, которая мучила его много лет, и не от острого холецистита, который ему ошибочно приписали врачи, а от самого обычного аппендицита, который эти врачи проглядели.
«Все там будем, — сказал мне патоанатом, — годом раньше, годом позже — какая разница!» — «Никакой, — ответил я ему, задыхаясь от злости. — Но вы-то наверняка предпочитаете позже». — «Ну-ну, — сказал он мирно, — ничего не поделаешь. Человек не прозрачный, кто его знает, что у него там, внутри…» — «Господи! — закричал я. — Да как вы можете! Что вам, душу, что ли, предлагают лечить? Уж кишки-то можно было прощупать? Чего проще — аппендицит! Просто поленились — и нет человека…» — «Все правильно, — сказал он, отдавая мне справку о смерти (я взял ее нерешительно, сперва взглянув ему на руки). — Все правильно, только не по адресу. Это ведь не мы, это они лечат. — Он кивнул в сторону больничного корпуса. — То есть они думают, что лечат. Но мы-то, анатомы, хорошо знаем: вылечить человека невозможно. И пытаться не надо — все равно непременно умрет. И поэтому мы не лечим, а режем то, что осталось. Уж вреда, по крайней мере, никому не приносим, смею вас уверить… Будьте здоровы, молодой человек. Не болейте!» Он широко распахнул передо мной дверь, и я вышел наверх, к похоронному автобусу, в котором уже стоял желтый, дощатый, с дверными ручками по бокам…
Но тогда он был еще жив, сидел на раскладушке, вернее, находился в сидячем положении, и мама тут же бросилась к сестрам — за простынями, уколами, кислородными подушками…
Мы остались с ним одни, если можно было так сказать: весь коридор был уставлен койками, и в железную раму его раскладушки упиралась тумбочка соседа. И все же мы были с ним одни, как-то это сразу почувствовалось. И он поднял веки и взглянул на меня — не вообще взглянул, а именно на меня — и губы его снова зашевелились. Я сказал на всякий случай: «Да-да» — и кивнул головой. Но ему было важно, чтобы я понял, я увидел с ужасом, как слезы выступили у него на глазах — никогда прежде я не мог бы представить его плачущим. Может быть, это было от чрезмерного напряжения, может быть, от отчаяния, но возможно, что и от другого. Он стал дышать еще громче и чаще, но и те звуки, которые он сознательно и с таким трудом пытался издать, стали складываться в нечто определенное, и вот: «Как там маленький? — услышал я, содрогнувшись. — Как маленький?..»
Что-то я бормотал в ответ, поспешно и благодарно, но он уже обмяк и потух и вряд ли меня слышал…
И вот, все, что я написал о нем раньше, — было ложью, хотя и правдой. Все это было ложью, так как было только частью правды. Я писал так, будто и сейчас, в момент писания, жил в том далеком времени, будто и сейчас не знал заранее этой последней сцены, этого его последнего ко мне обращения, на которое он истратил свои последние силы. А ведь я уже знал, когда писал. Как же я мог?
Глава вторая
1
Если бы я всерьез заботился о занимательности изложения и неотрывности интереса читателя, а точнее, если бы был уверен, что этот интерес есть интерес к событию, а не лично к автору, — я бы непременно и без всяких усилий придумал какую-нибудь душещипательную историю, чтобы объяснить, почему же я тогда, сразу, так и не встретился с Тамарой.
Я знал ее дом, этаж, подъезд и номер квартиры. Я знал точное время ее приезда. Мне не надо было вновь наводить мосты — мы были знакомы и уже в простых отношениях. Что же случилось? Что могло случиться, кроме того, что я влюбился в другую?
Помню, я только что прочел «Вешние воды» Тургенева, тонкую книжечку в мягком переплете «Народной библиотеки», где на обложке невозможно элегантный Санин, с тростью в одной руке и шляпой в другой, стоит в нерешительности перед домом Джеммы…
Я хранил эту книгу в нижней части книжного шкафа, за деревянными непрозрачными дверцами; видеть ее постоянно было выше моих сил. Но я часто, слишком часто, и всегда в одиночестве, когда никого не было дома, открывал эти дверцы, садился на пол, брал ее в руки и раскрывал — не наугад, не где придется, а на определенных, излюбленных и залюбленных страницах, и в поспешном и лихорадочном молчании предавался сладкому греху перечитывания — перечувствования и переживания всего того, что многократно уже было прочувствовано и прожито. Я читал напропалую, я шел вразнос, я доводил себя до изнеможения и, только чувствуя близость опасного предела, отрывался от чтения, закрывал дверцы и, обессиленный, валился ничком на диван.
Я не знал еще тогда, как болит сердце, но спину у меня уже ломило вовсю и в горле стоял упругий комок. Я обожал их обоих — я был поровну ими обоими — и никакой, ну ни малейшей надежды не было у нас впереди, потому что все самое страшное уже случилось. Все было в прошлом — а болело сейчас, какая безысходность, какая несправедливость! Эта книга стала моим первым учебником непоправимости.
Тут, быть может, как раз и пришлась бы кстати история с этой женщиной.
Во дворе нашего дома стоял флигелек. Окружен он был забором из тонкого штакетника, за забором же был настоящий сад — вишня и сирень. Вот в этом флигеле она и жила, с матерью и двухлетней дочкой. Муж от нее ушел, но иногда по ночам приходил, перелезал, пьяный, через забор, стучал в двери и окна, орал и ругался. Потом ложился на траву и засыпал до утра. Мохнатая черно-белая Пальма помнила его и не лаяла… «Как это он не простудится? — удивлялась мама. — Порядочный человек на его месте давно бы получил воспаление легких, хотя как бы порядочный человек оказался на его месте?» — «Водка его греет, — говорил Яков. — Водка его согревает, водка. А что ты думаешь, что? Водка — это спирт. А спирт — это… он согревает. Согревает, а что ты думаешь. Спирт его греет, и ему не холодно. Ему тепло. Он может так проваляться целую ночь, и встанет, и пойдет опохмелится, пойдет, и ничего, можешь за него не беспокоиться…»
Из наших двух окон одно выходило во двор, прямо на флигель, и в жаркие летние дни я наблюдал, как она, вернувшись домой после утренней смены, выходила в сад загорать — в красном цветастом купальнике, в широкополой шляпе, как в фильмах про дореволюцию, в незастегнутых босоножках, шлепавших при каждом шаге по пяткам. Дверь флигеля просматривалась свободно, там я мог ее хорошо разглядеть, но дальше начинались густые заросли, да еще забор, да еще расстояние метров пять, да невозможность высунуться в окно: решетки — так что тут уж напряженному моему взгляду доставались только отдельные пятна. Если голое тело — значит, рука или нога, если красная ткань — значит, что-то другое, что именно — это был вопрос воображения. И только лицо не оставляло сомнений: ухо со светлым завитком шестимесячной завивки, или часть щеки с уголком рта, или переносица и один глаз — оба не умещались ни в какой из просветов…
И поэтому, когда она была еще у двери, сходила вниз по деревянным ступенькам, поправляла шляпу и шлепала босоножками — я вцеплялся взглядом в ее фигуру, многократным обводом закреплял ее в памяти, чтобы потом, в саду, по немногим видимым деталям — дополнять, дорисовывать, восстанавливать. И тяжелая, хлопотливая эта работа волновала меня гораздо больше, чем простое разглядывание ясно видимого. Я любил именно ту женщину, воображаемую и почти скрытую в листве, она была здесь главным действующим лицом, эта же, у двери, играла вспомогательную, чисто служебную роль.
(Это ведь и вообще так. Всякий факт жизни, всякая реальность — только на то и годятся, чтобы служить исходным материалом для образа. Образ — вот наша ежеминутная цель. И женская нагота — вопиющая реальность — волнует нас меньше, чем полунагота, которая есть не что иное, как образ этой реальности…)
Я вставал с дивана, выходил во двор, медленно приближался к забору флигеля, медленно-медленно шел вдоль него, гроздья сирени с той стороны (свесившиеся наружу все уже были оборваны) окутывали мне голову душным своим ароматом, а за ними, в гуще кустов и цветов, там, где «угадывается качель, недомалеваны вуали», был слышен скрип гамака и ее голос, звавший дочь: «Асенька, Ася, не плачь, вставай скорее, иди к маме, мама Асю обнимет, мама Асю поцелует…» Обнимет, поцелует… обнимет, поцелует…
И вот однажды… Но это и была бы история, которую следовало бы мне сочинить. И уж я бы постарался, поместил в нее все, что надо! Там был бы и негромкий зов, окликанье по имени, ее голосом мое имя, и «Пальма, ко мне, не смей, это свой!» (я — ее!), и тихий разговор, сидение на лавочке у длинных ее загорелых ног, свесившихся из гамака, и — дальше нельзя, не поднять взгляда, и — «У тебя, наверно, интересные книжки, принес бы, так скучно мне здесь одной», и — «Заходи в гости, приходи почаще, просто так, когда захочешь…». И в следующий раз — уже комната, полутемная от прикрытых ставень, с полосами света из щелей — на стенах, увешанных фотографиями, и на крашеном, только что вымытом прохладном и гладком полу. Шкаф с ее платьями и прочей одеждой, стол, накрытый белой крахмальной скатертью, кровать с покрывалами и подзорами… И она — опять в купальном костюме, ну, может быть, в легком, распахнутом сарафане — «Так жарко, ты уж меня извини…». А потом…
«Тебе хорошо со мной, правда?» — «Господи, ты еще спрашиваешь! Как я прежде жила без тебя — и представить себе не могу…»
2
Года за полтора до того я лежал в больнице со скарлатиной — оказалось, что ею можно болеть и в таком, нескарлатинном возрасте. Нас было пять человек мальчишек от двенадцати до пятнадцати лет, и положили к нам совсем уже взрослого парня, двадцатилетнего солдата-татарина Лешку. Его привезли прямиком из казармы, он работал в стройбате крановщиком, был он красив, весел и бодр, говорил и балагурил почти без умолку. Отношение его к лежанию в больнице оказалось прямо противоположным нашему: то, что для нас было наказанием и неволей, он воспринимал как свободу и праздник. «Солдат спит — служба идет». Единственно, что его расстраивало, — это отсутствие женщин. «Систра! — говорил он миловидной, фигуристой Зине. — Систра! У миня жар, у миня высокая тимпиртура». — «Вы же сегодня мерили, — строго отвечала Зина, — у вас тридцать шесть и семь». — «Мирил, мирил. Плоха мирил, тирмометыр плохой…» — «Ну, померяйте еще, я сейчас принесу…» — «Ни нада! Ни нада! Ни нада мни твой тирмометыр, ниправильный он». — «Странный вы человек, Бидердинов, как же я узнаю вашу температуру?» — «Как узнаешь? — хитро взглядывал на нее Лешка. — Как узнаешь? А просто узнаешь. Ложись со мной в постель — вот и узнаешь!» — «Как вам не стыдно, — вскидывалась Зина, — здесь же дети!» — «А дети выйдут, погулять пойдут, детям очень гулять нада, а мы с тобой — тимпиртуру помириим». Зина фыркала, краснела и уходила. Лешка хохотал ей вслед. «Она ни против, — объяснял он нам, — только ниудобна ей, нипрылична, женщина все же…»
Изливая сублимированную свою энергию, он с утра до вечера рассказывал нам о своих разнообразнейших похождениях. Впрочем, разнились они только местом действия да именем или возрастом партнерши. В остальном все протекало одинаково. Сначала — разрешите познакомиться и прочее, шуры-муры, культурные беседы, затем — укромное местечко, поцелуи-уговоры, иногда для остроты — немного слез, и наконец: «Платье — вира, трусы — майны, полный порядок и жми на рычаг!..»
Возможно, эти его истории и имели какую-то реальную основу, но был среди них особый рассказ, отдельный, наверняка целиком воображенный, придуманный от начала до конца. Именно этот, сочиненный рассказ Лешка любил больше всех других и повторял его нам многократно, каждый раз с особым нажимом и смаком подчеркивая то одну, то другую подробность. Речь в рассказе шла о прекрасной контролерше, которая высаживает на маленькой станции безбилетного и безденежного солдата, но не для того, чтобы его оштрафовать, а напротив — чтобы привести его к себе домой, помыть, накормить, напоить коньяком, дать чистую рубаху и новые штаны и затем ему, чистому, сытому и пьяному, предложить свою чистую и нежную любовь. Именно так и говорилось во всех вариантах: «Пиридлагаю, говорит, тибе свою любови, очен ты мине понрравился!» После этого шли три дня сладкой жизни, затем — грустное расставание с обещаниями и слезами. «И больше я ее никогда ни видел и станцию — какая такая — ни помню!» — торжествующе заканчивал он.
«Как же ты станцию не запомнил, — сокрушались мы. — Что, трудно запомнить? Приехал бы, может, еще разок…» — «А зачим? — отвечал он с деланной беспечностью. — Ни одна баба на свете, многа женщын — ни горюй, ни пропадем!..»
Но к чему же я вспомнил сейчас эти Лешкины истории?
Я шел вдоль забора, пьянел от жары и сирени и от собственных своих воспаленных мыслей, слушал мягкий и мелодичный, невозможно женский ее голос: «обнимет, поцелует, обнимет, поцелует…» — и чувствовал, как плечи мои ломит от напряжения, как губы мои сухи и мертвы, и нет слюны облизать их, ладони же рук так влажны от пота, что противно нести их рядом с собственным телом, — я шел и думал устало: «Хорошо бы… Хорошо бы — но не сейчас. Потом, потом…»
Словом, я не встретился с долгожданной своей Тамарой вовсе не из-за истории с другой женщиной, а как раз по той же самой причине, по какой эта история не произошла.
Это только на бумаге все выглядит закономерно и даже порой неотвратимо. Сказал «А» — скажи «Б»…
«А» я как-то еще произнес, этому помогли обстоятельства, но «Б» из него вовсе не вытекало, это «Б» еще нужно было организовывать, подготавливать для него условия и затем заниматься его производством, создавать этот новый звук, это действие… Ни на что подобное я не был способен, я не был человеком действия.
Я мог бы, если бы захотел, поймать себя на том, что и тогда, уезжая из лагеря, радовался не только приближению к ней, как конечному результату, но и непосредственно самому удалению: оно избавляло меня от необходимости действовать. И не Бог знает что разумею я под этим словом, а любой необязательный, не вынужденный поступок.
Я не пошел к ней в первый день после ее возвращения, не пошел во второй, не пошел в третий — все отодвигал по разным причинам, а затем уже как-то привык не ходить, появилось такое нормальное состояние, а потом уже вроде и неудобно стало: столько времени, нелепо и чего вдруг…
И только потом-потом, через годы, убедился я в мудрости Высших сил, никогда не шедших на поводу у бредовых моих желаний, но всему в моей жизни находивших должное место и время…
3
Яков вернулся, и все пошло по-прежнему. Целую неделю у нас был праздник, приезжали родственники и друзья, поздравляли, слушали рассказы, пили и ели.
— Ну, Ройтман, — говорил Абрам Петрович, — так вам и надо. Теперь, наконец, вы будете ценить, как готовит ваша жена!
И он выразительно смотрел на маму.
— Абраша! — ловила его взгляд Мария Иосифовна. — Тебе бы это все равно не помогло, тут бессильны любые тюрьмы.
— Ну-ну, дружок, не преувеличивай, я-то тебе цену знаю…
И он демонстративно целовал ей руку.
— И все-таки, — продолжала она, — мне кажется, ты завидуешь Ройтману…
— Не дай Бог! — вставлял Яков, ничего не понимая. — Не дай Бог! Врагу не пожелаю!
Они переглядывались и начинали смеяться, он подхватывал, мама тоже вступала, чтоб не портить компании, — и так они смеялись, все четверо, каждый думая о своем.
Однако рассказы его о тюрьме производили сильное впечатление. Нам и теперь ведь только кажется, что «всем все давно известно», на самом деле — не все и не всем. Каждый вращается в замкнутом пространстве и плохо представляет себе, что делается в соседнем слое. Тогда же, более двадцати лет назад, круг осведомленных (считая осведомителей) был уже во много раз, и мы-то уж в него никак не попадали. Те картины, что рисовал он тогда перед нами хромающим своим и гнусавым голосом, казались чистой фантастикой. Но он никогда не врал, это было известно — то ли воображения у него не хватало, то ли правдивость на самом деле входила в его понятие о кодексе чести — всему, что он рассказывал, можно было верить на сто процентов. Все испытания: и стоячие боксы, и парилку в тулупе, и стоваттную лампу в глаза, и соседей-бандюг, и битье, и угрозы — все он выдержал стойко, ни в чем не сознался, это было тоже известно доподлинно, иначе бы и не удалось его вызволить. И все-таки самая удивительная новость касалась не его самого и не тюрем вообще, а совсем, совсем иного события.
— Я вам скажу одну вещь, я вам скажу, — почти прошептал он, оглянувшись на дверь, — в тюрьме об этом все говорят, но вы не поверите. Этих врачей, что посадили в январе («Да-да-да!» — уже заводился мой дядя), врачей, что посадили в январе, — так они невиновны!
Я хорошо запомнил, как начинался этот страшный день.
Дядя Леша Попов (Царствие ему Небесное, через месяц умер от лейкемии) постучался к нам в дверь, чего раньше никогда не делал, и, не дождавшись ответа, вошел в комнату, что тем более было совершенно необычно. Его серые в полоску холщовые штаны были заправлены в сапоги, ремень с армейской звездой сполз под набухший, нездоровый живот, в руках он держал полуразвернутую газету.
— Читали? — спросил он без всякого предисловия. — Ваших-то все-таки разоблачили! («Кого? Что?» — вскочила со стула мама.) Ишь они что сделать-то хотели, ваши-то! — всех хотели убить. Хитрые, ничего не скажешь. Ну и наши — тоже не промах, раскусили. Ну, правда, — продолжал он невозмутимо под маминым слезами наполненным взглядом, — кое-кого они все же успели. Но энто им, конечно, зачтется. Хотя тех, конечно, не вернешь. Но зато уж энтим покажут. Теперь-то вам всё, теперь вам крышка, энто уж ясное дело. Так оно и выходит, сколько волка ни корми…
— Леша, что там, что случилось? — выдавила, наконец, мама.
— Да ну? Не читала? Ну вот, все читали, а тут… Сапожник, как говорится, и без энтого… На, почитай, потом вернешь.
Повернулся и вышел.
Сколько мы просидели над этой газетой? Сколько раз прочли от начала до конца, от середины — в обе стороны. Каждое слово — как лед за воротник.
— Господи! — стонала мама. — Что теперь с нами будет! И ведь все такие знаменитые, все обеспеченные, все как сыр в масле катались. Господи, ну чего им еще не хватало? Из-за них, из-за таких, как они, только из-за них — все наши несчастья!..
Я учился тогда во вторую смену, успел еще напереживаться дома, кое-как сделал уроки — и поплелся…
4
Но тут, я чувствую, начинается словно бы бег по кругу. Я наступаю на собственные следы. Лагерь или школа — какая разница! Повтор же — далеко не всегда рефрен, это звание надо еще заработать. И я с сожалением должен признать, что не чувство объективной необходимости, но простое желание говорить побуждает меня возвращаться на эти круги. Я не только не вскрою причин — я даже не выявлю сути. Я, в лучшем случае, передам ощущение, но что же с ним дальше делать читателю? Кому он нужен, такой подарок, не всякий еще и возьмет…
Мы живем, соответствуя обстоятельствам, применяясь к требованиям момента. Мы живем, как автобусные пассажиры: пробираемся тяжко и суетливо в спрессованном слое таких же, как мы, и раздутый портфель, где в одном отделении книги и папки, а в другом — пакет гниловатой картошки, две пачки пельменей и батон за тринадцать копеек, немыслимый этот портфель буксует сзади в чьих-то ногах, на ходу различая на грубую ощупь чулки и штанины. И пока мы движемся так вперед — а мы движемся точно вперед, один из немногих случаев, когда в этом есть полная ясность, — мы меняемся неузнаваемо. Мгновенное бытие формирует наше сознание, и тот, кто стоял у входа, — один человек, а тот, кто стоит у выхода, — совершенно другой, хотя бы и с тем же портфелем…
— Какой ужас! — говорит мой приятель, чистейший и искреннейший человек. — Какой ужас, я прекрасно тебя понимаю. Но поверь и мне, у нас в классе было трое таких: Левка Кушнер, Сенька Вайнштейн и еще тот, третий, забыл фамилию, и все относились к ним с большим уважением, хотя Сенька был-таки порядочным подонком. Но никогда, ни разу, ничего подобного…
— Нет, — говорю я ему, — я тебе не верю. Ты не врешь, но ты ошибаешься. Ты когда-нибудь спрашивал этих троих, любого из них, ну не Сеньку Вайнштейна, любого другого из оставшихся двух, — спрашивал ты когда-нибудь, бывало ли с ними такое?
— Ну нет, — отвечает он, — я не спрашивал, мне и в голову не приходило. Да и как бы я вдруг спросил ни с того ни с сего, я попал бы в дурацкое положение.
— Что ж, — говорю я ему, — считай, что тебе повезло. Ты вошел первым, сел у окошка, всю дорогу читал книгу, не слышал и не видел вокруг ничего, а вышел после всех, на конечной остановке…
— Какое окошко, какая книга?
— Да нет, это я так, о другом… Хочешь, я расскажу тебе, как было дело?
— Валяй, — говорит он, — ври, такая твоя работа.
…Ты вошел первым, сел у окошка, на обычное свое место, раскрыл Киселева и стал повторять теорему. Звонок уже прозвенел, Дунька могла войти в любую минуту, и надо было успеть сложить в предложение все эти прыгающие слова.
А справа от тебя и чуть позади, в среднем ряду, беззвучно плакал Левка Кушнер, положив голову на раскрытый портфель. У него пропал завтрак — два куска черного хлеба, посыпанных сахаром. Обрывок газеты с налипшими крошками и кристалликами сахарного песка валялся, подброшенный, у его ног, и два брата, Толька и Женька Беляевы, смачно и громко жевали, высовывая для наглядности языки с недожеванным хлебом. Левка плакал и отворачивался, его подталкивали и заставляли смотреть. Он вообще-то был бледным, анемичным парнишкой, ел обычно очень мало, половину убогого своего завтрака отдавал первому же охотнику — тем больней ему было теперь его унижение. Учился он плохо, хотя и очень старался. У него были частые головные боли: он перенес тяжелую болезнь ушей, в раннем детстве ему долбили череп — страшные дыры и теперь темнели за ушами. И вот…
— Слушай, Сара, — тихо говорит ему Толька. (А ты в это время учишь Киселева.) — Сара, ты почему все черняшку носишь? Дома небось булочку с маслом кушаешь? А, Сара? Уже булочку с маслом кушаешь, а? А мне уже черняшку носишь? А? Нехорошо, жадный ты, Сара.
— Все они жадные, — вставляет кто-то.
— Несу я в сумочке кусочек булочки, — запевает Женька.
Входит Дунька, все встают, хлопая крышками парт. Ты отрываешься от учебника.
— Кушнер, ты почему не встаешь? — спрашивает Дунька. — Что такое? Да у тебя портфель на парте. Ты что, в детский сад решил записаться? Так я тебе в этом могу помочь. Господи, да он мусору накидал вокруг! — голос ее идет крутым крещендо. — И все это к началу урока! Ты что же, издеваешься надо мной?
Общий хохот. Бесконечно счастливы братья Беляевы, это им просто подарок. Левка ставит портфель на сиденье парты и медленно встает, свернув голову набок и скосив глаза на левое плечо. Сосед его справа Славка Тушкевич легонько подталкивает портфель, и он падает на пол, шумно и щедро рассыпая свое содержимое.
— Так! — констатирует Дунька при общем восторге. — Урок сорван. Так. Хорошо. Спасибо, Кушнер, я тебе это припомню. Собирай манатки и выметайся. Завтра придешь с родителями.
Я не буду даже рассказывать, как долго и страшно, при общем гудящем молчании, капая слезами на трясущиеся руки, подбирает Левка бесчисленные свои вещицы. С тетрадями и книжками сравнительно еще легко, но все эти наконечники, ластики, перышки, бритвочки… О лезвие бритвы он конечно же обрезает палец, инстинктивно отдергивает, начинает сосать.
— Время тянешь? — грозно спрашивает Дунька. При всей своей злости она еще и жуткая дура и действительно никогда не может понять, что происходит.
Ну, а ты, дорогой мой приятель, — ты-то понял, что происходит? Ничего ты не понял, и винить тебя за это нельзя. Ты увидел обычное школьное происшествие, бывали и пострашнее: и лютая ненависть, и драки с кровянкой, и даже ножи. А это — что это, так, шуточки… И, конечно, немного жалко растяпу Левку, но и вправду все очень смешно получилось, и ты смеешься вместе со всеми, тем более что урок-то себе идет, и сегодня, быть может, уже не спросят. И если сказать тебе насчет того, то ты очень удивишься и скажешь, что нет, ничего подобного, уж это вовсе тут ни при чем. Вот тебе ведь все равно, какая разница, значит, и всем остальным так же. Ну, Женька с Толькой — противные парни, могли и подпустить что-нибудь к слову, но это так, без особого смысла, не надо обращать внимания…
А Левка Кушнер стоит у окна в коридоре, смотрит во двор, где у пятого «А» идет урок физкультуры, где бегут по кругу чужие, злые, враждебные люди, у каждого камень за пазухой, и добро, что все они так далеко, а мимо него в коридоре проходят другие чужие, не такие, может быть, злые, но вполне равнодушные, им так не хочется подходить к Левке, но они подходят — вероятно, так полагается, — спрашивают особыми, для такого случая приготовленными голосами: «Что с тобой, Кушнер? Что случилось, Кушнер? За что тебя удалили, Кушнер?» — и в одном этом обращении уже таится возможность издевки (разве кто-нибудь из близких называет его по фамилии?), потому что Кушнер — это, конечно, он, но в то же время и не только он, это и мама, и папа, и дед, и вся их родня, и дальше, и дальше и шире. Кушнер — это уже принадлежность, это каста, это клеймо. И не то чтобы он не любил своей фамилии, но вот — «Кушнер, Кушнер», — говорят идущие мимо, и — «Еврей, еврей!» — слышится Левке.
И одного хочется Левке — не быть. Он еще не думает «умереть, уснуть», но — не быть: заболеть, убежать, провалиться, исчезнуть…
А завтра утром он будет стоять в вестибюле, красный и потный, и Ася Ильинишна, Левкина мама, пожилая портниха, в дурацком цветастом платье и огромных толстых очках, будет стоять с ним рядом, дожидаясь Дуньки, и ребята будут бегать вокруг и строить рожи. «Что происходит, я просто не могу понять! Вы правы, вы правы, надо вести хорошо, но при чем тут нациянальность, при чем? При чем тут еврэй, при чем? Они же просто издеваются, надо принять меры!..»
Она будет быстро и взволнованно проговаривать эту свою тираду, делая от волнения еще больше ошибок, чем обычно, а Левка будет стоять рядом, и жаркие языки стыда и обиды будут лизать его грудь и подсвечивать красные и без того щеки.
«А это вы ошибаетесь, Ася Ильинишна, — твердо скажет Дунька. — Это он просто придумал, чтобы как-нибудь оправдаться. Вы меня извините, конечно, но он у вас хитрый мальчик. Он стал хуже себя вести и придумал себе оправдание. Так ведь, Лева, скажи честно? — обратится она к Левке, и неожиданное это обращение по имени резанет его своей фальшивостью. — Видите, он молчит, — скажет Дунька, — понимает, что виноват. Все это он придумал, ничего у нас такого нет. У нас советская школа (тут она, конечно, повысит голос), в ней учатся советские дети, и ничего подобного у нас произойти не может!..»
И черт ее знает, эту Дуньку, возможно, она и вправду верит в то, что говорит.
А потом, когда Левка — со сгоревшим нутром, пустой, одна оболочка — поднимется наверх, то у двери класса будет ждать его Славка Тушкевич, добрый его сосед, и — «Что, сука, нажаловался?» — скажет он ему ласково. И ткнет ему пальцами в глаза, и хлопнет жирной потной рукой по щеке — несерьезно, так, для острастки. «Ну ладно, жиденок, — добавит он совсем уже по-отечески, — ладно, выйдешь сегодня из школы…»
Ты помнишь, в класс они вошли тогда мирно и тихо, ты ничего не заметил, дорогой мой приятель. Ты опять ничего не заметил… Славка Тушкевич широко улыбался — дурак, но веселый парень, — а Левка Кушнер шел понурый и сгорбленный — вполне понятно, его же песочили перед матерью. Кому это может понравиться.
А Левка сядет за парту, направит глаза на доску и пять часов просидит, не вставая, ничего не видя и не слыша. Хитрый Славка не скажет ему больше ни слова, даже не взглянет в его сторону. И достаточно, и не надо. Те слова его «выйдешь из школы» будут пять часов повторяться в измученном Левкином мозгу, конец занятий, как конец жизни, будет неотвратимо на него надвигаться, и невиданные еще унижения, и великие казни и пытки будут мерещиться ему в этих простых словах. И не встрепенется он и не покроется привычной испариной даже в тот роковой момент, когда на уроке истории завуч Иван Федорович обведет указкой кусочек карты, закрашенный фиолетовым, и скажет: «А здесь помещалось Еврейское государство…» Все легонько так улюлюкнут, и чуть-чуть усмехнутся, и слегка что-то скажут, и посмотрят мельком в его сторону (или в сторону Сеньки Вайнштейна, или… кому куда ближе), но он и этого почти не услышит, и того почти не увидит — одно он будет помнить, видеть и слышать: «Выйдешь из школы, выйдешь из школы, выйдешь из школы!..»
И когда потом на школьном дворе уже все разбегутся, устроив ему «темную», и он поднимется с земли, отряхиваясь и вытирая слезы, — он будет почти счастлив оттого, что все позади, он будет тогда почти уже равным со всеми, почти взрослым, почти свободным…
Но ты ничего такого не знал, и кто обвинит тебя в этом? И я верю тебе, говорю безо всякой иронии, я верю, что ты не знал, но не верю, что этого не было. Потому что я-то знаю, что это было.
Портфель, всегда портфель — все имущество и все достоинство… Помню, как после одного из таких развлечений Александра Георгиевна, учительница литературы, чуткая и умная старуха, прекрасно все понимавшая, стукнула кулачком по столу и крикнула: «Подлецы! Вы все подлецы! Вы ведете себя, как фашисты!»
Слезы стояли у нее в глазах. Все расхохотались и загудели, это было приятно и весело: происходило что-то на грани серьезного, а между тем никому ничего не грозило. Тогда она взяла меня за руку и повела к Ивану Федоровичу. «Вот этот мальчик — еврей, — сказала она. — Над ним издеваются». — «Кто?» — спросил Иван Федорович, распустив слюнявую бульдожью губу. «Все, — сказала Александра Георгиевна, — весь класс». — «Кто зачинщик? — спросил Иван Федорович. — Не могу же я наказать весь класс. Кто тебя обижает? — обратился он ко мне скрипуче и жестко. Я молчал. — Ну вот, видите, он и сам не знает. Пусть идет в класс и сидит как ни в чем не бывало. А вы последите, кто там заводит». — «Иди домой, Сашенька, — сказала она мне в коридоре. — Учишься ты у нас хорошо, не беда, если и пропустишь денек. Иди домой, отдохни, успокойся. Я сейчас вынесу тебе портфель».
Но портфеля моего не оказалось на месте. Полчаса, оставшиеся от урока, она пыталась его найти — он исчез бесследно…
Я стоял у двери и слышал, как кипит и бурлит наш класс, как взрывается он справедливым негодованием, как оскорбленная честность невинных мальчиков выплескивается наружу, прямо в лицо несчастной Александре Георгиевне.
— Да может, он сам спрятал, а на нас говорит! — гудел Тушкевич. — Что вы, не знаете этих, они все такие, сами делают, а на русских…
— Не смей! — орала Александра Георгиевна. — Не смей! — и стучала своим кулачком. — Ты недостоин произносить это слово. Ты не русский, русские люди добрые, а ты фашист! Фашист!
И слезами — это я отчетливо слышал, — слезами было смочено каждое ее слово…
Я с трудом тогда доплелся домой и целую неделю пролежал в постели с ноющей болью в спине и ногах. С тех пор, после всякого нервного потрясения, после незначительной даже встряски — после экзамена, например — возвращается ко мне эта боль, и приходит с нею неясное чувство тоски — что-то возле отчаяния, где-то рядом с тупой безысходностью. Но теперь-то что, теперь-то я тертый калач, у меня есть принципы, у меня есть концепция, и, едва пошатнувшись, я прислоняюсь к ним, как к перилам, кладу локти, опираюсь спиной… Тогда мне было труднее.
5
Вот мы ушли, казалось бы, в сторону, но зато теперь мне не надо рассказывать, что в тот день происходило в школе, — и без этого все уже ясно. Только важно здесь то, что были мы старше и поэтому день этот — день позора — был проведен умнее и тоньше, на несравненно более высоком уровне. Тут были и цитаты, и исторические примеры, и «Гитлер, конечно, подонок, но кое в чем…». Уроками никто не интересовался. Собирались толпой, кто-то поддакивал, кто-то добавлял другие слова, более простые и всем понятные — уже без цитат и примеров.
Атмосфера была приподнятая, праздничная. «Аутодафе, — шепнул я Ромке, когда мы проходили друг мимо друга, не задерживаясь, как бы случайно, чтобы никто не видел нас вместе. — Аутодафе…»
И вот оказалось…
— Слушайте меня, слушайте, — говорил Яков громким шепотом, — я вам скажу, что они не успокоятся, пока не уничтожат всех идн[6]. Посадят, выселят — я знаю? — но в Москве никого не останется, в Москве. Кейн идн в Москве не останется — ни одного!
— Как пить дать! — вторил ему мой дядя. — Конченые мы люди! Из Давыдкова уже выселяют. Говорят, в Биробиджане строят бараки…
— О! Бараки! — поднимал палец Яков. — Что я вам говорил?
— Так нам, жидам, и надо! — вдруг сказал Абрам Петрович. — Так нам и надо!
— Почему вы говорите, почему? — встрепенулся Яков с кривой улыбочкой, ожидая очередной хохмы. Но Абрам Петрович был абсолютно серьезен.
— Эти врачи — возможно, они и не виноваты. Хотя тоже еще надо проверить.
— Там проверят, — ответил ему Яков с неожиданной иронией. — Можете не беспокоиться, там хорошо проверяют, лучше не надо…
— …Может быть, врачи и не виноваты. Но сколько было действительно виноватых? Сколько было среди идн контрреволюционеров? Возьмите Троцкого. А Зиновьев? А Якир? Нет, так нам, жидам, и надо, всегда мы лезем в чужие дела! — и он с вызовом посмотрел на Якова.
Но Яков молчал, обдувал губу и водил, и водил ладонью по скатерти — катал и катал свои хлебные крошки…
Яков вернулся в конце февраля, а еще через несколько дней появились в газетах тревожные бюллетени. Помню, я долго не мог привыкнуть к такому значению этого слова и все представлял себе голубой хрустящий листок бумаги, который, посовещавшись, заполняют тушью (всем — чернилами, а ему — тушью) взволнованные врачи: бюллетень — разрешение Сталину не ходить на работу…
…В долгие, тяжкие годы царизма Жил наш народ в кабале-э-э!— Прекрасная песня! — говорит Марина.
— Да, хорошая…
Я зашел после школы, давно уже мы с ней не виделись, но сегодня мне вдруг захотелось общения, надо было разрядить возбуждение этого празднично-траурного дня, я должен был с кем-то поговорить — не с мамой, но и не с Ромкой.
Стол, кровать, диван, этажерка — все здесь такое же, как у нас. Только стол квадратный, диван клеенчатый, на этажерке — английские книги. Новость: она собралась в иняз и теперь тренирует «органы речи», так что даже по-русски говорит с придыханием и убеждающей интонацией.
— Прекрасная песня! — говорит Марина, усиленно тренируя органы речи. — Как она теперь оказалась кстати, какую теплоту дает и уверенность!
Она встает с дивана, подходит к динамику и до предела увеличивает громкость. Теперь ей приходится перекрикивать динамик.
— Такого с нами никогда еще не было!
— Да, — киваю я, — никогда.
— Мы все должны быть родными друг другу!
— Да, — киваю я, — да, родными.
— Теперь все вместе должны заменить его одного! Ты согласен со мной?!
Я был согласен…
6
Нет, это все-таки удивительно, в каких разобщенных, в каких изолированных слоях мы живем!
Вот они, сороковые—пятидесятые. «Сороковые, роковые, та-ра-та-та, та-ра-та-та…» Но где же ежедневный политический гнет, где постоянный страх потерять последнее, где умный скептик, в тайных беседах объясняющий неразумному юнцу страшную несправедливость происходящего? Где мечты о свободе, о смерти тирана?..
Вот уж чего не помню, того не помню. И как не было у меня ни одного знакомого с телефоном и ванной, так и не знал я никого с политической статьей, а тем более — скептика, объясняющего несправедливость. Врачи — и вернувшийся Яков, вот первый конфликт подобного рода, первый огонек в моем сознании. Но и он ничего вокруг не зажег, а так — горел сам по себе.
Тот ограниченный слой, в котором я находился, видимо, не подлежал или подлежал в значительно меньшей степени, чем остальные. Здесь тоже сажали — но за взятку, за халатность, за хищение социалистической собственности. Можно подумать, что я жил в притоне. Нет, среди мирных и по-своему честных людей.
— Мечты о свободе, о смерти тирана… Прямо стихи какие-то получаются. Переводные. С венгерского, например, по подстрочнику…
Глава третья
1
А все-таки, если взять себя крепко за грудки и допросить с пристрастием, то и обнаружится все, что должно было обнаружиться. И вечный страх — хотя бы перед школой, хотя бы перед лагерем, хотя бы перед пионерским. И если угодно, мечты о свободе — ну хоть тайное чтение «Золотого теленка», и стихи Есенина в списках, и песни Лещенко на рентгеновских пленках. И мудрый скептик — тоже обнаружится, но для этого мало взять себя за грудки — надо еще хорошенько набить себе морду. Потому что — чем только не забивал я голову в лучшие свои годы, в то время как тут же, рядом со мной, жил этот замечательный человек, и стоило только задать вопрос — он сразу включался, как магнитофон, и всегда был к моим услугам, и надо было только сидеть и слушать, и глотать, и впитывать, и запоминать… Но все это казалось мне старческим бредом, лишенным смысла, и я старался не задавать никаких вопросов.
Это был… Да, конечно, это был мой дед, отец погибшего моего отца, и потому я не упоминал о нем раньше, что все же он не был магнитофоном, а всего лишь живым человеком — пока был живым. Все его пленки умерли вместе с ним, я же, по глупости и самомнению, так мало переписал в свою память, что вряд ли имеет смысл воспроизводить.
Но вправду ли, так ли уж был он мудр? Господи, какая разница! Это был единственный мудрец в моей жизни, другого мне не положено, и, значит, никто не может занять его место, никто, кроме него самого. Ни в жизни, ни в этой книге.
И сейчас я попробую — чувствую, что обязан это сделать, — собрать по крохам то немногое, что смогло удержаться в моей памяти вопреки брезгливому, сопротивлявшемуся моему сознанию.
2
Дед приехал с Украины, из-под Винницы, и поселился в нашем особняке, в маленькой, восьмиметровой комнатушке, бывшей моей детской. Он приехал — а мы уехали, как раз комнатка для него и освободилась.
Впрочем, конечно же, в Москву он прибыл не прямо с Украины, а из Средней Азии, куда привезли его в сорок первом больного, почти без памяти: где-то в Житомире навсегда осталась его жена, моя бабушка, поехала в гости перед самой войной, да так и не выбралась. Как она погибла, никто не знал, но деду мерещилось, что ее закопали живьем, и когда он бредил — а он часто бредил, при любой болезни: простудился ли, желудок ли прихватило, — он всегда плакал и кричал: «Руки! Руки ее шевелятся! Что же вы смотрите? Вот, вот они! Вот где надо копать, разве вы не видите?!» Это он обычно кричал по-русски или на том языке, который считал русским, обращаясь, по-видимому, к каким-то окружающим посторонним людям. Затем он замолкал на несколько минут, после чего снова начинал всхлипывать, но теперь уже разговор шел по-еврейски. Теперь дед разговаривал с Богом, жалобно и просто до фамильярности, причем, судя по всему, он слышал Бога не хуже, чем мы — его самого. «Нейн, — повторял он по нескольку раз. — Нейн, Готэню!..»[7] Затем следовала пауза, в течение которой Бог, по-видимому, уговаривал деда. «Нейн, Готэню, — ворчал дед, внимательно и терпеливо выслушав Бога, — нейн, Готэню, их выл ныт лыбн. Фар вус, Готэню? Фар вус тист мир азелхе цурес?»[8] Но Бог, должно быть, продолжал настаивать и находил достаточно убедительные доводы, потому что дед начинал соглашаться и плакать:. «Ё, Готеню, Ди быст герехт. Ди быст герехт, о! Ди быст герехт! Их бын шилдык, майн Готэню, о! Их бын шилдык!..»[9]
Через несколько лет мы узнали от случайных знакомых, что бабушку действительно закопали живьем, вместе с большой группой стариков и старух. Все старательно скрывали это от деда — глупо, он ведь и так все знал…
Не знаю, был ли дед праведником. Вряд ли, конечно. Может ли праведник, к примеру, ругаться и пить? Дед же — пил и ругался. Пил он — не так чтобы очень пил, но в тумбочке у него постоянно имелась начатая четвертинка, и он принимал ложку-другую утром, днем и вечером перед каждой едой. Руки у него дрожали от слабости, было ему тогда под восемьдесят, он ставил на стол граненый стакан, накрывал его сверху столовой ложкой и в эту ложку, опиравшуюся о края стакана, осторожно лил из бутылки. Лишние капли не пропадали, падали в стакан. Он выпивал водку, не закусывая и не морщась, как лекарство, затем наливал вторую, выпивал, затем в эту же ложку наливал желудочный сок — им и запивал.
— Что ты смеешься? — говорил он мне строго. — Это очень полезно для аппетита. Можешь попробовать, тебе тоже полезно, ты такой худой…
Он наливал мне четверть стакана, добавив к тому, что вылилось из ложки. Стакан был грязным и мутным. Я, вообще-то, был не против, но не из этого бы стакана…
— Что ты смотришь? — кричал он на меня. — Что ты смотришь, так твою мать! Я его мыл, можешь не сомневаться! Ты думаешь, если дедушка старый, так он обязательно грязный, как свинья! Тебе противно пить после дедушки — так я его мыл, этот стакан, мыл его теплой водой, чтоб ты знал! Можешь пить, это полезно для аппетита. Только маме говорить не надо, ты же знаешь, женщины не читают газет и они не разбираются в медицине.
— А как же врачи? — спрашивал я, закусывая рыхлым соленым огурцом, который тоже у него — откуда бы? — всегда находился.
— Врачи? — переспрашивал он. — Не говори глупостей. Что знают твои врачи? Кого они вылечили, твои врачи? Особенно эти девки? Я вызываю на дом врача, и приходит девка с прической и маникюром и не знает, что со мной делать. Потому что бюллетень ее мне не нужен, а аспирин я и сам могу себе прописать. И нитроглицерин у меня уже лежит на столе. Что делать этой бедной девке с таким стариком, как я? Если бы я был молодой парубок, она бы могла состроить мне глазки и что-нибудь еще, и вышло бы, что она хоть не зря приходила. А что ей делать со мной, когда она ничего не знает и хочет поскорее уйти домой? Мне ее жалко, я говорю: «Иди, иди, ничего мне не надо, вот я уже здоров…»
Врачи! У нас в городе тоже был врач, некто Красовский, видный мужчина. У него был такой выезд, что весь город завидовал — такие были у него лошади. И он лечил весь город от всех болезней, и если он ставил диагноз, так можно было не сомневаться и не звать другого врача, и если он выписывал тебе лекарство, то нужно было его принимать и не думать ни про какое другое. Такой это был врач. Всех он знал в лицо и помнил, кто чем болел и чем у него болели мама, и папа, и дедушка, и бабушка. Потому что это тоже было важно для лечения… Да-да, не смейся, много ты понимаешь!..
Так пришла твоя советская власть, и сначала у него отобрали лошадей, на них стал ездить комиссар с наганом, тоже еврей, но бандит первой гильдии, а Красовский уже ходил пешком. Он был старый человек, не такой, как я сейчас, но тоже в годах, и сколько он мог пройти за один день? И сколько больных умерло, пока он шел через весь город, это я уже не считаю, потому что это капля в море, если сравнивать с тем, сколько людей тогда убивали, как мух…
— Но ведь это же контрреволюционеров, — вставлял я раздраженно. — Это же всяких бандитов и врагов революции!
— Ну да, ну да, — соглашался он. — Бандитов, ты прав. Вы же всегда правы. И кто вам не лижет задницу, тот бандит и контрреволюционер…
— Дед, перестань!
— Да-да, я уже перестал. Когда вам говорят то, что есть, и вам нечего ответить старому человеку, хоть вы и грамотные и читаете всякие книги, но когда вам нечего ответить, вы говорите «перестань». Ты так говоришь, и хорошо, что у тебя нет нагана. А у советской власти есть наган, и сначала она говорит «перестань», а потом стреляет тебе в лоб. И представь, это тоже еще хорошо. Потому что она может сначала выстрелить, а потом уже сказать «перестань»…
— Ну ладно, ладно, дед, хватит, ты уж лучше расскажи про этого врача.
— Так я и рассказываю про врача, но имей терпение выслушать все по порядку. Сначала у него отобрали экипаж и он стал ходить пешком…
— Это ты уже говорил.
— Да. Я вижу, ты очень торопишься. Ничего, твоя Катька тебя подождет. Или Валька…
— Дед!
— Так сначала они отобрали экипаж, а потом отобрали дом. У Красовского была большая мишпуха[10], свои дети и какие-то сестры и племянники, и он всех кормил и поил, у него было золотое сердце. И всех переселили в две вот такие комнаты, а остальные восемь или десять комнат — я бывал у него, но сейчас уже не помню — заняли такие байстрюки, как ты. Они изгадили весь дом и всю усадьбу, так что противно стало проходить мимо, и они ходили с ружьями и сняли картины, которые у него висели в комнатах — я знаю, сколько они стоили? — и вынесли их на двор и стреляли в них для гимнастики, чтобы лучше потом убивать живых людей…
Я не верил ни одному его слову, я ерзал на стуле, мне хотелось уйти немедленно, и от этого постоянного нетерпения, от этой мысли: «уйти», гудящей в голове, мне становилось чуть ли не дурно. Но дед делал вид, что ничего не замечает. Он сидел за столом, вытянув перед собой длинные сухие жилистые руки, которые всегда казались мне грязными, хотя он мыл их довольно часто — так предписывали религиозные правила. Впрочем, это было лишь омовение, на настоящее мытье у него уже не хватало сил. Часто, сливая ему над тазом, я попрекал его тем, что к мытью он относится вполне формально. Что и говорить, опрятен он не был. Зимой и летом, весной и осенью он ходил в темных затертых брюках и длинном заплеванном пиджаке, под которыми были грязные, когда-то белые, солдатские кальсоны со штрипками и такая же, когда-то белая, рубаха. Черную бесформенную кепку он не снимал даже на ночь, и только в праздники на ее месте появлялась ермолка. Тогда становилось видно, что голова у него совершенно лысая, а лоб — высокий, бугристый и на удивление гладкий; все его морщины, казалось, были оттянуты к впалым щекам и костлявым скулам, покрытым негустой рыжеватой бородой. Шея, впрочем, тоже была вся в морщинах и жилах, и огромный кадык туго натягивал кожу.
Никто в доме не относился к нему всерьез, никто не испытывал к нему особой привязанности. Ухаживали за ним от случая к случаю. Вдруг приходило кому-то в голову, что надо выполнить какой-то долг, тогда у него подметали в комнате, или перемывали его посуду, или варили ему суп. Обычно же он сам варил себе манную кашу и ел ее прямо из кастрюльки, так что капли каши белыми сосульками застревали у него в бороде и усах; поев, он бросал ложку в кастрюлю и заливал все это водой — до следующей готовки.
Для мясной и молочной пищи посуда полагалась отдельная, и однажды, когда я в приливе благородства мыл его миски и тарелки, брезгливо беря их за краешек и осторожно, двумя пальцами, проводя по ним мокрой тряпкой, я спросил его, заранее смакуя щекотливость ситуации:
— А что, дед, если я их все помою в одной воде и ты будешь есть мясо из молочной тарелки, — это ведь будет большой грех?
— Так, — кивнул он, — большой грех.
— И Бог тебя за него накажет? А тогда — какой же он справедливый?
— Ты дурак, — сказал он спокойно. — Ты уже вымахал совсем большой, и тебе давно пора жениться, я просто не знаю, куда ты смотришь и куда смотрит твоя мама: был бы жив твой папа, он нашел бы тебе хорошую невесту, а я уже старый, я редко бываю в городе и если с кем-нибудь разговариваю — так с такими же стариками, как я. Но, между прочим, у Флейшмана есть внучка — а файне, а шейне[11], и комната у нее отдельная…
— Ты же мне не ответил, дед, ты же хотел сказать про грех.
— Я хотел сказать, что тебе уже пора жениться, но ты еще плохо умеешь думать. Ты хочешь иметь дело с Богом, а думаешь, что это такой же слепой старик, как я, или такой же набитый дурак, как твой учитель чистописания… Прости мне, Господи!..
— Какое такое чистописание? Нет у нас никакого чистописания. Ты просто не знаешь других предметов. Есть физика, история, математика…
— Э-э, брось! Все это — чистописание, чему еще они могут учить. Они уже все написали сами, и что тебе остается делать? Ты должен аккуратненько и чистенько переписать, и чтоб не было ошибочки, и чтоб не было помарочки, а если что не так, тебе поставят двойку.
— Да нет у меня ни одной двойки!
— Ну вот, значит, ты делаешь все, как надо. Но ты все время меня перебиваешь и не даешь мне сказать слово. Ты можешь обмануть меня, ты можешь обмануть учителя, но ты не можешь обмануть Бога. И если ты перемешаешь мои тарелки — грех падет на тебя, а не на меня — хотя, конечно, я молю Его, чтобы все твои грехи пали на мою голову… Умейн![12]
3
— …Они стреляли в картины, — продолжал дед, торопясь высказаться и слегка придерживая меня за рукав, — такая у них была гимнастика.
Конечно, еврей не должен иметь нарисованных портретов, но Красовский держал свои картины в одних комнатах, а молился в других, и сам раввин ничего не имел против.
Ну, так. Но потом они стали обыскивать дом и нашли пару золотых колец — сколько там они стоили? — и торбочку царских червонцев. И тогда Красовского забрали в Чека, и тот самый комиссар, который ездил на его лошадях, расстрелял его из большого пистолета.
— Откуда ты знаешь, что тот самый комиссар, ты что, это видел?
— О! Ты должен доказать, что твой дедушка — старый врун и ничего не понимает и ничего не помнит. Я тебе говорю — тот самый комиссар. А если другой — так тебе легче? Все это была одна банда, и так оно и осталось до сих пор.
И вот они убили Красовского, других врачей они тоже убили, а кто-то умер от голода, а кто-то уехал в Америку — и все, ын ан эк![13] А вместо этого они настроили поликлиник, и в каждой сделали по сто комнат, и из одной комнаты посылают тебя в другую, и не знаешь, в какую идти раньше, и лучше бы ты уже остался дома, потому что во всех этих комнатах сидят девки и пишут справки, и больше они ничего не умеют делать. У меня уже целый шкаф этих справок, если бы я мог их продать по рублю, я бы стал богатым человеком… И если я еще, благодарение Богу, живу, хотя мне давно уже пора умирать, — так это потому, что я их не слушаю, не принимаю их таблеток, а пью простоквашу, и желудочный сок, и что-нибудь для аппетита — и все!
— Дед, — возражал я ему снисходительно, — ты забываешь, что теперь это все бесплатно, а твой Красовский небось три шкуры драл.
— Красовский не драл три шкуры, он брал три рубля за визит, с бедняков дешевле. Это было не мало, но это стоило того. Он работал, и он должен был получать хорошие деньги, а как же иначе? Но если твоя мелиха такая добрая и хочет, чтобы было бесплатно, — пожалуйста, кто возражает! Пусть бы они платили Красовскому то, что они платят девкам. Сто девок пошли бы домой, и миловались с парнями, и рожали детей, ну, одну, самую некрасивую, можно оставить, чтоб она выписывала справки, твоя мелиха так любит эти бумажки, что не может без них жить, одну девку бы оставили, а Красовскому платили столько, сколько получали не сто, нет, зачем так много? — десять девок. А сколько бы освободилось комнат? И все бы остались довольны. И мелихе это было бы выгодно, и девки имели бы время миловаться и строить глазки, и Красовский лечил бы людей, а не лежал в яме за домом пьяницы Баскина, как какой-нибудь кусок падали… И лучше бы я отдал три рубля уважаемому человеку и получил бы хороший совет и хорошее лекарство, чем бесплатно — эту кучу бумажек, которыми я могу подтереть свою задницу…
— Де-едушка, переста-а-ань, — тянул я.
У нас в семье было не принято, чтобы взрослый, пожилой человек употреблял эти слова. Так могли — в отсутствие взрослых — говорить дети или не совсем еще взрослые молодые люди. Грубость деда меня шокировала, она отнимала у него остатки моего уважения и была для меня лучшим доказательством его неправоты, помимо всякой логики. Человек, употреблявший такие выражения, в принципе не мог быть прав. Не говоря уже о грамматике, о произношении, о языке, которым он изъяснялся…
Именно — не говоря. Я с первого же момента и без всяких сомнений отказался от попытки передать особенности дедовой речи. Это не было искажением русского языка, нет, какой уж тут русский язык! Он изъяснялся на своем, особом наречии, состоявшем из смеси русских, еврейских и украинских слов с небольшой примесью польских оборотов, — это давало ему возможность хвастать, будто он знает пять языков. «Русский, украинский, польский, — говорил он, загибая костлявые пальцы, — еврейский и древнееврейский! Ну?.. И адрес могу написать по-английски!» — эффектно добавлял после паузы.
Каждый из этих четырех или пяти языков вносил в его речь свои грамматические формы, свою систему слово- и фразообразования. И теперь, когда я пытаюсь восстановить в памяти даже не самую его речь, но хотя бы ощущение этой речи, мне приходит в голову, что в чудовищной этой каше чужеродных осколков, еще сверкающих зернами изломов и никак, казалось бы, не соединимых друг с другом, — существовала тем не менее определенная закономерность, несомненная естественность, я бы даже сказал — гармония, свойственная всем живым природным явлениям. Это было чудовищно, но это был язык.
И, конечно, я не запомнил ничего дословно. Сочинить же этот язык, синтезировать его за столом — невозможно, как, будем надеяться, невозможно синтезировать никакое живое явление.
То, что мне удается вспомнить: общий смысл, интонацию, кое-что из слов и словечек, — я и пытаюсь здесь передать.
Но если бы даже я помнил все буквально и дословно (дозвучно?) или если бы в комнате моего нищего деда действительно стоял магнитофон и я имел бы сейчас в своем распоряжении все пленки с записями его разговоров и мог бы с помощью каких-то значков изобразить все это на бумаге — даже такое чудо мало что изменило бы. Образованный читатель (какая старая, лестная, какая милая и приятная формула!), не хуже деда знакомый с русским, украинским, польским — не забывайте загибать пальцы! — еврейским и древнееврейским языками и умеющий, сверх того, написать адрес по-английски (интересно, чей это будет адрес?..), образованный читатель, несмотря на всю свою образованность, не мог бы здесь понять ни единого предложения.
И пришлось бы мне тогда на полстраницы текста давать полстраницы перевода, как будто это говорит не полуграмотный старый еврей, а какая-нибудь мадам Шерер…
4
— …Подтереть свою задницу! — восклицал дед, и этого было мне достаточно, чтобы считать глупостью все, что он говорил раньше.
— Три рубля? — переспрашивал я. — Но ведь это, наверное, рублей сто на наши деньги? Где бы ты столько взял? У тебя и теперешних трех рублей не наберется…
Не могу сказать, чтобы дед был беден — он был нищ. У него была комната, и одежда, и посуда, и мебель («Нищие — и те всегда имеют что-нибудь в избытке»), но ничего у него не было своего, купленного или сделанного для него лично, все было с чужого плеча и с чужого стола — пусть хоть с плеча и стола ближайших его родственников. Он носил заношенные штаны своих сыновей, он сидел за столом своей снохи, моей матери, на стуле другой снохи, моей тетки, ел из толстой пятнистой тарелки, которую сплавила ему его племянница, и спал на дырявом красном диване, который выбросили за ненадобностью новые соседи, въехавшие в прежнюю нашу большую комнату.
Он был нищ и даже собирал милостыню, но собирал он ее не для себя, а для бедных. Существовала при синагоге специальная касса для помощи бедным членам общины, и он был кассиром этой кассы. Сам он никогда этой помощью не пользовался и бедным себя не считал. Он получал ничтожную, символическую пенсию, и еще ему по капле давали родственники. На столе у деда всегда стояла картонная коробка из-под печенья, со щелью в крышке, грубо прорезанной ножом. Это была копилка для пожертвований. «Шенк а недуве»,[14] — говорил дед всякому входящему, и надо было бросить в щель монетку или, если ты такой добрый, просунуть сложенный вчетверо рубль. Эти деньги дед отвозил в синагогу, и он же распределял их среди нуждающихся. Себя, как я уже говорил, он к таковым решительно не причислял.
Думаю, там, в своей общине, он считался честным и умным человеком (что может быть выше для еврея?), потому что однажды, когда он сломал себе руку, поскользнувшись на льду у двери уборной, и долгое время не выходил из дому, — сам главный раввин оказал ему честь, навестив его вместе с женой и проведя с ним двадцать минут в неторопливой и достойной беседе.
Я имел удовольствие быть свидетелем этого события. Оно произвело на меня впечатление.
В то время мы с мамой уже переехали в многолюдный дом Якова Ройтмана, уже начали жить иной, обеспеченной жизнью, уже перешли в иное качество, в категорию богатых родственников. И хотя подлинное притесненное мое положение никогда никем вслух не обсуждалось, более того — молчаливо предполагалось, что со мной-то все прекрасно и отлично и что даже если и возникают какие-то трудности, то все равно, «ради мальчика это надо было сделать», хотя все окружающие и вели себя, исходя из этого именно тезиса, и, начни я жаловаться, меня бы просто не стали слушать, — несмотря на все это, отношение ко мне моих родичей не только не изменилось к худшему, но, напротив, стало еще теплее. Слишком они любили меня, чтоб уж совсем ничего не почувствовать.
Но и я тоже — только здесь, в пенатах, в нашей старой развалюхе с осыпающимися стенами, в захламленном просторном дворе с палисадничками и огородиками, с косенькими жердочками и заборчиками, сбитыми неверной рукой моего дяди, — только здесь я и чувствовал себя дома. И много еще лет после переезда я возвращался сюда каждую субботу и чуть не со слезами (а иногда со слезами) уезжал в воскресенье вечером. Именно так: уезжал — туда, а сюда — возвращался.
— Шен! — говорил Яков. — Уже! Он уже собрал свои вещи, и его уже нет. (Никаких вещей я, естественно, не собирал. Просто он пытался придать вес и значительность акту моего отъезда.) Дома ему плохо, дома. Здесь его бьют палкой, и не кормят, и не поят. Ему надо тратить деньги на дорогу и везти гостинец, везти — а как же! — он же не может без подарка! Он уже заработал кучу денег, он гнет спину с утра до вечера, и ставит головэ, и рискует жизнь, и у него уже куча денег, и он отвезет своему дяде подарок. А дядя — ему что, ему разве плохо? Пусть приезжает, пусть. Пусть приезжает и пусть везет подарки, дядя только доволен…
(Никаких подарков я тоже, конечно, не вез. В свертке, который давала мне мама, лежала какая-нибудь старая дядина же собственная рубаха, трикотажная, скользкая, с коричневыми полосками. Эту рубаху я в прошлый раз привозил маме и теперь, залатанную, зашитую, с перелицованным воротом, отвозил обратно. Подарки же, если можно их так назвать, я как раз вез оттуда сюда. Это была банка кислой капусты, сочной, хрумкой, приготовленной с любовью и знанием дела; или свежие помидоры с собственного огорода, душистые, крепкие, с зеленым подсыхающим листиком; или коробка конфет, принесенная состоятельным гостем и оставленная нетронутой — «для мальчика»…)
— Какие подарки? — как можно мягче говорила мама. — Где ты видишь подарки? И на дорогу он тоже не будет тратить, поедет без билета на трех трамваях, так даже удобней…
Она провожала меня до крыльца, совала в руку два скомканных рубля и говорила нейтральным, примирительным тоном:
— Я надеюсь, ты уже привык и не обращаешь внимания. Езжай на метро, так быстрее…
И целовала меня в щеку.
Я приезжал в субботу и оставался ночевать, а в одно из воскресений к деду приехал раввин.
Зима в тот год была неровная, с оттепелями, все дорожки вокруг дома обледенели — на этом гололеде и сломал дед свою руку. Я вышел из дому, крутя на пальце ключ от сарая — надо было набрать дров для дедовой печки, — и случайно взглянул в сторону калитки. Такого я еще никогда не видел: мне навстречу с той стороны забора двигалась огромная серебряная борода. Размеры бороды были просто фантастическими, да еще она почти сливалась с серым каракулем, окружавшим ее со всех сторон и тяжело нависавшим сверху. Носитель бороды имел черное, тяжелое, длинное, почти до пят, пальто, опирался на черную блестящую трость и медленно перемещался вперед вращательно-колебательными движениями, как игрушечный заводной медведь. Был он важен, толст, велик и сиятелен. Шагах в шести позади него в том же направлении, с той же скоростью и тем же колебательным способом двигалась маленькая толстая женщина с незапоминающимся лицом, обыкновенная старая еврейка, каких миллион на тысячу.
«Почему он впереди? — подумал я в первый момент. — Мог бы все же пропустить женщину». Но тут же понял, что иначе и быть не могло. Такая была между ними дистанция, что жалкие эти пять шагов могли служить лишь очень скромным ее воплощением.
Я ни минуты не сомневался, мигом влетел обратно в дом и ворвался в комнату деда.
— Зейде![15] — закричал я, почувствовав вдруг необходимость хоть что-нибудь сказать по-еврейски. — Зейде, раввин!
— Раввин? Что раввин? — переспросил дед. — Что ты кричишь как сумасшедший?
Он стоял посреди комнаты в одной рубахе — пиджак его валялся на диване — и подтягивал штаны, перепоясывая их пестрой, связанной из нескольких кусков веревкой, которая служила ему вместо ремня. Штанов было две пары, одни поверх других, да еще кальсоны, все это топорщилось толстыми волнами, лезло одно из-под другого, и этот узел с самим собой внутри он тщетно пытался увязать одной левой рукой — правая была у него в гипсе.
— Раввин идет! — орал я. — Приехал к тебе, идет сюда!
— Ты врешь! — тихо сказал дед, и веревка выскользнула из его руки и повисла на отвороте брючного пояса, зацепившись одним из своих узлов. — Ты врешь, это большой грех — так обманывать старого человека.
Но я ничего не добавил в ответ, и тогда он сел на стул и заплакал.
— Готэню! — причитал дед, заливаясь слезами. — Готэню, что же мне делать? Вот Ты послал мне такую радость и такую великую честь, сам ребе приехал ко мне домой, и вот я должен принимать его в этом сарае, в этой конюшне, в этом борделе — чтоб она сгорела, эта мелиха, что довела меня до такого позора!..
Я успел завязать на нем его веревку и нацепить на шею белую манишку, которую он надевал по праздникам, — и тут в дверь постучали, и вошел раввин, неся впереди себя лаковую свою трость. Так дед и встречал его — в одной манишке, в подвязанных пестрой веревкой штанах, одну руку, сломанную, тянул для приветствия, а другой, здоровой, пытался зацепить с дивана пиджак. Я помог ему надеть его, пока раввин расстегивал свое необъятное пальто. Вошла раввинша. Дед показал мне на дверь. Выходя, я напоследок еще обернулся, взглянул в его взволнованное заплаканное лицо и подмигнул: мол, не дрейфь, дед, все будет о‘кей!
— Майн эйныкл…[16] — пролепетал дед позади меня.
— А шейнер, а клигер ингеле![17] — пропел раввин сочным актерским баритоном.
5
— …Так как же бы ты заплатил за лечение? — продолжал я допрашивать деда. — У тебя же нет ни копейки.
Дед смотрел на меня долгим и хитрым взглядом.
— Да, ты прав! — говорил он решительно. — Ты прав, тебе еще рано жениться. Ты еще говоришь такие глупости, что я вижу: да, тебе-таки рано жениться!
— Ну-ну, ладно, ты ближе к делу.
— О! Посмотрите на этого делового человека! Он спрашивает, где бы я взял три рубля, он думает, я всегда был таким, как сейчас, я родился где-нибудь под забором, — так его научили в школе, и так он и думает — что я родился под грязным забором, а не в порядочной и уважаемой семье. Он думает, что я был босой и голодный и меня угнетали капиталисты. Так ты думаешь, а? А теперь советская власть дала мне эти хоромы, и эти наряды, и всю эту счастливую жизнь — чтоб твои комиссары имели такую же!
Так вот, чтоб ты знал раз и навсегда, что твой дедушка был состоятельным человеком. Не богатым, нет, но хорошему врачу я мог хорошо заплатить, и у меня бы еще кое-что осталось. И эти деньги я зарабатывал вот этими руками и вот этой головой (он показывал, какими руками и какой головой). Я был экспедитором на сахарном заводе, и ко мне приезжали со всей губернии и из соседних тоже. И никто не сказал про Зильбера плохого слова — ни русские, ни евреи, ни украинцы, ни поляки. И даже немцы — у нас были и немцы — тоже относились ко мне хорошо. Может быть, это были другие немцы? Не такие, что убили твою бабушку?.. И твоего папу?..
Он начинал трястись и всхлипывать. Я не знал, что от меня требуется, и выжидал, глядя в пол. Он сам останавливался, подсыхал немного и продолжал:
— У меня тоже был дом, и были лошади, не такие замечательные, как у Красовского, но на них тоже можно было ездить… и была мебель, и кое-что из золота… Но твои бандиты, гори они огнем, отняли все, что у меня было. А мне они дали эти хоромы — спасибо твоей маме, у меня бы не было и этого — и дали мне бесплатную поликлинику, чтобы глупая девка бесплатно писала мне свои бумажки!..
6
Вот такие шли у нас разговоры.
Но я еще раз хотел бы предостеречь читателя от ложного впечатления, будто бы я сам стремился к общению с дедом, будто было мне с ним интересно и весело и я слушал часами, тихо и внимательно, перебивая лишь для того, чтобы уточнить неясное место или задать наводящий вопрос. Ничего подобного. Просто я был воспитанный мальчик и знал, что обязан, находясь в этом доме, навещать старика время от времени и, значит, выслушивать его мансы[18]. Но едва открыв дверь в его комнату, я уже мечтал о том, как выйду обратно. Дед был мне в тягость. Его рассказы мало меня интересовали, я вполне мог бы без них обойтись. Я брезговал пить и есть, прикасаться к посуде, да и к прочим, вполне нейтральным вещам. Я старался сесть подальше от него, с содроганием ожидая того момента, когда он, клацая пластмассовыми челюстями, в полемическом запале начнет плеваться мне прямо в лицо. Приезжая и уезжая, я должен был с ним целоваться, и я заранее прилаживался так, чтобы проскочить и не попасть губами на его вялые влажные губы с нависающими сверху нечистыми усами…
Но, конечно, в повседневном его существовании были и забавные для меня моменты. Мне нравились все его молитвенные операции: как он, серьезно и обстоятельно, надевал на руку и голову тфылн[19], как прилаживал коробочки, накручивал ремешки; как он набрасывал на голову талес[20] и сразу становился женоподобным, плаксивым и жалостливым; и весь его молитвенный бормот, вся эта непонятная мне скороговорка с неожиданно крутыми подъемами и резкими срывами, все это, мне казалось, состояло также из плача, из жалоб, просьб и выпрашиваний.
Но была уже в этом для меня и определенная музыка, звуковое взаимодействие частей, завершенность фраз и периодов. Это ощущение многократно усилилось, когда он однажды попросил меня помочь накрутить ему ремешок на левую руку — из-за сломанной правой он не мог справляться один. Там требовался строгий порядок витков, чередование широких и узких промежутков, и этот ритм, и этот рисунок, выстраивавшийся вдоль тощей дедовой руки, черно-белый, как клавиатура рояля, — все это приводило к неизбежной мысли о музыке.
И действительно, почти все, что исходило от деда, если не игралось — то пелось. Пелись молитвы, в которых, казалось, и слов-то не было, одна мелодия; пелась азбука, так похожая на сказочное заклинание («Олеф, бейз, гимел, долед — четыре буквы в неделю — разве это много? И через два месяца ты будешь читать, как я. А потом приедут иностранцы — не всегда же будет так, как теперь, — приедут иностранцы, и ты, даст Бог, тоже поедешь в другую страну и сможешь сказать и написать, что захочешь: по-русски там никто не знает, а на идыш и лушнкойдеш[21] — всегда кто-нибудь найдется…»); пелись рассказы из Священного писания, которое он, кстати и некстати, пытался втемяшить в дурацкую, всеми силами сопротивлявшуюся мою башку. Если я и слушал иногда внимательно, то только для того, чтобы выловить несуразность и задать уничтожающий вопрос. В общем случае религиозность деда служила мне еще одним подтверждением его умственной неполноценности. К человеку, верящему в чудеса, нельзя было относиться серьезно.
Мне казалось, что все это пришло к нему со старостью, что в молодости он был таким же трезвым, свободным от предрассудков и разумным человеком, как все окружающие.
Где-то она мне померещилась, эта разумность окружающих?..
7
Мы редко говорили с ним о Боге. Он не хотел лишний раз выслушивать кощунственные мои речи, я же знал, что хоть кол на голове теши — ничего ему не докажешь.
Но однажды, совсем уже взрослым балбесом, я влетел к нему в комнату в праздничном настроении. Появился решающий аргумент, которым я собирался если не уничтожить, то надолго уязвить его веру.
— Спутник, дед! — заорал я ему с порога. — Как тебе это нравится? Искусственный спутник в космосе!
— Здравствуй, — сказал он, медленно вставая со стула. — Мы не виделись целый месяц, но ты даже не хочешь сказать мне «здрасьте».
Он уже передвигался с заметным трудом, жить ему оставалось совсем немного.
— Здравствуй, здравствуй, — сказал я ему угрожающе и слегка притронулся рукой к его скрюченной, навсегда после перелома неподвижной ладони и ткнулся подбородком во влажные его усы. — Ну, дед, что, что ты скажешь? Спутник запустили в космос, на небо, и где же теперь твой Бог?
— Ну-ну, ну-ну, — сказал дед, как обычно, делая вид, что не расслышал. — Не спеши, не спеши, сядь, посиди, расскажи, как мама?..
— Что мама? Мама ничего, нормально…
— Нормально? А голова у нее болит? Болит. Это от желудка! Она не следит за своим желудком. Да-да, можешь смеяться сколько влезет, все болезни идут от желудка. Скоро это откроют твои ученые, меня уже тогда не будет на свете, ты прочтешь и скажешь: «О! Старый дедушка был-таки прав! Надо было мне его слушать». Если ты не следишь за желудком — у тебя болит не один живот, у тебя болит и голова, и сердце, и печенка, и геморрой, и для ног и для спины это тоже имеет значение. И настроение плохое, и ты злой, как собака, и говоришь плохо, и делаешь плохо…
(Я слушал молча, я все терпел ради грядущего своего торжества.)
…Но если ты следишь за своим желудком, пьешь на ночь простоквашу, не кушаешь острого — тогда у тебя хорошая кровь, и кишечник в порядке, и голова не болит, и ты веселый, и все у тебя хорошо получается…
Наконец он устал, сделал паузу, и я ворвался в нее, как бандит в приоткрытую дверь:
— Дед, ты же любишь отвечать на вопросы. Вот и ответь мне на мой вопрос: где находится Бог?
— А что такое, — встрепенулся он, — что случилось? Почему ты спрашиваешь? Бог там, где и был всегда, — на небе!
— Так, на небе. А где небо?
— Небо? Там! — Он показал всей рукой, ему трудно было шевелить пальцами.
— Хорошо. А что такое небо?
— Не говори глупостей. Небо — это небо. Ну, конечно, ты читал всякие книги, и ты мне расскажешь, что это такое. Ну, что ты об этом думаешь?
— Да что же тут думать? Небо — это атмосфера, воздух, небо — это космос, пустота. Это, в общем, просто направление вверх, от центра Земли…
— Угу. Это ты в книжках прочел?
— В книжках, в книжках. Какая тебе разница? Это всем известно, в школе проходят.
— Что ты говоришь! В советской школе?
— Нет, в немецкой. Не строй из себя дурачка.
— Я не строю из себя дурачка. Я просто удивляюсь, что в советской школе тоже иногда говорят правильные и умные вещи.
Я только усмехнулся.
— Ты же знаешь, дед, ты уже слышал: запустили искусственный спутник. Ученые давным-давно рассчитали законы движения планет, и теперь он вращается вокруг Земли, движется по тем же законам. Его так и запускали, такую давали скорость, чтобы эти законы выполнить. И значит, они верны, раз он там летает?
— Ну-ну, ну-ну, очень хорошо, пусть летает, разве я против? Пусть летает, только бы не было войны…
— При чем тут война? Слушай, дед, я еще раз тебе объясняю: спутник движется по тем же законам, что и все планеты, и, значит, для их движения вовсе не нужен Бог — а только законы механики!
— А-а-а! — протянул он. — Ты опять за свое. Ты молодец, много знаешь: планеты, законы… Ну что ж, я не спрашиваю тебя, кто создал эти планеты, и Землю, и все такое. Но скажи мне, кто установил законы? Кто, кроме Бога, мог это сделать?
— Да никто их не устанавливал, они были всегда.
— Ты говоришь — никто, я говорю — Бог. Ты думаешь, что ты прав, я думаю, что я прав. И никакие твои ученые, даже самые умные — нас не рассудят.
— Ну хорошо, ладно — Бог. Но почему же никто его не обнаружил? Никакими приборами? Сначала думали, что Бог сидит на высокой горе. Поднялись на все горы — там его нет. Стали летать на самолетах — ничего похожего. Поднимались все выше, почти уже за атмосферу — с Богом не встретились. Теперь вышли в космос — уж куда выше, — опять ничего не видно…
— Ну-ну, — покачал он головой. — Что мне делать, если ты всегда так торопишься? Ты так торопишься, что тебе некогда выучить лушн-койдеш и почитать священные книги. Хорошо, не надо лушн-койдеш, Священное писание есть и по-русски, я мог бы тебе достать. Но тебе некогда. Ты хочешь услышать одно слово и чтобы все тебе сразу стало ясно. Все не станет ясно от одного только слова. Хорошо, хорошо, не перебивай меня, я скажу тебе так, что ты будешь доволен.
Так вот, люди сидят внизу, на берегу моря, и не умеют подняться в гору — и Бог для них на горе. И это правда. Но проходят многие годы, быть может, сотни или тысячи лет, и люди поднимаются на гору, и Бога там нет, потому что он на небе. И это тоже правда. И проходят другие сотни лет, и люди придумывают самолет и летят прямо на небо — и Бога там нет, потому что он много выше — как ты говоришь? — да, в космосе («космес», — произносил дед). Но люди скоро полетят в космос, и там будет то же самое. Потому что — слушай, что я тебе скажу! — потому что Бог всегда над людьми, и как высоко ни поднимется человек, Бог останется на пятьсот лет пути выше!
— Ну-у-у… — протянул я разочарованно.
— А что же? Ты рассуждаешь, как советская власть: или то — или другое. А я говорю: и то, и другое. Всему на свете хватает места — и Богу, и спутнику, и самолету. Всему есть место в Божьем мире: и твоей мелихе, чтоб она провалилась, и тебе, чтобы ты был здоров еще долгие годы, и мне, чтоб я умер без всяких мучений. Умейн!
8
Он умер без всяких мучений. Дядя зашел к нему утром, окликнул — он не откликнулся…
Шла пасхальная неделя, и съехавшиеся к вечеру родственники радовались наперебой, как удачно все получилось, какое вышло совпадение — не всякому так повезет. И хотя никто мне не мог объяснить, какие именно привилегии полагаются умершему в Пасху, в том, что это большая удача, также никто не сомневался.
Дед лежал на полу, накрытый белой простыней. Две свечи дымили и оплывали по обе стороны от того, что должно было быть его головой. Те несколько предметов, что составляли дедову мебель, были вынесены на террасу; обшарпанные табуретки и венские стулья рядком стояли вдоль голых стен, и каждый, кто входил сюда и садился, тут же начинал вести свой собственный счет времени, терпеливо дожидаясь момента, когда можно будет встать и выйти.
Несколько дней назад, а казалось, вчера (заманчиво было думать, что именно вчера) — точно так же выносили мебель и расставляли стулья, и съезжались родственники, и дед был в центре внимания. Наступал Первый Сейдер[22], день, когда вся мишпуха собиралась вместе, и это был действительно большой праздник, праздник общего дела, день единения.
На месте общего дела помещался общий дед — каждый из нас чувствовал в этот день свое перед ним равноправие и равное со всеми право на него. Отсюда и возникало это единение, радостное растворение каждого во всеобщем взаимном расположении, чувство, не столь уж доступное в остальные дни года.
Всю небольшую дедову комнату занимал тогда общий стол, составленный из собственно стола, и еще тумбочки, и еще кухонного столика, и еще какого-нибудь ящика, поставленного на-попа и прислоненного сбоку, — за него усаживали самых младших. Помещались все, сколько бы ни собралось народу. Теснились, устраивались, кто как мог, — но дед располагался с удобствами. Он возлежал на подушках у дальней, царской стены, и вся торцовая часть стола была предоставлена в его распоряжение. Белая крахмальная пелерина покрывала его плечи и грудь, из рукавов праздничного коричневого пиджака высовывались чистые полосатые манжеты, поблескивали стеклянные запонки. Пиджак, впрочем, был так же зашмальцован, как и всякая другая его одежда, но надевался он только по праздникам, а потому и выглядел празднично. Черная ермолка обтекала голову деда, голова без привычного козырька казалась на удивление маленькой и голой.
Дед был похож на капризного ребенка. Сидел в своей пелерине, как в слюнявчике, за ним ухаживали, предлагали ему кушанья, приносили, уносили…
И свечи тогда — тоже горели. Два витых бронзовых подсвечника стояли по углам стола, две толстые свечи выпрастывали из них кривобокие жирные туловища, два язычка пламени, два пламенных дурачка, плясали и корчились в электрическом свете.
Эти подсвечники привез из Германии мой двоюродный брат, бравый штабной капитан. «Отнял у немцев», — говорили в доме, и мне мерещилась натужная рукопашная драка, такая примерно, как в «Теркине»: я видел, как вонючий неповоротливый немец размахивает двумя тяжелыми подсвечниками, по одному в каждой руке, пытаясь ударить моего бесстрашного брата. Не тут-то было!..
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Интродукция
Сочинение на аттестат мы писали в кабинете ботаники. Красочные портреты полезных и культурных растений заполняли всю заднюю стену, бледные высохшие оригиналы торчали в плоских банках за стеклами длинных шкафов. Отцы и благодетели этих растений составляли святую троицу, украшавшую переднюю стену над самой доской. На доске были написаны темы сочинений. Образ Павла Власова. Патриотическая лирика Маяковского. Образ столичного и мелкопоместного… Ботаничка поставила мне годовую пятерку за домик Мичурина, который я по клеточкам срисовал из учебника на лист ватмана. Этот домик тоже был где-то здесь. Я покрутил головой — ага, вот он, на левой стене между окнами. Ботаничка жила с директором, все это знали, кроме, может быть, первоклассников. Директор на всех орал, но ее побаивался… Образ Павла Власова… Три темы, три портрета. Павел Власов — это был Василий Робертович Вильямс, кривой его рот мог свидетельствовать, например, о пытках в царском застенке. С патриотической лирикой получалось хуже, сусличья голова Лысенко не очень в нее влезала. Но на худой конец могло и сойти. Зато прекрасным олицетворением мелкопоместного дворянства служил портрет Мичурина с его мирной хозяйственной бородкой. Правда, столичное оставалось за кадром, но уж это не велика беда. Решено — я пишу «дворянство»!..
«Войну и мир» я, разумеется, не читал. В далеком детстве я прочел несколько назидательных сказочек — «Медведь сказал мне: плохие люди те…» — этого оказалось достаточно, чтобы за версту обходить любую книгу Толстого. «Зеркало революции» и «идеолог крестьянства» довершили начатое. Ясно было, что это не для чтения.
Те мелкие дозы литературы, что впрыскивала в меня хрестоматия, были тоже рассчитаны безошибочно, вызывали стойкий, многолетний иммунитет. Все писатели разделились на великих и хороших. Великих проходили, хороших — читали, совпадений быть не могло. Кроме, впрочем, одного: Тургенев. Однако и тут его не было, совпадения. Тот Тургенев, что написал «Записки охотника» и «Отцы и дети» — был великим, а тот, что «Рудин» и «Вешние воды» — хорошим и даже прекрасным… Впрочем, оставался еще «Герой нашего времени» — странная книга, про которую мне мало что было понятно, но которую я читал взахлеб, не имея возможности вдуматься, неотступно и завороженно следуя за движением авторской речи.
Толстого же я не читал вовсе, но знал по учебнику все, что полагалось. «Образы мелкопоместного…» Интересно, подумал я, снимал ли когда-нибудь Мичурин свою шляпу или же ел в ней и спал, как мой дед?..
Литераторша, Маргарита Исаковна Крамер, мерно ходила между рядами, останавливалась, опираясь на парту толстыми пальцами с красным маникюром, тяжело и сочувственно сопела над головой. «Как дела?» — спрашивала многозначительно. Я с неприязнью смотрел на ее руку — она была лишней на моей парте. Все в порядке, Маргарита Исаковна! Я всегда был убежден, что и она тоже, кроме школьной хрестоматии, ничего в своей жизни не читала. Но в отличие от меня — вообще ничего, ни по программе, ни вне программы. Чувство языка было чуждо ей в высшей степени. Помню, как она стояла у доски и, закрыв глаза, откинув голову, с нездоровым румянцем на щеках, выпаливала одиннадцать глаголов второго спряжения: «Вертеть, видеть, гнать, держать, дышать…» На толстых ее губах выступала пена, обнажались кривые желтые зубы… Впрочем, была она доброй женщиной, никому не делала зла.
«Образы столичного и мелкопоместного…» Первая часть: Историческая обстановка. Третья часть: Ленин о Толстом. Вторая часть: Образ Андрея Болконского. Образ старого князя. Образ Пьера Безу…
— Что ты наделал, Зильбер, что ты наделал!
— Что случилось, Маргарита Исаковна?
Она поймала меня на лестнице, я шел на экзамен по химии, схватила за руку, задергала, зашептала:
— Зильбер, что ты написал в сочинении?!
— Что я написал в сочинении?
— Ты что, не помнишь сам, что написал?
— Вы шутите, Маргарита Исаковна, там шесть страниц! Не могу же я пересказать вам каждую строчку. Вы лучше скажите, что случилось.
— Он еще спрашивает! Случилось то, что не видать тебе медали как своих ушей. Ты написал — Боже мой, чем ты думал! — ты написал, что дворянский класс сыграл решающую роль в культурной жизни России!
— Ну и что, разве это не так?
— Зильбер, не строй из себя дурачка, эти вопросы решаю не я. Тебе ничего уже не поможет. И ведь я же к тебе подходила, спрашивала, все ли понятно! Где была твоя дурацкая голова?
— Кто же сыграл решающую роль, Маргарита Исаковна? Разве не этот, не дворянский?
— Оставь, Зильбер, не надо болтать глупостей. Чему ты научился за десять лет? Во-первых, не класс, а отдельные выходцы, прогрессивно настроенные, порывавшие. Во-вторых — ты забыл разночинцев. Короче — больше тройки не поставят, так мне сказали в РОНО.
Ага, вот оно! Разночинцы, выходцы… Я чувствовал, как весь покрываюсь испариной. Да, похоже, что это конец. Вряд ли мне светит институт — без медали. В этом году прогноз для евреев был особенно мрачным.
Глава первая
1
Я увидел снова мою Тамару через несколько лет после окончания школы, в промозглый холодный ноябрьский вечер.
Я работал монтажником на странном предприятии. Это был цех при фабрике детских игрушек, и собирали в нем тензоэлектронные усилители — приборы для измерения механических деформаций. Организовал его Оскар Леонтьевич Кофман — предприимчивый и энергичный деляга, циник, бабник, умница и нахал. К игрушкам это имело лишь то отношение, что директор фабрики был мужем сестры Кофмана. Цех помещался в глухом подмосковном поселке, в ветхом жилом деревянном домике, купленном или снятом Оскаром Леонтьевичем чуть ли не за собственные свои деньги. В одной из комнат, самой большой, стояли рабочие верстаки. В другой, поменьше, гудели станки, один токарный и два сверлильных. В третьей, дальней, совсем уже крохотной, был как бы склад готовой продукции. Материалы хранились в отдельном сарае с огромным ржавым замком на двери. В маленькой кухоньке сидел сам Кофман — это был его кабинет, контора и канцелярия.
Работало нас человек двенадцать, выпускали мы в день два-три усилителя. Это были тяжелые грубые ящики, покрашенные муаровой краской, с визгливыми чемоданными ручками, с кривыми надписями на лимбах, с разномастными, кое-как подобранными клеммами, с выпуклыми глазками оптических индикаторов, хрупких, выглядывавших опасливо за края неровных отверстий. Пятнадцать-двадцать таких уродов грузили на телегу, зимой — на сани, и старая лошадь с больными ногами отвозила их на какую-то неведомую базу.
Я работал монтажником в этой шарашке, тыкал паяльником и пинцетом, почти не глядя, почти на ощупь, сорок три сопротивления, семь конденсаторов — изо дня в день одно и то же, никаких изменений быть не могло. Иногда на какой-нибудь час или два мы менялись со слесарем Димкой Козыревым, он паял, а я сгибал шасси, сверлил отверстия, нарезал резьбу… Делали мы это потихоньку от Кофмана: он стоял за узкую специализацию и не любил самоуправства…
Кофман был необыкновенно красив — основательной, надежной мужской красотой, и хотя ему слегка не хватало роста, но зато хватало прочих достоинств, чтобы нравиться и женщинам, и мужчинам. Широкие плечи, мощные ноги (правая была пробита осколком, но и хромота ему шла на пользу, прибавляла грубого обаяния), прямой нос, крупные губы и ослепительно-белые зубы, ровные и гладкие, как у Эдди Рознера. Голос у него был прекрасно поставлен, такой ритмичный, чуть поскрипывающий баритон, как размеренный шаг по утоптанному снегу.
Я часто задерживался после работы, благо торопиться мне было некуда. Кофман тоже часто оставался, ждал на кухоньке своих баб, они к нему приходили прямо сюда. Иногда ему устраивала проверку жена, рыхлая потная женщина, но никогда он не попадался, каким-то чутьем угадывая заранее каждый ее прискок.
В ожидании гостей он предлагал мне выпить: «Примем, Сашенька, по пять капель?» — и я соглашался без колебаний. Он вытаскивал из сейфа бутыль, разбавлял в граненом стакане, и мы пили едкую теплую смесь и закусывали кусочком черствого хлеба. Я давился, закашливался, но терпел — за компанию и для будущего хорошего настроения. Настроение не замедливало наступить. Мы сидели с ним на кухне, как старые друзья, и он рассказывал мне свою жизнь — довоенные прелести, военные тяготы, послевоенные хлопоты. Голос его звучал достойно и уверенно, и я испытывал к нему нечто вроде нежности и, казалось, понимал эту самую женщину, которая решается идти одна полтора километра от станции, в темноте, по узкой снежной тропе…
Он рассказывал спокойно, не торопясь, но на часы все же поглядывал, и вот раздавался стук в окошко, я вскакивал, пожимал его крепкую руку, хватал пальто и выбегал прочь, пробормотывая невнятное приветствие входящей навстречу — высокой, стройной, молодой и прекрасной, с румяными щеками и опущенными ресницами…
Завидовал я ему смертельно.
2
Это был плохой период в моей жизни. Все уплывало от меня прочь, и казалось, что стоит мне опереться о стену, как она тут же брезгливо отодвинется. Дома и семьи у меня по сути не было ни теперь, ни прежде, но только теперь я осознал это в полной мере и только осознав — по-настоящему почувствовал. Бедная моя мама, наконец, спохватилась, что-то такое в себе повернула, переоценила какие-то ценности, стала ругаться из-за меня с Яковом — но теперь это было мне уже ни к чему. Я ни в чем уже от него не зависел, приносил в дом и имел при себе, и все, что за годы во мне накипело, обернулось теперь равнодушным презрением и полной отчужденностью от всего домашнего. Я не раз порывался снять комнату, но мама со слезами меня отговаривала, и я, едва заведя разговор, тут же сдавался и отступал. Для нее это было бы ощутимым ударом: совсем уже полное одиночество, да и родственникам как объяснишь.
С Ромкой я виделся очень редко, он учился в Плехановском — устроили родичи, — был самодоволен, как тайный советник, гладил себя по отраставшему брюшку и грозился стать большим человеком. «Не дрейфь, Сашок, — говорил он, хлопая (ну, конечно!) меня по плечу. — Мы еще свое возьмем, мы свое покажем! Именно так, Сашок, именно так: возьмем — и покажем! — и он громко хохотал, откидывая голову. — Мне цыганка у Белорусского нагадала: будешь, говорит, большим человеком. И вот увидишь — буду!» — «Да-да, — вяло отвечал я ему, — обязательно будешь. А ты случайно не спросил у цыганки, что для нее значит „большой человек“? Начальник отделения милиции? Директор столовой?»
Он отодвигался, лицо его принимало особое, смущенно-нахальное выражение: «Ну что ж, для нас и это неплохо. Это ты у нас не от мира всего, а мы-то, брат, по земле ходим. Пусть будет директор столовой — я не обижусь…»
Больше говорить мне с ним было не о чем.
Пусто, пусто, пусто! — было у меня в душе, полная откачка, теоретический, безукоризненный вакуум. Где-то на дальнем экране еще оставалось неясное воспоминание о Тамаре, скорее угадывалось, нежели виделось, — бледная тень, тусклая проекция. В действительности же ничего не было. И любви этой детской — тоже не было, а была выдумка, бред, сон, игра воображения, пустые мечты-с.
Взгляд мой был надежно отвернут от прошлого, обращен в настоящее и будущее, то есть — никуда. Однажды я пробегал через рынок в булочную — на той стороне был хороший магазин, с ночи привозили свежие батоны — и своей жесткой клеенчатой сумкой задел старуху, большую черную ведьму с клюкой, неподвижно стоявшую на рыночной площади. «Чтоб тебе пусто было!» — прокаркала она мне вслед. Я вернулся, поднял ее упавшую клюку — она оказалась лакированной тростью с перламутровыми инкрустациями — и попросил у старухи прощения. Она цапнула трость и, даже не взглянув в мою сторону, а по-прежнему уставясь прямо перед собой, повторила отчетливо и громко, выделяя каждое слово: «Чтоб — тебе — пусто — было!» И часто потом, с суеверным ужасом, я вспоминал этот случай и никак не мог избавиться от мысли, что старуха меня прокляла, что слова ее — не простая ругань, что они сбываются буквально и точно, потому что было мне и действительно — пусто…
К Марине я не ходил больше, но как-то вдруг она зашла сама. Яков был дома, стрельнул глазами, что-то промычал в ответ на приветствие, отвернулся и вышел в другую комнату. Я поспешно вывел ее за дверь, мы прошли через весь наш огромный коридор, накалываясь поочередно на взгляды соседей, постояли еще минут пять во дворе, и я даже не пошел ее провожать. Но она пришла еще и еще и стала ходить почти регулярно, раз или два в неделю. Входила, садилась уверенно и спокойно, разговаривала все больше с мамой и даже с Яковом находила общий язык: задавала ему идиотские вопросы, например, по международному положению и потом терпеливо, с идиотским вниманием, выслушивала его идиотские ответы. Слушала она буквально раскрыв рот: у нее был хронический гайморит, полипы в носу и еще какие-то, столь же романтические болезни, на которые она жаловалась моей маме.
«Я вам скажу, это трудный вопрос, тот, что вы говорите, трудный вопрос, я вам скажу», — начинал свой разбег Яков, и раскатывал ладонью хлебные крошки, и обдувал нижнюю губу, и поднимал маленькие глазки кверху — а она широко раскрывала рот и заранее с пониманием и готовностью трясла головой, и негустая темная челка распадалась у нее на лбу…
Между тем отношения у мамы с Яковом с каждым днем ухудшались. Он кричал за ужином, что теперь не те времена, что гешефты кончились, что надо откладывать, а не тратить последнее, а тем более из того, что на черный день… «Я не могу тащить вас всех на себе!» — и короткими пальцами, вымазанными в картошке и соусе, брал с тарелки кусочек мяса, аккуратно нанизывал его на вилку, продвигал, поправлял, пристраивал поудобней — и уже с помощью вилки засовывал в рот…
И вот впервые за много лет мама устроилась на работу — и это действительно его успокоило, для меня же имело последствием то, что когда я однажды пролежал две недели с дурацким и нудным гриппом — Марина стала появляться и днем, сразу после занятий. Она ставила стул рядом с моим диваном, садилась — и говорила, говорила, говорила… Серые волны тоски наплывали на мою постель, захватывали и топили утлую мою лодчонку. Она рассказывала институтские новости, и самое страшное в ее болтовне было полное исчезновение второго плана, отсутствие чего бы то ни было неважного, незначительного, непервостепенного. Все слова произносились с полной отдачей энергии, с одинаково четкой артикуляцией, все интонационные веса во фразе распределялись с дотошным ученическим педантизмом. Возникало ощущение какой-то особой, пустой напряженности, безумно утомлявшее мозг…
Внешне она изменилась к лучшему с тех наших детских хождений. Пополнела, покрупнела, появилась в ней даже женственность, о чем раньше и речи быть не могло. Веснушки остались, но не так назойливо выделялись на слегка округлившемся лице, зимой же, как вот сейчас, и вовсе не раздражали. Все бы, может быть, было и ничего, если бы не вечно раскрытый рот — опять-таки в прямом и переносном смысле. Совсем не слушать ее я не мог, надо было кивать, улыбаться, поддакивать, хмуриться…
И честное слово, порой мне кажется, что когда я обнял ее однажды — схватил за руки и притянул к себе, — то сделал я это, чтоб она замолчала, а не из какого-нибудь другого желания.
Она легко и естественно пошла на сближение, видно было, что давно уже ждет, и проявила удивившее меня бесстыдство, охотно позволяя мне все что угодно, кроме… кроме.
Когда она одевалась, проверяя перед трельяжем положение пуговиц и крючков, огромного банта на груди и своей неизменной челки, а я лежал в постели, измочаленный и изжеванный, я спросил ее, так спокойно, как только мог: «Послушай, а в чем, собственно, дело?»
Она не стала меня переспрашивать, не сделала вид, что не поняла, а подошла вплотную, медленно наклонилась, поцеловала в губы, выпрямилась и сказала, глядя мне прямо в глаза (тут уместно бы было заметить, что она похорошела в этот момент; но нет, она не похорошела): «Дело в том, Сашенька, — сказала она, — что ты меня не любишь. Понял теперь, в чем дело?..»
Тогда-то, выздоровев, я и взял за обыкновение как можно позже приходить домой — чтобы не видеть Марину, а вовсе не Якова, хотя, конечно, и его присутствие по-прежнему не доставляло мне удовольствия.
3
Обстановка в нашей шарашке была домашняя, никакого сигнала к началу и окончанию, естественно, не подавалось, и, быть может, поэтому намного никто не опаздывал и никто не торопился поскорей уйти. В поселковом магазине мы покупали картошку, колбасу, консервы и даже мясо, пиво, вино, а иногда и водку — если дела у Кофмана шли хорошо и он мог нам позволить профилонить полдня. (Что это были за такие дела, никому, кроме него, не было известно, я-то уж, по крайней мере, не имел понятия.) Водки покупали одну бутылку — для разгона, для разогрева, дальше пили спирт, который выставлял нам добрейший Оскар Леонтьевич. Я, впрочем, пил обыкновенно мало, всегда давясь и борясь с тошнотой, пьянел от пятидесяти грамм, но уже любил это состояние, любил чувство общности и теплоты, всякий раз возникавшее среди чужих друг другу людей.
Мы должны были работать с девяти до шести, но в действительности в девять лишь начинали стягиваться, к работе приступали добро если в десять, в пять поднимались главные сачки — Левка Коротков и Сергей Сергеевич, а к шести не оставалось уже никого, кроме меня и Кофмана. Приборы мы все же, как ни странно, выпускали, делали ровно столько, сколько было надо (перевыполнений никогда не требовалось, тут у Кофмана были свои соображения), и приборы эти работали не хуже других. Других таких, впрочем, никто не изготовлял — в этом и была вся штука…
Ребятам я говорил, что готовлюсь в институт, это было естественно и понятно. История с дурацким моим сочинением была рассказана многократно, как раз на тех выпивонах. И про мое неудачное поступление тоже все знали: как срезал меня этот лысый гад на теории электролитической диссоциации, которую в школе и не проходили толком. (Выговорить эту электролитическую диссоциацию после полустакана водки мне с ходу почти никогда не удавалось, и ребята смеялись, соглашаясь, что да, сразу видно: в школе не проходили.)
Но я не готовился в институт. Я писал… Да, конечно, как могло быть иначе?.. Я писал рассказы.
Я начал писать как бы от нечего делать, от избытка пустого и мертвого времени, столь пустого и мертвого, что и чтение не могло оживить его и заполнить. Так становятся графоманами старики-инвалиды.
И как втягивается старик-инвалид и не может уже без постыдной этой работы, так и я тоже — привык и втянулся. И вот уже не мог равнодушно смотреть на пустой лист бумаги. О, этот сладкий разврат, это ложное чувство власти, имитация Акта Творения!.. Когда водишь перышком, водишь перышком, подлежащее — сказуемое, дополнение — определение, причастный — деепричастный, звеня и подпрыгивая, — и, глядишь, уже целая стопка листиков, и все исписаны мелким почерком, и всё в третьем лице, в третьем лице…
«Уважаемый тов. Зильбер!
Мы получили Ваш рассказ, но, к сожалению, напечатать его не можем. Рассказ слаб, как по форме, так и содержанию. Главный ваш недостаток — это надуманность. Вы пишете о людях, которых не знаете, о событиях, свидетелем которых не были. Надо писать о том, что Вам близко и дорого, о том, что непосредственно Вас волнует: о своих друзьях и знакомых, о своей учебе или работе, о Ваших комсомольских делах и туристических походах — и тогда Ваши рассказы станут сразу живыми и интересными.
……………………………………………………………………………………………………
И еще одно замечание. Почему Ваши герои называются полными именами: Сергей, Николай, Валентина, Елена — вместо: Сережа, Коля, Валя и т. д.? Желаю Вам дальнейших успехов,
С приветом
литконсультант журнала…»Уважаемый гражданин консультант! Вы неправы по содержанию! Невозможно писать о том, что близко и дорого, а лишь о том, что дорого — и далеко. В юности же все дорогое — близко, и нет еще ни времени, ни пространства, чтобы было куда его отодвинуть или, может быть, отойти самому. Потребность же эта в дистанции заложена в самом процессе писания, возникает она у всякого пишущего, независимо от таланта. Вот отсюда, от этой потребности — и Сергей, Николай, Валентина… Согласитесь, что это все-таки дальше, чем Сережа, Коля и Валя. А дорого — так же (или так же дешево). Рассказ же — ну какой тут рассказ! Не стоило разговора. Разве что платят за каждый ответ отдельно. С приветом, гражданин консультант, с приветом…
Я сидел за своим верстаком, дымил паяльником, отдавал и брал, отвечал и спрашивал — и вчерашняя сладкая дрожь сидела во мне, притаившись, и я ждал и не мог дождаться нового вечера, как ждет любовник молодой или как старый алкоголик, трясясь, ожидает «поправки». Не сама работа была мне в тягость, но время, которое на нее уходило.
Последним, если не считать Оскара, отправлялся домой Димка Козырев. У него были дети, мальчик и девочка, и скандальная жена, и ехидная теща, и кошка, регулярно приносившая котят, — словом, он не особенно торопился. Наконец, собирался и он, вслух перебрав по памяти все сегодняшние семейные поручения и аккуратно обматерив каждое в отдельности. Затем уже, минут через десять-пятнадцать, заглядывал Кофман, в шляпе и макинтоше или в шляпе и ратиновом сером пальто, в зависимости от сезона. Зимней шапки он никогда не носил. «Член у меня уже мерзнет, — говорил он мне, улыбаясь, — а вот уши пока еще нет».
Он прощался, помахивал ручкой, желал удачи. «Учись, Сашенька, грызи гранит, не сломай только зубы. Я вот тоже много раз подступался, но плюнул — зубов стало жалко».
«Так ведь то — какие зубы, Оскар Леонтьич!»
«Ну ладно, ладно, будь здоров. Не забудь обесточить. И краны закрути покрепче…»
Легким тройным хлопком с отскоком хлопала наружная дверь. Я вставал со стула и оглядывался, блаженно потягиваясь. Теперь это все была моя собственность — мой дом, мое хозяйство, мои владения. Все вокруг отныне меняло свой смысл и свое назначение. То, что минуту назад было главным: станки, инструменты, коробки с деталями, мотки провода и хлорвиниловой трубки — теперь отступало на задний план, становилось таким же фоном, как рисунок на рваных обоях. Главным же был теперь чистый кусок верстака, с которого я широко и решительно сгребал все постороннее, то есть попросту — все. И еще — настольная лампа, не моя постоянная инвалидка, плохо державшая шею и клевавшая носом, а новенькая красавица Сергея Сергеевича, блестящая кокетка в широкой зеленой косынке… Я брал ее у него со стола, тщательно запоминая положение провода, чтобы точно так же потом поставить на место. У него же я брал алюминиевый ковшик, включал плитку, ставил воду для кофе… Все это я делал, уже теплея, оттаивая, переходя постепенно в иную субстанцию. Я наливал кофе в граненый стакан, мыл ковшик, тщательно вытирал, ставил на место. И только затем — подходил к столу и садился. Не тетрадка, нет, — пусть в тетрадках пишут школьники… Листы гладкой белой бумаги лежали передо мной на столе, и я должен был с ними что-то такое сделать. «Простор листа, простор холста мы не оставим без помарок…» Эти стихи появились позже, но я их тогда уже как будто бы знал.
Самое трудное состояло в переходе границы между ничем — и чем-то. Вот этот абзац — еще ничто, слова, предложения, сообщения, синие буквы с белыми пропусками. Но вот следующий — совсем другое. Живое существо, отдельное от бумаги, характер, повадки, звук, цвет… Никаких букв. Литература. Но что выходило — то и получалось, а что не получалось — того и не было. Смысл этой границы был мне непонятен, ее местоположение окутано тайной, она была неуловима и нереальна, как Китайско-Парижская граница у Сэлинджера. И все же где-то она существовала, и чем дальше, тем четче определялась — не сама граница, но принадлежность к той или иной ее стороне. Никогда я не знал заранее, куда попаду, в Париж или в Китай, но зато окончательное, случившееся положение осознавал все более однозначно. Постепенно и письма из редакций изменили свой тон, то есть попросту потеряли всякую интонацию. В них уже не было ни советов, ни замечаний, а только одна или две строчки чисто информативного содержания. Дорогой… получили… к сожалению… с уважением.
4
Те раз или два в неделю, когда у Кофмана назначались свидания, я, естественно, не мог заниматься своими делами, а заходил к нему сразу на кухоньку, принимал положенные мне пять капель и сидел, болтал, то есть слушал и поддакивал, до самого того рокового момента, когда раздавался условный стук. Нет сомнения, что этого стука я ждал с большим волнением, чем он. Оскар не торопясь договаривал фразу, гасил сигарету, улыбался, вставал, отодвигал стул, насколько это было возможно, и спокойно ждал, пока я произведу все свои немногочисленные лихорадочные действия: дернусь, вскочу, открою, выбегу… Главной моей заботой при этом было еще не смотреть на диван — узкий и длинный, с гнутыми подлокотниками, обитый пятнистой рыжей материей, диван, занимавший большую часть пространства, оттого там и было так тесно, на этой кухоньке…
Какая-то идиотская, унизительная роль выпала на мою долю. Зачем я дотягивал до этого момента? Не знаю, мне так хотелось. Мне нравилось сидеть слегка под парами, когда мир был расфокусирован, расплывчат, неясен — но также и чересчур сфокусирован, как бы стянут в узкое пространство, ограниченное вот этими стенами. Нравилось слушать снисходительно-доброжелательную болтовню Оскара Леонтьевича. «Самое главное — не относиться к женщинам серьезно. Вся твоя беда, Сашенька, в том, что ты слишком серьезно воспринимаешь женщин». Он был неглуп, этот старый бабник, попадал иногда в самую точку. Хотя точка эта была — размером с дом…
Но конечно, главное, для чего я оставался, было то самое мгновение, та никогда по сути не происходившая встреча, тот северянинский ветропросвист, когда она входила, а я — выходил.
Зачем мне все это было нужно? Не знаю, не могу объяснить. Но потом, когда я уже шел к станции, почему-то широким торопливым шагом, хотя никогда никуда не опаздывал (я прочел тогда у Макса Брода о гусиной походке вечно спешащего еврея и сразу узнал себя), потом всю дорогу, и еще пять минут на платформе, и двадцать минут в электричке, и долго еще, почти до самого дома, ощущал я в себе — да-да, где-то внутри — живое присутствие этих женщин, не только той, что прошла мимо и была сейчас у Оскара, но и тех, других, всех остальных, всех женщин на свете. Будто все они тяготели ко мне, с тем и ехали, с тем и шли, но по трагической случайности (закономерности?) попадали к Оскару, к Димке, к Ромке — ко всем остальным, вполне посторонним мужчинам.
Но и Оскару, я видел, нравилось это мое полуприсутствие, создавало особую, что ли, пикантность…
За три года работы у Кофмана я видел у него четырех женщин (не считая, конечно, жены), и хотя хорошо разглядеть ни одну из них не успел (кроме опять же жены), но как-то сложилось у меня общее впечатление — молодости, свежести, красоты и, я бы даже сказал, непорочности. Во всяком случае, ни одна из них не подходила под разряд баб — как я себе его представлял. Или точнее, не подходил под этот разряд сложившийся у меня обобщенный образ. Это было удивительно, это заставляло как-то по-новому, по-иному думать о женщинах…
Оскар не предупреждал меня о готовящихся переменах, каждый раз это бывало для меня сюрпризом. И для нее, для новой, — тоже. Тут следовал испуг, удивление, «ах, где же?..» — но я уже проскальзывал мимо и исчезал в голубом тумане — то есть мчался своим гусиным шагом по грязной, пыльной или скользкой дороге.
И вот как-то раз мы сидели с ним в серых осенних сумерках; был субботний вечер, все разбежались раньше обычного, и еще не успело стемнеть. Говорили в основном о газетных статьях, появлявшихся теперь почти ежедневно: верный сын, навеки в сердцах, оклеветан врагами, доброе имя… Оскар был, конечно же, членом партии, от него первого я и узнал сногсшибательную эту новость — после закрытого письма ЦК, которое он доверительно мне раскрыл. Так, впрочем, поступали все без исключения, на этом общем грехопадении, видимо, и строился весь расчет: слухи и частные сообщения обеспечивали необходимую постепенность — и вот удар уже не был ударом, а чем-то вроде легкого стука.
— Так твою мать! Доброе имя! — шипел Оскар, приглушая голос, хотя никто нас, конечно, не мог услышать. — Доброе имя, так твою мать! Не-ет, я, конечно, тертый калач, знал, что у нас везде бардак, но что у нас такой бардак — этого даже я себе представить не мог.
Я только молча кивал головой, не находя ни одного уместного слова.
— А! — он отмахивался. — Что тут скажешь? Давай о чем-нибудь повеселее.
— Насчет холеры в Одессе?
— Да, насчет холеры. Знаешь, я с Людмилой — все. Будьте здоровы и до новых встреч. Так что, хочешь, могу дать адресок. У нее и телефон на работе есть. А то ходишь какой-то ты неприкаянный, надо тебе хорошую бабу. Ну как, дать телефон? Или адрес?
«Дать, дать, конечно, дать!» — закричал я, не раскрывая рта, а когда раскрыл, то сказал тихо и почти спокойно:
— Да нет, спасибо, зачем мне… не надо.
— Почему же не надо? Хорошая девка. Всего лет на пять старше тебя. И ты ей очень даже понравился. Говорит, вот этот твой мальчик, твой… ну, твой адъютант, она так сказала, который меня всегда встречает, какие у него, говорит, глаза красивые. И умненький, наверно, чувствуется по взгляду. Ну, насчет глаз, говорю, тебе виднее, а вот что не дурак, так это точно. Ну так как, дать?
И опять внутри меня крикнуло: дать! — но опять я что-то такое промямлил… Он взял со стола листок бумаги, написал, оторвал, сунул мне в карман.
— Не понадобится — выкинешь.
— А как же… — сказал я, — кто же… сегодня?
— А-а, — засмеялся он, — это у нас не проблема. Костюм хороший достать — проблема. С продуктами тоже бывают трудности. А это в России пока еще не проблема. Вопрос решается в рабочем порядке…
Стук раздался не в окно, а в наружную дверь. «Я встречу сам», — сказал он и вышел первым. Я проскочил через коридор в свою рабочую комнату, чтобы выйти потом, когда они войдут. Но вышел я все-таки слишком рано. Они оба были уже в кабинетике, но рука Оскара еще лежала на ручке двери, готовясь ее прикрыть. Оба еще стояли. Он — в коричневом своем пиджаке, она — в бордовом осеннем пальто. Он что-то говорил, широко улыбаясь, и не закрывал, все никак не закрывал эту чертову дверь… Я прошел мимо быстро, почти бегом, но все же медленнее, чем хотел. Или, может быть, я хотел еще медленнее?..
Я дернул наружную дверь, открыл, закрыл, услышал тройной хлопок, слетел со ступенек, проскочил метров десять, постепенно теряя скорость, словно кто-то выключил во мне мотор, и наконец остановился. Идти я не мог, задыхался. Там, только что… у него в кабинетике… Там была Тамара.
5
Я присел на ящик, один из многих, валявшихся вокруг нашего «цеха». Сумерки приобрели уже вещественность и плотность, но вечер еще не наступил. В воздухе было влажно и муторно. Справа от меня по одной стороне улицы стояли низкие деревянные домики, во всех окнах горел уже свет. Старуха в телогрейке и сером платке сидела на корточках над кучей песка и терла алюминиевую кастрюлю. Рядом с ней на тряпке лежали ложки и вилки. Прямо передо мной маячил лес, голый, как дворницкая метла. Он начинался сразу у последнего дома и уходил вдаль тремя постепенно темнеющими уступами. Улица тоже тянулась к лесу, сворачивала, становилась дорогой, по которой я должен был отсюда уйти, и была она так грязна и непроходима, как только может быть дорога в России.
Дышать по-прежнему было нечем, но как-то я все же жил, не умирал. Быть может, это было кожное дыхание, как у лягушек?
«Надо подумать! — думал я лихорадочно. — Надо подумать…» Но только это: «надо подумать» — и думал. Прошло несколько отчетливых мгновений, прежде чем я понял, что для того, чтобы не свихнуться, я должен сейчас, сию минуту, проделать нечто совершенно невозможное. Я должен был как-то соединить в одно целое: девочку-девятиклассницу в черной майке с желтой нашивкой над грудью, с длинными, белыми, незагорающими ногами и с тем с ума сводящим жестом, в котором, честное слово, успокойся, нет ничего такого, но который я буду помнить всю свою жизнь; эту девочку — и танцы у Ривы, те, что были, и те, которых не было, но которые я так отчетливо видел; и еще — Петровское кладбище, те самые похороны, не какие-нибудь, потом их было много, нет, те самые, песня по радио, и крики женщины, и плач мужчины; все это я должен был соединить еще, по крайней мере, с двумя вещами: вот с этой старухой, которая нарочно так медленно водит мочалкой, чтобы сердце мое разорвалось от тоски, — и вот с этим светящимся позади меня окошком, с тем, что происходит сейчас там, на кухне, за моей спиной, в кабинете обожаемого моего начальника. (Что за начальник? Откуда начальник? Разве есть надо мной начальник?..) Но соединить все эти невозможные части я должен был таким немыслимым образом, чтобы в результате получилась объективная реальность, нечто, действительно имеющее место или, как говорил мой дядя, «имеющее место быть». И чтобы в этом чем-то, имеющем место, нашлось бы еще место небольшому ящику из тонких прогибающихся досочек, скрепленных стальной ржавой проволокой и кривыми расшатанными гвоздями, и чтобы именно на этом ящике, на этих самых гвоздях, сидел сейчас двадцатилетний дурак, обдирая пальто за пятьсот рублей, длинное и зеленое, как армянская селедка…
Однако такое количество условий не мог бы выполнить и сам Мефистофель. Это был единственный выход. Но его не было.
6
Я всегда вел скрупулезный счет своим радостям и достижениям, не таким, конечно, мимолетным, как пятерка по физике или купленный с рук билет на вечерний сеанс, но тем, что имели ощутимое последействие, давали хотя бы легкую подсветку, хотя бы на несколько дней вперед. Не много таких событий накапливалось за год, пальцев одной руки достаточно было для счета, в этом году хватило бы двух или трех.
Во-первых, я научился плавать. Именно в это лето я побил свой личный рекорд, многократно перекрыв роковую дистанцию без помощи спасательного круга. Ненадолго мне этого хватило. Ненадолго. Все вокруг давно и несомненно умели плавать, об этом смешно было говорить. Одного сознания, что ты не урод, недостаточно, чтобы греть нас всю жизнь. (Хотя по совести — ведь должно бы хватать и этого. Воистину, беспредельна наша неблагодарность! Что делать Господу с неразумными нами, если мы не ценим того, что имеем, число же перемен к лучшему ограничено естественными законами?)
Во-вторых, я обнаружил для себя литстудию. Знаменитое литературное объединение, воспитавшее и вырастившее и т. д. и т. п. Это был неизменный, регулярный праздник, и о нем бы я мог рассказать отдельно, но, пожалуй, совсем отдельно — не в этой книге…
И еще… Иногда я ходил по журналам — понял, что нельзя посылать по почте, — собирался с силами, отпрашивался у Кофмана и шел в какую-нибудь редакцию, туда, где я не был дольше всего. Это было ошибкой, и очень существенной, потому что сотрудники успевали смениться и я выглядел каждый раз новичком.
«Я вас слушаю», — встречала меня, допустим, красивая пожилая армянка с низким голосом и дымящейся сигаретой, мужественно задвинутой в угол рта.
«У меня рассказ. Вот… вот сейчас… сейчас я вам…» — тянул я и мямлил, тщетно пытаясь открыть портфель (не мог, идиот, вынуть рукопись раньше — в метро, в коридоре, здесь в кабинете, пока она разговаривала с другими!).
Она деловито протягивала ладонь, но вскоре уставала ее держать и начинала копаться в своих бумагах. Наконец…
«Вот этот абзац! И вон тот! И вот этот, внизу!» — подсовывал я ей мысленно, пока она перелистывала рукопись, подряд, подряд, страницу за страницей, нигде не останавливаясь, превращая в мимолетность и невесомость весь мой многодневный и мучительный труд.
«Хорошо, — говорила она, — оставьте. Вы печатались раньше?..»
«Нет, — отвечал я с полным сознанием своего ничтожества. — Пока нет… (О, это идиотское „пока“, худосочная насекомая гордость!) Нет, не печатался».
«И не будете!» — говорил мне ее равнодушный взгляд.
«И не надо!» — отвечал я ей молча. Прощался и хлопал дверью. Тихонько…
И только однажды мне посчастливилось: я удостоился разговора.
Это был совсем молодой парень, ненамного, может быть, старше меня, круглолицый, гладкий, с черными усиками, точно определявшими центр лица, отчего оно казалось еще круглее.
— Послушайте, Саша, — сказал он однажды. — Мне, знаете, нравится, как вы пишете. Я бы хотел вам как-то помочь. Прямота, искренность — все это есть, с языком вы справитесь понемногу, но вам не хватает связи с реальностью, со всем тем, что происходит вокруг. Не кривитесь, это не пустые слова, если только их понимать как надо. Вот у вас: «Филин ударил крылом» — неплохой рассказик, наивный, правдивый. Но какому читателю он адресован? Кому, скажите мне, интересен этот одинокий сумасшедший музыкант? Рассказ целиком висит в воздухе, ниоткуда не начинается и ничем не кончается, потому что никак не связан с реальной… со всей противоречивой и сложной…
«…Ночка начинается, месяц поднимается, филин уда-арил крылом», — пел дядя Лева, а потом, пропев куплет до конца, играл на трубе мелодию. «А теперь представь, как это звучит вместе», — говорил он Фимке. Походило на разучивание песни по радио.
«Труба — плохой инструмент, — сказал однажды Фимка. — Невозможно играть и петь одновременно. Лучше бы ты играл на гитаре».
Реакция дяди Левы была неожиданной и очень страшной.
Он весь покраснел и затрясся, потом закинул голову назад и цепкими костяными пальцами стал стягивать со стола скатерть. К счастью, была при этом бабушка, она схватила Фимку за плечо и увела в другую комнату, потом бросилась назад — успокаивать дядю Леву. Все обошлось, только разбился стакан.
Вообще же дядя Лева был тихий, потому его и выпустили из больницы, и даже к дальним, вполне дальним родственникам. До войны он играл в Большом театре, в войну же, роковым стечением обстоятельств, попал в специальное подразделение, где учили собак бросаться под танк. С утра до вечера он вместе с несчастными собаками слушал беспрерывный грохот танка. Собаки не были музыкантами, они мучались, но выдерживали. Дядя Лева сошел с ума. Он исчез, его искали и нашли в лесу, он сидел на поляне, прислонившись к дереву, сидел и дул в тонкую веточку, нажимая пальцами на несуществующие клавиши…
Дядя Лева был тихий, и лечащий врач предложил выписать его из больницы и даже — бывают же такие врачи! — купил ему на свои деньги трубу.
Дядя Лева был тихий, но не слушался никого. Если он стоял — то стоял, если же сидел — то сидел, и никто не мог заставить его переменить положение, выйти, войти или хотя бы подвинуться. Никто, кроме бабушки. Бабушку он иногда еще слушал. Она ему приходилась двоюродной теткой, остальные же — отец Фимки, мама, сестра — почти никем не приходились. Бабушка терпела дядю Леву, ухаживала за ним и отдельно готовила, потому что ел он страшно много, и если бы кормить его тем же, чем всех, то просто было б нельзя напастись. То есть он, конечно, ел, что и все, но это для него была капля в море, и ему еще давали геркулесовую кашу или огромную тарелку макарон. Несмотря на это, он был тощ и изможден, и бабушка говорила, что это от трубы, что она высасывает из него все соки.
Все бы, может быть, так и тянулось, но однажды ночью дядя Лева прокрался на кухню и съел всю еду, приготовленную бабушкой на два дня для целой семьи. На другую ночь бабушка его подкараулила и стала стыдить его и увещевать. И тогда он повел себя, как пес Вулли у Сетона-Томпсона. Он смертельно испугался, затрясся, забормотал и, видимо, со стыда и отчаяния, схватил бутылку с подсолнечным маслом и ударил бабушку по голове…
Фимка помнил, как много было в доме народу: милиция в синем, санитары в белом, разномастные родственники, никогда не виденные раньше. Дядя Лева сидел на стуле в коридоре, руки у него были связаны веревкой. Он подмигнул Фимке и кивнул на дверь, за которой лежала мертвая бабушка. Потом запел тихим тоненьким голоском: «Ночка начинается, месяц поднимается, Фима — уда-арил крылом…»
«Эта песня — про тебя, — сказал он серьезно, — Фима ударил, понял? Помни это всегда!..»
— Погодите! — он тоже поднялся с места, подошел поближе, приглушил голос. — Еще один, последний совет. Вы только правильно меня поймите. Видите ли… вы же русский писатель. А у вас чуть ли не половина героев… Ну, и последнее, самое последнее, это не обязательно, но очень желательно, пустяк, но… Возьмите себе псевдоним. Любой, ну хотя бы прямой перевод: Серебров, Серебряков, Серебряный…
7
Вот в таком состоянии (пусто!) находились мои дела к тому моменту, когда я оказался сидящим на ящике, с неподвижным взглядом и застывшими мыслями. Но сидел я так не дольше минуты, ну от силы, может быть, две. В сущности, просто присел и встал.
Вдруг старуха взглянула на кучу вилок и ложек, лежавшую перед ней на тряпке, выпростала из-под этой кучи большой кухонный нож и, неожиданно размахнувшись, всадила его в песок, так что скрылось полрукоятки. Это был сигнал. Я встал и пошел.
— Что ты, Саша? — ласково спросил Кофман. — Забыл что-нибудь?
Да, прошло не больше минуты. Ну разве что две. Он только что снял с нее пальто и теперь вот вешал его на гвоздик. На лице его была еще та, первая улыбка, он еще не сменил ее на другую, вторую…
Она сидела на диване, нога на ногу, курила и говорила что-то тихое, замолкла, когда я вошел. Да, волосы, что ж, действительно. Но и только, Господи, но и только! Как я мог нелепо так ошибиться!
— Что, Сашенька, что с тобой? Случилось что-нибудь?
Я стоял, молчал, стоял и улыбался, даже слюни распустил, как юродивый, — от полноты души…
Уже в метро я полез в карман за мелочью и вытащил тот листочек, что сунул мне Кофман. Телефон, адрес — чего еще? «Здравствуйте, Люда, это Саша, тот самый, который… Ну, как же, не помните? Ну, мы еще, помните… тогда… когда… Люда, у меня к вам просьба (или дело?). Не могли бы мы с вами… Не могли б вы со мной… Зачем? А у меня к вам дело (или просьба?)…»
Пронеси, Господи, представить — и то уже страшно.
Пропадай он пропадом, этот телефон. Но вот адрес… Да нет, не этот именно. Вообще — адрес!
Я вернулся на привокзальную площадь и подошел к справочному киоску. «Наша-то, наша-то, Алексеевна…» Спасибо Марине, я знаю отчество.
— Заполнили? — спросила симпатичная женщина в зимнем пальто, накинутом на плечи. — Ну, теперь погуляйте полчасика.
Глава вторая
1
Любопытно, что и сейчас, через пятнадцать лет, по этой улице ходит тот же трамвай. Конечно, прежним остался лишь номер, трамвай же теперь совсем другой. Теперь это мягкая чешская гондола, с тихим вкрадчивым шорохом подплывающая к остановке. Я проехался однажды, надеясь обновить воспоминания, но ничего ровным счетом не обновил, только надышал на волшебное стекло, прежде такое прозрачное, так что пришлось потом поработать, поползать мокрой ладонью, оттирая с противным свистом сегодняшний этот туман — устранять пресловутое воздействие наблюдателя на исследуемое явление…
В такие моменты теряешь почву, перестаешь доверять самому себе, начинаешь всерьез сомневаться, было ли, не было. И спешишь ухватиться за любой ближайший предмет, хоть случайно оказавшийся в поле зрения. Да вот же — трамвай! Он-то есть, он реален, и с тем же номером — значит, реально и все остальное…
Но тогда это был наш русский тяжеловоз, багровый, литой, грохочущий. Со скандальным визгом и звоном вылетал он из-за поворота и долго смолкал, останавливаясь, с трудом преодолевая инерцию. Он шел к вокзалам, на Комсомольскую площадь, и поэтому был всегда набит до отказа. Я прицеливался издали и кидался с разбега, ввинчиваясь куда-то в несуществующий просвет между плечами, локтями, грудями, радуясь безразличию этих неодушевленных предметов, безразличию, которое в любой момент, я знал, может перейти во враждебность. И когда неотвратимое ребро чемодана ударяло меня сзади, подгибая колени, и я падал вперед, на какой-нибудь необъятный колхозный мешок, успевая в последний миг ухватиться за поручень, — я не испытывал физических неудобств, но зато легкий бурунчик страха прокатывался по моей спине, постыдный бурунчик — век бы никому не сознался!
В остальном же — было мне тогда хорошо, было мне празднично и тревожно, потому что я ехал не просто куда-нибудь — я ехал к ней. Я ехал к ней и чувствовал это ежесекундно. Я ехал к ней, когда ушибался и падал, ехал к ней, когда хватался за поручень, а также когда передавал билет, и особенно — когда спрашивал, не выходят ли впереди. Я испытывал теплое чувство ко всем, сходившим вместе со мной. Это были ее соседи по улице, может быть даже хорошо ее знавшие, или кто-то, кто едет к ее соседям или к кому-то, кто с ней, возможно, знаком.
Этот дом я много раз видел и прежде и даже, кажется, подозревал, хотя, может быть, это теперь так казалось, все равно проверить уже было нельзя. Я входил под кирпичную круглую арку, шел, стараясь возможно мягче ступать по асфальту, чтобы не было гулких ударов, усиленных эхом, попадал в грязный и темный двор, освещавшийся лишь отдельными горящими окнами, неожиданно просторный и длинный, терявшийся где-то в сумрачной глубине, в бесконечной толпе флигельков, сарайчиков и палисадничков; сворачивал круто направо, входил в подъезд с одной деревянной ступенькой — и чуть ли не лицом (а иногда и лицом) натыкался на огромную дверь, обитую черным пупырчатым дерматином. Я нашаривал кнопку звонка — на уровне головы, в сантиметре от правого наличника — и немедленно, сразу же нажимал, не дожидаясь, пока успокоится сердце, не давая себе отдышаться. Я знал по опыту, что не станет мне спокойнее от такого ожидания — наоборот, разволнуюсь окончательно, до бесчувствия, до одурения.
Эта кнопка на какое-то почти неуловимое, но неизменно повторявшееся мгновение напоминала мне Абрама Петровича и Марию Иосифовну — единственных моих знакомых, у которых был тоже дверной звонок. Но и этих знакомых у меня уже не было — они умерли прошлой зимой. Сначала он, а потом она — с какой-то мистической неотвратимостью, с интервалом, в ничтожность которого невозможно было поверить, то ли семь, то ли восемь дней, хотя она была гораздо моложе его и, насколько известно, никогда и ничем не болела…
Я нашаривал и нажимал кнопку — и мгновенно возникавшие в моем сознании их лица и голоса были единственным мне ответом, потому что толстенная эта обивка совершенно не пропускала звуков. До того момента, когда дверь, наконец, отворялась, я всегда успевал усомниться, исправен ли сегодня звонок. Но дверь отворялась.
Там, за дверью, в маленьком коридорчике, никогда не бывало слишком светло: крохотное окошко днем, двадцатипятиваттная лампочка вечером, — но отсюда, из полной почти темноты, так ярко вспыхивал дверной проем, что казалось, включили прожектор. И в широком его луче, не совсем по центру, а чуть в стороне, ближе к правому косяку, возникал рисунок ее фигуры, безошибочно точный контур, весь охваченный легким сиянием. Это сияние как бы двигалось снизу вверх, становясь понемногу все ярче, так что черная ее юбка была почти абсолютно черна, но зато светились ворсинки длинного свитера, очень старого, доставшегося ей от матери. Рукава его, я знал, были изодраны, и она засучивала их до локтей, и я видел волнующую эту границу между грубым, неподвижно скатанным валиком — и тонкой линией ее руки, легкой, живой, устремленной к кисти. И совсем уже ярко светились волосы — золотым, глубинным, собственным светом, так что даже лицо ее (о Господи, ее лицо!) слегка проявлялось и обрисовывалось в окружении этого ореола.
— Ну что, — говорила она, улыбаясь, — так и будем стоять? Входи, раз пришел…
Что решительно в ней изменилось с незапамятных тех времен — это голос. Он стал нервным, неровным, всегда возбужденным, покачивающимся на высоком гребне волнения, и эта неровность, и это покачивание только усиливали впечатление женственности, подчеркивали ее многократно. И не было здесь никакого кокетства, вот уж чего совершенно не было, а было лишь естественное проявление личности, сокровенное выражение сути…
В ожидании, когда я сниму пальто, повешу его на крюк, засуну в рукав сначала скомканный шарф, а затем, совсем уже плотно, шапку, выну из кармана носовой платок, высморкаюсь, положу его в карман брюк, потопчусь немного на тряпке у двери, вроде бы делая что-то нужное, — в ожидании, пока я произведу все эти многочисленные, сложные действия, она садилась вполоборота у окна на широкую лавку для стирки белья, скрестив руки под грудью, одной ногой упираясь в пол, а другой, свесившейся, легонько болтая. Наконец, я освобождался, присаживался к ней, забирал к себе одну ее руку, причем она ощутимо сопротивлялась, и прикладывал теплую узкую ладонь к холодным своим щекам, и ласкался к этой ладони, и целовал ее бережно, одним уголком рта. Слезы выступали у меня на глазах — от тепла, от нежности и не знаю еще от чего, и я вытирал их этой теплой ладонью, прежде чем взглянуть ей в лицо: я должен был увидеть его четко и ясно, каждая такая возможность была для меня бесценна.
С неизменным волнением и каким-то неясным страхом замечал я, как мутнел ее взгляд, как она расслаблялась и замирала на миг, но тут же как бы будила себя и меня, отнимала руку, вставала и говорила, мягко, но решительно:
— Пошли, пошли, я тебя покормлю, ты же с работы, голодный небось как черт.
У двери комнаты она останавливалась.
— И смотри, не смей с ним разговаривать, понял? Не смей, я тебе запрещаю. Пусть болтает, молчи, как будто не слышишь. Обещаешь молчать?
— Постараюсь, — отвечал я с улыбкой. — Ты лучше сама не волнуйся, не обращай внимания.
Мы входили с ней в комнату, сначала она, а уж следом я, в небольшую, обставленную, а вернее, заставленную старой безликой мебелью, неуютной, грубой, тяжелой. Посреди комнаты стоял стол, квадратный, дубовый, незыблемый; рядом с дверью — сундук, покрытый дряхлой дерюжкой; справа, в простенке между узкими окнами, — буфет, или черт его знает что, с дверками, нишами, башнями и открытыми полками шириной в четверть доски, на которых, кроме разве солонки, ничего не могло уместиться; слева у стены возвышалась печь, за ней шла кровать, на которой она спала; затем, в углу — облезлый двустворчатый шкаф; и, наконец, в глубине, у дальней стены, стоял широкий диван, и на нем, на пестрой, цветастой постели, лежал, а вернее сказать, валялся, раскинув ноги в кальсонах, неопрятный взлохмаченный рыжий старик.
«Привет, сынок! — выкрикивал он при моем появлении. — Бей жидов, сынок! Бей жидов — родина тебя не забудет!..»
2
Да, рыжий Герасим был отцом моей Тамары, не отчимом, а отцом, родным, законным, единокровным…
Здесь они и жили втроем, в этой комнате: он, мать и она. Но он был старше матери на семнадцать лет, да к тому же свихнулся после войны на этих своих жидах («На этом самом, — говорила Тамара, — ну, ты же знаешь…»), да сверх того еще начал пить, да сверх всего еще — побираться. И мать добилась развода и комнаты от работы. («Пусть у кладбища, пусть хоть на кладбище — только подальше от этого чучела!») С их переездом в наши края все обрывалось. Он ни разу не был в их новом доме, боялся тюрьмы и психушки, мать сумела его запугать. Но то ли нечаянно, то ли нарочно все дни ошивался где-то поблизости, не рядом, но и не далеко. Много раз его порывались выселить — но тут он умел за себя постоять, бил кулаком по впалой груди, гремел медалями и орденами: он был на войне контужен и ранен, он проливал свою русскую кровь, пока тут жиды… и его оставляли в покое.
Никогда ничего у нее к нему не было, ни дочерних, ни просто каких-либо чувств — и все же она к нему приходила, ненадолго, всегда тайком от матери, прибирала, готовила и уходила, не ответив на его идиотские выкрики… Так она и жила с этой тайной, с этой вечной тяжестью на душе, со стыдом и досадой — и с фамилией матери. Отчество же… Но тут-то и фокус. Потому что Герасим, бессмертный Герасим, по паспорту был совсем не Герасим — от таких же бродяг и нищих, как он, получил он свое знаменитое имя, «партийную кличку», как он сам выражался. А когда-то прежде он был Алексеем — в иной, далекой, забытой жизни, быть может, как раз до того момента, пока еще оставался отцом… Ей казалась спасительной эта подмена, хотя, конечно, с другой стороны, у нее не могло быть иного отчества. Алексей же — имя отнюдь не редкое, кто бы мог ее заподозрить?..
Вот такая высвечивалась история, и была она мне близка и понятна и даже как будто давно знакома. Я слушал ее с неослабным вниманием, с болью сочувствия — но и с радостью. Даже эта путаница с именами не казалась мне чересчур удивительной, а скорее необходимой подробностью, как бы вынутой из еврейского быта, где такое случалось в каждой семье, где имя не было чем-то незыблемым, данным раз и навсегда от рождения, но менялось в зависимости от обстоятельств: для родных одно, для друзей другое и третье, полузабытое, — в паспорте…
Но вот мать ее вышла замуж — была она еще вполне ничего — за лихого майора, рубаху-парня, на три года моложе ее: скомпенсировала свой девичий промах. Но, видно, ничего нельзя скомпенсировать, и фальшивый купон путешествует по цепочке, как в том бесконечном рассказе Толстого. С первых же месяцев после свадьбы майор стал приставать к Тамаре… (Что мне делать, если жизнь состоит из банальностей! Но для вас — банальность, пустая деталь, а каким замогильным холодом наполнялось мое нутро, как мутилось мое сознание — от немыслимой широты, от прямо-таки бесконечной возможности, заложенной в этом слове!) А потом майор получил назначение в Минск, и они решили уехать вместе, а комнату матери… сдать его другу, допустим так. И она ни о чем не стала просить, но твердо сказала, что не поедет, что не хочет бросать институт, будет жить в общежитии. Мать с явной радостью согласилась — она еще упивалась любовью — и не стала задумываться над тем, как это ее дочке с московской пропиской могут дать в Москве общежитие. И Тамара оказалась здесь, у отца — больше ей некуда было податься.
Герасим между тем…
— Постой, постой! — она вдруг задумалась на минуту. — Как же так? Как ты здесь меня отыскал?
— Но ведь я же рассказывал: через справочное. Я принял за тебя ту девицу у Кофмана и понял, что мне никуда не деться, что я все равно без тебя не могу… Ну а тут как раз попался мне адрес…
— Нет, этого не может быть.
— Как, почему?
— Ты забыл о прописке!
Черт! Действительно, значит, и я тоже… Как я мог упустить!
— Брось, — говорю я, — какая разница. Ну, узнал у соседей, ну, встретил на улице… Важно не это, а то, что сейчас ты сидишь вот здесь, рядом со мной, ты живая, ты есть, ты существуешь. И все это существует — вот что важно!
— Ты уверен? — она слегка усмехается. Я не понимаю ее настроения.
— В чем? В чем это я уверен?
— В том, что все действительно существует?
— Да! — говорю я как можно тверже. — В этом я абсолютно уверен!
…Герасим между тем становился все хуже, слабел и умственно и физически, требовал все больше внимания. Правда, он почти перестал побираться. Лишь изредка, раз или два в неделю, выходил он утром «подсобрать на поправку», и тут уж невозможно его было удержать. Тамара его несколько раз запирала, но он устраивал такой скандал, что соседям приходилось взламывать дверь, а однажды разбил окно кулаком, вылез и так и пошел окровавленный. Потом хвастался тем же соседям, что ему еще охотнее подавали. Это были у него такие праздники, редкие часы душевного подъема. В основном же он просто лежал на диване, вертел рыжей своей головой, как бы проверяя исправность шейных позвонков, — и бормотал, бормотал непрерывно. Всякого входящего он приветствовал по-своему, но если не дожидался ответа — терял интерес и продолжал бормотать.
Соседи поговаривали о больнице, но Тамара упорно не соглашалась.
— Знаешь, я его не люблю, чаще всего — почти ненавижу, а туда — нет, все-таки жалко. Он ведь однажды уже лежал, я видела, как с ним там обращаются. А он мне отец, я всегда это чувствую, мы ведь с ним очень даже похожи…
— Ну уж!
— Не спорь, не спорь, я знаю. Глаза-то зеленые? Не откажешься…
— Неправда. У него желто-зеленые, а у тебя… Какие у тебя?
Я знал, какие у нее глаза, но нарочно делал длинную паузу. Я мог теперь долго смотреть, выясняя, в другое время это было неловко — чего вдруг, ни с того ни с сего…
— …а у тебя — серо-зеленые. У него маленькие и злые, а у тебя — большие и добрые.
— Скажешь — добрые! Какие там добрые… Просто ты ко мне хорошо относишься.
— Да, ты права, — говорил я серьезно. — Тут ты права, хорошо отношусь. Ты даже представить себе не можешь, как хорошо я к тебе отношусь!
3
Куда мы уходили из этого дома? Чаще всего — на каток. Я брал коньки с собой на работу и прямо с электрички мчался к ней.
— Есть будешь? — спрашивала она ласково, с неизменной кривоватой своей улыбкой.
— Нет! — выпаливал я, запыхавшись. — Вместе! В столовой!
В комнату я старался не заходить — обходился без лозунгов старого идиота. Она кивала и шла переодеваться, но еще я успевал поцеловать ей руки и тянулся к губам, а она уворачивалась, и — «В щеку, только в щеку!» — шептала мне на ухо. Я оставался сидеть у окна на лавке, снимал шапку, закуривал, ждал, а она, я знал, в это самое время распахивала шаткую дверцу шкафа, торопясь, раздевалась за этой ширмой, а рыжий старик гудел, как мотор, а я сидел на широкой лавке, весь в поту от жары и волнения, и чего я ждал, чем могло это кончиться — совершенно было неясно…
Мне и вообще-то нравилось обедать в столовой, но с ней это превращалось в настоящий праздник, в приключение, в романтическую сказку. Она ужасно хотела есть, она безумно хотела есть, она просто умирала от голода — и я, кто же еще, добывал ей еду. Это было такое микроспасение, микроподвиг ценой в десятку.
— Нет-нет, — говорила она поспешно, — мне чего-нибудь так… попроще. И первого не надо совсем.
— Брось, Томка, у меня же полно денег, что ты мелочишься?
— Отдай их маме, ей небось пригодятся.
— Я отдаю, отдаю, не волнуйся. Но еще остается. Я ведь рабочий, я зарабатываю, не то что вы, интеллигенция.
— Да, это ты в самую точку… Вот, возьми мне сосиски, я очень люблю сосиски. Ну пожалуйста, ну не надо лангет, я же не умею обращаться с ножом!
— Ну и что? Плевать! Ешь, как удобно. Возьми хоть в руку и откусывай — кто на тебя смотрит?
— Да? Ты считаешь — никто?..
Нет, я так не считал. На нее смотрели всегда и повсюду: в трамвае, в метро, в кино, на улице — и здесь тоже, конечно, смотрели. И так ощутимо материальны бывали эти мужские взгляды, что после них уже и она, казалось, не могла оставаться прежней, что-то должно было в ней измениться, то ли прибавиться, то ли отняться. И не защитить я ее пытался — знал, что это вообще невозможно, — но только что удержать ее рядом, не отпускать от себя ни на миг, чтоб не дать ей возможности, когда зазеваюсь, уплыть по этим невидимым нитям, притянуться к этим острым зрачкам…
Я обычно брал себе бутылку пива, она отхлебывала из моего стакана (я так любил, что из моего стакана; без спроса, взяла и пьет. Это было особое наслаждение: протянуть руку за своим стаканом и — увидеть, что он у нее в руках, и сидеть и чувствовать этот крохотный недостаток, ощущать через смехотворную эту жертву ее бесконечную власть над собой…), отхлебывала и морщилась: «Горько, невкусно! Не понимаю, что ты в нем находишь. Водка — это еще понятно, а это — ни то ни се…»
Мы слегка торопились, старались успеть, пока в парк не набилось много народу, хотя, признаться, будь моя воля, не пошел бы ни на какой каток. Катался я гораздо хуже нее и, самое страшное, порой чувствовал, что бывает ей за меня неловко, особенно когда встречает знакомых. Да и та постоянная умозрительная опасность, что ее уведут, заберут, отнимут, — здесь, на катке, становилась вполне реальной. И стоял ли я в очереди в раздевалку с ее и своим пальто, упираясь коньками в изрубленный пол; или протискивался в буфет, чтобы принести ей булочку с маком; или даже просто, отвернувшись в сторону, разговаривал со старым своим одноклассником, черт бы его побрал со всеми его потрохами, — никогда я не был уверен, что, вернувшись с номерком, или вернувшись с булочкой, или отвернув, наконец, голову от проклятого болтуна, я застану ее на прежнем месте, да и вообще увижу ее когда-нибудь снова, мою Тамару!
Это был тот самый парк, где я столько-то лет назад познакомился на танцверанде с Мариной.
— Я знаю, — сказала она. — Ты рассказывал. Да и она мне что-то такое однажды…
— Да? И что же?
— Это неважно. Но только знаешь, зря ты с ней так.
— Как? Я с ней — никак.
— Вот и зря. Она была бы хорошей женой.
— Что это значит — хорошей женой? Ты сама понимаешь, что говоришь? Это же глупость, пустая формула! Если у мужчины — никаких способностей, то он хороший организатор. А если женщина некрасивая — то она была бы хорошей женой.
— Не смей! Не смей так говорить. Тебе не идет быть нахалом.
— Это интересно! А кем мне идет?
Она взяла мою руку, положила себе на талию и легонько прижала локтем. На ней был плотный жакет и под ним свитер, но мне казалось, я чувствую ее тело. Мне хотелось так чувствовать — и так оно, значит, и было.
— Ты хороший, — сказала она серьезно и мягко. — Ты хороший, и всегда таким оставайся. Никогда, ни для чего — понимаешь? — ни для чего не надо быть плохим!
4
Однажды, уже в конце зимы, наверное даже в марте — лужи стояли на льду, коньки глубоко зарывались, и снежные брызги летели в стороны, — да, в марте, мы сидели с ней в раздевалке, разминали блаженно ноги, собирались идти домой. «Вился легкий вечерний снежок, я робел, заходя за тобой», — пел динамик нежным порхающим голоском. Эту песенку ставили через три на четвертый, и она неизменно меня волновала, создавала некий мерцающий фон, на котором все вокруг приобретало свой подлинный, незаметный с первого взгляда смысл. Меня всегда занимало странное соответствие и даже единообразие человеческих чувств, которое обнаруживали книги и песни — нет, в первую очередь песни. Тут была необязательна подетальная точность, а вполне достаточно было намека, общих слов, почти не несущих нагрузки, но, так или иначе, отражающих… Я не уставал удивляться тому, что и у других все так же, как у меня, не совсем так, но все-таки так же. И от этого другой, например, парень, сидящий напротив с другой девушкой, вовсе не становился мне ближе — наоборот, вечной тревогой сквозило от этого грубого сходства, больно было мне сознавать обобщенность моего душевного мира, нечеткость и размытость его границ, через которые вот так легко и беспрепятственно, как эта песенка, могут перепархивать потаенные чувства и единственные отношения…
«И туда, где сияют огни, ты с другим убегала вперед. Догони, догони! — только сердце ревниво замрет…»
Там в конце был еще такой куплет — утешительный, я всегда его ждал с нетерпением, и он неизменно меня разочаровывал: «Догоню, догоню, ты теперь не уйдешь от меня!» Нет, нисколько не успокаивала эта наивная подтасовка. Здесь ясно чувствовался маскарад, переодетая, угадывалась прежняя горькая строчка, та же самая боль и тревога. Нет, только полная определенность могла принести мне покой: догнал, схватил, держу, моя…
И вот под эту милую песенку, тревожную, чистую, прозрачную, легкую…
Первого парня я знал, его звали Борька, но имелась у него еще кличка «Мужик». Под этой кличкой он и был в основном известен, и звучала она для всех устрашающе. Был он невысок и без шеи, как жаба, но зато широкоплеч необыкновенно — так угрожающе широкоплечи бывают иногда горбуны. Второй мне как-то не очень запомнился: совсем молодой, полноватый парнишка, лицо круглое и румяное, хотя теперь, после всего, что случилось, трудно его таким и представить… Он все не мог зашнуровать ботинки коньков, гнилая тесьма то и дело рвалась, он надвязывал — она снова рвалась, и уже по нескольку узелков скопилось на каждом конце. Мужик спокойно сидел с ним рядом, высоко задрав тяжелые локти, опираясь о спинку деревянной лавки на одном уровне с лягушачьей башкой. Ни угроз, ни даже легкого спора нельзя было различить в их тихом общении. Мужик говорил, совершенно не двигаясь, круглолицый слушал, рвал и надвязывал, лишь изредка поворачивал голову, взглядывал и кивал утвердительно.
И вдруг я увидел следующий кадр. Я увидел, с каким-то тупым удивлением, что Мужик стоит на одной ноге (как я мог не заметить, когда он встал?), стоит, держась рукой за спинку, на которую только что опирался, а другая нога поднимается вверх, махом вверх, и огромный блестящий конек — невозможно! немыслимо! не бывает! — врезается снизу в лицо соседу, прямо туда, в середину, в мякоть, в нутро… Голова мотнулась вместе с ногой, но нога не дала ей опоры; высвободилась, уже окровавленная, и пошла теперь сверху вниз — черный чугунный ботинок и белый стальной конек — и так ходила она вверх и вниз, методично, как сечка, и рубила, рубила… Кровь лилась на колени, на руки, на пол, и была она неестественно яркой, как на той картине у Репина…
Наконец это кончилось. Мужик стоял на обеих своих канадах — одна была белая, другая красная — и откуда-то сзади — «Саша! Саша! Да Сашка же!» — звал меня голос Тамары. «А?» — коротко спросил Мужик, и я оцепенел под его изуверским взглядом. С ужасом я вдруг обнаружил, что стою где-то на полдороге между своей и его скамьей. Зачем? Что я, собственно, собирался делать? Несчастный парень сидел молча, зажимая лицо окровавленными руками, и лоскутья кожи виднелись между пальцами. Все вокруг тоже — сидели молча, никто не вскрикнул, кроме Тамары. Да и я не мог произнести ни слова. Но все сидели, как положено, я же почему-то стоял. Это был непорядок. «А?» — спросил Мужик, и в следующий момент невозможно длинная, телескопическая рука выросла из его прямого плеча, железные щупальца сгребли мою грудь — и вот уже я полулежал на скамье, с серыми пятнами в глазах и болью в затылке. «Скажи спасибо своей сучке, в другой раз — убью!» И он медленно и спокойно пошел на лед. Не домой, не в толпу, не в укрытие — на лед: развлекаться, кататься, кадрить девочек — на этих самых коньках!
«Догони, догони…» Вот еще одна страшная песенка.
5
Так естественно получилось, что этот раз был последним. Весна избавила меня от катка — один вид собственных коньков вызывал у меня ужас и отвращение. Конечно, человека можно убить и вилкой. А тем более покалечить. Что ж, если бы я увидел такое, то, возможно, стал бы бояться вилки…
Каток кончился вместе с зимой, но ничего не появилось взамен, и пронзительный весенний воздух, беспокойно трубя и настойчиво зазывая, не указывал нам никакого направления. Мы мотались по пьяным московским улицам, нашагивали бесчисленные километры и разочарованно прощались у ее дома, ничего не желая, кроме тепла и отдыха. Все та же неясная тревога стояла за моей спиной, никакого иного имущества не нажил я за эти месяцы. Несколько запретных прикосновений на последнем ряду в кинотеатре, снисходительно терпимых, унизительно нелепых в очевидной своей безысходности; несколько торопливых поцелуев в полутемном дворе — сведенными холодом, бесчувственными губами; «Ты меня любишь?» — дурацкий вопрос, всегда одинаково неуместный, кроме разве что обоюдного взлета страсти… «Да», — отвечала она безо всякой интонации, бросала мне очередное «пока» и исчезала за своей необъятной дверью, выпустив ко мне на минутку нещедрую порцию света и сразу же забрав ее обратно с собой, в узкую полумглу коридорчика и дальше — в душное замкнутое пространство, заполненное старым тряпьем, гниющим деревом и бессонным бормотанием сумасшедшего старика…
Я быстро шел к остановке трамвая. Никуда я не торопился, но и медленно тоже не мог, мчался, чтобы как-то себя растрясти, оторвать, выпрямить, перестроить, — и думал о том, что вот, казалось бы, вся она у меня на виду, а ведь ничего-ничего я о ней не знаю, не многим больше, чем тогда в лагере, а может быть, даже и меньше — если соразмерить с потребностью. Она и вообще-то говорила немного, о себе же — и вовсе чуть-чуть. Все, что мне удавалось узнать, я вытягивал из нее буквально по слову, а там, где сам не знал, что вытягивать, — там ничего и не узнавал. Правда, она бывала точна в ответах или редких своих замечаниях, а голос ее, неизменно меня волновавший, превращал каждую фразу в событие, в праздник женственности и гармонии. Но промежутки, промежутки, из которых одних и состояла, в сущности, ее речь! Я заполнял их своим воображением, своей подозрительностью, неусыпной тревогой, вечным своим ожиданием худшего. Неуловимый дух катастрофы холодом дышал мне в затылок, абстрактный этот образ мигом принимал конкретную форму, стоило мне услышать из ее уст любое мужское имя. Так мало слов она, в общем, произносила, что удельный вес каждого возрастал непомерно и какой-нибудь Коля или Сережа, упомянутый мимоходом, казался уже действующим лицом, центром внимания, героем повести. А было этих Коль и Сереж достаточно много: она училась в МАИ, в мужском институте — и женских имен почти не произносила.
А встречи!..
— Подождем вот здесь, у киоска.
— Зачем? Кого?
— Толик должен принести мне конспект.
Ждем. Вот он идет, Толик — высокий, широкий, с ежиком, с галстуком, нахал, спортсмен и красавец. Впрочем, все они такие, исключений нет. Руку я, конечно, ему пожимаю, но улыбнуться у меня уже не хватает сил. Они разговаривают, я смотрю в сторону. Ну что ж, у них свои интересы, а у меня… а у меня — ихние. Но нет, нет, я посторонний. Не слушаю, не слышу, не надо. Сколько слов, Господи, сколько всяких слов! Сущая мура, круговой студенческий треп, но со мной никогда она не бывает так оживлена. Толик, столик, алкоголик, ролик, нолик… И когда он уже, наконец, уходит — мне кажется, что она ушла вместе с ним и только по доброте душевной оставила со мной свою тень: поддержать меня под руку, успокоить, утешить, когда буду биться в истерике…
Она добра ко мне, этого не отнимешь.
Ну-с, что же дальше?
6
Чересчур затянувшееся мое детство проходит еще одну камеру пыток. Изощренные орудия развлечений развешаны по ее высоким стенам, расставлены по столам, рассажены по стульям, собраны в живописную группу на отдельном особом возвышении. Ресторан — не столовая, сюда приходят не есть, сюда приходят провести время. Высшая мера удовольствия. Два раза в месяц я себя к ней приговариваю. Это называется «могу себе позволить». К чему же это я так стремлюсь, какого дозволения добиваюсь?
Я не стану здесь подробно описывать все те утонченные приемы, с помощью которых крушит мою личность упомянутое учреждение. Или будь своим, то есть нашим, или катись к чертовой матери. Что ж, я бы катился, братцы, но я не один, со мной женщина… Впрочем, вот уже первая вам уступка: женщина — это так здесь говорят. Ресторан — не столовая, веди себя, как хочешь, если хочешь именно так, как надо. Знаменитая наша русская свобода выбора: целых три дороги и камень с надписью. Можешь ехать, куда угодно, выбирай же сам, что терять: жену, коня или голову. Свобода!
И пока официант у меня перед носом работает со своими тарелками, а я придумываю, куда деть руки и что изобразить на лице (не прищурить ли глаз, как советовал некогда Ромка?), и пока в это время моя Тамара ходит туда и сюда вдоль прохода в обнимку с совершенно чужим мужчиной, пожившим морским офицером (не таков ли был ее отчим, не так ли клал ей руку на спину?), а равнодушно-остервенелые парни дуют в свои скрипучие дудки, чтобы даже вблизи я не слышал, о чем они там говорят, — пока я вот так на своем коньке еду сразу по двум дорогам, теряя жену и голову, — две-три странные мысли посещают меня внезапно, вырастают, как чудища среди мутного хмельного озера.
Я думаю, что жизнь наша вовсе не непрерывна, как кажется с первого взгляда, что она не «течет, как река», но образует отдельные сгустки. И как редка жизнь в пространстве, в космосе — один крохотный островок на сколько-то там световых лет, — так редка она и во времени: одно мгновение подлинной жизни на часы и дни промежутка. После пяти рюмок водки это кажется мне откровением. Все люди, думаю я замутненно (мне-то кажется — озаренно!), длят и тянут свои промежутки ради этих редких мгновений жизни, прошлых и будущих, и хотя сами вспышки кратки, как молнии, но ощущение жизни сразу не исчезает, заряд ее падает по экспоненте, и можно тешить себя мыслью, что как бы он ни был мал, а все-таки никогда не достигнет нуля, хотя бы теоретически. А там, быть может, подоспеет новая вспышка, и так, глядишь, до конца и протянем. Жизнь!..
Так естественно подхожу я к своей обиде, к простой и несправедливой мысли, что у всех-то людей — мгновения, сгустки и вспышки, у меня же — сплошной промежуток. Пустота, ноль, одна только видимость. Где-то я выбрал не ту дорогу, какую-то надпись не так прочел, не здесь, не у камня, а гораздо раньше, на позапрошлой развилке, давным-давно, быть может, еще до рождения…
Я уже не пью, но пьянею все больше, и когда мы, наконец, отсюда уходим и я оглядываюсь в последний раз, ища подтверждения своим гениальным выводам, — то самих этих выводов уже нет у меня в голове, а лезет вдруг идиотская мысль, что вот та, например, девица в зеленом платье, у которой держит руку на колене ее пьяный, как я, дружок (на колене — это здешняя норма, но я-то вижу, что выше), эта ярко раскрашенная девица — непременно какой-нибудь деятель, член чего-нибудь, очень важное красное удостоверение лежит у нее в той коричневой сумочке, и там, внутри, на маленькой карточке, погашенной, как почтовая марка, она выглядит иной, аскетичной и строгой, такой, будто нет у нее коленей, будто вся она тут, поместилась на карточке…
«Дурак! Он лучше бы напился — тогда бы не было сомненья!..»
Свой законный приз я все-таки получаю: захмелевшая Тамара, неохотно возвращенная мне этим славным почтенным борделем, теперь близка мне, как никогда. Я чувствую это сразу, помогая ей одеваться, проводя тыльной стороной пальцев, как бы случайно, по ее плечам, с пьяной заботливостью выпрастывая ее волосы из-под черного воротника пальто. Но когда мы идем с ней по пустым полутемным улицам, и она не просто держит меня под руку, а, сцепив свои руки в кольцо, слегка повисает на сгибе локтя и вдруг останавливается на затемненном перекрестке и целует меня — сама! — живыми и нежными губами, и я захлебываюсь этими поцелуями и — вот она, моя вспышка! — как безвестный любовник Клеопатры, завтра же утром готов умереть (до утра далеко, далеко еще до утра…) — но и в эти мгновения, ну, может быть, чуточку позже, шепчет мне дьявол на ухо вечные свои сомненья: а ты уверен, что это ты, что это тебе? А быть может, просто подвернулся, оказался рядом? А может быть, и с другим?.. А с другим-то как раз бы и лучше — это точно, это Я тебе говорю! И она это знает — вот ведь какой кошмар!..
7
Мы встречались в скверике у Самарского переулка, всегда в одно и то же время, если не было чрезвычайного случая. Разумеется, я приезжал задолго, выходил на остановку раньше, шел пешком мимо ее дома, потом возвращался, опять мимо дома, и еще минут за десять до срока садился на всегдашнюю нашу скамью или вставал у чугунной решетки, перебирая пальцами литые ее изгибы, все в чешуйках шелушащейся краски. Там, у дома, у ее занавешенных окон, я принимал свой первый заряд: представлял себе, как она одевается за шаткой зеркальной дверцей, поскрипывающей коротко, когда толкают ее локтем или коленом; как причесывается и красит губы, плотно сжимая их вместе, так что рот превращается в жесткую тонкую линию; как резко щелкает сумочкой и вешает ее себе на руку; и как вот теперь, когда я иду обратно, стоит у двери вполоборота и что-то брезгливо-строгое говорит Герасиму. И конечно, я всегда чересчур торопился, мысленно обгонял события, соображая уже потом, в скверике, что тогда еще она не стояла у двери, иначе бы сейчас была уже здесь. Но и ждать ее — мне тоже нравилось, и иной раз, честное слово, хотелось, чтоб она подольше не приходила. И не только по той всем известной причине, что предвкушение радости есть высшая радость, но еще и потому, что в эти минуты я был полностью свободен от всяких страхов. Мне было хорошо ожидать ее в скверике, только хорошо и больше никак. С нею же всегда — и хорошо, и плохо. Она была больше со мной, пока ее не было, никаких огорчений не доставляла, и никто не мог ее у меня отнять. Она шла ко мне — этого для начала мне было достаточно. Но проходило еще минут двадцать, и я терял все свое благодушие, начинал метаться между сквериком и углом ее улицы, переходил дорогу и возвращался назад, ежеминутно оглядываясь и пятясь. Девушки, которых я издали принимал за нее, приближались поочередно, проявляя удивительное разнообразие черт, поражая меня каждый раз бесконечной возможностью не быть ею. Но вот — о Господи, наконец! — уже рядом, уже на углу замечал я ее фигурку, в черном пальто, тонко обтягивающем талию, или в черном жакетике с узкими рукавами, или в сером платье, или в белой блузке (всегда одевалась только в черно-белое-серое — простые цвета фотоснимков и снов). И сразу же удивлялся, как мог принимать за нее других, так это было теперь немыслимо, и тут же говорил себе, что и не было, что я и не путал, а только нарочно себя обманывал.
Она шла легко, но не торопясь, изредка поглядывая себе под ноги. Зимой и во всякую холодную погоду она носила простые чулки в резинку, что придавало детскую незавершенность вполне женской форме ее ноги — и бесконечно меня умиляло. Старые туфли на низеньком каблуке с расслаивавшимися задниками я сам чинил многократно. Все хотел купить ей новые — вместо двух, например, ресторанов — и не мог, не решался, не чувствовал права…
Она подходила, улыбалась по-своему, подставляла мне щеку, брала под руку. Если не было сыро, мы садились с ней на скамью; она — глядя прямо перед собой, нога на ногу, руки в рукава; я — весь обернувшись к ней, весь устремившись и цепко держась. Говорил в основном, разумеется, я: сразу отмечал ее настроение, старался поддержать, если было хорошее, старался развеять, если плохое.
Рассказов моих она не читала, да я и не писал теперь ничего: можно ли сочинять, пребывая во сне, в поле собственного воображения?.. Но были прежние, сочиненные раньше, и их-то она как раз не читала.
Она была в курсе — и не просила, я был горд — и не предлагал. И только однажды — в тот самый день — она заметила легко, без особого интереса:
— Почему, собственно, рассказы, почему не стихи?
Я удивился:
— А что ты имеешь против?
— Да нет, что ж, мне все равно. Но мне кажется, никто не пишет рассказов, все — только стихи.
— Как это — все? Кто это — все? Откуда же, по-твоему, берется проза?
— Ну, так то — настоящие писатели… Ну-ну, не надо, не заводись, — снисходительно-грустный взгляд и эта ее улыбка… — Не надо, Сашенька, брось, я ведь так… Я и книг-то почти не читаю.
Но я уже почувствовал укол вдохновения, так важна и редка была для меня эта тема, так много всякого здесь накопилось, так хотелось кому-нибудь это высказать, и чтоб кто-нибудь понял, и разумно кивнул, и радостно согласился — и особенно ей, и особенно чтоб она!..
— Нет, ты пойми, тут дело не во мне, тут важна общая закономерность. Вот ты говоришь, почему не стихи. (Ничего она больше не говорила, сидела молча, вполне безучастная, я же гнал свое, гнал свое, думая, что приближаюсь к ней и захватываю, в то время как удалялся и упускал.) Действительно, кто же не пишет стихов? Но на самом деле стихов-то никто и не пишет! Тут, понимаешь, происходит накладка. Потому что формальные признаки стиха гораздо более четки и различимы…
— Саш… — сказала она тихо, теперь уже опять на меня не глядя. — Ни к чему это, а? Не надо. Я ведь здесь все равно ничего…
— Ты поймешь! — заторопился я. — Ты поймешь, это очень просто. Я быстро, я в двух словах. Ну вот, а поэзия-то вовсе не в этом, совсем не в этом, далеко от этого.
— В чем же поэзия?
— В гармонии! И только в ней. А уж это вещь непонятная, необъяснимая…
— Ну вот, видишь, необъяснимая.
— Что ты, что ты, чудная ты, Томка, именно в этом-то все и дело, это и есть самое важное: понимать необъяснимость, принимать невозможность и не лезть со своими дурацкими рифмами, если не чувствуешь высшего дара. Это просто позорно — писать стихи, человек, со вкусом никогда не станет…
— А ты?
— Всерьез — никогда.
— Значит, высший дар. А у тебя какой?
— Нет, ты не смейся (она не смеялась). В поэзии главный ее результат, ну, понимаешь, то, ради чего все и делается, есть не столько отражение-отображение, сколько новое, не бывшее ранее качество…
Я спешил, я был переполнен словами, и все казались мне равнозначными, мешали друг другу, теснились у выхода, оттого и вырывались такими уродами. Я пытался выстроить их хоть по росту, придать им плавный, разумный ход — и терял окончательно ее внимание.
— Ну вот, — говорил я, — а с другой стороны, если взять формальные признаки прозы, то они совсем не столь очевидны, и поэтому…
— Я хотела тебе сказать…
— …и поэтому не так уж много охотников…
— Ты знаешь, послезавтра я уезжаю.
— …браться за это неблагодарное…
Я замолк, наконец.
— В пионерский лагерь. На Черное море. Вожатой.
Ну что ж, никуда мне от него не деться, этого следовало ожидать. Теперь, когда я вышел из подвластного ему возраста, он исхитрился мучить меня на расстоянии. Он усыпил мою бдительность, подарив мне Тамару, и сам же теперь ее отнимает — изощренная пытка, ловко придумано! Неважно, что это уже другой, в другом лесу, по другой дороге, с другим забором, другими детьми — ах да, не в лесу, на Черном море, за две тысячи километров, — все это одно многоликое чудище, безграничное в пространстве и времени. На две только смены. Что ж, довольно и двух. Разве я — и она — разве мы не знаем, чем занимаются вожатые в лагере? Первое же, что пришло мне в голову, был укромный, специально выстроенный шалаш, где застукали ребята нашу пухлую Веру с вожатым второго отряда Славой. Потом все ходили по лагерю и хором повторяли придуманное с ходу приветствие: «Слава Вере! Слава Вере!» — и в паузу, тихо, но так, чтобы было слышно, добавляли один простой глагол…
Ничего я, конечно, этого ей не сказал, только спросил, как она оставляет Герасима.
— С тетей Полей побудет, — ответила она в обычной своей манере. Как будто это само собой разумелось, как будто я должен был знать, что неделю назад приехала какая-то тетя Поля, дальняя родственница из Новосибирска, которая чуть ли не с детства тайно любила Герасима и теперь вот, кажется, наконец решилась и хочет «соединить с ним судьбу».
— Хорошее выбрала время, — сказала Тамара. — Он как раз в женихи поспел!
Глава третья
1
Странная вещь — я почувствовал облегчение. Это было как бы затянувшееся свидание в скверике, где я часто теперь сидел в одиночестве, листая свою записную книжку, что-то снова пытаясь писать. Я еще боялся себе признаться, но кажется, перерыв пошел мне на пользу…
Я работал в скверике у Самарского, если было сухо и не очень холодно, — этим словом работа я чуть ли не вслух называл теперь странное свое занятие. Был какой-то суровый покой в этом слове и неяркая, но неизменная радость — как бы чувство здоровья и физической силы.
В цехе я старался больше не оставаться: встречи с кофмановскими пассиями не доставляли мне теперь удовольствия. Иногда лишь, в плохую погоду и если точно знал, что Кофман уходит.
И еще я ездил в Серебряный бор. Рядом в поселке был чистый пруд, и ребята купались после работы. Но я предпочитал путешествие через город, не такое, впрочем, уж длинное. Троллейбус от Белорусского, двадцать минут — и другой мир, ни поселка, ни города, ни работы, ни знакомых — во всяком случае тех, что с работы… Я шел в Татарово через лес, торопливо раздевался на пустеющем пляже и с ходу, еще не остыв, кидался в воду. Вот еще одна, можно сказать, стихия, где я чувствовал себя как дома. Впрочем, дома я себя так не чувствовал… Отчего никогда мы не ездили с ней купаться? Я бы мог показать себя далеко не с худшей, а главное, не безразличной ей стороны. Ну да, у нас ведь еще не случалось лета… На том берегу была деревянная набережная, витые разноцветные ступенчатые спуски и безлюдные просторные раздевальни: дачи каких-то неведомых высших чинов. Там я любил бродить в одиночестве, представляя себе, что попал в другую страну: разговаривал сам с собой по-английски, поджидал прекрасных принцесс и фей… Но едва заслышав голоса за деревьями, тут же прыгал в воду и плыл обратно — на привычную, скучную, но родную и безопасную землю.
Я ложился влажной спиной на песок, сохранявший остатки дневного тепла, лежал, подрагивая всеми мышцами, смотрел в небо, в даль, в бесконечность и не думал ни чуточки о Тамаре — то есть думал о ней непрерывно…
И вот однажды пришло письмо… Я не ждал от нее никаких писем, я ждал возвращения — оставалось не больше недели. Полная была неожиданность.
— Тебе письмо! — сказала мама отчетливо, ясно и громко, так, чтобы было слышно и понятно в отдаленнейших уголках нашей необъятной кухни. Наши тетки и бабки оторвались от лото и хором на меня посмотрели. Письмо лежало здесь целый день, и все они читали обратный адрес. Я схватил его молча и сразу же отвернулся, ушел, исчез, провалился сквозь землю. Я читал во дворе, прислонившись спиной к глухой безоконной стене тамбура — так называли у нас пристройку с лестницей, ведущей на второй этаж. «Милый, милый мой Саша, здравствуй!» Это чеховское обращение сразу меня резануло, что-то в нем было ненастоящее, неискреннее. Не её. Плохо! — подумал я, дрожа, как в ознобе. Но дальше шло нечто, уже вовсе мне не понятное. Каждой своей клеткой я ощущал бесконечную важность написанных слов, но что они именно для меня означают: радость или несчастье — никак не мог оценить. «Мне так плохо здесь без тебя, зачем ты меня отпустил?..» Радость: ей без меня плохо, и оказывается, я мог и не отпускать! «Я поняла здесь, что никто мне так не близок, и ни с кем мне так не хорошо, как с тобой…» Радость: я близок, и со мной хорошо. Несчастье: ни с кем, и значит, с кем-то тоже, не так хорошо, но было… Что?! С ума можно сойти! «Но, видно, нам с тобой не судьба…» Что? Почему? Почему?! Что?! «Так случилось… Когда ты получишь это письмо, все уже будет кончено…» Да что же это такое, Господи! Нельзя же так издеваться над человеком! «Я уже не буду прежней твоей Тамарой. И вообще, не буду твоей…» Несчастье, несчастье, несчастье!
2
Ну зачем в одиночку, давайте посмеемся вместе. Это же так просто. С чего начнем? «Когда ты получишь… все будет кончено…» Вот. Обхохочешься над двусмысленностью этих слов. Дальше. «Я уже не буду прежней…» Тут еще кое-что добавить — и просто помереть можно со смеху. Ясно же, о чем — нам-то с вами, теперь-то — ясно же, о чем идет речь!
Но знаете, нет, что-то мне и теперь не смешно. Не смешно и всё, как хотите. Более того, мне грустно. И еще того более — тоска меня берет, свежая, цепкая, вполне сегодняшняя…
Зачем-то я вернулся обратно в дом, прошел, так и держа письмо в руке, через весь бесконечный коридор, открыл дверь, вошел в комнату. Там сидела Марина и читала книгу. «Черт знает, что такое, непонятно, кто к кому пришел!» — эта, уже привычная, мысль не вспыхнула, как всегда, а едва проявилась на краю сознания, там дрожала, как тусклое отражение, и даже, кажется, слева направо. Она резко повернула ко мне голову, просияла навстречу, неловко открыла рот — но я уже хлопал дверью, летел на улицу. Куда? Туда. Далеко. Или просто: «Ко». Я теперь, как младенец, изъяснялся одними слогами.
Я был как-то по-пьяному озабочен, шел, пошатываясь, но торопясь, будто и вправду хотел куда-то успеть. Был конец августа. Серые сумерки, так меня раздражавшие, быстро превратились в ночь. Тень стала тенью, огни — огнями, эта определенность несколько успокаивала. Было прохладно, и это мне тоже нравилось. Иногда становилось почти совсем хорошо. Тогда я вытаскивал из кармана письмо и перечитывал его на ходу, наталкиваясь на прохожих. Без этой подпитки боль моя уходила из сердца, но зато заполняла мозг. Я терял всякое чувство реальности, хотя сам этот факт потери осознавал, и это понимание собственной ненормальности было еще страшнее боли. Ровные строчки, красивый почерк, прямые, почти чертежные буквы. Не рейсфедером ли написано?..
— Ого! Привет! — сказал Ромка. — Бывают же совпадения. Я его ищу, а он — вот он. Где это ты успел хватануть? На работе скинулись? Ты ведь у нас теперь работяга, гегемон. И что, часто стал закладывать?
Лицо его выражало радостное сочувствие. И вообще весь он был радостный, деятельный — принес же черт на мою голову. Он уже закончил свой институт, работал директором магазина (большой человек — не ошиблась цыганка!), торопливо вступал в партию и готовился лезть в гору.
— Слушай, ты еще можешь соображать? Это ведь не ты мне, это я тебе нужен. Помнишь, ты просил узнать насчет комнаты?
Да, конечно, насчет комнаты… Зачем она мне… теперь? А напиться и верно бы хорошо. Как это мне сразу не пришло в голову? Вот он для чего пригодится, старый-то друг!
— Ромка, — я взял его за руку, — давай напьемся? То есть, я хочу сказать, выпьем? Да нет, ты не думай, это я так, просто устал…
Он посмотрел на меня внимательней.
— Да-а, действительно, вид у тебя какой-то… Странный ты человек, Сашок, очень странный ты человек. Не пойму я тебя. Может, и вправду нам выпить?
— Да-да, выпить, выпить!
— То был в классе самый способный, а то — рабочим работаешь.
— Я же не прошел, ты же знаешь.
— Да знаю, знаю. Другие, глупей тебя, проходили же. И евреи тоже. Вот я, например. Все устроены, ты один такой.
— Я тоже устроен. Кончай трепаться.
— И с бабами тоже у тебя как-то…
— Кончай трепаться!
— Ну ладно, не буду. Скоро уже, сейчас притопаем. Вот еще один квартал, и как раз этот дом. Это у меня продавец такой есть, Федя, хороший парень. Только чокнутый он от рождения. Идиот порядочный, но честный малый, я на него могу миллион оставить.
— «Федя» — таких имен сейчас не бывает, — сказал я тупо, ни о чем не думая, что было уже само по себе хорошо. — Последними Федями были Сологуб и Шаляпин. Нет, еще Гладков и Панферов, но этих можно не считать… Теперь это имя для детских стихов. Так же, как, например, Фома. Очень удобно рифмуется. У Феди — медведи — соседи — беседе…
— Это я не понимаю, что ты там говоришь. Федя его зовут и все. Так его папа с мамой назвали. По-моему, обычное гойское имя. А недавно он женился, век бы не поверил, но вот — женился. Жена у него — баба хитрющая, и думаю, вряд ли у них там получается, и пошла она за него совсем для другого.
— Для чего же?
— А у него родители богатые, отец всю жизнь профессором работал.
— Ну, слушай, профессор… Наследство, что ли? Это же девятнадцатый век!
— Хо-хо, понимал бы ты, девятнадцатый! Самый что ни на есть двадцатый. А Федя идиот, но парень толковый. Книжки читает не меньше твоего.
— Спасибо.
— В оперу ходит, на концерты. Теперь вот он комнату хочет сдать, а сам переедет к жене. Это не сейчас, с первого октября, но договориться надо заранее, чтобы он других не искал. Комната — во! В самом центре, возле Маяковки.
— Постой, — сказал я, — а с водкой к ним можно?
— Конечно! Он меня с чем хочешь примет.
— Тогда зайдем в магазин.
3
Не перестаешь удивляться собственному хитрому устройству, гибкости организма, многослойности психики. Только что было мне — хуже некуда, не на грани даже, а по ту сторону, и вот — сижу за столом как ни в чем не бывало, пью водку с Ромкой и Федей, не забыл — но и как бы не помню, говорю, слушаю, пью — живу! «Мне нельзя», — тихо говорит Федя и покорно подставляет стакан. Он, кажется, и верно неплохой парень, высокий, широкий и плоский, как вяленый лещ, с длинными залысинами, плавно переходящими в пологий шизоидный лоб, с влажными губами и оттопыренными ушами — но с хорошими глазами, добрыми, чистыми и почти умными.
— Вы не беспокойтесь, — говорит он мягко и обстоятельно. — Соседка Фира Матвеевна вас не стеснит. У соседки Фиры Матвеевны есть на кухне свой столик, а у меня есть свой столик на кухне, и вы этим столиком сможете пользоваться, потому что вы ведь будете жить в моей комнате…
Он произносит нёбное «л», его «с» похоже на английское «TH», да и все другие согласные в его словах как бы выписываются в воздухе кривыми, покалеченными буковками.
— Вот, — говорит он, — шкаф трехстворчатый, диван почти новый, приемник «Урал», магнитофон «Днепр», проигрыватель «Концертный». Всем этим вы можете пользоваться, я вам вполне доверяю, потому что вы друг Романа Евсеевича, а Роману Евсеевичу я доверяю вполне…
— Ну, порядок, — заключает Ромка. — Значит, триста в месяц с первого октября. А сейчас мы с Сашей пойдем по домам, скоро ведь и жена твоя придет, ты тут прибери, чтоб она не ругалась. Она у него вечерами — понял? — к тетке ездит. К тетке — понятно? И давай-ка спой нам на прощание, Федор. Знаешь, как он поет! — он подмигивает мне и тихо добавляет: — Уписаешься!
Феде хочется спеть, это видно сразу, но он не решается.
— Может, я лучше включу магнитофон? Я записал свое исполнение…
— Какой магнитофон? Не-ет, ты сам, это же совсем другое дело. Не стесняйся, артист не должен стесняться! Верно я говорю, Сашка?
По своим меркам я выпил довольно много, мое плавающее внимание выхватывает из окружающего то одну, то другую деталь, игнорируя все остальные, и когда Федя встает над столом, в голубой майке, с широкой белой безволосой грудью, то я вижу сперва эту майку, потом — банку камбалы в томате на заставленном чем-то еще столе, а затем уже его рот, красный и влажный.
Во рту у Феди что-то булькает, и только когда он уже начинает петь, я с опозданием понимаю, что это он сказал «Глюк». «Глюк», — булькает Федя и начинает петь:
Потерял я Эвридику, Нежный свет моих очей, Рок суровый, беспощадный! Скорби сердца нет сильней…Господи, что это со мной происходит?! Никогда меня не трогала эта ария. То ли просто бывал я трезв, то ли в другом настроении, то ли исполняли ее известные тенора — сытые, здоровые, нормальные мужики. Здесь же… как бы это передать? У него был отличный слух, он чувствовал все изгибы мелодии, но ему не хватало дыхания, и голос его тонко дребезжал на этих изгибах, и уродливые буковки проталкивались бочком, жалуясь и прося сострадания. И была в этом правда, не доступная никакому тенору. Весь этот дурацкий оперный пафос, вся бессмыслица неуклюжего перевода, с нагромождением родительных падежей: то ли скорби, то ли сердца, то ли есть, то ли нет, — все это в Федином фантастическом исполнении становилось возможным и даже единственным. Да, именно так: рок суровый! Да, смешно и жалко. Но если жалко — то уже не смешно. Да, пусть родительный — но и пусть именительный: скорби сердца… Сколько их накопилось, этих скорбей, сколько еще впереди?..
Передвинув свой взгляд вместе с головой, я вижу Ромку. Он сидит слева от меня, упираясь локтями в стол, прикрывая ладонями смеющееся лицо. Я отворачиваюсь. Я не хочу на него смотреть. Нехороший, чужой человек. Мы с Федей одно, а он — другое. Пой, Федя, пой, не обращай внимания.
Потерял я Эвридику, Нежный свет моих очей…Шепелявые буковки, тоненький голосок…
Пьяные слезы текут у меня по щекам.
4
Она загорела, это удивительно. Никогда раньше не загорала.
— Так то здесь, а то — на юге. Там — хо! Там — загоришь!
Страшная бездна неведомого там открывается мне в этих ее словах. Там все иначе, там другая жизнь, не имеющая ко мне никакого касательства. Да что! Достаточно простого соображения, сколько времени надо пролежать полуголой на пляже, под мужскими дотошными взглядами, чтобы ей, незагорающей, так обуглиться?! И кто это просто пройдет мимо, не заговорит, не заденет? Разве такой же слюнтяй, как я… Да — дети, пионеры… Но дети не помеха. Даже скорее наоборот. Я не раз замечал, что дети создают некий тревожный, будоражащий фон, их близость вносит дополнительное волнение…
— Томка, — говорю я, наконец решившись, — скажи, что случилось?
Это обращение сегодня звучит фальшиво. Я не чувствую ее близости, даже той, что была до отъезда. Какая она мне Томка? Дай бог еще, если Тамара…
— Ничего не случилось. — Она смотрит ласково (точно ли? Кажется, да…), но и как-то строго. Не надо, не надо больше спрашивать, но я проскакиваю уже по инерции:
— А письмо? Как же письмо? Что, все неправда?
— Почему неправда? Правда, что было мне плохо.
— А теперь?
— А теперь хорошо…
Вот и весь разговор.
Мы сидим в электричке, едем в Текстильщики, на какую-то вечеринку, к Ромкиньм близким знакомым. «Видел я твою бабу, — сказал мне Ромка (всех-то он видит). — Ничего не скажешь, перший класс! Значит, та самая? Докопался? Стоило! Молодец. Завидую. Ты бы пришел с ней как-нибудь вместе, у нас компания — во! Все свои, и парни, и девки, весело, по-домашнему…» Я был уверен, что Тамара откажется, но она с готовностью согласилась. Никогда, ничего я не знал про нее заранее!
И вот мы сидим в электричке, народу полно, и двое нищих входят в вагон. Один — слепой, рябой, с плотно сомкнутыми веками, с большим немецким аккордеоном. Второй — без ноги, на костылях, с опрокинутой кепкой в руке. Он весь зарос бородой, как Герасим, но борода у него темная, почти черная, вид страшноватый. Они весело проговаривают свой эстрадный речитатив, поочередно, деля его на короткие периоды:
— Дорогие товарищи!
— Уважаемые граждане!
— К вам обращаются два несчастных калеки.
— Два инвалида.
— Проливавшие кровь за вас.
— И за ваших детей!
— Дорогие граждане!
— Не оставьте калек помирать с голоду.
— Окажите последнюю милость.
— Помогите вашей трудовой копейкой.
— Пострадавшим в жестоких боях.
— За нашу родину.
— И за ваше безмятежное счастье!
— Не смей! — она хватает меня за руку. — Ничего не давай. Я их всех ненавижу! Сейчас насобирают и пойдут пьянствовать, и над тобой же еще посмеются.
— Ну и пусть пьянствуют, что им еще остается? Мое дело подать, а уж как они эти деньги истратят… И потом, не у каждого такая дочь…
— Я не хочу, чтобы ты говорил об этом. Мне это больно, понимаешь?
— Понимаю. Прости меня.
— Прощаю. И не надо мне твоих комплиментов. Я и его ненавижу. Я бы всех их заперла куда-нибудь и держала.
— В тюрьму? Так их и без тебя сажают. Уж не знаю, как эти-то уцелели.
— Специально для тебя оставили. Радуйся!
— Я и радуюсь. Ты не знаешь, что такое тюрьма. Ты бы послушала моего Якова — стала бы радоваться за каждого, кто туда не попал.
— Ну, тебе-то, например, не грозит ничего такого…
— Почему же не грозит? От тюрьмы и от сумы… знаешь?
— Болтовня. Не люблю я эти пословицы.
— А Яков любит. Только он считает, что сума — это сумма, или сумка с деньгами. От тюрьмы и от суммы — не зарекайся.
— Болтовня. Если ты честный человек…
— А 37-й? А все остальное?
— Господи, так то когда было!
— Ничего, и теперь кое-что найдется. Еще передачки мне будешь носить. А, б, в, г… по восьмым числам на букву «З».
— Перестань, не надо!
— Хотя нет, не будешь. Обрадуешься, сразу же выскочишь замуж…
Впервые в разговоре с ней я произношу это странное, постороннее, чужое слово. Медленным, мягким движением она забирает мою руку, кладет ее себе на ладонь, накрывает своей ладонью.
— Не надо так говорить, хорошо? Никогда так больше не надо, ладно? Не будешь так со мной говорить?
Не буду, хочу я сказать. Никогда! И еще какую-нибудь такую клятву, в чем-нибудь таком, навсегда, навеки… Но вот — как мало мне надо! — тугой комок уже подкатился к горлу, и я только молча киваю: «Все будет, как ты захочешь!»
А слепой играет, а безногий поет, и вот они стоят уже против нашего ряда и смотрят прямо на нас. То есть смотрит, конечно, только зрячий, но и закрытые веки слепого направлены точно сюда же. Безногий трогает локоть слепого, аккордеон неожиданно замолкает.
— Тимохвей! — громко взывает безногий в полной почти тишине. — Тимохвей, посмотри сюда! Да, я знаю, Тимохвей, ты не можешь смотреть, подлые фашисты в смертельном бою выбили твои ясные очи. Не жалей об этом ни капли, это я тебе говорю, твой друг Михаил! Потому что я знаю твое чувствительное сердце. Если бы ты, Тимохвей, был зрячим, как я, ты бы снова ослеп сейчас, глядя на эту невиданную красоту!
— Сволочь! — шепчет Тамара, отворачиваясь к окну.
Тянутся головы — разглядеть невиданную красоту. Кое-кто встает с места, кое-кто из стоящих в проходе подходит поближе. Слепой Тимофей неподвижен, как камень, молча ждет окончания репризы. Я делаю шаг к безногому Михаилу и протягиваю ему трехрублевую бумажку. Но он — увы! — не торопится брать. Так я стою с протянутой рукой — не он, а именно я! — он же продолжает свой монолог, уютно повиснув на костылях, патетически вытянув вперед руку над высоким, неестественно вздыбленным плечом.
— Ты не видишь, Тимохвей, но я-то пока еще вижу. Мои глаза, Тимохвей, — это твои глаза. Что же видят твои глаза, Тимохвей? Они видят сердечного друга этой красавицы, лучшего в мире парня. Все, что имеет, он отдает несчастным калекам. Но что поделать, Тимохвей, если нет у него за душой ничего, кроме этого паршивого трешника?
Весь в поту, я начинаю уже делать обратное движение, когда паршивый трешник вдруг как бы сам выскальзывает из моей руки и легко впархивает в кепку безногого.
— Что ж, — говорит он, вздыхая, — и на том спасибо…
Все. Его роль исчерпана, он замолкает и гаснет, как выключенный приемник. И тогда, с той же электронной неотвратимостью, оживает слепой. Аккордеон его звучит, как шарманка, механически ровно и монотонно, безо всяких вариантов от куплета к куплету. И поет он чистым и ровным голосом, в точности следуя за мелодией, не опережая ее и не запаздывая, и если бы не движения его губ, то казалось бы, что и слова песни извлекаются им из того же аккордеона.
Ниночка, моя блондиночка, Подруга дней моих суровых на войне! Ах, Ниночка, моя блондиночка, Родная девушка, ты вспомни обо мне!— Будь здоров, сынок, — говорит, встрепенувшись, безногий. — Будь здоров, сынок! — говорит он голосом Герасима. — Береги ее, она у тебя одна. Поверь старику Михаилу — такую два раза в жизни не встретишь!..
И они уходят дальше, уходят дальше, направляясь в другой вагон, и слепой все поет и играет — уже не громко, уже вполголоса, не так уже, кажется, механически, а чуть ли не для себя.
Ах! Где ж! Ты! — Ниночка, моя блондиночка, Родная девушка, ты вспомни обо мне! Родная девушка, ты вспомни обо мне!..5
Зря я поддался на Ромкины уговоры. Очень скоро я понял, что не надо было мне приходить. С Тамарой — ни в коем случае. Нет, совсем не то, что вы думаете. Там была вполне семейная атмосфера, все закреплены друг за другом попарно, никаких нарушений, разве что танцы. Танцевали, пили, болтали, шушукались — все как в культурных домах. Но тут примешалось одно обстоятельство… Такая сложилась компания. Слишком, что ли, семейная атмосфера… Как бы это сказать?
(Вот уж действительно, исцелися сам! Сколько раз, как провинившийся школьник, я должен написать это проклятое слово, чтобы приучить к нему, наконец, осторожное ухо и стесненный язык, чтоб оно звучало естественно и просто, как, к примеру — нет, не скажу «англичанин», но хотя бы «литовец» или «узбек»? Сколько раз — миллион, миллиард? Жизни не хватит…)
Так вот, такая сложилась компания, что хотя никто из них толком не знал языка, тем не менее все избегали говорить по-русски, находили хромые эквиваленты, кое-что действительно вспоминали, лепили артикли и нейтральные формы. Так сказать, подъем национального сознания…
(Мне тяжело об этом писать. Я не чувствую ритма собственной речи.)
Мы пришли позже всех, и я ни за что не ручаюсь, но они могли успеть сговориться. Нас окружили особой заботой, особым насмешливым вниманием. Буквально окружили — водили хороводы, пели, танцевали, оставляя в почетном центре, не приглашая к участию. Несколько раз пытались нас разделить, оттереть меня во внешний круг, оставить в центре одну Тамару. Словом, было несколько постыдных моментов, когда мне хотелось крикнуть, как Герасиму… И потом каждый раз я не столько им, сколько себе самому ужасался.
Эту тонкую пытку придумал, конечно, Ромка, и я вполне представлял себе его мотивы и может быть даже — дальнейшие хитрые планы. Но так здорово все было сочинено, что и придраться ни к чему невозможно. А то, что они надрывались и лезли из кожи вон, и мычали, как глухонемые, вспоминая нужное слово, и в конце концов в дурацких своих хороводах повторяли один и тот же круг, ограниченный десятком приевшихся оборотов, — это надо было еще осознать, доказать, сформулировать… Мне было не до формулировок.
Поначалу Тамара, как купринская Олеся, старалась быть терпимой и доброжелательной, принужденно улыбалась и даже кивала, проявляла необходимую широту. Мне было больно на нее смотреть, она выглядела жалко и одиноко. Но потом она, наконец, поняла, почувствовала общий настрой. И тогда усмехнулась совсем иначе, жестко и отчужденно, пересела в угол и велела принести ей водки.
— Мыт ынз, мыт ынз![23] — завопил Ромка, вырывая у меня бутылку.
— Пошел вон, дурак! — сказал я ему отчетливо. — Я надеюсь, ты еще понимаешь по-русски?
Он оглянулся на девушек и отступил.
(Как неуютно мне на этой странице, скорей бы она уже кончилась! Там, впереди, воссияет свет, но здесь я еще не знаю об этом. И вот — тяжело, тяжело мне писать, будто мыло режу ножом…)
Мы выпили с ней по полстакана в своем углу, причем все как-то погасли и отступили, наблюдали за нами издали. Потом, пошуршав, пошептавшись, уселись за стол — продолжать отдельное свое веселье. Тамара встала, мы вышли с ней в коридор, и едва затворили дверь, как услышали словно бы общий вздох, словно все впервые глотнули воздуху, и легкая русская речь посыпалась вперебивку. Они галдели, как дети, едва научившиеся говорить, впервые почувствовавшие вкус этого чудесного способа общения…
Я вдруг настроился благодушно, не испытывал уже никакой досады, вот только не мог разыскать плащи и все тискал сноп висевшей одежды, обрывал чужие непрочные вешалки, поднимал, нацеплял за пояса и петли на едва обозначавшиеся крючки, ронял, поднимал и ощупывал снова. Я был пьян, и Тамара, видимо, тоже. Наконец, мы их все же нашли: они висели поверх остальных, мы ведь пришли последними. Но зато дверей оказалось удивительно много, весь коридор словно бы состоял из дверей, хотя квартира как будто была отдельная и соседей не ожидалось. Я ткнулся в одну в поисках выхода — она была заперта наглухо, безо всяких следов, только темная скважина под самой ручкой. Тамара толкнула другую — и это был выход, но не тот, что мы искали, а гораздо лучше…
— Поди-ка сюда, — сказала она тихо. — Как ты думаешь?..
Там была кладовка, или чулан, или что-то другое в этом же роде, какая-то большая подсобная комната, с висячими полками и узким окном. Оцинкованное корыто, банки, ящики, деревянные гнутые санки; старые стулья, вверх ножками, друг на друге; плетеное дачное кресло-качалка. Зацепившись пружиной за шпингалет, висела рваная раскладушка. Сероватое тусклое свечение обрамляло ее закругленный контур: начинался рассвет — так много прошло уже времени…
— Ну как? — она взяла мою руку, положила ее под свою, как под крылышко, я слегка касался ее груди и видел ее замутившийся взгляд, и весь заходился от того и другого, и, Господи, губы ее, неужели так близко? — и то ли трезвел, то ли пьянел еще больше, но прежним уж точно не оставался…
Мягко, одними пальцами она оттолкнула мое лицо.
— Заманчиво, а? — сказала она. — И задвижка есть изнутри…
Как светло в этом городе! Холодно и светло.
Мы с ней медленно идем по улице, по ее улице, к ее дому, вот он уже показался вдали. «Осень, прозрачное утро…» — напевает она тихонько. Как же так, думаю я, как же мир так разумно и просто устроен! Вот нас двое на свете, и никто нам больше не нужен, и ничто нам не нужно, ниоткуда, ни от кого. Каждый из нас за высшее в мире блаженство платит другому таким же блаженством, и вот эта гармония и есть, наверное, счастье — если это слово вообще хоть чего-нибудь стоит…
Так я говорю себе, убежденно и искренне и ловлю себя вдруг на том, что мне надо так говорить, что без этого мне и теперь не будет покоя. С удивлением я обнаруживаю, что тревога моя хоть и правда чуть притупилась, но совсем не исчезла, по-прежнему тут, со мной неотступно. И уверенности — того, чего больше всего я желал, — уверенности по-прежнему нет никакой!
Угол, арка, двор, поворот, ступенька — и огромная, необъятная дверь.
Какое-то болезненное, истерическое состояние охватывает меня. Я чувствую, как весь сотрясаюсь, и слезы — не скупые мужские, а постыдно обильные, детские — застилают мне глаза, заливают лицо, капают на ее холодные руки, которые я выцеловываю исступленно…
— Господи! — говорит она с удивлением и испугом. — Неужели ты так меня любишь?!
— Да, — отвечаю я. — Да, так! Люблю! И еще сильнее! И вечно, вечно…
Но голос мой глух, и слова звучат все тише и тише, а вот уж и вовсе неслышно…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Ну вот, — говорит симпатичная женщина в наброшенном на плечи пальто. — Вот вам адрес вашей знакомой.
Она подает мне в окошко исписанный мною бланк. На свободных строчках чужим красивым почерком, яркими красными чернилами выведен адрес. Стрелковая, 18, квартира…
— Нет, — говорю я, — это не то. Там она уже не живет, она переехала.
— Других сведений не имеется, — говорит симпатичная женщина. — Не могу вам ничем помочь. Может быть, поспрашивать у соседей?
Немного кружится голова. То ли ложная память, то ли и вправду все уже было.
— Ничего, — говорю я, — не волнуйтесь. Не волнуйтесь, ладно, ничего….
Но и сам я, странная вещь, не могу сказать, что волнуюсь. Мне грустно, это верно, но как-то спокойно грустно. Я как будто знаю нечто такое, помимо справочного бюро. Я знаю, что дело сейчас не в адресе. Ну спрошу у соседей, ну встречу на улице. Я решился, я выбрал — вот что главное, все дальнейшее — неотвратимо. А так ли это будет, как я представляю, так ли, как буду потом вспоминать, или, может быть, как-то еще иначе — этого мне все равно не выяснить, ни теперь, ни потом. Потому что всякая память — ложная память. Вот ведь что-то со мной случилось важное, сейчас, в текущем еще мгновении, а уже я не помню что, а если и помню, то не так уже ясно, чтобы в точности рассказать…
Я иду по улице, широко распахнув пальто. От дождя не становится прохладнее, наоборот: такое чувство, будто это мой собственный пот льет с высоты, добавляясь к испарине.
Черт знает что, думаю я, черт знает что. В пиджаке уже холодно, в пальто еще жарко, как ни крути, а плащ покупать придется. Может, мама подбросит сотню-другую из тех, сэкономленных по мелочам, специально для меня утаенных от Якова?..
Последняя глава
— Что это вы кофе вздумали на ночь глядя? — спрашивает соседка Фира Матвеевна. — Или может, у вас ночная работа?
Язва, до всего-то ей дело.
— Да, — бормочу я, — работа. Тут… кое-что надо… чтобы успеть… А то знаете…
Я вхожу в комнату, держа кофейник за ручку, обмотанную носовым платком.
Марина уже проснулась…
Марина проснулась, и я тороплюсь изобразить улыбку.
— Отвернись! — говорит она с кокетливым смущением. Я с готовностью отворачиваюсь, ставлю кофейник на стол, сажусь.
— Какой сегодня день? — спрашивает она, шелестя и пощелкивая за моей спиной. — Вторник? Вторник. Значит, завтра среда, послезавтра четверг…
— Логично. — Я стараюсь не раздражаться. — Если сегодня вторник, то конечно. Что вы знаете о причинности, мадемуазель?
— О причинности? Да что-то, помнится, по диамату… Если после события «А»… как-то там «В»…
— Если после события «А» непременно следует событие «В», то событие «А» есть причина события «В» — так?
— Кажется, так.
— Ну вот, значит, среда бывает по причине вторника, а день — по причине утра. Верно?
«Иди ты… со своими дурацкими парадоксами! Тысячу раз изжевано до тебя. Нашел тоже время…» Но нет, так она не скажет.
— Верно, — говорит она нерешительно. — Хотя нет, конечно, неверно. А как же?..Можешь смотреть!
Я не реагирую. Чего я там не видел?
— То-то и оно, что неверно. Потому что дело вовсе не в том, какое событие за каким. Причиной прошлого может быть и настоящее, особенно если смотреть из будущего…
— Что-то очень сложно. Это ты о чем?
— Ну, к примеру, человек был счастлив в прошлом, но понял это только сейчас, в настоящем. Значит, только в настоящем стало реальностью это прошлое. Понимаешь? Сегодняшняя тоска — причина вчерашней радости. Ну, или наоборот, сегодняшняя радость…
— А у тебя — так или наоборот?
— Дело не во мне, это я для примера.
— А все-таки?
— Дело не во мне! Прошлое в нашей памяти не предшествует настоящему, они существуют одновременно. Что раньше чего — вопрос схоластический. И мы никогда не поймем себя, если будем выстраивать события в линейный последовательный ряд.
— А если не будем — поймем?
— Не знаю… Это вопрос таланта. Возможно, кто-нибудь и поймет.
— Ты, например.
— Не я, успокойся.
— Я спокойна. Можешь обернуться, я тебе разрешаю.
Она стоит возле шкафа, причесывается перед зеркалом. Не могу смотреть, как она вынимает застрявшие волосы из расчески… Я подхожу к магнитофону, включаю, жду, когда прогреется, и пускаю пленку — все ту же, всегда стоящую наготове.
Потерял я Эвридику, Нежный свет моих очей, —поет идиот Федя.
«„Нежный свет!..“ — бормочу я себе под нос. — Не надо оглядываться — вот и вся мудрость. Предоставьте прошлое — прошлому…»
— Что такое? Ты мне?
— Нет-нет, не обращай внимания.
«Не надо оглядываться. — Я снова приглушаю голос, так что и сам уже не уверен, то ли я это говорю, то ли что-то во мне. — „Не оглядывайся“ — вот надпись на камне. И не в том дело, куда идти, направо, налево — какая разница! Живи без оглядки — и будешь удачлив и весел, и будет все твое при тебе. А оглянешься — пеняй на себя. И жену потеряешь, и коня потеряешь, и сам превратишься в соляной столб… Но кто же это такой супермен? Нет, боги играют с нами в беспроигрышные игры. Они не предостерегают, они пророчествуют. „Не оглядывайся, Орфей, не теряй!“ — значит: оглянешься — потеряешь…»
— Тебе не надоело? — спрашивает она. — Если ты так любишь Глюка, я могу подарить тебе пластинку. С Козловским — хочешь?
— Нет, не хочу. Я люблю Федю. И предпочитаю именно в этом исполнении.
— Как знаешь. — Теперь она красит губы, подрисовывает искусственный бантик поверх природного узкого контура. — Да, я хотела тебе сказать, мама уедет в пятницу…
— Да?
— Уедет на два дня к тете Гале, и я смогу у тебя остаться. Ты рад?
Нет, она не такая дура, просто ей любопытно смотреть, как я вру. Это создает, по ее мнению, некий необратимый пейзаж, удобный интерьер для нашего с ней совместного проживания. Сейчас я совру — и добавлю еще один мягкий пуфик или там какую-нибудь скамеечку для ног…
Я выключаю магнитофон, подхожу к ней вплотную, беру за плечи, заглядываю в лицо.
— Кавалеров, — говорю я тихо и ласково, — Кавалеров, я скажу вам приятное…
Шуточки. Литературный аттракцион. Я уверен, что она не читала «Зависть». Но она читала. И где только взяла — не издавали же тысячу лет!
Следует небольшой скандал. Она уходит навсегда. Приедет в пятницу…
«Сука, — говорю я себе в зеркало. — Сука ты, больше никто. А еще хороший человек…»
Но меня тут же передергивает от этого спектакля.
Кофе пить не хочется, и так уже на сердце стопудовая гиря, с каждым вдохом и выдохом я тащу ее вверх и вниз.
Молоком, что ли, разбавить? Но идти просить у Фиры Матвеевны… Можно, конечно, и вовсе не пить, но ведь надо же чем-то себя занять. Спирт весь кончился, да и не могу я один… Работать, писать?.. Не-ет, только не это! Что бы такое придумать, чтобы вовсе ничего не делать, но чтоб время все-таки шло?
Я перематываю пленку, останавливаю, включаю (совершенно нечем дышать).
Потерял я Эвридику, Нежный свет моих очей. Рок суровый! Беспощадный! Скорби сердца нет сильней!..Шепелявые буковки, тоненький голосок…
Все.
1974—1975
Тоска по Армении
Им хотелось бы знать почему, и он отвечал:
— Потому что я их знаю теперь немного лучше. Они не лучше и не хуже других народов, но я люблю их чуточку больше других…
Вильям СароянГЛАВА ПЕРВАЯ Причинные связи
1
— Не грусти, — сказал бригадир Олег. — В Польшу не поехал — поедешь в Венгрию.
И вот я лечу в Армению.
Все взаимосвязано в этом мире. Сначала где-то там, за Кавказом, в загадочной и вожделенной стране, существующей для меня как литературный факт, в городе, выстроенном русскими писателями, — вдруг обнаруживается институт, вполне реальный, какой-нибудь «био-гео». И вбегает в лабораторию реальный заведующий, черный, с усиками — армянин. А его сотрудники, аспиранты и лаборанты сидят как ни в чем не бывало и дуются в нарды. Нарды тоже понятие литературное, такая, по-видимому, доска, а вместо клеток, допустим, кривые линии, извилистые, вроде армянских букв. И играющие там что-то такое делают — водят, кидают, может быть, щелкают ногтем. И вот… «Бездельники! — кричит заведующий. — Дармоеды! — кричит он им по-армянски (в каждом слове — Э, Ц и Ч). — Отчего не работаете? Зачем не работаете? Годовой отчет! Две диссертации! Что скажу? Кому покажу?»
Аспиранты, сотрудники и лаборанты, не дрогнув, не отрываясь от нард, продолжая щелкать левой рукой (по кубикам, что ли?), дружно поднимают правые руки и молча куда-то указывают. И вот мой воображаемый взгляд вместе с реальным взглядом заведующего упирается в нечто в-углу-стоящее, с родными и близкими мне очертаниями, слегка приглушенными прозрачной попоной. Мы оба, я и заведующий, мгновенно все понимаем. Это наш родимый ТГС-12, термогрависпектрофотометр, смертельно необходимый человечеству прибор, и он («О ужас» и «О радость» — кричим мы одновременно, зав по-армянски, а я — как могу) — он сломался, он не работает, никто не виноват, и нужны ремонтники. Завлаб выбегает, взлетает по лестнице, вбегает в кабинет заведующего отделом, что-то быстро и горячо ему говорит. Тот сначала спорит, потом соглашается (армяне всегда между собой договорятся) и бежит дальше, наверх, к директору. Нет, к заместителю. Сначала к одному, потом к другому, по науке и по адм.-хоз. Там повторяется та же сцена, сначала спорят, потом соглашаются, и вот уже вызвали машинистку, и она проносится по кабинетам, ищет машинку с русским шрифтом (одна на весь институт). Зав и зам диктуют наперебой, поправляя друг друга в русской грамматике. «Просим выслать», — говорит зав. «Убедительно просим!» — добавляет зам. «Ремонтников?» — «Нет!» — «Мастеров?» — «Нет! Спе-ци-а-листов!»
— Не грусти, — говорит между тем бригадир Олег. — Ну был я в Венгрии. Ничего хорошего. Жара… Давай-ка лучше по Союзу посмотрим, что там у нас. Куда выберешь, туда и поедем. Например, в Армению, а?
— Слушай, — говорю я, — ты так не шути. Армения — это слишком серьезно. Для меня Армения знаешь… Лучше не надо.
— Ерунда! — говорит он и вынимает из папки бумагу с печатями. — Все ерунда! — и прихлопывает ее на столе ладонью. — Вот она где, у меня в кармане, твоя Армения!
2
— Но учти, — кричит мне Олег в самолете, — сачковать не придется. Нам еще подсунули два письма, значит, три прибора на четыре недели. Так что на субботы пока не рассчитывай…
Вибрирующий гул поглощает все интонации, я слышу только контуры слов и фраз. Похоже, будто их произносит машина или человек, потерявший гортань, с помощью специального генератора тона — я слышал однажды.
— Что! — то ли спрашивает он, то ли утверждает, вопроса в голосе нет. Я спохватываюсь, Что он такое сказал? Четыре недели?
— Да-да, — вибрирую я в ответ. — Понял, понял.
— Быков-то! — надсаживается Олег — Хорош гусь.
Ожидаемый им от меня вопрос я задаю беззвучно, одним только вздергиванием головы.
— Вводит новую номенклатуру без пересмотра оптовых цен. Представляешь!
Я сокрушенно трясу головой.
— «А что, говорит, чего вы хотите, та же модель». Ну, каков! Я говорю: а вы трудоемкость прикинули? Ну, он что-то промычал и заткнулся.
Я трясу, трясу головой.
— Ничего! — кричу я Олегу. — Зато в Армении… Погода, наверно!
Он как бы не слышит.
— Ты программу на тыщу пятьсот настраивал? То-то, а может понадобиться.
— В Гегард поедем, — ору я уже по нахалке. — В Эчмиадзин, в Гегард и еще куда-то, забыл название.
Он не отвечает, но отлипает и рассеянно отворачивается к окну. Я принимаю превентивные меры: открываю портфель, вытаскиваю книгу. Читать мне не хочется, мне хочется думать. И хочется разговаривать — но не об этом. И уж лучше читать, чем так разговаривать. Я раскрываю книгу.
Это книга об Армении — замечательная вещь, я читал ее по меньшей мере дважды с начала до конца и еще многократно в отрывках. И взял я ее с собой не для того, чтоб читать, а для того, чтобы здесь, в самолете, в промежутке между двумя существованиями, несколько раз раскрыть и закрыть и как-то подготовить свое восприятие. Я не листаю страниц, не пробегаю строчек, а сразу же мысленно воспроизвожу любой кусок по собственному выбору. Так наспех, за пятнадцать-двадцать минут, я выстраиваю некий образ Армении, увиденной чужими глазами. И хотя я знаю заранее, что сам я увижу другое, просто быть не может, чтоб то же самое, все же мне становится как-то спокойнее: для начала есть на что опереться…
Там, под нами, кажется, видно землю, но Олег сидит у окна, и мне далеко тянуться. Он сидит, широко расставив длинные ноги, упираясь коленями в переднее кресло. На коленях у него огромная синька со схемой. Он сразу замечает мое движение.
— Вот! — кричит он. — Шаговый двигатель! А это — фазочувствительный мост! А здесь надо еще разобраться. Потом поглядим, в Ереване!
И улыбается. В Ереване! Хороший парень…
ГЛАВА ВТОРАЯ День откровений
1
Вещей у нас вдвое больше, чем рук: инструменты, запчасти, схемы, инструкции; в моем портфеле банка какой-то краски — необычайно тяжелый гостинец от начальника цеха его знакомому; личные вещи, а также книги. Я везу еще пластмассовый бочонок для вина, стыдливо упрятанный в холщовую сумку, а Олег — решетчатый ящик для фруктов, заполненный запасными деталями. И еще у меня кое-что есть в чемодане: завернутый в плотную бумагу пакет, а в нем килограмма на три рукописей …
Вещей вдвое больше, чем рук, но нас обещали встречать с машиной. Двое, сказал я из Москвы по телефону, один рыжий, другой с бородой и лысый. «Прекрасно! — ответил мужской голос с легким приятным акцентом. — Будем ориентироваться на бороду». Лучше бы он ориентировался на рыжего. Такого, как Олег, здоровенного красавца с чисто русской, нет, скорее прибалтийской, да что там — немецкой светло-рыжей шевелюрой, другого такого в аэропорту не было. Зато лысых и чернобородых — великое множество. И наш милейший Тигран Мигранович, тот самый мной воображенный завлаб, искал нас с Олегом довольно долго, переходя от одной бороды к другой. И когда он уже должен был приметить и нас, разумеется, в последнюю очередь, я, как назло, оставил Олега без главных опознавательных знаков, унеся свою бороду вместе с лысиной в зал ожидания. Там я собирался сходить в туалет, а затем или даже одновременно полюбоваться на ереванскую публику. Про туалет я здесь говорить не буду, но публика была, как видно, хорошая, ничего мне плохого не сделала. Впрочем, говорили все не по-русски. Когда я вернулся, они уже встретились. Наш измученный хозяин, перебрав все бороды, с отчаянья кинулся все же на рыжего. Что ж, вот он, тот самый легкий акцент, острые живые глаза, кажется, человек непрямой, но добрый. Усов нет, да они бы ему и не шли: лицо тонкое, узкое. Дружелюбно сутул, грациозно неловок. «Тигран», — сказал он, подавая мне руку, и это мне тоже сразу понравилось. Мне понравилось — что без отчества.
Я всегда воспринимаю их как-то болезненно, эти отчества инородцев. Здесь, по-моему, многое сходится. Если ты к своему азиатскому имени или европейскому, все равно, постоянно приставляешь русский суффикс, то это для тебя не проходит бесследно, это становится частью личности и меняет не только взаимоотношения, но и мироощущение, в конечном счете. Амбарцум — хорошо. Амазасп — прекрасно. Но Амбарцум Амазаспович — это уродливо. Здесь не только борьба чужеродных звучаний, но и ярко выраженная подчиненность, клеймо государственности на лбу. Амазаспович — это пахнет паспортом, здесь прописка, военно-учетный стол, восемь страниц анкеты и прочие наши дела. И вместе с тем — какая-то несерьезность, пародийность, издевка, унизительная игра. (Так, библейское гордое «Ицхак бен Авраам» превращается в насмешливое нерусское «Исак Абрамович»…)
И в Армении — потом я отмечал это всюду — крайне редко употребляют отчества, чаще всего — в присутствии русских, по отношению к ним или для них. Быть может, приведенные соображения живут подспудно в сознании армян, но скорее здесь просто врожденное чувство слова, да еще — царственная простота отношений. По имени и почти сразу на «ты» — и девяносто процентов неловкости, столь обычной при общении с чужими людьми, устраняется с первых же слов.
Тигран — Юра. Мы познакомились. Погода в Ереване, погода в Москве. Как долетели, багаж, машина. Идем к машине. Тигран перекошен влево. Он не рассчитал. В левой руке у него плащ Олега и мой не очень большой портфель, в котором тот самый тяжеленный подарок. А в правой большая холщовая сумка с пустым бочонком. Воздух в бочонке ничего не весит, поскольку выталкивается окружающим воздухом. Сверху бочонок прикрыт моим свитером, свитер, как видно, тоже выталкивается: рукав уже болтается сбоку. Мне неловко: такой элегантный Тигран… Но машина оказывается стареньким «газиком», и это меняет дело. Швыряем плащ, кидаем сумку, втискиваемся между какими-то палками, упираемся в чемоданы коленями, все прекрасно, поехали!
Шофер — совсем молоденький мальчик, лет восемнадцати. На обшарпанной приборной доске — немецкие переводные картинки с усредненными изображениями женских лиц. Побрякушки, сувенирчики — это все как у нас. Но сверху, на перегородке ветрового стекла — большой серебряный крест. Ага, вот оно, думаю я. (Ничего не вот. И тут как у нас. Я успею еще убедиться. Такая же мода: крестики, нолики…) Тигран сидит на переднем сиденье, но всем корпусом повернут, вывернут к нам. Едем быстро. Шоссе как шоссе: деревья, домики, пешеходы. Я жадно ищу глазами чего-нибудь — эх! — такого, но такого особенного нет ничего. Впрочем, быть может, я просто не вижу, я чувствую крайнее возбуждение, я слишком много думал об этой поездке. Шутка сказать — Армения! Просто так, сел, прилетел. «Думал, возьму посмотрю, как живет в Эривани синица». Какая, кстати, синица, что он имел в виду? Быть может, в Ереване это и выяснится? Приезжаешь в Ереван, смотришь — синица. Ага, говоришь, значит, вот оно что. Теперь понятно, про это как раз и стихи…
— Что у вас с прибором? — вдруг спрашивает Олег. — Сколько времени работал, какие неисправности?
Он деловой человек, и он прав. Все же мы здесь не от Союза писателей.
— Что вообще вы скажете о нашем приборе, какого вы мнения, Ти-гран Ми-гранович?
Тигран чуть морщится. Он не жаждет иметь отчество. Он рассказывает о приборе. Он старается быть деликатным. Вы не обидитесь? Мы, конечно, хотели японский. И даже выбили в министерстве. Но с валютой, знаете… А этот, ну что ж… Поворот на Эчмиадзин! — он вскидывает руку. Я дергаюсь, но ничего не вижу. Шоссе как шоссе, деревья, домики. — Работать можно, — говорит Тигран. — Но сейчас меня волнует другое. Дело в том, что… Я вам еще не сказал… Завод «Арарат»! — он вскидывает руку. Огромная кирпичная тюремного вида стена без окон. Коньяком как будто не пахнет. — Дело в том, что с гостиницей у нас не вышло. Но вы не волнуйтесь, что-нибудь придумаем, на улице вас не оставим…
— Та-ак, — тянет Олег, — ну вот и приехали.
2
Какой-то тупик, неуклюжие ворота, грязный, захламленный двор. Но вывеска аккуратная, желтым по черному, на двух языках. Буквы, действительно, очень красивые, правильно сказано о них в этой книге, и в той, первой, ее предварявшей, и в тех, все начинавших стихах. Выразительные буквы, ничего не скажешь, просто хочется их читать.
Мы вылезаем, вытаскиваем вещи. Теперь Тигран уже знает: сумку мою с выползающим свитером он берет теперь в левую руку, а портфель — «Что у вас там, гантели?» — в правую. Ковыляем по коридору, вползаем в лабораторию. «Вот, знакомьтесь, — говорит Тигран, — это мой заместитель». Толстый человек с добрейшим лицом, улыбаясь, встает нам навстречу. Все они здесь, что ли, такие добрые? «Здравствуйте, — говорит он. — Норик». — «Юрик», — так и хочется мне сказать. Он в черном халате — наш брат, инженер, — в разговоре медлителен, но не связан, акцента чуть больше, чем у Тиграна, тот все же начальник, видимо, чаще бывает в России. Они обмениваются армянскими фразами, негромко, как бы между прочим, мол, главное — это с нами по-русски, и Норик ведет нас в дирекцию. Секретарша — молодая, улыбчиво-строгая. Печать «прибытие» и сразу «убытие», там видно будет, какого числа. Это приятно, по-человечески. Документы, письма, две машинки… Русский шрифт! И опять русский! «Что вы, что вы, — машет рукой Норик, — армянская машинка — это редкость. Есть, есть, не могу сказать, но крайне редко. Да и зачем? Все делопроизводство — только по-русски». Я пытаюсь поймать в его голосе досаду, но там ее нет, одна констатация. Я тоже хорош — как будто не знал. Это же ясно. И правильно, какая еще досада. Куда им писать по-армянски?.. Мы идем к заместителю директора института. Ага, вот это другое дело. Хитроват, жестковат, щеки лоснятся. И все-таки, кажется, тоже вполне человек. «Норик, — говорит он, — сперва жилье. Поезжайте к Ашоту, поезжайте к Геворку, сначала люди должны быть устроены, а потом уже будем говорить о работе». Мы спускаемся вниз. Тигран еще там. Оживленная, хотя и негромкая беседа. Имена Ашот и Геворк — различимы. «Может быть, пока что прибор посмотрим?» — спрашивает Олег. — «Нет-нет, — мотает головой Тигран, мне кажется, даже слегка испуганно, — сначала квартира», — и хватает портфель. «Инструменты, — поясняю я ему, — и запчасти…» — «Ну да, ну да, — он улыбается. — Гантели были бы легче».
«Газика» уже во дворе нет, а стоит старинного вида автобус, обшарпанный и ненадежный. Внутри между сиденьями — бидоны и ящики. Но нам, конечно, места хватает. Шофер уже постарше того, наш ровесник. Все мы здесь примерно одного возраста — вокруг сорока. Выезжаем из ворот и едем по городу. Три часа дня, мы еще не обедали, завтракали рано утром в Москве. Жара немыслимая, мы в пиджаках. Снимать не хочется: документы, деньги, не дай Бог, лучше уж так. «Сейчас хорошо, — говорит Норик, — конец сентября — лучшее время. В августе мы просто все задыхались».
Я смотрю по сторонам и ничего не понимаю. Нет, не так я представлял себе этот город. Не знаю как, но не так. Прежде всего — какой-то он не армянский. Как будто выехали прежние жители и сразу въехало много армян. (Армянское нашествие? Захватили? Даже в шутку невозможно произнести. Ах, это ничего, это нам не помеха. Главное — выговорить первый раз, а потом уже каждый день повторять. И прилепится, и станет неотъемлемой частью. Может быть, турки так и делали?) И вот город заполнен жителями, но как будто все не отсюда: не привыкли, не прижились. И дома, улицы к ним не привыкли. Мне трудно понять, в чем, собственно, дело, но первое впечатление было именно это, и потом оно в чем-то смягчалось, но в чем-то даже усиливалось. Тут была еще вот какая странная штука. Здания, мимо которых мы проезжали, производили какое-то временное впечатление, даже самые высокие и самые новые. Архитектура была в основном никакая, просто среднесоветская архитектура, это потом уже, бродя неторопливо пешком, мы обнаружили узловые точки, из которых пунктиром возник рисунок такого, а не другого города. Но пока я видел как раз промежутки, и город был не такой, другой. Да, все это были времянки, даже самые старые и обжитые, времен Днепрогэса и первых пятилеток — старше уже, как видно, не было…
И вот, вот еще что: эти красные полотнища по краю крыш… Ну какая в них для меня неожиданность? Как будто их здесь могло не быть. Но странно, я их не предвидел. А они — вот они, тут как тут. Это уже не Амбарцум Амазаспович… И все понятно, не надо знать языка. Четыре высокие буквы в самом конце, две разные и две одинаковые, и после них восклицательный знак — как знакомо, как будто всю жизнь читал по-армянски! А вот немного другая фраза, тут в середине римские цифры, но и это нам тоже как семечки. Так легко перевести, так трудно понять… В той книге, что лежит у меня в портфеле, там прекрасно об этом сказано. Что вот, например, такими библейскими буквами: «Права и обязанности пассажиров Аэрофлота» — какая оскорбительная нелепость! И вот я смотрю по сторонам и думаю, что там-то как раз никакой нелепости нет. Это необходимость, это быт, это жизнь, а жизнь — это не только стихи и молитвы. И самые прекрасные в мире буквы не унижены, если они несут сообщение. Но только — если несут.
И еще я думаю о том, что автор, умный и тонкий писатель, все это прекрасно видел и знал, но просто, по независящим обстоятельствам, заменил одну фразу другой. Как отважно выразился Самуил Маршак: «Я написать стихи готов, ребята, дорогие, но не печатаю стихов, печатают — другие!» И как бы в подтверждение такой подмены, в последнем издании этой повести те самые другие, не зная языка, перепутали в тексте армянские фразы. И выходит теперь, что первые слова, написанные по-армянски великим Маштоцем, были как раз о правах и обязанностях и именно пассажиров Аэрофлота. Это могут заметить только армяне, и, конечно, это курьез, анекдот, но при желании в нем можно увидеть и символ…
Едем, едем, едем. Поскрипываем корпусом, погромыхиваем бидонами, повизгиваем тормозами, пованиваем бензином. Дышать не то чтобы нечем, но не так уж много и чем. Наконец, остановка. Тигран, шофер и Норик всасываются в какой-то подъезд. Мы тоже выходим: подышать, прогуляться. Пыль, жара, голод, жажда. Десять минут, двадцать минут, тридцать минут. Появляются, разговаривают, жестикулируют. Ну что? Здесь не вышло, поехали дальше. Едем, едем, едем. Остановка. Все повторяется. Едем. «Вы нас, пожалуйста, извините, — говорит Норик. — Мы, конечно, вас подвели. Но мы обязательно что-то устроим, на улице вы не останетесь». Я стараюсь улыбнуться — прекрасный же парень! — я бормочу что-то взаимно вежливое. «Будем надеяться, — говорит Олег жестковато. — Не уезжать же обратно в Москву». Деловой человек, он прав, как всегда. И вот они возвращаются в третий раз. «Все решено, — сообщает Норик. — С гостиницей ничего не выходит, но это вас не должно волновать. Сейчас мы поедем к моей маме, пока остановитесь у нее, а дня через три мы что-нибудь сделаем…»
Первое и сильнейшее мое желание — схватить вещи и убежать. По мне — так лучше в аэропорту, в комнате матери и ребенка или где там устраиваются в подобных случаях.
«И прошу вас, не чувствуйте никакой неловкости. Квартира большая, просто огромная, мама там совершенно одна, я ей позвонил, она уже ждет».
— Да-да, — шепчу я Олегу, — с нетерпением…
Плоскостенный, конструктивистского времени дом, огромный квадрат с пустой сердцевиной, занимает целый квартал. Мы поднимаемся на третий этаж. Узкая бесконечная лестница. Норик отпирает своим ключом, и мы вваливаемся с чемоданами, с портфелями, с сумками, с бочонком и свитером. Маленькая, полная, еще не очень старая женщина, безотказная умница на вид и добрячка. Ну что за люди, неужели так будет и дальше?! «Входите, входите, — говорит она, — не стесняйтесь, здравствуйте, проходите, это можно сюда, будьте как дома». Мы, конечно, стесняемся, неловкости полон рот. Из гостиной выносим диван-кровать, вносим в спальню, к имеющейся уже кровати. Это будет наша комната. Норик что-то мягко говорит матери, я различаю слово «торшер». Ставим торшер, ищем розетку, затем долго и хлопотно его включаем, надставляя куски проводов, причем я и Олег, мы едва не вырываем друг у друга кусачки: привычная работа снимает часть напряжения. «Ну вот, — заключает Норик, — располагайтесь, отдыхайте, надеюсь, вам будет удобно. Дня через три уладим с гостиницей, а пока ни о чем не волнуйтесь, отдыхайте, живите. К сожалению, нам с Тиграном надо идти. — Он улыбается. — Работа, работа… Вот вам ключи, будьте как дома, приходите, уходите, когда захочется». «Мы, пожалуй, тоже, — говорит Олег, — пойдем прогуляемся». (Он опять прав: есть охота смертельно.) «Хорошо, хорошо, — отвечает Норик, словно угадывая наши мысли, — но только, пожалуйста, далеко не ходите, через полчаса будет обед, мама быстренько приготовит, так что погуляйте слегка — и назад. У нас со столовыми здесь не очень, вы еще убедитесь (он улыбается), а домашнее все же совсем другое…» Тигран говорит ему. Он кивает. Он еще обнимает свою маму за плечи, что-то бормочет ей тихо, с улыбкой, открывает дверь, пропускает Тиграна, и мы оборачиваемся к хозяйке.
«Цогик Хореновна», — говорит она, и мы вынимаем записные книжки. Этого нам ни в жисть не запомнить. Цо-гик! Мы представляемся. Старая женщина, конечно, по отчеству, тут уж для нас вариантов нет. Хо-ре…
Мы обходим квартиру. Здесь — то, там — это. Квартира, действительно, довольно просторная, две большие комнаты, коридор, кухонька, душ, туалет. Широкий балкон (здесь говорят «хозяйственный») вдоль нашей комнаты, кухни и дальше к соседям. Но стены потрескавшиеся, закопченные, а мебель старая и убогая. Облезлый шкаф с выпадающей дверью («Это будет ваш, можете вешать»), венские стулья — сто лет не видал («Возьмите себе еще один»). Я ощущаю какую-то возню в своих мыслях. Это борется штамп «Все армяне — богатые» с вот этой откровенной и так мне понятной бедностью.
— Места много, — говорит она. — Все дети разъехались, я одна осталась. Это хорошо, что вы приехали, теперь мне будет компания. Значит, вы Олег, а вы — Юра. Оба русские. Вы тоже русский?
3
Так просто был задан этот первый вопрос, главный вопрос ко мне в Армении. Сколько раз мне его будут здесь задавать, и сколько раз я буду вот так раздваиваться… Дома в России все было гораздо проще. Там если спрашивают «русский — не русский», то это значит «еврей — не еврей», то есть ты как все или ты не как все. И тогда ответ однозначен: конечно, другой, не как все, уж как там сумеешь произнести, смущенно потупясь, гордо, подчеркнуто просто. Но и вопрос этот устно задается редко, потому что если русский, то что ж тут такого, а если еврей, то уж лучше не надо, зачем вводить в неловкость присутствующих. У нас в России вопрос этот чисто письменный, а если предмет разговора, то в узком кругу. Вопрос, обязательный к написанию и запрещенный к произнесению…
Но здесь, в Ереване, я слышал на каждом шагу, в начале любого почти разговора: русский — не русский? Вопрос был тот же, но суть иная. Потому что он задавался с другой стороны. Всякий русский, задающий тот же вопрос, хочет он того или нет, выступает как представитель господствующей нации и, значит, как бы невольный соавтор всех тех анкет. Оттого и стесняются в России спрашивать, корень этого чувства — комплекс вины. В Армении же — другое дело. Здесь представитель маленькой нации спрашивает тебя, такой же ли ты, как он, или русский, как все, кто приехал оттуда.
Это ведь очень понятно.
В наших поисках общения и понимания, а в конечном счете сочувствия и близости, то есть всего того, что могло бы смягчить и скрасить наше — каждого — на земле одиночество, нам необходима какая-то общая точка, некое общее с собеседником качество, отличающее нас и его от большинства окружающих. В принципе это может быть что угодно, от радиолюбительства до философских воззрений, от общей профессии до близкого возраста, но важен именно градиент, разность между вами и остальными. Филателистов, толпящихся у дверей магазина, сплачивает не столько интерес к маркам, сколько то, что окружающие к ним равнодушны. Для Робинзона и Пятница — друг. Но филателист может охладеть к своим маркам, радиолюбитель может заняться фотографией, армянин же — это всегда армянин, а в двадцатом веке окончательно выяснилось, что и еврей — всегда еврей. Здесь общее качество безоговорочно, оно незыблемо, в нем ты всегда уверен. И конечно, естественно, что это качество, стертое в однородной среде, в чужеродной получает высокую оценку. Оно с несомненностью объединяет, потому что с несомненностью отличает, и при этом не зависит от обстоятельств, ни даже от нашего с вами желания. Здесь обеспечена теплота отношений, пусть минимальная, но безусловная. Какие-нибудь фантастические герои Ефремова, равно наделенные добродетелями и лишенные национальных отличий, не могут и понятия иметь о душевном тепле, поскольку не знают душевного холода. Близость какой-то группы людей равна их далекости от окружающих, и масштабы тут могут быть самые разные: семья, страна, континент, вселенная…
Нот вот вы встречаетесь с человеком не заведомо близким, а заведомо далеким. Вы представитель нацменьшинства, он представитель нацбольшинства. Нет — никакой там национальной вражды, никакой отчужденности, недоверия даже — глупо, ничего этого нет и в помине. Напротив, полная доброжелательность, уважение и просто — какая разница… Но человеку свойствен поиск путей сближения, всякий необязательный разговор как раз для этого и предназначен. Вы нащупываете, ищете, и вот выясняется. Ну, допустим, вы оба учились в Минске или же оба читали Набокова. Это — радость, это маленький праздник души, от которого кто же из нас откажется. Но если вы не учились в Минске, а на Набокова нет никакой надежды, то тогда остается что-нибудь проще, но, быть может, основательней, безусловней, такое, что захочешь, а не отвертишься. Например, выясняется, что он, ваш гость, не вполне представитель великой нации, а тоже отчасти… и даже очень. И это тоже повод для тепла и сочувствия и, конечно, тоже праздник души, и армяне от него никогда не отказываются, и как хотите, а мне это нравится.
— Русский? — спрашивает старая женщина.
— Нет, — говорю я улыбаясь, — еврей.
И с удивлением чувствую, как легко мне вот так улыбаться, как легко и просто было ответить. «Еврей», — говорю я так легко и естественно, как если бы «украинец» или «эстонец», как в детстве замечательно объясняли мне дома: «Есть русские, украинцы, а есть евреи» — как будто так оно все и есть!
— Да-да, — говорит она тоже с улыбкой, — а я и смотрю: совсем армянин, почему по-армянски не разговаривает, нет, думаю, наверно, еврей, вот Олег русский, это сразу видно, такой светлый, совсем не похож, хотя и армяне бывают светлые, сейчас много рыжих армян, и у нас говорят, что это правильно, что раньше все были такие светлые, и глаза были тоже голубые, не черные, а потом постепенно так изменились….
Я слушаю ее милую воркотню — и не слушаю, не могу, отворачиваюсь. Слезы умиления и благодарности застилают мне глаза. Старый дурак. Ну что, что тебе такого сказали?
Что сказали… Вот именно, что ничего!
4
Мы вышли из подъезда, пошли направо, опять направо, опять направо, потом налево, прямо, налево… стараясь запомнить обратный путь. Значит, обратно наоборот: направо, прямо, направо, налево… Но вскоре мы бросили это занятие, ясно стало, что это лишнее. Город был расчерчен прямоугольно, и, зная общее направление, мы могли не беспокоиться, что заблудимся.
Прохожих попадалось довольно много, как и во всяком большом городе, но то, что все они были армяне, — никак не укладывалось в сознании. Русской речи не было слышно нигде, и опять же скажу заранее, что за весь этот месяц я слышал ее на улице дважды, и каждый раз от приезжих. Армянами были старики в сквериках, продавцы в овощных и табачных киосках, дворники, дворничихи, милиционеры и прочие мужчины, женщины, дети, идущие навстречу и рядом. Продавщица мороженого показалась нам точно уж русской: круглолицая, светлая, сероглазая. Мы нарочно задали ей какой-то вопрос — она ответила с таким непробойным акцентом, что мы закивали поспешно, как лошади, и шарахнулись дальше по тротуару. Нет, не могло быть никаких сомнений: мы находились в Армении!
И уже не в первый раз в этот день какое-то неясное, но приятное чувство окрасило эту простую мысль. Что-то личное и не вполне бескорыстное, но и не лишенное добродетели… Ах, еще бы поесть — и все замечательно! Но поесть было решительно негде. Мы шли, поворачивали, снова шли, мы осматривались, вглядывались, принюхивались — тщетно, нам ничего не светило. Норик был абсолютно прав. Ереванцы, к которым мы обращались, любезно останавливались, морщили лбы, неопределенно озирались по сторонам — и пожимали плечами, разводили руками. «Столовая, столовая… — бормотали она. — Ресторан есть, вон там за углом…» Мы разочарованно благодарили. О ресторане нечего было и думать: с нашими суточными, да еще на Кавказе…
— Вернуться? — неуверенно говорил Олег. — Все-таки нас пригласили…
Ну нет, тут я непримирим. Чужие люди, с какой стати!
Наконец — какой-то стеклянный угол, просвечивают круглые стоячие столики, просматриваются сосиски и хлеб. Не лучший вариант, но и то слава Богу. И пиво — надо же, в такую жару! Сосиски и пиво — совсем хорошо. Олег берет два стакана мутноватого кофе. Он не пьет ничего даже околоалкогольного — такая, говорит, у него аллергия, но еще, конечно, — профессиональная ненависть настрадавшегося от алкашей бригадира. Хлеб особенный — плоский, слоистый, и много, что тоже прекрасно. «Русские любят много хлеба», — говорит, улыбаясь, буфетчица. Мы радостно киваем, мы любим много, много хлеба и много сосисок, особенно если не ели с утра, и уже вечер, и устали как лошади. Мы — любим, мы — русские… Как мне приятно и это, и это тоже! Какая-то детская глупая радость, странная такая причуда судьбы. Надо было приехать в Армению, чтоб почувствовать себя настоящим русским, и не уже, и не беднее оттого, что еврей, а, наоборот, богаче и шире. И вот — будет многое меняться в моих впечатлениях, дополняться в ту или другую сторону, но это останется и утвердится как главная моя благодарность армянам. Здесь я был настоящим русским и здесь я был настоящим евреем, и то и другое — без всякой ущербности, легко и достойно, и как хотел.
В тот день нам еще оставались две вещи: кино и японские зонтики. Зонтики продавали в универмаге, видимо, выбросили для плана, сентябрь, конец квартала — понятно. Хотя, честно говоря, не очень понятно, никогда я их не видел в свободной продаже, и никто из моих московских знакомых, и никто, как оказалось, из ереванских. Но факт остается фактом — их продавали. И даже очереди почти не было, еще не кончился рабочий день, да и в голову никому не могло прийти. Мы с Олегом тут же и кинулись. Мужской черный складной зонтик — это, пожалуй, единственная вещь, которая мне действительно была нужна. Работа разъездная, вечно шляешься, в дождь нацепляешь полиэтиленовый плащ, за шесть-сорок, с такими особыми петлями, жесткими, как петушиные клювы, которые рвут или пальцы, или самую ткань. А тут — вынул себе из портфеля, раскрыл и гуляй. Мечта! И тридцать рублей — не деньги. Прижмемся или из дому выпросим. Я купил один, Олег — три, близким родственникам в подарок. И вот мы гуляем по Еревану с четырьмя мужскими японскими зонтиками и активно общаемся с местными жителями. Почти никто не проходит мимо. «Простите, где?..» — спрашивают у Олега и что-то невнятное — у меня. Я сначала тоже говорю: «Простите, нельзя ли…» и так далее, но потом привыкаю и сразу, без перевода, отвечаю, где и когда. Чем дальше мы отходим от универмага, тем меньше от нас к нему кидаются, и вот уже спрашивают и кивают и идут себе по своим делам. Все как в Ленинграде или Москве, такие же люди, куда им деться. Граждане, одним словом.
Но пора уже нам, наконец, посидеть, и мы берем билеты в кино и звоним нашей доброй Цогик Хореновне. «Ай, ну что же вы, — говорит она, — а я начинаю уже беспокоиться, думаю, города вы не знаете, заблудились, может быть. — И смеется. — Ну ладно, что ж, гуляйте, гуляйте». Мы с Олегом заходим еще в продовольственный, покупаем плюху слоистого хлеба и бутылку мацуна. (Мацун? Что за мацун? Будем думать, не хуже кефира.) В кафетерии у входа в кинотеатр, под наклонной, виражом закрученной крышей, мы берем по чашке черного кофе и просим стаканы — и нам их дают. Мацун не хуже кефира, но и не лучше. А может, и хуже — какой-то кислый. (Я узнаю потом от новых своих армянских друзей, что это не так, что мацун — даже очень вкусная штука, но только настоящий, не магазинный, потому что магазинный — это тьфу, не мацун!) Мы сидим не просто так в кафетерии, кафетерий вместе с кинотеатром — образец новейшей архитектуры: мы сидим и едим внутри образца. И снова то же странное впечатление: то ли дряхлости — ну нет, тут никак не подходит, то ли, значит, незаконченности, недостроенности, какой-то брошенности впопыхах. Грубо, кое-как уложенный кафель, корявый бетон со следами опалубки, рваные необлицованные провалы, уже выщербленные или еще не заполненные. Да и как-то не вяжется с окружающим: в ажурные, фигурные и какие там отверстия проглядывают грязные соседние стены, и всюду рядом с фасадом — испод, хоть шоры надевай на глаза.
— По идее неплохо, — говорит Олег, — но строят халтурно, это уж точно. У нас и то аккуратней. А уж в Венгрии — никакого сравнения. Там тебе возьмут простой бетон, но так ювелирно его зальют, что не то что смотреть — рукой провести приятно.
— Лучше в Венгрии, — спрашиваю я, — чем в Армении?
— Ты меня не путай. Строят — лучше. Зато здесь, в Ереване, мне что нравится: говоришь — и все тебя понимают!
Я киваю ему, я улыбаюсь, я слушаю, я извлекаю свой, сентиментальный смысл. Да, думаю я, это ты верно, это ты, может быть, в самую точку. То есть так ли это или не так, но будем надеяться и очень хотелось бы, потому что это — самое главное, а не то, как строят дома…
И потом мы сидим наверху, под открытым небом, и смотрим замечательный английский фильм, где великий Питер О‘Тулл, король, раздираемый насмерть жизненной силой, поджидает свою супругу-затворницу, а она, гениальная Кэтрин Хэпберн, в королевской ладье приближается к берегу, улыбается радостной кроткой улыбкой и прячет ненавидящую свою любовь на дне огромных прекрасных глаз, как бы сдавленных узкой косынкой…
Я завидую Олегу, он смотрит впервые. Широкий цветной подвижный экран обрывается в черную пустоту. Звезд не видно: то ли мешает свет от экрана, то ли уже набежали тучи, откуда, такая была жара. Я чувствую, что кино — это лишнее, на сегодня и так достаточно. Перенапряжение, перевозбуждение. Я не привык так резко менять свой быт. Самолет, Тигран, чужая квартира, чужая речь, предстоящие дни… Рядом Олег, вполне чужой человек, с которым я тоже вот так впервые. Вокруг армяне, на экране — Питер О’Тулл… Нет, это много, слишком много, невозможно вместить. И вдруг — дробный такой говорок, и с ходу, нахрапом, огромный дождь обрушивается на наши головы. Мы хватаем все четыре зонта, не сразу сходимся на одном, наконец, раскрываем, подсовываем головы, затем отделяем еще один. «Как мы кстати-то, — говорит Олег. — Ну как будто нам их нарочно подбросили». К ручке моего раскрытого зонтика припутались нитками этикеток два других, зачехленных, так и висят. Половина зрителей исчезает (и так их было не густо), оставшиеся прикрываются, кто чем может, или жмутся к стене у экрана. Мне стыдно, у меня еще целых два зонтика, хорошо, что никто не видит. И вдруг мальчик лет десяти, в шортах и тенниске, весь трясущийся, подлезает ко мне под укрытие. «Ты откуда взялся, — говорю я ему, — как тебя пустили, фильм — до шестнадцати?» Он отвечает на почти непонятном русском, я различаю только, что «деньги дал». Комбинатор! Я сажаю его в середину между собой и Олегом, так теплее. И вот мы сидим под этим кавказским дождем, под японскими зонтиками, в Ереване, бригадир четвертой бригады Олег, армянский мальчик и я, и смотрим английский фильм, дублированный на русский.
«Да, я спала с твоим отцом, спала!» — радостно кричит королева Генриху, и он в ярости катается по соломе и обдирает пальцы о каменный пол.
Я то и дело сползаю глазами с экрана, прочерчиваю моросящую тьму и растерянно озираюсь вокруг. Как вместить мне в слабом моем сознании всю эту бесконечную странную жизнь? Разве только так: не срываясь на обобщения, отдаваясь частности в каждый простой момент.
— Согрелся? — спрашиваю у мальчика.
— Да, — говорит он, — хара-шо, тип-ло!
5
Тот первый день еще так скоро не кончился, еще было позднее возвращение, осторожное, с оглядкой, не пропустить бы дом, и в чужую дверь со своими ключами, который сверху, который снизу, только разуться и мимо в комнату, но хозяйка наша еще не спит. «Ну как, — спрашивает, — какая картина, идемте, чайник как раз закипел, чай у нас не совсем хороший, индийский почти никогда не бывает, а грузинский тоже второй сорт, и так сама себя обманываешь, вот, думаешь, чаю попью, а начинаешь пить — никакого вкуса, только что подкрашенный и горячий, варенья побольше и то хорошо…»
И вот мы уже сидим за большим столом, пьем чай, грызем прошлогодние пряники, обсасываем кизиловую мякоть, сплевываем косточки, не промазать бы, в ложечку и мирно беседуем под гул телевизора. На экране сначала женщина — диктор, затем ее сменяет пожилой мужчина с депутатским значком в петлице. Его галстук выпукл и симметричен и кажется наклеенным, как бутафорский нос. Голова неподвижна, взгляд устремлен в открытый космос, который только для нас — пустота, для него же — средоточие высшего смысла, поскольку именно здесь впереди, где-то, быть может, на нашем месте, расположен текст его выступления. Армянский дурак приятнее русского: я хоть и понимаю его дословно, но все же как бы не слышу. Он мне не мешает, и даже напротив. В паузах, которые мне нечем заполнить, я могу смотреть на него и слушать и свободно прилаживаться к следующей фразе. У Цогик Хореновны трое детей, и все мужчины, и все инженеры, и все такие же точно, как Норик — заботливые и добрые. И отец их был тоже такой, мягкий и добрый. Но, наверно, такими быть нельзя, время сейчас ну просто дурное, чего не выхватишь сам, того не получишь. Нет, почему же, я так не сказала, не надо быть злым, это конечно, но и таким, как они, это тоже слишком. У Норика двое детей, давно защитил диссертацию, а все еще младший, старшим никак не берут, я говорю ему, может быть, надо кому-то, знаете… У нас в Армении не то что у вас, без этого ничего не добьешься. Ну, много бы он и не мог, но братья бы все собрались, наскребли бы несколько сотен… А у Вилика сына забрали в армию, такой нежный, домашний мальчик, думать о нем без слез не могу. Другие, знаете, сейчас какие. Молодежь. А он совсем не такой. Книжки и книжки, в английской школе, по-русски много читал, по-английски читал, как по-русски. Зрение — шесть с половиной. Ничего, взяли. Теперь они всех берут без разбору. Сначала он написал, что не выдержит, а сейчас в госпитале лежит, там полегче, и письма стали получше. Может быть, его забракуют, а? Как вы думаете, минус шесть с половиной?
А потом мы сидим у себя в комнате, потрошим портфели и чемоданы, сортируем детали и инструменты, выкладываем носки и зубные щетки. Олег копается в описаниях и вдруг из-под их бесчувственной груды вытаскивает четыре аккуратненьких книжечки. Есенин, Евтушенко, Расул Гамзатов и «Лирика русских поэтов»… Не только удивление, что естественно, но какой-то я чувствую смутный толчок от странной закономерности этого списка. «Это, — говорит он, — мои спутники, я их всюду с собой вожу». И немного смущается, самую малость.
— Ты как, — спрашивает он, — к Расулу Гамзатову?
Что мне ему сказать?
— Я, знаешь, — говорю, — предпочитаю Джамбула Джабаева.
— Нет, серьезно. А к Евтушенко как?
— Серьезно — к лирике русских поэтов.
Я отвечаю ему не вполне внимательно, я занят своей догадкой.
— А Есенин?
— Что ж, Есенин, конечно…
Он начинает декламировать деревянным голосом:
— «Устал я жить в родном краю в тоске по гречневым просторам…»
И тогда я окончательно утверждаюсь.
— Ну, а теперь свое почитай, — говорю я ему как ни в чем не бывало.
Он краснеет, но улыбается.
— Откуда ты?..
И верно, откуда?
Да простит меня тень Сергея Есенина, но Есенин одно, Евтушенко другое, Гамзатов… ну, допустим, третье, но вместе… Какие уж тут сомнения!
— Ладно, — говорю я, — в другой раз. На сегодня достаточно,
И он с сожалением соглашается. Жаль мне его, но и сил моих больше нет.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Живем
1
Все простые утренние операции надо произвести совершенно неслышно, все только шепотом и на цыпочках, с неестественным сдерживающим усилием, как в замедленном фильме, трогая двери и другие предметы. Все это просто у себя дома, а здесь, в совершенно чужой квартире… Короче, когда мы уже с портфелями добираемся до своих пиджаков и туфель и уже в пиджаках, приседая, шнуруем, еще секунда и мы за дверью — возмущенный голос Цогик Хореновны поднимает наши очи горе. «Как! — говорит она, — (доброе утро!) без завтрака?!»
Но главное у нас впереди, в институте.
«Видите ли», — мнется Тигран. «Так получилось», — поясняет Норик. «Видите ли, так получилось, что вы приехали, а мы еще к вам не готовы. Мы вас ждали позже, думали так: пока провернется вся эта машина… А у нас здесь спор между отделами, неизвестно, кому какая комната и, значит, куда его ставить, этот прибор. Так что если у вас есть другая работа… А мы тут пока что выясним наши дела».
И вот мы уже едем из этого био-гео в гео-био — совершенно другой институт. «Увидишь, — говорит мне Олег в автобусе, — срок нашей командировки кончится, а они ни о чем не договорятся». — «Это бы ладно, это нам наплевать, если б мы не жили у мамы Норика». — «Ну, это тоже как раз чепуха, они обязаны нам предоставить». — «Знаешь, обязаны — это одно, а тут конкретные отношения. А еще мы им ничего не сделаем, пусть не по нашей вине, но выйдет, что приехали просто так, посторонние люди и вот, живем». — «Ерунда, старик, не бери в голову, не надо быть таким щепетильным. Мы с тобой ничего плохого не сделали, и нечего мучиться понапрасну».
Автобус крутит наверх, наверх, на автобусе это «наверх» не кончается, и мы еще долго ползем пешком на высокую, сугубо научную гору, сплошь уставленную институтами. Молодая женщина в больших очках поднимается вместе с нами. «Гео-био? — говорит она. — Идемте со мной. Впервые в Армении? Ну и как вам? Так уж и прекрасно? Не обольщайтесь. И не спешите ничего обобщать ни в ту, ни в другую сторону. Нет, у нас, конечно, много приятного, но и всякого, как и везде. И пожалуй, найдется кое-что сверх… Но взгляните, какой отсюда вид».
Мы оглядываемся. Город остался внизу, во впадине за шоссейной дорогой. Видно не очень ясно, но кое-что видно. «Да, — бормочу я, — сложный рельеф оживляет…» — «О, это еще не сложный рельеф. Вы еще увидите, если успеете. Жаль, Арарат сегодня в дымке. Взамен посмотрите на Арагац». Мы поворачиваемся вперед и налево. Горы как горы. Красиво, но что сказать? И мы переходим на анкетные данные. Сюзанна — так зовут эту женщину — оказывается, нас-то и мечтала встретить. Нет, у нее не ТГС-12, это у Миши, шестая комната, у нее старенький СФ-4, но, может быть, мы не откажем в любезности. Пропадает серия, чуть ли не год работы. Что ж, мы не откажем.
Здание института совершенно новое, год или два, как построили. Впечатление незаконченности, уже ставшее привычным. Серая строительная пыль по углам, ящики, козлы, бухты кабеля. Из четырех лифтов работает один, но вниз не ходит, а вверх не всегда. Приборы, оборудование… Господи Боже!
Много таскаясь по разным научным гнездам и, со свойственной профессионалам узостью, различая их все по оснащенности техникой, я часто с удивлением отмечал бесконечную градацию в этой области, редко поддающуюся прогнозам. Какая-нибудь осколочная лаборатория, маленькая отдельная группка, неизвестно даже, к кому относящаяся, а пожалуйста: английская центрифуга, японский флюориметр, шведский анализатор. В чем дело? А в том, что муж заведующей… Ну ладно, это еще понятно. Но вот Университет Патриса Лумумбы, уж казалось бы, тут-то должно быть с иголочки, как игрушечка, — нет, сплошная рухлядь. «Что ты! — сказал мне лаборант Алеша, с которым мы долго друг к другу принюхивались, исследуя на предмет стукачества. — Что ты, какие приборы, зачем? Мы — идеологическая организация, на это и тратим деньги».
Обычно же дело обстоит так. Входишь в лабораторию, оглядываешься и видишь: здесь живут богатые люди. У богатых, будь они деловые и умные, будь хоть бездельники и дубари, есть общее в поведении и разговоре: спокойствие, достоинство, даже часто важность, при этом обилие терминов, кличек, всяких английских словечек. У бедных наоборот: суета, торопливость, растворенная в воздухе неуверенность, язык бытовой, упрощенный, какие уж там словечки при такой-то убогой технике! С чисто научными результатами, если признавать существование таковых, все это связано сложным и противоречивым образом. Помнится, я работал в лаборатории, где эта разница в оснащенности, а следовательно, и в стиле жизни наблюдалась в двух соседних комнатах. В одной без конца паслись инженеры и техники, а также слесари, столяры и электрики, туда — с ящичками, клетками, водяными банями, обратно — с темными пузырьками «рыжиками», оттопыривавшими карманы халатов. Сюда же водили и иностранцев. «Энд зыс ыз электрофизиолоджи бокс, констрактыд бай мистер Ткаченко». Занимался же мистер Ткаченко тем, что с помощью зарубежной аппаратуры и новейших средств автоматизации подтверждал выводы и результаты, полученные за сто лет до него. А в это время в соседней комнате, где стопки реферативных журналов обеспечивали необходимые наклоны трубок и взаимные уровни колб и где самым сложным прибором был дистиллятор, в этой комнате Гена Седых, никакой не мистер, открыл совершенно новый гормон, ужасно, как тогда говорили, важный и чуть ли не на все на свете влияющий. Впоследствии Гена разбогател, тоже нахватал заграничных железок, но больше уже ничего не открыл, зато любит и сейчас вспоминать свою честную бедность, те свои талантливые колбочки-трубочки и особенно — стопки реферативных журналов.
2
Олег — на первый этаж, к Мише, я — к Сюзанне, на третий этаж. Не знаю, как здесь обстоит с наукой, давно меня не волнуют такие вопросы, но техническое убожество вопиющее. Все — рухлядь и прошлый век. Теснота тоже, вполне соответствует. Прибор старенький, весь разболтанный, кое-как еще на столе умещается, а уж блок питания — под столом, а подлезть к нему почти невозможно, и светскую беседу, которую мы с ней ведем непрерывно, я продолжаю уже на карачках, с тестером под мышкой, с рукояткой отвертки в кармане, с ощущением твердости крышки стола в голове.
— А картинную галерею, — спрашивает Сюзанна, — вы уже видели? Обязательно посмотрите. Во всей стране ничего подобного. Любые формы современной живописи, и есть безусловные мастера. (Я мычу нечто восхищенно-удивленное, с трудом удерживая равновесие, исхитряясь почти боковым зрением отметить положение стрелки прибора.) А в Эчмиадзине еще не были? Ну, и конечно, Гарни-Гегард?
— Мы же только вчера приехали, — говорю я ей, заменяя лампу.
— А! Ну тогда конечно. Мне казалось, вы здесь неделю.
— Нет, только вчера. Да-да, Эчмиадзин, Гарни, Гегард… Обо всем этом я только читал.
— У кого именно?
Я называю.
— А, эта! Знаменитая вещь. Сколько у нас здесь было шуму. А я прочла, и мне не понравилось. Знаете, Армения там только в названии, а написано-то все о себе, об авторе. Такой раздражающий эгоцентризм. Вы не находите?
Я вылезаю из-под стола, с трудом выпрямляюсь. Мой рост кажется мне гигантским, голова взлетает под потолок.
— Нет, — говорю я, — не нахожу. Я считаю, что это прекрасная книга. Вот вы говорите эгоцентризм, где Армения, нет Армении. Но разве страна — Россия, Армения, Франция — разве может быть страна предметом искусства? Поводом — вот чем она может быть, и это в лучшем, счастливейшем случае. Такой случай тут и представился. И если вы такая патриотка Армении, то и радуйтесь, что именно ваша страна еще раз послужила поводом.
— Ого, как это вы горячо. А не много ли чести?
— Не много. Как раз в меру.
— Хорошо, значит, Армения — только повод. Что же предмет?
— Ясно, что. Человек. Ну, скажем, душа…
— Так, человек. Но почему же именно автор?
— Вы хотите сказать, почему не армянин? Выбрал бы автор подходящего армянина, взял бы у него подробное интервью, а затем написал бы о его душе. Верно?
— Ну зачем же так упрощать. Значит, что же, по- вашему, вообще нельзя написать о стране, о городе?
— Почему, можно, очень даже можно. Этот писатель, я считаю, как раз написал. Но даже абстрактный путеводитель отражает не только объект, но и тех, кто его сочинял, или тех, допустим, кто стоял у тих за спиной.
— А вы, оказывается, идеалист.
— Ну что вы, где уж нам, вы мне льстите…
Она смеется. А я сникаю. Я чувствую, что слегка зарвался. Нет, она очень неглупая женщина, но этого ей не надо. Я еще немного проскакиваю по инерции.
— Русская литература, — говорю я как будто в вату, — всегда была сильна не социальным анализом и даже не точной деталью быта, а как раз вот этим внутренним видением…
— Русская литература… — повторяет она. И вдруг: — А вы… русский?
За два дня это только второй вопрос, но уже мне ясно, что не последний. Что ж, беседуем и на эту тему. Но один вопрос основной и один — дополнительный.
— А язык свой вы знаете?
Боже, как просто спросить и как сложно ответить! Не знаю? Или: мой — это русский? И с какой интонацией: легкомысленной, грустной, гордой? То мгновение, что я промалчиваю перед ответом, я слышу, заполняется сухими щелчками. Это лопаются готовые формулы, так надежно работавшие в России. Я русский, я самый настоящий русский. (Имелось в виду: такой же, как все.) И если бы не проклятая отметка в паспорте (имелось: не длинный нос, не форма глаз и ушей, не походка, не детские впечатления, не образ мышления, наконец), то я бы никогда и не вспоминал. А язык — да Господи! — ну конечно этот и только он. Этот вездесущий, разлитый в любом пространстве, заполняющий каждый предмет, составляющий суть любого явления, обожаемый до боли, до сладострастия, знакомый до тонкостей, до извращений, и все же вечно непостижимый, мучительно ускользающий в каждый момент — какой же еще, как не этот! Какой же еще мне родной, когда я никакого другого и знать не знаю?.. И вот тут-то, может быть, червоточинка. «Никакого другого не знаю», — говорю я обычно, и точно ли? да, пожалуй, так: с гордостью. Уж во всяком случае, без сожаления. Потому что это лишний раз подтверждает. Конечно, еврей, я не отказываюсь, но по сути, граждане, какой я еврей? Я ведь и языка-то такого еврейского… И на всякий случай — никакого другого, никакого-никакого-никакого другого, кроме нашего с вами, русского. (Я ж тебе р-русским языком говорю! Или иначе: ты что, не русский? Шутка.)
Когда мой сын, едва научившись словам, лепетал обычное детское «лак» и «лыба», нянечка в яслях сказала: «А можеть, он так и буить всегда. У вас ведь вся нация такая».
И сейчас, медля всего лишь мгновение перед тем, как ответить Сюзанне, я впервые чувствую, что лучше бы мне — утвердительно. И тогда бы мы с ней понимающе улыбнулись друг другу, что мол русский — это, конечно, само собой, ну как же, великий язык, чуть ли не всечеловеческий! И мы его знаем, она и я, как же иначе, высокие мысли, высокие чувства, тонкости стиля… Но и свой родной, армянский, еврейский, мы тоже, конечно, знаем и любим. И с наивной гордостью отмечаем, что вот и у нас бывает: такая точная фраза, а по-русски ну ни за что не скажешь. Но любим мы свой язык не за то-то и то-то и даже не за то, что он — единственный, а за то, что боль его — наша боль, кровь его — наша кровь и судьба его — наша судьба.
Мне вдруг показалось, что в этот короткий миг, на второй день моего пребывания в Армении, я понял, чего не хватает в родном языке, если он не родной тебе по крови: в нем не хватает судьбы. Какой бы вклад ни вносили в русский язык татары, евреи, немцы и прочие («Бодуэн де Куртенэ» — почему-то маячит в сознании), судьба его останется судьбой русского, этого и никакого другого народа.
Господи, думаю я, какое несчастье! Такой близкий, такой мне родной — и все же чего-то не воплотивший? Нет, я так просто не соглашусь, я еще буду думать, быть может, тут что-то не так…
— Нет, не знаю, — говорю я Сюзанне. — Разве что несколько слов и фраз. Пусть прогреется, — говорю я ей о приборе и спускаюсь вниз, во двор, погулять. К Олегу я сейчас никак не могу, очень мне сейчас одиноко и грустно.
3
Жарко, но не смертельно. Просто очень тепло. Я медленно обхожу вокруг здания, толкаю калитку ограды и оказываюсь на кладбище. Там, прямо за оградой, — кладбище, ничем не огороженное (ограда — институтская), просто в редколесье на пологом склоне выкопано несколько сот могил и поставлено несколько сот памятников. Памятники все, как один, гранитные, в основном завитые армянские кресты и такие же завитые армянские буквы. Только цифры — наши, то есть, конечно, арабские. Русской надписи нет ни одной, и я ловлю себя на том, что мне это странно. Странно думать, что кому-то легче написать по-армянски, чем по-русски. Или даже по-русски совсем невозможно, а только по-армянски. На могилах многих евреев тоже надписи по-еврейски, но это вовсе не значит, что писавшему было легче так, чем иначе, Часто надпись гравирует русский мастер, просто выучивший начертание букв или даже слепо копирующий трафарет. И тогда это уже не надпись вовсе, а такой же символ, как, например, могендовид: знак, что под данным камнем лежит еврей.
Я сажусь на чистую, крашенную черной краской лавочку возле камня с цифрами: 1868—1953. Родился с Горьким, думаю я, умер со Сталиным. Или родилась? Уже этого мне ни за что не узнать. «Как люб мне язык твой зловещий, твои молодые гроба, где буквы — кузнечные клещи, и каждое слово — скоба!» Люб? Не знаю. Я бы пока сказал — любопытен. Просто мучительно любопытен.
Тени здесь нет, но мне и не хочется в тень. Мне приятно сидеть вот так на солнце, такая ласковая сегодня жара, и от нервного озноба хорошо помогает…
Так что же это значит: писать на своем, нерусском, родном языке? Нет, я, конечно, не о могилах. Что должен чувствовать армянский писатель, и не какой-нибудь усредненный, а настоящий армянский писатель? Ну, например… Ах, что за игры, я прекрасно знаю, пример у меня один. Да, пусть так, что он должен чувствовать, этот писатель, сидя в крохотной древней стране, среди чудом сохранившегося народа, выписывая, выписывая свои курчавые, никому в мире не понятные буковки и зная, как говорил Петрову Ильф, что до него уже были Флобер, Толстой, Мопассан? И Флобер, и Мопассан — это холодно, холодно, Толстой — это уже теплее, но стихия иного великого языка, с величайшей, быть может, литературой, окружающая, захлестывающая со всех сторон, — как ему это по ощущению? Не говоря уже о круге читателей, который должен быть здесь ненамного шире круга родных и друзей?
Вот что она делает с человеком, Армения. Я как будто попал на другую планету, в неизвестное мне силовое поле и, как герой фантастического рассказа, нехотя, беспомощно перебирая ногами, движусь в направлении его вектора. И ведь никто мне, по сути, ничего не сказал, никаких не произошло со мной событий, это всего лишь он, невидимый вектор Армении, неуклонные силовые линии. Там, впереди, быть может, гибель — ничего не могу поделать, лечу. Вот только унизительно — спиной вперед, уж лучше повернусь лицом.
Итак, ощущение соответствия. Ощущаю ли я — несоответствие? Могу ли я его ощутить, не зная никакой другой возможности? Или скажем так: мысля по-русски и только по-русски, то есть некоторым определенным образом, можно ли тосковать по иному мышлению? Но тогда еще: а действительно ли по-русски я мыслю? Ах, уж тут, казалось бы, какие сомнения, тут же просто нет вариантов! И все же: а не остается ли еще чего-нибудь, ма-аленького какого-нибудь остаточка, требующего иного способа выражения? Вот! Именно что — остается!
Я даже вскакиваю со скамьи и, засунув руки в карманы, иду по дорожке. Вокруг нет никого, только выше, вдали, уже на живой земле, не кладбищенской, мальчишки сшибают орехи с деревьев. «Армянские дети». Нельзя удержаться, чтобы мысленно не сказать. Вглядываюсь целенаправленно. Дети как дети. Ну черненькие. Нет, один даже светлый. Не пытайся, ничего тут не извлечешь. Лучше двигайся дальше. Двигаюсь дальше.
А по-русски ли ты, дружочек, мыслишь? Хороший вопросик со стороны. Как по-разному могут звучать одни я те же слова, смотря по тому, как произносятся. Впрочем, сейчас уже так примитивно никто не спрашивает, разве какой-нибудь алкаш в автобусе. Мой приятель, начитанный человек, христианин, аскет и мистик, выражает эту идею гораздо тоньше. «Ты хороший человек, — говорит он мне, — ты никому не делаешь зла, а какой-то там захват власти — это тебе смешно и подумать. И тем не менее, бессознательно, а вернее, даже сверхчувственно, независимо от собственной своей воли, но в полном соответствии со своей природой, ты участвуешь в общем стремлении евреев к мировому господству!» Вот так, просто и совершенно неуязвимо.
Но пусть мы отбросим мировое господство, все равно еще кое-что у нас останется, нечто, может быть, менее одиозное, но зато более специфическое. И окажется, что даже пародийный идиш этому нечто как раз соответствует и худо-бедно, а отражает какие-то особенности национальной души. В нем, не в том, что означает фраза, а в самом строе и звучании языка, уже содержится весь тривиальный ряд, составляющий историю и характер европейского, по крайней мере, еврейства. Все эти гетто, местечки, шинки, погромы, лесть и хитрость, мягкость и юмор, тоска и горечь, плач и тоска — все это содержится в любом тексте, в песенке, в басенке, в обрывке разговора. Недостаточность перевода простейшей фразы мгновенно обнаруживает эту тайную особость, обнаруживает — не выявляя. Даже для меня, почти не знающего языка, еврейская фраза из еврейского быта порой звучит тепло и наполненно, а соответствующая русская — пусто и холодно. Ничего не поделать. «Шишков, прости, не знаю, как перевести». Не всю душу мира включает в себя великий язык, но лишь душу и судьбу народа, его создавшего. Остающиеся вне перевода особенности, если попытаться их сформулировать, могут звучать и не очень лестно: ущербность, двусмысленность, провинциальность — но это никак не меняет дела, ты слушаешь и чувствуешь: это твое! Вот сестры Берри, наивные песенки, и только с десяток знакомых слов, и только угадывание смысла, который не стоил твоих усилий, — но какое ласковое, хмельное тепло и какая уютная детская радость! Откуда это оно берется, какое из восклицаний отражает суть: все-таки воспитание, или все-таки детство, или все-таки кровь? Я воскликну: все-таки кровь! — но не потому, что в чем-то уверен, а для вящей, скажем, универсальности, в том смысле, что все-таки что-то есть. И едва успокоившись на этом слове, выверну действительность наизнанку — и в ужасе отпряну от такой возможности, и вздохну с облегчением, оттого что она невозможна.
Если бы этот язык был моим родным. Страшно подумать! «Шолом-Алейхем» — в мозгу мотается колокол. «Шолом-Алейхем» — туда-сюда, двойной, но один и тот же звук. И как будто локтями упираешься в стены, душно, накурено, полутемно, а за дверью свежий воздух и свет, которые смертельны для глаз и легких…
И еще одно имя: Бабель. Бабель. А он кто такой?
Нет, у Бабеля евреи говорят по-русски. Это искаженный, стилизованный русский, сильно деформированный в еврейскую сторону, и все-таки это русский язык, не иной. Он двусмыслен, и в этом его эффект. Там угадываются два противостоящих фона, между которыми происходит действие: настоящий еврейский язык персонажей (идиш и немного древнееврейский) — с одной стороны; и с другой — чисто русский язык интеллигентного автора. Бабель знал еврейский, мог ли бы он — на нем? Так же ли, лучше ли получалось бы? Нелепый вопрос. Если владеешь малым языком — и великим, можно ли выбирать?
Я дохожу до донца кладбища, упираюсь в проселочную дорогу. Глубокие ямы в колеях, которые там, у нас в России, обязательно были бы заполнены водой, здесь растресканы и сухи до самого дна. (Я не знаю еще, что вчерашний дождь выпал специально для японского зонтика, что он был единственный за прошедший месяц и будет единственным за все предстоящие дни.) Поздно уже, пора назад.
Что же дальше, думаю я, какой выход и как жить? Как будто мне нужен какой-то выход и как будто есть у меня выбор. И все же я что-то себе отвечаю, подозревая, что это не вывод и следствие, а лишь композиционное завершение, удобная завитушка в финале, чтоб не мучило, не сверлило потом. Все в порядке, говорю я, не только не плохо, но и прекрасно. Потому что в творчестве, как и в природе, только двойственность приносит плоды. И другие ищут ее в себе, души выворачивают наизнанку, а тебе — пожалуйста, от рожденья дано. И конечно, поиск — само собой, но нечто всегда уже есть в запасе. Радуйся же и восхваляй Господа и будь благодарен за все!
4
Начинаются наши трудовые будни на дружественной территории. Мы встаем в семь, Олег раньше, полчаса он корчится на широком балконе, как вытащенный из земли червяк, в судорогах йоговской гимнастики. Завтракаем почти всегда одинаково: мацун, сыр, колбаса, огурцы, помидоры. Наши продукты лежат в холодильнике, Цогик Хореновна аккуратно их избегает. Вот наше масло, а вот ее, мы можем пользоваться и тем и другим, а она — только своим. Только чай мы ссыпаем в одну коробочку, и его нельзя уже отделить. Чай грузинский, низшего сорта, сколько ни заваривай, одного цвета и одного дурноватого вкуса. Предпочтительнее поэтому, кусок арбуза, или груша, или, допустим, яблоко. В магазинах колбаса только вареная, одного сорта: сыр, если есть, то пластмассовой твердости, а родного армянского, всеми любимого здесь чанаха почти не бывает. Овощи и фрукты не убийственно дешевые, цены чуть ниже, чем в Москве в августе, а времени приходится тратить побольше, двадцатью минутами нигде не отделаешься. Очередь — наш русский девиз и эмблема, наше бесспорное национальное свойство — здесь приобретает особые черты. За арбузами, допустим, пять человек, у нас это называется «нет никого». Занимаю, стою, болтаю авоськой. Подходит красивый седой старик, обращается ко мне, я, как всегда, извиняюсь: «Будьте добры, если можно, по-русски». Он улыбается: «Вы — крайний?» «Последний» здесь тоже не говорят, мы уже успели им сообщить из Москвы, что это оскорбляет законную гордость рядового члена советской очереди. (Временами на этого члена что-то находит: он проявляет удивительную способность к абстракции.) Итак, за мной заняли, я утвердился на своем месте, проходит двадцать минут, а продавца нет. Нет, строго говоря, и арбузов, два-три с кулачок лежат на прилавке, а то, что хочется и надо купить, — где-то там, в глубине, в магазине, в подвале, не знаю где. Мои соседи переговариваются, но мне неудобно спросить. Наконец, в магазине какой-то грохот, и двое мужчин, непрерывно крича, то ли друг другу, то ли кому-то третьему, вывозят на тележке клетку с арбузами и подкатывают ее к весам. Ну сейчас… Но нет, опять не то. Вынимают, кладут один за другим на весы, вот на весах уже целая куча, и подкатывает вдруг скрипучий «уазик», из него выскакивают, открывают кузов, грузят, суют деньги, машут руками, кричат. Толпа — а за мной уже целый хвост — тоже не молчит, добавляет свое. Продавцы отмахиваются, не глядя. Наконец, «уазик» отчаливает, очередь приходит в боевую готовность. Тронулось, продают! Женщина, стоявшая самой первой, берет три штуки в одну авоську, берет три штуки в другую авоську, и по два арбуза берут ее девочки. С разговорами тоже — минут семь. Но что-то они мешкают уходить. А, ну вот. Подбегает еще одна женщина, быть может, соседка, вклинивается, притирается животом к прилавку, а та, первая, ее прикрывает. У этой второй нет девочек, но зато у нее есть бабушка, совсем скрюченная старушка, но на пару арбузов еще потянет. Остальные в это время тоже не дремлют, получают пополнение или дремлют — ждут. Молодому интеллигентнейшему на вид человеку, с короткими бачками, в замшевой куртке, такой же интеллигентнейший чистенький мальчик приносит полосатый матрасный мешок. Очередь движется в обратную сторону, вернее, разбухает вправо, как флюс: именно назад никто не сдвигается из чисто принципиальных соображений…
Я выхожу, комкая свою авоську, я отхожу на противоположный угол, в тень, и там стою еще какое-то время, поглаживая, заглаживая хвост раздражения. Ты с ума сошел, говорю я себе. Ты с ума сошел, на кого ты злишься! Разве они в чем-нибудь виноваты? Они — наоборот, они молодцы. Не они придумали эту очередь, им ее навязали как факт, и они обходят как только могут и хотя бы в этом несоблюдении, в этом уклонении от формы и строя проявляют себя живыми людьми. А арбузы — черт с ними, с арбузами. Им для детей, а тебе для кого? Когда это ты так для себя волновался? Пойди-ка лучше кофе попей…
Зато кофе можно выпить на каждом шагу — в магазинах, в кафетериях и в специальных кофейнях, и в кофейнях бывает даже очень вкусный, приготовленный по-турецки, в джезвах, в черном раскаленном песке. Повсюду висит объявление: восемь копеек, но надо как минимум дать пятнадцать, и это не пресловутое кавказское рвачество, а естественная рыночная цена. Сухого кофе в продаже нет, его привозят сюда из Москвы, где тоже очереди на час и полкило в одни руки. Говорят, что буфетчицы, полухозяйки кофеен, покупают на черном рынке по двенадцать рублей килограмм. Так что все еще очень по-божески[24].
Утром я пью свою чашку внизу в булочной. Иногда Олег ко мне присоединяется, но чаще берет стакан виноградного сока. Здесь уже не раскаленный песок, а машина «экспресс», и кофе похуже, может быть из отжимок. Но продавщица — очень милая женщина, стройная пожилая еврейка, то есть, конечно, армянка, но очень похожа. Армян, похожих на евреев, — множество, и вероятно, от этого я тоже иногда чувствую себя ва-а-сточным человеком. Вот подходит к нам бородатый дедушка, очень похожий на моего, в каких-то калошах на босу ногу, сейчас спросит с еврейским акцентом…, но он спрашивает с армянским.
Мы выходим и идем прямиком на главную улицу, на проспект, разумеется, Ленина, ждем там минут пятнадцать автобуса, наконец, втискиваемся и едем. Автобус проезжает через весь проспект, затем сворачивает направо, это Московян — Московская улица, действительно напоминающая Москву уникальной своей длиной и закрученностью, и мимо модернового фонтанно-озерного сквера, дальше, дальше, Налбандяна, Алавердяна… Немного саднит от этих окончаний. Они однообразны в любом языке, но в русском хотя бы не под ударением. На этом фоне приятно сказать «Саят-Нова» и «Чаренц» или безличное, но прекрасное: «Тпагричнери». Это песенное, лестное для языка слово означает всего лишь — улица Печатников, потому что «тпагрич» по-армянски — печатник. Автобус делает размашистый прицельный вираж, двигатель обнаруживает свое существование, и начинается долгое взятие горы, где спиралями, а где по прямой, с расслаблением мышц на редких теперь остановках. Разговоров не больше, чем в московском автобусе, старики потише, молодежь погромче, но здесь все слова на слух равнозначны, и поэтому автобусный разговор для меня все равно что научный симпозиум. Но между прочим, действительно, ни в какой толпе, самой спрессованной часом пик, не видел я здесь озлобленных лиц и не слышал проклятий в адрес соседей. И еще — совсем уже между прочим, но кстати — ни разу не видел на улице пьяного. Не то чтобы там в подворотне, в моче и грязи, а даже хотя бы развеселого, шаткого, приставучего и слюнявого забулдыгу, какие у нас ну просто на каждом шагу. И это не значит, что здесь не пьют, армяне умеют и любят выпить, но то ли неизменно чувствуют меру, то ли не выносят чрезмерность на люди, то ли, как свойственно интеллигентному сознанию, в любом состоянии сохраняют бодрствующим некий автоматический контрольный центр…
Мы тоже разговариваем по дороге, соседи не проявляют никакого внимания, как будто мы говорим по-армянски. Нас по-прежнему интересуют деловые вопросы: юстировка, равенство по энергиям, плавность хода магнитной муфты… Но я уже помню Расула Гамзатова и смотрю на Олега иначе, чем прежде. Он и всегда мне нравился, этот парень: наивный, прямолинейный идеалист, возомнивший себя деловым человеком. Он как будто однажды решил и выбрал, хотя выбора у него и не было, и вогнал жизнь свою в колею: планы, расценки, партийные взносы, левые заработки, тяжбы с начальством, любовь к технике, труддисциплина, крутеж-мухлеж, интересы завода… В этой странной смеси принудительного бескорыстия, безусловной корысти и дозволенных чувств он как-то ухитрился сохранить естественность, хотя и без взгляда со стороны, а быть может, как раз потому, что без этого взгляда. И вот оказывается вдобавок, кто бы подумал, что это для моего бригадира Олега не единственная среда обитания. Более того. Не какое-то там расхожее хобби, не подледный лов и не разведение шампиньонов, а высшая отрешенность — поэт, так сказать, наш брат, литератор. Трогательно, ничего не скажешь.
— … И головку надо у винта спилить, — говорит он занудливым менторским тоном. — Тогда она не будет вылезать за край и можно будет утопить кольцо… Ты чего? А тогда уже… Ты чего улыбаешься?
Мы взбираемся на научную гору, срезая угол. Идем по жухлой траве среди кучек отбросов, и большие крысы выбегают у нас из-под ног. Слева, уступами — институты, справа — современный жилой массив, унылое серое пятиэтажье. Иногда мы останавливаемся, оглядываемся, смотрим на Арарат. Он бывает виден очень отчетливо, действительно, впечатляющая гора, хотя ей не хватает чего-нибудь рядом: человечка, автомобильчика, самолетика — для наглядного представления о величине. Конечно, это смешная мысль, ничего такого мелкого там не увидишь, но и эта невозможность уже помогает, вносит какое-то ощущение масштаба. Действительно, видишь: большая гора. Она удивительно что-то напоминает, просто мучительно на что-то похожа, она похожа… и наконец вспоминаешь: она похожа на Арарат, на собственные многочисленные изображения.
Арарат — это армянский Кремль, символ, запечатленный миллионы раз, на гербах, на бутылках, открытках и вывесках, в названиях ресторанов, фирм и объединений, целиком и раздельно, по каждой из двух вершин. И вот так же, привыкнув к изображениям Кремля, фотографическим, упрощенным и стилизованным, бегучи в ГУМ по бывшей Никольской, увидишь вдруг Никольскую башню (отчего бы и ее не переименовать? Башня имени сорок пятого мартобря. Как мы только выговариваем все эти названия…) и вдруг слегка замедлишь свой бег, и коричневая молния на брюки сыну — непременно коричневая, восемнадцать сантиметров — потускнеет в нетерпеливом твоем воображении. И подумаешь: ну надо же — настоящая башня! И с недопустимым уже легкомыслием проскочишь дальше, за угол ГУМа, и если нет ни съезда, ни сессии и выход на площадь не охраняется, то окажется, что и главная, Спасская, — тоже настоящая, из кирпича, и даже стрелки и те — движутся. Ничего не придумано, все это есть.
Тут это сравнение, пожалуй, кончается, должно же оно где-нибудь кончиться. Потому что Кремль — у нас, в сердце России, а гора Арарат — за границей, в Турции. Но если говорить об одной недоступности, то и тут еще можно слегка поиграть, отступив назад лет на двадцать-тридцать. Да мне и сейчас еще кажется, что вот этот Кремль, куда так свободно входят дети через распахнутые Боровицкие ворота, что это другой, ненастоящий Кремль, существующий в каком-то ином пространстве, настоящий же только виден, но не доступен. И если вы скажете: как можно сравнивать! Кремль, не говоря о его рукотворности, — это символ могущества, власти, владения, Арарат же — это Божье творение, часть Армянской земли, символ потери… То я скажу, что и Кремль — символ потери и, может быть, не менее горькой. Потеря территории мне лично плохо понятна. Я сочувствую армянам, но уж как могу, а еще сильнее, быть может, завидую. Я как русский всегда имел территории больше, чем надо; я как еврей никогда не имел никакой территории.
5
На первом этаже под шестым номером — крохотная двухкомнатная квартирка без кухни, ванной и туалета, но есть раковина с холодной водой и электрическая плитка для кофе. Все это — владения аспиранта Миши, невысокого парнишки с красивыми усами и хитроватым, но беззлобным взглядом. В передней комнатке стоит наш возлюбленный, наш в куски разобранный ТГС-12, и мы с Олегом над ним колдуем, а в соседней комнатке помещается Миша, крутит кофе, варит кофе, сидит за столом — пьет кофе. Никогда не забывает нас угостить, но мы не всегда вспоминаем выпить. Сроки нас поджимают, это не дома в Москве, и мы трудимся, трудимся, не покладая. Я, впрочем, менее сосредоточен, все же ответственность на Олеге, и поэтому изредка, старый сачок, оставляю его, разминаю спину и иду к Мише — потрепаться за жизнь. Миша не только пьет кофе, он еще переводит статью из журнала — на армянский, через англо-русский словарь. Тоже не часто такое увидишь. Чудак, думаю я, писал бы уж прямо по-русски. Нет, русский — это не прямо, это для него только средство. Результат — это когда по-армянски, когда предельное единство текста и мысли. Я вынимаю записную книжку и начинаю с Мишей игру в слова, ту самую, в которую с неизменным успехом играли все русские литераторы, когда-либо побывавшие в Армении. О эта тщетная попытка прорваться, достичь, проникнуть, заучив механически пару десятков слов! Представляю себе мое произношение. Итак, сначала — числительные. Мек, ерку, ерек, чорс, хинг, вец, ёт, ут, иннэ, тас. Язык, действительно, великолепный… Плотный, насыщенный, физически ощутимый. Мек хат — одна штука. Мек гават сурч — одна чашка кофе. Ну-с, что же дальше?
«Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть, ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить…»
Но когда мы втроем с Олегом и Мишей идем в буфет пить свой мацун и Миша спрашивает буфетчицу: Паныр чунэк? — а она отвечает: Чэ, паныр чунэм! — я внезапно чувствую острую радость, потому что это для меня не пустое лопотанье, не какое-нибудь там каля-маля, да еще азиатское, без всякой надежды, а это он спросил ее, нет ли сыра, а она ему ответила, что сыра нет. Паныр чунэм — до чего же прекрасно! Сыра нет — ну просто замечательно!
Иногда я проведываю Сюзанну, с ней, единственной пока в этом городе, я могу действительно разговаривать, а не только что пользоваться словами. Мой статус иностранного гостя делает естественным и любопытным обсуждение вопросов, давно обсужденных каждым из нас в своей стране. Например, последняя повесть Трифонова. Очень жаль, конечно, талантлив, но это уже написано раньше, им самим и всеми другими, экивок пятьдесят шестому году, и к тому же слишком широкий захват, и поэтому, в отличие от тех четырех… нет, она бы даже сказала, от трех, четвертая тоже… Или другая тема: кино. Тоже вопрос: отчего у грузин такие фильмы, а армянского кино как бы и вовсе нет? Как будто на это можно ответить. Но она пытается, и ответ ее мне интересен. Национальное искусство, по ее мнению, не может вскармливаться национализмом, а только терпимостью и широтой. Этот, казалось бы, парадокс, а на самом деле очевидную истину поняли грузины и не поняли армяне. И в таком коллективном и сложном искусстве это оказалось просто губительным. На Тбилисской студии — полный сбор: грузины, армяне, азербайджанцы, русские, — и пусть те самые гениальные фильмы делают режиссеры-грузины, но обстановку терпимости и непредвзятости создают все сообща. А только в такой обстановке и можно серьезно работать. На Ереванской же студии все не так, там не только что не терпят никаких неармян, но и армяне сгруппированы по происхождению, все члены каждой съемочной группы — чуть ли не из одной деревни, и грызня между группами ужасающая. Вы себе не представляете, говорит Сюзанна, это, быть может, главное наше несчастье, такая маленькая страна, а местничество, как в большой федерации. И талантливые режиссеры у нас есть, можете мне поверить, но работать нет никакой возможности…
Я не знаю, насколько она права, я не был ни на Тбилисской, ни на Ереванской студиях, и вообще никогда на киностудии не был, но мысль ее мне безусловно нравится. Я вспоминаю, что нечто похожее слышал от знакомого киевлянина, работавшего на студии Довженко. Что ты, говорил он, какие фильмы! Евреев начисто не принимают, тех, кто еще оставался, выгнали, какие же могут быть фильмы… И когда я, преодолевая дешевое самодовольство, попытался было восстановить справедливость, он остудил мое бескорыстное рвение. Да что ты, сказал он, ты меня не понял. Не в том дело, что евреи талантливей, а в том, что предвзятость и нетерпимость исключают творческую обстановку…
Разговоры разговорами, а работать приходится. Мы уходим домой никогда не раньше шести, иногда позже, иногда значительно позже. Миша ждет всегда до конца, потому что, во-первых, гостеприимство, во-вторых, он делает что-то свое, а в-третьих, этот прибор — его диссертация и он за него кровно переживает. Это очень кстати, что мы втроем, потому что говорить ни о чем невозможно, такая усталость, только добраться. А всем вместе можно и помолчать или только изредка перебрасываться, поскольку центр общения не на узкой оси, а где-то внутри треугольника.
Дорога освещается только окнами, мы спускаемся вниз почти в темноте, но тем ярче сияет город внизу в долине. Смена температуры довольно резкая, ветерок подгоняет, хотя дует не в спину, а в бок. Автобуса ждем на шоссе по двадцать минут, иногда нас спасает какой-нибудь поздний калымщик на ПАЗе или даже на обычном городском автобусе со случайным, неуместным здесь номером рейса и с нелепыми названиями остановок, чуждыми этому району и этой трассе. Мы выходим где-то в своем районе, Миша остается, он едет дальше. Нам надо еще купить поесть, это дело, если относиться к нему всерьез, в вечернем Ереване невыполнимо. Очереди даже за хлебом, а если за свежим, то просто длиннющие. Знаменитый лаваш не продается нигде, его достают с переплатой по блату или у частников на базаре, но и там он тоже не всегда бывает. Наиболее распространенный хлеб — маднакхаш, что-то вроде: «следы от пальцев», это невысокие круглые лепешки, по которым сверху идут борозды, быть может действительно прочерченные пальцами. Хлеб этот хорош только очень свежий, слегка зачерствев, он становится почти несъедобным. «Э, разве теперь маднакхаш! — вздыхает Цогик Хореновна. — Раньше был маднакхаш — трое суток лежал и только становился еще вкуснее. А лаваш — разве это лаваш? Его же неприятно взять в руки, а кушать — просто не хочется. Ничего не делают добросовестно, всюду воруют и кое-как. Все говорят, хозяина нет. А я думаю, был бы сейчас хозяин, он бы ничего уже не мог поделать, потому что люди разучились быть честными… Так что зря вы купили так много хлеба, завтра он зачерствеет и надо выкинуть, а хлеб выкидывать — сердце болит».
Мы пьем чай, глядим в телевизор, и начинается самое тяжкое время, два или три часа до сна, командировочная тоска, бессмыслица, пустота и чужбина. «Кушайте, кушайте, почему не кушаете?» Милая, добрая, чудесная женщина. Сколько можно жить в чужом доме?
— Цо-гик Хо-реновна! — начинает Олег. — Что-то Норик нам не звонит, с гостиницей, видно, не получается.
— Я вижу, что вам здесь плохо. Почему хотите гостиницу? Там вас поселят с чужими людьми, туда не ходи, того не делай, здесь вам, по-моему, лучше, разве не так?
— Так-то так, безусловно лучше, но мы вас стесняем, нам неудобно.
— Оставьте, пожалуйста, какие неудобства! Я и так целый день скучаю, вы приходите, я хоть могу поговорить. Я сижу одна, соединяю телевизор, но что там хорошего, одно и то же, и он говорит, а я молчу. А Олег придет и Юра придет, другое дело, мне удовольствие.
— Ну хорошо, Цо-гик Хореновна, тогда давайте по-другому. Я, собственно, вот что хотел сказать. Нам действительно деваться теперь некуда, так давайте мы наши квартирные деньги…
— Что вы, что вы, какие деньги, об этом даже говорить неприлично!
— Но ведь нам все равно государство платит, специально за квартиру, что ж мы их будем присваивать, они по закону — ваши.
— Ай, не шутите, что там вам платят.
— Ну, сколько бы ни было, но все же…
— Не хочу говорить, Олег, перестаньте, пожалуйста. Даже настроение стало плохое. Не хочу говорить, не надо!
Перед сном я еще звоню по одному телефону; «Его нет», — говорят мне, или: «Он очень занят», «Пожалуйста, извините, очень занят, если можно, пожалуйста, позвоните завтра» — и я с минуту после стою в оцепенении. «Что, — спрашивает Олег, — опять так же?» — «Да, вот что-то никак…» Полчаса в постели мы еще читаем, но не читаем, а разговариваем. Олег задает мне свои вопросы, и я, не имея силы отшучиваться, отвечаю серьезно, подробно и зло и трачу вдесятеро больше энергии. О, эта видимость общей темы при полном отсутствии общих точек, нелепая и тупая досада и еще — суетный зуд просветительства, который я сам клеймил многократно, устно и письменно. «А Андрей Вознесенский? — спрашивает Олег. — А Горький? А Толстой? А Ирина Снегова?» По одной бы только остроте на каждого, но что ж, если нет у меня этой остроты. И я делаю паузу, вдох и выдох, и начинаю разворачивать наступление, где ползком, где впрямую, где как попало, и грохочет, грохочет моя атомная пушечка, а воробей, по которому я стреляю, ничего ему не делается, жив-жив, чирикает. Парадом развернув моих страниц войска… «Ну даешь! А Маяковский?» — спрашивает Олег. Я снова начинаю медленно, плавно, с азов, и чувствую, что так мне до утра не закончить, обрываю, и сразу — резко, огульно, уже бездоказательно, уже неубедительно, даже для себя самого…
— Слушай, а ты, часом, сам не пописываешь?
Это он хорошо спросил. Молодец, Олег, двадцать копеек. Я бросаю взгляд на свой чемодан и немедленно отвожу его в сторону, словно боясь, что проткну обшивку и Олег увидит внутри мои рукописи, что все эти разноцветные папки обнаружатся вдруг во внезапном вырыве, как мебель внутри разбомбленной квартиры.
— Что ты, — говорю я, — с ума сошел.
— А похоже, знаешь, похоже. Как-то ты очень заинтересованно споришь. Я и подумал было…
— Ну нет. Бог миловал.
— Да? И все твои интересы — в ту сторону. И знакомые писатели у тебя есть. Я и подумал…
— Да нет, успокойся, никаким боком, ничего подобного. И поздно, давай-ка спать.
Так загодя, еще до наступления ночи, задолго до первого петуха, трижды отрекаюсь я от своей единственной веры…
А петух и на самом деле кричит, я слышу это сквозь сон. Просыпаюсь, но еще совершенно темно, засыпаю снова, опять просыпаюсь, еще немного, уже пора… «Да-да, — улыбается Цогик Хореновна, — петух. Прямо в городе и разводят. Одно время я тоже думала, тридцать три копейки цыпленок, и такой балкон все равно пропадает. Но потом подумала: ва, не надо мне это. Силы не те, и соседи будут ругаться. А вы кушайте, кушайте, почему не кушаете. Вы, смотрю я, мало кушаете, такой худой, это очень плохо, вот Олег молодец, хорошо кушает. Я вам буду рассказывать, а вы кушайте, домой приедете — что такое! — скажут, не кормят там в Ереване, такие эти армяне жадные…»
И смеется добродушно и хитровато.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Культурные ценности
1
Наконец, мы подбираемся к культурным ценностям. Нет, мы не крадемся, мы летим на «рафике», мне покровительственно улыбается наш новый знакомый Володя, Владимир Камсарович, меня обнимает за плечи наш новый друг Акоп—Алик, и я тоже обнимаю и тоже улыбаюсь, настроение праздничное, замечательное и прекрасное, немного кружится голова, я весел, возбужден, доволен и рад, потому что впереди у меня Эчмиадзин, а позади — пол-литра коньячного спирта. Стремительный командировочный детектив. Выездная шайка с пулеметом в багажнике. Они разыскали нас в институте, вошли втроем, оттеснили, прижали. Они были готовы и вооружены, мы — безоружны и тоже готовы. Все решилось одним верным ударом: острие щедрости и изобилия под ложечку нищеты и корысти. И вот мы с Олегом уже повержены, скручены веревками доброжелательства, в которые незаметно для глаза вплетаются жесткие стальные нити взаимовыгодных обязательств. И уже нас волокут в бандитское логово, предупредительно пятясь и уступая дорогу. Прощай, Миша и гео-био!
Они привезли нас в свой химиконический, показали комнату, где стоял их прибор, затем мы прошли в кабинет к Камсарычу, как впоследствии его называл Олег, сели в роскошные мягкие кресла, побеседовали о том о сем, между прочим установили цену. «Пятьсот!» — твердо сказал Олег. Я в испуге дернулся, но промолчал. «По рукам, — спокойно ответил Камсарыч, — сейчас приготовят кофе». Он не был похож на армянина, скорее на английского стряпчего. По-русски он говорил почти без акцента, я бы даже сказал, совсем без акцента, если бы не твердоватые шипящие, но и в них, если не знать заранее, трудно было угадать армянское происхождение. Зато его приятель и подчиненный Акоп оказался уж совсем уникальным, больше я такого в Ереване не встретил. Когда после долгого трепа с нами он кинул в сторону несколько быстрых фраз, то я подумал в первый момент, что просто не расслышал, оттого и не понял — настолько легка и чиста по-московски была его русская речь. Так нельзя говорить не на родном языке.
Между тем очаровательная молодая женщина подкатила к нам столик с джезвой и чашками. Камсарыч вынул из сейфа бутылку: «Попробуйте и угадайте что». Поупрашивали Олега, покачали головами, отступились и набросились на меня. Пилось прекрасно. Закуски не было. На рюмку слегка разведенного спирта — глоток кофе, под конец — символический, прикосновение губами к зернистой холодной гуще, медленно сползающей по стенке чашки. «Где были, что видели? — спросил Камсарыч. — Нигде? О, значит нам повезло. Через десять минут освободится наш „рафик“, отвезем вас в Эчмиадзин. Если вы, конечно, не возражаете…»
И вот мы уже катим по городу, хорошо Олегу, но и мне ничего, мне пока даже лучше, а там посмотрим. «Завод Орджоникидзе, — показывает Камсарыч. — театр Сундукяна, церковь Саркиса, Разданское ущелье, новый стадион. А вот, повернитесь, взгляните налево, сегодня специально для вас хорошо виден Масис по которому тоскуют армяне. Сис хоть и ниже, но в облаках. Это, собственно, сам Арарат, а вот, впереди — трест его имени». Коньячная тюрьма проплывает мимо, и мы выскакиваем на шоссе, по которому ехали из аэропорта. «Юра, ты должен пойти в галерею! — убеждает меня Акоп. — Я уже не говорю об армянах, современных, и старых, и зарубежных, но Боттичелли, но Фрагонар!» Я обещаю пойти немедленно. Вопрос о моей национальности выяснен, уже сказаны какие-то дежурные фразы, но Акоп долго жил в России и, видимо, хорошо усвоил стыдность и неловкость еврейской темы, тот назойливый вид, который она принимает даже в самых незначительных порциях. Поэтому разговор идет об армянах. Древняя культура, христианство, письменность. Непременные слова произнесены, теперь я начинаю выскребывать из памяти все фамилии на — ян или — янц, какие в ней только могли сохраниться. Я люблю армян, я обожаю все армянское, я столько слышал, столько читал, ничего я не слышал и нигде не читал. Я буксую и пытаюсь восполнить пробелы эпитетами и превосходными степенями. Акоп соглашается и дополняет. И вдруг, почти подряд, два камушка, два порожка подбрасывают меня в этом плавном потоке. Я проскакиваю дальше, но возвращаюсь и ухватываюсь за них с нетрезвой цепкостью. Айвазовский, говорю я, плохой художник, и, по-моему, им гордиться не следует… А Вильям Сароян — американский писатель, не имеет значения, что армянин.
Мне показалось, что заглох мотор — такая полнейшая образовалась пауза. Смягчить бы, сгладить, перевести. Но я не-преклонен и не-сгибаем. Истина превыше всего. Сейчас я им все объясню, и они согласятся. Буквализм, натурализм, литература в живописи. Я привожу слова Леонида Лиходеева, которые слышал от него когда-то в юности. Буквализм, натурализм, литература в живописи. В долгие зимние вечера, когда потеряно лото, хорошо рассматривать всей семьей такие картинки. «Не ждали». Пришел — где был? Или те, что контр-адмирал пописывали. «Девятый вал». Спасутся — не спасутся? И еще я вспоминаю рассказ Чехова об обеде в Феодосии, как Айвазовский посадил его рядом с собой, спросил: «Вы, кажется, пишете книги? А я вот никогда книг не читаю. Зачем? Я и так по всякому вопросу имею собственное мнение…»
У меня уже не хватает ясности взгляда, чтобы оценить, кто как молчит. Но молчат все, это мне ясно. И вдруг, совершенно неожиданно, вступает шофер. «Ни-кагда ни слышал, — говорит он, — ни-каг-да! что Айвазовский — плохой художник. Ни-кто! мне такого ни гаварил!» Я смотрю на него и глазам не верю: он сидит лицом к нам, спиной к рулю, разговаривает и оживленно жестикулирует. Ну, сейчас мы врежемся!.. Но мы не врежемся. Мы давно стоим, мы уже приехали, и мотор заглушен, так все и есть. Я еще бормочу по инерции: «Ну зачем он вам, Айвазовский, когда у вас есть Сарьян и Аветисян…» — но разговор уже, как видно, окончен. Камсарыч встает, и Акоп встает. И вдруг Акоп садится обратно. «Еще минутку, Володя». И уже обращаясь ко мне: «Ладно, оставим живопись, (Я так и не узнаю, согласен он со мной или нет.) Оставим живопись и все, что касается вкуса. Но скажи мне, почему Сароян — не армянский писатель?»
Потому что — американский, говорю я ему. Потому что он пишет по-английски, а не по-армянски. Это факт американской литературы и английской языковой культуры. Язык определяет принадлежность писателя и только язык. Джозеф Конрад говорил по-английски с акцентом, и все же он английский писатель, а не польский. И Кафка — немецкий, а не чешский и не еврейский. Как Борис Пастернак — не еврейский поэт. И даже Мандельштам, никогда не замалчивавший своего происхождения, наоборот, с гордостью его объявлявший, был тем не менее русским поэтом и только русским. Можно говорить о вкладе нации в ту или иную культуру, но отечество писателя — его язык.
— Что ж, может быть, — говорит Акоп. — Может быть, у других это так. Сомневаюсь, но может быть. У других. У армян — иначе. Где бы ты ни был, кричи: я армянин! Знаешь такой рассказ у Сарояна?
Я не читал такого рассказа и вообще, по секрету сказать, не читал Сарояна (прочел уже потом, по прибытии), но название кажется мне потрясающим. Здорово, говорю я, ничего не скажешь, здорово, ладно, кто его знает, возможно, ты прав… И тут же, примерив на свой аршин, дважды наполнив это название иным содержанием, я испытываю острую зависть к армянам. Где бы ты ни был, кричи: я армянин! Прекрасно. Гордо, мужественно, трогательно. Где бы ты ни был кричи: я русский! Глупо. Русский так русский, чего орать-то. Глупо и — подозрительно. Где бы ты ни был кричи: я еврей! Смешно, пародийно, анекдотично. Да и кто это станет кричать, какой идиот?
Ничего мы не выяснили, но остались друзьями. Мы выходим на улицу почти в обнимку, Олег и Камсарыч за нами. Акоп — уроженец Эчмиадзина, и, пока мы идем по аллее к храму, он рассказывает, как вот по этим дорожкам катался в детстве на велосипеде. Я намеренно не вслушиваюсь в его слова, я пытаюсь настроиться на нечто возвышенное: раннее христианство, четвертый век, католикос, святые таинства… И упираюсь глазами в очередной щит-транспарант. Гады, мало что по-армянски, так еще специально для меня по-русски! И теперь долго остается во рту тупая тошнота привычных и бессмысленных словосочетаний…
«Ах, Россия-матушка, крепка твоя лапушка. Бьет ли, ласкает, а все она тут, все с нами!»
Только Пушкиным и разгонять эту нечисть…
Кружева ограды и выставленных вдоль нее хачкаров. Мы входим в ворота, башенки храма маячат вдали сквозь зелень. И Акоп говорит мне… Не помню что. Ничего не помню, что было дальше. Только зрительные-растительные ощущения. Только двуцветные кружева, зеленые — зелень и кофейные — камень. И над всем этим — башенки, башенки, башенки, много башенок, целых четыре штуки. Бутылок, я думаю, было две, и Камсарыч почти не пил, а мне без конца подливали, вот оно что… И последние мои слова, которые я еще помню, произнесенные уже без мысли и воли. О храме: какое гармоничное здание, но две боковые башенки лишние, я бы их снял. «Молодец! — говорит Акоп. — Если раньше не знал — молодец! Боковые башенки лишние, поздняя пристройка, тринадцатый век».
На обратном пути я помню коробку. Огромную плоскую картонную коробку, как два сложенных противня. Откуда-то из зелени, из глубины парка, принесли ее Акоп и Камсарыч и, усевшись в машине рядом, положили себе на колени. Потом я увидел ее уже в помещении, в чистом прохладном зале со стульями-бочонками вдоль длинного стола, с застекленными стендами, в которых темнели колбы с вином. Этикетки с паспортными данными вин были то ли наклеены на каждую колбу, то ли прислонены к ней, уже не помню. Коробка стояла на столе раскрытая, там в лавашной скатерти, на подстилке из зелени, бугрились и поблескивали еще не остывшие длинные кебабы. Женщина в белом халате внесла поднос. Тоже — колбы и этикетки. Уж наверно, они были наклеены. Пили и ели и говорили тосты, и я позорно спал на своих ладонях, и никто не сделал мне замечания. Потом мы как-то оттуда выбрались, передавая друг другу слово «дегустация», в тот момент сонное и тошноватое. Но и это было еще не все. Мы еще заезжали в Звартноц, там смотрели рисунок прекрасного храма и видели разнообразные камни, из которых он будто бы состоял. Все камни, вне зависимости от формы, размеров и былой высоты положения, лежали на площадке на одном уровне, под огромным, уже потемневшим небом, лишенные всякого волевого импульса, бессильно подчинившиеся энтропии. Иллюстрация всеобщего равенства, сказал я Олегу. (За четкость сказанного не ручаюсь, но подумал довольно ясно, это я помню, благо мысль была готовая и не совсем моя).
Нас подвезли, спасибо, к самому дому, мы долго обнимались и трясли руки, и потом я спал ничком на кровати, не раздеваясь, а часов в десять, умывшись холодной водой, уже набирал заученный номер.
— Знаете что, — сказал я на этот раз. — Больше я ему звонить не буду. Я привез ему книги от его друга, я мог бы их просто передать, занести. Но если он захочет, пусть позвонит, запишите, пожалуйста.
— Ну что, — спрашивает Олег, — опять, как всегда?
— Мало ли, — говорю я, — занятой человек. И не надо, мне что, только книги отдать…
Потом мы пьем чай у Цогик Хореновны, смотрим телевизор, и я — с большим интересом, чего никогда не бывало. Молодой артист, очень музыкальный, поет без сопровождения народные песни. Не могу описать, как это прекрасно, как гармонично слиты голос, язык и мелодия. Добрейшая наша хозяйка порывается перевести слова, но я говорю: «Не надо, я все понимаю». — «Так быстро научились? — смеется она. — Подумайте, ва! какой способный!»
2
В субботу мы расстаемся с Олегом. Он идет шататься по городу, а я навещаю родственников. Да, вот так, ереванских родственников. У меня, чтоб вы знали, здесь живет троюродный брат Володя, и имеется телефон его тещи. Я звоню с утра — а он уже там. С женой и дочкой. Никаких «на днях», надо ехать немедленно. Это рядом, две остановки. Он встречает меня у трамвая, усатый и черный, как армянин, с живой очаровательной куколкой на руках, уже безусловной армянкой. Он рад, я тоже, он добрый человек, мы давно не виделись. А главное, я чувствую с первых же слов, что у меня появляется объективный источник, наш человек в Ереване.
Но сначала спрашивает, конечно, он.
Ну что ж, говорю, по-моему, город не блеск. Серенький средне-советский город, изо всех сил прущий в столицы. Отсюда этот пышный провинциальный замах, такая назойливая монументальность среди трущоб и всеобщей незавершенности. И вот, с одной стороны, официоз, выходишь, допустим, на площадь Ленина — и хочется предъявить документы. С другой стороны, тут же, через две улочки, — самодельные жилые сараи, занавешенные какими-то тряпками, и рядом — общественная уборная, к которой на выстрел не подойдешь. А еще дальше, в пяти минутах, открывается вдруг такой модерн, такой вызывающе смелый поиск, что просто поражаешься, как разрешили. И порой, сознаюсь, бываешь солидарен с теми, кто мог бы не разрешить, и даже сетуешь, что же они прошляпили! Потому что выполнено все очень небрежно и с фоном совершенно не сочетается, и от замысла остается лишь вызов и все тот же провинциальный замах.
Но это внешняя сторона, и она ничего отражать не может, кроме обычной нашей безалаберности и чиновных склок наверху. К собирательному понятию «армяне» это, как я понимаю, не имеет отношения. Армяне же мне безусловно нравятся. Что значит «все — не все»? Первая оторопь всеобщей приязни у меня уже, по-моему, прошла, я уже вполне различаю отдельные лица. И конечно, масса — всегда масса, чернь — она и в Африке чернь. Но что мне здесь импонирует бесконечно — это то, что стержень природного благородства я чувствую если не в каждом, то очень во многих, а если слегка отодвинуться — то и во всех. Не в каждом, нет, — но во всех вместе. Мне приятно общаться с армянами, мне удобно жить среди них, я ощущаю какую-то непривычную свободу, будто и вправду уехал в другую страну, и это не только потому, что — язык, естественное отчуждение и невмешательство, но и по многим другим причинам. Здесь и дух свободного предпринимательства, осеняющий в Армении любую деятельность; и очевидная чуждость, неуместность, навязанность всех наших рабских форм; и некий несомненно возвышающий импульс, который сообщен мне с первого дня, и это не за счет унижения окружающих, а, наоборот, за счет всеобщей энергии, дающей чувство приподнятости и возможности. И общий тон доброжелательства — несомненен, и если ты скажешь, что это им выгодно, то ты ни на йоту не изменишь моего отношения. Быть добрым вообще, в конечном счете, выгодно, тем не менее не все это хотят понимать. Ну и еще один небескорыстный вывод, одно очень важное для меня подтверждение. Населения здесь не больше трех миллионов, остальные армяне рассеяны по белу свету. И вот, у этого крохотного народа, зажатого границами и горами, есть всё, чем должна обладать нация. И те армяне, что сюда приезжают, на время и насовсем, и те, что никогда здесь не были и не будут, те, что знают армянский, и те, что не знают, — все они чувствуют себя армянами и как бы подданными этой страны. И скажи им, что впереди у них — ассимиляция, растворение в другой, великой культуре, что они как легирующая присадка и в этом их историческая миссия, скажи все это любому из них — он мало что слушать тебя не станет, он еще и плюнет тебе в глаза, будь он хоть тишайший интеллигент. И правильно сделает, молодец! Я люблю армян, я благодарен армянам, я пью за армян, пусть они будут здоровы и счастливы, мне это очень важно!..
Этот спич я, конечно, произношу не на улице, а уже за рюмкой в тещином доме. Мы с трудом отваливаемся от стола и идем на балкон — подышать, покурить: мой братец Володя, жена его Аня, самая красивая армянка из всех, кого я встречал до сих пор, их чудесная кукольная девочка и я. Володя и Аня курят, мы с девочкой дышим дымом и воздухом. Внизу под нами — путаница деревянных заборов, домов и сараев. Оттуда гремит восточная музыка, такая мне вдруг чужая, что даже страшно, и валит дым, не густой, но постоянный. Музыка прерывается время от времени, тогда становится слышен многоголосый гогот и гвалт, он тоже смолкает и как бы сужается в один напряженный мужской голос, усиленный мегафоном. Внезапно раздается сухой щелчок, и зеленая ракета взлетает в небо. Почти мгновенная тишина, и как раз на перегибе светящейся траектории — снова гогот, гвалт и музыка. Свадьба, объясняет мне Аня. Азербайджанская свадьба. А дым — от мангала, жарят шашлык…
— Да, ты прав, — говорит мне Володя, мой брат, полурусский-полуеврей, женатый на армянке и живущий в Ереване. — Ты прав, это страна замечательная. Но сколько я здесь живу, с первого дня, ну не с первого дня, с первого месяца, одна у меня мечта: уехать. Куда? Куда угодно, в любую дыру — но только в Россию!
Мы возвращаемся в комнату. Радушная теща. Разговорчивый тесть. Бывший полковник, ныне доблестно командующий пекарней. Тосты. Обманчивый импульс близости. Полковник общителен и скептичен. Раньше — да! А теперь — тьф-фу! Оказывается, раньше — это в войну и немного после. Сталин был армянином, вот оно что! Мать его была армянкой, точно известно. А отец — грузин, но тоже как будто не очень. Еще надо выяснить…
Тоска, Господи, вот ведь тоска! Нет противоядия против рабства, оно само отравляет любую чистоту и впитывает любую, даже чуждую, грязь. Уж казалось бы, вот вам единственный случай, где межнациональная вражда черни могла бы сыграть положительную роль. Хоть одна ненависть была бы оправдана. Так нет, здесь она как раз отключается, находит немыслимую лазейку. Еще странно, как это у нас в России ему не придумали какой-нибудь псковской матери. Ничего, и так проглотили. Вот на рынке, улыбчивый грузинский парень, никому в жизни не сделавший зла, хочешь — купи, не хочешь — не надо, пусть тебя твой магазин обеспечивает… Вот об этом выскажут всё, что надо. Черномазый, черножопый, спекулянт, живодер. А тот живодер — не черномазый, очистился…
Ладно, говорю я, будьте здоровы. Армянин так армянин, я вас поздравляю. Мне пора, пошли, проводишь, Володя.
3
А назавтра мы гуляем с Володей по городу и заходим в музей современной живописи. Очень интересно, да что там, поразительно, как у них только позволяют такое. У нас бы эти авторы и не мечтали выставиться, разве что под вывеской «свиноводство», при скандальном стечении алчущих толп, иностранных репортеров и стукачей.
— Армения ближе к Западу, — объясняет Володя, — Постоянное движение в обе стороны. Приезжают родственники, уезжают родственники. Ахпары — армянские братья оттуда жертвуют деньги и свои произведения — ты еще увидишь в Центральном музее. Ахпары, осевшие в Ереване, приехали тоже не с пустыми руками, привезли и деньги, и западный образ жизни. Армения в этом смысле страна уникальная, то есть она уникальна и в этом смысле. С одной стороны, древность и восточные корни, с другой — интеллектуальная близость к Западу, более спокойное его восприятие, чем, скажем, в России или даже в Прибалтике.
Я пользуюсь случаем, чтобы поймать его на слове.
— Значит, все же нравится тебе Армения?
— Что значит нравится, — говорит он, — чудак! Если бы я отсюда уехал, я бы каждый отпуск проводил в Ереване и весь год ждал бы этого отпуска. У меня здесь не только привычка, у меня здесь — друзья… Но вот я иду по улице и вдруг слышу чистую русскую речь — и весь холодею. Мне хочется кинуться к этому типу на шею, обнять, расцеловать его русские щеки и облить слезами его русский пиджак.
— Ну, пиджак-то окажется точно не русским…
Но это я болтаю так, по инерции, а сам думаю: вот оно как! А как же, если — насовсем, безвозвратно? Разве только в этом «безвозвратно» и выход? Возможность делает жизнь невозможной, а так — жил бы себе и жил… Это здесь, а там — все наоборот. Там, я думаю, именно возможность возврата была бы отдушиной и лазейкой, мог бы жить хоть двадцать лет, дыша в эту дырочку…
Мы выходим на светлую, яркую, жаркую улицу, проходим мимо крытого рынка (в Ереване все рынки — крытые), мы проходим мимо, потому что денег — в обрез, и хотя маячит уже впереди наша с Олегом халтура, а все же кто ее знает, еще поглядим… В крохотном, но уютном кафе, втиснувшемся между двумя домами, выпиваем по чашке прекрасного кофе, сидим, болтаем.
— И еще, — говорит мне Володя, — работа. Я устал от этих восточных темпов, от безалаберности, необязательности и больше всего — от собственного безделья. Я сижу в своем КБ, читаю книжку, рисую карикатуры для стенгазеты, изредка подправляю чей-нибудь старый чертеж, слушаю и не слушаю разговоры, улавливаю какие-то обрывки смысла, вставляю свои русские пару слов, в основном о футболе, то и дело выхожу в коридор и курю, курю без конца…
— Ну ты даешь, — говорю я ему. — Да в любом московском КБ такая же точно картина, разумеется, за исключением языка. Это не армянский и не русский стиль, это наш всеобщий, сто раз обсужденный. И у себя в Донецке, вспомни, ты наверняка проклинал ту же самую безалаберность, только называл ее русской ленью.
— Да, — отвечает он, — все так и все же не так. Там бывали периоды настоящей работы, когда не хотелось идти обедать, когда я сидел вечерами и готов был остаться на ночь. А здесь о таком нелепо и думать. Зайдешь в цех: половина станков разобрана, половина еще не собрана. Рабочие сидят на станинах, курят. Если увидишь, что кто-то работает, не обольщайся: это для дома, для семьи. Однажды директор поручил мне собрать новый станок, и я, по наивности, принял это всерьез. Надо мной смеялись. Рабочие, которых мне подчинили, делали вид, что не понимают по-русски. Только изредка, когда я брался за что-нибудь тяжелое, мне из жалости помогали. В конце концов я этот станок собрал, и уже год на нем никто не работает… А время идет, мне тридцать лет, и я теряю квалификацию…
Да, думаю я, вот тебе раз. Безалаберность, легкость, необязательность — ведь это и юмор, и теплота. И для дома, для семьи — это тоже прекрасно. «Для сельского хозяйства» — говорят в Москве на почтовых ящиках. Придешь в цех, попросишь: вот такую релюшку. Тебя спрашивают: для работы? для сельского хозяйства? Если для работы — ни в жисть не найдут. А для «сельского» — не пожалеют никакого времени, перероют ящики, позвонят приятелю. Холодно, неуютно искать для работы, для какого-то отвлеченного результата, для абстрактной пользы, для неведомого начальства, для его призрачного отчета. А для дома — это же удовольствие, это так понятно. Человек соберет себе фотореле, будет фотографии дочки печатать… Я люблю русскую лень, и мне импонирует армянская безалаберность. Это творческая лень народа и человека, который вынужден заниматься не тем, не там и не так, как ему это свойственно от природы. Беспорядок — это еще не беда, порядок — вот подлинное несчастье. Дисциплина, порядок, строй и прочие гражданские и военные радости…
Но как быть человеку, если его дело зависит от этих самых вещей? Он уже выбрал давно, и он не может иначе.
— Ладно, — говорю я, — что тут поделать, наверно, такие мы все обреченные. Нам надо жить у себя дома, уж какой он ни есть, этот дом. Давай, меняйся, возвращайся домой, а сюда будешь ездить в гости, меня прихватывать…
Мы идем вдоль длинного деревянного забора, такого неуместного в этом каменном городе, да еще на этой центральной улице. И вдруг — вывеска на калитке: Музей истории города. Зайдем? — Зайдем. Мы толкаем калитку, спускаемся вниз, в затененный дворик — и оказываемся в том единственном месте, которое я искал в Ереване. Не то чтобы я больше не хотел ничего здесь видеть, но это было единственное место, которое я искал заведомо, и не из уважения к чужой святыне, а для поклонения своей собственной.
Мы стоим во дворике храма, но не церкви и не синагоги. Это двор Ереванской мечети. Самая мечеть — в глубине двора, странно, что мы не заметили с улицы ее лунно-звездчатый купол. Главное здание и какие-то пристройки расходятся буквой «П» вдоль забора, блестя глазурованной плиткой с преобладанием голубого цвета, и расписаны хвостатыми письменами, синими, в один перьевой росчерк, с одинаковым радиусом завитков, но с возрастающей высотой, если слева направо. Писали, конечно, справа налево, но сразу так не воспримешь.
— Какая удача, — говорю я Володе. — Так просто: шли, толкнули калитку — и вот она, эта мечеть. Та самая!
4
Я знаю, что не только для меня, для многих в России Армению открыл Мандельштам. Сначала стихами, затем «Путешествием», а затем уже, по порядку чтения, так часто обратному написанию, — «Четвертой прозой». Но конечно, не Армению он открыл, а тягу к Армении, любовь к Армении, странную близость этой азиатской страны тоскующему европейскому сердцу.
Если бы я поехал в Эривань, три дня и три ночи я бы сходил на станциях в большие буфеты и ел бутерброды с красной икрой.
Халды-балды!
Я бы читал по дороге самую лучшую книгу Зощенки и я бы радовался, как татарин, укравший сто рублей.
Это было написано им в счастливое время, насколько мы можем теперь судить. Ему еще оставалось несколько лет свободы, и какой свободы! Не какой-нибудь там заграничной, не имеющей цены, как вода и воздух, а нашей, бесценной, как вода и воздух, как один вдох и один глоток. Он еще съездил в свою Эривань, и хотя насчет красной икры сомнительно, но жизни и свободы вдохнул здесь полную меру. С Армянских стихов начался совершенно новый период его жизни, после долгого удушья и немоты — гениальный взлет без единого спада до самой гибели. Одного этого мне достаточно, чтоб любить Армению. Но и прозаическое «Путешествие в Армению» я готов перечитывать без конца, и хотя не в моих интересах цитировать, но один кусок я сейчас приведу. В нем мне важен не стиль Мандельштама, не точность его наблюдений и даже, честно скажу, не Армения, то есть на этот раз не прямо она. Мне важен один персонаж.
В этом году правление Центросоюза обратилось в Московский университет с просьбой рекомендовать им человека для посылки в Эривань. Имелось в виду наблюдение за выходом кошенили — мало кому известной насекомой твари. Из кошенили получается отличная карминная краска, если ее высушить и растереть в порошок.
Терпение, дело не в кошенили, хотя, как увидим, отчасти и в ней.
Выбор университета остановился на А. Б. Зотове, хорошо образованном молодом зоологе… А. Б. ни в коем случае не был книжным червем. Наукой он занимался на ходу, имел какое-то прикосновение к саламандрам венского самоубийцы, профессора Каммерера, и пуще всего на свете любил музыку Баха, особенно одну инвенцию, исполняемую на духовых инструментах и взвивавшуюся кверху, как готический фейерверк.
Зотов был…
Здесь следует еще пара абзацев о Зотове, затем фантазии и вариации о цветах, ягодах и грибах, и вдруг — поразительная, брошенная между прочим фраза: «Разлука — младшая сестра смерти…» И еще вдруг:
Итак, А. Б., вы уезжаете первым. Обстоятельства еще не позволяют мне следовать за вами. Я надеюсь, они изменятся.
Что это значит?
Нет, ясно уже, что этот А. Б. — человек замечательный. И все же — что за разлука и зачем Мандельштаму за ним следовать?
И тут я обращаюсь к другому тексту, уже совсем сухому и протокольному.
Стремясь сократить ввоз импортных продуктов, пищевое ведомство в 1929 году обратилось в Московский университет с запросом о возможности замены мексиканской кошенили каким-либо отечественными источником кармина. Ответить на этот запрос поручили, как энтомологу, мне.
Ну вот, без кошенили не обойтись. Именно из-за этой красной козявки одновременно с Мандельштамом попал в Ереван Борис Сергеевич Кузин, он же загадочный А. Б. Зотов — энтомолог, историк науки и не просто любитель, но прекрасный знаток и толкователь Баха, и вообще — удивительный человек. Он не только познакомился здесь с Мандельштамом, он отныне стал его другом, и по-видимому, самым близким. Пресловутая кошениль явилась перекрестьем и общей точкой рассказа Мандельштама о Кузине и более поздних воспоминаний Кузина о Мандельштаме.
Кузин умер года четыре назад. Это был человек безусловно умный, широко образованный даже по тем, завышенным и оттого устаревшим меркам, но главное и отличительное его качество — это редкая нравственная чистота, пронесенная им через все перипетии вполне современной запутанной жизни, включая, конечно, аресты и лагеря, которых он попробовал еще прежде Мандельштама. Какая-то поминутная совестливость, почти детская, до наивности, прямота стоит за каждой им написанной фразой, создавая особый внелитературный стиль, вызывая чувства простые и добрые.
Кузин приехал в Эривань в командировку, так же, допустим, как мы с Олегом, но столь необходимая ему кошениль, обитавшая где-то в армянских долинах, еще не вышла из земли на поверхность, надо было ждать. К тому же он только что перенес тиф и медленно восстанавливал силы. Он бродил по городу в поисках горячего чая и тихого места для отдыха — и нашел то и другое, случайно толкнув калитку и оказавшись неожиданно, как и мы с Володей, во дворике Эриванской мечети. Он пишет об этом со свойственной ему обстоятельностью:
Я вошел во двор мечети и просто остолбенел. По соседству с самой непривлекательной частью города находился рай. Двор, выложенный каменными плитами, со всех сторон обсажен мощными вязами, создававшими защиту от пыли окружающих улиц и, как казалось, даже от шума. Из-за деревьев проглядывали стены мечети и относящихся к ней построек. Посреди дворика находился небольшой прямоугольной формы бассейн с двумя фонтанчиками. В нем плавали две белые утки. Бассейн тоже был обсажен с двух сторон развесистыми карагачами, между которыми стояли массивные, вытесанные из камня скамьи. Под одним из деревьев помещался стол, а на нем — огромный желтой меди самовар и арсенал чайной посуды. Несколько тюрков, большей частью пожилых, сидели на скамьях, одни — молча, другие — негромко переговариваясь между собой. Чайчи, тоже немолодой, бесшумно и неторопливо разносил и убирал стаканы. Я присел на одной из скамей. Подошел чайчи и спросил: «Чай?» — «Да». «Сладкий?» — «Нет». Чай был, как всегда в чайханах, хорошо заварен и горячий.
Кузин стал проводить здесь все дни подряд, и сюда же, в этот сказочный дворик, однажды забрел Мандельштам. В их знакомстве примечательна она деталь. Кузин, вообще-то страстный читатель, предвидя сложности путешествия, взял с собой из Москвы только две книги, надеясь, как он сам говорит, «возместить количество качеством».
Шел уже второй год, как мне вполне раскрылась поэзия Мандельштама… «Тристия» ударили меня всей своей силой в ту пору, когда я не мог ее не почувствовать… Небольшую книжечку в красной обложке я и решил взять с собой в долгое путешествие. Другая была — один из сборников Пастернака…
И вот, по странному совпадению — такое было завихрение судьбы — пропустив мимо ушей фамилию нового своего знакомого, Кузин заговорил с ним о Пастернаке, опять же в связи с кошенилью.
Я сказал, что о ней упоминает Пастернак и, как видно, грамотно. Я имел в виду
И в крови моих мыслей и писем Завелась кошениль, Этот пурпур червца от меня независим. Нет, не я вам печаль причинил.В ответ было: «Да, Борис Леонидович всегда грамотен в своих стихах».
Тут во мне как бы сработал спусковой механизм… Я ничего не анализировал, ни секунды не колебался. Вскочил и закричал: Да ведь я же вас знаю!
Но видимо, и для самого Мандельштама эта встреча явилась озарением и знаком и многое изменила в оставшейся жизни.
Когда я спал без облика и склада, Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.Эти стихи посвящены Кузину, и строчки их, написанные в Москве, тянутся во двор Эриванской мечети, той самой, где сейчас стоим мы с Володей.
— Странно, — говорит Володя, — никогда здесь не был. Приятный двор, но какой-то заброшенный. Мечеть не действует, это ясно. Но, кажется, и музей не работает.
Дворик, действительно, захламлен и пылен, тени практически нет никакой, это в первый момент она мне почудилась, видимо, из-за спуска, как бы в подвал. Несколько полузасохших деревьев, тех самых, возможно, карагачей растут — не растут, трудно сказать, но стоят вокруг бывшего бассейна. Все как будто узнаваемо, но умозрительно, только по названиям. Вот здесь, говорю я Володе, плавали утки — и показываю на прямоугольную мусорную яму. А на месте вот этих лопат и досок, видимо, стояли столы с самоваром.
Мы обходим двор по периметру, идем вдоль длинных низких палат, составляющих ансамбль с главным строением, — и на всех дверях видим замки. Наконец, на той стороне отмечаем одну открытую дверь и кидаемся к ней, торопясь, словно опасаясь, что и она закроется. Маленькая квадратная комнатка с письменным столом, заваленным бумагами и папками. Бритый старик в серых, простых, пижамного типа штанах и такой же куртке сидит за столом и пишет. Он поднимает на нас глаза мудреца и учителя, здоровается и любезно предлагает сесть. Да, он понимает, хотим посмотреть. Из Москвы? — тем более, очень досадно. К сожалению, все закрыто, все экспонаты, и даже ключи теперь не у него. Хотя он почти единственный из оставшихся сотрудников. Впрочем, он думает, что и ему не долго осталось. Вчера приезжал инструктор горкома, сказал: «Не понимаю, что вы здесь делаете. Все пишете, пишете целыми днями. Разве это работа?» Но он не о себе, дело не в нем. Музей полгода уже закрыт, это называется «в новое помещение», но нового помещения нет и в проекте. И уже несколько лет, как здесь необходим срочный ремонт, бесценные экспонаты, которым сотни и сотни лет, в течение года приходят в негодность от сырости. Гниют ткани, истлевает золотое шитье. «А это, вы понимаете, невосстановимо! И это — главное наше богатство, большего у нас в Армении нет. Был такой русский философ Федоров, вы вряд ли его читали… Он говорил, что музей — не конец, а начало, начало истории всего народа, как целостной и неразрывной семьи, где совместно трудятся живые и мертвые. Я сидел здесь зимой, вот в этой комнатке, было сыро и холодно, я болел, и я думал, что согласен выйти на улицу и там просидеть под дождем и ветром, пока не умру, чтобы только музей поместили в сухое и теплое место. Но никто мне такого не предложил».
И вдруг я решаюсь:
— А знаете, в этом дворике…
— Кузин? — переспрашивает он. — Нет, не знаю. Ах, которому посвящено… Так, и что же? Зотов? Помню, конечно, помню. Энтомолог, кошениль, теория Гурвича. У Мандельштама о нем довольно много. Так значит, Борис Сергеевич Кузин. И в этом дворике? Нет, не сомневайтесь, другой мечети в Ереване нет. Чайхана, говорят, была, но я не застал, я до войны работал в Тбилиси. Очень, очень интересно, да. Жаль, что я не знал об этом прежде, я бы видел здесь все чуть-чуть по-иному. Ну, да теперь уже все равно… Да, верно, были карагачи. Здесь, знаете, росли еще столетние чинары, и они засохли на моих глазах, вдруг, сами собой, уж не знаю отчего, быть может, просто кончилось их время…
Он грустно улыбается и трясет головой. Мы выражаем робкую надежду на лучшее, мы благодарим его и прощаемся.
5
Вечером я рассказываю все это Олегу.
— Был, — говорю я, — такой поэт Мандельштам. — И на его недоверчивый взгляд: — Гениальный поэт! — И на его усмешку: — Самый большой поэт двадцатого века! Ну, неважно, поэт и все. Хороший. Он написал об Армении. Хорошо написал. У него был друг, интересный человек, он недавно умер… А? — я вздрагиваю. — Есенин? Ну что Есенин? Прекрасно отношусь, какой разговор. Между ними, если хочешь, было что-то общее. Быть может, органичность, предельная выраженность. Мандельштам это чувствовал, вероятно. Он лучше всех сказал о Есенине… «Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи…»
— Это ты наизусть запомнил? — спрашивает Олег. — Ну и память. Завидую. Раньше я тоже так мог. Прочту разок стихотворение, и тут же почти без запинки. А теперь уже не то, старость, склероз. Образ жизни у нас дурацкий. Надо больше воздуха, больше фруктов, наша пища совершенно лишена витаминов…
Я снимаю со спинки стула полотенце, вешаю его себе на шею, беру со стола огромное яблоко и сую его в руки Олегу.
— На, — говорю я ему, — восполняй! — и иду принимать душ.
Вода в титане почти совершенно остыла, Цогик Хореновна грела его еще днем. Я прыгаю под прохладными редковатыми струйками, вяло смывающими с тела сухой мыльный рисунок, и даю себе слово никогда больше, ни разу в жизни… в который раз!
И звонит телефон.
Нашей хозяйки сегодня нет, она в гостях у детей. Видимо, Олег вспоминает об этом не сразу, он выходит из комнаты и снимает трубку только после трех-четырех безответных звонков. Но Олег еще только снимает трубку, а я уже и кран закрутил, и уже полотенце набросил на спину, и стираю, сдираю с холодной кожи капли воды с остатками мыла. Потому что я точно знаю, что это — он.
— Кого? — переспрашивает этот болван. — Говорите громче, вас плохо слышно.
Я натягиваю трусы и выскакиваю. Он протягивает мне трубку:
— Кажется, тебя.
Господи, кажется! А то я не знаю.
Сильный мужской голос, и слышно отлично, но дело в том, что такого акцента, да что там акцента — такого нерусского языка я еще в Ереване не слышал. Я с трудом улавливаю корни слов, выкусываю лишние приставки и суффиксы, выгибаю окончания в нужную сторону — и странно, испытываю от этого радость, как бы радость сотворчества. Я стою в трусах, опираясь локтем о стену, я рассматриваю собственные мокрые следы на полу, я размеренно и ровно отвечаю в трубку, весь напрягаясь для этой ровности, так что дрожь моего еще влажного тела пулеметной очередью прорывается в паузы.
— Да, — говорю я, — конечно, я понимаю. Я вполне понимаю, вы очень заняты. Я бы не хотел растрачивать ваше время.
И тут же начинаю дрожать с такой амплитудой, что кажется, больше ни слова не вымолвлю. Но подходит сзади Олег — золотой человек! — и набрасывает мне одеяло на плечи.
— Нет, — говорю я, — конечно, свободен. Я только… В общем, буду готов через десять минут…
А он говорит мне что-то еще, и я чувствую, как начинаю привыкать к его речи, как уже воспринимаю ее непосредственно, без промежуточного перевода. И только теперь, отчасти задним числом, ощущаю, как эта речь иронична, остра и легка. Легка! — поверх и в обход неуклюжей тяжести чужих оборотов.
Он говорит примерно следующее:
— Мы с вами живем почти на одной улице, ваша улица — продолжение моей, или, если быть армянином и хозяином, моя — продолжение вашей. Давайте мы выйдем одновременно через десять минут и пойдем друг другу навстречу, как в школьной задаче. Я буду весь в черном, стройный, как девушка. А вы? Ах, я тоже лысый, но это секрет. Лысый и с бородой? Прекрасная характеристика. Ну что ж, договорились, до встречи.
Я одеваюсь, киваю Олегу («Понятно, — он улыбается, — ну-ну, давай…»), хватаю со столика перед зеркалом заждавшуюся стопку книг и журналов и выстреливаюсь вниз, в подъезд, в духоту, черноту, южноту ереванской ночи.
ГЛАВА ПЯТАЯ Грант
1
Однажды мне позвонила приятельница из Киева и, минуя вопрос о здоровье детей, с ходу сказала так:
— Я должна тебе сообщить, что в нашей стране, в наше время живет великий писатель, и ты наверняка о нем даже не знаешь.
— Знаю, — ответил я, почти не задумавшись, и назвал ей имя.
Она разочарованно подтвердила. И хотя я тоже узнал недавно, а прочел и вовсе месяца два назад, но добавил с важностью:
— Как же, как же не знать! — И повторил окончательно и с удовольствием: — Знаю — ГРАНТ МАТЕВОСЯН!
Нет, это невозможно, сказал я тогда, назад два месяца. Вряд ли, сказал я, держа в руках эту книгу. Стилизованный орнамент на картонной обложке подкреплял мое недоверие. Фольклор. Представляю. Ансамбль песни и пляски. Сын уезжает в город учиться, а его девушка в это время… А старуха жалуется на жизнь: такие стали все образованные, просто не с кем поговорить. Тут же светлая грусть автора: все-таки раньше было тоже много хорошего. И совсем уже членораздельный, в полный голос, экскурс в экологию: охраняйте свою среду! Жизнь между тем противоречива и даже порой трагична. Но!.. И даже порой без «но» — вот такая смелость. Ну и так далее. И хотя эту книгу давал мне не просто кто-нибудь, а умный человек и большой писатель, я все равно не поверил. Он был давним другом Матевосяна, а о друге чего не скажешь хорошего?
Я помню, как пришел домой с этой книгой, как раскрыл ее и увидел горы и снова орнамент и задумался, прежде чем начал читать. Я подумал о странной закономерности, которая впоследствии оказалась предубеждением, от которого я, впрочем, и теперь не отказываюсь: что большая литература возможна только у большого народа. Буквально большого — по численности населения, ну и, конечно, по исторической роли. Я не говорю о поэзии, она здесь не в счет. Поэзия — явление узко национальное, поскольку все переводы — фикция, в лучшем случае — сообщение о наличии, и в самом лучшем — стихи переводчика. Но проза-то безусловно переводима, что бы там ни возражали киты-полиглоты. И вот — явная такая зависимость. Уж кажется, что может быть индивидуальней художественного творчества. И, убежденный сторонник всяческого субъективизма и враг всяческой социальности, я вынужден признать и даже настаивать, что значительность художественного произведения тесно связана с общественной жизнью страны, с ее масштабом и широтой, с ее открытостью в общий мир, с тем местом, которое она занимает в общей судьбе человечества, — то есть с теми неохватно громоздкими понятиями, которых вправе чураться всякий нормальный художник.
Ведь если рассматривать только текущий момент, а всю предысторию брать как готовый итог, то, казалось бы, так: рождается гений, создает великое произведение, и поскольку он один за все времена, то и вся слава за все времена — ему одному. На самом же деле все совершенно не так. На пустом месте не рождаются гении, для этого мало папы и мамы, и формула «гений, рожденный народом», верна, как бы она нам ни резала слух. И даже если мы намеренно отбросим весь неосязаемый духовный слой, связующий художника и его народ, и остановимся лишь на тех воплощениях, которые доступны нашим органам чувств, то получим, по крайней мере, два необходимых условия. Во-первых, конечно, язык, его разработанность и готовность, его соответствие стилю и духу времени. Но во-вторых, и это не менее важно — степень проработанности общих мест и абсолютный уровень обобщенности. Чем более значительные понятия и образы входят в тот литературный пласт, от которого отталкивается писатель, тем сильнее толчок и тем выше полет. Но это не только от наличия средств выражения, а не менее — от наличия средств умолчания. Возможность сказать нечто следующее немыслима без возможности не говорить предыдущего. Значит, кто-то должен был сказать до тебя. И в России-то с этим как раз порядок. За двести лет профессиональной литературы у нас столько и так сказано, что мы можем молчать еще двести лет и сойдем за умных. Но в Армении… Язык прекрасен, я верю, слышал, читал. Но ведь не было сколь-нибудь значительной прозы, нет трамплина, нет пласта умолчания, надо с нуля, с начала, все по порядку. И значит, как бы ни был талантлив автор, его удел — провинциализм, пересказ, перепев с национальным орнаментом. И эта поверхностность и вторичность должна особенно резать глаза в переводе.
И вот я раскрыл эту книгу и начал читать, и забыл все свои рассуждения, и читал, сколько хватило сил, а утром проснулся с радостью и не сразу понял, откуда она: никаких приятных событий вроде бы не ожидалось. Но я увидел на стуле книгу и вспомнил, что радость моя имеет имя. Она называлась ГРАНТ МАТЕВОСЯН. И я шел потом к остановке автобуса и улыбался, как идиот, и все мне казалось, что портфель, где лежит моя книга, разогрет изнутри: я просто видел, как тают снежинки, падая на его поверхность. В метро, после каждого перехода, я протискивался вглубь, нетерпеливо, в угол, к стеклу двери, не прислоняться, открывал портфель на весу, прижимая коленом, и вытаскивал ее поскорее на свет…
Там было все, чего я так опасался: деревня в горах, и сын в институте, и старухи и старики, и такие все стали, и еще много вещей, так просто называемых, все там было — и все это было прекрасно. В этой книге присутствовали все компоненты высокой прозы: стиль, ритм, точность рисунка, подлинность персонажей; наверно, и композиция была и сюжет, если, начав читать любую повесть, невозможно было до конца оторваться. Но не в этих категориях хотелось о ней говорить. Любовь к людям и любовь к животным, и любовь к жизни и невозможно жить, любовь, люди и жизнь — может быть, так. Ни идеализации, ни стилизации, ни сгущения красок, ни разрежения, жизнь, казалось, не подверглась никакой обработке, мы получали ее из первых рук — но это были руки настоящего мастера и удивительного человека. Его юмор был ненавязчив и легок, но и не являлся вместе с тем оболочкой, а всегда содержался в глубине ситуации, как органическое свойство жизни. Его боль была лишена патетики и если порой прорывалась криком, то это был крик самого страдания, а не вопли автора по поводу чьих-то страданий. И безмерная грусть, и ясная мудрость, и глубокое чувство общей судьбы — в этой книге, не содержавшей авторской речи, ни абстракций, ни обобщений, также были свойствами жизни, людей, природы. И от этого, быть может, чувство приобщенности, пройдя через высокий эстетический взлет, не минуя его, а неся в себе, возвращалось потом обратно в жизнь, становилось снова — надеждой, родством, любовью… Нравилась ли мне эта книга? Я любил ее, она мне была родной. Тогда в метро, притиснутый в угол, спотыкаясь о собственный неуклюжий портфель, посапывая и улыбаясь украдкой и украдкой вытирая пальцем глаза, я так и сказал себе: родная книга.
Уже теперь, через несколько лет, намереваясь писать об Армении и о Гранте, я снова взял эту книгу в руки, но уже не с опаской, как в первый раз, а с нешуточным волнением и тревогой: мне было теперь что терять. И когда я прочел все повести, одну за другой, неотрывно, то эта, уже третья по счету радость была не меньшей, чем первые две. Я был счастлив тогда в Ереване — убедившись в том, что Грант Матевосян так же прекрасен, как его книга; и я был снова счастлив теперь в Москве, оттого что его книга также прекрасна, как он.
2
— Грант МатевОсян, Грант МатевОсян… Нет, — покачал головой Норик, — никогда не слышал.
— Да. Слышал. И даже. Читал, — твердо построил Тигран и поспешил перейти на другую тему.
— Прекрасный писатель! — волнуясь, сказал Акоп. Но взволновался он не по этому поводу, это было общее большое волнение, сопровождавшее как фон армянскую тему. Никакого эмоционального приращения не чувствовалось, а чувствовалось, что если отделить этот фон, то останется равнодушие и безразличие.
— Кому это вы такие эпитеты? — удивилась Сюзанна. — Ах, Матевосяну! — Уж она-то, конечно, читала. — Ну что вы, что вы… Да нет, хороший писатель. Но он не единственный, сейчас таких в Армении много.
— Знаете что, — я тихо киплю. — Знаете что… Мне трудно спорить, я тех, других, не читал. Но скажу вам одно: если вы правы хотя бы отчасти, если найдется хотя бы два или три такого же уровня, то значит, учитывая армянскую численность, вы — самая литературная страна в мире, и даже современной России до вас далеко!
— Вы слишком добры. — Она улыбается. — Вы слишком добры.
— Да-да, — говорит Сергей Асоян, — то, что ты рассказываешь, очень типично. Представь себе, что во всей Армении только несколько десятков читателей понимают по-настоящему, что такое Грант…
Сергей Асоян — мой новый друг, лучшая моя находка в Армении, и если я до сих пор о нем не сказал, то только оттого, что не было повода, а повод должен был быть — непременно литературный. Мы познакомились с ним в нашем гео-био, где он ведет литературный кружок, два раза в месяц, по четвергам, за полставки старшего лаборанта терпеливо и многократно в течение двух часов прослушивая список популярных армянских рифм.
— Давить их надо, мэнээсов этих, — сказал он мне в первый же вечер. — У них ведь, у гадов, принцип какой? Литература есть все, что не есть наука. Но и пятьдесят рублей не валяются…
Первая и естественная здесь характеристика: как говорит по-русски — по отношению к Сергею неуместна и смешна. До двадцати лет он не знал почти ни одного армянского слова и ни разу не был в Армении. Жил в Саратове, учился в Москве. (Москва не Минск, и это не повод к сближению. Но Набокова он тоже, конечно, читал…) Затем, после смерти своих обрусевших родителей, вдруг услышал голос крови, зов предков, притяжение родимой земли — и кинулся в Ереван. Но не просто приехал и начал жить, а выучил язык, воспринял историю, пророс интересами, друзьями, делами — стал армянином! Такой молодец.
Мы шатались с ним по вечернему городу, сидели за столиками на улице, пили кофе, пили шампанское (почему-то в кофейнях кроме кофе — только шампанское), упивались этим кофе и этим шампанским, но еще более упивались общностью взглядов по всем затрагиваемым вопросам. Под конец зашли к нему и зашли ко мне, обменялись статьями о Мандельштаме — даже тут совпадение. Его была напечатана в «Литературной Армении», моя — не скажу где…
Да, говорит Сергей, ты прав. Грант — удивительное явление. Он работает почти на пустом месте. И насчет необходимости умолчания — это я тоже с тобой согласен. Тем он и замечателен, Грант, что сумел впитать в себя русский литературный опыт, да, наверное, и не только русский, каким-то чудом пропустив его через армянский язык. И пишет он так, будто он вовсе не первый, будто была до него большая армянская проза, и не в древности, когда она действительно была, а вот теперь, сейчас, еще в прошлом году… А между тем и с самим языком тоже все далеко не просто. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, и трудно представить письменный оборот, который был бы неуместен в нашей устной речи. Русский образованный человек говорит на языке, бесконечно близком к литературному, расхождения в построении фраз, а тем более в словаре — незначительны. В армянском все не так. Здесь отсутствие в течение столетий большой прозы сказалось роковым образом. Литературный армянский — это язык поэзии, ею одной созданный и воспитанный. Он настолько приподнят над обыденной устной речью, что порой не совпадает с ней почти ни в одной конструкции. Вот тебе продиктовал твой Миша: Мек гават сурч. Но так не говорят, так только пишут. Мек — это литературное числительное, соответствующее ему разговорное — ми. И в кафе ты услышишь: Ми хат сурч — буквально: одну штуку кофе. Отчего он так ошибся? А он не ошибся. Ты записывал — он и продиктовал тебе письменное значение. Это вышло у него само собой. Такое различие в простейших словах, что уж говорить о более сложных!
И наш замечательный Грант, создавая новую армянскую прозу, совершает еще и чудовищную работу по сближению литературного и устного языков. Простым механическим переносом здесь, как ты можешь понять, не отделаешься. И как он это делает — просто чудо и тайна. Ясно одно: после него писать по-армянски будет легче. Как используют будущие армянские писатели все то, что завоюет для них Грант, это еще, конечно, вопрос, но уж сваливать им будет не на что, и значит, можно надеяться…
3
Наш общий с Грантом приятель, московский писатель, передал мне для Гранта кипу книг и журналов — из чисто альтруистических соображений: ему это было совершенно не нужно, во всяком случае, не к спеху. Но он знал мое к Матевосяну отношение и вот сделал мне такой подарок. Там были его собственные недавние сборники, журнал с повестью Матевосяна на английском, новая книга их друга алмаатинца, которую я успел за эти дни проглядеть, и еще что-то, уже не помню. Всю эту расползавшуюся кучу информации я то разделял на две половины и нес каждую в каждой руке, то соединял и брал под мышку, под правую, но спохватывался, что ведь надо будет здороваться, и тут же, торопясь, перекладывал под левую. Я узнал его сразу — как могло быть иначе! Он двигался стремительно и направленно, и хотя временами лавировал, огибая встречных, казалось, что путь его прям, как луч, что лавируют только встречные, его огибая. Я заметил его в шагах двадцати — и вот он уже отделен от меня пятью, тремя, одним человеком, и вот уже никто и ничто не препятствует нашему взаимному (по законам механики) с ним притяжению.
Он усмехнулся. Я молвил: «Спасибо» — И не нашел от волнения слов.— Пароль! — сказал Грант Матевосян и назвал имя нашего приятеля. Я только молча улыбнулся в ответ и протянул ему свободную руку.
Он был худ, высок, но довольно широкоплеч, и хотя руку мою пожимал легко, я почувствовал в нем сухую нервную силу. Большие глаза его были слегка красноваты, как бы немного воспалены, и от этого его умный и острый взгляд приобретал еще особую проницательность. Да и во всем его облике, с обтянутыми скулами, с нервными, хотя и полными губами, с высоким, накатывающим на темя лбом, чувствовалась какая-то воспаленность — именно это слово первым пришло мне в голову и осталось потом как главная характеристика.
«Если вы не торопитесь, — сказал он, — идемте». — И тут же круто повернул назад, и мы сразу начали с ним торопиться. Я не знаю, действительно ли мы спешим, или это обычная его походка. Я передаю ему журналы и книги. Он перебирает их на весу, на ходу. «Да-да, знаю, прекрасно, видел, читал, хорошо… О! У алмаатинца уже вышла книга. Наконец-то. Вам нравится?» — «Нет, — говорю я, — не нравится». — «Да, верно, плохая книга, — соглашается он, не меняя интонации, так, будто хвалит. — Он наш друг, я рад за него, но книга плохая. Он — как это? Холодно? — холоден. Он холодный писатель, а это нельзя, невозможно. Вы согласны?» Я с радостью соглашаюсь. Мы стремительно движемся куда-то, куда он знает. В ресторан? Скорее всего. Я уже предчувствую тот навязчивый шум и свет, свою беспомощность и принужденность, с трудом разогреваемый разговор, который, когда он наконец разогреется, разгонится и перестанет сам себя замечать, будет прерван официантом, и все сначала… И делать вид, что это тебе все равно, тянуть и варьировать последнюю фразу, а потом напиться и уже неважно…. Но потом — эта тяжба, кто будет платить, у нас обоих, конечно, без счета, полный карман, и все это пустяк, формальность, и все-таки я, нет, все-таки я, и он скажет официанту пару слов по-армянски, тот отведет мою руку в сторону, и я улыбнусь растерянно и облегченно…
— Куда мы идем? — спрашиваю я наконец.
— Как куда? Ко мне домой, — отвечает Грант. — Это рядом, вот тут, долго идти не надо.
Мы входим в подворотню большого нового дома. (Строительный хлам, доски, известка, ржавое железо.) «Вот видите, очень близко». В лифте он шутит с какой-то девушкой, мы выходим на площадку, дверь, звонок — и пожалуйста: квартира Гранта Матевосяна…
Мне очень трудно описать тот вечер, он всплывает в памяти какими-то пятнами, частями разговора, отдельными лицами, деталями, как говорят, интерьера. Но отчетливо я помню, что с начала до конца не оставляло меня ощущение радости и какого-то удобства, довольства, соответствия. Ни секунды не было мне неловко, ни на миг не почувствовал я себя чужим. Странная вещь, даже такое осталось чувство, будто все они, домашние Гранта, говорили между собой по-русски, хотя это, конечно, исключено. Его жена, ироничная и снисходительно-мягкая, говорила по-русски так же… как он. Но тут я проглатываю определение, потому что «плохо», «искаженно», «неграмотно» — все эти слова никак не подходят к речи Гранта и Виржинэ. Скорее я бы сказал, что они говорят измененно. Какая-то стойкая надъязыковая основа просвечивала сквозь эту неправильность, угадывалось лингвистическое чутье. И от этого порой казалось, что та или иная измененная фраза чуть ли не богаче исходной и чисто русской. Впрочем, дети — девочка лет на пять постарше мальчика — говорили по-русски почти без ошибок и то и дело поправляли родителей, и это как-то не выглядело назойливым.
Мы немного походили с Грантом по квартире. «Вот, — сказал он, — видишь, только что получил. Прекрасная квартира, четыре комнаты, только мечтать, живи и радуйся, отвратительно сделана, невозможно жить. Двери и окна не закрываются, плинтусы отходят, отделка отваливается, трубы текут, и в стенах щели шириной с палец. Вот мой кабинет. Кажется, слава Богу, наконец-то отдельный. Но два часа посижу — и верная ангина. Пять тысяч надо на ремонт, у меня их нет…»
Я подхожу к столу и, наконец, впервые вижу машинку с армянским шрифтом.
— Эта мне не нравится, — говорит Грант. — Прямой шрифт, слишком далекий. Вот как она печатает.
Он показывает рукопись.
— Моя новая книга. А вот другой экземпляр, это уже — на машинке с наклонным шрифтом, такая мне больше подходит…
Я зачем-то долго рассматриваю ряды крючковатых значков, врассыпную, беспомощно и бессистемно, пытаясь извлечь из них то, что они означают: слово. Но нет его, нет его здесь для меня! — Мой здравый смысл включается с большим опозданием, чтоб сказать мне об этом.
Я хотел бы выучить армянский, будьте добры. Нет, не в следующем году, не завтра — сейчас, сию минуту. Неужели никак нельзя? Очень нужно, пожалуйста! Невозможно? Немыслимо? Что за чушь, что за нелепость! И какое униженье, какая обида — на все времена, никогда не утешиться…
— А пишешь… ты… на какой? — спрашиваю я, приходя в себя.
— Нет-нет-нет! — мотает он головой. — Только рукой, иначе не могу. Другой ритм, другая проза. Рука должна сама…
И вдруг осекается и опускает голову.
— Ладно, что обо мне. Не стоит. Со мной все ясно.
Я смотрю с удивлением. Чего это он?
Мощный лоб, туго обтянутый кожей, развитые брови, лицо крупное, сужающееся к подбородку, твердая линия худых скул. По китайской системе «чтения лиц» — натура художественная, эмоциональная, с большой творческой энергией, но и с обостренным чувством трагического. На процветающего литератора он не похож. Ну и прекрасно. Но какая тяжесть у него на душе?
Неожиданно он вновь оживляется.
— Расскажи-ка лучше о нашем друге. Как он там? Часто его видишь? Здоров? Работает? Как настроение?
Грант берет в руки книгу, из тех, что я передал, листает.
— Вот это он написал блестяще. И это тоже прекрасная повесть. А эту (опять не меняя интонации) я не люблю, она формальна. Да! И последняя вещь замечательна. Я завидую ему, он счастливый человек. Он думает, просто думает — и это уже литература.
— Да, это точно. Но и ты тоже, — говорю я ему, с удовольствием, но и не без нажима приучая себя к этому ты. — Тут все дело в различном мышлении. Ты тоже просто думаешь — и это литература. Но мышление твое иного плана, иного характера, оно более предметно и материально. У тебя не мысль выражается в слове, а предмет: человек, животное, дерево, дом. Но поскольку они у тебя не пусты, а содержат душу, то и умершие в своей материальности, перешедшие в слово, выраженные в нем, они эту душу в нем сохраняют. Душа их бессмертна. Чего больше желать творцу?
— Не знаю, — говорит он. — Может быть, так… Все равно, положение мое безнадежно.
Опять! Этого я никак не понимаю. Мне импонирует его пессимизм, я не чувствую его основы. Ведь не может быть, чтобы он рассуждал и об этом в близких мне категориях. Такой мысли я и допустить не могу. Но оказывается, что именно так.
— Мое положение безнадежно, — повторяет Грант. — Последний одинокий писатель у крохотного, вымирающего народа, с вымирающей, уже мертвой культурой. Писатель без читателя. Я знаю почти всех своих читателей — лично, заочно или понаслышке. Мои читатели — это мои знакомые. Как ты думаешь, может писатель писать для своих знакомых?
Ужас. И полная для меня неожиданность — такое совпадение мыслей. Но одно дело — мои отвлеченные рассуждения, и совсем другое — его живая судьба. Так вот какую тяжесть — всю, без иллюзий и скидок — он несет в своей душе постоянно!
Что-то надо сказать, не просто посочувствовать, а как-то основательно возразить. И я хватаюсь за мысли Сергея о его, Гранта, месте в армянской прозе, о его значении для будущей литературы — и излагаю их, как могу. Он заметно светлеет.
— Кто его знает. Кто может предвидеть будущее? Все в руках Божьих. Надо работать, надо много работать, иного выхода у нас нет…
— Кстати, — говорю я, — насчет читателей. Уж в России-то у тебя их достаточно. И вполне незнакомых.
Я рассказываю ему о звонке из Киева. Он не скрывает своего удовольствия.
— И что, — смеется, — ты действительно сразу понял, о ком идет речь?
— Ни минуты не сомневался. Как я мог сомневаться, когда…
И тут я разворачиваю уже свой собственный большой дифирамб, несколько выходящий за рамки вкуса и меры, но уместный, я в этом убежден и сейчас, вполне уместный в разговоре с художникам, с человеком, написавшим книгу. За эту реализованную невозможность и за трату, превышающую все запасы, — велика ли за это любая плата? Любая мала, никакой не надо, но грех не поддержать, не сказать похвалы, если есть хоть малейшее к тому основание. Грех утаить, не вернуть хоть частицу тепла и света. И тут, как, впрочем, и всегда в жизни, лучше передать, чем недодать.
— К чему я все это? — говорю я Гранту. — К тому, что есть у тебя читатель в России, и значит, напрашивается вопрос: как ты относишься к переводам?
Матевосяна переводит Анаит Баяндур, переводит, по-моему, очень достойно. Хороший русский язык, подвижная, гибкая проза, с некоторой естественной стилизацией, но без злоупотребления инверсиями и акцентами.
— О-о, плохо! — восклицает Грант и закрывает лицо ладонями и не сразу отнимает их от лица. — Плохо, Юра, — повторяет он, — плохо! Я не знаю, мне трудно судить, может быть, иначе нельзя, быть может, то, что делает Анаит, — это как раз предел. Но ее книги — это ее книги, и если они нравятся русскому читателю, то я желаю ей всяких благ, но моя заслуга тут минимальна. Анаит — умница и талант. Но я пишу тяжело, у меня тяжелый, трудный язык, а она — скачет и резвится. Нет, это не я…
Такая опять неожиданность. И опять мне безумно приятен его максимализм. Все правильно, не может настоящий писатель чувствовать себя автором иноязычного текста. Конечно, это не он. И все же я вынужден сделать скидку, как-то снизить, перечислить его слова, воспринять их, скажем, метафорически. Потому что иначе выходит что же? Выходит, что я его не читал? У меня же есть чувство, и я ему доверяю, что я все-таки читал Гранта Матевосяна. Что при всей невозможности перевода, еще более на взгляд очевидной, чем невозможность первичного творчества, нечто главное, вложенное Грантом Матевосяном в его непонятную армянскую книгу, перешло ко мне из книги Анаит Баяндур. И быть может, лучшее подтверждение моей правоты — это то, что сидящий передо мной человек во всех основных чертах совпадает с тем образом автора, который возник у меня при чтении. Я понимаю, что просто мне повезло, что это не такой уж частый случай, но он важен мне не только сам по себе, а еще того больше — как явление, которое если и не устанавливает закономерности, то хотя бы подрывает другой, противоположный ряд.
Помните, как у Сэлинджера рассуждает пятнадцатилетний Холден:
…А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца — так сразу подумаешь: хорошо, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом и чтобы с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется. Но это редко бывает.
Это редко бывает, Холден прав, но еще реже бывает, что, если даже случилось такое и ты захотел позвонить писателю, ты услышишь тот самый голос, который хотел услышать. И если ты с этим человеком когда-нибудь встретишься, то еще неизвестно, захочешь ли подружиться. Пока Аполлон не требует поэта, поэт бывает сущим чудовищем. И даже существует такое мнение, что это закономерность и необходимость и чуть ли даже не залог таланта, уж во всяком случае непременное следствие. И что чем выше и значительней творчество, тем дальше в авторе личность творца отстоит от личности человека.
Не дай-то Бог, чтобы все это было так!
Я не верю в талант как способность сокрытия и трансформации и не верю в творчество как искупление жизни. Я не знаю, чем искупается жизнь, быть может, ничем, но только не творчеством. Острота чувств, чистота помыслов, доброта, ум и, главное, совесть не могут рождаться лишь в акте творчества и жить лишь в воображаемом мире. Они исходно должны существовать в человеке, до того, как он сел за письменный стол. Так я хочу и так я верю.
И если я прочел и полюбил какую-то книгу, что означает — полюбил ее автора, то есть тот его образ, который возник у меня при чтении, то я уверен, что полюбил бы его и в жизни, захотел бы, чтоб он стал моим лучшим другом и чтобы я мог ему позвонить, когда захочу. А если бы я разочаровался после этого, то это бы значило, что я плохо читал.
Грант Матевосян был именно тот писатель, которому я хотел позвонить.
И вот ты сидишь передо мной, Грант, и я рад и благодарен тебе бесконечно и, что бы ни было впредь, буду всегда благодарен. Ты, сам не зная того, поддержал меня в очень трудный момент, потому что, видишь ли, Грант, одно дело верить, другое — видеть и знать…
4
Нас зовут в гостиную, мы переходим, я сажусь на тахту за журнальный столик, и с этого момента все мое зрение и все внимание ограничены узким конусом высвечиваемого пространства, куда вмещается лишь этот столик — и Грант, сидящий напротив. Больше я ничего не вижу, ни размеров комнаты, ни обстановки, ни сколько окон, ни что на стенах. Гранту дали в руки кофейную мельницу (в Ереване у всех — только ручные), он мелет кофе и задает мне первый серьезный вопрос: чем я занимаюсь, кто по профессии. Что мне сказать? Я не знаю, насколько ему это важно, скорее всего, простая вежливость да еще — уточнение координат, чтоб яснее видеть, к кому обращаешься. Но мне-то, мне-то как раз это важно безумно! И не только вообще, как суть дела, но еще и потому, что Грант Матевосян — это, если быть до конца откровенным, тот единственный человек, к которому я ехал из Москвы в Армению, я — подлинный, я — настоящий, а не тот, за кого я себя выдаю. И вот я сижу перед ним и молчу. Что мне сказать?
— Инженер… — вяло говорю я Гранту, и больше мне не хочется разговаривать. Все. Хоть сейчас домой. И в Москву, а не к Цогик Хореновне.
Но Грант смотрит мне прямо в глаза, воспаленно и остро, и, как бы не слыша моего ответа, задает следующий вопрос.
— Скажи, Юра, — спрашивает Грант, — у тебя есть публикации? Вышла книга?
Облегчение, но и новая сложность. Как в том анекдоте про милиционера: книга у него уже есть… Мне смертельно не хочется отвечать отрицательно. Пропасть между этими «да» и «нет», даже для умного человека, знающего истинную ценность вещам. Но с другой стороны, можно ли с ним говорить о тех публикациях? Тот мир — существует ли для него? Вот она, культурно-языковая граница. Ведь я не сомневался бы в разговоре с русским писателем. Что с писателем — с любым нормальным человеком. Но здесь, в Армении… кто их знает? Вдруг вот сейчас я скажу… и увижу холод и отчужденность и даже что-то вроде опаски. Страшно подумать. И я отвечаю:
— Нет… Практически нет.
Грант улыбается, трясет головой:
— Ну да, ну да…
Кажется, он понял гораздо больше, чем я сказал. Вообще, несмотря на скованность собственной речи, понимает он, должно быть, абсолютно все, и я это чувствую и становлюсь свободнее и только теперь отмечаю, что вначале невольно упрощал построение фраз. Виржинэ приносит нам кофе. Грант открывает коньяк, кивает жене: да-да, немного, только за встречу. Он наливает себе вполовину, мне — вдвое, и я не отказываюсь, хотя чувствую, что легко могу опьянеть, при таком возбуждении. Отчего-то мне очень хочется есть, но, конечно, какая сейчас еда, в одиннадцать вечера, — даже если это дом, где кормят. А таков ли еще в действительности этот дом, мне бы тоже очень хотелось узнать…
5
Это ведь не случайная характеристика, не просто одно из возможных качеств, это два различных мира: дом, где кормят, и дом, где не кормят. Когда мы, в нашей полуголодной стране, сажаем гостя за стол, едва он снимает пальто, и выкладываем все, что есть в холодильнике, то это, конечно, национальный ритуал — но это и выражение доброжелательства, предельно доступное в данный момент, и приглашение к раскованности и простоте.
Кормить входящего — простонародный обычай. Я имею в виду не образовательный ценз, а общую простоту уклада, открытость и естественность отношений, а если ценз, то скорее имущественный. Наблюдается странная закономерность, с далеко не частыми исключениями: чем богаче дом, в который идешь, тем меньше вероятность, что тебя пригласят к столу. То ли все богатые считают копейку, оттого они и богатые, то ли по своим материальным возможностям чувствуют себя уже на Западе и усваивают именно этот его обычай, то ли просто теряются — и такая приходит сумасшедшая мысль — теряются от неограниченных своих возможностей и просто не знают, чем угостить. «Скажите честно, вы голодны? У меня, как назло, шаром покати». Так говорят наиболее совестливые, и означает это: «Извините, такой уж я жмот и лентяй». И еще это означает, что общение будет светское. Никаких откровений и излияний. Обсудим международное положение, деловые вопросы, если они имеются, затем — пару легких сплетен и политических анекдотов без мата, и расстанемся теми же, кем повстречались. И вы честно отвечаете, что не голодны, совершенно, ни капельки, абсолютно, никогда не были и не будете, так наелись, что уже навсегда…
В лучшем случае вам предлагают чай. С тортом, который вы принесли, потому что бутылку было неловко, вроде как напрашиваешься на закуску. Во время предшествующей беседы много раз и со значением повторяется: «Сейчас будет чай!» Вы не знаете, то ли надо громко радоваться, то ли отказываться, то ли не замечать, и исполняете все это по очереди. Затем вас, наконец, зовут, вы переходите в большую гостиную, где ваш торт затерялся на огромной площади нарядного стола, среди бесчисленных тарелочек, блюдечек, чашечек, ложечек, вилочек и еще каких-то орудий культуры быта. Нет, торт не одинок, неправда, как вы могли такое подумать. Симметрично присовокуплены две прекрасные вазочки, одна с сахаром — конечно, рафинад, чтоб лежал, как камушек, в холодном чае, а чай-то уж точно будет холодным, — и другая, с декоративными карамельками. Чай приносят с кухни, и он, конечно, холодный, зато и некрепкий. Рафинад рукой безусловно нельзя, а ложечкой трудно, а специальная механическая блестящая лапа — ну ее к дьяволу, лучше не трогать. Значит, пьем несладкий. Торт тоже — неизвестно, как его есть, и лучше бы вовсе не есть: противный и мокрый. И вообще, ненавижу эти торты, себе бы домой никогда не купил, просто нечего было больше придумать. Вам предлагают налить еще, и вы соглашаетесь, не сидеть же вот так над пустой чашкой. Но это — самоубийственная уступчивость, потому что вам вовсе не хочется чаю, а даже совсем напротив. Подлость! всегда настигает в такой принужденности, так что и первая чашка была уже лишней, а вторая может стать роковой… И когда вы, раскланявшись, наконец вылетаете и мчитесь к метро — то кроме главного, доминирующего желания, вы испытываете и еще кое-что. Вам хочется кинуть камень в стекло киоска, или взять и плюнуть в лицо прохожему, или хотя бы встать и завыть по-волчьи.
Вы скажете, что все это преувеличено, что можно и без всякой еды прекрасно общаться с людьми и, с другой стороны, помирать с тоски за обильной жратвой. Но это возражение так формально и так поверхностно, что я даже не хочу его обсуждать. Ясно ведь, о чем разговор, так чего ж занудствовать?
6
Дом Гранта Матевосяна был, конечно же, домом, где кормят, и даже в одиннадцать вечера. Мы выпили с Грантом по рюмке, запили кофе, и тут принесли нам курицу с рисом, и это было то, о чем только можно мечтать. И вот мы сидим и едим прямо так, за журнальным столиком, разговариваем и попиваем коньяк. «Хорошая курица, — говорит Виржинэ, — его мама из деревни прислала» — и я вспоминаю повесть о том, как мать везет продукты горожанину-сыну, кур, мацуна и шесть сотен яиц, чтоб не сохли мозги от умственной работы. «Да-да, — смеется Виржинэ, — и мацун тоже прислала. Вы, наверное, не пробовали настоящий мацун, в магазинах — это вообще не мацун, поешьте, я потом обязательно дам вам попробовать. Нет-нет, я сама уже ничего не могу, мы ведь ужинали, но Грант за компанию может еще, такой прожорливый, куда только все уходит…»
Мы говорим о всяком, о разном, и в частности о деревенской прозе, к которой младенческая наша критика, естественно, причисляет и Гранта. Мы сходимся на том, что среди русских «деревенщиков» два-три заслуживают уважения, это талантливые и честные люди, по крайней мере в некоторых своих произведениях, по крайней мере в одном, и на том спасибо. Но все это не имеет никакого отношения к Гранту.
— Хорошие писатели, — говорит Грант. — Я желаю им всяких успехов. И завидую им: они счастливые люди…
Та же формула, что и о нашем друге, но уже совершенно иной смысл. Нет, все это не имеет к нему отношения, и не только потому, что русская деревня мало похожа на армянскую деревню, тут различия более глубокие, и литературные и человеческие.
Только прочитав повести Гранта, я понял, что прежнее мое отношение к современной деревенской прозе не было свободно от известной скидки. Правда жизни, выступавшая как правда поступков и слов, — вот предел, к которому могли стремиться и которого порой достигали здесь авторы. И казалось, что этот предел продиктован самим материалом, что чего ж еще требовать от писателя, когда вот она, деревенская жизнь, не приукрашенная ударническими бреднями, патриотическим бескорыстием, колхозным изобилием и отеческой мудростью секретаря обкома, а как есть, тяжелая до неподъемности, непонятно чем преодолеваемая, одной лишь непостижимой крестьянской живучестью. Но на этом и кончалась непостижимость, здесь обрывался путь в бесконечные глубины души. Эту безмерную глубину и сложность, эту ускользающую тонкость душевных движений в «человеке земли», его духовную полноценность, безо всяких, пусть даже лестных скидок на естественность и отсутствие рефлексии — Грант Матевосян показал впервые.
Я не устану и не забуду выражать благодарность нашим лучшим деревенщикам за правду жизни, так непросто добываемую, за правду труда и страдания. Но Грант Матевосян — писатель другой категории, и нельзя относить его к этой. Он просто принципиально занят другим делом. Подлинность поступков и взаимодействий у него как бы подразумевается сама собой, она безусловна и не есть предмет разговора. А предмет разговора Матевосяна с читателем — это внутреннее состояние его героя: настроение, восприятие, ощущение, мотивация — во всех тонкостях этих понятий, именно во всех, ни больше, ни меньше, поскольку есть постоянное ощущение их неуловимости и бесконечности.
Нам, например, при чтении важно почувствовать, что автор знает несравнимо больше, чем говорит, что он знает попросту все о данном предмете. Но еще важнее для нас уверенность, что автор чувствует происходящее, и не только в том смысле, что лично причастен и кровно заинтересован, но чувствует, опять-таки, всё — все нюансы, все стороны, всю многосмысленность действия и весь бесконечный спектр реальных и возможных ощущений героя. Матевосян именно такой автор. Текучая, подвижная емкость его прозы вмещает не только сугубую предметность, свободную от всякой идеализации, ощутимую до озноба, до шершавости земли, до температуры тела и тембра голоса, но и нечто неизмеримо большее: душу человека, его божественную сущность. В тех сферах ничего нельзя утверждать, а тем более ни на чем нельзя настаивать, но, при всем отсутствии в прозе Матевосяна провозглашенной, декларированной духовности, только такими непривычными словами хочется о ней говорить: Божий человек, Божий мир…
— Я желаю им всяких успехов. И завидую им: они счастливые люди.
Мне кажется, я понимаю, что он хочет сказать. Здесь нет двусмысленности и подначки, наоборот, спокойная доброжелательность и привычная жалоба на сложность своей судьбы, на трудности собственного пути, не им самим, по сути, избранного…
Мы немного перебираем современных писателей, и мнения наши в основном сходятся. Грант называет двух зарубежных армян, но я их, конечно, не знаю; затем Сарояна, и я делаю вид, что знаю, и тут же прощаю себе эту ложь, потому что это лучше, чем так его огорчить. Про себя же я думаю, что, значит, верно — армянский писатель, кому же судить, как не Гранту…
7
Мы как-то переходим на детские книги, а с них — на детей. А дети — вот они, давно уже тут как тут. Двенадцать часов, и завтра обоим в школу с утра, а они сидят как ни в чем ни бывало и очень внимательно слушают. И даже участвуют, поправляя время от времени то папу, то маму. Виржинэ сама учительница в школе, армянский язык и литература, видимо, она знает цену грамматике и повторяет слова с удовольствием, улыбаясь и согласно кивая детям, но немного сердится, когда они поправляют отца. Мне особенно приятно, что тоже двое и примерно такая же разница в возрасте. Ко всем моим чувствам прибавляется и это: солидарность с родителями, для которых дети — самое главное в жизни; все-таки дети, а потом уже все остальное. Я чувствую, что здесь это именно так, да Грант и говорит мне об этом прямо — тихонько и коротко, чтоб они не услышали.
Дети учатся в армянской школе с английским уклоном — очень мне нравится это сочетание. И вообще, хорошо, что не в русской, как это принято у здешних новоиспеченных интеллигентов. Мне рассказывал Сергей, что это просто бедствие для Армении. Детей стараются отдавать только в русские школы, потому что это облегчает дальнейшую учебу и все последующее продвижение. Все равно ведь они в быту разговаривают по-армянски и, значит, будут знать два языка. На самом деле получается наоборот. В русских школах преподают с армянским акцентом, а в быту не читают и не пишут по-армянски, и люди выходят в конце концов полуграмотные, не приобщенные ни к тому, ни к другому, по сути — люди без языка. Все это, видимо, знают и учитывают в этом доме.
Армянская школа с английском уклоном… Говорят, армяне способны к языкам, армянская грамматика развита и сложна, семь падежей, восемь склонений, а фонетика включает звуки почти всех европейских словарей. Тридцать девять букв в алфавите — недаром так много!
С английским уклоном… Может быть, и Вильям Сароян — армянский писатель с английским уклоном? Или английский писатель с армянским уклоном? Нет, тогда уже так: американский писатель с английским языком и армянским уклоном. С Грантом все-таки проще, никаких уклонов, чистый армянин.
Ну а я кто такой?
И тут он как раз об этом спрашивает, что-то задержался, давно бы пора. Я отвечаю без малейшего вздрога, хотя и отмечаю опять эту легкость, спасибо, в который раз мне так просто это сказать в Армении, гораздо проще и легче, чем даже сейчас написать… Грант улыбается, он приветствует меня еще раз, уже в новом качестве. Он говорит о сходстве культур и судеб, о корнях, о древности, о трагизме, о стойкости национального духа. Тема эта для меня не нова, но он излагает ее так вдохновенно, — и это ведь все на чужом языке! — что я чувствую себя не на шутку захваченным. Я смотрю на прекрасное его лицо и думаю о том постоянном внутреннем пламени, которое сжигает этого человека. Здоров ли он физически? На вид крепок. Крестьянин в детстве, спортсмен в студенчестве. По некоторым репликам, брошенным по-русски, по еще каким-то мелким признакам чувствуется, что все-таки не вполне. Человек, живущий такой самоотдачей, не может быть абсолютно здоров, чего я хочу? А хочу я немногого: пусть он будет настолько болезнен, чтоб с высокой остротой воспринимать окружающее, но и настолько здоров, чтобы жить долго и без страданий…
— И христианство! — говорит он. — Наше христианство — почти из первых рук. Армянская церковь, как, быть может, никакая другая, сохранила библейскую традицию и ветхозаветную преемственность. Это видно даже по внешним атрибутам, по обряду — ты еще обратишь внимание.
Он спрашивает об общих моих впечатлениях. Я говорю ему примерно то же, что говорил Володе. Ереван — не нравится. («Ужасный город! — он хватается за голову. — Ужасный, ужасный! Это просто вообще не Армения».) Но армяне мне нравятся, и даже очень. Нет, я встречал уже и глупых, и злых, и лживых. Но это не меняет моего впечатления. Не могу точно сказать, в чем тут дело, все слова, какие скажу, будут не те. Ну, может быть, так, что есть чувство общения с чем-то цельным, как бы с человеком, в котором присутствуют разные качества, и дурные и добрые, но в общем-то это человек замечательный, благородный, умный, одухотворенный. Странная вещь, я не чувствую ни малейшей отчужденности. Наоборот, я, мне кажется, во всех, даже самых незначительных проявлениях, и даже не в самых лучших, угадываю душу этого народа, его общенациональную личность, и она бесконечно мне импонирует…
Он кивает, да-да, он понимает меня. Я спрашиваю Гранта, где же Армения, если не в Ереване, то где? Быть может, в Кировакане? Нет, кроме шуток, где же? Очевидно, в горах, в деревне?
— Не знаю, — говорит он задумчиво. — Я теперь и не знаю, где Армения. Да, скорее была в деревне, дольше всего держалась. Но деревня тоже испортилась, все потеряла. Она стала такой же пустой мещанкой, как город. Нет Армении, Юра, где ни ищи, есть только наша тоска по Армении!
— Но ведь это везде, — возражаю я. — Утрата первородства, потеря облика, это повсеместно, да в той же России…
— Нет! — он мотает головой. — Не везде одинаково. Для армян, как ни для одной нации в мире, оказался губительным отказ от религии. Христианство для армян было всем, а не просто многим. Ведь Армения — первая страна в мире, где христианство стало государственной религией. Армяне как будто только ее и ждали, были к ней абсолютно готовы. Церковь стала государством, школой, наукой, литературой, культурой. Божий храм оставался для армянина духовным и организующим центром даже тогда, когда он утратил это значение для всех других христианских народов. Даже в национальной жизни поляков церковь не играла такой исключительной роли. Но поляки с честью пронесли свое католичество через все катаклизмы, а армяне оказались духовно слабее, не выдержали, отказались — и остались ни с чем. И кому-кому, а им это с рук не сойдет. Я не знаю, не знаю, сохранимся ли мы теперь как народ, только чудо нас может спасти…
Он некоторое время смотрит куда-то в сторону, а когда снова поворачивает ко мне лицо, то слезы, настоящие слезы стоят у него в глазах. Что за человек!
— Ну-ну, сел на своего конька, — ласково ворчит Виржинэ. — Ешьте, пожалуйста, он вас заговорит, эта тема у него неисчерпаема.
Я пытаюсь как-то возразить Гранту, я говорю о тайне национального духа, об удивительной его стойкости и изворотливости. Ведь вот же он говорил о родстве судеб армян и евреев, а евреи как раз — хрестоматийный пример сохранности нации вопреки всем разрушительным факторам. Хотя у евреев, в отличие от армян, по сути, нет современной национальной культуры… «Как так можно говорить!» — вскидывается Грант, и теперь уже он меня утешает, хотя не могу сказать, что я очень расстроен. Разговор становится немного вчерашним. Мы оба сообщаем друг другу то, что подумали когда-то прежде и даже сказали давно и не раз. Грант замечает это не позже меня, он останавливается и наполняет рюмки.
— Выпьем, Юра, — говорит он, — выпьем за Литературу! Она одна осталась еще в этом страшном мире, единственное наше прибежище и утешение.
Мы пьем, и он расспрашивает меня, где я был, что видел.
— Машину! — хлопает он себя по колену. — Надо машину. А где ее взять? Мне сейчас ну просто некого попросить. Без машины разве много увидишь?
— Ничего, — говорю я, — не волнуйся, мне так даже лучше. В машине ездить — как раз ничего не увидишь. Я предпочитаю автобус. Меньше удобств, меньше подвижности, зато насколько больше узнаешь о людях. То ты их видишь как на экране, из окон отдельного комфортабельного мирка, и даже если выходишь на свет Божий, то чувствуешь этот свой мирок позади себя, и поглядываешь на него непременно, хотя бы внутренним взором, и всегда готов вернуться назад. И везде ты временный гость, посторонний зритель, никакие внешние условия для тебя не обязательны, ты и не воспринимаешь их всерьез, потому что дом твой — вот он, поблескивает на обочине. А то ты купил билет и поехал, как все, как какой-нибудь там старичок в шляпе или женщина с ребенком, ты живешь одной с ними жизнью, и даже если не перемолвишься словом, ощущение общности у тебя останется, ты их уже как бы отчасти понял. И если ты пойдешь погулять на остановке, то между тобой и местными жителями тоже будет не такая большая дистанция, они вполне могли бы сойти с автобуса, а ты бы мог сидеть на скамейке. А главное, уж если дом твой там, далеко, ты оставил его и приехал сюда, то ты действительно здесь и больше нигде, и нет у тебя никакой лазейки или уловки. Ты не просто смотришь и слушаешь, ты здесь живешь…
— Да-да. И все-таки, — смеется Грант, — была бы машина, ты бы не отказался.
— Это, — говорю я, — другой вопрос. Не отказался бы, конечно, слаб человек. А у тебя, значит, машины нет. А была?
— Не было и никогда не будет.
Я не спрашиваю почему, но согласно подхватываю:
— И не надо! И ни в ноем случае!
Он озадачен, смотрит с живым любопытством.
— Ну-ка, а ты почему так думаешь?
— Да все потому же, — говорю я, — все потому же. Есть предел удаленности от общества, в котором живешь, и этот предел — именно здесь. Автомобиль — это не просто имущество, пусть дорогое. Это материализованный итог и символ, это возможность в стране невозможностей, воплощенная мечта народных масс, вожделенная Шинель советского быта. Всякий достигший — уже иностранец, не здешний житель, не наш человек. И для писателя это не может пройти бесследно. Я всерьез думаю, что многими ненаписанными произведениями, а также написанными, но не теми, мы обязаны собственному автомобилю…
— Интересно, — улыбается Грант. — Но уж слишком серьезно. А сам ты, будь у тебя деньги, неужели удержался бы, не купил?
— Купил бы, наверно, что я, лучше других? Я же говорю, слаб человек, это и грустно.
— Ну что ж, если ты и прав, то не вполне. Во всяком случае, есть исключения. Ну, одно уж — наверняка.
Он приводит пример, хорошо известный нам обоим.
— Да, это так, — говорю я. — И все-таки. Не знаю, — говорю я, — может быть, в данном случае. И вообще иногда. Хотелось бы. Дай-то Бог!
Детям просто катастрофически пора спать, они зевают во весь рот, но не трогаются с места, и выходит, что все это из-за меня. Я, конечно, польщен в какой-то степени, но ведь и совесть надо иметь. Когда я уже стою и готов к выходу, Виржинэ приносит мне миску мацуна. «Это вы непременно должны попробовать, это тоже от мамы, прямо из деревни, больше ведь вам нигде не доведется». Есть надо ложкой, густая масса, и действительно, очень вкусно, ничего общего с магазинной кислятиной. Я дохлебываю уже на ходу и тянусь к двери. Родители отдают последние указания детям, я различаю многократные повторы одних и тех же оборотов — как это знакомо! — и спускаются меня проводить. Мы проходим втроем по нашей общей улице, ярко светят звезды и фонари, а может быть, только звезды, но как же тогда фонари? — и останавливаемся у моего подъезда.
— Передай нашему другу, — говорит на прощанье Грант, — что повесть, которую я пишу, называется «Божий свет — свет моей Совести».
— Он у нас теперь — как Лев Толстой, — смеется Виржинэ. Она в черном пиджаке Гранта, он в одной белой рубахе, бережно обнимает ее за плечи. — Он теперь у нас как Лев Толстой. Пишет на темы морали и называет полными предложениями.
— Обязательно передай, — серьезно повторяет Грант. — Потому что, когда вы ее прочтете, она будет называться совсем иначе. А на самом деле именно так: «Божий свет — свет моей Совести».
ГЛАВА ШЕСТАЯ Тоска по Армении
1
Я знал заранее, что встреча с Матевосяном будет центром моей ереванской жизни, так я был настроен, и так оно, конечно, и вышло. Все дальнейшее и в дальнейшем — все окружающее воспринимал я как бы под знаком Гранта, и если что-нибудь мне не нравилось, то я говорил себе: «А все-таки — Грант!», — а если что-нибудь нравилось, то думал: «Ну конечно, как же иначе, вот ведь и Грант!..»
Я еще позвонил ему пару раз, но как-то все опять неудачно, то ли не было его, то ли был он занят, и я решил, что, видимо, и не надо. Не надо вытягивать у судьбы больше, чем она сама отпускает, вытянешь силой — окажется вовсе не то, что хотел, а уже оно будет в руках, никуда не денешь…
Повседневная наша жизнь тоже пошла иначе. Мы решили с Олегом работать порознь, он — на халтуре в химиконическом, я — на госслужбе в гео-био, у Миши. Это очень повысило мой жизненный тонус, не говоря о производительности труда. Мы расставались утром на углу у булочной и шли в разные стороны, и это было прекрасно. Я шел прямо или сворачивал — не обсуждая, направо, налево, не решая вообще никаких вопросов, а просто шел, как мне хотелось, ни на что не отвлекая своего внимания, ни на вызванные, ни на выбранные разговоры, смотрел по сторонам, вбирал, и чувствовал, и думал сколько было душе угодно. Погода стояла совсем чудесная, днем в пиджаке становилось жарко, утром же дул резковатый ветерок, приятно освежавший и оживлявший. «Ветер с гор» — хотелось о нем сказать, да, наверное, он и был с гор, откуда же еще, когда кругом горы? И конечно, на работу я не спешил, звонил Мише из автомата, чтобы он запустил очередную кривую, и, имея в запасе два-три часа, со спокойной совестью уплывал налево, что, впрочем, могло означать и направо. Прогуливаясь, я проходил все знакомые улицы, это я еще как бы шел куда-то, затем, оказавшись на незнакомых, уже прогуливался просто так, и это и было моей целью. Такая необязательность и беззаботность, не то чтобы мне не слишком привычная, но просто не помню, когда и испытанная, освежала душу не хуже горного ветра. Непонятная речь прохожих не вызывала тоски отчуждения, — я ведь знал, что могу спросить и меня поймут, — наоборот, подчеркивала исключительность моего состояния. Иногда лишь я вдруг удивлялся: как это все вокруг говорят, ну о чем бы это можно — непрерывно и в стольких лицах? Но тут же, отодвигаясь, представлял себе холодно, о чем обычно говорят в толпе, и искренне радовался, что не понимаю ни слова. Иногда я поглядывал на часы, все же и тут не так уж свободен, вот прошлялся уже половину времени и надо обратно, если я не хочу в автобус. Я не хочу.
Открытых магазинов еще мало, и, разнообразя обратный путь, я захожу в обувные торговые павильончики местной фирмы «Масис». Эта фирма проявляет чудеса изворотливости: голландские подошвы, армянский верх, все это склеено русским клеем, и если не рассматривать чересчур пристально, то просто французская модельная обувь. Цены, разумеется, соответствуют. Но это и правильно, чего стесняться. Любопытно другое: как им удалось провести эту вольницу, обойти законы и добиться новых. Ведь вот заходишь в магазин — и как будто ты в каком-нибудь Загребе. Тебе с готовностью покажут все, что имеется, а если нет твоего размера, то зайди завтра, нет, послезавтра, в то же время, всего доброго… Дух запретного предпринимательства витает над советской Арменией. Вот еще и киоски галантереи, тоже с подозрительной какой-то продукцией, явно получастного происхождения. Но тут уж качеством не похвалишься, рассчитано на неразборчивых провинциалов, на темных кормильцев-поильцев с гор…
Проходя мимо этих киосков и лавочек, я подумал о странном таком противоречии. Я ведь не откуда-нибудь со стороны, я с детства, по самым близким контактам, знаю всех этих честных деляг, добывающих свои законные тысячи в обход беспардонных наших законов. Ну не армян — евреев, русских, какая разница. Я вполне им сочувствую, я их понимаю — но не выдерживаю с ними никакого общения. Был момент, когда это меня встревожило. С чего это мне быть таким чистоплюем? Я стал при всех удобных случаях приглядываться то к одному, то к другому, уже как бы сбоку, под новым ракурсом, и обнаружил, что все они сплошь — уроды. Ухватываясь за шестеренку стальной машины, вращая ее тайно в другую сторону, они калечат себя еще больше, чем те, кто бездумно движется в общем кружении. И дело тут не в обычном свойстве противостояния, неизбежно роднящего с тем, кому противостоишь. Дело в том, что подпольные коммерсанты вообще ничему не противостоят, а совсем наоборот, активно используют все то, что мы терпим сокрушенно и бездеятельно. Поговорите с любым из этих преступников, с ежедневным нарушителем и подпольщиком — вы увидите, что он правоверен, как старший сержант, и благонадежен, как начальник отдела кадров, а если где-то и критикнёт, то сделает это так невпопад и по-свински, что вам захочется тут же вступиться за бедную многострадальную вашу родину, и вы выпалите что-нибудь несусветное и будете долго метать этот бисер под насмешливое и снисходительное хрюканье…
И вот я гуляю по Еревану и на каждом шагу — в павильоне, в киоске, в буфете, в кафе, в раскрытых дверях кустарных цехов, бесчисленных сарайчиков, разбросанных по городу, — вижу признаки частной инициативы. Дух разрешенного предпринимательства витает над советской Арменией. И казалось бы, я должен его приветствовать, я и приветствую, как могу, но — абстрактно, отвлеченно, как категорию, а не как совокупность определенных людей. Людям же этим — я не доверяю. Я уже не раз обжигался и не испытываю к ним никакой симпатии, и хотел бы, да не могу. И кто виноват? Россия-матушка, крепка твоя лапушка… Ах ты мать наша, мать, думаю я, ты как та безумная баба в рассказе у Мопассана: если и почувствуешь в своем чреве нечто живое и теплое, то так его сдавишь еще до рождения, что родишь заведомого урода. Будь ты неладна…
2
Когда я возвращаюсь на центральную улицу, у меня еще остается время, еще не пора, не пора. Я, собственно, знал, что оно останется, и нарочно себя торопил и обманывал и теперь еще минут сорок могу посидеть в кафе, на встроенной в толщу домов открытой площадке, попить кофе, почитать, подумать, поглазеть на окружающих и на прохожих. Время уже — после десяти, и прохожие на улицах и посетители кафе — это главным образом интеллигенты, в большинстве — люди свободных профессий. Но это я только могу догадываться, а такой смены лиц по часам, как в Москве, от похмельных рабочих к деловитым технарям, а от них — к неторопливым научным работникам, среди которых, бывает, встретишь иногда и лицо — такой смены здесь не отметишь, во всяком случае, нужна привычка. Здесь лицо, и порой просто поразительное, можно увидеть у мусорщика, у дорожного рабочего, у продавца огурцов. И вот стой и смотри на такого и мучайся: то ли и внутри он такой и в свободное время читает Канта и пишет музыку, то ли это бессмертный и щедрый дух мудрого, книжного и крепкого верой народа осенил его по ошибке… А быть может еще, что нет никакого Канта, черта ли в Канте, но нет и ошибки, и этот человек исполнен простых и великих достоинств, как, например, добрейшая наша Цогик Хореновна?..
Я сижу в углу за одиноким столиком, поглядываю то вокруг, то в раскрытую рукопись. Здесь, на таком удалении от тех мест, где это было написано, возникает новый, остраненный взгляд. Здесь текст как бы более беззащитен, привычная окружающая среда не образует вокруг него оболочки, и всякое слово есть только то, что оно есть, и кажется, что любая неточность вопиет со страницы и требует вычерка или замены. Полезная вещь — перемена мест, жаль, что она нам так мало доступна…
Все столики заняты, за каждым — по двое, по трое, но ко мне никто не подсаживается. Видят, что работает человек, так чего же мешать? Кажется, проще простого, яснее ясного. Однако сядь-ка вот так у себя, в родимой столице. Сколько найдется рыл, чтобы влезть тебе в душу! Да и где-то ты там посидишь, с одной чашечкой за пятнадцать копеек — да на сорок минут?
Но сорок минут истекают, и я встаю с сожалением. Спасибо, мне было у вас хорошо, я еще надеюсь вернуться.
В автобусе тоже неплохо, когда ты один и нет вынужденных разговоров. Грех говорить, Олег — замечательный парень, и порой я просто его люблю, но сколько же можно… В детстве кажется, что скука — это когда ты один и нечего делать. С годами все отчетливей понимаешь, что делать чего — всегда есть, а скука — это вынужденное общение. Зрелость наступает с того момента, когда начинаешь избегать знакомых на улице. Когда в первый раз, заметив в толпе сотрудника или соседа, ты не бросился к нему с радостным возгласом, а постарался незаметно отвернуться и смыться — вот это и был момент наступления зрелости. Иногда в связи с этим я думаю: а не в том ли отличие от нас Запада, не взрослее ли он попросту, вот и все?
Дорога, когда ты один, — совсем другая. Вот этот крутой поворот с интересным видом на город ты в прошлый раз пропустил, разговаривая. Вот это огромное дерево, сквозь листву которого, как сквозь водопад, зажмурив глаза, проныривает автобус, ты не смог почувствовать по-настоящему, потому что обдумывал дурацкий ответ на дурацкий вопрос. А безликость огромной пустой современной улицы, на которую ты в конце концов выезжаешь, в прошлый раз не вызвала в твоей душе такой ностальгии, такой животворной тоски одиночества — потому что ты был не один…
Я взбираюсь пешком на научную гору, крысы, ставшие мне уже привычными, выстреливают почти из-под ног, справа — ряд серых блочных домов, мужчина нырнул под капот машины, задралась рубаха, открывая неприятно лоснящуюся поясницу, слева тянется высокая решетка вивария, сверху — ясное небо и солнце, позади — отчетливый Арарат, обе гипнотические его вершины, впереди, чуть левее — свой, домашний, обыденный Арагац, на пути к нему — институт с прибором и Мишей. Барабан докрутился до сотни, мотор отключился, звенит звонок. Миша выключает и смотрит на дверь: где же этот московский бездельник? Я тут, Миша, я тут, уже на подходе. Только теперь я вспоминаю, кто я такой и зачем и куда иду.
Когда-то давно, на заре свой ремонтной карьеры, я начинал работу задолго, заранее, с вечера мучил себя над схемой, за завтраком проглядывал описание, а по дороге уж и думать не мог ни о чем другом. И на месте, не найдя неисправности сразу, с ходу, по первой же версии, — впадал в беспредельное отчаянье, проклинал судьбу и собственную бездарность, был уверен, что все пропало, и уже, вместо принципа взаимодействия блоков, обдумывал, какую другую работу завтра же пойду искать.
С годами все это, конечно, прошло, я усвоил набор ремонтных прописей, краткий молитвенник позитивиста: что все, что сделано одними руками, другими может быть восстановлено; что одна неисправность — одна причина, а две — уже редкость, а три не бывает; и главное — что не бывает чудес, законы природы всегда соблюдаются, электроны не могут вдруг взбунтоваться, и если они как-то однажды направлены, то и будут двигаться в том направлении… Сама жизнь учит нас выживанию. Еще недавно ты выкладывался ежесекундно, выплывал на последних остатках воздуха — и вот уже, как старый пианист, полностью расслабляешься на всякой паузе и работаешь только в те промежутки, которые отведены для работы, а иначе — кто же выдержит этот ритм?
Я стою перед Мишей, еще с портфелем в руках, смотрю на мокрый, только что проявленный лист фотобумаги и с минуту, многозначительно гмыкая, пытаюсь понять, чего от меня хотят. Я не волнуюсь, я знаю, это пройдет, все быстро встанет на свои места, все завертится в нужную сторону. Сейчас я открою рот и скажу, что надо.
— Ну что ж, — говорю я, — олл райт, не зря мы вчера поработали, совсем другая картинка. Остается настроить генератор импульсов, чем мы сейчас с тобой и займемся.
Разумеется, мы работаем порознь, соединяясь лишь для некоторых общих дел. Я настраиваю генератор — Миша крутит кофе, я проверяю частоты — Миша варит кофе, я пью кофе — Миша пьет кофе, я включаю мотор — мы идем обедать, полтора часа у нас в запасе.
— С одним условием, — говорю я строго, — сегодня плачу я!
Он хитро улыбается в усы.
— Ну-ну, хорошо, хорошо.
И в буфете, сверх взятых мной огурцов и сосисок, набирает еще колбасы и случившегося сегодня сыра, и каких-то ватрушек и пирожков, и черт знает откуда появившегося, я и не видел, пива.
Он сидит со мной, но разговаривает с окружающими, лишь время от времени поворачиваясь ко мне, чтоб приветливо улыбнуться. Я приветливо улыбаюсь в ответ. Такое общение. Мне остается усиленно жрать, но и этого что-то не хочется.
На обратном пути я поднимаюсь к Сюзанне, но она как раз занята, какая жалость, двухлетний отчет, и статья уже три недели висит, шеф сказал, чтобы к понедельнику как из пушки, вот, пожалуйста, персики, угощайтесь, спасибо, я только что, но это ведь не еда, спасибо, пока, заходите, пожалуйста…
Вечером я разгибаю спину, выключаю прибор, надеваю пиджак, беру портфель, выхожу из комнаты. В вестибюле, в полумраке, при свете одного телевизора, Миша со стариком вахтером играют в нарды. Нарды действительно похожи на то, как я их себе представлял, не в деталях, но как-то в общем. Чего я не смог предвидеть — так это того, что в основе игра в кости. Что ж, на Востоке как на Востоке. Негромко урчит телевизор, погромче — вахтер, Миша — опять потише, на уровне телевизора. Прощальные улыбки, кивки, помахивания руками — и я на свободе. По дороге, спускаясь к автобусу, я раздумываю, как мне убить вечер. Худший вариант — это домой. Чай, телевизор, обсуждение дел, разговоры за жизнь. Перед сном, на последнем дыхании — копание в схемах, планы на завтра. Уже в постели, в темноте — какой-нибудь нервный спор о политике, досада и ненависть к самому себе, прыжок с зажмуренными глазами в сторону, и конечно, попадаешь в литературу, и опять досада и принужденность и дырявый баланс словаря… А потом, после примиряющей паузы, Олег читает свои стихи: «Среди забот и треволнений я о тебе мечтал одной и у тебя искал спасенья, но ты не стала мне родной» и так далее и так далее, и я делаю вид, что сплю, и действительно сплю, и уже какими-то отдельными вздрогами слышу сквозь сон его неуемный голос:
— А Юлия Друнина? А Вероника Тушнова?..
Самое лучшее — позвонить Сергею, погулять по городу, посидеть за кофе (сколько же я его выпиваю за день!), и никакой принужденности ни на минуту, а сведений, самых интересных, — вагон. Он знает буквально все про Армению и в то же время не лишен объективности, а, напротив, лишен национальной узости, то и дело ставящей границы юмору. С ним у меня нет опасений выпалить что-нибудь не так, не в строку, проявить невольный, так сказать, шовинизм или, допустим, пренебрежение. Он знает прекрасно, что во мне этого нет, значит, не может быть и в моих словах, как бы на слух они ни звучали.
Мы сидим с ним за столиком, вечер, уютно, тепло, трудно представить, что это уже октябрь. Кофе давно уже выпит, и надо бы еще по чашке, но идти и просить в окошко — напрасный труд, потому что буфетчица занята: какие-то парни без конца проходят внутрь, через дверь, за прилавок, и выносят чашку за чашкой, по мере приготовления.
— Знаешь, — говорит Сергей, — у меня не получится точно, попробуй ты.
Я подхожу, ныряю в окошко, прошу, кричу — ноль внимания. Буфетчица переговаривается с парнями, двое выходят, выносят целый поднос, трое входят за следующим, остальные шумят за столиками. Сколькими различными интонациями можно сказать: «Пожалуйста, будьте добры»? Здесь Армения, здесь говорят по-армянски, а по-русски — это говорят в России, и там же понимают этот язык, а здесь — Армения, только армянский… И тогда я замолкаю, ловлю паузу и произношу так отчетливо, как только могу:
— Послушайте, не позорьтесь, ребята, где же ваше знаменитое гостеприимство, что я о вас расскажу в Москве?
Я не ожидал такого эффекта. Все их налаженное движение вдруг останавливается, как выключенное. Все стоят, смотрят на меня, и парни и женщина, мне улыбаются, передо мной извиняются, мне приносят — сколько вам? две? четыре чашки! — и денег не надо, но я, конечно, плачу и с торжеством возвращаюсь к Сергею.
Он смеется:
— Ну я же сказал! Я их знаю, гадов, только престижем и можно их взять.
Что ж, говорю я, это прекрасно. Прекрасно, что можно их взять престижем. Значит, не такие уж они нахалы, если так мгновенно срабатывает в них это чувство, обрывая инерцию ближайшей потребности. Что мне нравится в Армении: здесь еще осталось место для неожиданности. А кто у нас, добывая себе кусок, повернет на сто восемьдесят по каким-то идеальным мотивам? Наша шапка-оземь — легенда, поэтический троп, вся былая бесшабашность оправлена в раму страха, пользы и опыта.
— Не идеализируй, — вздыхает Сергей. — Здесь тоже осталась одна внешность. Все мы под одним начальством ходим, и разница несущественна…
Но Сергея может не быть дома, и тогда я куплю бутылку вина в магазине самообслуживания — у двух симпатичных девушек, они посоветуют, какое взять, и пойду к Володе и Ане, в подвал, где мне рады всегда и только тем недовольны, что редко бываю. Там мы поужинаем, я поиграю с девочкой, почитаю ей книжку, а потом Аня ее станет укладывать, и мы выйдем с Володей погулять, пока она не уснет. Мы пройдем по шикарной соседней улице Барекамутян — улице Дружбы, где стоят роскошные особняки ахпаров, разочарованно умотавших обратно на Запад, дворцы, занятые советскими учреждениями и различными общественными организациями; посидим все в том же кафе, где сидели бы с Сергеем; вернемся, стукнем в окошко у самого тротуара, и Аня махнет нам рукой: давайте, давайте. А там народу уже прибавится, забегут на огонек соседские девушки, и сотрудник Володи, и родственница Ани, и все мы будем еще что-то пить и вполголоса в полутьме веселиться, поглядывая на завешенную покрывалом кроватку. Но девочка не проснется, она привыкла, такое ведь каждый вечер. А завтра им вставать в половине седьмого, девочку в ясли далеко везти и самим на работу. Но раньше полночи все равно уходить нельзя, большая будет обида.
3
В воскресенье мы трое, Сергей, Олег и я, встречаемся в центре и едем в Гегард. Наконец-то!
Народ в автобусе самый разный, главным образом молодежь, едет развлекаться, проводить воскресенье. Автобус идет только до Гарни, а там до Гегарда еще километров десять, это уже как хочешь. Дорога прекрасная, погода отменная, горы справа и горы слева, в основном округлые, серые, голые, совершенно голые, я бы сказал, откровенно голые, с редким гнездышком курчавости где-то в паху. Но любое пологое место, ну хотя бы градусов сорок, уже хорошо — обязательно вспахано и аккуратно засеяно. Ближе к Гарни зелени больше, встречаются мягкие вершины и склоны, сплошь покрытые лесом, и это безумно красиво, потому что лес разноцветный: красный, оранжевый, желтый и все оттенки зеленого.
Те, кому нужно выходить в Гарни, — те и выходят, а кто хочет дальше, тот едет дальше. Кто-то что-то сказал шоферу, и за лишний рубль он везет нас до места.
И здесь, сойдя с автобуса, мы проходим прямую арку и, сдерживая шаг, по крупной брусчатке — входим в Армению. Вот уж Армения, сомнений нет. Древний монастырь и Великий Храм здесь не выставлены на обозрение в виду снисходительных современных зданий, а спокойно царствуют сами по себе, среди тех же скалистых громадин, под тем же небом, что и в родном тринадцатом веке. И скорее экспонаты — это несколько разноцветных застывших машин на обочине, на краю обрыва.
Сергей ведет нас не просто, не прямо, а по собственному хитроумному сценарию. Сначала внешняя церковь, стройная, удивительно высокая изнутри — снаружи казалась намного компактней. Затем — огромный прекрасный зал, ничем не облицованный и не украшенный, остались одни только голые стены и четыре колонны, но все — абсолютной формы, и глубокий рельефный орнамент по куполу, непрерывный, переползающий через швы между плитами серого камня. А потом — другой такой же зал, кажется, что просто точная копия; да, говорим мы, совершенство, ничего не скажешь, но думаем: напрасно все-таки два одинаковых, это снижает пафос, исключительность утрачена, если два, то может и десять… Ну-ну, улыбается Сергей, смотрите, смотрите. И вдруг я начинаю чувствовать, что что-то не так. Чего-то здесь не хватает. Та же форма, те же колонны, тот же орнамент и так же переползает… Стоп! Ни через что не переползает орнамент, а ползет непрерывно, сам по себе, потому что и материал его — непрерывен. Все — так же как в первом зале, только тот сложен из многих камней, а этот вырублен из одного. И как ни ждал я его увидеть, как ни тверд я был в убеждении, что любое реальное чудо бледнеет перед талантливым своим описанием, а такое описание существовало, — все-таки был поражен, как ребенок…
А потом мы долго бродили внутри, в крохотной закопченной часовенке поставили по свечке за своих близких, в чистое озерцо родника под самой стеной бросили по монетке, а там уже было много, и детишки лет по пять — по шесть, полоскали руки и затаенно хихикали. Родители их звали, но они не шли. Было их человек восемь, и у многих — головки каштановые, не черные. «Светлеют армянские дети, — сказал Сергей, — возвращается чистота предков. Будем надеяться, что это хороший знак».
Я не удерживаюсь от подначки:
— А быть может, это не предки, а даже совсем современники?..
Сергей усмехается.
— Не думаю. Нет. Вряд ли. А впрочем… Ну тебя, знаешь.
На улице, в ярком солнечном свете, молодой красивый священник с молитвенником в руках бормочет над бараном, которого двое мужчин с трудом приволокли к нему за два закрученных рога. А на заднем дворе льется кровь по каменным плитам, дюжий старик в фартуке смывает ее шлангом, и она, разбавленная, с мутью и пеной, стекает в канаву. На столе разделывают тушу барана, видимо, тоже вот так освященного, но существующего уже в будущем времени по отношению к тому, первому. Женщина моет руки под краном, а на лбу у нее — крест из крови, две линии, небрежно проведенные пальцем. А внизу, в овраге у речки — еще более будущее время барана: там шум, песни, пляски и выкрики, играет аккордеон и какая-то дудка, и пахучий дым поднимается от мангала.
— Вот видишь, — говорит Сергей, — действительно, прав был Грант, все как в библейские времена.
Я опять позволяю себе усомниться:
— Библейские? Быть может, скорее языческие?
— А это, знаешь, одно и то же. Языческое жертвоприношение — но невидимому и единому Богу, вот тебе и весь древнееврейский пафос. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его…» Молодая религия отделывалась овечками, это потом уже цена поднялась до великих страданий.
— Ты хочешь сказать, что армяне…
— Армяне тоже прошли все стадии, испытали всю гамму, и с лихвой, но видишь, сохранили ритуал юности. Быть может, в этом если и не залог, то хотя бы намек на грядущее возрождение…
Мы спускаемся в неглубокое ущелье, переходим по камешкам реку и взбираемся на заросший кустарником холм. Олег-длинные-ноги карабкается впереди. Мы взбираемся на вершину холма, там площадка, полянка и дерево, и оглядываемся, отдышавшись. Красота фантастическая.
Мы находимся в центре, а вернее, в одном из фокусов почти правильной эллиптической котловины. Огромные скалистые вершины окружают нас с трех сторон. Внизу под нами — монастырь и Храм, сросшиеся со скалами, выросшие из них. И все это вместе — как скульптура Природы, где человек только чуточку, в одной только точке пространства, подправил действие естественных сил, чтобы обозначить место своей встречи с Богом. Но на эту поправку положил он целую жизнь — тоже, впрочем, всего лишь точку во Времени… Откуда-то позади нас из невидимой трещины между скалами вытекает речушка и бежит вниз, к выходу из котловины. Вдоль реки — многочисленные дымы костров и мангалов, от ближайших слышна громкая музыка, но не магнитофоны и не приемники, а живая человеческая музыка; гармошки, дудки и, кажется, даже скрипка.
— Видишь, — говорит Сергей, — такая традиция. Среди них, быть может, нет ни одного верующего, но приехали они провести выходной с семьей и компанией не в ЦПКиО, не в ресторан и даже не просто в горы — а именно к Храму. Здесь опять, не скажу залог, но, быть может, намек, надежда…
Мы возвращаемся, разглядев сверху тропинку, но уж лучше бы мы о ней и не знали. Олег, по-прежнему идущий впереди, плюется и матерится и то и дело предупреждает нас об опасностях отнюдь не романтического свойства, в изобилии встречающихся по сторонам, а то и на самой тропинке.
— Гады, — ворчит он, — такую красоту испоганили. Вот тебе и намек, и залог!..
Мы еще заходим разок в церковь, у старого старика с седой бородой покупаем цветные открытки с видом на Храм, с портретом католикоса и с фотографией замечательного хачкара, который проглядели в Эчмиадзине. Выходим, последний раз оглядываемся — и уходим вниз по дороге, текущей из-под прямоугольной арки.
До Гарни нам топать часа два, и нельзя сказать, чтобы мы не устали, а тем более не хотели есть. Старенький автобус, такой же, в каком нас возили по городу в поисках места жительства, догоняет нас, и мы машем руками. Автобус набит почти до отказа и, конечно, не остановится. Он останавливается. Пассажиры все по виду крестьяне, какой-нибудь праздничный колхозный выезд, перевыполнение, поощрение… Встречают радушно, даже порываются уступить место, ну хоть взять на колени единственную нашу ничего не весящую сумку. И когда мы выходим, шофер, широкий парень в белой рубахе с мощной коричневой шеей, отводит в сторону руку Олега с рублем, но охотно берет другой такой же из рук Сергея. «У гостя нельзя, — объясняет Сергей. — Я свой, у меня можно». И мне приятно думать, что у меня бы он тоже взял, если бы, конечно, я дал ему молча…
В Гарни, после замечательного обеда в простой столовой — с вином, кебабами, виноградом и сыром, — мы продолжаем обязательную программу, идем осматривать языческий храм. Но смотрим в основном не его, а удивительной красоты ущелье, падающее вниз до немыслимой глубины, и там вдали, на самом дне, возвышается плоское плато, отсюда на вид совершенно ровное и как бы обрубленное со всех сторон, поросшее кустарником и травой. Там сказочная, изолированная от мира страна, там живут такие маленькие человечки, мы их отсюда не различаем, и в этом залог их покоя и счастья… А храм, что ж, ничего себе храмчик, аккуратненький, как из папье-маше. И как-то в землю не вросший, отдельный, как будто изготовили, привезли и поставили, как газетный киоск, — сверху, подъемным краном.
4
А еще мы ездили с Олегом в Дилижан, а ехать туда надо мимо Севана, и Севан, конечно, удивительное озеро, но в данном случае, признаюсь, получилось так, что литературный его портрет для меня оказался ярче оригинала. Я, правда, испытал некое тайное побуждение, но и оно восходило к литературным данным. Я знал, что Севан непрерывно убывает, и мне захотелось немедленно что-то сделать, где-то в стороне зачерпнуть воды и добавить сюда хотя бы пригоршню, а главное — хоть немного смочить перешеек, чтобы полуостров Севан опять превратился в остров, как это было во времена Мандельштама и Кузина…
Потом мы приехали в Дилижан, прекрасный уютный маленький город, весь в горах, лесах и водах, и калымщик, возивший нас по окрестностям, утверждал, что это лучшее место в Армении. Но он вообще так много и громко разговаривал, то и дело отворачиваясь от баранки и тыча рукой то в меня, то в Олега, что стал главной и наиболее ощутимой подробностью этой поездки. И когда я теперь говорю себе «Дилижан», то все, что я вижу при этом: россыпь друг над другом стоящих домиков, выглядывающих то частью стены, то коньком крыши из густой кучерявой зелени; извилистые лесные дороги, над ручьями, под кронами, сквозь густую чащу; суровый монастырь на узкой террасе, далеко окруженный лесами, но не справа и слева, как могло быть в России, а сверху и снизу; и затерянное в совершенной глуши озерцо, как прозрачная капля в чаше цветка, — все это я вижу как бы на заднем плане, сквозь круглую самодовольную ряху и уверенный голос этого парня.
Двадцать пять рублей за такую экскурсию — это не деньги, он берет тридцать и сорок, просто мы ему сразу понравились. Видит — хорошие люди. В Москве он не был, но был в Вологодской области, служил в армии шофером на грузовике, там и накопил на этот «Москвич». Давали, сколько скажешь, куда им деться, на всю округу ни одной машины. Пять рублей капитану, пять — себе, двадцать капитану, двадцать себе, всегда честно, хотя кто его мог проверить? Но вот он такой человек. Хороший человек, прямой и честный. Но и с ним надо тоже прямо и честно, потому что его не проведешь. Правда, недавно случилась неприятность с братом. Брат тут был ни при чем, он только разнимал, но все разбежались, а он остался, и у него на рубахе кровь. Степан Варданян дал триста следователю, а им теперь надо дать пятьсот, и пятьсот прокурору и пятьсот судье. Здесь, в Дилижане, да и во всей Армении, если денег нет, виноват не виноват, садись в кутузку. Поэтому без денег здесь нельзя. У нас в Москве еще как-то можно, там, в Вологодской, такие бедные, ну совсем нищие — ничего, живут…
Вот все мои сведения о Дилижане.
И здесь, в Дилижане, в этом крохотном городке, в шумной забегаловке у базара, мы впервые увидели пьяных в дребодан мужиков, в слюнях, соплях и кровоподтеках, все как положено. Мы случайно, не глядя, подсели за этот стол, тут же вылетели по касательной и с ужасом услышали, как они нас окликнули, не очень внятно, но на чистом русском, если что-нибудь чистое могло от них исходить. Да, это были наши родные, целых трое, нашли друг друга, будто вместе вот так и прилетели из московской подворотни, только что там сойдясь и скинувшись, будто магическая сила какого-нибудь Воланда вырвала их оттуда и забросила сюда. И мы уже были у них на крючке, на неотвратимом бухом прицеле, и один из них полз, плыл, стелился к нам, перебирая руками, и вот уже тыкался в плечо Олега бесчувственными костяными пальцами, и дышал мерзостью ему в лицо, и что-то лепетал, угрожающе-приветливое…. Бедный Олег заторопился на улицу, на ходу доглатывая свой кебаб, и потом мы долго сидели молча на автобусной остановке, грызли груши, купленные на базаре, и сосредоточенно рассматривали каждую, прежде чем укусить…
5
Я понял про себя: я плохой экскурсант. Какой бы ни представили мне экспонат, пусть обладающий бесспорной ценностью, я чувствую недостаточность своей реакции, отсутствие в душе должного отклика, и, досадуя на себя, бросаюсь в другую крайность и уже, бывает, пытаюсь выдать больше того, что имею. Вокруг знаменитых культурных ценностей, специально выставленных для обозрения, я никак не могу построить цельного образа, он всегда разрывается какой-то деталью, какой-нибудь неуместной подробностью, иногда — вызывающе неуместной.
Вот, казалось бы, наиболее чистый случай: Матенадаран. К этому зданию я давно приглядывался, и оно мне нравится. Общий стиль — ясный и не навязчивый, и даже скульптуры не раздражают. А уж сама идея, что говорить, прекрасна: Институт рукописей и Музей рукописей, Главный музей книжного народа. Говорят, что скульптура «Мать-Армения», возвышающаяся надо всем городом, согласно первоначальному замыслу, должна была вместо меча нести в руках огромную книгу. Но будто бы высшее начальство наотрез запретило такую вольность. Пусть, мол, армяне не будут умнее других, у всех меч, так пусть и у них — меч… Но зато уж в Матенадаране — никакого оружия, а только книги и книги. И сперва мне действительно очень понравилось, такая древность — и такое разнообразие, такая полнота отражения всех сторон существования и всех форм мышления. И миниатюры — просто редкостные таланты! Тут бы мне и уйти, с этим впечатлением, так нет, я еще не все осмотрел. Походил еще, покружил, постоял — и сам не заметил, как заскучал, стал терять внимание, думать о всякой всячине, менее важной и не столь торжественной. Например: через несколько дней улетать, как там с билетами. Или того хуже: какие купить помидоры, куда положить, чтоб не смять и чтоб ничего не испачкали… Что написано в книгах, я все равно прочесть не могу, и только перебегаю глазами с одной на другую. Разве можно так смотреть книги? Вот взгляд куда-то уткнулся, задержался. Опомнившись, я фокусирую зрение и неожиданно вижу еврейские буквы. Ну и что мне от этого? Я и их прочесть не могу. Зато я легко могу прочесть на стене в красивой рамке стихи по-русски, как объявлено, — Саят-Нова. Нет, настоящего Саят-Нова я, конечно, не прочту, и это плохо. Но то, что Саят-Нова не прочтет Валерия Брюсова, это, я считаю, большая его удача… Так, с сухими скорлупками брюсовских рифм на зубах и со скукой в душе, я и собираюсь покинуть этот уникальный музей. И только совершенно новая подробность примиряет меня с жизнью, хотя и уводит несколько в сторону. Замечательно красивая девушка, стройная худенькая отличница, возникает передо мной с указкой. «Пожалуйста, экскурсия на русском языке. Кто хочет, может послушать». Как говорит! Вся — улыбка и вся — обаяние. И я прохожу все круги сначала и у каждого стенда, расталкивая соседей, встаю прямо напротив нее. Нет, я ничего не желаю для себя персонально, мне хватает такого внимания: никому и всем… И запомнив едва лишь несколько слов, тем не менее, я выхожу на улицу в мечтательном стариковском умиротворении. Платон, Филон, Торос, Хоренаци… Подумать, такая умница!
Но зато уж повседневный армянский быт, не выставленный для специального обозрения, то и дело одаривает меня сверх меры. И даже традиционная армянская книжность, это кровное пристрастие к письменному слову, и тут находит свое выражение, и в самой необычной и трогательной форме.
— Асоян? Сергей? — переспрашивает Цогик Хореновна. — Не слышала. И что, настоящий писатель? Почему же он к вам никогда не заходит? Вы бы его пригласили поужинать, чаю попить. — Что-то промелькивает у нее в глазах, какое-то более резкое чувство, чем все те, что, казалось бы, свойственны этой женщине. Понятно, говорю я себе, она простой человек, а тут — писатель, любопытно, ясное дело. Нет, говорю я себе, ну глупость, ну не может же быть. Простое человеческое любопытство, да плюс естественное радушие…
И вот мы сидим за столом все вчетвером, Олег, я, Сергей и она, понемногу пьем чай с вареньем, отчасти смотрим телевизор, слегка разговариваем. В углу комнаты, на таком же большом столе, по всей поверхности, разложена травка реган, сушится на зиму, пахнет приятно. Печенье, купленное мною три дня назад, уже тогда было жестким, как камень, а теперь достигло железной твердости. Лязгнув о него зубами, я кладу его в блюдце. Олег ухитряется как-то разгрызть — здоровый мужик, а Сергей придумал макать в чай — хитрый армяшка, как сам он себя называет.
— А по-армянски вы понимаете? — спрашивает Сергея Цогик Хореновна.
Сергей отвечает ей по-армянски.
— А читать-писать тоже умеете?
Он, видимо, отвечает, что да, умеет.
И тогда она вдруг встает и идет к тумбочке, возвращается, отодвигает в сторону чашку — и толстенную клеенчатую тетрадь кладет перед собой на стол и поглаживает руками. Я смотрю на Сергея, и все его чувства мне понятны так, как если бы он был я. Значит все-таки именно так, именно это. Ну кто бы придумал такой анекдот? Впервые за три недели я не жалею, что не знаю армянского. Олег улыбается, он тоже понял, что воспоследует…
Но уж слишком много мы знаем о жизни, слишком умеем ее предугадывать; а она нет-нет да возьмет и повернет в неожиданном направлении.
— Я собираю пословицы, — произносит Цогик Хореновна, и невидимый слой окружающей нас реальности, плотный куб, заключенный в стенах этой комнаты, резко меняет состав и окраску. — Я много лет собираю пословицы и поговорки, и собрала уже тысячу двести штук.
В наших возгласах столько же облегчения, сколько удивления и восхищения.
— Мы с братом, — продолжает она. — Он тоже собирает, и мы обмениваемся, но я собрала гораздо больше.
— Где же вы их находите? — спрашивает Сергей.
— Везде. В деревне, когда бываю у родственников, в очереди, в трамвае. Еду и слушаю. Запоминаю, потом прихожу и записываю. И вот я думаю, как вы считаете, может, это кому-нибудь пригодится?
— Конечно, конечно, — радуется Сергей. — Это же какая огромная работа! Если из этих тысячи двухсот хотя бы сотня окажется неопубликованных — любой фольклорист за голову схватится.
— Ну, почитайте немного, почитайте. — Она пододвигает к нему тетрадь. Там под номерами выписаны аккуратные строчки, одна-две под каждым номером. Буковки с четким наклоном, отдельные, как в той, хорошей рукописи у Гранта. Сергей читает, кивает, гмыкает.
— Вы знаете, просто очень интересно. Ну, я, конечно, не специалист. Тут пока в основном довольно известные (это он мне), но кажется, есть и оригинальные. Во всяком случае, раз их так много, то и надо читать все подряд, но это я вам пришлю специалиста.
Цогик Хореновна сдержанно улыбается, ее природный такт не позволяет ей радоваться слишком громко, а тем более какое-то выражать самодовольство.
— Хорошо, — говорит она, — пришлите, пожалуйста, жалко, чтобы все пропадало. Народная мудрость, надо хранить…
— Ну как тебе? — спрашивает Сергей, когда мы выходим на улицу. — Часто такое встретишь в России? И главное, брат ее — тоже, и они соревнуются — такая деталь!
6
Мы богаты с Олегом, мы сказочно богаты! Из позорной бедности, из подлого нищенства мы чудом, как и полагается на Востоке, переходим в разряд благородных негоциантов. Мы сдаем прибор в химиконическом, мы показываем Камсарычу и Акопу последние контрольные графики, аккуратные, с запасом уложенные в допуски — и нам крепко жмут руки и благодарят от души, и вручают не какие-то бумажки с печатями, а настоящие, живые, хрустящие, по двести пятьдесят на брата. Это значит, что несколько оставшихся дней мы можем не думать о каждой копейке, не мучиться, просить — не просить у наших домашних, приводить ли в движение их самоотверженность в этом сомнительном направлении или дать ей выразиться как-то иначе. Это значит, что сами мы получаем возможность одаривать — счастливейшую, лучшую из возможностей. Мы пройдемся по улицам, не минуя ни одного магазина, мы накупим подарков детям, женам и матерям, мы зайдем к Норику в био-гео и скажем: «Ладно, ничего, не огорчайся, Норик, это даже к лучшему. Утрясешь свои дела, найдешь место прибору, вызовешь нас, мы приедем еще с большим удовольствием. А пока, Норик, не обижай, возьми деньги для твоей мамы, она сама ни за что не возьмет, а ведь ей необходимо, а нам платят, нам очень много платят специально за жилье, так что же мы эти деньги будем присваивать, обманывая родной завод!» И Норик покраснеет и скажет: «Спасибо, ребята. Ни за что бы не взял, это очень стыдно, но нет у меня никаких побочных доходов, а маме нужно делать ремонт, я еще немного добавлю, как раз и хватит…» А потом мы пойдем на базар, накупим вина, овощей и мяса, позвоним на работу Володе и домой Сергею и устроим маленький пир на маленький мир. Мы будем пить прекрасное дешевое вино, по очереди за здоровье всех присутствующих, и есть хоровац — армянский шашлык, в котором главное не мясо, а смесь овощей, обожженных, пахнущих дымом и маслом. Московские гости дали ужин в честь своих армянских друзей. Красиво. И от чего порой зависит гармония — от наличия жалкой тридцатки!
И вот наступает самый последний вечер. Уложены вещи, закрыты чемоданы. Бочонок все в той же холщовой сумке по горло залит вином, которое Володе устроил по блату большой друг его начальника. (В Москве вино придется вылить — скисшее, совершенно никуда не годное, но пока еще до этого далеко.) Олегов специальный ящик впритирку набит гранатами. (В Москве его чуть не выгонят из дому, в семье никто не любит гранатов, а два таких же примерно ящика он уже посылал по почте.) Все готово к отъезду, и самый последний вечер я провожу в узком семейном кругу. Семейный круг сегодня опять, как и в первый раз, перенесен в квартиру родителей Ани, но сами они уехали в Кировакан, и мы как у себя дома. Девочка спит в соседней отдельной комнате. Мельтешит телевизор. Сидя рядом с ним, почти вплотную к экрану, чтоб не мешали, смотрит футбол железный Мартик, жених Аниной сестры Веры. Он чемпион страны по прыжкам в воду, юный обладатель трехкомнатной квартиры и двухсот восьмидесяти рублей стипендии и в свои неполные девятнадцать лет — человек твердых жизненных принципов и ясных целей. Сама Вера, тонкая, гибкая, томная, сидит у его ног на низеньком пуфике, длинными руками обнимает его руку, гладит его ладонь прозрачными пальцами с двуцветным красно-зеленым маникюром, нежной щекой с упавшей прядкой прижимается к массивному его плечу. Железный Мартик — так его называет Володя — болеет спокойно и уравновешенно, в промежутках между острыми моментами игры рассказывает нам, как футболисты «Арарата» спекулируют машинами и заграничными шмотками, кто из ЦК кому из них покровительствует и как они выкручиваются, когда попадаются. Володя что-то фыркает в его сторону, Аня посмеивается добродушно. Свадьба давно уже решена и отложена лишь по каким-то внешним причинам, чуть ли не из-за модных колец. Я то сажусь на диван, то встаю и хожу по комнате, и все кошусь на красный телефонный аппарат и иногда, не удержавшись, обвожу его рукой по контуру и поглаживаю в томлении, как Вера Мартика.
Мне хочется позвонить Гранту.
Мне смертельно хочется ему позвонить, потому что без этого последнего звонка здешняя моя жизнь лишена композиции, главной завершающей точки, на которой строится вся гармония этой поездки. Мне хочется ему позвонить, потому что Армения для меня — это в первую очередь он, Грант, и с кем же еще мне прощаться, прощаясь с Арменией? И еще потому что нипочему, по причине любви, родства и душевной тяги. И вот я снимаю трубку, набираю номер, и мне отвечает женский голос, оторопевший и скованный от неожиданности, от неподготовленности к иноязычной речи, его сменяет другой голос, тоже женский, тоже немеющий, затем, после долгих неловких объяснений, когда я говорю по-русски едва ли правильней, чем они, я слышу голос Гранта: «Да. Алло» — и не чувствую уже никакого настроя и жиденьким неубедительным голосом говорю только: «Здравствуй. Вот, уезжаю. До свиданья». — «До свиданья, — говорит он. — Хорошо. Передай привет». — «До свиданья, — говорю я, — всего тебе доброго». — «Всего доброго, — говорит он. — Хорошо. До свиданья». И вежливо не кладет трубку, и я понимаю и кладу первый.
Все это я проигрываю в своем воображении с отчетливостью безусловного действия, с полной уверенностью, что будет именно так, и даже в мельчайших деталях. И поэтому мне вовсе не надо звонить, да просто ни в коем случае. Я и не буду. Но желание разговора, родства, понимания, но томление мое остается. Так хотелось бы мне наполнить смыслом и чувством этот последний вечер.
Вера и Мартик тихо воркуют, и хорошо, что не надо прислушиваться, делая вид, что не слышишь, и не надо мучительно достраивать фразу по двум разобщенным словам, а можно просто смотреть, умиляться, завидовать… (Я узнаю потом, через год, что свадьба расстроилась, что про Мартика ничего не известно, а у Веры другой жених, русский парень из Минска.)
— Ну-ка вставай, — говорит Володя, внимательно так на меня посмотрев, — давай мы с тобой слегка проедемся, я тебе кое-что покажу.
7
Мы выходим из троллейбуса на Киевян — Киевской улице. Мы проходим по мосту через Раздан — глубокое сужающееся ущелье и быстрая река далеко внизу, и крохотная моторка мотается на приколе — и начинаем подъем в гору по пологой тропинке. Вокруг лес или, может быть, роща и глухая тревожная темнота. Куда это мы, Сусанин? — Увидишь. Подъем кончается, и кончается лес, большое плато, но по краю — опять кусты и деревья, никаких строений и никакого света, кроме звезд, луны и невидимого города за горизонтом. Тропинка то ли есть, то ли нет ее, перекосы, рытвины. Володя поддерживает меня под руку, но вдруг отпускает, и я чувствую под ногами ровную дорогу, то ли асфальт, то ли бетон. Я все еще по инерции смотрю себе под ноги, так мы проходим с десяток метров, и вдруг Володя говорит: «Оглянись». Я оглядываюсь и цепенею. Два ряда тусклых огней, целое погребальное шествие сопровождает нас на нашем пути. Фонари неподвижны, согнуты в низком поклоне, намного ниже человеческого роста, и обращены не к дороге, а прочь от нее, ничего, по сути, не освещая, но образуя контур пути, скорбный его пунктир.
— Это путь к памятнику жертвам резни, — тихо говорит Володя. — Сейчас мы к нему придем.
Так мы идем еще какое-то время, и печальное шествие позади и впереди сопровождает нас и выводит к каменной площади, на которой взлетают в небо два каменных острия, а вернее, одно, расслоенное тонкой узкой полоской света на две неравные части. Одна из них выше, другая ниже. А дальше двенадцать каменных глыб под таким углом, что едва не падают, нависают по кругу над вечным огнем. Самого огня не видно, он в центре, внутри, под этими глыбами, едва не задавлен их страшной тяжестью, но багровые отсветы пламени живут на ребрах и гранях, и от этого весь хоровод огромных камней выглядит тоже — зловеще-живым и тяжко-подвижным…
Я должен признаться: не люблю памятников. Ни памятников событиям, ни памятников людям. Я не говорю о памятниках вождям, это уже тема для анекдотов, но даже, скажем, писателям, и даже хорошим. Тут отчасти срабатывает логика дня, общий принцип нашего быта, где достойный, как правило, не отмечен, а отмеченный, как правило, не достоин. Если среди множества писательских памятников нет памятника Платонову, Набокову, Зощенко, Ахматовой, Мандельштаму, Бабелю — то что хорошего вообще мы можем сказать о памятниках. Только пожелать, чтоб и впредь их не ставили порядочным людям. Но дело не только в этом. Сам принцип ставить на площади каменную копию определенного человека есть, по-моему, грубое вмешательство в функцию памяти и свойства времени, и библейский закон не творить кумира кажется мне здесь совершенно уместным. Сам по себе выбор имени: кому ставить, кому не ставить — даже в случае предельного единомыслия будет все же принуждением и навязыванием, насилием над свободой оценок и мнений. Памятнику ведь нельзя возразить, он бесспорен и потому — безнравствен. Всякий памятник унижает мое достоинство как рядового человека и гражданина, и любой, даже самый безобидный, смешно сказать, страшен мне, как Евгению Медный всадник. Любой, даже памятник самому Пушкину. Скульптурный портрет вообще не имеет большой образной емкости, но скульптура на площади — это антиобраз, она давит чувство и воображение своей безоговорочной определенностью, тяжелой конкретностью, однозначным наличием.
И с той поры, когда случалось Идти той площадью ему, В его лице изображалось Смятенье. К сердцу своему Он прижимал поспешно руку, Как бы его смиряя муку, Картуз изношенный сымал, Смущенных глаз не подымал И шел сторонкой…Не люблю и боюсь.
Из всех памятников Еревана мне, пожалуй, показался забавным один — архитектору Таманяну. В скверике перед бассейном с фонтанами помещен огромный стол из серого камня, и на него широко расставленными руками опирается такой же серый старик. Согнулся над столом, наклонил голову, глядит вопросительно и хитро. «А, этот! — сказал Володя. — Да, хороший. Это памятник Рафику». — «Что, Таманяна звали Рафик?» — «Нет, Таманяна звали иначе. Рафик — это был буфетчик на вокзале, известный богач. Рассказывают, что после его смерти безутешные родственники узнали о готовящемся памятнике Таманяну, заплатили скульптору сколько-то там десятков или сотен тысяч, и он сделал Таманяна с лицом Рафика и поставил на площади этот общий памятник!»
Я просто в восторг пришел от этой легенды, она была не слабее самой скульптуры, она была многозначна, как притча, в ней просматривался глубочайший смысл. Именно так: прославляемый архитектор, автор Дома правительства на площади Ленина — и деляга буфетчик с вокзальной площади. Пускай им общим памятником будет… Все правильно. Хитрая рожа буфетчика Рафика — вот подлинное лицо рукотворного бессмертия!
Но и памятники событиям, мемориалы, тоже не вызывают у меня симпатии. Тут я, может быть, не против принципа, но опять же, как быть с выбором? Мало, что история так переврана, что просто непонятно, что было, чего не было, но ведь и то, о чем точно известно: было, — не всегда знаешь, как оценить. И остаются только явные трагедии, но и тут я не помню достойных и честных примеров, когда бы в памятнике содержалась хоть доля чувства, которое вызывает сама трагедия. А тогда — на черта он нужен? Бессмысленная куча мала с циничной надписью в Бабьем Яру? Или все эти могилы неизвестных солдат, вызывающие, вместо сочувствия людским страданиям, только привычный страх перед часовыми да шальную мысль о вечном огне: а что, если выключат газ?..
И вот я впервые вижу памятник, который меня потрясает.
В нем нет попытки изобразить события, потому что не было никаких событий, потому что не таким человеческим словом называется то, что стряслось с армянами. В нем нет рассказа, потому что он невозможен, потому что никакая система из металла и камня, ограниченная в материале, времени и пространстве, не в силах рассказать о двух миллионах изувеченных и замученных насмерть людей.
В нем нет никакой прямой символики, ни имени скорби, ни даже попытки ее назвать — но есть ощущение скорби.
Никаких боящихся сморгнуть часовых, никаких ракурсов и дистанций, никакой театральности. Можно обойти вокруг, подойти вплотную, потрогать камень, спуститься вниз, в широкую щель между соседними глыбами, там для этого есть ступеньки, походить внутри, погреться у пламени, посмотреть вверх, на темное небо, ограниченное зазубренным кругом гигантских плит, тяжко нависающих под таким углом, что едва не падают, — и тут же поспешно опустить голову и вцепиться взглядом в спасительные ступеньки. Нет, это только памятник, нам сейчас ничего не грозит. Но все время, постоянно, всюду: смотришь ли издали, ходишь вокруг, стоишь ли внутри — всюду с тобой это чувство страха и скорби.
Мы выходим на край площадки, и теплое разливанное море огней обнимает нас с трех сторон. Это светится город, где живут оставшиеся в живых. Пусть будут спокойны и счастливы, пусть будут хоть эти!
И тут я впервые понимаю отчетливо, прямо в сердце меня укалывает эта мысль, в чем подлинная суть родства между мной и ими, того родства, о котором мне столько раз пытались сказать армяне и которое я сам чувствую в себе постоянно. Нет, не древние культуры, разве знатность происхождения может служить основой любви? И не национальная обособленность, откуда она у меня, никогда не бывало. Нет, главное здесь в другом: духовное родство оставшихся в живых. Естественная близость и понимание и взаимное утешение все потерявших, но оставленных Богом жить для какой-то Ему лишь ведомой цели. Это близость и родственность Иова — Иову, это притяжение сироты к сироте. Два миллиона армян и шесть миллионов евреев, разные цифры — и одна цифра: две трети населения и там и тут[25]. Как если убили отца и мать и остался один на свете — такие же были бы цифры. Или если… Но это и произнести невозможно. Кровь и величайшие в мире несчастья роднят евреев с армянами, как не могут роднить никакие блага. Ах, не будем касаться, хватит, и сколько можно, и опять за свое… Опять за свое, а за чье же. Все так, и тем не менее все не так, потому что это не только мое, это общее, наше с вами, всех без разбора. Отвлеченный тезис о том, что нельзя ненавидеть нацию, в наше время, в двух, по крайней мере, случаях показал пример зловещей материальности. Нет, не только в действиях мы несвободны, поздно рассуждать о свободе, когда начинаются действия, мы несвободны и в чувствах своих и в своих побуждениях — изначально не дано нам такой свободы. И слово — тем более слово — не должно уходить из-под зоркого ока совести. Слову свойственно овеществляться, недаром еще в древности мудрые цадики избегали предсказывать дурные события. Ибо, говорили они, само предсказание может повлечь и приблизить несчастье. И поэтому если кто-то сказал: «Ненавижу армян» — то он не просто дурак и не просто подонок, он преступник, и кровь армянских детей на его руках. И так же — если кто-то сказал о евреях, но так же — если о русских или других. Потому что трагедия первых двух показала, что все мы, независимо от желания, можем быть отнесены к какой-то группе, все принадлежим и значит — все под угрозой.
«Господи, благослови евреев! — опомнился перед смертью замечательный Розанов, много перед тем проклинавший евреев. И мудро добавил: — Благослови и русских!»
Я стою на краю площадки, высоко над городом, и таким важным и значащим вышло само собой это место: позади меня боль и трагедия нации, впереди — ее повседневная жизнь… И кажется мне, что только теперь я всерьез почувствовал и понял Армению, которую, по сути, и не увидел. Сколько надо прожить в чужой стране, чтоб ее узнать? День, неделю, месяц, год? И года может оказаться мало, но и дня может оказаться много. Я думаю, нужно ровно столько, сколько нужно, чтоб — полюбить. Поживи я подольше, узнай побольше, быть может, неизбежные досадные мелочи заслонили бы от меня знание чувства — единственное подлинное знание…
Завтра я улечу на север, в нашу прозу с ее безобразьем, в осеннюю, уже заснеженную Москву, к своим близким и к возлюбленному своему начальству. Мы будем отчитываться с Олегом, совать бумажки, приводить доказательства, а потом начнется повседневная жизнь, и за какой-нибудь год ударной работы, неуклонно повышая, а также снижая, экономя средства и материалы и используя внутренние резервы, я выделю себе несколько подпольных месяцев, когда смогу по три-четыре часа в рабочее утро посидеть за машинкой, обдумать все, что увидел, и все, что почувствовал, и, быть может, как-то попытаться об этом сказать.
И я уже слышу готовый упрек, к счастью не мне одному адресованный, а уже становящийся традиционным: где Армения? Нет Армении.
А ее ведь и нет, Армении, вот в чем дело. Нет Армении, как нет и России. Есть любовь к Армении и тоска по Армении, как есть любовь и тоска по России. А дома и улицы и даже леса и горы — это только ориентиры, точки привязки. Любовь к родине и тоска по родине — это и есть сама родина, не предметы, на которые направлены чувства, а сами чувства — любовь и тоска. Абсолютно прав был Грант Матевосян: и то не Армения, и это не Армения, но любовь самого Матевосяна к Армении и тоска по ней — это и есть Армения, и она более реальна, чем дома и леса, потому что она неизменна и вечна.
Конечно, мое отношение иное. Нельзя любить чужую страну как свою. Но, скажу я, нельзя любить и свою как чужую. А нуждаемся мы и в той и в другой любви, и еще неизвестно, какая для нас важней. Нации — те же живые люди. Потребность любить другой народ так же естественна в нас, как потребность любить другого человека. И так же мы здесь лишены возможности выбора, а любим — потому что любим…
Я всегда любил Армению и всегда тосковал по Армении. То была воображенная мной страна, щедрая, мужественная и счастливая, и такой она для меня и осталась, и такой будет всегда, вне зависимости от зримого соответствия. Но эта моя Армения до сих пор пустовала: только два-три имени, только три-четыре названия. Теперь я ее заселил и заполнил жизнью. Я пробыл здесь не много, не мало, но достаточно, чтоб полюбить армян — конкретных живых людей, с именами и лицами, а также многих других, которых теперь мне легко представить.
Что сказать мне о них в заключение? Разве только повторить еще раз чужую простую мудрость:
— Они не лучше и не хуже других народов, но я люблю их чуточку больше других…
1978
Незабвенный Мишуня
1
Она звонит мне в субботу вечером. Мне приятно слышать ее певучий голос, вполне еще, я бы сказал, молодой и только на самых спусках фраз срывающийся в старческое поскрипывание.
— Как ты завтра утром? Я не очень тебя отрываю? Ну вот, хорошо, спасибо. Мы ненадолго. Ничего с собой не бери, я все привезу сама.
Утром мы встречаемся с ней у метро. Я приезжаю минут на десять раньше, но она уже там, сидит на лавочке, еще издали, из окна автобуса, я вижу ее сгорбленную фигуру в сером плаще и огромную сумку рядом. Она улыбается мне радостной, но и сдержанной, но и ущербной улыбкой (другой у нее не бывает с тех самых пор…) Я целую ее чистую мягкую щеку и сажусь рядом.
— Ты давно?
— Нет, полчаса, не больше. Отдохнула. Ты же знаешь, какой я ходок. Ну, так я лучше выйду пораньше, чтоб тебя не задерживать.
Мы немножко беседуем о том о сем, и, отвечая на каждый ее вопрос — как дети, как мама, как на работе, — я успеваю привычно удивиться ее ненавязчивости. Она действительно хочет знать, но никак не станет влиять на мои ответы, а что расскажу, на том и спасибо. И поэтому я говорю охотно, подробно, порой чересчур подробно.
— Ну-ну, слава Богу. Мы сначала побудем у дяди Мишуни, сделаем все, что сможем, потом сходим к дедушке, потом к бабушке, а к тете Полюне уже не пойдем, ты и так потеряешь много времени…
Вставая к автобусу, она с усилием расправляет спину, навсегда согнутую спондилезом, и идет торопливо, почти легко, а я удивляюсь тяжести сумки, просто чудо, как она ее несла.
В автобусе душно, полно народу, и потом, когда мы выходим, полегче, но тоже жарко. Я в одной рубахе, но весь в поту, а она ежится в своем плаще, застегивает его на последнюю пуговицу. Мы входим в ворота, сворачиваем направо и идем по дорожке между оградами, мимо серых, красных и черных камней с русскими и еврейскими буквами. Это новая территория, здесь все вперемешку. Как всегда, когда я попадаю на кладбище, начинается во мне эта внутренняя работа, новая тревожная жизнь. Здесь и особое странное чувство: смерть, ужас, тайна… И еще больше — необходимость особого чувства: вот оно, то самое, перед тобой, что же ты, давай, чувствуй, скорее, острее — смерть, ужас, тайну…
Это новая территория, деревьев здесь мало, редкие пятна тени манят и притягивают и легко, без задержки, почти не дав облегчения, выпускают нас дальше, в открытое пекло.
— Может, ты отдохнешь, — говорит она, — сумка такая тяжелая!
— Тебе была легкая?
— Ну, я привычная. И меня же везло метро…
Поворот, еще поворот, угловая ограда. Проволокой примотанная калитка, заросли трав и кустов, дешевый серый камень из мраморной крошки… И как я ни распарен и ни притуплен, а свежий такой холодок пронизывает меня от макушки до пят: я вижу свою могилу. На камне выбита моя фамилия, большими буквами, без единой ошибки, и я с запозданием, сначала естественным, а затем, через мгновение, уже нарочитым, сползаю взглядом на мелкие буковки имени-отчества и дальше, на годы жизни. Нет, там под камнем не я, там мой дядя, Мишуня — Михаил Моисеевич, как звали его чужие. Эта надпись выбита — для чужих… И еще для чужих — не для своих же: «Незабвенному мужу, отцу и дедушке». Кто это придумал? От жены, от дочки, от внучки. Не от меня. Ну что ж, справедливо. Я и должен быть ото всех отдельно. И не потому, что я был ему дальше, это вряд ли, просто отдельно и все. Значит, дядя Мишуня там, под этим камнем, метра, наверное, полтора, и пятнадцать лет, так что там, под этим камнем? Гнилые доски, кости, остатки истлевшей одежды? Эти мысли не только ужасны, они и бесплодны, и я их с усилием от себя отвожу. А его жена, то есть вдова, стоит здесь рядом со мной, такая картинка, и ее плечи в скользком плаще «болонья» я обнимаю где-то внизу, потому что она опять забыла про свою осанку и, расслабясь, согнулась, как пружина, почти под прямым углом.
— Ладно, — говорю я, — тетя Женя, давай работать. А то еще дождь пойдет, вон как парит, ничего не успеем.
Две бутылки краски, кисти, совок, веник, лейку, садовые ножницы — все это мы достаем из сумки, и она еще далеко не пуста.
— Может, ты сначала покушаешь? У меня там курица, и рыбка, и пиво… Ну-ну, ладно, потом, потом.
Мы начинаем работать. Мы ходим к колонке, набираем воду, мы спокойно и деловито протираем ограду и камень, как протирали бы мебель, мы подвязываем кусты, пропалываем грядку, подстригаем ветки чужого, соседского тополя, слегка загораживающие наш памятник. Здесь, у нас, на крохотном квадратике — ботанический сад. Несметное множество различных трав, цветов и кустов, кажется, что все это растет не из земли, а друг над другом, в два или три этажа.
— Ужасно, — говорит она ворчливо, — как у меня здесь запущено! Каждый раз пытаюсь привести в порядок, и все не выходит. Вот это, мне сказали, красивые цветы, я вырвала анютины глазки, посадила их, а они так и не расцвели. А клубника немножко цвела, но ягод не будет, я уверена, потому что мешает вот этот куст, заслоняет солнце, и дождей же сколько времени не было, ну что я поливаю раз в неделю, разве это достаточно? Там у дедушки только одно дерево, зато подметешь — и чисто, аккуратненько, а здесь, у Мишуни, такой беспорядок, как ты считаешь?
Я никак не считаю, ничего не знаю, может, лучше, чтоб было густо, а может, чтоб чисто, кто поймет эту кладбищенскую эстетику?
— По-моему, — говорю я, — все хорошо. Только давай оборвем траву вдоль ограды, чтоб удобнее было красить.
Она с радостью хватается за эту траву — объективно нужное дело.
А потом мы с ней красим в две кисти, я снаружи, она внутри, и она работает быстрее и лучше. Работа нудная и кропотливая, мелкие чугунные завитки, попробуй заполни их все без пропусков, чтобы пыльно-серое стало блестящим и черным. И халтурить — как-то душа не лежит, невозможно себе позволить. А солнце жарит, прожигает спину. Она сняла, наконец, свой плащ, осталась в синем сарафане и черной косынке.
— Ой, только бы не было дождя, пропадут все наши труды!
— Ничего, — говорю я, — это битум, сохнет моментально.
Я прохожу еще только три стороны, а она уже закончила и идет мне на помощь.
— Там, внутри, удобней, — оправдывается она, — не надо ходить, только поворачивайся.
А потом мы сидим на соседней чужой скамейке, я сдираю крышку бутылки об острие чужой ограды, пью пиво, посасываю рыбку. А она все поглядывает туда, к нам, хозяйским, нетерпеливым взглядом, и порывается встать, и снова садится.
— Все! — говорю я. — Дело сделано. Сегодня уже больше ничего нельзя. Вымажешься, да и краску сотрешь. Успокойся.
Она склоняет набок седую голову, виновато улыбается.
— Ничего получилось? А? Как ты считаешь?
— Хорошо, — говорю я. — Просто хорошо!
И внутренне ежусь от этого слова, отнесенного все-таки, как ни крути, — к могиле…
— А верхушки серебряным — это уже потом, как-нибудь я сама…
— Ну что ты, что ты, — вру я великодушно, допивая пиво, — зачем сама, через недельку подъедем…
Она снова улыбается своей узкой, стесненной улыбкой, она благодарна мне за намерение.
Небо между тем с удивительной скоростью заполняется серой массой, и когда мы доходим с ней до ворот, уже падают первые великанские капли.
Настоящий дождь застает нас в автобусе. Все вышло очень удачно.
— Неудачно вышло, — говорит она, будто мне отвечая, — вся наша работа насмарку.
— Да нет, — говорю я, — ничего подобного, это битум, сохнет моментально…
— И к дедушке не успели, как нехорошо, я и в прошлый раз не была… Может, заедешь ко мне? — спрашивает она безо всякой надежды. — Я сварила такой чудесный борщ, а есть некому, все мои на даче…
Отчего-то я вдруг соглашаюсь.
И вот мы сидим у нее на кухне, я — с огромной тарелкой борща, а она — с каким-то диетическим блюдцем из творога, и она наливает мне водки в высокую тонкую рюмку. Я хотел бы сказать ей что-нибудь, что бы ей понравилось, но только не знаю, что же именно, и скажу чужие, пустые слова, и, может быть, так и надо… На губах ее улыбка, а в глазах слезы, она уже заранее предвидит мой тост и как бы произносит его вместе со мной.
— Ну, чтоб все его помнили!
— Пей на здоровье, сыночку. Кто его помнит?
— Как так? Ты его помнишь. Разве этого мало?
— Ах, я… Сколько уже мне осталось… И разве ему от этого легче? Ему все равно…
— Нет! — говорю я как можно весомей и тверже. — Абсолютно не все равно!
— Да что ты, милый, ты что, серьезно?
— Совершенно серьезно! Смерть — это ведь только начало. И сейчас даже самые крупные ученые… И в Америке…
Она ласково смотрит на меня сквозь слезы.
— И ты в это веришь?
— Конечно! — говорю я. — Безусловно, а как же! — и на миг чувствую уютную радость, как если б действительно верил… — И мы нашей памятью ему помогаем, облегчаем его страдания там…
— Да? Ты тоже его иногда вспоминаешь? — Она смотрит мне прямо в глаза. — Ну, какой он был?
— Он был пьяница, бабник и пустозвон, и немыслимый эгоист и бездельник, и очень меня любил, и я его тоже, и я навсегда перед ним виноват, потому что любил его меньше, чем он меня…
Она не вскрикивает, не хватается за сердце, не закрывает в ужасе глаз, потому что я этого не говорю, я говорю другое:
— Очень часто его вспоминаю. Он был хороший. Если ты не возражаешь, я выпью еще одну.
2
Он был пьяница, бабник и пустозвон и единственный отчетливый человек в нашем приглушенном, невнятном клане.
По праздникам, когда вся любвеобильная родня, поочередно лизнув и обозвав друг друга: Мишуня, Гришуня, Женюся, Кларуня — рассаживалась для доброжелательной трапезы, он один оставался белой, а вернее, рыжей вороной, центром маленькой опасности, горячей точкой стола. Рыжими, собственно, были только усы, небольшие, жестко-щетинистые, но и лицо его, даже чисто выбритое, всегда сохраняло оранжевый оттенок. Голову он тоже брил наголо, да и усы иногда снимал и тогда, как он сам говорил, на двадцать лет молодел, но сразу же принимался их снова отращивать, поглядывая в зеркало по нескольку раз на дню. Без усов он становился как бы наг и беспомощен и заметно иначе говорил и даже ходил, но продолжал их снимать время от времени. То была доступная перемена жизни, неопасная и обратимая, и она приятно его щекотала. Вообще всякая внешняя сторона имела для него огромное значение, и слово «красивый» не сходило с языка. Красивый дом, красивая свадьба, красивая женщина, красивая лошадь… (Лошадь в этом ряду не случайна, в молодости он обожал лошадей, был любителем верховой езды и владельцем красивого экипажа). Пожалуй, он и сам был красивый мужчина, и главным выражением его лица, имевшего много различных выражений, оставалось суровое мужское достоинство. Внутренне именно эта черта была скорее стремлением, нежели качеством, поэтому на всем его поведении лежал налет пародийности, иногда более, иногда менее явный, но никогда не исчезавший полностью.
Он всегда был центром маленькой опасности на наших тусклых семейных сборищах. На какой-нибудь дежурный вопрос о давлении, который задавала ему, допустим, жена племянника, он отвечал серьезно, четко и ясно, тщательно выговаривая каждое слово и лишь краснея от распиравшего его смеха: «А это в зависимости от того, кто меряет. Если молоденькая и красивая и есть за что подержаться, тогда не более чем сто шестьдесят. Честное-мое-слово! А в обычный период времени — двести на сто. Так что, если ты мне желаешь здоровья, садись поближе…» И, все аккуратно договорив до конца, тут же взрывался. Он смеялся один, остальные смущались — никогда они так и не устали смущаться, — отворачивались, заговаривали о другом, а он еще долго не мог успокоиться, гоготал и вытирал кулаком слезы. Тетя Женя, сидевшая где-нибудь рядом, если не хлопотала на кухне, привычно ворчала: «Мишуня… не стыдно…» — но он ее так же привычно не слышал. А потом, выпив подряд три-четыре рюмки — «стопки», как он всегда говорил, — вдруг подсаживался к какой-нибудь дальней родственнице, заботливо, по-родственному ее обнимал, «какая ты сегодня у нас красивенькая», и, глядишь, просовывал ей руку под мышку. «Да что ты, да нет, да ты не бойся, да я уже никуда не гожусь, честное-мое-слово!..»
Своему брату, всегда прибеднявшемуся, всегда вкрадчиво и бесшумно и втайне от самого себя совершавшему аккуратные свои коммерции, он мог сказать при общем внимании: «Ну что, Гришуня, как на работе? — И дальше, предупреждая дежурный ответ: — Тысяч сто у тебя уже есть? Или больше?» И тот спотыкался на первом же слове и сокрушенно качал головой, и все снова смущались и отворачивались и переводили разговор на другое, и тетя Женя ворчала, одергивая.
Иногда, если были посторонние гости, садились играть в «пятьсот одно». Он очень волновался, то краснел, то бледнел, и мухлевал явно, почти демонстративно, и, уличенный, хохотал до стонов и слез и, резко останавливаясь, переключаясь, вдруг обиженно говорил партнеру: «Все! Я с тобой не играю! Ты — Еврей. Ты Еврейский Еврей. А я с Евреями — не играю!» Причем произносил это слово отчетливо, с глубоким, безоговорочным «Е».
Он вообще говорил по-русски четко и ясно, с назойливой канцелярской правильностью, любил передразнивать картавую речь какой-нибудь провинциальной «яхны», и когда сам переходил на идиш, то это тоже выглядело как передразнивание. А когда однажды в году, на Пасху, он набрасывал талес, брал в руки тяжелую книгу и читал скороговоркой никому не понятный текст, то казалось, что это русский актер-неудачник в меру сил изображает еврея на молитве.
Дружил он обычно с милиционером или с каким-нибудь средней руки чиновником. То была осторожная, напряженная дружба, и он не обязательно в ней выгадывал. Просто ему импонировала близость к власти. Каждая встреча кончалась пьянкой, почти каждая пьянка — сердечным приступом, когда он тяжело стонал и ругался и цедил сквозь зубы: «Кончено. Все. Умираю…» Тетя Женя, непрерывно и ровно ворча, стаскивала с него сапоги, снимала сталинский защитный френч и непременные галифе, так что он оставался в белых кальсонах, и с моей помощью укладывала его в постель. Затем, все так же ворча, вливала с ложечки капли. Ворчание было ее единственным правом в их многолетней семейной жизни.
Мне случалось бывать у него на службе, на некоторых из его многочисленных служб, всех этих ОРСов, УРСов, заготконтор и коопсоюзов. (Все названия учреждений, где он работал, были словно списаны со страниц «Крокодила».) Там он был всегда возбужден до крайности и так озабочен и деловит, как только могут прирожденные бездельники. Он считал на счетах, подписывал бумаги, перекладывал папки, листал календарь, отвечал одновременно сидевшим напротив и в трубку, зажатую между плечом и ухом… Да притом еще френч, галифе, сапоги, бритая голова и короткие усики — типовой бюрократ из фильмов тридцатых годов. «Нет, нет и еще раз нет! Ка-те-горически воз-ражаю. Это не моя компетэнция». С подчиненными он был сух, приветлив и вежлив, с начальством и женщинами — остроумен и прост, то есть шутил через правильные промежутки времени и ржал, гогоча, давясь и повизгивая.
Он любил брать меня с собой на работу, после школы, а иногда и вместо школы. «Мой племянник, — говорил он секретарше. — Совершенно верно. Погибшего брата. Да, вылитый. А вы сегодня — просто на „ять“! Мне бы скинуть полтора десятка… Честное-мое-слово!.. Не горбись!» — и пропускал меня в дверь, вперед, и какое-то время, пока я стоял один в кабинете, он еще оставался в приемной, с лукавым удовольствием наблюдая за моей растерянностью. Впрочем, кабинеты с секретаршами бывали не часто, обычно же это была небольшая каморка, где вдвоем не уместиться, только столик и стул, и маленький сейф, и фанерная дверь с висячим замком — но всегда отдельное помещение, я не помню, чтобы он работал с кем-нибудь в общей комнате. Он запирал сейф, брал папку с бумагами, накидывал висячий замок, и мы отправлялись на территорию, на какой-нибудь склад готовой продукции, или в пошивочную мастерскую, или в подвал овощехранилища. И опять он меня пропускал вперед и командовал издали: «Направо. Я сказал, направо. Где у тебя право? Не горбись… Здравствуйте. Что хорошего скажете?» Он произносил отчетливо «здрав…», а не «здраст…», как будто читал по складам.
Объективный его портрет совпадает с любой его фотографией. Бритый череп; лицо прямоугольное, твердое, щеки слегка раздуты; глаза светлые, нос не длинный, но крупный; подбородок заострен и хоть и резко очерчен, но слишком мал, чтобы принадлежать человеку поступка. Жаль, не осталось цветной фотографии, хотя боюсь, что оранжевое свечение, так явственно вроде бы от него исходившее, становилось заметным лишь на фоне окружающей серости…
И вот на протяжении многих лет этот человек и никто другой был мне добрым отцом, и заботливым приятелем, и отважным защитником и избавителем.
3
Вся моя память о наших с ним отношениях — это цепь подарков, сюрпризов и праздников. И первый и, может быть, главный из них — праздник избавления от театра.
В сорок третьем году в тыловом Челябинске, вскоре после известия о гибели отца (быть может, через год, но так уж мне чудится: вскоре…) главным предметом моей ненависти сделался театр оперетты. Я боялся его и ненавидел больше, чем немцев, которые были все же отвлеченным понятием, хотя и сделали что-то плохое отцу, которого я и вовсе не помнил; больше, чем группу в детском саду, где все же имелись какие-то игры и была одна сердобольная воспитательница, не заставлявшая доедать до конца ту бурду, что выплескивали в тарелки огромным половником из огромной и страшной кастрюли.
Два раза в неделю театр оперетты становился моей многочасовой тюрьмой, веселым и шумным пытчиком и издевателем. За мной в сад тогда заходила не мама, а тетя Вера, ее подруга, добрая, как теперь я думаю, женщина, но тогда страшившая меня безумно — вечной улыбкой и мягким и ровным голосом. Она брала меня за потную дрожащую руку и вела через дорогу, мимо яркого подъезда, и за угол, и в темный служебный вход, и какими-то крутыми лестницами, выше и выше, и в маленькую дверцу, ведущую не в комнату, а в огромное красное пустое пространство, обрывавшееся круто и далеко вниз из-под узкого и ненадежного барьерчика. Здесь стояло несколько кресел вплотную друг к другу, и на одном уже лежала подушечка, чтоб повыше, на него меня и сажали. Здесь я должен был жить один все то время, пока зал внизу заполнялся людьми, и потом, когда там грохотала музыка, и дальше, когда на сцене кривлялись и прыгали, и до самого конца, до которого я никогда не дотягивал, а мучительно просыпался, весь в слезах, от аккуратных маминых поцелуев.
Артисты театра были нашими знакомыми, мы с ними дружили. Одного я помню довольно отчетливо. На сцене он чаще всего гонялся за теткой с розовым зонтиком (одна из многих театральных нелепостей: зачем зонтик, дождя-то не было!..), она же бегала очень медленно, какими-то дурацкими мелкими шажками, и он, конечно, ее догонял, почему-то, правда, всегда у самого края сцены, и, догнав, не хватал ее и не салил, а ловко становился на одно колено, прямо в чистых голубых полосатых штанах (вообще одет он был идиотски), одну маленькую ручку прижимал к груди, а другой обводил вокруг себя и громко и противно орал:
Лишь! О! Те! Бе-э! Мои мечты! И в моем сердце Царишь только ты. Моей любви не отвергай! И насладиться счастьем дай!В жизни он тоже был очень странный, ходил с тонкой загнутой тросточкой, и сначала не был нашим близким знакомым, а потом, когда мы с ним подружились, то я перестал его видеть на сцене, то есть, как я теперь понимаю, перестал попадать на те вечера, когда он был занят на сцене.
Но в тот, последний мой вечер в театре я вижу только дядю Мишуню, все остальное уже не имеет значения. В этот раз на сцене было много народу, какие-то резкие, лимонные женщины и в двухцветных, сине-оранжевых штанах, как бы хромые, мужчины. Вся эта масса переливалась справа налево, оставляя полсцены пустой, а затем, в такт грохочущей музыке, — обратно, слева направо. Эта волны колыхались у меня в глазах, уже застланных слезами тоски и усталости, как вдруг сзади хлопнула дверь, и молча, багровощекий от напряжения, рядом со мной уселся Мишуня, мой любимый дядька, родной человек. Так он сидел какое-то время, как бы вовсе не глядя на меня, только чуть кося, и я тоже молчал, оцепенев от радости. А потом он прорвался, взорвался хохотом, и стал меня мять, целовать и тискать, и унес на руках из этого паскудного места, и больше я сюда никогда не возвращался.
Перемена в моей жизни произошла решающая. Те дни, когда за мной приходила не мама, раньше были моими казнями, а теперь стали моими праздниками. Он входил в раздевалку, громко и четко ступая, весь крупный, резкий, шумный, напряженный, «ЗдраВствуйте!» — громко говорил воспитательнице, обнимал, целовал меня, укалывая усами и обдирая наждаком щеки, приказывал приглушенным носовым голосом: «Быстро одевайся!» — и при этом заговорщицки косил глазами, и опять разгибался к воспитательнице: «Пр-рошу пр-рощенья! К вам у меня будет серьезный вопрос. Как! Мальчик! Ест?» И, внимательно выслушав, брал ее за локоть: «Оч-чень вам благодарен!» И улавливал момент, когда она смущалась, и вставлял одну из своих пяти острот, багровея, и сдерживаясь, и прорываясь, и она хихикала и мягчела, и вообще становилась такой, какой никогда не бывала…
Мы ехали с ним на трамвае, не помню, долго ли, коротко ли, и квартиры, где они жили, тоже не помню, а только — тепло и спокойную радость. Тусклый мягкий свет, уютный керосиновый дым; тетя Женя, нежно дующая на блинчик перед тем, как сунуть его мне в рот; мучная затируха в фарфоровой миске, кислая капуста с подсолнечным маслом; и снова Мишуня — пропускающий стопку и торопливо и весело хрустящий луком. «Нет, что ты, Женюся, по единой — и стоп! Будешь меня просить — не стану».
Еда была, безусловно, центральным занятием, и в главном центре этого центра помещалась, конечно же, консервная банка волшебного лилово-синего цвета, овальная, с припаянным сбоку ключиком. Мне разрешалось осторожно повернуть этот ключик, наворачивая на него жестяную ленточку, до тех пор, пока хватало моих сил, дальше доворачивал дядя Мишуня. Сказочный, ни с чем не сравнимый запах выбивался из-под острого, опасного края: американский колбасный фарш… (Смешно, но именно эта гармония: запах, и вкус, и цвет этикетки, и форма банки — как казалась, так и оказалась потом высшей точкой наслаждений для всего моего поколения, той физически ощутимой вершиной счастья, до которой нам больше уже никогда не добраться…).
Иногда заходила Дина-Динуся, моя кузина, их взрослая дочь. Динуся жила отдельно, с мужем, а сюда приходила, чтобы есть блины, читать письма с фронта и плакать. Но прежде чем начать есть и читать, она, еще не снимая пальто, хватала меня, кружила по комнате, смачно целовала в обе щеки и одаривала чем-нибудь, не столь замечательным, но также достаточно интересным: куском развесного горького шоколада или горстью цветных шершавых «подушечек». О муже ее говорили «бронь», «инженер» и «побольше бы таких гоев», но при мне он пришел всего однажды. Был он крупный, скуластый, чужой, в очках и, обращаясь ко мне, говорил: «крестьянин». «Ну как, крестьянин, ну что ж ты, крестьянин, эх ты, а еще крестьянин!..» Динуся в тот раз писем не читала, хотя блинчики ела. Тетя Женя хлопотала вокруг, не присаживаясь, а дядя Мишуня пил по единой с Динусиным мужем, багровел и хихикал, нервно стучал по столу пальцами, выстреливая ими из сжатого кулака, или вдруг распластывал ладонь на столе в напряженном покое — и вел чужой, несемейный разговор. «По части качества — не компетентен, но по части стоимости — не могу согласиться…» И таким же я его видел потом, в Москве, когда он пил с милиционерами.
По утрам, пока мы собирались и завтракали, тетя Женя что-то быстро ворчала по-еврейски, он отвечал ей коротко и брезгливо — всегда разговаривал по-еврейски с легкой брезгливостью — и заключал: «Говорю тебе, смешной ты человек, я не против, только нервируем мальчика. Но она на это никогда не пойдет, и будет большая обида…»
И сначала вернулась в Москву тетя Женя, с Динусей и Динусиным мужем, а он остался. Я не помню прощанья, быть может, его и не было, но однажды вечером мы приехали с ним, как обычно, вошли в их комнату — а там никого. Он возился с керосинкой, обжигал руки, матерился, то и дело подходил к буфету, наливал себе стопку, хрустел луком. Предлагал и мне — луку и хлеба: «Закуси, почувствуешь себя мужиком…»
А еще через несколько дней уехал и он. Не прощаясь, уж это я точно помню. Не пришел за мной, вот и все. Оказалось — уехал.
Не стало в городе дяди Мишуни, и жизни не стало. Провал, серая пустота, детский сад, тусклые вечера дома. Какие-то неудобные, ненадежные гости, разговоры и смех как будто сквозь сон. Низкорослый летчик дядя Костя, сперва поразивший мое воображение тем, что летчик, но вскоре разочаровавший полностью, так что я и верить перестал, что летчик, и решил, что пропеллеры у него на погонах — просто так, как у некоторых мальчишек: нашел, прицепил… Потому что оказался он однообразен и глуп. «Дядя Костя, — спрашивал я, — а самолет, он какой?» — «Смотря какой самолет», — отвечал дядя Костя. «Ну, а пушка, — спрашивал я, — а она какая?» «Смотря какая пушка», — отвечал дядя Костя…
Так тянулись месяцы… И вдруг… С ним все было вдруг.
Страшный, заросший длинной щетиной, так что усы и не выделялись, с воспаленными, красными глазами… Вошел в комнату, на мгновение молча застыл у двери, потом схватил меня, поднял на руки и крепко-крепко прижал к себе.
— Ну вот, — бормотал он сквозь смех и слезы, — ну вот, ну вот, чудной ты парень! А ты боялся… А ты боялся… А ты боялся…
Потом отпустил меня, обнял маму.
— Выпить нет у тебя? Ну, давай чаю. Съем быка. А может, найдешь? Ну зайди к соседям.
И уже за стопкой, все-таки как-то нашедшейся, прожевав, проглотив (никогда не разговаривал с наполненным ртом):
— Не поверишь, еду уже неделю. Прямого билета не было, взял до Самары. А там — тысяча и одна ночь. Битых трое суток сидел на вокзале. Еще великое счастье — один, без вещей. Люди падали, теряли сознание. Ни поесть, ни помыться. В уборную очередь. В кассу, к начальнику — смертоубийство. Не знаю, как у меня сердце выдержало. Ну, это уже все позади. Готовь мальчика, время не ждет. Не позднее чем завтра мы отбываем.
Мама слушала, курила, качала головой:
— Неужели специально за ним приехал?
— А то как же? Ну, еще — на тебя поглядеть. Ты такая у нас красивая — все отдать и мало…
Он привез мне удивительный, чудесный гостинец — настоящее печенье фабричной выпечки, в аккуратной целлофановой упаковке. Я долго этим печеньем играл, складывал в домики и колодцы, все никак не решался сломать, откусить, Было оно похоже на то, каким в сказке Пушкина угощалась сварливая старуха, когда стала царицей. Там, правда, сказано было «пряник», но нарисовано уж точно вот это печенье. До сих пор, когда слышу или читаю: «заедает она пряником печатным» — вспоминаю тот самый дядькин подарок: бледно-розовый целлофан, разрывавшийся мягко, почти съедобно, и под ним — две колонки почти несъедобных квадратиков, с выпуклым, шершавым и хрупким узором…
4
В то время носильщики были носильщиками, а не возильщиками, как теперь. Никаких тележек, только руки и плечи. Носильщик связывал широким ремнем, снятым прямо тут же с пояса, два тюка или чемодана, вешал их себе на плечо, еще два предмета прихватывал в руки — это был предел его грузоподъемности. Наш носильщик, седой, сутулый мужик в армейской фуражке, был как раз на таком пределе. Он уже достиг середины толпы, половины пути до двери вагона, когда его сбили с ног и стали затаптывать. Дядя Мишуня ждал его в тамбуре, выглядывал из-за чужих плеч и голов, мы с мамой стояли в стороне на платформе. Носильщик нам не был виден, только Мишуня — его огромный, раскрытый в крике рот и перекошенное, как бы сморщившееся лицо. Рев толпы никак не обозначил падения носильщика, оставался таким же ровным, с редкими всплесками, и Мишунин крик был беззвучен на этом фоне. Но зато мамин истошный вопль был услышан не только мною. Подбежала молоденькая милиционерша, спросила, поднесла ко рту свисток, подошла вторая, постарше, спросила, тоже поднесла ко рту свисток. И еще подбежали два или три носильщика, и все они бросились на толпу, свистя, вопя, колошматя кулаками куда попало… Наш носильщик лежал ничком, подвернув руки, наши ободранные чемоданы обжимали ремнем его плечо, один чемодан был у него под грудью, другой свешивался со спины. Один из узлов, неузнаваемо грязный, изодранный и истоптанный, валялся поодаль, второго узла вообще не было.
Носильщика унесли на носилках, чемоданы и узел дядя Мишуня поочередно втащил в вагон, и сразу же толпа с отчаянным ревом бросилась вновь заполнять законное свое пространство.
Мама металась со мной по платформе, и как бы в ответ в окнах вагона метался бритоголовый мой дядька. Наконец, чьи-то большие руки цепко и грубо схватили меня и подняли. Я заорал, но в следующий момент уже упирался животом и руками в остроугольную деревянную раму, а в следующий — сидел на верхней полке на вдвое сложенном Мишунином черном пальто. Он обнял меня, прижал к себе, деранул плохо выбритой жесткой щекой, обдал знакомым запахом водки и лука, отодвинулся, вынул чистый платок и, хотя был сам в поту и слезах, стал вытирать не себя, а меня: глаза, щеки, шею, нос…
— Не нервничай, — сказал он, кусая губы. — Ты, главное, только не нервничай. Держись, казак, атаманом будешь. Понял меня? Ну то-то…
На этой полке, на этом пальто я и валялся четверо суток, и четверо суток внизу подо мной, тесно зажатый соседями, сидел и кемарил дядя Мишуня. Ночью я падал ему на голову, днем канючил и рвался к маме, и то непрерывно просил еды, то блевал в подставленное им полотенце, от всего отказывался и лежал неподвижно лицом к стене. Он уже тогда был больным человеком, оттого его и не взяли на фронт. (Разумеется, он туда никогда и не рвался.) «Грудная жаба» — два этих загадочных слова как бы вечно витали вокруг него, были как бы приставкой к его имени и присказкой к разговору о нем. И если бы он умер в конце концов от сердечного приступа, я бы мог считать, что внес посильную лепту, что и этот груз — на моей совести, пусть хоть и совсем небольшой своей частью (кто знает, какой?..). Но умер он от другого.
5
Москва для меня оказалась поселком, пригородом, почти деревней, с заборами, огородами, собаками на цепи и даже коровами. По этой, нашей Москве ходили пешком или ездили на санях и телегах. Там всегда стучали молотки-топоры и зудели и визжали пилы.
Молоток, топор, пила — и дядя Мишуня… Это единство всегда со мной, всю мою жизнь, и всегда так будет, да сколько уж там осталось… Плотницкий инструмент в моей руке — это значит, что и он где-то тут, непременно рядом. Так уж мне суждено, что работа с деревом для меня всегда — спиритический сеанс, и не было случая — поверьте, ни одного! — когда бы простой молоток, обхват его рукоятки, не вызвал из небытия этот голос, скрипучий, насмешливый, назидательный. Этот голос звучал надо мной постоянно, он командовал, он направлял, поучал, он журил, одергивал и ставил на вид — и он никогда, ни в какой момент не бывал мне в тягость. Это странно, в это просто невозможно поверить, в чем тут дело? — спрашиваю я себя, и не знаю, не нахожу ответа. Все его фельдфебельские уроки жизни вспоминаю я не только без всякой досады, я вспоминаю их с наслаждением. И совсем не потому, что, повзрослевший и умный, я теперь понимаю пользу и смысл муштры. Я и теперь не понимаю ни смысла, ни пользы, но его муштру, его наставления я и тогда принимал с радостью.
— УбЕри голову. Дальше руку. Ближе к концу. ГлЯди на шляпку…
Новый гвоздь любой толщины и длины он вбивал в доску за три-четыре удара. Старый — неровный, кое-как подправленный, лез напропалую под его молотком, будто кто-то втягивал его изнутри.
— Легче, легче! БЕЗ усилий! НЕ напрягайся! Не ты пилишь — пила пилит…
Казалось, и впрямь, отдерни он руку, и пила будет продолжать пилить, так же весело и легко, по щучьему велению.
И вот, при таком мастерстве и такой виртуозной легкости, он ни разу ничего сложнее забора не выстроил, да и забора не выстроил целиком, разве только кусок: перекладину, несколько досточек… Было бы проще всего сказать, что он не умел ничего заканчивать, но это бы не вполне отвечало истине. Как раз завершить, подправить, докончить — это он мог и даже любил. Не любил же он середины работы, то есть главного, полного ее разворота, где надо было учитывать все элементы, совершать однообразные повторные действия и, главное, держать в уме результат. И поэтому всё, что действительно делалось: сарай, сортир, покрытие крыши, пристройка террасы — было сделано не его руками, а руками нанятых мастеров, которым он всегда хорошо помогал, но только вначале или в конце.
Он умел и любил играть в работу, работать он не любил, не умел. Плотник Саня, флегматичный, степенный мужик того же возраста, что и дядя Мишуня, часто выполнявший наши заказы, все никак не мог привыкнуть к его манере.
— Ты Еврей! — вдруг говорил ему дядька, неожиданно появляясь рядом. Саня цепенел и смотрел на него ошалело. — Ты Еврейский Еврей, сразу видать по работе. Разве русские так работают, мать честная! Давай покажу. Разметил? Здесь? Ну, глЯди…
И в несколько легких, веселых движений отпиливал, как ножом срезал, аккуратный, ровный кусок доски.
— Гвозди, Еврей, забивать умеешь? — спрашивал дядя Мишуня и всхлипывал: он уже был на грани взрыва.
Он хватал гвоздь, приставлял, наживлял, влеплял его тремя лихими ударами — и сразу, освободившись, прорывался визгливым и лающим хохотом. Саня стоял, улыбался смущенно, ждал, когда ему отдадут молоток. Дядька забивал еще один гвоздь, хлопал Саню по плечу и говорил, повизгивая от остатков внутреннего, укрощенного смеха:
— Красиво? Ну то-то. Ничего, нэ журысь. Москва тоже не сразу строилась. Давай веселее!
И уходил на другой конец двора — копать ямку под какой-нибудь столбик, который будет вкапывать тот же Саня, разумеется сперва доведя ее до нужных размеров…
Все свободное время он ходил по двору в сопровождении пушистой пятнистой Джульбы, которую чудом во время войны сохранила нам добрая соседка-молочница, ходил и неутомимо играл в хозяйство: что-то отрывал, что-то приколачивал, выкапывал, вкапывал, переносил. Всякие монотонные, однообразные движения приводили его в неистовство, вызывали неизбежный сердечный приступ. К примеру, та же пила, любимый его инструмент. Он прекрасно знал все приемы разводки и точки, но ни разу не развел и не наточил. Вот он брал в руки двуручную пилу, которой мы обычно пилили дрова, осматривал зубья, качал головой:
— Трясця вашей матери! Никуда не годится. Надо точить. Надо точить. Надо точить.
И аккуратно откладывал ее в сторону, как бы для точки. Назавтра мы пилили с ним той же пилой, он ругался, осматривал и снова откладывал. Так повторялось по многу раз. Наконец, он решался, надевал очки, отыскивал треугольный напильник, громко топая, заносил пилу в комнату («в горницу», как он говорил), шумно и подробно снимал со стола клеенку.
— Боже мой, что ты уже придумал? — ужасалась тетя Женя. — Это что, обязательно делать в доме, в сарае нельзя, тебе мало места?
— Не нервничай, Женюся, я тебе все объясню. Нужен! Ровный! Стол!
— Так что, верстак уже не годится? Тебе же Саня специально сделал верстак, ты заплатил ему кучу денег…
— Пав-торяю. Нужен-ровный-стол! А глэйхер тыш. Ясно? Или не ясно?
Она качала головой, вытирала слезы и уходила на кухню.
Он очень серьезно и обстоятельно прилаживал пилу к краю стола, заставлял меня держать то с одной, то с другой стороны, затем, наконец, проводил напильником по первому, по второму зубу, останавливался, окидывал взглядом весь бесконечный их ряд, хватался за сердце и топал к буфету: принимать рюмку капель Зеленина и стопку лимонной водки.
Затем — не сразу, не в этот день, а попозже, дня через два, через три — я относил пилу в мастерскую Сане, а наточенную Саня уже сам приносил обратно. Дядя Мишуня ее строго осматривал, чуть не каждый зуб пробовал пальцем, впечатление было, что он недоволен и сейчас непременно вернет обратно. Но это он просто играл в инспекцию, тут же хлопал Саню по плечу, жал ему руку, говорил:
— Цены тебе нет. Орел! На «ять», честное-мое-слово.
И тащил его в горницу — отметить событие…
Пилка дров была едва ли не единственной работой, которую он не любил, но делал. Мы с ним долго к этому морально готовились и решались лишь при крайней необходимости, когда дров оставалось на сутки-двое и тетя Женя уже, ворча, надевала ватник. Он обнимал ее, целовал, снимал с нее ватник, надевал его сам и показывал мне головой и руками, что, мол, все, надо, ничего не поделаешь. Мы долго ставили козлы, правее, левее, долго выбирали первое бревно, тщательно сбивали снег, укладывали. Первый надпил он делал один, без моей помощи, направляя пилу отогнутым пальцем левой руки.
— Давай! — говорил он строго. — Не дергай. Не спеши. Не толкай. Не жми. Тяни. Запомни: пила пилит сама!..
Пила пилила сама, но рука уставала, и, кончая очередное бревно, страшно было подумать, что сейчас же, немедленно придется все начинать сначала. Он чувствовал мою усталость, да и сам уставал, а верней, ему просто надоедало, и он устраивал деловой перерыв, переходя от скучного дела — к веселому, к одной из своих любимых хозяйственных игр.
— Стоп! — говорил он. — Сейчас ты мне будешь нужен. Повернись к забору. Стоп. Иди. Вперед. Еще. Еще. Стоп. Сможешь влезть? Смо-ожешь! Давай подсажу. Ногу ставь на перекладину. Теперь вторую. Держишься? Крепко? Смотри, отпускаю. Теперь рассказывай, что ты видишь.
За глухим высоким забором был ЖКО — жилищно-коммунальный отдел, как теперь я думаю. Стоя на перекладине, я видел закрытый двор, обитый железом сарай с огромным замком, несколько пар саней, кучи бревен и досок и еще множество разных предметов, засыпанных снегом.
— Доска, — строго приказывал он, — погляди, какая доска.
— Да тут не одна, тут разные доски, большие, маленькие…
— Чудной ты человек. Вот я и спрашиваю: какая доска?
— Ну, разная… доска. Я тебе же сказал.
— Горбыль или тес?
— Не знаю, не видно отсюда.
— Прыгай.
— Что?!
— Пав-торяю. Прыгай. Не нервничай, не ударишься. Под мою ответственность.
Я, конечно, не прыгал, а слезал понемногу, цеплялся руками, упирался коленями и сползал в глубокий снег на той стороне. Меня сразу же охватывало странное, неуютное, тревожное, но и сладкое чувство чужой территории. Даже небо, казалось, здесь было иным — холоднее, темнее, и от каждой точки пространства, от любого предмета исходила неведомая мне опасность. Джульба как бы чувствовала мое состояние и начинала подвывать и легонько потявкивать.
—Молчи, дуреха! — сипел ей дядя Мишуня.
Я выбирал доски поменьше, полегче, отдирал их, смерзшиеся, друг от друга и волок по одной к забору, из-за которого он командовал едким шепотом:
— Поднимай! Вер-тикально. Одним концом. Что значит вертикально? Так. Поднимай…
Иногда я думаю… Явно несправедливая, но навязчивая и как бы правдоподобная мысль… Он был так ко мне поминутно привязан… Не оттого ли, в частности, что я оставался единственным безотказным его подчиненным? Он ведь был чиновником по природной склонности, даже целым учреждением в миниатюре, и порой мне странно, что он так и не сросся со всеобщей конторской машиной, не добрался даже до средних рангов и пенсий, а при каждой попытке вылетал в сторону и так в конце концов в стороне и остался. Видимо, он и в чиновники играл, как в солдатики, а вокруг-то все были совсем иные, взаправдашние и страшно серьезные люди…
Он был хорош с этими своими командами: в галифе, в коротких обрезанных валенках — «чеботах», в телогрейке с широким армейским ремнем и в каракулевом треухе с кожаным верхом. То и дело он снимал одну рукавицу, высмаркивался в снег, вытирал ладонью усы. В кармане у него, я знал, всегда был чистый носовой платок, но он берег его для других случаев, для представительства и выхода в свет…
Выход в свет мог быть выходом на работу, или поездкой в командировку, или посещением поликлиники.
В поликлинику мы ходили довольно часто, то я с ним, то он со мной. Детская и взрослая располагались вместе, в одноэтажном доме барачного типа, в небольшом палисадничке, как бы скверике, с деревянными скамьями, гипсовыми пионерами и черным крашеным взрослым Лениным в детский рост.
Там внутри он сразу весь напрягался и дежурный комплимент пожилой регистраторше: «А вы все молодеете, хорошеете…» — выжимал из себя, как урок, с заметным усилием. Он здоровался с очередью, садился жестко и прямо, покашливал, сжимал и разжимал кулаки, выстреливая напряженными пальцами, и со мной разговаривал гнусавым шепотом, опасливо косясь куда-то в сторону, на одной назойливой интонации:
— Не горбись. Платок. Возьми платок. Повернись налево. Где у тебя лево? Сядь на стул. Встань. Подойди. Почитай, что написано, потом расскажешь.
Я брал платок, поворачивался, садился, вставал, шел читать, что написано. Написано было — и нарисовано — на цветных стеклянных диапозитивах, вставленных в деревянную этажерку, вращающуюся, с лампой внутри. Включаешь свет, смотришь рисунки, прочитываешь, что написано, сверху вниз, поворачиваешь и читаешь дальше. Такие штуки и сейчас еще висят кое-где в поликлиниках, их идея оказалась столь же устойчивой, как форма градусников или цвет больничных листов.
Жили-были Мик и Мак, Славные братишки. Кто такие Мик и Мак? — Плюшевые мишки.Два плюшевых медвежонка, один хороший, послушный и потому здоровый и бодрый, другой — капризный, непослушный — больной.
Мак не слушался врача — Вот и тает, как свеча!Я расстраивался и переходил к другой этажерке, где было показано, как надо мыть фрукты, чтобы остаться в живых после того, как их съешь. Красные яблоки, желтые груши, клубника, вишня и еще ви-но-град — тоже ягоды вроде вишни, но только кучкой, по многу вместе и синеватые, продолговатые, со сладким соком внутри под названьем «вино»… Странно, все светящиеся эти картинки вызывали не аппетит, а скорей тошноту и какое-то унылое, болезненное чувство. Оттого ли, что была вокруг поликлиника, запах йода и камфоры, топот сестринских ног, или, может, само стеклянное это свечение, исходившее от самых различных предметов, которые по природе своей не должны бы светиться?.. Я этого так до конца и не понял, а пытался понять не раз, потому что и всегда потом, и сейчас с тем же болезненным тошноватым привкусом воспринимаю любой освещенный изнутри диафильм, не имеет значения, на какую тему и где он висит: на промышленной выставке, в медицинском НИИ, в овощном магазине… И такое же болезненное, саднящее чувство вызывает у меня иногда цветной телевизор.
— Встань, пойди-подыши-свежим-воздухом!
Я шел на улицу, дышал, проходил по скверу. Ленина осторожно обходил стороной — он пугал меня глянцевой своей чернотой, а еще больше своими размерами, напоминая злого карлика из арабских сказок. (Спешу оговориться, что дело не в Ленине, а в свойстве самой скульптуры. Через несколько лет в пионерском лагере я наткнулся на точно такого же Пушкина, тоже черного и ростом с семилетнего мальчика, — и точно так же его испугался, хотя, конечно, сегодня мне ясно, что черный Пушкин — это все же нечто более естественное и менее страшное.) Возвращался я в коридор-ожидальню усталый, раздраженный, с одним желанием: поскорее домой. Дядя Мишуня уже был в кабинете и даже уже стоял у двери, готовясь выйти: было слышно, как он время от времени угодливо хохотал-грохотал в ответ на неслышные врачихины шутки-напутствия. Затем вдруг резко распахивалась дверь — вся очередь дожидалась этого момента, но он оказывался всегда неожиданным, — и дядька мой вылетал ко мне, гогоча по инерции, стремительно, в полувоенном френче, в галифе и вычищенных сапогах, вытирая потное, красное лицо чистым носовым платком и бережно неся двумя пальцами свеженький голубой бюллетень…
6
Нижние доски, не такие смерзшиеся, поддавались гораздо легче, и фонарь на столбе, похожий на репродуктор, не пугал уже скрипом и движеньем теней, я привыкал, входил в азарт — и тут он как раз говорил:
— Молодец. Довольно!
Я возмущался:
— Ты что! Ну вот эти две? Увидишь, какие хорошие, длинные…
— Я сказал: довольно. Положи обратно. Ровней, ровней…
Я был ему невидим из-за забора, но он как бы чувствовал каждое мое движение.
— Ровней, как было. Присыпь снегом. Немного, до утра еще будет сыпать, занесет как положено. Готово? Теперь осмотрись, поищи ящик. Там должен быть ящик, рядом с тобой.
— Чего, зачем?
— Не понял? Я сказал: поищи ящик. Не крути головой во все стороны. Сначала погляди направо. Внимательно. Потом налево…
Я действительно находил ящик, приставлял к забору, а уже его убеленный снегом треух покачивался над тупыми скосами досок, и еще несколько несложных команд и нетрудных усилий — и вот уже крепкие надежные руки опускают меня на родную землю…
Новых, моих досок нигде не было видно, я растерянно озирался вокруг, а он хохотал, довольный:
— А-а! Не можешь найти? Ну вот то-то! И никто не найдет! И никто не найдет! И никто не найдет. Ну, еще попробуй, посмотрим, какой ты сыщик. А? Что? Что — как, как! Ловкость рук и никакого мошенства. Ничего не знаю. Ничего не знаю. Ищи! Ищи!..
И снимал рукавицу и вытирал счастливые слезы.
Разгадку он оставлял для меня на завтра, когда оказывалось, что только что добытые доски аккуратно сложены под старыми, нашими — тоже украденными в свое время, но настолько давно, что как бы уже не представляли опасности…
Мы возвращались к козлам воодушевленные, пилили весело и легко, и я без конца обсуждал операцию, а он, тоже довольный успехом, а еще больше — моим удовольствием, сохранял то, что должно было быть солидностью, и только время от времени гмыкал и, сдерживая себя, влажно поддакивал:
— Д-да!.. Д-да!.. Н-ну?.. Д-да!..
В следующий перерыв он колол, а я отдыхал. Он колол лихо, с уханьем, с кряканьем, и мне очень нравилось это зрелище, и ему было важно, чтобы мне нравилось. Он всегда старался расколоть полено с одного удара, а если не выходило, то непременно оправдывался:
— Сучковатое. Видишь? Вот и вот. А это, брат, уже нешутейное дело, тут просто так, по-дурацки не выйдет, тут надо с умом. Надо с умом. Поищи-ка клин!
Я искал клин, он вбивал, раскалывал и с важностью показывал мне разрубы сучков, и опять радовался… Опять радовался.
Потом мы относили дрова к поленнице, и он набирал на левую руку огромную кучу, и просил меня подложить еще, и правой успевал подхватить соскользнувшие, и казалось, теперь не донесет ни за что, но он доносил и сразу начинал укладывать, на меня не глядя, лишь спиной воспринимая мое восхищение…
— Все! — говорил он. — Все! Баста! По сто пятьдесят мы сегодня с тобой заработали.
И уже открыв дверь на веранду, через которую мы проходили в дом, вдруг останавливался и взглядывал мне в глаза:
— Устал?
— Н-нет.
— Замерз?
— Да нет…
— Говори честно. Точно нет? Тогда у меня будет к тебе серьезное дело. Ненадолго, не бойся. Четыре минуты — и с плеч долой. Подожди меня здесь.
Тяжелая дверь, отделявшая дом от веранды, обитая синей протертой клеенкой с трещинами и клочьями серой ваты, закрывалась за ним, как казалось, плотно и глухо, но уже через минуту широко распахивалась, и большая раскрытая бочка с кислой капустой выезжала вперед и вздыбливалась над невысоким порогом. Он был уже без шапки и телогрейки, в одном своем старом рабочем френче, склонялся над бочкой, окутанный белым, желтеющим паром, и зыбкий свет отражался в его влажной оранжевой лысине. Из глубины, из заоблачного пространства, доносилось ворчание тети Жени: «Напустишь холода… Мишуня… Какой ты!..» И он, поудобней пристраивая руки, отвечал:
— Ничего, Женюся, не нервничай. Это быстро, это один момент, сейчас, мальчик мне тут поможет…
И мне, вперед, не глядя, другим голосом:
— Не подходи! Когда будешь нужен — я скажу. Стой, жди приказаний!
Крякнув, он переваливал бочку через порог и с разбегу, наклонив, прокатывал дальше, до крышки погреба, успевая крикнуть по дороге:
— Дверь!
Я кидался к двери.
Пол веранды глухо гудел, тяжело прогибался, и на нем оставался гладкий, красивый и стойкий след.
Отдышавшись, он откидывал крышку погреба, закатывал бочку дальше за край, так что днище свешивалось едва не наполовину, осторожно спускался вниз по перекладинам лестницы и оттуда, снизу, говорил мне:
— Теперь давай. Теперь все от тебя зависит. Главное — ничего не делай лишнего. Ты понял меня? Только то, что надо!
Все было на самом-то деле предельно просто. Я должен был всего лишь придерживать верхний край, в то время, как он, упершись снизу плечом, сталкивал бочку с пола на перекладину. Затем с первой на вторую, потом на третью и так до самого дна погреба. Все было просто, но в любой момент бочка могла на него свалиться, целиком, всем своим немыслимым весом. Это было настолько возможно, настолько близко, что каждый раз как бы уже и случалось, и тот свой страх я не только что помню, я отчетливо ощущаю его и сейчас. Но дело не только в страхе, тут что-то еще…
Вот он подлезает плечом под круглый, твердый и режущий нижний край, челюсти его сжимаются, лицо искажается, он процеживает сквозь зубы, как бы простанывает:
— Придерживай!
И время для меня останавливается.
Я не знаю, как объяснить, но именно этот момент каждый раз застывает стоп-кадром в моей памяти. Я цепенею над краем бочки, над квадратным провалом, внутренность которого слабо освещается экономной лампочкой, висящей чуть в стороне, ближе к центру веранды; а внутри, с другой стороны бочки, в мягком рембрандтовском полумраке неподвижно светится красноватая лысина и лицо моего дорогого дядьки, навсегда искаженное взглядом сверху и гримасой усилия. И странно, я ведь знаю, что здесь, сейчас ничего не случится. А все-таки именно эта картина — не те, еще его поджидавшие, действительно страшные, а именно эта, по неведомой мне причине — теснит мое сердце острой тоской и щемящей жалостью…
7
Я долго думал, что его отношения с женщинами — это что-то вроде строительных его прожектов. Что и здесь дальше глупой детской игры, дальше подкалываний и заходов дело не движется. Это был внешний стиль его жизни, и его разговоры, к примеру, с Дорой Семеновной я никак не отделял от его разговоров с Саней. Те же пять всегда готовых острот, те же десять присказок, ну разве что еще в довесок два комплимента, да какое-нибудь двусмысленное движение рукой, не жест, а только его начало, опасливое, с оглядкой на тетю Женю…
Дора Семеновна была нашей новой соседкой… Здесь «новой» — не очень точное слово, точнее бы было просто — «соседкой», но чтобы «новой» в нем как-то внутри содержалось. Потому что прежде, до Доры Семеновны, никаких соседей никогда у нас не было. Но Дина-Динуся жила отдельно со своим крестьянином, детская комната ее пустовала, и решили по бедности ее продать каким-нибудь порядочным хорошим евреям. Так у нас появились Дора Семеновна, ее дочка Фаина и кошка Кисачек.
Очень похожие друг на друга, тяжелоногие, крупнозадые, с крашенными хной короткими волосами, с темноватой, не очень чистой кожей, с настороженным, стервозным выражением лиц, какое часто бывает у одиноких женщин, мать и дочь заполнили собой до отказа не только комнату Динуси, что было естественно, но и все «помещения общего пользования», как выражался дядя Мишуня. Они прибыли из какой-то украинской дыры, сумели пробиться в Москву и теперь утверждали в ней свое присутствие. Они в принципе не умели разговаривать тихо — и очень слабо, едва-едва, умели разговаривать мирно.
— Не могу понять этих людей! — орала с утра на кухне Дора Семеновна. — Если хочешь взять мою мясорубку — пожалуйста, попроси и бери, мне еще никто не сказал, что я жадная, я еще ни одному человеку не пожалела такого добра. Но зачем брать без спроса, тайком — вот что мне непонятно, вот загадка всей моей жизни, люди добрые, помогите мне ее разгадать! И уж если ты такая, что берешь без спроса, так хоть вымой чисто. Ну, ты не привыкла жить в чистоте, что же делать, так другие привыкли. Да. И им неприятно. Не хочется закрывать шкафчик на ключ, что такое, как с чужими, как мыт ди гоим, но вот придется. Вот придется…
Мы сидели в своей комнате, как в осаде.
— Ди ерст? Ты слышишь? — говорила тетя Женя. — И что мне делать с этой сумасшедшей?
— А койлерте! — говорил он. — Убийца! Женюся, не нервничай. Вот ты увидишь, я ее выселю. Как пить дать. Выселю и посажу, она еще у меня поплачет. Я уже говорил на эту тему с Локтевым, все откровенно ему рассказал, он был сам не свой. Сказал, что поможет. Надо будет завтра его пригласить.
— Твой Локтев! — вскидывалась тетя Женя. — Толку от него, как от козла молока. Только корми его и пои. Напьется и все забудет.
— Не нервничай, мы с ним по сто пятьдесят, не больше, честное мое слово. У него гипертония почище моей, вчера при мне вызывали «скорую» прямо на службу…
В это время там, на кухне, происходила перемена. Из комнаты выходила умываться Фаина, и Дора Семеновна, на минуту умолкнувшая, обретала возможность начать сначала:
— Нет, ты подумай, людям трудно спросить!
— А нечего строить из себя цацу, — подхватывала дочка с готовностью. — Как они к тебе, так и ты к ним. Если бы они к тебе по-хорошему…
— Балэбустым! — жаловалась Дора Семеновна. — Хозяева! А я — ничто, я говно, и меня можно топтать сколько хочешь. Конечно, если бы в доме у меня был мужчина…
— Ты такая же хозяйка, как и они, и нечего цацкаться. Запереть на замок, заявить в милицию, вызвать инспекцию, написать в газету…
Тетя Женя не выдерживала, выбегала на кухню.
— Как же вам не стыдно, Дора Семеновна, — выкрикивала она сквозь слезы. — С чего это вы взяли, что я брала мясорубку? Ну зачем она мне сдалась, у меня есть своя, вы же знаете, что у меня есть своя, зачем вы придумываете, вы же это все специально придумываете, я боюсь притронуться к вашему шкафчику, пусть бы там лежал миллион золота, я мою пол, так даже тряпкой его не касаюсь, как же вам не стыдно, взрослая женщина…
— Это мне должно быть стыдно?! Мне? — радостно разворачивалась Дора Семеновна. — Нет, Фаиночка, не уходи, я прошу тебя, послушай, какие бывают люди. Я тебе рассказываю, ты не веришь, так вот убедись своими ушами. Ты слышишь? Мне должно быть стыдно. Ну?! Ха-ха-ха-ха! Просто не знаю, смеяться или плакать. Я вчера утром провернула котлеты, помыла, ты знаешь, я мою чисто, не так, как другие, другие моют в одной воде, и им достаточно, больше не надо, а я мою в трех водах, чтоб ни пятнышка, так я мою. Чисто помыла и поставила к стеночке, вот так, и ушла в вечернюю смену. А сегодня смотрю: что такое? — она стоит вот так. Ну? Как ты думаешь, кто ее так поставил? Господь Бог ее так поставил? Пушкин ее поставил? Кисачек ее поставил? Раскручиваю — так и есть! Жир. Понюхай. Свинина? Свинина! А ка-ак же! А я со свининой в жизни не делаю! Я могу добавить куриное филе, немножко сырой картошки — но не свинину. Нет, я не такая благочестивая, не хочу придумывать, просто я не ем свинину и все. Мое дело! Так кому должно быть стыдно, а? Конечно, конечно, у нее есть своя мясорубка. Врагам моим такую мясорубку. Это не мясорубка, одно мученье, она мне сама говорила вот на этом месте. А моя — так это одно удовольствие, и конечно, люди не дураки, выбирают лучшее…
Дядя Мишуня ходил по комнате, сжимал-разжимал кулаки и скрипел зубами. Наконец, он не выдерживал, приоткрывал дверь, говорил жестко:
— Женюся, иди сюда. Иди немедленно, я тебе приказываю. Нечего тебе с ней разговаривать, с ней будут разговаривать там, где следует!
Ему ответом была оторопелая пауза, затем рвалась, ударяясь в потолок и стены, новая разъяренная вспышка, но тетя Женя к тому моменту оказывалась уже среди своих, за дверью, качала головой и вытирала слезы.
И вот однажды я зашел случайно на кухню и увидел всех троих в каком-то странном, принужденном согласии. Все они стояли лицом ко мне, как бы позируя для фотографии: в центре дядя Мишуня, тетя Женя справа, слева — Дора Семеновна. Тетю Женю он вяло левой рукой обнимал за плечи, а правой, закинутой за шею Доры Семеновны, живо и грубо мял и тискал ее большую грудь в тонкой бежевой кофте. Она оставалась прямой, застывшей, губы скривились в дурацкую полуулыбку; а тетя Женя смотрела в сторону, пригибала плечи, терзала тряпку и как бы не видела, не догадывалась, ничего не знала о Мишуниной правой руке, и только непременные, всегда готовые слезы текли по ее щекам и капали с носа.
Он что-то тихо бормотал по-еврейски, взглянул на меня мутно, в упор, сказал сквозь зубы: «Вот… мои жены. Это мои любимые жены… Мои женщины… Мои жены…»
И голос его сдавленно и нервно вибрировал, и в такт разжималась и сжималась рука…
Это было весной, а тем же летом, в жаркий день, я зашел в сарай за инструментами и, открыв дверь, почти вплотную столкнулся с полуголой Фаиной, едва не уткнувшись лбом в ее потный живот. В том, что она в купальном костюме, не было ничего необычного, так она всегда ходила по двору, загорала в шезлонге, играла с Кисачеком. Но что ей было делать в нашем сарае?
— Ах! — тихо вскрикнула она. — Ты меня напугал…
Лицо было красное, в мелких капельках, косоватый коровий взгляд, встрепанные, неопрятные волосы… От нее густо несло потом. Я посторонился, она прошла, тяжело, массивно, наклонив голову.
Что ей было делать в нашем сарае, попробовал бы я зайти в их сарай, сколько бы уже развелось разговоров… И тут мне навстречу вышел дядя Мишуня, тоже потный и раскрасневшийся, его рабочая холщовая куртка, «накидка», как он ее называл, открывала волосатую потную грудь, слипшиеся рыжевато-седые колечки…
Он увидел меня, сказал: «Ой, вейз мир» — и поднес палец к губам, изображая лукавый страх. Спросил: «Ну, что там? Тетя Женя в горнице?» Я растерянно промолчал. Он похлопал меня по спине, огляделся, вернулся в сарай, прихватил плотницкий ящик, тот самый, за которым я сюда направлялся, кивнул мне, давай, мол, следуй за мной, и в галошах на босу ногу прошлепал на задний двор. Там мы с ним начинали строить беседку, очень нужное и полезное сооружение, окончательный, ожидаемый вид которого не был известен ни мне, ни ему…
8
Все первые послевоенные годы (два, три или пять, не знаю сколько…) спрессовались в моей запоздалой памяти в один непрерывный и плотный год. Я учился во втором и четвертом классе, тетя Женя работала кассиршей в столовой, а также сторожем в ЖКО, а также вообще нигде не работала, Динуся восстанавливалась в институте, расходилась-сходилась с мужем, рожала дочку (как ни странно, мало что изменившую в жизни и характере дяди Мишуни), в Москву, наконец, возвратилась мама, мы с ней переехали в другую квартиру, в дальний, как раз по диагонали, вполне городской район Москвы, с асфальтом, автобусами и трамваями… И дальше, и дальше дни и события не наращивали, не удлиняли времени, а только лишь увеличивали его плотность в том же объеме. И однажды зимой в какой-то год (уже, быть может, и непригодный для того, чтобы числиться в послевоенных), в воскресенье утром наведавшись в гости, я застал дядю Мишуню в постели, страшного, с обвязанной бинтом головой. Он лежал с закрытыми глазами, стонал, тетя Женя ставила ему горчичник на сердце. Тут же рядом сидела Дина-Динуся, распустив роскошные рыжие волосы, плакала и упрашивала:
— Папуля, прости ради Бога!
Обнаружилась удивительная история, к счастью, с благополучным, как тогда казалось, концом.
Накануне вечером все услышали вдруг, как кто-то ходит под окнами дома, скрипит снегом, ходит и ходит, по нескольку раз повторяя все тот же круг.
— Представляешь? Как привязанный! — сказала тетя Женя. —И главное, Джульба была на улице и не лаяла, ну, такая подлая! Как будто это лучший ее знакомый. Она, конечно, уже старуха и может на своих полаять сослепу, так если ты лаешь уже на своих — полай на чужого, хотя бы на всякий случай!..
— Боже, она его вспомнила! — всхлипнула Дина. — Я его забыла, а она его вспомнила! И ведь маленькая была, совсем щенок, полгода или, может быть, год, не больше…
— Ой, перестань! — отмахнулась тетя Женя. — Ты так говоришь, как будто ты знаешь.
— Я знаю, мама, я знаю, никаких сомнений!..
Со всеми этими всхлипами и перебивами я все же дослушал, и было вот что.
Погасили свет, смотрели в окно, увидели: действительно, ходит мужчина, крупный, но подробнее разглядеть не смогли. Стали кричать: «Кто там, кто там?!» — в четыре голоса: Дора Семеновна, тетя Женя, Фаина и дядя Мишуня. Никто не ответил. Тогда Мишуня, мужчина в доме, одновременно удерживаемый и подталкиваемый, отпер наружную дверь и встал на крыльце. Тот уже уходил, приближался к калитке. Мишуня его окликнул.
— Сам не знаю, зачем. Мать честная! Убить меня мало.
Тот как раз и попробовал это сделать. «Кто там, стой!» — по-дурацки крикнул Мишуня, и тот сразу обернулся и выстрелил. Выстрелил — самым настоящим образом из самого настоящего пистолета! И исчез, как будто его и не было.
Мишуня припал к косяку, тетя Женя взвыла, голова у него была в крови, но оказалось, прострелено только ухо, как раз по верхнему краю.
— Один сантиметр, — говорил потрясенно дядя Мишуня, — представляешь, сынок, один сантиметр, и ты бы уже меня хоронил. Как пить дать. Честное мое слово! Вот судьба! А ты говоришь — не бывает…
— Нет, надо позвать Локтева, — настаивала тетя Женя. — Вы не хотите, так вот я сейчас сама: встану, оденусь и позову.
— Какого Локтева, глупая твоя голова? — оживал сразу же дядя Мишуня. — Локтев уже три года как в Кунцеве, начальником паспортного стола.
— Ай, какая разница, даже лучше. Пусть другой, кто там вместо него?
— Медунов… Ой, сердце!.. Медунов Николай, он же ко мне приходил два раза, ты что, глупенькая, не помнишь?
— Я помню, помню. Я все помню. Последний раз ты еле очухался…
Дядя Мишуня ранен, в него стреляли. Я никак не мог вобрать в себя это событие. Оно было откуда-то не отсюда, из какой-то другой, не нашей жизни. И вообще не из жизни — из книг, из кино. Война уже много лет как кончилась; даже там, далеко-далеко, где на самом деле стреляли, — даже там уже давно не стреляли. Но здесь, в Москве, в нашем дворе, в моего дядьку! И кто был тот человек, и зачем, и за что?
Но Динуся как будто все знала заранее, и она говорила так быстро и так убедительно, всхлипывая то ли от жалости, то ли от радости, что всем передала свою уверенность. Вне сомнений, это был Андрей Ольховский, ее школьный товарищ, сделавший ей до войны предложение, безумно в нее влюбленный. Всю войну он писал ей страстные письма, и она его обманывала, отвечала, ну как ему было написать туда… А после войны он служил в Берлине, теперь вернулся и все узнал. Она встретила Тамарку из их класса, Андрей приходил к ней на прошлой неделе, пьяный, расспрашивал о Динусе и все тащил из кобуры пистолет, говорил, что застрелит Динусю и мужа и сам застрелится.
— Боже, Боже! — качала головой тетя Женя. — Но как же так, почему же он в папу, при чем тут папа?
— Он был пьян! — с гордостью сказала Динуся. — Он хотел убить меня или Толю, но он был пьян, не узнал голоса и выстрелил в темноте наугад. И пожалуйста, ведь все уже обошлось, я прошу, мамуля, ради меня, не надо никуда заявлять, ну пожалуйста, ну папуля, прости ради Бога!..
От этого удивительного происшествия остался у него на ухе надрыв — маленький, на самом-самом верху, кто не знал, мог не заметить. И еще — привычка двумя пальцами трогать его и слегка потирать, как бы проверяя, тут ли он еще, не зарос ли…
А потом, позже, через два года, это раненое ухо он обморозил. Никогда ничего с ним такого не было, по полдня в любые морозы ходил с молотком и пилой по своим владениям, а тут вдруг обморозил, и где? — в городе, пересаживаясь с метро на автобус, за какие-то пять или десять минут. К тому времени старый наш дом снесли и сровняли с землей. Они жили с тетей Женей в отдельной квартире, на скучной и безликой пятиэтажной окраине. Он в тот день был один в гостях у Динуси, распил с зятем бутылку водки и почти трезвый ехал домой. Такая случилась беда. Ну конечно, прямо так, что беда, сначала никто не подумал. Мазали салом, мазали йодом, а все не проходит, краснота и корка, болит и чешется. Он пошел к хирургу — его послали к онкологу. Тетя Женя мне позвонила, и я приехал.
Мы выпили с ним по три стопки водки, и он сказал мне:
— Хреновая жизнь. Живешь, живешь, а зачем, непонятно. Помрешь, ничего от тебя не останется. Вот посмотри, ты у нас во всем разбираешься. Все анализы сделал, и все хорошие, я такого даже не ожидал, только один, говорят, не того-с. Так может у человека в моем возрасте, с грудной жабой, с такой нервотрепкой и который выпил столько водки и обнял столько красивых женщин, может быть один неважнецкий анализ?
И он протянул мне кипу бумажек. Я стал перелистывать и откладывать. Кровь, моча, рентгеноскопия…
— Вот, говорят, вот этот, что ли…
Да, это был именно он. «Атипичные клетки в большом количестве. — Cr.» И печать, и подпись.
— Что ты задумался? Плохо мое дело? Конченый я человек, а? Да ты говори прямо, не бойся.
— Ну нет, — промямлил я, — ничего… Конечно, это не вполне нормально… Вообще все правильно, надо лечиться… Чего там … С врачами поговорить…
— А что это значит вот здесь: сэ-че?
— А, это… Ну… счетчик. Лаборант, что ли. Вот видишь, подпись. Эс-че, счетчик такой-то. Да ты не расстраивайся, ничего страшного…
— Да! Да! Так я и знал! Конченое мое дело. Никчемный я человек. Никудышный я человек.
Это он уже не говорил, а шептал сквозь слезы, почти беззвучно.
А потом — больницы, разговоры с врачами, красивое слово «эпителиома», которое я, чтоб втереться в доверие, старался произносить, как они, небрежно и буднично, и даже с легкой беспечной улыбкой всезнания.
Мик послушал докторов — Он и весел и здоров. Мак не слушался врача — Вот и тает, как свеча.Его оперировали, но неудачно, слишком мало отрезали, пожалели ухо. Пошли метастазы в Гассеров узел — сплетение лицевых нервов, начались почти постоянные дикие боли. И сердце его, после двух инфарктов дышавшее, как он сам говорил, на ладан, и столько раз его подводившее — подводило его и на этот раз, никак не желало отказывать, а желало неутомимо длить его муки до последней меры возможности.
Сначала я ездил по нескольку раз в неделю. Привозил лекарства, отвары и травы, в замечательную силу которых, едва услышав, начинал немедленно верить. Но силы никакой в лекарствах не было, с каждым разом ему становилось все хуже, и все трудней становилось с ним разговаривать. Он встречал меня, пожалуй, уже и без радости, хотя все еще с нервным нетерпением:
— Заходи, заходи. Давай, раздевайся. Садись, ну? Ну что же ты, а? Ну? Что нового? Нет, подожди…
Заставлял тетю Женю налить мне водки. Немедленно.
— Выпей, потом расскажешь. Ты пьешь, а я получаю удовольствие. Видишь, это все, что я еще могу.
Он уже почти не вставал с постели, я подсаживался к нему, жуя капусту, и он брал мою руку в свою, теплую, вялую (та же ли это была рука — всегда напряженная, цепкая, хваткая, диктующая и твердо ведущая?), заглядывал мне прямо в глаза мутным, раздавленным, сумасшедшим взглядом и спрашивал:
— Неужели это все-таки рак?!
И с каждым разом все большего труда стоило мне не отвести глаза, не расслабиться, не кивнуть ему, не сказать:
— Ну конечно, Господи, а что же еще!
И я стал приезжать все реже и реже, вот уже и не чаще двух раз в месяц, и прощаясь в коридорчике с тетей Женей, одеваясь, целуя ее дряблую щеку, не промалчивал, а говорил ей: «Ну-ну, держись!» — вот ведь мерзость человеческая, вот ведь подлость… Он был ее единственной вечной любовью, ни Динуся, ни долгожданная внучка в сравнении с ним ничего не значили. И сейчас — оставаться с ним с глазу на глаз, каждую минуту ожидая конца, ворчать на него, когда он стонет и жалуется, — это было невозможно одному человеку, это надо было с кем-то делить, и ясно ведь с кем… Но я как бы этого ничего не знал, я как бы заведомо был уверен в справедливости принятого порядка: я уезжаю к себе домой, а она остается здесь, вот со всем этим. «Держись!» За что ей было держаться? За него и держалась всю жизнь…
Надо думать, это было не в самый последний приезд, но теперь я вспоминаю его как последний.
Напоив меня водкой, накормив ужином, она спросила робко:
— Ты еще посидишь? Я воспользуюсь, сбегаю пока в магазин. Вечером придут колоть морфий, но тогда уже, наверно, Динуся подъедет, а сейчас я быстро, я полчаса…
Он дремал, но как только хлопнула дверь, сразу открыл глаза и сказал отчетливо:
— Ты здесь? Подойди. Сядь. Не на стул, на постель. Ближе. Дай мне руку. Вот так. Слушай. Ты знаешь, кто это сделал?
Я подумал, он бредит. Глаза были мутные.
— Что ты, о чем ты? Хочешь попить?
— Ты вот что. Ты слушай меня внимательно. Ты должен помнить. В меня стреляли тогда во дворе…
— Ну? К чему это ты?
— Дурачок. Дурачок ты. С этого же все началось, глупая твоя голова. Вот…
Он покрутил рукой как бы возле уха, на самом деле — почти не отрывая руки от одеяла, но я его понял.
— Он меня хотел убить — и убил!
— Кто? Андрей? Но ведь он не тебя…
— Какой там Андрей! Никому ни слова. Обещаешь? Как перед Богом? Ну то-то. Это Локтев в меня стрелял. Бывший наш участковый. Хороший мужик, сколько мы с ним выпили, чтоб ему ни дна ни покрышки. Бандит оказался — первой гильдии. Захотел убить — и убил. И правильно! Конченное дело, пропащий я человек…
Глаза его, мутные от морфия, ошалевшие от боли, были глубоко наполнены слезами, губы двигались скованно. Но он хорошо понимал, что говорит. Я же так растерялся, что утратил бдительность, забыл выдать дежурную дозу, мол, что за бред, почему «убил», ты еще живой, ты еще поживешь, врач говорит… И пару жидких, бессмысленных медицинских подробностей, за которые он охотно ухватится. Я заметил уже с большим опозданием, что он, поглощенный все время одним, он-то бдительности как раз не терял, он поймал меня на слове, верней, на отсутствии слов и, похоже, именно это сейчас переживает, именно этим больше всего и мучится. Но уже как бы шла другая тема, и я позволил себе не отвлечься.
— Так это не Андрей? Ты точно знаешь? Локтев… Помню. Не может быть! Зачем? За что? Что ты мог ему сделать? Такого страшного, чтобы так…
— Значит, помнишь Локтева? А Ольгу помнишь? Ну вот, то-то. А он с ней жил. Ты не знал? Она ему была как жена. Даже больше, ты понял меня? Даже больше! А потом, после той нашей поездки… Ты же ездил со мной, помнишь? Ну вот. Мы тогда уже с ним разошлись, не дружили. Но он-то почувствовал, догадался, мерзавец. Он ей говорил, она мне сама рассказала. Убью, говорит, твоего жида, так и знай! Ну вот и убил. Нет, антисемитом он не-е был. Антисемитом он не-е был. Это он так, со зла. Горячий был парень… Хотя черт его знает, в душу не влезешь. Ну-ка встань, встань!
Я встал.
— Повернись спиной.
Я повернулся.
— Подойди к буфету.
Я подошел.
— Левей, левей. Видишь ящик?
Я, конечно же, видел ящик.
— Возьми ключ, вставь, отопри.
Ключ от ящика лежал в фарфоровой соуснице, а в ящике, среди фотографий, рецептов, облигаций, авторучек и прочего хлама, я должен был у самой задней стенки найти серебряный сундучок размером со спичечную коробку, сводчатый, весь в ажурных узорах. В детстве я с ним любил играть, мне казалось, что он, даже если пустой, хранит невидимые сокровища или иглу Кощеевой смерти. Оказалось, что нечто в этом роде он теперь и хранил.
В сундучке тоже был свой замочек, но он уже давно не работал, и надо было просто откинуть крышку. Там, под перламутровым гарнитуром — две запонки и булавка на галстук, — лежал бесформенный серый кусочек металла.
— Видишь?
— Вижу.
— Понял?
— Понял. Откуда ты ее взял?
— Из наличника. Ты думал, я такой дурачок? Я потом вышел один на крыльцо, встал, как тогда, поглядел на уровне уха и ножом… Представляешь, если б я на него заявил? Мать честная! Одно мое слово, и он погиб. Восемь лет, как пить, это не меньше… Ну а я, старый дурак, решил: пронесло и ладно. А теперь, брат, поздно, он сам уже помер, меня обошел. Сердце было тоже никудышное. И пил как лошадь. Мне не чета. Я триста грамм — он пол-литра. Я пол-литра — а он семьсот, я семьсот — он литр. Такой был мужик, трясця его матери!..
Он вдруг подтянулся, воспрял духом, что-то впрыснули в него эти воспоминания, может быть, чувство собственной значимости, ощущение, что жил он все же не зря, не впустую, красиво или как-нибудь там еще…
А я сидел, слушал и думал: Ольга и Локтев!.. Вот уж о ком не сказал бы «горячий парень»! Локтев был вялый, сырой, блеклый, хоть и крупный, но какой-то совершенно стертый, если бы не синяя милицейская форма — кажется, растворился бы в воздухе. Пил, действительно, но и Мишуня пил, поди разбери, кто больше, кто меньше. Выпив, несколько оживлялся или, вернее, слегка оживал и рассказывал ровным, бесцветным голосом с упорным постоянством одно и то же: как его уважает и ценит начальство, какую он имеет власть на участке и как может арестовать в любой момент кого пожелает. «Кого пожелаю. Вот сейчас укажи — встану, оденусь, пойду и доставлю!» И затем следовала непременная шутка: «А могу и тебя!..» Мне кажется, даже дядя Мишуня в конце концов устал восторгаться, качать головой, хохотать и повизгивать и отрабатывал все это кое-как, невпопад… Локтев. Убить — в это я еще мог бы поверить. Но Ольга… Воистину, чего не бывает на свете!
Мы еще поговорили с ним о нашем прошлом, о той нашей с ним поездке, об Ольге. Он поддакивал, удивлялся, как много я помню, радовался и, быть может, слегка заискивал («Мать честная! Ты же был вот такой шпингалет!»), и даже порой, как мог, вполгубы, улыбался. Боль его словно бы вовсе оставила, и я подумал: мало ли что… а вдруг пронесет?..
Пришла тетя Женя, я начал прощаться, сказал ему: «Ну, давай, держись!» — и вышел, и ей сказал в прихожей: «Держись».
И уже стоя на остановке, в сумерках, один, засыпаемый снегом, стал по-настоящему вспоминать то, что, в сущности, помнил всегда.
9
Тогда тоже была зима, вечер, легкий мороз, снег…
По Москве он таскал меня всюду с собой, но в командировки не брал ни разу, а тут решил почему-то взять. Странно, но я ему не мешал, а скорее напротив — придавал уверенности. Он ведь был, по сути, одинокий человек, здесь же он знал, что ему обеспечена хотя и бесполезная и молчаливая, но зато безоговорочная поддержка. Он служил тогда в каком-то снабжении, разъезжал с договорами по Московской области и в тот вечер пришел домой возбужденный, бурлящий изнутри и румяный снаружи.
Как всегда, ничего не сказал сразу, все важное оставил на потом, на сюрприз, выпил водки, похрустел капустой и луком. Я всегда очень хорошо его чувствовал и сейчас знал, что что-то он приберег, но не спрашивал, этого было нельзя, мое терпеливое молчание входило в игру, а только ждал и вертелся поблизости. Наконец, он меня подозвал, усадил рядом, больно проверил на каждом пальце, коротко ли острижены ногти, велел не горбиться, прислониться к спинке и вдруг, как бы продолжая разговор, спросил:
— Ну так как, банда батьки Кныша, я не понял, ты едешь или не едешь?
Я аж захлебнулся:
— Ты что? Куда?
— Как куда? Разве ж я тебе не говорил? Я тебе говори-ил. Я говори-ил. Я говори-ил…
— Ничего ты не говорил!
— Ну вот, здрасьте, имей с тобой дело. Нет, ты не деловой человек. Ты еврей, я с евреями дел не имею…
Наконец, проболтав все свои прибаутки, он сказал ключевые слова:
— В Серпухов!
— Что ты выдумал, — заговорила тетя Женя, — таки едешь?
— Еду! И — не позднее, чем завтра! И мальчика забираю с собой!
— Надолго? Что же ты мне не сказал? Какой ты…
— Не мог, Женюся, пойми меня правильно. Государственной-важности-дело! Точка. Еду надолго. На целые сутки. Заготовь нам, Женюся, побольше еды и как минимум по две бутылки на брата…
Мы вышли с ним из калитки в сумерки, шел легкий снег, он держал меня за руку, в свободной руке он нес чемоданчик, а я — матерчатую сумку с котлетами. Там, конечно, была и другая еда, но больше всего там было котлет, тетя Женя полдня специально их жарила, держа демонстративно, на видном месте, разобранную, свежевымытую, свою мясорубку… И поэтому я запомнил именно так: сумка с котлетами. Одеты мы были с ним великолепно. Я — в новых черных валенках с галошами, в кожаном пальто с коричневым мехом, перешитом тетей Женей из старого отцовского; он — в фетровых подшитых бурках, в штатских синих бостоновых брюках, в черном длинном пальто с каракулем и в такой же, кожей обшитой, шапке. Он был гладко и подробно выбрит опасной бритвой и даже снял в этот раз усы, так что выглядел странно и непривычно, и когда разговаривал, верхняя губа, казалось, движется несколько скованно, как бы стесняясь собственной наготы. Он был в веселом, праздничном напряжении, нервно мял мою руку, зачем-то оглядывался и по мере приближения к остановке троллейбуса — а идти было надо минут пятнадцать — становился еще возбужденнее, но и легче, как-то расковывался, освобождался и, казалось мне, на глазах молодел. И — говорил, говорил непрерывно. Рассказал, как в тридцатые годы он жил в Сибири, служил в каком-то продуправлении, и каких замечательных имел лошадей, все соседи узнавали его бричку издали, называли ее «тачанка». Но однажды… Мы как раз переходили по мосту через нашу замерзшую, засыпанную снегом речушку. Он и вспомнил и тут же мне рассказал, как однажды ночью он шел зимой через реку от одной за-а-мечательной дивчины. И вышли ему навстречу трое, и как раз на самой середине реки — а река ба-а-льшущая, не то что эта, с километр как минимум, а то и больше — и как раз на середине реки раздели. И топал он домой, наверное, час, босиком и в одних кальсонах. Мать честная!
— Как раздели? Ты сам разделся?
— Ну, ясное дело. Окружили с ножами, говорят: «Сымай!» Я и «сымаю». Хотели зарезать, а потом решили, и так замерзну. И хочешь верь, не хочешь не верь, даже и не чихнул после этого. Здоровый был, как бугай, не то что сейчас. Воз груженый поднимал плечом. Подниму, держу, только поплевываю, а кучер колесо меняет. Торопится. Я ему говорю: не спеши, не спеши, делай по правилам… Ну вот, пришел я тогда домой, выпил двести грамм, ноги водкой натер и заснул как убитый и встал как ни в чем не бывало — опять казак казаком… Такая история.
— А тетю Женю… — вдруг сказал он тогда с каким-то, как мне показалось, усилием, — тетю Женю я крепко любил и жалел. Она была у меня что надо, все завидовали. Да, любил и жалел… Ну, это уже другой разговор. Не горбись!..
И словно исполнив долг, освободившись, повеселел и полегчел окончательно.
Я знал, разумеется, что будут сюрпризы, без этого он часа прожить не мог. И все же я здорово растерялся, когда на вокзале чужая женщина, молодая и, как в анекдоте, красивая, русская — радостно бросилась ему на шею.
Он поставил чемодан, расцепил ее руки.
— Тихо, тихо, пОгляди, пОгляди…
— Да? — она опустила руки в зеленых вязаных варежках, отступила на шаг, огляделась серьезно, испуганно — и тут же улыбнулась облегченной, ясной улыбкой.
— А-а! Как хорошо, как хорошо!
На ней было черное пальто в талию с небольшим черно-бурым воротником, такие же валенки, как у меня, и под цвет зеленым варежкам зеленый платок. Тогда она мне сразу показалась красавицей, я так и подумал этим сказочным словом, впервые приложив его к живой женщине. Теперь, разглядывая ее отсюда, я, пожалуй, этого не нахожу. Но была она, безусловно, живая, свежая и новая, невозможно новая в каждом своем движении. Я подумал тогда, что похожа она на артистку, на какую-то из моих любимых, но не мог понять, на какую именно. Получалось, будто на нескольких сразу: на Орлову, Ладынину, Целиковскую…
С ходу, без паузы, не раздумывая, она сделала шаг ко мне, наклонилась, положила мне на плечи ладони в варежках и крепко поцеловала в щеку.
— Чудный у тебя племянник, Миша, — сказал она. — Похож на тебя? Нет, не похож. Ни капельки! Странно.
— На отца, — сказал он серьезно. — Вылитый. Исключительный был человек! Вот, оставил… Так теперь вдвоем и воюем. Ничего, он у меня казак. Проходи, казак…
Но я не мог сдвинуться с места. На меня впервые нашло то особое, дурное оцепенение, какое потом, в последующей жизни, и детской, и взрослой, повторялось не раз и теперь хорошо мне знакомо. Возникает оно всегда в переходный момент, когда ситуация в чем-то резко меняется: иная обстановка, иные люди или, скажем, иное значение жестов и слов. Будто ты играл и играл привычную роль, играл, как дышал, — и вдруг, мановением чьей-то руки, попал в совершенно другую пьесу, и отныне, что бы ни сказал и что бы ни сделал, — все будет нелепостью и бессмыслицей. И ты об этом не столько знаешь, сколько чувствуешь, как бы физически — телом, спиной… И случись это в пятый, в десятый и сотый раз — ты будешь снова так же нем и бессилен, разве только будешь знать, что это проходит, и ждать, когда, наконец, соизволит пройти…
Но тогда я еще не знал и этого и стоял, беспомощно застыв, замерев, с перехваченным горлом и влажным лбом. Дядя Мишуня прошел вперед по инерции, потом обернулся, взглянул на меня, раскрыл было рот — но мотнул головой и не стал ничего говорить. А она тоже — обернулась, взглянула и, то ли по его незаметному знаку, то ли по собственному порыву, вдруг быстрым шагом вернулась ко мне: «Ну что ты, милый, пойдем, пойдем…», положила мою руку на сгиб своей, и так, не за руку, а словно бы под руку, мы с ней вошли в вагон и Мишуня — следом…
Вагон был такой же, как тогда из Челябинска, но только почти пустой. Мы сели втроем у окна за столик, и Ольга села напротив меня, расстегнула пальто, развязала платок. Открылся свитер с большим воротом, мягкой, бархотной черноты, и неожиданно короткие волосы, чуть длинней, чем у Зои Космодемьянской, не темные, но и не очень светлые, красивые — такие, как надо… Она поглядывала то на меня, то в зеркальце, и когда в зеркальце, то все равно на меня, так мне казалось. Улыбнулась — это уже точно мне, тряхнула головой ободряюще-дружески, прикрыв глаза, — такая, мол, жизнь, не грусти, все будет в порядке… Потом уставилась на дядю Мишуню, уперев лицо в ладони, а локти в столик. Он усмехнулся, спросил:
— Ну что ты, что ты?
— Ничего, — сказала она, — вот мы и поехали…
Поезд тронулся, стало совсем хорошо.
Дядя Мишуня открыл чемоданчик, достал поллитровку, вытащил из моей сумки сверток с тети Жениными еще не остывшими котлетами, и я внутренне дернулся — но только на краткий миг. В этой новой игре были новые правила, я их принимал, и они мне нравились. «Миша» — называла его она и еще иногда говорила «Мишенька», но ни разу не сказала ему «Мишуня», как все, кто в той, другой нашей жизни имел к нему близкое отношение…
И понял я так, что мы с дядей Мишуней на время, на краткую эту поездку, отрекаемся, что ли, от старого мира, как пелось в прекрасной песне с непонятным названием. А то, что мы этот старый наш мир предаем или, иначе говоря, обманываем, — это чувство я тоже в себе ощутил, но и в нем была своя острота и своя особая радость. Мне было интересно, мне было празднично — я тоже как будто вырвался. И так при этом удачно устроился, что на воле, в новой, чужой жизни, с чужими людьми — а все равно под родной, надежной защитой…
Он уже завелся на воспоминания и рассказывал дальше, теперь уже больше ей, как в той же Сибири ехал один зимой через лес. Там было все необходимое, в этом рассказе: глухая ночь, лютый мороз, пугливая лошадь и, конечно, волки.
— Вышли из лесу впереди, метров двести, не больше, штук пять, честное-мое-слово, лошадь стала, что ты скажешь, шутейное дело! Я взял из саней соломы, хочу поджечь, а она не горит, трясця ее матери, промерзла совсем, только спички трачу. А ружья нет, и один, и дрожу как цуцик, то ли от холода, то ли от страха. Честно говорю, как перед Богом: напугался крепко. И уже было думаю: все, погиб, конченное, брат, твое дело. Вдруг гляжу — мать честная! Прямо за ними, с той стороны, выезжает мне навстречу тройка. Их тут же как вымело. А это Егоров, председатель колхоза, мой знакомый, лихой был мужик, орел, сколько мы с ним… ну, не в этом суть. Подлетели они ко мне — а он ездил с кучером, и возок у него был красивый, как у купца, с крышей и полостью, все отдать и мало… Приказал он кучеру придержать, а сам из возка смеется: «Что, Моисеич, боишься сибирских волков?» «Да нет, — говорю, — возвращаться надумал, бумаги, дурья голова, забыл…» Ну, он посмеялся еще, но дальше пытать не стал. Привязали мы мою лошадь к его возку, пересел я к нему в тепло, у него там, кстати, нашлось… И доехали мы обратно домой весело, за милую душу… Ну, давай еще по одной. Аминь!
Он резко опрокидывал свой стаканчик, морщился, крякал, краснел, выдыхал… А она пила без усилий, глотками, как воду, и потом улыбалась и не спешила закусывать, и отщипывала, наконец, кусочек хлеба, а к котлетам так и не прикоснулась… Но слушала замечательно хорошо, трясла головой, ужасалась, смеялась… И все время поглядывала на меня, приглашала в свидетели, в соучастники…
И мне было радостно, и мне было весело, и мне было девять лет, и я был влюблен и счастлив.
На вокзале в Серпухове подошел к нам мужик в тулупе, еще издали помахал рукой в большой рукавице, крикнул хриплым голосом:
— Михал Моисеич! Ольга Иванна!
— Привет, Сергей! — сказал степенно дядя Мишуня. — Не опоздал, молодцом, молодцом.
Сергей подвел нас к саням-розвальням, показавшимся мне огромными. И была впряжена в них совсем небольшая лошадка, трудно было представить, что она их сдвинет, да еще с нами со всеми. В санях лежала солома, крупная, ломкая, равномерно умятая по решетке днища, и навалены были в кучу тулупы, такие же, как тот, что был на Сергее. Ольга расстелила один тулуп в передке саней, на него мы с ней сели, верней, полулегли, спиной к лошади, а другим укрылись, прижавшись друг к другу.
— Сами будете править, Михал Моисеич? — спросил Сергей.
— А то как же! — ответил мой дядька и принял вожжи. — Это ты здесь без меня казак, а теперь будешь у меня пассажиром.
— Добро, добро, — сказал, усмехаясь, Сергей. — Только лошадь не гоните, Михал Моисеич, она у меня за день сегодня намаялась.
Он лег вдоль саней с моей стороны. накрылся еще одним тулупом, с головой, так что только ноги торчали в серых огромных валенках, и сразу исчез как одушевленный предмет, стал как бы частью оснастки и упряжи.
А дядя Мишуня не лег и не сел, а немного раздвинул ногами солому, поискал на ощупь опору и встал во весь рост, почти у самого среза, широко, наискось расставив бурки, крикнул «и-эх!», крутнул вожжами — и мы поехали.
Развернулось, отодвинулось и померкло здание вокзала, мы въехали на темную, сельского вида улицу, где не было ни одного фонаря и только редкий огонь в окне высвечивал уплывающие назад заборы и крыши. Мягкий мелкий снег далеко относило движением, перед нашими глазами его было больше, чем падало нам на лица. Брезентовые вожжи мотались над моей головой, сходясь высоко наверху, в руках у дяди Мишуни. Лица его было почти не видно, и я иногда представлял с содроганием, что это не он, другой, чужой… Везет неизвестно куда. Но тут случайный свет из окна обрисовывал безвольный его подбородок, наш фамильный, такой же, как у меня, единственное, в чем мы с ним были похожи, — и мне сразу становилось тепло и уютно, и уже я гордился, что вот он какой, почти чужой, смелый, ловкий, правит лошадью, и этой грудой дерева, и всеми нами, стоит и не падает… И все занимательные его истории, леса, бандиты, лошади, волки и реки, воспринимавшиеся мной всегда отвлеченно, абстрактно, так что было мне и неважно, что правда, что вымысел, становились теперь, сразу, все скопом — ощутимой жизнью и правдой. Да и сам я как будто попал в такую историю, словно он мне ее про меня и рассказывал.
Все казалось сказочно неправдоподобным. Было странно сознавать, что скрипучая эта конструкция движется не безличной мощью мотора, а силой живого существа, почти человека, ну разве что более крупного, более сильного. Колея из-под полоза вылетала близко, почти осязаемо, сани скользили удивительно быстро, и было страшновато от этой бегущей у самых дядькиных ног наждачной поверхности и еще — неловко перед несчастной лошадью, которая вынуждена, бегом, бегом, тащить неизвестно куда четверых здоровых себе подобных.
И Ольга, странная взрослая женщина и в то же время как бы не очень взрослая, отчего-то была здесь рядом со мной, тесно, вплотную, не отодвинешься, я почти лежал на ее руке, крепко обнимавшей меня за шею, — и поглядывала на меня с умилением.
— Господи, какие глаза, какие ресницы! Миша, Мишенька, слушай, подари мне мальчика!
Ее губы жили и двигались близко, у самого моего лица, слишком близко и слишком крупно, так что я переставал воспринимать ее в целом и не мог временами понять, что происходит, и оценить, хорошо это или плохо. От нее здорово пахло водкой, но это ничуть меня не отталкивало, а даже, быть может, еще больше сближало: этот запах был мне родным, так пахло от дяди Мишуни…
— Подари, Мишенька!
Он слегка приседал то в одну, то в другую сторону, сохраняя равновесие на поворотах, и, не глядя на нее, мотал головой:
— О-ох, трясця твоей матери, бандитка ты, Ольга. На что он тебе, хулиганка, на что он тебе? Играть? Так он не игрушка. Он не игрушка.
— Нет, я не играть. Я буду за ним ухаживать, кормить-поить, веселить его буду, а вырастет — замуж за него пойду.
— О-ох, мать твою, ну бандитка, ну хулиганка!
— А что? Будет у меня жених во-от с такими ресницами.
И крепко целовала меня в щеку, и шептала, касаясь губами уха:
— Не откажешься от меня, возьмешь меня в жены?
И я понимал, что ответа не надо, и все-таки проборматывал еле слышно:
— Возьму…
А дядька мой приседал и посматривал и качал головой в досаде и восхищении.
— Бесстыжая все же ты баба, Ольга, креста на тебе нет!
— Ого, креста! На тебе, что ли, есть?
— Мне креста не положено, я некрещеный.
— Ну вот и помалкивай. Не даришь мне мальчика? Тогда продай.
— Купи, купи. Но имей в виду, миллионов твоих не хватит. Он у меня один на свете, дороже ничего не имею…
— Ладно, — сказала она, — еще поторгуемся. Ты дорогу-то, Миша, хорошо помнишь, не завезешь нас куда-нибудь спьяну?
— Завезу, а то как же! А тебе-то не все едино?
— О-ох, это правда! Вези куда хочешь, мне все едино…
И вот, наконец, совершенно случайно, один из домов на одной из улиц почему-то вдруг оказался тем самым, куда мы ехали. Сергей вскочил сразу, как будто не спал, молча взял вожжи из рук дяди Мишуни.
— Ну, бывай здоров, — сказал ему дядька. — Спасибо, хороший ты человек. Завтра не нервничай, мы сами дотопаем. Да ты не гляди, что он с виду такой, мы с ним по-военному…
Мы втроем прошли через калитку к дому, а там нас тоже — ждали и знали. Старуха хозяйка обняла каждого, умилилась мне, проводила в горницу с уже накрытым белым столом, и Ольга сняла тяжелые валенки и ходила в чулках, бесшумно и мягко ступая, и дядя Мишуня доставал поллитровку… Но я уже плыл куда-то мимо, мимо стола и угла комнаты, к большой, глубокой и теплой кровати, и вот уже засыпал с блаженным предчувствием, что завтра будет еще веселее, еще интересней и праздничней…
А когда проснулся, было светло, и не было ни Ольги, ни дяди Мишуни. Она уехала рано утром в Москву (передумала, видно, меня покупать), а он пошел по своим заготучреждениям.
Старуха поила меня жидким чаем и кормила вареньем с каким-то назойливым привкусом. Потом я немного гулял по улице, то есть стоял как дурак у калитки, опасаясь непонятных соседских мальчишек и того, что если уйду, не найду дороги обратно. А потом вернулся дядя Мишуня, деловой, бодрый, но не слишком веселый, и мы снова попили чаю с вареньем, и поели, и угостили старушку котлетами — сколько же их там было! — и пошли на вокзал.
Весь обратный путь был бессмысленно длинным. Однообразные полудеревенские улочки, хмурые прохожие, заплеванный холодный вокзал. В вагоне он все больше молчал, подремывал; я смотрел в окно и изнемогал. Показалось в какой-то момент, что и в самом деле все вчерашнее было сочинено, придумано то ли мной, то ли им. Что не было никакого такого вечера, ни саней, ни Сергея, ни Ольги… Но уже у калитки нашего дома он вдруг остановился, крепко сжал мою руку, так что я едва не заорал от боли, и, приложив палец к губам, сказал:
— Понял?
Я кивнул.
— Ну вот, то-то. Ты, брат, у меня молодцом. Выпрямись!
И толкнул калитку.
10
— Ну-ну, расскажи, расскажи еще, сыночку, — говорит она, убирая пустую тарелку и подставляя мне новую, с картошкой, с котлетами, пахнущими совсем как тогда, словно теми же самыми.
— Не могу больше, все очень вкусно, но просто некуда!
— Ничего, ничего! — выговаривает она строгим, сварливым голосом. — Ты не спеши, я тебя не гоню, ты выпей еще, давай я тебе налью, и закусишь, вот и выйдет, что ты покушал. Ты кушай и рассказывай. А я буду слушать. Ты так много запомнил. Челябинск, носильщик, и как вы пилили дрова… Расскажи еще!
Ну да, расскажи тебе, думаю я. Нет, уж ты лучше еще поживи, поживи хоть ты…
Я все же пытаюсь добыть хоть что-нибудь, одинаково приятное и ей, и мне, но что-то никак не могу угодить одному из нас, то тому, то другому. И от этих тщетных усилий выплывает совсем уж ненужное, такое, что лучше бы вовсе не помнить.
То я вижу снова — подробно, отчетливо — ту жуткую сцену на кухне. Застывшее, довольное, почти благостное лицо Доры Семеновны; слезы тети Жени, эту тряпку в руках; и надо всем — ошалевшие, мутные, вороватые и жесткие глаза дяди Мишуни…
То как потом, уже после той сцены — то-то было и страшно, что после — он долбит в их запертую и странно замолкшую дверь:
— А вы мне не плачьтесь, что вы без мужа! Я-то знаю, почему вы без мужа. Погодите, и с вами еще разберутся, кто вы такая!..
А то я вспоминаю его донос, который он все-таки написал — на другого человека, по другому поводу, уже в новом доме… Белый лист, красивый, правильный почерк, равные расстояния между строчками. «Настоящим довожу до Вашего сведения, что гражданин такой-то из квартиры такой-то частным образом нанял электромонтера, который произвел, по всей вероятности („вереятности“ — писал дядя Мишуня)… Мною лично установлено отсутствие вращения счетчика, ввиду чего в ущерб государству расходуется баснословное количество электроэнергии…»
Так и было написано: «баснословное»… Еле я его уговорил не посылать.
Наконец, я вытаскиваю вроде бы то, что надо. Но опять это связано со мной одним. Да и мелочь, в сущности.
— Помнишь, как он меня кормил по утрам?
— Да-да, ломтики, ломтики!
Он вставал всегда раньше всех, «с петухами»… На самом деле часов в семь, позже петухов, но уж так ему нравилось говорить и думать. С петухами! Он будил меня и всегда перед школой заставлял съедать хоть один бутерброд. С повидлом, а когда появилась возможность — с маслом.
— Не спеши, — говорил он мне терпеливо. — Не хочешь — не надо. Ей-богу, никто тебя не заставит. Ты слушай меня и смотри сюда. Что ты видишь? Ну? Что — хлеб, хлеб! Еще раз: что ты видишь? — Большой кусок! Невкусно? Совершенно верно, невкусно. Теперь гляди: фокус-мокус. Берем нож, желательно острый, вот, я только вчера его наточил, разрезаем, еще, теперь поперек, на мелкие ломтики. А теперь — пробуй. Говорю тебе — пробуй! Ну? Вот то-то! А ты мне не верил. А ты не верил… А ты не верил…
Или приносил из сарая яйцо, свежее, только что из-под курицы, протыкал в нем иголкой две аккуратные дырочки, сыпал соль сверху на скорлупу и давал мне пить тонкую теплую струйку. Белка, который был тем хорош, что за ним непременно появлялся желток, для которого надо еще было расширить отверстие, расковырять его, но не слишком сильно, иначе он проглатывался вмиг, целиком, не оставляя почти никакого вкуса…
Или картошка… (Все что-то еда и еда.)
— Стой! — говорил он. — Имей терпение. Сейчас я тебе сделаю кваць. Идет?
Он оставлял в кастрюле большую часть воды, разминал картошку вилкой, потом толкушкой и еще почти всю слитую воду постепенно тоже добавлял обратно. Получалось действительно очень вкусно, потому что, как он любил объяснять, для картошки главное — это крахмал, а он-то как раз с водой и уходит… Я и сейчас своим великовозрастным детям иногда приготовляю такой же кваць и выслушиваю их похвалы с самодовольной улыбкой, молча поминая дядю Мишуню…
Ах, да, вот еще, пожалуйста. Это уже с едой не связано. Как он забирал меня из больницы, помнишь, после воспаления легких, и какая-то идиотка врачиха сказала ему, просто чтобы что-то сказать, что мне надо как можно меньше ходить, чтобы не было осложнения на ноги. И он нес меня на руках всю дорогу до дома, то есть сперва до троллейбуса, потом до метро, опять до троллейбуса, уже до нашего, и еще от него полтора километра крутых подъемов и спусков — с его-то сердцем!
Да, и еще, и еще, помнишь? Я вывихнул ногу, мне ее вправили, но было здорово больно, я еле терпел. И он со мной просидел всю ночь, рассказывал всякие свои истории. Я засыпал, а когда просыпался, видел, как он, держась за голову, стонет и качается из стороны в сторону…
Он не выносил физической боли — и не только своей, и не только моей, а вообще чьей бы то ни было. И даже когда наша Джульба, помнишь? В ЖКО завели большую собаку, овчарку, и она ее покусала. Он не мог смотреть, убежал в дом, и там с ним случился приступ, едва ли не самый тяжелый…
— Да-да, сыночку, спасибо тебе. — Она уже вся в слезах, трясется. — Вот меня тоже скоро не будет, я лягу туда же, рядом с ним, и я хоть сейчас спокойна, что ты нас помнишь. Вот его вспомнишь и меня немножко, кто знает, может, и правда нам будет от этого легче?
«Кто знает, кто знает? — думаю я. — Да никто не знает! Самый умный и самый знающий — как раз и не знает. Мы живем в этом мире, не зная самого главного, и ведь вот молодцы какие — не теряем духа, живем!..»
Я прощаюсь, обнимаю ее, целую, говорю ей: «Ну-ну, не кисни, держись…» — и еще, чтобы как-то завершить этот день, кое-что вспоминаю в метро, по дороге домой.
11
Мое последнее воспоминание о дяде Мишуне — последнее живое мое воспоминание — относится к совсем недавнему времени, когда его самого в живых давно уже не было. Так что речь здесь уже не совсем о нем, а скорей обо мне…
Я был вызван — и не вызван, а застигнут на службе и доставлен на серой «Волге» — в одно суровое учреждение, для мирной, впрочем, и тихой беседы на сугубо литературные темы. И не в учреждение, а в его филиал, один из бесчисленных, расположенный в совсем постороннем здании — если есть, разумеется, в нашей стране такие здания, посторонние этому вездесущему ведомству. Сопровождавший меня элегантный и стройный юноша набрал код на двери без вывески, заслоняясь от меня другой рукой (я, конечно, от души посмеялся над этой серьезностью, но не в тот момент, потом, через пару недель…), и мы с ним проникли в большую прихожую, из которой тянулся узкий коридор с дверьми с обеих сторон. Глухие высокие стены, неяркие лампы; мефистофельский острый профиль из желтой латуни, неожиданный тем, что уж слишком был ожидаем; учебный плакат «Пистолет Макарова» — как разбирать, собирать, заряжать (сразу выплыло змеиное слово «шептало»); и мирная передвижная вешалка из гнутого дерева, пустая, одиноко застывшая в пустом углу. Я снял и повесил пальто, прошел в конец коридора, вошел в предупредительно раскрытую дверь и там, за большим Т-образным столом, увидел дядю Мишуню…
Вообще говоря, нечто подобное случалось со мной не раз и прежде. Чаще в кино, но порой и в жизни. Все советские чиновники тридцатых-сороковых были словно пародиями на него, и не те, сатирически изобличенные, пародийные по замыслу авторов, а старательно-серьезные, положительные, деловые и мудрые. Но то ли я давно не встречался с чиновниками, то ли место само, где я находился, и способ, каким я сюда попал, были уж чересчур необычны… То ли допустимость любого исхода, обострявшая до предела, у бездны на краю, воображение и восприятие… Но такого ожившего своего дядьки я со дня его смерти не видел. Тут было так, что любая деталь не опровергала, а дополняла: и рост, и жесты, и вот он заговорил — голос и способ произнесения. Словарь был, конечно, богаче, грамотней, разговор шел на тему, дядьке мало доступную, но все это было как бы неважно, дело было как бы не в этом…
Он выглядел старше как раз на те самые годы, дядьке было бы сейчас примерно столько же. Русский, и даже скорей украинец, но и это сходилось. Дядя Мишуня русский и даже скорей украинец. Гладко бритая рыжеватая голова, форма черепа, шеи, размер и форма ушей (отсюда, из безопасного далека, я даже мысленно всматриваюсь, здорово ли левое…), широкие плечи в синем бостоне (тот самый костюм, в котором в Серпухов… нет, конечно, бостона теперь не бывает, но нечто подобное), руки с крепкими туповатыми пальцами, с коротко обрезанными ногтями (может, тоже пилит где-нибудь у себя на даче?). Еще бы светлые бурки… Ног видно не было, и я их легко дорисовал, эти бурки. Это был точный дядя Мишуня, вылитый, как он сам бы сказал. Но конечно же поумневший, обученный, которому раз навсегда объяснили, как надо и как не надо. А взамен отняли всю игру, всю необязательность и никчемность, и от этого щеки его стали серыми, а губы сухими и жесткими…
Я так тогда растерялся от этого сходства, что не спросил ни звания, ни фамилии. Так до сих пор и не знаю и только надеюсь — ненасытное мое тщеславие требует, — что хотя бы не ниже майора. А где-то в дальнем уголке души шевелится: полковник! Непременно полковник. Такой пожилой — ну никак не ниже…
Он спрашивал — не враждебно, но кратко и сухо. Я же так расслабился, так расплылся, что сразу наболтал с три короба — и все лишнее, лишнее. Нет, я не рассказал никаких секретов — но только потому, что никаких секретов не знал. И я не назвал ни одной фамилии — потому что он меня ни о ком не спросил. Но я разговаривал, разговаривал по-домашнему, весело, облегченно: герой, контекст, читатель, писатель, интеллигенция, революция… Вот дурак-то, наверное, думал он, вот лопух-то, с такими только работать. Главное, не оттолкнуть, не спугнуть…
Наконец, я остановился, схватил себя за руку, огляделся и подумал оторопело: ну и ну! Как же и жить после этого? Не-ет, чур меня, сказал я себе, чур меня, какое там сходство, это так, с перепугу мне показалось. Если б живой, подлинный дядя Мишуня вот такое долгое время сохранял эту важность, я бы счел, что он окаменел, что он умер. В нем, даже в самом неподвижном, даже в самом надутом, в нем всегда внутри бушевал огонь, и какая-то то ли еврейская, то ли просто дурацкая искра поминутно прошивала его насквозь. Другой, другой!..
Он словно почувствовал, что я ускользаю, встрепенулся, как марсианин Рэя Брэдбери, и точным, единственно верным движением вдруг постучал по столу пальцами, выстреливая ими из сжатого кулака; затем, тоже абсолютно правильно, распластал ладонь перед собой на столе и сказал:
— Вы не думайте, я верну!
Это он перед тем попросил рукопись еще не опубликованного романа.
— Я верну! — сказал он и, как и следовало, повторил тем самым, особым, назидательным, просительно-угрожающим тоном с непременным подъемом в конце: — Я верну-у… Я верну-у…
И даже еще пожевал, пошевелил губами, словно добавляя недостающее: «как пить дать» и «честное мое слово»…
Но было поздно.
Было поздно, я уже ускользнул, я уже был не здесь, далеко, со своим настоящим дядей Мишуней, обнимал его и просил прощенья у его небезгрешной, но все же невинной тени.
1984—1986
Об издании
Юрий Карабчиевский
ТОСКА ПО ДОМУ
Редактор О. С. Ляуэр
Художник Дмитрий Карабчиевский
Художественный редактор В. В. Медведев
Технический редактор Л. И. Витушкина
Корректор Т. И. Томашевская
Сдано в набор 13.06.90. Подписано в печать с готовых диапозитивов 2.01.91. Бумага газетная. Гарнитура «Сенчури». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Тираж 100 000 экз. Цена 5 р. Заказ 2066.
СП «Слово», 121433, Москва, Б. Филевская, 37/1.
Отпечатано с диапозитивов на Книжной фабрике № 1 Министерства печати и массовой информации РСФСР. 144003, г. Электросталь Московской обл., ул. им. Тевосяна, 25.
Примечания
1
Ничто, ничего, нисколько (идиш).
(обратно)2
Вздремнул; буквально — прихватил немного сна.
(обратно)3
Весенний праздник (Пурим).
(обратно)4
Государство, власть.
(обратно)5
Известнейший в 40—50-е годы музыкальный политический фельетонист.
(обратно)6
Евреев
(обратно)7
Нет, Господи.
(обратно)8
Нет, Господи, я не хочу жить. За что, Господи? За что причиняешь мне такие несчастья?
(обратно)9
Да, Господи, Ты прав, Ты прав, о, Ты прав! Я виноват, Господи мой, о, я виноват!..
(обратно)10
Семья, род.
(обратно)11
Приятная, красивая.
(обратно)12
Аминь.
(обратно)13
И конец.
(обратно)14
Пожертвуйте милостыню.
(обратно)15
Дедушка.
(обратно)16
Мой внук.
(обратно)17
Красивый, умный мальчик.
(обратно)18
Сказки,басни.
(обратно)19
Молитвенные коробочки.
(обратно)20
Молитвенное покрывало.
(обратно)21
Древнееврейский; буквально — святой язык.
(обратно)22
Первый, главный вечер Пасхи.
(обратно)23
С нами, с нами!
(обратно)24
Так стремительно меняется наша действительность, что едва скажешь о ней хотя бы два слова — надо тут же проверить, не опоздал ли. В данном случае я как раз опоздал. Начинал писать эту повесть — кофе был четыре с полтиной, а еще не успел до середины дойти, как уже — двадцать рублей. Взамен подешевели на пятнадцать процентов литые сапоги из какого-то пластика. И вот, все у меня, казалось бы, то же: тот же стол, та же машинка, та же рукопись о том же предмете — но чашка на столе совсем другая: кофейный напиток «Кубань», двадцать копеек пачка. Цикорий, рожь, овес и ячмень.
(обратно)25
Я имею в виду «армянских» армян и европейских евреев.
(обратно)






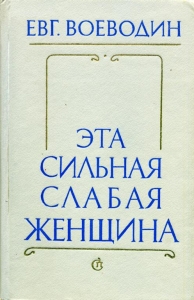

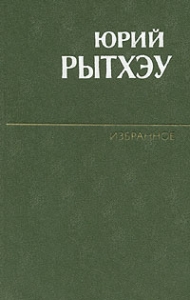
Комментарии к книге «Тоска по дому», Юрий Аркадьевич Карабчиевский
Всего 0 комментариев