Русская Венера
Судьба современной русской женщины, многоликость этой судьбы положена в основание рассказов, собранных в книге.
Заглавный рассказ написан в память о художнике Б. М. Кустодиеве, щедро и ярко запечатлевшем созидательную, миротворную силу русской женщины, — поэтому заманчивой представилась идея оформить книгу портретами кустодиевских женщин, что существенно и необычно, на мой взгляд, дополняет характеристики моих героинь.
Признателен художнику Ю. И. Селиверстову за столь плодотворную мысль.
АвторСИТЦЕВЫЕ ЗАНАВЕСКИ
На белом подоконнике самовольно, невесомо перемещалась желтая цветочная пыльца. Обтекала горшочки с геранью, обернутые серебряной фольгой, прибивалась к баночкам-скляночкам с пудрами, кремами, притираниями.
Смуглая, быстрая рука, с колечком на безымянном, распахнула окно — пыльца взвихрилась и просеялась на блестяще-охристые половицы. Ситцевые занавески затрепетали, защелкали и, прильнув к гераням, запарусили под напором утренней прохлады.
Под окном дотлевали поздние цветы мать-и-мачехи, старая черемуха сыпала последними обуглившимися лепестками, а дикая вишня только-только занималась бело-розовым. И гаснущий цвет, и свежевспыхнувший прибавляли дыханию утра терпкой печальной чистоты.
Снова мелькнула смуглая рука с колечком на безымянном, охваченная теперь прозрачной голубой тканью, и захлопнула окно. Занавески увяли, стекло припотело от сизого солнечного тумана.
Девушка приостановилась у зеркала: «Может, не пудриться сегодня?» — пожалела зарозовевшую после холодной воды кожу, вздохнула: «Но и голощекой-то нехорошо», — потянулась к пудренице, густо припорошилась, разровняла пуховкой, обмахнулась — на помучневшем лице резко проступили тонкие, черные брови, как-то недобро выделились глаза — и смородиновая, живая чернь вроде бы потускнела.
В дверях опять притормозила: «Что-то забыла! Ох ты, господи! Дороги же не будет. Ну что, что?» — вспомнила, вернулась, наклонилась над кроватью подружки, потормошила: «Дусь, а Дусь!» — Та еще глубже и глуше забилась под одеяло, только рыже-каштановый клок выплеснулся на подушку. «Если и добужусь, не запомнит спросонья». Нашла лист бумаги, написала: «Дусь! Сходи, будь лапочкой, за туфлями в мастерскую. Квитанция в сумке. Надя». Положила записку на пол и прижала Дусиным шлепанцем.
В прихожей приоткрыла соседнюю дверь, напряженным шепотом позвала:
— Коля! Ко-ля! Вставай. — Хозяйка будильников не любила и квартирантам не позволяла держать. — Коля! Утро на дворе.
В углу, за печкой Надя увидела лыжную палку, просунула ее в дверь, дотянулась до кровати, потыкала в темный ком.
Коля будто и не спал. Откинул одеяло, длинной худой рукой схватил палку:
— Я тебе кто?! Куль картошки?!
— Хуже. И так опаздываю. Вставай. — Вырвала палку и снова ткнула его в бок.
— Все, Надежда, конец света. Насквозь ты меня. — Коля вдруг вскочил, бросился к двери, худой, долговязый, в небесной маечке, в красных плавках.
Надя выронила палку, тихо взвизгнула:
— Дурак бессовестный! Ненормальный! — и вылетела из дома.
У старой деревянной лестницы, почти отвесно спущенной на берег, Надя помедлила: ступеньки сносились, зловеще поскрипывали в пазах, перила развалились, как борта у телеги — коричневым, трухлявым дымком отзывалась лестница на каждый шаг, со дня на день собиралась рассыпаться и скорее всего именно под Надей. Окольная же, пологая тропка петляла меж молодых бурьянов, лебеды, полыни, еще обильных розовой, парной росой — и ноги мокрые будут, и босоножки раскиснут, и юбка по подолу зазеленится и тяжело почернеет. Судорожно схватившись за шаткие перила, приойкивая про себя, она ступила на лестницу.
На причальных мостках ждали речного трамвая Надины товарки, работницы слюдяной фабрики, тоже квартировавшие в нагорном предместье. Пересекая галечный береговой пустырь, Надя ревниво присматривалась: кто что успел купить со вчерашней получки? «Ага, на Верке новая блузка. Видела такую, только желтую. Ой, а Нинуля-то с Клавкой! Брюки как у двойняшек. Хороша бы я была. Тоже ведь почти клюнула». Надя подходила к мосткам. Вскинула руку с зажатой в кулаке белой косынкой:
— Привет, девы!
Ей замахали в ответ, закричали, но тяжелый бас трамвайчика перекрыл крики. По-утреннему угрюмый, какой-то отсыревший матрос держал уже наперевес трап. Матрос все же пересилил сонную свою хмурь, пошутил:
— Опять слюду щипать? Ух, завидно. Меня возьмете? Щипать буду — от и до.
— О-хо-хо да о-ха-ха, далеко ли до греха, — приговаривал Коля давние бабушкины слова, потягивался, позевывал, но вполголоса, без сладких стонов и хрустов — боялся разбудить хозяйку за стеной. — Возьму вот и снова завалюсь. Еще минут на триста — пропадай эти экзамены и стипендия вместе с ними! Спать хочу, есть хочу, больше ничего не хочу!
Так вроде бы безвольно расслабляясь, он тем не менее трезво уж посматривал на развалы учебников и тетрадей, ждавших его на столе, на подоконнике и табуретке, на гимнастическую резину, клубочком свернувшуюся у порога, на черные, холодные лбы гантелей, высунувшихся из-за печки. Надо было начинать день, и Коля встал, тоже распахнул окно, раздвинул пестренькие занавески, чтобы не замедляли хода утренних свежих волн. Передвигаясь потом по комнате, выжимая гантели, растягивая резину, приседая, он продолжал ворчливо насмешничать:
— Сдался мне этот режим, плевал я на всякие распорядки и беспорядки, я вольно жить хочу, отдыхать и веселиться. Лениться хочу, груши околачивать, наследство хочу получить.
Эта Колина склонность оговаривать себя, переиначивать на словах каждый свой вдох и выдох проявлялась не только в дремотно-брезжущие утра, но, пожалуй, более всего в прочие, ничем не замутненные минуты.
К примеру, какой-нибудь институтский приятель, напуганный накануне сессии собственной ленью и праздностью, приставал к Коле:
— Колька, вывернемся, нет? Нет, ты почему такой спокойный?! Весь в шпорах? С профессурой домами дружишь? О, о! Весело ему. Выгонят же, в стройбат забреют.
Коля приобнимал приятеля за плечи:
— Не дергайся. И будешь долгожителем. У меня вон дед к сотне подкрадывается. А почему? За жизнь ни одной нервной клетки не потерял. Вот как-то пошли с ним за черникой. Ходили, ходили — пустая тайга. Я уж язык высунул, на плечо положил, норовлю присесть на обочинку. А дед меня учит: не думай, не думай, паря, что устал. На ходу и отдохнешь…
— Колька! Пошлю ведь. И очень далеко.
— Я, знаешь, как делаю? Учебники под подушку, конспекты под зад — и сплю. Обучение во сне. С утра — умны-ый, аж голова трещит.
Приятель, ругаясь, отмахивался, убегал, а Коля весело кричал вслед:
— Не дергайся, паря! Отметок на всех хватит! Не обойду-ут! — И круто поворачивал, торопился домой: конспектировал, чертил, читал, запоминал, а где туго подавалось, зазубривал — беспечность беспечностью, а прилежание прилежанием.
Когда другой приятель попробовал однажды занять у Коли после стипендии, тот виновато, но и с долею гусарской гордости вздохнул:
— Прокутил. До копеечки, до ниточки. Загулял вчера, парень, как с цепи сорвался. Ну, да и не жалко. Зато смеху, дури — покуролесили всласть.
На самом деле Коля не выпивал и по красным дням, табаком не баловался, а всегда на что-нибудь копил: на зимние сапоги, на свитер, на плащ.
Вот и в нынешнее утро, размявшись, умывшись, Коля вспомнил: он собирает на летний костюм, всю стипендию относит в сберкассу. В тумбочке у него шаром покати — ни крошки хлеба, ни щепотки чая, ни кусочка сахара. Зимой, однако ж, копить-откладывать куда легче: старушки, населявшие нагорное предместье, прямо-таки охотились за Колей — одной дров поколоть, другой снег со двора вывезти, третьей уголь разгрузить. За Колей в очередь вставали с понедельника, нарасхват был Коля, зато и кормился бесперебойно, даже капризничал: от картошки отказывался и каши пренебрежительно отодвигал. Летом же зубы на полку. Пока огороды садили, была еще в Коле нужда, в пахаре и сеятеле, а уж полоть старушки сами готовы, сами в охотку поползают меж грядок, да и польют сами при летних-то водопроводах.
Коля, натощак листавший учебник и, в сущности, не видевший его, вдруг затих, прижал ухо к стене, вроде бы завздыхала, закашляла хозяйка. Нет, глухо. Показалось И пусть, родимая, поспит на здоровье. Никаких завтраков квартиранту не надо. Все он уже вылизал в доме, все гвозди заколотил, все щепки собрал — может и не евши теперь жить. На старости-то только и отоспаться. Пусть отдыхает. Пусть хлеб в буфете черствеет, пусть из яиц птенцы вылупляются — нам торопится некуда».
Он вышел в прихожую, приложил ухо к соседней двери, за которой жили девушки-квартирантки, работницы слюдяной фабрики. «Надежда на смене, а Евдокия, конечно, спит. И пусть спит. В молодости тоже поспать не вредно. Сил надо перед сменой набраться. А сыр ее в чулане пусть заплесневеет. Пусть его мыши съедят. Завтракать всем охота. А мне этого костюма и даром не надо. Эка невидаль: бежевый, с шоколадной полосочкой. Пусть пижоны носят. А мне и так хорошо».
Осторожно не постучал — поскребся в хозяйкину дверь:
— Милитина Фоминишна-а… Спите, нет? Милитина…
Хозяйка гулко, с надрывом закашляла, зазвякала стаканом, причмокивая, попила, забренчала спичками, закурила. Наконец пробасила:
— Здорово, Кольча. — Она родом была из Колиных мест и звала его по-тамошнему. — Спасибо, разбудил. Черт знает что за сны повадились!
— Ничего, Милитина Фоминишна. Все равно утро доброе. — Коля уже говорил погромче, понапористее, но дверь не открывал: шибануло бы сейчас прокуренно-кислым духом.
— Ну, доброе. Понятно. Еще что за новости?
— Да вот на разнарядку на утреннюю пришел. Может, сделать что, сбегать куда?
Хозяйка долго не откликалась.
— Кольча, такой пока план. Возьми тележку и двигай на лесозавод. Нагреби там опилы и посыпь лед в погребе. Что-то сильно таять начал. Ну уж, а магарыч, когда встану.
Привез опилки, перетаскал деревянной бадейкой в погреб, просеял сквозь пальцы, облепил желтой, влажно-теплой крупой оплывшие бока ледяных валунов — смолистой свежестью сразу же забило погреб и вроде бы потеплело. От этого соснового летнего вея дрожью в лопатках проступил скопившийся в Коле холод. И нос каменно, как-то отдельно от лица затвердел, и руки опалило ломотой. Он выскочил из погреба — густое, прошитое воробьиным чириканьем тепло крепко обняло его. Зажмурился, постоял, не вырываясь из объятий, посопел блаженно в полынную, просторную, мерно вздымающуюся грудь июньского дня. Но вот попривыкли друг к другу, разошлись в стороны. Коля открыл глаза и снова зажмурился: на веранде сиял медными боками самовар.
Милитина Фоминишна, согнутая, сухонькая, остролицая, с тяжелой кружевной шалью на плечах, не выпуская папироски изо рта, сновала вокруг самовара, выставляла «магарыч»: сметану, вчерашнюю холодную рыбу, яйца, светло-зеленый пучок батуна, масло, хлеб. Освободились наконец руки — вытянула папироску, затянулась еще напоследок и отошла, оглядывая стол:
— Н-да, дела на полтинник, а магарыча на целый рубль. Садись, Кольча. Налегай. — От ее хриплого баса, видимо, с годами так высушившего Милитину Фоминишну, вытянувшего из нее все силы, легонько задребезжали ложки в стаканах.
Коля хотел промолчать, хотел лишь согласно головой кивнуть, но затянувшийся утренний голод да недавний погребной холод вновь живо столкнулись в нем. Он разозлился:
— Жалко, что ли? Тогда и не буду. А то подавлюсь еще.
Хозяйка подумала, глядя на стол, вытащила откуда-то из-под свисающего конца шали папироску, закурила.
— Вообще-то нет. Не жалко. Одной все одно не съесть. Пропадет. По привычке, Кольча, считаю. За жизнь насчиталась — остановиться не могу. Да садись ты, садись! На голодное брюхо все мы обидчивые.
Коля сел.
— Я тоже, Милитина Фоминишна, считать умею. Хоть и не люблю.
— А кто любит? Нужды не было бы, разве считали? А по правде-то так, замечаю, отвыкают считать. Не от богатства, от безалаберности… Давай, подвигай стакан-то.
Пока пили чай, встала Дуся — слышно было, как на кухне бренчит умывальником. Вскоре вышла, розовенькая, гладенькая, в тесном коротком халатике. Еще и ладони ухитрилась затолкать в маленькие, узкие кармашки — халатик сшит был без запаха и теперь расходился у пуговиц, приоткрывал белое, сытое тело.
— Лучше бы нагишом вышла! — плюнула Милитина Фоминишна. — Дуська! Марш отсюда! Добро бы одна была. Парень же в доме! — Коля прикрыл глаза, вроде бы сонно, вроде бы захмелев от чаепития.
— Ну уж и парень. — Дуся прошла, села бочком к столу, не вынимая рук из карманов. — Какой это парень, Фоминишна! Хилый студент, а никакой не парень. Правда, Коленька? — Сладенький, веселый голосок был у Дуси.
— Угу, — не открывая глаз, кивнул Коля.
— Вот, пожалуйста. А ты, Фоминишна, прямо напугала меня. Парень да парень. Где, думаю, дай посмотрю. — Дуся встала, прошлась перед столом. — А одета я очень прилично. Правда, Коленька?
— Еще как, — опять не открывая глаз, кивнул Коля.
— Садись, чаю попей. — Милитина Фоминишна зябко куталась в шаль. — Ох, Дуська, скорей бы ты замуж вышла. От греха подальше.
— Ой, не смеши, Фоминишна. Тебе-то какой грех? Уж ничего и не помнишь.
— Вьешься уж больно сильно. И присмотреть за тобой некому. А мне жалко будет, если что случится.
— Ничего не случится. Я девушка смелая и ничего не боюсь. Правда, Коленька?
Он, уже не отвечая, опять кивнул: «Заманивай, заманивай, я юноша влюбчивый, мечтаю пеленки стирать, на молочную кухню бегать. Очень хочу грузчиком стать и на заочном поучиться. Всегда готов, как пионер».
Коля ушел к себе и почти до сумерек просидел над учебниками, а потом опять постучал в хозяйскую дверь:
— На вечернюю разнарядку пришел, Милитина Фоминишна…
По субботам и воскресеньям Коля отдыхал. Милитина Фоминишна поила чаем без отработки.
— Грех, Кольча, всю неделю горб набивать.
Днем его зазывали к самовару Дуся с Надей, чтоб не скучать, а к вечеру они дружно уговаривали Милитину Фоминишну:
— Давайте вместе посидим, почаевничаем. По-людски, за одним столом, — и снова приглашали к столу Колю.
Сидели долго, до холодного самовара, до синей мглы в дверном проеме веранды. Света не зажигали. И тогда Милитина Фоминишна просила:
— Давайте мою, девки. И ты, Кольча, поддерживай.
Запевали:
Ах, да со вечера Делать нечего, Идти некуда, Любить некого…Милитина Фоминишна сморкалась, всхлипывала, уходила в комнату, говоря тихо булькающим басом:
— Приберусь малость…
После Коля все хотел включить свет, но Дуся с Надей хватали за руки, усаживали, давясь смехом, колотили его по гулкой, костлявой спине.
— Как это любить некого?! А!
Коля вырывался, отталкивал их, наконец, сдавался:
— Понял. Есть кого. Есть.
Ветреная синяя жара перетекла из воскресенья в понедельник, охотно. Коля глаз еще не открыл, а уже понял: проспал! Солнце горячо, нетерпеливо лизало ухо, влетев наконец в комнату, вырвавшись из тесной листвы черемухи под окном.
Вскочил, дорожа временем, слегка только, для полноты режима, помахал руками, ногами, натянул трико, решительно вышел в прихожую. На двери Милитины Фоминишны блестел маленький, с монетку, замочек — значит, ушла надолго, не в огород и не к соседке, иначе бы не навесила. С пятерней в затылке поплелся к умывальнику, потом медленно, со вздохами, выпил ковш воды, вернулся в прихожую. Увидел: дверь в комнату Нади и Дуси стояла распахнутой. «Евдокия летела. Как же это Фоминишна шла, не заметила? А-а… Еще и окно настежь. Ух ты, как тянет!»
С трепещущим присвистом реяли, летели в комнату ситцевые занавески, дрожала, перекатывалась упругая рябь по их розовым цветкам. По стене, по потолку бесшумно бежала, переливалась тенисто-солнечная волна, и ее бегущие отсветы, блики, сталкиваясь, казалось, тоже посвистывают, позванивают, тоненько шепотят — так слагался волнующе-свежий, счастливый голос июньского дня.
Под его вольный чистый трезвон Надя спала крепко и сладко. Сбилось розовое пикейное одеяло — смуглые плечи чуть пристыли, засветились матовым у ключиц; нежно, сонно отяжелевшие груди — может быть, так отсвечивало скомканное на животе покрывало, и чуть призябла тугая, белая кожа выше колен, не хватившая солнца.
Все это Коля вобрал в один миг, замор, покраснел, быстро захлопнул дверь и метнулся к себе. «Ну, Евдокия! Ну, мать честная! Ходи тут за ней, закрывай. Прямо в стыд ввела. — Почти вслух бормоча, Коля тыкался из угла в угол, не замечая ни раскрытых учебников, ни конспектов. — И окно так бросила. Сдует еще чего, разобьет. Да мало ли чего может, при открытом-то. — Коля еще пометался, покружил по комнате. — А что там случится? Да ничего. Не выдумывай, Коленька… И все ж таки нехорошо с распахнутым-то».
Он на цыпочках подошел к Наде.
— Надежда-а, — позвал прогорклым шепотом. — Надя. Окно-то закрыть? Ну и спишь ты. Слышишь? — Голос сел и перешел в хрип. — Закрыть, нет окно-то? — Коля присел на железный краешек кровати, выставившийся из-под матраца.
Надя, не просыпаясь, вздохнула с какими-то смутными словами, повернулась к нему, с сонной доверчивостью выпростала, протянула руку вроде бы как к Коле.
Он отвернулся, поглядел в окно.
— Надя! Хватит спать-то!
Очнулась, с резким, еще немым испугом отпрянула к стене, судорожно потянула, не расправляя, ком покрывала на себя.
— Ты что, Колька? Ты что? — На просящей, жалобной нотке прорезался голос, но тут же окреп, набрал возмущенную зычность. — Ну-ка уматывай сейчас же! Подкрался! Кот ободранный! — Она толкнула его, но Коля удержался, пересел поглубже, перехватил Надины злые руки.
— Кого бьешь? Кого гонишь? Пожалей некурящего, — попробовал поцеловать в плечо, в шею, в щеку — куда удастся. Надя вырвала руки, опять уперла кулаки в Колину грудь.
— Уйди, паразит! Я кому сказала! Колька, выйди вон!
Надя, наконец, изловчилась и так двинула, что Коля слетел с кровати, почти сел на пол, но успел выставить назад руки.
— Надежда, ты не знаешь Колю Щепкина! Война, теперь война. Мир кончился. — Коля поднырнул под ее молотящие кулаки, обнял ее. — Ты не знаешь, как он к тебе относится. Ты снишься ему по ночам. На лекциях снишься. — Удалось, поцеловал в щеку, сквозь пахнущую хвоей прядь.
— Колька! Кричать буду. Лучше отстань. Укушу ведь… Глаза выцарапаю. — Но не закричала и не укусила, а только яростно и неутомимо сопротивлялась, все норовя поддеть его побольней и побезжалостней.
Взмывали над ними легкие облачка горячих, неровных дыханий, но ненадолго — свистящий, упругий ветерок, срывающийся с ситцевых занавесок, разбивал, развеивал эти облачка.
— Ох и паразит же ты. Ох и паразит…
Но и после Надя не подобрела. Молча полежав, она локтем опять так двинула Колю, что он, обидевшись, встал и перешел на табуретку.
— Теперь-то зачем дерешься?
— Затем…
Полежала, помолчала, опять сказала недовольно и зло:
— Ну, чего расселся? Обрадовался тут… Отвернись! Собираться буду…
Коля уставился в угол, устало сгорбился.
— Надежда, можно вот что придумать… — Голос его был печален и тих. — Давай в субботу в парк пойдем. Сначала на пароходике покатаемся. — Он подумал, подумал, несколько дрогнувше добавил: — В ресторане посидим. Приглашаю. Потом, если захочешь, в кино можно или на танцы…
Она ходила мимо, уже причесанная, в пестром сарафане — и молчала. Взяла с подоконника колечко, пудреницу.
— Если на Дуську хоть раз еще посмотришь, берегись. Уж тогда точно глаза выцарапаю. Учти!
— При чем тут глаза? Я приглашаю тебя в субботу…
— Слышала. Посмотрим.
Собрала сумку, остановилась за спиной.
— Как молния время-то. Вот уж и на смену пора. Ты, если хочешь, у нас тут занимайся. Просторнее будет, а может, и веселей. — На прощанье стукнула несильно по спине. Пожалуй, даже ласково. — Вечером выйди к причалу, проветрись. Я с последним приплываю.
Посидел еще один, придвинувшись к окну. Поймал в кулак занавески — они забились, запарусили. Неожиданно прикоснулся к ним щекой — чистым солнышком и черемуховой горчинкой отдавал их мягкий холодок.
Ушел на кухню, в чугуне, прикрытом фанеркой, нашел картошку в мундире. Не присаживаясь, придвинув только солонку, склонился над чугуном. Задумчиво чистил, задумчиво жевал, и странно было, но чувствовал, что у него легонько, тоже задумчиво, шевелятся уши. «Ешь, Коленька, ешь. Набирайся сил, бодрости. Не мешало бы и ума немного набраться. Ну, да и без него хорошо». Вспомнил все, головой крутнул, засмеялся. «Ох, и прыткий ты, Коленька. Хоть плачь. Теперь давай в парк ходить, на качелях качаться, в комнату смеха хоть каждый день, само собой — к причалу, очень полезна тебе ночная прохлада — вот тебе, Коленька, новая жизнь. Куда ты денешься? То-то и оно».
Вернулся в Надину комнату, закрыл окно, расправил увядшие занавески — иначе бы все думал, как они тут полощутся и летают, и уже больше бы ни о чем не думал.
А потом ушел к себе.
ОДНОКУРСНИЦА
— Сюда баул швой штавь, вот тебе штол, вот лежанка. Живи на здоровье. — Высокая, плоская старуха с широким коричневым лицом подошла к окну, раздернула занавески. — Кормиться-то ждесь будешь или в штоловой? — Она по-чалдонски путала свистящие с шипящими. — До тебя доктора жили, дак все у меня кормились. В штоловой-то молодые девки поварят. Им все быштрей, быштрей надо — набухают чо попало, а ты и есть не штанешь.
— В столовой не буду, встаю на довольствие к вам, — он был полон еще новосельной бодрости и покладистости.
— Жовут меня Елена Ивановна, а тебя, жначит, как?
— Константин Николаевич. — Он чуть не сказал «Конштантин» — так заразителен был чалдонский выговор. Засмеялся. — А у вас хорошо. Чисто, солнечно. Мне нравится. — Он решительно раскрыл баул: немедленно обжиться, расставить книги, повесить платье, купить настольную лампу, и вот он — свой угол, где так сладко, наверное, погрузиться в деятельное, серьезное одиночество.
— Вечером, Елена Ивановна, прошу на новоселье.
— Ну, поживи, поживи.
Присел у окна, смотревшего на реку. Голубые торосы; санный след, бежавший вдоль правого берега, искристо, желто выблескивал на раскатах, и вдалеке, у розовых береговых сугробов, сворачивал в синюю мглу ельника. «Обязательно узнаю, куда это ездят. На лошадях век не катался. И даль какая, даль! В серебре, в дымках легоньких. Охотничьи избушки, наверное? Эвенкийские чумы». Константин Николаевич снова засмеялся: так солнечно, морозно, полозья где-то скрипят, от лучины на печке густой смолевой дух. А еще пять часов назад он был в пыльном, ветреном октябре, солнце, красное от ветра, уже не грело, и съежившаяся жестяная листва на асфальте шуршала пусто и горько. «Но что это я расселся? Ничего не достал, не разложил, полку не сделал — ах, Конштантин, Конштантин!»
Пошел представиться главному врачу. На улице, в желтовато-синих, рассыпчатых сугробах у каждого дома лежали лайки. Не вынимая носов из теплых пазух, они провожали Константина Николаевича умными, настороженно-сизыми взглядами: кто, мол, тут еще появился? Чернявенький и рот до ушей?
Больничный пригорок топорщился корявыми, низкими соснами с ярко-желтой чешуйчатой корой и засахарившимися потеками смолы — такие обычно растут на песчаных, продуваемых косогорах.
— Привет, привет, — сказал главный врач, почти ровесник Константину Николаевичу, розово и благодушно располневший. — Алексей, — сунул распаренную, вялую руку. — Устроился? Не торопись — о деле успеем! Приходи в гости. Молодость вспомним под грибочки. У меня жена тоже медик, в аптеке провизором. Ну, осматривайся. Я — в райтоп ругаться. С дровами, черти, тянут и тянут. Ох, на подъем тут тяжелы, поживешь — увидишь.
Через месяц он знал в лицо всех жителей райцентра, а их собак, пожалуй, и поближе — собачья жизнь, с драками, ссорами, мгновенными примирениями и откровенными любовными хороводами, невольно занимала свежий взгляд. Он спрашивал у Елены Ивановны:
— А чей это рыжий вислоухий кобель? Ласкается, ласкается, а только отвернешься, так и норовит то за полу, то за штанину?
— Фарковский. Весь в хозяев. Школько помню, все шобаки у них такие. Лыбятся, лыбятся, а потом где-нибудь оконфузят. Ты вот жамечай, Конштантин Николаевич: какой пес, такой и хозяин.
— Н-да, — улыбнулся он. — С собачьей меркой, Елена Ивановна, я еще как-то к людям не подступался.
— Все ишшо впереди. Не горюй…
В больнице у него был один только больной — эвенк Монго, лежавший с радикулитом. По утрам в окнах его палаты маячили плоские, ветвистые ухваты оленьих рогов — кто-то из многочисленной родни приезжал навестить. По вечерам он, перевязав поясницу собачьим чулком, сидел у печки, курил; бегущие от пламени тени делали загадочно-тревожным его бесстрастное, одутловато-желтое лицо. При очередном осмотре Монго сказал ему:
— На два дня отпускай меня, доктор.
— Как?! — не понял Константин Николаевич. — Ты и половину положенного не пролежал.
— Брат женится, поеду. Через два дня вернусь.
— И не выдумывай. Запрещаю. — Не мог же при всем при том объяснить Константин Николаевич, что больница лишится единственного больного — анекдот чистой воды, что ему тогда здесь делать?
— Надо ехать, доктор. Брат обидится.
— И я обижусь.
— Ты не брат, маленько меньше обидишься…
Вот так разрушались в этом богатом на здоровых людей районе все мечты Константина Николаевича о деятельной, серьезной жизни. Он взял ночные дежурства на «скорой помощи», но вызовы были так редки, что, ошалев от теплой, дремной тишины дежурки, выскакивал на больничный двор и долго ходил под низкими, крупными звездами. Слушал, как на реке с тихими стонами и резкими гулкими вскриками ломался лед — при этих стонах и криках рождались голубоватые, нежно-искрящиеся торосы. С шелестящим, далеким вздохом срывался снег с какой-нибудь ели; лениво, как и подобает ночным сторожам, перекликались собаки; тревожно скрипели его шаги — невероятно, что у него была другая жизнь, наполненная, как казалось ему теперь, ежедневной праздничной суматохой.
Он записался в драмкружок и сам себя ненавидел, когда деревянным, неумеренным голосом говорил: «Не образумлюсь, виноват…» — но из кружка решил не уходить, пока не выгонят, все-таки два вечера в неделю заняты. Но руководительница кружка, учительница литературы Галина Алексеевна, и не думала прогонять его: страдая и бледнея от его бездарности, она тем не менее ухитрялась говорить ему какие-то туманно-доброжелательные слова. Константин Николаевич не обольщался: какая же старая дева прогонит молодого холостяка?
В комнате Елены Ивановны на стене, на белой атласной тесемочке, висела мандолина, темно-вишневая, с перламутровой инкрустацией.
— Елена Ивановна, дайте поучусь. Всю жизнь мечтал на мандолине играть.
— Не дам. Испортишь, разобьешь, а мне о штарике память.
— И правильно сделаете. Слуху у меня все равно ни-ка-кого.
— Томишься, Конштантин Николаевич. Дурью маешься. Взял бы да женился. Вон школько девок понаехало. И в школу, и на метеоштанцию.
— Разве со скуки женятся, Елена Ивановна?
— Почему шо шкуки? Пришмотрись, выбери — не на три года, на всю жизнь. Так и быть, на квартиру пущу.
— Нет, несерьезно, Елена Ивановна. Вся жизнь — слишком сурово. Ну! Путешествие без возврата. Я пока с духом не собрался. — Константин Николаевич свободу свою собирался ревностно беречь: впереди могли быть аспирантура и длительное, подвижническое служение медицине.
Его нашел пилот Красноштанов, золотозубый, плотный, быстрый, в облезлых, стоптанных унтах.
— Ну, ты тихий, тихий, а девушки из-за тебя под самолет бросаются. Держи. — Протянул записку. — Теперь лечи вне очереди. Пока.
«Село Каженка. Больница, Веронике Смирновой». «Интересно!» — прочитал Константин Николаевич обратный адрес и распечатал записку.
«Роднуля, здравствуй! — Он несколько отвык от институтского жаргона и теперь поежился от этого «роднули», тем более никакой Вероники Смирновой он не припоминал. — Что же ты не навестишь всеми брошенную и богом забытую свою однокурсницу? Костенька, как услышала, что ты рядом, честное слово, легче жить стало. Прилетай, родной мой. Хоть наговоримся, нахохочемся — душу отведем. По пятницам я свободна и в первую же пятницу, Костенька, жду. Уж, пожалуйста, соберись. Вероника».
Курс у них был людный, и лицо некой Вероники Смирновой сразу же слилось с другими девичьими лицами, которые попытался сейчас разглядеть Константин Николаевич. Он вспомнил ее ночью, на дежурстве, когда воспаленно-сосредоточенный мозг, измучившись мгновенными находками и мгновенными же их потерями, вдруг вырвался в большое светлое помещение — нашел наконец. Да, Константин Николаевич увидел себя в институтской раздевалке, услышал вскрик: «Костенька, держи!» — на него с разбегу летела, то ли запнувшись, то ли поскользнувшись, чернокосая, с испуганно-радостными глазищами Вероника. Да, да, это была Вероника Смирнова. Он подхватил ее тогда и хорошо сейчас вспомнил, как с невольною силой и мягкостью прижалась она грудью в тонкой, кажется, шелковой блузке.
В пятницу, отпросившись, он полетел с пилотом Красноштановым в Каженку. Перед посадкой, уже над Каженкой, Константин Николаевич нетерпеливо припал к окну, точно мог кого-то разглядеть среди редких, одинаково черных фигур встречающих у рубленой избушки аэровокзала. На саму же Каженку и смотреть нечего было: те же темные, крепкие избы, как и в его райцентре, своры собак на улицах, в окрестностях те же ельники, заснеженные озерца-калтусы меж ними, редкие заплаты пропарин на белой спине реки.
Встретила его курносая, не закрывавшая веселого, набитого зубами рта женщина, в белом полушубке, в расшитых бисером оленьих камусах, в белом пуховом платке, туго стянувшем крепкие румяные щеки. Встретила, подхватила под руку:
— Родной мой, ты просто чудо, что собрался!
Такую Веронику он все же не знал, но теперь было совестно признаваться, и Константин Николаевич с излишне твердою веселостью выговаривал:
— А долго ли нам собраться? Голому собраться — только подпоясаться… Рад тебе, очень. Сельская жизнь тебя не сломила. Ты все так же весела и открыта. — Про себя между тем растерянно соображал: «Лицо, несомненно, знакомое. Но нигде и ничто нас не сводило. Девчонок же добрая сотня на курсе была. Теперь что ж, буду выкручиваться. Поменьше прошлого, побольше настоящего».
Занимала прируб к больничному пятистеннику — комнатка, кухня, сени с чуланом. И без полушубка оказалась крепка и широка статью, выскакивала простоволосой, с голыми руками в чулан за пельменями, за мороженой брусникой, за дровами к поленнице под окном, не давая ему встать на помощь:
— Ради бога, сиди, родной мой. У меня вообще-то все готово, только вот занесу. Сиди рассказывай. Я так соскучилась по городу, по всем нашим.
Но рассказывать ему ничего не пришлось. Хлопая дверьми, подтапливая печку, перетирая тарелки, Вероника только спрашивала, не дожидаясь ответа.
— Помнишь, как мы хохотали до упаду, когда профессор Зуев читал о простудных заболеваниях? Только сказал: «Простуда любит вялых и ленивых» — и сам так расчихался, что мы прямо попадали все. Ты в третьем ряду сидел, и так уж тебе смешно было, что ты хлопал соседа по плечу — я думала, оно у него отвалится… А последний колхоз наш помнишь? Так весело жили, по-особому дружно — прощально, что ли… у тебя тогда был красный шарф, длинный-длинный… Ребята еще шутили: «Костя, тебе бы быков дразнить, а не турнепс дергать».
Константину Николаевичу было неловко: «Ну надо же. В самом деле, был у меня такой шарф. Все помнит, а! Как же я-то ее не видел? Где глаза-то были?» Неловкость вытеснялась виноватой растроганностью: «Вот был человек, который видел, где я сижу, какой шарф ношу. Влюблена, наверное, была. А я даже не помню, в какой группе училась. Вот так так. А вроде только тем и занимался, что по сторонам глазел».
Когда сели за стол, Константин Николаевич сказал, потянувшись рюмкой к Веронике:
— Спасибо тебе за хлопоты душевные, за воспоминания твои — от самого, самого — спасибо. — Чокнулись. — И позволь уж по старинному обычаю. — Наклонился, поцеловал в плечо. Губы пришлись на срез блузки, и он одновременно почувствовал тепло и бархатистость ткани, и прохладу, упругость кожи.
— По-моему, ты была в такой же кофточке? Помнишь, когда ты чуть не упала в раздевалке? И я тебя подхватил?
— Родной мой. Ты все перепутал. Это была Алка Семенова.
— Какая Алка Семенова? Совершенно ее не помню. Ты просто забыла. Неужели не помнишь? Ты еще крикнула тогда: «Костенька, держи!»
— Нет, Костенька, это ты забыл. Мы с Алкой немного походили друг на друга. И немного дружили. Я тогда впереди тебя стояла и все помню.
— Странно, очень странно. — Константин Николаевич опять потянулся с рюмкой. — Давай за наши лучшие воспоминания.
Отпила, закрыв глаза, отвернулась, встала, ушла на кухню.
— Ой, что-то печка моя еле дышит. Сейчас, Костенька, сейчас. Вот я ей задам.
Побренчала рукомойником, вернулась и с какою-то обновленною напористостью из нее посыпалось: «А помнишь, а ты не забыл?» Константин Николаевич ничего не помнил, но утвердительно кивал, с грустной рассеянностью говорил: «Да, да. А как же! У тебя удивительная память».
— Вероника, у тебя что это, патефон из-за печки выглядывает? Откуда?
— Наследственный. Вернее, постоянный житель этой квартиры. Переходит от хозяина к хозяину. Да, и работает.
Достала патефон, завела пружинно-сопротивляющейся ручкой, выбрала из стопки на тумбочке пластинку. Чуть дребезжащий, как бы спрятанный в ящике голос запел:
Помнишь годы юные — Встречали ночи лунные Мы в нашем парке старом…— Ух ты! Как по заказу! — Константин Николаевич встал, склонил голову. — Вероника, позволь. Уж тогда не подхватил, позволь сейчас. Подхвачу, закричу. — Он чувствовал, что говорит неладно, пошло, хмель подталкивал его к этим словам, хотел извиниться, переправить, но Вероника уже поднималась, тянула руки к его плечам.
— Конечно, родной мой.
Она преданно, с обещающей покорностью прижалась к нему. Не останавливая шага, он длительно поцеловал ее, придерживая ладонью ее крепкий, горячий, коротко стриженный затылок.
За окном проскрипели шаги, и вроде бы кто-то тихонько поскребся-постучал.
— Кажется, постучали, — замедлился он, не выпуская, однако, ее плеч.
— Послышалось. — Лицо ее темно пылало и было непривычно серьезно. — Нет, нет, родной мой. — Она чуть надвинулась грудью, слабо подтолкнула — они снова танцевали.
Но вот постучали уже явственно, твердо.
— Да ну его к черту! — Вероника вырвалась, будто бы — послышалось Константину Николаевичу — зло всхлипнув или всхрапнув, и пошла к двери.
— Подожди, кого к черту?!
— Да фельдшер наш! Опять притащился. Просила я его!
Услышал, как в сенях что-то раздраженно и резко говорила Вероника, голос ее натыкался на бубнящий упрашивающе-ласковый басок и вяз в нем.
Тяжело протиснулся в дверь большой, высокий человек в черной собачьей дохе, с широким ясным лицом, большегубый, с туманно-добрыми глазами.
— Здрасьте. Вот Вероника Александровна ругается, гонит меня, незваного, а вы знаете… Давайте знакомиться, — протянул теплую широкую ладонь. — Петро. А вы знаете, Константин Николаевич, такая звериная тоска одолела, думаю, загляну на огонек. — Он кивнул на окна, плотно закрытые тяжелыми шторами.
— Это я понимаю, — Константин Николаевич приглашающе показал на стол. — Проходите. Я хоть и не хозяин, но, думаю, и ты, Вероника, сжалишься над тоскующим человеком.
Она молча первой прошла и села, немного боком, к столу, обняв себя за плечи.
Петро быстро пьянел.
— Хоть Вероника Александровна и ругала меня, а вообще-то она очень добрая. Поверьте, добрее женщины уж, наверное, и не бывает. Уж такая добрая…
— Помолчал бы ты, Петр Григорьевич. А лучше всего восвояси тебе отправиться. — Она побледнела, осунулась и тяжело, пристально смотрела на Петра.
— Все, все, больше не буду. — Но молчал недолго и уже звал Веронику Никушкой.
— Никушка, ну зачем же так-то. Ты же знаешь, как я к тебе… Ну, Никушка, я же со всей душой… — И обиженно топырил большие свои телячьи губы и смотрел на нее неотрывно полными бессмысленной, телячьей доброты глазами. Она уже ничего не говорила, только дергала головой, как замученная путами лошадь.
Потом принялся долго, ласково заплетающимся языком рассказывать, как шел он однажды в эвенкийский чум принимать роды и встретил медведя. Объяснял, почему пешим отправился — сломалась моторка; объяснял, какой инструмент с собой взял и что до этого роды он никогда не принимал и потому взял еще с собой учебник… До медведя он добраться никак не мог. И Константин Николаевич, уже не слушая его, засыпал; сквозь красноватый туман с удовольствием видел, как удаляется, удаляется от него Петро и вот-вот растворится, исчезнет.
Константин Николаевич встряхнулся, извинился и решительно пошел к кровати. Скинув ботинки, прилег поверх покрывала.
Вероника сразу же погнала Петра:
— Уходи, хватит! Видишь, замучил человека. Я со стыда не знаю, куда деться. Распустил тут свои… Уходи! Быстро.
Петро с пьяным простодушием отвечал:
— Да, я уйду, а вы тут без меня начнете что-нибудь.
— Пошел вон! Дурак! Не смей мне больше на глаза показываться!
Константин Николаевич уже не слышал, как она притащила из чулана раскладушку, как приготовляла постель и как долго сидела на раскладушке и плакала, не чувствуя босыми ногами настывшего к утру пола…
Утром по дороге к самолету опять спросила, видимо, не в силах выбраться из вчерашней колеи:
— А ты помнишь майскую вечеринку? На четвертом курсе? Ну, еще мы за город поехали, на дачу? Как раз к Алке Семеновой. Еще Дашенька Кравцова пела тогда, а у гитары струны порвались. Ты тогда все плоскогубцы искал поправить. Неужели не помнишь?
— Нет, не помню, — ответил Константин Николаевич.
Он увидел, как из-за угла аэропортовской избушки выглянул Петро и снова спрятался. Константин Николаевич покричал его. Петро виновато, ласково косясь на Веронику, подошел.
— Счастливо, Константин Николаевич. Как самочувствие, нормальное?
— Вероника, я тебя очень прошу не сердиться на Петра. А то и я вроде виноват перед ним.
— Да ну его.
Петро сдвинул шапку на затылок, подмигнул Константину Николаевичу.
— Помиримся. Не сердись, Вероника Александровна. Так сказать, перед лицом отлетающего товарища.
Константин Николаевич помахал им еще в окно, отвернулся, нахохлился, поднял воротник.
Конечно, он помнил эту майскую вечеринку. Он провожал тогда Дашеньку Кравцову. Шли по утренним, розовеющим улицам, Дашенька несла на плече огромную яблоневую ветку, которую он обломал в каком-то саду, разодрав, залезая на забор, новый пиджак. Смотрела на него сквозь белые, диковато вздрагивающие цветы своими серыми, горячо-серыми глазами и спрашивала:
— Что же ты молчишь, Костик? Хочешь, я тебе счастливый найду? — и перебирала цветы тонкими длинными пальцами, а он отворачивался, чуть не до слез мучаясь нежностью к этим пальцам. Он все пересиливал горькую сухоту в горле, наконец смог, сказал Дашеньке, что любит ее и что только этим и жив. Дашенька промолчала, перекинула ветку на другое плечо, взяла его за руку, значительно, крепко сжала.
А на крыльце, уже позвонив, не отводя горячих, счастливых глаз, простилась:
— Нет, Костик. Пусть сразу будет больно, но нет. Нет, нет.
Он так старательно забывал ее. А теперь опять, наверное, будет сниться и махать яблоневой веткой из темного, сонного проема окна.
АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ
…этот бедный приют любви, любви непонятной, в какое-то экстатическое житие превратившей целую человеческую жизнь, которой, может, надлежало быть самой обыденной жизнью…
Ив. Бунин. Грамматика любвиЖена давно болела, он давно знал, что неизлечимо, и уже как бы притерпелся к предстоящей пустоте.
За гробом шел со спокойным серым лицом — даже хлесткая октябрьская крупа не выбила живой кровинки. Шел твердо и остро, без прощального тумана смотрел на покойницу. Сухой крупитчатый снег сине набился в складки простыни и в изголовье, вокруг ее черно-красного платка. Но бледный желтоватый лоб, белые, костистые скулы и нос не тронул. «Потом полотенцем обмахну. Ладно хоть не дождь. Нехорошо бы ей было». Справа под руку с ним шел Веня, их старший, беленький, долговязый, изревевшийся до икоты. Младшего, Васька, он вез на санках, и тот, укутанный соседками в тридцать три одежки, сидел квашонкой, важно и гордо поглядывая по сторонам сизыми материнскими глазищами.
Веню трясло, он прижимал, стискивал отцов локоть. «Вразнос парнишка. Мужик пока не проклюнулся. И еще этот ик привязался. Хоть пугай. Ну что он руку-то мне рвет. Что ж у могилы-то будет? Дальше-то, ребята, как будем?»
Поднимаясь в горку, он неловко ступил на ледышку, поскользнулся — Веня цепко и сильно поддернул, поддержал. Кладбище устроилось на пологом южном склоне хребтика, в кедраче, скорее даже не кладбище, а погостец: две-три стариковские могилы с крестами, две-три тесовые тумбочки со звездами — новосельное было место, как и их леспромхозовский поселок.
— Роман Прокопьич, Роман Прокопьич, — быстрым, задыхающимся шепотом окликнули его — догнала похороны диспетчерша Тоня. — Сварщик спрашивает: калитку делать или дверцы? — В гараже доваривали ограду, успевали к последнему холмику. Ответил не сразу. В дверцы, конечно, попросторнее заходить, половчее, но опять же гурьбы не предвиделось и в родительский день — на всем свете втроем остались, а троим куда дверцы?
— Калитку.
Вот и первая горсть, вот и последняя — простоял без шапки со строго сведенными бровями, шевеля все время засливевшими губами. Вроде как считал каждый камушек, каждый комок — сколько их надо, чтобы вовсе человеку исчезнуть? Гладил невнимательно Веню, прижавшегося к плечу; Васька поставил впереди, придерживая за концы шарфа. Когда могилу обхлопали лопатами, вбили привезенную ограду, Роман Прокопьевич надел шапку:
— Все, нет у нас больше мамки, — так он хотел сказать напоследок, но губы не послушались, никто не понял его слов, разве только Веня — он сразу бросился к Ваську и торопливо усадил его в санки.
После поминок, после чересчур сладкой кутьи и чересчур горького вина, Роман Прокопьевич места не находил: сдавило нутро, медленно и тяжело разрасталась в нем то ли изжога, то ли другая какая муть. И соды выпил, и холодной воды — не помогло. Топал по дому, вздыхал, без нужды поправлял на Ваське одеяло. Видел, что Веня не спит, следит за ним большущими, белкастыми глазами. Потом сел, выпростал тонкие белые руки:
— Пап, давай я пока с вами поживу?
— Отстанешь, Веня. А нынче экзамены. Нехорошо может выйти.
— Догоню. Что такого-то? Возьму и догоню. А мне с вами охота…
— Надо учиться, Веня. Как ни крутись, а что положено, то положено. Спи. Каждую субботу теперь приезжать будешь. Неделю со счетов — и дома, со счетов — и дома. Спи.
Ушел на кухню, снова выпил соды, подождал: может, легче станет. Нет, как было, так и осталось. Роман Прокопьевич посидел на табурете у печки, уперев руки в колени и чуть подавшись вперед. «Ох, до чего же муторно. Вроде и не больно, а прямо деваться некуда. Хоть на стену лезь… Тошно мне, душно, и не в соде дело. Никакая сода теперь не поможет».
Понял наконец, что давит и томит его не телесная боль, а душевная, прежде никогда не являвшаяся и потому, видимо, с такою физической ясностью досаждавшая теперь. Он привык любое душевное неудобство заглушать работой или незамедлительной прикидкой своих ближайших поступков, жизненных движений — трезвый этот расчет начисто вытеснял любую сердечную смуту. А впрочем, бывала ли она, эта смута? Где, в какую пору?
В лесную жизнь впряжешься — ни по сторонам, ни оглянуться некогда! Был вальщиком, трактористом, мастером, сейчас механик: лес, металл, зимники, лежневки, запчасти, по двое верхонок за неделю горело — уставал до хрипа в горле. Все как надо шло, все как у людей! А вот эта вдовая, небывало долгая ночь выделила его, обособила.
Не заметил, как сжевал папироску, обжегся, зло швырнул ее к печке: «К черту! Брошу курить. Перебьюсь! — сгреб с тумбочки неначатые пачки, перекидал в огонь. Вспомнил, где-то махра еще была. Пошарил, нашел в рыбацком сундучке — тоже выкинул, крошки выгреб. — И вино брошу. Ничего не надо. Так буду. Вожжи подберу, справлюсь». Еще посидел, походил, потряхивая головой, слепо таращась в углы и окна, точно придумывал, что же еще переиначить, какую еще ревизию произвести. Стало не то чтобы легче, но терпимее.
Утром поехал с Веней в райцентр. Проводил его до интерната, стеснительно и чинно пожал руку в дверях, молча выслушал сбивчиво-звонкие сочувствия выбежавшей учительницы. Покивал ей, пошел было на автостанцию, но вспомнил еще одно дело. Ощупывая легонько языком острый осколок давно сломанного зуба, постучал в дверь Лейкина, частного зубного врача.
— Давай так, — сказал плешивому, сморщенному Лейкину. — Меня все одно не заморозить.
Потом Роман Прокопьевич стоял под навесом вокзала, ждал автобуса, баюкал щеку в остывшей ладони. Подкатывало в груди, подсасывало, маялась она еще и без курева. Роман Прокопьевич тупо смотрел на вокзальную суету и, откликаясь внутренним тошнотным толчкам, приговаривал: «Так тебе. Так тебе. А еще и не так бы надо!»
Позже он уже не пытался перешибить боль болью, начальное горе отступило, но он все искал и искал новых хлопот, занявших бы ноющую, ненасытную пустоту. В гараже не хватало слесарей — выдумал себе вторую смену: уложив Васька, шел к верстаку, до полуночи шабрил, пилил, нарезал, потом будил сторожа, но домой не спешил. Сидели с подслеповатым хромым Терехуном, пили чай. После двух-трех кружек Терехун очухивался от сна:
— Парнишка-то сейчас один дома?
— Один.
— Вдруг проснется, звать начнет? А никого нет, темень кругом. Страх-то какой!
— Сообразит. Мужичок крепкий, в меня. Ни с того ни с сего не забоится. Да и с чего просыпаться-то? Меня нет, значит, спать надо.
— Мало ли что надо. Вообще, шел бы, Прокопьич. А то и я вроде не у места. Кого сторожить, если ты тут? Зачем тогда будил?
— Завидно стало. Успею, уйду. Ты чего не закуриваешь, Семен?
— Может, мне уволиться, Прокопьич? Заодно и сторожи. Ты в какие такие ударники выбиваешься, а? Кого укорить хочешь? Вязать таких сознательных надо. Народ напахался, спит, а ты, выходит, двужильный? Всех переработать собрался?
— Ладно, карауль потихоньку. Пойду. Ты траву, что ли, в махру подмешиваешь? Нет? Вот ведь наловчились делать — дух-то травяной, сладкий.
К дому почти бежал — вдруг да правда Васек проснулся. Соскальзывал в кочкастые глубокие колеи, промятые в снегу лесовозами. Прохватывало слабым, тревожным потом. Роман Прокопьевич приостанавливался, часто глотал открытым ртом морозную темень.
Васек спал глубоко и мирно, даже не распечатав аккуратного конверта одеяла. Почти в ухо ему мурлыкал черно-седой кот, поленившийся спрыгнуть с подушки при появлении хозяина. Роман Прокопьевич прогнал кота, посидел немного с Васьком, чувствуя тяжелеющие, бездельно свисшие с колен руки. Как попало разделся, огруз, лег поверх одеяла и закаменел…
Отпустило его к лету. Сажали огороды, Роман Прокопьевич копался в своем, и неожиданно потянуло его разогнуться над сырой курящейся полынным паром землей, опереться на лопату, оглядеться. Так и сделал: на бугре за огородом уже согнал желтизну земляничник, тропа, промытая ручьями, весело и сыто чернела, черемуха розовела набухшими соцветьями — натягивало от нее терпким и чистым холодком. Роман Прокопьевич вздохнул раз-другой — весенняя горчина и сладость охотно заполнили грудь.
— А что, Веня? — Роман Прокопьевич впервые пожалел, что бросил курить. — Давай за лето веранду пристроим. Варенья наварим и чаи будем на веранде гонять. Ваську, так и быть, щенка возьмем. Пусть тоже с нами чаи гоняет.
Васек заколотил грязными ладошками в пустое ведро.
— Сейчас возьмем! Сейчас! Пусть сейчас чаи гоняет!
Веня нагнулся, отобрал ведро.
— Отобьешь руки-то. — Выпрямился, тоненький, большеглазый, с нежно засмуглевшими щеками. — Давай, пап, пристроим. И колодец уж тогда надо. Не набегаешься на реку. — Улыбнулся. — Щенок тем более будет. Водохлеб же.
Васек запрыгал, руками замахал.
— И я водохлеб! И я!
— Точно, Веня. И колодец выроем. — Роман Прокопьевич взялся за лопату. — Обязательно с журавлем поставим.
Он знал, что заглазно его уже сватают, прочат в мужья вдовой фельдшерице Анисье Васильевне. И в магазине и на улице слышал, как за спиной вздыхала чья-нибудь сердобольная грудь: «И долго это маяться он будет. Усох уж совсем, почернел». Непременно вторила этому вздоху другая заспинная сваха: «И Анисья одна с девкой мается. Горе бы к горю, глядишь, и жизнь бы вышла».
Роман Прокопьевич всерьез еще не примерял дальнейшую жизнь, но понял: к вдовству не притерпишься, у Васька вон цыпки, как птичья роговица, а рубашки, хоть и на кулаках тертые, почему-то в пятнах и полосах — прямо корова жевала. К тому же исчезла куда-то прежняя сосредоточенность: решил — сделал, дергался все, хватался то за дом, то за работу, и невыносимо ему было, что ни с чем не управляется.
Но и добровольным да сердобольным свахам не хотел поддаваться. «Знаю я их. От скуки хоть на дурочке Глаше женят. Их послушать — плевое дело себе жену, ребятам мать найти. Им — комедия, спектакль целый, а мне дом держать. Без всяких, в один пригляд, семью не соберешь. Другое дело, если Анисья сама этих свах напускает. Сама, может, щупальца-то раскинула. Залетит, мол, мужик, деваться ему некуда. Вроде бабочки на огонь. Только какая я бабочка?!» Роман Прокопьевич возмутился: он и не взглянет в ее сторону, обходить за версту будет — не надо его заманивать, в спину подталкивать, дайте малость оглядеться.
Однако Анисья Васильевна вовсе не походила на женщину, привыкшую заманивать и завлекать. Дородная, статная, с азиатской крутостью в скулах и горячим сумраком в глазах, с далеко слышным голосом — уж такая-то скорее предпочитала наступать, на своем настаивать
Попробовал разгадать ее каверзы, чтобы при надобности помешать им — не на того Анисья Васильевна напала. Зашел в фельдшерскую, укараулив, когда там никого не было.
— Здорово, Анисья Васильевна! Заглянул вот по дороге.
— Вижу, проходи. Здравствуй, Роман Прокопьич.
— Да тут постою. Наслежу только зря. Ты мне порошков каких-нибудь дай. Ломает всего. — Ломать его, конечно, не ломало, но, переминаясь у порога, вспотел изрядно.
— Простыл, что ли? Лето на дворе, а они простывают. Хилый мужик пошел. — Она неторопливо потянулась к шкафчику на стене — весело, чисто запохрустывал накрахмаленный халат. — Держи градусник. Да не торчи в дверях-то. Садись. Поглядим, что за хворь к тебе привязалась.
— Какой там градусник! Некогда. Давай какой-нибудь порошок, да побегу.
— Я вот тебе побегу. — Анисья Васильевна сильно, резко встряхнула градусник — подрагивал черный тяжелый узел косы. Подошла к Роману Прокопьевичу, от ярко-загорелых щек, от полной, нежно-смуглой шеи натянуло травяной, огородной свежестью. — Не больно, видно, ломает. Вприбежку захотел. На, ставь, чего смотришь? Ну, чего ждешь-то?! Градусник, что ли, не видел?
Роман Прокопьевич, утираясь рукавом, вовсе смешавшись, пробормотал:
— Ты это… Анисья Васильевна… Минутку… Тут на пару минут выскочу… В гараже ждут… Потом уж приду, замеряю.
Она горячо, раскатисто возмутилась, даже замахнулась:
— Так бы и треснула этим градусником! Уговаривать еще буду! Ты чего дурака валяешь? Ломает его. Смотри не переломись. Обойдешься. Нет, ты зачем приходил, Роман Прокопьич? Потолочься тут от нечего делать?!
— Да ладно, — слабо отмахнулся он. — Черт знает зачем. Показалось. — Вскочил, пробежал, остыл. «Пристала с этим градусником. Лечить вот ей с порога надо. Голосище-то дурной — загромыхала. Могла бы и спросить: как живу, что ребятишки делают. Тяжело, нет ли вертеться-то мне. Как положено, по-соседски. А если и так все знает, могла бы просто поговорить. О том, о сем, о прочем».
С умыслом попался ей на глаза еще раз. Замедлил шаги, усердно поздоровался; может, она остановится, разговорится, и вдруг да проглянет ее вдовья корысть. Анисья Васильевна в самом деле остановилась, но не для зазывных речей.
— Ох ты и вежливый! Опять, что ли, заболел, за версту кланяешься?
— Да неловко мне — сбежал тогда. Веришь, терпеть эту колготню не могу.
— Ясно. На здоровье не жалуюсь, вот головой только маюсь. Так, нет?
— Ну, спасибо. — Роман Прокопьевич вовсе не обиделся, но в голос подпустил обиженной мрачности. — Дураком, значит, помаленьку делаешь?
— Не засти дорогу-то, когда не надо.
— А когда надо?
— Когда рак на горе свистнет.
— Ясно. Теперь и мне все ясно. Пока.
Анисья Васильевна, смеясь, покивала часто — передразнила его давешнюю усердную приветливость.
«Нужен я ей. Думать не думает. Женщина самостоятельная, напрашиваться не будет. Правда что головой маюсь. Ведь думал, огнем горит, только знака ждет. А я бы ей… Не нуждаюсь, мол, сам определюсь… Нет, одно неудобство вышло. Вот чего я к ней пристал? Ясно-понятно: проморгаться и забыть».
Но не забыл. За лето так из него ребятишки да хозяйство жилы повытянули, что перед ноябрьскими, приодевшись и наодеколонившись, опять пошагал к фельдшерской. Заглянул в окна — одна. На крыльце долго обмахивал голиком сапоги, хотя снег был еще легким и мелким — не приставал. Шапку сдернул заранее, в сенцах, и ни «здравствуйте», ни «давно не виделись», а от порога — напролом:
— Слышала, что про нас говорят?
— Слышала. — Анисья Васильевна сидела за столом, листала толстую громоздкую книгу. Ответила спокойно, глазами встретила, не отвела, и вроде запрыгали в них холодные, сизые огоньки.
— Ну и что скажешь?
— Да что. На чужой роток… — Только теперь занялись ее скулы темно-каленым.
— Нет, это понятно, чего сама-то думаешь?
— Ничего. — Прокалились уже не только щеки, ярким пламенем лизнуло и шею в вырезе халата. — С какой стати я думать буду? Других забот, что ли, мало!
— Да как же так, Анисья Васильевна? Что я, баб наших не знаю? Уж сто раз к тебе подступались. Им-то что-то же говорила!
— Мало ли что. Не запомнила. — Анисья Васильевна неловко встала, уронила табуретку — наклонилась, зло покраснела, тяжело шагнула было к узенькому шкафчику, тут же махнула на него: «А, к черту», — остановилась у окна. — А ты что за допытчик? Не совестно? С лета, с маху: что думаешь, что скажешь? Разогнался. Осади, сдай малость. — Говорила не оборачиваясь, почти прижавшись лбом к стеклу. Руки в карманах — халат плотно обтянул большую, сильную спину, проступили пуговки лифчика.
— Не умею я издалека-то… То да се, шуры-муры — не привык. — Роман Прокопьевич сел на обитый клеенкой топчан, беспомощно, жарко вздохнул. — По мне, чем много говорить, так лучше сразу: да так да, нет так нет.
— Что — да? Что — нет? — Анисья Васильевна вернулась к столу, тоже села. — Ерунду какую-то мелет. Опять, что ли, ломает всего? — Лицо охватило уже какой-то брызжущей пунцовостью, появились, пропеклись черные веснушечки на азиатских скосах. Но глаза держала вскинутыми — влажный, черно-коричневый жар их заставил Романа Прокопьевича отодвинуться, заерзать на топчане, прижаться к горячим кирпичам печки.
— Вообще-то я никуда не тороплюсь… Прыть эта моя дурная напрямую все хочет. И если толком-то, Анисья Васильевна, то вот я зачем. Говорят, конечно, мало ли что… Но я не против. То есть в самом деле, Анисья Васильевна, вместе нам легче будет жить.
— Вон что. Сваты пришли, а мы и не заметили. — У нее остывало лицо и оживала насмешливая громкоголосость. — По-жа-луй-те, дорогие сваты, милости просим. — Она встала, в пояс поклонилась сопревшему Роману Прокопьевичу. — У нас товар, у вас купец.
— Анисья Васильевна, ей-богу, я серьезно. Нет, так и скажи по-человечески — нет. Потом просмеешь.
— Стой-ка, стой-ка, купец-молодец. — Она уперла руки в крутые бока. — Да ведь ты еще и жених, а, Роман Прокопьич? Что ж притулился, как бедный родственник? Давай гоголем, гоголем вокруг меня. — Анисья Васильевна притопнула, белую руку в сторонку отвела. — Я невеста неплоха, выбираю жениха… — Вдруг устало обмякла, села, оперлась лбом на подставленную ладонь. — Ох, извини, Роман Прокопьич. Какая из меня невеста. И сердце закололо, и в глазах потемнело…
— Давай жизнь-то поддержим, Анисья Васильевна. Вот ведь я что пришел — сообща, домом и поддержим. Я уж в одиночку-то надсажусь скоро.
— Давай попробуем, — устало согласилась она. — Давай сообща.
Роман Прокопьевич не знал, что сказать еще, — в самую бы пору закурить, переждать молчание. Можно бы, конечно, за вином сбегать, событие-то в самый раз для вина, но уж больно все строго вышло, больно сурово — «нужда проклятая все гонит, все умом норовишь, сердцем некогда».
— А я, дурак, и бутылку не захватил. Просто из головы долой. — Роман Прокопьевич кулаком по колену пристукнул. — С большим бы удовольствием за тебя выпил, Анисья Васильевна.
— Успеем теперь. Какая уж бутылка. — Анисья Васильевна говорила ровно и вроде даже насмешливо, а закапали на стол, пролились горячие, а может, и горючие слезы. Быстро убрала их ладонью. — Вот помолчали, считай, враз нагулялись, напровожались, наухаживались. Теперь деваться некуда. — Улыбнулась. Снова накалялись щеки и скулы. — Ладно, жених. Обниматься-целоваться пока повременим… Смех, честное слово. Чего молчишь, жених? Сосватал и испугался?
Роман Прокопьевич поднялся и тоже поклонился ей в пояс — само как-то вышло.
— Спасибо тебе, Анисья Васильевна. Все-о понимаю. Спасибо.
Повернулся, вышел, на крыльце нахлобучил вмиг выстывшую шапку на горячую голову.
Дома — еще со двора услышал — взвивались вперемежку визг, лай, мяуканье. Васек сидел на полу, у кровати, истошно крича, махал, тряс расцарапанной рукой. Рядом, припадая на передние лапы, тоненько вскуливал, взлаивал щенок, на рыжем носу проступали булавочные капли крови. Под кроватью, перебивая мяуканье злым пофыркиванием, прятался кот.
Роман Прокопьевич подхватил ослепшего от рева Васька, потащил к умывальнику:
— Давай-ка, герой, сопатку твою вычистим. Ну, будет, будет выть-то. Кто это тебя? Кот, собака?
— Никто-о! Я разнимал, а они не слушались. — Васек уже стоял, невнимательно тыкал полотенцем в щеки, лоб, в подбородок, опять отвлекся, засмотрелся. Щенок, отчаянно колотя хвостом, заискивающе повизгивая, медленно вползал под кровать.
— Верный, опять получишь! — Васек с разбегу бухнулся на коленки, подполз к нему, схватил за шиворот. — Брысь, кому сказал — брысь! — Брызнуло из-под кровати яростное, зеленое шипение кота.
— Правда что, битому неймется. — Роман Прокопьевич веником выбил кота, веником же легонько поддал Ваську. — Все. Скоро кончится лафа. Мамка придет, разберется. Наведет порядок. По одной половице будем ходить. Да к тому же в носках. А Верный твой вообще в мягких тапочках, — говорил просто так, не из охоты поворчать — никогда привычки не было, а из ощущения какой-то общей расслабленности, душевной зыбкости. «Устал — дальше некуда. Что вот мелю, спрашивается?»
Васек вроде и не слушал, занятый щенком. Мокрой тряпкой хотел стереть кровь ему с морды — тот пятился, извивался, рвался изо всех сил. Васек наконец прижал его коленкой к полу, утер вспухший нос и, пыхтя, заприговаривал, забормотал:
— Ну вот, а ты боялся. Мамка придет, а у нас порядок. Все лежим и спим. — Васек с усталым причмоком зевнул, а Роман Прокопьевич рассмеялся.
В субботу приехал Веня, соскучившись по Ваську, он и укладывал его в этот вечер, что-то неторопливо ласково шептал — Васек громко вздыхал и нетерпеливо, счастливым голосом требовал, когда Веня умолкал:
— Еще! Веня, еще! А он-то куда спрятался?!
Роман Прокопьевич ждал Веню на кухне. Давно стыл чай, холодно, крупитчато забелело сало на картошке, но Роман Прокопьевич не торопил его, сидел за столом, спрятав под мышками замерзшие вдруг ладони.
Веня вышел размякший, разнеженный, с сонно сощуренными глазами. Плюхнулся на табуретку:
— Ну и Вась-карась. Еле уложил.
Роман Прокопьевич взял стакан с чаем, прихлебнул:
— Что ты! Говорун, поискать надо. Один же все время. Намолчится, вот удержу и нет… Такое дело, Веня. Жениться хочу. Дом без матери, сам видишь, разваливается.
Веня выпрямился, тревожно, горячо расширились глаза, нежно заалели щеки.
— Анисья Васильевна матерью будет.
Веня не сразу откликнулся.
— Мачехой, пап.
— Не должна, Веня. Женщина добрая.
— Все равно мачехой.
— Конечно, не родная. Но я решил, Веня. Тебя вот ждал спросить. Как ты?
— Не знаю. Может, и добрая. — Веня потрогал самовар. — Я снова, пап, согрею.
— Подожди, Веня. Ты не мнись, прямо говори. Против, что ли? Или боишься?
— Меня ведь, пап, почти дома не бывает. Лишь бы Ваську хорошо было. — Веня наконец посмотрел на отца. — И тебе. А бояться чего — она веселая. Вон как в клубе пела.
— Вот и я говорю: добрая женщина. Значит, всем лучше будет. И тебе, Веня.
— Может, и мне.
Съехались, зажили. Анисья Васильевна сразу принялась белить, стирать — Роман Прокопьевич не успевал к колодцу бегать, потом крахмалила, вешала, гладила, расстилала, передвигала — дом захрустел, засверкал, заполнился яблочной свежестью вымороженного белья. В занятиях этих и хлопотах, пока руки были заняты, она привычно разговаривала сама с собой, чтобы в первую же передышку громогласно «подвести черту»:
— Нет, даже не думай, Роман Прокопьич! Никаких гостей, никакой свадьбы — обойдемся. Как сошлись прогрессивным методом, так и жить станем.
Он изумлялся:
— Я и не думаю, бог с тобой…
— Квашню поставлю в субботу: Веня приедет, посидим. Вот и отметим новоселье. Новоселье-новосемье. Ух ты, как складно.
Или объявляла со столь же неожиданным напором:
— Васька я тоже в паспорт запишу. И Веню, если согласится. Раз теперь братья Любочкины, надо записать. Чтоб честь по чести. Раз ты записал, то и я. Хоть и разные фамилии, а все равно родня.
Роман Прокопьевич неопределенно отвечал:
— Как знаешь… Если охота, что ж… — про себя между тем удивляясь снисходительно женской вере в бумаги, в силу каких-то записей. «Записывай не записывай, как жизнь покажет, так и выйдет…»
А жизнь показала, что Любочка, пятилетняя дочь Анисьи Васильевны, легонькая, конопатенькая, белобрысенькая, не ведая того, свела их всех на первых порах, смягчила многие непременные неровности и неловкости.
Чуть ли не по приезде, мягонько, но настойчиво вскарабкалась на колени Роману Прокопьевичу, он с растерянным смущением придержал щупленькое, верткое тельце — она умостилась, откинулась на кольцо рук, как на спинку:
— У тебя конфетки есть? — звонко и тоненько протянула-пропела. — И в кармане нет? Нигде нет?! А почему-у?
— Зубы болят. — Роман Прокопьевич чуть ли не краснел под ясным, наивным ее, неотрывным взглядом.
Потянулась к нему, прижала теплые ладошки к впалым щетинистым щекам.
— Не бойся, вылечим, у моей мамы лекарства много. — Ладошки скользнули по его щекам и смяли, оттопырили губы воронкой. — Скажи: Любочка, не балуйся, Любочка, смотри у меня.
Роман Прокопьевич неожиданно поддался — промычал, прогудел:
— Люочка, не ауйся… Люочка, сотри у еня…
Она снова откинулась как в кресле, раскатила быстренький, бисерный хохоток. Коротко посмеялась Анисья Васильевна — обдала мимоходом почти беззвучным смехом.
Васек давно уже стоял рядом с отцом и тяжело, ревниво сопел. Когда Любочка отсмеялась, сказал, едва сдерживая слезы и набычившись:
— Слезай давай. Это мой папа.
Любочка привстала на коленки, обняла Романа Прокопьевича за шею.
— Вот и нет! Вот и нет! Это мой папа.
Васек дернул ее за подол, заколотил по спине кулаками:
— Слезай, слезай! Не было тебя и не надо, — разревелся, ногами затопал.
Из кухни выскочила Анисья Васильевна:
— Что такое?
Любочка выскользнула, вывернулась из рук Романа Прокопьевича, кинулась к матери:
— И мама моя, и папа мой. А ты — Васька-карась, по деревьям не лазь, — припомнила Любочка уличную кличку Васька.
Он ровно и громко затянул открытым ртом: а-а-а…
Роман Прокопьевич поддал ему:
— Ну-ка, перестань! Тоже мне мужик.
Анисья Васильевна подхватила Васька на руки, прижала:
— И ты мой. Пореви, пореви. Ой как обидели-то!
Теперь тоненько, противненько завела Любочка.
— Ох ты, господи. — Анисья Васильевна присела, прижала и ее. — Давайте в две дуды. Вот весело как стало! Ну, ну, ревун да хныкалка — куда я с вами денусь?
Любочка справилась первой, оттолкнула материну руку и сама стала гладить Васька, дуть ему на макушку.
— Васек, Васечек. Ну ладно, ну хватит, — завздыхала, то ли передразнивая мать, то ли всерьез.
В воскресенье за столом с пирогами, за самоваром собралось, по словам Анисьи Васильевны, новоселье. Возле самовара сидели взрослые: взволнованно-румяная Анисья Васильевна в жаровой кофточке с отложным воротником; потный, осоловевший от чая Роман Прокопьевич в новой жесткой, белой рубахе и Веня, в своем школьном, мышином костюмчике, с тонкой, тревожно выпрямленной шеей и потупленно-замеревшими глазами. Сидели молча, вроде бы сосредоточившись на застольных шалостях Любочки и Васька. Они тараторили, смеялись, кричали — куролесили кто во что горазд и, вконец разойдясь, принялись строить другу другу рожи. Любочка, сморщив нос и губы, вытаращив глазенки, трясла головой, потом спрашивала: «А так умеешь?» Васек, сглатывая восторженную нетерпеливую слюну, кивал и тут же косоротился. Любочка хохотала: «Умеешь, умеешь. А вот так можешь?»
Анисья Васильевна зажала уши.
— Уймитесь. Ох и глупомордики. Лопнете сейчас, на кусочки разлетитесь. Ой, страх, ой, ужас! Васек! Не пугай ты меня!
Васек запрыгал, вовсе уж раззадоренный притворным страхом Анисьи Васильевны.
— Мама, мама! А ты вот так умеешь?! — надул щеки, одну щепоть приставил ко лбу, вторую к подбородку.
Веня по-прежнему сидел неподвижно и молча, но показалось, что он метнулся — так быстро и жарко глянул на брата, оказывается, привыкшего уже звать эту женщину мамой. Глянул, тут же спрятал глаза и покраснел. Анисья Васильевна все заметила, все поняла, запылала и, конечно же, уронила нож, а наклоняясь за ним, зацепила тарелку. Роман Прокопьевич налил еще чаю, отодвинулся от стола, как бы подчеркивая: он хочет посидеть в сторонке, помешивая, позвякивая ложечкой в стакане.
Анисья Васильевна потчевала Веню:
— А черничные-то и не пробовал. Ешь, пожалуйста, Веня. В интернате-то совсем отощал, — с нервным радушием приговаривала она, а Веня, не поднимая глаз, отнекивался.
Любочка и Васек притихли, чинно дули на блюдца, гоняли по ним радужные пузыри. Вдруг Любочка уставилась на Веню с ясной, наивной пристальностью.
— Ве-ня-а! — вдруг тоненько пропела-протянула Любочка. — Ве-ня-а!
— Чего тебе? — Веня, слабо улыбаясь, повернулся к ней.
— Ве-ня, Ве-ня, — пела Любочка.
— Ну что? Что?!
Она повторяла и повторяла это слово, удивленно, радостно, ничего не добавляя к нему, — достаточно было выпевать его чистеньким тоненьким голоском, чтобы все поняли, как интересно видеть и звать человека по имени Веня.
Анисья Васильевна потянулась к нему через стол.
— Ты зови меня тетей Анисой. Слышишь, Вениамин? И распусти, распусти душу-то. Я дак уж не могу. Неловко пока, не по себе, ну да и плохого ничего не сделали. Не из-за чего пока глаза-то прятать. Раз уж так вышло, Вениамин, давай противиться не будем. Слышишь?
Веня поднял глаза:
— Да я понимаю, — чуть запнулся, чуть покраснел, — тетя Аниса.
Впрягся Роман Прокопьевич в новый семейный воз и, чтобы хомут не стирал, не сбивал шею, потащил ровно, без рывков, не дожидаясь ни вожжи, ни тем более кнута. Давно, с первой своей промысловой осени, запомнил он и распространил на дальнейшую жизнь таежное правило: «Носом тыкать да понукать в лесу некому. Или сам старайся, руки наперегонки пускай, или пропадай». Так говорил дядя Игнатий, взявший когда-то его, долговязого, мослатого мальчишку, в напарники бить орехи в дальней тайге. В зимовье они пришли к вечеру, позади был жаркий сентябрьский день, была долгая петлистая тропа с немеренными тягунами и спусками. Поэтому Роман Прокопьевич — в те времена просто Ромка, — скинув понягу, плюхнулся на пенек и замер, как бы растворяясь в вечерней прохладе. Дядя Игнатий повесил понягу на крюк, под козырек зимовья, взял ведра, ушел к ключу, вернулся — он малость пришел в себя:
— Что мне делать, дядя Игнат?
Тот закурил, взял топор, подбил, подправил рассохшуюся дверь, из-за стрехи достал четвертинку с дегтем, смазал петли, потом уж ответил, да и то нехотя:
— Был бы ты парень, сразу бы прогнал. Хоть и так не маленький. И я-то хорош — взял напарника… Да, правда, и выбирать не из кого… Два кола да два двора — вот и вся деревня. Все равно, Ромка, еще так спросишь, выгоню. Сам гляди.
Стал глядеть и мигом все увидел: надо дров нарубить, натаскать, сухой лапник на нарах свежим заменить, печку подмазать, дыру на крыше свежим корьем заложить. Больше он ни о чем не спрашивал дядю Игнатия, так молчком и отколотили полтора месяца…
Вот и положенную долю домашних работ справлял он незаметно и быстро. Анисья Васильевна только подумает, что надо воды запасти к стирке, а он уже с утра пораньше коромысло через плечо да по ведру в руки; только соберется она картошку перебирать, а он уже в подполье, поставил «летучую мышь» на приступочек и знай гнется над ларями; только захочет она снег со двора в огород перекидать, а он уже навстречу ей с деревянной лопатой и метлой — Анисья Васильевна руками разводила и весело возмущалась:
— Да это что такое! Мне поворчать охота, власть показать, а он? Отгадчик какой нашелся. Прямо не жизнь, а по щучьему велению да моему хотению. — Как-то даже нарочно отодрала в дровянике слабую доску, думала, не заметит, а уж тогда она в самом деле отведет душу, наворчится. Но он заметил, приколотил, по пути проверил на крепость все доски ограды и палисадника. Анисья Васильевна повинилась: — Доску-то я оторвала. Догадался, нет?
— Правильно сделала. Еле держалась, да руки не доходили.
— Больше не буду. Все ты у меня видишь, все в голове держишь. Буду теперь только хвалиться. Ну у меня, мол, хозяин, ну мужик. — Она вздохнула с неожиданною, сожалительной кротостью, голову этак сочувственно приклонила к плечу, и руки на животе сложила. — Уж больно молчишь ты много, Роман Прокопьич. Может, хвораешь?
— Все нормально.
— Может, я что не так? Может, мной недоволен?
— Да все так. Молчится, вот и молчу.
— Если накопится что, Роман Прокопьич, не держи. Всего не перемолчишь.
— Не накопится, я не бережливый.
— Ну и слава богу.
И точно. Он не останавливался подолгу на смущавших его или вызывающих некую душевную изжогу минутах, тем не менее минуты эти существовали, были всегда при нем, могли однажды объявиться и вволю помучить хозяина.
Когда в первую их супружескую ночь Анисья Васильевна, дремно отяжелевшая, вдруг ясным, смеющимся голосом сказала:
— Теперь тебе любые семь грехов простятся, — у него неодобрительно отвердело сердце, отодвинулся от прохладного, белого плеча, сухо, осуждая и себя и ее за разговорчивость, спросил:
— Как так?
— Вдову приветил. — Она рассмеялась, придвинулась к нему. — Приютил-приветил, семь грехов снял. — Он опять отодвинулся, отвернулся:
— А-а, извини, Аниса, мне чуть свет вставать. — Он морщился: «Что ж про это говорить, как язык поворачивается?»
— Спи, спи. — Анисья Васильевна громко вздохнула и опять рассмеялась. — Работник ты мой.
Засыпал: «Ладно, перемелется», вздрагивал: «Ничего, ничего, попривыкнем», перед тем как совсем провалиться: «Перебьюсь, а там наладится».
В другую ночь приподнялась на локте, полулежа устроилась в изголовье над ним — ломко прошуршала подкрахмаленная простыня, коснулись его маленькие горячие ступни.
— Роман, расскажи, как маленьким был?
— Да разве я помню?! — Он опять удивился. — А зачем тебе?
— Ничего же не знаю. Молчишь, как прячешь что-то.
— Как я маленьким был? Да как Васек. Жил, правда, хуже. Босой, в цыпках, брюхо щавелем набито — да ничего. Кости были, мясо наросло. Маленький был, хотел большим стать — чего тут еще упомнишь? А стал большим — все работаю и работаю.
— Это я понимаю, Роман Прокопьич. Вот тебя пока понять не могу. Живем, живем, и не знаю, то ли мы сообща хозяйство ведем, то ли и друг дружке нужны… Вообще нужны, не только так вот…
— Живем ведь — разве мало? Ты подумай-ка: жизнь поддерживаем, дом есть. Нет, немало, Анисья Васильевна.
— Вроде так. Да все равно неспокойно. Вроде сердцу воли мало. Тесно как-то, ну и ноет, мешает. А может, кажется. Больно уж жизнь-то ты строго поддерживаешь. От гудка до гудка, и молчок.
— Дался тебе этот молчок!
— А куда его денешь? Похоже, Роман Прокопьич, что не просто ты молчишь, а сказать ничего не хочешь…
— Ну беда. А что я должен говорить?
— Не знаю. Только не должен. Без нужды и не начинай. Нет нужды, тогда, конечно, молчи. А охота, ох как охота, чтоб появилась она, чтобы понял ты…
— Да что понял-то?!
— Ничего.
Анисья Васильевна села, резко и зло взбила подушку, как-то размашисто, больно толкаясь, улеглась. Роман Прокопьевич прижался к стенке: «Вот разошлась. Нарочно так ворочается, будто нет меня тут». Она, полежав, полежав, вновь повернулась к нему:
— Может, Роман… извини меня… может, ты жену забыть не можешь?
Он медленно, придерживая грудь, вздохнул:
— Ты теперь моя жена.
Замолчала и больше не шевельнулась.
«Вот же травит себя. Да и меня по пути. Блажь не блажь, дурь не дурь — бабий сыр-бор какой-то. Зачем Зину-то вспомнила? Судьба раскрутила — не головой же биться. При чем тут забыть? Тоже жизнь была. Васек с Веней — как забудешь? Живая память, и я живой. Но отошла та жизнь, и сердце отболело. У Анисы тоже человек был, хлопоты были, муки свои, Любочка… Снова теперь начали — так что ей надо? Живем же, не тужим — обязательно, что ли, душу скрести?.. Характер, видно, на первых порах унять не может. Пускай, если ей так легче».
В субботу топили баню. Веня из школы не приехал — Роман Прокопьевич прождал его и пропустил первый пар. Послал Анисью Васильевну:
— Иди ребятишек купай. Я потом — все равно жар не тот.
— А я выкупаю, подтоплю — сама хоть с тобой похлещусь. Забыла, когда парилась.
Сначала повела Васька. Оттерла, отшоркала — только поворачиваться успевал, — окатила: «С гуся вода, с Васеньки худоба», — завернула в полушубок, поверх шалью затянула, в охапку его и домой. Румяно блестели его щеки и глаза из-под шапки, весело, тоже умыто — зырк, зырк.
Любочка же капризничала, противилась, выскальзывала, то пискливо закатываясь: «Ой, мама, щекотно», то трудно, ненатурально голося: «Мы-ыло, мыло щиплет. Пусти, не тронь», — и с маху плюхалась на пол. Анисья Васильевна измучилась, накричалась, а одевая Любочку, не удержалась, нашлепала и, голосящую, брыкающуюся, утащила в дом.
Роман Прокопьевич открыл им дверь:
— Вот это я понимаю! Помылись так помылись, — и вернулся к газете, оставленной на столе. Любочка мгновенно умолкла, подбежала к Роману Прокопьевичу:
— Видишь, я какая!
— Вижу, вижу.
— Ну?! — Любочка ткнулась влажным лбом в его руку. — Чего молчишь?
— С легким паром, Любочка!
— Нет, как Мустафа скажи.
— С легким банем, сэстренка, — так говорил их сосед по дому татарин Мустафа.
Любочка с разбегу запрыгнула на кровать к Ваську:
— С легким банем, братишка! Ура-а! — завизжали, в ладоши захлопали, ногами засучили.
Роман Прокопьевич спросил:
— Готово у тебя, нет?
Анисья Васильевна будто не слышала, старательно заглядывала на кухне в шкафчики и тумбочки.
— Подтопила ты, нет, спрашиваю?
— А когда бы я это успела?! — Она хлопнула дверцей кухонного стола, распрямилась. — Спрашивает он, барин нашелся!
— Сама же собиралась. — Роман Прокопьевич отложил газету, чуть скособочился, выглядывая в проем двери — что это с ней?
— Я много кой-чего собиралась! — Она слепо, путаясь, натягивала телогрейку. — Вот только в домработницы не нанималась. Хоть бы предупредил, что тебе не жена, а прислуга требуется. — Ушла так резко, что конец шали прищемило дверью, чертыхаясь, приоткрыла, выдернула шаль и опять с силой вбила дверь.
В бане отошла, отмякла, и, когда Роман Прокопьевич нырнул, пригнувшись, в сухой, дрожащий жар, она встретила его этаким отсыревше-довольным голосом:
— Веники готовы. Пожалте париться, Роман Прокопьич.
Открыла каменку, плеснула полковшичка и в прозрачную, раскаленную струю сунула сначала темные, тяжелые пихтовые лапы — разнесся, забил баньку смолистый хвойный дух, потом окунула в этот горячий дух еще не расправленные толком березовые лохмы — пролился в пихтовую гущину медленный ручеек осенней, терпкой прели.
— Ну, Роман Прокопьич, подставляй бока.
Он забрался на полок, улегся — опалило каким-то остро посвистывающим ветерком. Анисья Васильевна, меняя веники, обмахивала, овевала его, чтобы глубже и полнее раскрылась кожа для жгучего, гибкого охлеста листьев и ветвей. Потом скользом, скользом, потом впотяг, потом мелко, часто припаривая, прихлестывая от лопаток до пят, от носков до груди. Роман Прокопьевич, медлительно переворачиваясь, только уркал, как сытый голубь.
Слез, малиново светящийся, с шумящей головой от смолисто-березового хмеля, нетвердо прошел к кадке — и с маху на себя один ушат, другой, третий — ледяной, колодезной, — занемел на миг, застыл и вновь наполнился жаром, но уже ровным, необессиливающим.
Анисья Васильевна поддавалась венику как-то раскидистее, вольнее, смуглое тело ее вскоре охватило темно-вишневым пылом, лишь ярко, розово-густо проступали из него соски. Слабым, рвущимся голосом попросила окатить ее тут же на полке:
— Силушек моих никаких…
Пар потихоньку схлынул, из-под пола потянуло холодком, чисто зажелтело, залучилось стекло лампочки. Отпустила и вяжущая, сонно-горячая слабость — тело наполнилось до последней жилочки томительной, благодатной чистотой. Анисья Васильевна, сидевшая на широкой лавке, вся потянулась, выгнулась:
— Ох ты, сладко-то как! — чуть откинулась, чуть улыбнулась, прикрыла глаза.
Роман Прокопьевич вдруг застеснялся, отвернулся к черному, слезящемуся оконцу.
— Роман! — засмеялась. — Не туда смотришь, — придвинулась, задела, опять засмеялась.
— Да неудобно, Аниса. — В поту сидел, а все равно почувствовал, что еще потеет. — Окошко это тут…
Рывком встала, даже вскочила, схватила ковш с кадки, замахнулась:
— У! Так бы и съездила! Пень еловый. — Бросила ковш, вскинула руки, собирая волосы. — Все, Роман! Все! — Будто только что раскалились крепкие слегка расставленные ноги, чуть, оплывший, но все еще сильный живот, матерые, набравшие полную тяжесть груди — раскалились от злости, обиды, от нетерпения сорвать эту злость и обиду.
— Что все-то? — Он исподлобья взглядывал не нее.
— Больше ни кровиночкой не шевельнусь. Вот попомнишь!
После, за самоваром, причесанная, в цветастой шали на плечах, румяно-свежая, исходившая, казалось, благодушием, она неторопливо говорила:
— Черт с тобой, Роман Прокопьич. Тебя не пробьешь. Хотела, чтоб душа в душу. А ты как нанялся в мужья-то. Ладно. Раз так, то так. Вроде и семья, а вроде и служба. Вот и буду как службу тянуть.
Он не откликался, сидел в нижней рубахе, млел от рюмочки да от чая, про себя посмеивался: «Покипи, покипи. На здоровье. Пар-то и выйдет», — еще принял рюмочку, закурил. Он теперь не отказывался ни от вина, ни от табака. Как и положено семейному человеку.
Конечно, Анисья Васильевна не переменилась тотчас же, на другой день, но несколько спустя домашние разговоры стали тусклее, бесцветнее. Она уже не сердилась, не язвила, не шутила, исчезла из обихода сердечность, а осталась хозяйская расторопность, привычка к хлопотам и заботам. Угасли и ночные разговоры. Но когда Роман Прокопьевич обнимал ее, не противилась, хранила должную отзывчивость.
«А грозилась: все, попомнишь! Напугала — не нарадуешься. Вот теперь у нас все чин чином. Прямо душа отдыхает», — так рассуждал Роман Прокопьевич, полностью довольный теперешней жизнью, удачно продолжившей прежнюю, по знакомому и вроде бы прочному кругу.
Но вскоре заметил себе на удивление, что довольство его непрочно, тонко и легко рвется. Возвращался с нижнего склада, где день-деньской латали кран-погрузчик, настолько дряхлый, что давно бы пора ему на кладбище, в тяжелые челюсти пресса, но и заменить его нечем, новый-то никто не припас. Латали, ладили на порывисто-хлюпающем, воющем ветру, снег задувало в рукава и раструбы валенок; прорех и дыр было столько — там подварить, там перебрать, там заклепать — зла не хватало. Да еще слесарь Сорокин, здоровый, мрачный мужик, все время пророчил:
— Рассыплется. Соберем, и рассыплется. — Гулко откашлявшись, плевал. — Ворот от кафтана. Дырка от бублика.
Роман Прокопьевич слушал, слушал его и наконец рявкнул:
— Не каркай! Рассыплется — тебя поставим.
Сорокин плюнул:
— Меня-то конечно. В любую дыру поставь, стоять буду.
Промерзший, злой, голодный поднимался Роман Прокопьевич на крыльцо, а дома и не увидели, как он вошел. Посреди комнаты было расстелено ватное одеяло, на котором «выступал» Васек: смешно набычился и топориком тюкнулся в одеяло, медленно перевалился через голову, и в эту секунду Любочка опрокинулась над ним в мостике — два громадных красных банта в ее косичках качнулись, заскользили по зеленому верху одеяла. Анисья Васильевна устроилась сбоку на низенькой скамеечке, хлопала в ладоши, локтями удерживая рвущегося с колен кота, негромко, певуче приговаривала:
— Ай да мы, ну и молодцы! — Лицо ее при этом жило ласковым, усмешливым покоем, брови слегка выгнулись, глаза расширились веселым искренним интересом к ребячьей возне. Прыгал, рвался к одеялу и тут же пятился, взлаивая, щенок, тоже с бантом на шее. Любочка и Васек вскочили, красные, взъерошенные, и с серьезно-торжествующим сиянием на мордашках поклонились Анисье Васильевне, коту и щенку.
Роман Прокопьевич, тихо выглядывая от порога, вмиг согрелся, разулыбался, впрочем, и не заметил, что разулыбался, и тоже захлопал в ладоши, полез в карман за конфетами:
— Ну-ка, становись в очередь по одному!
Любочка и Васек бросились к нему.
— А мы в цирк играем! Васек клоун, а я акробатка. — Любочка первой взлетела к нему на руки, Васек обнял отца за колени.
— Дайте отцу хоть раздеться-то. — Анисья Васильевна поднялась, отошло с лица недавнее усмешливо-ласковое оживление, оно стало озабоченно-ровным, с легкою, деловитою хмурью на переносице. — Навалились — с ног собьете.
Из чугуна налила теплой воды в умывальник, на стул повесила свежевыглаженный лыжный костюм, с печки достала опорки — валенки с обрезанными голенищами, которые заменяли Роману Прокопьевичу тапочки. Накрыла на стол:
— Садись, ешь на здоровье, — а сама пошла прибрать в комнате после циркового представления.
Роман Прокопьевич хлебал щи, но обычного, сосредоточенно-жадного азарта к еде не было, мешало недовольство собой. «Поторопился, сильно поторопился. Надо было еще у порога постоять, посмотреть, а не в ладоши хлопать. И ребятишек спугнул, и Анису. Так уж ей интересно было, так уж сладко, вроде и не в годах женщина. Прямо хоть самому кувыркайся. Может, и мне бы похлопала — черт, что-то совсем не в ту сторону меня уводит. Да, надо было еще постоять и еще посмотреть».
После обеда в воскресенье он заснул на диване. Спал недолго, за окном еще было светло, чуть только отливало начальной, сумеречной синевой. На кухне, за столом, друг против друга сидели Веня и Анисья Васильевна, говорили старательным шепотом, то есть довольно громко и со смешным присвистом на шипящих. Он видел их лица, освещаемые окном: ее, тревожно-внимательное, морщины вокруг глаз собраны со скорбным напряжением; его — худое, печально-смущенное, нежный кадычок судорожно бегал на тонкой шее.
— …не знаю я, тетя Аниса… Мы на одной парте сидели, а в прошлый вторник она пересела. Не здоровается теперь.
— Может, обидел, Вениамин? Вы же сейчас дерганные все, думать некогда — раз, два, и такое ляпнете… А она — девчонка, да с норовом, да не замухрышка… Нет, ты не обижайся, Вениамин, я же вообще рассуждаю… Ты-то у нас мухи не обидишь…
— Я ей только записку написал, в кино звал… а она сразу же и пересела… Из рук, тетя Аниса, все валится.
— Ох, Веня. Не горюй ты так. Девчонки в ее годы все в барышни норовят. Уж и глазки строят, и ровесники им не пара — дурочки, да что с ними сделаешь? Потом сами поймут. Главное, ты, Веня, ее пойми. Она к тебе и потянется.
— Я не обижаюсь. Хорошо бы, как вы говорите… Только не выйдет, тетя Аниса. Ее еще в классе нет, а уже слышу — идет. Это она меня насквозь видит… А я посмотрю и уж ничего не знаю.
— И хорошо, Веня. Хорошо. Душа в тебе живая, вот и болит. Если девка с умом да в сердце не пусто, не бойся, быстро разберется… — Анисья Васильевна вздохнула.
Роман Прокопьевич заворочался, на кухне замолчали. «Это Верка Маякова мозги ему закрутила. Всем парень хорош, но любит слюни пускать. Не в меня… Как бы двоек не нахватал, — подумал невнимательно, точно о погоде за окном, опять приоткрыл глаза: Анисья Васильевна, косясь на комнатный проем, что-то совсем тихо шептала Вене. — Переживает за него, а он и рад стараться. Душа нараспашку. А со мной будто в рот воды… Вон ведь как она сочувствует… Мне бы, что ли, в какую историю попасть. Случилось бы что, тоже бы, наверное, руку гладила и в глаза заглядывала… Что мне это заглядыванье далось! Должно, заболею скоро — вовсе что-то раскис. Надо кончать. Хватит голову морочить».
Тем не менее сильно поманивало сесть сейчас напротив Анисьи Васильевны и попросить: «Посмотри на меня, ради бога, как на Веню, — дернулся, встал с дивана. — Черт! То ли опять засыпаю, то ли еще не проснулся!»
Умылся, походил, вроде развеялся. Хотел было сказать Анисье Васильевне, что вот, мол, совсем у тебя мужик свихнулся, дурней дурного желания его одолели, и надо дать ему каких-нибудь порошков — видно, застудился в тот раз на кране. Покружил, покружил вокруг нее — не сказал. Постоял, поглядел, как она чистит картошку на ужин, хоть и про себя, но не удержался, проговорил: «Посмотри ты на меня, ради бога, Аниса. Как на Веню», — стало ему смешно, стыдно до зябкости в крыльцах, быстрей за шапку — и на улицу.
Долго закрывал ставни, долго стоял у ворот, смотрел на бледненький, тощенький — одна спина да рожки — месяц. Льдисто, по-весеннему оплывшие сугробы, черная полоса дальнего леса, искристое пространство перед ним успокоили Романа Прокопьевича, и уже спокойно он подумал: «Вот что. Куплю ей какую-нибудь штуковину. Из бабьего барахла. Так сказать, ценный подарок. Тем более мартовский праздник скоро. Все они на подарки падкие. Вот и потешу. А там посмотрим, как обрадуется, как глядеть будет».
Утром уговорил бухгалтера выписать ему досрочно аванс и с деньгами за пазухой заторопился к магазину — хотел до открытия застать продавца одного. Тот впустил его в подсобку, запер дверь на железный крюк и, не поздоровавшись, вернулся к мешкам и ящикам, которые то ли пересчитывал до прихода Романа Прокопьевича, то ли передвигал-перетаскивал.
— Матвеич, что ты там в заначке держишь? — Против воли голос заискивал с грубоватой бодростью.
Матвеич повернулся: невозмутимое лошадиное лицо, пыльно-голубые ленивые глаза.
— А ты ее видел? Заначку-то эту?
— Да должна быть. Покажешь, так увижу.
— За погляд, сам знаешь, деньги платят. — Матвеич присел, привалился к мешкам — любил человек отдыхать. Он и в магазине все приваливался — то к косяку, то к полкам с товарами. — Что надо-то?
— Анисья скоро именинница. Такое бы что-нибудь, не больно фасонистое, но не наше. Из одежды там или на ноги. Черт его знает, ничего же еще ей не покупал, — договаривал и уже понимал: напрасно договаривает, вроде разжалобить этого пыльного Матвеича хочет.
— Можно посмотреть, можно. — Матвеич вовсе уж разлегся на мешках, так, легонько только локтем подпирался. — Слушай, все спросить забывал: у тебя автокран на ходу?
— На ходу.
— Мотоцикл у меня, видел, наверное, во дворе, под клеенкой стоит. А в городе гараж сварили… — Матвеич замолчал, сел, с ленивым равнодушием уставился на Романа Прокопьевича.
— Привезем твой гараж. — Ясно. — Роман Прокопьевич чуть ли не вздохнул с облегчением: слава богу, можно теперь не улыбаться через силу. — Давай короче, Матвеич. Товар на стол.
Тот вытащил из картонной коробки большой целлофановый пакет.
— Вот могу завернуть. Анисья твоя в ножки поклонится.
— Да уж. Что это за штуковина?
— Брючный костюм. — Матвеич зашелестел целлофаном. — Тройка. Штаны, маленькая вот кофточка, вроде жилетки, и большая кофта.
— Не смеши, Матвеич. Как она его тут наденет? За грибами разве? Или на работу в лес перейдет. Нет уж. Баба в штанах все-таки и не баба.
— Эх! Понимал бы. В городе вон от мала до велика в этих тройках ходят. В драку, считай, за ними. Старуха уже, смотришь, голова трясется, а все одно в штанах. Мода, Прокопьич. Я к тому ж чистый дефицит предлагаю. Японский. Днем с огнем не сыщешь.
— Врешь, поди. Так уж и в драку. — Роман Прокопьевич и сомневался по-прежнему, и проникался постепенно необычайностью возможной покупки. — Из дому же меня выгонят за твою тройку. Днем с огнем, говоришь?
— Бери, Прокопьич. Точно. Откажешься, у меня с руками оторвут.
— Значит, чуть чего, сдать можно? Заворачивай.
Спрятал до поры у себя в мастерской, в несгораемом ящике, где хранил наряды и дефектные ведомости, а в праздник принес домой, неловко вытащил из-под телогрейки, выложил на стол.
— Носи на здоровье, Аниса.
Молча развернула, соединила вещи на длинной лавке. Сначала брюки, потом жилетку, потом кофту — пока расправляла, выравнивала каждую вещь, густо покраснела. Роман Прокопьевич стоял сбоку, засунув руки в карманы, ждал, когда же она взглянет.
Анисья Васильевна выпрямилась и, не отводя глаз от костюма, тихо сказала:
— Спасибо, Роман Прокопьич. Очень хорошая вещь.
— Как она тебе? Ничего? — «Не взглянула даже. Жилочка никакая не засветилась. Глаза бы мои не смотрели на этот костюм. Навялил же, силком всучил, крыса магазинная». — Угодил, нет?! — слегка повысил голос, не слыша ответа.
— Спасибо, Роман Прокопьич. Еще бы. Чистая шерсть. — Она отошла к столу и сразу переменилась, повеселела, как бы вырвавшись из некоего пасмурного пространства. — А Веня открытку прислал. Вот перед тобой принесли. Вот уж обрадовал! — Протянула открытку Роману Прокопьевичу.
По бокам и поверху ее шли крупные буквы, нарисованные красными чернилами, с разными завитушками, листиками, цветочками: «Лучшей женщине в мире желаю счастья», — а в центре меленьким, аккуратным Вениным почерком было написано: «Дорогая тетя Аниса. Поздравляю с Международным женским днем, крепкого вам здоровья и большой радости, Веня».
Повертел открытку так-сяк, бросил на стол. «Откуда что берется. Сообразил». Лучшей женщине в мире! «Как язык поворачивается? А тем более рука? Лучшая… женщина… Правда, что язык без костей».
— Он что, за тридевять земель у нас живет? Зачем писать, когда приедет сегодня? Дурачок все же еще, суетливый. — Анисья Васильевна бережно взяла открытку, открыла буфет, прислонила к задней стенке.
— Божницы нет, туда бы спрятала. — Охота ей было взорваться, обидеться за себя и за Веню, но сдержалась, дрожащими руками стала сворачивать подарок Романа Прокопьевича, тройку его злосчастную. — Затем прислал, что сердце доброе. Приедет, еще раз скажет. У доброго человека добра не убывает.
— Да разве в словах дело?
— А в чем? Думаешь, деньги запалил и обрадовал? Лишь бы отделаться. А то, что Вене костюм надо, забыл. Любочке — пальто, Ваську одеть нечего.
— Слов, знаешь, сколько можно наговорить? Причем бесплатно.
— Ну, коне-ечно. Нету их, так ни за какие деньги не возьмешь. Уж за этот твой костюм не выменяешь. — Она затолкала тройку в пакет, сунула в сундук. — А я бы поменяла. Я бы отдала, Роман Прокопьич. — Накинула платок, взялась за полушубок.
— Далеко?
— Ребятишек позову.
Остался один, достал из буфета графин с самодельной рябиновкой, выпил стопку и сразу же другую, «Поглядела так поглядела. Дождался. Бог с ней, с обновкой. Согласен, не по вкусу, но сам факт-то могла отметить. Что вот для нее постарался. Не забыл, денег не пожалел. То есть уважаю и на все для нее готов. Поди, нетрудно порадоваться-то было, прижаться там, поцеловать, на худой конец, поглядеть ласково. Нет, Венькина открытка ей дороже. Ну, Анисья Васильевна. Плохо ты меня знаешь. Я ведь не остановлюсь. Как миленькая будешь и в глаза заглядывать. Еще попереживаешь за меня».
Через месяц с лишком он случайно услышал, что в конторе предлагают путевку не в очень дальний, но хороший санаторий. Его точно подтолкнуло: «Беру. Надо взять. Отправлю ее. Может, вдали-то настроится как следует, заскучает. Пускай отдыхает, на воле-то быстрее поймет, что я за человек», — подхватился, побежал. Мимолетом вспомнил, что в санаториях этих, на разных там курортах народ со скуки начинает бесстыдничать, семьи забывать, — сам Роман Прокопьевич в такие места никогда не ездил и сейчас вспомнил слухи да россказни, которыми потчевали мужики друг друга в перекуры, и он, посмеиваясь над этими разбавленными веселой похабщиной байками, никогда им не верил. Разве может серьезный человек верить на слово? «Шашни всякие не для Анисы. Уж что знаю, то знаю».
В конторе узнал, что выкупать надо немедленно — побегал, побегал по поселку, у того занял, у другого — вечером положил путевку на стол.
— Вот. Отдыхать поедешь, Аниса.
Она так и села.
— Да ты что, Роман. — Придвинула путевку, рассмотрела ее, прочитала. — Да ведь целый месяц выйдет. А кто огород будет садить?
— Сами посадим.
— Никуда я не поеду. Иди сдавай, рви, выбрасывай! Что ты все отделаться от меня хочешь? Молчит, молчит — на тебе! Штаны носи, езжай черт знает куда!
Теперь он чуть не сел.
— Да ты что! Как отделаться? Для тебя же стараюсь. Как тебе лучше.
— Что я там забыла? Постарался, называется. Ты кому что доказываешь?
— Ничего не доказываю. — Он не знал, что говорить, что делать — вот уж действительно постарался, врагу не пожелаешь. — Поезжай, Аниса, отдохни. Чего теперь.
— Не собиралась, знать не знала — не хочу. В другой раз наотдыхаюсь.
— Так куда путевку-то теперь девать?
— Куда хочешь.
— Пусть валяется. Смешить никого не буду.
— Пусть.
Он вышел, не одеваясь, постоял на крыльце, замерз, но тяжелую какую-то клубящуюся обиду не пересилил. Тогда, не заходя, улицей пошел к соседу, шоферу Мустафе, играть в подкидного.
Уговорил Анисью Васильевну Веня.
— Тетя Аниса, интересно же. Справимся мы тут, поезжайте. Походите там, подышите. Надоест, вернетесь. Ну, съездите — мы вам письма будем писать. Вообще, тетя Аниса, отдыхать никогда не вредно.
— Ох, Веня. Как не ко времени. Потом кто так делает? Люди вместе ездят. Одна-то я и раньше могла. Не смотри ты на меня так! Ладно. Только ради тебя, Веня.
Уехала. Установились жаркие белесые денечки. Снег сошел за неделю, быстро высохло, запылило желтовато-белой пыльцой с опушившихся приречных тальников. После вербного воскресенья пришло от Анисьи Васильевны письмо, в котором она жаловалась на головные боли, на ветреную, холодную погоду, наказывала, где что посадить в огороде, и даже план нарисовала, пометила, где какую грядку расположить. Еще спрашивала, как питаются, мирно ли живут Васек с Любочкой, как Веня готовится к экзаменам — целовала их всех, а всем знакомым кланялась. Отдельно Романом Прокопьевичем не интересовалась, никаких отдельных наказов ему не слала.
Как-то Роман Прокопьевич оставил Любочку с Васьком играть у соседей, а сам впервые, может, за всю жизнь пошел бесцельно по поселку, по сухим, занозистым плахам мостков-тротуаров. Встретил слесаря Сорокина, угрюмого, здорового мужика, и, хоть не любил его, остановился.
— Чего шарашишься, Прокопьич? — гулко откашлявшись и плюнув, спросил Сорокин.
— Надоело по двору, вот по улице захотелось.
— Закурим, что ли, на свежем воздухе?
Закурили, постояли, потоптались.
— Слушай, Прокопьич. Ты меня на неделю отпустишь?
— Далеко?
— Лицензию свояк достал. На зверя.
— А работать кто? Дядя?
— Да я свое сделаю.
— Сделаешь, отпущу.
Сорокин еще закурил.
— Может, зайдем, прихватим? — кивнул на магазин.
— Неохота. — Роман Прокопьевич слегка покраснел, в доме теперь было рассчитано все до копеечки — какая там выпивка. — Да и ни рубля с собой не взял.
— Ну подумаешь, я же зову, я угощаю.
Садилось солнце за крышу конторы, розово светились кисти на кедре, твердела потихоньку, готовилась к ночному морозцу земля, и от нее уже отдавало холодом — трудно было отказаться и еще труднее согласиться Роману Прокопьевичу, свято чтившему правило: самостоятельный мужик на дармовую выпивку не позарится.
— Пошли, — все же согласился с каким-то сладким отвращением, и если бы видела его сейчас Анисья Васильевна, он бы ей сказал: «Вот до чего ты меня довела».
Посадили огород, снова набухла, завеяла холодом черемуха. Пора было встречать Анисью Васильевну. Сообща, как умели, выскребли, вымыли дом, в день приезда велел Любочке и Ваську надеть все чистое, луж не искать и два раза повторил:
— Автобус придет, бегите за мной.
В сущности, и не работал, а торчал все время у окна, не бегут ли.
Любочки и Васька не было и не было, Роман Прокопьевич наконец вслух возмутился:
— Хоть бы раз по расписанию пришел! Не автобаза, а шарашка какая-то!
— Ты про автобус, что ли? — спросил только что вошедший Сорокин. — Да он с час уже как у чайной стоит.
Роман Прокопьевич, забыв плащ, побежал к дому. «Не дай бог, не дай бог, если что!» — только и твердил на бегу. Любочка и Васек сидели на крыльце.
— Приехала?! — распаренный, багровый, от калитки выдохнул он.
Любочка приложила палец к губам.
— Мама устала, говорит, не дорога, а каторга, просила не будить, — шепотом прочастила Любочка.
Роман Прокопьевич сел рядом с ними.
— Идите гуляйте.
Они убежали.
«Да она что! Да она что! Видеть, что ли, не хочет?! Извелся, жить не могу, а она устала. Я ей все скажу. Это что же такое! Прямо сердца нет!»
Он вскочил и неожиданно для себя начал топтать землю возле крыльца, поначалу удивляясь, что трезвый мужик белым днем может вытворять такое, а потом уж и не помнил ничего, наливаясь темным, не испытанным прежде буйством. Топтал землю и выкрикивал:
— Я без нее! А она! Я без нее! А она…
ДОЖДЬ НА РАДУНИЦУ
1
Он служил в Забайкалье, на пыльном и ветреном полигоне. Ветры так надоели ему, что он поклялся: «Отслужу — и на юг. Только на юг. На солнышко, на песочек, под вечную зелень».
Отслужил весной: в зеленовато-прозрачном воздухе отдаленно и нежно сквозили сопки, и дрожал над ними, веял малиновый багуловый дым. Прощаясь с позеленевшим, повеселевшим полигоном, признался: «Помучил ты меня, а все-таки жалко. Пока. Прощай — до свидания».
Уехал на Каспий, нанялся слесарем на нефтепромысел и беспечно, весело, трудолюбиво прожил там год. С людьми сходился легко: был не жаден, смешлив, простодушен — ничего не таил за душой, да и таить-то нечего было.
В пышном, утомительно пышном апреле вновь собрался в дорогу: «Нет, ребята, поеду. Не знаю куда, но поеду. Я теперь вечный дембиль».
Попал на Северный Урал, к геологам, и охотно согласился с кочевым житьем-бытьем. Копал канавы, уставал и сам себе объяснял, как бы заговаривал усталость: «Ничо, ничо. На то и работа, чтоб уставать».
Геологи квартировали в таежной деревеньке, у бабки Веры, и она как-то сказала ему:
— Уноровный ты, Ваня. Шутя жизнь проживешь. Никому в тягость не будешь.
Он засмеялся:
— Себе вот только малость надоел. Деться бы куда. Не знаешь?
2
Отведя сезон, при свете догорающей осени он обнаружил: опять заныла, запросилась куда-то душа и даже слушать не захотела о близких холодах, метелях и прочих зимних страстях.
У вокзальной карты Иван вспотел, измучился, ища город, в котором стоило бы пожить. «И там можно… И там… А там вообще малина, да вот нас нет. Тьфу на эту географию!» Он подскочил к справочному автомату, ткнул в беловато-желтую клавишу — судьба злорадно защелкала, захлопала металлическими ладонями: сейчас упеку этого Ивана Митюшкина в распоследнюю дыру! Но где-то она просчиталась и выбрала ему Братск — место на земле заметное.
Вагонного новоселья справить не пришлось: в его купе ехали две старушки и молчаливо-испуганная девчонка, видно, впервые разлучившаяся с домом. Не сыскалось компаньона и в других купе: все мужики, как назло, путешествовали с семьями и были погружены в беспросветные хлопоты. Верно, один от Иванова приглашения прямо-таки затрепетал и уже потянулся повеселевшим лицом к выходу, но тут на него обрушился тяжелый, горящий, гипнотический взгляд жены, и мужик сник, вяло плюхнулся на лавку. Безжизненным, тусклым голосом отказался:
— Нет, парень, спасибо. Что-то неохота, настроения нет.
Иван погоревал, погоревал, но вскоре утешился, вспомнив веселых девчонок-проводниц, удививших при посадке бойкой шоферской прибауткой:
— Милости просим! Куда надо подбросим!
Из корзины проходившего буфетчика Иван взял гостинцы — конфеты и яблоки — и немедля объявился у проводниц.
— Привет, девчата. Прибыл по вашей просьбе.
Они грызли семечки, сосредоточенно и отсутствующе уставившись друг на друга. У одной волосы были нестерпимо белые, у другой — нестерпимо рыжие; щедро чернели ресницы и веки; губы отливали перламутром; щеки плотно облепляла пудра — ни дать ни взять родные сестры, вышедшие из утробы одной парикмахерской.
Иван положил гостинцы на столик:
— Будем знакомы. Угощайтесь, девчата.
Девчонки вздрогнули, очнулись, вынырнули из дремотной пустоты.
— Спасибо, мальчата.
Они неожиданно, дружно всхохотнули — теперь вздрогнул Иван. Рыжая спросила:
— Тебя как понимать? Конфеты, яблоки… Смотри, проугощаешься.
— В женихи набиваюсь — не видно, что ли? Без пряников ни шагу.
— Ага, жених! Насмотрелись на таких. В три места алименты платишь — и опять жених!
— Ну, ты меня приговори-и-ла! Сразу жаром пробило! — Иван нахмурился, губы подобрал. — Нет уж!. Холостой я и неженатый! Хоть по паспорту, хоть по совести.
Знакомясь с девушками, он непременно сообщал эту биографическую подробность, причем с совершенной серьезностью. «Мало ли, — рассуждал он, — вдруг из знакомства что-нибудь другое получится — заранее не угадаешь. Тут без тумана надо, чтоб человек в случае чего рассчитывал. Ведь когда без тумана, сердце вольней определяется. И в знакомстве интерес появляется. Наверняка любой парень, любая девушка так думают: а вдруг? Нет уж. Тут не до смеха».
— Правда что жених. Садись. — Рыжая качнулась на лавке, но не подвинулась. — Зойк, может, все-таки глянем в паспорт?
— Обойдемся. Поверим. Раз с конфетами, значит, жених. Алиментщики так норовят — без конфет.
— Ну садись, садись, жених. — Теперь рыжая подвинулась. — Скорей угощай да невесту выбирай. Ох ты! Как складно заговорила! К чему бы это?
— Не могу, девчата. Глаза разбегаются. — Вздохнув протяжно и громко, Иван присел.
— Зойк, поможем доброму человеку? Ты его хвали, а я ругать буду. Перехвалишь — твой, я переругаю — мой. Как понимаешь?
— Давай.
Рыжая прищурилась, этак приценилась к Ивану — с одного бока, с другого, откинулась и прежним прищуром охватила Иванову внешность.
— Да-а, хорошего мало. Нос кочерыжкой, глаз какой-то мутный: то ли зеленый, то ли голубой, бровь жидкая — поросячья, ресница телячья, волос — как у чучела соломенного, уши — торчком. И вообще жердь тощая — вон слышно, как кости гремят.
— Не скажи, товарка. Женишок что надо, и даже чуть получше. Лицом белый, губки алы, брови шелковы — не парень, а девица красная! Нос размерный да прямой, ноздри чуткие — дом всегда чует, не заблудится. Волосы орехом светятся. Сам статный да ладный: обнимет — сладко будет!
— Вот девки! Ну, девки! — восхищался Иван. — Ну, братва!
Вскоре он щепал лучину для титана, шуровал уголь в топке новенькой аккуратной кочергой, сделанной им из случайного стального прута на память девчонкам; потом чинил задвижку в тамбурной двери, ходил по вагону и менял перегоревшие лампочки, чинил, верно, на скорую руку, репродуктор в коридоре — тягучее дорожное время вдруг подобралось, спружинилось и приударило о бок поезда, часы замелькали, как шпалы. Разохотившись, Иван сбегал за обедом для старушек из своего купе, покатал на спине зареванного мальчонку, пока его родители тушили какую-то внезапную свару, и, не в силах успокоиться, унять приступ привычного добросердечия, Иван попробовал разговорить испуганно-молчаливую девчонку, впервые расставшуюся с папой и мамой. Она ревела в тамбуре у ночного, черного, тревожного окна.
— Далеко едешь? — спросил Иван. — Да не реви, не реви ты. Сейчас разберемся.
— В Та-айшет.
— Работать, в гости? Подожди, подожди, успеешь нареветься. Как тебя — Нина, Галя?
— Та-а-мара. Педучилище кончила.
— Ну-у! Здорово! Учителка — большая специальность. Страшно, что ли, — ревешь-то?
— Да! Одна же буду. Никого не знаю, папу с мамой жалко.
— Слезы-то у тебя из-за ночи. Ночью всегда реветь охота. Утром сама удивляться будешь и смеяться. Был я в Тайшете, жил — замечательный городишко. — Иван остановился, придумывая, как бы дальше соврать позавлекательней и пободрей. — Учителей там не хватает, приедешь — на руках будут носить. В школу — на руках и из школы — на руках. Кормить с ложечки будут.
Девчонка улыбнулась — тусклая тамбурная лампочка дрогнула, прыгнула во влажных глазах и рассыпалась мелкими брызгами.
— Устроишься, Тамара, пиши. Повеселеешь, карточку пришли. Или давай сначала я напишу: до востребования. Тамаре-плаксе. Ладно?
— Да, да, — она торопливо вытирала глаза худенькими, острыми кулачками.
3
Красноватую усталую землю Братска освежил первый снежок, сухой и легкий. Припорошенные, похорошевшие руины начатых котлованов, фундаментов, этажей, белые наметы-мыски на кабинах тракторов и бульдозеров, враз позвучневший, налившийся какой-то веселою силой воздух — все это утверждало власть снега над людьми. Они как бы смутились белизны, безжалостно явившей их грубость, некую душевную резкость, суету, и люди присмирели, замедлили голоса и шаги, поутишили расторопность рук и поглядывали друг на друга с неловкими улыбками: как же это мы? Столько покоя в природе, а мы как с цепи сорвались — рвем и мечем! Давайте хоть на время пыл-то поубавим!
Иван тоже поддался влиянию снега: снял шапку, расстегнул пальто, шел потихоньку берегом и прислушивался к странному желанию, созревавшему в нем. Наконец оно определилось, остановило его под тонким молодым кедром, зеленое буйное пламя которого никак не могли заглушить пенные, белые, беззвучные потоки. Иван несильно дружески похлопал темно-матовый гладкий ствол — хлынуло, зашуршало, осыпало, овеяв благодатным, морозно-пахучим дыханием. И ведь не жарко было, вовсе не жарко, а вот поди же!
Он забыл, что идет в самый главный котлован, которого еще не видел, что в кармане — бумага из отдела кадров, что предстоит знакомство с бригадой, и неизвестно, как она его примет, — все это Иван забыл, стоя перед кедром и дожидаясь, когда совсем растает попавший за шиворот снег и тоненькими, прохладно-щекотными языками лизнет спину.
В котловане первого снега не заметили, да он, верно, и не достиг земли — затерло его, не пустило бесконечное движение: с грохотом вращалась карусель самосвалов, тракторов, бульдозеров; там и тут всплывали ковши экскаваторов, точно люльки колеса обозрения; краны размахивали руками: пожалуйте налево, пожалуйте направо — этакие ярмарочные зазывалы, и перекликались-то они с ярмарочной бойкостью, не жалея глоток. Человеческий голос, конечно, пропадал, но тем не менее казалось, что люди все же орут, свистят, хохочут, посильно участвуя в этой празднично-рабочей неразберихе.
«Ничего себе, весело у них», — несколько потерянно подумал Иван, но тут же нашелся, отскочил, отбежал от тысячеустого, тысячерукого котлована в сторону, взобрался по узкой деревянной лестнице на скалу и присмотрелся: «Так… Спокойно, спокойно. Сейчас все сообразим и поймем. Ага, там подземный ход пробивают, там, видно, дно чистят, там, за щитами, бетонируют — там, та-ак… Как говорят буряты, совершенно очевидно. А там у них, должно быть, столовая — народ больно квелый выходит. Все, пойдем бригадира искать».
Когда ему показали: «Вон твой Таборов», — Иван опять не поспешил со знакомством, а прежде рассмотрел бригадира издали и попробовал мысленно перекинуться с ним двумя-тремя словами, чтобы хоть немного привыкнуть к человеку, а там, глядишь, и натуральное знакомство легче пойдет. «Говоришь, лет тридцать тебе, не больше? Хорошо. Молодой молодого лучше понимает. Горластый, поди? Все ж начальник? Нет? Хорошо-о! Вроде бы и правда, не должен горло драть. Комплектный, тяжелый, здоровый — вон плечи-то разнесло, хоть в цирк иди. Такие вроде не крикуны. Зачем тебе кричать, когда сила есть? Вот и я так думаю».
Бригадир в самом деле был крепок, широк, невысок, с крутой, просторной грудью: стукни в такую — и кулак отшибешь, а в ней лишь отзовется на удар рокочущее гулкое здоровье. Большая голова на короткой неохватной шее, которая пустила два мощных плечевых корня; румяные, тяжелые щеки, еще тяжелее скулы — в несоответствии с ними аккуратненький девически нежный носик, глаза густо-серые, даже несколько в чернь ударяют. Грудь бригадира обтянута порыжевшим флотским бушлатом, в вырезе бледнеет треугольник вылинявшего тельника — то ли в память о действительной не меняет на спецовку, то ли с умыслом, угождая особой своей должности: «Я ведь из флотских. Могу и резко. Так что давай, прораб, не жмись. И наряды от души закрой, и новый фронт чтоб по уму был, с размахом. Морская душа простор любит».
Бригадир сунул Ивану короткопалую, широкую, жесткую ладонь:
— Таборов, Афанасий. — Взял негнущимися, чернозадубелыми пальцами бумагу из отдела кадров, не читая, сунул в карман. — Где бывал, что видал?
Иван ответил: там-то и там-то, работал тем-то и тем-то.
— Кантуешься, значит?
— Нет, работаю.
— Плотничал?
— Было.
— Арматуру хоть раз видел?
— Приходилось.
— Так что же ты! Что стоишь? Лясы точишь. Иди и работай. Время-то, время — ни секунды не вернешь! — тихо прокричал Таборов с болью и дрожью в голосе.
— С тобой что? Ушибло? Ты чего со мной, как в кино? Артист, что ли?
— Со мной — в норме. Но ты меня с одного раза должен запомнить. Удивляйся и иди. Вон к тем ребятам на опалубку колонн.
— Ясно. Пошел. Значит, у тебя прием такой? Человеку мозги спутать, и чтоб он потом разбирался: кто же такой Афанасий Таборов? Странный мужик, надо с ним поосторожнее. Так, что ли?
— Примерно.
— Тогда учти: я работать приехал, а не о тебе думать.
Далеко уйти Таборов не дал.
— Эй, Митюшкин. Забывчивый я стал, стерпи еще пару слов.
Иван вернулся.
— Про время я тебе как сказал? А-а! Ужели и не помнишь? Ни одной секунды не вернуть — вот как! Время! Какое время мимо летит! Со свистом, быстрее звука! — Таборов опять прокричал это тихо, чуть не пристанывая, и быстро развел, распахнул руки, точно хотел в охапку сграбастать время, обнять его, к груди прижать. Затем спокойным, обыкновенным голосом заметил: — А мы по свисту только и догадываемся, что оно пронеслось. У меня дед был, так он за целую жизнь не научился время узнавать. Ему братан с войны часы швейцарские привез, носить их дед носил, но без завода. Чтоб только глаз тешить. Спросишь его: «Дед, который час?» — он Швейцарию эту достанет, пощурится на нее, спрячет, откашляется и изречет: «Идет времечко-то, идет…» А! Что скажешь, Митюшкин?! Чувствовать время надо, чувствовать! — снова вскрикнул Таборов.
Иван молча отмахнулся, повернулся и пошел, решив больше ни за что не останавливаться: «Может, он меня на треп проверяет? Сколько он, мол, байки может слушать и не работать? Однако нет. Видно, любит, чтоб последнее слово за ним оставалось. Да на здоровье! Ну и на психику для первого раза давил. Дело хозяйское — мне деваться некуда. Всякие, конечно, новички бывают. И по-всякому пытать их можно. Совершенно очевидно. Ну, ничего. Недельку-другую поработаю — увидят. И бригадир, и кому еще охота увидеть. Тогда и разговор другой!»
А работать Иван любил, и ему, в сущности, было неважно, какой инструмент вкладывает в руки жизнь: кирку ли, плотницкий ли топор или слесарные тиски, — он любил разную работу, причем не из-за куска хлеба, пусть даже с маслом, с красной икрой. Он любил загвоздки, «спотычки», как он их называл, непременно украшающие любое, самое простое дело. Вроде куда как просто землю копать: ломай знай спину — и вся работа! Но вот камень, к примеру, пошел — спотычка для рук: ни ломом, ни киркой не возьмешь. Тут и соображай: то ли костры жги, накаляй камень и водой потом рви, то ли сцепление природное ищи да по шву по этому и примеряйся, выковыривай булыги, то ли вбок подкапывайся, ломы заводи под каменное пузо да через самодельные блоки вытаскивай — одолеешь такую спотычку, и не столько руки хвалишь, сколько голову: «Догадались же, а?! Сочинила, родимая, не подвела!» — и таким умным себе покажешься, таким непобедимым, что только и остается сесть на земляной отвал, из дрожащих, испугавшихся было рук получить папироску, хлебнуть сладкого дыма и еще раз счастливо, будто не себе, удивиться: «Чисто сделано, ах ты!..»
Бригада вскоре перестала замечать Ивана, увидев, что человек работает на совесть, присмотра не требует, ученические слюни не распускает, знает свое дело и свое место. И Таборов однажды сказал нормальным голосом, без прежнего куража:
— Чуешь, Митюшкин, время! Чуешь! Уважаешь скорость и совесть. Одобряю. — В его широкой жесткой горсти сразу же занемела Иванова рука. — Дело, Митюшкин, дело к тебе есть. Дело-просьба. Так говорил Сашка Павлов. Бригадиром до меня был. Сашка в позапрошлом году разбился — со скалы упал. Точнее — сорвался. Жена с пацаном осталась. Мы ей, ну, те, кто Сашку знал, чем можем, помогаем. Дров привезти, наколоть, воды натаскать на неделю, во дворе порядок держим. Ясное дело. Вот плохо, старичков все меньше остается — жизнь растаскивает то в одну, то в другую сторону. Новичков просить вроде неудобно: кто им такой Сашка? Никто. Да и за отказ винить не будешь — люди разные. А гну я вот к чему. Давно у Сашкиной Татьяны не были. Завтра суббота, я хотел поехать, но в подшефной школе ждут. Остальные на меня пронадеялись, и кто куда пособирался. Сильно неудобно, но может, ты съездишь? Или тоже куда-нибудь снарядился?
— Нет, могу съездить. Запросто. — Ивану польстила просьба Таборова: «Во. Меня уже не обойдешь. Серьезного мужика сразу видать».
4
Вдова жила на правом берегу, в казенном двухквартирном доме. Дом поставили из соснового бруса, затем, не обшивая, покрасили: одну половину в темно-серый цвет, другую — в темно-зеленый — как того пожелали хозяева. Иван, помня объяснения Таборова, открыл зеленую калитку. Во дворе на качелях, привязанных меж двух берез, сидел мальчишка лет шести, сидел, видать, давно, потому что носишко его напоминал молодую розово-лиловую картофелину и мокро блестел; глаза, в общем-то голубые, от холода перешли в какой-то белесый стылый цвет — сизозанемевшее лицо согревали лишь два теплых овсяно-желтых листика, прилипших вместо бровей.
— Здорово, — Иван протянул мальчишке руку, тот сунул свою, маленькую, холодную рыбешку, и быстро отдернул, спрятал в карман телогрейки.
— Шефствовать пришел?
— Да не знаю. Как получится. Тебя, может, качнуть?
— Давай, только быстро. А то мать увидит, качель снимет. «Вовка, нельзя, Вовка, не смей» — слов других не знает.
— Значит, ты Вовка? Вовка-морковка.
— Не, меня так не дразнят. Вовкин-суровкин — вот как.
— А кто дразнит-то?
— Девчонки и мать. Тут кругом одни девчонки живут.
— Ты суровый, что ли?
— Нет, строгий. А тебя как звать?
— Ванька.
Мальчишка рассмеялся.
— Ты почему так говоришь?
— Ваньку валяю.
— Валяют дурака — я знаю.
— Нет, и Ваньку тоже валяют, — весело вздохнул Иван.
— Давай я тебя буду звать Ваня. Без всяких отчеств и дядей.
— Договорились. Никакой я тебе не дядя.
— Матери скажешь, что разрешил так звать?
— Скажу.
— Тогда качай, Ваня.
Разлетевшись, раскачавшись, не удержав сладкого ужаса, Вовка звонко и тонко ойкнул. На крыльцо выскочила женщина, простоволосая, в легоньком затрапезном платье, в галошах на босу ногу — видимо, мыла пол.
— Опять за свое? Вовка?! Осатанел, да? Давно на нервах не играл? — Она спрашивала, укоряла, но не кричала, и потому визгливые нотки не залетали в ее мягкое, чуть глуховатое контральто.
Иван, улыбаясь, загородил его.
— Это я осатанел. Здрасте. Иван Митюшкин прибыл на подмогу. Таборов велел кланяться.
— Извините, перепугалась — поздороваться забыла. — Она не улыбнулась при этом заученно гостеприимно, не смутилась вслух: «Ой, я в таком виде», — а молча задержала темные неподвижные глаза на Иване — запоминала новое лицо. — Татьяна я. И чего это Таборову не сидится? Двадцать раз ему говорила: не посылай больше, хватит, у меня головы уже не хватает заделье придумывать. Все сделали, спасибо. Чего людей гонять? Вы недавно в бригаде?
— Третью неделю. Холодно сегодня — остынете так-то.
— Ничего. Заходите в дом, сейчас чай поставлю. Правда, уборка у меня, не знала, не ждала.
— Чай еще заработать надо. Так-таки нечего делать?
— Есть, есть, Ваня. Дополна работы, пошли, — Вовка потянул Ивана. — Сама ворчишь, ворчишь: в сарае черт ногу сломит — и вдруг дела нет.
— Все, Вовка. Конец! — Она беспомощно всплеснула руками. — Опять «тыкаешь», опять ровню нашел, из детсада дружка привел! Сколько говорить: нельзя так со взрослыми!
— Ваня, скажи.
— Помню, Вовка, помню. Мы с ним решили на «ты», чтоб головы не морочить. Может, по педагогике-то и не так выходит, зато душевней.
— Ну и сын у меня! Стоять бы тебе сейчас в углу, Вовка, ну да к вечеру заработаешь — день длинный, успеешь нашкодить.
В сарае не только черт, но и человек сломал бы ногу. Доски, ящики, узловатые витые чурбаки, которые не возьмешь ни одним колуном, рваные сапоги, туфли, телогрейки, горы пыльных банок и бутылок — вся эта дребедень с какою-то мелочною, незначительною настойчивостью напоминала: в доме давно нет хозяина. Иван поморщился: «Как ржа. Как моль в запертом сундуке. — И пожалел Татьяну: — Боится, наверное, даже заходить сюда. Чужой глаз не видит, и ладно. Туда-сюда ведь мечется — не разорвется. Не до сараев, не до хозяйства: пацана растить да деньги зарабатывать — больше в таком случае ничего не успеешь». Сначала он решил сколотить ларь под уголь и, пока вытесывал стойки, велел Вовке перетащить на огород рванье и тряпье: «Костер потом запалим, картошки напечем». Чурбаки выбрасывать пожалел, собрал их в поленницу: «Может, когда еще приду, клин захвачу, все переколю». Затем разбил ящики — вот вам и готовая лучина, отнес за сарай банки и бутылки и между делом, по пути, смастерил Вовке хоккейную клюшку: вытесал из доски рукоятку, сделал на одном конце запил и вставил в него дощечку от ящика. Пара гвоздей, подвернувшийся моток изоленты, и Вовка, сдерживая восхищение, развесил под носом такие провода, что Иван головой покачал:
— Хороший ты, Вовка, мужик, но сопляк.
Тот быстро обмахнулся рукавом, попримерялся к клюшке и побежал в дом показывать.
Потом они жгли костер, ели обугленную, хрусткую картошку — губы сразу облепила черная окалина; по очереди пробовали клюшку на новой шайбе, которую Иван вырезал тут же из старого каблука, и Вовка все спрашивал:
— Ваня, ты где раньше был? Нет бы летом появиться — хоть бы плавать научил.
— А у тебя что? Языка нет? Взял бы крикнул, позвал. Я бы мигом примчался.
Вышла на крыльцо Татьяна:
— Эй, работнички. Пора и ложками поработать.
Ее усмешливо-спокойный, глуховато-мягкий голос вдруг приобщил Ивана к странному ощущению: вроде бы однажды он уже шел к этому крыльцу, вот так же бодро умаявшись на домашних работах, вроде бы уже испытывал умиротворенность и довольство от домашнего голоса, звавшего к столу. Иван потряс головой: «Ты чего это, парень? Не было такого и быть не могло».
Она переоделась и была теперь в темно-вишневом платье с широким узорчато-резным воротником и широкими же манжетами-раструбами, отделанными шелком более светлого колера. Платье явило стройный стан и напряженно, туго очертило грудь; его темно-вишневое тревожное свечение как бы отдавалось, отражалось в глазах, тоже темно-вишневых, но с некоторою долею медово-золотистого блеска. Вишневые отсветы падали и на смуглое лицо, с какой-то томительною тонкой печалью углубляя тени в скульных впадинках, прелестно, легко касаясь высокого лба. Темно-медовые тяжелые волосы Татьяна собрала в узел, и он, отягощая голову, замедлял ее повороты, наклоны, придавая этим движениям несколько надменную плавность.
«Может, из-за меня так оделась? Все-таки гость», — подумал Иван и, показывая, что он человек с пониманием, заметил:
— К лицу вам платье. Очень идет. Хоть на вечер сейчас, хоть в театр — все оглядываться будут.
Давно не говорил Вовка, прямо измолчался весь.
— Бабушка Тася уж ругает ее, ругает. Как, мол, не жалко обновку на дом тратить. А устанет ругать и запоет: ох, Танька, хоть под венец тебя сейчас.
Татьяна схватила со стола ложку, замахнулась, но Вовка отпрыгнул.
Иван вздрогнул и, хоть замахивались не на его лоб, невольно отпрянул. Опомнившись, рассмеялся.
— Думал, и мне по пути попадет. Ну и строга у тебя мать, Вовка.
Татьяна погрозила ложкой.
— Теперь от угла не отвертишься! Не хватало еще — мать просмеивать!
— А где эта бабушка Тася? — спросил Иван.
— Да с Вовкой тут домовничает. Ночью-то одного нехорошо бросать.
Иван уже знал, что Татьяна работает ночным диспетчером на автовокзале.
— Ну да! Домовничает! Чай целый вечер пьет — ни сказки не дождешься, ни поиграть. Мать мне конфет купит, а я и попробовать не успеваю.
— Молчи. С тобой сидеть — золотом платить надо. Ладно, давайте за стол.
Она достала из самодельного шкафчика-холодильника, вделанного в стену под окном, бутылку водки, и Иван будто сейчас только вспомнил, вскочил, бросился к вешалке, выхватил из пальто свою, загодя купленную.
— И я ведь припас. Думал, с устатку-то сам бог велел.
Татьяна впервые улыбнулась: влажно и сочно приоткрылись губы, весело заблестели ровные, плотные зубы, а глаза оставались при этом сосредоточенно-спокойными.
— Так я и знала. У меня эта бутылка сто лет простоит. Кто ни придет, только соберусь угостить — свою достает. Даже неудобно.
Ее улыбка смутила Ивана. «Смотри, как серьезно улыбается. Вроде как при себе только малый запас веселья держит, а главный где-то в другом месте». И он непостижимым образом понял, ознобно догадался, что его долго будет смущать эта улыбка, он изведется, разгадывая ее смысл, сердце изболится от этого неизъяснимо волнующего несоответствия: влажный, сочный веселый рот — и спокойные, нестерпимо спокойные глаза. Он опять одернул, оборвал себя: «Что-то много тебе сегодня мерещится. Сильно впечатлительный стал».
— Ну, ваше здоровье!
— Спасибо. За помощь спасибо.
— Корочку, корочку на! Занюхай, Ваня!
— Счас, Вовка, счас. А потом тобой закушу.
Вскоре омыло душу, освежило волной особой горячей доверительности, когда непременно тянет откровенничать, искать ласковые, дружеские слова для человека, сидящего напротив. Ивана подмывало сказать, что он распрекрасно понимает, как несладко Татьяне живется. Что вдовью долю, может, и скрашивает людская отзывчивость, но веселее ее не делает, что Татьяна молода и красива и жизнь еще повернется к ней счастливым боком. Но совестно ни с того ни с сего жалеть и утешать человека, поэтому для разгона Иван начал издалека:
— С твоим хозяйством, Таня, замаешься… — запнулся, удивленно вытаращил глаза, точно у Татьяны спрашивал: не знаешь, мол, что это со мной. — Ой, извините!
— Да чего там, «извините». Давно уж попросту надо было. Из таборовской бригады — и «вы», «вы» — мне как-то даже дико. Так что уж больше не извиняйся.
— Вот и хорошо, — сказал Иван. — Я тоже сначала хотел без всяких «вы» — по-товарищески. Но, думаю, кто ее знает, может, не понравится.
— Понравится, понравится.
— Так я о чем, Таня. Замаешься, говорю, с таким хозяйством. Зачем тебе эти печки, уголь, огородище вон какой. Возьми да сменяй на благоустроенную. Охотников, знаешь, сколько найдется? Из деревни же народу дополна, а им только дай свою грядку, свою ограду, сарай этот — с руками оторвут.
— Да нет, возиться неохота, — ответила она безразлично, ровным голосом, и что-то на миг переменилось в ее лице: то ли дрогнули глаза, то ли легкой хмурью тронуло лоб, то ли губы задело неуловимо скользнувшей горечью. Иван не понял, что, а лишь вновь непостижимым образом догадался: не стоило говорить о доме и впредь даже заикаться о нем не надо.
— И то правда. Я ведь так — случайно сказал. — «Видно, другую жизнь в этом доме помнит. Видно, очень хорошую жизнь. С чего бы она тогда за него держалась? И в эту жизнь никого не пускает. Заповедник, запретная зона, но ведь молода, молода, четвертную не разменяла! Что ли, думает — и впереди у нее одно прошлое? Вот же не повезло девке! Сколько, однако, в ней спокоя! Но такого, что вроде как дрожит вся, на что решится — ни остановить, ни уговорить. Да, с душой, с душой девка! Хоть плачь… Однако пора за шапку браться».
Иван встал.
— Ну ладно, нагостился. Спасибо, как говорится, за хлеб-соль.
— Как не стыдно, Иван! Уж кому спасибо говорить, так мне. Таборову кланяйся. Заходи когда и не с помощью. В общежитии ведь живешь? Ну вот. И заходи чаевничать с домашней стряпней. Передышка от сухомятки будет. Ну, спасибо тебе большое.
Ему показалось, что она облегченно вздохнула, когда он поднялся. «Интересу ко мне никакого! Да и с чего интерес-то? Подумаешь — горы свернул. Расселся, водку пью, советы даю — хорош гусь! Не знала, наверное, как избавиться».
— Ваня, Ваня, придешь, а? Приходи, катушку сделаем. — Вовка как-то покинуто и одиноко топтался возле него. — Дай честное слово, что придешь. Ваня, может, сыграем во что-нибудь?
— Хоть кем быть, Вовка, приду. Москву показать?
— Больно, Ваня. Но так и быть — покажи.
— Шучу, Вовка. Мы после повеселее что-нибудь придумаем. Пока. И мать слушайся. А то никаких катушек.
В автобусе Иван закрыл глаза, чтобы получше увидеть прошедший день, и неожиданно для себя протяжно, с жалобным всхлипом вздохнул — и раз, и другой, и третий. Не открывая глаз, улыбнулся, что ему так вздыхается. И решил: «Завтра съезжу к ним. Скажу, что погреб забыл доделать. Или еще что-нибудь. Съезжу, съезжу — чего там».
5
Назавтра, собираясь на правый берег, Иван не стал покупать водку: «И там откажусь. Подумает еще — каждый день поливаю. Ох, и догадливый же ты стал — спасу нет! Сильно догадливый!»
Она удивленно отступила, открыв дверь:
— Ваня, здравствуй! Забыл чего?
— Вспомнил, что погреб еще не вычистил. Ну и примчался.
Она была в том же темно-вишневом платье, так же подобранна, спокойно-задумчива, и так же неподвижны был темные, с золотисто-медовым отливом глаза. «Нет, вчера мне не спьяну показалось, — подумал Иван. — Много, много в ней спокою, но уж так она его хранит, держит — не подходи! Да и не знаю я никаких подходов. Как будет, так будет!»
Из комнаты вырвался Вовка:
— Ваня! Катушку или что будем делать?
— Поздоровался бы сначала.
Татьяна в упор с какой-то равнодушною приветливостью рассматривала Ивана. Он смутился, смешался, глупо увел глаза в потолок — ни дать ни взять великовозрастный Вовкин приятель, мнущийся у порога.
«Недовольна, что пришел. Может, собралась куда или, наоборот, ждет кого. А я явился не запылился. Не убегать же теперь. Да и как я ей помешаю? Я с Вовкой буду. А она — хоть на все четыре стороны!»
— Может, плюнешь на этот погреб, Ваня? Мне он ни к чему.
— Надо уж до конца довести, раз взялся. Я, наверно, не ко времени?
— Не в этом дело. Просто необязательно на нас и воскресенье тратить.
— Не бойся, не на вас. Себя не знаю куда деть.
— Смотри, Ваня. Если уж так работу ищешь, работай.
С погребом он управился быстро, еще быстрее поставил Вовке катушку: сколотил козлы, с них в наклон пустил две доски, прикатил чурбан, чтоб ловчее залезать, наносил от колонки воды — накатистая, звонкая вышла катушка. Конечно, обновили ее. И фанерками, и подошвами, и просто штанами навели завершающий глянец. Покричали, поойкали, повизжали. Все. Пора по домам, никакого заделья на глаза не попадалось. Иван заметил, что, прощаясь, Татьяна уже не приглашала заходить на чай да на домашнюю стряпню: «Спасибо, до свиданья, Таборову привет». А Ивану, значит, от ворот поворот. «Ясно. Видала она таких помощников. Не для тебя, Ваня, и спокой этот, и голос тихий, и улыбка необыкновенная не для тебя. Ну, ладно. Обойдемся. К Вовке-то я могу ходить? Должен же кто-то пацаном заниматься?!»
В понедельник Таборов спросил:
— Был?
— Ну. Кланяется тебе.
— Как она там?
— Жива, здорова.
— Что сделал?
Иван сказал.
— Смотри-ка. Проворный ты, Митюшкин. Бережешь — не скажу, что секунды, но минуты уже бережешь. Выношу благодарность. Устно. Запомнил?
— Иди-ка ты.
— Так. Уголь мы ей завезли, дрова тоже. Побелено, окрашено, картошка в подполе, и ты, значит, окончательный марафет навел. Теперь до конца месяца протерпит. А то у нас сейчас взахлеб дела.
— Вот что. Чтоб больше об этом не говорить. Не посылай больше к ней никого. Мне не трудно, и время у меня всегда есть.
— Даже вон как! — Таборов попробовал откинуть голову — этак сторонне оглядеть Ивана, но шея была так коротка и крепка, что голова только дернулась.
— Ты против, что ли?
— Не знаю. А ты почему такой шустрый?
— Ты запомни: мне не трудно туда ездить.
— Запомнил. Она тебя просила?
— Нет. Сам так решил.
— И что из этого выйдет?
— Не знаю.
— Как мужик мужику. Езди, конечно. Тут не запретишь. Но крепко подумай.
— Подумаю.
— Вопросов нет. Разве что последний: время, значит, пришло?
— Иди-ка ты.
В тот же вечер Иван поехал на правый берег. Татьяна уже не удивилась, не поздоровалась, а молча, чуть прищурившись, ждала, что же он теперь скажет. Иван, с торопливой, ненавистной себе, какой-то дрожащей бойкостью в голосе, объяснил:
— Коньки вчера Вовке обещал. Ну и сегодня сварил маломальские.
Он поспешно развернул газетку, показал двухполозные самоделки и надеялся, показывая, что Татьяна отмякнет, подобреет, вернется на ее лицо усмешливо-ласковая, затаенная горечь, которая с мучительной силой притягивала Ивана.
— Вовка, Ваня твой пришел.
«Больше ни за что не приду! Так тебе, дураку, и надо! Ждут тебя тут, как же!» Но, конечно, приехал на следующий день, не придумывая никаких объяснений. И весь вечер играл с Вовкой в «морской бой».
Так и ездил, справляя должность великовозрастного Вовкиного приятеля, и, кстати, был доволен ею. «Ох и смешно, наверно, со стороны смотреть на меня. А что поделаешь, если сказать боюсь? Скажешь, а она вообще больше не пустит. Уж лучше молчком. Чем-нибудь да все равно это кончится».
Однажды он не приехал — не пустила сверхурочная работа. Когда появился на правом берегу, Вовка гордо сообщил:
— А я из-за тебя с матерью разругался!
— Как?! — У Ивана замедлилось сердце.
— Я ее спрашиваю: «Не знаешь, куда Ваня делся?» А она: «Отгул, — говорит, — взял, а то уж больно зачастил». Я ей: «А тебе что, жалко, что ли?»
— А она?
— В угол меня и не разговаривает.
Иван понял: пора для серьезного разговора пришла. Чем дальше откладывать, отодвигать, даже и слово «нет», тем горше опустеет Вовкино сердчишко.
Он без оглядки, звенящим голосом спросил Татьяну:
— Говоришь, зачастил? А что делать?
— Наябедничал все-таки. Говорила, Ваня, говорила, — спокойный прежний голос, но вроде чуть спешит, скрывает какую-то тревогу. И он — привычно уже — догадался: Татьяна не хочет объясняться под этой крышей и не знает, как предупредить объяснение.
— Ты дежуришь сегодня?
— Да.
— Я зайду к тебе?
— Ночью-то? Не уедешь потом.
— Что ж, что ночью.
— Заходи.
6
Муж ее погиб ясным сентябрьским днем, когда даль просторна и солнечно-грустна, а воздух сух и сгущен до прохладной голубизны.
Татьяне позвонил тогда Таборов, сказал: «С Сашкой беда».
С бесслезным, почерневшим сердцем, терпеливо, каменно сжавшись, она ехала в котлован по дороге, тихо освещенной солнцем и желтой парящей листвой, и щадила себя, надеясь: «Покалечился? Зашибся? Господи, Сашка, Сашка! Лишь бы жил, жил!» — неужели беда и на такой день имеет право?
Сашка лежал на деревянных сходнях в тени скалы, с которой сорвался. Кто-то укрыл его брезентовым фартуком, но лицо прятать не стал. Устало опущенные губы, сонно закрытые веки, легкий низовой ветерок в веселых соломенных кудрях — сморила человека работа, прикорнул в тенечке. «Все, все, все!» — поняла Татьяна, никто не будет укрывать живого таким старым, выгоревшим в растворных брызгах фартуком. Она подняла глаза на скалу: диабазовые уступы и башенки заливало небесным слепящим, праздничным потоком, и эта праздничная голубизна так больно ударила в сердце, что Татьяна упала рядом с Сашкой и сухо, невозможно закричала:
— Не прощу-у!
Стоявшие вокруг Сашкины товарищи виновато склонили головы, подумав, что это им не простит Татьяна, это они недосмотрели, отпустили его на скалу без монтажного пояса.
Но не их судила Татьяна этим страшным криком: обеспамятевшее сердце ее не приняло столько боли враз. Сашка, она, их не прожитая любовь, теплое Вовкино посапывание в плечо отца, голубое праздничное небо, осенний счастливый покой, томящий душу ожиданием еще какой-то радости, — все, все летело, проваливалось в тьму, в смертную тьму: как можно смерть понять и как можно ей простить?
В дни похорон ей удалось упрятать это «не прощу!» в глубь, онемевшей, смерзшейся души и не выпускать, удерживать до последнего кладбищенского прощания. Когда споро и бойко застучали молотки могильщиков, Татьяна оттолкнула их, упала на колени, обняла гроб и снова сухо, невозможно закричала:
— Не прощу-у!
Сашкиным товарищам послышалось, что она кричит: «Не пущу!» Они постояли, склонив головы перед наивностью горя, затем подняли Татьяну и отвели в сторону. А день опять был золотой, легкий, прозрачный. Меж кустов и деревьев приготовилась ловить первый снег паутина, а пока что останавливала запахи близких огородных дымов. Сырая земля высохла, согрелась и рассыпчато потекла на последнюю Сашкину кумачовую крышу.
Татьяна не заметила, в какой день и час отпустила, не застила больше свет глухая и слепая боль, освободив сердце для спокойного, медленного горя, которое не мешало работать, ругать и ласкать Вовку, сдержанно-устало объяснять ему: «Папа уехал. Не знаю. Когда вернется, тогда вернется, как с делами управится. На кудыкину гору. На Север уехал, на Север». Горе позволяло и улыбаться, но, верно, с какой-то машинальностью: чувствуешь, губы шевельнулись — и все, вроде не твоя улыбка, вроде как по заказу, вроде чужой команде подчинилась — в этом месте улыбнись, положено.
В сороковины она пришла на кладбище. Холодная, моросящая жижа — ни дождь, ни снег: пустынное скорбное пространство; убогая зелень неживых, металлических листьев — Татьяна не заметила всего этого, присев на скамеечку возле Сашки. Но леденящее кладбищенское одиночество, неслышно ступая по раскисшей земле, вскоре окружило ее, присело рядом, бесцеремонно потеснило, подтолкнуло плечом: очнись, заметь меня. Татьяна оглянулась: как пусто, сыро, черно кругом! С могильной тумбочки на нее смотрел, улыбаясь, Сашка, словно собирался сказать, как не раз говорил когда-то: «Ну, мать. Не хнычь. Кукситься хорошо, кому делать нечего». Татьяна закрыла глаза. И как бы помимо чувств, помимо рассудка вошло в нее сознание, нет, ощущение, состояние какой-то особой, редко выпадающей прозорливости: исчезнут эти дни, составятся годы, и никто, никто не будет помнить Сашку, ни одна живая душа! Его не будет — и рассеется, исчезнет память о нем. Он был хорошим человеком, очень хорошим. Ее мужем. Но этого так мало, чтобы люди не забыли его. «Сашка, Сашка! Никакой родни у тебя, кроме меня. Только я тебя и запомню, только я и смогу. Сашка! Если я тебя забуду, пусть мне будет хуже всех на свете! Хуже нищенки, старухи одинокой. Слышишь? Не забуду, не забуду, не забуду!» — повторяла и повторяла Татьяна, с внезапной суеверной ясностью поняв: она не посмеет, никогда не посмеет забыть этой клятвы.
По прошествии времени, по истечении некоего житейского срока, отпущенного подругами и соседками на вдовий траур, они подступили к Татьяне с разговорами: «Тань, пора уж и на людях показаться. Не век же одной сидеть». «Танька, да ты только мигни — женихи стаей слетятся». «Танюшк, вон на Амурской, возле магазина, тоже вдовец живет. Серьезный мужчина, самостоятельный, машину держит. Парнишке-то отца надо. Одна, девка, не справишься».
Она либо отмахивалась, либо с равнодушной улыбкой говорила: «Ох, и нелегко свахам хлеб достается. А от меня и крошки не перепадет. На меня угодить трудно».
Заглядывая в дальнейшую жизнь, Татьяна видела: как бы истово она ни помнила Сашку, но ради Вовки и, уступая своей долгой еще молодости, ей придется — уже при трезвом сердце — соединиться с каким-то человеком. Но этот человек должен уважать ее прошлое, беречь ее память, не требовать всего сердца, потому что никому никогда не сможет она теперь отдать своего сердца.
7
Иван приехал последним автобусом. В стылой радужной мгле тепло желтело окно автостанции. Иван остался на улице: не с шофером же заходить! Но и когда тот, отметив путевку, вернулся в кабину, погазовал на месте, посигналил, торопя случайных полуночников, Иван все кружил и кружил вокруг вокзала, тянулся на цыпочках к желтому окну, и вдруг от затянутых льдом стеклин наносило на него таким жаром, что он сдвигал шапку на затылок, утирал лоб: «Вот жжет меня, прошибает. Боюсь, что ли?»
Еще в автобусе он придумывал, что же скажет Татьяне. Какие слова, но не придумал — помешала откуда-то взявшаяся вдруг мелочная наблюдательность: Иван замечал, и кто входил, и кто выходил, и какие машины встречались и обгоняли автобус, со странным вниманием прислушивался к разговорам соседей. Наконец разозлился: «Да что это я! Еду, можно сказать, за судьбой, а всякими глупостями отвлекаюсь!» И тут же понял: он нарочно отгоняет решительную думку, не то боясь ее, не то смущаясь, самому было непонятно. Хотел вот на воздухе подумать, сосредоточиться, а вместо этого кружит и кружит, напала какая-то пустая расслабляющая жара. «Сейчас сюда милицию — и меня заберут. Точно. Скрадываю прямо-таки эту диспетчерскую. Жулик и жулик — кто посмотрит».
Он решительно вошел и хрипло-настывшим голосом сказал:
— Добрый вечер, то есть добрая ночь!
— Да уж, добрая. От мороза моя контора того и гляди развалится. — Татьяна была в черном свитере, на плечах — белый прозрачный шарф, белизна его как бы охлаждала, смиряла смуглый пыл Татьяниных щек.
«И она, видно, волнуется», — обрадовался Иван.
— Я уж не ждала тебя. Думала, на автобус опоздал. — Голос, однако, ровный, и глаза прежние, неподвижно-темные.
«Ждала, ждала!» — опять обрадовался Иван, хотя долею рассудка и окорачивал свою радость — и черным боком это свидание еще может повернуться.
— Нет, как раз успел, да с шофером не хотел заходить.
— Поди, озяб, ног не чуешь?
— Что ты! Не погода — Ташкент. Я вообще холода не замечаю. Не думаю о нем и не замечаю. — Иван снял пальто, бросил на стул.
— Чайник сейчас включу. В Ташкенте тоже чай пьют.
— Тебе не чайник, самовар надо держать. Шофер замотается, спит на ходу, а ты ему — крепенького, горяченького.
— Ага, дождешься их. На ночь три машины оставляют, а я их почти не вижу.
— А если кому срочно потребуется? На самолет или еще куда? — Ивану стало совестно: «Так всю ночь можно проговорить и ничего не сказать. Не ей же начинать, мне. А я мелю и мелю…»
— Тогда на своих двоих.
— Таня! Так что же делать? — Иван спросил звонким, напрягшимся голосом, хотел зажмуриться от муки, которую вытерпел, говоря это, но удержался, и отдало в глаза горячей резью. — Люблю я тебя.
Она слабо, неуловимо то ли вздрогнула, то ли покачнулась, с какою-то беззащитною плавностью отвернулась, потупилась, собрала, стянула на груди шарф, словно защищалась, закрывалась этим белым крестом от Ивановых слов.
— Слышишь? Таня?
— Да.
— Что ты мне скажешь? — У него уже перехватывало, горело горло.
— Не знаю, Ваня. Может, ты не там свое счастье ищешь? Ведь жизнь-то у всех одна. И у тебя тоже. Ты подумай, Ваня.
— Я уже думал-передумал — надоело! Ты мне скажи: ты-то согласна, что я тебя люблю? Согласна?!
— Да.
Жаркая, нервная лихота, одолевавшая его весь вечер, наконец отпустила, сникла, и Иван почувствовал, что тело как бы пустеет — уменьшается, сужается, — и от этого странного ощущения каменным бессилием налились руки и ноги — Иван очутился на стуле рядом с Татьяной, и так они сидели друг подле друга, молчали и никак не могли остановить эту молчанку, словно она теперь распоряжалась их союзом.
Иван удивлялся: «Вот же собрался, все сказал — должно бы повольнее стать, вроде не чужие больше, осмелеть бы можно, а все наоборот выходит: и язык как отнялся, и шевельнуться боюсь. Другое какое-то неудобство вынырнуло — смотрю на нее, сердце переворачивается: такая она мне нужная — хоть плачь! Погладил бы, обнял, на колени встал, чтобы видела только, что каждая жилочка ее мне драгоценна, а вот ведь не сдвинусь, не осмелюсь, хоть убей меня!»
Он видел, что может обнять ее, поцеловать — она же сказала «да» и, наверное, готова к его ласке, вон как напряглась, но душевное зрение останавливало его, удерживало: стерпит, примет ласку, но еще крепче сожмет шарф, еще беззащитнее после этого отвернется. Надо дождаться, пока из благодарности к твоей выдержке она сама не потянется, не приласкает тебя.
Он и уйти хотел молча, лишь коснулся легонько, нечаянно-понимающе ее плеча, но вспомнил про этот дом на правом берегу — не в нем же оставаться, но и не в общежитие же переходить? Затоптался на месте, закашлял, шапку истерзал в кулаке. Татьяна поняла:
— Ты же говорил как-то. Многим, мол, свою грядку надо. Может, поищешь таких?
Он обрадовался и тут же отчаянно покраснел, обваренный кипящим свинцовым стыдом: «Мужик тоже! Как приживальщик, на чужой дом позарился! И деться тебе некуда, не можешь ты ждать! Тьфу на тебя!» И вместе со стыдом, изгоняя его, торопливо заполнила Ивана радость: Татьяна все, все понимает, идет навстречу, значит, тоже хочет быстрее быть вместе. И, потеряв голову от этой радости, от этого стыда, он ткнулся губами Татьяне в руку и убежал.
8
Вовка, узнав о скорых переменах, сказал:
— Ваня, давай сразу договоримся: как мне тебя звать-то?
— Да ладно, Вовка! Хоть под землю с тобой провались!
— Просто «папа» я тебя тоже не могу звать. Все-таки ты не всегда моим отцом был, только сейчас станешь. Давай, я тебя папа-Ваня буду звать? И по-старому и по-новому. Давай?
— Договорились!
Перед новосельем Иван засомневался: приглашать ли бригаду — ненужной болью может отозваться в Татьяне это давно знакомое застолье. Но и не приглашать тяжело: скажут, зажал Ванька новоселье — углы обвалятся и в семейной жизни не повезет. О сомнениях своих, конечно, промолчал, и уже было решил: «Ладно, без гостей обойдемся», — но Татьяна сама напомнила:
— Обязательно ребят позови. Я же вижу, как ты гадаешь: ловко, неловко, удобно, неудобно. Обязательно позови.
— Все-то ты видишь. Молодец.
— Да уж молодец. Вовка не слышит, а то бы добавил: как соленый огурец.
Поначалу новосельный пир горел ровным, аккуратным пламенем: женщины чинились и останавливали щедрую руку хозяина: «Нет, нет, мне самую малость, донышко закрыть. Мужчины солидно томились, скованные галстуками и пиджаками, — никого пока не проняло внутренним вольным весельем. Подняли Таборова, потребовали сказать слово. Он покрутил мощной шеей, расслабил галстук, расстегнул воротник, освобождая стесненное горло:
— Самое время, ребята, выпить за Татьяну и за Ивана. И пожелать им счастья. Прошу всех встать, запомнить эту минуту и выпить до дна!
Пир разгорался. Мужчины уже курили, скинув пиджаки, уже кто-то с обидой спрашивал: «Да разве ж на скальных работах по стольку плотят?!», уже пылал на женских лицах свежий, юный румянец, и кто-то с хмельною призывной звонкостью проголосил: «Ох, девки, и горька у хозяев бражка!» Сразу же несколько голосов подхватили, пропели:
— Горько! Горько!
Татьяна спрятала лицо в ладони, вскочила, убежала на кухню. Иван нелепо сморщил губы и как-то виновато, растерянно приподнял плечи: я-то, мол, все понимаю, а ей-то каково? Смущенную тишину за столом тотчас же прекратил трезвый, веселый голос Таборова:
— А ну-ка, братцы! Три, четыре: «Эх, загулял, загулял, загулял…»
Иван вышел на кухню. Татьяна стояла у окна, все еще пряча лицо в ладонях. Он отвел их: сухие, горячие, больные глаза смотрели на него. Татьяна лбом прижалась к его плечу.
— Ох, Ваня, Ваня. Натерпишься ты со мной! Намучишься.
— Знаю. Знаю я это! Но все равно, все равно!
Полная январская луна за окном ярко и печально освещала сугробы на пустыре и голубовато-черную гряду ельника в конце его.
9
Когда Иван соглашался: «Знаю я это!» — он хотел лишь утешить Татьяну, пониманием своим оградить от прошлого, но на самом деле не поверил Татьяниным словам: начнутся их совместные дни, и некогда будет мучиться — жизнь напориста, быстра, беспамятна и оглядываться не любит. Кроме того, Иван сильно надеялся на свой характер: «Да я расстараюсь, расшибусь для дома — в мужике главный смысл, если он хозяин, если баба за ним, как за каменной стеной. Нет, все по уму у нас будет! Она увидит, поймет, как я ее люблю. Может, и он ее так не любил?»
Татьяна уже видела, что Иван не умеет сидеть без дела, но таких бурных стараний, которыми окружил ее, Вовку, дом, Татьяна не ждала и даже испытала некоторую растерянность и смущение. Она возвращалась с дежурства и только руками всплескивала: опять он вымыл пол или выстирал белье, сварил обед или опять принес Вовке какую-то обнову. Дождавшись его со смены, подав чистую рубашку после душа, накормив, она выговаривала ему с тою ласковою усмешливостью, с какою обычно укоряла Вовку:
— Ты что же, барыню из меня хочешь сделать?
— Это я загодя, авансом отрабатываю. Вот учиться пойду, отпомогаюсь.
Осенью он собирался в вечерний техникум.
— А Вовку зачем балуешь? Третий костюм, как у доброй модницы.
— Ничего-о! Жених же растет. Когда-нибудь отквитает. Будет на старости баловать. Мне — чекушку после бани, тебе — косынку к Первомаю.
— Ваня, серьезно, не стирай ты больше — соседи засмеют.
— Да я же по пути. Не заметил как.
— Ага, так один не замечал, не замечал. Заметил, когда шея заболела.
— У меня крепкая. Хочешь, верхом покатаю?
— Можешь, можешь, знаю. Ваня, не надо! Не балуй… Да совестно же!
Ее стыдливая девическая сдержанность в ласках, какая-то пугливая щедрость в минуты близости еще более укрепляли готовность Ивана служить ей, прислуживать, с ума сходить, что она есть. В нем пробилась странная тяга к внезапным, бесцельным поступкам, до которой никогда прежде не добирался его практически деятельный ум. Он вдруг замечал на попутном кедре особенно сочную и зеленую ветку, ярко притихшую среди других, заснеженных и обыкновенных. Иван приносил ветку домой, протягивал Татьяне:
— Это не я. Какой-то парень на улице подходит, просит: передай своей ненаглядной — и как сквозь землю. Думаю, не выбрасывать же. Держи, ненаглядная.
— Давай, давай, сочиняй. Не на тебя парень-то походил?
Она улыбалась, и ее спокойные темные глаза на миг оживлялись каким-то растерянно-грустным отсветом, бликом, теплой мелькнувшей тенью.
Иван краснел: «Наверно, думает — блажь у мужика. Веточки носит. Смешно, конечно, если подумать: никакой пользы от этой веточки. Да ладно! Я-то не думал — принес и принес. Захотелось».
Однажды его остановил закат: розовые и нежно-зеленые слои облаков переливались, млели над влажно почерневшей мартовской тайгой; близкие белые острова на Ангаре неожиданно удалились, уединились в некое недостижимое, розово-зеленое пространство. Иван посмотрел, посмотрел на эти чудеса, пожалел: «Вот Татьяну бы сюда!» — но тотчас же засмеялся вслух, представив, как два взрослых, трезвых человека стоят на обрыве и говорят друг другу: «Ты посмотри, красота какая, а! Нет, чувствуешь, как дышится?» — комедия, да и только. Тем не менее и дома он долго помнил, видел этот закат и не утерпел, смущенно погмыкивая, сказал Татьяне:
— Солнце сегодня садилось — случайно со скалы видел. То зеленым мигнет, то розовым. Будто заманивает куда-то. И что-то так я засмотрелся — веришь, нет — показалось, ты рядом стоишь, и не знаю почему, я подумал: нам долго, долго жить. Вроде как никогда никуда не денемся.
И опять он заметил в ее глазах грустную растерянность — мелькнула и пропала, и Татьяна быстро, легко коснулась пальцем его щеки, лба — то ли согласно, то ли виновато.
10
Лучше бы ему не попадалась эта фотокарточка. Татьяна была снята летом сидящей в развилке старой березы, и тень живой листвы мешалась с листьями сарафанного узора. Татьяна сидела, удерживаясь руками за ветки. Влажно искрясь, блестели зубы, волнующе-сочно темнели губы, а глаза горячо и счастливо выплескивали, отдавали смех тому, кого не было видно на фотокарточке. «При мне она так никогда не смеялась», — подумал Иван, и сердце как бы окунулось, ухнуло в тоскливую холодную пустоту, мгновенно поняв, почему Татьяну не оставляет ровная, далеко упрятанная грусть, почему она бывает растерянна и смущена его отчаянным влюбленным вниманием. «Она не забыла той жизни, не хочет забыть. И меня неохота обижать. Если бы забыла, и мне бы так смеялась, так радовалась. Ей неудобно, когда я веточки приношу, руки целую. Она боится вовсе-то мне поддаться — тогда все, все забыть надо. Вот и рвет сердце, не дает ему волю! И дитенка мы никогда не дождемся. Ни сына, ни дочки. Память-то в сердце хочет держать, а пока не переступишь ее, другому целиком не доверишься. Дитенок бы все переменил! Никто же не виноват, никто! Никто, никто. Вины нет, а муки много».
Теперь он с душевною болью замечал, как пустеет иногда, переносится куда-то Татьянин взгляд, отрываясь от книги, или от шитья, или другого рукоделья. Иван спрашивал напряженно-безразличным голосом: «Ну-ка, ну-ка, расскажи, где, что увидела? Проглядишь глаза-то». И знал, что Татьяна с коротким, скрываемым вздохом ответит: «Да я просто так, задумалась». — «О чем?» — опять спрашивал он. «Да уж не помню», — опять отстраняла его Татьяна.
«Что ей еще не хватает? Только что на руках не ношу. Другая бы молилась на такого мужика! — временами поддаваясь обиде, раздражался Иван. Но тут же спохватывался. — Не могло быть другой! Не надо мне другой! Пусть так, как есть. Пусть!»
Как-то он спросил Таборова:
— Слушай, а что за парень этот Сашка?
Спросил вроде бы невзначай, между прочим, умышленно пропустив слово «был»: догадается Таборов, о ком речь — хорошо, не догадается — еще лучше. Таборов догадался и после затяжного, пристального раздумья сказал:
— Парень как парень, Ваня. Обыкновенный. Как мы с тобой. Не лучше, не хуже… Еще что-нибудь хочешь знать?
— Нет. Все ясно.
«В том-то и дело — обыкновенный, — думал Иван. — Если бы был какой-нибудь выдающийся, семи пядей во лбу, я бы легко понял, почему она его помнит, не хочет забывать. А так — не догадаться, так в ней все останется, никого не подпустит. Вот я ее люблю, а как люблю, как с ума схожу, и она полностью-то не знает. Обыкновенное-то — самое потайное и есть, так что изводись не изводись, а терпи, люби, понимая — не понимай. Вот и мне теперь ясно, что такое «на роду написано» и с чем его едят».
Так прошел год, приближалась весна второго.
11
Напрасно Татьяна верила, что прошедшие дни уживутся с нынешними. Та осенняя горькая клятва на Сашкиной могиле «Только я и не забуду! Слышишь?! Никогда!» — с прежней силой угнетала сердце, не вытеснялась новой жизнью, сулившей одно только счастье. Напротив, чем обильнее и щедрее выказывал свою любовь Иван, тем упрямее и настойчивее отстранялось от нее Татьянино сердце. Нет, беспрекословного подчинения прошлому не было, какою-то долею сердце жалело Ивана, тянулось к нему, но оно и не рядилось с прошлым, не выторговывало у него никаких уступок: «Я буду помнить обязательно, но и ты дай послабление», — не взвешивало хладнокровно, что лучше: помнить или забыть — нет, нет, нет! Сердце разрывалось от мучительной перегрузки: невозможно жить в прошлом и настоящем, невозможно настоящее предпочесть прошлому!
Татьяна думала: «Господи! За что я его мучаю? Зачем я согласилась — ведь знала, знала: не смогу, не забуду, а он мне руки целует, Вовку от него теперь не оторвать, жалко мне его, стыдно, что любить не могу. И не скажешь — уж совсем без сердца быть, привыкать стала. А он же видит, чувствует, ему половинок не надо, ему все сердце, всю душу надо. Да и отдала бы! Но не могу, сил таких нет! Вон он как в глаза заглядывает, как спрашивает: «О чем думаешь?» Отвечать не надо, знает. Знает, да не все», — и Татьяна с тоскливым, жарким стыдом сознавала, что никогда в ней больше не вспыхнут те смешные, глупые, только для беспамятных минут слова, которые все достались Сашке, никогда она не сможет быть такой беспричинно счастливой, озорной, какой была при Сашке, не сможет так петь, плясать, хохотать, дурачиться, как это бывало с ней при Сашке. Потому что все это неповторимо. И стыдно, невыносимо стыдно даже подумать, что может забыться и вдруг засмеяться или запеть как прежде. «Вот ведь как жизнь с нами обходится! Нет, чтобы ему с девчонкой какой-нибудь повстречаться — уж как бы она любила такого! Все, все бы у него было, все бы сначала испытал, как положено человеку. А тут я на дороге, нет, чтобы отвернуть мне, стороной обойти — поддалась, отняла у парня самую сладкую пору. А с Вовкой-то, с Вовкой что будет, если я не вытерплю?! Хоть не думай совсем. Может, и не надо думать? Бывают же дни, да что там дни — недели, я совсем успокаиваюсь, и рада своей жизни, и Ивану рада. Совсем, совсем спокойная душа бывает. Если б не знала, как ее в один миг скручивает, может, и остановиться бы на этом покое… Нет, нет! Нет! Потом-то как страшно, как совестно! Будто не человек я, а дворняга захудалая: нашла теплый угол, хозяина доброго и разнежилась — лапки кверху! Ведь память-то для дела дана, не просто так! Кто же, кто же его-то помнить будет?!»
На родительский день угадал последний майский холод, с ветром и мелким ледяным дождем. До кладбища Татьяна добралась совершенно продрогшею и съежившейся, но, глянув на Сашкину карточку, коротко вскрикнула, и разом согрела ее быстрая, тяжелая волна суеверного ужаса: Сашка больше не улыбался, а смотрел как-то мутно и жалко. «Из-за меня, из-за меня! Бросила, забыла! Сашка, не надо, не буду!» Она упала на мокрую, грязную, еще желтую траву, обняла, обхватила могильный холм, не зная, как искупить, вернуть силу забытой клятве.
Потом она опомнилась, поняла: Сашка не изменился, просто дождевые потоки на портретном стекле так исказили, затуманили его лицо, но не могла уже вовсе заглушить суеверного страха и горячечного, бесповоротного раскаяния. «Сашка, Сашка! Я все помню, я буду помнить! Не думай, это не трудно — я поняла. Вон вокруг сколько людей помнят, плачут, ни дождя, ни холода не видят. И я так буду!»
12
Иван знал, что Татьяна собирается на кладбище, потому что увидел на шкафу букет бумажных бело-розовых цветов, хотя сама она ничего не сказала. Он работал в третью смену и утром, возвращаясь из котлована, все поглядывал на низкое свинцово-белесое небо: «Как она поедет? Простынет, как пить дать. Но не остановишь же — такой день». Он вспомнил неожиданно поговорку, услышанную в детстве то ли от матери, то ли от бабки: «Дождь на радуницу — не обрадуешься». И увертываясь от хлесткого ветра, согласился: «Уж это точно».
Ближе к вечеру он сбегал в магазин, купил вина, прибрал в доме, привел Вовку, они проиграли, проговорили до девяти вечера. Татьяна не возвращалась. «Да, такой день. Ни на автобус, ни на такси не попадешь. Замерзает уж, поди, совсем», — объяснил себе Иван, стараясь не волноваться. Уложив Вовку спать, собрал на стол. Татьяны не было.
Он уже надел спецовку, сапоги, завернул бутерброды — до «дежурки» оставалось меньше часа, когда Татьяна вернулась. Промокшая до ниточки, посиневшая, измученная. Иван перепугался, захлопотал вокруг нее, забегал. Растер полотенцем, переодел, напоил горячим чаем. Она молчала, а он ни о чем не спрашивал.
Глянул на часы: пора бежать,«дежурка» ждать не станет. Он разлил по стаканам вино и сказал:
— Давай помянем хорошего человека.
Татьяна бурно вдруг разрыдалась, кинулась к Ивану на грудь: «Ваня, Ваня! Какой же ты все-таки!» Он молча гладил ее плечи. «Вот уж действительно: дождь на радуницу — не обрадуешься».
До котлована он добирался пешком, да и то подмывало вернуться: когда уходил, Татьяна все еще не успокоилась, всхлипывала и без конца повторяла: «Ох, Ваня, Ваня!»
13
Утром на кухонном столе он увидел открытку, прислоненную к тарелке с завтраком. «Ваня, прощай. Мы уезжаем. Напишу потом». Он покрутил открытку, вышел в комнату, точно собирался посмотреть, как же они уезжают. В комнате в самом деле была прощальная, нежилая чистота и прибранность. Иван сначала не понял, почему же нежилым на него пахнуло, — да, вон что: ни одной Вовкиной игрушки, ни одной вместе выструганной палочки, ни одной выпиленной фанерки. Иван поверил, с бессонной, тупой резью в голове подумал о Вовке: «Как же ты, парень? Батька, папу-Ваню и продал? Не сказал, не простился…
Извини, парень, извини. Долго ли тебя уговорить, наобещать, сказать, что не успел папа-Ваня, на работе застрял, а вы, мол, скоро вернетесь. Уже, мол, простились с папой-Ваней, вчера ночью, он, мол, тебя будить не хотел. Извини, Вовка, не то подумал».
Иван вернулся на кухню, поставил открытку на прежнее место. «Ваня, прощай…» Вот те раз. Как прощай? Куда уезжаем? Да ладно тебе, папа-Ваня. Все ты замечательно понял. Не смогла больше, не вытерпела… То-то она так ревела. Видно, уже решилась. Может, не ушел бы — не уехали? Может, уговорил бы? Вот и «быкай» сиди, гадай: может да может. Да она что?! Как же я без Вовки-то?! Скворечню вот собирались делать… «Потом напишу» — рассудила, решила, а я-то, я-то куда уеду?!»
Он хотел подняться, бежать на вокзал, в порт, узнавать, догонять, возвращать, посылать телеграммы, но сидел и сидел — так невозможно огрузла, каменно потяжелела душа.
Сквозь жидкие стены донесся из чужой квартиры голос диктора: «Местное время четырнадцать часов». Иван вспомнил, что в три должен быть в подшефной школе, его очередь. «Пойду, пойду. Обязательно пойду!» Он бросился в ванную, побрился, вымылся, наодеколонился, надел белую сорочку с галстуком, парадный костюм.
В школе, оказывается, проходила встреча с людьми интересных профессий, и от Ивана требовался «краткий, но романтичный рассказ (слова молоденькой учителки, ответственной за встречу) о самой мирной на земле профессии». Иван сидел в президиуме, но не слышал, как хвалили свою работу врач, журналист, машинист электровоза, а вместо ребячьих лиц видел белые смутные пятна — все пытался утихомирить раздраженно-усталую голову, которой досаждала дикая, неизвестно откуда взявшаяся мысль. «Вот сейчас возьму и скажу: при чем тут профессии? Дела всякого и на всех хватит. Вот жить вас никто не учит. А это главное. От меня сегодня жена ушла — тошно так, хоть вой. И никакая профессия тут не поможет».
Но, конечно же, справился с собой.
— Дорогие ребята! — сказал Иван. — Выбрать дело по душе разговорами не поможешь. Дело надо руками пробовать. Приглашаю вас в бригаду, тем более каникулы у вас скоро. И дело узнаете, и заработок будет. С этим ясно. Мне другое дело поручено вам предложить. Мы хотим памятник погибшему бригадиру поставить… Это был такой человек! Замечательный! Его так любят… Все любят до сих пор. Он, может, и не герой был. Обыкновенный строитель. Рядовой, как в газетах пишут. Но ведь и рядовому памятник должен быть. Вот вы и помогите нам. И, может, сразу поймете: кем вам быть.
«Вот понесло меня, — выйдя из школы, равнодушно, будто не о себе подумал Иван. — Таборов узнает, взбесится, тем более школьники согласились. А может, и не взбесится, когда узнает. В самом деле, памятник надо. Вон она его как любит. До сих пор». Он заторопился куда-то, как на пожар, аж легкие закололо. Только что не бегом мерил и мерил ветреные, холодные улицы. На одной его окликнули.
— Ванька! Ты на мастера, что ли, сдаешь — не догнать?
Запыхавшийся рыжий парень заспешил рядом — когда-то жили вместе в общежитии.
— А, Коля, привет!
— Вань! А я у тебя дома был. Еще собирался зайти. Холодильник покупаю, сотню не займешь?
«Какой холодильник? Вот сейчас возьму и скажу…»
— Пойдем, посмотрю. Если остались. Если есть, займу.
На лестничной площадке его караулила соседка тетя Дуся, болезненно толстая старуха, не выпускавшая папиросы изо рта.
— Ваня, сынок! Пожалей старуху, помоги ковер выбить.
«Какой ковер? А! Никуда не денешься!»
— Минутку, тетя Дуся. Вот товарища провожу и займусь.
Позже он спросил у нее, спросил спокойно, устало, нисколько не напрягаясь при этом обмане:
— Не видела, как мои уезжали? Не мог со смены раньше уйти и не знаю, такси-то пришло? Прямо изнервничался весь!
— Пришло, пришло. Я из окошка видела. Тоже удивлялась, что тебя нет.
«Ясно. Самолетом уехали, потому что до вокзала и без такси рукой подать».
Он побывал в аэропорту, походил по залу, заглянул в комнату матери и ребенка, в диспетчерскую — дежурил знакомый мужик, и Иван собрался уже спросить: «Моих не видел? — но раздумал, осторожно прикрыл дверь и поехал домой. Он понял, что будет молчать, пока не признает, не узаконит вслух Татьянин отъезд, до тех пор можно будет надеяться. Только молчание теперь связывало их.
Дома он напился горячего чаю, и его сморило — задремал прямо за столом. Увидел Вовку, который спрашивал: «Папа-Ваня, ну, как ты там? Хвост пистолетом? Смотри. А не то живо — два подкручу», — увидел и себя, когда он говорил Вовке точно такие же слова.
Очнулся с липким потом на висках и на лбу. Губы запеклись, и во рту скопилась кислая горечь заспанной, но не забытой беды.
— Папа-Ваня, что же ты? — вслух спросил Иван. — Как теперь-то будешь? А? Папа-Ваня?
Пора было собираться на смену. Ветер стих, зеленоватые майские звезды холодно и аккуратно заполнили очистившееся небо, схваченная последним заморозком земля твердо ударяла в подошвы — дни теперь пойдут сухие и жаркие.
«Дежурка» уже стояла на углу. Иван открыл дверцу, чуть подождал на подножке, пока не покачнулись, не потеснились широкие спины, и втиснулся в веселый, прокуренный холод.
ПОМОЛВКА В БОГОТОЛЕ
1
Звонил старый товарищ:
— Григорий Савельич? Привет, Гриня-я! Голос у тебя — медь, бронза. Потяжелел, потяжелел!
— У, Дима! С приездом. Это от волнения — тебя узнал. Ты куда пропал?
— А! Долго рассказывать. Пластаюсь и света белого не вижу. Ты-то как?
— Служу, Дима, служу. Дом, работа, в смысле бумаги, дом. Тихие бюрократические радости. Ты ведь что-нибудь клянчить приехал? Ну, вот. А прежде чем клянчить, угостить надо канцелярскую крысу, ублажить подьячего зеленым вином.
— Гриня! Верь не верь — за тем и звоню. Приходи, посидим. Я хоть душу отведу — поподхалимничаю. Я в «Центральной» остановился.
— Смотри-ка ты. В «Центральной». Как это тебе удалось?
— Ну, Гриня. Много будешь знать, скоро состаришься. У каждого свои связи.
— Не хочу стариться. На совещании завтра будешь?
— А куда я денусь. Ты хоть представляешь, что я собираюсь клянчить? Ты хоть представляешь, что нужно для нашего Аргутина?
— Не представляю. Но это не помешает мне навестить гостиницу «Центральная».
— Гриня! Штопор уже в руках.
Григорий Савельич Кузаков, инспектор облздравотдела, глянув на часы, недовольно поморщился: до конца рабочего дня еще далеко, придется врать или, утешительно выражаясь, прикидываться.
Зашел в приемную, подождал, пока Сонечка, секретарша, оторвется от телефона.
— Занят благодетель-то? — он кивнул, нет, неприязненно дернул головой в сторону черной огромной двери.
Сонечка утвердительно прикрыла веселые глаза.
— Тогда, будь добра, в случае чего, передай, я — в центральном райздраве. — Григорию Савельичу стало тошно от этого мелкого, какого-то рассыпчатого вранья. — Впрочем, скажи, что я неважно себя чувствую.
Он пошел, но Сонечка выглянула из приемной, окликнула:
— Григорий Савельич! Все-таки что же передать? В райздраве вы или неважно чувствуете?
— Как язык повернется, так и скажи.
Вечер был сентябрьский, ясный, чуть тронутый морозно-сиреневой дымкой. «Ну ладно. С глаз долой… Ушел и ушел», — Григорий Савельич нарочно зашагал по краю тротуара, по ворохам желтой, упругой листвы — каждый шаг, казалось, поднимал из нее, освобождал холодно-горчащий, печальный дух, вытеснял из Григория Савельича все раздражение, весь дневной нагар.
Зашел в магазин и вскоре стучал в номер Дмитрия Михайловича.
Обнялись, бестолково потоптались, отчего-то смутились, растерянно загмыкали — видимо, годы, густо уже затенившие студенчество, как бы замедляли, притормаживали былую, юношескую искренность, каждой встречей все более подчеркивая ее неловкость и неуместность.
Поэтому с излишней поспешностью чокнулись. «Со свиданьицем». — «Давай».
У Дмитрия Михайловича припотел лоб, и вскоре все его белобровое, конопатое, курносое лицо подернулось румяным, благостным лоском. На Григория Савельича первый хмель произвел, напротив, некое дисциплинирующее, одухотворяющее действие: смуглые его, слегка брыластые щеки сухо и горячо поупружели, лоб побледнел, очистился от морщин и словно прибавился.
— Ну что, Гринь? — Дмитрий Михайлович вольно и счастливо размяк в кресле. — Еще по одной? У меня и тост запасен. Между прочим, собственного изготовления. В последние месяцы я по уши в разных хлопотах был. То одно, то другое, и дергался, дергался, как заведенный. Однажды до того замотался, что сел на чурбак посреди больничного двора и вслух спросил себя: неужели есть на свете человек, у которого все хорошо и ладно?.. Внимание, Гриня! Сосредоточься. Предлагаю выпить за то, чтобы нам было хорошо, а им плохо!
— Кому — им?
— Всем, кто нам мешает жить и спокойно работать. Всякой чуди, всякой небыли, неживи. У нее одна забота. Чтобы волчком мы вертелись и подумать не успевали — в какую сторону вертимся.
— Уж не я ли эта неживь? А? Смотри. Ладно, ладно, годится. Пусть им будет плохо! — Григорий Савельич шумно приложился к корочке. — Замечательный тост. Мне уже почти хорошо. И все-таки, Дима, хочу попечалиться. Могу?
— Даже обязан. Без разрешения ты теперь ни шагу? Бюрократический рефлекс?
— Наверное. Я же теперь наподобие чиновника для особых поручений. Поручают — делаю, не поручают — сижу, бумажки листаю. Благодетель-то мой — очень неторопливый человек. Помнишь, какими коврижками он меня из факультетской клиники сманил? «Наплюйте вы на эту ассистентскую возню. Поработайте со мной пару лет, понюхайте административного пороху, и я больницу вам дам, хорошую, большую, трудную. Там диссертации по коридорам ходят». Понимаешь, Дима, я ему верил, как себе. Учитель, ученый, уважаемый… Три «у», как я его звал… Так вот. Администраторские учения мои очень и очень затянулись. Благодетель забыл все обещания, а я, по робости, не напоминаю. Сочиняю бумажки, проверяю больницы, разбираю жалобы. Стал этаким бюрократическим недорослем.
— Может, просто всерьез натаскивает?
— Не похоже, Дима. Просто ему удобно иметь под рукой верного и, как он считает, обязанного человека. Честное слово, кляну тот день, когда согласился. Надо было, как ты. Махнуть в район. Сейчас бы вкалывал в каком-нибудь райлечобъединении и был бы счастлив. Сам бы садик садил, сам бы поливал.
— Гриня! Ты меня взял и на небеса закинул. Надо же! Позавидовал моей круговерти. Давай-ка примем по этому поводу.
— Правда что. Хватит душу на кулак мотать. Теперь слушай такой тост: за перемены, за проклятую терпеливость, которая нас погубит.
В дверь постучали с негромкой твердостью.
2
Дмитрий Михайлович подхватился:
— Ох ты, совсем забыл! Со мной же еще зав. физиотерапией. — Кинулся к двери: — Заходи, заходи, Ирина Алексеевна. Гостьей будь, знакомься.
Правильное, строгое лицо, тонкий, нервный нос, зеленовато-прозрачные глаза под темно-шелковыми бровями — это почти совершенное лицо не позволяло поначалу разглядеть ее крупноватую, плотную фигуру. Она молча протянула узкую ладонь, с внимательной холодностью встретила взгляд Григория Савельича, внимательно же, с ощутимой крепостью ответила на рукопожатие, как бы уберегая Григория Савельича от вспышки избыточного радушия.
— Вот, Григорий Савельич, прошу любить и жаловать. Мой боевой товарищ, очаровательнейшее создание… Извини, Ирина Алексеевна, он ведь может не разглядеть. Бюрократ, чинуша.
Она прошла, села в кресло у окна и оттуда спокойно посматривала на них, словно удивлялась: откуда взялись эти суетящиеся, распаренные мужчины? Григорий Савельич вдруг ощутил, что улыбается через силу — аж щеки сводило неловкостью, — отчего-то задело, уязвило его беззлобное «бюрократ» — не к месту ввернул его Дмитрий Михайлович, какою-то унизительною горечью отдалось это слово в Григории Савельиче. Чтобы скрыть внезапную, сиюминутную уязвленность, он заулыбался еще шире, радушнее, вдруг в пояс поклонился Ирине Алексеевне.
— Да, да, да! Давайте любить и жаловать друг друга. Чем вы меня пожалуете? Крысу канцелярскую? А, Ирина Алексеевна? Позвольте ручку! — Григорий Савельич быстренько просеменил к креслу, ткнулся, чмокнул белую руку, замершую на подлокотнике.
Отскочив, захохотал:
— Все, все! Куражусь, Ирина Алексеевна. Но над собой! Не сердитесь. Все очень просто. Да, да, да! Просто был рад познакомиться с вами. Дима! Приглашай боевого товарища к столу.
Она и бровью не повела в его сторону — не слышала, не видела, не знакомилась минуту назад. Чуть подавшись в кресле, обернулась к Дмитрию Михайловичу, выговорила:
— Так-то вы теперь доклад мой посмотрите, Дмитрий Михайлович. Знала бы, в театр пошла. Запомним, учтем. Вечер теперь за вами. Отпустите в город по первому требованию. — И улыбнулась яркими, безупречно вырезанными губами, при этом белый лоб Ирины Алексеевны отметила легкая, недоуменная морщинка.
У Григория Савельича неожиданно дрогнуло, погорячело сердце — показалось ему: никогда и никто не улыбался с такой прелестной смущенностью.
— Бог с ним, с докладом, Ирочка. Перед началом заглянем, пробежим. В самом деле, подвигайся. Хотя подожди. — Дмитрий Михайлович ухватил ее кресло за подлокотники и подтянул к себе. — Вот так. Емелю вместе с печкой. Про вечер, Ирочка, забудь. Вечерами надо встречаться с товарищами.
— С товарищами по работе, да? Пить водку и говорить о той же работе?
— Ничего подобного! Пить водку во славу товарищества. Душой пылать, чтоб оно не кончалось. — Дмитрий Михайлович запел. — Старый това-арищ бежать пособил… Ну, Ирочка, поддержи.
— Дайте передохнуть, Дмитрий Михайлович. С порога — и петь. Может, и сплясать заодно? Как говорят в нашей деревне, легче на поворотах.
Григорию Савельичу уже непереносимо было видеть ее чеканное, чужое лицо — хоть бы тень приязни, внимания и любопытства к их случайной и мимолетной встрече. Одолело странное, какое-то призрачно-вязкое желание хоть на миг, на секунду проникнуть в ее судьбу, участливо приблизиться к ее жизни — неожиданная, парящая прихоть эта изумила Григория Савельича, влажным холодом прошлась по вискам.
— Завидую, Дима. Смотрят на тебя совсем не по-товарищески. — Сам оторопел от этого грубого вздора, поспешил замять, исправить, но вышло еще хуже. — Прямо ест начальство глазами.
Ирина Алексеевна наконец заметила его.
— Понимаю, помешала. Очень некстати пришла. Вы это хотели сказать?
— Нет, нет! Из-за вас решительно поглупел. Просто-напросто обидно мне стало. Будто не со мной вы познакомились, а с Димой. Говорите и говорите — давно не виделись. — Григорий Савельич перевел дух. — Кстати вы, Ирина Алексеевна. Даже не представляете, как кстати. Мы тут головы друг другу морочили, угрюмство такое развели — спасу нет. А вы рассеяли, осветили, смысл появился в нашем застолье. Вот! За великий смысл, таящийся в женщинах! За вас, Ирина Алексеевна!
Она улыбнулась ему, но бегло, не как давеча Дмитрию Михайловичу, ну, да и такой улыбки хватило, чтобы не ежиться от неловкости.
— Спасибо. Значит, вы — обидчивый? И часто вы обижаетесь?
— Я не обидчивый. Я — искренний. А искренним тяжело быть. И потому тяжело, что смешно. Да, да, да! Искренний человек всю неловкость душевную выставит, все неровности сердечные, а это смешно, предосудительно по теперешним временам. Сейчас сдержанность в ходу, ирония, умолчания всевозможные. К чему я это? Извините, христа ради, заговорился. Молчу, не буду. Буду лучше на вас смотреть!
Он уже стыдился своего «яканья», неуместной горячности, но, успокоившись, все же ждал с неожиданной слабой дрожью в горле, как же отзовется Ирина Алексеевна, и заранее мучился, что она сведет его откровенность, пусть ненужную и глупую, к шутке, к какому-нибудь ничтожному застольному междометию.
— Не надо извиняться. — Она с серьезным, несколько задумчивым доброжелательством смотрела на него. — Напрасно вы так. Верите в искренность и стесняетесь ее. Ведь, правда, верите? Или к слову пришлось?
— Верю. Еще как! — счастливо севшим голосом сказал Григорий Савельич. И тут же рассмеялся: — Беда с этой искренностью. Сейчас так ею проникся, горло перехватило. Верю, Ирина Алексеевна, верю. Всякому зверю, а себе — ежу — малость погожу.
Она рассмеялась, тоже коротко и негромко.
Дмитрий Михайлович поднялся, навис над столом, распахнул, распростер руки и, эдак легонько убаюкивающе дирижируя ими, зашептал заклинающе, с придыхом на каждом слове.
— Вот-и-хо-ро-шо! Свер-ши-лось чу-до: жен-щи-на по-ня-ла муж-чи-ну. Бе-гу в бу-фет. Приветствую вас. — На пороге Дмитрий Михайлович обернулся и пропел: — Не верь, не верь поэту, дева. Страшись поэтовой любви… Ирочка, не говори после, что я тебя не предупреждал. Как человек и как начальник.
— Не скажу. Ни за что!
— То-то же.
Посидели, помолчали, точно дожидались, когда стихнут шаги Дмитрия Михайловича. У Григория Савельича в лад им тукало сердце, точно перед каким-то волнующим, серьезным испытанием.
— Вот вы говорите, — вдруг нарушила она молчание, — искренность смешна сейчас. Не знаю. По-моему, быть искренним — очень страшно. И говорить, что думаешь, и не скрывать, что чувствуешь, — очень смелым надо быть. Видно, потому так и тянет к ней. Прямо как к огню ночному. Кому погреться охота, кому — потушить, чтоб пожара не вышло.
— Еще и потому тянет, что она редка. Искренни дети и старики. А между детством и старостью — целая жизнь, забитая до отказа словами, чинами, обязанностями, правами — некогда быть искренним или невыгодно. Или невозможно. Конечно, тянешься к ней. Исключительное явление. Хотите быть искренним человеком? Соглашайтесь! Немедленно зачислю, произведу, присвою это звание.
— Боюсь. Недостойна. Нет, нет, нет. Пощадите! — Теперь и ему досталась улыбка, сопровожденная очаровательно-горькой, недоуменной морщинкой на лбу. Григорий Савельич подумал, что жизнь Ирины Алексеевны, еще неизвестная и далекая, все же сейчас придвинулась к нему, и, выходит, недаром томился он внезапным желанием угадать в Ирине Алексеевне близкого человека. Угадал, нашел, допущен к соучастию хотя бы в одном ее вечере, и вроде никакой карой соучастие это не грозит.
3
Поначалу его смутил голос Ирины Алексеевны — беспокояще-высокий, чуть надламывающийся, — точно она только что нервничала, волновалась, не могла остыть после ссоры или иной неприятности. В разговоре особенность эта примелькалась, забылась, но вот остались одни, она улыбнулась, попросила: «Расскажите что-нибудь. Или искреннее, или интересное», — голос волнующе надламывался на этих «или» — вновь почудилось Григорию Савельичу, что неспокойно, неровно на душе Ирины Алексеевны. Может быть, почудившееся каким-то краем заденет его, окрылит, мало ли какую неожиданность сулит этот голос, и вовсе не лишне приготовить, смягчить сердце, снять с него будничные, утомительно-прочные узы или хотя бы ослабить их.
Но вернулся Дмитрий Михайлович с охапкой свертков, кулечков, пакетов, шампанское чуть не отрывало полы пиджака, нацеленно сияя из карманов. С прибаутками, с новым приливом компанейского воодушевления принялся благоустраивать стол, Ирина Алексеевна помогала ему. Вдруг оцепенев, с отстраненной, уменьшающей размеры ясностью, следил Григорий Савельич, как они бесшумно, с этакой лунатической замедленностью двигались. Встряхнулся, очутился в гостиничном номере, рядом со старым, с институтских времен, товарищем и незнакомой женщиной, обладавшей странным, не слышанным прежде голосом. И понял Григорий Савельич: ни к чему угнетать сердце пустыми причудами, поддаваться минутному празднику — ни к чему, — будни, продолжаются, продолжаются и торжествуют. На душе стало скучно, нехорошо, сухо.
Не мог он, не хотел согласиться с этой скукой и сухотой.
Поднял стакан:
— Еще немного об искренности. Мы, Дима, все о ней без тебя рассуждали… Я без ума от вас, Ирина Алексеевна, уж позвольте признаться! И голос ваш! И лик!.. Как когда-то говаривали — порфироносный. — Григорий Савельич выпил до дна, справился с колким холодом в горле: — Можно я вас полюблю, Ирина Алексеевна? Для души, для высшего смысла? Впрочем, не соглашайтесь. Я буду любить вас немо, поклоняться издалека, и даже приветов, вот с Димой, передавать не буду.
Дмитрий Михайлович глаза выпучил, жевать перестал, но, опомнившись, с подчеркнутым добродушием похвалил:
— Молодец. Ошалел знатно. Извини, Гриня, я уж отвык от таких театров. Живем просто, без стрессов. Окружающая среда нас не отравляет. Что, Ирочка, притихла? Все нормально. По науке. Акселерация чувств. Раньше, прежде чем перед дамой на коленки бухнуться, знаешь, какие страсти надо было пережить. Сейчас все спрессовывается, сейчас густо все идет.
Она холодно, негодующе покраснев, вновь не видела Григория Савельича, не было его больше в этой комнате.
— Что-то уж слишком густо… Так густо… Хотя ладно. Пора мне, Дмитрий Михайлович.
А Григорий Савельич торопился сжечь побольше слов, темнея сердцем от их невероятного, только что пришедшего жара.
— Обиделась… Ирина Алексеевна обиделась. И правильно! Прокляните меня, возненавидьте! А я стерплю, спасибо скажу, душой распластаюсь. Хоть кому-то до меня дело будет. Хоть кто-то отметит, меня отметит. Ирина Алексеевна! Вы неравнодушны, и это замечательно! Ведь я вспоминаться вам буду. Болью, оторопью, злом отзовусь. Но отзовусь!
Она уже собралась, никак не могла справиться с тугой пуговицей на плаще: та выскальзывала, не поддавалась белым, вздрагивающим пальцам. Дмитрий Михайлович дружески, останавливающе взял за плечи Григория Савельича:
— Ох, ты нынче и словоохотливый, Гриня! Кончай. Пошли, проводим Ирину Алексеевну.
— Не нужно, — надломился, угас ее голос.
— Ирочка, не вздумай одна уходить. На улице легче станет. Пройдемся, остынем. И так далее.
На улице, в сентябрьском шуршаще-ночном просторе, Григорий Савельич долго, упрямо сопя, молчал, с непонятным упорством вглядывался в проходящие машины, потом кинулся за одной:
— Вот видите! Видите, Ирина Алексеевна! Даже на машинах ваше имя! — машина приостановилась на перекрестке, и действительно, при красных вспышках можно было разглядеть номер: «ИРА-39-60».
Григорий Савельич восторженно раскинул руки, загораживая дорогу Ирине Алексеевне и Дмитрию Михайловичу.
— Везде, все о ней напоминает! Люблю вас, Ирина Алексеевна!
Она угловато, неловко обошла его, прибавила шагу. Дмитрий Михайлович, крутя головой, покряхтывая, смущенно похохатывал:
— Ну, орел, ну, кречет. Не миновать нам сегодня милиции. Ирочка, не беги ты так. Ну, что теперь делать?
Дом, в котором она остановилась, был обращен подъездом к набережной. Григорий Савельич никак не хотел уходить от подъезда, задирал голову, кричал:
— Спокойной ночи, Ирина Алексеевна! Не забудьте: я вас люблю! — Крики его далеко раскатывались над невидимой пустынной рекой.
4
Утро пришло темное и нехорошее. Аня, жена, не хотела его видеть и знать. Напряженным, повышенно ласковым голосом говорила с Колькой, собирая его в детский сад. Он, сонный, надутый, сидел на обувном ящике, не видя совал ноги в ботинки и обиженно бурчал:
— Хоть бы раз дома оставили. Никогда в жизни досыта не спал. Так разве вы разрешите….
— Что ж ты спишь, мужичок. — Аня присела перед ним, поймала его ногу. — Ты не спи, с ноготок. Не ворчи, старичок. — Обула, чмокнула в пушистую, сонную щеку. — Готово! И прошу тебя, не дразни больше Лену Сергееву. Какая она тебе бочка?
— Она толстая. И обжора. И сама первая меня обозвала.
— Интересно! — бодро вклинился в семейную жизнь Григорий Савельич. — Как же она тебя припечатала?
— Колька-свистун. Какой я ей свистун?
— Вот те раз! — рассмеялся Григорий Савельич. — Почему свистун? Врешь, поди, много?
— Почему, почему? — опять обиженно забурчал Колька. — Ничего не помните! — Он быстро, по-заячьи вздернул верхнюю губу, смешно наморщив нос. Передние зубы давно выпали, но новые почему-то даже не пробивались. — Я говорю, а в дыру-то свистит! Я виноват, да?
Теперь рассмеялась Аня:
— Талала беззубая. Бедненький свистунчик мой. Плохо ты у мышки просил. Давно бы выросли, и никто бы не дразнил. Все равно, Колюха, больше Лену не задевай. Вообще никогда не обижай девочек. А то привыкнешь обижать, что из тебя получится? Грубое, бессердечное существо. Договорились? Что такое существо? Ладно, Колюха, пошли чай пить. Папа тебе по дороге объяснит.
Григорий Савельич отошел к окну. «Так, так, так. Начинается. Прямой наводкой по бессердечному существу. По грубияну и полуночнику. Оч-чень хорошо. Прощенья нет и не предвидится».
Подоконник был завален конфетными коробками, шоколадной фольгой, расправленными конфетными обертками — Аня работала детским врачом, и каждый вызов непременно заканчивался этакой вот, по ее словам, «кондитерской взяткой» — данью перепуганного и утешенного родительского сердца. Аня говорила: «Им кажется, я жую шоколад с утра до вечера. И отказаться невозможно. Насильно всунут. А не берешь, значит, к чаду их равнодушна. Умора! Сегодня мальчишечка один, славненький, остренький такой, увидел, как шоколадку мне дают, позаботился: «Ох, сладкоежка! Язык приклеится, и зубы заболят».
Колька ревниво спрашивал:
— А ты что сказала?
— А я ему — укол.
— А он?
— Спасибо, тетя, приходите чаще.
— Ну уж.
— Не веришь? Матери родной не веришь?! Снимай штаны. И тебе будет укол!
— Верю, верю! — кричал Колька и прятался за отца. Выглядывал осторожно. — А сейчас опять не верю!
Аня наступала, пыталась выудить Кольку из-за отцовской спины, а Григорий Савельич, легонько обнимая ее счастливо сопротивляющееся тело, грозно басил:
— Не дадим в обиду Колю! Он достоин лучшей доли!
«Надо бы помириться, — решил Григорий Савельич. — Худо-бедно, надо». Он чуть отвернулся от окна, вскользь глянул, чем занята Аня. Она переодевалась за дверкой шкафа. Выставлялись, округло двигались нежные, полные локти. Ане стало тесно за дверкой, она попятилась, и Григория Савельича обдало этаким домашним безгрешным теплом, веявшим от ее розово-белых, полных плеч. Он неслышно скользнул к ней, поцеловал в плечо — упругая, прохладная после недавнего умывания кожа была освежающе шелковиста.
Аня резко отстранилась, отгородилась от него кофтой.
— Перестань! Противно. — Натягивая кофту, она запуталась, не сразу нашла рукава, еще более раздражилась, но также шепотом, чтобы не слышал Колька, добавила: — Шляешься где-то! Весь опухший, нечистый какой-то, смотреть не могу. — От шепота этого зеленая, пушистая ость кофты вроде как неэлектризовалась, нацелилась на Григория Савельича тоненькими иголками.
— Сразу — шлялся… Не сердись уж, ладно? Что уж теперь…
Аня, отодвинув его, пошла к зеркалу, он попробовал остановить, обнять, она не позволила.
— Приехал Димка. Проговорили — оглянуться не успел. Ну, чего ты, в самом деле.
Аня не отвечала и, видимо, не собиралась отвечать, хоть краем входить в его объяснения.
Григорий Савельич огорчился: не оценен его порыв, и весь день пройдет под гнетом этого Аниного неудовольствия. Он будет думать о примирении, омрачаясь всякий раз, как подумает о нем, примется звонить, насильно шутить — она, отвечая из людной и шумной регистраторской, будет держаться просто и весело, он утешится, что помилован, и — напрасно: дома его встретит непереносимое молчание. Аня не терпела неуравновешенности в семейной жизни и воевала с нею, как могла: выговаривала, беззаветно ссорилась, надолго отлучала от себя. Григорий Савельич тоже не терпел этой неуравновешенности, хотя всегда бывал причиною ее, но всегда считал, что Аня преувеличивает его провинности, чересчур яро и непримиримо восстает против них.
Григорий Савельич вернулся к окну, раздраженно, громко поворошил шоколадную фольгу, коробки, обертки, Колькины «фантики» — они посыпались, зашуршали по полу.
— Передай, пожалуйста, своим дарителям, что твой муж ненавидит сладкое. Он обожает «Столичную» и «Жигулевское» пиво. Могли бы, если уж так им нравится, вместо шоколадки подносить пару пива. — Подождал, не откликнется ли Аня. Нет, не захотела. — Как ты относишься к этой мысли, Анна-мучительница? Анна Ивановна, отвечай. Слышишь, Анечка-Ванечка.
Вроде вздохнула, вроде сказала тихонько: «Отвяжись ты ради бога» — или послышалось? Что ж, действительно пора отвязаться.
— Колька, готов? Помаршировали.
5
Было уже ясно, просторно и весело. Перед рассветом погуливал морозец, посвистывал, перекликался с далеким, тонким месяцем, а теперь отступил, затих чистым и легким инеем на зеленой хрусткой траве, на желтых березовых листьях. Бодро ежились-корявились голенькие тельца кленов, высаженных совсем недавно. Далеко, то ли у пристани, то ли в прибрежных огородах, жгли костер — его вольный дух распространялся по сентябрьскому утру, с какою-то неизъяснимой грустью подчеркивая и выявляя его ясный простор.
И в такое утро Григория Савельича томила какая-то душевная неопределенность, какая-то безотчетная боязнь, неожиданное одиночество, точно утро это вытолкнуло его, выдвинуло своей прозрачной силой на некую пустынную вершину: кричи, зови — никто не отзовется; беги, иди — никто не ждет. Рядом люди, птицы, крики, новый стремительный день, над головой — живой, повлажневший багрянец, и в то же время все далеко, все сторонится его и проносится мимо. Как освободиться от этой странной, непроглядной тревоги?
— Колька, вас на прогулку в рощу водят?
— Дождя нет, так водят.
— В рощу?
— В рощу.
— Слушай, Колян! — Григорий Савельич удержал его за руку, присел, чтобы Колька видел, как он серьезен. — Там же обрыв — я помню! Там до дна метров двадцать будет. Колян! Я тебя очень прошу — не лезь к обрыву, близко не подходи. Вывернется глина или камень бросать будешь. Размахнешься и не удержишься. Что тогда будет? — Григорий Савельич зажмурился и больно сжал Колькину руку.
Тот вырвался, подул на слипшиеся пальцы.
— Вниз полечу. Вверх тормашками. Ну, чего вот сдавил? Даже зло взяло.
— Хоть домой поворачивай. Ты представляешь, что ты говоришь?! Сейчас же попрошу Аллу Семеновну, чтоб тебя в рощу не брали!
— А куда меня денут?
— В ограде будешь сидеть.
— Меня же трусом задразнят.
— Не тебя, а меня. А я как-нибудь переживу.
— Да мы в другом углу играем. Никто нас и не пускает к обрыву.
— Серьезно, Колян. Не лезь ты туда. Страшно мне, можешь ты это понять?
— Могу, могу! Ку-ку! — Колька запрыгал нетерпеливо, потянул Григория Савельича. — Вот опоздаем, тогда узнаешь. Бояка-собака.
— Ладно. Ты прав, а я, как всегда, нет, — Григорий Савельич вздохнул — ему бы сейчас безоблачную Колькину душу.
Долго ждал автобуса, но, увидев медленный, разбухший, как бы ощутив жару и тесноту в нем, отступил, отправился пешком. По-прежнему мешало несогласие этого тихого, славного утра с тревожною, темной мутью в душе.
Попробовал вытеснить ее раздражением против Ани, против женской вздорности. «Обязательно надо сцену устроить! Ведь и себе душу травит, не только мне. Ну, где здравый смысл? Больше сама изведется. Будто первый год живем! Пока хорош — любит, не хорош — не любит. Но любовь-то, елки, все равно остается! Пора бы уж и поумней быть. Великодушней пора быть — вот что! А то никакой милости, сразу казнь. Великодушие-то, может, больше бы меня мучило. Как не совестно, в самом деле».
Но сквозь раздражение то и дело проглядывала трезвая, простенькая мысль, что, в сущности, если бы не Аня, не ее неутомимые старания видеть в нем порядочного и добросовестного человека, то еще неизвестно, в кого бы он превратился со своею склонностью к застольям, пирушкам, пикникам и прочим праздным забавам. «Не обрывала бы на каждом шагу, не восставала бы против каждого пустяка, так я уж давно бы самим собой стал. Плохим, хорошим ли, но самим собой» — так уж жалобно получалось, что Григорий Савельич побыстрее отвлекся.
Навстречу шла женщина, должно быть, недавно смеявшаяся чему-то или чем-то обрадованная. На ее румяном, веснушчатом лице жили еще отблески улыбки: подрагивали губы, чуть удивленно открылись, разлетелись брови, в черных глазах сохранялась веселая ласковая влага. Григорий Савельич неожиданно подумал, что женщина с таким открытым лицом никогда не мучает мужа подозрениями, не угнетает бесцельными ссорами, она добродетельна и всегда сострадает мужчине. Как и положено. Вот если бы судьба могла сдавать назад, шла бы при нужде на попятный, то он мог оказаться сегодня мужем этой женщины. И уж, конечно, она не стала бы омрачать такое утро раздором. Все бы простила, обняла, утешила, осветила бы его состояние теперешней мягкой улыбкой.
«Да, забавно, если бы что-нибудь такое выдумали. Раз — и пожалуйста: другая жизнь, другая жена, другие страсти… Вчера я все-таки отвратительно себя вел. Эти объяснения, эти крики ночные — ну надо же таким идиотом быть! Она — удивительна, чудо какое-то, а я обхамил, нагличал — ой-е-ей!»
Он чуть не бегом припустил к клубу медиков, чтобы успеть повидать Дмитрия Михайловича и Ирину Алексеевну. Дмитрия Михайловича нашел в курилке.
— Дима, доброе утро. Если оно, конечно, доброе. Слушай, я головой готов биться — стыд, Дима, жуткий.
— Да ты уж не убивайся так-то. Почудили, покутили — обойдется, Гриня.
— Да, да, да, утешай. Ирина Алексеевна-то где? Как я ей в глаза посмотрю?
— В зале. Серьезно, Гриня. По размышлении трезвом и зрелом мне даже понравилось вчера. Совсем уж закостенели. А тут живая жизнь. Нет, ты молодец.
— Брось ты!
Когда окликнул Ирину Алексеевну, она вздрогнула, испуганно отпрянула. С какою-то горячей отчужденностью зазеленели глаза.
— Здравствуйте.
— Ирина Алексеевна, об одном прошу: не думайте обо мне дурно.
— Я никак не думаю.
— Мне так стыдно, что зареветь могу. Извинить не прошу — все ужасно. Если можете, взгляните на вчерашнее как на забавное приключение. Я не хотел вас обидеть, правда-правда. Могу на колени встать. От глубокого раскаяния.
— Нет, нет! — она приподнялась в кресле. — С вас станется. Хорошо, Григорий Савельич. Пусть забава. Пусть приключение. Не будем вспоминать, бог с вами.
— Спасибо, Ирина Алексеевна, на добром слове. Вернее, за доброту спасибо. Странно все же человек устроен. Минуту назад мне достаточно было вашего прощения. А вот вы сказали: не будем вспоминать — и стало грустно. Встретились два человека и не будут вспоминать друг друга. Вам не грустно?
— Перестаньте, Григорий Савельич. Что же вы? Снова?..
— Сам не знаю. Может, вчера я говорил правду. А сегодня ее боюсь. Ладно. Извините.
— Будьте здоровы.
6
Через два дня он увидел ее на автобусной остановке. Ирина Алексеевна стояла под желтым сквозящим тополем, несколько в стороне от толпы. Задумалась, потупилась; не слышала скользнувшего по рассыпанным волосам листка — очень одинокой была сейчас Ирина Алексеевна. Он увидел ее, объятую прощальными, желтыми листьями, и за ней — далекое, прозрачно-зеленоватое небо, полого замыкающее улицу. В душе Григория Савельича захолодело что-то, стеснилось. «Потом все рухнет — листва станет жесткой и ломкой, дымом загорчит, истает. А сейчас ничего не разымешь, сейчас смотреть бы да смотреть — морок какой-то, даль недостижимая. Надо же! Как чисто очерчивает ее небо!»
Подошел, поклонился, хотел сказать что-либо приветливо-простое, но вышло с натужной веселостью:
— Батюшки! Ирина Алексеевна! Я уж и не чаял вас увидеть. Да, да, да! Рад, и очень. А вы, поди, и смотреть на меня не можете?
Ее холодное, тонкое лицо медленно порозовело. С пристальным раздумьем посмотрела на Григория Савельича, вроде бы не сразу узнавая.
— Почему не могу? Что вы, Григорий Савельич! — опять этот странный, взволнованно-надламывающийся голос. — Вовсе нет. Я не ждала. Но теперь вот вижу, и, представьте, никаких отрицательных эмоций. — Она улыбнулась, этак негромко, доверительно, как улыбалась в прошлый раз Дмитрию Михайловичу.
— Может быть, снова поговорим об искренности? Как вы? Расположены? Давайте будем искренними. Предупреждаю: мне не понравится, если вот сейчас мы постоим, потолчем воду в светской ступе и разойдемся. Не хочу расставаться с вами.
— Как ни странно, вы тогда были правы. — Ирина Алексеевна опять порозовела. — Я действительно вспоминала вас…
— Тихим, мирным словом?
— Не знаю. Скорее без слов. Во всяком случае, без зла. Я думала… Наверное, вам стыдно потом было? Наверное, вы раскаивались? Что так… бурно… знакомились. А вообще, если вы действительно были искренни, стыдиться не стоило. Бог знает, что я говорю, совсем не так, как думала. Но я не осуждала. Удивлялась…
— Я боялся, Ирина Алексеевна. Вы могли подумать, будто я паясничаю, театр устраиваю, дикостью своей хвалюсь. Когда думал так — верно, не по себе было. Стыдно. Но я не раскаивался. Сказал и сказал. Значит, подкатило сказать… Вот что, Ирина Алексеевна. Хотите, мороженым угощу? — Григорий Савельич, несколько помявшись, засмеялся. — В ресторан не приглашаю, денег не хватит. Кстати, вы замечали? Все искренние люди, как правило, безденежны и неудачливы.
— Ну-у, как вы мрачно. А вы не замечали, что в толковых руках искренность — целый капитал. Только успевай разворачиваться.
— Не замечал и, наверное, не замечу. Вдобавок ко всему еще и бестолков.
— Вот и хорошо. Не замечайте подольше. Хорошо, хорошо, вовсе не замечайте. Только не хмурьтесь. И не оговаривайте себя. Где же ваше мороженое?
В стеклянном полупустом зальчике она сняла плащ, бросила на соседний стул — была в темно-синем костюме, в вырезе пылала алая кружевная блузка. В отсветах ее переменчиво жило лицо: вроде бы осунулось, волнующе затеплилось какою-то растерянной покорностью.
— Садитесь напротив, Григорий Савельич, — опять надламывался ее голос — показалось, тихо и тревожно. — Буду вас слушать, буду на вас смотреть. Хорошо?
— Между прочим, я тоже люблю слушать. Да, да, да! Вижу, вы обескуражены, хотите возмутиться. Напрасно. Не умею я кавалерствовать, Ирина Алексеевна. Развлекать, ухаживать, ублажать. Прямо деревенею весь, когда через силу в остроумцы лезть надо, шутить во что бы то ни стало, соловьем разливаться. Извините, Ирина Алексеевна. Что-то тянет меня сегодня сровняться с землей. Ничего не умею, ничего у меня нет.
— Стихи наизусть помните?
— Полностью только одно: «Вот моя деревня»… Могу прочесть.
— Пока не надо. Анекдоты, загадки знаете?
— Нет.
— С Ильфом и Петровым как? Не потягивает за столом цитировать?
— Упаси боже!
— Вальс-чечетку умеете?
— Не-ет, нет! Помилуйте, Ирина Алексеевна!
— Наконец-то встретила нормального человека. Хотя… подождите. Раз вы ничего не умеете, значит, вас хлебом не корми, дай про работу поговорить. Ужель, ужель?
— Грешен, но сегодня не буду. Давайте про жизнь говорить. Милое дело. Кого и как она крутит-вертит. Кому — пироги с маком, кому — лепешки из гнилой картошки.
— Вот как! Вам не терпится посплетничать?
— Чтобы сплетничать, Ирина Алексеевна, надо по меньшей мере двух-трех общих знакомых иметь. А мы кого имеем? Несравненного и многострадального Дмитрия Михайловича. Как про него сплетничать? Мне он — друг, вам — начальник.
— Да уж. Дмитрий Михайлович — начальник, приятный во всех отношениях. Неуязвимый со всех сторон. Стоп, стоп! Молчу. Сплетни всегда начинаются похвальным словом.
— Так что давайте про жизнь. Расскажите, как она к вам относится и как вы к ней. Чья вы родом, откуда вы? Про себя всегда интересно рассказывать.
— Интересно, да нечего. Не жизнь, а анкетные данные. Я воронежская, там родилась, росла, училась. Мать-отец живы, на пенсии. Пенсии маленькие, посему я — бесприданница. Вот что при такой жизни расскажешь? Могу, правда, детство вспоминать, синие ночи, костры, первый бал, первый поцелуй — трогательно, но все как у всех.
— Так вы не сибирячка? Можете здесь жить, а можете — там. Почему-то, думаю, — там. Так?
— Непременно. Не потому, что здесь плохо, а потому, что там хорошо. Во сне вижу… Ваша очередь, Григорий Савельич.
— Очень уж вы торопитесь. Все-таки жизнь не анкета. Душа-то чем жива? Болит, нет ли? Может, страсть ее тайная гложет.
— Нет, наверное, у меня души, не чувствую ее. Разве что тоскливо иногда — не знаешь, куда деться. На «Скорую» вот пошла, на полставки, чтоб ночь занимать. Тоска-то в душе помещается или где?
— В душе, Ирина Алексеевна, в душе. Все в порядке, душа на месте. Только почему тоскует? Чего ей надо? Не спрашивали?
— Живешь, живешь день за днем — и все хорошо, все ладно. Работа, забот полон рот. Сыта, обута-одета. И ум вроде занят: книжками, музыкой. Могу за кандидатскую взяться или заочно еще поучиться. Прямо-таки гармония, сама не нарадуюсь. И вдруг ни с того ни с сего неясно становится. Неясно, как жить, что впереди, кто ждет, куда тороплюсь. Неясно, туманно — ничего мне тогда не надо. Тоска.
— Скорее усталость. И тело устало, и душа — не мне вам объяснять, Ирина Алексеевна.
— Нет, не усталость. Что-то другое. Я плохо объяснила, но что-то другое. Даль туманная, одним словом. Неужели с вами такого не было?
— Такого — нет. Тоска у меня всегда предметная. По кому-нибудь, по чему-нибудь. Может, просто психика по-иному устроена. Впрочем, я не могу смотреть без какого-то острого, болезненного сознания недостижимости на речные излучины в ивняке, на закаты, на одинокое дерево где-нибудь посреди поля — так сильно желание соединиться с ними, а ты только можешь смотреть. Не могу смотреть на прекрасные женские лица. К примеру, на ваше…
— Ну, ну, Григорий Савельич. Это уже не про жизнь и, самое главное, ни к чему. Уж больно резкий перепад. Вы лучше скажите: в прошлый раз Дмитрий Михайлович поязвил насчет чиновничества — я заметила, вас задело. Почему? Совершенно невинная шутка. Пора, Григорий Савельич, про себя поговорить.
— Это уже не про себя, а про работу. А мы договорились. Потом, я в самом деле чиновник, но не хочу им быть. И Дима, по простодушию, жмет на больные мозоли. Ладно, что теперь… Это скучно.
Тем не менее вскоре он рассказывал историю своей службы. Ничего не забыл: ни коварства благодетеля, наобещавшего златые горы, а вместо них — скудные, скучные будни мальчика на побегушках; ни своих честолюбивых надежд соединить администраторскую долю с высокою долею научного подвижника; ни решимости своей порвать с облздравом, с благодетелем, если он не сдержит слова. Григорий Савельич хотел добавить здесь, что завтра же порвет, завтра же потребует удовлетворения, но сдержался, вовремя отрезвел: легко быть запальчивым перед женщиной, но трудно — перед начальством. Рассказ получался пылкий, но несколько отдавал плаксивостью, слишком явно рассчитывал на сочувствие — Григорию Савельичу стало неловко, и тогда он сказал, что все это пустяки, причуды биографии, важно, что ни на секунду он не забывал дело, руки не теряли квалификацию. Он показал ей коробочку с чехословацкими сверлышками, наждачками, пилочками, оставленными ему одним уехавшим стоматологом.
— Не расстаюсь с ней. В командировке, здесь ли — обязательно выкрою час, вырвусь к креслу. Каждый день. Только руки и утешают. Ничего не забыли. — Он, конечно, привирал, говоря «каждый день», реже, значительно реже он вырывался и утешался, но невозможно было не приврать перед зеленой глубью ее взгляда.
— Я не знала, что вы стоматолог. Странно, — она легонько потерла пальцами лоб.
— Вот те раз! Почему! — обиженно-весело вскинулся он.
— Да так. Не похоже. Я думала, терапевт или рентгенолог… Ой, глупости какие я говорю. Не обращайте внимания.
— Обманул, выходит? Разочаровал? Ясно. — Он повернулся к официантке — та, позевывая, сидела за соседним столом.
— Давно сижу. Закрываемся мы.
На улице было морозно, ветрено и так пустынно, что, казалось, невозможно дойти до тепла, до яркого, домашнего света. Погромыхивали жестяные тарелки на фонарях, качались желтые круги на сером, сухом асфальте, а за кругами чернела, свистела ночь. Ирина Алексеевна крепко и тесно взяла его под руку, он долго не мог приноровиться к ее какому-то прочно неторопливому шагу — неловко получалось, не он ведет, а его ведут. Григорий Савельич остановился.
— Лучше я вас возьму.
Она засмеялась.
— Хорошо, хорошо. Ведите. Куда глаза глядят.
Возле ее дома, на набережной, темень уже свистела во всю силу ледяных, необъятных легких. Григорий Савельич, смущенный, что она угадала его раздражение, чересчур громко и весело сказал:
— Вот моя деревня, вот мой дом родной… Кстати, Ирина Алексеевна, что это за дом? Общежитие, ведомственная гостиница?
— Нет. Я лечила одну бабушку в нашей больнице и вроде вылечила. В этом доме квартира ее дочери, а дочь на три года уехала на Север. Вот бабушка и предложила останавливаться здесь. Даже даром предлагала — вот какая благодарная старушка.
— Удивительный, редчайший по нашим временам случай. Даром вы не захотели?
— Конечно. Была бы постоялицей, а теперь — полноправная хозяйка. И на правах таковой спрашиваю: хотите чаю? Вы меня мороженым, я вас — чаем. Так сказать, лед вытесним пламенем. Поквитаемся, Григорий Савельич?
Он подумал, что опять попадет домой черт знает когда, опять виновато заухает сердце, когда откроет дверь Аня, молча горящая, убитая ожиданием, опять он понесет какой-нибудь отвратительный оправдательный вздор. И — невозможно отказаться, сам же, сам, подлец, подошел, сам ужом вился, искренность, видите ли, мороженым охлаждал.
— Конечно. С удовольствием. — Поднимаясь в квартиру, он клялся, что посидит минуту-другую и откажется, уйдет без чая, но в то же время заглушенно, с обреченностью чувствовал: минуты вполне могут обернуться часами.
Пока Ирина Алексеевна готовила чай, он сидел на диване, тупо уставившись в черное окно. Слегка покачивало его, подергивало, точно он пристанывал про себя, сдерживая боль. Не хотел и думать, что просидит долго. И не хотел уходить, жило в нем, не вытеснялось видение золотистого вечера и печально-недостижимого лица Ирины Алексеевны.
Во время медленного устало-молчаливого чаепития Григорий Савельич, чтобы не мучиться и не колебаться больше, придвинулся к Ирине Алексеевне, крепко обнял, крепко, длительно поцеловал ее влажные, горячие губы.
Отодвинулся, не поднимая глаз, ждал, вновь поддаваясь томительной неопределенности: «Может, выгонит наконец? Туда мне и дорога. А может быть…»
Он поднял глаза — Ирина Алексеевна побледнела, излишне выпрямилась, беспамятной рукой приглаживала и приглаживала волосы. Сидела, закрыв глаза, — чуть подрагивали плечи, немели щеки от этого напряженно-легкого, должно быть, заранее увиденного согласия. Потом молча встала, решительно, быстро прошла в другую комнату.
Григорий Савельич попробовал возмутиться ее решительностью, какою-то врачебной, досадно профессиональной откровенностью и прямотой. «Ну, что ей стоило меня выгнать? Не понимает, что ли, что домой надо, что дурак я, круглый и законченный. Ей до этого дела нет, и правильно, что нет. Милость, благо мне дарят, а я, а я — невозможно!»
Подавленный, растерянный пришел он к ней.
Обнимал прохладное, сильное, ждущее тело и исчезал, леденел в ночном свисте от невыносимого стыда.
— Прости, пожалуйста… — И уткнулся, зарылся потным, холодным лбом в подушку.
Она наклонилась над ним, приподняла, повернула голову, тихо подула на лоб, погладила. Шепотом, неожиданно ласковым, мягким, понимающим, сказала:
— Господи. Так я и знала. Удивительно, но я это знала. Упрямый, нервный дуралей… Хороший мой, хороший…
Постепенно освобождалось от тревог сердце, стихал свист за окном, все яснее приближалось ее лицо.
7
Она приезжала, звонила:
— Здравствуй, здравствуй, друг зубастый. — Голос надламывался. — Ты придешь?
— Да, да, да. Здравствуй, рад тебе, приветствую и прочая, и прочая. — Положив трубку, со съежившимся сердцем смотрел на телефон: что на этот раз сказать Ане? Какую выдумать пригородную командировку, очередное заседание или защиту очередной диссертации давнего приятеля?
Проще было бы сказать сейчас Ирине Алексеевне: «Не приду. Ни сегодня, никогда не приду. Все кончено», — и она бы даже не допытывалась, не укоряла, не умоляла, бросила бы трубку, и в самом деле все было бы кончено. Но не мог он так сказать, сердца не хватало: тоже ждет, он сам дал ей право ждать, как же отнять это право? Невозможно.
По дороге он пытался рассудить все наново, утихомирить душу, проветрить ее, аккуратно разобрав по уголкам, закоулкам, полочкам грехи и муки свои. Вот он идет к любовнице, хождение такое было до него и будет после — неужели у всех оно было отравлено и зачернено страхом, оглядкой, ложью? Вздор, что этот искус сладок лишь под запретом, под зыбкой, зловещей тенью наказания. «Да что я плету. Если бы я Аню с Колькой не любил, не был бы привязан к ним, вот тогда было бы просто. Вот когда не оглядывался бы. И совестно, так совестно перед Ирой! Никакого ведь чувства у меня, но милая, милая! Ее убьет, если я все так, как есть, скажу. Для нее-то все непросто, она-то любит, и невыносимо обидеть ее. Увяз, увяз. Какой я любовник! Каторжник. Впору на галеры отправить. Там мое место, только там».
Ирина Алексеевна встречала в прихожей, снимала шапку, легонько прижималась:
— Озяб? Устал? — гладила лоб его, щеки, как бы расправляла, счищала дневную хмурь, путала, ерошила волосы. — Расстроен чем-то? Угнетен? — Кружила и кружила, льнула — легонько хмелела голова от нежного, неизъяснимо-печального ветерка.
— Ну, что ты, право? Что ты? — терялся он. — Подожди! Ты где-то веешь, паришь — не надо так.
— Нет, надо, надо! И не где-то, а над тобой. Вею, замираю. Не знаю ничего. Не знаю. Хочешь, к сердцу прижму, к черту пошлю. Дай поцелую. Вот сюда и сюда.
Иногда любовное вдохновение оставляло ее, она мрачнела, забивалась в угол тахты, куталась в черное, с причудливыми белыми цветами покрывало — холодно розовели плечи и округлялись, горяще светлели зеленые глаза. Она спрашивала с какою-то гневливою пристальностью:
— Ты меня любишь?
— Ну, Ира. Честное слово, неуместный вопрос. Из школьных прогулок. Даже забавно.
— Нет, ты не увиливай. Отвечай: ты любишь меня?
— Я очень хорошо к тебе отношусь. Очень.
— А жену любишь?
— Да, — как можно тверже и четче отвечал он.
— Зачем тогда ко мне ходишь?
— Потому что дурак набитый.
— Что тебе надо от меня?
— Ничего.
— Познакомь меня с женой. Я хочу с ней познакомиться. Может, мы станем подругами. Ты не против?
Он взвивался:
— Ужас какой-то! Прекрати! Если это шутка, то очень дурная, если серьезно — ты с ума сошла.
— Почему, Гришенька? Прятаться мне надоело, подпольщицей быть устала. Все жду и жду тебя. Зачем жду?
Ирина Алексеевна то ли спохватывалась, то ли проходил приступ этого мрачного любопытства, но снова тянулась к нему:
— Люблю тебя, Гришенька, и злым. Так у тебя брови мечутся, так губы смешно топырятся — у-у, взяла бы и съела.
Он, не остыв еще, не поддавался, сидел, набычившись, уклоняясь от ее руки.
— Давно хочу спросить, почему ты не замужем? Нет, почему не выходишь?
— Тебя ждала. А теперь некогда.
— Я — серьезно.
— Не знаю, Гриша. Не думала. Да и не хотела. Успею… Хотя могла бы. Помнишь, я удивилась, что ты стоматолог. Сказала еще, что не похож? В институте училась с одним парнем, считали нас женихом и невестой, но я не хотела замуж и отказала ему. До сих пор письма пишет, два раза в месяц, и в каждом спрашивает: когда же я передумаю. Я, говорит, терпеливый и буду ждать. Так вот, он тоже стоматолог. Потому и сказала тогда, что не похож ты.
— Два раза в месяц?! Большой педант, даже завидно. Почему бы тебе в самом деле не передумать?
— Хватит, Гриша. Не надо. Никак почему-то не передумывается.
Сходило порой на нее бурное умиление, превращавшее ласки ее в столь порывистый и беспорядочный натиск, что Григорий Савельич пугался и осторожно отстранялся от них. Тогда Ирина Алексеевна сжимала в ладонях его лицо и, видимо, все еще не опомнившись, приговаривала непривычно тонким, плачущим голосом:
— Капелька моя! Чутелька! — Сюсюканье это так не вязалось с ее крупным, сильным телом, что Григорий Савельич недовольно морщился.
Но чаще всего лицо ее было бледным, отрешенно-тревожным. Закрыв глаза, запутав пальцы в его волосах, тихо и грустно вздыхала:
— Ах, боже мой, все равно я тебя люблю.
Он допытывался:
— Почему — «все равно»? Почему?
— Ах, боже мой…
Завяз Григорий Савельич, окончательно заврался, смотреть на него тошно стало, и однажды утром, когда он вновь бубнил жалкие, неверные слова, Аня так и сказала:
— Смотреть на тебя тошно. Что ты все юлишь, мельтешишь, в глаза не смотришь? Мелко, гадко живешь. Взял бы, если так уж тебя тянет, закатился бы куда-нибудь на неделю, погулял, попировал. Да не один, с любовницей. Как раньше говорили, душу бы под бубенцы отвел. Так хоть размах бы какой-то чувствовался, лихость. А то серо, по-мышиному. Хвать крошку — и в норку, нету меня.
— Что за глупости, Аня? Какая любовница, — вяло пробормотал Григорий Савельич и показал глазами на Кольку. Тот сидел смирно, старательно ковырял кашу и будто не слушал, но кто же не знает, какие у Кольки длинные и хваткие уши.
— Пусть слышит. Я устала уже объяснять, где папа. Может, никакого папы и не надо. Хуже теперешнего жить не будем. Ты понимаешь, что ты уже не нужен становишься?
— Аня, пожалуйста, не преувеличивай.
— Эх, Гриша, Гриша. Какой же ты замызганный стал. И слова откапываешь какие-то замызганные: не пре-у-вели-чи-вай! Все отговориться хочешь. Нет уж, не выйдет. Выбирай, Гриша: или мы, или теперешняя твоя жизнь…
— Ладно, хватит! — Он вскочил. — Сыну морали читай. Больше пользы будет. И тактичнее. — Схватил шапку, пальто — убежал. Хлесткий утренник вышибал слезы. Григорий Савельич бежал и только головой крутил: права, совершенно права, нарочно вспыхнул, чтоб со стыда не провалиться. «Все, все! Кончено, к черту. Освободиться, вздохнуть — Аня, Аня, как ты права!»
На службе, отдышавшись, сразу же отправился к «благодетелю»:
— Лев Андреич, здравствуйте. Я пришел сказать…
Кашеваров приложил палец к губам: «Тс-с».
— Два слова осталось. Присядьте, Григорий Савельич. Потом, как говорят студенты, и общнемся.
Григорий Савельич напряженно присел на краешек, чтобы не сбиться, не остыть, глаз не сводил с Кашеварова. Тот, подняв очки на лоб, сочинял какую-то бумагу. Морщинистый, бледно-бронзовый от сплошных веснушек, Кашеваров пожевал губами, видимо, на вкус пробуя недописанные слова. Постучал рыжими пальцами по столу, поднял дымчато-голубые, чуть осоловевшие глаза:
— Нет, сбили, Григорий Савельич. Итак, вы пришли сказать, что едет ревизор.
— Я хочу уволиться, Лев Андреич.
— Да?! — Кашеваров передвинул очки на глаза. — Подыскали что-то интересное?
— Подыскивать собирались вы, Лев Андреич. Простите за напоминание. Я же просто хочу уволиться и податься в рядовые.
— Но я все помню, Григорий Савельич. Если вы таким образом хотите ускорить дело, то я очень огорчен.
— Что вы, Лев Андреич. Никакого нажима, никаких обид. Хочу живого и ясного дела. Бумаг больше видеть не могу — аллергический зуд вызывают.
— К сожалению, бумаги будут везде.
— Их можно терпеть, когда занят еще чем-то.
— Уверяю вас, вы нигде больше не научитесь деловой выдержке, терпению, если хотите, тонкостям бюрократической дипломатии. Может быть, для постижения этой науки я и держу вас так долго в черном теле.
— Пока я ее постигну, я побелею. Тогда я буду занимать место, а сейчас я буду работать. Это так очевидно, что только руками разводишь, как очевидностью этой пренебрегают.
— Хорошо, Григорий Савельич. Я вижу, вы все хорошо продумали. Давайте сделаем так: поезжайте по своей епархии, проверьте, так сказать, насколько видимость соответствует действительности, подготовьте место к сдаче и по пути проветритесь. Думаю, месяца вам хватит. А я по-прежнему буду думать о вас.
«Черт с ним, с месяцем и с Кашеваровым. Перебьюсь. В любом случае здесь меня не будет. И на том спасибо. А завтра в Аргутино. Скажу. Не знаю как, но все скажу и Ирине».
8
Уже прохватывало прощальным ветром. Григорий Савельич перед автобусом зашел на базар, купил белых, с едва уловимой печальной желтецой, хризантем. Спрятал за пазуху от жгучих ноябрьских сумерек, а когда попал в автобусное тепло, выпростал цветы, расправил примятые лепестки. Расправлял осторожно и долго — время проходило бездумно и быстро. Но все-таки до Аргутина занятия этого не хватило. Пришлось опять подумать: как скажет, с чего начнет, как она поникнет и отзовется. Григорий Савельич посмотрел в окно, заросшее льдистым куржаком, и с удовольствием отвлекся: подышал на лед, поскреб пальцем, пробился к стеклу, припал — одна темень летела мимо.
В Аргутине автобус остановился у почты. Под ее радужно-сизыми фонарями поплясывали, попрыгивали встречающие — мороз перегнал автобус, уже и здесь поджидал Григория Савельича. Он не хотел встречаться с Дмитрием Михайловичем и спросил у женщин на почтовом крыльце, где искать Ирину Алексеевну. Оживились, объяснили, показали — Григорий Савельич усмехнулся, представив, как сейчас же за его спиной вырастет молва: к докторше жених приехал.
Стекленели, скользили подошвы — чуть не упал у крыльца, искорежился, перегнулся, руками замахал. Выпали и рассыпались цветы, он не сразу заметил, а заметив, бросился на коленях собирать, чертыхался, судорожно пуговицы рвал, заталкивая цветы под мышку, чтоб быстрее согрелись.
Ирина Алексеевна ахнула, отступила, присела на табуретку, зажмурившись, потрясла головой:
— Молодец, какой ты молодец! — посидела еще, все не веря, и уж потом только закружилась, заластилась.
Когда он, отвернувшись, собрал цветы за пазухой в букет и, выхватив, преподнес, она вмиг густо покраснела, заблестели влажно глаза.
— Спасибо, Гриша. — Сбегала в комнату за кувшином. — Ой, почему они чернеют?
Григорий Савельич, виновато улыбаясь, объяснил.
— Так, так, Григорий Савельич. Черные цветы в черную ночь от черной души. За-пом-ним. Ну, ну, ладно. Все равно, радость безмерная. И причина есть. Вообще первый букет за здешнюю жизнь, и от тебя — первый. Зимой. Замечательно!.. Как это ты вырвался?
Рассказывая, наконец снял пальто, разулся — закололо, защипало, защекотало прихваченные морозом пальцы. Он сел на порог, обхватил их ладонями и не видел, что у Ирины Алексеевны на мгновение остыли, понимающе и устало, глаза.
— Обморозил?! Сейчас мы тебя спиртиком…
— Нет, чуть-чуть… Мадам держит спирт? На дому? Ограбят.
— Не успеют. Пир пойдет горой, и ничего не останется. Согласись, пир необходим. Все-таки ты — редкий гость. Если не сказать: редчайший. И неповторимый. — Она опять посмотрела на него, отвернувшегося к приемнику, пристально, понимающе и устало.
— Надеюсь, ты не собираешься звать Дмитрия Михайловича?
— Только хотела спросить, не сбегать ли…
— Успею, завтра увидимся. Причем ближе к вечеру. Знаешь, почему? Как мороз отпустит, давай побродим, пошатаемся по вашим окрестностям. Сможешь освободиться?
— Хорошо. С утра схожу, договорюсь — ты еще спать будешь. Побродим, конечно, побродим.
«Лучше на воле скажу. На воле легче. Сегодня и без отравы можно обойтись. Завтра, завтра, не сегодня… Да уж лентяй черта с два в такую историю влипнет».
Потеплело, снег уминался мягко, без скрипа и хруста. Чуть отзывался только лошадиным хрумканьем. Зеленело небо, тихо желтело невысокое солнце, розовел сосняк на дальнем гольце. «Кому все-таки надо превращать такой день в дым, в пепел, в головешку? Как ни странно, мне надо. Полить бензином и поджечь». — Григорий Савельич остановился у колодца под тесовым навесом, вырытого почему-то на отшибе, в доброй версте от села. Подождал отставшую Ирину Алексеевну.
— Везучие все же мы! Смотри, какой день. Может, в его честь хлебнем по глоточку ключевой-глубинной? — Он поднял колодезную цепь — веселый старинный звук покатился по снегу.
— Спасибо, я этот день и так запомню. И тебе не советую. Береги горло, посадишь. Как слово заветное скажешь? Как сердце свое обнажишь?
— Ка-акое заветное? — растерянно хватанул ртом Григорий Савельич. — Н-не понимаю.
— Да чьи-то строчки вдруг подвернулись. Ой, какой ты смешной — глаза вытаращил, как филин. Ты чему удивляешься?
— Тебе. Как всегда, тебе. — Бросил ведро в узкое горло наледи — завизжал, дробно застучал ворот. — Я все же хлебну.
Он не хотел пить, но тянул время, не мог совладать с нерешительностью, вязко объявшей его. Глотнул раз, другой — поперхнулся, облил шарф, отвороты, разозлился: «Так тебе, дураку, и надо!»
Полез за платком, наткнулся на коробочку со сверлами и пилками и замедлился с платком, унесся жаждущей покоя душой в маленький белый кабинет Дмитрия Михайловича, пропахший камфарой, эфиром, к колодистому, старого образца, зубоврачебному креслу, услышал, как произносит свою любимую шутку: «Откройте рот. Батюшки! А где же зубы?!» И ведь до кабинетика-то рукой подать!
Шли и шли вдоль брошенной лесовозной дороги, остановились на бесснежной, в хвойных наметах излучине, под тяжелыми еловыми лапами разложили костерок — все молча, со странным, неторопливым согласием в движениях, словно заранее договорились: там остановимся, а там — костерок запалим. Постояли над ним, с дремной сосредоточенностью уставясь на желтый, веселый огонь. Неожиданно потянулись через него друг к другу, поцеловались и почему-то бурно, сильно смутились: отпрянули, точно опахнуло их робкой, юной влюбленностью…
Григорий Савельич отошел за хворостом, в глубь полянки, и оттуда вновь увидел Ирину Алексеевну так, как видел в сентябре, когда вечернее небо оттеняло, высвечивало ее склоненную голову. Он подумал, что так и должно быть: первая встреча стремилась к последней, и, значит, все участники этой встречи: деревья, небо, желтое солнце — шли следом или вместе с ним и Ириной Алексеевной, тоже стремились к разлуке, замыкали сейчас круг, напоследок показывали начальную картину, и как же она печальна! Ирина Алексеевна задумчиво склонила голову, за ней, в зеленоватом, голом осиннике сквозило вечернее небо, — и вновь попросилось и вошло в сердце смущение, что никогда не постичь пронзительную ясность этого видения. Оно существует само по себе, отдельно от женщины, вроде полдневного марева, чей зыбкий и недостижимый жар опаляет душу, и мучится она, мечется потом всю жизнь.
Григорий Савельич вспомнил, что и Аню когда-то видел так. Отстранение, тоже объятую небом и загадочностью. Вспомнил, и как же больно ему стало! Соединялась она сейчас с Ириной Алексеевной, и сияла над ними тайна, которую никогда не узнать.
Потом они остановились в пастушьей сторожке, на краю лесной луговины. Как и в зимовье, были тут припасены растопка, дрова, на подвесной доске-полке лежали сахар, заварка. Вскипятили чай на железной печке — маленькой бочке, неровно примятой сверху молотком или камнем. Запотело окошко, влажно зарумянились лица. Запахло анисом, полынью — отогрелась, задышала трава, покрывавшая жердевой лежак. Григорий Савельич, разнеженный чаем и этим травяным настоем, подумал, что лучше всего сказать обо всем перед отъездом, перед самым автобусом — грубо, конечно, выйдет и безжалостно, как зуб без наркоза рвануть, ну да, может, боль перекричать, перемаять легче в одиночку — не перед кем потом стыдиться за свой крик и плач.
Григорий Савельич взял ее руки, спрятал в них лицо, подышал возбуждающе чистой горечью полыни, уже омывшей ее ладони, а потом целовал и целовал: запястья, нежные припухлости вен, округлые, смугловатые ядрышки на сгибах пальцев — Ирина Алексеевна не откликалась. Обнял ее, потянулся к губам — она плавно отклонилась.
— Не надо, Гриша. Сядь как следует. Все утро собиралась. И вот, пока шли… В общем, я выхожу замуж.
— Да как же так?! — Его недавние сомнения, страхи немедленно вытеснились ревнивой обидой, чуть остужаемой сквознячком облегчения — так после изнурительной жаркой дороги чувствует путник дыхание реки.
— Я ведь говорила тебе… Он пишет мне, в одном институте учились. Вот я ответила, что согласна, что приеду. — На самом деле она еще не ответила, еще не согласилась, но, отгадав прощальное настроение Григория Савельича, решила согласиться. Без него ей все равно: можно и замуж. Все равно надо будет уехать. А опередила Григория Савельича она потому, что невыносимо было смотреть, как он мается, места не находит. Жалко его. И спасибо ему, что тоже жалеет ее, оттягивает боль, заранее боится этой боли.
— Где он живет?
— В Боготоле.
— Ира, Ира… — У него налились глаза. — Все так дико, необъяснимо, тяжело. Ведь я тоже хотел…
— Ну, что ты, Гриша!.. Хороший мой. Дай лучше я тебя поцелую.
9
За два часа до Боготола Ирина Алексеевна сдала постель, уложила сумку и вышла в коридор. Возились на половике ребятишки, плакали, кричали; дружно басили мужчины у окон; проносились буфетчики, ухитряясь никого не задевать огромными корзинами; свободные от смены проводницы навязывали лотерейные билеты — эта суетня, бестолковщина освежили ее после тесных, душных — под стать купе — дум.
«Пора уж и о женихе подумать. — Ирина Алексеевна прижала к стеклу тяжело горевший от бессонницы лоб. — Поди, уж на вокзале. Ждет. Хотя… вряд ли. Подъедет или подойдет к самому поезду. Может, правда, изменился теперь, подыспортился, наплевал на свои режимы, распорядки, графики. Телеграмму получил, наверное, до потолка подпрыгнул. Победил, добился, свое взял. Молодец, конечно. Если бы не то да не другое… Впрочем, не имеет значения. Главное: своего часа дождался. Как это он говаривал? Любое дело, даже тягомотное и противное, надо доводить до конца. Во что бы то ни стало. Хороший он и правильный парень, да вот невеста-то не ахти какая достанется. Порченая, крученая, верченая».
Давно, в конце институтской жизни, узнала она Андрея Романова. Он подошел однажды в раздевалке, после лекций:
— Здравствуй. Мы ведь мельком знакомы. И это неправильно.
— Мне кажется, вообще не знакомы. Ты кто? Из комитета, из профкома, из хора?
— Нет, я — Андрей Романов со стоматологического. Нас знакомила Роза Семенова в прошлом году, когда ехали на картошку.
— Что-то не припомню. Роза только тем и занимается, что кого-нибудь с кем-нибудь знакомит. А в чем дело? — Она врала, конечно, потому что Андрей Романов был этаким спортивно-статным студентом и легко запоминался.
— Хочу познакомиться поближе. Я понял, что ты самая красивая девушка в институте, и решил добиться твоего расположения.
— Ой, ой. Как же это ты выяснил? Сравнивал, сопоставлял, проводил опросы?
— И сравнивал, и сопоставлял. Лучше тебя нет. Думаю, мы подружимся.
— А вдруг у меня характер отвратительный? Советую тебе, Андрей Романов со стоматологического, крепко об этом подумать.
— У женщины не может быть хорошего или плохого характера. Может быть только женский. Если это понять, с женским характером легко мириться.
— Все ты знаешь. А как же это мы начнем дружить?
— У меня есть два билета в театр.
Она сказала: «Вот это да!» — и в театр пошла: все-таки не каждый день встречается человек, считающий тебя первой красавицей, даже в таком многолюдном институте, как медицинский.
Андрей Романов пытался быть разносторонним человеком: занимался спортом, читал книжки, слыл заядлым театралом, ходил в активистах научно-студенческого общества.
Ирина Алексеевна, следя за его времяпрепровождением, иногда спрашивала:
— Скажи, Романов, ты многого добьешься?
— Думаю, да. Только одно уточнение: многое успею.
— А зачем, зачем тебе все это?
— Во-первых, интересно. Во-вторых, чем больше человек занят, тем меньше он поддается отрицательным эмоциям. Вот ты киснешь, жалуешься на скуку, валяешься на диване целыми днями. Это потому так бывает, что у тебя бездна незанятого времени. Когда человек говорит мне: «Что-то настроения нет», он для меня погибает. Он просто бездельник, у него есть время копаться в каком-то настроении.
— Значит, я для тебя давным-давно погибла. У меня вот совершенно нет настроения выслушивать твою скукотищу.
— Вот, пожалуйста. Ты очень легко поддаешься отрицательным эмоциям и, следовательно, много душевных сил тратишь впустую.
— А знаешь, так приятно иногда поскучать. За окном дождь, деревья затихли, серо все, безысходно… Даже всплакнуть хочется.
— Понимаю и не понимаю. Понимаю, что так может быть. И не понимаю, потому что и в дождь легко найти занятие.
— Ну и черт с тобой, не понимай!
Он никогда не обижался, он только недоумевал:
— Зачем ты раздражаешься? Время, потраченное на раздражение, ты могла бы потратить на что-либо полезное и приятное.
— Хочу, хочу раздражаться! Мне нравится раздражаться! Я люблю раздражаться!
— Раздражайся на здоровье.
Месяца за два до распределения он пришел свататься:
— Ирка, пора регистрироваться. А то упекут в разные стороны. Распределимся, я поеду вперед, все там подготовлю — и живи не тужи.
— Романов, я не хочу замуж. Я понимаю, что теряю лучшего жениха, но не хо-чу. Хочу одна пожить, без папы, без мамы и тем более без мужа. Вот поскитаюсь, помыкаюсь — тогда посмотрим.
Он помолчал, недоуменно поднял брови:
— Почему теряешь? Я подожду. Мыкайся, скитайся — я подожду. Только ты уж, пожалуйста, больше ни за кого не выходи.
— Может, вообще не выйду. Так что не волнуйся раньше времени.
«И ведь дождался, никуда не денешься!» Ирина Алексеевна отодвинулась от окна. Она устала, не знала, куда деться, и надеялась отвлечься, поротозейничать на вагонную жизнь, но коридор почти опустел: ни ребятишек, ни проводниц, ни буфетчиков — лишь через окно от нее курили двое бородатых парней в выгоревших, блекло-зеленых энцефалитках. Вчера, когда Ирина Алексеевна только освоилась в вагоне, они пытались разговорить ее.
— Девушка, хотите скрасить свои будни? А заодно и наши? Познакомьтесь с нами, пожалуйста. Мы едем четвертые сутки и до смерти надоели друг другу. То ли сезон тяжелый был, нервы до предела дошли, то ли душа соскучилась по простору, среди камней-то, но увидишь деревеньку на бугре и, прямо как школьник восторженный, смахнешь, понимаете, набежавшую. С вами не бывает такого? Ведь все это по сто раз видено — не прошибало. А тут удержу нет. Давайте поговорим об этом…
Вмешался второй парень:
— Подожди, Саня. В каждом человеке ограничитель стоит, вроде как в машине. Ходит, ходит по родной земле, ничего не понимает и не видит — ограничитель на сердце стоит. А когда сапог пар этак пять собьет, ограничитель — долой. И напрямик все эти перелески в сердце влетают.
— Витя, я хочу объяснить девушке главное. Невозможно полюбить другую землю. Сердце-то у меня занято! Оно не безразмерное. Одна родина, одна мать, одна женщина, которую выберу. Понимаете, не могу я их теснить и кого-то еще туда пускать… Девушка, пойдемте с нами в ресторан? И поднимем бокалы за занятые сердца?
Она ответила дрожаще-сдавленным голосом:
— Прекрасный тост предлагаете, мальчики. Спасибо. Но настроение у меня… И вам испорчу.
Они увидели слезы, торопливо, испуганно извинились, поклонились; даже после ресторана, расположенные петь, плясать, навязываться в собеседники, прошли мимо чуть ли не на цыпочках, приложив пальцы к губам.
«Сейчас бы с ними поговорить, да ведь сама не подойдешь». Ирина Алексеевна прислушалась к их разговору, излишне оживленному и сбивчивому.
Она слабо улыбнулась: «Философы. Намолчались, поди, в своих маршрутах — головы распухли от всяких соображений и идей. Век не переслушать. Ну, да ладно. Сейчас другого философа увижу». Она прошла в купе за сумкой, поезд подходил к боготольскому перрону.
10
Андрей Романов уже ждал, точно рассчитав, где остановится ее вагон. Ирина Алексеевна тихонько двигалась за толпой к тамбуру и смотрела в окно на Андрея. Он не изменился: подобран, плечи развернуты, спокойно-правильное, солидное лицо, доброжелательны и прямодушны большие воловьи глаза. Почему-то пришел без шапки, и густой каштановый бобрик странным образом согласовывался с шалевым воротником дубленки, придавал некую завершенность его спортивной фигуре.
— Ирка, с приездом! — Он подхватил ее с подножки, осторожно покружил и осторожно поставил. — Поцелуемся? — Она отвела платок со щеки.
— А без спросу не мог?
— Учту, учту. Исправлюсь… Как ехала?
— Романов, раз я перед тобой, значит, ехала прекрасно.
— Язвишь, а я несколько не в себе. Все-таки не каждый день видимся.
— Уж это точно. Ты на вокзале, что ли, живешь?
— Почему?
— Стоим и стоим. Вот я и подумала, что где-то близко. Случайно, не в зале ожидания?
— Сейчас багаж возьмем — ив карету.
— Какой багаж?! — Ирина Алексеевна приподняла сумку. — Я же бесприданница, Романов.
Он чуть округлил воловьи глаза — дружелюбие в них осталось, но примешивалась к нему доля холодной пристальности — что-то раньше Ирина Алексеевна ее не замечала.
— Подожди, Ирка. Ты всерьез приехала? Или, так сказать, на пикник к старому товарищу?
— Романов! Какие ужасные слова. Разве тебе мало, что приехала я? Между прочим, я и не уволилась — ведь мы давно не виделись. Вдруг ты спился, стал картежником? Зачем мне такой жених?
— Увольняться вместе поедем, — Андрей взял ее под руку. — Учти, Ирка. Я тебя отсюда не отпущу. Как пес буду сторожить, чтоб не передумала и не сбежала. На тридцать три засова и запора буду закрывать.
— Не успела приехать и уже должна сбежать. Господи. Дай хоть передохнуть.
Он покрепче сжал ее локоть, замедлил шаг:
— Чтоб все было ясно, Ирка. Я тебя ждал, по-настоящему. Больше мне никто не нужен. То есть чувство мое — ясное и надежное, не умею я об этом говорить.
— Романов, может, не чувство, а упрямство? Доводишь начатое дело до конца? Во что бы то ни стало. Может, я тебе нужна в качестве некоего диплома, подтверждающего очередное твое достижение?
— Не упрямство, Ирка, а постоянство. Мне никто не нужен, кроме тебя.
— Ну, хорошо. Вот она — я. И, пожалуй, хватит об этом.
Андрей жил в казенном пятистеннике, выкрашенном темной охрой, — занимал в нем половину. Ирину Алексеевну неприятно удивило сходство этого дома с ее жильем в Аргутине. «Ехала, ехала и вроде никуда не приехала».
И крыльцо в три ступенечки, и щелястые сени тоже напоминали ей Аргутино.
Потом он показывал ей квартиру, чистую, аккуратную, несколько темноватую из-за узких, с частыми переплетами, окон. Было много мебели, старой, прочной, хорошо ухоженной: диваны, диванчики, дубовые стулья, обтянутые свежим темно-синим вельветом; дубовый буфет, дубовый платяной шкаф, недавно покрытые лаком и холодно мерцающие. Но, странное дело, мебель эта не заполняла, не подавляла, в сущности, малое пространство комнат, а лишь усугубляла их пустоту, своим громоздким присутствием нагоняла какое-то уныние. Ирина Алексеевна сначала не могла понять, почему ей так неуютно и уныло, но, осмотревшись, поняла: все эти дубовые старые вещи стояли строго возле стен, никак не соединяясь и не сообщаясь друг с другом — сказывалась и здесь геометрически ясная натура Андрея. А он, довольно посмеиваясь, рассказывал:
— Больница новую добыла, рижскую, а эту стали списывать. Насколько я понимаю, в старой мебели сейчас главный шик и главный смысл. Нравится?
— Молодец. — Ирина Алексеевна вздохнула. — Ну, расскажи что-нибудь. Как жил, что поделывал?
Рядом с дверью в кухню была еще дверь — Ирина Алексеевна думала, что за ней какой-нибудь чулан, но, оказалось, там — полностью оборудованный зубоврачебный кабинет. Тесный, крохотный, занявший действительно бывшую кладовку.
— Тоже из списанного, из разных развалин собрал. По вечерам, в выходные делать нечего — я охотно практикую. Не могу не похвалиться, Ирка: местные жители души во мне не чают. Я же безотказно принимаю: ночью, утром, в праздник. Друг и спаситель. Конечно, теперь, с тобой, я все это не то чтобы прикрою, но ограничу.
— Интересно. А как же трешки, пятерки суют? В руку или в карман?
— Да что ты! Я же — Миклухо-Маклай, подвижник, ради лишней практики, а не ради лишнего рубля. Правда, здесь у многих натуральное хозяйство, и вот когда узнали, что я бессребреник, стали забывать в сенях то сало, то яички, то банку сметаны.
— Берешь натурой, значит. Сметана, кусочек курочки — скажи, на положительные эмоции они влияют?
— Вас понял. Морю долгожданную голодом с первого дня. Сейчас, сейчас, что-нибудь соберу.
— Нет, нет, Романов. Завтракала, сыта. Не хочу. Не будем думать о плоти, будем думать о духе. Хочу все про тебя знать. Неужели ты только ел сметану и лечил местных жителей? Ничего не слышу о твоем движении вперед. О твоей жажде все знать и все успевать.
— Ирка, не издевайся. Все-таки я отвык от такой манеры вести беседу.
— Мы не беседу ведем, а наговориться не можем никак. Так что — жажда?
— Ладно, смейся. Я иностранным тут занимался. Заочные курсы кончил. Если куда потом переберемся, в аспирантуру можно пойти. С иностранным у меня всегда плоховато было.
— Все. Теперь душа моя спокойна. Узнаю и приветствую. Теперь я устала, хочу отдохнуть. Ты никуда не пойдешь?
— Ненадолго надо показаться. Потом подкупить кое-что хочу.
— Как подкупить?
— Приезд же надо отметить. Так сказать, помолвка, смотрины — неужели ты против?
— Подожди, подожди! Какие смотрины? Ты кого-то пригласил?
— Понимаешь, неловко было. Техника своего с женой. Они, знаешь, очень переживали за меня. И за тебя. Милые, скромные люди.
— Да-а… Я-то думала, мы побудем вдвоем. Хотя… Раз милые и скромные и за меня переживали… Давай, Романов, веди. Ой, как я устала! — Ирина Алексеевна вдруг озябла, подумала было, что простыла в поезде, но нет, зябкость не походила на простудную, ломотно звенящую, а охватывала медленно и ровно, погружала тело в безразлично-холодное ожидание: «А, как будет, так и будет».
Вечером пришел техник Миша с женой Валей. Оба черные, плотные, гладкие, видимо, были очень дружной и давно возникшей парой. Андрей, конечно, ошибался, от скромности они не умирали: охотно и много говорили о себе, о своих детях, о жизни, которую хорошо можно устроить и в Боготоле, о радости, которую им принес ее приезд, о замечательном Андрее Исаевиче («Он так, бедняжка, вас ждал») — но говорливость их была особого толка. Ирина Алексеевна тотчас же забывала их слова, и ей все время хотелось переспрашивать: «Сколько, сколько у вас детей? Как вы сказали, когда вы приехали?» — то есть они говорили и говорили, а казались молчаливыми, с удовольствием «якали» и в то же время прослыли скромниками — некая неуловимость их существования, видимо, и ввела в заблуждение Андрея, когда он говорил про них — «милые и скромные».
Он лучился добросердечием, радушием, с победительной щедростью рассуждал о будущем: «Мы с Ирочкой сделаем так-то…» Ирину Алексеевну не оставляла давешняя зябкость; улыбаясь, разговаривая, согласно и со своевременной нежностью поглаживая Андрееву руку на столе, она никак не могла отделаться от наваждения, что кто-то шепчет ей на ухо: «А, как будет, так и будет».
Наконец Миша и Валя встали. Валя, промокнув салфеткой вспотевшую усатую губку, произнесла прощальный тост:
— Это был незабываемый вечер. Мы с Мишей от всей души желаем вам крепкого сибирского здоровья и солнечного кавказского долголетия.
Ирина Алексеевна прикрыла глаза, спрятала неприязненную усмешку.
11
Они остались одни. Ирина Алексеевна спросила:
— Что, она всегда такая противная?
— Не нахожу. Ты ее плохо знаешь и поэтому неправильно судишь.
— Нет! Противная, пошлая баба. А ты еще головой киваешь, улыбаешься — поощряешь эту пошлость! Ведь этому тосту — сто лет. Он же весь потный, жирный, захватанный!
— Ирка, не кипятись. Во-первых, не стоит так пылать из-за пустяков. Во-вторых, ты не хочешь задумываться над истинной сущностью слов. Разве плохо, когда тебе желают здоровья и долгих лет? Стоит трезво воспринять сказанное, и оно будет обозначать только то, что обозначает.
— Ужасно, что ты и в пошлости находишь положительные эмоции. Из-за чего же тогда пылать, Романов? Скажи, есть что-нибудь на свете такое, из-за чего можно забыть о трезвости, плюнуть на все объяснения, а только — пылать, изводиться, сердце тратить?
— Трезвым быть значительно труднее, чем пылать и изводиться. Если хочешь, на трезвость, на сохранение так называемого здравого смысла, сердечных сил уходит не меньше, чем на слепую искренность, на так называемые слепые страсти. Ум, да и сердце тоже, надо занимать ясным представлением, чего ты хочешь от жизни. Все почему-то думают, что ясность, трезвость, готовность к делу даются легко, пренебрежительно уравниваются с черствостью. И никто не думает, что это так же трудно, как сходить с ума, неистовствовать, пыль в глаза пускать. Еще как трудно. Вернее, неизвестно, кому легче. Или, не отводя глаз, на жизнь смотреть, или прятаться за раздражение, за нервы, за скуку.
Ей стало жалко его.
— Никто так не думает. Я не думаю. Сочувствую, Романов, понимаю. Все одну жизнь живут, и жить всем трудно. Согласна и никуда не прячусь. Буду тоже, не отводя глаз, смотреть. Ты смешно… хорошо сказал: трудно с ума сходить…
— Я сказал: это так же трудно, как сходить с ума.
— Ну, хорошо, хорошо, — Ирина Алексеевна снова зябла, снова кто-то шептал на ухо: «А, как будет, так и будет». Пересела на диван, подобрала ноги, укуталась в шаль.
Андрей, не приглашая, неторопливо выпил еще рюмку, задумчиво почмокал, подпершись, посидел за столом: то ли горевал, то ли пытался проникнуть в будущие дни. Потом пересел к Ирине Алексеевне, обнял, крепко и неловко; пуговицей куртки оцарапал ей щеку.
— Все-таки, Ирка, мне больше никто не нужен. Никто. — Поцеловал. — Слышишь? — Еще раз поцеловал. Обнимал уже с такою силою и старательностью, что Ирина Алексеевна задохнулась.
— Не надо, Романов. Я очень устала. Нет, нет! Слышишь?! Успокойся. Все-таки помолвка — не свадьба. Рассуди-ка. И успокойся.
12
Она долго не спала. «Надо же было превратиться в такую дуру! Замуж собралась. Господи. Думала, будет все равно. Но не бывает, врут — никогда не бывает все равно. Больно, тошно, пусто, но не все равно! Вот именно — пусто. Рядом с Романовым будет пусто. Пусто. То есть — ничего, неживь какая-то, «солнечное кавказское долголетие». Наверно, к боли можно привыкнуть, к тоске, а как привыкнуть к пустоте? К «ничему» как привыкнешь? Да и привыкать-то неохота. Не хочу делить эту безоглядную занятость, это упоение ею. Не хочу даже присутствовать при этом постоянном, аптекарском взвешивании жизни: столько-то чувств сюда, а туда — столько-то рассудка. Никогда не научусь. Не смогу, Андрей Романов. Заранее извини, что приехала. Никто, никто мне не нужен!»
Вспомнила Григория Савельича. Ведь видела и понимала быстротечность, печальную зыбкость их связи, — видела, но не отказалась, не смогла отказаться. И теперь удивлялась этому и думала с открытыми, влажно-горячими глазами, что ничего у нее не осталось, кроме этого удивления, и парит оно сейчас над ней облаком, дрожит золотистой, вечереющей синью.
Улыбалась, вновь переживая его слова, капризы, вспышки бурной, горячечной искренности. «Ах ты ненормальный! — шептала Ирина Алексеевна. — Какой же ты ненормальный!» Она угадывала каждый его шаг, каждый вздох. Его смятение и подавленность, когда однажды шли в кино и он боялся встретить знакомых; его смешные, мучительные попытки примирить ее появление с семьей, с его Аней, жизни которой Ирина Алексеевна сочувствовала и завидовала; его томление в прощальный день, когда он с такою ребячьей наивностью откладывал и откладывал подальше горечь, что смотреть было невозможно, — иногда ей казалось, что он совсем маленький мальчишка, который, играя в прятки, сунул голову за занавеску и кричит: «Нету меня! Спрятался».
«Дуралей, какой дуралей! — шептала Ирина Алексеевна. — И этот шрамик у него на плече. И посапывал смешно, с присвистом. Господи, какой же родной! Правильно эти геологи в поезде говорили: сердце не безразмерное, по одному человеку в него вмещается, по одной родине. Родной, родной. Да не мой. И на память ничего не осталось, и сюда, дуру, принесло. Ну, что ж теперь, что одна. Пусть… Хоть бы какую-то память о нем. Господи, как я сразу-то не поняла, что никто мне не нужен, кроме него. Никто. Нет, не может же все уйти. Должно что-то остаться. Обязательно. Да, да…»
…Утром дождаться не могла, когда уйдет Андрей. Он громко вздыхал, громко топтался, громко пил чай — очень хотел, чтоб она проснулась, но Ирина Алексеевна, отвернувшись к стене, упорно рассматривала обои сквозь смеженные веки.
Андрей наконец ушел, звонко, протяжно щелкнул замок. «Он с ума сошел! — Ирина Алексеевна вскочила, бросилась к двери. — Действительно, закрыл. Нет, он что думает?! Действительно, взаперти, под замком? Рассчитал, пошутил, слово сдержал. Ну, Романов!»
Оделась, взяла сумку, подошла к окну. Оно было заклеено на зиму. Достала маникюрную пилку, распорола бумагу на стыках, с силой, но осторожно рванула раму, распахнула — делала все четко, быстро, уверенно, будто всю жизнь открывала запечатанные окна.
Вылезла во двор, к поленницам — никто не видел, не слышал. «Ничего себе невеста, славно поворачивается». Тщательно закрыла окно, отряхнулась, неторопливо обогнула дом, неторопливо вышла на улицу. И тут же прибавила ходу. До вокзала вытерпела, не оглянулась. Вздохнула посвободнее и поглубже, раскрыла сумку и направилась к кассе.
13
Григорий Савельич снял трубку, услышал:
— Я вернулась. — Голос надламывался как-то дрожаще, переливчато. — Ты можешь прийти? Пожалуйста, хоть на минуту.
— Ира? Нет, узнал, но не поверил. Не ждал. Ну, почему не думал? И сейчас вот раздумался изо всех сил. Хорошо, приду.
«Еще спрашивает: неужели даже не думал. Почему, кстати, «даже»? Думал, еще бы не думать! Думал — все, освободился, покой, мир, нет к прошлому возврата. Да мало ли что я думал! И все — снова да ладом. Сейчас начнется: милый, хороший мой… А хороший твой только-только оклемался, худо-бедно семью удержал. Что же это она? Раз все, то все».
Холодно, негромко он сказал чуть ли не с порога:
— Здравствуй, Ира. С приездом. В самом деле, я на минуту.
Ирина Алексеевна кивнула, соглашаясь:
— Пройди, присядь. — К облегчению Григория Савельича, не кружила, как прежде, не ластилась, вообще даже не прикоснулась.
Бледная, в том памятном темно-синем костюме, в алой блузке, присела напротив, руки нервно собрала на груди. На Григория Савельича не смотрела.
— Гриша, я напрасно ездила. Там все пусто и не нужно. Я все понимаю. Боюсь, ты думаешь, что я навязываюсь. Попрошайничать буду. Нет, нет, Гриша. Ты живи, как живешь. Как было — не будет. Я уеду домой и никогда больше… — Ирина Алексеевна отвернулась к окну, напрягся и чуть подрагивал подбородок. — Но Гриша. Не могу, не хочу я беспамятной быть… Я хочу от тебя ребенка…
Он не то чмокнул воздух, не то всхлипнул — так занемели, зашлись у него губы. Не сразу и справился, чтобы ответить.
— Ну, что ты говоришь! Ужас, вздор, опомнись!
— Я уеду. Мне больше никого не надо. Ты и знать ничего не будешь. Мы с ним вдвоем будем жить и жить… Гриша…
— Нет, очень здорово получается! Где-то будет жить мой ребенок, а я ничего не буду знать. Колькин брат, понимаешь. И я, такой негодяй, ничего не захочу знать. Ира, бог с тобой! Нет, ни за что.
— Ты, наверное, думаешь, я ловчу. Хочу привязать тебя. Ты пойми, Гриша. Тебя же нет, не будет для меня.
— А вдруг ты замуж соберешься? Кому он тогда нужен будет? Ничего хорошего о себе я сказать не могу, но все-таки… Нет, нет, Ира!
— Замуж я отсобиралась, Гриша. Повыходила — и хватит. Ах, боже мой, неужели ты не понимаешь, Гриша! Мне никого, никого не надо.
Ирина Алексеевна еще больше отвернулась к окну — он видел только побелевшую щеку и мочку уха, как-то одиноко и жалко выглядывавшую из-под волос. Она плакала, но слез ее он не видел.
— Уходи, Гриша.
Он замялся: и рад был, что отпускала, и совестился, что оставляет в слезах.
— Иди к черту, к черту, к черту! Видеть тебя не хочу!
— Ира, ну, что же ты так… — Постоял, поглядел на вздрагивавшую спину, потянулся было успокаивающей ладонью, но пересилил себя: резко повернулся и выбежал.
ПАРОМ ЧЕРЕЗ КИРЕНГУ
1
Зина собиралась в дорогу. Она хваталась то за одну вещь, то за другую, пока наконец не отчаялась.
— Да ну их к черту! Нагишом поеду, а не повезу. Вот эту не повезу! Эту! Эту! — Металась меж стульями, хватала кофточки, блузки и швыряла в угол.
Маленькая Верка восхищенно всплеснула руками:
— Ой, мама балуется! — присела перед кучей тряпья. Нахмурилась. Укоризненно закачался бант. — И чевой-то девка бесится. Прямо узды на нее нет! — Верка уже играла в бабушку, и голосишко ее, тоненький, еще лепетный, забавно, но верно схватывал бабушкины ворчливые нотки.
Странно, со всхлипами расхохотавшись, Зина бросилась к ней, подхватила, подкинула, белоголовую, в желтом бумазейном платьишке.
— Солнышко ты мое! Цыпленочек! Одуванчик-хитрованчик! — И все целовала тоненькую нежную Веркину шею, худенькие, в белом младенческом пуху, плечи.
Мать Зины, Марья Еремеевна, разбитая этими сборами, сидела на табуретке, уперев руки в колени.
— Давай трави, рви душу-то! Вот што ты ее тискаешь? Ох, девка. Кукла она тебе, щенок толстоморденький? Отпусти сейчас же! Смотреть не могу — сердце заходится. Ну што, што реветь-то! Ох, Зинка, Зинка! Ну што ты со мной делаешь? — Марья Еремеевна потянула концы платка к глазам. — Счас какие еще слезы. Вот уедешь — там наплачешься.
— Перестань, мама. Ведь обо всем договорились. Что же, снова начинать? Кто кому душу рвет — еще посмотреть надо.
— Договорились, договорились. Легше, што ли, стало? Я ночей не сплю: ладно ли договорились? Кто его знает, сколько ты там пробудешь? А у меня сил, сама знаешь, не больно-то. Старый да малый — много мы тут наживем. Отцовой ласки Верке не досталось, так еще и материной лишится.
— Ну вот! Никуда я не поеду! Так и знала! До последней минуты довела, а теперь «ночей не сплю». Ну как я после этого поеду? Ну советчица ты, Марья Еремеевна, ну агитатор. Спасибо, в ножки кланяюсь!
— Будет, будет кваситься-то. Чуть чего, сразу мать виновата. Што я такого сказала? Нечего дергаться, характер выказывать. Без прикидки ни одна живая душа не живет. Вот я и прикинула. Чтоб и на новом месте заботу помнила. Характеру хватило в подоле принести — вот и слушай теперь мать, больше некого тебе слушать.
— Давай, давай, все собирай… Было и было. Который год попрекаешь… Зачем тогда говорила: поезжай, поезжай, чего тут высидишь. Хорошо. Буду возле тебя сидеть и в рот заглядывать.
— Я и счас скажу: поезжай. Нечего переворачивать. А душа все равно болит: ведь вон в какую даль едешь. Судьбу пытать — самые твои годы. Я вот проворонила, просидела с вами — ничего не дождалась: ни царства небесного, ни какой другой доли. А подмывало, ох подмывало постранствовать-то. Я, может, прирожденная странница, да не всегда по-твоему жизнь выходит. Хоть ты постранствуй, пока мои ноги да руки не отнялись.
— Ох, мама, у тебя семь пятниц на неделе! — Зина ладонями вытерла слезы и подвинула рюкзак к себе.
2
Давно еще, в девчонках, Марья Еремеевна провожала бабушку на богомолье в Иркутск. Прошагали они двести верст, поклонились мощам святого Иннокентия и назад пошагали. Больше Марья Еремеевна из своего захолустья никуда не выезжала, ни пешком, ни машиной. Схоронив мужа, растила дочерей — Аграфену и Зинаиду. Была враз сторожихой, прачкой, дворником — вытянула девок, выучила: Аграфена закончила бухгалтерские курсы и уехала на Сахалин, там и замуж вышла. Зинаида тоже специальность получила — маляра-штукатура в ремесленном училище, но семьи не завела — Марья Еремеевна ни кавалеров не видела, ни женихов, а Верку Зинаида нагуляла. Уж как Марья Еремеевна ногами топала и по щекам хлестала, уговаривала Зинаиду не рожать, не прибавлять сиротства, но Зинаида переупрямила. Живет теперь Верка, краса ненаглядная, бабушке на радость.
Пока Марья Еремеевна сторожила, стирала, мела дворы, пока дочерей в люди выводила, утвердилась в мысли, что лучшие ее дни остались на ясной, тихой августовской дороге, по которой шли они когда-то с бабушкой на богомолье. Разогнувшись над корытом или остановившись посреди двора с метлой в руках, Марья Еремеевна любила вспоминать вслух:
— Бабушка приморится, сядем мы с ней на обочину, кваску попьем или воды, хлеба с луком, с яйцом крутым пожуем и — сидим-посиживаем. Поля, луга, леса — звоном, медом, голосами какими-то далекими накатывают. Я не своя прямо делалась. Вскочу, и будто кто за мной гонится. Мчусь к поляне, обсевку какому-нибудь. Цветы рву, визжу от радости, и все время охота мне то ли кувыркаться, то ли валяться, то ли лётом каким-то по траве, по волнам эти прошмурнуться.
Дальше идем. Смотрим, как народ живет, работает. Сами где пособим — в поле ли, в огороде. И што удивительно: ни одного плохого человека не встретили. Может, маленькая была, не замечала еще плохого-то? Угостят, переночевать пустят, в дорогу добрым словом проводят. Может, и счас так? Давно не ходила. Но про себя когда думаю: а зачем русскому человеку меняться? Нарастопку жили, и ничего — добра не убывало. И счас, посмотришь, тоже душу-то не жалеют. А? Так оно или нет?
С Веркой Марья Еремеевна нянчилась, не бросая работы. И участок, который убирала, был рядом, да и магазин, который сторожила — неподалеку. Отдежурив, быстро расшоркивала тротуары и бежала домой «еще на одну ударну вахту заступать», отпускала Зину на работу.
Верка спала под репродуктором — при Зине он молчал, при Марье Еремеевне орал во все горло — она боялась задремать: не дай бог в это время Верка расшибется или чего проглотит. «Да мало ли кака холера может приключиться». Верка привыкла к неумолкающему дребезжащему голосу радио и, когда заговорила, сама напоминала Марье Еремеевне: «Баба, радиво», — и тянулась в сторону черной коробки.
Марья Еремеевна руками всплескивала, смеялась:
— Так меня, Верка, так. Баба у тебя радиво, чистое радиво. Круглые сутки без передышку мельтешу, и никто меня не остановит. Там хоть новости передают. А у меня, Верка, никаких новостей. Да и откуда у старых людей новости могут быть? День да ночь… Давай-ка я тебя кашей лучше покормлю. Посидим послушаем, кашу-то и скушаем.
Однажды Марья Еремеевна услышала, что некий пожилой англичанин отправился пешком вокруг света. Поступок его так взволновал Марью Еремеевну, что она несколько дней не могла успокоиться:
— Ведь старик уже, считай, ровесник мой, и на тебе, зашагал. Вот што ему не сиделось? Скушно, говорит, стало? Мне давно скушно, дак все равно сижу. Мхом уже обросла. Труды да грехи тяжкие, — Марья Еремеевна в упор смотрела на Зину, — не пускают. Не-ет, я знаю, почему он пошел. Он настоящий странник, хотя, может, до этого похода и носу из дома не высовывал. Деньги копил, с духом собирался — это дело долгое, с духом-то собраться. Может, помрет по дороге, дак с чистой совестью: о чем мечтал-думал, с тем и в могилу лег. Эх, мне бы по земле походить. Вот уж насмотрелась бы!
Старик англичанин, пешком пересекавший пустыни и океаны, видимо, долго занимал воображение Марьи Еремеевны, и существование его материализовалось наконец в несколько странное и неожиданное для Зины предложение:
— Зинка, а ты-то в нашей дыре чего потеряла? Давай поезжай куда-нибудь. Хоть ты посмотри белый свет. Вон к Аграфене езжай, на Сахалин. А лучше на чистое место, без родни, одна-одинешенька, так-то сладко в свой интерес пожить!
— Прямо сейчас, что ли? Или до завтра погодить? Нашла одну-одинешеньку — ну, как язык у тебя повернулся? А ты, а Верка?
— А я с Веркой здесь посижу. Ей три года скоро. Очередь в ясли подходит. Пока тяну-могу, пользуйся, Зинка. Што ты тут высидишь? Пенсию? В нашей ремстройконторе одно старичье. Неужели тебе с ними не надоело? Не жалела бы, так не отпустила. — Марья Еремеевна понизила голос, оглянулась на Верку с быстрой слезой. — Может, отца ей там найдешь. Устроишься по-человечески. Здесь-то ты кого дождешься? Стариковское у нас место, стоячее. Ни стройки путной, ни другого заделья на будущее. Поезжай!
— Никуда не поеду! Разложила все, рассчитала и даже мужа высмотрела. Обойдусь. Никаких чистых мест и никаких мужей мне не надо!
— Дура ты. Это в двадцать два кажется, что ничего не надо, и все равно все будет. Годы-то как маятник. Тик-так, тик-так, смотришь, и судьбу уже не переделаешь. Ну да черт с ним, мужем. Просто так поезжай. На людей посмотри, себя покажи.
— Легко сказать — поезжай. Страшно же: никого не знаю, меня никто не знает. Об Верке с ума сойду.
— Не сойдешь. Не в детдоме оставляешь.
Не сразу, но Зина привыкла к мысли, что куда-то поедет, где ее не ждут и вообще даже не знают, что живет на свете такая Зина Чепрасова, мать-одиночка, лучший маляр в Свийской ремстройконторе. Эти главные, как считала Зина, свои приметы она часто повторяла про себя с хмурою улыбкой, словно представлялась кому-то, с кем-то знакомилась, предупреждая усмешливой прямотой возможное любопытство к своей судьбе. Далекий край, где она собиралась жить, был в видениях лесистым, тихим, с чистыми густыми лугами по берегам прозрачных, неторопливых рек. Зина видела и вечерние зори, золотисто-мягкие, с розоватым дымком у воды, и себя на белом речном камне в медленно-сизых сумерках. Видела кого-то рядом, но не с тою грубой очевидностью, как мать: «Верке отца найдешь, себе мужа», — а тоже в нежной сумеречной дымке наконец-то найденного, желанного, единственного.
Только где этот край? Марья Еремеевна, наслушавшись радио, каждый день меняла географические привязанности: Джезказган — «тепло, конечно, там, фруктов много. Но, поди, по-русски и не говорят. Будешь как глухонемая»; Синегорье на Колыме — «интересное место, но уж больно далеко. В случае чего и не дотянешься». Где же, где этот край?
Как раз заговорили о БАМе. Зина послушала, послушала, и дрогнуло сердце: вот уж действительно чистое место. Речки, да горы, да звери — небывалое, одним словом, место. И у Марьи Еремеевны БАМ вызвал устойчивое изумление.
— Ты посмотри, што делается! По два раза на дню погоду с этого БАМа передают. Шестьдесят лет живу, никто не заикнулся — дождь в нашем Свийске или солнышко. Дела никому нет. А тут, пожалуйста: што в Москве, што на БАМе: и давление, и градусы, и в ближайшие сутки. Поезжай туда. Я вроде как весточку каждый день от тебя получать буду. Сегодня на мою Зинуху дождь сыплет, в плащишке, значит, побежала на работу, косынку эту целлофановую повязала. Считай, видеть тебя каждый день буду. Давай собирайся.
Зина собралась и поехала.
3
Прилетела в Казачинск, старый таежный центр. Узнала, что до Магистрального, бамовского поселка, еще двенадцать верст. Автобусы туда не ходят. Можно на попутке добраться до паромной переправы, а «там не заблудишься, там рукой подать».
Прошла тесными, раскисшими после недавнего дождя проулками к деревянному горбатому мосту через протоку, постояла на нем, привалилась к перилине — сейчас в Свийской ремстройконторе бригадир дядя Коля кричит, наверное, тоненьким голосом: «Перекур, товарки!» — подделываясь под голос своей жены, работавшей в их же бригаде.
Зина огляделась: на берегах протоки редко стояли вербы, одинаково выгнув над водой зеленовато-белые грустные шеи; гусиная травка, клейменная коровьими копытами, весело подкатывала к самым заборам, к темным, каким-то чугунно-мордастым домам. «Вот он, дальний край, — думала Зина. — Ни лугов пока, ни прозрачной речки, ни белого камня над ней. Пока летела, все дома была. А теперь уж точно: одна-одинешенька. Ну, ни одной знакомой души! Это как же я теперь буду?»
Под мостом, в густой мшистой ряске, испуганно и торопливо завтракал селезень-чирок, сдуру залетевший или заплывший в центр села. Сам не свой. «Как ворованное ест, с оглядкой. Тоже, поди, не знает теперь, где кого искать».
Вышла за околицу, обозначенную полуразобранной жердевой изгородью, увидела дорогу, пролегшую меж болот, озер, островков, матерых, влажно-угрюмых ельников, — дикая, темная синь их могла проглотить не одного царевича на сером волке, по крайней мере, тыщу с Зиной в придачу. Она поежилась, поойкала про себя и пошла.
Вскоре догнал ее грузовик.
На галечной узкой косе, почти под окнами леспромхозовского поселка Ключи, ждали парома люди, машины и две лайки, рыжая и белая, с терпеливым достоинством сидевшие чуть на отшибе. То ли встречали хозяина, то ли добирались к нему.
Зина наклонилась к воде — прозрачные быстрые струи задевали донный песок, он приподнимался тонкими, колеблющимися жгутами. Приподнимался и медленно, роисто оседал — вот-вот коснется дна, но река сшибала песчинки, сносила к далеким ленским плесам. Киренга не давала этим подводным песочным часам работать, знать не желала никакого времени! Зина глянула на другой берег, засмеялась: на широком песчаном языке, высунутом из глинистого ольхового обрыва, лежал белый камень-валун, на котором она уже сиживала в своих мечтах. «Вот и камень бел-горюч нашла, и речка прозрачная есть. Чего тебе еще надо, Зина?»
Захрустела, заскрежетала галька под железным брюхом парома. Высунулся из рубки паромщик, краснорожий и чересчур веселый:
— Эй, романтики! Вперед машины. Техника решает все. Матери небесные! Да куда вы все гуртом-то!
Лайки заскочили первыми, ловко, привычно забрались по бухтам канатов на крышу будки, вежливо улыбнулись веселому паромщику. Он опять заорал:
— Ах, так вашу! Молодцы! Без гаму, без сраму — и в дамки! Счас, счас! — нырнул в рубку, выложил перед собаками какие-то объедки в газете. Они понюхали, из вежливости взяли по кусочку и замерли, умно помаргивая черно-сизыми глазами.
К Зине подошел парень, впрочем, мальчишка, конопатый, бледно-зеленый, всклокоченный, в длиннополой куртке с множеством карманов, и из каждого выглядывали сургучные мордочки бутылок.
Ты приехала на БАМ, Не придешь ли в гости к нам, —частушечным, тонким покриком вывел он, и Зина поняла, что мальчишка пьян. Она отвернула к воде.
— Приходи, приглашаю. Именины, день ангела, рождество Семеново. Эх, гуляю! На зарплату живем, на надбавки гуляем! — Мальчишка заглядывал ей в лицо, неверно и смутно привалился к бортовому канату. Откачнулся от него, как уставший боксер, призывно вздернул руки. — Всех приглашаю. Третья палатка. Сенька Худяков.
Эх, лапти, вы лапти мои!Из новенького «газика» вылез седой сухолицый мужчина с черными, строгими, густыми бровями. Оттащил подальше от каната Сеню Худякова.
— Для всех, значит, закон сухой, а для тебя мокрый? Бамовец нашелся. День ангела средь бела дня. Опомнись, Семен Худяков. — Мужчина одной рукой придерживал качающегося Сеню, второй быстро выхватывал из его карманов бутылки и швырял в воду. — Опомнишься — благодарить будешь. А если не благодарить, то хоть подумаешь как следует: зачем ты сюда приехал? — Мужчина выбросил последнюю бутылку, и откуда-то сверху послышался протяжный сожалительный стон. Это паромщик, округлив глаза и перегнувшись через штурвал, не сдержал своих бурных переживаний.
— А ты что стонешь? — поднял голову седой мужчина. — Уж не нырнуть ли за ними хочешь?
— Я ничего, Владимир Павлович. — Паромщик отпрянул внутрь рубки. — Мое дело штурвал крутить и наблюдать за жизнью.
— А дальше что? Понаблюдаешь, а дальше?
— Сделаю выводы, Владимир Павлович. Категорически. Буду начальником поселка Магистральный. Обо мне еще услышат. Не только местное население.
— Что-то долго ты наблюдаешь, а выводов нет и нет.
Зина услышала, как за спиной кто-то вполголоса спросил:
— Что за мужик?
— Секретарь райкома. Здешний, — ответил кто-то вполголоса.
Сеня Худяков уселся на кнехт, задремал было, но вдруг дернулся, головой потряс и заревел:
— Ничо-о не выходит. Машину дали — сломал, девчонка не пишет, сам балдею, какие тут именины. Ничо-о не выходит. Никому-у не нужен. — Он размазывал слезы по веснушчатому белому лицу. Владимир Павлович снял с крюка ведро на веревке, бросил за борт, зачерпнул воды.
— На-ка вот, попей да умойся. Всем нужен. Проспишься, Семен Худяков, и всем будешь нужен.
Сеня, всхлипывая, обливаясь, долго пил, и был уж такой жалкий и неприкаянный, что Зина отвернулась. «Совсем дурачок еще. Лопоухий. Мать-то, наверное, испереживалась, отпустила такого». Она вздохнула и принялась смотреть на Киренгу — паром как раз достиг стрежня.
Плыли по ней острова, праздничные, в красно-золотистом, сентябрьском тальнике; встречь им шли чумазые неприглядные буксиры, баржи, до бортов просевшие под тяжестью тракторов, самосвалов, бульдозеров; в дрожащей прозрачной дали выгибались, скользили, таяли берега, пропадали в серебристой желтизне ольшаников, в тихом, млеющем золоте березняков, а ближняя к парому земля была измята, разворочена гусеницами, колесами, ножами бульдозеров. Древняя, нетронутая красота изо всех сил сопротивлялась приходу человека. Но все-таки без чумазых буксиров, без этого железного, громыхающего парома красота окрестная не была бы столь живой, столь одушевленно печальной.
4
Потом Зина шла по берегу вдоль длинного, наспех сделанного причала, где скрипели лебедки, ревели автокраны, сипло посвистывали буксиры, с глухим урчанием в утробах катились в кузова машин бочки с горючим. Поодаль от причала на высоком обрыве были уложены рельсы, всего какой-нибудь десяток рельсов, и на них осадисто, тяжело стоял вагон без окон, весь в металлических шторках и задвижках — Зина решила, что вот оно, начало БАМа, а вагон поставили вместо некоего памятника, показывающего, где проляжет дорога. Подошла, покачалась, побалансировала на рельсе, постояла, склонив голову, подумала: «Вот так. С этих шпал и пошагаю. Может, до самого Амура».
Зина не знала, что вагон этот — часть энергопоезда, приплавленного по большой воде, и скоро его уберут, перетащат на положенное место. Не знала она также, что с утра в кустах возле обрыва прячется фотокорреспондент, карауля, высматривая момент, когда брошенный вагон превратится, по разумению фотокора, в символ. Зина появилась кстати. Ее тонкая ловкая фигура на обрывающихся рельсах, задумчиво склоненная голова, матерые, таежные хребты на заднем плане — фотокор возликовал: вот он, долгожданный кадр. Снимок этот с краткой подписью «Утро БАМа» обошел многие газеты, но Зине в руки так и не попал. В палаточном городке, куда Зина пришла через глинистый, вязкий овражек, спросила у первых встречных, где найти начальство.
— А вон в шляпе ходит, — показали ей на плотного, толстенького человека в зеленой робе, в болотных сапогах и мохнатой маленькой шляпе, напоминавшей пилотку.
— Здравствуйте, — догнала его Зина. — Вот работать к вам приехала.
— Очень рад. Дикарем?
— Нет, сама по себе.
— Начальником поезда хочешь?
— Какого поезда?
— Строительно-монтажного. Вместо меня?
— Я лучше уж маляром-штукатуром останусь. А вас увольняют, что ли?
— Не увольняют, но уволят, если приму хоть еще одного человека. — Он остановился. — Будем знакомы. Бугров. Чепрасова? Очень рад. Плакса? Нет? Ну, просто умираю от радости. Тогда слушай: не приму я тебя, товарищ Чепрасова. Не уговаривай, не объясняй, не клянись — бесполезно. Не приму. Будь здорова. Надеюсь, мы больше не встретимся.
— Хоть бы спросили чего-нибудь. Не каждый день видимся.
— Все знаю, все слышал. Тебе не терпелось хлебнуть настоящей романтики… чтобы было что в жизни вспоминать и детям рассказывать…
— Вовсе не так. Села, прилетела, давайте работу, все равно не отстану.
— Этот вариант тоже знаком. Отстанешь. Совесть есть, отстанешь. Нету совести — проводим. Пока.
— Говорят про вас, пишут, до небес возносят, а вы… вы… — Зина замялась.
— Бюрократ? — подсказал Бугров.
— Нет.
— Чинуша?
— Нет.
— Шляпа, валенок, гусь?
— Да нет же!
— Извини, но покрепче не могу. А то обзовешь матерщинником.
— А вы заелись тут, без души совсем стали! К вам тянешься всем сердцем, а вы только насмехаетесь. Герои называется.
Бугров вдруг огорчился: плечами пожал, враз руки развел, толстое, курносое лицо сморщил, но промолчал, опустил плечи и покатился грустным круглым колобком.
Зина совершенно расстроилась, пошла было слепо и вяло вслед за Бугровым, но спохватилась: пока наговорилась, да и ему пока нечего сказать. Спохватилась, огляделась и вздрогнула: над поляной, между рядами палаток парило большеглазое, большегубое женское лицо, вытесанное из огромного соснового комля.
Узловатые морщинистые корни причудливо обвили лицо, напоминая крылья некой сильной, только что взлетевшей птицы. От неожиданного взлета глаза женщины испуганно, удивленно, гневно расширились, а сочные большие губы подернула улыбка — должно быть, радостно захватывало дух от этого вознесения.
Но Зина не заметила улыбки, ее отталкивали, гнали с поляны удивленно-гневные глаза: «Тебе-то что здесь надо? Ты-то откуда взялась?» Зина сгорбилась, совсем поникла, ушла с главной поляны Магистрального, присела на лавку под обеденным навесом. К раздувшимся брезентовым стенам котлопункта подъезжали и подъезжали машины с голодными, веселыми, голосистыми парнями, девчонок было мало, и приезжали они не в кузовах, а в кабинах. Брезентовая крыша котлопункта парусила, взметывалась под напором голосов и хохота. Зина позавидовала им и загрустила, что она не среди этого буйного разноголосья, всхлипнула, кто-то немедленно откликнулся ей таким же долгим и тяжким вздохом. Она подняла голову: напротив, на лавочке, сидел черный кудрявый парень со слезно-горящими, сизо-терновыми глазами.
— Передразниваешь, что ли? — спросила Зина.
— Зачем передразнивать. Самому, девушка, так тяжело, наверно, плакать буду. Вот ты приехала, осталась, а я назад поеду.
— Издалека ехал?
— Узбекистан, девушка. Рашид — так меня там звали. Здесь никак не зовут, никто не прибежал посмотреть, как Рашид приехал. Думал, БАМ — такая стройка, можно хоть сторожем ехать.
— Почему сторожем?
— Рука одна нехорошая. Не может работать. — Зина увидела, что левая рука парня засунута в карман пиджака. — Я техникум кончал дорожный, много кой-чего знаю. Руки нет — голова есть. Разве голову на БАМе не надо?
— Сейчас им руки нужны, да и то не всякие. Лучше бы тебе подождать было, пока головы не понадобятся.
— Зачем потом? Думал, Рашид сейчас нужен. Потом нехорошо. Все сделают — только пассажиром будешь. Я не пассажир, я сначала хочу. Говорю начальнику: «Хоть сторожем ставь. Буду в тулупе ходить». — «Нечего, — говорит, — сторожить. Нету воров». — «Как это воров нету, — я ему отвечаю. — Кто же тогда на Иркутском вокзале меня обокрал? Может, тоже сюда едут». — «Нечего им здесь делать, — начальник говорит. — Они работать не умеют, а здесь работать надо». Тогда я ему сказал, что сторожить всегда можно. Колышек в землю вбил — уже можно охранять. Много еще сторожей надо. «На всякий случай, — говорю, — давай сторожем стану». Не согласился. Придется Рашиду назад ехать.
— Как же вас обокрали?
— Сил не было, заснул. Все унесли, и пальто унесли.
— А деньги?
— И деньги. Сам удивляюсь, что не слышал.
— Так ты же голодный! — Зина отвернулась, расстегнула кофту, из лифчика достала платок с деньгами — так советовала держать их Марья Еремеевна. Протянула Рашиду трешку. — Иди поешь. А то до дому не доберешься. И сторожить сил не будет.
— Спасибо, девушка. Есть совсем неохота. Что я буду говорить дома? Ведь меня провожали как человека. Спросят, зачем ты ездил, Рашид? Чтобы незнакомые девушки угощали тебя обедом? Ой, какой стыд! Так далеко ехать, а назад будет еще дальше. Рашид, Рашид, почему тебе всю жизнь не везет? Спасибо, девушка. Приезжай в Узбекистан. Будем вспоминать, как встречались на БАМе.
5
«А что я скажу дома? Прокатилась, мол, и хватит. Посмотреть посмотрела, а вот себя не показала. Мать же изведет: «Эх ты, раззява, — скажет. — В кои веки случай выпал судьбу-планиду в свои руки взять. И тот проморгала. Вот и сиди в Свийске, поглядим, кого высидишь». Конечно, мать просмеет. И правильно сделает. Действительно, раззява». Зина снова увидела Бугрова, вывернувшегося из-за палатки. Вскочила, кинулась к нему.
— Товарищ Бугров! Вы все-таки на работу меня принимайте! Нельзя мне уезжать.
— Здрасьте! Давно не виделись. Про белого бычка опять захотелось послушать. Ты вот посмотри лучше во-он туда. — Бугров показал на пригорок за овражком, где сидели на рюкзаках три парня, широкоскулые, с необъятными плечами, с бронзовыми, широко открытыми шеями, — прямо близнецы, застава богатырская. — Видишь, какие мужики! Лесорубы — первый класс. Плачу, а не беру, потому что нельзя. Как ты этого не поймешь?!
— Между прочим, уезжать мне не на что. На еду немного есть, а уехать не хватит. На последние собралась, думать не думала, что вы меня прогоните.
— Милая моя!. И это знакомо. Я готов всю зарплату отдать, только бы душу вы мне не выматывали. И так уж двоих за свой счет отправил — проходу не давали. Неужели и ты из породы попрошаек?
— Я не попрошайничаю, а прошу. Что же мне, топиться теперь, что ли? Мне недолго добежать до берега… Тогда что?
— Тогда ты уж никогда не сможешь работать на БАМе. Разговор окончен, все сказано, и бесповоротно. Будь здорова, кланяйся маме.
— Ее бы на вас напустить. Посмотрела бы тогда, что от вас осталось.
Зина оставила рюкзак и чемодан в девчоночьей палатке под присмотром дежурной и отправилась по дороге вслед за машинами в Постоянный поселок, строящийся в двух километрах от палаточного. Срезала угол по полю, где разгружались вертолеты, большой и маленький. Из большого вытаскивали ящики со стеклом, шифер, древесностружечные плиты, тюки с паклей. Из маленького — консервы, апельсины, яблоки, коробки с шоколадом и печеньем. Зина немного постояла, посмотрела, потому что не видела раньше вертолетов так близко. Грузчики торопили друг друга, покрикивали: «Давай, давай!», сияя пыльными, потными лицами, ни на минуту не замедлились до шагу, все бегом, бегом. «Это чтобы вертолет долго не стоял, — догадалась Зина. — За простой грузовика и то платят, а тут, наверно, каждая минута ой-ей сколько стоит». Почему-то ее так утешила собственная догадливость, что настроение немедленно улучшилось — в Постоянный поселок Зина входила с ожившей надеждой: «Еще все наладится».
Стояло несколько домов из бруса, в сторонке грудились несобранные передвижные домики, на бугре, ближе к сосняку, вытянулось почти готовое строение, по размерам подходившее для клуба, и для школы, и для столовой. И везде торчали из красновато-серой земли лиственные сваи в дегтярных потеках антисептики, точно некая босоногая толпа недавно перешла илистую речку.
В прохладном, влажно-хвойном воздухе Зина сразу учуяла запах масляной краски и обрадовалась ему, устремилась навстречу, как к близкому и давнему знакомому, найденному в чужом краю. Три девчонки при раскрытых окнах красили панели в кухне, стесненной громадной, неуклюже сложенной печью. Красить девчонки не умели: густо развели краску, и кисти шли туго, коротким мазком, не выкрашивая набранную краску. Черенки их девчонки обернули носовыми платками, чего настоящий мастер никогда не сделает. Неловко, и все равно не защищает руку от масляных веснушек. В углу стоял накатный валик — видимо, не пошел по густой краске.
— Девочки, здравствуйте. Можно, я вам помогу? — с нетерпением в голосе сказала Зина. — Прямо руки чешутся.
— Новенькая? Нет? Откуда перевели?
— Да ниоткуда. С самолета — и к вам. Ну, можно, покрашу?
— Так и быть. — Высокая, смуглая, с матово-синими глазами девчонка протянула ей кисть. — Побуду малость Томом Сойером.
— Сейчас, сейчас. Я без кисти. — Зина нагнулась, подлила в краску олифы из узкогорлого бидона, сноровисто, без всплесков, взяла валик, чуть тряхнула его, крутнула, одновременно окунула в краску; не уронив ни капли, развернула на стене ровную голубую ленту, плотно сошедшуюся с филенкой. Девушки опустили кисти, отошли. Зина, прикусив губу, быстро откатала одну стену, другую, третью.
— Вот разлетелась, — весело сказала высокая смуглая. — Правда что с самолета. Передохни, остынь, дымишься уж. Ты случайно не инструктор по малярному делу?
Присели на корточки у печки передохнуть. В самом деле, никто из девчонок до нынешней осени не держал в руках малярной кисти. Одна работала бухгалтером в тресте столовых, другая — воспитательницей детского сада. Высокая и смуглая, ее звали Асей, — крановщицей на стройке. «Недаром она больше всех мне понравилась», — Зина вздохнула.
— А я, девочки, маляр пятого разряда! — Зина опять вздохнула, пожаловалась на Бугрова, на невезучесть свою, удивилась в который раз, что на такой стройке ей не нашлось места. Девчонки сочувственно поддакивали и говорили: «Начало же. При начале всегда так».
— Прямо не знаю, что делать. От ворот поворот. Даже ночевать негде. Хоть под кустом.
Ася спросила:
— Добиваться будешь или сразу уедешь?
— Еще чего! Конечно, добиваться надо.
— Тогда так. С парома в Ключах сойдешь и прямо поднимайся на пригорок. Увидишь дом с зеленым палисадником — один там такой. Тете Фене, хозяйке, скажешь, что Ася прислала. Я у нее два месяца жила, пока не было места в палатках. Тетка хорошая, пустит.
— Асенька, золотая моя!
— Не унывай. Чуть чего — ты маляр. А маляры и в Казачинске и в Ключах нарасхват. В любом случае переждать сможешь.
— Да нет уж. Я на БАМ ехала. Маляры, Асенька, везде нарасхват.
— Тоже верно.
…Тетя Феня оказалась молодой, румяной, крепкой женщиной. Выслушав Зину, рассмеялась:
— Нашла тетю. Эта Аська — чудило, не могла ее отучить. Сколько тебе? Ну вот, а «тете» — двадцать пять. Смотри, не вздумай. А то уж мужик мой и тот смеется. Из лесу приедет, с улицы кричит: «Тетя Феня, баню топила?» Вон в боковушке жить будешь. Я и кровать не убирала. Ладно, ладно. Сколько сможешь, столько дашь. Я квартирантов не для денег пускаю, а из интересу. Кадры для БАМа берегу.
6
Теперь Зина отплывала первым паромом в Магистральный, а вечером причаливала к Ключам, к материку, который был, в сущности, продолжением Свийска, местом, где догоняли Зину прежние, бесшумные дни. Переплыть бы Киренгу, раз и навсегда, а оставленный берег лишь вспоминать, как вспоминают люди малую, скрывшуюся за речным поворотом родную пристань.
Заходила в контору к Бугрову, если заставала, спрашивала:
— Перемены будут, товарищ Бугров? Устала ждать. Да и не на что существовать.
— Ты кого переупрямить хочешь? — Бугров сдвигал маленькую, пирожком, шляпу на затылок (пожалуй, он не снимал ее и ложась спать), стучал пальцем по крутому бугристому лбу. — Меня? Так я бы давно сдался. Ты хочешь переупрямить штатное расписание. Сомневаюсь, чтоб у тебя это вышло. Легче БАМ построить.
— Сколько народу у вас, шум вон какой, рук не хватает — неужели одного человека приткнуть некуда? Что же вы за начальник?
— Какой есть. Ты еще на меня не жаловалась?
— С какой стати?
— Ну, стать всегда найдется. А то напиши куда-нибудь, расчихвость.
— Все равно ведь не примете.
— Не приму.
— Тогда пока. Может, мне утром и вечером наведываться? Утром мест нет, вечером появятся.
— Хоть целый день сиди. Могу персональную табуретку выделить.
Прежде чем наведаться к девчонкам в Постоянный, Зина час-другой простаивала на расхлестанной колесами черной поляне перед магазинами-времянками. Отсюда уезжали на работу: рубить просеку под будущую магистраль, отсыпать дорогу к причалу, строить общежития, столовую, клуб. Проворно и шумно набивались в кузов парни, только мелькали в широких спинах названия городов: Братск, Ангарск, Шелехов — покачивались, подрагивали надписи эти при зыбистой, валкой езде, постепенно удаляясь, сливались в одну. Машины набирали скорость, и тогда на ветру, над кабинами, взвивались девчоночьи косынки — красные, желтые, розовые крылья трепетали, бились над всеми городами, согревали здешнее неуютное пространство. Зина забывалась, счастливо щурилась, будто ей в лицо бил этот трепещущий ветер, будто за ее плечами звонко щелкала и улетала косынка, а за спиной надежно и бережно стояли многие города и их жители.
Спохватившись, снова запечалившись, Зина шла через поле к Постоянному, помахивала узелком со спецовкой. Но все равно оставался, жил на щеках нежный холодок рабочей дороги.
Девчонки-маляры встречали ее уже как сестру родную, но к этой почти родственной радости примешивалась доля сочувственной почтительности: руки у девки золотые, а вот бьется как рыба об лед.
— Зиночка, бригадир ты наш внештатный!
— У Бугрова была? Опять «нет»?
— Здравствуй, здравствуй, радость моя, дай поцелую. — Это налетела на нее Ася, смуглая, порывисто гибкая девчонка, с которой Зина особенно сошлась.
Зина переодевалась, учила девчонок ремеслу: показывала, как обминать, причесывать кисть, чтоб не «полосила», как «оттягивать» филенки, чтобы не «плакали», не проваливались за линейку сосульными потеками, как подбирать колер панелей к колеру беленой стены.
В «перекуры» сидели с Асей на теплом стволе лиственницы под кустом боярышника с рясными, пламенно-румяными ягодами.
— Ох, Асенька, надоело болтаться! Если бы хоть надежда была — молчала. А как на паром вечером сяду, ну не знаю, куда деться. Холодно с реки, пусто.
— Ну, как же ты без путевки приехала?
— Да ведь кто его знает. Не подумала. Наверное бы, дали. Я ведь на хорошем счету была.
— Зинка, есть предчувствие! — Ася обнимала ее. — Наладится, все утрясется, вот так заживем.
— Хоть бы. И по Верке соскучилась — ужас. Ночью снится и днем мерещится. Как у них там?
— Какая Верка?
— Дочка. Я не говорила, у меня же дочурка-печурка есть. Желтенькое солнышко.
У Аси округлились глаза, невозможным любопытством засияли, поярчели на смуглом лице.
— Так ты замужем была?
— Нет! Что ты! Просто Верку родила!
— Бросил, Зиночка? Обманул?
— Нет, Асенька. Никто меня не обманывал. Приехал парень в командировку, холодильники ремонтировал в магазинах. А я плитку там выкладывала. Познакомились, стали встречаться… Он уезжал, а я уже знала. У него семья — что я ему скажу? Да и не хотела говорить. Мать уговаривала не рожать, но я решила. Скучно мне было, места не находила. А теперь Верка — золотко мое, ласточка.
Ася обняла Зину.
— Зиночка, миленькая! — прижалась лицом к ее щеке.
7
Почти каждый день к Асе приходил недавно демобилизованный ее земляк, Митя, рыжий, стеснительный, голубоглазый парень. Он плотничал на Постоянном. Стеснительность, видимо, мешала ему сблизиться с кем-то из бригады, и вот тянуло к Асе, однокласснице, соседке по улице в глухом далеком Тулуне. Митя приходил, садился рядом с девчатами на лиственное бревно и молча курил, краснел, морщил розовый в крупных веснушках лоб. Ася высмеивала его зло, без устали, точно не земляк приходил, а враг лютый.
— А-а, Афоня-тихоня явился! — певучим голосом встречала его Ася. — Воду мутить, девок любить! Вот отгадайте, девочки, загадку: не пьян, а лыка не вяжет, не ел, не пил — язык проглотил. Что это такое? Не знаете? Бурундук тулунский. Митяй-лентяй.
Митя мучительно усмехался.
— И чего только не выдумывает. И чего неймется? — говорил он, крутя головой.
Зина жалела Митю и спрашивала:
— Ты где это руку расцарапал? Давай перевяжу.
— Ничто, затянет, — Митя благодарно улыбался, неловко раздвигал тяжелые толстые губы — вспыхивали литые, белые, как кедровые ядрышки, зубы. — С собакой баловался. Ну, шутя, хватанула.
— Во-во! — Ася пренебрежительно всхохатывала. — Армию отслужил, а все с собаками балуется. Все щенком охота быть.
Когда он уходил, Зина накидывалась на нее:
— Зачем ты так! Хороший, тихий парень. По дому, видно, скучает, по родным местам. Ты для него самый близкий человек тут! Точно с цепи сорвалась! А он терпит все. Как пес на тебя смотрит.
— Да ну его! Губошлеп какой-то. Не люблю таких. И дома так же. Придет в гости, я думаю, пригласит куда — в кино или на танцы, а он на кухне с бабкой бубнит и бубнит. И вот тоже все про собак и про птичек ей разные байки чумит. Я разозлюсь, выгоню. Всех женихов от дому отбил, а сам в армию ушел.
— Может, любит, да сказать не смеет?
— Ага! Нужна мне его любовь, Молчит, молчит, а у самого в глазах что-то прыгает. Чертики-таинки какие-то. Себе на уме. Знаю я этих бурундуков. Сами себя перехитрить хотят.
Митя, угнетенный Асиными насмешками и черствостью, все чаще поглядывал на Зину, все реже опускал перед ней свое простодушное, конопатое лицо и дымчато-тоскующие голубые глаза, должно быть, вглядывался в ее жалостливую, отзывчивую душу. Видно, находил в ней схожую угнетенность и одинокость. Улыбался неловкими губами и рассказывал, к примеру, как ловил он волосяной петлей жирующих тетеревов, или вдруг, без всякого перехода, начинал пощелкивать языком — изображал играющего глухаря. Бурно краснел и, спохватившись, говорил:
— Да это я так.
Ася хохотала:
— Ну все. Ты, Зинка, сейчас как моя бабушка. А если еще поддакивать ему начнешь, удивляться, тогда нет слов, чистая бабушка.
8
Митя теперь провожал Зину до белого камня на песчаной косе. Иногда вместе с Асей, а чаще один. При Асе молчал или слабо отбивался от насмешек, крутил головой: «И чего ей неймется?» Без нее с неожиданным, как-то не идущим к его неказистому лицу оживлением показывал Зине на кусты боярышника, таволожника, обрывал ягоды, листья.
— Ведь что творится на белом свете! Устал человек, нанервничался, заварит ягоду и опять как умытый. А у таволги весной листья сочные, вкусные — получше салата будут. Вот даже сейчас, попробуй пожуй — во рту сразу посвежеет.
— Откуда это ты все знаешь?
— Да помаленьку набралось. С детства по тайге хожу. Я уж рябиной запасся. Хочешь, завтра угощу?
— Хочу, — Зина, признаться, не испытывала особого интереса к птицам, собакам, травам, но в отличие от Аси видела в этой Митиной привязанности душевную крепость и доброту.
У белого камня он прощался с ней за руку и неизменно говорил:
— Всего, Зина. Не расстраивайся. Что-нибудь придумаем.
В такие минуты она вступала на паром с легким сердцем, оборачивалась, долго махала Мите, присевшему на белый камень. Мглисто-сизыми заберегами ложилась на воду дымка, ясно и холодно сгущался, проступал из бледных звезд месяц и тотчас же падал в быстрые струи Киренги. Переливчатым, дальним звоном входил в Зину вечер.
Перебивал его простуженно-зычный голос паромщика:
— Зинаида, там поезда еще не пошли?
— Гудят, Вася, разве не слышишь?
— А у тебя как, порядок?
— Никак, Вася, не берут, — весело отвечала Зина.
— А чему радуешься?
— Реветь надоело, вот и радуюсь.
— Давай ко мне матросом. Любо-дорого. Тельняшку дам, человеком сделаю.
— Боюсь, Вася. Плавать не умею.
Часто, весело постукивали хвостами лайки, рыжая и белая, давние Зинины знакомые. Они тянулись умными мордами к рукам, просили погладить и приласкать их.
Феня, квартирная хозяйка, ставила перед Зиной кружку молока, блюдо с жареными ельцами, картошку:
— Поди, живот к спине приклеился. Опять без толку ездила?
— Спасибо, Феня, не хочу. Без толку, не без толку, а ездить надо.
— Ешь давай, не выкамаривай. Не хочет она. Где это тебя угощали-потчевали?
— С девчонками в столовой была недавно.
— На какие шиши?
— Говорю же, с девчонками. Они и угощали.
— А я-то думала, еле ноги тащишь. Знала бы, так плясать заставила. Держи. — Феня протянула конверт.
Зина выхватила его и, взмахивая на манер платочка, пошла-поплыла вокруг Фени барыней, чмокнула в щеку и убежала в свою боковушку.
Марья Еремеевна писала:
«Дочка, вот што. Ты сообщаешь, что живешь нормально. Не ври, Зинка. Ни один человек нормально не живет: то одно не клеится, то другое, по себе знаю. Толком напиши, што у тебя за работа, какую зарплату положили, што за девчонки в бригаде. Не особенно возжайся с девчонками-то. Их дело девчоночье, а твое материнское. Самостоятельной будь: на танцульки иди, когда пригласят, а сама туда не лети. Не хихикай, не визжи — мужикам солидность нравится, а не хахоньки. Не злись, што напоминаю, но одной тяжело жить. Ты не видела, как я с вами билась? Верка здоровенька, вот счас топчется вокруг. Сначала часто спрашивала, где мама. Счас пореже, хоть я каждый день о тебе заговариваю: то с ней, то сама с собой. И радио, конечно, сообщает, какая погода на трассе БАМа. Хорошо, што на квартире у семейных, не избалуешься. Хозяйке смотри помогай. Полы когда помой, в стирке помоги. Говоришь, мало с тебя берет, вот и благодари. Стало быть, человек хороший. Пока нечего больше писать. Крепко целуем тебя. Главное, не болей и нараспашку не бегай».
Засыпая, в дремотной, сладкой полумгле Зина увидела себя солидной женщиной: неторопливой, семейной — идет она по улице какой-то, по дощатым тротуарам с Веркой, и встречные, как один, уважительно раскланиваются с ней.
Подумала уж совсем напоследок: «Мите пока про Верку не скажу, а если узнает — ничего. Он добрый, ребятишек любить должен».
9
Через неделю утром девчонки в Постоянном встретили Зину молчанием. Смотрели на нее встревоженно-виновато и тут же отводили, прятали взгляды.
— Бугрова видела? — спросила Ася.
— Нет.
— Только что был. — На Асиных смуглых щеках пробился темно-вишневый румянец. — Знаешь, что он сказал? Чтобы мы не давали больше тебе красить. Говорит, не надо поселять иллюзий.
— Как? — Зина села на бугристую, заляпанную краской скамейку и заплакала. — А вы что?
Ася присела перед ней, горячими ладонями вытерла слезы. Румянец на ее щеках стал еще гуще.
— А мы дуры, Зинка! Дуры беспросветные. Растерялись, промолчали. Извини нас. — Ася вскочила, сдернула косынку, сжала в кулаке. — Он где-то здесь ходит. Сейчас, Зиночка, сейчас. Мы ему все выскажем! Совсем сдурел. Начальничек. — Ася умчалась, девчонки за ней.
Зина так и не встала со скамеечки, сидела, навалившись грудью на колени, тупо уставившись в грязный некрашеный пол. Девчонки вернулись обескураженно-притихшие.
— Мы уж и ревели, и кричали, и просили. Сказал: отправляйтесь по своим местам. Не устраивайте базар в рабочее время. Сам все знаю.
— Зиночка, я ему сказала, что тоже уйду, что не хочу с таким начальником работать. Он как гаркнул: «А ну марш отсюда! Не уйдешь — выгоню! Распустились!» Зиночка, ну что теперь делать, а?
Зина встала.
— Давайте уж напоследок помашу с вами. Накат научу делать. Можно?
— Ну, что ты, Зина, в самом деле?
Девчонки белили квартиру на второй ряд, молча, споро, подладившись под Зинино настроение.
— Чепрасова! — В дверях, привалившись к косяку, курил Бугров. Сколько он простоял — неизвестно. — Пойдем, проводи меня, потолкуем.
Пошли к палаточному городку, но толковать не толковали, Бугров молчал, Зина тоже. «Может, он меня с милицией решил выставить? Приведет и сдаст?» — подумала она.
Бугров остановился у орсовских складов:
— Видишь будку? — На поляне, между палатками, радужно сиял новыми стеклами киоск. — Папиросы, консервы, конфеты и прочая мелочь будет в этой будке. Предлагаю тебе поторговать.
— Но… Какая я торговка?
— До ста считать умеешь? Прекрасно, больше ничего не требуется. Подойдет человек, спросит папиросы и так далее. Авось не проторгуешься. С начальником ОРСа договорился. Ну что, поторгуем?
— Поторгуем… А как ваше имя-отчество?
— Вот те раз. Да кто же это у начальников спрашивает? Спрашивают у секретарш, у знающих людей. Иван Петрович я.
— Спасибо вам, Иван Петрович.
— Видишь, маляром никак не могу, хоть ты и мастер. Девчонкам тоже зарабатывать надо. А тут, конечно, поменьше будет. Но ведь ты закрепиться хотела? Ну вот, закрепляйся. И тебе, Чепрасова, спасибо. За настойчивость. Все. Повтори таблицу умножения. Пригодится.
Зина побежала в Постоянный. На бревне у дома сидели Ася и Митя, серьезные, склонившиеся друг к другу.
— Остаюсь! Остаюсь! Асенька! — издали закричала Зина.
Ася бросилась ей навстречу. Они обнялись — плакали, смеялись.
Митя протянул руку.
— Поздравляю! — Зина и его поцеловала в румяные щеки, в неповоротливые, теплые губы. Митя заполыхал, заморгал рыжими ресницами, головой закрутил.
— Зинка, что ты с ним сделала! Его, кроме собак, никто не целовал. — Ася рассмеялась, говорила звонко, весело. — Нет, уж правду сказано: только нецелованных не трогай. — Что-то дрогнуло в Асином голосе, мелькнула суховатая, дребезжащая нота, но Зина ее не заметила.
Митя опять провожал ее. На Зину напала смешливость, и «говорун» замучил: болтала, болтала и даже не слышала собственных слов. Митя молчал, хмурил лоб, порывисто дыша, спросил:
— Зина! У тебя будто дочка растет? Ася говорила.
— Растет. — Зина еще улыбалась, не отошла от нервно-веселого возбуждения.
— Я ведь, Зина, не знал. — Митя мялся, головой крутил. — Провожал вот, по-доброму хотел… Ты не обижайся. Я ведь как о жизни думаю: на чистом месте семью завести, детей растить, работать. Тайга чтоб под боком была. Но своих детей, собственных. По-другому я не смогу. Извини. Ничего у нас не получится.
Зина стояла выпрямившись, побледнев. Ноги ее все глубже и глубже уходили в сырой песок. Дернула головой, резко отклонилась, точно увертываясь от летящего камня или неожиданно взбрызнувшей перед глазами ветки.
— Нужен ты мне! Иди отсюда. «Своих детей, ничего не получится!..» С чего ты взял! Валенок тулунский! — Зина побежала по воде, не дожидаясь, пока паром приткнется к берегу.
Дома, в своей боковушке, досыта наревелась, спрятав голову под подушку, чтоб не слышала Феня. «Стыд-то какой! Про Верку решила смолчать. Солнышко мое, золотко! Никого мне не надо! Ласточку мою прятала. Ой-ей! За ее счет счастье купить хотела. Дура бессовестная! Никакой солидной жизни мне не надо. Какая есть, и ладно. И Аська — змея. Тянули ее за язык. Так мне и надо! Не ловчи! А он подумал — заманиваю. Испугался. Да нужен он! Все равно бы сказала. Стыд, стыд! Конечно, заманивала. И Аська, может, просто так сказала, без умысла. Да и с умыслом — так правильно сказала. На всю жизнь научила. Верка, миленькая, ей-богу, никогда больше бессовестной не буду».
10
Она торговала медленно, неумело, часто просыпала мелочь, нерешительно отдавала сдачу, все проверяя в уме, правильно ли сдает, не обманывает ли. Подбадривала себя, когда оставалась одна. «Ну что, несчастная, торговка частная? Тебя-то кто пожалеет?» Ну что стоять ей здесь не век, Зина знала точно. Добилась этого места, добьется и другого. А теперешнее место было бойкое, на возвышении. Даже Бугров, подходивший за сигаретами, позавидовал:
— Ну и обзор у тебя!
Быстро поняла: коли уж в главных ее покупателях ходят парни, то шуток, подначек, мимолетных ухаживаний не оберешься, и какие бы кошки на сердце ни скребли, улыбайся, отшучивайся — деваться некуда.
— Девушка, а девушка? Ты зачем приехала: фамилию сменить или биографию переделывать?
— Фамилию. Но не на твою.
— Зиночка, почему корова ест зеленую траву, а молоко у нее белое?
— Потому что ты не стал бы пить зеленое молоко.
— Можно, я буду звать вас милочка? Милочка ты моя?
— Можно, милок.
Куда-то исчезла Ася. «Неужели прячется, видеть меня не хочет? — расстраивалась Зина. — Или совестно, что Мите сказала? Или приревновала? Смеялась, смеялась над ним, а как увидела, что уходит, вскинулась. И на меня разозлилась. А злиться-то, может, больше всех мне надо. Что же теперь? Ничего, переболит. Зла ни на кого не держу».
Хотела выбрать время, повидать Асю в субботу, но неожиданно отправили в Казачинск. Два дня все машины Магистрального, все бульдозеры, грейдеры, тракторы отсыпали, ровняли, укатывали дорогу до Казачинского аэропорта к Киренге — работали на субботнике. Районные власти распорядились кормить шоферов и трактористов бесплатно. Зина помогала девчонкам из казачинской столовой варить, жарить, парить с утра до вечера, изредка высовывая в окошко мокрое, сомлевше-красное лицо, — поесть механизаторы были горазды.
Вечером в субботу, перед отъездом, главный механик снял тяжелый черный замок с пузатого столовского буфета:
— Мужики, по сто дорожных. Заработали. Бутылка на пятерых. И девчат приглашайте. Кормили, дай бог.
Рядом с Зиной сидел черный, лохматый, белозубый парень. Когда запели «Славное море, священный Байкал», он так дико и оглушительно заревел, что Зина отпрянула в сторону, нечаянно вышибла у другого соседа стакан, тот упал в тарелку с борщом — жирные, тяжелые брызги поднялись фонтаном. Парню запретили петь. Он наклонился к Зине и сиплым басом сказал:
— Петь не умею, а люблю, спасу нет. Как примкну к песне — обязательно какой-нибудь конфуз выйдет. Николай я. Ну вот, Зина, сразу скажу тебе все свои недостатки, значит, с пением ты сама слыхала. Потом очень люблю хвастаться. Учти: не врать, а хвастаться. Разреши, я похвастаюсь?
— Зачем?
— Боюсь я скрытных людей. Когда человек хвастается, он как на ладони. Все посмеиваются над ним, подкусывают, но верят, что он хороший человек. Вот и я хочу, чтоб мне верили. Ясно?
— Ясно. Ну давай хвастай.
— Смотри, Зина, на эти рычаги. — Николай положил на стол огромные кулачищи. — Они могут все: копать канавы, бить шурфы, ставить дома, держать баранку. Я строил ГЭС в Сибири, работал на КамАЗе и вот приехал сюда. Везде одни благодарности и ценные подарки. Что меня носит по свету — не знаю. Может, затем, чтоб вот так, в каком-нибудь Казачинске, взять и похвастаться: Николай Кокоулин был там-то и там-то, сделал то-то и то-то…
— Дальше куда поедешь?
— Пока здесь побуду. Сейчас еще не работаю. Дома, овощехранилища, подсобки, мелочи. Вот подожду большой трассы, тогда потружусь. А там видно будет.
Он подвозил ее до Ключей. В кабине, прикуривая, с излишней откровенностью покосился на нее:
— А ты доверчивая. Слушаешь, удивляешься. Застревают в тебе чужие слова. Это хорошо, по мне.
Торопливо, не к месту, Зина буркнула:
— А у меня дочка есть.
— А муж?
— Мужа нет.
— Тяжело живешь?
— Не знаю. Нет, наверно. Не думала. Иногда разве.
— Ясно…
Утром погудел под окнами.
— Поехали. Сегодня работаем на воскреснике. Все хочу спросить: а ты давно здесь? Вроде раньше не попадалась.
— Месяц.
— А-а. Я как раз на уборочной был. Слушай, а вчера не успел сказать. У меня ведь тоже двое пацанов, с матерью живут. Пока по свету колесил, жена с офицером сбежала. — Николай надвинул кепочку на глаза и чуть набок, вроде отгораживался от Зины.
— Хвастаешь или врешь?
— Вру.
— А зачем?
— Чтоб тебе не обидно было.
— А на кого мне обижаться?
— Ну, чтоб полегче тебе было.
Зина засмеялась.
— Ты не хвастун, ты болтун.
— Но из таких, что на дороге не валяются.
— Ну конечно!
11
В понедельник у Зининой палатки появилась Ася. Подходила медленно, и чем ближе, тем ярче вишневели щеки.
— Асенька! Ты куда пропала?! Чего я только не передумала! Ни Мити не видно, ни тебя.
Ася недоверчиво и даже испуганно взглянула на Зину, поняла, что та искренне, и вмиг переменилась.
— Зинка! Зиночка! Ведь я думала, все! Все кончилось. А так тянуло к тебе. Думаю, пойду взгляну.
— Дурочка. Из-за Мити, да?
Ася кивнула.
— Мы ведь женимся, Зин. В субботу.
— Ну-у! Поздравляю, Асенька. — Кольнуло сердце, прихватило холодком и отпустило. — От самой, самой души!
— Ты переходи жить в палатку, на мое место. Мы квартиру тут у одного деда сняли. На выселках. Здесь пока бесполезно просить — молодоженов как маслят после дождя. Россыпи.
— Вот хорошо-то! А когда? — Зина даже схватилась за сердце — так оно зашлось.
— Да хоть сегодня.
— Вечером, ладно? Сразу же.
— Зинка! А на свадьбу придешь? И вообще, все как было?
— Да ну тебя! Само собой… Ася, а как же… ругала его, смеялась, и на тебе — свадьба?
— Может, до сих пор бы смеялась… А ты как-то повернула его другой стороной, понять помогла… что ли. В общем… Ой, глупости какие ты спрашиваешь!
12
Зина сошла на берег, на песчаную косу возле белого камня. Привалила к нему чемодан, рюкзак. Обернулась: паром отчалил, Киренга отдаляла и отдаляла его. Зина вздохнула: «Ну слава богу. Переплыла». Подняла руку, слабо и грустно помахала. Паромщик Вася откликнулся тонким, прощальным гудком. Две лайки, рыжая и белая, стояли над срезом борта и легонько помахивали хвостами — тоже прощались с Зиной.
13
Кто знает, кто скажет, что было дальше?
Кто-то другой, не я.
НА ПАСЕКЕ
Отпуск Микулину выпал в июле. Сослуживцы, тянувшие жребий перед ним, чуть ли не хором ахнули:
— Ай да Микула! Вездехва-ат!
Он понял: непременно вынырнут менялы, неутомимые охотники до летних благ — понял и заранее обозлился: «Начнут скрадывать! Тиша, голубчик, какая тебе разница. Ты же один. Одному всегда весело. И везде. А с моим хомутом да зимой — только в прорубь. В полынью какую-нибудь. Нет, нет и нет. Сам хочу. Лета, солнышка, соленой пыльцы на плечах. Мало ли что один. Вот и буду бобылить с вашими зимами. Зимой одни старухи на побережьях живут. Да ни за что! Никому!»
Как в воду глядел: в курилке подсел Кустов, рябой, бледный, тощий, с умильным блеском в глазах.
— Только вы, Микулин, можете меня спасти. — Войдя в должность главного инженера проекта, Кустов «завыкал» даже с бывшими однокурсниками. — Нынче дочь девятый кончает. Последнее лето. Я поклялся, Микулин, куда-нибудь свозить ее. Потом уже все! Экзамены, стройотряды, колхозы. В сущности, последняя отцовская дань ее детству. Вы понимаете, Микулин? — Кустов говорил тихо, почти в ухо, и Микулину показалось, что оно горячо, неприятно отпотело. С раздражением мотнул головой.
— Вот уж странно, Юрий Семеныч. И отказывать вроде нельзя — начальство просит, и все равно откажу. — Вышло звонко, весело, без возмущенного напряжения — Микулин удовлетворенно передохнул. — Не обессудьте, Юрий Семеныч. Власть вижу незамутненной, родниковой. Сначала других напоит, потом сама может. Или что не так, Юрий Семеныч? «Не так, не так, — одернул себя Микулин. — Как всегда, понесло тебя, любезный. Сказал бы: не могу, личные планы, извините, в другой раз. Нет же. Язык как шило в мешке».
У Кустова резче обозначились оспины, натянулись пепельно-голубым. Он снова говорил, дышал в ухо:
— Ну, зачем вы так, Микулин? Я же доверительно, сугубо по-товарищески — нет, так нет.
— Правильно, Юрий Семеныч. И суда нет. И не будет, надеюсь? — Микулин и клял свою вздорность, и сладить уже с ней не мог. Кустов быстрой тенью пролетел через курилку.
Более никто не осаждал микулинского отпуска, убедившись в его неприступности. И Микулин с некоторым удивлением отметил, что предстоящий, ослепительный для окружающих июль для него самого потускнел; желанные, буйные краски повыцвели сразу же, как только из защитника июля он превратился в его владельца. «Жребий — дурак, правду говорят. Ладно бы еще добрый дурак, а то и вовсе бессердечный. Ни к кому никакой приязни. Этот июль праздником мог бы стать, когда бы добиваться. А так — повезло да повезло, и что теперь с этим «повезло» делать? Куда его девать?»
Порою, верно, воодушевление возвращалось к Микулину. В компании летнеотпускных счастливцев и он млеющим голосом проговаривал:
— Можете представить: утро, белый песок, в таком чуть-чутошном дымке, солнце далеко-далеко встает и вроде как на меня волны гонит. Зеленовато-розовые. А я в это время ступаю. С холодного песка в теплую воду. И падаю, и брызги! И весь я как дельфин — хорошо мне, да высказать не умею.
Но в некую минуту, остыв взглядом и слухом, понял эту компанию как бы со стороны. Сутулые, прокуренные мужики — щеки в легкой прожелти — с каким-то вялым упрямством грудились у окна и с затверженной смачностью, словно костяшками домино, хлестали, выкладывали одни и те же слова: улово, леска, горбовичок, утречко, песочек. Микулин подумал, что всех их, в сущности, одолела пустая страсть. «И что в этом отпуске, кроме двадцати четырех нерабочих дней? Какое улово, какие ягоды — неужели мы это всерьез? Куда это мы рвемся, от чего устали?.. Это мы душу в отпуск спроваживаем. Чтоб душа бездельничала. На службе худо-бедно ноет она, хлопочет, туда-сюда мечется. А после службы мы в нее что ни попало заталкиваем: хоккеи-футболы, спичечные этикетки, отпуска, — пустота больше томит, чем живая боль и работа. А для боли да заботы вроде места жалко — ворочаться будут, спать не дадут… То ли дело улово!»
Совсем скис и неожиданно решил, что никуда, ни на какой песочек не поедет. «Хватит! Не хочу мчаться и глаза таращить. Под сосной хочу полежать, сосредоточиться хочу. В одну точку буду смотреть. Буду лежать и думать, думать. О жизни буду думать. Хочу о ней думать». Он смущенно и даже растерянно улыбнулся своему новому желанию, его наивной внезапности.
* * *
Поселился в сторожке, под сенью старого соснового бора, стоявшего раскидисто, весело и жарко на приречном песчаном косогоре.
В первое же утро, роса еще толком не сошла, выгреб из высокой травы сосновые шишки — сморщенных стареньких ежей, — бросил одеяло; в изголовье, на толсто выперший корень — телогрейку и с забавной поспешностью улегся, словно больной торопился истово исполнить все предписания врача. Справа положил курево, слева поставил котелок с холодным чаем, банку сгущенного молока, вытянулся, закрыл глаза и затих. «Вот. Ничего больше не надо. — Неторопливо втянул холодновато-хвойный, приправленный речной сыростью воздух. — Уж подумаю так подумаю. Обо всем, обо всех, о себе. Ох, и подумаю!» — с той азартной радостью предвкушал он самосозерцание, с какой иной человек готовится колоть дрова или сено косить.
Полежал, покурил, попил чаю — ничего путного в голову не приходило. С тягучим, усыпляющим шорохом выстраивались перед ним давние, виденные-перевиденные, ничем не примечательные дни. Он — у чертежной доски, в понедельник утром, бодр и весел, весь как бы поскрипывающий, похрустывающий после воскресенья, после лыжной прогулки и березового, опаляющего дыхания парной. Он — у той же доски, без пиджака, в мятой, прокуренной рубашке, на висках и под мышками пот — их конструкторское бюро взяло сверхурочно, то есть на тройной, купеческой заварке чаю и бессчетных сигаретах, выдать рабочие чертежи драги для Алданской флотилии. Он — в майские, зеленоватые сумерки провожает домой чертежницу Танечку Рупасову, держит ее острый, прохладный, хрупкий локоток, время от времени целует ее прохладную, розовую щечку: их вежливый, невинный роман быстро отцвел, осыпался, вроде бы подчинившись стремительному бегу весны.
Микулин заглянул и за доску: пылились там игрушечные, вовсе уж потускневшие годы. Он видел свои улыбки, гримасы, жесты — безгласые, скачущие картины, ничем не соединенные, поврозь возникающие в памяти. Как ни старался, не мог услышать слов, сопровождающих ту или иную картину, даже слов, которые говорил Танечке Рупасовой в майский, с черемуховым морозцем, вечер. «Странно. Куда же пропали все эти слова? Ведь жизнь же была, не немое кино! Эй, где вы? Все испарились, выветрились. Одна конструкция жизни. Так сказать, детство, отрочество, юность. И конструкция вот-вот рассыплется — проржавела. Лень да бездумье. Ну, что же я такое говорил Танечке Рупасовой?! Помню, шутил, смеялся, мрачнел — и она отзывалась. Наверное, «люблю тебя, Танечка» или «неужели был день, когда мы не знали друг друга…». Нет, не помню. Ничего, выходит, не говорил и не думал. Ничего и не запомнил».
Открыл глаза и долго смотрел на небо, сквозящее в зелено-желтых проемах ветвей. На крупных, граненых иглах вспыхивали и гасли блики от бегущей рядом реки. Оседали, длились в глазах Микулина солнечные искры — он не заметил, как уснул.
Проснулся, вскочил, с диким лицом огляделся и, вспомнив все, весело застыдился: «Поразмышлял так поразмышлял! Всласть. Жить стало ясно и просто. Как и положено полному балбесу».
Больше под сосной не лежал, бродил по песчаному косогору, утешался незатейливой шуткой: «Ладно, хоть не в трех соснах блужу. Целый бор — понять надо». Застревал где-нибудь у обрыва, привалившись к теплому, чешуйчатому боку сосны, глядел на быструю, густую от тяжелого ила воду и принуждал себя: «Посмотри вон на ту излучину, в краснотале. Видишь, как млеет воздух позади него. И ельник как черно синеет, и валуны серебристо-теплы. Неужели никакого отклика в тебе? Простенькой мыслишки о жизни, хотя бы в связи с этим видом? О родной стороне, так сказать. Только, пожалуйста, без чужих слов. Не возникает? Странно. Гляди еще, хоть до самого прогляда».
На третий день не выдержал, отправился в ближнюю деревню по тропе, долго бежавшей у подножия округлой, кротко зеленеющей сопки. В сопку врезалась плавным, неглубоким клинышком ложбина. В истоке ее темнел резной листвой боярышник да редко топорщились молоденькие сосны, а в устье белел новенький балаган-вагончик на колесах и выглядывали из травы серые пеньки ульев.
Микулин остановился, в один взгляд, в один вздох вобрал эту клеверную ложбину, до краев загруженную рабочим, миротворным гудом пчел. Разглядел на двери вагончика надпись: «Владения бортника Вагина», сделанную наспех, углем, пока, видимо, не остыло шутливое настроение этого Вагина или же его гостя. Разглядел и сразу же позавидовал, что не он хозяин самодеятельной пасеки, не он вспомнил старинное слово «бортник», не он догадался поселиться в этой ложбине.
Оглянулся, облепило лицо горячим, тяжеловато-сладким ветром — от сопки к реке склонялось поле цветущей гречихи. Глубоко, с причмоком вздохнул, решил постучать в дверь бортника Вагина и увидел, что от балагана к ульям шел старик в белой рубахе, в ичигах, тусклая седина кольцами наползала на воротник, кудрявая же борода была темно-русой, как бы помладше волос на голове.
— Здорово, дедок! — с неожиданной, зычной свойскостью гаркнул Микулин. — Бог в помощь!
— Добрый день, молодой человек. — Старик выговаривал слова негромко, с этакой интеллигентною мягкостью, и щурил голубые, без старческой белесости, глаза. Вроде бы усмехнулся расхожей бойкости Микулина.
— Медок не продаете? — Микулин смешался: вообще этот бортник Вагин никакой не дедок: и лоб упруго, почти молодо блестит, и глаза ясные, пристальные — постарше его, конечно, но только не дедок.
— А бога-то как это вы вспомнили? — пасечник, улыбаясь, возвращался к балагану. — Торговать не торгую, но угощу с удовольствием.
— Спасибо. — Неловкость отпустила, Микулин тоже улыбнулся. — Да как. Вижу, старинное дело, читаю старинные слова, вот и вспыхнула поговорка.
— Милости прошу, — пасечник пропустил его в вагончик. — Хорошо, что всплыла. Признаюсь, я бы и не взглянул в вашу сторону, если бы не поговорка. Не люблю напористых прохожих. А вы догадались добра пожелать. — Пасечник засмеялся, как-то мило и по-детски приклоняя в это время голову к плечу. — У поговорочки, правда, изъянец есть. Все всевышнего норовим в помощники послать, а сами предпочитаем в сторонке держаться. Однако же не в этом суть. Спасибо на добром слове.
— А я и помочь могу. Хотите? Могу, могу угощение отработать.
— Присаживайтесь сначала. Вот вам ложка, вот чашка, — пасечник зачерпнул воды из деревянной кадушки. — А это чтоб язык не приклеился. А помощь мне, — пасечник с изучающим прищуром посмотрел на Микулина, — и помощники, добрый прохожий, не нужны. Управляюсь в свое удовольствие. Пчелы у меня — работники.
Микулин хватанул две-три полнехоньких ложки прозрачного, тяжелого, тягучего — нутро занялось медленным жаром, и он поспешно залил его ледяной водой.
— А вы… не имею чести знать вашего…
Пасечник остерегающе поднял темную, твердую и на вид ладонь, легонько загородился ею: мол, вовсе ни к чему представляться при этой необязательной и случайной встрече.
— Понял, настаивать не смею. Можно, я вас буду звать — добрый пасечник?
Тот совсем закрыл один глаз — прицелился оценивающе и как-то бесовато.
— Так, так. В моем доме, за моим медом и еще смеете, говоря языком шпаны, заедаться? Что же, приветствую, валяйте «доброго пасечника».
— Добрый пасечник, никак не могу осилить вашего разделения живущих на прохожих и пасечников. Или я что-то не так понял?
— Замечательно. Если бы каждый, глотнув меда, любопытствовал таким образом, я бы весь мед пустил на угощение. Именно так, добрый человек! Только прохожие и только пасечники. Вот вы — совершенный прохожий. Пригласят — зайдете, не пригласят — пройдете. Взгляд налево, взгляд направо и снова вперед. А может, все не так? Может, я ошибаюсь? Уж вы простите гостеприимного хозяина.
— Мрачновато, туманно. — Микулин потянулся к чашке с медом. — И чересчур многозначительно. Я — не прохожий, я — отпускник. Прошу учесть это обстоятельство. Можно, я еще… м-м… вкушу? Да-а. Существенное дело — пасека. Развлекаетесь на досуге?
Пасечник опять приклонил голову к плечу, засмеялся:
— Славно, замечательно. Отпускник, значит, ни о чем не хочу думать. Значит, положено не думать.
Микулин чуть не поперхнулся.
— Откуда вы знаете?! Ну, добрый пасечник! Вы, видно, подслушивали. Я три дня хочу о чем-нибудь подумать — извелся весь — и не могу. Выяснил, что не о чем думать. Голова не приспособлена. Может, выручите?
— Прохожий! Настоящий милый прохожий! — Пасечник во все глаза — и вроде не прикидывался — рассматривал Микулина. — Очень вам сочувствую. Хотите, меду с собой дам? Вдруг поможет?
— Да нет уж, спасибо. Пока хватит. А то по усам потечет. Эк вы тут устроились! Кто ни пройдет — все прохожий. — Микулин встал. — Скажите, добрый пасечник, а вы-то умеете о жизни думать?
— Так себе, не очень. — Пасечник обхватил бороду ладонью и с непритворным туманом в глазах вздохнул: — Вот угадайте лучше на прощание. Угадайте, я вам пасеку подарю. Не хмыкайте и не улыбайтесь. Рискнете? Тогда угадайте, кто написал эти слова: «Он не змиею сердце жалит, но, как пчела, его сосет»?
Микулин открыл дверь:
— Если ночью угадаю — приходить?
— В любое время дня и ночи.
* * *
«Во, затейник. Леший с пчельника. — Микулин забыл, что собирался в деревню, и повернул в сторожку. — Должно быть, придуривает. Со скуки или с меду этого. Прикинул однажды: какие бывают пасечники? Мудрые, странные, забавные — ну и тешится, наиграться не может». Микулин трезво и даже насмешливо судил пасечника, тем не менее загадка не отставала, занимала всерьез. «Пасеку он подарит — конечно, дурака валяет. А все-таки, чьи это строчки? И кто этот «он»? «Он не змиею сердце жалит…» Догадаться, кто этот умелец, и тогда можно дальше гадать. Да ну тебя к черту, добрый пасечник! Вот ведь забил голову! Ухмыляется, поди, сейчас. Ну, мол, раззадорил я прохожего, ночь спать не будет. А я знать ничего не знаю и знать не хочу. Все. Немедленно забываю».
Вволю отоспавшись за эти дни, ночью в самом деле глаз не сомкнул, так и этак подступал к загадке пасечника, наконец признал, что «слаб в коленях», «извилины не те». Эта причудливая пчела, сосущая сердце, так неотвязно вилась над ним, что утром Микулин, наскоро искупавшись и не почаевничав, побежал на пасеку.
Постучал в стенку вагончика:
— Добрый пасечник, сдаваться пришел.
— Что за стук, что за шум? — звонко, легко вспорхнул сзади женский голос. — Смотрите-ка. А драки нет!
От кустов боярышника сбегала, этак играючи, соскальзывала по мокрой траве женщина — Микулин смотрел против солнца, и над плечами ее, над белыми, отгоревшими волосами дрожал золотисто-черный обвод. Она была в стареньком халатике. Полные, высоко открытые колени, остуженные росой, сизо розовели, листики клевера облепили влажные, тугие икры. Подошла ближе, увидел свежее, прелестно простодушное лицо: белобровое, румяное, глаза — синие, веселые пуговки, беленький носик, забавно приплюснутый в ноздрях, добрые толстые губы, с мило припухшим шрамиком над верхней.
— Погостить или проездом? Здрасьте. — Она засмеялась. Синева в сощуренных глазах стала какой-то отчаянной, бесшабашной и разве чуть-чуть отдавала тревожным смущением.
Микулин промолчал. Пожалуй, что впервые с такою увеличительной ясностью он понял: утро это не повторится. Все еще темнел в клевере, не затягивался ее след, не затих еще, существовал ее легкий, быстрый смех. Божья коровка нерешительно вскрыливала на подоле ее халатика — вот, вот все исчезнет, улетучится и никогда не вернется.
— Ну, чего уставился? Смотри не съешь, — засмеялась, но уже принужденно, тяжеловато.
Опомнился, сглотнул колкую сухоту.
— А где же пасечник? Наобещал с три короба, а сам?
— Был, да весь вышел. Сегодня уже не будет.
— Ну вот! Куда я эту пчелу дену? Не спал, не ел — прилетел с утра пораньше. Может, ты знаешь?
— Постой, постой. Ты почему такой быстрый? И разговорчивый? Вообще, ты кто такой?!
— Прохожий.
— А-а. Слышала. Вчера здесь был, да? Велел медом угостить.
— И все?!
— Смотрите-ка. Его привечают, потчуют, а ему — все мало. Где пчела-то? Принес, что ли?
— Да нет… Ясно, ясно… Оговорился. А кто привечает-то?
— Да хоть бы я. Будешь заходить, так заходи, — женщина открыла дверь и откинула марлевый полог. — Давай быстро. А то целое утро мух гоняла.
В вагончике было тесно от солнца: клубилось над белой овчиной лежанки, прозрачно, дрожаще растекалось по смолистому желтому потолку, слепящим колобком катилось по клеенке стола. Женщина задернула плотные холщовые шторки — установились праздничные, желтые сумерки. Подвинула мед в глубоком блюдце, подала ломоть хлеба.
— Налегай. Приятного аппетита.
Присела и сама, спиной к окну, ноги убрала под табуретку — открытые колени напряглись выпукло и сильно, подернулись смуглым глянцем. Руки заняла цветами, сорванными недавно: ворох их нежно-желтых и бледно-сиреневых прикрыл полстола. Отламывала корни, отщипывала листья, откладывала прибранные стебли в сторонку. При этих коротких, отрывистых движениях ее полные, белые предплечья задевали грудь, и, туго выявленная халатиком, она тяжело, волнующе вздрагивала. Микулин опустил глаза и с излишнею сосредоточенностью принялся вымакивать оставшийся мед.
— Смотрите-ка. За уши не оторвешь. Язык проглотил, что ли? Молчишь и молчишь.
— Тебя как зовут-то? — Глаз Микулин не поднимал и так все видел.
— Катя. Еще добавить?
— Бог с тобой. Совсем не встану. Спасибо. Пасечнику ты кто?
Она бросила цветы, засмеялась, чуть откинулась, ладошками помахала на вспыхнувшее лицо.
— Ой, умора! Все ждала, когда спросишь. — Синие пуговки ее опять сузились горячо и отчаянно. — Угадай.
— Раз «угадай», то делать нечего. — Он не видел пламени, охватившего ее. — Дочка.
— Ой, ой, дочка! Уж лучше внучка! — Легкий вроде был смех, уместный, но все же уловил Микулин едва слышимое, ненатуральное пристанывание и поднял глаза. Догадался и не удержал догадку:
— Неужели жена?
— Сразу — неужели! — Катя будто и не смеялась, зажмурилась, потрясла головой, стряхивая мгновенные слезы. — И вовсе он не старый!
— Да я… К черту меня! Извини, пожалуйста! При чем тут: старый, не старый… Захмелел, не обращай внимания.
Быстро управилась с пламенем, со слезами, опять глядела сине, кругло, весело.
— И вообще! Твое-то какое дело?
— Никакое. Ничего не говорил, ничего не слышал. С прохожего какой спрос?
— Правда что. На всех чертей похожий. Ну, все, что ли?
— Золотые слова. Только про табак забыл. Знаешь, Катя, неохота уходить, да и некуда. Можно, еще посижу?
— Сиди. — Она придвинула цветы. Вздохнула с каким-то сладким, детским присвистом. — Мне ведь тоже эта пасека даром не нужна. И пчел боюсь до смерти. Сиди. Веселей не веселей, но все не так скучно.
Натянуло запахом смолы и зноя. Микулин увидел, что на потолке, на стеклянно-медовой доске вызрели — вот-вот прольются — янтарные капли, раскалялся вагончик, таял ближе к полудню.
— И часто ты здесь сидишь?
— Охранницей-то? Не-ет. Он редко уезжает. Утром пробегусь, пока пчел мало. Цветов вот нарву. А потом уж кукую… Как в песне: я по горенке хожу да в окошечко гляжу…
Под солнечным напором начали слабо потрескивать, поскрипывать доски — ссыхались, отдавая влагу и смолу. Микулин наконец решился, с дремной, сию минуту придуманной улыбочкой погладил ее колени.
— А так мы не договаривались. — Не отвлекаясь от цветов, равнодушно сказала она.
Он погладил еще, сильнее и требовательнее.
— Ты почему такой быстрый, а? И — хулиган. — Не смогла оторвать какой-то корешок, нагнулась, перекусывая, и тут Микулин привстал, поцеловал в соленую, жаркую, выгнутую шею. — Это что за мода?! Откуда только берутся такие! — Так и замерла над цветами, позволяя целовать и целовать. — Ну, хватит, хватит! Зябко уж!
Он приподнял, обнял.
— Катя. Катя. Катя.
Уже на овчине, слабея, захлестнув лицо белой, безвольной рукой, зашептала горячо смеженными губами:
— Дверь-то, дверь! Господи. Крючок накинь!
Из зыбкой, золотистой, обморочной мглы Микулина вернул грубоватый, шершавый холодок холщового полотенца. Катя прижимала его ко лбу, плечам Микулина, и он сквозь холодок чувствовал, как теплы, сильны и ласковы ее пальцы. От полотенца пахло воском и сырым песком.
Она уже накинула халатик, но забыла застегнуться, и свежая, какая-то сумеречно-прохладная белизна ее незапахнутой груди и живота заставила Микулина вновь повторять:
— Катя. Катя. Катя…
— Будет тебе, будет. — У нее изменился голос, был уже не утренний, легкий и звонкий, а певучий, медлительный, усмешливо-ласковый. — Налетел, как коршун какой. — Неожиданно, резко припала, больно обняла, солено и больно поцеловала. — Ох ты, лобастик! Ох ты, курносик! Смотрите-ка на него.
Микулин рассмеялся:
— Где же ты видела курносого коршуна?
— Я все видела. Ой, что-то голова кругом. Подвинься-ка. Вон что места занял.
Умостилась, прижалась к плечу, сладко, счастливо зевнула.
— Катя, ты в этой деревне живешь? — Он намеренно обособлял ее, разъединял с пасечником, подумав, что ей неприятно сейчас будет напоминание о нем.
— Нет, мы из города. В Песчаной слободе дом у нас свой. Сюда только на лето, из-за пчел. А в деревне у старухи одной зимовьюшку снимаем. В балагане-то ночью холодно.
— В каком балагане?
— Ну, в вагончике этом.
— Тоже, значит, отпускница.
— Да уж. — Он почувствовал плечом, как шевельнулись улыбкой ее губы. — У меня круглый год отпуск, — опять охотно и просто объяснила. — У него же пенсия северная. Да и так кой-что скопил. Хватает. Ну, и меня при себе держит. О работе теперь не заикаюсь. Слышать не хочет.
То ли сонливость прошла, то ли неловко лежать стало, но она отодвинулась, приподняв голову, тряхнула, поправила сбившиеся волосы. Снова улеглась. И засмеялась утренним, порхающим смехом:
— Сам видишь, за мной глаз да глаз нужен. — Покосилась на него. — Ты-то женат? Не врешь? Смотрите-ка на него. — Захохотала, опять запламенев лицом, с пристанывающими отголосками. — То-то, думаю, уверенный какой. Женатики-то как зайцы. — И опять нежданные, мгновенные слезы. — Не к добру смеюсь. Ох, не к добру.
Обняла, прижалась.
— Нагнала тоску, лобастик? Дуростей наговорила. За душой-то всего ничего. Грехи да дурость одна…
Он заглянул в ее синие, незамутненные, готовые к смеху и слезам глаза.
— Ни в одном глазу, ни грешинки. Охота на себя наговаривать? А, Катя-Катерина?
Она счастливо, по-ребячьи загыгыкав, уткнулась ему в шею.
— Ах ты, бес прохожий! Ах, врун-говорун! Добрый, да? Хороший, да? Ласковый, да? Молчи, молчи. А-ах, лобастик ты мой!
…Снова холодок холщового полотенца, запах воска, влажного песка, ее ладони, горячо, сильно проступающие сквозь холодок…
— Откуда у тебя такие полотенца?
— Сама шила.
— Нет, почему такие прохладные?
— А-а. Погребок есть. Под полом-то песок. Я как-то покопала и чую, холодно руке. То ли мерзлота, то ли ключ близко. Мед туда ставлю, а поверх полотенца держу. В жару-то как славно.
— Катя, а ты тоже на Севере жила?
Вздохнула.
— Жила-а… Да по правде-то не жила, а была. За проволочкой, за колючей. Чего вздрогнул? Ничего, мол, девушка, развитая, да?
Микулин возмутился:
— Кто вздрогнул?! Перестань, в самом деле! Что я, людей не видел? Не знаю, что без сумы да без тюрьмы…
— Видел, видел. Знаешь. Не буду больше. Только лучше без тюрьмы. Да и без сумы тоже. Но сразу скажу: сидела за дело. — Она сказала это строгим, каким-то даже старательно строгим голосом. — Молодая была, дура, но все равно за дело. Уж больно веселиться любила… И его там встретила. Вольнонаемным был, учителем. Я со скуки хорошо училась, легко. Он смешной был. Всегда придет с каким-нибудь стишком. Ни «здравствуйте», ни «добрый вечер», а обязательно стишок прочтет. Сядет за стол, посмотрит, посмотрит на нас, бороду помнет. «Что ж, — скажет, — сегодня, пожалуй, вы заслуживаете следующих строк…» И начнет что-нибудь такое: «Чему бы жизнь нас ни учила, но сердце верит в чудеса…» Мы хохочем — это мы-то чудеса.
Ну, приметил он меня. Говорю, хорошо училась, отвечала толково. Однажды оставил в классе, спрашивает: «Катюша, хочешь, я тебя подожду? Все равно у меня ни кола ни двора…» То есть когда я на волю выйду. Я удивилась: зачем? «Душа, — говорит, — пустая, а так — подожду, спасу, человек, — говорит, — вон в тебе какой таится». Ну, думаю, опять чудит. Будто стишки читает. Мне-то, говорю, что. Ждите.
Он взял и дождался. Вот тебе — и сердце верит в чудеса.
Микулин давно уже сидел. Спросил смятенно и жалобно, когда она прервалась:
— Как же так, Катя… Невозможные вещи… За что же ты его сегодня… Вот так… Катя?
— Эх, лобастик. Мало, выходит, ты людей видел. И смотрел на них мало, если с ходу судить берешься. — Она погладила, поерошила его волосы, сразу же удалившись, возвысившись то ли до сестринской, то ли до материнской роли.
— Ты его не любишь?
— Не знаю… Я ведь бегала от него. Два раза. Уж больно ровный он. Ничему не удивится, ничему не рассердится. Все «Катюша» да «Катюша». В первый раз быстро нашел, да и я неподалеку была, в Братске, у подруги. Письма ее остались, где звала. Тут понятно. А вот в другой раз я через весь Союз махнула, в Мелитополь. Тоже к подружке — у меня их много после Севера стало. И следов не оставила. И там, как мышь, жила. Считала, полностью затерялась. Как он нашел — до сих пор не пойму! Ни розыска не объявлял, ничего. Видение, говорит, было, видение. А сам улыбается и бороду мнет. Судьба, наверно.
— А что еще говорил? Зачем искал-то, зачем? — со странным нетерпением спрашивал Микулин — оно как бы заслонило этот день, Катю, сосновый зной вагончика и оставило лишь желание узнать, во что бы то ни стало узнать, что говорил пасечник.
— Его разве поймешь? Чудил опять, вроде стишков приговаривал: «Ты — крест мой избранный, доля моя единственная…» И опять все — «Катюша, Катюша», улыбается, бороду гладит. Пристали вот друг к другу. Так мне его иногда жалко. Ни-че-го не понимаю, а жалею… — говорила тихо, склонив и отвернув голову к стене. Казалось, вот-вот заплачет, но она вздохнула и ровно, устало сказала: — Что, лобастик? Всю жизнь как на подоконнике тебе разложила. А ты как в рот воды. Хитрый. Что молчишь?
— А мне ведь, Катя, и рассказывать нечего. Вот не поверишь, а нечего.
— Ну да. Конечно, не поверю. Да вот слушать теперь некогда. В деревню надо бежать. Старуха наша заболела. Гляну хоть на нее.
— А… он где?
— Товарищ его, по Северу еще, прилетает нынче. Телеграмму дал, чтоб встретил.
— Катя, я приду вечером?
— Ой, ой, смотрите-ка на него, — она устало, бесцветно посмеялась. — Мне-то что, приходи.
— Ну вот… Катя, не надо так, а?
— Ладно, ладно. Лобастик, курносик, — прижалась, засмеялась давешним, легким. — Приходи. Чего уж там.
У себя в сторожке и потом, на берегу, на песчаном обрыве, дожидаясь вечера, Микулин все спрашивал себя: «А где мой крест! Где моя доля?.. Ждут, должно, где-то. Вдруг в каком-нибудь Мелитополе? А может, и здесь, под боком, только до поры до времени голоса не подают. Ждут, а я от них, может, в сторону и в сторону забираю. А надо якоря потяжелее бросить — и ни с места. Дыхание затаить, терпения больше в грудь набрать и не выныривать. Доля сама и отыщет, и крест преподнесет… А может, все же искать, перемещаться? Зигзагами, от города к городу, от речки к речке. Вот он же искал. И где нашел! Догадался, высмотрел… И она говорит: «Судьба, наверно…» Столкнулись две жизни, соединились неисповедимым путем, конечно, в чудеса поверишь. У меня — никакой судьбы. Годы катятся и катятся, бесшумно, как во сне. Какая это судьба? Времяпровождение. Жил и будто бы не жил. Крест, доля, судьба, вера в чудеса — неужто все это не для меня?!»
Микулин вовсе распалился и всерьез, с холодеющим, ухающим сердцем вдруг подумал, что, может, прошедший день и обладал той тайной силой, непостижимой властью, соединяющей сердца, влекущей из дальних далей разных людей и бросающей их друг к другу в каком-то тесном, жарком вагончике, в июле, у подножия зеленой сопки. Катин смех, этот ее «лобастик» и есть голос той самой судьбы, которой у Микулина не было. И пасечник, может, вовсе уж не муж ей, а некий распорядитель этой судьбы и крест нести поручает теперь Микулину. И Катю, наверное, ничего уже не связывает с пасечником, их судьба уже изжила себя, изболела или просто была частью, отрезком другой, окончательной и подлинной судьбы, соединяющей Катю с Микулиным. «Да, правильно. Только так. После всего нынешнего… Никто меня так не звал. Никогда я так не беспамятел. Вот тебе знак, вот тебе голос! Не проморгай».
* * *
Очень спешил, очень радовался, что выпал ему столь решительный и бесповоротный день.
Катя уже ждала, сидела на порожке, смотрела на микулинскую тропу. Он с уверенной радостью подумал: «Тоже уж до всего догадалась. Вон как высматривает».
Длинные грустные тени, легшие от кустов и вагончика, зеленая сопка, нежно омываемая закатом, отозвались в душе согласным, счастливым звоном.
— Катя. Ты поймешь. Да ты, наверное, уже поняла. Катя! Мы будем вместе, всегда. Иначе нельзя! — неостывающим, рвущимся голосом он проговорил ей все-все свои дневные, прихотливые сны, не заметив ее первоначального, испуганного недоумения и последующей ласковой, грустной снисходительности, материнского умиления в повлажневших глазах.
Она сидела повыше, обхватив его голову, прижала к груди.
— Куда же ты торопишься, миленький? Ну, почему ты такой быстрый, а? — чуть касаясь, остужая, целовала его воспаленный лоб, а сама смотрела поверх головы на речку, на медленную розовую воду. — Правда, что лобастик. Как все ладно и быстро удумал. Ох, ты-ы… — Теперь она потихонечку дула ему на лоб. — Еле дождалась тебя. Мне ведь бежать надо, миленький. Старуха совсем расхворалась. Корову надо встретить, подоить… утром, утром, лобастик, увидимся. Правда, правда, утром.
Он быстро и опять с радостью согласился: да, конечно, утром. Все же ясно. Правильно, пусть поможет этой бабушке…
Быстро и жадно заснул — во сне, во сне преодолеть этот пролет, этот темный прогон до утра.
…Издалека увидел, что ложбина опустела. Ни вагончика, ни ульев. Остановился. «Да, правильно. Так. — Подумал с каким-то ледяным, гулким спокойствием, словно возникло оно не в нем, не внутри, а подступило и окружило извне. — Не под силу крест. Не доверили. Долго собирался. Куда мне теперь? В какой Мелитополь?»
Все же подошел к ложбине. Прямоугольник сухо-зеленой травы обозначал место, где стоял вагончик. А вот и бывший погребок — мелкая яма, обсохшая по краям. Микулин нагнулся, потрогал песок — он был сырой и теплый.
РУССКАЯ ВЕНЕРА
Женщин он боялся и не верил им. В отрочестве видел, как старший брат — матрос, полярник, рыжий, веселый грубиян — колотился головой о столешню и криком кричал — его тихая, добрая, нежноголосая Зоенька ушла к другому, построив кооперативную квартиру на северные деньги своего «любимого пиратика» — так она называла его брата.
Затем он ждал брата у пивных и закусочных, где тот сосредоточенно, молча выгонял горе и, одеревенев, выходил к своему поводырю. Ухватывал костлявое, отроческое плечо, и размытые слова протискивались сквозь черные губы:
— Стороной, Тимоха… Баб стороной… За сто верст и лесом.
Не скоро вспомнил Тимофей беспамятный наказ брата — отвлекали розовые, глуповатые, исчезающие, как мыльные пузыри, годочки. Вот уже и в солдаты собрался, и в заветном блокнотике с адресами хранится, сияет свежим глянцем фотографическая карточка Наташи. Размашистые черные брови, бархатная, ласковая мгла в глазах, нежно запавшие щеки, и даже при черно-белой фотокарточке угадывался алый, упругий, обжигающий вырез губ, их жжение, их неутомимую солоноватость Тимофей ни на секунду не забывал. Как пелось в песне, «ни на марше, ни в бою». А ночью Наташины губы мучили еще и таинственными словами: «Утомлением не насытишься», — он просил Наташу письменно разъяснить их.
«Чего же проще, — отвечала Наташа. — Сердце к сердцу рвется. Уж я так тебя жду, что фоточку твою достану и прижму к губам — вот откуда сны-то. Смотришь ли ты на меня? Старушка одна через знакомых сообщила, что слово «утомление», во сне услышанное, показывает твою непривычность к разлуке, плохо ты ее переносишь. И мне она противопоказана. Жду. Фоточка твоя передо мной. Целую крепко, крепко».
Отслужил, вернулся, припал к ее губам. Остужая их, нагоняя ветерок быстрой ладошкой, Наташа говорила: «Ох, Тима, Тимуля. Не бережешь подругу. Впереди «горько» ждет. Да и потом пригодятся».
— А мы — экономно, а мы — вприглядку, — снова тянулся к ней, и ненасытность его Наташа остужать не умела, а может быть, и не хотела.
Свадьба подкатила уже к самому порогу, и среди радостной бестолковщины, беготни подкараулила Тимофея закадычная Наташина подруга — имени ее он помнить не хотел — и участливым, густым мальчишечьим говорком сказала:
— У Натки в деревне девчонка растет. Ты бы съездил. А то поздно будет. Ты не простишь, она изведется — никакой жизни не будет. Жалко вас, лучше заранее все знать.
— Кто растет?!
— Ольгуня. Наткина дочка.
— Какая деревня?!
— В Поливанихе, у Наткиной бабушки. Да ты знаешь. Я ведь хорошо помню, как вы туда ездили. Накануне армии. Помню, как она хвалилась… Сено, говорит, на повети душистое было.
— Какая дочка?!
— Наткина, говорю. Год с месяцем ей. А ты в отпуске был…
— Знаю, когда был. Ты что лезешь?! Подруга называется. Зараза ты закадычная!
— Невесте всех зараз повесь. Эх, Тимофей Нетудыкович. Из-за тебя теперь с Наткой конец, а он еще позорит…
Он поехал в Поливаниху, посмотрел на крохотную, льняную Ольгуню. Она заполняла избу нежным, звонким, бессловесным пока лепетанием. Порхал голубой бант над желтыми широкими половицами — Ольгуня, смеясь, утыкалась то в ситцевый подол бабушки, то в жесткую, новую холстину Тимофеевых джинсов.
Ольгуне надоело бегать, она притихла у его ноги, прижалась — он замер, налился неловкостью — так боязно было разжать ее кукольные, цепкие ладошки.
Старуха, уверенная, что его прислала Наташа, умильно ахала:
— Как она к тебе льнет! Сразу признала! А так кто зайдет, пугается, прячется. Не любит чужих.
Он виновато, с рвущимся сердцем подхватил Ольгуню, подкинул ее: «Кто это у нас летать умеет, а?» — тпрукнул губами в оголившийся животишко. Ольгуня опять смеялась, опять звенело, нежно билось ее горлышко. Тимофей со «счастливо вам» поклонился старухе и хотел сразу за порог, но она притянула по-родственному, обняла, коснулась прокуренной, бородавчатой щекой: «Ну, до скорого. И тебе счастливо».
«Вот что ты дергаешься?! Не мальчик ведь! — говорила ему вечером мать, когда он собирал чемодан. — Подумаешь, невидаль — девка дитя прижила. Сердце у тебя разбилось. Отвернись и забудь. Куда вот ты собрался?» — «Куда глаза глядят», — Тимофей уверил себя, убедил больное, дрожащее нутро, что легче ему станет в поезде, — «только ехать, только долой, только б душу отпустило». «Не могу. И, главное, смеется, кольца меряет. Будто так и надо. Эх!» — Тимофей вспомнил старшего брата, и проняло его вполне диким желанием поколотиться о столешню. Мать насмешливо морщила губы: «Из-за чего квасишься-то? Если любишь, с такой живи, а пересилить не можешь, отойди. Зачем бежать-то? Ей, верно, и самой грех не в радость. Но не переправишь же!» — «Да ты что! Ей грех не в радость, а мне, значит, в самый раз. Сучью жизнь понимать не хочу. И слышать не хочу! И видеть! Столько сердца извел — никогда ей не прощу!» — «Ну-ну, — сказала мать. — Съезди, проветрись. Посмотри на обыкновенную жизнь, может, научишься попреками не размахивать». — «Какие попреки! Душа не держит!» — «Давай, давай, говорю. Никто тебя не держит. Рада буду, если выездишь что».
Много позже, всерьез помыкавшись по свету и кое-что поняв, Тимофей обнаружил: он хорошо помнит Ольгунины волосы, их мягкое, русое тепло, голубой бант, на котором она, казалось, летала по избе; толстые, конопатые щечки ее и нежное лепетанье — так живо, так неудаленно прижималась она к его колену, что он с неожиданной для себя, какою-то свежей досадой подумал: «Напрасно я от нее отказался. Как она смеялась, как ладошки растопырила, когда подкинул ее! Чужая, своя — ей-то что до этого. Она мне обрадовалась. И льнула, льнула! Все от меня зависело». Он и Наташу вспомнил однажды спокойно: «А вдруг только она и могла быть моей женой? А я судьбу поправил, обиделся, видите ли, на судьбу. Мог бы, мог бы от Ольгуни не отказываться».
Но сквозь взошедшую в нем с годами мягкость все-таки проступало ухмылочное, трезво-горькое: «Неужели два года было трудно подождать? Даже меньше, в отпуск-то я, в самом деле, приезжал. И письма аккуратно писала. Непонятно, когда голова у нее закружилась», — опять поддался давней обиде, занемог воспоминанием, поспешил отгородиться от него, упрятал в прошлое, крышку захлопнул и облегченно дух перевел.
Но пока изжил сердечную скудость, с монашеским старанием сторонился женщин, размашисто наделял чуть ли не каждую блудливым нравом и неукротимой лживостью.
В своих перемещениях по стране он искал только мужские сообщества: лэповцев, геологов, лесорубов, — редкие таборщицы и жены бригадиров, разбавлявшие их, были, как правило, мечены возрастом, раздражительны и скучны и не возбуждали его обличительных сомнений. Порой у вечернего костра или в затяжные дожди эти усталые женщины кратко молодели, расправлялись и свежели их лица — окружала женщин в те поры ностальгическая мужская пристальность, обостренная ночью, тьмой ненастья, так охотно прячущими все дороги к дому.
Тимофей вглядывался в лицо какой-нибудь тети Маши, освещенное досужим мужским вниманием и вдруг вспомнившее, как когда-то молодо, кокетливо-удивленно взлетали брови, как загадочна, внезапна и легка бывала улыбка — «неужели не чувствует, как улыбается? Целиком притворщицкая улыбка. Возможностей уже никаких, а все к обману тянет. Все бы головы морочить! До гробовой доски готовы хихикать сладко. Пожилая уже, а как взошла на уловках всяких, так и закоренела. Нет, смотреть на нее невозможно», — Тимофей с жалостливой брезгливостью морщился, уходил в палатку и, без устали сжимая выпуклую ручку карманного динамо, укладывался перечитывать любимую свою книгу «Записки об уженье рыбы» Сергея Тимофеевича Аксакова.
Пристал однажды к геологам, искавшим уголь под Невоном, на правом берегу Ангары. Копал канавы, бил шурфы, таскал на поняге ящики со взрывчаткой — к тому времени Тимофей уже выделялся заметной двужильностью. Этакий рыжий конь-тяжеловоз распахивал сопки со сноровистой, неиссякающей силой — напарник сигарету не успеет выкурить, а Тимофей уже по плечи закопался в красный, аргиллитовый склон. По три пары брезентовых рукавиц сгорало за световой день на огромных жарких ладонях Тимофея. Он не уставал ни от лопаты, ни от кирки, ни от топора, ни от мастерка, ни от рычагов бульдозера или экскаватора, только разжигался в нем какой-то глубинный азарт, внешне обозначавшийся испариной на широком лбу и влажным курящимся румянцем. Разгорался, превращал работу в невозможность передышки и перекура, растворялся в ней, и чем сильнее она сопротивлялась, тем ненасытнее вгрызался в нее Тимофей. Он медленно остывал от работы, забавно и неловко взмахивал руками, словно удивлялся: как же это они опустели, куда же это делся топор, только что сочно и стружисто тесавший бревно; куда запропастился мастерок, только что выводивший стену и тянувший строгие швы — долго не замирали в Тимофее отголоски тех или иных рабочих движений, и он со слабой улыбкой прислушивался к ним, как к удаляющемуся эху.
Его редкое трудолюбие отличила и таборщица Неля, женщина мрачная, большая, с рыхловатыми щеками и хмурыми, зелеными глазами. Спокойного, нормального ее голоса никто не слышал, все-то она раздраженно бубнила: «И вот едят, и вот едят! Заберутся от людских глаз подальше — и наворачивают. Ползарплаты проедают», и это мрачное бормотание сопровождалось увесистым швырком алюминиевой миски: «Нате!» — кулеши и каши у Нели бывали горячи, вкусны и примиряли с любыми изъянами ее характера. Геологи лишь посмеивались — «чудит Неля, рельеф замучил», — подразумевая, видимо, громоздкость Нелиных хорошо питаемых полусфер и полушарий, видимо, утяжелявшую Нелин нрав.
В пятницу, раннеавгустовским вечером, Тимофей вернулся с дальних шурфов и не увидел на берегу лодок, лишь ржавые полосы приминали белую ангарскую гальку. Поднялся с берега к табору — Неля скоблила стол под навесом. Была в просторном поролоновом халате, простеженном красным шнуром, с влажными, тяжело темневшими после недавнего мытья волосами, со свежим банным глянцем на толстых щеках. Ее хмурые зеленые глаза вдруг горячо заблестели — Тимофей удивленно понял: Неля улыбалась, ее бранчливые губы, оказывается, скрывали белые, редкие, веселые зерна.
— А лодки где?
— Мужики в Невон уехали.
— Как в Невон?!
— Раньше собрались. Привоз нынче большой. Сельповские мимо плыли.
— Им, значит, привоз, а мне фигу в нос. Молодцы-ы.
— Я их сбила. Показалось, ты с охотниками проплыл.
— Когда показалось?
— На катере плыли. Во-он повыше шиверов. Рубашка — в точности твоя. С такой же полоской. Думала, ты подхватился. Что-нибудь надо стало, вот и поплыл.
— Когда это я с работы подхватывался? Показалось ей.
— Из-за рубашки все.
— Полоски она увидела, зоркая стала.
— Садись, ешь. — Неля снова нахмурилась, в желтую, выскобленную столешню впечатала черную сковороду. — Разговорился.
Молодая картошка на сковороде, свежий пахучий пар пробивался сквозь темно-зеленое крошево укропа и лука; рядом со сковородой поставила Неля берестяной лагушок малосольных ельцов с нежно розовеющей чешуей возле жабр — дольками молодого чеснока был забит тузлук, и, казалось, запах его вьется над лагушком тонко, остро, прозрачно.
— Молчу. Как партизан. — Тимофей повольнее, пораскидистее устроился на лавке, ворот у рубахи поглубже расстегнул — предстояла сладкая и серьезная работа. — Если меня так потчевать, всю жизнь промолчу.
— То-то, — опять улыбнулась Неля, опять показала свои симпатичные зерна.
Отдыхал на берегу, побрасывал камушки в зеленую, быструю воду, поглядывая на левобережье, на Невон, затянутый недвижной вечерней прозрачностью, сквозь которую пробьются через час-другой дрожащие желтые огни — «мужики, наверное, в клубе сейчас. Рюкзаки с товаром под лавки, а сами — в пляс». Тимофей увидел тесный бревенчатый невонский клуб, рыжего Гошу-баяниста в фуражке-капитанке с ярко начищенным крабом, услышал его зычный, какой-то придурочно лихой голос: «Эй, на берегу! Внимание! Танец-крестьянец!» — и запел баян на весь вечер: «Ой полным-полна коробушка…» — под нее что хочешь получалось: и вальс, и танго, и фокстрот, или эти, теперешние, переминки. «Только на пары разобьются, а тут и кино подоспеет», — Тимофей представил, как Гоша, запустив аппарат, прокрадется в зал и, когда фильм наберет силу, включит свет, чтобы дураку посмеяться, кто как обнимается — девчонки завизжат, отпрянут от кавалеров, те с гулкою смущенностью закашляют в кулаки, потом кто-нибудь потянется к Гоше, по шее угостить, но не дотянется — Гоша выключит свет. Тимофей засмеялся и лениво, вскользь позавидовал праздничной, многообещающей клубной жаре, но на берегу было все же лучше — упругая, мягкая прохлада оттесняла мошку и комаров и плещущим своим озонно пузырящимся накатом помогала Тимофею ощутить этот вечер как один из самых тихих, ласковых, утешающих душу вечеров.
Сверху, от табора, сыпалась и сыпалась с глинистым шорохом Нелина воркотня вперемежку со звоном мисок, ложек, кружек: «Расселся там. Воды не видел. Только бы отдыхать. Наедятся и как коты. На завалинке бы, на бережку», — Тимофей вслушался в размеренный этот грохоток и понял, что для Нели поворчать и понегодовать все равно что песню спеть и занудливую работу скрасить. Он засмеялся: «А ведь, правда, как поет. Просто других мотивов не знает. Да и других слов. Как шаманка у костра. Бормочет, бормочет, покрикивает. Глядишь, молитва повыше залетит. И все вокруг сыты да довольны будут».
Он поднялся к сигнальному столбу, снял «летучую мышь», протер стекло, долил солярки — столб они поставили после одной дождливой ночи, когда, возвращаясь из Невона, пристали верст на пять ниже табора. Неля утихла, видимо, ушла в палатку. В ближнем лесу вяло покрикивала кедровка, тоже, видимо, накричавшаяся и наработавшаяся за день. Тимофей еще и с обрыва поглядел на левобережные дали: дома Невона затаились темными стогами перед появлением месяца — вот-вот засеребрятся тальники, протянутся сверкающие полосы по колеям луговых дорог (в них особенно обильна роса), вершины стогов мерцающе оплавятся и закурятся сказочным лунным дымком. А пока сумерничают, безмолвно глядя друг на друга, проулки, ворота, жердевые палисадники и белые валуны, забредшие когда-то на улицу. Река несла пласты розового перламутра, и непонятно было, откуда они взялись — заря угасла, не оставив ни горящих облаков, ни отсветов, лишь ясное, беззвездное еще небо, охватывающее леса и берега тишиной.
Со сладким вздохом отвернулся Тимофей от реки: сейчас заберется в палатку, возьмет фонарик, прочтет в «Записках», как удили плотву с плотины старой мельницы, и долгий день завершится счастливой, истинно миротворной нотой.
В его палатке была Неля, сидела в глубине, подогнув ноги — ярко, обкатно светились колени, поролоновый халат, простеганный красным шнурком, взбугрился на груди и плечах, былинно укрупнив Нелю.
— Ты чего это? — по-рачьи попятился Тимофей. — Неужто перепутал?
Но он знал, что залез в свою палатку, ничего не перепутал, потому и попятился, испугавшись Нелиного такого явного утверждения здесь.
— Тебя жду, — Неля, стремительно изогнувшись, ухватила его за руку и повлекла внутрь. — Про охотников я наврала, нарочно мужиков отправила. Чтоб без тебя ехали.
— А меня спросила? — Тимофей попробовал вырвать руку, но Неля держала крепко.
— Да ладно тебе. — Она обняла его. Поролон заискрил, и легкая молния пронзила Тимофея.
— Дай хоть вздохнуть-то!
— Нечего. Нечего, говорю, приставляться. Вот. Ладно, ладно… Ох ты и геолог…
Тимофей вскоре ушел от геологов на левый берег, в Усть-Илим, бульдозеристом в карьерное хозяйство. Напугали его тяжеловесные Нелины ласки, богатырская ее неутомимость и какая-то командирская приказная манера в изъявлении желаний — сбежал Тимофей от греха подальше и, передохнув от Нелиной власти, ощутил в себе перемены: заслонилось, оказывается, гневливое недоверие к женщинам Нелиным крутым плечом, появилась склонность к терпеливому сосуществованию — можно, можно было время от времени сносить их прозрачные хитрости, воркотню, их куцее лукавство и дремучую жадность. Но сносить, лишь приходясь им соседом, соучастником неких субботних, с праздничным банным угарцем, встреч.
Жила также в Тимофее, прихотливо укоренялась, как бы помимо него, этакая сердечная тяга к определению черт и свойств женщины, которую хотел встретить Тимофей в жизни. Не соединяясь с Наташиным обманом и предательством, независимо от последующей непонятной вины перед льняной, теплой лепетуньей Ольгуней, обходя Нелину простодушную и неуклюжую натуру, укреплялось в Тимофее, вопреки всем горьким урокам, видение желанной, единственной подруги, стремящейся к нему то ли с берегов Тунгуски, то ли Печоры.
Летний ветерок овевал ее, в видениях стоящую на речном берегу. Облепляло легкое платье крепкую стройную фигуру, все в ней было надежно и полно упругой силы. Ласково зеленели большие глаза, и что-то ласковое, уважительное, заботливое говорила она ему, а он никак наслушаться не мог и так радовался ей, так тянул к ней руки! Чтобы бережно обнять, приветить за ласку и уважение… Нет, он даже в видениях не хотел скучной женской безоглядности, когда, как говорится, только в рот ему заглядывают, и живут только в ползучих домашних хлопотах, в услужении ему, вроде бы как в радостном услужении. Нет, нет. Они будут жить в равноправном согласии, будут не только дом и детей вытягивать и жилы рвать, но и на крылечке будут сидеть и говорить о других землях, о странностях, которыми они полны. Будут пересказывать друг другу удивительные новости, но никаких сплетен им не надо, хулить людей и осуждать не будут, а постараются мерить их добросердечием.
Увидел однажды Тимофей желанное лицо: зеленые глаза, высокий чистый лоб, щеки румяные, здоровьем округленные, и под фотографией профессия обозначена, для семейной жизни весьма подходящая: швея-мотористка — и муж и дети всегда обшиты будут. Отправил швее письмо:
«Уважаемая Зина, я тружусь на замечательной стройке на Ангаре. Строю Усть-Илимскую ГЭС, являюсь бульдозеристом. Еще несколько специальностей приобрел в армии. Хочу с вами познакомиться, так как ваше лицо на фотографии в журнале «Работница» нравится мне честным и приятным выражением. Если вы не против, могу прислать свою фотографию, на которой вы увидите меня рыжим, веселым и добрым. Извините, конечно, за шутку. Но я действительно рыжий. Но ничего страшного. Если вы примете мою фотографию, то потом можем познакомиться очно. Уж мы договоримся, когда и где. Мечтаю увидеть вас и серьезно поговорить о жизни. Может, и вам станет интересно. До свидания. Ваш незнакомый усть-илимский друг Тимофей Неженатов. Извините за неудачную шутку. Настоящая моя фамилия — Воробьев. Тоже, по-моему, смешная. Будьте здоровы, уважаемая Зина».
Швея ответила:
«Здравствуйте, Тимофей Воробьев. Ваше письмо получила позавчера. Спасибо за весточку. Мы с мужем порадовались, что вы живете на замечательной реке Ангаре. Случайно при вашем письме у нас в гостях была моя лучшая подруга Алла. Она работает на нашем комбинате. И тоже добилась звания передовой швеи. Ей по душе пришлось ваше письмо, она давно интересуется Сибирью и освоением ее богатств. Посылаем на память вам нашу общую фотографию. Она сделана на балконе нашей квартиры при помощи автоматического спуска, то есть муж мой настроил фотоаппарат и успел перед щелчком встать между нами. Слева от него моя подруга Алла. Она живет в общежитии, письма там часто теряются. Поэтому письмо ей можете отправить по нашему адресу. Мы обязательно передадим. Ждем вашу фотографию. Желаем вам крепкого здоровья и сибирского долголетия».
Подруг на фотографии обнимал широкими, короткопалыми ладонями мордастый прапорщик, с темными, цепко сощуренными глазами. «Кладовщик, должно быть, — с неожиданной неприязнью всмотрелся Тимофей. — Ишь, сощурился как. Прицелился к чему-то. Сейчас потащит».
Алла — передовая швея, старательно таращила добрые коровьи глаза, нос у нее был толстый и очень белый, видимо, перед автоматическим щелчком торопливо пудрилась. Тимофею Алла показалась простодушной, скромной женщиной, с которой, наверное, можно наладить серьезную старательную семейную жизнь. «Знаю я этих подруг, — несколько отодвинув фотографию, как бы издалека изучая ее, размышлял Тимофей. — От лучших подруг только и жди какой-нибудь каверзы. И этот прапорщик еще тут. Что вот он вцепился ей в плечо! Кто она ему — сестра, свояченица? Где это они услышали про сибирское долголетие? Извините, девушки, но ваш адрес я забуду. Живите дружно и не поминайте лихом». Тимофей убрал фотокарточку и письмо в плоский деревянный ларец — подарок старшего брата, где держал скудный архив своих личных невезений. Время от времени перечитывал письма Наташи и видел милую свою золотую солдатчину — всю разом, как картину в рамке: маленький гарнизон, «точку» среди осенней бурятской степи, нестерпимую синеву, обливавшую желтые сопки, очередное Наташино письмо он читает на лавочке, под кустом шиповника — искрится паутина среди просторного сентябрьского дня. Тимофей снова укрепляет в памяти радость, шелестящую в давнем письме, надежду, нарочно забывает Наташин обман, тоже давний теперь, чтобы, забывшись, снова разволноваться до дрожи в похолодевших пальцах, представляя, какой бы дом у них был добрый и гостеприимный, как бы он со старшими (конечно, сыновьями) ходил бы перед Новым годом за елкой в лес, как бы они плыли, огребались по сугробам к румяной опуши на густо узорных, матово темнеющих ветвях.
В ларце лежала и красная резиновая рыбка, купленная Тимофеем в тот несчастливый день, когда ехал увериться в существовании Ольгуни («Если есть, пусть гостинец от дяди получит, от щедрот жениховских»), но живое, порхающее, не признающее ничьих несчастий явление Ольгуни отшибло Тимофею память, забыл про рыбку, увез с собой, чтобы вот, раскрыв ларец, через столько лет достать потускневшую, потрескавшуюся, потерявшую золотую чешую рыбку и, нажимая ей на бока, усмехнуться сохранившемуся тоненькому писку и испытать странное бессмысленное желание поглядеть на выросшую Ольгуню, — сколько, наверное, скопилось в ней огня и угловатой отроческой пугливости.
Напоминания о Неле в ларце не было: ни шпильки, ни брошки — Неля, видимо, надеялась запомниться неутомимостью и силой чувства, но Тимофей пренебрег им, не скрашенным романтическими подробностями — ни засохшим листком, найденным вместе на осенней тропе, ни пылким «ах» в почтовой открытке, ни нежной надписью «Люби меня, как я тебя» на фотографии — Тимофей вроде бы не заглядывал в эти романтические колодцы и вроде бы и не хотел заглядывать, но на самом деле только из них и пил.
А со временем нрав Тимофея, омрачаемый застарелым холостячеством и отсутствием романтических, выпорхнувших из прекрасной руки умягчений, стал еще страннее: окружающих женщин вообще не замечал, не слышал их льстивых, заманных речей, с раздражающей невозмутимостью проходил сквозь ряды тоскующих по крепкому плечу молодиц из контор и многочисленных бумажных служб, а сам тем не менее ежечасно думал о единственной и как бы уже предназначенной, но покамест не могущей соединиться с ним. Надо сначала, будто в сказке о Кощее, разыскать ее сердце, мчаться за ним серым волком, оборачиваться голубем, чтобы попасть на остров, там найти сундук, а в сундуке в яйце иглу, а игла и есть ее сердце и жизнь… Пронзительно мечтал, как он добудет это сердце, ясно видел, как голубем взвивается над островом, свист крыльев слышал… Так уж вымечтал дорогу к единственной, что дни сливались в ожидании этой дороги, в посвист ветра в ее обочинных лозняках, в белых далеких облаках над ее равнинным, бесконечным бегом.
Тимофей жил теперь только для нее и работал, получалось, только для нее. Что ни сделает: фундамент поставит, просеку прорубит, шпалы уложит, сразу оглядывается — видела ли, заметила ли, как быстро и чисто он работает. Была, однако, в этой оглядке странная суетливость. Скажем, села баржа на перекате, надо груз перетащить на берег по пояс в мелкой ледяной волне — Тимофей, конечно, впереди добровольцев, до последнего мешка и ящика из воды не вылезет, но беглого «спасибо» от орсовского шкипера ему мало, хотя от благодарственной кружки и не откажется — примет, крякнет, потом в баньку, потом в сухое переоденется — и в многотиражку к сумрачному, молодому редактору, бывшему завучу Невонской школы.
— Слышал, корреспондент, баржа у Лосят села?
— Видел.
— Спасателей много было.
— А ты что, считал?
— Считал.
— Давай заметку, раз считал.
— Я не корреспондент, я доброволец.
— Все мы добровольцы.
— Я тебе расскажу, ты напишешь.
— О чем? Какой ты герой?
— Какой я настоящий.
— Настоящий кто? Жлоб? Выделяла?
— По лбу хлоп — вот кто.
— Похулигань, похулигань, может, и выпросишь.
— Выпрошу, а как же! Я такой.
— Ну какой, какой?! Что ты тут развесил, не повернешься?
— Давай без нервов: ты про меня пишешь, я к тебе со всем уважением.
— То есть вежливо и с умом, да?
— С добром. Ты мне злое слово, я тебе ласковое. Как сейчас.
— Ладно. Диктуй. Подсказывай. Как про тебя писать?
— Не дури. Сразу диктуй ему.
— По заявкам еще никого не хвалил. Ты первый.
— Ну как выйдет. Напиши, как баржу на перекат понесло и как сразу же я полез в воду. Никто меня не призывал, никто не понукал. Залез и до последнего мешка выстоял.
— Черномор! Челюскинец!
— Или с другого начни. Как с утра меня все к речке вело. Тянет и тянет. Дай-ка на берегу постою, только вышел, а баржа и затрещала.
— А может, проще надо: такой-то спасал груз с разбитой баржи, чтобы прославиться и без очереди получить квартиру.
— Молодой, а беззубый, кусаешь, кусаешь, а спецовку прокусить не можешь. Ты что кидаешься?
— Наглость твоя злит.
— Какая наглость?
— Нищенская. Что ты эту заметку выпрашиваешь? Руку тянешь! Нехорошо же!
— Но в ней же правда будет.
— Хочешь, чтоб заметили, отойди в сторону, а не при напролом.
— Ты уж сразу из всех стволов. Слова ему доброго жалко.
— Ну да. Хваленый пятак себя за рубль выдает.
— Правильно. Для меня главная награда, чтоб заметили.
— Сам себя наградишь, сам и обрадуешься.
— Сам не сам — лишь бы заметили.
— В своей Нахаловке первым парнем будешь
— Ты пойми все-таки. Хороших людей много, всех не заметишь. Вот и я: работаю честно, товарищей не подвожу, за длинным рублем не гоняюсь. У меня одна страсть: заметьте меня. Сам выбираю вид поощрения.
— Ишь ты, какой штопор вьешь!
— Дни уходят. Годы. И ничего от них не остается. А я на бумаге хочу закрепить свою биографию. При случае и дети и внуки прочтут.
— А на слово они не поверят?
— Они-то, может, и поверят. Да я-то знаю, что с бумагой надежней. Вдруг чего забудешь, а бумага тут как тут!
— Вот как суетимся, вот как клянчим!
— Да брось ты! Ты меня заметь, и я другим стану. Каким напишешь, таким и стану. Где твоя непроливайка? Садись и заноси жизнь на бумагу…
Заметка появилась под заголовком «Тимофей и баржа», приятели в котловане и общежитии поухмылялись: «какие габариты?» — и приветственно, поощрительно потолкали кулаками то в грудь, то в плечо. Тимофей же газету и не раскрыл — скучно стало, напрасно корреспондента переговорил, напрасно пересилил его неприветливость — одна блажь вышла, один кураж. Кто его заметит, кто приветит в этой жизни? Некому. Хоть сто заметок напечатай.
Томился Тимофей, жизнь хотел переиначить, из колеи давней выбиться и потому метался от смеха к греху, вдруг замирал среди этого метания и с горячечной испариной на лбу спрашивал себя: «Куда деться? Что мне надо? Кого искать? Где?»
В черную субботу — под майским дождем и снегом — Тимофей шел со смены и с улицы еще услышал радостный хохот, вырывающийся из его общежитской комнаты. Прилетел, оказывается, Костя Родионов, вернулся из прибалтийских странствий — северные отпуска заставляли Костю тщательно и подолгу знакомиться с бытом разных республик; вернулся с гостинцами, с образцами, по словам Кости, национальной крепости — все это сверкало, переливалось, благоухало на колченогом общежитском столе. Костя сидел в возглавии, на просторном подоконнике, и потчевал друзей-приятелей заметками из привезенной «Газеты знакомств». Тимофей приостановился на пороге, переждал жаркую, плотную волну хохота.
— С приездом, Костя.
— О! Еще один жених явился! — У Кости от долгого веселья напряженно звенел, никак не остывал голос. И, казалось, вот-вот рассыплется на визгливые осколки. — Здравствуй, здравствуй, дорогой. Мы тут все женихи. Не обижайся. Читаю для тебя, Тимофей. «Привлекательная, стройная, разведенная женщина, рост 166 сантиметров, надеется найти спутника жизни в возрасте 30—40 лет, умеющего любить и быть любимым». Ответствуй, Тимофей! Умеешь ты любить?! — Опять жарким, каким-то тесным пламенем всплеснулся хохот. — А быть любимым ты умеешь?
Тимофей показал свой огромный кулак.
— Ясно. Не хочешь быть любимым. А верным другом? Читаю. «Ищу верного спутника жизни, доброго, веселого, со спортивной внешностью и техническим образованием. Мне 32 года, стройная, внешне приятная, по натуре домашняя хозяйка». Образование, дорогой, не позволяет. Так что не надейся. Но есть женщины, для которых техническое образование не главный предмет семейной жизни.
Вскоре хохотать перестали. Сгустилось по углам, вдруг вздохнуло протяжно одиночество, занесенное в комнату на этом газетном листке и выраженное с такою метрическою нескромностью и с таким безоглядным простодушием, что поначалу подступает недоуменно осуждающий, какой-то безумный смех, быстро, однако, сменяющийся растерянностью и горечью перед беззащитным, наивным обликом одиночества.
И в наплыве этого внезапного понимания все смущенно загмыкали, руки взялись вдруг потирать, передвигать стаканы, катать хлебные шарики, расправлять, разминать клеенку, и сквозь эти еле тлеющие отзвуки недавно шумевшего застолья снова пробился насмешливый, напористый голос Кости Родионова, не услышавшего общего смущения или, напротив, пожелавшего восстановить прежнюю веселую колею: «Ищу друга жизни, доброго, хорошего человека, умеющего мечтать и добиваться своего. О себе: 28 лет, блондинка, рост 165, стройная, работящая, детей нет. Хочу иметь крепкую семью».
— Хватит, Костя.
— Кончай!
— Давай лучше про себя. Как ездил?
Костя оглядел приятелей хозяйским оценивающим взглядом — в самом деле никто уже не хотел слушать его насмешливое чтение, но Костя привык сам устанавливать застольное настроение, и он свернул «Газету знакомств».
— Понято. Услышано. Предлагаю байку о счастливой встрече усть-илимского кавалера Константина Родионова и литовской девушки Анны Марцинкявичус. Но! — Костя гибко, легко снялся с подоконника. — Но! — Он привлекающе взмахнул газетой. — Сначала мы подарим этих беспризорных женщин нашему Тимофею. Во-первых, он опоздал и многих призывов не слышал. Во-вторых, он человек основательный, вдруг да чего-нибудь высмотрит. — Костя с поклоном, с прижатой к сердцу рукой протянул газету Тимофею.
— Изучу и запомню, — всерьез пообещал Тимофей, потому что вслух шутить не умел и не любил, однако слова его рассмешили застолье — уж очень всем поверилось, что Тимофей наконец научился редким, но метким шуткам, увесистым, как бас, которым они произносились.
За три перекура Тимофей изучил и запомнил «Газету». Сначала вычеркнул объявления, ищущие верных друзей и сообщающие рост, возраст и прочие приметы внешней приятности — попробовал было представить каждую в отдельности, но выстраивались по ранжиру стройные, добрые, с правильными чертами, и туманилось Тимофеево воображение от однообразия лиц. Потрясет Тимофей головой, потрясет, а лица опять восстанавливаются, неотличимые, ласковые, только и оставалось, что вычеркнуть. Потом отказал тем объявлениям, где, по его мнению, были несомненные опасности. «Умеющие любить и быть любимыми — это так скользко, неясно, лучше в сторону». «Жилплощадью обеспечена. Откровенная приманка — вот тебе любимая, а вот тебе и крыша над головой». Нет, нехорошо и нечестно было бы откликнуться на это объявление. Осталось одно-единственное, незачеркнутое и неотвергнутое. То, в котором темно-русая двадцативосьмилетняя женщина ищет в мужья мужчину, способного мечтать и добиваться своего. «Что же это она предполагает? — недоумевал Тимофей. — Умеет ли мужик о будущем думать? Как я понимаю жизнь на Марсе? Или могу ли я представить то, что никогда не видел? Способного мечтать? Интересно… Ну своего добиться, понятно. Тут голову ломать не надо. Чтоб, значит, как постановил, так и сделал. Зачем ей этот мечтатель нужен? Что она с ним делать собирается… Способный мечтать… Что ж она, на мечтания на эти жить собирается? Все-таки что она имеет в виду?»
Мог он, конечно, написать этой темно-русой жительнице города Тихова, спросить письменно, что значит «способного мечтать», но вдруг письмо где-нибудь затеряется, сто лет идти будет, и замаешься ждать ответа.
И собрался Тимофей в отпуск. Купил билет до Костромы, а дальше, сказали, на пароходе добираться надо. Одергивал себя и когда за отпускными в кассу стоял: «Ну кто за тридевять земель по объявлению ездит? Вдруг уже объявился там мечтатель, из других краев, и на меня из-под ладони только глянут». Окорачивал нетерпение, когда уже билет на самолет в кармане похрустывал. «И чего завожусь? Чего лечу? Одичал совсем, распустился — любой блажи уже поддаюсь. Да ладно! Проветрюсь, вернусь. Вот разлетелся — только в Тихове меня и не видели, посмотрят, посмотрят и скажут: «А у нас своих рыжих много». Но знал уже, что не остановится, билет не сдаст, каяться не будет. «Своего полечу добиваться», — говорил сам себе, но товарищам врал: летит, мол, в Москву, а потом на Кавказ, развеяться, отдохнуть — маршрут известный и накатанный, а скажи про Тихов — засмеют и замучают советами.
Правда, Костя Родионов не поверил — ни в Москву, ни в Кавказ.
— Крутишь, дорогой мой! В мае ни купаться, ни яблок не поесть. Яблоки прошлогодние, барышни незагорелые. Врешь, дорогой мой, и глаза отводишь, и краснеешь — эх, Тимофей, не хочешь меня в сваты брать. А ведь я газетку-то для тебя вез. Но! Молчи, молчи, молчи. Удачно съездишь, меня ни за что не забудешь. Неудачно — я ни при чем.
Тимофей забыл, что рассказывал как-то Косте про конфуз свой с портретом швеи-мотористки в журнале. А Костя вот помнил и, должно быть, понимал, что судьба Тимофея на фотографии да объявления желает опереться — кто сам ее ищет, кому родня ее устраивает, а кто вот печатному слову верит, судьбу поджидая. Услышал голос судьбы Тимофей и уже не мог остановиться.
Быстрый, подбористый, сияющий свежей краской теплоходик высадил Тимофея на тиховском берегу. Тропа — в молодых лопухах и крапиве — соединяла этаким глинистым коромыслом дощатый причал с торговым навесом, шиферным караульным шалашиком, поглядывающим с речной кручи. Под навесом три старухи торговали семечками вроде бы из одного подсолнуха: крупными, бокастыми, с желто-черными прожилочками — так и просились на зуб, ожидание ли скрасить, дорогу ли скоротать, летнее вечернее сидение на крылечке утешающей бездумью заполнить.
Тимофей заширкал «молниями» на своей красной, в праздничных заклепках и белых швах, суме.
— Ну давайте, бабушки. Никого не обижу. — Поставил суму рядом с корзинами. — Ты сюда сыпь, ты — в этот, а ты — в этот. Доверху сыпьте, чтоб застегнуть только.
Старухи быстро намерили гранеными стаканами, Тимофей еще и карманы пиджака подставил — пока в Тихове нужный дом найдешь, пока подходы к нему и, само собой, отходы присмотришь, много горстей наберется.
Он перешел приречную луговину, нырнул в частый молодой березнячок и вынырнул на краю просторного, недавно вспаханного поля — тучная, тускло взблескивающая чернота его замедлила решительный и спорый Тимофеев шаг: «Вот это да! Хоть на хлеб мажь!» Он и семечки перестал грызть, неловко было сорить на этой чистой черной земле. Он не знал, что один из карманов у него худой и семечки вытекали потихоньку на обочину. Когда Тимофей оглянулся, чтобы еще раз удивиться сыто маслянеющей черноте, он увидел, как вдоль тропы напористо и дружно полезли подсолнушки, как на глазах приподнимались и укреплялись их стволы.
«Чудеса в решете! Хочешь верь, хочешь не верь!» — приговаривал Тимофей, входя в город Тихов меж двух старинных кирпичных столбов, оставшихся, должно быть, от былой заставы. По старинным плитам узкого тротуарчика, мимо палисадников, заполненных белыми и дымчато-фиолетовыми облаками сирени, поднялся в центр города, на соборную горку, где беленый, обезглавленный храм давно уже превратился в тиховский Дом культуры.
Тимофей посидел на скамеечке, разглядывая город; под горой базарная площадь, мощенная булыжником, каменные торговые ряды, поддерживаемые литыми чугунными столбами; за площадью городской стадион, вернее, спортивное поле, окруженное деревянными лавками и фанерными щитами, объяснявшими, как сдавать нормы ГТО, из каких фигур составляется городошная партия; по беговой дорожке шествовали тиховские молодые матери с младенцами в разноцветных колясках. Еще увидел Тимофей городской сад, тоже старинный, тенистый, просвечивали кое-где песчаные дорожки и уютные поляны в одуванчиках и лютиках. «Почему же они по саду-то не гуляют?» — удивился Тимофей тиховской причуде катать младенцев по беговой дорожке стадиона.
Отыскал и овражную сторону. Дома там вроде бы пожимали плечами в удивлении — кто правым, кто левым, в зависимости от наклона улицы. «Вроде как пятятся от оврагов, — подумал Тимофей о домах. — Подбежали к краю, испугались, и назад. Ну а нам бояться нельзя. И отступать будет некуда, сразу и укатишься в эту прорву».
И вот он на Третьей Овражной, дом 19. Позвякал кольцом, подождал, не вызверится ли со двора собака. Тихо. Тогда открыл калитку и по дорожке из толченого кирпича пошел к крыльцу.
— Эй, мил человек! Кого ищешь? — вдруг услышал он справа низковатый, сочный и певучий голос. В палисаднике, под густой навесистой сиренью накрыт был стол. Легонько дымил самовар, две-три пчелы вились над вазой с вареньем, и сердитое их гуденье заворожило большого, рыжего кота — опершись передними лапами о край стола, вытянув шею, он неотрывно следил за пчелиным снованием, и только чуть подрагивали его седые уши. Отодвинулась ветка, скрывавшая другую половину стола, и Тимофей увидел женщину: темно-русые волосы шатровыми линиями очерчивали лоб, и белый, нежный чистый купол его покоился на насурмленных, ниточками, бровях; румяные, налитые здоровьем щеки, ясное, алое сердечко губ, большие какие-то медлительно вишневые глаза — вот какая женщина сидела перед Тимофеем. Была она в просторной кофте-безрукавке, сотканной из белых и розовых лепестков, полные белые руки так свежо и радостно сияли в темной листве, одной она удерживала приподнятую ветку, во второй на пухлых смуглых пальчиках покоилось блюдце с чаем. Тимофей чуть не сказал: «А ведь я вас где-то видел». Но не сказал: «Вот так всегда, едва-едва приглянется, а уже охота глупости говорить и в знакомые набиваться». Он достал из бумажника вырезку из «Газеты знакомств», хотя и без нее, конечно, все помнил, но оказалось, трудно навалившуюся немоту пересиливать. Не отрывая глаз от бумажки, прокашлялся.
— Вы будете Саблецова Глафира Даниловна?
— Я. А то кто же? — поняла наконец, что за бумажку разглядывал Тимофей. — Ах, вон гости-то какие! — Не смутилась, не смешалась, привстала чуть, поклонилась. — Прошу к столу. Пока самовар горячий. — Она согнала кота. — Вот сюда садитесь. А он все утро гостей намывал. Ай да Васька-отгадчик!
Тимофей раскрыл «молнии» на своей суме, выложил коробку конфет, купленную в усть-илимском аэропорту, сувенирную белку с кедровой шишкой в лапах, выгреб и семечки, насыпал горку возле самовара. Пока нагибался, доставал гостинцы, все думал с сердитым и красным лицом: «Привычная. Прошу к столу… Вот сюда… Косяками тут, наверное, ходят. Конечно, самовар не остывает. Ну я долго рассиживать не буду. Долго выяснять нечего».
— Семечки, о, тиховские? — Улыбнулась, ямочки тут же веселые промялись, глаза заблестели. — Таких нигде больше нет. На пристани или на базаре брали?
— На пристани.
— Издалека, наверно, ехали?
— Из Сибири.
— Ой, а белки-то и у нас тут есть!
— Какие белки?
— Да вот такие. Чучела-то. В промтоварах видела.
— Моя со мной летела.
— Да? Странница, значит — хорошо, спасибо. Попушистей вроде, посимпатичней здешних, ну, которые в промтоварах.
— Я тут мимо шел, удивился. Почему младенцев-то у вас по стадиону прогуливают? — Тимофей покраснел: совсем не то хотел спросить, а как-то вот вырвалось, черт его знает как!
— Веселей, наверное.
— Как веселее?
— Да так. Младенцам, мамашам, всему городу. Вон сколько прибыли в населении — глаз и радуется.
— А-а-а.
— Что же чай-то, пейте. С такой дороги самовара мало. Как вас звать-то? Забыли сказаться.
— Тимофей Ивановичем.
— Плохо угощаетесь, Тимофей Иванович. Или я плохо потчую. Давайте-ка я вам горячей картошки принесу да огурцов.
— Ладно, Глафира Даниловна. Потом. Успею. Вот я приехал… То есть я потому приехал… Объявление ваше, Глафира Даниловна. Очень серьезное. То есть мне так кажется. Не знаю, как вам.
— Я всегда одна, Тимофей Иванович. Так пусто стало, вот и объявление через газету.
— Одиноких людей много. Я тоже вот… Никак не собрался. Извините, Глафира Даниловна. Я не опоздал?
— Видно, не заметили вы, Тимофей Иванович. Газета-то прошлогодняя. За декабрь.
— К нам она случайно попала. Вдруг, думаю, не опоздаю. Значит, не успел?
— Нет-нет! — Глафире Даниловне, видимо, стало не по себе. И глаза потупила, и щеки побледнели, и пальцами бессмысленно по скатерти зачертила. — Как можно опоздать к тому, кого не знаешь? Вы же совсем меня не знаете, а вроде как рассердились.
— Что ж сердиться. А только я думал и представлял. И когда объявление увидел и когда сюда ехал.
— Может, напрасно думали, Тимофей Иванович. — Глафира Даниловна совсем поникла: и голову опустила, и голос в шепот упал. — И письма мне писали. И два купца тут были. Да все равно одна за самоваром сиживаю. Наверное, товар не тот, Тимофей Иванович.
— Получается, я — третий купец? Третий лишний. Или — третий раз не миновать? Сильно вы затосковали, Глафира Даниловна. Не подходит вам это занятие.
— А кому подходит? Я люблю тишину, улыбки, неторопливую беседу. И дом свой люблю, и детей хочу, а жизнь все как-то меня не замечает. Мимо и мимо. Обидно, Тимофей Иванович. Но больше не буду. — Глафира Даниловна опять ямочками на тугих щеках заиграла, заплавали над столом ее белые, полные руки, наливая чай, подвигая варенье, ватрушки с творогом и картошкой, рассыпчатое печенье, рулет с черемухой — окружила Глафиру Даниловну этакая домашность, приветливое, радостное ее кружево.
— О чем же в письмах речь шла, Глафира Даниловна?
— Свои привычки выводили и взгляды на семейную жизнь. Но в основном фоточки просили. Я фотографа нашего замучила с ними.
Старую неприязнь разбередило в Тимофее слово «фоточки» — Наташины лживые, ласковые глаза выглядывали из-за «фоточки», Тимофей едва отогнал мрачное облачко, нависшее над ним.
— Ответных, наверное, целый альбом набрался?
— Ни одной ответной. — Глафира Даниловна опять было пригорюнилась, но кратко, на миг, и, махнув рукой, засмеялась. — Я очень глупой на фото выхожу. Глаза какие-то вытаращенные, испуганные, губы надутые, и щеки — во! Дура дурой. Кто же откликнется?
— Не знаю, как на фотокарточке. Не видел. А вот в жизни вы, Глафира Даниловна, очень живая. То есть интересная и сердечная женщина. Извините, конечно, если ошибаюсь.
— Спасибо, Тимофей Иванович. Мне так еще никто не говорил.
— Вот те раз! А купцы? Недавно вы поминали? Приехали, значит, и промолчали? Не заметили, с кем имеют дело?
— Похоже, и не вглядывались. Один совсем какой-то странный был. Почти неделю прожил и все в шахматы играл. То сам с собой, то меня давай учить. Учит, учит, кричит: «Не так, не так слон ходит! Неужели этого-то понять нельзя?!» У меня голова сразу раскалывается и глаза слезятся. Так и не выучил слоном ходить. А про жизнь и не поговорили.
— Целую неделю вот здесь жил?! — Тимофей недоуменно и осуждающе покрутил головой. — Что же, вроде квартиранта?
— Познакомиться же надо было, Тимофей Иванович. Женихом приехал, как же откажешь? И вы поживите, Тимофей Иванович.
— А второй?
— Тот хитрец. Кубанский казак. Откуда-то оттуда. Я не проверяла. Черный, говорливый, шустрый — все, по-моему, врал. Поедем, говорит, ко мне в станицу. У меня — дом! У меня — сад! Теплица! Денег, как у дурака махорки. Вот только зимой веранда сгорела и флигель. Поедем. Вместе и отстроимся. Продавай дом — и на Кубань. Поняла я его. Сказала, что из Тихова ни шагу.
— Тоже неделю жил?
— Три дня только. Очень торопился. Может, баньку затопить, Тимофей Иванович? С такой-то дороги?
— И шахматист с садоводом парились?
— Не смогли. У одного сердце плохое, другой жары не выносил. Их вроде и не было, Тимофей Иванович. А раз не было, чего попусту вспоминать?
— Попариться сейчас — лучше и не придумать! Да, наверное, хлопотно.
— Ничего не хлопотно. Колодец во дворе. Дрова вон у забора. Сейчас и затопим. — Глафира Даниловна легко и быстро встала, хотя телесная основательность и крепость предполагали важную замедленность ее движений. «Фигуристая, — одобрительно отметил Тимофей. — И, должно быть, сноровистая».
— Еще одно, Глафира Даниловна. В объявлении вашем указаны приметы того мужчины, который откликнется. Чтобы он, значит, умел мечтать и добиваться своего. К примеру, можно определить: есть во мне эти приметы или нет?
— Не слушайте, Тимофей Иванович. Я сгоряча приписала. Сама-то люблю повздыхать, повыдумывать, ну и прибавила в объявлении. Вдруг, думаю, найдется человек, с кем вместе на крылечке помечтать сойдемся. Раздумалась, представила — и разлетелась, написала.
— Где же ваше крыльцо? Может, присядем? Никогда не пробовал. То есть на крылечке мечтать.
Глафира Даниловна, однако, на крыльцо не повела, не захотела, как понял Тимофей, допустить к своим заветным минутам, и еще он понял, что напрасно попросился на крыльцо, поторопился, много в голову взял — она же еще не знает, что он человек серьезный.
— Смотрите во-от туда, Тимофей Иванович. — Она показывала за овраги на зеленеющее поле. — Видите, дубы сгрудились, а возле них домишко? Во-о-он. — Глафира Даниловна округло повела рукой, словно издалека поглаживала, ласкала и поле, и ветхий домишко, и только начинающую зеленеть кучку дубов. — Вглядитесь, Тимофей Иванович.
Тимофей вгляделся. Какие-то бугры вокруг дубов, перед избой продольное зеркало лужайки, окруженное буйной крапивой и ленивыми жирными лопухами. «Деревня была», — догадался Тимофей.
— И как эта деревня называлась?
— Дубовка! И сейчас так называется. А вот теперь прикиньте, Тимофей Иванович, об этой деревне. Что в голову взбредет, то и скажите.
— То есть помечтай, Тимофей Иванович.
— Да как получится.
Тимофей прищурился, еще раз прицельно пробежался по недальним пустырям бывшей Дубовки.
— Хорошо стояла — лес от ветров укрывал, окна к югу, тепло, уютно. И лужайка красивая. Вечерами, наверное, вся деревня на ней собиралась. Пела, плясала, семечки грызла. Надо на этом месте дом отдыха поставить, либо сады-огороды развести. Чтоб место ожило.
— Правильно! Так и было, Тимофей Иванович! И можно, конечно, сады развести. Но мне всего интересней о настоящем думать. Я мечтаю только о настоящем. Как было, там ничего не поправишь. Как будет — не знаю. А вот нынче и так и эдак можно устроить. Размечтаешься и вроде только от тебя зависит — как.
Ее сочный, лениво-певучий голос вдруг напрягся, еще более сгустился, взволновалась Глафира Даниловна. «Ишь как распалилась! Щеки горят, глаза горят — откровенная женщина».
— Дубовку, по-моему, уже никак не устроишь.
— А я знаю! — Глафира Даниловна прошла на крыльцо, чтобы чуть придвинуться к Дубовке и увидеть ее с некоторой высоты. — Надо домишко подновить. В нем две старухи живут. Овдовели и поселились вместе. Колодец для них вычистить надо. И ворот поставить, а то они на веревке ведро забрасывают. Под дубами надо все разгрести, сжечь и песком посыпать. Пепелища все заровнять, тоже песком посыпать, скамейки там-сям поставить, родник почистить да камнем обложить. И оживет место. — Глафира Даниловна отступила в мечтательную забывчивость, вся этак сладко затуманилась и глаза прикрыла, чтобы прогуляться потихоньку, не сдерживаясь видом разоренной деревни, по обновленным дубовским местам. И горло перехваченное поглаживала белой ладонью. Но вот опять выплыла: — А еще, Тимофей Иванович, на лужайке поставить бы качели. Высокие такие, из длинных, длинных жердей. Раньше в Тихове весной на каждой улице качели ставили. Девицу какую-нибудь раскачают и вицами давай настегивать, про жениха выпытывать. Да-а-а… Верба бела, бьет за дело, верба красна — бьет напрасно…
— Помню качели. И у нас ставили. — Тимофей глаз с нее не сводил, как только на крыльцо взошла и завитала над дубовской лужайкой, разволновался Тимофей от голоса ее убедительного, от картин ее, с такой душой показанных. — К ременным петлям веревки привязывали. А теперь подшипники можно… Извините, это я так. Ни к чему. Может, Глафира Даниловна, сегодня все решим? То есть, как вы в объявлении сказали. Может, поиски прекратить? Извините, конечно.
— Хорошо, Тимофей Иванович, — и протянула руку, и, опираясь на Тимофееву, плавно сошла с крыльца.
А вскоре банька поспела. Потрескивали, пощелкивали бревна от жары, белая, сухая спина полка окуталась прозрачной раскаленностью, обманчиво будничны и серы были голыши в каменке, в тазах расходились веники — березовые, дубовые и один «для духа» — можжевеловый; в большом жестяном ковше «тоже для духа» заваривались сушеные полынь с мятой — пронижет позже раскаленный поток острие степной вечерней свежести. В предбаннике на широких лавках — махровые простыни, на столе глиняные кувшины с квасом, только что из погреба, отпотевшие, и кружки глиняные, и перелетывают неспешно над лавками и над столом сухие прохладные сквознячки.
Не успел еще толком пронять Глафиру Даниловну и Тимофея первый пар, не успели еще растомленные, разошедшиеся веники подвинуть их к первому совместному жару, как во двор зашел дед Андрей, совсем ветхий, и такой маленький, что внукова солдатская гимнастерка была ему чуть ли не до пят. Дед Андрей дружил с покойными родителями Глафиры и после смерти всегда помогал ей: дров привезет, напилит, наколет, огород вспашет, колодец вычистит, а когда совсем ослаб и сморщился, заходил уже без дела — «скоро, Гланька, встренусь с отцом, матерью твоими, что сообщить, рассказывай» — но и без дела замечал вылезший гвоздь, вколачивал; подбирал щепку у ворот, относил к поленнице.
Дед Андрей заглянул в палисадник, в дом, в огород — Глафиру Даниловну не нашел. Уселся на крыльцо, закурил: «Подожду. На дворе суббота, на службу ей не надо. Скоро придет», — и тут услышал голоса в бане. «Вон что. Опять кто-то к Гланьке свататься приехал. Ишь навеличивают друг дружку: Иваныч, Даниловна. Уж не в бане будто, а в каком казенном месте. Нагишом, а без отчества никак». Дед Андрей еще закурил, снял выгоревшую, тоже внукову, фуражку с черным околышем, положил рядом — ему казалось, без фуражки он лучше слышит. «Ну во-от. Так оно понятнее: Тишенька, Глашенька — знатно, значит, парятся. Ох ты-ы!»
Дед Андрей встал, потряс головой — то ли мгла какая глаза застила, то ли бессмысленно кровь ударила в голову, но почудилось деду, что крыша над банькой подпрыгнула, да и стены вроде зашатались. «Может, и не мерещится. Сколько все же силы скопилось. Тесновато им, видно… Хватит, однако, пойду. Не для старого мерина эти сладкие песни. Ну, вроде нашла Гланька пару. Славу богу».
После банных забав и трудов хорошо беспечно и вольно разбаюкаться на лавке предбанника.
— Ой, Тиша. Мы как из одной деревни. Оба телом-то рыжие.
— Как это так?! — кувшин с квасом удивленно замер в руках Тимофея.
— Да никак. Все плывет во мне, и сил нет от глупости удержаться.
— Хочешь квасу?
— А у нас под качелями, знаешь, еще такую песню пели. «Я молодчика задумала любить…»
С рассветом Тимофей отправился в Дубовку. Старухи тоже не спали, сидели на завалинке, опирались на костылики и сумрачно поглядывали на Тихов, на Соборную гору, над которой громко кричали дружные и несметные вороны.
— Привет дубовским долгожителям! — весело поклонился Тимофей, почти не спавший, рано разбуженный ласками Глафиры Даниловны, но, однако же, свежий, благодушный и сильно соскучившийся по работе.
— Глянь, Шура, какой воин выискался. — Старуха в серой шали и валяных опорках ткнула костыликом в топор, торчащий из-за пояса Тимофея. — Секир-башка сейчас будет.
— Доламывать послали. — Шура была простоволоса, с белыми тесемками в жиденьких седых косицах и в черной овчинной безрукавке. — С топором, лыбится — такой что хошь снесет.
— Окститесь, бабушки! — Тимофей обиделся. — Я сюда со всем сердцем, а меня — в разбойники.
— Давай, давай, проходи, — сказала Шура, — сердешный.
Они хмуро и молча наблюдали, как Тимофей выгребал из-под дубов всевозможные железки, проволоку, кирпичи, обломки шифера, доски, старые ведра, обручи, шины, корыта, тазы, трухлявые жерди — тотчас же пускал все это в дело: кирпичом выложил дно родника и исток, из добрых досок сколотил ларь и сложил в него могущие пригодиться железки; жерди, обломки досок, коряги, сучки наколол, нарубил и сложил в щеголеватую, хорошо продуваемую поленницу.
Прошелся по другим дворам, в былых погребах отыскал бидоны с краской и олифой, деревянный кожух от колодезного ворота, несколько ломов, до черноты позеленевший самовар, поправил колодец, натаскал старухам воды в бочки, отчистил песком самовар, быстро согнул, склепал трубу для него, залил родниковой водой, набрал в лесу сосновых шишек — весело засвистел сначала, потом шмелем загудел, щеки надул, и запылали они от натуги медным румянцем. Поставил старухам на крыльцо. Шура костылик приподняла, погрозила Тимофею:
— Больно верткий. А у нас, милый, ни сахару, ни заварки, кипятком побалуйся.
Тимофей засмеялся.
— Погожу. Еще не заработал.
Гнев на милость старухи сменили через некоторое время, когда Тимофей взялся за их домишко: поднял домкратом осевший угол, подвел новый столб; подконопатил стены, обшил подручными досками: подобрал, подтянул разъехавшуюся завалинку, перебрал крыльцо; залез на крышу, поставил жестяные заплаты, а потом покрасил домишко: крышу суриком, стены — охрой, рамы с наличниками — белилами, а по белому пустил золотистую охристую каемку.
— Это кто ж тебя послал? — спросили старухи.
— Глафира Даниловна.
— Это кто ж такая?
— Самая главная в Тихове.
— Начальница?
— Еще какая.
— Ну дай бог ей здоровья. Ты самовар-то свой нам отдашь или унесешь?
— Он же деревенский. Что ему в городе делать?
— Тогда раздувай. Чай пить будем.
Чаевничали потом часто с вареньем, пирогами да дубовскими шаньгами (с подсахаренным щавелем), да с дубовскими разговорами, когда старухи наперебой, сердясь друг на друга, путаясь, торопились пересказать Тимофею свою жизнь, полную труда, лишений, обид и намеренной незлопамятности.
Пока дом подновлял, пока под дубами чистил, пока чаи гонял, пришла из усть-илимского карьера его трудовая книжка, и Тимофей сразу же нанялся бульдозеристом к тиховским мелиораторам. Разровнял, загладил все бугры и ямы в Дубовке, дорогу к Тихову подчистил, привез песку — зажелтели тропы под дубами и недавние пустыри, где Тимофей расставил чурбаки для сидений и легкие, плетенные из тальника навесы. А на лужайке поднялись — бело и растопыристо — высоченные жердевые козлы, на них Тимофей положил жердь потолще. «Вот и верба бела бьет за дело, — приговаривал он, пропуская через подшипники длинные ременные концы. — Сейчас сиденьице приладим — и берегись, девки, качели готовы!»
Первыми на дороге к затеплившейся Дубовке появились тиховские матери с младенцами. От стадиона к сидящим на крыльце дубовским старухам покатились желтые, белые, красные, голубые экипажи и выстраивались полукругом у крыльца, и старухи с редкой радостью встречали гостей: гугукали над каждым младенцем, щерили в улыбках беззубые рты, а особо выделенных привечали «козой рогатой и бодатой» в мягкие фланельные животишки.
А тиховские матери осторожно, как бы с краешку пробуя недавнюю молодость, потихоньку взвизгивали, возносясь на качелях. Их сладкий повизг услышали мужья и тоже потянулись в Дубовку. Потом кто-то в Тихове сообразил и отправил туда бочку с квасом.
— Вот видишь, Тиша, как славно! — говорила Глафира Даниловна, положив голову на плечо Тимофею. — А зимой там надо катушку сделать и карусель на льду. Знаешь? — Они тоже сидели на крыльце, разглядывали оживившуюся Дубовку, и Тимофей, до мурашек, до онемения в скулах, воодушевленный этим оживлением, благодарно, крепко прижал Глафиру Даниловну — она все придумала, без нее бы он никогда не догадался.
— Знаю. На кол насаживается колесо от телеги, к колесу жердь, и пошел крутить, а за жерди санки цепляешь.
— Или на коньках. — Глафира Даниловна сняла с плеча большую, широкую и тяжелую ладонь Тимофея, но не выпустила ее сразу, а немного покачала, погладила, словно про себя взвешивала, примерялась, сколько сможет поднять и осилить такая ладонь. — Я о другом мечтаю, Тишенька.
— О настоящем?
— О самом-самом. Как бы в Тихове лукавцев перевести.
— Кого, кого?
— Лукавцев. Лукавых, значит. Они думают одно, говорят другое, делают третье.
— Ну, таких не переведешь. Таких — как пузырей на болоте.
— В Тихове штук двадцать наберется.
— Начальников, что ли?
— Не обязательно.
— Тогда очень мало.
— Это самые опасные. Один в газетку напишет, второй лекцию прочтет, третий — по радио выступит, и все взахлеб расхваливают тиховскую жизнь. И город-то наш старинный, можно гордиться, и традиции-то у нас сильны, и хозяйствуем мы самыми передовыми методами — послушаешь их, как яду наешься. Голова сразу тупая, сердце сдавит, и изжога начинается…
— Нервы у тебя барахлят.
— Что ты, от вранья болею. Ладно бы не в Тихове жили и врали издалека. А то же здешние. Есть у нас нечего, кто как изворачивается, хозяйствуем — на таком-то черноземе — через пень-колоду. Традиций уже никаких, а послушаешь — все замечательно, ух! Всех бы утопила! Тишенька, давай их переведем!
— Как?!
— Заманим куда-нибудь, свяжем.
— Еще что?
— Отвезем в какую-нибудь пустынь. Пусть там друг другу врут.
— И как же мы их заманивать станем? Чем?
— Ну не заманивать. Подкараулим давай. Мешок на голову — и в пустынь.
— По-моему, ты хочешь вернуть меня в Сибирь. Но уже за казенный счет.
— Тишенька, милый, выдумаешь тоже. — У Глафиры Даниловны укоризненной влагой прохватило глаза. Она опять прижалась к Тимофею. — Но что-то же надо с ними делать!
— Одного отвезешь в пустынь, такой же на его место сядет.
— Нет! Не согласна, Тишенька. В Тихове можно их перевести. Вообще я не знаю. А в Тихове можно. Только взяться как следует.
— Может, мышьяком пойдем их травить, хлорофосом?
— Тишенька, хотя бы с одного начать. — Глафира Даниловна встала, цветастый полушалок, волнуясь, на груди стянула, щеки разгорелись, глаза горячо посветлели. — Тишенька, надо извести Степана Васютина.
— Тоже, поди, в женихи набивался?
— Я мечтаю о справедливости. При чем здесь жених, Тишенька, — Глафира Даниловна зябко поежилась, передернула полными плечами, отстранила Тимофееву неловкость, опять засмотрелась вдаль, куда-то за Дубовку, за лес и за поле.
— Он муж Гали. Моей подруги. Он ее замучил.
— А-а, помню. Вчера зареванная к тебе приходила. Бьет, что ли? Или пьет?
— Она видеть его не может. От вранья его совсем больной стала. Из-за пустяков ревет. А какая добрая, веселая была. Отравил, замучил, чембец проклятый.
— Пусть выгонит. Раз он такой… Как ты его припечатала?
— Чембец — по-тиховски значит сытый, гладкий, блудливый кот.
— В три шеи пусть гонит этого кобеля.
— Не так все, Тиша. У них двое детей, дом, но и терпеть тяжело. Он же врет не потому, что отродясь врун и обманщик, а привык. Хуже пьяницы. Ладно бы соврал только, да и думать забыл, ему же обязательно оправдать вранье надо, вывернуться.
— Никак не ухвачу, про что же он врет-то? Как выворачивается?
— При укрупнениях, например. Дубовку-то он разорил. Все пел, все нахваливал: будете благоденствовать, дорогие земляки, на центральной усадьбе. А на центральной самим негде жить. Разорил, оселил, кто в Тихове осел, кто за тридевять земель подался — только не на центральной. Потом опять понес: ошибка вышла, но надо было действовать. Кто не действует, тот не ошибается. Хоть что-то делать надо, дорогие земляки. Хоть как-то помогать родному краю. Раз ошибемся, два ошибемся, но найдем верный путь.
— Лучше бы не так говорил. Раз соврем, два соврем, а там, может, и правды не надо.
— Вот именно. Библиотеки тоже он укрупнял. Из всех деревенских клубов свезли в Тихов — так и гниют в подвале, помещения для укрупнения-то нет. А у него одна песня: в один кулак собрали огромную духовную силу. Она обязательно подгонит строителей. До сих пор что-то не подогнала. Ах, Тиша! Он не только жену, но и другую женщину обманет.
— Тебя, что ли?
— Далось тебе! При чем здесь я? Галя с одной его сударушкой встретилась, и та все-все рассказала. Так, думаешь, что он? Заплакал. Но не от стыда. Я, говорит, чисто и свято потянулся к той женщине. И горько ошибся. И сильно страдаю. «Поверь, Галчонок, — это он говорит. — Это большая душевная травма. И прошу тебя помочь мне. Залечить, зарубцевать, забыть ее». Тишенька! Надо избавиться от него. Я все продумала.
— Галя твоя, понятно, сердце унять не может. А ты что взъелась на него?
— Ой, Тиша. Ты бы хоть раз его послушал!
— Да? Чтоб уши завяли? Или для развлечения?
— Тогда и ты взъешься.
— Ну конечно. От слов на стенку не полезу.
— Не зарекайся, Тишенька. Сходи, послушай Степу Васютина. Неизвестно еще, куда полезешь.
— Как сходи? Он что, с утра до вечера выступает?
— Тренируется каждый день. Вечером потихоньку пройдешь огородами и услышишь.
— Куда пройду?
— Он за баней тренируется.
— У него что там? Трибуна с микрофонами?
— Увидишь.
По вечерней росе, в длинной густой тени терновника шел Тимофей к васютинской бане и издали еще услышал звучное, красивое рокотание, насыщенное бархатистой, усталой убедительностью. Слов пока Тимофей не разобрал, но казалось, что вот эта крупная серебристая роса на лебеде и полыни каким-то образом зависит от раскатов усталого баритона — вроде бы быстрее и прозрачнее созревают капли-горошины на матовых зеленых листьях.
Выглянул из-за угла — по полянке перед баней расхаживал молодой человек. Осанистый, с незначительным, но заметным жирком в плавных линиях тела, со свежим румянцем на щеках и добродушными пышными усами над розовыми полными губами. Он обращался к березовым и осиновым пенькам, оставшимся от былой рощицы, то ли воображая на этих пеньках слушателей и зрителей, то ли ничего не воображая и обращаясь к пенькам, как к привычным помощникам и собеседникам.
— Дорогие земляки. Горькие новости у меня сегодня. В прошлый раз мы говорили о застойных явлениях в экономике нашего района. Мы убедились с вами, что имеем дело с хронической болезнью: нехватка людских ресурсов, невыполнение планов, необъяснимость существования многих хозяйств. Но, дорогие земляки, в прошлый раз я, признаюсь, был не до конца откровенен с вами — трудно привыкать к настоящей безоглядной искренности. А все-таки мы слишком долго утаивали друг от друга наши трудности. У меня, дорогие земляки, не хватило в прошлый раз духу сказать вам, что нас ждет тяжелое лето и скорее всего печальная по итогам осень. Перестроиться, ввести в действие все резервы, руководствоваться только здравым смыслом очень трудно, дорогие земляки. Почему я не сказал об этом в прошлый раз? Силен еще во мне бес умолчания. Идешь на встречу с вами, а бес и начинает в тебе копошиться. Вот это скажи, приказывает, а вот про это умолчи, рано еще про это говорить. Не созрел еще народ для такой правды. И сразу этому бесу голову не свернешь, так что прошу покорно, дорогие земляки, меня извинить.
«Надо вязать, — подумал Тимофей. — Мешок на голову и вязать. Три минуты послушал, а будто дыму наглотался. И в горле першит, и глаза ест. Такой уморит и не заметит. Еще румяней станет».
Позже сказал Глафире Даниловне.
— Ну так что мы будем с твоим Васютиным делать?
— Тишенька, согласен?! Спасибо. И Галка тебе спасибо скажет, и все люди добрые. Я все-все продумала. Никто и не хватится.
Светлой июньской ночью, под переливы соловьев и нежную метель яблоневого цвета прошел Тимофей в васютинский двор, склонился над спящим Степаном — с первого тепла до первого снега спал тот во дворе, на раскладушке, закутавшись в старые овчины, и потому еще имел такой замечательный здоровый румянец и крепкую нервную систему.
Васютин тихо, с детской сладостью посвистывал во сне. Тимофей расстелил рядом с раскладушкой брезент, перенес на него Васютина, тщательно закутал, и увесистый брезентовый куль крепко притянул, примотал веревками к широкой доске. Прислонил доску со Степаном к яблоне, поднырнул, накинул на плечи мощные брезентовые ремни. Вскинул Степана на спину и вышел со двора.
В проулке, ведущем к реке, ждала Тимофея Глафира Даниловна.
— Тяжело, Тиша?
— Уж как-нибудь.
Молча перешли мост через реку, молча углубились в лес, и, только когда зачавкало под ногами Большое тиховское болото, Глафира Даниловна сказала:
— След в след теперь ступай. Вправо, влево — трясина.
— А ты как?
— А я знаю. Дед Андрей показал, когда за клюквой ходили.
Долго тянулась тайная тропа. Тимофей уже надсадно хрипел и все тяжелей выдергивал ноги из болотной жижи. Но вот началась сосновая гривка, захрустел под сапогами песок, громко захлопал крыльями заспавшийся глухарь, а тут и на поляну вышли к крепкому бревенчатому дому, куда по зимнику на лошадях добирались лесорубы.
Тимофей прислонил доску с кулем-Васютиным к крыльцу, отдышался, подождал, пока отойдет занемевшая спина. Потом отвязал Васютина, освободил от брезента и внес в дом. Уложил на нары — Васютин даже не проснулся. Все так же тоненько по-детски посвистывал.
Глафира Даниловна тем временем проверила на полках и в шкафах запасы муки, крупы, соли, оставшиеся от лесорубов.
— До снега ему хватит. А там привезут.
— А вдруг кто забредет сюда и вызволит его?
— Нет. Кроме деда Андрея, про тропу никто не знает. Раньше зимы Васютина не увидим. Отдохнем. А у него, может, совести прибавится. Сам себя же обманывать не будет?
— Подумать времени хватит.
В Тихов вернулись розовым росистым утром. Солнце только-только собиралось выглянуть из-за дальних полей. Затопили баню после болотных трудов и перед трудами дневными, нахлестались, напарились до медной, сияющей чистоты. Окатывались во дворе, прямо из колодца. Глафира Даниловна так напарилась, что выскочила на траву с веником. Тимофей засмеялся.
— С веником ты как на картинке. Стоп-стоп. Вот когда я понял. В самом деле я тебя раньше видел. Но вспомнить не мог — где. На картинке видел. Вспомнил!
— На картинке ты не меня видел. Или бабушку — ее художник Кустодиев рисовал. Или матушку. А ее рисовал художник Пластов. Мы же все похожие. На бабушку-то я очень похожу.
— Ясно. Может, и на тебя художник найдется?
— Мне и так хорошо. Тишенька, голубчик…
Через некоторое время Глафира и Тимофей опять сидели на крыльце. Опять она мечтательно щурилась, опять у нее щеки разгорались.
— Что-то ты опять разглядела, Глафира Даниловна?
— Ой, Тишенька. Я все про наши Овражные улицы думаю. Такая глина, такая лебеда! А можно цветы, деревья, кусты на склонах посадить. Беседки построить, замостить. Какая бы красота была.
— Одному не справиться, Глафира Даниловна. Десять Овражных в Тихове. Десять жизней на них надо положить. Народ нужен. Глафира Даниловна.
— Будет народ, Тишенька. Будет.
И вскоре родила двойню: двух мальчиков. Через год — двух девочек. Так у них и пошло с Тимофеем, что ни год — то двойня.
Вскоре Тимофей с сыновьями да дочерьми взялся за Овражные улицы. Кто цветы на склонах выращивал, кто канавы копал, кто камни бил, укрепляя склоны.
Вечерами, если лето и нет дождя, собираются в палисаднике, за самоваром. Всем без конца растущим семейством. Зимой — в большой круглой комнате, предусмотрительно пристроенной Тимофеем сразу после первой двойни.
Сидят, беседуют, слушают друг друга, понимают друг друга, потому что все их заботы о Тихове, о родных его улицах и дубравах. Иногда Тимофей просит любимую дочку Ольгуню почитать вслух «Записки об уженье рыбы» Сергея Тимофеевича Аксакова. Ольгуня звонко, радостно, выпевая каждое слово, читает, а Тимофей в это время вспоминает все русские земли, которые прошел и устроил.
МИЛАЯ ТАНЯ
На Севере он жил давно, по его словам, совершил здесь, среди фиолетовых каменных гор три жизненных витка. Первый, беспечальный и стремительный, пронес его по Витимским гольцам, по якутским болотам и марям. Рубили базовые склады, пробивали зимники и к чуть теплившейся тогда стройке тянули линии электропередачи — сладковатый привкус спирта по утрам, ведро ледяной воды на смуглые, двужильные плечи, дребезжащий, лязгающий вездеход с прорванным, прожженным брезентовым верхом. И как бы в созвучии с размашистой просторной жизнью тогда его звали все Арсюхой. Даже начальник стройки, подчеркнуто-чопорный Тышлер, как-то на «летучке», забывшись, сказал: «Придется поднажать, Арсюха…»
Второй виток начинался в свежей, чистой до гулкости комнате Нины Афанасьевны и обещал движение медленное, по самой длинной орбите: семья, дети, их отрочество и юность, тихий и ясный закат в окружении внуков. Нина Афанасьевна, пухленькая, резвая, румяная женщина, с певучим голоском, говорила в то апрельское, мглисто-серое утро: «Только не уходи надолго, Арсений. Тебя не было, я ни-чего не знала. А теперь я не смогу-у без тебя. Арсе-ений, не пропадай», — и, захватив розовыми маленькими ладошками его чугунные скулы, наклонялась над ним и целовала маленькими оттопыренными губами — он потом шутил: «Клюй, клюй свои зерна». Но скорый на встречи и разлуки Север не захотел, чтобы она возвратилась из отпуска, о чем сама Нина Афанасьевна написала так: «Не мо-гу. И без тебя не могу, и там жить не могу. Приезжай. Милый, милый. Ар-се-е-ний. Слышишь, как я грустно пою твое имя?» Он не поехал, сходил лишь в отдел кадров, взял ее трудовую книжку, отправил. Вдогонку перевел немного денег на новоселье Нине Афанасьевне.
Пришло зрелое одиночество, с горечью житейских неудобств, но и с самовластною завораживающей размеренностью — на этом, как он называл его, витке торможения, он надеялся осмотреться, прикинуть хотя бы начерно будущие дни и кого-то или чего-то дождаться. Завел собак, двух рыженьких карело-финских лаек. Они, деликатно повизгивая, не торопясь бросаться на грудь, не узнав настроения хозяина, встречали его по вечерам в двух полупустых комнатах сборно-передвижного дома.
Весенняя охота со снеговой, сине взбрызгивающей под ногами жижей, с теплыми внезапными туманами по вечерам, настоянными на зеленой горечи тальников; осенняя охота в золотых, прозрачных распадках, с серебряным лосиным ревом над утренним, легким куржаком — и столько чистой, невыразимой тоски вплеталось в летящее, зовущее серебро, что спина леденела от восторга. И как бы вырытый между охотами, между другими досужими днями — котлован, котлован, котлован! Некое, по представлениям Арсения Петровича, вместилище случайностей, зримо обозначенная закономерность, набитая этими случайностями. Заморозили бетон, кран сошел с рельсов, затопило насосную — котлован был неутомим. Подчиняясь ему, ненадолго одолевая его, занятый только им, Арсений Петрович тем не менее все чего-то ждал.
Он усмехнулся, когда услышал: «Власть Севера, северный плен, северное притяжение», — и скуластое его, большелобое, с широким, крупным носом лицо кривилось, морщилось: экие, мол, глупости сочиняют да еще проговаривают их вслух. Он был убежден, что, помимо дурной привычки не считать деньги, Север, как и любое другое место России, проявляет в человеке естественные желания: покрепче привязаться к работе, к дому, к окрестностям, и без нужды от добра добра не искать. Верно, в отпуске, где-нибудь на южном берегу, сквозь сморенные солнцем веки начинал проступать зеленоватый закат над сумрачно-фиолетовыми горами, и пробивались сквозь сонное дыхание моря звон, переливы безымянного ручья под тяжелыми, почти черными листьями моховки — дикой смородины. Вот тогда и подмывало перенестись каким-нибудь чудом к этому ручью. Впрочем, думал Арсений Петрович, если бы он прирос, допустим, к калужской земле, то вот так же бы подмывало перенестись под какой-нибудь старый дуб среди поля ржи.
И все же Арсений Петрович не мог устоять, когда слышал: «Ну, это же северянин!» — не мог не откликнуться враз помолодевшей, доступной любому бесшабашию душой на этот восхищенно-почтительный возглас, подразумевающий в нем мощь и ширь натуры, и, конечно же, денежную мощь. Хотя после был отвратителен себе до какого-то серого мелкого озноба, но в том отпуске, к примеру, откупал рестораны, устраивал тысячные пикники, сам богатырствовал в застолье.
Вот таким купцом-молодцом пронесся он однажды по Гагре, в сущности никого не удивив и даже не всколыхнув банной духоты этого городишки, переплыл на каком-то кораблике в Феодосию, круглосуточно держа в ресторане открытый стол для пассажиров и для команды. В Феодосии показалось скучно, переехал в подмосковный санаторий, где ранним августовским утром был разбужен перепуганной, невыспавшейся дежурной:
— Товарищ, там три машины за вами! Вы что, уезжаете? Предупреждать же надо!
С трудом вспомнил, что вчера долго и скучно гулял с какими-то девицами по московским ресторанам, потом, возвращаясь, дал таксисту задаток, просил приехать на трех машинах — «компанией в Ясную Поляну поедем». Спустился к таксистам, двоих отпустил, одного оставил, пошел в купальню. Окунулся в теплую, розово-курящуюся воду, поплавал, сел на берегу в тяжелых, черных, холодно-мокрых трусах. И хоть отдыхал третий месяц, был белый, оплывший, весь какой-то студенистый. «Противно, ох как противно!» — вздохнул Арсений Петрович, поддел горсть серой, глинистой грязи, потерся ею и снова полез в воду. Над ним влажно зашелестела береза, только-только с верхушки прихваченная дымно-желтым солнцем, вспыхнули кресты и звезды на лазурной маковке церквушки, стоявшей на бугре, на той стороне пруда. Тихо, ясно, как бы оберегая и приветствуя эту рань, зазвонили колокола.
Не вытираясь, брезгливо морщась, будто наглотался тины, Арсений Петрович пошел к машине. И пока шел, решил: «Переменюсь. К черту все. На кого я похож? Какое-то скотство, грязь, эти девицы вчерашние — переменюсь, или не знаю, что с собой сделаю». Сел в машину, уехал в аэропорт и через сутки входил в свои полупустые комнаты в сборно-передвижном доме.
Переменился. Бросил пить, за два месяца выходился по гольцам так, что тело стало тугим и звонким, как крепкая, сухая лиственница. Отпустил бороду — выросла светло-каштановая лопаточка, скравшая его тяжелые скулы и широкий, крупный нос, приглушившая густо-чайный, несколько сумрачный блеск его глаз. Выписал целую охапку газет и журналов, набрал в постройкомовской библиотеке книг — библиотекарша записывать устала. Нашел в старом карьере маленький, с ноготь, гранатовый огурчик, заказал для чего-то перстень — то ли в честь своей новой жизни, то ли чтоб не сглазить ее — сам толком не знал. Появилась новая привычка: покручивать перстень на пальце, поглаживать — вроде сосредоточеннее думалось при этом. Потирая шершавую, неотшлифованную спинку гранатика, Арсений Петрович часто усмехался: «Гулял истово, истово бросил — добра не жди. Можно сказать, на четвертый виток пошел. В полете и разберемся».
По вечерам, накормив собак, читал. Или писал письма. Он неожиданно пристрастился к этому писанию: разыскал по чемоданам старые записные книжки, выбрал из них адреса полузабытых приятелей, каких-то двоюродных братьев и сестер, кому раньше отправлял только открытки к праздникам, да и то через раз. А тут вдруг потянуло подробно описывать здешнюю жизнь, с пейзажами и характерными фигурками на их фоне, здешние нравы с перечислением свадеб, юбилеев и кушаний. Письма выходили длинными и вроде бы остроумными, не без доли праведнического пыла, который возникал как бы самовольно из теперешней его трезвости и безгрешности.
Скопив несколько отгульных дней, каждый месяц летал в областной город — в поселке понимающе говорили: «Правильно. Душу отведет — и назад. Что же на глазах-то куролесить?» Арсений Петрович знал об этих разговорах и снисходительно удивлялся недостатку воображения у своих подчиненных и товарищей: «Насчет души все верно, дорогие мои. Душу отведу — и назад. Да на свой лад. Мне этот лад дорог, а вам — и знать не обязательно».
Сидел в гостиничном ресторане, обедал. Поглядывал за окно, где свистела в коричнево-сизых тучах февральская метель — свист, должно быть, исходил из серой, мыльной мглы на востоке, откуда мчались острые, низовые всхлесты, а уж потом их догонял рваный, обвальный свист.
— У вас свободно? — спрашивала женщина в черном кружевном шарфе под собольей, чуть надвинутой на лоб кубанкой.
Пока садилась, Арсений Петрович заметил, что она тонкая, гибкая и, видимо, подчеркивает это: черный, отливающий серебром свитерок заправлен под широкий замшевый, туго стянутый пояс.
Подвинул ей карту, пепельницу, — не взглянув, кивнула, сразу же открыла карту. Большие, овально сглаженные прямоугольнички очков были в странном, неуловимом соответствии с нежно-впалыми, смуглыми щеками — без очков, подумал Арсений Петрович, лицо не было бы таким законченным, таким… он не нашелся каким. «А ведь она где-то неподалеку работает. Или живет. Метелица с ног сшибает, а на ней — ни следа.
Даже не разрумянилась».
— Вы из редких металлов? — напротив гостиницы стоял институт редких металлов.
— Из редчайших. — За стеклами холодно, черно, округло посмотрели на него.
— Извините. — Арсений Петрович взялся за перстень, повертел, погладил его.
Она ела, чересчур отставляя, оберегая губы, точно беспокоилась за помаду, хотя они были естественно темны и вишневы.
Видимо, она была голодно раздражена, но вот отошла, смягчилась, за стеклами прищурились черные, без зрачков глаза, живо и влажно заблестели. Спросила, кивнув на перстень:
— А вы, значит, специалист по редким камням?
— Увы, я в них ничего не понимаю.
— Как же так? С бородой и не геолог. Вы, наверное, где-нибудь дрейфуете, что-нибудь покоряете?
— Сегодня же сбрею бороду. Это никуда не годится: вводит в заблуждение такую… — Арсений Петрович замялся.
— Подумайте, подумайте. Хоть уж комплимент будет редким.
— Ох! Извините меня, сиволапого. Такую прелестную женщину.
— Стыдно. Надеюсь, только борода мешает разглядеть ваш стыд.
— Для того и отрастил.
— А все-таки скажите, хочу угадать, вы занимаетесь чем-то близким в земле?
— Угадали. Я потопы устраиваю. Была земля — и нету. Вместо нее — водная гладь. Гидростроитель я.
— Зачем же вы так? Вы же не бог.
— Не бог, не царь, но — человек.
— Ах! Ах! Ах!
Он рассчитался, но не вставал.
— Можно, я еще с вами посижу?
— Посидите. Время ваше, не мое.
— А можно узнать уж заодно, как вас зовут?
— Таней.
— Татьяна… А дальше?
— И вам и мне хватит Тани.
— Таня, только не обижайтесь. Можно, я приглашу вас куда-нибудь?
— Вы что здесь делаете, гидростроитель?
— Да ничего. Ну, можно сказать, в командировке.
— Тогда понятно. Командировочные утехи. Тоска, пустой вечер, жажда развлечений, предпочтительно в женском обществе. Вот уж действительно тоска. Нет, не хочу.
— Таня, правда? Пусть тоска, пусть пустой вечер, но отчего же не увидеться? Никогда не виделись и вдруг посидим, поговорим. Или пойдем куда-нибудь. Я же вас не съем.
— Попробуйте. — За стеклами остывающая, какая-то отдаленно мерцающая чернота. — Вы мне позвоните. Вот телефон. Если ничего более интересного не случится, пойду с вами.
— И на том спасибо. Позвонил.
— И куда же мы пойдем, Арсентий Петрович?
— Можно в театр, можно в концерт. Вот тут прочитаю сейчас на афише. Можно в ресторан.
— В такую холодрыгу, в такую пургу. Конечно, в ресторан. Удивилась, что он не пьет.
— У вас что, больное сердце?
— Зарок, Таня. До лучших времен.
— А я с удовольствием выпью. Закажите, пожалуйста, водки. В нашей богадельне холод, как на улице.
— Таня, а почему вы по телефону назвали меня Арсентием? Вы забыли, что я Арсений?
Смутилась, прикусила губу, вспыхнула.
— Не забыла, но почему-то в ту минуту захотелось сделать вид, что забыла. Извините.
Сняла очки, открыв неожиданно густые с рыжинкой брови. И без очков глаза были большие, с грустною, переливчатой, вовсе не близорукой чернотой.
Он чуть плеснул себе водки в бокал с минеральной водой.
— Неловко совсем дистиллированным быть. Таня, на Севере есть довольно грубый, но не бессмысленный тост. Будем! То есть будем знакомы, будем друзьями, будем сердечно близки.
— Ни-че-го себе! Этак за один тост вы чуть ли не в родственники выбьетесь. Нет. Северяне очень торопятся. Давайте спокойнее: за знакомства, в которых потом не раскаешься.
— Можно и так.
Через минуту, глядя с неким отстраненно-щемящим чувством на ее заалевшие, чудесно ожившие щеки:
— Вот уж не думал, не гадал, что такой вечер мне выпадает. Таня, можно узнать, как вы живете?
— Во-первых, не радуйтесь. Я не подарок. Во-вторых, если не о чем спрашивать, помолчите.
— Я же вам не на улице кричу: как живете? Можно же всерьез отвечать.
— Я не замужем. Живу на квартире. Приближаюсь к тридцати. А вы, конечно, холостяк?
— Я как-то не поспеваю за вами. Почему «конечно»?
— Бросьте эти командировочные хитрости. Все вы — холостяки, и у всех у вас разбитая жизнь.
— Бог с вами, Таня? Откуда вы это взяли?
— Знаю. А может, чушь говорю. Захотелось — сказала. — Она надула губы, резко почиркала вилкой по салфетке.
— Вот это мне понятно. Захотелось — и весь спрос. Ну наконец-то и крупу принесли.
— Какую крупу?
— Ну, вы же как мышь на крупу надулись. И я подумал…
Улыбнулась, вздохнула, достала из сумочки сигареты.
Он рассмешил ее, рассказав, как однажды на охоте спросонья принял свою же собаку за медведя и как быстро, ловко убегал на четвереньках в кромешной тьме и ни разу ни обо что не ударился.
— Вы молодец. Я боялась, вы начнете какие-нибудь героические северные истории. Про спирт, про молчаливое мужество, как волосы по утрам к тюфяку примерзают. А вы — смешное и очень милое.
Разговорилась и она. В вычислительной группе их института одни женщины. «Одни романы и увлечения, — сказала Таня и улыбнулась. — Если бы все слезы, которые пролились в нашей группе, собрать вместе, их вполне бы хватило на ваши турбины, или как они там называются? Целая бы гидростанция на слезах работала. Представляете, от слез влюбленных женщин весь ваш Север бы осветился».
Арсений Петрович ждал, что сейчас перед ним развернется полотно, этакий свиток причудливых и печальных связей, каких-нибудь персональных дел и личных драм — о них так любят поговорить счастливые до самодовольства женщины или, напротив, круглые неудачницы. Но ошибся — она вдруг принялась рассказывать о многочисленных ухаживаниях за нею. Мужчины из этих ухаживаний все, как один, были посрамлены, ею осмеяны, сражены ее неприступностью, остроумием, язвительностью. «Нет, это был просто невозможный тип!» — смеялась Таня, и голос ее сиял каким-то счастливым, льющимся полногласием. А глаза — очки она так и не надела — победительно, напряженно щурились, в них плескалась влажная, засеребрившаяся чернь. Со смеющихся губ на маленький, смугловато-блестящий подбородок как бы перебегали, перескакивали легкие морщинки, скорее даже дрожащие легкие тени.
И Арсений Петрович улыбался. «Господи! Какие глупости болтает. А ведь была умной и насмешливой. — Но улыбался все равно с охотою. — Ну и черт с ними, с глупостями. Ведь слушаешь же. И не возмущают они тебя. И будешь слушать. Милая удивительно, и руки смуглые, сухие, узкие — печальные, что ли? Грустные? Нет. Вроде сами по себе, а все что-то перебирают, передвигают. Тревожные — вот какие! Ну и ты на глупости-то, надо сказать, горазд».
Он растрогался, взял Танину руку, хотел поцеловать.
— Нет, нет! Я не люблю. Еще чего. — Он, видимо, перебил ее, и она опять надула губы, резко отодвинула рюмку.
У ее дома, черного, просевшего пятистенника, Арсений Петрович спросил:
— Таня, а можно, я хотя бы в щеку вас поцелую?
— В другой раз. Если удастся.
Назавтра он улетал. Позвонил перед самолетом.
— Таня, а можно, я о вас думать буду?
— Что, вам там делать больше нечего?
Ох и чувствительный народ эти северяне. Ну, привет северному сиянию.
В самом деле думал о ней, улыбаясь в бороду, потирая грудь, непостижимо соединяя в воспоминаниях нежную смуглоту ее щек со счастливо звенящим голосом: «Это был просто невозможный тип!» Милая, какая она все-таки милая.
Прилетел в марте, позвонил:
— Таня, добрый день. Если помните, это Арсений Петрович.
— Здравствуй. — Помолчав, добавила: — Те.
— Пустое «вы» сердечным «ты» она случайно заменила… Напрасно переправили, Таня.
— Неужели стихи начали сочинять? До чего вы дожили. — Он гмыкнул, смущенный ее невежеством и чрезмерной трезвостью шутки. Впрочем, смущение быстро вытеснилось — он очень хотел ее видеть.
Встретились в сумерках — сверху, до крыш, прозрачных и синевато-льдистых; внизу — дымно-серых, теплых, согретых, видимо, сухим уже, пыльным асфальтом и весенним возбуждением толпы. Он привез с собой красной рыбы, котелок черной икры, вяленой сохатины — хотел угостить Таню.
— Пойдемте ко мне. Обещаю ужин в северном исполнении.
— Вы с ума сошли! Чтобы я пошла в гостиницу к какому-то бородатому мужику! Ни за что.
— Тогда выходите за меня замуж.
— Ага. Белых медведей поеду смешить. Какая из меня северянка! Весна, а я зябну. Что мы там делать будем? В жестокие морозы и в жестокие сроки возводить ГЭС?
— Таня, а можно вас попросить…
— Можно, можно! Что вы все время такой разрешительный? Говорите прямо и ясно, кто я вам такая, чтобы разрешать?
— Таня, только не говорите потом, в кругу своих женщин, своих сослуживцев… Что вот, мол, сваталось ко мне одно бородатое пугало, а я его наповал отшила. Будьте добры.
Она остановилась.
— Ну что ты! — сказала вдруг поникше и дрогнувше. Взяла под руку. — Пойдемте, Арсений Петрович, на остров.
На острове было светлее, чем в городе, ноги задевали о вытаявшую черную полынь, и ее слабый, сухопыльный дух провожал их, пока они ходили. Таня молчала, все шла чуть впереди, как бы по золотистым, оплывшим дымной радугой уличным огням, из-за темноты опустившимся ниже острова. Свернула к скамейке, присела, потянула его за рукав:
— Хотя бы в щеку… Вот, помню. — Щека была тепла, упруга и тоже отдавала полынным веем.
Снова отчужденно пошла чуть впереди, легко, тонко наклоняясь на ходу, кутаясь в воротник, хотя ветра не было. «Озябла совсем. Одна, все одна, привыкла зябнуть. Бежит-то как, господи!» — Арсению Петровичу так стало тревожно за нее: куда вот клонится, зачем так кутается, прячется, что с ней будет? — что он догнал, обнял за плечи, что-то утешающее, горячее, хорошее хотел сказать ей, но сказал лишь:
— Ох, Таня, Таня.
Стояли на ее крыльце, вышла хозяйка закрывать ставни. Таня познакомила их.
— Марья Дмитриевна, — поклонилась маленькая беленькая старушка. Арсений Петрович успел рассмотреть ее. — Что же вы не проходите? Самовар горячий. Угощай, Татьяна, кавалера-то.
— Не приглашают, вот и не проходит, — сказала Таня. — У товарища ужин в гостинице стынет. Пока, Арсений Петрович. Не выпрыгните на ходу из самолета.
— Ох, Таня, Таня.
В апреле, прилетев, не стал сразу звонить. Зашел на базар, купил у печального, с перевязанной щекой кавказца бело-розовые махровые пионы. Окунул нос в прохладно-влажные лепестки:
— Что-то пахнут слабо.
— С дороги, дорогой. Устали, отдыхают. Отдохнут — голова будет кружиться.
Думал оставить цветы у Марьи Дмитриевны, а уж потом идти к Тане. Но она сама открыла дверь. В брюках, в белой пушистой кофточке, тесной в груди, на плечах платок с лазоревыми разводами по черному полю.
Хмуро посмотрела на пионы:
— Шикуете? Князь северный. Вот теперь попробуй не впусти вас.
— Вы хвораете, Таня?
— Ремонт в нашем институте. Ну и чтоб не мешались, негласно распустили.
— А я-то думал уговорить Марью Дмитриевну не выдавать меня и оставить открытку в цветах: «От неизвестного со всею его любовью».
— Так уж и со всею…
В ее комнате, оклеенной обоями в мелких розовых бутончиках, была открыта форточка, и апрельский, пахнущий нагретыми мокрыми крышами ветерок вкусно перемешивался со свежим сигаретным дымом. Старое настенное зеркало в вишневой резной раме, комод этого же дерева и этой же работы круглый стол под белой льняной скатертью у большого, простеженного тонкими ремешками дивана.
— Садитесь на диван, складывайте руки на коленях и готовьтесь к ужасному наказанию: будем коротать время.
Заглянула Марья Дмитриевна, поклонилась-поздоровалась, увидела пионы:
— Ох ты! Богатство какое! Да перед самой пасхой — вот уж правда, Татьяна, светлое воскресенье у нас будет.
Убежала на кухню, загремела ведрами, зазвенела банками, чуть зарумянившись сухоньким, сморщенным личиком, расставила цветы в воду. Потом у себя в комнате громко скрипела дверцами шкафа, хлопала крышкой сундука со звонкими пружинами — собралась и куда-то ушла.
Таня молча ходила от букета к букету, наклонялась к ним, касаясь лепестков губами, растягивая, раскрыливая при этом концы лазоревого платка.
Вздохнула:
— Да, все-таки замечательно! — Села к нему на диван. — Ты, должно быть, думаешь, у меня кто-то есть? Никого, никого. Да и ты то ли есть, то ли нет.
— Таня, а ведь можно выйти за меня замуж.
— Глупости какие! — Придвинулась, обняла, с неожиданной силой и страстью поцеловала — пахнуло прохладными пионами. Ладони Арсения Петровича почувствовали, какая у нее гибкая, непокорно-молодая спина. — Нет, нет. Я сама…
— Ну вот. Доигрались, — говорила после, стоя у открытой форточки и куря. — Теперь что же? В самом деле за тебя замуж? Только у тебя противная пыльная борода.
Он, подойдя сзади, поцеловал склоненную, охолодавшую уже под ветерком шею.
Майским воскресным полднем, выйдя из самолета, Арсений Петрович разыскал в вокзале парикмахерскую, сел в кресло, обмахнул рукой вокруг бороды:
— Долой, — заранее смущаясь голого лица и посмеиваясь над этим смущением.
Оттопыривались в зеркале губы, тяжелел нос. «Хоть не смотри, честное слово», — вздыхал Арсений Петрович.
Побритый, с цветами — жених женихом — взошел он на Танино крыльцо.
Открыла Марья Дмитриевна, долго вглядывалась, не узнавая, а узнав, заплакала, потянула передник к глазам.
— Я вам телеграмму хотела дать, да не знала куда. Адреса-то не нашла.
Он молчал, напряженно выставив цветы, точно загораживался ими.
— Нету Тани-то, нету-у… — Марья Дмитриевна спрятала мокрое личико в передник. — Сердце-то слабое было… А тут простыла. В три дня, в три дня-а, батюшка…
Он положил цветы на перила, приклонился к крылечному столбу.
— Прямо сгорела…
Он почувствовал, как неприятно вспотели голые щеки и губы.
— Где ее… положили…
— На городском, вон на той горе.
Думал, никогда не поднимется на эту гору — так было жарко и так тяжело подчинялись ноги. Ходил и ходил по красным глинистым дорожкам, под свежей листвой тополей и рябин — Тани нигде не было, затерялась на этом печальном, ярко зеленеющем пространстве. И у Марьи Дмитриевны не спросил, в какие ворота, в каком углу. Негромко ударил барабан, и негромко устало вступил оркестр — Арсений Петрович испуганно оглянулся: померещилось. Но в удалении на еще не засаженном пустыре стояла черная машина, стояли, опустив головы, люди — «да, и по воскресеньям тоже», — отвернулся Арсений Петрович.
Он понял, что сегодня Таню не найдет. Сел на лавку под высокий куст боярышника. «Таня, милая Таня…» Закинул голову.
В вечереющем, но все еще жарком, бесцветном небе где-то летел самолет. Его не было видно, и молочно-белый, чуть розовеющий след будто бы сам по себе совершал виток. А рядом с ним проступал уже голубоватый, нагой, прозрачно-веселый месяц.
ТРИ ЖЕНЩИНЫ
Три женщины поддерживали жизнь этого просторного, гулкого дома. Старшая — Татьяна Захаровна — была легкой, бестелесной старушкой, морщинистой, с седыми бородавками, с седым пухом на голове, но из этих морщин, из этих седин с удивительной живостью выступали пристальные, молодые, темные глаза. У нее осталась и цепкая, пристальная память. Вдруг говорила внучке, Елене Сергеевне:
— Это мы сейчас стали череповчане. А раньше говорилось: черепане. Даже поговорка была: «Черепане — ежики, а в карманах — ножики».
— Разбойничий, значит, город был? — спрашивала Елена Сергеевна.
— Не-ет. В основном смирно жили. Скорее коварный. Ежи — удивительно коварные, мстительные существа.
— Не может быть!
— Сколько раз я тебя учила: не верь сказкам, а верь жизни. Не фантазиям, а научным данным.
— И правда коварный?
— Любили в конфуз ввести.. Впрочем, не чаще, наверное, чем в любом другом. Все поговорки — либо от самомнения, либо от сознания ущербности.
Когда-то Татьяна Захаровна была учительницей, вела ботанику и географию, хорошо говорила по-немецки, пела в благотворительных концертах (однажды она вспомнила при Елене Сергеевне, что девушкой пела в пользу русских воинов, отравленных газами в пятнадцатом году, у Елены Сергеевны колко ознобило виски от стремительного погружения в такую давность), но эти проявления личности Татьяны Захаровны прочно заслонились долгой старостью, ветерком в полах фланелевого халата, в котором летала по дому Татьяна Захаровна, стирая, подметая, готовя завтраки и обеды, настойчивым шипением слова «баушка», оно ползло и ползло от дисканта к басу, от внучки к дочери и зятю.
По вторникам Татьяна Захаровна надевала черное платье из тонкого сукна, отделанное тускло-золотистыми вологодскими кружевами, черную велюровую шляпку с темно-синей лентой и, смотря, что было за порогом — зима или лето — надевала повыбитую котиковую шубу или пальто из коричневого плюша и со смущенно потупленной головой шла на спевку в церковь Воскресения, где пела в хоре. Смущенно потуплялась Татьяна Захаровна не потому, что верила из-под полы или не всерьез, а потому, что долгие годы боялась скомпрометировать своею религиозностью зятя, строительного начальника и человека партийного, хотя он никогда, ни словом, ни взглядом не выказал Татьяне Захаровне недовольства. Зять давно умер, а смущение при сборах в церковь осталось. И Елена Сергеевна порой шутила, обнимая Татьяну Захаровну и нарочно перевирая Блока: «Бабушка пела в церковном хоре о всех ушедших в чужие края». — «Как ты на воробья походишь, милая баушка! Как я тебя люблю!»
Дочь ее, Людмила Глебовна, из хрупкой, изящной блондинки превратилась в рыхлую, болезненную женщину, в сущности, в старуху, но жизнь в соседстве с матерью позволила ей сохранить две-три капризные нотки в голосе и некоторую (неуместную, конечно) девическую избалованность в жестах и манерах. Порой она морщила дряблые губы этаким увядшим бантиком и говорила матери: «Ну пожалуйста, не корми меня этой противной овсянкой! Придумай что-нибудь съедобнее!» Вдруг, забыв о возрасте и весе, этак порхающе передвигалась по дому; напевая, округло, плавно возносила руки, но недолго — ни дыхания, ни сердечной силы уже не было. Впрочем, склонность к девическому поведению поощрялась в большей степени не соседством с матерью, а поздним замужеством.
Ей было за тридцать, когда она вышла замуж, вышла за старого холостяка, но не из законченных эгоистов и деспотов, а из стеснительных, добрых, снисходительных. Он плохо и мало знал женщин, поэтому запоздалое сюсюканье Людмилы Глебовны, ее романтические преувеличения при виде какой-нибудь лужайки во время загородной прогулки, ее восторженная, житейская непрактичность (пошла покупать себе туфли, подходящих не нашла, тогда купила в комиссионном обшарпанную китайскую ширму и долго умилялась ею, не зная, куда приспособить), ее девические улыбки, умильности вызывали если и не всегда радость, то сочувственное внимание всегда, равно как и ласковое согласие.
Муж ее был молчаливым, работящим (его домами в Череповце заставлена не одна улица, да и их родовой дом он снабдил современным комфортом), а потому очень занятым человеком и в течение семейной жизни не входил, полагаясь на Людмилу Глебовну. А ей так понравилось пребывать в затянувшемся медовом мороке, что лишь через семь лет после свадьбы она надумала рожать.
Но несправедливо выставлять Людмилу Глебовну только сюсюкающей, восторженной старой девой, удачно вышедшей замуж, — нет и нет. Она была добра, искренна, жалостлива, ее дружно любили, с долею, верно, снисходительного юмора, мальчики и девочки из старших классов, где она вела литературу. Людмила Глебовна не утеряла свежести восприятия многажды читанных книг. Скажем, судьба Лизы Калитиной каждый раз отзывалась в ней искренним изумлением и воодушевлением, а заключительные строки «Дамы с собачкой» она не могла читать без слез печального восторга. Чувствами своими, рожденными чтением, она охотно и горячо делилась с учениками, за что и была ими любима.
До замужества она подумывала о заочной аспирантуре, где занялась бы жизнью и творчеством писателей-народников, связанных с Вологодчиной. Она восхищалась их самозабвенным заступничеством за маленького человека, которому, как говаривала Людмила Глебовна, жилось на белом свете не веселее, чем на вечной каторге. Кроме того, и неказистая личная жизнь писателей-народников занимала ее чувствительное сердце. Но замужество, безоблачное семейное небо, рождение Лены отвлекли от аспирантуры, да и от горьких судеб писателей-народников. Лишь иногда Людмила Глебовна рассказывала о них, если просило общество «Знание».
Леночка стала учительницей музыки, Еленой Сергеевной, юной женщиной с насмешливыми черными глазами, живым блеском и пристальностью напоминавшими бабушкины, чуть картавящей, чуть заикающейся — скорее даже запинающейся на начальных слогах, что придавало особую, пожалуй раздражающую, выразительность ее речи. Была в Елене Сергеевне незначительная пока, произошедшая от безмятежно устроенной жизни полнота, этакая уютная домашняя полнота.
Жизнь Елены Сергеевны проходила в холе и неге, среди романтического — сквозь слезу и восторг — обожания матери и сердечного потакания отца всем ее прихотям, поползновениям и причудам — легко было превратиться в избалованную, чрезмерно сытую и чрезмерно довольную собой женщину, но, к счастью, возобладало влияние бабушки, и Елене Сергеевне передались ее житейская трезвость, способность посмеиваться не только над окружающими, но и над собой, склонность к строгим нравственным оценкам и боязнь пустых разговоров, громогласных изъявлений чувств, когда слышится больше междометий, чем проявлений сердца.
После смерти отца Елена Сергеевна превратилась в главную женщину дома. Татьяна Захаровна стала еще беспомощнее, хлопотливее и легче, ее как пушинку, как голубиное перо, парящее в воздухе, вдруг прикрепляло к стулу или дивану, и сморщенными ручками, как лапками, она отгоняла Елену Сергеевну:
— Пустяки, иди к матери. Я просто завихряюсь, перехожу в другое измерение. Но удается вернуться. Так что овсянку в ближайшие дни буду варить тебе я. Иди к матери.
В черном костюме, в черном газовом шарфе, тщательно причесанная, Людмила Глебовна без устали мерила комнату, словно готовилась принимать соболезнования сослуживцев и знакомых покойного мужа. Она протоптала тропинку в ковре от пианино к тахте: на пианино стояла большая фотография мужа, на тахте раскиданы номера городской газеты с некрологом и портретом. Сцепив руки на груди, с сухими, невидящими глазами, с безумным румянцем на щеках, Людмила Глебовна бормотала: «Какой человек был, кого мы лишились!», «Сережа, Сереженька, какой же ты у меня красивый», — и припадала скорбящими руками к фотографическому портрету на пианино. Елена Сергеевна обнимала мать, останавливала, пыталась уложить ее, а сама думала: «Неужели она не чувствует, как пошлость убивает горе. Как разменивает его на какие-то сценки. Так пусто стало, так страшно, и вдруг это пошлое безумие с портретом».
— Мамочка, давай посидим, моя хорошая. Хочешь, я поиграю. Мамочка, прошу тебя…
Прошли черные дни, но тень от них осталась, и никогда уже Людмила Глебовна не выберется из-под этой вялой, но лунатически цепкой руки. Людмила Глебовна теперь начинала любой частный разговор странной хвастливой горечью: «Не знаю, как мы смогли пережить. Вы не представляете, как меня скрутило! Света белого не хотела. О, это не пересказать!»
Отрезанная горем от недавнего счастья, от недавней сердечной беззаботности, Людмила Глебовна обнаружила в себе расчетливость и умение холодно прогнозировать ближайшие семейные хлопоты. Она сказала дочери:
— Теперь ты — главная в доме. Чтобы в нем была жизнь, зависит только от тебя. Все надежды этого дома только на тебе. И наши с бабушкой — тоже. Ты должна выйти замуж.
— Как интересно-о! Наверное, ты прочишь меня за контрабас. Роман с контрабасом. Других мужчин в школе нет.
— Леночка, милая. Надо искать. Тебе скоро тридцать, а ты нигде не хочешь бывать. Дом без мужских рук угаснет. Неужели ты хочешь этого?
Елена Сергеевна любила свой дом, его гулкие сосновые стены — летом они нежно, томно, как бы нехотя, сквозь размягчившуюся, разомлевшую смолу принимали голоса Шексны, заречных лугов, ропот берез на близкой Соборной горке, и тогда Елену Сергеевну тянуло к Скрябину; зимой — скрипы, гулы больших снегов и морозов, посвисты хохлатых, розовых свиристелей — Елена Сергеевна удивлялась, как она могла так долго не садиться за Грига, и она, конечно же, всей душой хотела, чтобы дом жил, дышал, так же жадно воспринимал звуки.
— Где же мне бывать? На хоккее? По воскресеньям пиво пить? С табличкой по Советской пройтись — «ищу мужа»?
— Не сердись, умница моя. И не груби. Существуют всевозможные вечера, лыжные прогулки, походы — надо общаться.
— И авось подцеплю суженого, ненаглядного.
— Твои замужние подруги уже смотрят на тебя, как на старую деву. Впрочем… Может быть, ты хочешь подцепить чужого мужа?
— Мои замужние подруги завидуют мне. Слышала бы ты, как они клянут свою семейную жизнь! Бесконечные жалобы: скучно да тошно. Кухня да постель — вот радости-то!
— Жалуются, потому что есть на кого. А ты хватишься — одна во всем доме.
— Ну, времена! Одни совмещения: ты и невеста, ты и сваха, ты и надежда дома сего. Бабушка, а ты что молчишь? Тоже за женихами погонишь?
Татьяна Захаровна потрясла сухим кулачком возле уха, словно хотела послушать, как звенят, перекатываются еще не сказанные слова, но вот разжала кулачок, ладошкой махнула на Елену Сергеевну:
— Обещаю тебе пережить всех кавказских старух. Поэтому с женихами я могу подождать. Бог с ними. О тебе скажу. Тебе пора замуж. Иначе ты будешь жить с двумя старухами. Экий ледяной вариант. Я бы сразу застрелилась. Старушечьи платья, старушечьи ужимки, старушечья болтовня… Елена, на что ты себя обрекаешь!
— Мама! Не городи оскорбительной ерунды! — Людмила Глебовна рассердилась. Нахмуренная, с поджатыми губами, со съежившимся подбородком, она очень походила сейчас на Татьяну Захаровну, плоти, правда, было побольше, морщины были еще не столь часты и мелки, и не согревали их живым блеском глаза — у Людмилы Глебовны голубизна глаз переходила теперь в белесость. «И я в моих старушек пойду, и у меня так же щеки затрясутся», — вроде бы снисходительно и шутливо подумала Елена Сергеевна и тут же испугалась очевидной неприглядности, может быть, и далеких, но предстоящих дней.
Ночью Елена Сергеевна не спала, слушала, как за стенами налаживаются, гнездятся ноябрьские холода, бесснежные, с закаменевшей, серой землей, с тусклым, острозубым льдом в канавах и черными, пыльными воронками по берегу Шексны. Сосновые бревна отзывались на ноябрьскую стужу дружным звоном — набирали в грудь отваги и согласия защищать трех женщин от зимних ветров. Елена Сергеевна представила затерянность, малость своего дома среди ноябрьского ночного пространства и поняла, как тяжело его стенам хранить тепло, как долго служил он хозяевам без единой червоточинки и как легко ему стать щелястым, негостеприимным, с подслеповатыми, стылыми окнами. Елена Сергеевна села в постели от прилива любви к дому, вины перед ним за свое иждивенчество, еще добавилась в этот ночной час горечь, что она — старая дева, надо искать мужа, — ненужность и унизительность этого занятия так не соединялись с добротой стен, с привычностью уюта и покоя, что Елена Сергеевна впервые ощутила сухую колкость и бессильную бодрость бессонницы.
Вскоре в городе был День лектора, и по его расписанию Людмила Глебовна попала к строителям пятой домны. Домой вернулась в волнении, с неостывшими пятнами на щеках, с красной монтажной каской в руке — сначала устроила ее на подзеркальный столик — не понравилось, сунула на шкаф — показалось неуважительно; остановилась на оленьих рогах, хоть доля нелепости и была в этом распоряжении Людмилы Глебовны, но и почета для каски было много, и необычности — красная пластмасса на оленьих рогах — всегда заметишь и всегда вспомнишь о внимательных к лектору строителях. Елене Сергеевне показалось, что мать нарочно так долго и так привередливо устраивает каску, чтобы не так выпукло воспринимались при этом слова Людмилы Глебовны, не так нервно, и не с тою безусловностью, с какою бы они звучали, вывали она их грудой, без пауз и разрежения.
— Очень боялась, что мои народники никому не будут интересны. Рассказываю с некоторой пустотой в груди — думаю, вот сейчас перешептываться начнут, отвлекутся. Но смотрю, слушают, и слушают внимательно. А я рассказываю, какие неподкупные, какие принципиальные были народники, как ради идеи могли погрешить против художественной правды… И, думаете, какой вопрос был мне задан? Ни за что не угадаете! Почему начальник цеха служебную машину использует как личную. Видите, как они трансформируют честность народников, как продляют ее и в наш день?
— И что ты ответила? — спросила Елена Сергеевна.
— Потому, говорю, что вы позволяете ему это делать, — Людмила Глебовна горделиво подбоченилась. — Впрочем, говорю, если он здесь, давайте ему все и выскажем.
— А они что?
— Нет его, говорят. На машине куда-то укатил.
— А ты?
— Руками развела. Они мне похлопали и каску подарили.
— И ты, конечно, ее примерила, и опять раздались аплодисменты.
— Перестань. И тут ко мне подходит молодой человек и спрашивает…
— Позвольте вас проводить.
— Как не стыдно, Лена! Все, кстати, очень серьезно. И спрашивает: вам что-нибудь говорит фамилия Хрустов? Я — ему: Петя! Он засмеялся: как вы сразу узнали? Он очень похож на мать. Я с ней дружила, они здешние, коренные. Потом уехали, он вернулся один, к бабушке. Мастером теперь устроился. Видел тебя на улице, но, говорит, постеснялся подойти. Вы с ним в садик вместе ходили…
— Не помню никакого Петю Хрустова. По-моему, ты его на улице встретила, а День лектора в его честь устроила.
— У тебя очень игривое настроение. Думай как хочешь. Но я его пригласила. Между прочим, он знает, что ты преподаешь музыку. Я бы, говорит, с удовольствием брал уроки.
— Слышала американский анекдот про ковбоя, который слишком много знал?
Пришел Петр Хрустов и протянул Елене Сергеевне зеленый куст, похожий на куст крапивы.
— Что за зелень, детсадовский приятель? — Елена Сергеевна ни одной знакомой черты не видела в этом резком лице: кустистые, широкие брови, крупный тяжелый нос, большой лоб с серьезными залысинами — и… как называть этого угрюмого человека? — Добрый вечер.
— Бабушкина герань. Незаметно отчекрыжил, пока бабушки дома не было. — Улыбка у него нерешительная, приятно освещающая тяжелое лицо.
— Бедная бабушка. Старалась, растила, поливала каждый день.
— Простит. Не мог я без цветов прийти. А ты меня совсем не узнаешь?
— Как ни всматриваюсь.
— У нас с тобой шкафчики рядом были. У тебя — морковка нарисована, у меня — томат.
— Морковку помню… Кстати, почему — «томат»?
— А как надо?
— Помидорина. Помидорка. Помидор.
— Ты поправляй. Я часто заговариваюсь. Да! Ты любила спорить. Всем предлагала: давай спорить! Я однажды спросил: как это спорить? А ты: говори, что трава красная, а я буду говорить, что она синяя. Выйдет спор.
— Я и сейчас люблю спорить. Кажется, вспомнила… Во всяком случае, мне приятно, что ты это помнишь. Здравствуй, Петя.
Потом появились мать и бабушка, конечно же, сгоравшие от нетерпения узнать: где и что Хрустов-отец, Хрустова-мать, как они все трогательно дружили домами, вместе пельмени стряпали, на всю зиму, вместе на масленице катались, такие балы-маскарады устраивали! А теперь город большой стал — старожилы потерялись среди приезжих, старинные знакомства сами по себе рухнули, и как хорошо, что объявился Петр Хрустов, свой, коренной, из хорошей череповецкой фамилии, может быть, хоть как-то воспрянут былые времена!
— В лото играть не будем. И пельмени на всю зиму стряпать тоже не будем. — Елена Сергеевна заявляла это в прихожей, где все они собрались проводить Петра Хрустова. — Не из черствости так говорю, а потому что с мясом плохо.
— Спасибо за гостеприимство. Спасибо вашему дому. — Петр мял шапку, сонно таращился на женщин — без вина опьянел от непривычных разговоров, от насмешливых, прекрасных глаз Елены Сергеевны. — Я так рад, что он на месте. Никуда не делся.
— Что-то мама говорила про уроки музыки? — Елена Сергеевна прощалась уже, протягивала руку.
— Это я так сболтнул. Для значительности. — Петр нерешительно улыбнулся. — Чтоб тебя заинтересовать. А на самом деле — тугое у меня ухо. Не для музыки.
Мать и бабушка тоже улыбнулись.
— Просто так приходи, Петя, без музыки.
— Спасибо. А я как раз хотел спросить: можно, нет, еще-то зайти?
— Можно, можно.
Позже Елена Сергеевна по вечерней, учительской привычке подводить черту под прошедшим днем — поморщилась, глядя на куст герани, — что-то хамское было в его появлении, рос, рос, живой, большой, красивый, и вдруг грубый человек, желая сверкнуть широтой натуры, срезал его, оставил пустой горшок с сиротским маленьким пенечком. Но, признавала в то же время Елена Сергеевна, есть в Петре и приятное простодушие, есть неуклюжая цельность и — позволяющая принимать его — естественность.
Впечатления Петра Хрустова были много короче: «Девонька славная. Кусучая».
Он опять пришел. Чуть не с порога Елена Сергеевна предложила:
— Давай спорить.
— О чем?
— О жизни.
— Из меня, наверное, плохой спорщик получится. Я к вечеру квелый становлюсь. Накричусь за день, набегаюсь, в основном молчать охота.
— Значит, работали у тебя ноги и горло. Голова не устала. Давай спорить.
— Хорошо, давай. Ставь условие, как в детсаде.
— У нас есть Соборная горка. На ней церковь Воскресения, памятник павшим за Советскую власть и березовая роща с видом на Шексну. Таким образом, на Соборной горке живут: Древность, Память и Красота. Согласен? Хорошо. Ты строишь домну. Назовем ее Железной горкой. Много металла, много разных судеб вокруг него. Железная горка олицетворяет необходимость, производственную нужду, а потому не несет с собой ни красоты, ни памяти. И никаких духовных ценностей. Спорим, что Железная горка по всем статьям уступает Соборной?
— Спорим. Вокруг Железной горки вырос целый город, благоустроенный, уютный. Люди, живущие в нем, не тратят времени на дрова, на колодцы, то есть на сопротивление житейским неудобствам. И у них появляется больше времени, чтобы ходить на ту же Соборную горку. Присоединяться к памяти и красоте.
— Ага! Попался. Правильно — у Железной горки подсобная роль. Чтобы обслуживать Соборную. Создать нормальные условия для жизни. Благоустроить ее. Хотя… Как ни странно, житейский комфорт — противник Соборной горки. Комфорт сам становится каким-то центром, идолом, вокруг которого суетится человек, начисто забывая о Соборной горке.
— Подожди, Леночка. Отвлечемся пока от житейской пользы, приносимой Железной горкой. Мы построили Дворец металлургов, где, говоря твоими словами, будет торжествовать дух. Всевозможные кружки, секции и… как там: твори, выдумывай, пробуй.
— Помилуй. Какой дух? Это всего-навсего будут занятия в часы досуга. Человеку некуда время девать, вот он идет в кружки кройки и шитья, в танцкласс, в инструментальный ансамбль. Опять-таки одна польза, и никакой красоты.
— А вдруг в кружке пения или в литературном кружке со временем обнаружится гений. Часы досуга превратятся в красоту.
— Это будет прекрасным исключением. Железная горка — средство для прокорма, для нормального быта и досуга. Ты знаешь, как ее превратить в духовную ценность?
— Не знаю. Но послушай. Железную горку строят пять тысяч человек. Она соединяет их в такое сообщество, в такое товарищество, о котором многие будут вспоминать и на старости лет с нежностью. Разве это не духовная ценность?
— Допустим. И сообщество, и товарищество существуют. Вы помогаете друг другу, оставаясь на вторые и третьи смены, выручаете друг друга из разных авралов и досрочных сдач. И это говорит, что вы — хорошие, нормальные люди, с товарищескими отношениями внутри работы. Но почему я не ощущаю созданную вами духовную ценность? Не чувствую токов вашего товарищества и вашего рабочего бескорыстия? Эта ценность внутри вас, внутри вашего сообщества! А Соборная горка — бесспорная ценность для всех. Я вхожу под ее березы и, уверяю тебя, думаю не о сверхплановых процентах. Я думаю о своей судьбе и как она не согласуется с этим березовым покоем. Почему?
— Лена, сдаюсь. Ты — спорщица со стажем, с опытом. Напряжение не для меня. Уже в глазах двоится.
— Как некрасиво, Петр Хрустов, признаваться, что устал думать.
— Что поделаешь, Леночка…
Елена Сергеевна подвела черту и под этим днем: не умеет, а может быть, не любит Петр Хрустов думать, заслоняется от этого занятия усталостью, расхожей житейской мудростью: главное — о деле думать, а о жизни — необязательно. И спорить совсем не может, а мог бы ее урезонить, кое в чем были, были у нее уязвимые построения. Про товарищество он здраво говорил и с сердцем. Молодец.
Петр Хрустов подумал перед тем, как провалиться в сон: «Времени у нее свободного много. Вот и раздумывает. Дети ей нужны, заботы».
Ходили в кино, подолгу гуляли, но чаще сидели в ее комнате, сумерничали под пианино и негромкие разговоры.
— Правда, что ваша домна — самая большая в мире?
— Правда.
— А правда, что самая последняя в мире? И, еще не достроенная, уже устарела?
— Почти правда. Вон ветряки. Казалось бы, для фильмов о Дон Кихоте остались. А сейчас к ветрякам, к принципу, точнее, ветряков во всем мире возвращаются. Домна устарела, но много пользы и выгоды, так тобой ненавидимых, сопутствуют ее существованию.
— Какое у тебя главное желание?
— В жизни?
— Разумеется.
— Много работать, вырастить кучу детей, по воскресеньям ездить на подледный лов. А потом — в баньку, под веник. И после баньки — четвертинку.
— Шутишь, Петр Хрустов?
— Торопливо рассказываю. Сидишь над лункой, и так радостно присутствовать в мире. Вряд ли это объяснишь.
— Все же попробуй.
— Лен, а ты вот все с духом носишься. Надо жить духом, надо думать о духе… Как это?
— Всегда быть недовольным собой. И сомневающимся. Сделал, сказал, чего-то достиг — немедленно усомнись. Так ли сделал, так ли сказал.
— Н-да-а… А я почти всегда собой доволен. Работаю старательно, устаю, ближнему зла не желаю. В чем тут сомневаться?
— Если не думать, то ни в чем. Все и так хорошо.
— Лен, может, нам соединить Соборную горку с Железной?
— Подождем немного. Вдруг нельзя соединять. А мы начнем крушить, ломать, так сказать, изо всех сил соединяя.
— Лен, можно я тебя поцелую?
— Рано. Как говорит моя подруга, мало гуляем.
— Врет твоя подруга. С детского сада гуляем.
— Морковка с томатом не в счет, Петр Хрустов.
— А сколько надо гулять, чтобы поцеловаться?
— Не меньше трех недель.
— Значит, к Новому году?
— Примерно.
Опять была подведена черта: «Как он ужасно сопит, будто все время спит. Говоришь, говоришь ему, а он все время спит. И, похоже, считает меня старой девой, которая стерпит, так сказать, от ухажера все. Поэтому говорит одни глупости».
Петр Хрустов решительно приказал себе: «Пора на штурм!»
Сидели перед Новым годом, клеили елочные цепи и фонарики — выдумка Людмилы Глебовны, долженствующая, по ее мнению, сблизить по-домашнему Петю и Леночку. Выглянула с кухни Татьяна Захаровна, позвала ужинать:
— Милости прошу. Рыба такая золотистая получилась…
Петр, не отрываясь от фонарика, вздохнул:
— А я не люблю рыбу. И никогда не ем.
Татьяна Захаровна и Людмила Глебовна растерянно переглянулись, нервно всхохотнула Елена Сергеевна:
— Вот и я всегда говорю: отстаньте со своей рыбой. Мойва какая-нибудь.
Петр Хрустов тряхнул головой:
— Что-нибудь сморозил, да? Это у меня очень просто выходит.
— Скажи, пожалуйста, могу я тебя называть — Петруша? — Голос у Елены Сергеевны язвительно зазвенел. — Давно уже хочется, но все не осмеливаюсь.
— Пожалуйста. Очень приятно даже.
— Петруша, уже поздний вечер, ты устал.
— Засиделся, даже не замечаю ничего. Извините.
В дверях Елена Сергеевна сказала ему:
— Давай отдохнем друг от друга. Извини, но я пока не хочу тебя видеть.
— Лен, что я такого ляпнул? Что случилось?
— Петруша, прощай. Запомни: умные люди не выясняют отношений. Давай пока не видеться. Хорошо?
Она зашла на кухню, где подавленно молчали мать и бабушка.
— Не надо меня больше сватать. И дело не в том, что он не пара мне. Может, такие только на роду и написаны. Но я не хочу получать кусты герани! Я не хочу, чтобы рядом со мной сопели!
Она подождала, не возразит ли мать или бабушка. Мать молчала, у бабушки насмешливо заблестели глаза, но она удержалась, опустила покорно голову.
— Хочу, чтоб голова кружилась, чтоб сердце замирало от его голоса, чтоб тайна была, не — расчет. Нежности, счастья, роз, а не танцев для тех, кому за тридцать! Красоты хочу! А не пользы! Вы слышите! Кра-со-ты!..
Новый год Елена Сергеевна встречала в пригородной деревне, у замужней подруги. Ночью они катались в санях, и Елена Сергеевна рассказывала потом, смеясь, как на должном раскате ее выкинуло в сугроб: «Это было замечательно!»
В зимние каникулы она часто ходила на Соборную горку, и возвращалась опушенная инеем, в ярком, счастливом румянце, — встречные замедляли шаги и улыбались: все же не убывает радости, свежих, веселых скрипов, волнующе заиндевевших ресниц в нашей долгой, милой русской зиме.
ВОРОБЬИНАЯ ГРУДЬ
У сельмага, напротив бревенчатого аэровокзала, толклись пассажиры, прилетевшие часа полтора назад. Автобуса или попутки и в помине не было — все уже устали злиться, пялиться на сельмаговские товары и, отделившись друг от друга, теперь прохаживались, скучно, без охоты покуривали. Но закапал редкий, тяжелый дождь и собрал их на крыльцо, под желтой, прозрачной крышей из пластикового шифера, вроде как на пригорке, под неярким, притуманенным солнцем. Не спрятался лишь тощенький, остроносенький молодой человек в красном плаще. Он словно не заметил дождя, ходил и ходил по лужайке перед крыльцом, то прижимая руки к груди, то широко разводя их, и часто потряхивал головой, подбирал обильные, рассыпчатые, золотисто-пепельные волосы.
Когда, переждав дождь, пассажиры, кособочась влево-право от баулов, чемоданов, авосек, гуськом потянулись к дороге, молодой человек сел на завалинку магазина, сонно закинув худое, маленькое лицо. Золотистая грива не мешала теперь рассмотреть желтоватые веки, бледную прозрачность щек, некую малокровную детскость, мальчишечью, чуть ли не обморочную усталость.
Наконец со стороны деревни загудела машина, он вскочил, длиннопалой ладонью пригладил волосы и, подхватив рюкзак, пошел к выкатившей из-за угла молоковозке.
Через некоторое время в толчее управленческого барака, не разгороженного еще на комнаты, отделы, службы, молодой человек разглядел бровастого, одутловатого, темнощекого мужчину, должно быть, начальника. Он сидел в углу, за отдельным столом — топчаном, откинувшись спиной на свежебеленую стену, — тихонько сеялась на пол голубоватая известковая пыль.
— Если хочешь, садись, — мужчина кивнул на подоконник и прижался к стене еще и затылком — то ли отдыхал, набегавшись, то ли размышлял.
Молодой человек не сел, а, уперевшись костяшками пальцев в стол и принагнувшись, спросил:
— Вам что? Машину было трудно прислать? Разве можно так плевать на людей?
— Какую машину? — Мужчина приоткрыл крыжовниковый, коричневый с зеленцой глаз.
— Автобус, естественно. Мы ждали больше двух часов! Можете представить, что мы о вас думали? Это же издевательство!
— А тебе, в сущности, что надо?
— Работу.
— Ну, а какую работу просишь?
— Кое-что я умею, — молодой человек достал толстенький целлофановый пакетик, пришлепнул его на середину стола.
Мужчина отвалился от стены, опустил голову на кулак — толстая щека выперла черно-бурым ежом, — свободной рукой вытряхнул из пакетика с полдюжины квалификационных удостоверений.
— Вот это набор! Это профиль! — восторженный голос не соответствовал его ленивой, расслабленной позе, однако он не менял ее, сидел, подпершись, и одной рукой перекладывал удостоверения. — И крановщик, и слесарь, и сварщик — дай я тебя обниму. Только чуть позже. Да-а. Дядю просить не надо.
— Какого дядю?
— Того самого. Которого мы всегда просим за нас поработать. Значит, профиль у тебя широкий, справедливость любишь… Как считаешь, сработаемся?
— А почему вы мне «тыкаете»?
— Так, так. Владимир Тимофеевич Кучумов. Спокойно, товарищ Кучумов, майна помалу. Откуда ты прибыл-то?
— Я все-таки попрошу…
— Стоп-стоп! — мужчина ожил, повеселел. — Тебя, товарищ Кучумов, буду звать на «вы». В виде исключения и на всякий случай. Как же так, товарищ Кучумов? Не успели появиться, а уже правду ищете, права качаете. Нарушаете последовательность. Сначала работают, Владимир Тимофеевич, а уж потом обличают.
— Нет. Правда есть правда и не зависит от трудового стажа. — Володя горделиво выпрямился и опять костяшками в стол уперся.
— Сильно заблуждаетесь, Владимир Тимофеевич. Правду-то собственным плечом подпирать надо. Подкреплять, поддерживать.
Володя с замедленностью, подобающей человеку с чувством собственного достоинства, пригладил рассыпавшиеся волосы.
— Неужели никому не нужны правдолюбцы в чистом виде? Да будь моя воля, я бы везде ввел должность правдолюбца. Чтобы ходил он по стройке и всем, всегда говорил правду.
— Наверняка здесь такой должности нет. И не рассчитывайте, Владимир Тимофеевич. Впрочем, поспрашивайте, авось подберут что-нибудь подходящее.
— Вот вы и подберите. Как вас звать, товарищ?
— Я, Владимир Тимофеевич, тоже нанимаюсь на работу. Вот сижу, начальство жду. Но это не помешало мне получить огромное удовольствие от нашей беседы.
— Это невозможное хамство, — почти простонал Володя. — Как вам не стыдно! — сгреб со стола свои квалификационные удостоверения. — Вы просто наглый, вы, вы…
— Не будем развивать тему, товарищ Кучумов, — мужчина снова привалился к стене и закрыл глаза.
К вечеру Володю оформили учетчиком в карьер — видимо, его щуплость, вся его явная физическая неосновательность произвели на начальника отдела кадров большее впечатление, чем толстая пачка удостоверений.
У въезда в карьер стояла избушка со шлагбаумом — место работы Володи. Он покрутил ворот, поднял, опустил шлагбаум, усмехнулся, вспомнив: «Или в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид» — и подумал, что на следующую смену надо захватить книжку.
Сходил к экскаватору, принес масла, смазал скрипевший ворот и уселся у окошка.
Ельник на том берегу вдруг затянулся серым, прозрачно-косматым дымом. Володя удивился, плотнее прижался к окну — оказывается, сеял меленький, почти невидимый вблизи дождь. Тем не менее его хватало, чтобы быстро разъесть, расквасить красную глину дороги, а со склона горы, в которую врезался карьер, соскальзывать тихими, мелкими, но настойчивыми ручейками — и уже бесшумно пенилась у подошвы, кружила грязные тусклые пузыри унылая, какая-то неуместная здесь лужа. И в карьере, меж валунов, растеклись бурые, густые, масляно блестевшие языки. Володя включил самодельную печку, хотя в избушке было тепло и сухо. Но серая мокрядь и как бы безжизненно притихшая окрестность, показалось Володе, выползали к нему: он зябко ссутулился и, потирая руки, склонился над печкой: «А что же тут в большие дожди творится? Как щепку меня унесет и затянет в какую-нибудь лыву».
Дождь взялся похлестче, сразу стемнело, и Володя включил маленький прожектор, прикрепленный над стрехой, — желтое одинокое око на темном, мокром лице избушки.
Увидел поплывшие к нему огоньки, потянулся из двери, высматривая номер машины, но тот был заляпан грязью. Володя выскочил, быстро опустил шлагбаум и быстро назад — под оглушительно недовольный гудок: «Как бы не так. Сам по дождю пробегись».
Шофер погудел, погудел, но делать нечего — хлопнул дверцей и, натягивая кожаную курточку на длинные кудрявые волосы, побежал к избушке. Черный, злой, изо рта искры, папиросой задел за косяк, с порога закричал:
— Отворяй к черту! Ошалел — под дождем бегать! ГАИ нам мало! Тут еще палок наставили!
— Иди номер протри. И ори меньше.
— А ты что, спросить не мог?! Надо, так иди протри. Мне за рейсы платят, не за беготню! Пиши! — Шофер прокричал номер самосвала.
— Со слов ни-че-го писать не буду. Иди протри. — Володя уже еле сдерживался. — Учет и контроль — понял? Я сейчас осуществляю!
— Ах ты гнида! Сморчок! Плевал я на твой учет. — Шофер выскочил, Володя за ним.
— Извинись немедленно! Ты по какому праву!
Шофер поднимал шлагбаум.
— Извинись! — зашелся Володя и схватил шофера сзади. Тот локтем шибанул Володю и побежал к машине.
Володя кинулся к вороту, ручку — дерг, дерг — туда, сюда — заело. Он тряс кулаком и чуть не плакал. Шофер захлопнул дверцу, мотор взвыл.
Тогда Володя, крича свое «извинись!», выскочил на дорогу и лег поперек ее в вязкую, красную жижу.
Опять хлопнула дверца, шофер, испуганно матерясь, скользя, подбежал к Володе, подхватил под плечи:
— Парень, вставай, парень, ты что?!
— А то! — Володя вырвался из его рук. — Извинись немедленно.
— Ну, хрен с ним. Извини. Ты как такое надумал-то? — Шофер шел за ним и все пытался приобнять его, попадал ладонью в жижу, стекавшую по Володиной спине, отдергивал руку, вытирал о штаны и снова забывал, тянулся поддержать, привлечь Володю.
В избушке шофер помог ему стянуть рубашку и с ней в руках вдруг сел.
— А если бы прозевал я?! А тормоза бы отказали?! — он опустил голову. Потом устало добавил: — Этой бы рубашкой да по морде тебя.
— Опять! — вырвал у него рубашку Володя.
— Все, все. Нет, ты можешь представить?! Вдруг бы тормоза отказали?!
— Надолго бы перестал хамить.
Шофер больше ничего не сказал. Встал и, качая головой, вышел.
Видимо, шофер самосвала постарался изобразить Володю «парнем с приветом», потому что везде теперь встречали его с подчеркнутым вниманием. Продавщицы, пряча улыбки, прямо-таки исходили вежливостью: «Что вам, молодой человек, пожалуйста, молодой человек»; раздатчицы в столовой, пожилые женщины, напротив, скрывали жалостливые вздохи и говорили: «Кушай на здоровье, сынок» — и масла в кашу, и сметаны в борщ не жалели. А шоферы в его смену притормаживали у избушки и коротко, как казалось Володе, насмешливо гудели: записывай, мол, и под колеса не бросайся.
Володя догадывался о шедших за спиной разговорах: «вон парнишка-то идет», «ну, тот самый, из-под колес… ну, да… да не видно, а точно — того… ох, да и тощенький какой — вот беда человеку выпала» — и злился, и возмущался, но понимал, что теперь любое его, пусть самое верное, слово в защиту справедливости вызовет смех или жалостливые усмешки. Не по себе ему стало, томила его длительная безгласность — оказывается, привык он уже к возбуждающему действию перепалок, обличений, как курильщик к никотину.
Приходил с работы и отрешенно валялся на кровати, не желая участвовать в общежитском гомоне, хохоте, во внезапных компаниях и спорах. Пытался читать, а если не удавалось, шагал по длинному общежитскому коридору. В него выходили двери и мужских комнат, и женских, и семейных — общежитие было смешанным, и Володю развлекала мысль, что запахи духов, пудры, перемешавшись с запахами мазутных роб и табака, превратились в причудливый запах мокрых пеленок и кипящих щей. Настроение у него выправлялось, и он шел в пустующий красный уголок полистать газеты.
Там он и застал одним поздним вечером Светку, пятилетнюю девочку, жившую с матерью в соседней с Володиной комнате. Светка с коленками забралась на стул и, подперевшись кулачком, свободной рукой листала желтую, замызганную подшивку «Крокодила».
— Светка, ты почему не спишь?
— Мамку жду, — она коротко зевнула, и вроде бы розовое, сладкое облачко вырвалось из ее маленького рта.
— А почему не в комнате? Зябко же здесь.
— Попасть не могу. Я вышла, а она захлопнулась.
— Ну-ка, пошли.
Вот уже когда пригодился Володе его неторопливый слесарный навык: отверткой и молотком он аккуратно отжал язычок замка и впустил Светку в комнату. Зашел и сам. Ослепительно, с каким-то даже лаковым глянцем побеленные стены и печь — Володя не удержался, зажмурился и сказал: «Хорошо, Светка, у тебя мать малярит», — самодельный абажур из алюминиевой проволоки, обтянутый розовой косынкой; голубой сундук, обитый поперек полосками белой жести у одной стены, у другой — железная кровать, тоже выкрашенная голубым, умывальник у входа, стол да табуретка — Володя сел на нее и тут увидел, что худенькое, бледное личико Светки в пыльно-блестящих потеках.
— Ревела, что ли?
— Было немного, — Светка неожиданно прижалась к его колену. — Ты побудь немного, ладно? Спать совсем неохота.
— А где же мать у тебя ходит? Во вторую, что ли, ушла?
— Не-ет, она всегда в первую. — Светка взбиралась на колени к Володе: встала сначала на перекладинку табуретки, взялась за Володины плечи, чуть подтянулась и уселась, довольно и громко пыхтя. — Калымит где-нибудь. Домов-то много, маляры нарасхват. С утра еще прибегают, мамку зовут.
— И ты одна тут каждый вечер?
— Когда как. Когда с Мишкой играем, он сюда прибегает, когда я к ним хожу. Сегодня они что-то рано спать легли.
— Есть хочешь?
— Ой. Я же забыла! Еще как хочу! У меня же вон котлеты на сковородке лежат. Давай вместе есть?
— Давай. Только давай сначала умоемся.
Она соскользнула, подпрыгнула к умывальнику — раз-два — руки, раз-два — мордашку, — Володя остановил:
— Так, Светка, не годится. Вместе, так вместе. — Намылил ей руки, намылил щеки и горсткой стал ее мыть — Светкин холодный, острый носишко щекотал ладонь.
Разогрели котлеты, поели, попили чаю. Светка предложила:
— Давай что-нибудь делать?
— А что? — Володя огляделся. — Хочешь, корабли будем строить?
— Ой! Еще как. — Светка опять прижалась к Володиному колену.
Володя разрезал газеты на квадраты и принялся сворачивать из них кораблики.
— Смотри, Светка, вот этот сделаем с одной трубой… Этот… с двумя… Эти маленькие — лодочки будут. Вот, пожалуйста, целый караван.
— А еще? — осипшим голоском спросила Светка.
— Еще? — Володя посмотрел на часы. — Спать пора, Светка. И где твоя мать ходит? Разве можно на столько бросать?
— Приде-ет. Никуда не денется. — Светка передвигала кораблики по столу. — Меня ведь не бросишь. Ну, еще давай что-нибудь, дядя Володя.
— Давай лучше расскажу что-нибудь. А ты ложись.
— Не-ет. Давай делать!
Тут услышали, как с надсадной гулкостью распахнулась барачная дверь, как по коридору кто-то тяжело затопал и заполнил его низковатым, певуче-веселым голосом, привыкшим к воле:
— Где там моя домовница? Светик-семицветик, краса ненаглядная? Вот я ее сейчас съем!
Светка присела, собирая кораблики:
— Мамка идет. Наугощалась где-то. — Володя встал. — Да ты не бойся. Она конфеты несет.
— Наугощалась, значит, выпила? — Володя уже вскидывал, приглаживая, волосы. — Да это как же можно?!.
— Поднесут, дак как откажешься, — рассудительно заметила Светка. С корабликами в руках она уже стояла у двери.
— Девонька, ты где? — Светка бросилась к матери, ткнулась лбом в живот, вскинула руки:
— Видишь, видишь? У меня кораблики!
— Ой, Володя у нас! — засмеялась. — Гости в доме, а хозяйки нет.
— Здравствуй, Евгения, — Володя сплел на груди руки, вскинул голову. — Ты могла бы спросить, почему я здесь так поздно. Ребенок до этих пор мог бы слоняться по коридору. Голодный, холодный, а ты где-то развлекаешься и думать забыла, что ребенок совсем брошенный.
— Вот ведь как рассердился-то! — Женя сняла черную сатиновую тужурку, бросила ее на кровать, осталась в пестренькой блузке-безрукавке и тут же засмущалась, не зная, куда деть полные, розовые, сильные руки. — Ой, да чего ты, Володя! — Притянула к себе Светку, загородилась ею, оглаживая ее, волосы ворошила; виновато, добро поглядывала на Володю.
— При чем тут рассердился?! Я возмущен. Ты вот выпила, тебе все хорошо и замечательно. А что Светка видит? Ты бы лучше на реку ее сводила, на берегу посидела. Да мало ли что можно придумать, чтоб развивался ребенок, а не за печкой сидел. — Володя порозовел, все чаще вскидывал волосы, отводил наконец, изливал душу.
Женя присела на кровать и теперь смотрела на него снизу вверх. Она чуть морщила лоб — так старательно слушала.
— Спасибо тебе, — опустила голову с примятым за день, сбившимся узлом кос.
— Вовсе не к спасибо все это я вел. Неужели ты, Евгения, не понимаешь: у ребенка радостей нет, и у тебя их не будет. У меня вот отец тоже пил — прятались от него с матерью, по ночам к соседям убегали. Что вот мне вспоминать, кроме страха?
— Ну уж, Володя, чего ты… Да я разве пью, — смущенным бормотком откликнулась Женя, не поднимая головы.
— Пойми, Евгения, у Светки должно быть детство. Ты же мать и, естественно, сначала должна быть матерью.
Светка сонно таращилась на него с табуретки, а Женя вдруг заплакала. Отвернулась к стене и, уткнувшись в косынку, беззвучно зашлась — только плечи задрожали. Светка очнулась, быстро съехала с табуретки, потянула Володю за штанину, сердито говоря:
— Давай вот, успокаивай теперь.
Он шагнул к Жене:
— Реветь-то и не надо, от рева какой толк…
Светка сердито прошипела:
— Да воды, воды из ведра зачерпни.
Женя, не отворачиваясь от стены, махнула на них, сказала сырым, срывающимся голосом:
— Н-не… хочу.
Утерлась косынкой, вскочила, кинулась к умывальнику, долго звенькала жестяным носиком и потом с влажно пламенеющим лицом опять присела на кровать. Заговорила без всхлипов, разве только горло еще чуть-чуть перехватывало:
— Я ведь не от обиды ревела. Хорошо ты меня расчихвостил, так мне и надо. Сочувствия, Володя, я много видела. И что девчонки по общежитиям всегда водились-нянчились со Светкой, и парни, какие бывали, всегда с уважением к моей доле: кто шоколадку, кто куклу, кто санки — смотря по возможностям. А уж про местком я и не говорю. Никогда нас не забывали — ни к Новому году, ни к женскому дню, ни к ноябрьским.
Легче, конечно, легче, Володенька, с сочувствием жить. Без него бы, не знаю, что и делала. Но и с ним, знаешь, иногда невмоготу — охота куда-нибудь спрятаться. Может, и нехорошо говорю, да уж как есть. Сочувствие-то все время не дает забыть, что не все у тебя ладно. И рада бы когда уклониться от этого «неладно», а тебе не дают, тут как тут с сочувствиями.
Ты вот отчитал меня сегодня, отругал как следует, и правильно сделал. Вот я и заревела, что все, все ты правильно говорил. Уж и не помню, когда меня ругали! Разве что бригадир когда цыкнет. А так вот за жизнь мою тарарамистую хоть бы кто словечко сказал. Сочувствовать сочувствуют, а жить никто не учит. Спасибо тебе, Володя.
Светка уже спала, забравшись на кровать, за материну спину, и Володя, дав Жене выговориться, сразу же поднялся, кивнул на Светку.
— Вон как причмокивает. Намаялась, наверно, за троих. Пойду, спокойной ночи. — У двери уже сказал: — И не ругал я тебя вовсе. И не хотел, чтоб ты ревела. Может, лишнего что наговорил, меня ведь занесет когда, не остановишь.
— Заходи, Володя. Просто так, по-соседски.
Назавтра, вскоре после смены, Светка заглянула в Володину комнату:
— Дядя Володя, выйди сюда. — Она была с громадным алым бантом на макушке, в песочном платьице с кружавчиками.
Володя вышел.
— Пошли к нам в гости. Мамка звала.
— Праздник, что ли, какой?
— Никакой не праздник. Просто в гости приглашаем.
— А ты вон как нарядилась.
— Мамка велела. — Светка почему-то перешла на шепот: — Ой, и она нарядная.
— Тогда и я пойду наряжаться.
— Не, пошли так. Мне уж ждать надоело.
Пришли. Женя — в светло-зеленом, с серебряной нитью, костюме, в туфлях на каблуке, коса не в узел скручена, а вольно опущена — склонялась над накрытым столом, передвигала, поправляла тарелки, стаканы, вилки-ложки.
— Спрашиваю, праздник какой? Нет, говорит, просто гости. — Володя за руку поздоровался с Женей. Она смутилась: прежний и обычно широкий румянец как-то вмиг перешел в темно-пунцовую бархатистость. — Думаю, никогда не видел простых гостей. Схожу-ка посмотрю. — Женя выпрямилась, отошла от стола, оказалась рядом с Володей. Они были одного роста, но Женина высокая, крепкая грудь, вся ее матерая, широкая стать превращали Володю в совершенного подростка — теперь он смутился этим невольным и не в его пользу сопоставлением и попятился к печке, в уголок, на табуретку.
— Да и смотреть-то не на что. Какие гости, эта Светка вечно навыдумывает. Просто послала узнать, вдруг ты не ужинал еще. Ну, и как-никак надомовничался ты вчера. Можно или нет благодарность-то тебе вынести? — с некоторым напряжением пошутила она.
— Раз просто, то и я просто, — Володя подвинулся к столу.
Женя поставила бутылку, села напротив. Светка давно уже гремела вилкой, поддевая салат, вернее, его составные: дольки картошки, соленых огурцов, колбасы, горошины, — и только раззадорилась. Взглянула на мать — отложила вилку, махнула на нее: «А, ну ее!» — и взяла ложку. Дело пошло быстро и споро. Женя потянулась с бутылкой к Володиной рюмке. Он нахмурился:
— Нет, нет. Я не буду. И тебе не советую. Я принципиально против.
— Ой, ну что ты! Мне прямо неудобно. Будто я пьяница какая. Ведь красненькое. Ну, Володенька! Одну рюмочку. Вот за Светку, за домовничанье ваше. И чтоб на меня не сердился.
— Хорошо. Ладно. Одну выпью. — Володя строго смотрел на рюмку, когда Женя наливала. — Давай действительно, Евгения, выпьем за Светку. Пусть у нее все получится. Пусть все как следует выйдет.
— Пусть, — торопливо глотнув, сказала Светка и подняла стакан с газировкой.
Вскоре она убежала, и Володя пересел на ее место, по правую руку от Жени.
— Совсем размяк у печки-то. Рюмку выпил, а развезло-о! — На его впалых, маленьких щеках проступило уже по яблоку, а глаза заблестели и от этого блеска стали вроде бы больше и выпуклее. — Сам удивляюсь. Так и подмывает какую-нибудь чепуху говорить. Жалко, петь не умею.
— Если охота, говори на здоровье. — У Жени так и не утих бархатисто-смущенный румянец. — Я с удовольствием послушаю. Тебе чепухой кажется, а, может, это никакая не чепуха, а самое интересное. Ой, и у меня зашумело, закружило.
— По-за-рас-тали стежки травою, — тоненьким голоском запел Володя, но сразу и сорвал его, засмеялся, закашлялся. — Нет, не умею. И пробовать нечего. А знаешь, хорошо, наверно, певцом быть. Сразу тебя слушают и сразу тебе верят. Однажды я мальчишкой в парке на концерт попал. Объявили артиста, что он будет петь «Вдоль по улице метелица метет». Вышел здоровый мордастый дядя. И вдруг запел высоконьким каким-то заливистым голосом — бабьим, как мне сначала показалось. Тенором, значит. Мне так смешно стало, что такой здоровый и так пищит — я прыснул, кулаком зажался, тетка какая-то в бок толкает: «Молчи, дурак». Я глаза закрыл, чтоб его не видеть. Слушаю. И знаешь, незаметно отошел от смеха и заслушался, заслушался. Проняло меня так, что все вижу. И метель такую вот, как на масленице бывает — с завитушками на сугробах, с посвистом веселым, и как по дороге ее тянет, и дорога потом еще больше блестит. Вообще, все увидел. Нет, замечательно быть певцом. Даже такого шкета, каким я тогда был, и то проняло. Заставил слушать.
— Ой, Вова. Какие у тебя красивые волосы! — невпопад воскликнула Женя, и тут же сообразила, что невпопад, увидев вскинувшиеся в удивлении Володины брови. Заторопилась: — Нет, нет, я поняла тебя! Очень даже хорошо. Но ты говорил когда, как мальчишкой был, я как раз на твои волосы смотрела, и тоже, знаешь, мелькнуло, быстро привиделось. И тебя хорошо слышу и понимаю, и свое враз вижу. Мне, маленькой, дядька, отцов брат, куклу привез из отпуска. Большущую, румяную, с такими вот глазищами. Катей я ее назвала. Но лучше всего у нее были волосы — прямо блестели, переливались все, чистым золотом поигрывали. Вот как у тебя. Ну, у меня и сорвалось.
— Спасибо тебе на добром слове. Значит, кукла Катя я. Уважила.
— Да ну тебя, Вова. А можно их потрогать? — Женя нерешительно приподняла руку.
Володя с независимо небрежным лицом пожал плечами: как хочешь, мол.
Она осторожно, чуть-чуть пошевеливая пальцами, запустила в волосы горячую, большую руку.
— Ой, какие мягкие-то! Пушистые, легкие!
Володя прижался лбом к ее запястью.
— Володенька, ты оставайся у нас жить, — закрыв глаза, сказала Женя.
— Совсем?
— Совсем.
Через день они расписались в поселковом Совете, а через неделю он удочерил Светку.
— Теперь ты Кучумова, — сказал ей Володя. — Запомнишь?
— Ведь я теперь твоя дочь?
— Да.
— Чего же не запомню, еще как запомню.
Вечером он услышал, как она приставала в коридоре к соседскому Мишке:
— Вот спроси, спроси меня. Будто я потерялась, а ты меня нашел. Спроси, девочка, ты чья?
— Да ну… — бурчал Мишка. — Я и так знаю.
— Нет, спроси! Мишка! Ты получишь у меня!
— Ну-у… ты чья будешь-то?
— Я — Кучумова. Света. Мне пять лет. Живу с мамкой и с папкой на Верхней речке… Мишка. А теперь давай ты теряйся.
— Да ну…
За многие одинокие дни и ночи Женя, видно, хорошо высмотрела, как жить, если все у нее наладится, если с кем-то соединится.
— Все, все будем вместе, да, Володенька? — она шила что-то и коротко взглядывала на него преданно блестевшими глазами, а он стоял рядом, по обыкновению сплетя руки на груди. — И по дому что, и куда пойти. Все, все вместе, да?
— Ты мне только говори, что я должен делать. Все ведь по общежитиям. Не приучен к дому-то. Вот, что я как пень стою! Давай отправляй куда-нибудь. Заставляй что-нибудь.
— Постой, Володенька, ничего. Или вот присядь рядом. — Она перекусила нитку, отодвинула шитье. — Лучше напротив сядь. Вот сюда. — Показала на кровать. Потянулась, погладила, перебрала быстро его волосы, вздохнула, снова взялась за шитье. — Ой, Володенька! Никуда мне тебя отпускать неохота.
— У тебя руки вон все время заняты, а я, значит, сиди. Неудобно.
— А что пока делать-то? Когда уж квартиру получим, тогда… — Поерошила ему волосы. — Давай все, все вспоминать. Кто как жил, что думал. Ты вот о чем сейчас раздумался? Вижу, вижу. И на лбу пасмурь, глаза куда-то провалились. Расскажи, Володенька. Вот и будем оба при деле.
Поговорить он мог. Верно, постороннему уху его рассказы показались бы скучноваты: то история, как он вывел на чистую воду прораба, жульничавшего с нарядами; то история кратковременного его пребывания народным контролером в крановом хозяйстве, когда он взялся за дело с такой страстью и дотошностью, что, конечно, нашлись враги, лодыри и прогульщики, по Володиному разумению, потребовавшие отобрать у него права народного контролера: мол, сам не работает и другим мешает, — истории эти так походили одна на другую, что только Жене и не надоедали.
Она откликалась и на жуликоватого прораба: «Ну, деятель, будь он неладен»; и на неудачное Володино контролерство: «Разве ж можно такую нагрузку да с твоим характером! Конечно, съедят»; и на остальные истории не жалела поощрительно-ласковых слов: «Молодец, Володенька! Не поддался! Хоть и не по-твоему вышло, а все равно ведь видно: у кого сердце совестливое, у кого — нет», — а сама в это время шила, варила, стирала, сновала по комнате, не упуская мимолетно прикоснуться, прислониться к Володе, чей ясный голос как бы осенял все Женины хлопоты.
Здешними порядками Володя тоже был не вполне доволен. Говорил о них ясным, горячим голосом: и то не так, и это, и строить бы можно поумнее, и бытовать получше — но на эти, очень близкие и ей неурядицы, Женя отзывалась односложнее, не с безоглядным сочувствием: «Ничего, Володенька, направится», — и однажды он даже обиделся:
— Ты не слушаешь меня, что ли? Направится, направится. Долго что-то направляется.
— Что ты, что ты! Как не слушаю! До словечка все слышала. — Женя приостановилась, чуть нахмурилась, придумывая: как сгладить свое невнимание. — Бог с тобой, Володенька. Не слушала. Я о бригадире нашем, дяде Коле вспомнила. Тоже вот управы на него нет. Чуть поперек скажешь, наорет, поставит в какой-нибудь дальний дом, как в ссылку. По грязи да пешком и топаешь туда. Да еще и хохочет потом: «Так-то, девка. Возражения свои для кавалеров побереги».
— И на тебя орал? — негромко спросил Володя и вздернул голову.
— А куда от него денешься.
— Я не позволю, чтоб на мою жену орали. Где он живет, знаешь?
— Прямо счас и пойдешь? — испугалась Женя. — Брось, Володенька. Подумаешь. Убыло, что ли, от меня?
— Нет, я этого так не оставлю. Так знаешь, где он живет или нет?
— Не знаю, Володенька. Вообще-то он мужик отходчивый. Ну, ладно, ладно. Завтра спрошу. — Женя, конечно, знала, где живет дядя Коля, но понадеялась, что Володя забудет ее жалобу. «Черт меня дернул подыгрывать!» — обругала себя Женя.
Володя не забыл, через день спросил, узнала ли она бригадиров адрес. «Ты вот не чувствуешь оскорбления, а меня как помоями окатили», — звонко сказал Володя. Женя поняла, что он пойдет, устроит дяде Коле скандал, а тот слова тоже искать не будет, да и на руку скор. Конечно, дядя Коля не святой, но и без строгости тоже нельзя, особенно если одно бабье вокруг, да и вообще, невелика барыня, если цыкнули на нее, приструнили, и ведь — по правде-то — никакой обиды на дядю Колю нет, а выйдет и смех и грех, будто теперь уже, замужем, она и огрызаться разучилась.
Женя отпросилась среди смены и прилетела к Володе в карьер, в его избушку.
— Ой, Володенька. Прибежала, чтоб ты зря не ходил. Мир у нас с дядей Колей. Полный.
— Как это? — строго и недоверчиво нахмурился Володя.
— Пришел сегодня. Тихий, тихий. Какая-то добрая шлея попала. Не сердись, говорит, девка, на меня. Ни в прошедшем, ни в будущем. Раскаиваюсь, говорит, и не буду больше себе душу травить, и вам не буду.
— Х-м, интересно. Нарвался, видимо, на кого-нибудь. Ну, и зубы-то поломал.
— Не знаю, Володенька.
— Ух ты запалилась-то как? Зачем же бегом-то было! Вот садись на этот самосвал, до сворота доедешь.
Она чмокнула его в худую костистую скулу и побежала к машине.
В поселке не было еще бани, и по субботам каждый приспосабливался как мог: кто шел к знакомым, жившим в своих домах, кто компанией оборудовал общежитскую кухню для банного дня, кто мылся прямо в комнатах. В комнате мылись и Кучумовы.
Володя отгораживал угол с печкой клеенчатой занавеской, ставил на плиту бачки с водой, кастрюльки, ведра, заносил из коридора цинковую ванну, на табуретках уже синели зеленоватой белизны тазы и — Светик, живо-два, лезь! — командовала Женя. В легоньком сарафане, в белой косынке, надвинутой на брови, в галошах на босу ногу подхватывала Светку под мышки, опускала в ванну.
— Только чур, не плескаться. На полу море будет. Та-ак. Давай голову, поворачивайся, поворачивайся. Ох ты худышечка моя, воробышек сладенький.
Пока Володя потихоньку, ведрами выносил грязную воду, Женя подтирала полы и на кровати расчесывала Светку. Розовенько блестели у нее нос и выпуклый упрямый лбишко. Женя, распаленная, с припотевшей верхней губой и переносицей, завязывала Светке косички рогулькой на затылке, приговаривая:
— Светик спать сейчас будет, косточки-молосточки чистенькие, новенькие. Расти быстро будут.
Володя между тем мылил голову. Женя спохватывалась:
— Володенька, Володенька! Ромашку не забудь. Уж тогда твои золотые так заблестят, так засветятся.
Потом она терла ему спину и, забывшись, приговаривала:
— Ох ты, худоба моя, худоба. Воробышек ты мой…
Он дернулся, чуть не упал:
— Евгения, не болтай чепуху. — Смахнул с глаз пену, оттолкнул ее руки. — Этими глупостями ты меня унижаешь.
— Ну, не буду, не буду…
Тем не менее он долго еще фыркал и, когда Женя выглядывала из-за занавески и просила: «А меня? Вовик, забыл, да?» — отвертывался.
— Ну уж, Вовик, не сердись.
Он что-то бормотал недовольно, но шел, брал мочалку и не столько ею, сколько костяшками пальцев, тер розовую, сильную, упругую Женину спину.
Позже она опять забывалась и выдыхала в темноту:
— Ох ты, воробышек мой…
По воскресеньям они гуляли. Сборы на прогулку Женя превращала в какое-то тревожное, суетливо-паническое действо. «Ой, Володенька, не этот, не этот шарф: тот, что я тебе к Новому году дарила. Светик, сейчас же встань, я тебе для чего брючки гладила!» — металась она между ними, что-то искала в сундуке, в чемодане, доставала, встряхивала, поправляла воротнички, обдергивала, потом так же суматошно собиралась сама.
Но по улице шла чинно, только щеки не могли остыть после сборов. Светка бежала припрыгивая, впереди, а они шли за ней — рука об руку, неспешно переговариваясь. Женя иногда говорила:
— Жалко, что ты не куришь. Закурил бы сейчас…
— Еще чего не хватало!
— Да нет, я так просто.
Летом же ходили на берег или в лес. Однажды в августе пошли за грибами. По тропам, по заросшим дорогам ходили целый день, под конец уже не замирая над россыпями тугих коричневых лиственничных маслят — так их было много.
Возвращались домой. Вдруг Володя остановился, вывернул плечи из-под лямок горбовика и свалил его у горелого пня.
— Ну их к черту! Эти грибы, эти маринады, эти жарехи. Не могу. — И сам сел рядом с пнем.
И Светка уселась, брякнулась прямо на тропу:
— Я тоже никуда не пойду. Устала, реветь охота. — Она в самом деле захныкала.
Женя, тоже запаленная, красная, стояла между ними, не зная, что делать.
— Володенька. Передохнем да пойдем потихоньку.
— Ну его к черту! Не понесу. Не смогу.
И Светка тихонько все хныкала.
— Ах, чтоб вас! — Женя вроде ногой даже топнула. Подошла, взяла Володин горбовик, забросила на плечо, подхватила Светку и так — в охапке — понесла.
Дома впервые долго и тяжело молчала. Володя не поднимал глаз, и Светка задумалась рядом, подперев щеку кулачком. Но вот Женя умылась, попила чаю, повздыхала и подошла к ним. Присела, обняла их за головы, прижала к груди.
— О-е-ей! Миленькие вы мои. Как жить-то будем?
Володя сказал своим непреклонно ясным голосом, не вырываясь, однако, из Жениной руки:
— Ну, зачем вот так! Неужели трудно было…
Женя крепче прижала его голову:
— Молчи, Володенька… Ничего, ребята. Направимся. Проживем. Где наша не пропадала…
БИРЮЗОВЫЕ, ЗОЛОТЫ КОЛЕЧИКИ
Ремонтировали старинный особняк в центре города. Жильцов не выселяли, и они все как бы влились в строительную бригаду, добровольно превратившись в подсобных рабочих: вытаскивали мусор, передвигали гардеробы-буфеты, подкрашивали, подколачивали, с искательной готовностью бегали в магазин: «Уж вы, ребята, только побыстрее. Устали в этом кавардаке жить».
В одной из комнат, с лепными карнизами и зеленовато-желтым изразцовым выступом бывшей печи, плотник Федор Крылов вскрыл пол и копал траншею, очищая внутреннюю стенку фундамента. Вокруг Федора, вернее, вокруг его головы, ходила по оставленным половицам хозяйка комнаты, толстая маленькая старуха с удивительно морщинистым лицом. Морщины располагались не с обычной поперечностью — от глаз и крыльев носа к мелкой ряби на скулах, — но вдоль лица: как будто старуха попала однажды под необыкновенный дождь, и струи проточили эти желобки, а верхнюю губу, изрезав, собрали в потемневшую запылившуюся теперь гармошечку.
Старуха топталась в комнате вроде бы без дела, просто время проводила — Федору она ничем помочь не могла, — но уж так пристально заглядывала она в подполье, так внимательно провожала чуть ли не каждый взмах лопаты маленькими круглыми глазками со студенисто-белесыми наплывами на зрачках, что ясно было: старуха торчит тут неспроста.
Федор разогнулся, подтянулся на половицах, сел — ладный, плотный, с чубчиком над крепким костистым лбом, хрящеватый небольшой нос в окалине веснушек.
— Петровна, ты чего тут высматриваешь? Принесла бы попить лучше.
— Часто, Феденька, отдыхаешь. Ведро воды тебе вытаскала. — Старухе, видно, не хотелось уходить из комнаты. — Так посиди.
— А ты сама залезь, покопай — в горле как наждаком прошлись. — Он чихнул. — Едкая пыль, старинная. Лет сто ей, наверно.
— Не меньше, Феденька, не меньше. Ну, тогда подожди меня, я быстро. Сюда ведро-то принесу. — Старуха проворно, чуть не бегом, вернулась из кухни с ведром, с кружкой. — Вот, Феденька. Пей на здоровье.
— Не помнишь, Петровна, сколько в ведре воды спирту содержится? Может, ты мне его в чистом виде?
— Ни стыда у вас, ни совести. С утра вымогаете. Да за такие мучения вы нам каждый день подносить должны. Хуже квартирантов живем — все вам угодить не можем.
— А мы — вам, — Федор спрыгнул, взялся за лопату.
Старуха опять зорко склонилась над ним. Вот лопата, как бы взбрызнув, ударилась о железо, заскрежетала по нему — Федор подвел лопату поглубже, поддел что-то, нажал на черенок посильнее. С глухим, пружинным дребезгом надломилось что-то, и тотчас послышался легкий, сыпучий звон. Федор потянул лопату на себя — увидел на ее ладони какие-то пыльные кольца, колечки, обрывок тонкой цепи — на такой, примерно, он держал своего Шарика.
— Ребя… — закричал было Федор, желая созвать товарищей, но старуха быстро, сильно залепила ему рот сухой, мягкой ладошкой, пахнувшей ванилью и валерьяновыми каплями.
— Молчи, Феденька, молчи, — спокойным, даже ласковым шепотком говорила старуха и, не отнимая ладони от его рта, по Федору сползла в подполье. — Без дружков твоих обойдемся.
Он наконец вывернулся из-под ладони:
— Ну, ты даешь, Петровна! Пусть ребята посмотрят, что я тут за ерундовину откопал! Жалко, что ли?
— Вас тут, Феденька, целая орава. Или на двоих разделить, или на ораву. Есть разница?
— Да что делить-то?
— А вот сейчас посмотрим. У меня и свечка под рукой оказалась. — Старуха достала из жакетки огарок. — Чиркни-ка, Феденька.
Наклонились над развороченным железным сундучком.
— Насквозь проржавел, — заметил Федор. — Потому так легко и подался.
Серой грудкой лежали на клочках полуистлевшей голубой материи кольца, браслеты, перстни, цепочки, серьги, часы и тьма других, неизвестного Федору назначения, загогулинок и закорючек. Все это в наростах закаменелой пыли, хлопьях ржавчины, в потеках шелушащейся плесени.
— На вид твое сокровище, Петровна, плюнуть и растереть. Боязно взяться.
Старуха стояла уже на коленях, расстелила белый платок и, сделав ладони ковшиком, зачерпнула сверху груды. Потрясла, позвенела, замерла, прислушиваясь, и осторожно пересыпала на платок. Второй ковшик был пожадней, и старуха опрокинула свечку. В темноте, вернее, в черно-серых и плотных сумерках Федор успел заметить, что старуха, поправляясь, сунула горсть в карман жакетки. Федор рассмеялся, зажигая спичку.
— Смотри, как тебя разобрало. Что ж ты сразу жульничать-то? Еще и в утайку хочешь. Раз уж теперь компаньоны, так уж давай без воровства.
— Само по себе, Феденька, вышло. Ей-богу, не хотела. Сами руки-то сблудили.
— Петровна, а как это ты свечку сообразила? Будто готовилась. Знала, что ли?
— Чуяла, Феденька. Как вы дом-то начали потрошить, так я свечку с собой и таскаю. Все в стенках ждала. Уж и постукивала, ходила. В щели ножом тыкала. Газеткам верить, так обычно в стенках находят.
— Но почему ждала-то? Приснилось, знак был, план, может, какой на обоях нарисованный? Ты не темни, Петровна. Все теперь говори.
— Говорю, чуяла. Мало этого, да? Неспокойствие появилось. Куда бы ни шла, что бы ни делала, только об этом думала. Вот сегодня ты копать начал, а я места не нахожу. Люди здесь богатые жили. Прятать было что.
— Между прочим, Петровна, в газетках-то пишут, что сдавать надо. Нашел — отдай. А тебя наградят. Про это ты как, не вычитала?
— А я сама себя, Феденька, награжу. Сколько лет в земле валялось, никому не надо было. А тут нашел, отдай… Разбежалась, держите меня. Нет, Феденька. Государство не обедняет, тем более неизвестно ему ничего. Если, конечно, ты язык не распустишь. Я — тоже государству не чужая. Да уж и жизни немного осталось. Вот и будет обеспеченная старость. Так бы валялось и валялось. А тут хоть двоим людям польза.
— Ну, уж я-то ему и подавно не чужой. Худо-бедно, а в его пользу стараюсь. Так ты считаешь, золото мы нашли?
— А что другое в сундуках в землю закапывают? Оловянные ложки?
— Мало ли. Вдруг да и не золото.
— Тогда, Феденька, и в дело не лезь. Оставь старухе, целей будет. И сомневаться не надо.
— Пригодится, Петровна. Чуть чего, блесен наделаю. Давай, давай, не сопи. Делить так делить. — Федор достал с подоконника маленький фанерный чемодан, в котором носил спецовку и который почему-то называл «балеткой». — Сыпь сюда.
— В нем, значит, сдавать понесешь?
— Сдать, Петровна, никогда не поздно. А пока мне интересно стало. С утра на папиросы занимал, а тут привалило. Как это на Алдане говорят: парень при фарте. Вот теперь я кто. Так что сыпь, Петровна.
— Феденька, ну куда мне эти часы? Тяжеленные, полфунта, поди, тянут. Мужчине и носить. Вот и цепь к ним. А мне зачем время? И так знаю, что мало осталось. Давай я перстеньками за них возьму.
— Давай, Петровна. Ты, главное, меньше майся. Штуку — мне, штуку — себе, и все дела.
Поделили, вылезли на свет божий, почистились. Старуха, пряча узелок под жакетку, сказала:
— Теперь, Феденька, вот что. Я тебя не видела, я тебя не знаю. Вас тут вон сколько, всех не запомнишь. А уж про сундучок и слыхом не слыхивала.
— Иди ты! Вот так Петровна! Я не я и хата не моя. Уж больно вдруг, Петровна. Нехорошо. То на коленях вместе ползали, компаньоны, а то — вон как.
— Так, Феденька, так. Если сдавать пойдешь, ото всего отопрусь. Запомни.
Федор взвешивал на руке чемоданчик:
— Смотри-ка, тяжеленький… Не пошел ведь еще, не стращай. Петровна, ты лучше скажи, если металл без обмана, что с ним делать-то?
— Совет такой, Феденька. Пусть у тебя теперь полежит. На глаза не лезь с ним, и в скупку не лезь — сразу спросят, откуда столько? Вообще, лучше здесь его не трогай. Подумаешь, присмотришься, куда-нибудь на Кавказ поедешь.
— Петровна, толк-то где? Лежать и в земле мог замечательно.
— Дураком, Феденька, не будешь, так и толк будет. Никуда не денется.
* * *
На улице, поглотав горьковатого, синего мартовского морозца, Федор остыл от дележа и, шагая к автобусу, посматривал уже на случившееся с привычной трезвой усмешливостью: «Ну да. Так вот для тебя и закопали. Пожалуйста, Федор Иванович, гребите золото-бриллианты совковой лопатой. Железки какие-нибудь для смеха натолкали в сундучок — что раньше шутников, что ли, не было. Может, побольше, чем теперь. Да старуха еще тут со своей свечкой, с дрожью этой — конечно, заразишься, у самого руки затрясутся».
Он опять на вытянутой руке покачал-взвесил чемоданчик: «Дома — молчок. Розке знать совсем необязательно. Хоть она у меня и не трепливая, да и любопытничать не приучена, а промолчать все же надежнее», — и тут же рассмеялся, удивившись, что вот он ничему не верит, может, никакое это не золото, а все равно заставляет к себе приспосабливаться.
Приехал в свое Знаменское предместье, дома, и чая не глотнув, схватил коробку с зубным порошком, побежал в сарайчик, где у него был верстак и где он помаленьку столярничал после работы. Накинул крючок, зажег лампочку, раскрыл «балетку». Взял перстень, изображавший сцепленные в пожатии кисти рук, поплевал на него, посыпал порошком, потер клочком мешковины. «Смотри-ка. Желтеет. Но уж больно жидкая желтизна-то. На бронзу смахивает».
Кто-то подергал хлипкую, тонкую дверь сарайчика. Федор дернулся, захлопнул «балетку», перстень сунул в карман.
— Федя, мне идти пора. — «У-ух, слава богу» — стучалась Розка. — Ты чего закрылся?
— Надо, вот и закрылся.
— Петьку покорми. Я там на столе приготовила. И трубу закрой. Смотри, не забудь, — захрустел ледок под ее ногами.
— Будет сделано. «Золотая все-таки баба — Розка. Другая сейчас бы: а ну отвори, а ну покажи. А эта повернулась да пошла». Роза работала сверловщицей на заводе, всегда по вечерам: Петькина очередь в ясли была еще «где-то на горизонте и чуть подальше» — любил приговаривать Федор, сменяя жену и оставаясь с Петькой на руках.
Снова открыл «балетку», стер с висков проступившую холодную изморось. «Славно меня прошибло. Ведь ни одна живая душа не знает, а я уже дергаюсь, как заяц, боюсь, как бы не увидели. Едриттушки. В жизнь никого не боялся. Ладно. Дальше давай пробу снимать». Каждую штуковину потер мешковиной с порошком. Он ссыпал все это добро в жестяную банку, в которой держал гвозди, сверху заткнул мешковиной, отодрал доску от пола, поставил под нее банку — «свой теперь клад заведу. Может, тоже когда откопают», — и тут услышал, как в доме орет Петька.
Печь давно прогорела, Петька зашелся, аж посинел от крика в деревянной загородке. Мокрый, голодный, с грязным кулачишком во рту. Федор подхватил его, виноватым баском запричитал:
— Тихо, Петенька, тихо. Батька твой ошалел малость. Вместо погремушки все колечки перед тобой развешу. Не реви, Петенька. Скажу: играй на здоровье. Ведьмы полосатые мало ли чем голову не забьют. Уж мы их. Вот так, вот так, — Федор колотил резиновым попугаем по загородке, по столу, себя по лбу. Петька наконец затих, заулыбался, поел каши, попил молока — и на боковую. Обычно Федор пристраивался рядом с ним и тоже как проваливался. Только посапывали наперегонки до Розиного прихода.
Сегодня же присел у стола, вяло поковырял картошку с тушенкой: «Нет, не хочу», — бросил вилку. Понял, что его тянет туда, в сарайчик, — то ли дальше потереть-почистить, то ли просто посмотреть-поперебирать побрякушки. «Побрякушки и есть. Как еще их поиначишь? Вроде бы и пусть лежат, вроде как их и не было. Но да ведь знаю же, что есть. Теперь жмурься не жмурься, а не забудешь. Вот что. Сбегаю я к Василь Сергеичу. Мужик надежный, к тому же бухгалтер — все ходы и выходы знает. Точно. Василь Сергеич пораскинет, пораскинет да что-нибудь дельное и вытащит».
Забежал в сарайчик, прихватил горсть «погремушек» и поспешил на соседнюю улицу к Василию Сергеевичу. Они жили у него в квартирантах, когда приехали с Витима, когда Роза ждала Петьку, и домовладельцы в городских предместьях говорили «нет», даже не открывая ворот. А Василий Сергеевич пустил, правда, в узенькую, тесную, похожую на чулан, боковушку, и брал втридорога и кухней пользоваться не позволял, но пустил. При этом уважительный всегда был, с поучениями да советами не лез, но уж если советовал, неторопливо пожевывая чистенькими бледными губами каждое слово, то уж и отец родной, может, так бы не посоветовал. Вот и теперешний их угол он им высмотрел, уговорил уезжавшую племянницу именно им продать. Дороговато, конечно, уговорил, но зато крыша теперь своя.
— Здравствуйте, Василь Сергеич, — вроде и негромко поздоровался, но такая чистая, проветренная тишина устоялась над блестящими полами, над белоснежными занавесками и розовыми бумажными цветами на буфете, что слова прогрохотали, булыжниками рассыпались — спугнули кота с коврика у ног Василия Сергеевича и вроде даже газетные листы затрепетали у него в руках.
— Равным образом, Федя. — Василий Сергеевич встал, аккуратно свернул газету и пошел к порогу встречать гостя. — Раздевайся, Федя, милости прошу. Давненько мы не виделись, за самоваром не сидели. Не украшали, так сказать, досуг дружеской беседой.
Он повесил Федорову телогрейку на гвоздик у двери — вешалка была чуть в стороне — для чего приподнялся на цыпочки — был Василий Сергеевич маленький, щуплый, но с большой головой, и затылок — заметным клином.
— Как здоровье супруги? Так сказать, дражайшей половины? Ну, и слава богу. Сам, вижу, здоров, и видеть это, признаюсь, радостно. Как работаешь, Федя? Вот и хорошо, что не жалуешься. Значит, и место по тебе, и заработок подходящий, — Василий Сергеевич вздохнул: обычно Федор приходил к нему занимать перед авансом или получкой, а давать взаймы Василий Сергеевич не любил. Отказывать не отказывал, но мучился при этом изрядно.
— Василий Сергеич, можно, теперь я спрошу, — Федор выгреб погремушки из кармана, положил на стол. — Что это такое, по-вашему? — Запоздало спохватился: — А хозяйка дома?
— Хозяюшка моя, как пчела, трудилась весь божий день, а теперь, так сказать, почивает. Время-то, Федя, позднее, а ты и не заметил, — укорил Василий Сергеич, косясь на горстку металла и доставая из буфетного ящика очки.
Долго рассматривал:
— Осмелюсь предположить, Федя, что это очень старинные вещи, так сказать, старинные предметы роскоши.
— Золотые?
— Вне всякого… — Василий Сергеевич еще повертел, попересыпал, только на зуб не пробовал. — У меня лично сомнений нет. Могу, конечно, ошибиться, но… нет, нет. В каких же пещерах, Федя, ты откопал эти, так сказать, златые горы?
— Да в доме одном… — Федор не хотел врать, но помялся, помедлил и на всякий случай приврал: — Чулан один разбирал. Случайно вот посыпались. Что с ними делать-то, Василь Сергеич?
— А давай подумаем, Федя. Я к тебе с полным, так сказать расположением. Посидим за рюмочкой настойки, подумаем.
Посидели, подумали, выпили по рюмочке полынной. Зарозовели щеки у Василия Сергеевича, и от этого он стал еще как-то опрятнее, уютнее. Пожевал губами:
— Вряд ли тебе следует торопиться, Федя. Береженого, так сказать… Тебе, как я понимаю, металл нужно переплавить в деньги. Если фигурально, конечно. В скупку опасно, если допустить даже, что ты не сам туда понесешь… Итог один, Федя, не торопись. Если уж гибнуть, так сказать, за металл, то очень осмотрительно. А теперь, Федя, он не пропадет. Пришло ему время объявиться, объявятся и жаждущие.
— Совершенно правильно, Василь Сергеевич. Спасибо, — Федор встал, чуть затуманенный от полынной. «Ясно, вам некуда торопиться. Ни тебе, ни старухе. До могилы — шаг. А мне еще далековато, мне ждать некогда. Не тот совет, Василь Сергеич. Сами еще покумекаем».
— Федя, у меня нет больших денег, так сказать, бешеных. Но вот этот перстенек я бы мог у тебя приобрести. Драгоценной моей — драгоценность… М-да… И о тебе бы благодарная память.
— Так я не знаю, Василь Сергеич, — Федор растерялся, повертел перстенек с прозрачным камушком перед глазами. — Сколь брать не знаю.
— Ну, Федя. Ты — хозяин, твоя и цена.
— Да черт его знает. Я же не приценялся никогда. Ладно, Сергеич. По старой дружбе. Литр коньяка — и бери.
Василий Сергеевич взволнованно прикашлянул:
— Литр коньяка… это… если не ошибаюсь, рублей двадцать.
— Точно.
Он торопливо достал из буфета четвертной билет, протянул Федору.
— Сдачи нет, Сергеич.
Василий Сергеич замахал руками: ладно, ладно, но пока помогал Федору натянуть телогрейку, пока прощался, опомнился, успокоился:
— Как-нибудь занесешь, Федя.
— Само собой.
* * *
Утром, только присели перекурить с ребятами перед тем, как разобрать инструмент и разойтись по особняку, в дверях бытовки замаячила старуха, поманила Федора пальцем:
— Феденька, я к тебе с просьбой великой, — увела его во вчерашнюю комнату, показала заранее спрятанную в кулаке сережку — маленький кленовый листик, тоже отчищенный до ранней осенней желтизны. — Пары, Феденька, нет. У тебя вторая-то. Видел, нет ее?
— Во-первых, Петровна, кто меня собирался в упор не видеть и слыхом обо мне не слыхивать? Во-вторых, никаких сережек у меня нет, и вообще ничего нет. Ясно?
— Феденька, кто старое помянет… Сгоряча же все — ведь никаких уже нервов не хватало. — Старуха неожиданно плаксиво заныла. — Уж не сердись, голубчик, уж Христом прошу, посмотри — позарез она мне, Феденька. У внучки свадьба скоро — подарить хочу.
— Так и быть, посмотрю. А вместо нее что припасла?
— Да чего уж, Феденька, рядиться-то? По-свойски и отдай. Куда она тебе? В нос проденешь?
— Петровна, не придуривай, пожалуйста. Знаю, куда продеть. Тебе надо, не мне. Вот и предлагай.
Старуха рассмеялась — продольные, глубокие морщины на лице пошли в стороны ребристыми мехами гармошки.
— Короче, Петровна. Пока, между прочим, работать надо. А то с золотом твоим без куска хлеба останешься. Само собой, и без глотка.
— Феденька, я ведь могу сбегать. Какую тебе — беленькую, красненькую?
— Не-эт, Петровна. Баш на баш, и дураков нет.
— Все, все, Феденька. Ты уж только посмотри.
Он не помнил, попадала ли ему на глаза эта сережка, хотя вроде каждую фиговинку перетер, пересмотрел. «Лопатой-то я этот сундучок крепко шибанул, может, что и по сторонам разлетелось. Старуха, наверно, всю ночь на коленках ползала, проверяла. А может, не догадалась. Мне, что ли, попробовать еще порыться? Не, ну его к черту. Буду как последний марамой пыль глотать, вынюхивать — никакое золото этого не стоит. Вообще, к одному делу два раза лучше не подступать. Нет, нет, нет. Не хватало только на коленках там горбатиться — упираться и без этого сегодня вдоволь придется. Надо старуху надоумить. Ей делать нечего, пусть, как минер, пыль просеивает. А у меня и своего дела по горло, — тем не менее еще перебрал в памяти весь запас — сережка не находилась, и Федора потянуло в сарайчик, к верстаку, на котором разложить бы собственные свои вещицы и с каждой бы обойтись обстоятельно, с бережной пристальностью.
Вечером, у дома, встретил Розу, — она уже уходила на смену.
— Там тебя этот ждет, ну, техник-то зубной, Володька. Ты чего опоздал?
— Да автобусы эти. — «Ясно, Василь Сергеич уже сработал. Навел». — Петька нормально?
— Сегодня опять и «папа» и «мама» говорил. Я белье стирала, на чердаке повесила, сними. — Роза поправила черный шерстяной платок, которым была глухо подвязана — показалось Федору, что глаза ее смотрят из-под черного шалашика устало и даже болезненно, без обычного ровного и влажного блеска.
— Тебя, может, встретить сегодня? — пожалел он жену: у него вот и золото появилось, и интересы вокруг него всякие. А она, как мотор, тянет и тянет.
— Зачем? — Роза покачала головой. — С девчонками добежим. Мы же всегда компанией — не страшно.
— Добежите, так беги. Ты завтра попроси-ка тетю Нину посидеть с Петькой пару часов. На сверхурочные оставляют.
— Опять, наверно, еле тепленький будешь?
— Ну, еще чего. Твое дело попросить.
— Ладно.
Появился, значит, Вова-Мост — под таким прозвищем знало зубного техника Знаменское предместье. Техник любил в застолье или в пивной у Курбатовских бань спрашивать соседей: «Зубной гимн знаете? Эх, люди, дерево-мочало. А ведь какая профессия! Без нее ни съесть, ни спеть. Никакого уважения. Просвещу». Тенорком затягивал, щуря наглые рыже-голубые глаза: «Мосты, мосты, зачем вам надо с любимой разлучать меня?» — и, широко разевая рот, стучал ногтем по своим золотым мостам: «Вот где все разлуки-то!» Или приставал к кому-нибудь в той же пивной: «Покажи прикус, ну, покажи. Специалист просит. Так, хорошо. Прикус нормальный, закусывать можешь», — и опять ржал, громко и пусто. Дурака валял, ерунду всякую городил, а парень, видно, был хваткий: и машину купил, и каждый год в теплых краях отдыхал.
— Здорово, пролетарий! — Вова-Мост отошел от Петькиной загородки, протянул веснушчатую рыжую руку. — А я тут с наследником твоим гугукаю. Веришь, нисколько не разучился. Может, усыновишь, а, Федя? Покажи прикус.
— Что скажешь? — Федор не любил техника и, разуваясь, сел к нему спиной.
— Федя, ты же с работы, не с похмелья. Почему такой кислый? Ты отдыхай, отдыхай, а я сделаю твой отдых разумным.
— Ты уйдешь, а я прилягу. Вот и отдохну.
— Не буду тебя стыдить и делать вид, что у меня бездна времени. Кое-что заимел, Федя, или мне наврали?
— Кое-что. — Федор почувствовал, как вмиг разрослось, заполнило грудь теплой, приятной ленцой какое-то важное, покойное довольство — он не знал этого чувства раньше, и удивился ему, но быстро догадался, что принесло его это Вовино «кое-что», — такое серьезное, уважительное, подразумевающее и его, Федорову, значительность.
— Если возникло желание, Федя, покажи и разумно поделись.
— Новостями я могу с тобой поделиться.
— Ну, Федя, не придавай значения словам. Я их часто путаю. Разумно уступи.
— Тогда посиди малость. Еще погугукай с Петькой.
Федор пошел будто бы в уборную, боясь Вовиного любопытства и наглого глаза, проверил через щель в досках, что тот не подсматривает в окно, и юркнул в сарайчик. Хотел отнять у длинной и толстой цепи несколько звеньев, но в спешке не мог найти стык, и отхватил эти звенья зубилом.
Вова-Мост, прикинув на ладони пыльно-желтые, легонько позвякивающие витые «восьмерки», полез в карман, достал две коробочки: с гирьками и с маленькими, вроде бы игрушечными, весами. Пока он молча и нахмурив рыжие брови взвешивал, Федор спросил:
— Кольцо можешь сделать? Вот на этот палец. Широкое, толстое, в общем, такое видное?
— Хоть на ногу, Федя. Если возникло желание. — Вова убрал весы, гирьки. — Здесь, Федя, потянуло на триста рублей. В домашних условиях обычно работаешь со скидкой, но за твой материал я готов выплатить от рубля до рубля. Готов ли ты, Федя?
Федор, сглотнув горячую, колкую слюну, кивнул.
Вова-Мост отсчитал деньги и ушел.
Федор закурил, сел на пол, привалился спиной к Петькиной загородке. Петька сразу же ухватил в кулачки отцовы волосы, потные и жесткие.
Федор считал, что видывал-таки большие деньги: и когда с топографами ходил по Колымским гольцам, и со всякими колесными, полевыми да поясным коэффициентом накручивало прилично — на хлеб с маслом бывало да еще и оставалось; и на Витиме, на скальных работах получал больше, чем тратил, но чтобы вот так, за пять минут, за какие-то пыльные обрывки, тебе выложили пачку красненьких — несколько ошалел Федор, и хоть Петька больно тянул за волосы, не сразу опомнился.
«Едриттушки. Месяц с лишком за такие денежки упираться надо. А тут — бах тебе! — тринадцатую зарплату. Досрочно. Только пересчитайте, Федор Иваныч. И даже не расписывайтесь. Да еще этот рыжий хрен наверняка надул меня — он разве хоть копеечку свою упустит. Значит, стоило дело. Ну, Феденька, теперь эти бумажки хоть чем ешь. Вот лежат себе, не шелохнутся. А я хоть как сомну и хоть как засуну. Вот так вот — сгреб и в карман. Будто семечки».
Еле дождался утра и, когда бригада собралась в бытовке, сказал:
— Мужики, сегодня не разбегайтесь. Федору Иванычу, то есть мне, тридцать лет. Дата круглая, потому приглашаю — угощаю. — День рождения у него был осенью, но другой зацепки не подвернулось, а желание посорить «семечками» было нестерпимым. — Здесь вот соберемся и хором сразу двинем.
— А что ж ты молчал? Мы хоть бы скинулись.
— А вот, чтобы зря не гоношились, и молчал. Но сам — го-то-вил-ся. В стекляшечку, напротив «Рыбного», и пойдем.
— В стекляшечке же вермут один да коньяк. Может, с собой захватим, а закусь уж тамошняя.
— Никаких с собой. В жизни раз бывает… Я готовился и за все отвечаю. Что пить, что есть — моя забота.
Мужики развели руками, но днем Федор видел — шушукались, бегали, рылись в карманах — видно, сбрасывались на подарок.
* * *
Назавтра, нянчась с Петькой, Федор говорил:
— Знатно твой батя вчера гульнул. До сих пор душа звенит. И тебя не забыл — вон какую игрушку принес, — в загородке лежала деревянная кружка с выжженной надписью «Феде в день рождения от товарищей по бригаде». — Мать только недовольна, рано, говорит, начал именинничать, осенью, говорит, пятидесятилетие можно справлять, если так пойдет. Ну, это ладно — работать злее будет. А мы с тобой давай посидим да рассудим все честь по чести. — Он поставил Петьку в загородку, а сам уселся за стол, облокотился, уставился в чисто промытые розовые цветочки на клеенке.
«Триста рублей, конечно, невелики деньги. Пятнадцать мужиков вечер посидели, на такси разъехались — и на пиво не осталось. Можно было, к примеру, телевизор купить. Но есть он у нас, разве только еще один в сортир поставить? Мог бы себе костюм и Розке — костюм или платье шикарное, блескучее да трескучее. Но тут-то бы врать потяжелее было: откуда взял, на какие шиши купил? В спортлото выиграл — так третий год играю, и все мимо. Ну, положим, один раз выиграл, а если мне каждый вечер по триста рублей будут давать — тут куда денусь? Такие везучие обычно за решеткой кукуют. Да и в стекляшечке каждый вечер не посидишь — с чего, спросят, мужик разгулялся? На трудовую копейку коньяки-вермуты хлещет? Не-ет, не пройдет.
Может, сказать, что наследство получил? От бабушки, от дедушки, от троюродной тети. А куда детдом денешь? Был, был сирота и вдруг родня объявилась да еще наследство отваливает? Скажут, долгонько что-то, Федор Иваныч, родная кровь тебя не признавала. А потом это не про день рождения ляпнуть-соврать. Тут так тонко сочинять надо — с похмелья не придумаешь.
Выходит, ни барахла никакого не купи, ни с друзьями-товарищами не посиди. Да вроде и барахла-то особенно не надо. На чем сидеть есть, одеть-выйти в чем тоже есть — куда его больше? Ну, а друзей-товарищей сколько наугощаешь? Раз-два, да ведь когда-то и работать надо.
Вот тебе и золото. Послушать, так столько страстей про него наговорено. И дьявол-то желтый, и власть у него дьявольская, и лихорадка золотая — болезнь неизлечимая. Вон ведь чего наворотили. А я сижу с этим золотом как сучок обгорелый. И никакой у меня власти. Разве что над Петькой. И никакой лихорадки. И, самое главное, не знаю, что с этим золотом делать-то?»
В дверь постучали, и вошла Агнесса Емельяновна, заведовавшая детским садом в Знаменском предместье.
— Здравствуй, Федор, добрый вечер, — говорила она звучным, густо-звучным голосом. — Сегодня Розу видела с вашим малышом. Уж очень славный мальчишечка. Зашла еще посмотреть, — протянула Петьке резиновую лошадку. — Держи, дружок. Ох ты, какая чудная мордашечка.
Остановилась у загородки, высокая, белолицая, в легкой, уже весенней шляпке, опушенной соболем, в легкой же каракулевой шубке, из-под шляпы на лоб вырывались два крутых, золотисто-русых завитка. В комнатенке Федоровой запахло талой водой, какой-то дальней, смутно наплывающей сиреневой свежестью. Федор обмахнул табуретку, еще и обдул ее и почему-то поставил посреди комнаты:
— Садись, Агнесса Емельяновна.
Расстегнула шубку, села.
— Не надоело домовничать, Федор? — посмотрела на него черными строгими глазами, а он мялся перед ней, как детсадовец, забыв даже сесть: «Едриттушки. Вот уж не ждал, не гадал. Смотреть на нее, и то как-то не по себе — вот она какая вся. А тут сама пришла». Улыбнулась: — Что ж ты стоишь? Вся правда, наверно, в ногах?
Федор несколько опомнился.
— Кого-кого, а тебя не ждал. Как с твоей улицы переехали, так тебя и не видал.
— Незваная, значит, гостья… — губы остановились в полуулыбке, сочно выделенные темно-алой помадой. Опустила глаза, доставая из сумочки блокнотик и карандаш. — Роза жаловалась сегодня, что очередь ваша в ясли не двигается. А я забыла данные о малыше записать. Может быть, удастся помочь.
Федор почти не слушал ее, а смотрел, как она говорила, как черкала белой, с красными ногтями, рукой в блокнотике, как улыбалась белыми, влажно блестевшими зубами. «Вот баба так баба! Все в ней ладно, складно, и белая-то какая, и свежая-то, и шея какая гладкая — пава да и только, по-другому и не скажешь». Хоть и жили они в соседях, а вот так близко он не видел Агнессу Емельяновну и не разговаривал так близко — все то через дорогу, то через забор, всегда, конечно, отмечал, что очень она завидная женщина, да ему что от этой «завидности»… Все равно не подступиться, не подъехать. Жила она с мужем, без детей, говорили, приехали с Севера, работали будто бы на алмазах и приехали с большими деньгами — так оно, видно, и было, потому что и дом хороший купили, и одевались хорошо. Муж ее устроился шофером в какую-то контору по дальним перевозкам, а она вот садиком пошла заведовать.
— Совершенно правильно, — сказал Федор и понял, что невпопад, потому что Агнесса Емельяновна удивленно переспросила:
— Что «совершенно правильно»? Я говорю, что с яслями помочь очень трудно, почти невозможно. Поэтому я ничего не обещаю. Но попробую, — Агнесса Емельяновна встала, застегивая шубку. — К тому же, и Василий Сергеич очень за тебя просил. — Голос у нее значительно погустел.
«Ясно, — вдруг расстроился Федор, — и ей успел… Ваш малыш, мордашечка чудная… Эх. Зашла бы ты, как же!» — он молчал, с силой, со скрипом стирая что-то ладонью с клеенки.
Она подождала, сначала поулыбавшись Петьке, поиграв пальчиком перед ним, потом долго поправляя шляпку.
— Всего доброго, Федор. Если что-то узнаю, сразу сообщу.
— Спасибо тебе за беспокойство, — выдавил Федор, тягуче размышляя, что рассчитаться за место в яслях дармовым золотом — для него плевое дело, ничего, по сути, не стоит, но почему-то не хотел он этого, попробовал разобраться — почему, не смог: «Да ну! Просто Петьку ни к чему в эту муть окунать!»
— Закройся, Федор.
В сенях она сказала:
— В гости бы заходил. — Густо и звучно хохотнула. — С ответным визитом. Или просто так. Совсем разучились в гости ходить. И не знаем поэтому, кто чем дышит.
— Да не знаю, спасибо, как-нибудь…
Тогда она прибавила, посчитав, видимо, Федора за полную темень и бестолочь:
— Такая все-таки скука. Моего-то опять на два месяца с грузом отправили. Чаю, честное слово, не с кем попить. Приходи, Федор. И собираться долго нечего — две улицы пройти.
— Приду, — твердо сказал Федор. Ему стало интересно, как все это будет.
Пришел в тот же вечер. Только убаюкал Петьку да забежал в сарайчик, захватил браслетик с красными камушками.
На Агнессе Емельяновне был пушистый розовый халат с широким, темно-вишневым бархатным воротом и витым, вишневым же, пояском.
— Федор, ты молодец! А то я уж от скуки лечь хотела. И чай не стала пить. А теперь закатим пир. Ничего, что я в халате? Конечно, по-домашнему. И ты, кстати, пиджак можешь снять. И тапки вот надень — чувствуй, в общем, себя как дома.
Когда Федор немного отмяк от чая и вина, он, снисходительно щурясь, решил: «Хищная, конечно, баба, но красоты-то ведь ей-ей не убавить», — и достал браслетик:
— Вот я гостинец-сувенир припас для тебя.
Она надела браслет, отвела руку: от стекающего золотого блеска и кроваво замерцавших камушков припухло-белое запястье стало тоньше, хрупче, нежно удлинив белую кисть.
— Боже мой! Федор! — она кинулась к нему, поцеловала с налету — в губы, в губы, обняла, прижала голову к груди. Он подумал, какой у нее бархатистый душистый халат, и больше ни о чем думать не стал.
Потом она включила ночник, принесла поднос с вином и конфетами, поставила в изголовье, на подоконник, завела пластинку, сказав:
— Послушай мою любимую, Федор, — и легла рядом, не закрываясь. Он зажмурился: «И долго она так выставляться будет?»
Голос на пластинке, низкий, полный мрачной силы, пел:
Ох, да бирюзовые, золоты колечики, Да раскатились по лужку. Ты ушла, и твои плечики Скрылися в ночную тьму.Глаза у Агнессы Емельяновны были закрыты, и она вроде бы подрагивала в такт песне белыми, пышными, какими-то пенными плечами. Федор быстро перегнулся через нее, стараясь не задевать, и хватанул вина. «Хоть глаза смелее станут, а то что-то совсем пропадаю».
Когда при дневном свете Федор вспоминал эти сумерки, дрожащие от рокота тяжело выговариваемых слов: «Ох, да бирюзовые, золоты колечики», Агнессино тело, желавшее быть открытым, ее вскрики, сумасшедшее требование, чтобы он говорил бесстыдные, непотребные словечки — он морщился, плевался: «Одно безобразие, ничего больше. Да чтоб хоть еще раз!» — тем не менее вечером шел в душистые, розовые сумерки, как бы начисто отказав трезвости дневных видений.
Забыл однажды заглянуть в сарайчик, а вернуться поленился. «Ничего, и такого примет. Без гостинца. Сколько она меня целовала — живого места нет. Каждый поцелуй, считай, золотой. Если на каждое место колечко прикладывать или другую какую блямбочку, я сам уж из чистого золота. Да уж и привыкла, наверное, ко мне. Уж и без золота хорош. Вон ведь как бесится».
Когда уходил, Агнесса Емельяновна лежала, привычно уже белея открытым телом. Он натянул пиджак, закурил на дорожку.
— Федор, ты ничего не забыл?
Огляделся: нет вроде.
— Сегодня ты такой скупой. А-я-яй! — голос ее был полон дневной звучности и густоты.
— А-а, — догадался Федор. — Совершенно правильно. Забыл. Ну, да за мной не пропадет.
— Хорошо, запомню, Федор. — Она перевернулась на живот, покачала свесившейся рукой. — Должок запишем. Вот так, Федор. А сам говорил: для милого дружка и сережку из ушка…
— Ты серьезно, что ли?
— Вполне, — она даже не косилась на него, а смотрела на свою свесившуюся руку, будто действительно записывала что-то на полу.
— Серьезно-серьезно?!
— Повторяю: задаром я бы кой-кого получше могла найти.
— Ну и тварь же ты! — Федор, сузив глаза, опять огляделся. — Ну и тварь.
— От твари слышу.
Через стул свешивался широкий ремень от ее юбки. Федор схватил его и с маху, пряжкой, вкатил по розовым, гладким, живым подушищам. И раз, и другой.
Она, взвизгивая, увернулась, забилась в угол кровати. Федор швырнул в нее ремень и выскочил. На улице была апрельская, теплая, пропахшая сырой землей ночь.
* * *
Темный был Федор наутро. Встал рано, покружил по двору, зашел в сарайчик, достал из-под половицы жестяную, заветную. Побренчал, посмотрел: «Убыло, конечно, но еще на трех Агнессок хватит. Ну, тварина — мало я ей врезал. Человека для нее не было, так, дурак один золото потаскивал. Да как же так? Ведь и разговоры говорили, не только пластинки слушали да на кровати валялись. Что-то же и по-людски было! Нет, Федор Иваныч, ничего не было. Не золото бы, так разве я с такой тварюгой связался? Что вот оно со мной делает, а! В морду из-за него наплевали, а я толком и утереться не могу. То есть в самом во мне будто и никакой цены нет. Будто без золота и не жил и ничего не делал. Дураку надо было сдать с самого начала, положенное прогуляли бы, и дело с концом. А теперь ведь не пойдешь — скажут, где ты раньше был? С Агнесской бирюзовы-золоты колечики раскатывал? Но и с ним оставаться — опять куда-нибудь затянет, опять в синяках. Оплюют, а потом вертись, крутись, криком кричи: я и без золота человек. Не хочу!»
Пошагал на работу. Кричали петухи, утренник еще удерживал землю, она лишь поверху оплыла черной блестящей жижей: а от заборов, от домов тянуло уже теплым деревянным духом и почему-то сразу нагревались плечи и затылок.
В этот день он впервые заглянул в скупку: но не было с собой паспорта, приемщица и смотреть ничего не стала. Сказал бригаде, старательно уворачиваясь от слова «наследство», что вот бабка одна умерла, соседка, кое-что ему оставила — ну, дрова ей колол, воду носил, ну, перед смертью и отблагодарила. Пришли в скупку с документами, сдали кое-какую мелочь — Федор извелся у стеклянной будочки от желания сдать побольше и быть подальше от подозрительных глаз скупщицы, худой, черной тетки.
За милую душу вечером посидели, отметили открытие ресторана на дебаркадере.
Потом сдавал сам, еще просил бригадных, снова шел сам — никакой жизни у Федора не стало, занятого одним: как скорей опустошить жестяную банку в сарайчике. Избавиться, избавиться — пошел к старухе, к компаньонке с лицом-гармошкой, думал, возьмет остатки, позарится, но Федору сказали, что старуха комнату сдала и уехала в другой город к внуку или внучке, в общем, к каким-то родственникам. «Новую жизнь Петровна затеяла. С капиталом, на новом месте: посмотрела бы на меня, дурака, поиграла бы на своей гармошке. А вот как же мне-то новую начать?»
Роза спрашивала:
— Ты о чем, Федя, думаешь-то? Совсем уж дом забыл — я который день на справке сижу. Почернел весь. Хоть бы себя пожалел, если до нас никакого дела.
— Молчи, Розка. Тут такое наследство — справиться не могу. И душа почернеет, не то что сам.
— Федя, ты же заболел! Какое такое наследство — чего выдумываешь-то?
— Сказал — молчи. Пока живой, и то ладно…
Засветло возвращался с дебаркадера, снова посидев-подгуляв над речною волной — в глазах до сих пор мельтешили золотистые светлячки от солнечных наплывных дорожек, и догонял, не отставал звук частых и сочных всплесков, стоявший за ресторанным окном. Вроде даже как покачивало от него. Густо, снеговой еще водой, пахла майская трава: солнечные лучи, падавшие уже из-за реки, принесли запахи прогретого осинника — Федор, неожиданно расчувствовавшись, остановился у перехода, осоловело причмокнув, вдохнул эту благодать: «Все-таки можно жить. Еще как можно, Федор Иваныч!»
Прямо на него через улицу шли парами детсадовцы, совсем маленькие, пискливо щебетавшие — малышовая группа, наверное. «Вот и мой орел дожидается батю. Пузыри пускает», — вздохнул-всхлипнул Федор. Хотел помочь воспитательнице управиться с лужей у тротуара, вошел в эту лужу, замахал на ребятишек: «А ну кыш, кыш! Ножки свои не замочите! Чтоб мамки не переживали!»
Воспитательница, испуганно подгоняя ребятишек, выговорила Федору:
— Гражданин! Хоть бы детей постыдились!
— Да ты что, подруга! Да я для них что хошь! Ничего не пожалею. Да для ребятишек-то! — Федор топтался в луже, обращаясь к прохожим и домам, желая немедленно доказать, что он для ребятишек все сделает.
И тут прочитал над одним из подъездов: «Отделение Госбанка». «А-а! Вот сейчас увидите!» — победно вскричал Федор и направился в подъезд. Выгреб из кармана какие-то колечки, цепочки, которые были с собой, брякнул в окошечко.
— Вот! Сдаю! На живой уголок ребятишкам, — наклонился к окошечку, попробовал просунуть голову. — Так и запишите. От бывшего детдомовца. Чтоб живой уголок завели. С белками и этими, бурундуками. — Старый очкастый милиционер оттянул его от окошечка.
— Ну-ка не хулигань! Ты тут чего потерял? Пятнадцать суток? Кто такой?
— Отец! Да я для ребятишек все отдам. Федор Иваныч я. Желаю жертвовать… Все, все ребятишкам.
* * *
На другой день Федора вызвали в ОБХСС. Молодой человек с серым, нездоровым лицом спросил:
— Откуда золото?
Федор рассказал.
— Поехали, проверим.
Роза выбежала во двор:
— Заболел?! Федя!
— Да нет. Тут вот, с работы. Надо пилу взять, — пробурчал Федор, не глядя на молодого человека. Ладно хоть тот в штатском был.
Забрали жестяную коробку, вернулись в управление.
— И кольцо снимай. — Молодой человек кивнул на широкое, толстое кольцо, произведение зубного техника Вовы-Моста.
— Квитанции из скупки есть?
К счастью, были. Молодой человек так и сказал:
— Твое счастье, что государству сдавал. Другие тайники есть?
— Нету.
— Пока иди, а там посмотрим. Вот о невыезде подпиши.
Вечером Федор говорил Петьке:
— Слава богу, Петька. Освободился твой батя. Как-никак, а освободился. Что уж дальше выйдет, не знаю, но такого тарарама, Петька, не будет… Даже матери твоей перстенька не оставил. Э-хе-хе! Ну да, добра-то от него бы не было. Как считаешь?
Петька улыбался отцу и, быстро-быстро, безостановочно приседая, прыгал, уцепившись за край деревянной загородки.
ОЧЕРТАНИЯ РОДНЫХ ХОЛМОВ
I
Двадцать пять лет не был на родине. Говорю не с элегическим вздохом: ах, как годы летят, — а с трезвостью, не ищущей оправданий: ничто не принуждало меня придавать свиданию с Мензелинском черты юбилея. Приезжал из Иркутска в Москву, проматывал дни (увы, и не только их), дожидаясь издательских и журнальных приговоров, и порой в столичной мороке проклевывалось слабо и невзрачно: а может, слетать, может, пока суть да дело, приземлиться в Набережных Челнах, а от них до Мензелинска всего пятьдесят верст? Но этот робкий и участливый голосок легко глушился многоголосьем суеты. Как-нибудь потом, успею, нужно быть здесь — наши жизненные движения полны небрежения к ближним своим, приводящего впоследствии к некой неутешимости: и рад бы замолить былую черствость, да никому уже твои молитвы не нужны.
Мензелинск с отчим великодушием сам разыскал меня — написал товарищ детства: «Сколько же можно пропадать?» — и, скоро ли, долго ли, письмо заставило собраться, сесть в самолет, приникнуть к окошку, чтобы не проглядеть октябрьское, желтеющее пространство родины. О тучах и тумане даже не подумал — детство покоилось в солнечных днях с короткими слепыми дождями и, казалось, имело власть и над теперешним неустойчивым небом.
В самом деле, не вижу в детстве ненастья — лишь тихие солнечные вечера, летнюю дремотную необъятную благодать с муравчатым берегом Мензелы и парной водой Кучканки, розово-синий снег под заборами да курящиеся конские кругляши на слепящих, раскатанных санями дорогах. Памятна, верно, одна гроза, да и то своим мрачным, грохочущим гнетом: ходили мы за дамбу, в орешник, возвращались пшеничным полем, где и настиг нас ливень с молниями и прижимающим к земле громом, и вот под «раскаты молодые» вдруг закричал Колёля Попов: «Ребя, выкидывай все железки! Железки молнии притягивают!» Полетели в потемневшую, приникшую пшеницу гайки, гвозди, перочинники и медные солдатские пуговицы, на которых держались наши послевоенные штаны. Путаясь в них, судорожно подтягивая, добрались до Мензелы, спрятались под мостом, а прозрев и опомнившись, увидели, что на Колёлиных штанах пуговицы целы и сам он умирает со смеху. Мы шли по дамбе, подпоясавшись кто проволокой, кто соломенным жгутом; солнце уже сушило тесовые крыши Мензелинска, и окутан он был праздничным, дрожащим парком — вовсе не хочу надоедать многозначительной темой о безоблачном детстве, просто вёдро тогда еще, видимо, не зависело так от окружающей среды и непогода не запоминалась так, как нынче.
В Набережных Челнах увижусь с Колёлей, Николаем Андреевичем Поповым, прокурором Мензелинска, отцом взрослого сына и дочери-школьницы (знаю об этом из писем), и тогда в полную меру пойму, что делают с нами годы; пока же у самолетного оконца тасую незатейливые и немногочисленные видения: мы за Мензелой в Дубовом колке, спрятавшись за кустами, смотрим, как учатся стрелять допризывники, — показаться или приблизиться к ним нельзя, суровый военрук немедленно прогонит. Колёля с испуганно вытаращенными глазами ползет от соседнего куста: «Смотри, пуля как чиркнула!» В золотисто-льняном ежике промята темная дорожка. «Отползать надо, сматываться!» Мы по-рачьи пятимся, потом бежим до седьмого пота и, лишь отдышавшись, вспоминаем, что допризывники стреляли в другую сторону и пуля могла задеть Колёлины волосы, разве что совершив кругосветное путешествие… Идем в Байляры на речку Ик, по лесной тропе, и вдруг Колёля целится из рогатки в верхушку сосны, целится долго, тщательно, мы головы устали задирать. Колёля медленно опускает рогатку: «Эх, блин, улетел!» — «Кто, кто!» — «Да комару в глаз целился!» Почему мы его звали Колёлей? Может быть, озорной суффикс «ёл» передавал сущность его натуры, хотя о суффиксах тогда мы и понятия не имели.
У аэродромной ограды на морозном, солнечном октябрьском ветру шагнул навстречу матерый мужчина со строгим, резким подбородком и холодновато-голубыми глазами.
— Здравствуй, Коля! — Мы обнялись, детство проплыло над нами далеким-далеким эхом.
И совсем оно умолкло, когда руку протянул лысеющий, полнеющий мужчина — только по ярко-синим кротким глазам узнал Валерия Петрова, племянника Николая, однажды приехавшего в Мензелинск нежным, прелестно картавившим мальчиком, — мы, уличная жестокая безотцовщина, с неожиданным единодушием приветили его, как могли, оберегали от синяков и шишек, а пуще всего от обиходного уличного мата, который так не соединялся с кроткими синими глазищами Валеры. Если все же он, не удержавшись от соблазна быть как все, выговаривал нечто непристойное розовыми, парными устами, мы отводили его на расправу к дяде, и Колёля грозно приказывал, складывая пальцы для щелчка: «Ну-ка, повтори, что сказал!» Теперь Валерий живет в Нижнекамске, стерлись черты ангельской безгрешности, так смягчавшие и умилявшие нас, но, как потом я узнал, осталось доброе сердце, сделавшее его хорошим врачом и человеком.
В стороне от наших объятий стоял человек со смуглым невозмутимым лицом; высокая покатость лба в каштановых кудрях, тень Азии на припухших скулах и темных губах. Видел его, помню, но кто он?..
— Не узнаешь? Гена Ащеулов.
Да, да, Гена Ащеулов, жил на Советской, наискосок от нас, когда мы квартировали у Сумзиных. Помню, во время какого-то уличного раздора он погнался за мной, запнулся, ахнулся в лужу и, приподнявшись в грязи, с неукротимой обидой и страстью кричал что-то вслед… Оказалось, он тоже живет в Нижнекамске. Я спросил, почему он уехал из Мензелинска.
— Из армии вернулся, решили с Галиной расписаться. А она уже институт закончила, невеста с высшим образованием. Я вроде как не пара ей — было такое настроение у ее родителей! Ну, мы чтоб ничьи нервы не испытывать, взяли да уехали в Тольятти. И чуть было не вернулись. Ходим, ходим — никто на квартиру не пускает. На лавочке посидим, передохнем — и дальше в поход. Вижу, Галина еле держится, вот-вот и в слезы. Ладно, говорю, еще в этот дом постучимся, если не пустят, — назад. Стучусь, открывает старушка, впрочем, не такая уж и старушка была. И так сошлось, что сын ее тоже в чужих краях, у чужих людей живет. Пустила она нас. Пять лет в Тольятти прожили: днем я у станка, вечером высшее образование получаю. Получил диплом инженера, и засобирались с Галиной домой, да вот осели в Нижнекамске. Но в Мензелинске я каждую субботу бываю. Мать там, тесть с тещей. Вообще тянет.
Вот встретились и замешкались на ветру, не находя пока нужного тона, не зная, как это новое знакомство превратить в старое.
— Ладно, поехали. В Мензелинске баня топится.
Поехали. Засвистело, завыло за окнами, с неуютной силой и старательностью продувалось прикамское поле. Левее по берегу тянулись и никак не кончались Набережные Челны — складские постройки, заводики, трубы, какие-то резервуары.
Облик города сквозь них почти не проступал.
— Может, заглянем, — Николай махнул в сторону невидимых улиц и проспектов. — Замечательный город вырос. Проедемся, посмотришь.
— Чем же он замечателен?
— Новый, просторный, глаз не оторвешь.
— Так уж не оторвешь?
— Серьезно, чудесный город. Современный — бетон, стекло, мозаика…
С забавной, сиюминутной отстраненностью показалось, что начавшийся разговор повторяет расхожую ситуацию из какого-то расхожего романа: патриот своего края расхваливает свое болото, а заезжий скептик убеждает его, что это болото не самое лучшее.
— Согласен, Коля. Только не сегодня. Не терпится на Мензелинск взглянуть.
— Насмотришься еще. Там особых перемен нет. — И мы вздохнули: Николай, должно быть, с сожалением, а я, каюсь, с облегчением: не дай бог приехать на родину, а на ее месте — новый город, ставший родиной для кого-то.
Дня через три побывали в Набережных Челнах, действительно просторном и современном городе, то есть Построенном из бетона, стекла, панелей, блоков, кирпича. Широкие улицы, обилие газонов и цветников, обилие многоэтажных жилищ, дружно отражающих промытыми перед зимой окнами невеселое октябрьское солнце.
— Здорово, да?! — все приглашал Николай разделить его восторг новыми Челнами и звал еще посмотреть само строительство, а я все неопределенно гмыкал, молча ежился от камского сквозняка, не решаясь остудить гостеприимный пыл скучным вопросом: «А что здорово-то?» — но и вовсе не откликнуться не мог:
— Примерно как в Братске. Или — в Тольятти. Или — в Усть-Илимске.
— Значит, не нравится. — Николай еще раз огляделся, вновь удовлетворился современным очертанием Челнов. — А зря. Законный город. — В устах прокурора эпитет этот звучал убедительно, и я согласился:
— Город как город.
— Залезай в машину. На экскурсии летом надо приезжать…
— А я, Коля, в Мензелинск приехал. В старый, маленький, тесный городишко…
— Ясно, ясно. Но который тебе дороже всяких Челнов. Или как вы там пишете?
— Может и так. А ты лучше скажи: что за ягода росла по огородам? У плетней, в лебеде, то прозрачно-медовая, то черная, как смородина, — слаще не встречал и нигде, кроме мензелинских огородов, не видел.
— Броняшка. Пропала куда-то. Вроде для того только и появилась, чтоб жизнь подсластить. И пропала.
— Да, правильно, броняшка. Сколько мучился, никак не мог вспомнить.
И мы охотно вернулись в послевоенный Мензелинск, к балаганам в осенних огородах, к сабантуям в Буранском лесу, к Пугачевскому валу с возбуждающими мальчишескую душу находками: ржавый обломок сабли, ядро, ржавая же рукоять пистолета…
Вот так и рассеялось сгустившееся было желание поговорить об унынии, исходящем от наших городов, построенных с младенческой, полорукой старательностью из одинаковых кубиков и параллелепипедов. Хотя вряд ли бы у меня хватило жара (Николай-то приемлет новый город всей душой) ломиться в открытую дверь. Лет десять уже, а то и более слышатся укоряющие и обличающие голоса: остановись, сгинь, архитектурная безликость, ты уродуешь не только землю, но и душу человека, живущего на ней, — однако, сколь ни справедлив гнев и сколь ни гласен, безликость затопляет все новые и новые пространства, и, однажды перелетев из Братска в Набережные Челны и найдя, что проспект Мусы Джалиля продолжает какой-нибудь проспект Энергетиков, только расхохочешься этак растерянно-нервически: «Ну молодцы! Ну молодцы! Их гвоздят, а им все хоть бы хны!» — подразумевая под «молодцами» работников мастерских энского гипрогора. Теперешние города возникают, так сказать, не под дланью новоявленных казаковых и федоров коней, а под номером той или иной мастерской: не с кого спрашивать и некого ругать. Предположим, на какой-то миг стал бы я обладателем дьяконского баса, чтобы, опечалившись унылой застройкой Челнов, мог выйти на камскую кручу и гневно пророкотать: «Предаю анафеме за немощь творческую коллектив архитектурной мастерской…» — но тут бы я наверняка споткнулся и умолк: нелепо браниться вообще, не имея под прицелом грешного и упрямо внимающего «раба божия».
Впрочем, безвестные архитекторы могут осадить меня встречной анафемой за экономическое невежество: чем проще, незамысловатей архитектурный замысел, тем быстрее и дешевле воплотить его в дом, в квартал, в город, тем больше будет новоселов, тем больше радости и веселья — этой хоровой анафемой меня просто-таки снесет, сдует с воображаемой кручи, только и успею выкрикнуть в оправдание: «Я тоже за простоту и незамысловатость, лишь бы выражали они радостную душу соотечественника! Не кубическая же она у него, не параллелепипедная!»
Говорят, в Грузии, Узбекистане, в Прибалтике архитекторы настойчиво придают облику новых городов черты национальных характеров, как он веками отражался в камне и дереве, то есть социалистическому содержанию нашей жизни (разумеется, в него входят и понятия дешевизны, технологической простоты строительства) сообщают национальную форму. А вот на российских просторах национальный характер архитектуры почему-то не всегда проглядывает сквозь геометрию.
А славно бы однажды подплыть или подъехать к какому-нибудь современному Великому Устюгу или Суздалю, и открылись бы на высоком берегу или на холмах средь чиста поля некие белокаменные строения: библиотеки ли, театры ли, музеи, перенявшие от прежних храмов вознесенность и волшебную, праздничную отрешенность от житейщины, чтобы путник или гость еще издали поразился духовной щедрости города и заранее готовился бы, говоря старомодно, вкусить от щедрот сих.
И, погостив день-другой, приглядевшись к жителям, наверняка бы обнаружил, что у города свой норов, норов этот, возможно, когда-нибудь отличит поговорка или присказка, на манер тех, какие мы еще нет-нет да и вспоминаем: «Кострома — веселая сторона»; «Город Архангельский, а народ в нем диавольский»; «Тверские вприглядку с сахаром чай пьют»; «Кадуй — бока надуй»; «Во Владимире и лапшу топором крошат…»
Покамест мы ехали полем — черная, комкастая зябь заняла и придорожные полосы, плотно сжав асфальт, вроде бы он временно и незаконно лег здесь на пашню. Нет-нет да и подталкивало, как выбоина на асфальте, дикое соображение: дорога без обочин все равно что речка без берегов… Остановились у беленого бетонного столба — за ним (простительна некоторая торжественность) простиралась мензелинская земля. Ветер над ней и низкое холодное солнце; желто-черные просторы полей, занесенных, казалось, стылым, сумеречным посвистом, вырывавшимся из березовых колков и перелесков. Товарищи мои отошли за машину, прячась от ветра и, должно быть, давая мне возможность почувствовать встречу, пристально вглядеться в эти полузабытые поля.
И душа моя — скажем так — странным образом занемогла. Соединяясь с октябрьскими пустынными далями, видя с особою ясностью каждую ложбину, промоину, каждый опахальный куст шиповника, она не размягчалась от радости узнавания, от должной бы проснуться родственной приязни к той вон одиноко желтеющей тропе, а заклекла в каком-то растерянном напряжении. То ли была не готова к встрече, то ли не отыскала пока той единственной, растопившей бы будничность ее состояния картины: дерева, ручья, серого валуна с застывшей на нем вороной, некого движения воздуха, облака, переместившего бы и ее в давнее и дорогое? То ли не знала, для чего ей эта встреча, что от нее ждать: боли, ностальгической эйфории, утешающего, покойного отстранения от теперешних дней?
А может быть, смутность встречи, неяркость ее и какая-то дробящаяся суть означали лишь пасмурную настороженность — при моем появлении — денно и нощно работающей земли: что скажешь? зачем пришел? с чем пришел? Может, в самом деле эта пашня, эта стерня, этот боярышник с последними лиловыми листьями требовательно вопрошали: как жил? Или: как живешь? — а я не понял, не расслышал в самонадеянных усилиях собрать воедино кустики и ложбинки и возликовать, отпраздновать встречу с родиной — тут уж совсем недалеко до умилительной транзитной слезы, но оставим ее для других страниц.
…В июльский полдень — вспомнилось — подъезжали мы к Куликову полю. Сквозь многоверстую полуденную прозрачность заискрились перед нами кресты храма, и началось жадное запоминание окрестных холмов и дубрав. Началось томительное гадание: для чего запоминаешь? что тебе здесь надо?
Да, реяли над этим пространством давние княжеские стяги, бурела от крови Непрядва, черная пыль застилала сечу. Иные хрестоматийные видения могли бы, наверное, усыпить мою растерянность, но ненадолго: что сделать для этого полдня, что оставить в нем, как не затеряться в Поле — ходил и ходил я вокруг храма, держался за теплую цепь, опоясавшую памятник, увязал в илистом дне Непрядвы, и нарастало чувство странной вины. Что-то ведь ждало Поле именно от меня и от каждого приходящего что-то ждет, а мы не знаем, как осуществить этот личный долг. И неловко от щедрости его: на, смотри, запоминай, касайся моих камней, лежи на моей траве, мне от тебя ничего не надо, — одолевает суетное желание немедленно рассчитаться за эту щедрость, и уезжаешь большим должником, чем был, не видя Поля.
А скорее всего, смысл этого июльского приближения к Полю был в том, чтобы когда-нибудь и где-нибудь вспомнить о его бескорыстии и попытаться распространить его и на собственную жизнь.
Впрочем, я все ищу смысл, доступный выражению, а должно быть, напрасно: и Куликово поле и теперь вот это — Мензелинское — напоминают, возможно, о такой необозначимой связи с ними, что мои старания указать на нее, душевно «вычислить» весьма неуклюжи.
В Мензелинск въезжали под мелким, неторопливым дождем, добавившим сумеречности (или призрачности) нашему свиданию. Я вглядывался в мокрые, темные дома; конечно, ни одно бревно в них не помнило меня, прочитывал вывески и плакаты, при слове «Мензелинск» еще и еще раз убеждаясь, что я в родном городе, в каждом прохожем искал и, казалось, видел знакомого, но не мог вспомнить ни имени, ни фамилии. А Николай не сомневался в моей памяти:
— А вон тот самый овраг.
— Какой тот самый?
— Где пещеры рыли.
— Что-то неглубокий стал.
— А тот дом узнаешь?
— Да-да, припоминаю… вот и Нардом, — обрадовался я, узнав здание из красного кирпича и сразу вспомнив праздничное чувство, с каким мы кружили здесь в дни гастролей фокусника Абдулы или женщины-змеи.
— Теперь тут Татарский театр драмы. Между прочим, знаменитый — по всей стране ездит. Ну, приготовься, сворачиваем на Советскую.
На этой улице мы с матерью квартировали у Сумзиных. С Володей, их сыном, строили на задах огорода балаган, так сказать, для уединения и вечерних мальчишников — всласть поговорить, побаловаться табаком, печеной картошкой; напротив жили Елховы — большая, веселая, гостеприимная семья, в их дворе я пропадал и зимой и летом — витал там особый дух ребячьей вольности и выдумки; на этой улице старший брат выбрал себе жену; здесь, ближе к Лесной площади, у заборов всегда лежали сосновые бревна, на них мы и просиживали долгие летние вечера. На них я и запомнил на всю жизнь, как пахнет летний вечер в провинциальном городке: горячей смолой, остывшей пылью на лопухах у забора, парным молоком, медвяностью раскрывшихся табаков в палисадниках и свежим, полевым, розовым от заката покоем, нисходившим на нас вместе с вечером. По этой улице почему-то очень любили прогуливаться парочки (так и говорили тогда; он гуляет с такой-то, она гуляет с таким-то, — подчеркивая этим глаголом невинность и начальность романов — всего лишь гуляют по улице), мы пугали застенчивых, деревянно идущих кавалеров внезапным хоровым мяуканьем и лаем, а порой и спасали от позора чересчур нагулявшегося — он устремлялся с дороги к нашим бревнам с каким-нибудь пустым вопросом: «Сеньки здесь нет?» — хотя Сенек на Советской не жило, — и тотчас же нырял в лебеду за бревнами, успев попросить сквозь сжатые зубы: «Пошуми, братва, погромче». Мы дружным хохотом заслоняли звучное журчание.
Теперь по улице бежали унылые октябрьские ручьи, дом Сумзиных принадлежал другим хозяевам. Юрка Елхов, наш румяный и рассудительный коновод, строил где-то железную дорогу, не было бревен у заборов — поредели мензелинские леса, — я узнавал и не узнавал Советскую, и это состояние «узнаванья-неузнаванья» будет преследовать меня в Мензелинске, будет являть неожиданно забытые лица, события, случаи и будет настойчиво приобщать к простой истине: прошлое всегда с нами, но черты его сквозь сегодняшний октябрь или, допустим, август утратили свежую, праздничную резкость, смягчились печально и буднично или, точнее, приобрели выражение устойчивой, неулыбчивой трезвости.
А вот и дом Николая, и над занавеской старчески внимательное, неузнающее лицо его матери — Марьи Николаевны.
Позже нам захочется пройтись по ночным улицам под редким, каким-то усталым дождем мимо монастырских стен, конного двора, мимо школы, где все мы учились, мимо пожарной каланчи на улице Розы Люксембург, где я жил последний мензелинский год, и выйти наконец под вспышки: «а помнишь? а помнишь?» — на окраину города, к дамбе, к удивительному стальному мосту через Мензелу. Постоим, приятельски похлопаем по мокрым заклепкам мостовых дуг и отправимся назад. У одного окраинного домишки Николай замедлит шаг. «В такую же ночь меня сюда вызвали. Тягчайшее преступление». Николай рассказал одну из своих прокурорских историй, где было много жестокости и запредельного, дьявольского расчета.
Я почувствовал, что детство, так пылко и нежно разросшееся нынче в душе, сжимается, съеживается, занимает область, несовместимую с теперешними областями.
Утром пошли с Николаем на кладбище — я надеялся разыскать могилу отца по приметам, сказанным матерью: «Сразу за церковью, под тремя березами». Дождя не было — так, туманная морось без ветра, похожая на апрельскую, предпасхальную. Мы когда-то квартировали с матерью у сестер-монашек, наверное, последних в Мензелинске, этаких маленьких, чистеньких старушек, доживавших век без монастыря, в своем доме, и они таскали меня каждый день в церковь (запомнилось: весна, ветки вербы набухают серебряно на подоконниках) по такой же вот жидкой грязи, а чтобы не скучал и не канючил, набивали мои карманы просфорами, которые сами и пекли.
— Коля, мы с тобой за сиренью на кладбище ходили? Помнишь, ночью, на спор, без фонарика?
— Нет. Может, с Юркой Елховым или с Вадькой Барышниковым.
— С каким Вадькой?
— Эвакуированный был из Ленинграда. Вы еще с ним путешествовать собирались. Сушеной моркови тогда набрали — и на трехколесном велосипеде. Один в седле, другой на запятках. До дамбы вроде докатили. Неужели не помнишь?
— Помню, помню… — неуверенно начал я. — Да, да, вспомнил!
Мать честная, конечно, я не забыл Вадьку Барышникова, но годы так странно и далеко отодвинули его, что вроде бы и забыл. В пятьдесят девятом я оказался в Ленинграде и разыскивал Вадьку. Заполнил у справочного киоска листок, где примерно называл Вадькин возраст, не мог назвать отчества, не помнил, как звали-величали его мать, но зато точно указал место эвакуации. Мне дали адрес, теперь уже тоже забытый; помню двор колодцем, ржавый фонтанчик во дворе, темную широкую лестницу, старуху со смутным лицом, открывшую дверь и сказавшую, что он где-то в Сибири, при геологах, так и сказала — при геологах.
Отчаянный, без оглядки лезший в любую драку, он в то же время резко выделялся среди нас какой-то взрослой сметливостью и самостоятельностью (блокада проглядывала в нем вдруг старичком, но он никогда не говорил о ней), мы были с Вадькой не разлей вода. Как глубоко упрятала его память!
Наверное, с ним мы ходили ночью на кладбище. А подбил нас на этот поход Роберт, сын очередной квартирной хозяйки, красивый, гибкий, с персиковыми щеками подросток. Неприятны в нем были черные узкие усики, с какою-то порочной наглостью и резкостью охватившие свежую, пухлую губу. Роберт сидел на крыльце, томился скукой, бездельем, ожиданием золотых своих часов — вечернего гуляния в городском саду, где усики его сводили с ума девочек из фельдшерско-акушерской школы. Мы появились кстати.
«Эй, шкеты! А вот слабо вам на кладбище залезть? В двенадцать ночи. — Слово «полночь», видимо, показалось ему невыразительным. — На что хочешь спорим, не пойдете». — «А вот не слабо! А вот не слабо!»
Был майский жаркий день, куры дремали в пыли у амбара, и мы ничего не боялись в эту минуту.
«На что хочешь спорим, — повторил Роберт и лениво, презрительно ухмыльнулся — усики чуть перекосились. — Сходите, неделю в кино буду проводить. Нет — по двенадцать коконек каждому».
Роберт показал выдвинутую из кулака загогулинку среднего пальца, им он будет бить по нашим лбам «коконьки», этакие усиленные, с потягом, щелчки. «А как ты проверишь?» — «Принесете ветку сирени». — «Хоть две!»
До заката мы хорохорились: «Ну, Роба. Всю мелочь из копилки повытаскаешь! Девочкам на мороженое не останется». Мы знали, что у Роберта есть копилка, некая гипсовая фигурка с прорезью на темени, в нее он проталкивал личные, выигранные в орлянку (а он почему-то всегда выигрывал) и заработанные у матери — даром ведра воды в дом не приносил.
Стих закат за пожарной каланчой, небо заглохло до первой звезды, а мы вдруг припомнили: говорят, какие-то бродяги ночуют на кладбище — на днях там костер видели; говорят, вокруг костра и скелеты посиживают; говорят, кто-то бродит в полночь меж могил, стонет, плачет, а то заходится в дурном крике: «Живой крови хочу», — и вроде бы ноги от этого крика отнимаются. Мы, нервно посмеиваясь, храбрились друг перед другом: «Нас на крик не возьмешь».
На каланче пробило одиннадцать. По глухим улочкам, по остывшей ласковой пыли потащились мы к кладбищу, и хоть никто не кричал, не хохотал, не плакал, ноги наши уже отнимались. На выгоне перед кладбищем мы сели в траву, вглядываясь в тихую, вздыбившуюся тьму. «А там вовсе глаз выколи». — «Да это же деревья…»
На каланче ударило полночь.
Если за оградой кто-то есть, он уже слышит, как угодливо перед страхом колотятся наши сердца. Как собачьи хвосты по полу. За оградой — шепоты, шелесты, кто-то покашливает. «Смотри, что-то белое шевелится!» Мы замерли, как бы растаяли в легком туманце над выгоном — души наши без оглядки мчались к городским огонькам.
«Наверно, памятник…» — «Наверно…» — «Пошли?» — «Пошли».
Бесчувственные, с колокольным звоном в ушах перелезли через забор — я неловко спрыгнул, попятился, ткнулся в деревянный крест, ухитрился не вскрикнуть, поднялся с мокрой, липкой травы. Нарочно громко спросил, вдруг до ломоты в теле устав бояться и чувствуя, как от громкого голоса становится легче: «А как же мы сирень-то найдем?» — «На ощупь. Или по запаху». Вытянув руки, задрав головы, брели мы меж могил. Хватались за кусты и, пригибая, шумно, с присвистом внюхивались. «Кажется, вот. Точно, вот».
Прохладные, устало пахнущие кисти коснулись щеки.
На бесшумных радостных крыльях перемахнули выгон, нырнули в теплую, безопасную уличную тьму и вынырнули под окнами Роберта. Осторожно, но все же не скрывая нетерпеливого торжества, побарабанили в раму — молчок. Еще раз, но уже по стеклу — дрогнули занавески, приникло чье-то лицо. «Роба, проспорил, выходи! Держи сирень!» И мы потыкали ветками в окно.
«Я вам постучу! Ну-ка пошли отсюда! Шпана сапожная!» — кричала мать Роберта, не открывая окна, но хорошо было слышно. Мы сползли с завалинки, посидели на лавочке у ворот — интересно, почему мы сапожная шпана? Может, спутала с братьями Харитоновыми, жившими от нас через три улицы, — у них в самом деле отец был сапожник.
«К тебе пойдем? Или ко мне?» Летом мы все спали в сараях, на сеновалах, в чуланах, а чтобы уже вовсе выбиться из-под материнского догляда, каждый вечер отпрашивались друг к другу ночевать — для приключений и похождений были всегда готовы.
Роберт вышел к нам утром заспанный, злой, видимо, вернулся позже нас. Только усики чернели свежо и бодро. Повертел привядшие ветки сирени.
«Чем докажете, что они с кладбища?» — «Так мы ж договорились. Оттуда принести». — «А может, вы у школы наломали?» — «Ну правда, мы на кладбище были! На каланче пробило, и мы полезли». — «Вранье! У школы наломали, — Роберт оживился, приласкал пальцем усики, подбоченился — во всем своем праве и наглости. — Думать надо, когда спорите. — Он отбросил наши ветки. — Подставляйте лоб. Кто первый?» — «Роба, но мы же были!» Я уже понял, что ничего мы ему не докажем, он и спорил-то, предвкушая вот этот кураж. «Ага. Ты сегодня первый. Ну, где наш лобик?»
Я хотел ударить его головой в живот, но Роберт откачнулся в сторону, ухватил меня за шею, пригнул и швырнул с крыльца: «Большой стал, да?» Я схватился за камень, но Роберт снова опередил меня, выбил камень, больно крутнул уши — в бессильной ярости я хоть как-нибудь хотел достать его: ногами, зубами — он, хладнокровно посмеиваясь, не подпускал меня…
— Коля, а ты помнишь этого Роберта?
— И про сирень не помню.
Николай слушал невнимательно, отвлекаясь на частые утренние «здравствуйте», с непременным здесь именем-отчеством и замедлением шага.
— Скоро придем?
— Скоро. В любой конец ходу пятнадцать минут.
Да, конечно, скоро — узнаю́ бревенчатый дом на высоком фундаменте, и тополя у дома узнаю́, и так радуюсь их непропавшей величавости, что чуть не бормочу нечто приветственно-сбивчивое, как при редких встречах с однокашниками. В доме этом жила Света Ибатуллина, девочка со скудными косичками, челочкой, потаенными веснушками, нежно проступавшими лишь в минуты волнения, и серо-зелеными, очень серьезными глазами. Серый, зеленый, голубой цвет глаз вовсе не мой излюбленный, как можно вывести из этих страниц, а устойчивое проявление мензелинских кровей, так что и впредь от синевы в глазах земляков никуда не деться. В третьем или в четвертом классе нас посадили за одну парту, и, когда зазвенел неизбежный ехидный дискант: «Жених и невеста…» — Света, побледнев и враз опушившись веснушками, серьезно сказала: «Не обращай внимания на этого дурака». Я согласно покивал, потирая затылок, — кто-то влепил из резинки туго скатанной бумажной пулькой.
Матери наши были хорошо знакомы, и мы со Светой часто виделись после школы. Порой среди чаепития или веселой болтовни мы вдруг затихали, поддаваясь странной стеснительности и какой-то радостной неловкости, должно быть, вмешивались в эти миги — уже без дневных ухмылок — «жених и невеста», а мы догадывались, смутно примерялись к избирающей, тревожной силе союза «и».
Давним июльским утром шел я к Свете в гости и у монастырской стены встретил двух незнакомых девчонок, тощеньких, с сияющими летними бликами на чистеньких лбах; запомнились взгляды девчонок, этакие холодно пытливые, оценивающие. Услышал, разминувшись, как они заговорили с непривычной уху взрослой, бойкой деловитостью: «Знаешь его?» — «Да это один к Светке ходит». — «Дружат, что ли?» — «Да так пока ходит».
Шел я в тени стены, остывший за ночь кирпич добавлял сырой прохлады, в прорези сандалий заплескивалась холодная роса, но звонкий девчоночий голосок: «Так пока ходит» — тотчас превратил росу в кипяток, утреннюю прохладу в полуденную жару, проломил невыговариваемую тайну — оказывается, она может обернуться прогулочным пересудом. Я пылающим шепотом повторял и повторял: «Ну началось, ну началось», — хотя решительно не представлял: что же началось?
Помнил, за Светиным домом возносился Горбушинский сад, все годы видел его зеленое облако над длинным тальниковым плетнем, а за плетнем — Ивана Борисовича Сумзина, неутомимого мензелинского садовода. Необычайно курносый, веселый, в выгоревшей бессрочной телогрейке, он бесшумно возникал перед тобой, хотя перелезал ты и спрыгивал вкрадчивее кошки. Поднимешься из подзаборной полыни, а Иван Борисович уже беззвучно хохочет, словно заодно с тобой, и манит пальцем. Подойдешь, шепотом спросит: «Чем потчевать прикажешь?» Изнеможешь от навалившейся бессловесности, уставясь в рыжие сапоги Ивана Борисовича, а он тем временем быстрыми и легкими руками обрывает вишню, и только радужки змеятся на пальцах, на сизой окалине загара. И вот обе твои пригоршни полны теплой, пунцово-черной вишни, и внутри каждой ягоды чуть пульсирует, токает продолжающий движение сок. Спасибо не успеешь буркнуть сдавленным от стыда горлом, а Ивана Борисовича уже нет, растворился в вишеннике. Наверное, в саду росли и яблони, и груши, и сливы — не помню. Помню вишню, нежное ее, тихое, бело-розовое цветение, первый румянец на зеленых юных щечках, ее налившуюся покойную упругость, и всегда проходит под ее тугою листвой Иван Борисович в бессрочной телогрейке.
А сторожа в Горбушинском саду были, как на подбор, злые, сухонькие старички, наделенные удивительной прытью: они азартно, без устали гонялись за нами, только мелькали меж деревьев их сморщенные личики, и, как выразился бы писатель романтического направления, читалась на них одна лишь страсть: догнать, поймать, наказать. Караулили они с ружьями, заряженными солью, под рукой у них всегда были заросли особой жалящей до костей крапивы. Не раз и не два отмачивали мы горящие задницы в вонючем пруду у салотопки…
— Коля, а где же Горбушинский сад?
— Вымерз. А вообще-то мимо идем. — Мы шли мимо каких-то строений. — Да, вымерз, а новый вырастить не собрались.
— А Иван Борисович как?
— Умер. Сразу после тех морозов. Считай, вместе с садом. Ничего этого не видел. — Николай покосился на строения.
Но вот и кладбище, под шапкой мокрой желтизны. На тополях еще держались там-сям жесткие зеленые листья, вроде бы перенесенные с металлических венков. А березы желтели без изъянов, с ровною, утешительною скукой. Вот и церквушка — деревянная, недавно крашенная, сине-охристая, с белыми наличниками. Она скромна, проста, без архитектурных затей, цепляющих взгляд, пожалуй, одна на несколько районов — по приходу и расходы: новая краска хоть и сообщала ей аккуратность, но аккуратность бедной, чистоплотной старушки — побираться не побирается, но и в скоромные дни постится.
Миновали ее — где же три березы, о которых говорила мать? Тучная кладбищенская почва подняла такие березищи, что за каждой может спрятаться церквушка. Считаю: пять, шесть, семь — мать, должно быть, не рассмотрела в тот день, что у могилы начинался березняк.
Ходим с Николаем меж берез, ворошим, разгребаем космы жухлой травы, выцветшие добела траурные ленты, рыжую поминальную хвою, накопившуюся, точно в ельнике, угадываем по земляничным куртинам: тут была могила и тут, но неизвестно чья, может быть, и Максима Романовича Шугаева.
Николай говорит:
— Сорок лет все-таки. Никто не следил — как теперь разыщешь?
— Может, в конторе регистрируют? Помечают: когда, кто, на каком месте.
Возвращаемся к кладбищенским воротам, где в привратной избушке размещается печальная канцелярия. На двери замок, хотя, судя по вывеске, заведение должно быть открыто. Впрочем, могильное начальство может и опаздывать и задерживаться — служба такова, что невольно приучает к мысли: торопиться некуда. Дожидаясь конторских, сходили на могилу Николаева отца: серебристая оградка, серебристая пирамидка, ухоженный бугорок со съежившимися астрами — клочок земли, материализующий память, единственный в нашем полном владении, и сколь усерден каждый из нас в этом землевладении, столь и богат.
— Как бы не забыть… Закажи в Москве керамический портрет. — Николай рукавом протирает стекло фотографии. — А то выгорает быстро. Бумага все-таки, ненадежно.
— Закажу.
Отец мой умер в феврале сорок первого: возвращался в метель из деревни, в санях его безжалостно просквозило, и началось, как тогда говорили, крупозное воспаление легких. Фельдшер поставил ему банки, а делать этого — как утверждали вспоминавшие — ни в коем случае было нельзя. Банки-то, а точнее, невежество фельдшера и погубили отца. Вот если бы знать да вовремя отвести руку… Смерть же, как бы ни останавливали ее в своих мечтаниях, задолго до наших рыданий караулила отцовские сани и впрыгнула в них с ледяным посвистом.
Говорят, незадолго до его смерти я от кого-то услышал загадку про календарь: помер, оставил номер, — мне было три года, и я замучил ею всех домашних, восторженно проверяя: так же они догадливы, как и я? На меня шикали, замахивались: «Не каркай» — тогда я бежал к отцовской постели и неутомимо звенел: «Ну, угадай! Только ты не угадал! Помер, оставил номер!» — а отец уже не мог говорить.
Не помню этого дня и отца совершенно не помню. Порою, правда, брезжит видение: я сижу у отца на коленях, мы смотрим в окно на улицу, там скачут всадники с красными флагами — какой-то праздник, — за ними бегут мальчишки в новых рубашках… Пожалуй, видение это все же из какой-то чужой, книжной жизни, слишком оно отстранено от меня, лишено личных, что ли, красок — некий мальчик на коленях некого мужчины…
Знаю, он был высок, любил удить рыбу, любил граммофонную песенку «У самовара я и моя Маша», у него была доха из оленьего меха и рубашка с узким воротником, в круглых концах которого блестели запонки, — в этой рубашке отец существует на единственной фотографии, сделанной вскоре после свадьбы. И он и мать удерживают на лицах старательную парадность, какую-то напряженную безликость. Впрочем, глядя на взбугрившиеся надбровья, можно предположить, что отец был упрямым человеком, а глядя на большие, сильные губы — что у него неровный, подверженный минуте норов. Но из моих, как когда-то говаривали, физиогномических догадок не выведешь живого представления об отцовском характере, о его причудах и странностях.
Помню старого товарища отца — я прозвал его дядей Мимо. Он всегда приходил с конфетами или пряниками в кармане пиджака и всегда подставлял мне карман: «Ну-ка, ищи глубже». Однажды я попал рукой за отпоровшуюся подкладку и, нащупав конфеты, никак не мог их достать. Сколько ни совал руку — все мимо и мимо. Вот этот отцов товарищ сказал как-то, привычно хохотнув на мое «дядя Мимо пришел» (прозвище его очень смешило»): «Максим Романыч, царство ему небесное, много чего мимо пропустил». Наверное, рассуждал я впоследствии, отец мог добиться большего, чем должность провинциального счетовода, наверное, сознавал возможность этого большего, но почему-то не стремился к нему или не мог пересилить каких-то обстоятельств, наверное, из-за неосуществленности испортился характер, стал рабом захолустья, этаким мрачным уездным рыболовом, преферансистом, любителем горькой. Дядя Мимо охотно бы перекроил отцову судьбу на своем поминально-товарищеском суду, но и дяди Мимо давно нет.
Занятые жизнью, мать и брат не рассказывали от отце, а я не расспрашивал. Не помнить и не иметь отца — почти непременное и как бы естественное условие детства моего поколения. Обод судьбы, так сказать, мы покатили по травянистым улочкам, уличное товарищество вытравляло из нас трусов, воображал, ябед, то есть мы воспитывали сами себя, не мучаясь безотцовщиной (чтобы мучиться, надо сравнить жизнь с отцом и без него), не ощущая сиротства (есть мать, она всегда на работе, есть товарищи, они всегда рядом — жизнь устроена ясно и просто: «Айда на речку, у мельницы язь пошел»), не горюя из-за нехваток (мать одна работает, денег в обрез — это мы знали тверже, чем дважды два), не завидуя более сытым и обутым. Ценились лихость, ловкость, смелость: вот бы научиться, как Комарик, уличный товарищ, по деревьям лазить.
В отрочестве и юности, когда, казалось бы, безотцовщина должна уязвлять взрослее и больнее, она превратилась в некую анкетную данность вроде года рождения, — это отстранение от живой боли произошло долею из привычки писать в соответствующей графе: «Убит, умер», а долею из привычки обходиться без мужского присмотра, из раннего сознания, что мы сами с усами, сами себе отцы. И мы старательно защищали свою, так сказать, сиротскую независимость, если вдруг возникала опасность новой мужской власти.
У меня ненадолго — на одну зиму — появился отчим, неприметный мужчина в синем диагоналевом кителе, в пальто из шинельного сукна, подбитом ватой, в ботах «прощай, молодость». Ходил медленно, пришаркивающе — казалось, боязливо; говорил тихо, мало — казалось, осторожничает, чего-то недоговаривает; смеялся в белую большую ладонь — казалось, не смеется, прикашливает, потому и загораживается. Только нос его имел смелость быть определенным, непрячущимся — большой, сизый, пористый. Отчим скорее всего был мягким и добрым человеком — помню, как он неловко и виновато сутулился за столом, смущенно взглядывая на меня и погмыкивая, когда мы оставались одни. Пытался разговорить меня, взять этакую доверительно-семейную ноту, но натыкался на упорное и угрюмое молчание, на уставившиеся в клеенку глаза — я не хотел с ним общаться, не хотел его знать, не хотел даже замечать его появление в своей жизни. Он спрашивал, что я читаю, я молча показывал обложку, он совал трешницу на кино, я уворачивался от дающей руки, он звал в баню, я бурчал, что схожу с ребятами, — не нужен мне был отчим, не мог я пересилить чуждости к нему и отчаянного удивления: ну чего он ко мне пристал?!
Он был на войне артиллеристом, по его словам работал на «катюше» и, когда выпивал, умещал свои фронтовые воспоминания в детски восторженный возглас: «А мы ему как дадим! Как дадим!» — с внезапной, мучительной слезой тянулся ко мне, желая, видимо, приласкать от полноты воспоминаний. Я, конечно, отодвигался, каменел, а он, промокая слезу согнутым указательным пальцем, вздыхал: «Эх ты! Эх ты!» Выпивал он часто, порой до тихого, беспомощного беспамятства. В одно хрусткое мартовское утро (я собирался в школу) он обнаружил, что потерял партбилет, — с таким позором он жить не мог и не стал жить…
Но вот и я достиг отцовых лет, и непамять о нем, незнание его обернулись душевным смущением, устойчивым ощущением вины перед прахом, перед утерянным клочком земли, до которого я так долго добирался.
Поехал однажды в заставленную декабрьскими сугробами деревню Новую Александровку, бывшую Арестовку, где родился отец и где я надеялся встретить родственников, помнивших его. Последняя родня, то ли двоюродная, то ли троюродная сестра отца, давно перебралась в Краснодарский край, и дом ее занимал чужой человек. Походил по деревне, поспрашивал — никто не помнил отца: сверстники его погибли на войне или умерли от старости и болезней. Вернулся в бывший дом двоюродной своей или троюродной тетки, посидели немного с новой хозяйкой за пустым столом и холодным самоваром. Она сказала, разглаживая клеенку маленькой, сморщенной ладонью: «Вовремя не узнал, теперь не узнаешь». — «А когда вовремя-то было?» — «Как сердце укололо, так и примчался бы». — «Сейчас вот и закололо». — «Теперь не ради отца, ради себя хлопочешь». — «То есть?» — «То есть стареешь, боишься, как бы и самому не затеряться. Так же вот забудут, да и вообще не спохватятся». — «Ну, я об этом не узнаю». — «А вина перед отцом останется. И все равно кому-то перейдет, кому-то нехорошо будет, что ты вовремя не спохватился». — «Что же, выходит, и отец вовремя не спохватился и перед кем-то виноват? Может, тоже перед отцом своим или дедом?» — «Еще как может быть».
Быстро и густо наваливались декабрьские сумерки, света хозяйка не зажигала, и я попрощался.
Появилось кладбищенское начальство — белощекий человек с черными суровыми бровями, в черном клеенчатом плаще. Пока он снимал замок, я спрашивал:
— Вы регистрируете, кто где похоронен?
— Смерть регистрируют в загсе, а мы обеспечиваем могилу, ограду, надгробие.
— И никаких записей не ведете? Номер участка, дата, фамилия?
— Мы не бюрократы.
— Значит, никто мне не скажет, где лежит человек, умерший в феврале сорок первого?
— У-у! Сорок с лишком. Даже думать нечего.
Ясно. Даже номера не оставил.
В Мензелинске живут две тетки по матери, Нина Ильинична и Ольга Ильинична. Зашел к тете Нине, в дом рядом с почтой, где она проработала лет тридцать.
Дверь отворила седая, сухая старушка, и, если бы не живо блестевшие, насмешливые глаза, я не узнал бы тетю Нину, которую помнил черноволосой, вспыльчивой, резкой и, казалось, неугасимо красивой женщиной.
— Заходи, заходи. Я уж слышала, что ты приехал. Думаю, не обойдет тетку, вот кое-что припасла. Чайник сейчас включу.
— Я ведь тоже с книгами связалась. В кинотеатре перед сеансами торгую. Все не так скучно. Вот Жуковского три тома. Хочешь, бери.
— Костя на Алтае, Милка в Челнах медсестрой. Квартира есть, неплохо живет. Да, вдвоем с дочкой. Большая уже. Валерка со мной. У нефтяников работает. Их на две недели самолетом в Тюмень возят, а две недели дома. На вахте сейчас, — так коротко очерчивает тетя Нина судьбы своих детей, моих двоюродных братьев и сестры, с которыми прошло столько золотых летних дней на чердаке этого дома, где мы устраивали то палубу, то дом, свободный от житейских забот. Дни эти в моей памяти так обширны, что другая часть жизни моих братьев и сестры, вместившая Алтай, нефтепромыслы, будни больницы в Челнах, кажется неправдоподобно сжатой и кургузой по сравнению со счастливой просторностью детских фантазий.
— Смотришь, что кроватей много? А я студенток пускаю, когда Валерка на вахте. — В Мензелинске большое педучилище и сельскохозяйственный техникум. — Да нет, не чтоб веселее было, лишних рублей не бывает.
— Отца твоего я не хоронила, не жили мы тогда в Мензелинске… Вот что. Сколько ты здесь пробудешь? Ладно, завтра-послезавтра сбегаю к одному человеку — сколько его знаю, он все в могильщиках. Может, вспомнит, поможет. Зайди через два дня.
В темном коммунальном коридоре, куда выходит дверь тети Олиной комнаты, я сжег полкоробка спичек, прежде чем отыскал нужную. Подергал — закрыто. А за дверью чувствуется свет, слышится бодрое благогласие телевизора — может, дремлет тетя Оля. Постучал настойчивее. Услышал скорый топоток и певучий, нежный детский голосок:
— Бабушка меня закрыла. Она в магазин ушла. А вы мой дядя? А я Володечка. Ой, пожалуйста, не уходите. Бабушка, наверное, во дворе. Она просила не уходить. И я вас еще не видел.
Вспомнил, что тетя Оля живет с внуком, водит его во вспомогательную школу — Володечке трудно дается грамота, да и жизнь вообще трудно дается.
— Подожду, подожду, — успокоил я Володечку. — Сейчас увидимся.
Пришла тетя Оля, тоже принялась потчевать, тоже быстро расставила точки, так сказать, на карте своей жизни: Люба здесь, в Татарии, Олег в Якутии, Дима в Челнах, Люся в Бирске. Не забывают, навещают, а мы вот с Володечкой учимся.
Володечка, трогательно хрупкий и ласковый мальчик, все жался ко мне, напевал нежным голоском: «Я не боюсь в школу ходить и один оставаться не боюсь».
— Сразу наш дом нашел? Да-а, столько воды утекло, а я ни с места. Стою в военкомате на очереди. Как жене погибшего положена благоустроенная квартира. Строят только медленно.
— И я ведь на кладбище-то не была. Стряпала, столы для поминок накрывала. Что и помню о том дне, так то, что морозило очень сильно. С кладбища все окоченевшие вернулись… Зайди перед отъездом, я тебе меду налью. Может, состряпаю что. Без подорожников какая дорога!
Володечка замер сусликом на пороге, серьезно смотрел, как я одеваюсь, серьезно протянул бледную горячую ладошку.
Утром по лужам перекатывался плотный, ветреный холод, срывавшийся вместо дождя с низких белесо-серых туч. На бывалом, лихо обшарпанном «уазике» приехал Анатолий Гудошников.
— Ну что, охотнички? Тулупами запаслись? — Сам он был в толстой суконной куртке, болотных сапогах, с непокрытым, обильно поседевшим ежиком. — Утки, по радио передавали, зубом на зуб не попадают.
Анатолий невысок, сутул, худ, с глазами яркой, этакой нестерпимой синевы — я предупреждал, что никуда от нее в Мензелинске не денешься. Может быть, гудошниковскую синеву уместно даже назвать жестокой или неукротимой — так соединяется с его характером эта горящая неистовость. Мальчишкой он был, по тогдашнему определению, большим выделялой, но выделялой рисковым и отчаянным. Положим, прыгаем мы с моста в Мензелу, прыгаем «солдатиком» — ногами вниз. Гудошников обязательно забирается повыше и обязательно махнет вниз головой и, если махнет неудачно (живот отобьет или ноги), тут же лезет еще выше — и снова головой вперед. Какой-нибудь мальчишка поднимется на его высоту: страшно, нет потягаться с Гудком? Примерится, потопчется на шершавой от ржавчины стальной пластине, поймет, что в коленках пока слабоват. Только попятится, скрючившись, удерживаясь руками за бортики арки, как слышит снизу: «Лучше прыгай, а то хуже будет». Гудок уже поднимается к мальчишке, и, если тот все же не соберется с духом, не прыгнет сам, Гудок обязательно столкнет его с высоты, как бы мальчишка ни визжал и как бы тесно ни прижимался к теплому животу арки. Но если мальчишка прыгал, Гудок на миг застывал на новой высоте и снова летел — казалось, очень долго, и очень хотелось зажмуриться.
Любую детскую забаву — нырянье, рыбалку, катанье на лыжах — Анатолий превращал в состязание самолюбий; сколько синяков, ссадин, шишек набили мы, не в силах достичь его готовности к риску, сколько слез по щекам размазали, покорно злясь на его умение во что бы то ни стало возвыситься над нами… Густым раздражающим холодом насыщенная синева вдруг ударит тебя, и ты оттеснен, отодвинут, сброшен с лыжни, с тропы, с горы…
Он несколько лет жил в Сибири, и я думал при встрече: как многие, хлебнувшие ее просторов, Анатолий ударится в воспоминания, отмечая пунктирами ностальгических вздохов селения, берега, леса, где задерживала и радовала работа. Но он сказал:
— Про Сибирь давай не будем. Вот она у меня где, — Анатолий провел ладонью по густой седине ежика. — До нее сединки не было. Наломался я там, намыкался — вспоминать не хочу.
— Не хочешь, не надо. — Хоть Сибирь и населяют в основном люди с норовом, но свой норов приходится придерживать, приводить в согласие с ее крутою волею, а Анатолий, видимо, все с моста прыгал, но в Сибири крутизны не выберешь, и, хоть сто раз на рожон лезь, в сто первый она заставит отступить…
Едем на Ик в ледяной, с тучами, припавшими к раскисшим полям, октябрьский день, а я вижу Ик в полуденном зное, с серебристо млеющим по берегам тальником; прозрачная тяжесть пчелиного гуда, пригибающего высокие травы на лугах; ежевичники и малинники на глинистых обрывах, а под ними — налимьи заводи, жилища сонных, замшелых сомов и хватки раков. Вернее, едем на берег бывшего Ика — русла его уже не увидеть, луговых пространств больше нет, — накапливаются на них, застаиваются воды будущего Камского водохранилища, или, говоря романтическим языком, волны Камского рукотворного моря. Представляю, какою свинцовой зябкостью отдает от воды, какою печалью светятся поникшие, полузатопленные тальники.
В третьем или четвертом классе я читал «Детские годы Багрова-внука» и радостно растерялся, когда дошел до сцены, где Сережа Багров с маменькой и отцом останавливаются на берегу Ика: «Вот это да! Про наш Ик в книжке написано! И давно уже написано!» С изумлением и некоторой ревностью я понял, что Ик мой, вроде бы как собственный Ик, при помощи этих страниц превратился в речку, принадлежащую многим, а потому речку удивительную, уж, конечно, не случайно замеченную, ведь не про каждую в книжке напечатано.
Я приносил «Детские годы» в школу, брал с собой в гости, читал соседям. Иван Михайлович Красильников, человек недоверчивый и насмешливый, достал очки, потянул книгу к себе: «Ну-ка, где здесь буквами-то Ик показан?» Прочитал не только сцену привала, но и дальше заглянул. «Был Ик да Ик, а тут, смотри, как все красиво. И про деревья в тумане сущую правду написал. Ты выучи-ка это до буковки да как стихи на вечерах читай. Ну, на утренниках, если вечеров нету».
Давно выучил, да давно не вспоминал, а теперь вот кстати.
«При блеске как будто пылающей зари подъехали мы к первому мосту через Ик; вся урема и особенно река точно дымилась. Я не смел опустить стекла, которое поднял отец, шепотом сказав мне, что сырость вредна для матери; но и сквозь стекло я видел, что все деревья и оба моста были совершенно мокры, как будто от сильного дождя. Но как хорош был Ик! Легкий пар подымался от быстро текущих и местами завертывающихся струй его. Высокие деревья были до половины закутаны в туман. Как только поднялись мы на изволок, туман исчез и первый луч солнца проник почти сзади в карету…»
Спускаемся с Икской горы, приводившей раньше на весело скрипевший деревянный мост, а теперь тормозим у насосной станции в виду затонувшего парохода (труба торчит да капитанский мостик) и вот этого вечного отныне осеннего половодья с редкими стогами на последних, не залитых пока луговых пригорках.
Потом плывем на лодке — утки поднимаются из-за каждого куста, но мы не стреляем: в лодке тесно, она утла и ненадежна, но от стесненного, рвущегося из нас азарта старенький мотор, кажется, стучит бойчее. Холодно, зябнут руки и уши, мы ежимся, опускаемся в воротники и постепенно застываем от ломотного студеного ветра. Николай вдруг протягивает ружье своему сыну Вадику:
— Ну-ка, берись за приклад покрепче. Гнуть сейчас будем.
— Чего гнуть? — не понимает Вадик.
— Стволы. Чтоб из-за кустов стрелять.
Пытаемся улыбнуться, но губы свело, и странно видеть и чувствовать, что вместо улыбок на лицах у нас синие кривые гримасы.
Пристаем к желтой гряде временного острова и расходимся, сразу согревшись в предвкушении вольного поиска и разящего взлета стволов.
Бреду вдоль стены луговой осоки, по щиколотку в воде, ружье закинул за спину — что-то не взлетают мои утки. День расходится: до солнца ветер еще не добрался, но самые тяжелые, жирные тучи разогнал, и день осветился предвестием солнца. Повеселели, позеленели бесконечные воды окрест меня, дальние ивы откликнулись тихо зажегшейся позолотой — соединялись на моих глазах не совсем исчезнувшие аксаковские картины с новым, затеянным его потомками пейзажем, нагоняя уныние неестественностью зрелища, невозможностью как-либо исправить его и жалким желанием спрятаться, уберечься от раздражительных размышлений, не оставляющих, так сказать, и на дне будущего моря.
Таким же мелководьем с равнодушным и неуместным плеском среди жаждущих цвести и плодоносить полей начинались Братское, Иркутское, Усть-Илимское водохранилища — я ходил по их дну, запоминая брошенные лиственничные боры, лесосеки, непомерные сосновые плоты, потом так и не всплывшие, черные многоверстные лужи на тучной илимской пашне, самой плодородной в Восточной Сибири…
Запоминал не для будущей горькой строки, не из склонности к праведнической риторике («Разве можно так с землей обходиться?!»), а из желания понять и совместить в себе молодой, удалой, с испариной азарта лик котлована, скажем, Братской ГЭС, сияние артельной праздничной истовости в глазах, когда каждый наперегонки норовил подсунуть свое плечо под любую тяжесть (то ощущение, может быть, самое дорогое из ощущений молодости), и сиротливые пространства, как будто никогда не растившие, не согревавшие, не утешавшие людей. Хотелось рассказывать о пьянящем трудолюбии котлована и с мимолетной стыдливостью хотелось отвернуться от илимской пашни: извини, по-другому ГЭС пока не научились строить, так надо — страдай не страдай. Пашни исчезли вроде бы бесследно и покорно: работайте, покоряйте, если так надо, — но постепенно выяснилось, что невозможно строить и разрушать одновременно, затопленные земли живут в нас; боль, причиненная им, воскресает в нас стыдом и растерянностью: как легко и бездумно мы с ними расстались, не попытались спасти их, выгородив дамбами и плотинами, не подозревая, что дешевизна строительства обернется неокупаемыми нравственными затратами.
Мы утешались неотвратимостью «надо» — оно как бы освобождало нас от раздумий и личной ответственности: действительно, надо перекрыть реку, пусть крутит турбины, без энергии не обживешь и не обустроишь тайгу; мы надеялись, что земля, подчинившись нашему «надо», не будет уже досаждать нашей совести, но по прошествии времени мы обнаруживаем, что Байкальский целлюлозный завод можно было не затевать. И в то же время мы выясняем, что Чебоксарское водохранилище разгородили дамбами и плотинами, сохранив пастбища, луга и пашни.
Надо, согласен, надо. Но почему каждое «надо» отзывается такой резкой болью, почему осуществленность, воплощенность этого «надо» не заслоняет, не примиряет меня с потерями — озерами, пашнями, лесами, определенными в жертву «надо»? Потому, видимо, что, чем больше годовых колец я набираю, тем яснее: не спрятаться за всевозможные «нас не спрашивали», «меня не слышали», «а что я мог», не оправдаться никакими «надо», если плата за них окорачивает мое гражданское достоинство. Если даже меня не спрашивали, меня не слышали, все равно не отменяется мое огрузшее от сомнений, несогласий, предположений сердце — в историческом протяжении, в сущности, и не бившееся, — и я отвечаю за каждое «надо», за каждую его трещину и кривизну. Пусть моя ответственность не учтена, пусть о ней никто не знает, но она существует параллельно с «надо», заставляет душу напрягаться и болеть…
Вот иду я, рядовой гражданин, по новорожденным волнам и изнываю от нелепого желания: набраться бы такого голоса, такой громкости и силы, что при крике «Не надо так!» воды бы непременно отступили. Понимаю, мое желание, мое «нет» легко глушится командорскими шагами экономики, которая, наверное, не может и не должна слышать отдельного чувства, отдельного голоса, сколь бы горек и трезв он ни был, тих и слаб, как шепот несчастного влюбленного, этот голос и, конечно же, пропадает в многоголосье державных забот и тревог — тем не менее тешишься надеждой: вдруг да услышат. Надежда эта неискоренима: в течение жизни много раз смиряешься с недолговечностью слова, с его какою-то призрачной судьбой: писалось, было, на чем-то настаивало — и постепенно сходило на нет, тонуло в житейском море, вроде бы никого не защитив и ни на чем не настояв. Но не могло же оно исчезнуть совсем, без следа и без шороха? Где-то остановилось, передыхает, набирается на привале свежести и полногласия — надежда быть услышанным вновь расправляет крылья, и легкий ветерок обдает тебя.
Когда-то я жил в лесничестве под Иркутском и рассказывал, как тяжел, не устроен, малооплачиваем труд таежных лесников; когда-то я часто бывал на Нижней Тунгуске и рассказывал, сколь несовершенно устройство нашего охотничьего дела. Рассказы эти и очерки ничего не изменили ни в жизни лесников, ни в жизни профессиональных охотников. Исчезли, растворились слова, которыми так хотел помочь, и, разумеется, я смирился с их исчезновением: я свое сказал, да и вообще, скоро только сказка сказывается… Но порой кажется, что и те, исчезнувшие, и эти, возникшие на дне моря, материализуются, объединяются в некую слитность, в некую самостоятельно существующую словесную реальность, предназначенную, может быть, всего для одного человека, который-то и поймет, услышит мои слова.
Часто вижу мальчика, худого, нескладного, неловкого. Веснушкам тесно на его вяло вздернутом носу. У мальчика большие темные глаза, неторопливо и сосредоточенно рассматривающие мир. Сизый дымок тревоги, ртутные блики недоумения, бархатная пыльца страха нет-нет да попадают в них. Тогда я спрашиваю, что с ним. «Почему люди так любят жаловаться?», «Почему говорят: на сердитых воду возят?», «Что такое судьба?» Старательно отвечаю ему, пускаясь в долгие рассуждения о слабостях человеческой натуры, о неизбежности ошибок, и неожиданно вижу в его глазах откровенную, жалеюще-покровительственную усмешку — так обычно усмехается усталый экзаменатор, слушая запутавшегося, заговорившегося ученика. Поперхнувшись, спрашиваю: «Что-то не так? Не веришь?» — «Верю. Но непонятно как-то». — «Что непонятно?» Опять смущающая меня покровительственная усмешка: «Пока непонятно. Вырасту, пойму».
Понятно: пока он хочет спрашивать, но не хочет или не умеет отвечать.
Представил, что мальчик идет сейчас со мной по дну Камского моря, и если бы думать при нем вслух, если бы при нем сопрягать экономику с нравственностью, он, уверен, засыпал бы вопросами: почему же не спасли луга при здравом рассуждении? Почему же я все-таки не кричу, если мне так больно от этих волн? Почему жизнь учит смиряться и почему здравый смысл — понятие не экономическое? И наверное, опять бы усмехался, слушая мои степенные, исполненные благонамеренных надежд ответы.
Представил также, что отделившееся от меня, материализовавшееся в некую самостоятельную величину слово лет через двадцать встретится с мальчиком, ставшим мужчиной, ответственным жизнеустроителем, поправляющим наши ошибки и грехи со снисходительной жалеющей усмешкой. Вглядится он в нашедшую его страницу, прищурит темные, пристальные глаза — жаркий озноб ударит в затылок, когда я представлю это…
Почти из-под ног взметнулся селезень — задумался, видимо, тоже, не слышал моих шагов. Рванул ружье с плеча, ремень зацепился за пуговицу. Повел наконец стволом, селезень набирал уже лет — уйдет! уйдет! не торопись! — все-таки достал. Споткнулся мой селезень и упал в осоку. Бросился к нему: как бы не забился куда-нибудь в кочки — вот, вот он, прощально спрятал голову в воду, раскинул прихваченные изумрудно-малахитовым огнем крылья.
Выбрался на поляну, у почерневшей брошенной копны развел костерок — привалом надо было отметить трофей. Грел у огня руки и все поглядывал на зеленое перо, торчавшее из травы: может быть, мой селезень первым прилетел испробовать новую воду: глубока ли, сытна ли?
Костерок потрескивал так утешающе — вставать не хотелось, и я решил подождать лодку здесь. А чтобы отвлечься от окрестной воды, холодного октября и охотничьего самодовольства, придумал забаву: буду сочинять роман; прикину сюжет, героев, примерю драматическую пружину — да не просто роман, а желательно модный, соблазнительно модный, с НТР, чертями, демоническими страстями, — впрочем, нет, с чертями не буду — лучше в жанре утопии, в жанре преувеличения. Пожалуй, сначала надо придумать подзаголовок. Нечто вроде: роман с преувеличениями и утопическими картинами — н-да, что-то очень корявое… Роман-утопия с злободневными преувеличениями… Впрочем, подзаголовок придумаю потом, не надо отвлекаться.
Итак… В некой российской области, может быть Иркутской (хотя, угождая НТР, следует написать: в неком территориально-производственном комплексе), жил молодой физик Мотовцев, изобретший в один прекрасный день странный прибор, который хотел сначала окрестить в свою честь «мотовмером», но застеснялся и назвал — «чувствомер». Прибор этот, спрятанный в карман или сумочку (как авторучка, губная помада), отмечает уровень, силу общественного темперамента и помогает человеку проявить его. Предположим, человека мучает врожденная или благоприобретенная робость, заставляющая его поддакивать там, где надо говорить «нет», искательно улыбаться тому, кого надо брать за шиворот, и человек, ненавидя свою робость, не может тем не менее с ней расстаться. Но вот, снабженный «чувствомером», он начинает вести себя как должно: решительное «нет» — демагогу, отпор — хаму, не подавать руки приспособленцу, — разумеется, человек, слывший завидно смирным, ходит теперь в синяках и шишках, и «чувствомер» не дает ему вернуться к былой робости.
Одним словом, после долгих, порою драматических испытаний «чувствомер», а с ним и Мотовцев получат в Иркутской области широкую, с долей скандальности, известность, и часть заводов и строек будет бороться за повсеместное применение «чувствомера», чтобы каждый знал наполнение своего гражданского пульса — от вахтера до директора. Конечно же, будут у прибора и враги, тайные и явные, но все как на подбор умные и решительные. И вот однажды соперник Мотовцева в научной и личной жизни, некто Тупарев, начинает злобную интригу…
— Так и знал, что спит! — Лодка уже раздвигала осоку, Анатолий спрыгнул на берег, залил из черпака костерок. — Залезай быстрей. Сейчас стрелков ловить будем.
— Какой тут сон в такой ветер? Разве что наяву. — Я неловко шагнул в лодку, поскользнулся на мокрой доске, чуть не ухнул в воду. (Это Мотовцев меня не отпускал: «Что-же ты? Только придумал и уже бросаешь?!») На прощание подумал: можно было назвать «Опыты Мотовцева», хотя… поиграли — и будет. Еще один ненаписанный роман остался за плечами. — Постой, постой!. Кого мы будем ловить?
— Стрелков. Ты спал и не слышал, какую пальбу они открыли.
— Ну и что? Охота.
— По выстрелам слышу — браконьеры. Бестолково палили.
— Да уж. Будут браконьеры бестолково палить.
— Хорошо, уточняю: начинающие браконьеры.
Сквозь осоку, тальники, по бесчисленным протокам заспешила наша лодочка — старый мотор вроде бы заработал чаще и мощнее, возможно, передалось ему нетерпеливое напряжение Анатолия, сурово сжавшегося на носу.
Увидели на крутой длинной гряде двоих в одинаковых зеленых телогрейках, в кожаных зимних шапках, сдвинутых на затылок, — должно быть, на одном складе одевались. Парни были рыжие, румяные — приятно посмотреть. Анатолий, щуплый, дохлый, взлетел на бугор, сунул под потные, весело блестевшие носы книжечку общественного инспектора.
— Билеты. Путевки… Как нет?! — Резко, цепко ухватился за стволы новеньких тулок, скомандовал: — Ружья сдать!
Парни действительно были новичками — с растерянными, глупыми улыбками выпустили ружья из красных кувалдистых кулаков. Анатолий передал ружья нам, вытащил из старой пилотской планшетки (по-моему, в школу еще с ней ходил) лист бумаги для протокола. Лихо он развернулся. Молодец. И планшетку сохранил, и порох, так сказать, детства не отсырел, и на рожон не разучился лезть — стрелки могли оказаться и не такими покладистыми…
Собрались с Николаем в Елабугу. До нее, если царственно соединять ее на карте с Мензелинском, шестьдесят с гаком, час-полтора езды.
— Точно. За два доедем, — пообещал Николай. Поехали на его прокурорском «Москвиче».
Был опять белесый ветреный день, а когда вырывалось солнце, в полях и березовых колках прибывало нежной, доверчивой желтизны. По нижней эстакаде Камской ГЭС, еще заваленной строительным мусором, переехали на правый берег Камы и попали в просторный сосновый бор.
— Пройдемся, — предложил Николай.
Пошли по песчаной дороге, на обочинах в редкой траве было много засохшей земляники. Ветер отстал еще на берегу, не смея нарушить тишину, установленную в бору от века: в ней должна храниться хвойная, целительная, смолистая сила сосны.
— Скоро в доме Шишкина будем, — говорил Николай. — Помнишь, как посмеивались над ним? «Утро в сосновом лесу», «Корабельная роща» — в каждой, мол, чайной висят, в каждой захолустной гостинице. Дурной, мол, вкус, вроде базарных лебедей на клеенке…
Иван Иванович Шишкин родился в Елабуге, здешним борам обязан настойчивой, пылкой любовью к сосне: он без устали писал ее, без устали восхищался ее каким-то живительно домашним совершенством — как иные живописцы всю жизнь завидно верны женской красоте, так Шишкин был верен красоте сосны, в сущности, превратил сосну в символ русского леса, его свежей вечнозеленой мощи.
Николай сорвал сухую земляничину, растер в пальцах, понюхал.
— Гостиничные копии, может, и бездарны, но какая в нем все-таки сила, если вся Россия хотела его в красный угол поместить. Хоть плохонькую копию, но в красный угол. Вообще, современнейший художник… Вон, смотри, как химия дышит. — Ветви, обращенные в сторону Нижнекамского нефтехимического комбината, заметно пожелтели. — Если так дело дальше пойдет, корабельные рощи и сосновые полдни только у Шишкина и останутся.
Чисто, тихо, уютно в доме Шишкина. Поскрипывают некрашеные выскобленные половицы; конторки, комоды, сундуки приобщают к незатейливому быту Ивана Ивановича; сосны, пруды, глухие российские мостики, написанные маслом, карандашом, — к непомерному живописному его усердию.
— У вас всегда так тихо? — спросил я у смотрительницы, этакой елабужской юницы, длиннокосой, сероглазой, задумчиво-серьезной.
— Летом с утра до вечера народ. Полы не успеваем мыть. — Смотрительница скучала и потому предложила: — Хотите, покажу любимый вид Ивана Ивановича? — Она подвела нас к окну. — Вот здесь он подолгу сиживал.
На многие версты простиралась камская пойма во вспененном багрянце тальников, в ясной зелени сосновых боров. Разумеется, при Иване Ивановиче не было на горизонте высоких черных труб с жадно струящимся пламенем — этакие свечи цивилизации над шишкинской далью.
Неожиданно то ли во дворе, то ли на улице взялся за марш духовой оркестр — мы вздрогнули, отодвинулись от любимого окна Ивана Ивановича. Смотрительница объяснила:
— Это в школе милиции. И вальсы будут играть. — Она быстро и горячо покраснела, забыв о нас, побежала на другую половину дома, видимо, к своему любимому окну, откуда открывается вид на милицейскую школу. — «О, эти марши полковые!»
Под их бодрую грусть поднимались мы в гору к городскому кладбищу.
Могила Марины Ивановны Цветаевой устроена под тремя соснами, у самого склона — купола церквей, зеленые крыши бывших купеческих особняков о два и три этажа, россыпь деревянных улочек и переулков, выходящих в луга к Каме, — такая немереная воля, с ветром и птицами, начинается за могильной цепью! Должно быть, ей покойно здесь, по соседству с этой волей, — быть только рядом с ней и могла согласиться ее неистовая душа.
Позже нашли дом на кривой горбатой улочке, постояли напротив его опрятных, недавно вымытых окон. Никто не выглянул, не вышел, но жизнь в доме слышалась: вот отодвинули стул, вот звякнула крышка чайника, вот заговорил телевизор. Бревенчатый, крепкий, до странности обыкновенный дом. На этой вот лужайке, под этими вот тополями и ветлами, она, возможно, выкурила прощальную самокрутку из махорочной пыли, нервными щепотями собранной по карманам. Старая, высохшая, с желтым костистым лицом, в нелепом длинном платье из крашеной мешковины, она смотрела на августовский день и устало, привычно мучилась пустотой: в ней не было больше слов, они не принуждали ее жить дальше… Слова ушли, и надо было уходить ей. Да и никому не нужны ее слова. Человек, называвшийся другом, собрат, чей дар так близок ей, отвернулся от ее горького, нищенского взгляда; коллеги, укрепившиеся в Чистополе, не пустили ее даже на порог — она приехала в Елабугу, все более смущаясь своей ненужностью. А сын ее, красивый, талантливый, самовлюбленный мальчик, не смог простить ей этого отвержения, этой поникшей седой головы, так гордо, непобедимо вскинутой в былых их несчастьях. Замолчал, заледенел, с презрительной вежливостью отстранил протянутую руку…
Я не судья ни другу, ни коллегам, ни сыну, но почему и через сорок с лишком лет над глухой елабужской улицей висит тяжелая, плотная тень той вины и обиды? Она давит и на мои плечи, и сколько ни пытаюсь выпрямиться, освободиться от нее, не получается. Проклятая, не моя, но вряд ли отпустит. Неси, стыдись, казнись, ибо такова твоя роль в давнем сражении возвышенного с низким.
В минувшее воскресенье был День учителя, и могила засыпана астрами, хризантемами, георгинами, гроздьями рябины — судя по запискам, приложенным к букетам, приходили девочки из педучилища. «Мы тебя любим, Марина. Оля и Таня», «Примите наш поклон, Марина. 3-й курс», «Мы всегда с тобой. К. Н.». Девочек, этих праздничных легкокрылых бабочек, потянуло к пламени костра, оставленного Цветаевой. Обжечь, опалить душу в огненном всплеске страсти, проникнуться ненавистью ее к многоликой пошлости, склонить голову перед волшебной прихотливостью ее голоса и грозной озонной свежестью слова… День учителя, день Цветаевой, дань мятежному духу ее.
Перед отъездом зашел к тете Нине.
— Что, нашла своего знакомого?
— Не помнит. Я, говорит, гору перекопал, одна лопата в глазах мелькает. Странный он стал какой-то.
— Неужели никакой зацепки больше?
— Ты когда уезжаешь?
— Сегодня.
— Попробую поспрашиваю у бывших соседей. Что узнаю, напишу. Когда теперь увидимся?
— Весной. Земля обсохнет, травы не будет. Вдруг да найду.
— Приедешь, не забывай старуху.
— Ну что ты, право…
II
Крупный и мокрый московский снег, съежившееся, слабое тельце декабрьского дня в ладонях сумерек (утренняя ладонь совсем уже сомкнулась с вечерней, и вот они баюкают, усыпляют толком не проснувшегося младенца), подолгу стоишь у окна, поддавшись краткости, серости, скуке, и вдруг — телефон, зычный, настойчивый звонок, отогнавший сонную хмурь и наполнивший сумерки тревогой.
— Здравствуй! Вадим Аксенов говорит. Помнишь? Да, я значительно старше, да, редко виделись. Давно ли я в Москве? Да лет тридцать. Как разыскал? Добрые люди помогли. Да, мать со мной живет. Приезжай, повидаемся. Когда? Сегодня и приезжай. Все, Жду.
Тридцать пять лет тому назад мы квартировали с матерью у Гараповых, по улице Розы Люксембург, уставленной старыми тополями и липами, а рядом, в собственном доме, жила моя первая учительница Софья Дмитриевна Аксенова. И было у нее четыре сына, четыре добра молодца — широкоплечие, русоволосые, голубоглазые, с белозубыми, неторопливо добрыми улыбками. Старший — Вячеслав — в младенчестве оглох и онемел, но беззвучная жизнь обострила его зрение — он не выпускал из рук карандаша: рисовал братьев, мать, соседей, нас, уличную мелюзгу, и тут же раздаривал эти рисунки. Он был страстный рыбак — возможно, на берегах Ика зрение отчасти возвращало ему слух: когда видишь (скажем, через окно), как гнется под ветром ивовый куст или как тихо завивается вода в омуте, кажется, слышишь прерывистое дыхание листьев и лопотание осторожных струй. Однажды мы — мальчишки с нашей улицы и с дружественной нам Конной площади — купались в полуденный зной на Ике. Посинев от ныряния и догонялок, счастливо лежали мы на горячем песке, и большие зеленые стрекозы замирали над нами, неутомимо трепещущими крыльями добавляя покоя и сладкой дремы. И тут затрещали, застреляли в тальнике сухие ветки — на берег выскочил распаренный, в изодранной рубахе, с дикими глазами Слава Аксенов, размахивая огромным, как секира, топором. Мы поползли к воде. Слава опередил нас и на мокром песке вырубил топором: «Украли лодку. Найду — убью…» Лодку Слава нашел в дальних камышах, убивать, к счастью, никого не пришлось. А потом он уехал в Ленинград, как говорила Софья Дмитриевна, учиться на художника.
Вадима помню в драном синем свитере, кепке-восьмиклинке с длинным козырьком и в причудливых кожаных перчатках, с огромными, жесткими, словно голенища сапог, раструбами — Вадим защищал, так сказать, честь мензелинского футбола на пыльном поле возле городского сада. Особой неукротимостью и азартом отличались игры с Елабугой — игроки пропадали в тучах пыли, и мяч летал над ними как бы сам по себе. Пыльный смерч, взвинченный яростными воплями, налетал на ворота Вадима, он широко раскидывал руки в уродливых перчатках-самоделках, принимал смерч в объятия и тоже пропадал в нем. Из сопящего, вопящего, клубящегося шара вырывалась сначала, проступала Вадимова улыбка (на чеширскую, разумеется, непохожая), белозубая, неторопливо добрая, а потом уж и сам Вадим — с мячом под мышкой. Мы кувыркались в траве за воротами, тузили друг друга от восторженной невозможности быть на месте Вадима или хотя бы быть замеченными им.
Младшие Аксеновы, близнецы Борис и Лев, учились в фельдшерско-акушерской школе, среди девчонок, и так изнемогали от их коварства, так за день отравлялись ядом ласковой, улыбчивой пристальности, что потом охотно гоняли с нами мяч и нет-нет да и атаманили в наших набегах на сады-огороды.
Пока добираюсь до Дубнинской, завязываю первый узелок: не забыть бы спросить у Софьи Дмитриевны о песне «Силуэт». А может, совсем другое у нее было имя? Ну да, Софья Дмитриевна напомнит, поправит, если путаю.
…Вижу ясный июльский вечер, трава уже потемнела — выдохнула влажный холодок, и он поплыл над улицей, над дворами, зябко прикасаясь к голым ногам и рукам, но идти в дом за рубашкой и брюками опасно — мать может больше не выпустить, ужаснувшись цыпкам, общей чумазости, — и мгновенно, до сердечной боли, укорить себя: «Запустила мальчишку, без отца совсем уличным стал». Тепло лишь на лавочке у ворот (греют плиты тротуара) и на крыльце — оно на южной стороне, и старые доски прогреваются так, что выжимают редкие смоляные капли, их интересно почему-то отколупывать и пришлепывать на колено. По соседскому двору ходят Лева и Борис, в тельняшках и самодельных клешах на широких ремнях с самодельными же пряжками-бляхами, утяжеленными якорями, сердцами, кинжалами до пудовой значительности. Одетые в соответствии с прихотливой мензелинской модой, братья гадали, где просверкать этими бляхами: в горсаду ли, на главной ли улице, именуемой в просторечии Невским? Кого ослепить? Пока братья гадали, однокурсницы их не мешкали: с розовыми, голубыми, изумрудными лентами в косах, с белыми квадратиками платков в жарких кулачках по двое и по трое приходили сдаваться к аксеновскому дому — фельдшерско-акушерская школа стояла почти напротив него. Борис, слабея сердцем, выходил за ворота и вскоре исчезал в зыбком жасминном июльском вечере. А Лева вдруг разувался и долго ходил босым по мокрой траве, словно остужал ноги, рвущиеся в горсад или на Невский. Потом поднимался на крыльцо, бормоча: «Нет уж. Спасибо. Никто мне не нужен», — и тут замечал меня у раздвинутых досок забора: «Все подсматриваешь? Нехорошо, тезка, — спохватывался, тряс головой: — Ты не мне тезка, экую ахинею несу. Ты нашему Славчику тезка. А кто же мне может быть тезкой? Не знаешь? Может быть, Тигран? Или Жираф Зебрович Бегемотов?» Лева улыбался, как все Аксеновы, добросовестной, неторопливой улыбкой. Она ничего не таила, не скрывала, не лукавила, не была мимолетной, сдержанной, а была широкой — во все зубы — и подтверждала, что жизнь — большая радость. «Ну, перелазь. Читать будем». И мы по очереди вслух читали удивительные книги: «Пещера капитана Немо» — о мальчишках, спасавших раненых партизан; «Зеленая цепочка» — о мальчишках, ловивших шпионов в блокадном Ленинграде; «Тайна профессора Бураго» — имевшая громоздкое, не поддающееся пересказу действие, воспалявшее головы, как сон с кошмарами и неживью, — где брал эти книги Лева, не знаю, но мне они более не попадались.
Но вот уже так темно, что строчек не видно, а видны Левины зубы, полоски на тельняшке, босую ступню, о которую трется кошка (сама ночь), и шерсть ее стреляет крупными, голубыми искрами. Лева раздобрился, не гонит спать, из сеней принес телогрейку, чтоб я согрелся и не икал.
«Про Робин Гуда рассказать?»
Замираю, предвкушаю — щеки немеют от мурашек. Но с моего крыльца зовет мать, велит идти домой, не полуночничать и волю не брать. Лева утешает: «Завтра расскажу. И лук сделаем, и стрелять научу».
Лук он, в самом деле, согнул из свежей ореховой ветки и две стрелы к нему выстрогал, но в тот же день я сломал лук, отнимая его у Генки Рылова, очень любившего чужие луки, рогатки, самокаты.
Софья Дмитриевна до плеча не доставала сыновьям, была почти девчоночьей стати, с молодым, ясным голосом, часто смеялась — даже сквозь стены дома пробивались заливистые колокольцы, и, казалось, за своей богатырской заставой она жила беззаботно и весело. Но в некий летний вечер она приходила к матери — покалякать, по выражению Софьи Дмитриевны, — на крыльце посидеть, как когда-то сиживали, до войны, и упереться вдруг замеревшим взглядом в небо над пожарной каланчой, где уже начиналась ночь — сгустилась до темно-синего, с перламутром по краям, недавно прозрачно-розовая плоть вечера.
Они пели, наверное, и шульженковские, и юрьевские, и «Рябину», но осталась у меня от того времени одна строка: «Вот скрылся родной силуэт», а другие строки этой песни не помню. А строку с «силуэтом» не то чтобы слышу до сих пор, но вижу, как мать и Софья Дмитриевна с негромкою растерянностью вздыхали, прежде чем произнести ее, и тоже негромко, с певучим покорством повторяли ее и смолкали — силуэт растворился в этом полном покоя и ясности вечере. Поднималась с маленького — в три доски — крыльца такая просторная вдовья тоска, что только-только хватало ей места в небе над пожарной каланчой, над крепкой стеной бывшего женского монастыря, где теперь была станция юннатов, над богатырскими плечами сыновей. Долго еще я считал слово «силуэт» самым грустным словом.
III
Второй узелок пора завязывать: помнит ли Софья Дмитриевна двух старушек, бывших монашек, домовничавших со мной? Как их звали? Что за знаменитый клей варили, что весь город и окрестные деревни приносили к ним склеивать посуду, тарелки, вазы, старинные сахарницы и печенницы?
В третье или четвертое послевоенное лето мы плыли с матерью из Перми в Горький на пароходе. Отдыхали, хотя мне отдыхать было рановато. Пароход был населен одними вдовами и ребятишками, как будто выполнял специальный рейс… Много было мальчишек, лихих, быстроглазых, быстроруких. Мы умели плавать, нырять, прыгать с высоких заборов и обрывов, когда тебя вот-вот схватит караульная, злая до исступления собака. Мы могли срезать супонь с лошади, пока хозяин обмывал обновы в Доме колхозника — нам, видите ли, нравилось прикручивать сыромятными ремнями коньки к пестрым татарским валенкам. Мы могли… — впрочем, базарный люд на пристанях сразу понимал, что мы можем многое, нас гнали от рядов и прилавков, но мы с цыганской невозмутимостью приценялись-торговались, горстями ухватывая на пробу семечки и орехи.
И плыла с нами девушка Лара, белолицая, чернобровая, со склонностью к дородности — проглядывала уже большая, цветущая и пышная женщина в тогдашних бутонных упругих округлостях. Вдовы, не старые, в общем, женщины, с изможденными за войну чувствами, с усталыми лицами, переговаривались: «Скажите, как быстро раны затягиваются. Три года не воюем, а уже какие невесты появились. Восстанавливаемся, слава богу». Мы же, мальчишки, конечно, все (от шестилетнего золотушного Костика до усатого, угрюмого, сутулого подростка Вити) влюбились в Лару и в изъявлениях любви были настойчивы и не очень изобретательны. Костик просто не отходил от нее, позволял Ларе вытирать нос, без обычного рева глотал из Лариных рук рыбий жир; Витя пробирался на капитанский мостик и летел оттуда неуклюжей, несуразной «ласточкой», шмякаясь о камскую волну животом — потом его ругал капитан, мать влепляла затрещину, а Лара говорила, равнодушно улыбаясь: «Ты очень смелый, Витя. Молодец». Одним словом, мы лезли туда, куда нас не просили, хохотали тогда, когда все хмурились, тупо и натужно боролись друг с другом, орали, визжали — Лара улыбалась с вежливым безразличием, но мы принимали его за поощрительное внимание.
Она прогуливалась по палубе, подолгу стояла на носу, с долею картинности опершись на перила: подбородок поддерживала жеманно сложенной щепотью, а безымянный с мизинцем были при этом чуть на отлете; каштановые волосы разделял ровный пробор, косы сплетались на затылке в отливающую орехом корзину — милая была головка, и профиль — чистый — украшение, радость и смысл этого ветреного, скучного простора. Лара, говоря с нами, улыбаясь нам, никогда на нас не смотрела. Ее карие, со смородинно-вишневым туманцем глаза все кого-то искали на камских берегах, среди сосновых боров — сквозняки из них добирались до палубы, принося знойный дух разомлевшей земляники. Лара так пристально вглядывалась в пристанские толпы, что усталой, томительной влагой подергивались глаза.
И Лара дождалась, высмотрела, вызвала силой томления из лесных глубин молодого человека по имени Миша — он сел на наш пароход то ли в Дербешке, то ли в Красном бору. Миша был рыж, неказист, тщедушен, но зато молод, очень серьезен и ехал на Горьковский автозавод с дипломом инженера, отгостив у родителей положенные дни.
Лара отказалась от своих лунатически рассеянных прогулок, сердечнее стала с матерью (то шаль принесет: «Мама, на палубе очень свежо», то с грустной улыбкой спросит: «Ты не устала?»), переменилась и к нам — мы вдруг обрели заботливую старшую сестру, все видевшую («Витя, не сутулься, пожалуйста. Хочешь, чтоб вся жизнь сутулая была?»), все помнившую («Коля, пора. Неси задачник. Неси, неси, не замирай. Второгодником захотел стать?»).
Вскоре Миша — вроде золотушного Костика — ни на шаг не отходил от Лары, увлеченный вихрем ее добродетелей. Она же с какой-то изощренною изобретательностью, на дню по сто раз, находила в Мише видимые, а чаще всего невидимые достоинства и оплетала его, кутала в старинную, сказочной прочности, прельстительную сеть. «Миша, вы утром насмешничали над чувствами. Я по-прежнему не согласна с вами, но вот подумала и оценила ваше остроумие», «Миша, вы редкий человек. Вы о сложном умеете говорить просто».
А наши матери превратились с появлением Миши в добровольных свах, своден, в этакую заблаговременную, коллективную тещу, с горькой бесцеремонностью и страстью взявшуюся устраивать счастье единственной дочери. Теперь пароходная жизнь подчинилась новому уставу: пригожа ли сегодня Ларочка и хорош ли с ней Мишенька, внимателен ли, заботлив, не переступает ли он черту, за которой жених становится хамом, не слишком ли доверчиво и опрометчиво ведет себя Ларочка, надевая такое открытое платье, не рано ли позволяет брать ее под руку — кто знает, что у этого Миши на уме? Вдовы, матери наши, теперь не замечали прекрасных июльских берегов, лениво-сонно дышащей Камы, устланной медными отсветами сосен и зеленой тенью лугов, налившихся пчелиным гулом. Теперь они, со сладким неслышным стоном припомнив свое предсвадебье, свое предвыданье, свою знобящую, праздничную растерянность перед днями вдвоем, когда испуганным шепотом признавались подруге: «Я просто ненормальная стала», они теперь говорили друг другу: «Конечно, Ларочка, останется в Горьком. Подыщут комнату, Васса Тимофеевна ее подождет. Потом поедет за приданым. Ну, какое-то же есть. Постель, ложки-чашки. Васса Тимофеевна — бережливая женщина. А и нет, так — хорошо». Или: «Все-таки бессовестный этот Миша. Ларочка сердце не жалеет — то бледнеет, то краснеет. Скоро в обморок будет падать. Глубоко чувствует. А ему все хиханьки, шуточки — сойдет в Горьком и вдруг только ручкой помашет?»
Мы, включая шестилетнего золотушного Костика, ненавидели Мишу. Он развеял волшебный воздух, окружавший Лару, а точнее, разбил нечто прозрачное, сияющее, порою переходящее в радушно-дымчатое, и в этом нечто жила Лара, холодно, может быть презрительно улыбавшаяся нам, и от этой улыбки было так мучительно, так больно, что, в самом деле, хотелось нырнуть в Каму с капитанского мостика.
Правда, с появлением Миши нам стало почему-то интересно и смешно смотреть, как он брал Лару под руку и они отправлялись в бесконечное кружение по пароходу, как неудобно, тесно и жарко так ходить, думали мы, как смешно и глупо. А когда мы подсмотрели, как под белой лестницей Миша соединяет свои толстые веснушчатые губы с розовыми лепестками Лариных губ, мы дико и как-то кашляюще захохотали и хохотали потом до икоты, убежав на корму. Миша не нырял, не плавал, он заменил возле Лары безотлучного прежде Костика, которому никто теперь не вытирал носа, и Костик с развешенными «проводами» следил за движениями Лары и Миши из какого-нибудь укромного угла. Все, все разрушил Миша и отравил. И мы придумали ему месть.
Завязываю третий узелок: помнит ли Софья Дмитриевна колоски? Помнит ли осень сорок пятого? Почему у нее так плохо держались очки? Можно же было веревочкой укрепить.
В Курье, маленькой деревушке, заросшей на берегу малиной и ежевикой, дебаркадера не было, трап — толстую, широкую доску — перекинули чуть ли не к ногам старух, торговавших горячей картошкой, огурцами и ежевикой разного колера, от сизо-синей до красновато-коричневой. Почему-то на всех пристанях ягоду насыпали в плотные, бумажные фунтики, свернутые из страниц «Географии» и «Родной речи» — казалось, по всей Каме отказались от этих книг.
Миша шел по трапу с фунтиком в вытянутой руке — нес Ларочке приз, награду за намечающиеся успехи в личной жизни, а она с тихой, ждущей улыбкой прислонилась к борту. И тут на трап влетели мы. С разгону, будто бы не в силах притормозить, налетели на Мишу и с визгом, ором, мяуканьем врезались в желтый омут у курьинского берега. Миша врезался вместе с нами, но не вынырнул — он не умел плавать, и сизые ежевичины, и пустой фунтик грустно закачались над его головой. Лара закричала так трубно и мощно, что могла потягаться с пароходным гудком, капитан швырнул спасательный круг, два перепуганных матроса-мальчишки торопливо раздевались в проеме на нижней палубе — жалко было окунать новую робу. Мы дружно нырнули за Мишей.
Вскоре его вытащили на берег, откачали, и он, ошалев, сел и слегка проехался на мокрой глине, рыже-зеленый, с дикой бездумью в глазах. Окрепнув разумом, слабо поднял руку и помахал Ларе — она опять закричала, затопала ногами, ее увели в каюту.
Вечером на пароходе была свадьба — Лара и Миша решили, что искушать судьбу поодиночке больше не стоит. Наши матери так старательно наряжались на эту свадьбу, так тщательно пудрились и подкрашивались, что могли показаться невестами. Как в войну пили пустой чай «вприглядку» (поглядывая на крошки сахара), так и сейчас собирались всласть насмотреться на чужое счастье.
Нас же они закрыли по каютам, чтобы, так сказать, не путались под ногами и отдохнули бы несколько от озорства и дури.
Вот и дом на Дубнинской, где живет моя первая учительница. С каким-то гулким стеснением работает вспомнившее сердце.
В начальных школьных днях вижу Софью Дмитриевну, окруженную нашим восторженным подчинением, этакою полною радостной безропотностью, — удивительно было впервые испытывать власть знания, каждый школьный час незамедлительно подтверждал: ты стал грамотнее, умнее, впервые твоя буква вышла похожей на букву, написанную рукой Софьи Дмитриевны, впервые ты сам прочитал и понял: «Буря мглою небо кроет…» — и вспомнил, что видел такую бурю в тот день, когда мать уезжала в командировку в Казань, и впервые, еще смутно, соотнес прочитанную строку со своими переживаниями… И ко всему этому приучила, приобщила, притягивала маленькой рукой Софья Дмитриевна. Какие у нее получались красивые и ясные буквы, как она неторопливо и понятно говорила — мы верили тогда, что Софья Дмитриевна знает все, и эта языческая, безоговорочная вера, должно быть, проявлялась забавно и даже смешно. Я видел однажды, как на перемене, отвернувшись к окну, Софья Дмитриевна смеялась — беспечно, взахлеб, думая, что ее никто не видит. Наверное, так насмешили ее наши бесконечные вопросы, а может быть, и наши ответы.
В сентябре сорок пятого наш первый класс собирал колоски на колхозном поле. Через плечо каждого из нас была надета холщовая сума, в нее мы и собирали редкие, вбитые дождями в землю колоски. Набрав суму, шли в центр поля и высыпали колоски на выгоревший брезент. Софья Дмитриевна была очень близорука и, стоя на коленях, низко наклонялась к земле, высматривая, выискивая щупленький, желтый хвостик, и от низкого наклона очки падали в стерню. Софья Дмитриевна нашаривала их, нацепляла на нос, некоторое время придерживала левой рукой, но, забывшись, снова роняла в стерню и тем не менее свою суму наполняла первой.
Через много лет в Хакасской степи, ночью, я вспомню Софью Дмитриевну, на коленях собирающую колоски. В ту целинную осень я стоял на копнителе, ночи были глухие, теплые, комбайн, бессонно вытаращив фары, полз и полз, укачивая до летучих — сладкими вспышками — снов. И вдруг остановился. Комбайнер Иван Алексеевич, жилистый, немногословный мужик, приказал:
— Давай, студент, с вилами вперед. Валок неправильно уложен — колосьями встречь нам. Иди и разворачивай, а мы потихоньку за тобой.
Начал я хватко, но быстро выдохся, вилы показались чугунными — забросил их в копнитель. Прохладные, с дымком соломенной дневной пыли, охапки колосьев были так легки и послушны, что я пожалел, что раньше не бросил вилы. Но я все труднее и труднее разгибался, все чаще окунал потное лицо в прохладную солому, все жестче и больней кололись колоски, и было похоже, что валок никогда не кончится, и я упаду в него, действительно подстелив соломки.
И вспомнил Софью Дмитриевну, как приговаривала она, ища очки: «Ах ты, батюшки, озорники какие», а высыпая из сумы на брезент, обязательно присоединяла поговорку: «У кого колос, у того и голос…» Пока вспоминал Софью Дмитриевну, тут и до последней охапки добрался.
Дверь открыл Вадим — узнать его можно было; слава богу, и улыбался своими зубами, и печать аксеновской доброты и открытости сохранилась на пожившем лице.
— Как раз к пельменям угодил. Проходи. Я тебя тоже узнал. Ну, как?.. Как мензелинец мензелинца? Матери я сказал, что ты придешь. Может, вспомнит. Все-таки жизнь назад ты у нее учился.
В комнате я подошел к старушке в черном. У нее было отстраненное, застывшее лицо, как у человека, погруженного в некое печальное и настойчивое самопрослушивание. Блеклая седина с коричневатой тусклостью.
— Здравствуйте, Софья Дмитриевна, — поклонился я.
— Здравствуйте, — сухо, неузнающе ответила она.
За столом мы сидели рядом. Софья Дмитриевна ела неохотно и мало, и, если бы не уговоры невестки Алевтины, жены Вадима, она бы не попробовала замечательных «тройных» пельменей и курника — мензелинского сдобного пирога, набитого разным мясом.
Неожиданно спросила:
— Как здоровье вашей мамы? — выслушала, опять замкнулась, как-то важно выпрямившись, принялась за чай — показалось, она плохо слышала меня, слова, по-моему, уже не задевали ее, а покружив вокруг головы, растворялись в ее значительном молчании. Она уже научилась останавливать слова на расстоянии, пока они не остынут от горечи, тревоги, раздражения. Но Софья Дмитриевна слышала.
— Мне восемьдесят четыре. Тяжело, нехорошо, — и опять важно замолчала.
Вадим рассказывал, как он жил. Вот Алевтина. Приехала учительствовать в Мензелинск после института, через три года собралась домой, в Москву.
— А у нас чувство в разгаре. Решили свадьбу сыграть в Москве. Прибыл на Казанский вокзал — никто меня не встречает. Дождался пустого перрона, уселся на чемодан, огляделся — странное, скажу тебе, чувство появилось. Вроде бы все это снится, вроде бы все это не всерьез, и тем не менее так называемый червяк сомнения очень больно и тоскливо вгрызся в сердце. Погрыз он меня, погрыз, смотрю, Алевтина идет. То ли что-то перепутала, то ли последние колебания отбрасывала. С тех пор и москвич. Учителем рисования, в профессионально-техническом училище. Столяры-краснодеревщики от нас выходят. Борис в Нефтекамске живет. Уже на пенсии — он рентгенологом был. Слава в Ленинграде. Художник. А Левы нет. Умер.
Так захотелось ахнуть, поскорбеть в голос с жалкими, невзрачными междометиями — еле удержался. Как он звонко читал на далеком крыльце, какую честную компанию собирал вокруг: отважные, нежные, милые люди населяли книги, читанные им. И я там был, на том крыльце, и помню, к несчастью, Леву живого.
Софья Дмитриевна строго покашляла-погмыкала, привлекая мое внимание.
— Серазитдинов очень шалил. Просто хулиган был. — Смутно припомнил Серазитдинова. Софья Дмитриевна пристально рассматривала меня выцветшими голубыми глазами, точнее сказать, льдисто усталыми. У нее не накопилось новых воспоминаний, и она повторила:
— Как чувствует себя ваша мама?
— Не говорите мне «вы», Софья Дмитриевна!
— Да? Странно. Почему? — И она отвернулась.
Вадим показывал свои рисунки, акварели, пейзажи, собранные из разных пород дерева, показывал давние портреты, писанные Славой.
— Узнаешь?
На портрете была молодая Софья Дмитриевна, с яркими голубыми глазами, с мягкой и грустной улыбкой, с льняными, шелково стекающими волосами.
— Он висел у вас в зале, над круглым столом?
— Правильно.
— А у Софьи Дмитриевны была балалайка, и она плясала и пела, когда приходили гости.
— Правильно! И сейчас балалайка есть. — Вадим оживился, чуть ли не побежал в другую комнату, вынес балалайку, протянул Софье Дмитриевне:
— Пожалуйста, сыграй.
Она без улыбки взяла балалайку, привычно устроила на коленях:
— «Светит месяц, светит ясный…» — пела Софья Дмитриевна дребезжаще, негромко, вероятно, с трудом слыша себя, но как пронзительно и грустно было ее пение. Положила балалайку на стол:
— Устала. Хватит.
Невестка Алевтина отвела ее на диван.
Вадим раскрыл очередную папку с рисунками и акварелями:
— А это узнаешь?
Акварель изображала Крестовоздвиженскую церковь в Иркутске. Белая, строгая, высоко вознесенная над Ангарой, как бы очищаемая постоянно легким ветерком, взбегающим от берега — сколько слов, сколько лиц, сколько прозрачных дней запомнил я, многие годы кружа у Крестовоздвиженского холма.
— Когда ты там был?!
— Лет пять тому. Искал тебя в Иркутске, но поздно было. Хорошо я там порисовал.
Первая моя учительница, в черном платье, трогательно нахохлившись, закрыв глаза, дремала на диване; Крестовоздвиженская церковь в Иркутске нежно и робко проступала на акварели, напоминая о лучших годах; Вадим смотрел дружелюбно и даже родственно, так сказать, голубыми глазами детства — удивительно, как Москва разъединяет, сводит, переплетает наши судьбы, как ведет нас по той или иной улице в благосклонный к нам вечер.



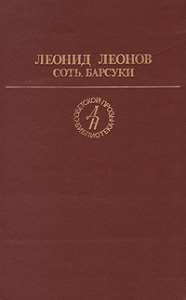



Комментарии к книге «Русская Венера», Вячеслав Максимович Шугаев
Всего 0 комментариев