ОХОТНИЧЬИ БЫЛИ Рассказы об охотниках и рыбаках
А. Толстиков ОХОТНИЧЬИ РАДОСТИ
Доброе ружье
Последний раз в этом сезоне я ходил на охоту в конце ноября. В лесу снегу уже до колен. Километр пройдешь — пар от тебя клубами валит. Под елкой станешь пролезать — за ворот снегу насыплется — сразу прохладно станет. Так вот и бросает то в жар, то в холод. А в лесу пустынно, невесело. Набрел на заячий след.
Долго распутывал хитрости беляка. Подошел к нему вплотную, но он заметил меня прежде, чем я его. Мне-то его и видеть совсем не пришлось, я только лёжкой его полюбовался. А он в то время от меня, может, за километр был… Может, и ближе, кто знает…
Нет, кончились веселые деньки. Ружье теперь на гвоздик. Да, на пять месяцев лишаешься этого удовольствия, этой радости — охоты. Пять месяцев вычеркивает уральская зима из жизни охотника. Да летом три месяца межсезонья. Ну, тогда хоть рыбалкой заняться можно. Все же не так обидно.
Неужели без выстрела уходить с последней охоты? Но в кого стрелять? Э, было бы желание, а стрелять найдешь во что. Прикрепляю к стволу спичечную коробку, старательно отсчитываю сорок шагов — это с гарантией сорок метров. Прицеливаюсь… Бах! Резкий толчок отдачи. Когда по птице или по зверю стреляешь, отдача незаметна, а тут встряхивает основательно. Подхожу к коробке совсем не равнодушно.
— Гм-м!.. Доброе у меня ружье. За сорок метров в спичечную коробку три дробины третьего номера из левого ствола…
Довольный возвращаюсь домой и старательно чищу ружье. И всю зиму оно блестит у меня, как зеркало. Радостно в руки взять.
Гончак
Билет на рубку сухостоя был взят еще летом, а дрова заготовлять пришлось уже в конце октября. Брату долго нездоровилось, а одному такая работа несподручна. Вот и затянулось это дело.
В лес, а он рядом, вышли раненько. Взяли пилу, топор и ружья, кликнули своего костромича Лорда. Мать ворчала, дескать, пробегаете с ружьями по лесу, на работу пошли, так зачем ружья брать. Но как же можно пойти в лес без ружья? Мы решили, что свалим, раскряжуем и сложим восемь кубометров, поторопимся, а вечерком, время останется — зайчишек погоняем.
Лорда вели на поводке, а придя на место, привязали к дереву. Его отпусти — он зайца найдет, гонять будет и нас сманит. Ведь не утерпишь, слыша гон. «Работать надо», — строго говорили мы с братом друг другу.
Одно за другим с треском падали умершие на корню деревья. Работаем, а сами на Лорда поглядываем. Он недоволен, скулит, взвизгивает:
— Тоже мне! В лес привели, да привязали. Нечего сказать, хороши. Пустите! Ну пустите же!
Обиженными глазами на нас смотрит. Мы ему сочувствуем, но пытаемся объяснить положение:
— Пойми ты, глупый пес, зима приближается, зима. Дров нужно заготовить. А то замерзнем. Знаешь русскую пословицу: делу — время, а потехе — час. Потерпи, песик, потерпи, милый. Вот закончим — тогда…
Лорд ничего не хотел понимать. Его недовольство перерастало в возмущение, он начал рваться. Мы пригрозили ему. Он притих.
Пятнадцать деревьев свалили. Пожалуй, хватит. Вдруг слышим: «Бам! Бам! Бам!» — громкий собачий лай в лесу. Глянули — а Лорда нет. Порвал поводок? Нет, перекусил! Улизнул незаметно и вот уже гоняет. Ах, негодяй! Ругаем его, а сами слушаем гон как музыку, наслаждаемся. И самим вместе с Лордом за зайцем бегать хочется.
Однако делу — время, а потехе — час. Я обрубаю сучья, брат стаскивает их в кучу. Топор птицей летает у меня в руках. Еще бы! Я слышу такие призывы. Поторапливаемся. Хлысты разделали на двухметровые кряжи. Сейчас их надо в штабель сложить, а из лесу несется: «Бам! Бам! Бам!» Вот уж часа три гоняет. Молодец, Лорд, молодец! Прошло еще часа три, пока мы управились. Лорд зайца не бросил, не потерял. По голосу слышно. — устал он. Заяц, наверное, еле дышит. Да и or нас пар валит. Но мы усталости не ощущаем. Схватили, наконец, ружья — и туда, где наш Лорд.
Через полчаса я увидел косого, перебегавшего поляну. На этой поляне он и успокоился. Тут Лорд выскочил, язык у него почти до земли высунут.
— Милый, ты мой, милый! На вот тебе пазанки. Умаялся, бедняжка.
Подошел брат.
— Ну, теперь домой. Время уже позднее. Дело сделано и потешились.
Куда там! Как только сказали: «Домой», — Лорд отпрыгнул и, оглядываясь, трусцой отправился в лес. И снова скоро заголосил.
Этого зайца перехватили уже в сумерках. Лорда поймали и взяли на поводок, иначе он всю ночь по лесу рыскать будет. Уж такая собака этот Лорд, радость наша!
Рождение дня
Первым проснулся журавль на болоте. Нацелился острым клювом на мерцающие в темном небе звезды и звонко крикнул, как в серебряную трубу сыграл: «Подъем!».
Над спящим еще лесом, невидимые, потянули вальдшнепы. «Хорр… Хорр… Цвик!». Пролетели близ высоченной сосны, что стоит на опушке леса. Старый глухарь, бородатый, от дремоты очнулся, потоптался на толстом суку, хвост распахнул веером и щелкнул, будто сухой сучок переломил.
— Чу-фышш, — раздалось на поляне в березняке. Это косач-драчун на поединок соперников вызывает.
Жаворонок над полем поднимается все выше, звенит оттуда бубенчиком:
— Вижу, вижу солнце. Там оно — за лесом, за горой, к нам спешит. К нам, к нам! Радуйтесь, вставайте, вставайте, пойте…
А над дальним лесом только еще светлая полоска появилась. Она всползает на небосвод, от ее тепла тают звезды, тьма отодвигается.
Вот и огненный лоб солнца из-за горизонта высунулся. Возликовали все малые птахи, как будто это чудо, как будто они впервые видят солнце.
Это и в самом деле чудесное явление. Его стоит видеть.
Охотники уже тем богаче других людей, что они часто видят, как солнце встает, как день рождается.
Открытие
«А схожу-ка в этот выходной на Черную. Весной там чирки держались, сейчас выводки должны быть», — сказал я себе после раздумий, куда пойти на охоту.
И я отправился на Черную. Это захламленная речушка, которая петляет по лесу и впадает в Вильву километрах в двенадцати от города. Шириной она метра четыре, в иных местах чуть больше. Есть на ней омутки или, как их здесь называют, — ямки. Летом Черную можно во многих местах перебрести даже в сапогах с короткими голенищами, а весной она полна до краев, бушует, подмывает берега. Много деревьев, сваленных ветром или подрытых водой, перехватило Черную с берега на берег. Сучья их упираются в дно, образуя, непролазную крепь. На лодке по Черной можно проплыть только с топором, прорубаясь сквозь такие изгороди.
Километров десять вверх от устья прошел я по Черной и не поднял ни одного чирка. Даже досадно стало: «Эх, — думаю, — пойти бы лучше на Белоусовские луга. Там, может, кого и увидел бы».
А чирки, оказывается, были и на Черной. Открыл я их случайно. Стал переходить на другой берег по сваленному дереву, на середине замешкался — мешали мне густые сучья. Стал отгибать один сучок — он сломался, треснул, звонко этак получилось. И начали прямо из-под меня один за другим чирята выпархивать — один, второй, третий. Пять штук вылетело. Я их только считаю. Стрелять нельзя — стою на дереве в трех метрах над водой, положение неустойчивое. Какая тут стрельба…
Выбрался на берег и к воде спустился, где сучья в дно упираются. Укромные там местечки.
— Так вот вы где, голубчики, прячетесь. Теперь знаю, — сказал я и пошел обратно. Там, где дерева через реку перехлестнуло, остановлюсь, к стрельбе изготовлюсь и крикну:
— Гей-гей! Спасайся!
Три выводка этак поднял, три дуплета сделал. Остался доволен.
А ведь я раньше мимо них проходил… Отсиживались. Видно, не первый раз.
Красивый выстрел
Ранним утром я шел по лесной дороге. Солнце пробивалось сквозь оголенный березняк, капельки ночного дождя, висевшие на ветках, сверкали, как искры. Задумчивая тишина придавила лес, потрепанный лихими осенними ветрами. Грусть по ушедшему лету разлита кругом, а в душе у меня бодрость — от этих искорок, от прохладного чистого воздуха. Ружье держу наготове в руках.
Дорога впереди круто поворачивает вправо. Там, за поворотом, раздается хлопанье крыльев тетеревов. Видно, заметили они меня или услышали. Поднялись. Два, слышу, понеслись к сухому болоту направо, а один — на меня, над дорогой. Вот он — выше леса, на фоне бледно-голубого неба — черный, с белыми подкрыльями, с лировидным хвостом, ладный, крепкий, стремительный. Сухо треснул выстрел. Косач прижал крылья, покорно и вместе с тем как-то горделиво закинул голову и грудью вперед, как прыгун в «ласточке», ринулся на землю. Гулко стукнулся у моих ног. Я сделал шаг, поднял его и долго любовался им.
Он и сейчас у меня перед глазами, ринувшийся с высоты.
На утином пути
Против Копалино Чусовая разделяется на два рукава. Между ними — остров Долгий. Длина его километров пять. Заостровки сливаются против деревни Вереино, что стоит на высоком левом берегу. Соединившись, река круто поворачивает влево и делает большую петлю. От мельницы, что стоит на берегу Чусовой в устье небольшой речушки Шушпанки, до слияния заостровок по прямой километра два, а по берегу — в десять не уложишься. По лугам в излучине много мелких озер. На них-то я и охотился, а ночевал у мельника.
Было начало октября. С севера дули холодные ветры. Раза три уже прорывался снег. Шла свиязь и чернеть. Тысячные табуны уток, клубясь, как черные тучи, неслись на юг, к теплу. Небольшие стайки иногда тянули низом. Некоторые летели над самой рекой, останавливались отдохнуть, кормились на озерах. Тут я их и встречал. Славная была у меня в тот год охота. Почти весь отпуск провел на этих лугах.
На реке не стрелял. Лодки нет: убьешь — не достанешь. Что за интерес? А на озерах каждая битая — твоя. Ветерком ее к берегу пригонит, а если в лопухах застрянет, карманного сеттера — шнурок в ход пустишь.
Потом я и озера обходить перестал. Заметил, что те стайки, которые идут низко над рекой, спрямляют изгиб — от слияния заостровок летят к Шушпанской мельнице над лугами. Им зря махать крыльями тоже не хочется, путь выбирают кратчайший. Правильно делают. Этим я и воспользовался.
В ста метрах от Чусовой, параллельно ей, прямо против мыса острова Долгого, протянулось узкое и мелкое озерко. Берег его со стороны реки чистый, низменный, а противоположный — повыше, заросший ивняком, черемушником. За этими кустами, на пути пролета уток я и вставал. Сквозь оголенные ветки мне было видно, как приближалась стайка. Я готовился и, когда она проносилась над головой или в стороне на расстоянии выстрела, делал дуплет. Сбитые падали на землю. Не уходил ни один подранок, и даже шнурок оказывался не нужен. Утром три-четыре дуплета сделаешь, вечером — пару, днем для разнообразия озера обойдешь. Одно удовольствие.
Стою как-то вечером на своем посту, покуриваю, зажав папиросу в кулак. Ветер поднялся, тучи густые набежали, стемнело быстро, уже не заметишь приближения стаи. А заранее не приготовишься — выстрелить не успеешь: утка несется быстрее ветра, просвистит крыльями над головой — поминай как звали. Уходить собрался. Вдруг стая стремительно плюхнулась на озеро. Сквозь ветер слышно, как утки плещутся на мели, урчат, хрюкают, чавкают. Проголодались, видать, сильно. Стал я продираться через кусты, вышел к воде, а уток не вижу — темень. Слышу только, они в конце озера собрались, кормятся. Выстрелил на их голоса. Со страшным шумом поднялась стая. Я стою и думаю: зацепил хоть одну или нет? И слышу кашель с озера раздался: как есть человек кашляет, этак приглушенно. Что такое? Бросился в конец озера. Еще одна утка поднялась. Подранок был, она и кашляла. Утке, должно быть, легкое пробило.
Два белых пятна на отмели заметил: это свиязи вверх брюшком плавали. Зацепил их палкой. А утром еще трех уток нашел на отмели. Плотно, значит, они сидели.
Весна
В субботу часов около семи я сел на пригородный поезд и через двадцать минут был у лысьвенского моста. Здесь нет ни станции, ни разъезда. Поезд останавливается у будки путевого обходчика, из него высаживаются колхозники, ездившие в город. Через минуту, нетерпеливо гукнув, пыхтящий паровоз потащил состав дальше, колхозники пошли направо, а я пошел через мост и двинулся влево, по берегу петляющей Лысьвы, до краев наполненной стремительной, бурной водой.
Воздух, теплый над полянами и прохладный под кронами прикрывающих тропку деревьев, был так свеж, как бывает только весной, когда земля сверху уже нагрета, но еще не дает испарений. Все солнечное тепло поглощается землей, и она оттаивает с каждым днем глубже и глубже.
Солнце еще высоко и неустанно делает свое дело — отогревает землю от зимней спячки, добирается до последних клочков снега, которые хоронятся по глухим местам, пробуждает соки в деревьях, греет корни трав, будоражит кровь птиц и зверей, которые каждый по-своему славят его.
На краю одной из полян тропку перебежал рябец. Хвост он растопырил веером, концы крыльев волочит по земле, голову склонил набок и, наплевав на все опасности, гонится за рябушкой. А она то остановится и глянет на него искоса, то засеменит ножками. Будет здесь по осени выводок, если эта парочка уцелеет. Только вряд ли. Очень уж они неосторожны. От весны совсем ошалели. Вот и заяц, белый, как ком снега, вылез на поляну, подставляет свои бока солнышку. Тоже одурь его одолела. Сидеть бы косому где-нибудь под елкой. Скворец на верхушке березы свистит и щелкает, дрожит весь от восторга. Где-то на другой поляне, в глубине леса, басовито бормочет тетерев. Над кустами ивняка суетливо носится чирок и беспокойно трюкает: чируху свою потерял. О врагах своих, о жизни своей забыли: голос будущей жизни звучит в каждом, оглушает.
Иду по берегу. Слева — река бурлит, справа — лес тихо дышит. За плечами ружье. Снимать его, поднимать грохот — не хочется. Прошел я километров пять. Видел селезня крякового. Далеконько, правда… Стрелять не стал. Косяк гусей, перекликаясь, пролетел надо мной. Высоко. Солнце садится. Надо подумать о ночлеге. Утро вечера мудренее. А весной не только мудренее, но и чудеснее.
Вот и место для ночлега. Здесь уже останавливался охотник. Может, неделю назад, может больше. На поляне под низко опущенными лапами старой ели, как под крышей, толстый мягкий тюфяк из сена, взятого где-то с остожья. Рядом с ним — два кряжа срубленного сухостойного дерева с обгоревшими концами. По другую сторону — плотный заспинник. Только передвинуть немного кряжи, зажечь нодью — и спи с комфортом. Спасибо тому охотнику, воспользуюсь его трудами.
Вскипятил чай, не торопясь пью его, посматриваю на языки пламени, которые лижут верхнее толстое бревно нодьи. Разгорелась она. От двух огромных тлеющих головешек жаром пышет. От этого тепла, от выпитого чая жарко стало. Снял телогрейку, подушку из нее сделал. Прилег. Хорошо! Лучше, чем дома. Эх, дай-ка разуюсь.
Когда уснул — не заметил. Босой, в одной гимнастерке. Сны снились радостные, а к утру увидел такой — иду с ружьем по тропке, по той самой, что вечером шел. На поляне, где заяц сидел, — пара медвежат бродит, ковыряются, на земле что-то ищут. А то встанут на дыбки, борются… «Ну, — думаю, — они тут не одни. Медведица где-то рядом. Она шуток не любит. А пуль с собой не взял. Не рассчитывал на такую встречу. Придется драпать тебе, охотник». Тоскливо мне стало. Тут и проснулся. Только открыл глаза, а солнце в них как брызнет! Оно уже над лесом стоит. Глянул на часы. Мать честная! Восемь! Хорошо, что медведица разбудила, а то проспал бы до обеда. Эх, охотничек!..
Грела нодья, грело солнышко. Я не скоро еще ушел с места ночлега. Поляна, вечером казавшаяся темной, сейчас зеленела. Острые зеленые иголочки пробивались сквозь прошлогоднюю пожухлую траву и упрямо тянулись вверх, навстречу теплу. Я жмурился, вдыхал едва уловимые запахи ранней весны, слушал ее звонкие ликующие голоса. Ружье лежало рядом.
А. Толстиков ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
Совет старого охотника
Свой первый охотничий сезон по уткам мне посчастливилось открывать с опытным охотником — дядей Егором. Книжек об охоте он не читал, а знал много. Сорок лет бродил он с ружьем по лесу, по лугам, смотрел, запоминал, вот и накопилось у него знаний о звере, о птице.
Задолго до восхода солнца вышли мы к Шундерским озерам, цепочкой растянувшимся по лугам. На берегах их — дубовые рощи. Вислоухая лохматая Дамка — дворняжка, которую дядя Егор не променял бы на гончака, если бы даже к нему в придачу давали двух сеттеров, — бежит впереди нас, прочерчивая на седой от росы отаве яркую зеленую полосу. Дамка утку с воды подает, зайца может гонять целый день, белку ищет, дом стережет. Что от нее еще нужно? «На все руки мастер» эта Дамка, хоть на вид и неказиста — бледно-рыжая, низкорослая.
У первого же озера Дамка громко залаяла, прыгая по берегу.
— Выводок, — спокойно сказал дядя Егор. — Посмотрим, какие? — И без всяких предосторожностей пошел прямо к собаке. Я за ним, удивляясь, что он не крадется. Как будто к домашним уткам идет. Штук десять небольших уточек, сбившись в плотную кучку, замерли на воде. Они видели нас, но не улетели.
— Чирята, — недовольно протянул он и обратился ко мне: — Ну, благословясь, пали.
— А ты, дядя Егор?
— А я не буду.
Грохнуло мое ружье. Как поднялись чирки и куда они скрылись — я не видел. Думал, что всю кучу так и прихлопнул.
— Ничего, трех штук подшиб, — заметил старый охотник. — Дамка, подай.
— А почему они не улетели, когда на них собака лаяла и когда они нас увидели? — спросил я.
— Дамку утка за лису, должно быть, принимает. А лисы, когда они на воде, утки не опасаются. Молодые-то, непуганые и человека не боятся. Что они о человеке знают?
Следующий выводок был из кряковых. Облаивания он не испугался, но как только увидел нас — поднялся с шумом и унесся, свистя крыльями.
— Вот тебе и молодые, непуганые, — сказал я.
— Если уж они тебе так понравились — садись вот тут в куст и жди. Только по одной не стреляй, сгрудятся — тогда.
— Неужели прилетят?
— Полчаса не пройдет — тут будут. А мы с Дамкой дальше пойдем. У Прорвы подождем тебя.
Я подумал, что мешаю дяде Егору и он хочет от меня избавиться. Напрасно обидел старика таким подозрением. Минут через двадцать выводок вернулся. Он сел на середину озера и осторожно стал подплывать к кусту, из-под которого был поднят. Не хватило у меня выдержки, не подпустил я уток близко, не дал сгрудиться. И все-таки взял пару с одного выстрела.
Потом я много раз проверял этот совет дяди Егора. Утиный выводок, если его подняли без выстрела, — всегда возвращается на то же место, откуда был вспугнут.
Замаскируйся, охотник, и жди. Ждать придется недолго.
Не корми ворон
Заяц пробегал поляну левым боком ко мне. Хотя расстояние было велико для обычного ружья, я выстрелил, зная, что ружье у меня лучше многих. Заяц, не сбавляя и не прибавляя хода, не меняя направления, пересек поляну и скрылся в мелколесье.
Заячья стежка — оказалась широко перечеркнута дробью, а на следу — ни кровинки. По всем признакам — чистейший промах.
«Как видно, обнесло, — сказал я себе. — На таком расстоянии это и не удивительно».
На том бы и дело кончилось, да решил я, сам не знаю почему, пройти по следу подальше. И был вознагражден — метров за двести от места, куда я стрелял, заяц лежал врастяжку на боку. Уже дома я установил — единственная попавшая в него дробинка пробила стенку сердца.
А он с пробитым сердцем сделал еще сотню прыжков, не подавая вида, что смертельно ранен.
Случалось также, что, провожая глазами утку после выстрела, который вначале казался промахом, я видел, как она замертво падала, отлетев сотню, другую метров, и находил ее.
Отсюда вывод: не упускай из вида дичь после выстрела, пройди по следу стреляного зверя, пока не убедишься, что выстрел был для него совершенно безвреден.
Не корми ворон.
Птичий разговор
Птицы говорят между собой. И отлично понимают друг друга…
Как-то в середине июля я ходил за грибами. Лето стояло дождливое, красноголовиков в мелком осиннике появилось множество. Быстро наполнил корзинку крепкими, пахнущими свежестью грибами. Возвращаюсь домой. На одной маленькой полянке, густо заросшей сочной лесной травой, у меня из-под ног молча вылетел дрозд, ткнулся в куст, притаился.
«Не иначе, как тут гнездо», — подумал я и начал искать его. Лишь только нагнулся и раздвинул траву, молчавшая дроздиха — это она слетела с гнезда — пронеслась над самой моей головой, суматошливо треща. Она уселась на осинку в трех шагах от меня, беспокойно прыгала с ветки на ветку, без умолку кричала.
Конечно, рядом гнездо. Дроздиха старается отвлечь на себя мое внимание, увести от птенцов, хочет, чтоб я попытался поймать ее. А вот и гнездо. Его до краев заполнили четыре полуоперившихся дрозденка. Четыре пары темных бусинок глаз глядят на меня. Дроздиха совсем с ума сходит, мечется у меня над головой, кричит в отчаяньи:
— Чок-чок-чок! Чок-чок-чок! Беда! Беда! Он их увидел! Бедные мои крошки! Беда!
Вдруг из куста невидимый мне дрозд-отец спокойно сказал:
— Чок!.. Чок!.. Дети, тихо!.. Не шевелитесь!..
Дроздята, как по команде, закрыли глаза, замерли, слились с гнездом. Кочка, на кочке пучок прошлогодней травы, — больше ничего нет. Ловко прячутся. Рядом пройдешь, смотреть на них будешь — не увидишь.
Взял одного в руки. Что будет? Дроздиха заголосила истошно:
— Чок! Чок-чок! Чок! Чок-чок! Чок! Чок-чок! Спасите! Спасите! Спасите!
Вылетел из куста и папаша-дрозд, уселся на вершинку дерева, крикнул:
— Т-р-р! Чок-чок! Тр-тр-р! На помощь! На помощь!
И налетела стая дроздов. Поднялся такой треск, гвалт и писк, что в ушах у меня зазвенело. Орут.
— Безобразие! Разбой! Когда это прекратится?
Я положил дрозденка обратно в гнездо. Шум немного утих. Слышу, отец-дрозд советует:
— Сынок, тебя обнаружили. Попытайся сбежать, иначе пропадешь.
Мой дрозденок вскочил и кинулся в траву. Я его поймал и водворил на место. А остальные прикорнули, будто и нет их.
Дрозд опять советует:
— Не так, сынок, ты вначале притворись, что тебя нет, а потом прыг — и в траву. Только быстро.
Дроздиха совсем голову потеряла, на дрозда кричит:
— Ах, ничего ты не понимаешь! Он должен сидеть! Нет, бежать! Нет, сидеть! Ах! Ах! Ах!
Дрозденок притих, глаза закрыл.
Стая успокоилась.
Вдруг дрозденок — прыг из гнезда. Едва успел поймать его.
Снова гвалт поднялся. Кричат, ругают меня. Положил беглеца в гнездо. Все утихло. Опять голос дрозда раздался:
— Дети, вы двое сразу да в разные стороны. Тогда он не поймает.
Выскочили два дрозденка, один налево бросился, другой — направо. А дроздиха крылом меня чуть не по носу чиркнула. Поймал обоих. Они запищали. Ох и шум тут начался. Ну, думаю, хватит их мучить, посажу в гнездо и отойду подальше, а потом посмотрю, что будет.
Только я пять шагов сделал, как дроздиха к гнезду кинулась, заголосила:
— За мной! Милые! Быстрее! Быстрее! Он еще тут! Близко! Быстрее!
Через минуту все стихло. Я вернулся. Гнездо было пусто. Поискал кругом в кустах — никого не нашел, конечно. Да разве их найдешь, когда они запрячутся…
Плач березы
Казалось, косач бормочет и чуфыкает совсем рядом. Но я прошел уже с километр, а он все еще где-то впереди. В безветренное раннее утро звуки разносятся далеко.
Иду не торопясь, не даю воли ногам. Если им позволить — они так потащат, что оглянуться не успеешь, как мимо косача проскочишь. Вот он, за той грядкой березняка. Там, где большая береза стоит. Там поляна. Я ее знаю. На той поляне и пляшет тетерев. Я его не вижу, но сейчас знаю — он там.
Я не успел еще выбраться на поляну, как косач заметил меня. Он замолк — и замер, как обгорелый пенек. Долго мы стояли не шевелясь. Меня утомила неподвижность. Я перенес тяжесть тела на одну ногу. Хрустнула веточка под каблуком. Косач с громом поднялся и начал набирать высоту. Я увидел его мелькающим в просветах между вершин голых березок. Вот он поравнялся со старой березой, уныло опустившей пряди своих ветвей. После выстрела я прыжком выскочил на поляну. Вижу — черная птица, мелькая белым подхвостьем, бьется под березой.
Рассматриваю свою добычу — краснобрового красавца, с перьями, отливающими на груди вороненой сталью. Он и мертвый еще не остыл от своей любовной песни — перья на шее стоят торчком, и она кажется могучей.
Вдруг крупная капля звонко ударила в кисть руки. Рядом со мной на землю посыпались капли одна за другой. Дождь? Откуда? Небо чисто, голубизна его прозрачна. А сверху каплет и каплет.
Заметил, что эта капель только под березой, где я стою. Внимательно посмотрел на нее, понял: дробь зацепила и дерево.
И вот плачет береза, оплакивает птицу, которую кормила плотью своей, которая не раз пела на ней песню весны, жизни.
А. Толстиков НА ПОДКОВЕ
Проснулся я от холода задолго до рассвета. Вечер накануне был теплый, и я прилег у основания стога, прижавшись к нему спиной, чуть прикрыв себя, как тонким одеялом, слоем душистого свежего сена. Тяжелый туман, поднявшийся ночью с озера, пропитал сено, мою легкую одежду, студил тело. Холодновато бывает перед рассветом в конце августа. Передергивая плечами, вылез из своей норы, потопал плохо гнущимися ногами, помахал руками, стараясь шлепнуть правой ладонью по левой лопатке, а левой ладонью по правой лопатке. Немного согрелся, сбегал до ближайшего куста, набрал там сухих веток и развел маленький костерчик. Костерчик мой в пригоршни взять бы можно, и все-таки тепло от него ощутимое и веселее с ним. Подкармливаю огонек хрустящими ветками ивняка, жду рассвета. Над головой в непроглядном тумане изредка просвистят утиные крылья, с озера донесется спокойное «кря-кря…» Сердце от этих звуков начинает биться как-то по особому — вкрадчиво.
Озеро согнулось огромной подковой. Его так и называют. Между концами ее — километр. Я в центре этой подковы, в кустах. Она — рядом, но ее не видно.
Становится светло, хочется взять ружье и пойти на берег, где щетинятся густые заросли хвоща. Сдерживаю себя, знаю — бесполезно начинать охоту, когда луга будто молоком залиты вровень с верхушками деревьев. До стога вот пять шагов, а он выглядит серой размытой тенью. Уток не увидишь, только распугаешь.
Ветерок бы поднялся, что ли, разодрал бы туман в клочья и унес подальше. Но ветра нет. Остается ждать солнца. Оно поднимется и растопит эту белую пелену.
Вот и солнце наконец-то выкатилось из-за невидимого горизонта, расплывчатым ярким пятном просвечивает сквозь белую муть. Выше, выше стало взбираться на небо. Редеет туман. Пора!..
Затоптал костер. Иду бесшумными шагами возле озера, руки не ощущают тяжести двустволки. Что же тут удивительного? Человек не ощущает ведь тяжести своих рук. Вдоль берега метров на двадцать в ширину — щетка остроконечного хвоща и осоки. За ней — зеркало озера. Утки — на кромке зарослей или снуют в них, бесшумно раздвигая гибкие стебли. Видимость еще плохая, колебания задетых ими растений заметить невозможно. Время от времени, насколько мне позволяют сапоги, захожу в заросль, надеясь поднять на крыло крякушку или чирка. Вот счастье улыбнулось мне — с небольшого оконца тяжело поднялась, громко хлопая крыльями, ржаво-серая утка. После выстрела она кувыркнулась в осоку. Пришлось разуваться и снимать штаны. Минут пять, а может, и десять, не чувствовал холодного ила, в котором ноги вязли до колен, холода воды, в которой бродил почти до пояса. Приминал осоку, присматривался, прислушивался. Здесь вот утка упала, вот выбитые дробью перья. А где она сама? Попробуй найди ее, если она коснулась воды хотя бы чуть живая. Окоченевший вылез на берег и долго растирал замерзшие ноги. Н-да! Бывает… Собачку бы тут, хоть немудрененькую. Собачки нет — иди дальше.
За последние два часа я еще пять раз снимал штаны и принимал холодные грязи, старательно мял осоку и хвощ, но ничего, кроме нескольких пушинок, не нашел. Шесть уток, шесть крякушей загубил, «полревматизма» себе добыл — и вот хоть уходи от озера не солоно хлебавши.
«Да, надо уйти с этого озера. Есть же другие, более удобные. Там уток меньше, но каждую подбитую достать можно. Довольно птиц калечить. Пошли», — сказал я себе. Только шагнул — опять утка вылетела. И близко. Ружье само выстрелило. И эта сунулась в камыш. Отпустить бы ее до чистой воды, не торопиться бы. Может, найду… Снова штаны снял. Долго бродил, много хвоща примял. Закоченел совсем, руки уж ружье не держат. Вдруг слышу над головой посвистывание. Глянул вверх — пара свиязей летит. Высоко… Ударил дуплетом. Это уже со злости. И сбил обоих. Одна упала метрах в пяти-десяти на чистую воду, а другая — в доброй сотне. Лежат, не шелохнутся. Выскочил я на берег, попрыгал, погрелся. А свиязи на озере белыми брюшками посвечивают, манят.
— Эх, сплаваем. Где наша не пропадала!
Снял патронташ, сбросил кепку, рубаху и майку, полез в озеро. Широкие листья кувшинок, как чьи-то холодные ладони, гладят по груди, по животу, ноги и руки оплетает мягкая щучья трава. Чем дальше, тем водоросли гуще. Барахтаюсь в них, как муха в остывших щах. До ближней утки — рукой подать, но ведь надо еще обратно выбраться. Главное теперь не утка, а выбраться обратно, на берег. Не повернуть ли сейчас же? Каждый лишний взмах руки может оказаться нужным, самым нужным в жизни… Ну, нет! Сил хватит. Это было бы смешно — убить утку, подплыть к ней и оставить. Нет! Вот она. Хватай зубами. Пошли обратно. Ох, ты чертова трава! Как неприятны ее прикосновения. Работай! Держись! Ага, вот и дно. На берег!
На берег я вылез на четвереньках. Вконец обессиленный, швырнул утку к ружью. Все тело онемело от холода. И все-таки заставил себя сделать пробежку, растерся портянкой, как полотенцем, затем оделся, сплясал вприсядку — это хорошо греет — и ушел на другое озеро.
А насморка не было.
И. Тепикин ПРИЗВАНИЕ
«Охота пуще неволи», — гласит народная пословица. «Вот она, охота, до чего доводит человека», — приходится слышать от людей, когда они видят усталого запыленного человека, который, с трудом передвигая ноги, плетется домой.
До охотника долетают эти слова, он слышит их, но они его не тревожат и, больше того, ни капельки не смущают. Охотник невозмутим. Бывает так, что дома ворчливая жена начинает попрекать: вот, дескать, ты не как другие добрые, порядочные люди — те сидят в выходной день дома, отдыхают… А он (извольте радоваться!) почти сутки пропадал в лесу и ничего не принес (либо «почти ничего»).
Но и тут охотник не теряет присутствия духа. Он молча стягивает с себя всю амуницию, рюкзак, терпеливо ждет, когда ему принесут обед, а между тем, находясь под впечатлением пережитого, вспоминает чуть горьковатый запах хвои, трепетное пламя охотничьего костра, которое, кажется, вот-вот оторвется от поленьев и взлетит в небо, звонкие птичьи голоса.
Охота настолько въедается в плоть и кровь человека, что он нередко во сне переживает охотничьи приключения: неизвестно почему начинает звать собаку, кричать «пиль», «ату его, ату». Жена, конечно, пугается…
Это все похоже на шутку, в которой есть известная доля правды.
Что же такое охотник? Думается, что назвать себя им может только тот, кто любит природу, тонко подмечает происходящие в ней перемены, понимает повадки зверей. И охотится он не потому, что ему нужно непременно убить птицу или зверя, а прежде всего из спортивного интереса.
Лес, он, как магнит, тянет к себе. Когда войдешь на опушку, вздохнешь полной грудью свежий аромат трав — так и кажется: помолодел лет на десять. Во все тело влилась новая чудодейственная сила, в ногах появилось ощущение неожиданной бодрости. Не приходится удивляться, что охотник, как говорят в народе, «глотает километры», расстояния ему нипочем.
…А как хорошо бывает в лесу, когда настанет ранняя уральская осень, когда желтые листья шуршат под ногами и ковром покрывают землю, когда наступают первые утренние заморозки… Красив Урал в эту пору! Посмотришь, бывало, на темные хребты гор, из-за которых выплывает солнце, на необъятные лесные массивы и не можешь не сказать себе: «Какая красота, какой простор!»
Это восторженное отношение к природе никогда не погасить у настоящих охотников. Не зря, находясь в лесу, они часто сетуют, что нет фотоаппарата, что известный живописец Шишкин не может уже все это видеть.
Красоту уральской природы можно заметить и прочувствовать везде. Она глубоко своеобразна. Возьмем хотя бы Бассегские горы. Когда подходишь к ним, невольно начинает, сказываться на настроении их угрюмый вид, нависшие камни.
Карабкаясь наверх, то и дело думаешь: вот-вот сорвешься, упадешь. Здесь не в диковинку глубокая щель. Породы, образующие горы, за миллионы лет перетерпели немало изменений, тепло и холод, вода и ветер сделали свое дело. Камни так сильно выветрились, что поверхность их стала белой, зернистой. Вот почему кажется: вершины Бассега покрыты снегом.
Восхождение на гору вознаграждается сторицей, когда достигнешь вершины. Ничего, что там нет растительности, неважно, что устал: стоит посмотреть вниз — и это состояние проходит. Точно гигантский зеленый ковер, расстилается уральская тайга, пересеченная балками. И тогда появляется мысль, что ты, охотник, — хозяин этих зеленых пространств, где бродит безобидный и быстроногий лось, где высматривает себе добычу косолапый медведь, где забился, спрятавшись под выступивший на поверхность огромный узловатый корень, косоглазый заяц.
Охотник, идя сюда, на Бассегские горы, видит многое. Зорким, внимательным взглядом заметит он белку с ее лакомством — еловыми шишками, птичку кедровку, деловито летающую от дерева к дереву. Он поймет каждый птичий голос и не спутает тоненький голосок рябчика с писком других пернатых лесных жителей.
Любитель природы не оставит без внимания то обстоятельство, что по мере подъема на гору вид деревьев постепенно меняется: они становятся все ниже и ниже, стволы изгибаются, делаются все причудливее. Порой так и кажется, что кто-то взял и исковеркал деревья.
Словом, не опишешь всего, что можно наблюдать по пути к Бассегу. И наконец все это вместе открывается внизу, у подножья гор.
Есть люди, которым не нравится Урал. Они его, не скупясь на эпитеты, называют «горбатым», «суровым», «скупым», «седым». Эти слова ничуть не характеризуют уральской природы, которая и не скупа и не неприглядна. Нужно только уметь смотреть и понимать то, что видишь.
Возьмем незаметную речку Усьву. Разве не красивы ее воды, с неуловимой быстротой срывающиеся с порогов и перекатов? Ее замечательные зеленые поймы, острова, заостровки, возле которых любит отсиживаться щука?
А разве скалы, обросшие мхом и ягодниками, нависшие над водой, — не красивы? Разве они хуже, чем в Швейцарии, о природе которой так любят говорить?
Не о бедности, а о богатстве, о великом изобилии свидетельствует это. Возле реки водится множество зверей, птиц. В нее впадают не один десяток мелких речушек, в которых водится хариус. А мало исследованные недра наверняка таят неисчислимые сокровища. Таят до поры до времени. Много видела на своем веку эта уральская река — и крепостных сплавщиков времен Демидовых и Строгановых, видела и концессионеров-французов. Немало барж и плотов разбилось о пороги. Их обломки истлели. Просеки заросли. А на местах, где был когда-то демидовский тракт, шумят советские трелевочные трактора.
На берегах Усьвы летом можно встретить самых различных людей: горняков, строителей, просто охотников, рыбаков-пенсионеров. Сколько историй можно услышать от них, завернув на огонек охотничьего костра!
И вот однажды, когда пылал костер и люди тесно сидели вокруг него, ожидая, когда же вскипит в ведре вода, зашел разговор об охоте.
«Охотиться — это призвание», — сказал кто-то.
И пусть иным эта мысль показалась спорной, никто не стал возражать, потому что большинство присутствовавших были охотники — по влечению сердца, по своему призванию.
И. Тепикин НА МЕДВЕДЯ
I
В Гремячинске, да и на Баской, в поселке железнодорожной станции, что находится в семи километрах от города, многие знают старого охотника Александра Константиновича Азанова. На вид это как будто ни чем не примечательный человек — небольшого роста, сгорбленный, седой старичок. А вот поди ж ты, знаменитый охотник. Несмотря на свои восемьдесят пять лет, он и сейчас не прочь взяться за ружье. Надо видеть, как меняется Александр Константинович, выйдя в лес. Его сгорбленная спина распрямляется, глаза молодеют — и он идет вперед походкой неустающего человека.
А переходы в тайге надо делать большие.
Говорят, что о способностях мастера судят по его работе. С этой целью небезынтересно сообщить, что старик застрелил на своем веку 36 медведей.
Вообще вся семья Азановых — охотники-медвежатники. Евдокия Семеновна — жена Александра Константиновича — убила шесть медведей.
— Пошли мы со стариком в лес на рябчиков поохотиться, — рассказывает она. — Я в ту пору тяжела была, Евгением, значит, ходила… Были у нас два незавидных ружьишка и пульки самодельные.
Идем мы по лесу — присматриваемся и слушаем. Доходим до того места, где теперь мост стоит. В то время тут великое множество всякого зверья было… Мой старик стал к себе на манок рябчика подманивать, а тот оглядывается, но не подлетает. Хитрая пичужка.
Ну, не летишь — не надо, сами найдем! Идем это мы, значит, раздвигая кусты, к речке. Шагнули, а перед нами медведь. Стоит он на задних лапах, пригнул к себе рябину и объедает ягоды.
Мой старик, не раздумывая долго, вскинул ружье, выстрелил. Взвизгнула пуля и умчалась в чащу.
Ну, медведь бросился на старика…
— Было такое дело, — подтверждает Александр Константинович. — Зверь кинулся на меня. Еще один миг — и подмял бы. Очень метко супруга моя выстрелила, наповал лесного хозяина убила.
— Все это просто рассказывать, — продолжает Евдокия Семеновна. Она говорит не торопясь, напирая на «о». — А что пережито было тогда! Немудрено, что сын появился раньше времени и медвежатником стал.
— По наследству перешел! — смеется Азанов.
Да, Евгений Азанов, шофер по специальности, многому научился у отца. Потому так хорошо ходить с ним на охоту. Взглянув на сырую тропинку, где отпечатались лапы зверя, он сразу может определить: кто пробежал. Никто лучше его не знает, где находится токовище.
Знакомы ему и повадки самого «лесного хозяина».
Вот, например, что он рассказывает.
— Не думайте, что медведь выбирает себе зимовнюю лежку где попало и как попало, — объяснял он мне. — Нет, он готовится к ней очень тщательно.
Он выбирает удаленные от всяческих тропинок и дорог возвышенные места. И неспроста. Зверь заботится о том, чтобы его не беспокоили, чтобы не было сырости. Он строит себе хижину как настоящий мастер.
Медведь не сбрасывает ветки пихты как попало. Каждая пихточка укладывается одна к другой, вершинка к вершинке, и все вершинки в одном направлении.
Постель получается мягкая, удобная… Хорошо будет отдыхать на ней зимой, во время долгой лежки.
Потолок делает медведь не только для удобства, но и для того, чтобы не попала дождевая вода. Это очень неприятно, когда она каплет, а потом застывает на шкуре сосульками.
Зверь ложится в берлогу до снега, чтобы своевременно укрыться от ветра, от сырости, от преследователей. А перед этим делает нагул, накапливает запас жира. Ведь одной рябинкой сыт не будешь.
Вот почему осенью медведи охотятся за добычей более «питательной» — за рогатым скотом, за лосями. Очень нахальны бывают звери в эти дни.
Рассказывал мне это Евгений в пору листобоя — холодного северо-восточного ветра. Мы шли по лесу, по засыхающей траве, по опавшим листьям. Наши шаги были далеко слышны. Словно перины — мхи под ногами. А на них черничник и брусничник, пурпуровая толокнянка, фиолетовая лизун-трава, а поодаль — крупные вянущие листья папоротника.
Я думал, что Евгений кончил, но оказалось, что это лишь начало — присказка, а главное впереди. Для того, чтобы показать, насколько коварны бывают медведи осенью, он поведал о действительном происшествии, случившемся в наших местах.
Как-то таежный медведь забрался на лесном хуторе во двор одного из домов. Хозяйка в это время готовила на кухне обед. Она услышала шум.
«Наверняка буренка сломала изгородь», — подумала женщина. Не торопясь, она вытерла руки о полотенце, надела калоши и, прихватив в сенях палку, отправилась во двор.
Очевидно, она плохо видела… Только подойдя близко, женщина разглядела, что буренку подмял под себя медведь и вырвал у нее вымя. Не давая себе отчета в том, что делает, хозяйка ударила зверя палкой по голове.
Медведь оставил корову, бросился на хозяйку, сбил ее с ног.
Не поздоровилось бы женщине, если бы не возвратился из лесу хозяин. Он выхватил из-за пояса топор, кинулся к медведю.
Зверь струхнул. Он, рыча, скрылся в лесу…
— Да, хищник остается хищником, — задумчиво произнес Евгений.
Мы шли по лесу. Над нами тусклым золотом отливали вершины берез. Травы не уступали по яркости цветам. Такова осень в наших местах, прекрасная, наделенная необыкновенно яркими красками.
II
Хищник, конечно, остается хищником. Евгений тут совершенно прав. Но есть в медвежьем быте много такого, что достойно внимания, что невольно заставляет уважать этого зверя.
Очень интересно следить за медведями изо дня в день, подавив в себе всяческий инстинкт охотника.
Думается, переломить себя не так уж трудно, ибо в настоящем охотнике всегда живет любитель природы.
В течение длительного времени я, пользуясь всяческими ухищрениями, наблюдал за медведицей и ее потомством. Вот что мне довелось видеть.
Огорчения и заботы выпадают на долю не только людей, но и медведей. Старой медведице, жившей в окрестностях Вильвы, немало досады доставляли ее дети — пятимесячные медвежата.
Как известно, и человеческие детеныши бывают очень любопытны. Молодость любознательна, жадна к впечатлениям. Большой мир открывается вокруг и хочется узнать, понять его.
Но медвежонок куда непоседливее и неуемнее ребенка. Сопровождая мамашу в ее странствиях по лесу, медвежата не могли спокойно пройти мимо всего, что попадалось им на дороге. То их заинтересуют квакающие в болоте лягушки, и мохнатые звереныши в погоне за ними заберутся в топь, то подбегут к капкану и, блестя глазами, уставятся на приманку. Словом, медведице все время приходилось выручать свое потомство.
Так было и в тот день. Трава еще серебрилась от ночной росы, но маленькие пострелята, совершая утреннюю прогулку, уже три раза взывали о помощи. Обоим им строгая мамаша задала основательную трепку.
Бьюсь об заклад, что из озорных глаз малышей в этот момент текли самые настоящие слезы! После наказания медвежата как будто присмирели и брели, что называется, тише воды, ниже травы.
Но детское горе коротко, слезы высыхают быстро. Один из медвежат увидел в камнях небольшое темное отверстие. Он тотчас забыл про только что полученную трепку. Сгорая от любопытства, он стал карабкаться вверх по откосу, а достигнув дыры, сунул в нее мордочку. Что ж удивляться, если медвежонок, засунув морду в дыру, не обратил внимания на то, что камень, на который он опирается передними лапами, держится непрочно. Медвежонок пододвинулся еще немного вперед, камень полетел в дыру, увлекая вместе с собой косматого озорника. Как же поступила мамаша? Услыхав грохот и визг, она бросилась на выручку, но оказалась в затруднительном положении — дыра была слишком узкой, чтобы в нее пролезть, лапой же нельзя было достать дна.
Медведица призадумалась. Это было заметно по всему ее виду. И тут я поразился сообразительности зверя. Косматая мамаша поняла, что камни около дыры не держатся прочно и она может их раскидать.
Через несколько минут медвежонок был извлечен из ловушки. Мамаша-спасительница оказалась весьма суровой особой и, как видно, полагала, что глупость — такой порок, который непременно надо наказывать.
От ее шлепка медвежонок, взвизгнув, кубарем отлетел в траву.
Медведица что-то проворчала. Наверняка, на ее медвежьем языке это означало:
— Вот тебе, негодник этакий! Будешь теперь знать, что нельзя совать нос, куда не положено!
И снова косматая мамаша продолжает путь, а за ней плетутся медвежата. Первый бежит весело, второй всхлипывает: столько страху пришлось испытать, да еще и обидели.
В другой раз мне довелось видеть медвежье купанье. Один из зверенышей упал с бревна на середине реки и не мог справиться с быстриной. Медведица тоже задала ему солидную трепку, вдобавок, бесцеремонно схватив его, несколько раз окунула в воду.
Может быть, мамаша хотела охладить чересчур горячую голову своего сынка, может, показать, что «с водой не шути — утонуть можно». Кто знает…
III
Не раз я уговаривал Александра Константиновича поохотиться вместе на медведя. Он все отказывался:
— Куда уж мне. Восемьдесят пять лет — не шутка.
Но вот однажды возвращаюсь домой во второй половине дня и вижу: мой старый знакомый сидит на скамеечке возле калитки.
— Так и так, — говорит, — пришел к вам по случаю того, что мишка напоролся на капкан, уволок его с собой. Нужно организовать погоню. Может, примете участие?
Я, разумеется, согласился, выпросил у соседа ГАЗ-67, заехал за Евгением, за Александром Константиновичем. Захватили с собой собак и поехали в тайгу.
Найти медведя было, в сущности, не очень трудно. На всем пути зверь пытался освободиться, ударяя двадцатикилограммовым стальным браслетом, сжавшим лапу, по стволам деревьев, оставляя отметины.
Хорошо в тайге! От бесчисленных цветов пестрит в глазах. Тропка карабкается вверх. Настороженное ухо улавливает каждый звук. Вокруг шумят ели. Звенят мухи, жужжат своими крохотными моторчиками шмели.
Мы шли, не разговаривая, все вперед и вперед, и вдруг за бугром увидели уши. Да, да, самые обыкновенные уши, похожие на собачьи, но только больше. Никто не думал, что тут медведь, но он сам выдал себя — пошел навстречу, размахивая лапой, на которой болтался капкан.
Я вскинул ружье.
— Не стреляйте, — сказал Александр Константинович, — возьмем живьем.
Я подумал: уж не ослышался ли? Разве можно такого зверя взять живьем? Это же не заяц!
Тут подбежали собаки и подняли такой гам, что, кажется, на другом конце тайги его было слышно.
А тем временем Александр Константинович вырубил шест, заострил и, прицелившись, вогнал его через кольцо капкана в землю.
— Держите, — приказал он.
Мы с Евгением стали держать, а дед тем временем вырубал другой точно такой же шест.
Медведь в это время, разумеется, рвался. Во всяком случае, его было очень трудно удержать.
Закончив работу, Александр Константинович подошел к зверю ближе, занес шест выше его головы, с силой вбил в землю. Шея медведя была прижата к земле.
Теперь можно было связать зверя, надеть на него намордник, снять капкан. Словом, часа через два наш пленник сидел в машине, угрюмо посматривал на шофера, вертевшего «баранку».
Мы приехали уже поздним вечером. Александр Константинович решил не освобождать зверя от пут, а пока положить его в сарае.
Утром выяснилось, что наш гость не стал дожидаться, когда его развяжут, а освободился сам, но не убежал.
Перед ним поставили деревянное корыто с едой. Зверь взял его двумя лапами и стал утолять голод.
Мы много думали, как же быть с больной лапой, ведь рану нужно промыть, перебинтовать, полечить. Пришли день спустя посмотреть на медведя — а он распорядился по-своему: начисто отгрыз лапу.
И. Тепикин О ТОВАРИЩЕ НА ОХОТЕ
Довелось мне недавно услышать такую поговорку: «Плохой товарищ хуже одиночки». Не сразу дошел ее смысл. Но, в общем, я понял так, что с иным «товарищем» хуже, чем в одиночку: на него надеешься, а он не придет на помощь в трудный час. И вспомнились мне некоторые охотничьи истории.
I
Случай этот произошел не так давно, весной недалеко от поселка «Красный Урал».
Только что стаял снег, начали распускаться почки на деревьях, жители поселка выпустили свой скот на подножный корм, и скот потянулся вглубь леса, где гуще трава.
Ушли следом и лошади лесников Пустошки. Люди видели, как животные перешли речку, скрылись за поселком.
Два дня ждали лесники лошадей, на третий — отправились их разыскивать, взяв с собой топор и одноствольное ружье. Не думали, что им придется охотиться. Но в лесу все бывает.
Сначала лесники шли в сторону реки Кутушки, потом свернули на восток, выбрались на заросшую мхом старую тропку, направились по ней. Следы копыт были довольно свежие.
Вскоре встретилась небольшая, почти круглая полянка, сплошь покрытая мягкой травой. Два медвежонка выбежали из-за кустов, стали играть с охотниками, как веселые добродушные щенки. Люди сообразили, что где-то поблизости медведица. Они перезарядили ружья пулевым патроном.
— Смотрите! — вдруг крикнул один из них.
Только тут, метрах в двадцати от себя, они заметили медведицу. Она неподвижно стояла на задних лапах.
— Урру! — позвала она ласково медвежат. — Все ко мне!
Медвежата не шли. Тогда их косматая мамаша грозно заревела. Медлить было нельзя. Прогремел выстрел. Тяжело раненный зверь осел на месте. Медвежата бросились к матери. Лесники похватались за патронташи. Как на грех, в них не оказалось ни одной пули. Медведица ревела, но не поднималась.
Что делать? Пришлось возвращаться — и поскорее. Но готовых пуль дома не оказалось. Не оставалось ничего другого, как отливать пули и только тогда идти на охоту.
Немало времени было потеряно, прежде чем лесники возвратились на прежнее место. Ни лошадей, ни медведицы там не было. Посоветовавшись, разошлись, чтобы легче было искать.
Один из них бредет по лесу — и вдруг слышит душераздирающий крик товарища. Он бросается на помощь Прибежал, смотрит: лежит человек на земле, а медведица на нем и медвежата возле бегают.
Стрелять нельзя. Можно попасть в товарища. И лесник решился на рискованный шаг — подбежал вплотную к зверю и выстрелил ему прямо в ухо.
Нелегко пришлось леснику. Медведица тяжелая, сдвинуть ее с места трудно. Все же освободил друга, у которого было покусано лицо, разодраны руки.
Подошли другие лесники, посадили медвежат в мешки, сделали носилки для товарища.
Когда Тимофей (так звали пострадавшего) пришел в себя, он рассказал, как все было.
— Шел я без всякой осторожности, размахивая топором и все думал, что друг идет поблизости… Поворот передо мной. Тут и напала медведица. Я было за топор, но она выбила его, повалила меня на землю. Смотрю, медведица лапу подняла, готовясь мне на голову наступить. Уж совсем конец пришел, да помощь подоспела.
Одного из медвежат тотчас же отдали в зверинец, другой пока жил у Тимофея.
Мы с Александром Константиновичем решили навестить Тимофея в один из воскресных дней.
Хозяин встретил нас приветливо. Он рассказал все подробности, показал шкуру медведицы. Потом вдруг забеспокоился: куда же запропастился медвежонок?
— Урру! Урру! — звал он его.
— У него прозвище такое, — пояснил Тимофей. — Его так мать звала.
Но Урру не отвечал.
— А не в сарае ли он? — вдруг сказал Тимофей. — Помнится, жена его оттуда сегодня не выпускала.
Мы пошли в сарай. Медвежонка не было видно. Лишь из угла, откуда-то из-под земли раздавались странные звуки — казалось, не то кто-то фыркает и захлебывается, не то скулит.
— Ах ты, сорванец! — воскликнул хозяин.
В темном углу сарая, прямо в землю был закопан, по таежному обычаю, бочонок меда. Медвежонок почуял запах, стал разгребать землю и провалился.
Соединенными усилиями мы вытащили его. Неприглядно выглядел Урру. Вся шерсть на звереныше слиплась, мед стекал с нее ручьями. Медвежонок превратился в тягучий липкий ком. Медом были залеплены глаза и уши. Раздувшиеся бока Урру показывали, что внутри у него меду более чем достаточно.
Медвежонок не шевелился. Мы уж думали, что он вот-вот задохнется.
Хозяйка принесла ведро воды, второе, пятое, десятое. И вот постепенно звереныш принимает медвежий вид, приходит в себя. Черные глазки его открываются, двигаются уши. Урру трет морду лапами и подлизывает воду с земли. Его мучит жажда.
— Ничего Урру, потерпи, легче будет, — наклоняется над мишкой лесник. — Вот поправишься, отдадим тебя в зверинец. Больно ты шальной становишься.
Часа через три Урру приходит в себя. Он сидит смирный, притихший. Его окружили ребятишки с кордона.
— Как тебя зовут? — спрашивает рыжеволосый веснушчатый паренек.
— Урру, — отвечает медвежонок.
— Молодец! А скажи: хочешь меду?
Медвежонок фыркает.
II
После двухдневной охоты возвращался к себе на хутор старый охотник-промысловик Исай. С ним было ружье, которое за последнее время стало немного сдавать — случались осечки. Это и не мудрено. «Ружьишко у меня прадедовское, фамильное», — говорит Исай.
Не раз советовали ему купить новое ружье, но он и слушать не хотел:
— Как же это! Ружьишко у меня вроде товарища. Сколько раз мы с ним из разных тяжелых историй выходили… Нет! Невозможно это.
Хоть и хорошие говорил он слова, однако все знали, что Исай скуповат.
Словом, возвращается Исай к себе и наметанным взглядом различает: кто без него приходил, что делал… Еще издали старый промысловик заметил — все в порядке, только дверь сарая почему-то открыта.
«Наверняка козы сломали задвижку», — подумал он.
Исай шагнул во двор и только тут увидел огромного черного медведя. Зверь повернулся к охотнику, зарычал, но с места не двинулся.
Исай не торопясь зашел в избу, перезарядил ружье, появился на крыльце. Зверь встал на задние лапы, рявкнул, сделал прыжок.
Прогремел выстрел. Медведь рухнул на землю, заревел.
Исай хотел перезарядить ружье, но гильза не выходила из ствола. Ее раздуло. Пришлось идти в избу, искать шомпол.
Когда охотник снова вышел во двор, медведя уже не было. Зверь ушел, оставляя за собой кровавый след.
Исай позвал собак. Те его не услышали. Они рыскали где-то в лесу.
Оставалось одно: идти по следу раненого зверя без собак, искать его. Уж такой человек был старый промысловик: за что возьмется — не бросит.
Исай взял ружье, прикрепил патронташ, зашел к соседям попросить помощи. И вот раненого зверя начали преследовать трое мужчин. Один из них — Нифонт — совсем мало знал тайгу. Он работал в мастерской бытремонта в городе — чинил примусы, ведра, а на дому от случая к случаю подшивал валенки. Едва Исай предложил ему идти на медведя, как Нифонт, не раздумывая, согласился. Возможно, ему мерещился трофей в виде большой медвежьей шкуры.
— А стрелять умеешь? — спросил Исай.
— А как же!.. Винтовку я братову заберу с собой. Брат в город уехал.
Исай ухмыльнулся: он знал, что у брата Нифонта была двустволка. Хорош охотник, если считал, будто ружье и винтовка одно и то же.
Вызвался идти и Григорий — молчаливый, нелюдимый охотник, промышлявший больше рябчиками. Даже близкие люди не могли понять, что это за человек — настолько трудно было выдавить из него слово.
— Шкура моя! — заявил Григорий. И это были единственные слова, сказанные им в тот день.
Охотники прошли около двух километров. Совсем неожиданно в карстовой воронке они заметили медведя. Тот лежал и зализывал рану.
Зверь поднялся на задние лапы. Двое спутников Исая бросились бежать. Законы тайги не терпят нарушений. Старый охотник не выпускал изо рта дымящейся трубки, не поторопился. Но тут Исай сделал непростительную оплошность: вскинул ружье — и приложился. Секундой раньше дунул ветер, и едкий табачный дым попал в прищуренный левый глаз. Этого было достаточно. Исай промазал.
Мгновение — зверь вышиб из его рук ружье. Охотник схватился за рукоятку ножа. Но поздно. Зверь подмял его под себя.
Нож в таком положении вынуть было нельзя. Правую руку охотника зверь так повернул, что она онемела.
— Помогите! — крикнул Исай. Он надеялся, что те двое отзовутся, придут на помощь — ведь у них хорошие охотничьи ружья.
Медведь рявкнул, положил свою тяжелую лапу на лицо охотника. Из-под нее брызнула кровь.
Конец…
И в этот момент из леса с визгом вылетели собаки. С разных сторон они впились в медведя зубами.
Медведь, крепко придавив к земле охотника одной лапой, стал другой отбиваться от собак. Исай снова попытался вынуть нож. Но зверь, точно разгадав его замысел, ударил лапой по голове.
Старик на минуту потерял сознание. Придя в себя, он услышал визг одной из лучших своих собак и увидел, что она тяжело ранена, но продолжает нападать.
Собаки наседали все яростнее. Зверь стал все чаще поворачиваться к ним и освободил Исая.
Собрав все силы, старик отполз от места побоища.
Он ползком добрался до лесного хутора, прислушиваясь, как позади замирает в отдалении собачий лай и медвежий рев.
Возле самого дома Исая догнали собаки. Раненый пес ежеминутно ложился на бок, зализывал рану.
Охотник с трудом отворил дверь, перевалился через порог.
Утром на хуторе узнали о беде, постигшей Исая.
Многие приходили навестить. Только Нифонт не пришел.
Григорий сел на табуретку возле кровати и почесал густую черную бороду.
— Значит, когда тебя медведь сгреб, — говорил он, с трудом подбирая слова, — мы побежали на помощь, да малость заплутали… с перепугу.
— Спасибо, — тихо произнес старик.
— Нас благодарить тебе нечего, — нахмурился Григорий.
— Да я и не вам спасибо говорю, а собакам…
И. Тепикин ЧТО ТАКОЕ «НЕ ВЕЗЕТ»…
Иногда люди принимаются обсуждать животрепещущую тему: «что такое „не везет“ и как с ним бороться». Обсуждают потому, что, по-видимому, в житейской практике можно устранить причины «невезения». Как говорится: все в руках человека.
А вот на охоте — ничего. Не зря она зовется «охотою». Тут многое зависит от случайностей. И поэтому, слушая охотничьи рассказы, никогда не верьте людям, не допускавшим якобы промаха и не знавшим неудач.
Всякое бывает: и удачи, и неудачи.
Охотился я за зайцем с гончаком. Выхожу на круг, по которому должен пробежать косоглазый, выбрал поваленное дерево, уселся.
Между тем лай собаки все приближался. Донесся до меня тихий шорох. Ничего, думаю, особенного: белка или рябчик. Но все же решил осторожно повернуться.
Смотрю, а на том же стволе, на котором примостился я, сидит заяц. Хотел было схватить его, да куда. Прыгнул он в кусты и был таков.
…Помню, вдвоем с Евгением охотились мы на рябчиков. Сижу я на пригорке, подманиваю птиц манком. И что вы думаете: рябчик пролетел возле меня, сел на колени, поглядел в глаза.
Только я пошевелился, как он взлетел, исчез.
Вот оно охотничье счастье: кажется, в самые руки лез рябчик, а не достался.
…В этот вечер мы охотились за рябчиками, а наутро, оставив возле палатки гончака, углубились в тайгу.
Направились далеко, в верховья Усьвы. Вышли на визиру, шли километра два, свернули на восток, вышли на вторую визиру, поднялись на невысокий горный хребет, сели отдохнуть.
Тут мой спутник заметил медвежью лежку. Место было выгодное для охоты, можно устроить засаду.
Отдохнув, мы пошли дальше и, пройдя километра три, снова обнаружили медвежьи следы. Неподалеку от них на нас пахнуло какой-то гнилью, очевидно, тухлым мясом. Решили посмотреть.
Оказалось, за кустами небольшое озерцо, а возле него лежит растерзанный лось. Осмотрев его, Евгений сказал:
— Это работа медведя. Он любит тухлое мясо, пришел полакомиться, а мы спугнули его.
Как же медведь убил лося? Это удалось раскрыть по приметам, знакомым Евгению.
Оказалось, что в жаркие летние месяцы лосей начинает мучить червяк, который гнездится в гортани. Зверь, стараясь избавиться от боли, ищет болотце, и часто пьет из него.
Этим и воспользовался лохматый разбойник. Он караулил возле лосиной тропы, а когда лось начал пить, — рявкнул. Лось с перепугу упал на колени. Медведь перебил ему хребет.
Конечно, многое из того, что рассказал Евгений, было догадками, но мы их проверили на практике.
И вот, чтобы изловить зверя, мы тоже решили схитрить, воспользоваться знакомыми нам медвежьими повадками.
Нередко в лесу можно видеть вывороченные пни, исцарапанные стволы, взрытый дерн. Можно подумать, что здесь медведь дрался из-за добычи, дрался отчаянно, не на жизнь, а на смерть.
Ничего подобного! Дело совсем в другом. Медведь наедается всегда не в меру. Его постоянно начинает распирать от пищи, и чтобы ускорить процесс пищеварения, зверь, как рассказывают, проделывает всевозможные упражнения: ворочает пни, лазит по деревьям. Только после этого у него снова появляется аппетит.
Вот сюда, неподалеку от убитого лося, мы и решили поставить капкан. Чтобы правильно установить его, требуется большое искусство. Нельзя повредить ни одной веточки, нельзя оставлять глубоких царапин на земле, мять траву. Устанавливая капкан, надо натереть его хвоей, чтобы зверь не почуял запаха ржавчины. Очень важно, чтобы подход к капкану был только один.
Мы принесли валежника, нарвали мха, перед самым капканом поставили две маленькие елочки, выгнули из ветки так называемый порожек, через который медведь должен переступить и опустить лапу прямехонько в ловушку.
Приманка также лежала замаскированной.
Целых пять дней не приходил сюда медведь. Появился он на шестой день. Накануне выпал дождь, а ночью ударили заморозки. Кулачки капкана замерзли, не сработали, и хищник, перепугавшись, ушел.
И. Богданов КТО ЖЕ УБИЛ МЕДВЕДЕЙ?
Внизу спорили. Разговор шел, как я понял, об охоте.
Лежа на верхней полке вагона, я слышал отдельные обрывки фраз. Свесив голову, прислушался.
Мужчина в засаленном ватнике, обтянутый лямками, сдвинул ушанку на затылок, открыв плешивую голову, чиркнул спичкой, пустил большой клуб табачного дыма.
— …Знаете, я сам медведей видел, — сказал он. — Один пудов на пятнадцать будет — не меньше.
— А остальные? — спросил кто-то.
— Что, остальные? Тоже по десятку были. На шкуру можно втроем лечь.
Заскрипели тормоза, поезд нервно задергался и остановился. Охотники навесили на себя ружья, патронташи, доверху набитые чем-то вещевые мешки, заторопились и вышли. Мне здесь тоже надо было сойти, но пока я собирался, их и след простыл.
Было три часа ночи. Мороз давал себя знать. Все стояло в каком-то забытьи, только иногда потрескивали деревья. За небольшой горкой виднелось зарево электрических огней.
Разговор охотников заинтересовал меня. В лесных поселках Урала охотниками, как говорится, хоть пруд пруди. Только и слышишь разговоры, что там выводок волчий уничтожили, а в другом месте медведя убили или живым взяли.
Сам я не охотник, но эти разговоры мне почему-то показались побасенками. Оказавшись случайным свидетелем столь любопытного разговора, я решил: постараюсь узнать поподробнее. И возможность представилась. Но охотники ушли.
И все-таки я их встретил. Проходя по лесосеке с товарищами, тракторист Дьяконов рассказывал… про медведей. Думаю: вот он медвежатник-то. Спрашиваю:
— Это вы медведей убили?
— Он самый, — в голос заговорили его товарищи.
Тракторист поставил ведро с автолом, сел к костру и стал рассказывать.
— Отправились, значит, мы с Федором Чмутовым, что мастером на нижнем складе работает, за рябчиками. Целый день проходили. Обидно — пустые домой возвращаемся. Вдруг, слышим, собаки наши залаяли не по-доброму как-то. Мы бегом туда. Видим: они у кучи бурелома заливаются.
— Медведь, видно, — шепчет мне Федор.
— Где? — говорю я. — Там, что ли?
— Ясно там, — говорит, — не на сосне же.
Перезарядили мы ружьишки пулями. По правде сказать, их у меня было всего две, да и то случайно захватил. Федор Иванович вырубил палку и стал прощупывать бурелом. Я с ружьем стою у дыры, а Федор шурует вовсю.
Слышу, зашевелился кто-то.
— Готовьсь! — кричит Федор. У меня, признаться, и волоса дыбом поднялись. Из дыры показалась медвежья морда, а потом и вся голова. Я стою и жду. Дыра-то узкая, сразу ему не вылезти.
И только это он стал башку кверху тянуть, тут я ему из левого ствола и врезал. Выстрела почти не слышал — только увидел, что медведь мордой сразу ткнулся в землю. И не шелохнулся больше. Медведица оказалась, пудов на десять.
Дьяконов широко растопырил руки, показывая мне размеры убитой медведицы.
Тут я решился перебить рассказчика.
— Знаете, мне говорили, что вы убили медведицу не в десять, а в пятнадцать пудиков.
— Кто это мог сказать? — возбужденно спросил он.
— Охотники, — говорю, — в поезде рассказывали.
— Ну, это, верно, опытные товарищи, врать умеют. Так вот дальше что было, — продолжал он. — Долго мы с ней возились — вытаскивали. Умаялись. Потом слышим: собаки лают на бурелом. Еще, верно, кто-то есть.
— Теперь, — говорит Федор, — ты шуруй, а я с ружьем.
Шурую — кто-то опять завозился. Я палкой что есть силы подтыкаю, а Федор ружье направил, ждет.
На этот раз медвежонок выскочил. Федор с ходу в него как трахнет, да промах, видать, сделал. А тот прямо на меня прет, с ног меня сбил. Да он сам-то, видно, перепугался не меньше моего. Перепрыгнул через меня и ходу.
Я вскочил, кричу Федору:
— Бей!
А его и след простыл. Убежал он от меня метров на сто. Тоже старый охотник называется. Струхнул, видать.
Ну, схватил я ружье да за косолапым. На ходу у меня самовыстрел произошел. Догнал я медведя, хвать, а стрелять-то нечем. Тогда я ему по загривку ка-а-к ахну — второго замертво уложил.
— Сколько же всего вы убили? — осторожно спросил я. — Двух? И обоих вы?
— Я! — он с достоинством ткнул пальцем себя в грудь.
На следующее утро повстречались мы с Федором Ивановичем Чмутовым. Желая уточнить кое-какие детали, я спросил его:
— Расскажите, Федор Иванович, как Дьяконов двух медведей наповал уложил?
— Это вы про кого, не про Василия ли? — с обидой проговорил он. — Какое там!.. Он и медведя-то живого первый раз видел.
И Чмутов стал мне рассказывать охотничью историю, в которой главным героем был не Дьяконов, а он сам. Признаться, я был озадачен и не знал, какой бы рассказ мне пришлось писать, если бы в разгар повествования не проходил мимо нас Василий. Подслушав наш разговор и поняв, о чем идет речь, он сразу же вмешался и заспорил.
Теперь оба приводили массу подробнейших деталей своей охоты. У каждого охота получилась именно своя.
— Федор, почему ты в медвежонка промазал? — спрашивал Василий. — Ведь в метре он был.
— Ты мне, Васька, брось врать при чужом человеке. А кто тебе поверит, что ты прикладом убил, да еще медведя?! Мазило ты этакое. Молод еще врать-то, — злился Федор Иванович.
Наконец оба согласились по целому ряду мелких вопросов. И лишь один вопрос так и остался неясным: кто же все-таки убил медведей? Один говорил — я, другой — я.
До сих пор не знаю, кто из них прав.
Можно подумать, что медведи скоропостижно скончались от разрыва сердца, встретив на свое горе столь заядлых охотников.
Для нас, не знатоков охотничьего дела, судя по их рассказу, и это возможно. Охотникам во всем приходится верить.
И. Богданов ИЗОДРАННЫЙ ПОЛУШУБОК
Если сказать, что это случилось полсотни лет назад, многие подумают: пошел в старине копаться. А мне кажется, было это только вчера. Жили мы в деревне. Бедность толкала моих родителей на разные выдумки. Летом мать драла лыко, ухаживала за огородом, собирала грибы, ягоды, сушила их и складывала про запас на зиму.
Отец с раннего утра до позднего вечера косил сено богатым соседям, убирал хлеб, а в воскресенье уходил на охоту. Ружьишко у него было допотопное — шомпольное, тяжелое, с таким утолщением на конце ствола, что казалось, на него набалдашник надет.
В морозные зимние вечера отец нередко возился со своей шомполкой, ворчал на мать за то, что она давала плохую кудель для пыжей.
Кроме ружья, у нас было еще два капкана для зайцев. Они все время стояли в лесу. Отец уходил в лес всегда один, и мне подчас так хотелось бежать за ним по пухлому свежевыпавшему снегу. Но отец неизменно отвечал:
— Мал, молоко на губах не обсохло, а на охоту идешь. Правда, раза два он все же брал меня с собой, но в капканах ничего не было. Там, в лесу отец учил меня, как правильно обходить следы, ставить капканы, проверять их.
Как-то рано утром он разбудил меня:
— Гришок, сбегай, дозорь капканы. Ночью-то падера была, поди, кто попал. Я, конечно, очень обрадовался, наскоро умылся, на ходу сжевал кусок черного хлеба, сдернул с вешалки полушубок, и, схватив лыжи, выбежал на улицу. Я летел по едва заметному, присыпанному снегом, следу, который вчера был проложен отцом.
После перелеска начался мелкий ольховый кустарник, за ним — овраг. Смотрю на противоположную сторону оврага, а там снег взрыт. «Ну, — думаю, — есть!» С трудом перебрался через овраг, и вижу — снежная борозда. Словно чем-то пробуравленная, она уходит в чащу зигзагами, а по бокам ярко-красные комочки алеют.
Мне вдруг стало страшно. «Зря, — думаю, — у отца ружья не попросил». Но пошел все-таки. Вижу, капкан чернеет. Подошел ближе. А около капкана зайчишка крутится. Весь в крови, бедняга. Задняя часть ободрана, лапа в скобах зажата. Сидит он и смотрит на меня так жалобно, будто сказать хочет: отпусти, Гришок, всю жизнь благодарить буду.
Стою я перед ним, а у самого слезы выступили. К горлу подкатывается какой-то комок, дыхание перехватило. И так мне жаль стало беззащитного зайчика, что я решил отпустить его. Только дотронулся я до скобы, а заяц как закричит. Страшно стало. Сел я между лыж и шевельнуться не могу. Протащил заяц капкан еще несколько сажен, остановился и опять смотрит на меня. Собрался я с силами, подошел к нему и говорю:
— Что ты, зайка, смотришь на меня, почему боишься? Не враг я.
Снова пытаюсь освободить его лапу — не получается. Дай, думаю, встану лыжами на пружину, разожму их; скобы ослабнут — и заяц свободен. Так и сделал. Только встал я на пружины, правая нога возьми за и вывернись из лыжного ремня. Я оступился в рыхлый снег и упал прямо на зайца. Заяц истошно заверещал. Я и дар речи потерял, только слышу — полушубок мой трещит. Не помню, как откатился я в сторону, но только вижу — зайчишка мой сидит рядом с капканом. В этой суматохе ногу он успел выдернуть, но сам был, видимо, не менее моего ошеломлен и не понимал, что свободен.
Посмотрел я на полушубок — только лоскутья болтаются. Бегу домой. Мать еще в окно увидела меня, всплескивает руками. Вышел отец.
— Что с тобой, Гришутка?
Я заплакал:
— Зайчишка в капкане был, измучился он весь… Я его доставать стал, а он полушубок…
Долго они смеялись надо мной.
— Ну и охотник же ты, Гришок!.. — сказал отец.
Больше он не посылал меня «дозирать капканы».
В. Астафьев ОХОТНИЧКИ
Что и говорить, любил Иван Никитич делать внушения. А с тех пор, как стал он мастером в ремесленном училище, это у него в привычку вошло. Да и обойтись без этого трудно: в ремесленном — группа из тридцати человек, дома — сам шестой. Народ дома и в группе проворный, на выдумки и проказы гораздый, я если этому народу постоянно не толковать, что так нехорошо, а этак некрасиво, то и ждать от него добра — дело безнадежное. По крайней мере, сам Иван Никитич был в этом уверен. Но однажды утром… Впрочем, не будем забегать вперед.
Была у Ивана Никитича одна очень застарелая и сильная страсть — охота. Претерпел он из-за нее в жизни немало притеснений со стороны супруги. Но человек он упрямый и переборол даже свою жену. Теперь, спустя тридцать лет совместной жизни, она ему даже бутербродишко какой-нибудь в мешок сует добровольно, правда, не без выговоров насчет дурной головы, которая ногам покоя не дает. К слову сказать, Иван Никитич был в жизни человеком горячим и не переваривал «тихой» охоты с чучелами, с разными там подсадными утками и тому подобное… Нет, он любил по горам ползать и если уж не дичь, то ноги за выходной так убивал, что иногда у железнодорожного моста, от которого оставалось два километра до дому, начинал мечтать о попутной машине, как о величайшем счастье.
То было в прежние годы, а теперь Ивана Никитича чаще потягивает присесть, и горы ему уж кажутся высоковатыми, и километры длинноватыми. Характер у него стал ровнее и пристрастие к обстоятельным внушениям с годами усилилось. «Да-а, старость, старость, как это она пешком, тишком — и опутает незаметно человека по всем суставам, волос на голове поубавит. Ни красоты, ни удальства! Почету, правда, больше, да что из него, из почета-то, шубу шить?»
Так рассуждает Иван Никитич. Однако молодиться он не любит. Отпустил он усы, носит просторный пиджак. И вот первый раз согласился идти на «сидячую» охоту, за тетеревами.
Пригласил его с собой завхоз училища Терешкин. Делая голос таинственным и, не то от изумления, не то от восторга, расширив маленькие желтоватые глаза, он, захлебываясь, говорит:
— Иван Никитич! Если бы ты видел! Тучи! Темные тучи! Я сижу, не дышу в балаганчике, сухо, красота, а они над головой: шш-жж-шш-жж, как еропланы! И в кошенину, и на снопы, и на березы! По ком стрелять, куда стрелять, растерялся я! Ей-бо!
— Ладно, доживем до воскресенья, увидим!
— Иван Никитич, ей-бо!
— Ну-ну, не божись за каждым словом. Нехорошо это, ученики могут услышать. Ты, все-таки, фигура немаловажная, завхоз — это значит заведующий хозяйством, можно сказать, после директора наипервейшая личность, на высоте надо держаться…
И вот они шагают по железнодорожной колее. Впереди чуть заметно серебрятся рельсы. Больше ничего не видно. Темень. С вечера прошел дождик. Воздух сырой, прохладный. От леса тянет прелой листвой, сеном. Терешкин часто перебирает ногами, а Иван Никитич пытается шагать через две шпалы. Он никак не может приноровиться, часто оступается и ворчит:
— Ходить по этим шпалам — расстройство сплошное.
— А ты по одной шпале-то, по одной, ей-бо!
— Ей-бо, ей-бо, не выходит у меня и по одной. Ноги-то сохатиные родителями дадены, только прыть уж не сохатиная…
Наконец они сворачивают с линии на лесную тропинку. Иван Никитич облегченно переводит дух, но преждевременно. Идти по лесу в такой темноте, да еще после дождика, оказывается, куда хуже, чем по линии. Корни, валежины, пни, прутья цепляются за ноги. Иван Никитич придерживает правой рукой двустволку, а левой опасливо прижимает к себе узелок. В узелке завернуты три пирога, яички и еще какая-то снедь для внука Генки. Нынешней весной старший сын Ивана Никитича уехал работать в колхоз, а с ним и Генка, любимый внук. Вот и навязали охотнику узелок. «Не задавит, говорят, попутно завернешь в деревню».
— Не задавит, не задавит, — бубнит Иван Никитич, — шмякнешься вместе со всей этой продукцией. Причуды бабьи.
— Что ты сказал?
— Ночь, говорю, эта провалилась бы в тартарары…
— A-а, оно действительно.
Но вот на одной половине неба начинают резче вырисовываться облака, появляется полоска над кромкой леса.
В лесу тихо: ни шороха, ни звука. Только шлепают сапоги двух человек, шуршит мокрая трава да потрескивают сучки. Вот уже и тропинка немножко видна. Из сумерек начали выступать отдельные полуобнаженные деревца. Еще не видно, какие у них листья: красные, ржавые, или желтые. Но уже по тому, как трепещут в ознобе листья и падают на землю, можно узнать, что это косматое деревце, наклонившееся над тропинкой, не что иное, как осина, а дальше начинают белеть березки. Не отличишь пока елку от пихты — обе темные, на обеих густо серебрятся капли дождя.
Вдруг лес рядом обрывается, тропинка исчезает, кругом становится светлее — впереди большое, теряющееся в утренней мгле, поле. На нем маячит скирда.
— Вот мы и добрались, — шепчет Терешкин, — давай скорее усаживаться, припоздали немножко, скоро прилетят, ей-бо! — Голос у Терешкина дрожит, прерывается; он — сглатывает слюну и нетерпеливо подгоняет: — Пошли, пошли! Во! — показывает он на что-то темное, рядом с опушкой леса. — Балаганчик — я те дам!.. Давай устраивайся, а я чучела выкину и дальше двину: там тоже балаган снопами закрыт, как дома в нем! Ну, я побег! Ни пуха тебе, ни пера и тому подобное.
Терешкин исчез. Его волнение передалось Ивану Никитичу. Он осторожно и торопливо лезет в шалаш. Подозрительные мысли не дают ему покоя: «Заговорил мне зубы-то, а сам небось в такое место пошел, где косачей полно. Буду вот сидеть тут, ровно филин, вертеть головой и слушать, как он там постреливает. Хитер этот „ей-бо“, хоть с виду и простоват».
Иван Никитич ощупью устраивается на месте, цепляет на какой-то сучок узелок с посылкой. Чтобы унять ненужное возбуждение, закуривает. Сидит он, потягивает по-солдатски из кулака и слушает. Потной спине становится холодно, хрустят суставы ног — ревматизм корежит. День обещает быть пасмурным. Рассвет наступает медленно, словно нехотя. Но все-таки день приближается. Уже отчетливо видна впереди скирда, приткнувшаяся к одинокой, должно быть, сухой, липе, потому что на дереве совсем нет листьев.
Иван Никитич замечает, что верх у скирды какой-то слишком уж тупой. Он напряженно вглядывается и удивленно бормочет:
— Раскрыт верх-то! Как же это? Осень ведь. — Он с беспокойством оглядывается кругом, поднимает голову и видит, что скрад закрыт снопами. — Вот оно что, — догадывается Иван Никитич, — охотнички, значит, орудовали! Колхозники-то куда же смотрят? Взгрели бы их как следует. Ах, сукины сыны, надо же додуматься, — возмущается старик.
Ему и раньше приходилось встречать охотничьи пакости: исхоженные вдоль и поперек овсяные поля, разваленные бабки, обдерганные зароды сена, разоренные скирды. И всегда становилось как-то стыдно за своего брата охотника. Вот и сейчас Ивану Никитичу сделалось не по себе. Он заерзал на коленях, поворчал еще немного, потом успокоился и благодушно отметил:
— А балаганчик-то хорош, ничего не скажешь! — и махнул рукой: что может значить какой-то десяток снопов?
Договорить ему не удалось: над головой прошелестели крылья. Он вздрогнул и увидел — впереди снижаются два черныша. Сели они далеко за скирдой. Ивана Никитича стал колотить озноб. Он взвел курки и снова затаил дыхание. На сухую липу, к чучелам упало несколько тетеревов и замерло. «Пятьдесят или семьдесят метров будет», — прикинул Иван Никитич на глаз расстояние и, подумав, осторожно, просунул ружье.
— Ничего, возьмет!
Еще было сумеречно и птицы на дереве вырисовывались неясными контурами. Иван Никитич подвел мушку под нижний комочек. Сверкнул огонь — и покатился первый выстрел, взбудоражив утреннюю тишину. Еще не успело укатиться эхо туда, за выступившую из темноты деревеньку на берегу реки, как ухнул выстрел в другом конце поля. «„Ей-бо“ трахнул из своего двенадцатого калибра!» — отметил Иван Никитич и снова замер. Под липой, в стерне что-то чернело, не разобрать: тетерев или клок сена.
Минут двадцать тетерева не появлялись. За это время на другом конце поля раздались еще два выстрела.
— Так я и знал! — злился Иван Никитич, — надул меня проклятый Терешка! Ох и человек! Погоди, змей, я тебе… — Но что он собирался сделать с Терешкиным, Иван Никитич так и не успел придумать.
Из-за леса появилась большая стая косачей и, быстро увеличиваясь в размерах, начала приближаться к скраду.
Иван Никитич привстал на колено, приложился: бух! бух! Одна из птиц, даже не качнувшись, полетела вниз. За ней полоской крутились в воздухе перья.
— Вот это да! Срезал! — услышал Иван Никитич позади себя восхищенный голос.
— Кого тут леший таскает?! — угрожающе зашипел он, но никто не отозвался. Он настороженно прислушался и, подумав, что ему что-то почудилось, снова принялся юрко шарить глазами по березняку, по скирде, по небу.
Утро загнало темноту в лес, лощины, в горные распадки. Виднее сделалась разваленная наверху скирда; ближе подступил березняк; даже солнце попробовало выглянуть, но чем-то раздосадованное, снова зарылось в облака. В кустах подняли содом сбившиеся в огромную стаю дрозды. Где-то у реки накаркивали непогоду вороны. Но вдруг все эти привычные звуки прекратил задорный голос пионерского горна. «Вот ведь холера, как наяривает!» — восхитился Иван Никитич горнистом и посмотрел в сторону деревни:
— Может, Генка наш?
Захотелось курить. Иван Никитич достал портсигар и только собрался спичку зажечь, как увидел такую картинку, что у него и папироска вывалилась изо рта.
По полю, конвоируемый ребятами, шагал Терешкин. Он что-то доказывал, махал руками и при этом на поясе у него, как живые, шевелились черные косачи.
Не зная еще, в чем дело, но смутно догадываясь, Иван Никитич с ужасом обнаружил, что среди конвоиров шагает его внук, Генка. Стали слышны голоса:
— Да ребята, да я, ей-бо, не я, пришел я, а тут уж все сделано, стало быть, наготове…
— Отпирайся, отпирайся, думаешь, мы не видали! Вот еще один балаган. Ну, как тут дела, ребята?
— Все в порядке, товарищ командир! Ведем наблюдение, глаз не спускаем, аж продрогли.
— Молодцы! Сейчас мы посмотрим, что тут за субчик, — проговорил не кто иной, как Генка, которого ребята почтительно называли командиром.
Иван Никитич нехотя полез из шалаша и, стараясь упрятать смущение, сердито спросил:
— Это кто, я тебе субчик, да?
Глаза у Генки сделались большие, рот открылся.
— Дедка!?
— То-то и оно, что дедка! Я тебе покажу субчика. Такого субчика дам, что не возрадуешься!
Старый солдат, Иван Никитич знал, что лучшая оборона — это наступление и, надо сказать, наступление подействовало на ребят ошеломляюще. Они на какое-то время оробели, получилось всеобщее замешательство. Но продолжалось оно недолго. Первым оправился, как и полагалось командиру, Генка. Словно и не существовало больше ни дедушки, ни Терешкина.
— Давай, ребята, снопы на скирду! — скомандовал Генка. — Ничего, закроем как-нибудь, а потом в сельсовет пожалуемся. Я знаю фамилии обоих.
Ребята поволокли снопы, отяжелевшие от сырости, а Терешкин и Иван Никитич стояли на месте и моргали глазами.
— Эх ты, дедка! — переждав, когда у шалаша не осталось ребят, заговорил Генка, взваливая на плечо сноп. — Когда я окно в школе разбил, ты что говорил? «Труд надо уважать, помогать людям, не вредить!» А сам! Эх, ты! — Он бегом отнес сноп, повернулся и продолжал: — Мы колоски собираем всей школой, а вы наш труд на забаву! А еще учишь всегда. Я про тебя всем ребятам хорошее говорил, а ты… эх ты…
— Ладно, не канючь, а то я слушаю, слушаю, да и оттаскаю за вихры.
— Ну и таскай! Подумаешь! Таскай! А все равно скажу, что думаю! — кипятился Генка и со слезами на глазах повернулся к Ивану Никитичу: — Как мне теперь, по-твоему, стыдно в деревню идти или нет? Собственного дедушку изловил! Эх ты!
— Довольно, довольно, — неловко переминаясь с ноги на ногу и пряча глаза, оборвал внука Иван Никитич, — грамотен больно. Я вот еще велю всыпать тебе, командиру боевому, за то, что ты из дому до зорьки удрал и ребят увел…
— Иди, иди, скажи, папке скажи. Это он научил нас создать пионерские посты. Эх вы! Колхозное добро на забаву… Надо труд людей уважать…
Дальше слушать было невыносимо. Генка прилипчив, как репей. Перенял многое от дедушки. Иван Никитич пошел на хитрость:
— Чего стоишь, Терешкин? Помогать надо пацанам. Видишь, мошенники какие-то нарушили скирду, а мы и ответе.
— Рассказывай, рассказывай, — недоверчиво покачал головой Генка.
Иван Никитич, будто не расслышав этих слов, принялся бойко подавать снопы на скирду. Терешкин молча испуганно моргал глазами, таская снопы с дальнего конца поля. Панически дыша в ухо Ивана Никитича, он зашептал:
— Повлияй, посадют! Ей-бо, посадют!
Иван Никитич зло посмотрел на него, и Терешкин засеменил прочь.
Через полчаса все было закончено. Иван Никитич по-хозяйски поправил последние снопы на верху скирды. Овес мокрый. Его уже прихватило плесенью. Сгорит овес в скирде. Иван Никитич, как старый крестьянин, хорошо понимает это. Он помялся, покашлял и спросил у Генки:
— Молотить-то скоро будут, не знаешь?
Тот не понял, зачем у него об этом спрашивает дедушка, и ответил:
— Скоро. Они уже вон на том поле. Мы там граблями солому от молотилки отгребаем.
Наступило долгое и неловкое молчание. Ребята стали собираться уходить. Генка исподлобья поглядывал на деда, переминающегося с ноги на ногу, который хотел о чем-то заговорить и не решался. Наконец Иван Никитич спохватился, начал суетиться, отыскал узелок:
— На-ка вот, бабушка продукт послала какой-то. Причуды бабьи! Живете-то как?
— Хорошо!
— В пионеры вступил, значит?
— Вступил.
— Ну-ну, оно понятно. Раз возраст дошел, само собой, в пионеры надо.
Помолчали. Вдалеке опять зазвучал горн.
— Так мы пошли, нам надо на работу, а во вторую смену — в школу.
— Что ж, ступайте, ступайте, правильно хозяюете, со строгостью!..
— Не по-вашему, — задиристо ответил Генка.
Когда ребята немного отошли, Иван Никитич протянул было Генке руку, хотел было что-то крикнуть, позвать Генку, но, увидев потрясенное, растерянное лицо Терешкина с дрожащей нижней губой, раздумал. Он закинул за плечо ружье и пошел по тропинке. За ним уныло тащился Терешкин, и убитые тетерева с распущенными крыльями бились о колени, мешая ему шагать.
Долго шли молча. С деревьев падали последние листья, начинался мелкий дождь. Иван Никитич остановился, затоптал окурок, посмотрел зачем-то на небо и, кивнув в сторону деревни, почесал затылок:
— Поохотились! Нажалуются ведь они на нас с тобой, друг. Ух, характер у шельмеца, железо! Собственного деда готов глазищами сразить…
— Погубют! Ей-бо, погубют! — жалобно твердил свое Терешкин.
— Погубить не погубят, но неприятностей наделают. — Иван Никитич прошел несколько шагов молча и сердито добавил: — Поделом!
— Чегой-то? — встрепенулся Терешкин.
— Дождик, говорю, начинается и надолго. Паршивое утро!
Тропинка вывела их снова на линию. Побрели они по шпалам, о чем-то напряженно думая, и ни тот, ни другой не слышали больше тех запахов, которые неслись недавно из темноты. Только кружатся скрюченные листья, моросит дождь и тянет чем-то горьковатым, тальником, наверное. Его много растет по обочинам железнодорожной линии.
В. Астафьев НАСЛЕДСТВО
Лукаша вздыхал, ворочался, кутался в старый полушубок, но сон не приходил. «Укатали сивку крутые горки», — с грустью подумал он о себе и долго после этого лежал неподвижно, забывшись чуткой дремотой. Трещание кузнечиков, голос кукушки, однообразно отсчитывающей в ночи чьи-то земные сроки, начали сливаться в один неясный, слабый звук. И вдруг совсем рядом, в густом черемушнике дико закричала выпь.
— О, чтоб тя разорвало! — выругался Лукаша. — Тьфу ты, нечистая сила, спугнула сон. И достанется же птице такое горло сатанинское — православных с ума сводить…
Лукаша поднялся. Захрустели, защелкали суставы, как сухой хворост. Сердито ворча, он стал складывать в кучу почти затухшие головни. От них повалил дым и вскоре закачался, разрастаясь, синенький огонек. С реки потянуло сыростью; Лукаша ощутил легкий озноб. Лицо его, заросшее колючими, седыми волосами, посерело от бессонницы.
Приближалось утро.
Лукаша с кряхтеньем достал уголек, положил его в трубку и задумался, глядя куда-то поверх потрескивающего костра. Трубка сопела, посвистывала, словно грустила вместе с хозяином.
Да, теперь Лукаша знает, что такое бессонница. Вот племянник Федька об этом никакого представления не имеет. Спит себе у костра, похрапывает под одним дождевиком и холод ему нипочем. Впрочем, и сам Лукаша в Федькины-то годы не жаловался на бессонницу. Бывало, только ткнется где, и готов, хоть сто леших сбежись и ори на разные голоса. А тут какая-то ничтожная пернатая тварь разбудила…
— Ох-хо-хо, парень, парень, хорошо тебе: ни заботы, ни печали, старость-то далеко-о, — заговорил Лукаша, поглядывая на спящего Федьку. — А тяжело, ой тяжело себя стариком чувствовать! Я вот всю жизнь в тайге, любого зверя мог выследить и скрасть, а не заметил, как самого старость скрала. Гордый я человек был, никому не кланялся, все сам делал. Как хотел, так и делал. Вот и остался одинешенек: ни кола, ни двора. А все потому, что людей избегал, медведем жил, на восток крестился, пню молился…
Федька зашевелил губами, промычал тихонько и зябко скорчился, натягивая на себя куцый дождевичок.
— Замерз, — усмехнулся Лукаша, снял с плеча старый полушубок и набросил на Федьку. — Спи давай за двоих, гроза зверей.
Лукаша погрел спину у костра, еще раз набил трубку и подумал: «Чайку бы теперь!» Но не хотелось тащиться с чайником к реке сквозь кустарник, в промозглую темень, не хотелось даже шевелиться. Годы и усталость придавили Лукашу, сгорбили его кряжистую фигуру. Руки, грудь, плечи и даже выпирающие под рубахой лопатки — все говорило о силе, некогда буйной. На его темнокожем от вечного загара лице резко выделялся хрящеватый нос, а черные с желтинкой глаза притаились под пучками лохматых бровей. И надо было заглянуть под эти хмурые брови, встретиться со всегда настороженными, цепкими глазами, чтобы понять, что старый таежник считает проявление каких бы то ни было чувств унизительным для человека.
Чуял Лукаша: скоро-скоро сломят его и прикуют к постели немощи, которые наваливаются на престарелых таежников сразу, как только они покинут тайгу-кормилицу.
Не тайники с золотом, не пятистенные избы и не закрома с хлебом оставляет в наследство охотник. Передает он чаще всего старое, много раз чиненное ружье и в придачу к нему — вольную жизнь, любовь к тайге, к небу, звездам, буйным ветрам — ко всему живому на земле.
Наследником обычно бывает сын. А Лукаша так и не обзавелся семьей. Прожил он с женой всего три недели и еще не успел поверить, что любимая Дуняша с ним, как случилась беда.
Отряд красных партизан после удачного налета на деревню, занятую колчаковцами, пробирался в горы. Лукаша служил тогда на месте покойного отца лесообъездчиком, знал все таежные тропы, не раз водил по ним партизан. В тот день опять пошел с отрядом в тайгу, а когда вернулся, его Дуняша, вся исполосованная шомполами карателей, висела на дереве рядом с избушкой.
Так вот и остался Лукаша один. Покинул он свою избушку, чтобы не глодала сердце тоска, и ушел навсегда в тайгу. Здесь он и жил. Только изредка выходил к людям, чтобы заключить очередной договор с ОРСом сплавной конторы на поставку мяса или сдать пушнину.
А жизнь текла и текла. И вот настала пора передавать кому-то свое ружье, свою любовь к тайге. Ружье он передаст — это вещь. Правда, такая вещь не у всякого имеется — по замочной планке серебряной змейкой извивается надпись: «Лучшему охотнику Луке Романовичу от сплавщиков».
Ружье есть ружье. Если не дарить, так все равно Федьке достанется. А вот как быть с любовью? Тайга — не красна девица, не всегда ласкова. Не жалует тайга людей нерасторопных, малодушных. Тайгу надо уважать. Уважать даже тогда, когда околдует она тебя, запутает в своей лесной дреме; уважать ее и в цвету весеннем и в осенней наготе; уважать, когда она без скупости набивает охотничьи сумы пушниной и когда уводит из-под носа даже никчемного бурундучишка. Сумеет ли Федька принять ее всей душой такую: то шибко добрую, то злую, как неродная мать, то безмерно щедрую, то чересчур скупую?
Отец Федьки умер три года назад, оставив на руках мачехи троих ребят. Двоих младших отдали в детдом, а старший, Федька, остался у мачехи. Та помыкала им, как хотела. Федька делал все: от уборки навоза в коровнике до растопки печи по утрам. Но мачехе было мало — она корила его куском хлеба, ругала за пустячные ребячьи проказы. Когда же в дом стал похаживать сплавщик с лихо закрученными рыжими усами, Федьке и вовсе жизни не стало. В это-то время и появился в доме старший брат Федькиного отца Лукаша. Он пришел подвыпивший, обругал мачеху последними словами и забрал Федьку с собой в тайгу.
У Федьки никто не спросил, хочет он или не хочет ходить по тайге, принимая на себя тяжести и муки охотничьей жизни. Робким, забитым рос Федька. Не любил Лукаша слабых характером людей и оттого держал Федьку в особой строгости. «Ничего, со временем поймет, что для его же пользы это, — рассуждал Лукаша. — Может, выйдет из него охотник». — И подвергал Федьку всяким таежным испытаниям.
Вчера вечером плыли они по реке. Горы подступали к берегам, становились все выше и мрачней. Течение убыстрялось. Откуда-то доносился приглушенный, все усиливающийся шум. Казалось, в горах, шевеля вершинами обомшелых кедров и сосен, дует сильный ветер.
Федька перестал грести и, направляя лодку веслом на стрежень, с любопытством поглядывал то на голые, морщинистые выступы, за которые в страхе уцепились хилые, кривые сосенки, то на Лукашу, сидевшего к нему спиной на багаже посреди лодки и привычно посасывающего трубку.
Приближались к Почивалинскому мысу. Две недели назад они поднимались вверх, таща лодку за собой на бечеве. Встречное течение возле мыса было такое сильное, что небольшое расстояние они преодолевали несколько часов. А когда миновали мыс, Федька спросил у Лукаши, почему это место так называется?
— Много разного народу почивает возле этого утеса, — задумчиво ответил Лукаша.
Течение забирало влево, к низким, будто обглоданным каменным ярам, которые дальше становились круче, превращались в скалы. Отброшенная ими река поворачивала вправо, делая шестикилометровую дугу, а если идти через седловину, то до другой стороны дуги всего полкилометра. Федька ожидал, что Лукаша сейчас повернется к нему и скажет: «А ну, вылазь! Кума с возу — кобыле легче». Но Лукаша достал из-под брезента патронташ, опоясался им, взял ружье, заглянул в стволы и, вложив заряды с пулями, приказал:
— Подверни к берегу.
Федька изумленно округлил глаза и не сразу сообразил, чего хочет Лукаша.
— Уснул?
Федька торопливо загреб веслом с правого борта. Легкая долбленка качнулась и понеслась к берегу. Лукаша стоя набивал трубку и, когда лодка ткнулась в хрустящую гальку, сказал:
— Капканы мне надо на перевале попроведать. Поплывешь один.
Он шагнул на отшлифованный водой плоский камень и добавил:
— Да соображай, как плыть-то!
Федька не нашел, что ответить. Лодку развернуло течением, отбило от берега и понесло, а он все еще неподвижно сидел на корме.
— Как я один-то?.. — наконец взволнованно вымолвил Федька, но Лукаша не обернулся. Его серый дождевик и рыжая шапка замелькали в кустарнике на подмытом, крутом берегу. Оттуда вниз ринулись водопадом камни и все смолкло.
Губы Федьки задрожали:
— Зачем я пошел в охотники? Угробит он меня. Ну и наплевать. Пропаду, отвечать будете! Душегубы! — ожесточаясь, приговаривал Федька и со злом ударял веслом по воде.
Рассердился Федька — и страх куда-то пропал.
Впереди показался Почивалинский мыс. Вечерело. Где-то вверху, над навесом гор, еще светило солнце, а на воде было уже сумрачно. Только на той стороне реки верхний край Почивалинского мыса был ярко освещен, и прослойки слюды, упрятавшиеся в граните, сверкали, переливались причудливыми огоньками.
Федька затих и сжался.
Возле скал кипела и трепыхалась, как подстреленная птица, река. Все здесь подавляло своим величием и угрюмостью. Но у Федьки хватило силы сбросить с себя оцепенение. Весло он держал наготове. Когда лодка приблизилась к расщелине, которая, как пасть огромной рыбины, всасывала воду, парень несколькими ударами весла пересек струю. Подавшись вперед, он сидел, готовый встретить следующую опасность. Секунды решали все. Так же держался в минуты опасности Лукаша. Он не любил попусту махать руками, тратить силы. Федька не думал сейчас о своем наставнике, но бессознательно подражал ему. Он не знал того, что с берега за ним пристально следят из-под лохматых бровей потеплевшие глаза старого таежника.
— У-ух! — облегченно выдохнул Федька, когда Почивалинский мыс скрылся за поворотом, и положил весло..
За Куляпинским островом, на открытом, пологом берегу Лукаша разводил костер. Федька подтянул на берег лодку и сказал:
— Я уж думал, у тебя костер до небес, а ты только бересту разжигаешь.
— Мало ли чего ты думал, — буркнул Лукаша и прикрикнул: — Что стоишь-то? Дров надо на ночь запасать.
«Где же он шлялся так долго?» — с недоумением думал Федька, отправляясь по берегу собирать наносные коряги, корни, пни.
Когда закатилось солнце и медленно истлела за горами желтая ленточка зари, Лукаша с Федькой закинули плавную сеть на ближнем плесе. Заброс оказался удачным — они вынули из липких ячеек сети корзину хариусов и одного ленка. Федька померил ленка четвертями и, не говоря ни слова, выбросил за борт. Старик очумело вытаращил глаза. Придя в себя, он обрушился на Федьку с отборнейшей бранью. Но Федька коротко отрезал:
— Не мерный.
Лукаша опять уставился на Федьку с открытым ртом и после продолжительной паузы, уже более мирным тоном, начал толковать Федьке, что самый вкусный ленок как раз и есть маленький и что из-за его, Федькиной, беспутной головы они лишились редкостной ухи.
— Харюзы есть, из них уха не хуже наварится, — буркнул Федька и укоризненно добавил: — Руки-то у вашего брата загребущие, глаза завидущие, не думаете того, что и после вас люди на свете жить останутся и жрать им тоже захочется…
— Ты… это… не больно! — Но чего «не больно», Лукаша так и не нашелся сказать. Он был и удивлен, и обрадован Федькиной дерзостью: «Обламывается парень, самостоятельней делается. Характер прорезается, как первые зубы у ребенка. Хорошо!» Правда, Лукаше не понравилось Федькино отношение к добыче. Лично он, Лукаша, никогда ничем не разбрасывался. Разве только червонцами после удачной охоты. Ну, так ведь это под пьяную руку.
Да, вот оно, время, вот она тайга-матушка как обтесывает человека. Многому научился Федька, перенял с трудом и слезами, но появился ли в нем тот таежный нюх, без которого нет настоящего охотника? Видно еще не появился. Занемог вот Лукаша, и они плывут без добычи. А бывало ли такое, чтобы старый охотник не сдал на базу ОРСа сплавконторы столько мяса, сколько требовалось сплавщикам! К пятнадцати годам Лукаша уже имел на своем счету двух убитых медведей, лося и четырех маралов. А Федька что? Спит себе у костра, посапывает. Ему наплевать, что его собственный дядя впервые в жизни будет моргать глазами перед начальником ОРСа, и тот ему, может быть, предложит переходить на пенсию. Досадно стало Лукаше от этих мыслей.
— Эй, Федька! — крикнул он раздраженно, но племянник и ухом не повел. Тогда Лукаша сдернул с Федьки полушубок и потряс его за плечо: — Да повернись же ты, варначище, на другой бок. Эк ведь храпишь, прямо хоть уши глиной замазывай!
Федька вскочил и, утирая ладонью губы, сонно забормотал:
— Что?.. Что?.. Плыть пора, дядя Лукаша?
Лукаше стало неловко — зря потревожил парня, но он все же пробубнил:
— Чаю надо прежде напиться, а после уж про отплытие думать. Да чай-то не к спеху, успеем налить брюхо. Поспи еще.
— Не-е, раз уж проснулся, сбегаю.
Федька схватил чайник и поспешил к реке. Было слышно, как булькала вода, наполняя чайник; бренчала крышка. Затем все стихло, и через минуту из тьмы появилась зябко вздрагивающая фигура подростка.
— Кипяти, дядя Лукаша, — сказал Федька, — а я смородинника наломаю.
— В потемках-то где ты его сыщешь? — буркнул Лукаша. — Вечор надо было думать. Сейчас вот по мокрой траве полезешь. — И неожиданно сердито спросил: — Ты проснулся али все еще дрыхнешь? Ты какую дрянь в чайник начерпал?
— Воду… в реке…
— Воду… в реке… — передразнил Лукаша. — Я и без тебя знаю, что в реке не самогонку черпают. А с чем воду-то принес, глядел? — И подцепил рукой из чайника кусочки лопухов и травы. — Это для навару? — Но тут же встрепенулся, пододвинулся к костру и, разглядывая траву, торопливо заговорил: — Погоди, погоди, Федька! А ну, поди сюда! Гляди, чего у меня на ладони?
— Ну, водоросли, экая беда, не заметил, темно. Давай схожу, сменю воду — не тяжело.
— И-м-их, балбес! — почти простонал Лукаша. — Водоросля! Да какая водоросля-то! Откуда она взялась? Почему в чайник попала? Подумал ты об этом? Объедки ведь это? На вот, гляди! — Лукаша поднес к самым глазам Федьки свою жилистую испещренную шрамами, руку.
На мокрой ладони лежали обрывки водорослей.
— Шевели мозгами! — приказал старик. — Приплыли объедки из Куляпинской протоки. На этой стороне, вверху, кроме нее, поблизости заросших мест нету. Объедки еще не осклизли, видишь, свежие на концах. Значит, сохатый кормился в протоке. Уразумел?!
— Понял, дядя Лукаша. А… а, может, он уже ушел?
— Не должон. Сейчас самое время для кормежки. Ты поменьше гадай. Бери ружье и крой! Эх, ноженьки мои, худо бегать стали. Я бы завалил его. Глаз-то у меня еще востёр… Да подползай тише, понял? Ну, чего рот открыл, беги, говорят. Ждать он тебя будет, что ли?
Когда фигура Федьки растаяла в предрассветной мгле, Лукаша начал собираться, тихо приговаривая:
— Ежели бог даст удачу, не стыдно будет сплавщикам на глаза показаться. А то разрешение на отстрел лося выпросил — и явлюсь с голыми руками. Позор! Ну, поглядим, куда ты годишься, охотник! — добавил он, думая о Федьке, и, положив в костер большую корягу, пошел в ту сторону, куда и племянник.
Федька сперва бежал по подмытому берегу, но, приблизившись к Куляпинской протоке, тихо свернул в кусты. Сотни холодных, невидимых брызг сыпались на него с веток. Он прошел всего несколько шагов, а уже промок до ниточки. Половина неба посветлела. На востоке заалела робкая полоска зари, но в кустах было еще темно.
Федька старался идти тихо, осторожно, однако под ногами нет-нет да и потрескивали сучья, и парень в душе радовался тому, что поблизости нет Лукаши. Он вылез из кустов — остановился. Совсем недалеко, должно быть, в протоке, что-то шлепнуло, булькала вода, слышалось сдавленное храпенье и глухое мычанье.
Федька унял сильно бьющееся сердце. Самообладание, всегда нужное охотнику, пришло к нему быстро. А ведь бывало так, что при виде рябчика или утки Федька дрожал от азарта и часто стрелял мимо.
«Что это? Не может быть, чтобы лось так шумел. Он зверь осторожный». Федька тихо, как мышь, прокрался к зарослям черемушника, раздвинул его. С кустов посыпались в воду черные ягоды. В верхнем конце протоки, там, где было мелко и росло много водорослей, происходило что-то непонятное: два огромных темных зверя боролись в воде, метались из стороны в сторону, то ясно вырисовываясь в отблесках зари, плеснувшей в воду ковш жидкого металла, то исчезая в прибрежной тени. Федька, прижимаясь к кустам, побежал в ту сторону и, когда снова выглянул, ахнул: большой бурый медведь сидел верхом на лосе и драл его когтистыми лапами. Лось, высоко закинув голову, возил на себе урчавшего зверя. Борьба шла смертельная. Вся вода в протоке была взбаламучена. По шее лося струями текла кровь. Мотая головой, лось пытался зацепить рогами медведя. Когда ему удавалось боднуть хищника, тот остервенело рычал и еще сильнее терзал лося.
Федька, потрясенный, стоял у крутого яра, наблюдая страшную битву. Звери не замечали его. Наконец он опомнился, взвел курок, вскинул ружье. На прицел попала голова лося, но Федька перевел дуло на медведя. Зубы у Федьки стучали, ружье плясало в руках. «Промажу! — мелькнуло в голове. — Надо успокоиться». Но в это время лось глухо замычал и рухнул на колени. Медведь торжествующе рявкнул.
Не раздумывая больше, Федька спустил курок. Ухнул выстрел и раскатился над рекой. Сквозь дым Федька разглядел, как хищник барахтался в реке, ревел, а потом, путаясь в петлях водорослей, проворно заковылял к острову. Федька выбросил дымящуюся гильзу, вставил новый патрон и снова выстрелил. Зверь, остановился, глухо зарычал и, поднявшись, всплыл на задние лапы, пошел на Федьку. На середине протоки он, будто нехотя, начал оседать: лапы его судорожно загребали воздух.
Лось успел подняться с колен и стоял в воде, пошатываясь, с хрипом втягивая воздух мокрыми ноздрями. Когда медведь кинулся снова в протоку, лось, взметая ногами воду с илом и зеленой кашицей ряски, бросился к берегу, на котором стоял Федька. Тот похолодел, отпрянул в сторону. Лось пронесся мимо него, сделал прыжок на обрыв и грузно сполз назад. Не отрывая взгляда от раненого медведя, Федька краем глаза увидел, как могучие копыта лося цеплялись за камешки, за коренья, которые лопались, словно струны. С тихим мычаньем, похожим на стон, лось смотрел на Федьку, Тело его вздрагивало, в глазах застыли боль, ужас и, как показалось Федьке, мольба. Федька отвел ружье. Лось все-таки собрался с силами, встал и побрел вдоль берега. Впалые бока его грузно подымались и опускались; длинная шерсть бурела от крови. Но шаг его становился ровнее, и уходил он все быстрее и быстрее. Вот лось свернул в черемушник и словно растаял в нем. Только желтые листья, лениво кружась, падали в воду с кустов.
Вдруг медведь зашевелился и с гневным ревом сделал два резких прыжка. Федька от неожиданности растерялся. Не соображая, что делает, отбросил дробовик, выхватил из-за пояса широкий охотничий нож.
Сверкая маленькими глазками, широко раскрыв окровавленную пасть, зверь приближался к Федьке. Вот уже между ними осталось три шага, два… горячее дыхание зверя вместе с яркими брызгами крови плеснулось в лицо подростка. Он невольно защитил лицо левой рукой, а правую с ножом занес над головой. В это время откуда-то сверху раздался выстрел — и медведь, качнувшись, рухнул у Федькиных ног. Но даже в последних судорогах он пытался достать зубастой челюстью своего врага.
— Кто же так делает? — услышал Федька спокойный голос старика. — Ружье в сторону и за ножик! Храбрый дурак не лучше умного труса!
Лукаша спрыгнул с яра, огляделся по сторонам. Взгляд его задержался на лосиных следах. Он перевернул сапогом камешек, на котором запеклись капельки крови, тихо спросил:
— Сохатого-то смазал?
— Смазал, дядя Лукаша, — отводя глаза в сторону, промямлил Федька.
Старый охотник пристально посмотрел на племянника, затем открыл свою двустволку, вынул пустую гильзу и заряженный патрон. Он продул стволы, заглянул в них, мимоходом обмахнул рукавом замочную стенку с надписью и голосом, в котором смешались сожаление и торжественность, промолвил:
— Давай сюда дробовишко-то! Давай, давай. Чего глаза вытаращил? Из моего ружья мазать и стрелять по чему попало, грешно. Понял, наследник? — С этими словами он протянул озадаченному Федьке двустволку. Потом достал трубку, закурил, и оба они долго молчали. — А врать не учись. Марку настоящего охотника вранье изничтожает. Лося-то отпустил, пожалел?
Федька стоял потупившись.
— Ну и ладно сделал. У меня хоть загребущие руки, а тоже иной раз понимаю, что к чему. Вижу, душа твоя навстречу природе открылась. — Лукаша спохватился и, видимо, застыдившись того, что он расчувствовался, ворчливо закончил: — Чего стоишь-то? Свежевать надо медведя. Твоя добыча, ты и свежуй. Первый зверь — это, брат, на всю жизнь в памяти останется…
Федька все еще стоял не двигаясь, не в силах оторвать взгляда от тонких серебряных буквочек, выведенных на Лукашином ружье. «Лучшему охотнику…» Да, теперь он и сам понимал — это на всю жизнь…
А. Домнин ПЕСНЯ
Уже ночь. Поблескивает черная вода в озерце. Темные лохматые кусты словно придвинулись к огню и не то удивленно, не то по-недоброму, перешептываются. Костер горит лениво, пламя с неохотой облизывает сухой валежник. Рядом сидеть невозможно: то в одну, то в другую сторону мечется дым.
Анатолий лежит на спине — или дремлет, или просто смотрит на небо. Оно низкое, мутное, неподвижное.
— Где запропал этот Володька? Ехать пора, — произносит Анатолий.
— А может быть, здесь переночуем…
Володька где-то там, за кустами, бродит по болоту — ищет подранка. Попробуй найди его в такую темень!..
Вот слышно, как Володька тяжело загребает ногами воду. Захлюпала грязь, затрещали сучья — это он в кусты полез… Всплеск и отчаянный вскрик:
— Едят тебя мухи!..
Ага, провалился парень.
— Иди к костру! — кричу я ему. — Утром найдешь!..
— Погоди малость, — доносится недовольный голос из темноты. И снова бредет Володька по болоту…
Мокрый и грязный прибрел он к костру, присел на корточки.
— Восемь…
— Что восемь? — не понял я.
— Патронов осталось… Поехали, что ль?
— Пока туда-сюда плаваешь, рассветет, — говорит Анатолий.
Володька пошуровал палкой в костре, поднялся.
— Вам, знамо дело, так сподручней. А мне нельзя. Корову подоить, хлеб испечь… В общем, оставайтесь. Провизию вашу я утром доставлю.
Надо же было догадаться оставить рюкзаки в деревне! Даже котелок не взяли, чай вскипятить не в чем. А до деревни по морю — без малого пять километров.
Володька ушел. Он долго стаскивал лодку на воду, ворчал с досадой:
— Едят тебя мухи…
Наконец заскрипели уключины, захлопали по воде весла…
Мне показалось, что на нашем островке стало тише и пустынней. Словно что-то очень привычное, нужное увозил Володька.
Есть хочется. Анатолий достал из травы чирка — единственную добычу за этот вечер — повертел в руке в бросил обратно. Что в нем толку, все равно соли нет.
— Давай спать, — говорит Анатолий. Но сам сидит не двигаясь, обхватив колени. — Любопытно, как он будет доить корову. Вымя оборвет…
Я тоже думаю о Володьке. О том, что на штанах у него наляпаны одна на другую заплаты, что громадные сапоги явно ему не по росту. Когда мы были в его избе, по-холостяцки пустой и неприбранной, мне показалось, что здесь давно не было женщины.
Познакомились мы с Володькой несколько часов назад.
Нам нужно было поспеть к вечернему перелету уток. Хотя и был пройден добрый десяток километров, мы не останавливались, не сбавляли хода. Сапоги стали пудовыми, а рюкзаки так нарезали плечи, словно там лежали кирпичи. Последнюю гору перед деревней преодолели уже с трудом.
Остановились у крайней избы, гадая, в котором доме можно попросить лодку.
На крыльцо вышел невысокий паренек в синей навыпуск рубахе, присел на корточки и принялся нас рассматривать. Шея явно длинновата для его роста, и когда он склоняет голову чуть набок, кажется, что он пытается рассмотреть, что находится за нами. Глаз его не видно — они скрыты тенью; солнце резко очертило выдавшиеся скулы, крутой лоб и тяжелый подбородок. Трудно определить возраст парня — то кажется, что ему лет семнадцать, а то и все двадцать два дашь.
— За утками? — спросил он равнодушно.
— Да, приехали вот…
— Поди, лодка нужна?
Мы переглянулись: на ловца и зверь бежит!
— Нужна, — виновато признался я.
Паренек посмотрел на свои грязные босые ноги, подумал и сказал:
— Без лодки вы никуда…
Он встал и пошел в избу. А как же лодка?
— Мы заплатим, — поспешно заговорил Анатолий.
Паренек глянул на него так, словно не понял, о чем идет речь. Потом нахмурился и с обидой ответил:
— Сами зарабатываем. — И ушел. Голос его донесся уже из темных сеней: — Возьмите там, под горой, у березы.
Мы стояли обескураженные. Неприятно, обидели человека… Да в конце концов, ладно, главное — лодка есть.
Нашли мы ее на берегу у сухой березы. Маленькая плоскодонка была просмолена до самых уключин. Спустили ее на воду, начали укладывать вещи.
— Без весел пойдете? — спросил сзади насмешливый голос. Мы оба вздрогнули и покраснели. Рядом стоял наш новый знакомый с веслами на плече. Как мы могли забыть о них?
— Сам не охотник? — заговорил Анатолий, чтобы сгладить неловкость.
— Постреливаю малость… Патронташи-то у вас полнехоньки. Едят тебя мухи. — В его голосе прозвучала зависть. — И порох поди бездымный… Хотя вам что, вы городские…
— А что, у вас плохо с припасами?
— Как сказать. Пороху нет, зато спички есть. Селитрой тоже метров за десять бить можно.
— Вот что, хозяин, — решительно заявил Анатолий. — Сердись — не сердись, а мы тебе дадим патронов.
Парень смутился, склонил голову набок и стал рассматривать свои ноги.
— Зачем вас обижать. На охоте — самим не лишние.
Больше десятка патронов взять он не согласился.
Зато сразу решил ехать с нами. Уговорил оставить рюкзаки в избе и на ночь вернуться в деревню.
Но на перелет уже не успели. Пока выбирали место, готовили шалаши, начало смеркаться.
И вот сидим сейчас у костра, ждем рассвета. Скорей бы он наступил.
…Я проснулся от холода и шума. В первый момент не мог понять, что произошло. Волны с шумом выкатываются на берег, жидкие кустики гнутся почти до земли. Ветер… Какой ветрище! Гонит он рваные облака по небу, гонит по водохранилищу вспененные крутые волны… Вот тебе и охота!
Уже рассвело. Но стоит ли уходить от костра?
Заворочался Анатолий:
— Чайку вскипяти.
— А какао не хочешь?
Анатолий уже проснулся. Огляделся и погрустнел:
— Что ж, будем ждать у моря погоды.
Чтоб скрыться от ветра, мы спрятались за какие-то бревна и решили, что самое разумное в нашем положении — досмотреть прерванный сон.
Тоскливо сидеть в такой шторм на острове, отрезанном от мира. С одной стороны — взбесившееся море, с другой — болото…
И если к тому же знаешь, что есть нечего, голод становится нестерпимым… Может быть, поджарить чирка? Пусть без соли, как-нибудь съедим. А если шторм не на один день…
Над нами пронеслась стайка уток-широконосок. Так стремительно, что я не успел схватить ружье.
— Сели!..
Грязный заливчик весь зарос кустами и камышом. Вот уже минут пять стою я в ольховнике, внимательно оглядывая каждую кочку. Пропали утки!.. Где-то чуть подальше спрятался Анатолий…
— Вдруг гром выстрела. С шумом — совсем рядом — поднялись утки. Крайняя на мушке. Выстрел!.. Но утку отбросило ветром в сторону, заряд пошел мимо.
— Иди сюда! — кричит Анатолий.
Нет, не утку он хочет показать. Заливчик перегорожен плетнем, а в середине поставлена… морда! Анатолий уже вытаскивает ее на берег. В ней кто-то трепещется.
— Что ты больше любишь — уху или жареную рыбку? — смеется Анатолий, извлекая из плетеной ловушки двух жирных карасей.
Рыбешки тут же были торжественно доставлены к костру, поджарены и с великой тщательностью обглоданы. Мясо казалось сочным и сладковатым.
— Еще бы десяточек, — мечтательно произносит Анатолий.
Лучше бы их не было, тех карасей. Только раздразнили…
…Шумит Камское море, хлопаются о берег волны. И чудится, будто в тоскливую музыку ветра и волн вливается далекая песня. Да-да, человеческая песня!..
Вот она ближе, ближе… Ни мотив, ни слов не разобрать, долетают только обрывки.
— Может быть, хозяин морды идет.
— Смешно. Болотами — не пролезешь, а морем — какой дурак решится.
Но песня доносится именно с моря.
— Лодка! — испуганно шепчет Анатолий. — Видишь. Вон там… Пошла ко дну… Все… Нет, опять!..
Мы забрались на бревна и напряженно следим за лодкой. Она то взмоет на седой гребень, то снова исчезнет… А гребец поет!.. Пьяный, наверное. Нет, лодка прямо на нас, по ветру. Уже хорошо видно человека, весла. Вот волна обрушилась на корму… Вторая. Зальет посудину!
— Сильней греби! Скорей! — кричим мы гребцу. — Еще немножко!..
— А ведь то Володька, — говорит Анатолий, побледнев. — Честное слово, он.
— Я сейчас ему покажу, певцу безмозглому!
Мы мчимся к берегу, что-то кричим, машем руками.
Крутая волна подхватывает плоскодонку, выносит ее на песок. Лодка — полна воды. Удивительно, как она держалась?
Володька спокоен, немного возбужден. Нет, он не пьян. Деловито помогает нам вытащить лодку, выгрузить мокрые рюкзаки. На нем нет сухой нитки.
— Хлеб, наверное, подмок, — виновато говорит Володька. Он достает с кормы ружье, из ствола течет вода.
— Ничего. Там еще консервы, колбаса… — отвечает Анатолий.
Мне вспомнилось, что в моем рюкзаке, в самом низу — полсотни патронов. Они, конечно, уже негодны.
Я взглянул на Володьку и отвернулся.
Мне стало стыдно…
А. Зырянов ИВАНОВ КАМЕНЬ
Давно уже скрылось солнце за мохнатым хребтом перевала. Померкли розовые тени на пушистых кромках облаков. Зажглись первые редкие звезды. Где-то рядом глухо заухал ночной разбойник-филин, а мы сидим и сидим… Маленький охотничий костер почти не дает света, да он и не нужен. Светлы майские ночи в наших краях.
Я слушаю рассказ моего собеседника, старого таежника, не раз бывавшего на далеких охотничьих зимовьях, в верховьях Вишеры.
— Ты вот давеча спрашивал меня, отчего та вон гора Ивановым камнем зовется? Давно это было, поди уж забыл кое-что, — задумчиво говорит он. — Однако слушай.
Дед придвинулся поближе к огню и, прикурив от полуобгоревшего сучка, медленно, как бы неохотно начинает рассказывать.
— Тот год был тяжелым. С самой весны до Покрова дня стояла жара. Не то что хлеба — травы на корню посохли. Бывало, поднимешься на поля, посмотришь вокруг — на душе кошки заскребут. В июле на березах лист пожелтел. Вот ведь какое лето! Мне в те поры шестнадцати не было, а запомнилось это на всю жизнь.
Скотину в лесах гнус заедал. Как бешеные носились коровы по лугам, искали спасенья в чащобах — а там медведи. Многие в наших местах тогда лишились всего и, чтобы не умереть с голоду, заколачивали избы, продавали кой-какой скарб и семьями уходили в Сибирь.
По ночам в деревне собаки выли как по покойнику. А к осени начались пожары. Горели леса, дымили торфяные болота, даже зверь уходил из насиженных мест и рыба в реках дохла. «Не к добру это, — говорили старики, — к войне али к другой какой беде, только мора никак не миновать».
Осенью, по первому снегу, потянулись охотники с нартами к уцелевшим лесным избушкам. Да делать-то в лесу было нечего — ушел зверь от огня и дыма, даже птица вся как есть улетела. Идти на дальние зимовья тоже не решались: на одной коре да мясе не проживешь. И кто знал — была ли и там дичь? Леса-то горели по всей Вишере.
Вот и порешили старики направить на дальние зимовья двух охотников, вроде бы на разведку. Собрали их всей деревней и в декабре охотники ушли в тайгу.
Долго они двигались по лесным увалам, где не осталось ми одного живого деревца, по каменистым грядам, по талым болотам. Ночевали прямо на снегу — шалаши делать было некогда, дорожили временем, даже нодью в теплую ночь не рубили. Когда пути до зимовья осталось суток на трое, один охотник сломал себе ногу. В ту пору места там были безлюдные, глухие — на сотни верст ни одной деревни. Хотел второй, Иваном его звали, сделать нарту да тянуть товарища на Вишеру, а там уже санным путем отправить его до ближайшей деревни. Но товарищ заартачился.
— И не думай, говорит, этого делать. Народ нас на дело послал. Ждут обратно в деревню, а ты меня катать собираешься. Иди на зимовья, а как пойдешь обратно, что-нибудь придумаем.
Так и сделали. Устроил здоровый охотник шалаш, дров нарубил и отправился дальше. Вернулся он через неделю тоже больным. Кашель его мучил, грудь кололо. Ведь в снегу ночевал. Кое-как сделал он волока для своего товарища, хотел его тянуть на себе.
Тот опять отказался.
— Пропадем, говорит, парень, в тайге оба. Ну как ты меня потащишь? Хотя и не в обычае это охотничьем, да придется тебе меня оставить. Ждет нас народ в деревне. Иди, говорит, один, а я уж останусь, потом найдут по лыжне.
Хотел его товарищ силой на нарту положить, да тот за ружье схватился, ругаться стал, даже ночевать с собой не пустил. Так и остался в тайге один… Легче самому на смерть пойти, чем так вот товарища оставлять. Но пересилил себя охотник и пошел к дому один.
Вернулся он в деревню и все рассказал. Есть и зверь и птица на дальних зимовьях. А товарищ в тайге остался — на верную гибель. Пошли его искать. Да тут на беду снег повалил, пурга всю лыжню замела. Долго искали охотники, да где там? Тайга, брат, велика. Не то что одного человека — армию схоронит. Так и не нашли. Да и тот, кто вернулся, с неделю не прожил. И за фельдшером в Чердынь ездили, и знахарки его лечили, да все прахом пошло. Помер.
Дед тяжело вздохнул и, оглаживая рыжеватую бороденку, задумчиво продолжал:
— А перед самой кончиной своей просил охотник схоронить его на той горе. С той поры и стала называться она Ивановым камнем. Крест там стоит каменный, да ты, чай, видел, только не знал до сей поры, что к чему. А оно, парень, вот как дело-то было.
— А хорошее там место, — помолчав минутку, снова заговорил он.
Поднимешься туда, а кругом далеко-далеко видно. Простор-то какой открывается. Глядишь с высоты на нее — на Россию-то, доколь глаз хватает, глядишь.
И такой ты большой да могутный кажешься себе на этой горе, что никакие трудности тебе нипочем, никакие беды не страшны. Она, у нас, стариков, гора-то Иванова как целебный источник считается — говорят, есть такие в теплых краях. Многие на ней побывали. И чудное дело: побывает там человек — и вроде бы силы ему в душу добавится, и опять, глядишь, живет, трудится.
Вот и тебе советую, хоть и подсмеиваетесь вы, молодежь, над нашими причудами, когда будет тяжело, приходи на ту гору. Посиди на скамеечке, есть там такая, мой рассказ вспомни, посмотри кругом — и обязательно тебе полегчает.
Дед кряхтя начал укладываться на расстеленные у костра пихтовые ветки. Вспомянув добрым словом печку и овчинный тулуп, он через минуту уже заснул чутким, охотничьим сном. Я подкинул в огонь несколько, сучьев и отошел от костра, чтобы не беспокоить старика. Все еще где-то поблизости ухал филин. Легкий туман незаметно кутал тайгу, наполняя ее свежестью и ароматами весны.
А. Спешилов МЕДВЕЖОНОК СТЕПКА
Летом в двадцать третьем году я, вместе с городскими мешочниками, попал в верховья Камы, в село Кайгород. Мешочникам было хорошо. У них и колечки, и брошки, и иголки, и медные кресты, и зажигалки, и кремни, и сахарин. А у меня были только рыболовные крючки, которые я сам наделал.
Мешочники выгодно меняли свои побрякушки на хлеб, на картошку, а мои крючки спросом не пользовались, так как кайгородские рыболовы сами не хуже меня их делали.
Пришлось уезжать. Я выменял на топор старую лодку, изготовил несколько переметов, на колке дров у местного попа заработал мешок сухарей — и поплыл вниз по Каме. На песчаном берегу построил шалаш и занялся рыболовством.
Однажды рано утром я объезжал на лодке жерлицы. Их у меня было расставлено больше десятка. Осмотрев самую дальнюю и сняв с нее крупного окуня, я заметил вдруг, что у моего шалаша кто-то копошится. Присмотрелся — и в дрожь меня бросило. На высоком яру топталась медведица, а медвежата громили мое хозяйство.
Что будешь делать? Оружия у меня с собой не было, а с голыми руками на зверя не пойдешь. Стал ждать.
По реке потянул ветерок. Медведица учуяла запах человека и скрылась в лесу.
Обождав с полчаса, я подплыл к лагерю. Вышел из лодки, подбежал к шалашу и отшатнулся. Под кучей пихтовых прутьев кто-то отчаянно барахтался. «Медвежонок, — мелькнула догадка. — Вдруг медведица вернется за своим детенышем?» Я влетел в лодку, оттолкнулся от берега, доплыл до середины реки. Только тут остановился.
Медведица не возвращалась. Осмелев, я вернулся на свою стоянку и стал разбирать разрушенный шалаш. Медвежонок, опутанный шнурками перемета, лежал без движения. Я перетащил его в лодку. Спешно погрузив все, что осталось от разгрома, я спустился верст на двадцать вниз по реке от этого места и махнул рукой на все свои жерлицы.
Причалил на открытом месте, набрал хвороста, развел костер. Медвежонок бился и визжал, когда я стал его распутывать! Все сто крючков перемета впились в его густую шерсть. Я изранил руки острыми крючками, изрезал ножом весь перемет. Потом привязал медвежонка к колу и стал варить уху из единственного окуня, снятого утром с жерлицы.
Прошло двое суток. Медвежонок дичился, ничего не ел. Я стал беспокоиться, как бы он с голоду не погиб. Раскаивался, что на гибель отнял его от матери. Надо было бы его в лес отпустить.
Мне припомнились рассказы о медведях-рыболовах. Если они ловят рыбу, значит, и едят ее. Я вынул из садка подлещика и бросил медвежонку. Он проглотил его живьем.
Через несколько дней медвежонок стал совсем ручным. Он беспрестанно играл, как щенок, ходил за мною по пятам. Мы вместе плавали по реке, ставили и осматривали рыболовные снасти. Вид у медвежонка был в это время такой, что можно было подумать, будто он мне и в самом деле помогает. В холодные ночи — уже наступала осень — мы спали с ним в обнимку. Назвал я его Степкой.
До того он был прожорлив, что у меня в скором времени вышли все сухари. Однажды Степка растерзал мешочек с солью, а она в то время ценилась на вес золота. Пришлось грузиться в лодку и плыть ближе к населенным местам — за солью.
В первой деревне, куда мы приплыли, выйти на берег не удалось. Со всех сторон к лодке набежали собаки и подняли такой лай и вой, что хоть уши затыкай. Под собачий концерт мы оставили негостеприимный берег.
На ночь остановились в безлюдном месте. Под утро всю реку заволокло первым осенним туманом, а костер за ночь прогорел. Натыкаясь в тумане на пни и кочки, я стал торопливо собирать хворост. С большой ношей сухих прутьев до места ночлега я добрался с трудом. Из-за тумана за три шага даже деревьев не было видно.
Стояла жуткая тишина. Разжигая костер, я неожиданно услышал плеск весел. Звуки удалялись: кто-то отъезжал от берега. Я крикнул:
— Эй! Подплывай сюда! Вместе-то веселее!
С лодки никто не ответил. Тогда я сам решил догнать проезжавших. Позвал Степку. Медвежонок не откликнулся. Поднял плащ, под которым с вечера спал медвежонок, — и тут его не оказалось.
Кричал, звал. Когда ветер разогнал туман, я обшарил прибрежные кустарники и весь лес обошел, до нитки промок в лесу. И все напрасно. Зверь, почуя волю, ушел в лес. Сомнений у меня больше не оставалось. Я сел в лодку и поплыл дальше в низовья, уже один.
Под вечер я увидел на берегу дымок костра и решил причалить, чтобы провести ночь не в одиночестве.
У костра никого не оказалось, да он уже давно и прогорел. Одни головешки дымились. У кострища на примятой траве валялись окурки, рваная бумага и разный мусор, который оставляет иногда после себя на месте отдыха неаккуратный человек.
Я бросил на угли сухую сосновую ветку с красными иголками. Взметнулось пламя. Мое внимание привлек пень шагах в десяти от костра. Верх его был окровавлен, рядом лежали внутренности заколотого животного.
Всю ночь и весь следующий день гнался я за мешочниками на лодке, руки в кровь намозолил, но никого не догнал.
Так закончилась в тот год моя поездка в верховья Камы.
А. Спешилов ЗИМНЯЯ СКАЗКА
В первую зиму после гражданской войны мне с группой бывших красных партизан пришлось налаживать хозяйство в одном из районов Прикамья. Чуть не ежедневно по заснеженному тракту мы ездили верст за двадцать в районное село по разным неотложным делам.
Тракт тянулся по высоким холмам — увалам. Его пересекали глубокие лога с огромными снеговыми карнизами. Бывало, едешь под таким карнизом и оторопь берет — вдруг свалится на тебя снежная громада и похоронит вместе с лошадью.
Как-то в январе мы вдвоем подъезжали к своему поселку. Накануне был буран, сменившийся тихой, но снежной погодой. Снега навалило чуть не в рост человеческий. Лошадка по колено утопала в рыхлой массе, мы вынуждены были брести пешком и помогать ей тянуть тяжелые розвальни.
На въезде в поселок дорога стала лучше. Мы уселись в сани. Лошадь бойко побежала домой, чувствуя близкий корм и отдых.
Вдруг совсем близко из-под залепленного снегом плетня выскочил заяц.
— Берегись, косой! — крикнул кто-то из нас. Любопытный зверек вместо того чтобы удирать, остановился и стал прислушиваться. В этот момент откуда-то появилась лиса с длинным пушистым хвостом. Она заметила зайца и бросилась на него. Тот скакнул в сторону и помчался. Хищница — за ним вдогонку.
Мы остановили лошадь и с любопытством стали наблюдать за интересной жестокой игрой.
Заяц бежал легко, а лисица то и дело проваливалась в рыхлом снегу. Должно быть, заяц чувствовал свое преимущество. Он отбегал метров на двадцать, останавливался и глядел, как рыжая в снегу барахтается.
Лиса шла кругами, загоняя свою жертву на вершину холма, где снег выдуло, а заяц лез в самый глубокий и рыхлый снег. Но вот, изловчившись, она схватила зайца зубами за бок — только шерсть полетела. Заяц вырвался, прыгнул к плетню и исчез. Лиса пробежала по инерции несколько шагов, остановилась и жалобно затявкала. Заяц мелькнул с другой стороны плетня, лиса снова принялась его преследовать и отстала лишь когда он скрылся в гумнах на окраине поселка. Она медленно побрела в обратную сторону на вершину холма, где чернели заросли вереса.
Приехав домой, мы решили отравиться добывать лисицу. К сожалению, у нас не нашлось никакого охотничьего оружия. Его уничтожили белые при отступлении. Вооружились мы, чем могли — у кого винтовка, у кого наган.
Нас повел Иван Яковлевич. Старый, опытный охотник сумел все-таки спрятать и сохранить от белых шомпольный дробовичок.
Мы хотели было окружить холм и искать зверя в вересовых кустах. Иван Яковлевич не согласился.
— Лисица голодная, — объяснил нам охотник. — Она не будет сидеть в кустах да ждать, чтобы прямо ей в пасть полез заяц. Она сейчас до утра будет рыскать около гумен, где хоть мышью может попользоваться, а то и в чей-нибудь курятник в деревне заберется. На гумнах надо ее искать.
— А почему она в лесок убежала? — спросил я.
— В деревню, что ли, от вас бежать-то было? Правильно она сделала. Вы сюда, а она в противную сторону. Жив смерти боится.
Иван Яковлевич расставил нас «по номерам», а сам отправился, как он выразился, «шугать» на гумнах.
Я лежал около омета соломы, вглядывался вдаль, прислушивался к каждому шороху. Солнце уже давно закатилось, прояснилось небо, стало крепко подмораживать. От холодной стали винтовки коченели руки. От леденящего воздуха глаза застилали слезы. Думаю: еще немного времени — и не выдержу, оставлю свой пост.
Вдруг что-то хрустнуло. Из-за молотильного сарая выбежал заяц, а за ним долгожданная лисичка. Я не успел вскинуть винтовку, как из-за моей спины хлопнул выстрел. Лиса ткнулась мордочкой в снег и замерла. Перепуганный заяц встал, как вкопанный. Я прицелился в него. Но чья-то рука отвела ствол винтовки. Рядом со мной стоял Иван Яковлевич.
— Лисицу взяли, — сказал он, — а для чего зайца бить? Пусть живет на здоровье.
А. Спешилов ГОРЕ БРАКОНЬЕРА
— Зачем, Иван Иванович, вы взяли с собой ружье?
— Уток бить. Ведь не будешь по ним стрелять из палки.
— Не знаете, что ли, что нынче весенняя охота запрещена?
— В прошлом году тоже была запрещена, а я все лето постреливал. И не безрезультатно…
Разговор происходил на борту катера между мотористом и пассажиром, работником сплава, который пробирался с Камы на реку Весляну. Моторист Федя, несмотря на раннюю весну, уже успел загореть дочерна. Пассажиру лет под сорок, у него бледное лицо, черная бородка, усы сбриты.
Широко разлившаяся река затопила прибрежные леса. На тех местах, где летом в лодке не проедешь и где, как говорят, курица пешком перейдет, сейчас двухметровая глубина, и пароходы тянут тяжело груженные баржи.
Когда наши путешественники проехали село Гайны, неожиданно забарахлил мотор. Пришлось пристать к берегу. Моторист занялся мотором, а Иван Иванович, пользуясь подходящим случаем, решил поохотиться. Он вытащил из чехла ружье, заглянул в стволы и похвастал:
— Как зеркало! Вот что значит уход за охотничьим оружием.
Положив стволы на борт, Иван Иванович стал проверять замки и около бойков заметил тоненькую свинцовую пленку.
«Должно быть, дробинка случайно попала и расплющилась, — сообразил Иван Иванович. — Надо привести в порядок».
Деревянным концом шомпола он начал счищать приставший свинец. Другим концом он нечаянно задел стволы. Они булькнули в воду.
Иван Иванович обернулся на плеск — и все понял.
— Федя! Я стволы утопил.
— Как утопил?
— Столкнул шомполом нечаянно… Никак нельзя достать?
Моторист смерил шестом глубину. Оказалось метра два.
— Глубоко, — проговорил моторист, — и вода мутная. Не достать без водолаза.
Иван Иванович в сердцах поднял ложу и размахнулся, чтобы отправить ее вслед за стволами.
— Не надо, Иван Иванович, — остановил его моторист. — Лучше мне подарите.
— Для чего одну ложу без стволов?
— В хозяйстве все пригодится…
Прошло лето, настала пора разрешенной осенней охоты. Иван Иванович на том же катере возвращался с Весляны в низовья.
По вечерам на реку садились утки, по утрам многочисленные стаи водоплавающих тянули низко над водой. А ружья у Ивана Ивановича не было. Закусив свою бородку, он часами наблюдал за перелетом. Но близок локоть, а не укусишь. А моторист Федя посмеивался:
— Это вам, Иван Иванович, в наказание. Не занимались бы браконьерством — и ружье бы не утопили… Не далеко отсюда есть старица. Дичи там! Уток, гусей — тысячи…
Иван Иванович хмурился, злился, но не отвечал.
Однажды вечером Федя подвел катер к берегу.
— Здесь старица, — сказал он. — Сходить, что ли, поохотиться?
— А ружье?
— У меня есть ружье, а у вас нету ружья.
— Правильно, у меня нет ружья, — грустно проговорил Иван Иванович. — А у тебя откуда оно появилось?
— Мы осенью, когда разрешена охота, без ружья не ездим. — И Федя в подтверждение своих слов вынес из кабинки «тулку».
— Чем не ружье? Стволы, как зеркало. Вот что значит уход за охотничьим оружием.
— Дай взглянуть, — попросил Иван Иванович. Федя охотно протянул ему двустволку.
Иван Иванович долго вертел в руках ружье, со всех сторон его осмотрел, в стволы заглянул, разобрал, снова собрал, вскинул несколько раз к плечу. Наконец передал Феде.
— Честное слово, твоя «тулка» не хуже той моей, что весной утонула.
— Вы на номер посмотрите, — сказал Федя и поднес ружье к лицу Ивана Ивановича. Тот посмотрел, отстранился и проговорил:
— Номер сходится. Неужели? Ружье-то ведь мое, Федя.
— Правильно, да не совсем. Было вашим, стало моим.
— Как так?
— Очень просто. Ложу вы мне подарили, а стволы, когда сбыла вода в реке, я на сухом месте нашел. Ведь я на катере здесь несколько раз проезжал.
— Ничего не поделаешь, — сказал Иван Иванович. — Ружье твое…
С реки на старицу, богатую дичью, пробирались два охотника. Впереди Федя с ружьем, а за ним вприпрыжку, без ружья, Иван Иванович.
А. Спешилов ЧУЖАЯ СОБАКА
В полночь к моему костру подошел незнакомый охотник с собакой. Это был пожилой человек, сухой, костлявый, чисто выбритый. Передних зубов нет; глаза сидят глубоко в своих впадинах. На ногах болотные сапоги, одет в ватник. Через плечо перекинут чехол с ружьем и большая кожаная сумка. Не поздоровавшись, не спросив разрешения, охотник сел к костру.
— Огонек увидел, ну и пришел на огонек, — проговорил он глухим голосом. — Самому дров не придется заготовлять для костра. У каждого плута свои расчеты. Думаю, по закону гостеприимства ни один охотник не прогонит гостя от своего костра.
— Знаете старинную пословицу, — ответил я, — насчет незваного гостя?
— Это было при царе-косаре, назад тому лет пятьсот…
— Вы истории мне не читайте, — вспылил я. — Кустарник недалеко, на берегу Камы. Сходите за хворостом, тогда и грейтесь до утра… Ночи сейчас длинные…
— А если не пойду?
— Убирайся ко всем чертям!
— А ты не ерепенься. Жука, куси!
Собака, молодая дворняга, с недоумением протянула морду в сторону хозяина, не понимая, чего от нее требуют.
Вижу, собака глупая, но из предосторожности пришлось взять ружье и вскочить на ноги.
— Вот как получается, — пробурчал охотник. — Я пошутил, а вы в бутылочку… Пойду за дровами.
Охотник встал, собрал свои вещи, позвал собаку и ушел. А я, решив, что отвязался от непрошенного гостя, подбросил в костер сухих сучьев, повесил над огнем чайник и прилег вздремнуть немного.
Не успел вскипеть чай, как, к моему большому неудовольствию, снова явился охотник с охапкой топлива.
— Вот и дровишки, — проговорил он, сбрасывая хворост на землю. — Теперь, конечно, имею полное право посидеть у огонька?
— Сидите, — ответил я.
— Вот и договорились. А я упрел с этими проклятыми дровами.
Охотник снял сумку и ружье, сбросил ватник и стал устраиваться у костра.
— Если вы действительно решили сходить за дровами, — проговорил я, — то незачем было таскать с собой всю амуницию.
— Я не знаю, с кем имею дело и что у вас на уме. Человек вы серьезный… Давайте знакомиться. Зовут меня Степан Корепа, работаю на дороге прорабом.
Поспел чай. Корепа достал из сумки хлеб, колбасу, две луковицы, соль и бутылку охотничьей водки. При виде колбасы его собака жалобно заскулила. Корепа, ни слова не говоря, пинком отбросил ее от костра. Раздался душераздирающий визг.
— Зачем бьете собаку?
— Не ваше дело, — ответил Корепа. — Собака моя.
— Жука, иди сюда, — позвал я собаку. Она; мелко вздрагивая, подползла ко мне. На глазах слезы.
— Вы не имеете права портить чужую собаку. Я ее трое суток перед охотой не кормил.
— Что за издевательство?
— Чтобы лучше за дичью шла, — объяснил Корепа.
— Чепуха это. Она совсем отощала, и если ее сегодня не накормить, она вообще ни за какой дичью не пойдет.
— Заставлю — и пойдет! — грубо бросил Корепа. Он попытался снова пнуть собаку, но та своевременно отскочила, понуря голову, отошла в сторонку и стала рыть лапами землю.
— Опять мышей ищет, — сказал Корепа. — Жука, ко мне!
Собака не обратила внимания на его приказ. Корепа вскипел, схватил ружье.
— Пристрелю!
— Бросьте вы дурака валять, — сказал я. — Давайте ужинать.
Корепа опустил ружье…
В компании с таким охотником мне той ночью спать не пришлось. Просто не хотелось.
На рассвете я стал будить Корепу. Он кряхтел, мычал, ругался, но на ноги подняться не мог — действовала выпитая водка. Я оставил его одного на месте ночевки.
На дальних озерах уже слышались выстрелы. Весело похрустывала под ногами покрытая инеем трава, в вышине пролетали на юг журавли, крякали невидимые чирки. Несмотря на бессонную ночь, я чувствовал себя бодрым и вскоре, увлекшись охотой, забыл и ночные приключения и самого Корепу.
В полдень на берегу Источного озера я остановился на привал. Развел костер, разложил на газете еду, и впервые за день почувствовал сильную усталость. Даже аппетит пропал. Меня непреодолимо тянуло ко сну. Не помню, как задремал, свернувшись у теплого костра.
Вдруг недалеко от меня, в ольховнике, грянул выстрел, послышался истошный визг и вой зверя.
Схватив ружье, я ринулся в кусты.
У ствола ольхи билась на земле собака Жука. Передние лапы и морда в крови. В нескольких шагах от нее стоял Корепа и перезаряжал ружье.
— Что вы делаете!? — закричал я и схватил его за локоть.
— Отстань! Собаку расстреливаю… Видишь?
Он оттолкнул меня и снова выстрелил. Жука страшно взвыла и вытянула перебитые задние лапы.
Не вытерпев, я вырвал у Корепы ружье и отбросил в сторону. Оно ударилось о пень. Ложа треснула.
— За что собаку бьешь?
— За уткой не идет… мышей ловит…
Собака продолжала визжать.
Когда я вскинул ружье, Корепа трусливо поднял трясущиеся руки.
— Мерзавец! — вырвалось у меня. — Тебя бы надо пристрелить, а приходится кончать собаку… Из жалости, чтобы не мучалась напрасно…
А. Спешилов У КАМНЯ ГОВОРЛИВОГО
В компании охотников я ехал на буксирном пароходике по Вишере.
Была осень. Первые заморозки уже сняли с березняка летний покров. На прибрежных песках гнили ржавые листья. Только в тайге, на склонах каменистых гор, кое-где еще горели оранжевые пятна рябин.
Высоко над лесами вздымалась громада Полюд-горы. Пароходик прошел мимо камня Ветлана, что отвесной стеной опускается прямо в Вишеру.
Поровнялись с камнем Говорливым. Рулевой дал свисток — и камень заговорил. Прокатилось громкое эхо.
Журчание воды в речке Говорухе, что впадает здесь в Вишеру, шум крыльев пролетевшей птицы, любой шорох, малейшие звуки усиливает и отбрасывает от себя чудесная гора.
Во время осеннего паводка Вишера становится бурной. Вверх по течению мы плыли медленно, не прямо по фарватеру, а зигзагообразно — от левого берега к правому, затем от правого к левому и так далее. Казалось, пароход взбирается в гору.
То с правой, то с левой стороны, как неприступные гигантские крепости, открывались взору знаменитые вишерские камни-горы, далеко-далеко на горизонте синел Уральский хребет.
Я сидел на скамейке у штурвальной рубки и забыл, куда еду и зачем, так было величественно и красиво кругом. И вдруг — как удар по голове:
— Утка!
Это крикнул рулевой.
— Самый тихий! Стоп!
На мостике появился капитан.
— Что за пристань? — спросил он рулевого.
— Утка, Иван Григорьевич. Перед самым носом, — объяснил рулевой.
Действительно, совсем недалеко от парохода плыла дикая утка.
Вышли из каюты охотники, впопыхах заряжая ружья.
— Ну и утка! — не унимался рулевой. — Вперегонку с пароходом плывет, летать не желает…
«Должно быть, подранок», — подумал я. В этот момент раздался залп из трех стволов. Утка ушла под воду и вынырнула метров за десять, в другом месте. Охотники снова разрядили ружья. Утка снова нырнула… И пошла пальба. Ружейные выстрелы, эхо камня Говорливого — все слилось в сплошной грохот и гул.
Рулевой, мальчишка из практикантов, крутил штурвальное колесо, топтался в рубке и «болел», брызгая слюною:
— Тут она, тут… сейчас вынырнет… Дуплетом лупи! Эх, мазилы! Опять не попали. Ну и живучая, собака!.. Так ее, так. Не уйдешь!
Утка упорно боролась за свою жизнь, несмотря на подбитые крылья. Она на секунду показывалась из воды и снова ныряла.
На палубу высыпали любопытные из команды парохода. Кто критиковал неудачных охотников, кто давал советы. Но в защиту жертвы — ни одного слова, как будто это была не безобидная, несчастная, уже подбитая утка, а злейший враг.
Наконец утку убили. Она спокойно проплыла мимо парохода, уже ни у кого не вызывая интереса. И никому она не была нужна.
Смолкли выстрелы, замолчал и камень Говорливый. Мои соседи были, по всей видимости, довольны удачной охотой…
А. Спешилов СОМЕНОК
Кто бывал в низовьях реки Камы, тот, конечно, знает Чертово городище на правом берегу ниже Елабуги. Здесь Кама, притиснутая к горе, течет по каменистому ложку. Глубина ее в омутах достигает двадцати метров. Какое приволье для рыбы! Водятся тут во множестве лещи и язи. Не подъязки, а именно язи, крупные, до двух килограммов весом, а лещи — как печные заслонки. Но хозяином здешних угодий является усатый, прожорливый сом.
Сколько басен я наслышался о елабужском соме! Рассказывали, что сом утащил однажды в воду купающегося школьника, перевернул лодку у неосторожного рыболова, чуть ли пароход не утопил.
Все это явно преувеличено, но нет дыма без огня. Меня неудержимо потянуло к Елабуге.
Сел я в Перми на пароход и через три дня был на месте. Попал туда накануне выходного дня. Вижу: весь берег ниже пристани усеян удильщиками. Решил идти дальше, где меньше народу.
Солнце стояло на закате. Через Каму от высокой горы падали фиолетовые тени, в кустарнике заливались соловьи. Много заметил и других красот, но мне некогда было любоваться ими. Я спешил туда, где ждала меня добыча.
За речным поворотом стали попадать нагромождения камней. Гранитные навесы, пещеры — естественные убежища от непогоды. Ни палатки, ни шалаша не надо.
От берега в реку тянулись дощатые мостки. На них сидели настоящие елабужские рыболовы. Щетинились тяжелые удилища с колокольчиками — донки на лещей. Более легкие удилища рыбаки держали в руках и беспрерывно размахивали ими — ловили язей «в проводку».
Забравшись на свободные мостки, я поставил две донки и стал ждать клева. Я впал в своеобразный рыбацкий азарт. Обычно в таком состоянии удильщик забывает все на свете. Хоть пожар, хоть гроза, хоть взрыв бомбы — ко всему постороннему удильщик безучастен. В такой момент что хочешь с ним делай. В воду столкни — он и не заметит.
А как бьется сердце, когда после подсечки чувствуешь, как на леске ходит крупная рыба! Сколько радости, когда она бьется у тебя в ногах на мокром песке!
А кто из вас видел выражение лица истинного удильщика? Улыбается, глаза блестят, он шевелит губами, как будто бы уговаривает рыбу не томить его бесконечным ожиданием.
У меня долго не клевало. Наступал вечер. Тут и там на берегу запылали рыбацкие костры. Я решил смотать удочки в самом прямом смысле. Взял удилище в руку, и тут вершинка его дернулась. Сделав подсечку, я подтянул к мосткам большого леща. Поднять на мостки его было невозможно. Пришлось тащить рядом с мостками на отмелый берег.
Первая удача обрадовала меня. До наступления ночи я выудил еще несколько лещей.
Спустилась ночь. Все удильщики сидели у костров. То и дело на чьей-либо донке звенел колокольчик. Рыбак вставал как бы нехотя, уходил на мостки и доставал рыбу.
Разговоры, как и полагается на рыбалке, вертелись вокруг рыбы, рассказывались самые невероятные, фантастические случаи и приключения. Один старик утверждал, что сомы по ночам в большие росы ползают по лугам и нападают на баранов. Но, кроме обычных рыбацких историй, я услышал и много полезного для себя. Узнал, например, что сом берет на лягушку, с крючка не срывается, и, если снасть крепкая, вытащить его не так-то трудно.
Наслушавшись рассказов о сомах, я тут же отправился на поиски сомовьей насадки. Обшарил все ложки и расселины в камнях, но натыкался только на ящериц. Дошел вверх по реке до самой пристани, спустился в болото — и поймал, наконец, трех лягушек.
К толстому крепкому шнурку я приспособил якорек с проволочным поводком, ниткой привязал к якорьку лягушат и с мостков закинул снасть в воду.
Прошло часа два в напряженном ожидании. Стало светать. Потянуло холодком. Хотелось курить, а руки так замерзли, что папироску свернуть невозможно. На берегу манил к себе большой костер, но… охота пуще неволи.
Поклевки я все-таки дождался. Леску так сильно дернуло, что хлипкие мостки дрогнули. Я торопливо отвязал шнур от мостков, обмотал его вокруг руки, чтобы не вырвался, и по мосткам перешел на берег.
Рыба сопротивлялась тяжело. Мне казалось, что я тяну не сома, а мешок с картошкой.
К месту «боя» подошли от костра любопытные. И без них душа уходила в пятки, а они давай «болеть», как на футболе.
— Не вставай!
— Тащи неторопливо.
— Оттягивай от мостков, а то запутается за козлины.
— Эх, ты! Бестолочь…
Вдруг леса ослабла. Неужели рыба сорвалась? У меня и в глазах помутилось. Но тут я увидел недалеко от берега что-то черное, пузатое.
— Выбирай свою веревку! — крикнули мне. — Как рванется в глубину — оборвет. Ей-богу оборвет.
И, действительно, сом рванулся в омут. Шнур натянулся, как струна, больно врезался в руку. Тяну изо всей силы — не поддается.
— Тяни! — кричали мне болельщики. — Ни вершка не сдавай…
Снова ослабла леса. Я быстро стал выбирать ее. Сом всплыл на поверхность уже не сопротивляясь. Я выволок его из воды далеко на берег.
Рыбина была в длину с полметра и толстая, как поросенок. У меня от радости и напряжения колени тряслись, дрожали руки.
К сому подошел старый рыбак, с презрением пнул его носком сапога и проговорил:
— Соменок!..
А. Спешилов РЫБАК РЫБАКА ВИДИТ ИЗДАЛЕКА
Весна была поздняя. Сердитые утренники задерживали таяние снега. Река прибывала медленно — по вершку в сутки. После первой подвижки льда прошла целая неделя, а лед в заторе был по-прежнему крепок и неподвижен. Даже появились свежие дороги и тропинки на льду, как осенью, после ледостава.
Только в начале мая хлынули проливные дожди. В два дня был смыт снег с полей, вздулась Кама и шумно очистилась ото льда.
Проснулась щука в озере Якунине и, как говорится, хвостом разбила хлипкий весенний лед. На озере появились рыболовы. И я, собрав свои рыболовные снасти, отправился на это озеро.
Большое оно, рыбное. По берегам густой ольховник, покрытый молодой зеленью, у воды — большие кочки.
Отыскивая удобный подход, я набрел на удильщика. И не понял сразу, старик ли это или старуха. Сидит без шапки, по самые плечи седые кудри, а на лице ни усов, ни бороды. Одет в синий домотканный армячок, из-под подола высовываются новенькие лапти с красными опушнями; онучи с голубой каемкой. Рядом большая заплечная сумка из лыка — пестерь и берестяной туес.
— Клев на уду! — приветствовал я удильщика.
— Спасибо, друг.
— Клюет ли?
— Не клюет, — ответил старик. — Погода испорухалась. Да! Сиверко дует. — Я с удивлением заметил, что у него полон туес рыбы.
Мы быстро познакомились. Когда же я подарил ему старую газету на курево и несколько мелких фабричных крючков — у старика были самодельные, — мы и совсем подружились. Звали рыболова Яков Степанович. Жил он в ближней деревне.
— Сколько тебе лет, Яков Степанович? — спросил я.
— Молодой еще. Первые десятки доходят.
— Как это первые десятки?
— На другую сотню первые десятки.
— Как живешь? Колхоз кормит?
— Сам кормлюсь. Огороды в колхозе караулю да рыбку ловлю.
На безбородом лице старика появилась веселая улыбка. Я спросил:
— Почему у тебя бороды нет? Бреешься?
Яков Степанович пощупал свой голый подбородок.
— Мне ее ни к чему… Когда я был молодой, подбородок пареными орехами шоркал, волосы и вывелись. Да!
Успокоилась напуганная моим приходом рыба и снова стала поклевывать. Я тоже закинул свои удочки.
Тишина. Только недалеко в ольховнике нет-нет да и звякнет коровье ботало. Старик проворчал себе что-то под нос, поднялся на четвереньки, вынул из пестеря большой нож-косарь, медленно встал и, хромая на правую ногу, отправился в кусты.
«Не корову ли резать?» — подумал я. Вскоре послышалась возня, в кустарнике что-то затрещало. На берег вышел Яков Степанович с ножом в одной руке и с железным колоколом-боталом в другой.
— С коровы срезал, — объяснил он. — Чтобы удить не мешала, рыбку не отпугивала… Доколоколила буренушка…
Так состоялось мое первое знакомство с Яковом Степановичем. С той поры я каждое лето во время отпуска переселялся из города в деревню к своему приятелю. Мы с ним удили рыбу, мокли под дождем, сохли под солнышком, жили в балагане, спали у костров, вместе переживали разные тревоги и приключения.
А. Спешилов ЁРШ
Две недели стояла жара. Прибрежные травы и цветы, даже желтые кувшинки на озере, поблекли и свернулись. Совсем изленилась рыба. Ни всплеска сороги, ни игры карася, ни сердитых бросков зубастой щуки.
Озеро замерло. Лишь изредка на масляной поверхности воды пробежит водяной паук-мизгирь да вскочит пузырь от гниющих на дне водорослей.
Мы с Яковом Степановичем сидим на солнцепеке и уныло глядим на поплавки. Тоска смертная! А сидим и сидим, превозмогая жару и дремоту.
Яков Степанович вытащил из озера лески, одна с червяком — для окуня, другая с хлебом — для сороги, — поправил насадки, закинул лески как можно дальше от берега, улегся на спину между кочками, прикрыл лицо фуражкой, чтобы гнус не заедал, и захрапел.
Мне стало совсем несносно сидеть в одиночестве. Вместо двух замерещилось двадцать поплавков. Свернул я папироску. Покурю, думаю, и — черт с ней, с рыбой! Тоже завалюсь спать.
Вдруг на леске Якова Степановича заплясал поплавок и скрылся под водой.
Не стал будить я старика, а схватил счастливое удилище и вытянул на берег огромного… ерша!
Сон как рукой сняло. По рыбацким приметам, если первым попадет ерш — жди удачи: хоть он и колючий, а никакая рыба его не боится. Если же окуня первым выудишь — придешь домой или только с одними окуньками, или почти совсем без рыбы. Окунь — хищник, от него почти вся другая рыба разбегается по сторонам.
На радостях мне и пришло в голову пошутить над своим товарищем. Я вытянул из воды другую его удочку с хлебной насадкой, зацепил хвостом на крючок пойманного ерша и снова закинул в озеро.
Ошарашенный ершик стал стремглав носиться по дну. Закрутился, запрыгал легкий осокоревый поплавок. То совсем скроется под водой, то подпрыгнет в воздухе, то помчится к берегу, то от берега; то ослабнет, то натянется леска.
— Яков Степанович! — крикнул я. — Клюет!
Если бы я крикнул: «Пожар!» — не разбудить бы Якова Степановича. А тут сигнал подействовал безотказно. Старик сел на кочку, убрал нависшие на глаза седые кудри и уставился на веселый поплавок.
— Да! Клюет, Николай Александрович! — с дрожью в голосе проговорил старик. — Знать-то, лёшш, на хлебушко попался. Лёшш!
Заколотилось рыбацкое сердце. Трясущимися руками ухватился мой рыбак за комель длинного удилища.
— Айда на берег… За душой приехали. — С этими словами Яков Степанович осторожно подвел рыбу к берегу, перебросил ее через плечо и подтянул на леске к себе. Минуты две, молча, с большим удивлением, он разглядывал ерша.
Рыбакам известно, что ерши не ловятся на хлеб. Очень редки случаи, когда ерш попадает на хлебную насадку.
— Ерш на хлеб клюнул!.. Ерш! Глазам своим не верю… Да!
Свободной левой рукой старик достал из пестеря красный платок, потер глаза, снова уставился на ерша, держа его на весу.
— Николай Александрович! Да ведь ерш-то хвостом на хлеб попался!
Прошло много времени после этого случая. Как-то в удобную минуту на рыбной ловле я сознался Якову Степановичу в своей проделке. Он ни за что не хотел верить.
— И не говори. Вся наша деревня знает, хоть кого спроси, что в прошлом году у меня ерш клюнул. На хлеб! Хвостом на удочку наделся… Да!
А. Спешилов КАМСКАЯ ВОДИЧКА
В Монастырский яр мы приехали, когда начался дождь. А ведь только что было ясно, и вдруг все небо затянули мокрые тучи и посыпал такой дождь-сеногной, что не только рыбачить, но и в шалаше сидеть стало невозможно. Нудная сырость просачивалась сквозь крышу шалаша, вода капала на руки, попадала за воротник. Подмок табачок, отсырели сухари. Остался один выход — перевернуть на песке лодку и под ее надежным днищем переждать непогоду. Так и мы сделали. Вытащили из воды лодку, перевернули ее вверх дном, сложили пожитки и сами забрались под нее.
Почти всю ночь не спали. Над рекой остановилась гроза и до утра гремело.
— Как бомбы в германскую, — вспоминал Яков Степанович. — Летит она, эта самая бомба — пиш-шит, да как ахнет! У кого ноги нет, у кого головы нет, и все бегают, как сумасшедшие…
С утра, после грозы, выглянуло солнце, но удить было нельзя. Вода в реке прибывала, и на три сажени от берега тянулась желтая муть.
Яков Степанович без просыпу спал, словно хотел отоспаться за всю свою рыбацкую жизнь. Я от нечего делать бродил по лугам, собирал в берестяное лукошко сочную бруснику.
Случайно в лощине я набрел на лыву — углубление, залитое водой во время паводка. В лыве бойко играла рыба. От ее движения, как живая, трепетала в воде сизая осока. Из конца в конец бросалась испуганная мной большая щука.
Я разулся, засучил штанины выше колен и с палкой в руке полез в воду. Через полчаса вода почернела от взбаламученного ила. На поверхности стали высовываться рыбьи головы с выпученными глазами.
И началась охота! Я быстро выхватывал щурят за жабры и выбрасывал на берег. Попала щука с полметра длиною.
— Вот и рыбка! — радовался Яков Степанович, когда я с добычей вернулся к лодке. — А клева долго не будет, хоть и пройдет мутная вода. На прибылой возле берега катится галька-окатыш, рыба боится ее и уходит в глубину… В лывах рыбачить дело немудреное, но чтобы в деревне не засмеяли, скажем, что щук наловили на жерлицы…
К вечеру небо совсем прояснилось, ночью вызведило. Мы развели большой костер, сварили богатую уху. Обоим захотелось после ухи чайку попить, а спускаться за водой под берег Камы по глинистому яру ни мне, ни старику не хотелось. Да и лень было после сытного ужина отходить от уютного костра.
Яков Степанович пошел на хитрость. Начал он издалека:
— Когда мы были молодыми — я, Никола Закамской, Спиря, он все еще живой, не даст соврать, — мы к девкам ходили в деревню Рябинову, и всегда с музыкой. Никола играл на железном треугольнике, у меня была гармошка-семиголоска — на горе играш, под горой слышно. Здоровенные были, нас никакая черна немочь не брала… Никола Закамской, когда ходил на пароходах, по двадцать пудов в трюм спускал. Вот какие мы были… Кроме бражки, мы одну камскую водичку уважали, потому и были как быки… Колодешная вода с известкой. Известка всю ее выела. Озерная вода совсем вредная. Сколько в ней гнуса, не приведи господь… С нее только брюхо болит… Да!
Яков Степанович нежно погладил пустой пузатый чайник, поворошил палкой в костре и продолжал:
— Да!.. Что и говорить. Камская водичка пользительная. Известки в ней нету, гнус в ней не живет. Она живая. Всю жизнь течет в море. Про нас с тобой можно сказать то же самое. Ведь на рыбалке мы по три дня хлеба не едим, а не хворые… Камская водичка она пользительная…
Долго судачил старик о пользительной камской водичке, пока не уснул, сидя у костра. Но чаек-то все равно надо было кипятить, и я, скрепя сердце, пошел за водой.
Отойдя с чайником несколько шагов от костра, я вспомнил лыву, в которой днем щук ловил. Она находилась совсем близко, и не надо было под берег спускаться. Я подошел к лыве.
Вода уже отстоялась и сверху была совсем чистой, прозрачной. Осторожно, чтобы не замутить ее, я нацедил через рожок полный чайник и вернулся к костру.
Скоро вскипел чай. Вода из лывы, приправленная листьями красной смородины, имела особый вкус и аромат, знакомые только нашему брату — охотнику.
Разбудил Якова Степановича. Он налил кружку чая, пил да похваливал:
— Вот это чаек! Сразу видно, что не на озерной водичке чаек, а на камской — пользительной.
Я не сказал старику, что чай не на камской воде, а на много лучшей, насквозь прогретой солнцем и впитавшей в себя соки луговых трав и цветов.
А. Спешилов КОСТЕР
Нас заедали комары. Тучи их, сотни туч, нудных, писклявых. Днем на чистом месте еще терпимо. Нет-нет да и ветерком потянет и загонит комарье в траву. А сейчас, после заката, от них совсем житья нет. Появилась мелкая мошкара. В уши, в нос лезет проклятая. Сечет и режет, спасенья нет.
Яков Степанович закутался в бабий платок и стал еще больше похож на старуху. Я запалил мочальную веревку, чтобы отгонять комаров и мошек. Мочальная веревка, что хорошо известно охотникам и бурлакам, очень долго тлеет, распространяя густой удушливый дым.
Так в теплую ночь, в смраде и дыму, подгоняемые комарами, мы с Яковом Степановичем шли рыбачить на Карасево озеро. И не дошли. Первым сдал мой старый приятель.
— Давай сделаем остановку, — предложил он. — Заварганим костер, обождем до утра, а то обескровят они нас, будь они трижды прокляты, комарики.
Я с удовольствием согласился. Но где дров достать? До реки, где на приплеске дрова имеются, не близко, а из кустов ни единой палки не возьмешь из-за комарья. Я сказал об этом Якову Степановичу. Он огляделся кругом, хотя ничего не было видно, и посоветовал:
— Остожье сломаем, какое попадет, и сожжем. Здесь остожья-то не наши, не колхозные. Правда, у меня тоже где-то в этом месте стожок был. За караул немножко травушкой ублаготворили… Нет. Мой стожок дальше, возле косы…
Вскоре нам попался небольшой стожок сена, огороженный остожьем — сосновыми жердями. Старик первым подбежал к остожью с топором и распорядился:
— Ломай скорей, Николай Александрович, чтобы кто-нибудь не заприметил. Таскай жерди! Они сухие как порох. Постарался кто-то, спаси его Христос, для нашего брата рыбака.
Сломав остожье, мы недалеко от стога разожгли большой веселый костер. Ярко пылали сосновые жерди, распуская смолистый запах и густой дым. И отступили от нас все комары и мошки. Мы с Яковом Степановичем проговорили о предстоящей рыбалке почти до утра. Я уснул, когда уже громко запели утренние птички и с реки потянулся туман.
Проснулся поздно, когда уже взошло солнце.
Потер глаза и вижу: у потухшего костра на одной ноге скачет Яков Степанович, машет топором и бормочет что-то невнятное.
«Не рехнулся ли старый рыбак?» — невольно подумал я и быстро поднялся на ноги.
— Что с тобой, Яков Степанович? — спросил я его с тревогой.
— Ой, беда! Остожье-то…
— Сожгли, ну и черт с ним.
— Хорошо тебе говорить, Николай Александрович… Мое ведь остожье-то сожгли… Мое!
А. Спешилов БОГАТСТВО ЯКОВА СТЕПАНОВИЧА
После смерти старушки Яков Степанович перешел на жительство к зятю Афанасию. Сторожил избушку, гусей караулил, кое-что по дому выполнял и, конечно, рыбачил.
Афанасию за работу в леспромхозе дали в лесу небольшой покосик. Траву Афанасий выкосил, а убрать времени не хватало — в колхозе работы было много.
— Взял бы ты, отец, грабли да вилы, сгреб бы сено на делянке. Думаю, не переломишься, — посоветовал он как-то тестю.
— Давно бы мне ты в ножки поклонился. Не гнила бы зря травушка, — сказал Яков Степанович и стал собираться на покос. Он набил кисет самосадом, сложил в пестерь сухари, соль, деревянную ложку.
— На неделю, что ли, собираешься? — спросил Афанасий. — Работы на покосе всего часа на два.
— Идешь из дому на день, бери харчей на неделю, — ответил Яков Степанович.
К вилам и граблям старик прикрутил два длинных удилища.
— А это для чего? В лесу ни озера, ни речки.
— На всякий случай…
Наутро Яков Степанович отправился страдовать. Траву, мокрую от росы, грести было еще нельзя. Яков Степанович вынул из пестеря холщовый мешочек и стал искать под мохом червей.
Когда солнце поднялось выше и траву обдуло ветерком, старик принялся за работу. Не торопясь он сгреб траву в валки и сел покурить. В это время из леса вышел сосед Спиридон.
— Помогай бог трудиться.
— Не тружусь, а пока покуриваю, — ответил Яков Степанович. — Садись за компанию.
— Шибко некогда, — ответил Спиридон. — Ребята сказывали, что в Монастырском яру лещи клюют. Я и подался в березничок удилища вырубить. Лещам, говорят, ход. Весь берег рыбаками усеян. Даже с Висиму рыбаки понаехали. Не надо зевать, Яков Степанович.
— Врешь, Спиря, — недоверчиво ответил Яков Степанович. — Теперь щуке жор, а лещу рановато.
— Что рано? Говорят тебе, так ты слушай. Только всем в деревне не сказывай… Будь здоров, а мне некогда. — И Спиридон скрылся среди деревьев.
Яков Степанович бросил недокуренную папироску. Встал, взял зилы, поднял пласт сена, потом опустил его на прежнее место, отбросил вилы в сторону. Надел на плечи пестерь, схватил удилища — и зашагал прочь со своего покоса. Если рыба клюет — хоть трава не расти.
До Монастырского яра верст десять. Пока Яков Степанович ковылял до заветного места, на небе появились тучи, заморосил мелкий дождик.
Вот и знакомый яр, но нигде ни единого удилища. И Спиридона не видно.
— Одному больше рыбы достанется, — проговорил Яков Степанович, скоренько сел на бережок и закинул удочки.
Сидел, сидел, задремал, а клева нет. На воде от дождя пузыри плавают — признак затяжного ненастья.
«Спирька обманул, — догадался, наконец, Яков Степанович. — Рыбаками, говорит, весь берег усеян. Попадешься ты мне, сукин сын».
Посидев еще немножко для порядка, Яков Степанович смотал удочки, выбросил в воду червей и отправился домой, в деревню.
Домой он пришел вечером, мокрый до нитки. В избе никого не было, ворота на замке. Пришлось забираться в дровяник.
По крыше шуршал дождик. Яков Степанович присел на дрова, прислонившись к старому лиственному столбу, задумался. Вот эти четыре столба — все, что осталось от его избушки, в которой целый век прожил Яков Степанович. Когда он перешел на жительство к зятю, старую избушку сломали. Афанасий смог здесь выбрать для своего хозяйства только столбы от ворот, а остальное даже на дрова не годилось — сплошная гниль и труха.
Яков Степанович шершавой рукой ласково погладил столб. Глаза старика заслезились. Ему почудился запах родного дома, казалось, что вот-вот войдет в дровяник Аграфена Ивановна и спросит: «А где же у тебя рыбка? Опять, старик, пустой пришел».
Кто-то тронул его за плечо. Старик поднял голову. Над ним стоял зять Афанасий.
— Сметал сено, отец? — спросил Афанасий.
— Не клюет. Обманул Спиря.
— Я не о том спрашиваю. Успел до дождика сено сметать?
— Не… не успел.
— Что же ты делал? Где был? — неотступно спрашивал Афанасий.
— Рыбу удил в Монастырском яру. Не клюет рыба. Да! Погода видишь какая… дожди.
— Сгноишь ведь сено, старый нахлебник.
Старик медленно поднялся на ноги. У него тряслись руки. Он закричал, брызгая слюной:
— Хлебом коришь! Не стыдно твоим глазам, Афонька? Забыл, сколько я тебе принес богатства. Мне одному бы на весь век хватило. Забыл?
— Откуда? Что ты принес? Какое богатство? Одни удочки да лапти.
— А столбы! Видишь столбы? Это разве не богатство!
В. Рачков НАСТ
Была середина марта. Днем припекало солнце, с крыш падала капель, наращивая большие сосульки, а ночью подмораживало. Снег занастился и хорошо выдерживал человека без лыж. В старое время хищники браконьеры гоняли по такому насту лосей; зверь проваливался, в кровь разрезал себе ноги об острые края наста, а человек на лыжах скользил свободно десятки километров. Развязка была короткой — измученный зверь падал и его добивали рогатиной или «жаканом» из ружья. Местами таким вот способом почти всех лосей перебили.
Но не о лосиной охоте хочу я рассказать.
В одно весеннее утро я вышел с ружьем в поле — погонять русака. С вечера плотный наст прикрыла легкая пороша. Лыжи скользили легко, казалось, сами бегут. Недалеко от села стоял большой стог клевера, зимние метели намели около него большой сугроб. На вершину сугроба взбегали свежие заячьи следы. Я начал осторожно подкрадываться, объезжая стог с подветренной стороны. Вот хорошо видна крутая стена сугроба, а в ней чернеет отверстие норы. Начинает колотиться сердце, во рту становится сухо. Выход из норы взят на мушку, каждую минуту может выскочить русак и дать такого стрекача, что только успевай стрелять. До норы остается метров пять; я иду по самому гребню сугроба, затем быстро съезжаю к норе, но заяц не выскакивает. Осматриваю след вокруг норы. Выходного следа нет — значит заяц в сугробе. Нагибаюсь и заглядываю в темное отверстие — нора глубокая, конца не видно: снег под настом рыхлый, зайцу закопаться негде. Ткнул в сугроб палкой — не вылезает косой. «Дай, — думаю, — опять на сугроб заберусь да немного попрыгаю на лыжах. Все равно выскочишь». — Лезу на сугроб немножко боком, нору на мушке держу. Но заяц не выскакивает. Залез я наверх — и все понял, чуть не заревел от досады. Пока я у норы ковырялся, выгоняя зайца, другой стороны сугроба мне не видно было, ну а он прорыл снег и дал тягу. Этот урок я хорошо запомнил: если нора заячья в крутом сугробе вырыта, с сугроба не съезжай, а потопчись на «крыше» — и, как только выскочит косой, тут его твоя дробь и настигнет.
Другой раз, вот в такую же погоду, поехали мы с товарищем русака гонять. Напали на свежий след. Петля за петлей, распутали замысловатые тропки. Вот и концевой след. Он спускается под пологую горку. Здесь обыкновенно заяц идет на хитрость: возвращается по своему следу назад, а потом делает громадный прыжок в сторону и тогда только роет нору. Такой прыжок зовут — «смекалкой». А наш заяц обратного следа не дал. «Ну, — думаем, — значит вперед прыгнул». Но впереди снег чистый. Топчемся мы на месте, охотничье правило нарушили: на след выехали. Я ехал впереди товарища немного сбоку. Оглянулся и хотел что-то ему сказать. Смотрю, наст под его лыжами как-то странно зашевелился и… вдруг, словно ядро, разбрасывая снег, выскочил здоровенный русак. Стрелять мне нельзя, а товарищ мой совсем растерялся, о ружье забыл.
Здорово замаскировался косой, ведь даже намека на нору не было. Как он так ловко под наст втиснулся, до сих пор понять не могу. Посмеялись мы тогда от души над своей неудачей. А на след зайца я больше не наезжал.
Шел я однажды по полю на лыжах — и вдруг недалеко от меня с шумом выпорхнула стая куропаток. Ударил по ним дуплетом. Двух штук убил. Отлетела стайка уже метров на двести, — смотрю, — одна из куропаток камнем в снег упала. Подъехал — лежит на снегу, не трепыхнется. Сгоряча, видимо, простреленная, летела. Осмотрел — на боку сквозь перышки маленькая капелька крови проступила: всего одной дробинкой задело. Положил птицу в ягдташ и поехал к тому месту, откуда куропатки вылетели. На снегу множество птичьих следов натоптано. Неожиданно из-под снега головка высунулась и опять спряталась. Вскинул ружье и… жалко птицу стало, не спустил курок: одно дело свободная в полете, а тут как привязанная. Подошел я поближе, нагнулся над дырочкой в ледяной корке. Наст крепкий, пробить его птица не сможет. Должно быть, забралась вечером в снег, а ночью мороз крепкий прихватил, и стала птица пленницей весны. Отковырнул я прикладом большой кусок наста и… хлопая крыльями, вырвалась из-под него куропаточка, помчалась за стаей. Проводил я ее глазами. За ружье не взялся. Без меня не освободиться бы ей из снежного плена. Косачи-тетерева куда сильней, а и то, зароются с вечера в снег, хватит ночью оттепель, под утро опять приморозит — и гибнут птицы целой стаей, не в силах пробить твердый наст.
В. Рачков НАЧИНАЮЩЕМУ РЫБОЛОВУ
Поймать рыбу дело, кажется, не сложное: взял удочку, накопал червей, отыскал реку, забросил леску с крючком и поплавком; увидела рыба червяка, взяла и съела. Теперь все зависит от двух условий: а) от величины рыбы, б) от умения вываживать ее. Но все это лишь робкие шаги к познанию настоящей рыбной ловли. Это букварь рыболовной теории и азбука практики.
Когда вы впервые придете на реку, перед вами встанет вопрос: как и где выбрать место для ужения?
Сделать это очень просто — надо только найти пожилого рыбака. Он-то наверняка знает самые рыбные места, заветные омутки на этой речке. Желая перенять опыт, вы подсаживаетесь к нему и начинаете задавать вопросы вроде:
— Ну, как дела, папаша?
— Хорошо ли клюет?
«Папаша» отвечает неохотно, жалуется на плохой клев и уверяет, что вон там, за тополем, у яра, клюет куда лучше. Не попадитесь на удочку и не вздумайте пойти к тополю у яра. Почему? Да ясно же почему — если бы у яра клевало хорошо, значит, «папаша» наверняка сидел бы под тополем! Поэтому продолжайте задавать вопросы и, как бы невзначай, спросите его, а почему он сам не идет к тополю? Потом начните восхищаться природой, красотой реки, показывая всем своим видом, что вы не собираетесь никуда уходить. Тогда «папаша» непременно смотает удочки и отправится к яру или куда угодно, чтобы только отвязаться от назойливых вопросов.
Преследовать его дальше я вам не советую. Ушел человек — и хорошо… Человек ушел, а место осталось — места с собой не унесешь! В этом вы убедитесь, когда станете опытным рыболовом. Выбор же хорошего места на рыбалке — это пятьдесят процентов удачи. И чем неохотнее покидает «папаша» насиженное место, тем лучше будет клев.
Есть, правда, и другие способы, они требуют длительного наблюдения, обобщений, углубленного абстрактного мышления. В трудах о рыбной ловле указывается, что если вы хотите быть с рыбой, ищите места, атипичные общему рельефу. На быстрой реке — тихие заводи, на тихой — быстрины, на чистой воде — места заросшие, на заросшей — «окна», на глубоких реках — перекаты, на мелких — омута. Высматривайте на берегу пепелища от костров, рогульки, воткнутые в берег, и прочее, и прочее. Видите, как трудно отыскать хорошее место. К тому же бывают случаи, просидишь на таком «атипичном месте» весь день — и даже самого типичного окунька не выудишь. Значит, первый, предлагаемый нами, способ гораздо надежнее!
Итак, место выбрано. Вы начинаете первую в вашей жизни рыбалку. Заброшены удочки и ваших червей пожирает рыба — мелкий окунек или ерш-«глаза», прозванный так за свой рост: из-за глаз рыбы не видно. А клюют эти «глаза» отчаянно.
Крупная рыба вам не попадается, несмотря на то, что в корзине «папаши», только что покинувшего данное место, лежали такие красавцы, о каких вы только во сне мечтали! В чем же дело? Может быть, старичок, ловивший до вас, а потом «освободивший» место, выудил всю крупную рыбу? Это можно проверить. Практически это выполняется так: вы делаете вид, что вам надоело стегать реку своими удочками. Вылезаете на видное место и, напевая веселую песню, направляетесь прочь от реки. Это маневр. Дойдя до кустов, вы тщательно маскируетесь. Минут через пятнадцать-двадцать на старое место возвращается «папаша». Сначала он что-то недовольно ворчит, потом забрасывает свои удочки — и через несколько минут вы убеждаетесь, что крупная рыба в этом омуте есть.
Так почему же она не клевала на ваши удочки? Оказывается, дело в наживке. В вашем понятии наживка — только червяк. Но червяк это только печка, от которой начинали плясать все рыболовы. О наживке следует поговорить особо.
Итак, основной наживкой является земляной червь. Кроме него, существует красный — навозный червяк, листовик, выползок, зеленый червь (любимая пища сазана). Помимо червей, существуют насекомые: бабочки, гусеницы, кузнечики, зеленухи, саранча-кобылка, стрекозы, паденка, мотыль, казара, ручейник, короед, несколько сот разновидностей жуков, их личинки — сальники, мухи и их личинки — опарыши, муравьиные яйца.
И это еще не все. Существуют хлебные насадки: тесто, хлеб ржаной, пшеничный, сдоба с изюмом и без изюма. Имеются многочисленные кашные насадки — насчитывают сотни рецептов, причем каждый рецепт «лучший». В основном же это распаренные овсяные и пшеничные зерна. Употребляются как насадка горох, вареный картофель. А к насадкам люди придумали сотни пахучих приправ: валериановые, анисовые, мятные и всевозможные другие капли. Некоторые авторы советуют опускать червей в керосин: якобы лучше берет окунь. Иные рыболовы смазывают наживу медом. Основываясь на «законе атипичности» (по аналогии с выбором места), мы почти с уверенностью можем утверждать: где рыба плохо берет на мед, там она лучше будет брать на деготь, ибо всем известно, что ложка дегтя может испортить бочку меда.
Есть насадки гастрономические: колбаса, шпик, сыр. Но они лучше… где-нибудь у рыбацкого костра, там вы найдете им более рациональное применение.
У опытных рыболовов идут в ход и такие насадки, как мясо — сырое, вареное, копченое, вяленое, с душком, рыбки живые и мертвые, линючие раки или рачье мясо, креветки, омары, саламандры — наиболее пятнистые, лягушки, тритоны. Насчет медуз не знаю, но в море, может быть, на них ловят. Полезно испробовать как насадку куриные кишки, окуневый глаз. За границей ухитряются ловить даже на свернувшуюся кровь.
Кроме многочисленных естественных приманок, изобретены искусственные: медные, серебряные, золотые, стальные, хромированные блесны; мормышки, гробики, клопики, капельки, девоны, пульки с зеркальцем, деревянные, пластмассовые и гуттаперчевые рыбки. Множество искусственных насекомых, сделанных руками умельцев кустарей, служат прекрасной насадкой для рыбы. Динамовские же делаются руками «неумельцев».
Теперь вы видите, что наживку выбрать не так трудно. Но вот какую рыба захочет есть именно в этот день, когда вы рыбачите? Узнать это несколько сложнее, чем отыскать хорошее место для ужения. Здесь нужна ловкость и смекалка опытного разведчика.
Для того чтобы узнать, на что клюет рыба в данный день, в данной реке при определенных барометрических условиях, вы должны опять же разыскать старичка-удильщика.
— А на что, папаша, ты сегодня рыбачил?
Ответ будет один:
— На червячка, батенька, да вот, вишь, и они к концу пришли.
В доказательство «папаша» покажет туесок, на дне которого между шариками сухой земли лежат несколько вялых червячков. Рыболовы-старички — народ дошлый, кого хочешь вокруг пальца обведут, а до истины у них не докопаешься. Поэтому, увидев сидящего на берегу старичка-удильщика, вы подгоняете на себе обмундирование и снаряжение так, чтобы ни одна вещичка не брякнула, вроде как бы в разведку собираетесь. Для проверки качества подгонки следует несколько раз подпрыгнуть, нагнуться, сделать пробежку и даже проползти несколько десятков метров. Хорошая тренировка — залог успеха…
Когда все подогнано, точно наметьте ориентиры и… до первого ивового куста через поляну — короткими перебежками, оттуда до муравьиной кучи — на четвереньках, последние пятнадцать-двадцать метров лучше ползти по-пластунски.
Тучным людям, которые, по причине живота, ползти не могут, лучше обзавестись полевым биноклем. В него можно довольно сносно на расстоянии более двадцати метров увидеть, что держит человек в руках.
И вот вы увидели, как дедушка с помощью подсачника выволок большого голавля, любовно опустил его в корзину и насадил на крючок белого червя с темной головкой. Такого червяка вы раньше никогда не видали. Теперь вам приходится ползти назад. Возвратившись на исходный рубеж, где у вас в рюкзаке хранятся книги, вы начинаете рыться в справочниках, отыскивая там описание виденного вами белого червячка.
Оказывается, это короед — личинка жука, живущая в старых пнях и под корой сухих деревьев.
Теперь вы знаете, где добыть этого самого короеда. Ранним утром, опасливо поглядывая на окна, вы начинаете ошкуривать бревна, которые ваш сосед привез для ремонта сарая, хотя не совсем уверены, останется ли он доволен этой помощью.
Через несколько лет у вас появится опыт и вы уже не будете носить с собой тяжелых справочников и других рыболовных пособий. Но вот один важный практический совет: не пытайтесь первое время узнать, на что ловят рыбаки, сидящие в лодке, если не имеете специального скафандра или не владеете способом дышать через камышину.
Кроме насадки, для верного улова, применяются прикорм и привада. Чтобы глубоко осознать теоретический базис их применения, надо детально изучить труд академика И. П. Павлова «О выработке условных рефлексов у собак». Вы удивленно спросите: «Какое отношение имеют собаки к рыбам?» Оказывается, имеют. Как те, так и другие, едят. А приучить животное брать пищу в определенном месте, в определенное время — это и значит выработать условный рефлекс. Подбрасывая приманку в одном и том же месте, вы приучаете рыбу посещать его, а это, в свою очередь, обеспечивает хороший улов.
С выбором привады и прикорма дело обстоит проще. Есть такое твердое рыболовное правило — прикорм должен соответствовать наживке. Ловите на овес — овсом и прикармливайте. Прикармливаете горохом — на горох и ловите. Бывают и отклонения. Учитывая многоядность рыбы, иногда прикармливают ее овсом, а ловят на червя или короеда. Для приманки хищных рыб опускают в реку прозрачную бутыль, внутри которой вода, а в воде плавают мелкие рыбешки. Щуки и окуни собираются посмотреть на такой аквариум, а попутно проглатывают предлагаемых им живцов.
Теперь поговорим о самом процессе ловли.
Поплавок — маленькая пробочка или пластмассовый бочоночек, осокоревый или сделанный из гусиного пера, в конечном счете, просто выструганный из палки — как много говорит он рыболову! Движение поплавка на воде — это балет, это симфония, это непередаваемая музыка, понимать которую дано не всем. А сколько радостных и печальных воспоминаний связано с поплавком у каждого рыболова! О поплавке можно написать целый трактат в несколько томов. На самую прекрасную картину можно любоваться час, ну, два, а потом хочется перевести взор на что-то иное. На поплавок же рыболовы смотрят многими часами, днями и даже в течение чуть ли не всей жизни. Поплавок связывает рыбака с подводным миром. Изобретение поплавка равносильно изобретению телеграфа. К сожалению, приоритет изобретения поплавка в точности до сих пор не установлен. Интересно все-таки знать: чей же поплавок первый лег на воду и в какой части света?
Поплавок — это струна рыболовного сердца. Дрогнул поплавок — и словно электрический ток пошел по телу рыболова, часто забилось сердце, глаза заблестели, рука плотнее сжала удилище; в этот момент рыболов забыл все, отвлечь его от созерцания поплавка, идущего под воду, не сможет ничто! Двинулся поплавок — это значит: клюет. А каждая поклевка сулит что-то необыкновенное! Ни один настоящий рыбак не может быть равнодушным к поклевке. Как следопыта волнует горячий свежий след, по которому он может определить вид зверя и сказать, когда и в каком направлении тот прошел, так и опытный рыбак волнуется, видя движение поплавка, и может почти безошибочно сказать, какая рыба берет насадку, хотя рыба отделена от него несколькими метрами водной прослойки.
Правильно оценить все нюансы в движении поплавка вас научит только практика. Например, вы ловите рыбу. Неожиданно поплавок, спокойно стоявший на воде, накренился и лег. Стоящий рядом с вами рыболов шепчет:
— Тащите — лещ взялся!
— А вы откуда знаете, разве под водой увидишь? — возражаете вы. Но все же делаете подсечку — и, к вашему изумлению, вытаскиваете небольшого подлещика! Оказывается, лещ, взяв со дна насадку, приподнимается с ней и останавливается, смакуя жирного красного червя; вместе с насадкой приподнимается и грузило: неотягощенный поплавок ложится на воду.
Окунь стремительно тянет поплавок на дно. Мелко трясет поплавок сорога, а потом ведет его на погружение. Тихо покачивается поплавок и медленно направляется к кувшинкам: это взял карась или линь.
Но определить, какая рыба «взялась» — еще не значит поймать ее, точно так же, как найти заячий след — не значит убить зайца. Рыбу нужно выудить! Вот тут-то и сказываются умение рыбака, его опытность, смекалка, талант! Не всякий может сказать: десять поклевок — десять рыб будут у меня в корзине! Первое время всякую рыбу вы будете выхватывать из воды наотмашь, будь то маленький гольян или большой окунь. Но, порвав десятка два лесок и упустив раз в пять больше крупной рыбы, вы начинаете приобретать свой стиль в рыбной ловле. Вырабатываете подсечку, учитесь вываживать крупную рыбу, утомлять ее на кругах. Начинающему рыболову надо твердо помнить правило: подсекай в сторону, противоположную движению рыбы. Подсечка должна быть короткой, но достаточно сильной, чтобы крючок проколол рыбью губу. Нужно научиться соразмерять силу.
Но вот рыба подсечена. С мелкой не церемонятся, ее просто вытаскивают. Сложнее обстоит дело с крупной. Спешить вытаскивать крупную рыбу нельзя. Если позволяет обстановка, рыбу нужно поводить на кругах, при сильном сопротивлении — ослабить леску, а когда оно ослабнет — попытаться подвести рыбу к берегу. Уставшую рыбу берут подсачником, подцепляют багорчиком или захватывают руками под жабры. В общем, как удобней.
Овладеть методикой вываживания рыбы — сложное дело. Успех тут зависит от характера, телосложения рыболова, иногда от занимаемой должности. Когда клевало у начальника одного главка, к нему бросалось несколько человек подчиненных, ставших за короткий период страстными рыболовами, и, пытаясь поддеть именно своим подсачником пойманную начальником рыбу, отталкивали под водой подсачник конкурента. При этом нередко они сбивали рыбу с крючка. Начальник главка страшно сердился и требовал, чтобы незадачливый Сидоров, сбивший в страстном порыве с крючка крупного, как поднос, леща, подал заявление об уходе «по собственному желанию» тут же на берегу. Но, говорят, слава богу, все как-то уладилось.
Реакция рыболова при вываживании рыбы зависит от типа нервной системы — темперамента. Холерик тянет весело, буйно и даже сход крупной рыбы с крючка встречает воинственно, прыгает в воду, пытаясь схватить рыбу руками. Флегматик — тянет рыбу вяло, без особой надежды на успех. Он заранее предчувствует, что рыба сорвется. А если она сорвалась — долго брюзжит, ругает качество крючков, лесок и забывает вовремя сделать новую подсечку. Разговаривает всегда вслух, делает себе тысячу упреков, клянется не ходить больше на рыбалку, но в следующее воскресенье вы его увидите на том же месте. Флегматики не любят менять места.
Удачнее всех ловит сангвиник: он безболезненно переживает сход с крючка самой большой рыбы. Вываживает с азартом, легко применяется к обстановке. Очень общителен с соседями, может свободно выпросить у вас сатурн, крючки и даже «лишнюю» удочку. Сам тоже готов отдать последнюю рубашку. Усидчивостью сангвиники не обладают, любят ездить на новые места, в поисках необыкновенных поклевок проходят пешком десятки километров. Рыба любит сангвиника, он относится к числу счастливых рыболовов. Скажем, нет клева, поплавки безжизненно торчат на воде, но пришел сангвиник, с шутками, размотал удочку (больше одной он не носит) — и не успели еще разойтись на воде круги от упавшего поплавка, как удильщик уже тянет рыбу под завистливые взгляды флегматиков, с ранней зари не видевших ни одной поклевки. Но как бы хорошо ни клевала рыба, минут через двадцать-тридцать сангвиник убегает на новое место в поисках какой-то особо необыкновенной поклевки. Причина удачи сангвиников пока еще не установлена, но факт остается фактом: им всегда очень везет!
А сколько они знают рыболовных рассказов и анекдотов! У ночного костра сангвиник самый желанный гость. Начинают болеть от смеха животы, и ночь пролетает, «как мимолетное виденье». Загорается на востоке заря, рыбаки собирают удочки, расходятся по заветным местам и только у притухшего, покрытого сероватым пеплом кострища раздается сладкий храп несколько утомившегося за ночь сангвиника. Но за него не беспокойтесь: он свое возьмет и даже наверняка обловит вас. Сангвиники имеют отличную память (впрочем, как и все настоящие охотники и рыболовы), рассказы они передают с точностью стенограммы и так убедительно, что сомнения возникают лишь дня через три-четыре после поездки на рыбалку. Вообще сангвиники народ здоровый, жизнерадостный — настоящие рыболовы!
Как видите, товарищи, рыбная ловля — это целая наука, требующая от человека усидчивости, наблюдательности, страстности, хорошей памяти и… многого, многого другого. Но займитесь ею: не пожалеете!
В. Рачков ЧЕРТОВО МЕСТО
Эту историю рассказал мне старый рыбак из села Покровки.
— Годков мне тогда около двенадцати было, — начал он, затянувшись и выпуская изо рта клуб махорочного дыма. — А рыбак я в те годы заядлый был, и крепко попадало моим вихрам за недогляд по хозяйству. Бранилась мать, отец не раз парывал, да мне все неймется. Сломают одни удочки, срежу другие. Домой приносить не стал, на реке в кустах прятал. Чуть свободное времечко выдастся — бегом на реку. А там, про все забудешь! Мне не рыбы половить, а хотя бы посмотреть на нее. Дух, бывало, захватывает, когда глядишь с яра, как в прозрачной воде рыбы мельтешатся, а упадет в реку оплошавшее веретено или кузнечик какой прыгнет, сейчас же на воде круг разойдется: голавль, стало быть, похитничал. Очень уж я любил эту рыбу. Да не везло нам, рыбакам, мелкотишку все больше ловили, а о хорошем лобастом черноспиннике только мечтали.
Лучшим рыбаком в селе считался дед Тереха. Хитрый, щупленький старикашка, борода клинышком. Зимой и летом в валенках ходил и в старом полушубке. Уходил на рыбалку околицей, самым ранним утром, и никто не знал Терехиных мест. А ловил он больше голавлей, да каких голавлей! Взглянешь на такого красавца и даже под ложечкой от зависти посасывать начинает! На какую наживку ловил Тереха, тоже никто не знал. Мужики говорили:
— Слово приворотное на голавлей старик знает, вот и везет ему!
Не знаю, было ли у деда приворотное слово, только голавлей он ловил на зависть людям, а особенно нам, ребятишкам. Молву о приворотном слове сам Тереха поддерживал. Выпьет, бывало, и хвастает:
— Мне все нипочем, хлестну по воде вицей, скажу приворотное слово — и пошла рыба ко мне в ведро!
Мужики только головами покачивали.
Наживу Терехину я разгадал случайно. Собираю как-то в лесу землянику — ее у нас сила большая на вырубке была, — вдруг слышу: кто-то по пню топором постукивает. Взглянул я из-за куста и вижу: дед с пня соснового кору снял, выбирает каких-то белых червей и в туесок складывает. Тут я и про землянику забыл. Скорее домой за топором — и в лес. Ошкурил несколько пней — белых червей тьма. Набрал я червей этих — и айда на реку.
Клевали на них голавли здорово, а черноспинника мне поймать все-таки не удавалось. Значит, смекаю, дело не только в червях. Место отыскать надо. Пошел я по берегу — и вот приметил: на одном крутом изгибе река под яр ударяет, а из-под него толстые стволы старых елей, как частокол, торчат, между ними вода бурунит. Жуткое, глубокое место. Лег я брюхом на яр, смотрю в реку. А день солнечный был, вода прозрачная, но из-за крутяков да быстрины глубоко не увидишь. Только нет-нет да и сверкнет под водой белое рыбье брюхо. Отошел я на луг, поймал несколько кузнечиков, бросил одного в воду. Понесло его течением и вдруг… только плеск раздался и круг большой на воде разошелся. Мелькнула черная спина и красные плавники.
Бросил я целую горсть; плывут кузнечики, ногами дрыгают, а потом, как волна прошла, всплеснулись несколько бурунов — и не стало кобылок.
На другое утро, чуть свет, я уже был на берегу. Слез под яр, спрятался за небольшой ивовый куст, наживил на крючок белого подкожурного червя, закинул удочку, а у самого сердце так и прыгает. Только поплавок до буруна доплыл, как рванет кто-то. У меня чуть удочка из рук не вылетела. Вываживать я тогда рыбу еще не умел. Я тяну ее, а она меня тянет, и такая досада, хоть плачь, ну с места рыбу сдвинуть не могу и даже чувствую, что она меня одолевать начинает! Руки затекать стали, а она, проклятая, так и рвет, так и рвет… удилище колесом, леска аж звенит от натуги. Тянет рыбина под яр в коряги. Ну, и меня тут злость взяла: уперся босыми пятками в глину, зажал удилище, аж руки побелели, а бросать не бросаю. Вдруг ослабела леска. Сердце у меня захолонуло — оборвал наверняка или крючок сломал. Потянул сильнее — опять тяжесть: значит, не порвалась леска.
Только теперь смотрю, моя берет. Иду по берегу и голавлина, как конь на узде, идет за удочкой. Увидел я его на перекате и даже страшно стало.
Такого голавля теперь и увидеть редко удастся, а не то, что поймать: ну, как чурка, спина черная, голова большая, лобастая, плавники на груди красные-красные, чешуя крупная. Вывел я его на мелкое место, схватил под жабры и еле удержал: так он хвостом бить по воде начал. Совладал я с ним все-таки, вылез на яр, положил в траву, смотрю на него, а на сердце такая радость, что танцевать и прыгать по поляне начал, кувыркаюсь, как чертенок. Потом нарвал травы, смочил ее водой, прикрыл голавля, и опять под яр. Закинул удочку, а на крючок сразу двух червяков нацепил. Через какую-нибудь минуту так рвануло, что леска в воздухе запела, вытащил я только обрывок. Должно, первый надорвал ее слегка, вот и не выдержала теперь леска, хотя была прочно свита из десяти волосков. Запасной лески и крючка у меня не было, пришлось бежать домой.
Только на порог — отец на меня обрушился:
— Ах ты, постреленок такой, где это ты ни свет, ни заря шляешься? Матери помочь в огороде надо, а ты…
Тут он увидел моего голавля — и куда гнев делся?
— Мать, — кричит, — посмотри, Пашка какую рыбину принес.
Мать обрадовалась.
— Вот, — говорит, — славный пирог будет.
Потом пришла соседка, увидела голавля, спросила:
— Не у Терехи ли, Петр Максимович, вы рыбу купили?
Отец улыбнулся:
— Нет, у нас свой Тереха есть. Пашка вон сегодня утром выудил.
А часа через два уже почти вся деревня про моего голавля знала. Смотрели, диву давались, как мальчишка сумел такую рыбину выудить. Пришел и Тереха. Недобрыми глазами посмотрел он на рыбу.
— Уж не у крутяка ли рыбачил?
— У крутяка, дедушка…
— То-то, — говорит дед, — смотри, парень, место это нечистое… сам я там уже сколько лет не рыбачу, был грех, на таких вот красавцев позарился, да чуть жив остался.
Все в избе притихли.
— Дернула меня нечистая сила, — продолжал дед, — заночевал у яра. Закинул два наподольника, донку поставил. Костерок разжег. Сижу да на небо поглядываю, а вода под яром журчит, словно человеческими голосами разговаривает. И вдруг на меня такая жуть напала, хоть с реки убегай. Посмотрел я на воду, а по ней туман клубами ходит, и вижу я сквозь него: на самом быстряке, посреди бурунов, где старый ствол чуть из воды выглядывает, — сидит в воде баба и длинные волосы гребнем чешет. Откуда, думаю, ночью баба забрела в крутяк купаться, ведь здесь и днем никто не решится в воду залезть?
И тут вдруг меня осенило. Даже мороз по коже пробежал, волосы на голове ершом встали. Да ведь это лешачиха! А она, как будто мои мысли прочла, поднялась на воде, глаза, как угли, сверкнули, и манит меня к себе, а я как дите малое стал: страшно, а иду, и вот уже совсем на край яра подошел. В воде какие-то рожи кривляются, а тут еще филин пролетел, над самым лицом сверкнул глазами, как свечками, и захохотал. Меня с того смеха как протрезвило: осенил себя крестным знамением и дал тягу. Бегу, как ветер, да все слышу: бегут за мной! «Отче наш» про себя читаю…
И вот, когда дед Тереха дошел до самого страшного места, в избе грохнуло что-то тяжелое. Дед подскочил на лавке, сосед Степан побелел как полотно, отец вздрогнул. Оказывается, кто-то нечаянно уронил с шестка чугун. Когда разобрались, в чем дело, отец взглянул кверху — а с полатей безжизненно рука свисает. Сняли с полатей мужики бабку Лукерью. Слушала она дедов рассказ, а как чугун на пол сверзился, так у нее от страха сердечный удар сделался — и отдала бабка богу душу. В избе сразу переполох поднялся: мать заголосила, соседи стали набожно креститься, а дед Тереха опять слово ввернул:
— Вот она лешачихина месть началась. Будешь ходить на яр рыбачить — она всю вашу семью изведет. Попомните мое слово!
Через три дня бабку похоронили, помянули пирогом, в котором нечистого голавля запекли, и жизнь пошла своим чередом.
Бояться люди стали «чертова места», а меня, как кто-то подмывает, хочется сходить к крутяку поудить. Только боязно: вдруг мамка или отец умрет! Да и тятька мне тоже строго-настрого запретил ходить под яр рыбачить.
И все-таки я не утерпел, удрал рано утром к яру. А утро такое светлое, радостное выдалось. Солнышко из-за горы чуть подниматься начало, и сразу все дедовы рассказы мне сказкой показались. Спустился к реке — вода в самом деле между колодинами что-то говорит, только такое радостное, не страшное. Сел я за знакомый куст, забросил удочку и почти сразу вытащил трехфунтового голавля. Потом еще двух. Пришел домой, отец ругаться начал, а я рассказал ему, как хорошо сегодня на омуте было. Подумал он и говорит:
— Пойдем-ка вместе, Паша, сходим к омуту.
Подходим мы к яру и видим: над водой удочки торчат. Бог ты мой, дед Тереха сидит рыбачит! Отец возьми и крикни грозным голосом:
— Смертный час твой пришел, Тереха! Кайся, раб божий, перед смертью!
Тереха от неожиданности чуть не на аршин подпрыгнул, потом плюх в воду — и, не оглядываясь, тягу к деревне дал. Отец так и покатился со смеху:
— Своей брехни старик испугался! А место это, видно, его заветное, вот он тебя, несмышленыша, сказкой и хотел запугать, чтобы носа твоего тут не было.
С тех пор мы часто приходили с отцом к «чертову месту» на рыбалку, и всегда уловы были хорошие. Но такого голавля, как мой первый, больше ни мне, ни отцу выудить не удалось. А Тереха после купанья и испуга две недели на люди не показывался. Отец раза два его навестил, принес пирог голавлиный. Старик благодарил, но о причине своей болезни — ни слова.
Потом, уже через месяц, отец, подвыпив, рассказал мужикам, как он напугал Тереху. Перестали мужики бояться «чертова места», а рыболовов в деревне стало хоть пруд пруди. Только Тереха, который ничего не знал про то, какая нечистая сила его съесть собиралась, побаивался чертова омута и отыскал где-то выше другое голавлиное местечко.
В. Рачков СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
Я возвращался с рыбной ловли, прикрыв пустую корзину ветками и травой от любопытного взора прохожих. Шел, выбирая наиболее пустынные тропинки, избегая всяких встреч, чтобы незаметно проникнуть в дом. Там-то можно было чувствовать себя совершенно спокойно, ибо мои домашние привыкли к такого рода «уловам». Неожиданно я услышал за спиной голос:
— Ну, как дела, рыбачок?
Оглядываюсь — и вижу своего приятеля из села Малиновки. Он подошел и бесцеремонно поднял ветки, обнажив пустое дно корзины.
— Веточки козе несешь? — ехидно спросил он.
Я начал объяснять ему причину неудачи, ссылаясь на известный мне из рыболовного календаря «северный ветер», — когда рыба не клюет даже на самую лучшую приманку.
— Значит, виноват ветер? Жаль, жаль! — сокрушенно произнес приятель, с лукавством поглядывая на окружающие тропинку деревья, листья которых едва шевелились от легкого теплого ветерка.
— Знаешь что, дорогой, приезжай-ка завтра к нам в Малиновку хариуса половить, у нас в речке его страсть как много. Может быть, эта рыба и в северный ветер клевать будет. Да мух налови побольше, до них он больно охочий. Ну, до встречи, мне на мельницу зайти надо, — сказал он, сворачивая с тропинки. — Так приезжай обязательно, ждать будем!
Забыв про неудачу, я поспешил домой.
Весь остаток дня провел за ловлей мух.
Успокоился я только тогда, когда две спичечных коробки были заполнены ими до отказа. Я подносил коробок к уху, но вместо отчаянного жужжанья слышал только слабый шелест — тесно.
Проснувшись рано утром, закидываю рюкзак за плечи, спускаюсь с сеновала, плотно привязываю к велосипеду удилище, вскакиваю в седло и быстро выезжаю за околицу.
День обещал быть чудесным. Небо синее, безоблачное. Капельки росы на траве сверкают так, что подчас больно глазам.
Возле мельницы делаю небольшой привал. Раздеваюсь и бросаюсь с деревянного мостика в пруд. Утренняя вода приятно холодит тело. Хочется плавать, двигаться — и не вылезать. Но пора. После купания появляется какая-то легкость, которая, кажется, передается и велосипеду, так как я почти не ощущаю сопротивления педалей. Приятно ехать по узкой тропинке, окруженной со всех сторон стеной ржи, колышущейся, как море.
Но вот дорожка начинает подниматься в гору, покрытую густым ельником. Тропинка на подъеме пересечена корнями деревьев и выбоинами. Приходится слезть. Зато как хорошо нестись вниз по пологому склону, когда свежий ветер обдувает лицо и упирается в грудь!
Через час я приехал в Малиновку. Оставив велосипед у знакомого, сразу же отправился с его сынишкой к заветной реке. В воображении она рисовалась широкой, быстрой, с прозрачной холодной водой, окаймленной густым вековым лесом. Мой проводник вел меня куда-то под гору, в самую чащу леса. Вскоре среди хвойных деревьев стали попадаться ива, ольха. Мы прошли еще с полкилометра сквозь чащу, когда идущий впереди парнишка раздвинул кусты и, повернув ко мне веснушчатое, с облупленным от солнца носом лицо, торжественно сказал:
— Ну, дяденька, вот и река!
Я невольно подался вперед, забыв об осторожности, за что получил удар веткой по носу. Вместо ожидаемой реки я увидел впереди еще более густые кусты.
С недоумением спрашиваю:
— Где же река?
Парнишка смеется заливистым, звонким смехом и указывает себе под ноги:
— Вот она!
Под ногами небольшой ручеек шириной метра полтора. Он проложил себе путь среди густых зарослей ивняка и ольхи. Глубина его не больше полутора метров. Сквозь кристально чистую воду на дне четко видны галька и плитки песчаника, а между ними замысловатые трубочки ручейника.
— Скажи, пожалуйста, а здесь, кроме ручейников, есть еще какая-нибудь рыба? — осторожно, но не без ехидства, спрашиваю я мальчишку.
Оставив вопрос без ответа, «проводник» сворачивает в сторону и направляется по течению речки. Я следую за ним.
Метров через двести ольховник поредел, и мы вышли на край небольшого обрыва. Здесь ширина речки была около шести метров; на этом месте образовался небольшой, но довольно глубокий омут. Ниже, метрах в двадцати, речка опять суживалась и круто поворачивала вправо, встретив на своем пути крутой каменистый обрыв, живописно поросший на вершине молодыми елками. Я взглянул вниз. Несмотря на приличную глубину, на дне можно было различить любой предмет.
— Смотри, дяденька, хариус!
Какая-то рыба стрелой пронеслась и исчезла в корнях лежавшей на дне ели. Темные, поросшие водорослями, они напоминали щупальцы большого осьминога, медленно покачивающиеся от пробегающих по ним струй. Я внимательно присмотрелся — и почувствовал, как по телу пробежала нервная дрожь. Между плитами песчаника, на дне, под обрывом стояло несколько крупных рыб. Сверху они казались темными, хорошо был виден большой красивый спинной плавник, грудные, коричневатого цвета, едва-едва шевелились.
Быстро сняв с плеча рюкзак, достал коробок с мухами. Размотал леску, водрузил на крючок одну из пленниц, сделал замах — и вдруг почувствовал, как кто-то сзади крепко схватил леску. Оказывается, крючок зацепился за ближайшую ветку. Мой спутник взглянул на меня и рассмеялся. Проклиная все на свете, с большим трудом я нагнул деревце и освободил крючок. Нет, не надо нервничать. Иначе ловля пропала.
Как назло, мальчишка, очевидно, решил, будто я вообще не умею забрасывать, и начал меня инструктировать, да так подробно, что у меня кулаки сжались. Все же я его выслушал. Делаю заброс — все, кажется, в порядке. Но оказывается, пока он давал мне «урок» по технике заброса, рыбы куда-то исчезли. И только один хариус, видимо, наиболее любопытный, стоял около небольшого камня на дне водоема. Муха быстро плыла в его направлении, сердце у меня тревожно сжималось. Сейчас… сейчас стремительный бросок, резкая поклевка, подсечка — и первый хариус будет трепетать в корзине с мокрой травой. Муха, гонимая течением, подплыла к самому носу рыбы, скользнула по ее спине и поплыла дальше. Стоя на краю водоема, я десятки раз закидывал леску, но всякий раз упрямец отказывался взять наживу. Мы решили, что этот экземпляр или страдает заболеванием желудка, или слишком уж церемонный.
Мой проводник, посидев со мной час-полтора, сладко зевнул и, сказав, что ему нужно идти домой «пособить маме полить в огороде», исчез. Оставшись один, я еще несколько раз испытал терпение — свое и рыбы, — пока хариус, которому, должно быть, надоело дразнить меня, не скрылся под корнями в глубине омута. Долго я ломал голову над вопросом: почему рыба не берет муху?
Вдруг что-то больно ужалило меня в шею. Судорожно схватив рукой место укуса, я поймал небольшого овода. Безжалостно оторвал ему голову и бросил его в воду, бесцельно провожая взглядом. Овод проплыл уже метров десять и казался маленьким пятнышком, как вдруг я услышал плеск и большой круг разошелся по воде. Овода не было. Повторить опыт! Беру муху и бросаю ее в воду. И опять почти в том же месте разошлись круги, блеснула серебристая чешуя крупной рыбы. Значит, мухи съедобны и рыба хватает их жадно! Так в чем же причина неудачи?
Отцепив грузило и поплавок, насаживаю большую муху на крючок и пускаю ее плавом. Не клюет.
Жара становилась нестерпимой, клева не было; начинало сосать под ложечкой. Ныла рука, утомленная частыми забросами удочки. Терпению приходил конец. Спустившись вниз к ручью, умылся до пояса, зачерпнул в котелок чистой воды (в тот самый котелок, где должна была вариться жирная уха), расположился на краю обрыва, начал подкрепляться. Подкрепившись, я почувствовал усталость, накопившуюся за целое утро. Положил голову на телогрейку и, вероятно, уснул, так как пришел в себя от ударов в лицо тяжелых капель. Капли сбегали за ворот. Это было неприятно. Небо закрыла черная туча, лил дружный дождь. Над головой полоснула ослепительная молния, прокатился мощный раскат грома.
Первой мыслью было — бежать в деревню, но, взглянув на взрябленную брызгами дождя воду, я вдруг увидел, как по ней расходится большой круг. «А не попробовать ли?» — Делаю заброс — и не успело насекомое коснуться поверхности, пенящейся пузырями, как из глубины вылетела рыба и, буквально на лету поймав муху, подсеклась на крючке. Я дернул на себя удилище с такой силой, будто на крючке висел пудовый сом. Леса с визгом устремилась вверх, рыба оторвалась от крючка и, взлетев высоко в воздух, упала в кусты. Бросаюсь туда. После коротких поисков нахожу в мокрой траве небольшую серебристую рыбку, беспомощно бьющую хвостом по земле. Как реликвию бережно укладываю добычу в корзину. «Добыча» была чуть побольше указательного пальца.
Но вот муха насажена снова. Заброс. Поклевка. На этот раз уже более осторожно вывожу крупного хариуса.
Дождь льет как из ведра, в нескольких шагах едва различаешь предметы. Поклевку чувствуешь по характерному рывку, передающемуся от удилища на руку. Молнии прорезают небо, гремит гром. Одежда промокла до нитки, но я ничего не замечаю.
Клюет!
Этого достаточно, чтобы забыть обо всем. Сейчас никакая сила не сможет заставить меня уйти от речки.
Но вот дождь стих, небо быстро очистилось, выглянуло солнце.
И клев почему-то сразу прекратился. Я ждал новых поклевок, но безуспешно.
За время грозы мне удалось выудить пятнадцать довольно крупных рыб.
Обдумывая причину жадного клева во время дождя, прихожу к выводу, что хариус, по-видимому, очень осторожная рыба. Увидев на берегу рыболова, она перестает хватать «подозрительных» насекомых. А в дождь, когда поверхность воды рябит от падающих капель, рыба не может увидеть берега; к тому же с каплями дождя в воду часто падают насекомые.
Решив проверить свою догадку, спускаюсь к другому омуту. На берегу не показываюсь. Леску закидываю осторожно из-за кустов. И почти сейчас же чувствую резкий рывок. Еще один красавец отправляется в корзину.
Секрет рыбы разгадан.
Когда вечером перед отъездом домой я показал приятелю свой улов, он улыбнулся, взвесил на руке корзину и сказал:
— Ну, вот видишь, сегодня не помешал тебе северный ветер?
Жалею, что домой пришлось ехать уже в темноте. Ехать с хорошим уловом это не то, что пробираться домой «задами», с пустой корзиной, прикрытой для «маскировки» травой, чтобы только не встретиться со знакомыми и не услышать обидного вопроса: «Ну, как улов?»
Но сейчас этот вопрос казался вполне уместным, и в скромном ответе: «Ничего, клевало», — звучал бы огромный, скрытый смысл, понятный только неугомонному племени рыболовов.
В. Рачков НЕУДАЧА
Машина, груженная йодобромной водой, возвращалась из санатория Усть-Качка в город. Перед глазами пробегали веселые перелески, позолоченные желтыми лучами сентябрьского солнца. Стояли на редкость погожие дни «бабьего лета». Казалось, что лето не хочет уступить место суровой, дождливой уральской осени. За машиной поднимались клубы сухой пыли. Вдруг мотор начал чихать, шофер резко затормозил, вышел из кабины, поднял капот и стал внимательно изучать причину «заболевания» мотора. Я вышел вслед за ним. Осмотревшись, я увидел с левой стороны тракта сквозь ветви деревьев сверкающее зеркало пруда.
«А не попробовать ли?» Рука машинально тянется к карману, где лежит коробка с Сатурном и мормышками.
— Долго ли машину исправлять будем?
— Минут тридцать, пожалуй, потратить придется, — неохотно ответил шофер.
— Ну тогда я до мельницы сбегаю, попробую рыболовное счастье.
Я и завхоз Иван Иванович бегом направились к мельничной плотине. В крутом берегу выкопали несколько червей. Я привязал к леске мормышку, наживил червя, потом осторожно, по полупрогнившим сваям зашел на ледорез и забросил удочку. Блесна еще не успела опуститься на дно, как рука ощутила легкий толчок. Извлекаю из воды приличных размеров окунька.
— Лови, Иван Иванович, принимай в хозяйство!
Через несколько минут клюнул второй, за ним третий.
— А не попробовать ли ниже мельницы? — предложил Иван Иванович.
По срубу слезаю на бревенчатый мост. Мельница работает, из-под сруба с шумом хлещет вода. Закидываю на струю и почти сразу — сильный рывок и подсечка. Начинаю подводить хорошего окуня; он отчаянно сопротивляется. Высота моста от воды метра полтора. В воздухе окунь делает неожиданное сальто и, сорвавшись с крючка, падает в воду. Плеск заглушается шумом мельничного колеса и глубоким вздохом Ивана Ивановича.
К сожалению, времени для рыбалки больше не остается. На берегу стоит помывшийся шофер, он сочувственно разводит руками и дает понять, что пора ехать. Неохотно сматываю сатурн. Ничего, это разведка боем. В воскресенье мы обязательно сюда приедем и возьмем за жабры свое рыболовное счастье.
В субботу я уговорил своего приятеля, обладателя «Москвича», съездить на мельницу. Он не относился к числу заядлых рыболовов, но и не был совсем равнодушным. Красочное описание рыбных богатств этой отдаленной от города мельницы явно поколебало его. После некоторых обоюдных усилий было испрошено разрешение у его супруги (что иногда играет в рыбалке важную роль). К нашим рассказам она отнеслась скептически:
— Хоть кошке-то привезите, где уж вам на уху наловить.
Выехали мы под вечер. Было тепло, безветренно, но солнце на горизонте опускалось в серую тучу.
Заночевали в селе Култаево. За ночь погода переменилась — небо стало хмурым, осенним; печально стояли среди темных пихтовых перелесков красноватые осины. Дул северный ветер.
Но рыбаки народ настойчивый. Минут через сорок мы стояли на мельничном мосту и закоченевшими руками насаживали на мормышки червей. Мельничный омут казался холодным, безжизненным. Мельница не работала. Мы забросили удочки, начали играть мормышками, но клева не было. Я успокаивал приятеля:
— Подожди, заработает мельница, пойдут буруны, окунь из ямы на струю выйдет. Вот тогда отбою не будет, только успевай таскать…
Но сам я, по правде говоря, не очень верил своим словам…
Через полчаса подъехали две подводы: колхозники привезли молоть зерно. Мельник поднял накладку, скрипнуло колесо, забурлила вода. Но клева не последовало. Напрасно мы забрасывали на струю блестящие мормышки самых различных цветов — от серебристой «нержавейки» до черного и даже зеленого жучка. С моста спустились на берег. В траве я нашел несколько чуть живых кузнечиков. Насадил одного на крючок, закинул удочку и вдруг поплавок резко пошел ко дну. «Голавль!» — мелькнула мысль. Подсекаю и, к моему удивлению, на крючке оказался окунек. Делаю еще несколько забросов, насадив кузнечиков. Но поклевок нет.
— Последнего могиканина выловили, — язвит приятель.
Я предлагаю попробовать порыбачить на «прыгунка». Связываем две лески от катушечного удилища, в середине на двухметровый поводок привязываем тяжелую блесну. Я перехожу на один берег, приятель стоит на другом. Начинаю накручивать сатурн на катушку, блесна бежит по воде на мой берег, затем крутим в противоположную сторону. Коченеют руки. Блесна бегает от берега к берегу, но все напрасно. Наконец приятель категорически заявляет:
— Хватит!
Я соглашаюсь. Комментарии излишни. И все-таки будущим летом, в погожий денек, я опять поеду на эту мельницу. Рыба там есть, это точно. Но, должно быть, резкая смена погоды в тот день расстроила рыбий аппетит.
В. Рачков ОСТРЫЕ МОМЕНТЫ
Страстный рыбак, изредка только берущийся за ружье в период перелета утки, я имел самое смутное представление об охоте на боровую дичь, почерпнутое из охотничьих рассказов. Рассказы эти, насыщенные ярким описанием природы и остротой переживаний, вызывали безграничное желание испытать счастье лесной охоты. Их можно было читать и слушать часами. В воображении сменялись десятки картин: снежные фонтаны и громкое хлопанье тетеревиных крыльев, когда испуганные тетерева вырываются из снежных лунок, где они прятались от ночного мороза, уступали место волнующей охоте на вальдшнепа в период тяги; ее сменяли сцены захватывающей охоты на рябчика. Но все эти рассказы имеют один общий момент: в самом интересном месте рассказчик вскакивает, глаза его сверкают, он забыл о присутствующих — громкое «бах! бах!», сопровождаемое дуплетом ладоней, вырывается из его рта.
В один из теплых весенних вечеров ко мне зашел мой старый приятель, заядлый охотник, хорошо знающий лес и повадки его обитателей. Он поздоровался, сел на стул, свернул «козью ножку» и несколько минут молча, сосредоточенно наблюдал, как я распутываю лески и меняю поводки на переметах. Потом, крепко затянувшись, окутал свое лицо клубами махорочного дыма и произнес:
— Ну, что, доктор, рыбачить собираешься?
— А как же? Сам видишь, весна какая: лягушка концерт задает, значит, самый жор налима, только успевай ловить. Пройдет неделя, полторы — и клеву конец.
— Оно, конечно, верно, налима только теперь и половить. Но все-таки скучное это занятие — рыбалка на переметы: надел червей на крючки, бросил шнур в воду, а утром ходи снимай рыбу, если попалась. Понятий больших не нужно — мудреная ли вещь рыбу выудить? Вот дичь или зверь — тут другая статья! Здесь большую сноровку да смекалку иметь надо!
Со всей страстью, на которую только способен обиженный в лучших чувствах рыбак, я стал рассказывать ему о хитрости рыбы, о ее капризном клеве, часто зависящем от погоды и времени года. Как трудно бывает найти подходящую приманку, сколько труда приходится положить на это дело даже опытному и наблюдательному рыболову! Рассказал ему о силе рыбы и борьбе с нею, стараясь доказать, что не так уж просто поймать рыбу, как кажется на первый взгляд. Он внимательно слушал, а потом, почесав затылок, удивленно сказал:
— Вот ведь как вы ее, рыбу-то, знаете, а я думал, простая вещь. Накопал червей, взял удочки, сиди и рыбачь. Есть про вас, рыболовов, пословица: «На одном конце — червяк, а на другом — дурак». А оно вон как оборачивается, даже интересно стало. Ну, а все-таки, обижайтесь вы на меня или не обижайтесь, а охота серьезней рыбалки, и впечатлений больше, и, как вы это там называли, «острых моментов», что ли, хоть отбавляй. Да что говорить понапрасну! Лучше вместо спора поедем со мною в лес, на тока сходим, а тогда и станем разбираться, чье ремесло лучше.
В другое время я отказался бы от такого предложения, но сегодня было задето мое рыбацкое самолюбие. Я согласился.
В субботу вечером мы, двое охотников и один рыболов, в полном «боевом снаряжении» тряслись по тракту в кузове грузовой машины, сидя на каких-то мешках. Километрах в тридцати от города начался густой лес. Плотной стеной он стоял по обеим сторонам тракта. Мы въехали на высокую гору — и перед нами открылась чудесная панорама: вдаль, насколько хватал глаз, видны были Уральские горы, покрытые густым лесом; далеко-далеко на горизонте они исчезали в тумане, сливаясь с голубизной неба.
Проехали еще километров сорок, когда Герасим Иванович (так звали моего спутника) энергично забарабанил кулаком по крыше кабины. Машина остановилась. Мы спрыгнули, расплатились с шофером и, вскинув на плечи ружья, свернули с тракта на лесную тропинку. Через полчаса пришли к небольшой лесной деревушке, где жила мать Герасима Ивановича. Старушка встретила нас радушно. На столе кипел большой пузатый самовар, а в сахарнице лежали, словно дожидаясь нас, аппетитные ломтики сотового меда. После дорожной встряски мы дружно навалились на съестное.
После ужина Герасим Иванович многозначительно сказал:
— Ну, теперь, гости дорогие, спать пора ложиться, вставать ведь рано придется.
Мы с моим товарищем Левицким удобно устроились на полу, хозяин забрался на полати. Старушка погасила свет, в комнате воцарились мрак и тишина. Мне показалось, что я проспал совсем недолго, когда над моим ухом раздался голос Герасима Ивановича:
— Вставать пора!
Открываю глаза. Сквозь окно пробивается тусклый лунный свет. Осторожно бужу Левицкого, он мычит что-то невнятное, пробует сопротивляться и только через несколько минут окончательно приходит в себя.
Выходим из дому и через поскотину направляемся к лесу. Поле залито лунным светом, на траве сверкает иней; лес на горе кажется черным, загадочным. Идем низиной. Где-то совсем рядом шумит река.
В лесу не слышно звуков и, как бы поддаваясь этой тишине, Герасим Иванович шепотом объясняет нам повадки глухаря:
— В охоте на эту птицу особую осторожность соблюдать надо: запел глухарь — беги к нему прыжками, след вдавливай плотно и замирай — поет недолго; хрустнет под ногой ветка или снег, когда глухарь играть перестанет, — только и услышишь, как крыльями захлопает: поминай как звали. Очень уж чуткая птица, а вот когда поет — хоть из ружья пали, не услышит. Если и пропуделяешь — не беда. Сейчас через реку переправляться будем.
Спускаемся к реке. Вода ее кажется черной, бездонной; на сердце становится немного жутковато. Пробуем подыскать подходящее дерево для мостика, но вскоре убеждаемся, что даже самая высокая ольха, упав, не достанет другого берега.
Приходится подняться километром выше — там река распадается на два рукава. Первое срубленное дерево с шумом падает в воду. Его стаскивает течением и прижимает к нашему берегу. Валим на него другое. Ломая сучья, оно с треском падает, ложится и застревает между ветвей первого, упираясь вершиной в противоположный берег. Вырубаем шест; я вступаю на шаткую переправу и опускаю его в воду. Шест не достает дна, течение вырывает его из рук. Начинаю, перехватываясь за сучья и балансируя, перебираться без его помощи. Следом за мной переправляются спутники. Все благополучно. Так же форсируем второй рукав.
На востоке начинает бледнеть горизонт.
— Ну, нажимай, ребята, — шепчет Герасим Иванович. — Подзадержались с переправой. Поспешить надо!
Убыстряем шаги. И кажется, что с каждым пройденным десятком метров лес становится все светлей и светлей. Почти бегом пересекаем большую поляну. И вдруг лес как бы оживает: сперва засвистели какие-то маленькие птички, недалеко пискнул рябчик. Лес становится выше, попадается больше берез и вывороченных с корнем деревьев. Под ногами хлюпает вода, похрустывает тонкая корочка льда, затянувшего за ночь лужи; иногда встречаются довольно большие сугробы. Все чаще останавливаемся и слушаем. Слышно, как вдали на поляне, которую мы только что пересекли, играют косачи. Но глухариной песни не слышно. Проходим еще метров триста. Герасим Иванович останавливается, потом, повернувшись к нам, тихо шепчет:
— Вот здесь и было их токовище, я его с сорок шестого года знаю. Неужели сменили?
В его голосе слышатся тревожные нотки. Я уже хочу ехидно прошептать: «С полем вас, Герасим Иванович», — но вдруг вижу, как, мелькая между деревьями, в нашем направлении летит какая-то большая птица.
— Глухарь! — шепчу я, едва шевеля губами.
Птица садится в густом ельнике, метров за сто от нас. Минуты кажутся часами, слух напряжен до предела. Вдруг оттуда, куда села птица, раздаются странные звуки: будто кто-то ударяет деревянной ложкой об ложку. Потом все стихает. Через минуту раздается глухое хлопанье крыльев: глухарь взлетел и сел на вершину высокой ели. Он долго оглядывается по сторонам, вытягивая длинную шею, слушает. На фоне голубого утреннего неба птица видна хорошо: большая, почти черная. Проходит еще немного времени, глухарь распускает веером хвост, расправляет крылья, несколько раз щелкает клювом, издав сухой звук «тэк-тэк-тэк». Заиграл!
— Ну, кто пойдет? — спрашивает Герасим Иванович. Идти, конечно, хотелось каждому, но, новички в охоте на боровую дичь, мы боимся испугать птицу и предлагаем ему сделать первый выстрел. Герасим Иванович не спешит. Он пропускает несколько песен: пусть разыграется. И когда глухарь «разыгрался», Герасим Иванович делает несколько гигантских прыжков в сторону ели и останавливается как вкопанный. Почти тотчас же обрывается песня. Под новую песню Герасим Иванович делает еще несколько прыжков и исчезает в густом ельнике. Отсюда до птицы не более пятидесяти метров. Глухарь опять прерывает песню. Проходит несколько минут, которые нам кажутся вечностью. Птица прислушивается к чему-то, вот-вот улетит… Но нет, снова звучит глухариная песня. Мы ждем, что сейчас грянет выстрел. «Что же он медлит, — думаю я, — стреляй же, стреляй!» Но Герасим Иванович, видимо, испытывает наши нервы. Он пропускает еще одну песню.
Глухарь широким веером раскрывает хвост, вытягивает шею. Снова запел! Я вздрагиваю от неожиданного выстрела; по лесу катится эхо.
Пение оборвалось; глухарь камнем рухнул вниз, а по воздуху, гонимые легким утренним ветром, поплыли перья. Забыв про всякую осторожность, мы бросились к ели, где только что сидела птица. Герасим Иванович стоял под елью, держа красавца-глухаря за шею. Минут десять мы рассматривали трофей.
— Ну, хватит, полюбовались. Пора и вам счастье охотничье испытать, — говорит Герасим Иванович.
Но судьба, должно быть, решила посмеяться над новичками: глухари здесь в это утро больше не токовали. Мы думали, что их испугал выстрел, но Герасим Иванович объяснил нам, что птицы, наверное, сменили ток, а этот глухарь залетел сюда по старой привычке.
Несмотря на постигшую нас неудачу, мы возвращались домой счастливые. Приближались к поляне, которую пересекли утром. Где-то совсем рядом, в мелкой поросли березняка бормотали тетерева-косачи. Вдруг Герасим Иванович остановился и громко произнес:
— Чу-фыш!
Мне показалось, что он хочет спугнуть птиц и выстрелить влет, но каково было мое удивление, когда с поляны донеслось в ответ злобное:
— Чу-фыш!
— Ишь какой сердитый, — тихо сказал Герасим Иванович и снова «чуфышкнул». Тетерев отозвался где-то еще ближе.
— Драться идет, как бы не заклевал вас, охотничков, — подмигнул Герасим Иванович и опять издал тетеревиный крик.
— Чу-фыш! — ответное шипение где-то совсем рядом. Недалеко от елочек, за которыми мы стояли, из кустов на поляну вышел большой тетерев. Распустив лирообразный хвост и ударяя крыльями о землю, он злыми глазками, сверкавшими из-под красных бровей, осмотрел поляну, отыскивая соперника, и злобно зашипел:
— Чу-фыш!
Мы с Левицким выстрелили одновременно. Раздалось хлопанье крыльев, и птица с шумом взлетела в воздух. Стреляем влет, но снова мажем: уж очень сильно волнение. Герасим Иванович спокойно вскидывает к плечу ружье, гремит выстрел — и птица, как бы запнувшись, замедляет полет, а потом как-то боком падает в траву.
Мы стоим растерянные; от волнения дрожат руки, слышны удары собственного сердца.
— Ну, как, достаточно ли острый момент? — коварно спрашивает Герасим Иванович. — К лесной дичи большую привычку иметь надо. Я тоже сначала пуделял: руки от волнения дрожали, как только хлопанье крыльев услышу. Бывало, осенью из-под ног тетерев вылетит. Выстрелишь — и мимо, только духом перья вышибет. С тем и уйдешь. А вот теперь привык. Отпустишь немного подальше и бьешь наверняка. Ну, не горюйте, завтра попробуйте в косачей из шалаша пострелять на токовище. Вот где острых моментов много! Порой на их бои залюбуешься и стрелять позабудешь! А до чего зло бьются между собою… Ну, да сами увидите. Пошли теперь домой поспим, а с обеда шалаш строить пойдем.
В. Рачков «ВЫЛЕЧИЛИСЬ»
Самый опасный враг рыболова — жена. От дождя можно укрыться, надев соответствующую одежду, к комару можно притерпеться или защититься накомарником, но для защиты от жены почти не изобретено эффективного способа. И чем лучше рыбак, чем глубже знает он свое рыболовное дело, чем совершеннее его рыболовная техника, тем строже и коварнее его дражайшая половина. Она всеми фибрами души ненавидит рыбалку, рыбаков, удочки, блесны и вообще все, что забрасывается в воду с целью добычи рыбы. Стоит вам в ее присутствии заговорить с ее мужем о рыбалке — и вы никогда уже не будете пользоваться хоть маленьким уважением в ее глазах. А какие это глаза! В них столько благородного гнева, испепеляющего вашу душу. Жена — антирыболовный фанатик. Она, не дрогнув ни единым мускулом, со спокойной совестью может сжечь в печке ваши удочки или подарить кому-нибудь «на день рождения» ваш спиннинг. Тот самый спиннинг, за которым вы охотились четыре или пять рыболовных сезонов. Если вы в субботу не успеете вовремя улизнуть из дома, считайте, что воскресенье пропало, безнадежно, ушло в вечность, и не вернуть его, не записать в рыболовный календарь. Дел дома она отыщет для вас сколько угодно. Вы с ненавистью будете выхлопывать матрацы, нанося им палкой такие удары, будто бы…
Ну, в общем, соседи будут вами восхищены:
— Вот какой примерный супруг Никифор Евстратьевич, как жене помогает! Не то что мой… Его уже со вчерашнего дня черти с удочкой унесли в неизвестном направлении!
А Никифор Евстратьевич, услыша такие слова, только тяжело вздохнет:
— Как жаль, что эти черти не подхватили меня! — И еще быстрей замелькает палка в его руках, нанося сокрушительные удары по мягкому матрацу.
Провести жену почти невозможно: за долгие годы совместной жизни она изучила все тонкости психологии мужа.
Если вы с понедельника необыкновенно нежны, после работы готовы выстаивать самые длинные очереди в гастрономе, прибирать в квартире, пытаясь всем этим залучить на свою сторону сердце супруги, то будьте уверены, что до пятницы все пойдет как нельзя лучше. Но утром в субботу, когда вы встаете с самыми радужными мечтами о коротком рабочем дне и длительном наслаждении на берегу реки у заветного омутка, вас как громом поражают слова жены:
— Что это ты, милый, задумчивый такой — уж не на рыбалку ли собрался? И не думай — завтра к нам должны прийти в гости Петровы, а ты черт знает куда собираешься уехать. Нет, нет, и не думай, мой дорогой!
— Да как же, Верочка, Петровы! Ведь я с Владиславом Ануфриевичем сегодня собираюсь ехать на Сылву!
— С Владиславом Ануфриевичем? Нет, он не поедет! Мы еще вчера с Аполлинарией Сергеевной договорились провести это воскресенье вместе, а Владислав Ануфриевич дал согласие.
Вы проклинаете в душе товарища-ренегата, так легко поддавшегося на женские уговоры. Прощай, долгожданная рыбалка.
В субботу вечером вы приходите домой, помогаете жене, подпоясавшись фартуком, защипывать пельмени и с грустью поглядываете на скрывающееся за крышами домов дневное светило.
А славная была бы зорька…
Ах, Владислав, Владислав!
— Что это ты вздыхаешь? — спрашивает обеспокоенная жена.
«Что вздыхаешь!?» Да разве она поймет, почему вздыхает настоящий рыбак в такой вот субботний вечер, что эти пельмени, которые готовятся на завтрак, уже сейчас стоят у него поперек горла.
— Эх, Владислав, Владислав!
Но у Владислава Ануфриевича на душе, наверное, не лучше: он ведь тоже настоящий рыбак!
В молодости его не могла удержать никакая погода. В субботы своей молодости он даже не приходил на свидание к «Аполленочке», как он ласково называл в те дни свою будущую супругу Аполлинарию Сергеевну. Но сколько радости бывало у молодых людей, когда «Аполленочка», хорошо зная, куда уезжает рыбачить Владислав, сама прибегала к нему. Они любовались сказочными картинами засыпающей реки, слушали плеск рыбы. В глазах у обоих сверкали яркие огоньки костра и молодости. Да, то была молодость! То были мечты, и хотелось бы вот так же каждую летнюю ночь проводить у рыбацкого костра, от души смеяться над незадачливым Никифором, который после прихода «Аполленочки» всегда отправлялся куда-то в темноту с небольшим фонариком отыскивать выползков.
Пролетели года, и теперь уже нет Владислава, нет «Аполленочки», а есть Аполлинария Сергеевна, есть Владислав Ануфриевич — директор крупного предприятия. Никифор Евстратьевич стал главным инженером и никто не зовет его Никифором. В душе оба мужчины по-прежнему заядлые рыболовы, но все реже и реже удается им посидеть в субботу на берегу знакомой речки. Да и места, где прошла их юность, в последние годы ушли на дно морское. Теперь над тем кустом, спрятавшись за который Владислав вытаскивал на удочку килограммовых голавлей, плещут волны Камского моря и глубина достигает пятнадцати метров. Но рыбалка от этого хуже не стала: появилось много окуня, щуки.
Однажды, это была счастливейшая из многих суббот, два друга подплыли на лодке к торчавшему из воды кустику. Он оказался вершиной густой березы, стоявшей когда-то на холмике возле речки. Здесь, много лет назад, Владислав впервые решился поцеловать свою ненаглядную «Аполленочку» — за что получил… но потом был реабилитирован и на память об этом случае вырезал на белой коре березы имя милой девушки. Теперь оно было глубоко под водой, скрылось навсегда, как и юность.
Владислав Ануфриевич дернул на себя верхушку березы, из ее ветвей, густо покрытых водяными мхами, стрелой вылетело несколько крупных щук. Клев в этот день был необычайный: таких красавцев-окуней редко удавалось класть в корзины нашим рыболовам. Как будто около этой могучей березы собралось большое рыбное войско из щук и окуней, поставленное охранять дорогое сердцу Владислава Ануфриевича имя «Аполленочки».
Да, жены сильно изменились: первые года два они еще сопровождали супругов на рыбную ловлю, но потом… Потом появились дети, жены начали грузнеть и поражаться, как это взрослые мужчины могут увлекаться рыбной ловлей. В юности это понятно, но теперь, когда семья, когда всю работу надо отдать дому и детям… они готовы каждую субботу и воскресенье проводить на рыбалке за пустым занятием!
— Ведь, слава богу, живем обеспеченно, денег хватает: можем в гастрономе и осетринки и стерлядок купить. Так нет, все их из дому тянет! А что привозят? Каких-то окунишек, щученку иной раз, а сами-то как лешие дымом пропахнут!
— А мой-то в прошлом году, — сетовала Вера Григорьевна, — чуть от путевки в Крым не отказался: говорит, поедем отдыхать в деревню к твоему отцу, у них нынче море под самые окна подошло, а рыбы страсть! Еле, еле отговорила! Пришлось такую истерику закатить, что он, бедняжка, после этого чуть в больницу не слег: с сердцем у него в последние годы не очень хорошо. А ведь раньше орел был!
В общем, жены, объединившись, готовили друзьям новые сюрпризы, полностью опрокидывающие их мечты. Это заставило друзей крепко призадуматься.
Однажды директор вызвал к себе в кабинет главного инженера и, усадив его против себя, спросил:
— Ну, что, Никифор, опять прошлая суббота у нас ухнула в вечность. А какая зорька была… Эх-ма!
— Да, зорька была что надо, да ведь твоя-то Аполлинария мигренью заболела, вот и пришлось из-за нее тебе дома сидеть, а из солидарности моя Верочка меня на узду взяла.
— Так, оно… Так… Что-то нам нужно придумать.
Около часа шло совещание директора с главным инженером завода. Наконец Никифор Евстратьевич с сияющим лицом вышел из кабинета. Директор также был сегодня необычайно добр, и с его широкого лица не сходила улыбка.
Во вторник жена Владислава Ануфриевича была приглашена по телефону к Вере Григорьевне. Пока обе женщины делились последними новостями, а Никифор Евстратьевич подливал масло в огонь женского воображения, Владислав Ануфриевич перевез все рыболовные принадлежности и одежду на квартиру к Габову — старому убежденному холостяку и заядлому рыболову. На другой день, в среду, Вера Григорьевна была в гостях у Петровых, а Никифор, сославшись на срочное дело, остался дома. Как только машина, увозящая супругу, скрылась за углом, он примялся лихорадочно собирать свою рыболовную амуницию, которую также переправил к Габову.
В пятницу на квартиру к директору завода пришла лаконичная телеграмма, вызывавшая его и главного инженера в Свердловск. Супруги очень взгрустнули, что это воскресенье не удастся провести вместе с мужьями. Они намечали в субботу вечером поход на премьеру в оперный театр… Но работа есть работа.
В три часа за директором заехала «Победа». Все места были заняты, оставалось только одно для главного инженера, и поэтому Аполлинария Сергеевна не могла проводить своего супруга. Минут через семь в машину втиснулся Никифор Евстратьевич. Захлопывая дверцу «Победы», он с дрожью в голосе сказал:
— Вот, видишь, Верочка, проводить меня никак нельзя: машина занята.
Он нежно поцеловал жену, и «Победа» тронулась… Но не в сторону вокзала, а на квартиру к Габову. Здесь командированные переоделись в рыбацкие костюмы, захватили удочки, и «Победа» понесла их по тракту к заветным рыболовным угодьям.
Бдительность жен была обманута. Друзья вволю насладились и вечерним костром и отменной рыбацкой ухой, вволю вдохнули сыроватого речного воздуха, которого так боятся заботливые супруги. На утренней заре половили больших красноперых колючих окуней, а Владислав Ануфриевич на спиннинг вытащил большую щуку. Взялась она, когда блесна проплывала около «Аполленочкиной березы», вершину которой уже едва можно было различить под водой, так как в этом году уровень воды в Камском море стал выше: вступали в работу последние агрегаты Камской ГЭС.
Спустя несколько месяцев Аполлинария Сергеевна жаловалась Вере Григорьевне:
— Ну и год! Совсем Владислав Ануфриевич с вашим Никифором Евстратьевичем покоя не видят: замучили их командировки! Мой-то и удочки куда-то девал, а о рыбалке даже не заговаривает. Вылечился!
— Не говори, милая, — подтвердила Вера Сергеевна, — мой тоже совсем вылечился.
В. Рачков ДНЕВНИК РЫБОЛОВА
2-го июня. Наконец-то отпуск! Вот теперь можно поудить! Завтра же выезжаю в Оханск. Здесь для рыбака раздолье: Кама, Очер, перехваченный плотинами колхозных электростанций, в прудах рыбные угодья. А какой только здесь рыбы нет? Всякая есть — от колючего окуня, до красавца-язя, от хищной щуки до ночного разбойника — налима! Около Оханска, правда, со стороны противоположного левого берега, в Каму впадают река Юг и небольшая речушка Шанай. Юг принимает в себя холодную Татарку; в ее лесных омутах можно выудить крупного хариуса. Вокруг Оханска много озер. На камских заливных лугах — Окуловское; особенно богаты карасями озера на Першинском острове, в восьми километрах от города, — Долгое, Круглое, Шумихинское.
3-го июня. Вечером вылез из междугородного автобуса: летом он доезжает только до берега Камы, а дальше переправа на пароме, большой барже, вмещающей больше десяти автомашин. Баржу тянет на буксире катер «Ласьва», названный так в честь одноименной реки, впадающей в Каму около города Краснокамска, где имеется большой бумажный комбинат, сточные води которого обезрыбили Каму на много километров. Когда пролетаешь здесь на самолете, видно, как мутная белесая струя, постепенно расширяясь, захватывает всю ширину Камы, и почти до города Нытвы вода имеет характерный оттенок. Рыбаки, проезжающие по Каме на лодке в более благоприятные места, вылавливают больших снулых рыб, с раздутыми от отека боками. Не поверишь, что здесь раньше были самые богатые песчаные косы, где вылавливали много такой ценной рыбы, как стерлядь. Теперь поимка ее считается редкостью. А сколько погибло леща, обитателя глубоких камских ям! Не счесть миллионных убытков, наносимых рыбному хозяйству Камы, да и других рек, сточными водами промышленных предприятий. И рыба, если бы могла, крикнула бы:
— Спасите нас — погибаем от ценных продуктов, которые вы, люди, спускаете в камскую воду.
Но я немного отвлекся от основной темы. Итак, я на берегу Камы около Оханска. Сюда уже почти не доходит губительное загрязнение воды. К счастью, паром на этой стороне. Через тридцать минут схожу на мостики в поселке Кривошеино. Часть этого села, расположенного на довольно крутом берегу, будет снесена: воды Воткинского водохранилища затопят это место и почти все луга Очера. Зашумит новое Камское море, радуя сердце рыболова. И это время уже не за горами!
Остатки вечера провел на огороде за добычей красненьких навозных червей. Потом налаживал удочки. Утром решено идти на Очер.
4-го июня. Утро выдалось ясное, хотя немного ветреное, и ветер, как назло, северо-западный. Удить начал выше окуловского моста, на изгибе Очера; здесь глубокая яма с обрывистым известковым берегом. Рыба любит держаться в этой кривулине. На дне омута много камней; они надежно защищают рыбу от бредней и мереж. Бредневики обходят это глубокое каменистое место. Правый берег очень живописен: к самой воде подступает крутая гора, густо поросшая пихтой и ельником; у ее подножья вытекает небольшой родничок с кристально чистой холодной водой, приятной на вкус.
Удить начинаю с небольшого песчаного островка, у выхода из ямы. Закидываю донную удочку и почти сразу следует поклевка. Вытаскиваю «речного ежа» — Ерша Ершовича, сына Щетинникова. Ерши буквально одолевают, но я соскучился по рыбной ловле, да и не хочется покидать это красивое место. Вдруг кончик удочки, прикрепленной на рогатках, резко качнулся… Делаю подсечку — что-то сильное пытается вырвать удочку из рук. Сдаю немного лески и пробую вновь подвести рыбу но… она подводит меня; леска ослабла. Вытаскиваю удочку — поплавок и грузило на месте, крючка нет. Сатурн 0,3 миллиметра как бритвой перерезан! Очевидно, щука, позарившаяся на «речного ежа», взяла мой крючок на память вместе с ершом. Переделываю одну из удочек на живцовую, прикрепив металлический поводок. Наживляю на крючок ерша. Но ему не суждено было погибнуть в этот день. Начало припекать солнце, ерши клюют без остановки. Плюнул я на такую рыбалку и решил выкупаться.
Потом пришлось подняться выше, под вяз. Здесь на белую мормышку (она сделана из красной меди, но покрашена нитролаком) блеснением в отвес поймал небольшого подлещика и парочку голавлят. Вскоре клев прекратился.
Я еще раз выкупался и отправился вниз по Очеру искать «настоящей поклевки». Камская ГЭС сбрасывает паводковые воды; в низовьях Очера держится подпор; течения нет. Река разлилась довольно широко, но из берегов не вышла. Около наклонившихся к воде больших ив останавливаюсь и невольно замираю: стая крупных голавлей плывет у самой поверхности. Поспешно разматываю удочку, забрасываю. Но надежды не оправдываются: голавли совершенно равнодушно проплывают мимо червя, не обращая на него никакого внимания. Изредка подплывают к поплавку и, плеснув хвостом, отходят в сторону.
«Эх, кузнечиков бы!» Да нет их еще: май был холодноват. На коре толстой ивы удалось поймать двух мух. Наживил на крючок. Сделал заброс. Почти моментальная поклевка. Вывел неплохого голавля. Но мух найти не так легко.
Начинает вечереть. С ветки ивы упало в воду какое-то насекомое — и тотчас же на этом месте разошелся бурун: насекомое исчезло. Начинаю присматриваться к листьям дерева, и вдруг, о радость! По острым листочкам ивы ползают десятки небольших жучков-долгоносиков, у них сейчас брачный период. Минут через двадцать у меня в руках полная спичечная коробка жучков; они скребутся в стенки, протестуют против насильственного пленения. Вот это уже другое дело! Осторожный заброс. Резкая поклевка — и в корзину отправляется крупный голавль. Потом вытаскиваю язенка, еще двух голавлей, и клев обрывается.
Приходится сменить место, спускаюсь метров на двести ниже. Опять несколько хороших поклевок, корзина становится тяжелее. Солнце исчезает за лесом, начинают сильно донимать комары. Быстро сматываю удочки и обращаюсь в позорное бегство. Тучи комаров преследуют меня сзади, как бы крича: «Дер-жжж-иии… его!»
5-го июня. Решил отправиться на Татарку поудить хариусов. Опять переправился через Каму, затем на попутной машине доехал до села Гари, километра три от Камы. Здесь я заметил, пролетая на самолете года два назад, небольшой мельничный прудок. Он и заинтересовал меня. Но мельница не оправдала моих надежд: хотя рыбы в пруду было много — почти поминутно всплескивалась сорога, пытаясь схватить пролетающих над водой крупных стрекоз, — на удочку рыба клевать отказывалась.
— Она у нас сытая, — пояснил мне мельник. — А вот на Югу, пониже, яма хорошая есть: голавля страсть как много, только на удочку берет плохо. Хитрущая рыба.
— А далеко ли?
— Да нет, совсем почти рядом. Пойдемте вместе, я тоже поудить хочу.
В зарослях хвоща, окружающих пруд, мне удалось поймать до десятка стрекоз, только что вышедших из серого водолазного панциря бывшей личинки. Ее у нас называют козявкой, некоторые, правда, очень редко казарой. Стрекоза — одна из лучших наживок на крупного голавля.
Минут через пятнадцать мы были у омута. Здесь в воду упал громадный тополь, перегородив всю реку. Выше омута узкий рукав переката. Над водой нависло несколько деревьев ольхи. Нацепляю на крючок стрекозу и осторожно, из-за ольхи, делаю заброс. Течение подхватывает наживку и несет в омут, постепенно сбрасываю с катушки леску. Почти у самых ветвей тополя моя стрекоза исчезает, и на поверхности воды расходится большой круг. Делаю подсечку… Рука ощущает сопротивление. Начинаю подматывать катушку. Рыба сперва идет спокойно, но, заметив меня, стрелой уносится в омут, смотав метра четыре лесы. Борьба с крупным голавлем всегда доставляет мне огромное удовольствие. Ради такой поклевки можно пройти десятки километров! Вскоре мне удалось вывести черноспинного красавца, как на буксире, на пологий гравийный берег.
За какие-нибудь полчаса я выудил шесть замечательных голавлей. Мельник был сильно удивлен такой удачей.
— Мы если за день одного-двух вытащим, так это очень хорошо! Обязательно куплю себе катушку, а то с простой удочкой трудно голавля перехитрить: уж больно он осторожный и сильный — мигом лесу порвет!
Я сфотографировал омут и отправился по назначенному маршруту на Татарку. Дорогой пришлось раза два выкупаться: солнце палило нестерпимо. Через час я, преследуемый несметными полчищами комаров, продирался сквозь заросли ивняка к берегу Татарки. Однако меня постигла неудача: в этих местах недавно прошли дожди, и вода в речке была мутной, как брага. Ужение хариусов откладывается на неопределенное время.
6-го июня. Переехал в село Култаево, расположенное в двадцати пяти километрах от областного центра на Казанском тракте.
Вечером удил на Нижней Мулянке, у разрушенной Телькановской мельницы, пруд которой раньше изобиловал крупным окунем, а в глубоком подмельничном омуте водились большие щуки и множество голавлей. Лет шесть тому назад пруд прорвало, окуней выловили бреднями; подмельничный омут заносит илом из бывшего пруда. В яме, где раньше не могли достать дна лучшие ныряльщики, теперь нырять небезопасно. Самая большая глубина — два метра. Крупный голавль и щука стали редкостью. Но что интересно: в яме никогда раньше не было язей, а в последние годы, видимо, в связи с перекрытием Камы, в Нижнюю Мулянку зашло громадное количество мелких язят. Буквально черной тучей шли они по дну реки вместе с окуневым мальком. Большая часть мальков была хищнически выловлена, лишь некоторое количество их сохранилось в подмельничной яме. Слишком илистое дно, на котором неизбежны частые зацепы, предохраняет рыбу от ловли недотками (частыми бреднями, сделанными из мешка; ячейка его не пропускает даже самого мелкого гольяна; — снасть самая браконьерская!) За год язята подросли. Для Култаевских ребятишек ловля язят на удочку составляет основной вид ужения. Клюют они беспрерывно, и куканы мальчишек постоянно унизаны сотнями рыбок, чуть-чуть побольше указательного пальца. Точно так же вылавливается очень много мелкого окуня.
Выше бревенчатого моста мельницы рыба проникнуть не может. А жаль: там довольно глубоких, коряжистых омутов, где язята с окуньками нашли бы хорошее пристанище и надежную защиту от любителей бредня и мережи, а спустя несколько лет могли бы порадовать любого рыболова отменной поклевкой. Да и от последнего убежища рыбы, когда-то «бездонного» подмельничного омута, через две-три весны останется неглубокая лужа.
Река тоже сильно мелеет. Даже у Култаевского моста, где раньше купали колхозных племенных жеребцов, теперь — «курица вброд переходит».
В тридцать восьмом году прорвало плотину Сарабаихинской мельницы, державшую воду двух рек — Мулянки и Сарабаихи, — исчез глубокий, красивый, изобилующий рыбой пруд, гордость окрестных сел. Река начала мелеть, илом и гравием быстро замыло подмельничный пруд. Пруд хотели восстановить, «да, вот поди ж ты, махнули рукой!» Поставили недалеко от Сарабаихинской мельницы новую, электрическую. Дело, конечно, хорошее. А вот про колхозные водоемы забыли. И мелеет река, исчезает крупная рыба. Теперь редко-редко проплывет небольшой голавль, да и не мудрено: глубина-то всего по пояс! С прорывом мельницы Топасихи, выше села Баш-Култаева, в верховьях Мулянки исчез крупный хариус, совсем не стало окуня. А сколько было там его раньше! Да и по всей речке вряд ли найдешь омут, где можно как следует понырять. В жаркую пору окунуться есть где, а чтобы всерьез поплавать — иди от села полтора-два километра к бывшей Телькановской мельнице. Выкупаешься хорошо, а пока назад идешь — опять жара разморит.
А разве нельзя восстановить в селе Култаево пруды? Местный колхоз — миллионер, резервы имеет громадные. Хозяйство ведется образцово. И хороший пруд колхозу, конечно, нужен.
Какой чудесный, огромный пруд можно было бы устроить вблизи бывшей Сарабаихинской мельницы! Он мог бы вращать турбины небольшой колхозной электростанции, здесь развели бы зеркального и обычного карпа, водоплавающую птицу. Высокий подпор воды в изобилии напитал бы влагой придорожные участки земли, занятые под огородами. Да разве мало было бы пользы от большого водоема сильному, зажиточному, колхозу!
А какое удовольствие получили бы рыболовы-спортсмены — их ведь в селе много. Это люди самых разных возрастов и профессий, и все они, конечно, примут активнейшее участие в субботниках на строительстве большого колхозного пруда. Пруд — их общее желание, а также многих передовых колхозников. А как бы украсил он большое трактовое село, где жарким летом люди задыхаются от пыли! И какой хороший отдых могли бы иметь колхозники на берегу своего пруда.
Люди, знающие цену своему труду, хорошо знают цену заслуженному отдыху. И если этот отдых им будет обеспечен, то и работать они станут лучше во много раз.
7-го июня. Ездил за село Мокино. Удил на Мокинской яме голавлей. Кузнечиков еще нет, приходится отыскивать для наживки в зарослях прибрежного ольховника самых различных букашек и гусениц. Голавль берет хорошо.
Случайно поймал осу, пинцетом оторвал ей жало и водрузил ее на крючок. Закинул без особой надежды на успех, но почти сразу клюнуло. С трудом вывел крупного голавля. Это меня несколько поразило. Очевидно, яркая защитная окраска этого непривычного насекомого, которую так прекрасно знают обитатели суши, совсем не пугает подводных обитателей. Оса сидит на крючке очень плотно, и мне удалось выудить на нее еще четырех голавлей.
8-го июня. Не рыбачил. Рано утром пришел на мельницу. Осторожно выглянул из-за угла. В воде, освещенные солнцем, неподвижно стояли сотни язят и мелких голавликов. Неосторожное движение — и рыбок как ветром сдуло.
10-го июня. Поехали с ночевой в низовья Мулянки половить налима. Ночью погода резко переменилась: подул сильный ветер, начал моросить холодный дождь. Лес на Гляденовской горе буквально стонал. Температура воздуха быстро падала. В десять часов я поймал ершишку. Через час мой товарищ вытащил вьюна. В двенадцать решили сматывать удочки. Шли в полной темноте по лесной тропинке. Одуряюще пахло черемухой: очень много цветет ее в это лето. Когда вышли на луг, я увидел в траве сверкающий изумруд. Этот маленький огонек на фоне черной холодной ночи напомнил что-то сказочное. Изумруд оказался ивановским червячком-светлячком. Неподалеку нашли еще одного.
12-го июня. Дует северный ветер, но день ясный, солнечный.
Беспрерывно клевал мелкий окунь и крупные пескари. За весь день только одному рыболову удалось поймать окуня граммов на восемьсот. Мельник уверяет, что крупного окуня в пруду «прорва». Придется вернуться сюда в хорошую погоду.
13-го июня. Сбылась моя давнишняя мечта: сегодня отправляемся в Красавинское урочище, на Дикое озеро. От села Больше-Савино до него километров шесть-семь. Сначала идем полями, мимо торфоразработок. У столба с обращением к гражданам — «не разводить в лесу огня» дорога сворачивает в заболоченный лес. До озера, по словам нашего проводника, метров четыреста, но их преодолевали почти полтора часа. Ноги до колен утопали в жидкой грязи. Выручили болотные сапоги. Кроме грязи, нас начали сильно донимать слепни и комары.
Недалеко от озера началась твердая сухая дорога, смешанный лес сменился сосновым бором. Здесь много цветет морошки, попадаются черничники, но ягоды еще зеленые. Вот сквозь сосны сверкнуло озеро, окруженное сосновым бором. На противоположном берегу между соснами белеют стволы берез, ближе к воде кустятся ивы и ольха. Берега довольно чистые. На небольших лужайках — выходах к воде — много лосиного помета. Очевидно, часто посещают сохатые глухое лесное озеро. Вода в нем темная, но зачерпнутая в стакан, она почти совсем прозрачна. Очевидно, цвет озера определяется темной окраской дна. В иле кишат мириады маленьких рачков. У берега плавают тысячи головастиков. Глубина начинается сразу от берега; по словам стариков, в озере есть ямы до сорока метров глубиной! Спешим выбрать место, забрасываем удочки. С нетерпением ждем поклевки. Вот поплавок на удочке моего товарища быстро ныряет… Подсечка была уверенной и точной. Товарищ торжественно опускает в корзинку черного, как головешка, окуня. Через несколько минут и я вытащил довольно крупного окунька. Щука — а ее очень много в Диком озере — в этот вечер не клевала.
Словом, клев был неважный. Помешал, вероятно, северный ветер — дует он без перерыва уже третий день. А вообще уловы на этом озере, говорят, всегда бывают большие. Наш проводник рассказал немало интересных историй о громадных щуках, сокрушающих любые рыболовные снасти. Многие из этих историй нам довелось уже слышать от других рыболовов. Но наши снасти озерные страшилища оставили в покое. Напрасно я стегал воду спиннингом в разных местах, напрасно менял блесны: ни одна щука не позарилась на мою блесну. На вечерней заре рыба не играла.
Ночью нас изводили комары. Утром клева не было совсем, ветер усилился, по воде бежала рябь, озеро было мрачное, таинственное. Нам не повезло, но разочарования не было. Мы хорошо знали, что озеро богато рыбой. Замора на этом озере не бывает: очевидно, из-за большого количества подводных ключей. В нем, кроме щук и окуней, много леща, сороги, есть крупный карась, неповоротливый линь и даже сомята, очень редко встречающиеся в камских озерах. Мы здесь не последний раз.
Назад возвращались западной дорогой: она гораздо суше.
17-го июня. Снова на Очере. На быстром перекате ловил я с товарищем в проводку голавлей. Дело пошло живо: рыба клевала даже на овода. Брался крупный голавль. Часов около двух клев прекратился.
Дни стоят очень жаркие; сильно сохнет земля; с первого июня почти нет дождей. Начала вянуть луговая трава. Пошли купаться. У развесистого ивового куста, на мели, увидел большого леща. Осторожно, из-за куста подкинул ему под нос червя — не берет. Сменил червя на короеда — тоже не приманивает; вильнул хвостом и с достоинством ушел в глубину.
Мы выкупались, оделись — смотрим, опять лещ выплыл на прежнее место. Странно: или болеет, или греет старые кости.
20-го июня ходил удить на Каму, к зеленому острову. Осваивал ловлю спиннингом. Забрасывал до тех пор, пока не сломал его пополам, и крепко ушиб большой палец об рукоятку катушки, запутав леску в безнадежно густую «бороду». Тогда оставил спиннинг и перешел на ужение в проводку.
На перекате плещется много голавлей, но у берега не клюют. Решил испытать «стрелу». К тонкому сухому хлыстику на двух поводках, под углом 45 градусов, прикрепил леску, на хвостовой конец хлыстика привязал длинный поводок, насадил муху. Течение начало быстро относить «стрелу» от берега, подавай только лески с катушки! Метрах в двадцати пяти от меня «стрела» как-то неестественно качнулась.
Делаю подсечку и вывожу солидного голавля. Потом поймал еще несколько штук и — закончил рыбалку.
Дневник на этом не кончается. Но приводить его целиком я не буду — он занял бы много места. Могу посоветовать и вам вести такой дневник, а главное — посетить с удочкой места, где я побывал. Вас ждут радости и неудачи — все, что выпадает на долю каждого рыболова. Потом будет что вспомнить.
П. Жуков МОРОКА
От деревни Каменка до села Кремнева я решил пройти берегом Вилейки. Красивая речка! Ширина Вилейки пять-семь метров, а глубина разная, потому что встречаются перекаты. Вода в Вилейке, как и во многих других приуральских реках, холодная, светло-синяя, подернутая дымкой известняка. На берегах кудрявится ольховник. Июньская полуденная жара наполняет воздух густыми испарениями, ароматом трав и луговых цветов.
Иду. Безветрие. Тишина. Только жаворонок, где-то очень высоко, захлебывается своей песней.
— Тьфу ты, проклятая малява! — донесся до меня из-за раскидистого куста приглушенный надтреснутый голос. — Мала, а прожорлива. Ишь, как заглотила!
Еще шагов десять — и я увидел согнутую, как в плясовой присядке, фигуру старика в белой рубахе, свисающей до самых колен на черные штаны. На ногах валенки с калошами. Дюжий. Наряд его довершала косматая шапка волос.
— Клюет? — спросил я, приближаясь к старику, который, широко раскинув руки, жадно глядел на поплавок. В правой руке он держал удилище, а левую непонятно для чего вытянул вперед, в полусогнутом состоянии, словно приготовился что-то схватить.
— Нет лова! — услышал я в ответ.
— Значит, не клюет?
Седая голова повернулась ко мне, и я увидел длинное, изрытое морщинами лицо старика с узкими, поблескивающими хитрецой глазами. Нос, похожий на морковь-каротель, отдает синевой. Толстые губы и костлявые скулы резко проступают сквозь редкие пепельные усы и бороду.
— А сам-то ты не рыбачишь? Я гляжу, при тебе удочки нет.
— Рыбачу, — ответил я, усаживаясь на траву рядом с дедом. — Рыбачу, да только не в это время. В это время добрые рыбаки хариуса не ловят, а другой рыбы тут нет. Хариуса надо ловить на рассвете или при закате солнца, а днем в Вилейке одна малявка клюет.
— Вижу, не местный. Откуда знаешь? — спросил дед.
— От каменских рыбаков узнал. А ты местный?
— Местный. Каменский.
— Говоришь, местный, а время ловли хариуса не знаешь. Как же это?
— Кхе, кхе! — лукаво прокашлял дед и, искоса взглянув на меня, сказал: — А я не рыбачу.
— Как не рыбачишь?
— А так не рыбачу, и все тут! — сердито ответил дед. Он оглядел меня изучающе и сказал: — Ладно. Тебе, как не местному, скажу. Я мороку делаю. — Последние слова он произнес как бы по секрету, склонив голову в мою сторону, и на его лице расплылась довольная, старческая улыбка.
— Мороку? Какую мороку? — с еще большим удивлением спросил я.
— Морочу кремневских рыбаков. Сижу днем, на берегу, на самом рыбном месте, отдыхаю, молодость вспоминаю, а как только подходит кремневский человек, закидываю удочку. Подойдет, спросит: «Клюет?» — Отвечаю: «Нет лова!» Заглянет в кошель — пуст. Значит, рыба не водится, решит он, и уходит в другие места. А вечером я на этом месте десятками таскаю хариусов, больших, мясистых. Вот и вся морока.
— Ловко! А как величают-то тебя?
— Евлампий. Евлампием зовут меня.
— А по батюшке?
— Все зовут — Евлампий и ты так зови. Остальное ни к чему. А твоя фамилия?
Я ответил. Евлампий вытащил удочку из реки и сел на траву. У его ног лежала пустая, кожаная сумка.
— Да, Евлампий, а почему ты в валенках?
— В пимах-то? Ревматизьма кости ломает, оттого и ношу пимы. Так-то оно легче. Шерстка вытягивает из костей эту самую ревматизьму. Вот уже который десяток живу, не баливал, а тут на-те, ревматизьм.
Я сочувственно вздохнул, покачал головой и спросил:
— А вечером, говоришь, в этом месте здорово хариус клюет?
— А то как же. Клюет. Лонись было такого выволок, что просто диво. От головы до хвоста полметра, а от хвоста до головы метр был. Во!!! Да, а ты-то сам из Перми будешь или дальше?
— Из Кремнево.
— Тьфу, ты бестие! Говоришь, не местный, а сам из Кремнево! И я-то, старый пень, проболтался тебе о своей мороке!
— А я не говорил, что я не местный.
— Подь ты! Али я уже вовсе запутался?!
А. Волков «АНКА-ДИНАМИТЧИЦА»
Роман Андреевич Жмутов проснулся в отвратительном настроении. Собственно, настроение было не лучше и накануне, после неудачной рыбалки, но тогда, по крайней мере, можно было думать, что к утру неприятности забудутся. Однако этого не случилось.
Всю ночь Роман Андреевич куда-то спешил, всю ночь ему мерещились плывущие по темной воде кверху животами голавли, щуки, лещи. Но стоило ему подплыть к рыбе и нацелиться подсачником, как она, вильнув хвостом, скрывалась в глубине.
Всю ночь он подносил горящую папиросу к запальному шнуру и поднимал заряд, чтобы опустить его в воду. А руки не слушались. Заряд становился тяжелее пятипудового мешка. Надо бросить заряд, бросить обязательно, иначе он взорвется в руках. Огонек с шипением бежит по шнуру, еще немного — грянет взрыв…
Жмутов просыпался весь в поту, долго ворочался, заставляя негодующе скрипеть пружины матраца и ворчать Анну Евсеевну, закуривал чуть не десятую папиросу и снова погружался в тяжелый, полный кошмаров сон.
Так прошла короткая летняя ночь, показавшаяся Роману Андреевичу длиннее зимней. Он проснулся ничуть не отдохнувший, с тяжелой головой и смутными мыслями.
Сунув ноги в старые, с обрезанными голенищами валенки, Жмутов вышел на крыльцо. Уже в годах (ему недавно перевалило за пятьдесят), он выглядел человеком без возраста. Всклокоченная бороденка, рыжая внизу и сивая от табака около рта, и такие же насквозь прокуренные усы составляли, кажется, единственное украшение его лица. Бесцветные маленькие глазки под редкими кустиками рыжих бровей, редкие волосы на темени, изъеденные никотином зубы — все это делало лицо Жмутова каким-то серым, незапоминающимся.
Роман Андреевич почесал о косяк спину, достал из кармана широких синих галифе, присланных сыном, кавалерийским капитаном, видавший виды кисет, закурил и оглядел двор.
В глубине его, неподалеку от крытого шатром колодца на втоптанной в грязь соломе стояла корова. У ее вымени сидела на корточках Анна Евсеевна. Ровными движениями проворных рук она выдаивала молоко. Белые, прямые, как вязальные спицы, струи со звоном ударялись о вспененную поверхность в почти уже полном ведре.
Временами, когда корове особенно надоедали мухи, она лениво взмахивала хвостом, и тогда хозяйка прикрикивала на нее басистым голосом:
— Ну, ну, балуй!
Однако в голосе не было строгости, и корова в ответ поворачивала голову и старалась достать хозяйку широким языком.
Роман Андреевич докурил папиросу, лениво глядя на привычную картину, потом ополоснул лицо под висевшим у крыльца рукомойником и снова предался грустным размышлениям.
Он так задумался, что не заметил, как жена кончила доить корову и погнала ее за ворота, где уже слышалось щелканье пастушьего кнута. Не заметил он и ласково-насмешливой улыбки, мелькнувшей на смуглом, с правильными чертами, еще моложавом лице жены. В его мозгу снова прошли подробности вчерашней неудачи. «В чем загвоздка? Кажись, все было сделано правильно, а заряд не сработал».
Роман Андреевич вспомнил все с самого начала. И то, как повздорил с Анной, которая сначала упрашивала не ехать на рыбалку, не связываться с проклятым «Чумазым», а потом обругала его, Романа, и крикнула: «Быть тебе в тюрьме, старый дурень!» Пришлось бабу малость укротить, чтобы не гавкала.
Вспомнил он, как приехал на лодке к облюбованной яме на реке и снарядил шашку. Присоединил шнур с капсюлем. Зажег его, опустил заряд в воду и поспешно отплыл к берегу, ожидая взрыва.
Но шашка не взорвалась. Послышалось ему, правда, как в глубине омута что-то щелкнуло, но что это было — взрыв ли капсюля или другой какой звук — он не разобрал.
Чуть не час просидел Роман в своем укрытии. Надо было ехать домой. Но на пути лежал омут с затаившимся где-то в глубине зарядом. А вдруг рванет, проклятый, прямо под лодкой!
Наконец он пересилил страх. Пришлось вернуться ни с чем. А рыба — ох, как нужна! Спрос на нее в городе по летнему времени большой, только подавай. Да и с «Чумазым» надо рассчитаться. Уже два раза он подкарауливал у магазина и требовал деньги, шкура!
А разойтись с ним нельзя. Пока «Чумазый» еще в здешних краях да рыба в реке водится, дурак он, Роман, будет, если растеряется. Шутка сказать — на позапрошлой неделе почитай два центнера рыбы черпанул. Есть ли тут резон в колхозе спину гнуть!
Вчера, правда, осечка вышла. Не то заряд негодный попался, не то вода в капсюль зашла. Ну да ладно! Еще заряд лежит в сундуке. Ужо наверстаю!
Вернулась с улицы Анна Евсеевна. Позавтракали. Володька убежал на улицу. Роман Андреевич поймал на себе внимательный, какой-то изучающий взгляд жены.
— Ну, чего уставилась? — спросил он раздраженно.
— А то! — в низком голосе Анны Евсеевны послышались вызывающие нотки. — Когда ты кончишь браконьерничать?
— Опять за свое! Да что, тебе плохо от денег?
— Плохо! — зло бросила Анна Евсеевна. — Деньги-то непутевые!
— Ну и дура! Какие-такие непутевые? Деньги как деньги! — Он даже попробовал пошутить: — Ну, иной раз потрепанные попадут. Так это ничего.
— Будет тебе! Плохо твои смешки кончатся!
— Чем же это плохо?
— Тюрьмой, вот чем!
— И опять ты выходишь дура. Не пойман — не вор. Пусть-ка попробуют меня поймать. Запустил мотор — и нету!
— Поймают. Сколько веревочку ни вить, а концу быть!
Анна Евсеевна замолчала. Молчал и Роман. На душе у него было мутно. Жена все-таки была права. Немножко. Но перед глазами возникла лодка, до краев наполненная крупной рыбой.
— Не суйся не в свое дело! — прикрикнул он на жену.
Анна Евсеевна сделала вид, что не слышала его слов. Помолчала.
— А чего это ты вчера вроде пустой приехал? — спросила жена. — Опять в ее глазах мелькнуло что-то насмешливое.
— Заряд не взорвался, — буркнул Роман. — Должно, плохой или отсыревший попался. — Он встал. — Вот что, жена. Ты свою агитацию брось. Не маленький я. Лучше почини подсачник, а я схожу в село. Табак кончился. — Роман Андреевич нахлобучил рваную войлочную шляпу и ушел.
Жена проводила его тяжелым взглядом. Мускулы ее смуглого лица напряглись и окаменели. Все лицо, казалось, говорило: «Ну, погоди! Доберусь я до тебя!»
Кто встречался с Анной Евсеевной в 1942 году в оккупированном немцами Полесье, где в партизанском отряде она была известна под именем «Анки-динамитчицы», тот сейчас легко узнал бы ее по этому выражению былой решительности. Но все, кто ее знали, остались там, в Белоруссии. Иные живы и, может быть, вспоминают неустрашимую Анку. А другие, и в их числе ее родители, лежат в сырой земле. Анна помнит и партизанские лагери в темных пущах, и хитрые засады, и смелые диверсии. И тот бой, когда она упала тяжело раненная и в последний момент была унесена товарищами на плащ-палатке. А на другой день Анка очутилась в Москве. Там ее долго лечили, потом, прикрепив к отвороту новенького, выданного в госпитале платья, партизанскую медаль, вручили документы о демобилизации. Весной 1943 года Анна была эвакуирована на Урал. Здесь она добивалась, чтобы приняли ее в военное училище, но не пропустила медицинская комиссия. И вот — стала она женой местного колхозника.
Некрасив Роман, но любит она его. Любит и двух детей Романа, которые остались от его первой рано умершей жены. И он ее, Анну, любит, а вот не слушает. Постепенно уходит от нее, превращается в жулика и тунеядца.
Анна вышла на улицу и смотрела вслед мужу, пока он не скрылся за бугром. До села пять километров. Значит, Роман раньше чем через два часа не вернется. Да еще по случаю воскресного дня завернет в чайную. Одним словом, времени хватит.
Она возвратилась в избу, вытащила из-под кровати небольшой деревянный сундучок. В углу сундучка лежала динамитная шашка, завернутая в пергамент. Знакомая вещь.
Анна положила шашку на стол. Не торопясь развернула ее.
— Подожди, старый греховодник! — проворчала она. — Посмотрим, как завтра порыбачишь!
Из-под печи Анна достала кусок мыла. Взяла нож и начала аккуратно обтесывать мыло со всех сторон. Вскоре перед ней лежал брусок, похожий по форме на динамитную шашку. Если бы не круглое отверстие в шашке, предназначенное для капсюля, бруски трудно было бы не спутать.
Вскоре в куске мыла появилось и отверстие. Анна примерила к углублению капсюль, вытащенный ею из того же сундука.
— Ладно получилось! — оглядела она свою работу и старательно завернула мыло в бумагу, снятую со взрывчатки, стараясь точно пригнать круглый глазок в пергаменте к углублению в куске мыла.
Но вот уничтожены все следы работы. Динамит она завернула в старую тряпку и сунула в карман.
Под вечер Анна появилась в селе, у избы, в которой жил председатель сельсовета. Минуту поколебавшись, она открыла дверь. На ее счастье председатель Кирилл Федорович оказался дома один. Это был представительный, лет сорока мужчина с чисто выбритым лицом и висящими по-украински усами. На нем была защитная гимнастерка, пуговицы которой блестели так, что этому блеску могли бы позавидовать и кадровые военные.
По правде говоря, Кирилл Федорович втайне жалел, что фронтовое ранение заставило его раньше времени уйти из армии.
Кирилл Федорович встал, увидев вошедшую Жмутову.
— Что скажешь, Анна Евсеевна? Непорядок какой нашла?
— Здравствуйте, Кирилл Федорович! Не хотела беспокоить, а пришлось. — Она замолчала. Потом с трудом проговорила: — Не ладно ведь у нас.
— Что такое? — Кирилл Федорович нахмурился и Отодвинул книгу, которую читал.
Анна, всхлипывая, рассказала о делах мужа. О том, что связался он с каким-то жуликом, у которого добывает динамит. И теперь вот болит ее душа за мужа. А что делать, она, Анна, не знает.
— Та-ак, — протянул Кирилл Федорович. — Говорили мне, что кто-то глушит рыбу. Думал, приезжие. А это вот кто! Что же ты хочешь?
— Что хочу! Хочу, чтобы Роман опять человеком стал. И еще хочу, чтобы он в тюрьму не угодил. Что я одна-то буду делать?
Анна опять замолчала.
— Слушай, Кирилл Федорович, — продолжала она, — поймай ты Романа на реке, да пристыди как следует. Ведь мужик он неплохой, да с толку его сбивают. А тому, кто динамит ему приносит, я дам от ворот поворот. Он и дорогу к нам забудет.
— Как же мы Романа поймаем?
— А так. Он завтра собирается опять. Под Орлиную гору. Приезжай туда со свидетелями. А я уж, не сомневайся, пришлю Володьку — сказать, когда мужик начнет собираться.
— А ну, как он, твой-то, со страху запустит в нас патроном, а сам на лодке с мотором и был таков? — Кирилл Федорович рассмеялся.
— Не бойсь! Патрон-то, вот он! — Анна Евсеевна положила на стол что-то, завернутое в пеструю тряпицу.
— Погоди! А с чем же Роман поедет? — Без патрона-то…
— Будет у него патрон…
Кирилл Федорович долго хохотал.
— Ай, да Анна! — сказал он наконец. — Узнаю бывшую партизанку! Значит, мыло ему подсунула вместо динамита? И не в первый раз? Ну, молодчина! А это ты мне оставь, — указал он на взрывчатку. — Пошлю милиционера на стройку — пусть пощупает, кто это там торгует динамитом. Мужика твоего мы приструним. Только не забудь предупредить.
Приближался вечер следующего дня. Анна Евсеевна подоила корову и зашла в избу. Роман Андреевич осматривал подсачник.
— Едешь все-таки? — спросила Анна, увидев на столе шашку и бикфордов шнур.
— Еду! — коротко бросил Роман. — Пойди приготовь корзины.
Анна вышла на улицу.
— Володька! — крикнула она негромко.
— Я здесь, мама. — Из-за бревен, сложенных у забора, выбрался вихрастый парнишка лет двенадцати. Он был так же смугл и красив, как мать, и так же рыж, как отец. В руке он держал жестянку из-под консервов.
— Что ты там делал?
— Короедов добывал.
— Ладно. Помнишь наш уговор?
— Помню, ясно.
— Так вот, лети к Кириллу Федоровичу. Скажи — выехали с мамкой на Орлиную яму. Понял?
— Понял. Мигом домчусь. А на рыбалку пустишь?
— Пущу. Ну, беги, сынок.
Мальчик сунул коробку с короедами под бревна, поддернул штаны и запылил по дороге к селу.
Анна Евсеевна вытащила из сарая две большие корзины, поставила их у крыльца и вернулась в избу. Роман укладывал в сумку свои припасы.
— И я с тобой? — заявила Анна.
— Еще чего выдумала!
— Хочу посмотреть, как ты там с динамитом управляешься. Уж ежели садиться в тюрьму, так вместе.
— Вот чертова баба! Далась ей тюрьма. Типун тебе на язык! Оставайся дома.
— Не останусь. А не возьмешь — на всю деревню крик подниму.
Роман понял, что придется уступить.
— Ладно! — буркнул он сердито. — Бери вот это. — Он указал на банку с горючим. — А я понесу корзины и весла.
Анна взяла банку и вышла на крыльцо.
— А Володька где? — спросил Роман.
— На речке с ребятами.
— Закрывай избу да пошли.
Анна заперла избу на замок, спрятала ключ и направилась вслед за Романом. Минут через десять, наполнив бак горючим, Роман стал запускать мотор.
Анна Евсеевна поняла, что ее план может сорваться. Поди, Володька только еще подбегает к селу. А ведь Кириллу Федоровичу надо собрать людей да проплыть вниз по реке два километра.
— Подожди, Роман, — сказала она спокойно.
— Что еще?
— Поллитровка у меня дома спрятана. Надо бы захватить.
— К ляду поллитровку! Смотри, уж солнце садится.
— Да темно когда наступит? К полночи только. Да и банку надо отнести. Что ее с собой таскать?
Роман проворчал что-то, но в душе был доволен. Нет, к водке он был равнодушен. Его обрадовала заботливость жены, отношения с которой за последние недели сильно испортились.
— Ну, иди, — разрешил он.
— Так ты подожди, — добавила Анна. — А чтобы не уехал без меня, — усмехнулась она, — я вот тебя запру.
Она защелкнула лодочную цепь на замок, сунула ключ в карман и с жестянкой в руке поднялась на косогор.
Дома она на всякий случай разыскала пустую водочную бутылку, тщательно ее выполоскала и наполнила водой из колодца. Потом зашла в комнату, посидела на скамье, наблюдая за вялым движением стрелок на ходиках и, наконец, решив, что пора, направилась к лодке.
Роман встретил ее ворчливо:
— Ушла и пропала.
— Соседка заходила.
— Садись, поехали.
Анна отперла замок, оттолкнула лодку и легко вскочила на нос. Роман дернул шнурок, мотор затарахтел, и лодка побежала против быстрого в этом месте течения.
Треск мотора мешал разговаривать. Анна была только рада этому. Ее страшила предстоящая встреча на омуте. Занят был своими мыслями и Роман. Он прикидывал возможные доходы от удачного взрыва. «За две рыбалки, — подсчитывал Роман, ловко минуя плывущие навстречу бревна, — выкроил на мотор. Вон он как ловко тащит! Только правь, а уж он тебя доставит куда надо. А теперь, чего доброго, и мотоцикл удастся купить. Тоже нужная вещь. Приедет Васька в отпуск, будет ему на чем прокатиться».
День кончился. Солнце скрылось за далеким лесистым бугром, но в воздухе был разлит ясный свет, который погаснет только за полночь, чтобы в третьем часу утра разгореться снова. Стояло самое светлое время уральского лета — конец июня.
Река впереди лежала спокойная, гладкая, как полированный металл. За лодкой в обе стороны расходились две гряды невысоких волн. Немного отстав, волны достигали берега. Плеска их слышно не было, но зато хорошо были видны белые полоски пены, следовавшие за лодкой по отмели.
По обе стороны проплывали картины холмистого Предуралья. Заливной луг с только что поставленными стогами душистого сена сменялся подступившими к самой реке лесистыми склонами, их сменяла длинная песчаная отмель, поросшая в стороне от воды тальником и бурьяном, а там вновь начинался заливной луг.
Но вот и последний поворот. За ним большой омут с несколькими хорошо скрытыми среди кустов затонами. Над омутом высокая скала. На ее вершине, как рассказывают старики, жило когда-то орлиное семейство. Потому и омут называется Орлиным.
Роман Андреевич выехал на середину омута и выключил мотор. Лодка развернулась на месте и качнулась на собственной волне.
— Садись, жена, к веслам, — сказал Роман. — Сейчас приготовлю заряд. Как спущу его в воду, греби вон туда. — Он указал на залив, горловина которого скрывалась в густых зарослях.
Чуть волнуясь, — Анна видела это по вздрагивающим рукам мужа, — Роман вытащил из сумки заряд и плотно вставил в него капсюль.
Наконец заряд готов. Роман достал кисет, закурил и несколько раз глубоко вздохнул.
Анна внимательно оглядывала берега омута. «Неужели не приехали?» Но вот в тени черемуховой заросли ей почудился силуэт лодки. — «Слава богу, кажись, тут!»
— Ну, жена, приготовься!
Оторванная от своих мыслей, Анна вздрогнула.
Роман приложил самокрутку к открытому концу запального шнура. От шнура тотчас же побежал тонкий голубой дымок, пахнуло знакомым Анне запахом пороха. И в это время с двух сторон послышался плеск весел. Роман оглянулся и застыл. К нему приближались две лодки.
— Гаси шнур! — крикнули с одной из лодок, где он увидел Кирилла Федоровича, сельсоветского председателя.
И тут Роман Андреевич оскандалился так, что надолго стал предметом разговоров и шуток во всем сельсовете, если не в целом районе.
Растерявшись, перестав соображать, Роман поспешно сунул заряд вместе с горящим шнуром под скамью, на которой сидел, и принялся лихорадочно наматывать бечевку на валик мотора.
— Роман! — крикнула Анна Евсеевна. — Ее низкий голос гулко отдался у каменистого берега. — А заряд-то!
Анна не на шутку перепугалась. Ведь она целый день провела на ферме. Вдруг в это время к Роману приходил «Чумазый», принес ему свежий заряд — и под скамейкой лежит не безобидный кусок мыла, а настоящая динамитная шашка! Было от чего прийти в ужас!
— Роман! — еще громче повторила Анна, глядя на дымок, все гуще тянувшийся из-под лавки.
И тут Жмутов окончательно потерял голову. Вместо того чтобы выдернуть капсюль или бросить шашку в воду, он сорвавшимся голосом крикнул жене:
— Прыгай!
И сам, распластавшись, как лягушка, перевалился через борт и скрылся под водой.
Анна не успела даже пошевельнуться. Под скамьей в лодке щелкнуло, словно там раздался пистолетный выстрел, и вместе с облачком дыма оттуда вылетело что-то похожее на серую пыль.
Вынырнувшего из воды Жмутова все приветствовали оглушительным хохотом. Роман Андреевич выплюнул воду и с недоумением взглянул на свою лодку. Она, как ни в чем не бывало, покачивалась на воде. На корме по-прежнему сидела Анна. Лицо ее побледнело, а в глазах Жмутов прочел смешанное чувство радости и жалости.
Через минуту Жмутова втащили в лодку, где сидел председатель сельсовета. Рядом качалась еще одна плоскодонка, в которой Роман, к своему удивлению, увидел сына Володьку. Мальчишка был бледен. Хотя он и знал, что взрывчатка подменена, но все-таки весь сжался, ожидая взрыва, и еще не успел прийти в себя.
Мокрого, перепуганного Романа пересадили в его лодку с мотором. Туда же перебрались Кирилл Федорович и Володька.
— Ну, — спросил Кирилл Федорович, — что скажешь, приятель?
Роман не ответил. Он готов был снова броситься в воду и скрыться на самом дне омута.
— Ты понимаешь преступность своего поведения? — неумолимо настаивал председатель, любивший официальные обороты речи.
Вместо ответа Роман сказал:
— Дайте, братцы, закурить.
— Закуривай! — Кирилл Федорович открыл портсигар. — Но ты ответь: будешь еще рыбу глушить?
— А-а, — внезапно взорвался Жмутов, — да будь она трижды проклята, эта рыба! — И он добавил такое слово, что Анна крикнула Володьке:
— А ты не слушай!
— Ну, смотри, — заключил председатель, — дадим тебе срок для проверки. Попадешься еще раз — без всякого снисхождения судить будем. А теперь запускай мотор да отбуксируй наши лодки в село.
— Кирилл Федорович, — шепнула Анна, — уж больно мало ты ему сказал…
Мотор застучал и разговор кончился.
Лодки исчезли за поворотом.
Но омут не опустел. На берегу появилась тройка ребятишек с удочками. Тихо расселись они у воды, не подозревая, что здесь только что разыгралась короткая, но захватывающая сценка.
…А «Чумазый» был вскоре приговорен к пяти годам тюремного заключения.
А. Волков РАЗНЫЕ СЛУЧАИ
Крупная щука
Эту историю я слышал от двух деревенских подростков. Если они врали, ну что ж, тогда и я… Словом, за что купил, за то и продаю.
В глубине «Красавы» (урочище неподалеку от Перми) есть лесное озеро. Так называемое Дикое.
Еще несколько лет назад пройти к озеру через болота было не просто. И неудивительно, что, помимо болот, его окружали всякие россказни.
Нужно было проверить, что это за озеро. Однажды с товарищем мы отправились на его розыски. Рассказанный нам маршрут оказался правильным, и мы быстро вышли к нашей цели. Довольно узкое, длинное — больше километра — окруженное густым смешанным лесом, озеро ничего особенно дикого в себе не содержало.
Неподалеку от места, к которому нас вывела тропа, мы обнаружили шалаш. В шалаше на подстилке из хвои лежали рыбаки — подростки лет по пятнадцать — Петро и Ваня. Ребята «переживали».
Случилось же вот что. Поставили они жерлицу — простую снасть, употребляемую для ловли щук. Шнур был прочный, живец бойкий. Ну, решили рыбаки, будем с добычей!
И верно: щука клюнула. Леска с рогульки быстро сбежала — надо тащить.
Потащили — да не тут-то было! Ребята тянут к себе, рыба к себе. И неизвестно, кто кого перетянет. Тут пришла им в голову несчастная, как позже стало ясно, мысль. Отломили они кончик палки, к которой была привязана рогулька и скоренько обмотали леску вокруг березы. «Теперь не уйдет!»
В этом и была их ошибка. Пока они держали леску в руках, еще была возможность, так сказать, парировать рывки крупной рыбы. Тут же, хотя и крепок был шнур, — ребята показали обрывок, — а лопнул, как гнилая нитка.
Ребята вышли из шалаша и показали нам березу. Мы с уважением посмотрели на ее толстый, белый ствол, ощупали его и согласились: действительно, если к этой березе привязать пудовую щуку, пожалуй, береза устоит. А шнур — нет, не выдержит.
Ограблены
Приближалась длинная осенняя ночь. Быстро темнело. Вдвоем с Андрюшей, местным жителем, мы готовились к ночлегу. Рубили и носили хворост. Доставали из кустов занесенные туда половодьем чурбаны и коряги. Кипятили чай. Устраивали постели из елового лапника.
Местом для ночлега мы выбрали узкую, слегка наклонную площадку над рекой. Под нами в двух-трех метрах тускло блестела вода. Над нами тянулся крутой склон, заросший молодым ельником и пихтачом. Склон однотонно шумел под ветром, проносившимся где-то вверху. У костра было тихо. Только изредка, увлекаемый слабым током воздуха, густой дым лез в лицо, заставляя слезиться глаза.
В воде у самого берега шевелилась посаженная на кукан щука. Она только недавно попалась на спиннинг, и мы радовались, что тройник совсем ее не повредил: проживет до утра.
Внезапно в реке что-то сильно плеснуло.
— Рыба? — спросил я, переставая подбрасывать дрова в костер.
— Нет. Посмотрите-ка, — ответил Андрюша.
В вечерних сумерках я увидел, что от противоположного берега плывет что-то черное.
— Выдра, — пояснил мой спутник.
Мы с интересом наблюдали, как животное быстро плыло к нашему берегу. От его головы в обе стороны расходились две волны, журча и смолисто поблескивая.
— Вот шпарит! — восхищенно воскликнул Андрюша. — Прямо что твоя торпеда!
Я не успел ответить. Выдра скрылась в тени нашего берега. Снова повторился сильный всплеск. И только тут Андрюша вспомнил: «Щука!» и бросился к воде. Но было поздно. Щуки уже не было. Не было и нахалки-выдры, утащившей нашу единственную добычу.
Сколько щук
Я рыбачил на Сылве, в зоне подпора Камской ГЭС. Удил с большого плота, осевшего на мели у берега. Клевали окуни, подлещики, плотва.
Недалеко от меня плескалась щука. «Хорошо бы ее изловить!» — подумал я.
У меня было две щучьи удочки. Я быстро насадил на тройники двух окуньков, и вскоре недалеко от плота заныряли увлекаемые живцами два поплавка.
Тут как раз набежала дождевая тучка, хлынул крупный дождь. Пока я пережидал его под плащ-палаткой, прошло минут двадцать. И за это время поплавки щучьих удочек исчезли.
Схватил я удилища, подсек — чувствую: и на той, к на другой удочке крупная добыча.
Начал я водить и по положению лесок заподозрил: что-то тут не так. Если мысленно продолжить лески, они сходятся в одной точке.
Пока соображал — один из тройников вылетел из воды. Стал я водить рыбу на одной удочке. Но леска рванулась — и вылетел второй крючок.
Так я и не узнал — сколько было щук?
Сила рефлекса
Был у меня приятель — Сергунька. Рыбу удить любил до самозабвения. Бывало, сидим у костра, пьем чай или закусываем. Удочки, понятно, заброшены, удилища воткнуты в берег.
Стоило только крикнуть: «Сергунька! Клюет!» — как он, через костер, через котелок с кашей, все сокрушая на пути, мчался к воде, хватал удочку и подсекал изо всех сил.
Обычно попадалась мелкая рыбешка. Тогда, выдернутая из воды, она летела так далеко, что найти ее в густой траве оказывалось подчас невозможным. Случалось и другое…
Однажды на Сергунькину удочку клюнуло что-то крупное, может быть, язь, а может быть, окунь. Конечно, по своему обыкновению Сергунька попытался бросить рыбу через голову.
Леска не выдержала. На взбаламученной воде запрыгал, быстро удаляясь от берега, поплавок. И тут наш Сергунька, в чем был, прыгнул в воду и ухитрился-таки схватить обрывок лески. Но рыба успела освободиться от крючка.
Другой случай кончился хуже. Сергунька вытащил крупного окуня — больше фунта. На беду окунь сорвался и упал около самой воды. Еще момент — окунь окажется в своей стихии. Но не таков был Сергунька, чтобы упустить завидную добычу. Он плашмя бросился на окуня и прижал его к земле.
Окунь, образно говоря, испустил дух, но зато кожа на животе Сергуньки, исколотая острыми плавниками, так потом нарвала, что парню пришлось лечь в постель.
Кто кого поймал
Известна старинная прибаутка:
— Батя! Я медведя поймал!
— Ну, тащи его сюда!
— Да не идет.
— Ну так сам иди.
— Да не пускает.
Нечто подобное произошло с моим приятелем Сашкой.
Сашке восемь лет. Он имеет спиннинг и, если не занят школьными делами, ездит с отцом на рыбалку. Заброс на расстояние тридцать метров для него не в диковинку.
Поехал он с отцом однажды на Сылву. Взяли лодку и отправились спиннинговать. Отец сидит на веслах. Погребет да прикорм побросает. Нет ничего — снова погребет и снова побросает.
Сашка устроился на корме и бросает непрерывно. И вот, не успели отъехать и километра от стоянки, попалась Сашке крупная щука. Он ее к себе, а она ни в какую! Так и норовит парнишку из лодки выдернуть! И получилось:
— Тащи ее, сынок!
— А она не пускает!
Пришлось отцу срочно вмешиваться. Взял он у сына спиннинг и сам вытащил рыбу.
Сашка долго горевал, почему отец не дал ему самостоятельно управиться со щукой. Может быть, Сашка и прав?
Перечитывая Аксакова
Перечитывая четвертый том сочинений С. Т. Аксакова, в котором собраны рыболовно-охотничьи произведения выдающегося русского писателя, я наткнулся на любопытную заметку. В ней Аксаков рассказывает, как некий деревенский рыбак поймал на один крючок окуня, щуренка и щуку.
Боясь, что читатели ему не поверят, Аксаков ссылается на весьма авторитетного свидетеля — гостившего у него И. С. Тургенева.
При чтении Аксакова мне вспомнился случай, происшедший со мной летом 1955 года. Правда, свидетелей у меня не было, я рыбачил один. Все же рискну рассказать. Но прежде несколько слов об истории вопроса.
Однажды мне пришла в голову мысль: а стоит ли возиться с поимкой и насаживанием живцов? Нельзя ли как-нибудь «рационализировать» это дело?
И придумал. На это меня натолкнули неоднократные случаи поимки окуней и щук на обыкновенную донную удочку с насаженным на крючок червяком. Однажды, например, червя проглотил ерш, а ерша в свою очередь двухфунтовый окунь. Или, в другой раз, на крючок сел окунишко и был проглочен щукой.
И вот сделал я несколько донок. Каждая из них состояла из двадцатипятиметрового шнура с тремя крючками на проволочных поводках.
В тот вечер я как раз собрался проверить результаты своей «рационализации». Насадив на крючки червей, я забросил донки, а сам ушел в стан, к ночлегу.
Утром, едва рассветало, я подходил уже к своим донкам. На первой же леске почувствовалось сильное сопротивление. Вполне уверенный в прочности шнура, я живо потащил добычу на берег. Вскоре в мелкой воде блеснуло что-то белесое и длинное.
«Щука! И длиной больше метра!»
Не давая рыбе опомниться, я решительным движением выбросил ее на плоский песчаный берег. И тут щука разделилась! Вместо одной длинной на берегу оказалось две. Одна — поменьше — билась с поводком в зубах, вторая — крупнее — ничем не удерживаемая, спешила удрать обратно в воду. Ударом ноги я отбросил ее подальше от берега, и вскоре обе хищницы очутились в корзине.
На боках меньшей щуки сохранились резкие отпечатки щучьих зубов. Как видно, завязив зубы, большая щука не смогла или, вернее, не хотела их разжать, а когда сделала это, было уже поздно.
Теперь я жду — не клюнет ли на мою донку «система» из одного окуня и трех щук!
С. Мухин ВОКРУГ ПЛАВАЮЩЕГО ОСТРОВА
Вдалеке горел костер. Там было тепло не столько от огня, сколько от дружеских разговоров. Дров и у меня хватало, но одному было так тоскливо, что даже уху варить не хотелось.
«Дернула нелегкая увязаться за спиннингистами. Так тебе и надо. Сиди вот, как те пни, у костра истуканом», — ругал я себя.
Еще в городе мы с товарищами договорились, что около моих удочек будет разбита временная стоянка. Ее намечали в районе пионерского лагеря, напротив Подтони. Но уже в Левшино все карты были спутаны. Переполненный речной трамвай не взял нас. Пришлось добираться на попутном грузовом катере.
Высадились выше пристани Гари, в том месте, где после первого подъема воды в Камском море располневшая Чусовая делала крутой поворот.
В этом месте берег был изрезан множеством заливов. Мне понравился один из них, почти полностью закрытый со стороны моря продолговатым островом. В узком заливе нашелся прочный плотик, которым я и воспользовался.
Ночь надвигалась быстро. Дорожные неурядицы нас явно задержали. Но все же вечером я успел поймать нескольких средних окуньков и сорожек, по верху клюнул приличный голавль; порвав поводок, с жерлицы ушла щука.
Один из товарищей пришел за рюкзаками и стал звать меня к общему костру. Но шагать по берегу, где ночью, кроме пней и ям, ничего не встретишь, приятного мало. Пришлось коротать ночь одному.
К утру ветер резко переменился, подул с моря я достиг такой силы, что на рассвете мне с трудом удалось перебраться с плотом через пятнадцатиметровый пролив и причалить к острову. Шест длиной в добрую жердь не доставал дна, а выгрести им против ветра не хватало сил. Очевидно, раньше здесь было озеро. Это подтверждалось не только глубиной. Некоторые из выловленных окуней и сорог имели характерную для торфяных озер темную окраску и ярко-красные плавники. Такой рыбы в реках не водится.
Только утром я как следует рассмотрел остров. Это был всплывший торфяник, поросший кустарником. Поначалу было боязно ступать на мягкий мох. Нога погружалась почти по колено, хлюпала вода. Казалось, вот-вот провалишься. Под ударами волн остров раскачивался, как легкое суденышко. Почва ходила ходуном.
Несмотря на сильный ветер, низко бежавшие облака и почти беспрерывный дождь, рыба клевала. Чаще попадались окуньки и подъязки. Они как бы прижимались к острову, к кустам, к сплетению цепких корней. На глубине ловилось хуже, и то одна сорожка. Поэтому я перешел с плотика на остров.
Однажды ветер рванул с особой силой. Остров, казалось, непременно сорвется со своего места, как срывается в бурю с якоря корабль. Я опять пересел на плотик, предварительно перегнав его под укромный куст. Дождь будто соревновался с ветром. Накрывшись плащом, я решил отдохнуть, да, кстати, позавтракать. За все утро как-то на это времени не хватало.
Рассчитывать на поплавки не приходилось. На всякий случай я закинул одну удочку. И стал доставать еду. Однако едва взялся я за мешок, как вершинка удилища резко хлопнула по воде. Подсечка… На крючке — одно воспоминание о червяке. При следующем забросе тотчас последовал резкий рывок. И опять пусто. Зато больше я не зевал. Началась веселая работа. Приличных размеров юркие окуни один за другим шлепались в корзинку. За какие-нибудь полчаса она заметно потяжелела.
Но ослабел ветер, прошумел дождь и клевать стало заметно хуже. А главное — окунь пошел мельче.
Путь до пристани показался необычно длинным. Руки оттягивала корзинка.
За ночь я не сомкнул глаз. Хотя время приближалось к обеду, завтракать тоже не собрался. Однако ни спать, ни есть не хотелось. Рыбаки легко поймут мое состояние.
Все лето я осваивал территорию вокруг торфяного острова. Он был удобен во всех отношениях. Особенно хорошо было то, что здесь при слабом ветре находились удобные для ужения заводи. По-прежнему хорошо брал окунь, удачно ловилась щука.
Однажды мы приехали с намерением наловить живцов и расставить жерлицы. Переправились на остров. Но рыбу будто подменили. Полчаса, час хлещем воду — даже мелочь насадкой не интересуется.
Вдруг рядом с островом, в устье другого довольно широкого залива, что-то бурно заплескалось. Время шло, а шум не прекращался. Мне из-за кустов не было видно, что там происходит. Но догадывался — щука свирепствует. И становилось вдвойне досадно, что у нас нет живцов.
Товарищ, чуть не впервые взявший в руки удочку — он и на рыбалку-то приехал с чужими снастями, — долго молчал и, наконец, не выдержав, спросил, что такое творится.
Отвечаю, как думаю: щука, мол, гоняется.
Он подошел поближе, посмотрел и, не желая подрывать моего рыбацкого авторитета, несмело опротестовал мое заявление:
— На щуку не похоже.
Но и меня уже разбирало любопытство. Я выглянул из своего укрытия и ахнул: вода на площади, широкой, как зал, буквально кипела. Действительно, щука тут ни при чем.
«Окуневый бой», — мелькнуло у меня в голове. О таких вещах я когда-то читал, но видеть подобной картины еще не доводилось.
Только позднее я осмыслил, что там происходило. Огромная стая прожорливых окуней набросилась на мальков, которые паслись в траве. Беззащитные жертвы лезли наверх, окуни их преследовали. Около самой поверхности шла кровавая пляска.
Не раздумывая, мы ринулись на плотах к бурлящему котлу с удочками наготове. Крючок еле доходил до воды, как тут же окунь, верный своим привычкам, начинал давить удилище вниз. Попадались и такие экземпляры, что приходилось пускать в ход подсачник. Вскоре в ведерке для живцов и корзинке плавала белая пленка. Это мертвые мальки, выплюнутые пойманными окунями, всплывали наверх.
Бой утих, стая окуней то и дело перемещалась, а мы второпях никак не могли прочно закрепить плотик. Якорей не было, а шесты легко вымывало из песчаного дна. Вскоре мы потеряли стаю. Да с нас было и довольно. Требовалось немного отдохнуть, давно наступила пора ставить жерлицы. В переполненных корзинах и ведерке окуни быстро засыпали.
С жерлицами началось то же самое. Едва мы оставляли одну, чтобы заняться другой, как первый шнур начинал разматываться, рогулька — бешено плясать. А стоило чуть помедлить — щука уходила под остров, запутывала шнур в корнях. И ни ее, ни тройника оттуда уже никакими силами не достанешь.
В общей сложности за вечер мы поймали больше десяти щук. Класть рыбу было некуда. Можно бы ночью возвращаться домой, но к утру должны были еще подъехать знакомые рыбаки, приглашенные мной на плавучий остров. Пришлось ждать их.
А утром история повторилась почти буквально.
Весь утренний улов мы сложили в плащ, обвязали его веревками, тут же сплетенными из лыка, и в таком виде взяли домой.
После этого в рыбалке наступил вынужденный перерыв.
Последний раз я побывал у острова с группой отпускников в пять человек, в конце августа. Обещал им перед поездкой златые горы.
Приехали мы ночью, в середине недели. Там, где мне когда-то с субботы на воскресенье довелось ночевать одному, теперь горело три костра. Но самое важное… рыба не клевала. Сварив все, что было нами поймано, мы с первым же речным трамваем вернулись домой.
На следующий год остров и все прилегающие подступы к нему затопило. Больше я там ни разу не был — выбрал другие места. А жаль!
Некоторые из товарищей, побывавшие в то лето вместе со мной на острове, и по сей день ездят только туда. Они же назвали теперь исчезнувший остров моим именем. Только такой заслуги я приписать себе не могу: не мне принадлежит честь открытия острова, а главное, не я возил оттуда самые большие уловы.
С. Мухин ПОПЛАВОК СО ЗВОНОМ
Сидишь, ждешь, бывало, тихих, ясных и теплых зорь, а придут они — и разочаруют.
Мы — это Аркадий Наумыч, Николай и я с двумя случайными для нашей компании спутниками — заняли боевой рубеж в устье Сыры. Ночью пробежал несмелый, короткий дождь. А утром, до боли спокойная, блестела вода. На небе ни облачка, ни одна ветка не шелохнется на прибрежных елях. И стояла бы в воздухе тишина, да птицы подняли такой перезвон, что в ушах царапало.
Казалось, лучшей погоды для рыбалки не придумаешь. Мы молча застыли над удочками, застыли и наши поплавки.
Первым, кажется, нарушил молчание один местный рыболов.
— Клев начнется в половине шестого, — сказал он.
Это утверждение было настолько неожиданно, что мы не знали, соглашаться с ним или опровергать. Даже Николай, опытный рыбак и опытный спорщик, не мог подобрать теоретическую базу ни за, ни против.
Ох, уж эти местные рыбаки. Мы давно перестали верить их россказням. Это они пустили слух о какой-то необыкновенной рыбе, зашедшей в устье Сыры вместе с водами Камского моря. По их словам, рыба невелика, размером с крупного ельца, формой тела как щука, пасть тоже щучья, но без зубов, а чешуя серебристая, мелкая. Будто бы раньше такой рыбы ни в Сыре, ни в Сылве не водилось.
Отгадать, что это за порода, нам не удалось, хотя мы перебрали всех рыб, от судака и сазана до линя и налима включительно.
Не поверили мы ни в таинственную рыбу, ни в то, что клев начнется в полшестого. Не верили, а надеялись и на клев, и на незнакомую рыбу.
Так в надежде и прошло раннее утро. Взошло солнце. Оно было позади нас, за горой, но проходило по воде с противоположного берега, метр за метром расширяя освещенную полосу. Вот уже, как будто обрезанные лучами, посветлели концы удилищ. Давно минула половина шестого. Рыба плескалась вдали от берега и около поплавков, но брала редко. Особенно частые всплески начались слева, где в залив широкой полосой далеко уходила мель.
Аркадий Наумыч смотрел, смотрел в ту сторону и, взяв самую легкую по оснастке удочку, решился попытать счастья. Самым замечательным в этой удочке был поплавок. Сверху белый, снизу голубой, он крепился к лесе через три тонких металлических кольца. На воду поплавок ложился с тихим всплеском, а при подсечке и выуживании рыбы издавал тихий мелодичный звон. Мы подшучивали над Аркадием Наумовичем, что рыба не пингвин, на музыкальную приманку не идет. Только сома, как известно, на «кивок» ловят. А в наших водоемах сомы еще не обнаружены.
И вот с этой удочкой Аркадий Наумыч забрел в воду, пока позволяли резиновые сапоги — это метров пять от берега, не больше. Только он успел забросить, как на крючке затрепыхалась серебристая рыбка.
— Что? — не утерпев, спросил кто-то из нас.
Спустив очки на кончик носа (он к ним только еще привыкал), Аркадий Наумыч долго разглядывал свой улов и ответил коротко и безмятежно:
— Не знаю.
За первой рыбой последовала вторая, третья, четвертая… У Аркадия Наумыча не хватало червей. Едва он вышел, как мы обступили его, рассматривая улов.
— Во! Та самая рыба, о которой я вам говорил, — заявил местный рыбак.
— Так ведь это жерех, — отозвался Николай.
Надо сказать, что раньше ловить жерехов нам не приходилось и только теоретически подкованный Николай мог разрешить наши сомнения подробной характеристикой. Лишь с одним мы не могли легко согласиться. Жерех в нашем представлении был рыбой более крупной, чем щука. А здесь… Действительно, не больше ельца.
Пока шли дебаты, Аркадий Наумыч снова занял свое место на мели. Дело у него пошло так же бойко, как и вначале.
Николай не выдержал и поднялся к Аркадию Наумычу.
Они стояли бок о бок. Едва поплавок на удочке Аркадия Наумыча достигал воды, как тут же ходко шел в сторону. Зачастую поплавок даже не успевал встать.
Другое ждало Николая. Осокоревый поплавок невозмутимо торчал из воды и дразнил хозяина. Николай забрасывал насадку то на всплеск, то на то место, откуда только что доставал рыбу Аркадий Наумыч, но все безрезультатно.
Аркадий Наумыч отодвигался, отодвигался от своего беспокойного соседа, пока не дошел до обрыва, где у него, наконец, не перестало клевать. Он поймал около двух десятков жерешат да попутно несколько подъязков.
Николай так и вернулся на берег ни с чем.
Первое время мы, боясь, обидеть Николая, молчали. А потом, когда к нему на жерлицу села приличная щука и его настроение поднялось, попросили объяснить, почему он все-таки не поймал ни одного жереха.
— Почему, почему! — заворчал он. — У Аркадия Наумыча поплавок ложится на воду нежно, будто уклейка плещется. Жерех и идет на этот всплеск. Ведь для него уклейка — первое лакомство. А осокоревый поплавок тяжел, к нему и грузу надо больше. Это верховую рыбу только отпугивает. Понятно вам?..
Не знаю, согласитесь ли вы с теоретическими выводами Николая. Что касается меня, то я их несколько раз проверял на практике. А каковы результаты — об этом умолчу.
С. Мухин НА ЧУЖОЙ ПРИКОРМ
Аркадий Наумыч — человек хозяйственный, солидный, и в возрасте. Он занимает ответственный пост в учреждении, название которого с трудом произносится. В свободное время он любил договорить о рыбалке, но ездил редко — стеснялся показываться на улицах города в рыбацком костюме с удочками в руках. Но с каждым выездом стеснение уменьшалось. Наконец он заболел рыбалкой.
В прошлую зиму о чем бы Аркадий Наумыч ни заговаривал, он обязательно подходил к рыбной ловле. И готовился к летнему сезону так, как хороший председатель колхоза к весеннему севу, — с осени.
Оборудования для «незлой» любительской ловли у него было достаточно, но он прикупил еще чуть ли не десяток удилищ, начиная с полутораметровых коротышек, кончая цельными семиметровыми палками из бамбука почти в руку толщиной. В коробках и ящиках появились новые, сверкающие белизной кружки. Разных размеров крючки и всевозможных фасонов и расцветок поплавки он покупал в Москве и Большой Усе, в Очере и Чердыни — всюду, где приходилось ему бывать по служебным делам.
За зиму Аркадий Наумыч перекрасил несколько сот метров жилки, искусно подбирая оттенки от бледно-бледно-голубого до темно-кирпичного. Одним словом, им овладел высокого накала азарт, который временами охватывает все рыбацкое племя. Но самое интересное то, что при первом же выезде Аркадий Наумыч был вознагражден.
Произошло это так.
По какой-то причине несколько задержались с выездом из города, да лишний час отняла дорога, до невозможности избитая и исковерканная в ту весну. Когда субботним вечером подъехали к устью Сыры, по берегу широкого залива, образованного Камским морем, сплошь стояли «Победы», «Москвичи», мотоциклы. Еще ни разу здесь не собиралось такого большого количества рыбаков.
Издали можно было заметить: рыба клюет. Не было спокойно поставленных на рогульки удочек, безмятежно положенных удилищ, никто не шатался по берегу в поисках лучшего места.
Втиснув машину на свободный пятачок, мы быстренько размотали удочки. Окунь брал хорошо, но вскоре поклевки стали наблюдаться все реже и реже, пока не прекратились совсем. Мы попали «в хвост клева».
Уже затрещали костры, начались оживленные разговоры о свежих переживаниях. Большинство рыбаков либо смотало удочки, либо оставило их без присмотра на берегу.
Один Аркадий Наумыч сидел невозмутимо и время от времени доставал из воды то окунька, то подъязка, то сорожку. На это сразу никто не обратил внимания — терпение тоже вознаграждается. Да и что стоили эти рыбешки для тех, кто час-полтора назад еле справлялся с одной удочкой.
Все с надеждой ждали утра. А оно пришло неустойчивое. Сначала ветер рябил воду и гнал к берегу поплавки. Потом над заливом на короткое время повис туман. Его сменил моросящий дождь. Чуть похолодало. Рыбаки натягивали на себя телогрейки и плащи. Но никто на это не сетовал. Хуже, когда после бессонной ночи томит жара.
Первое время на берегу стояла тишина — выжидали. Кто-то не выдержал, заговорил. Ему ответили — и начались разговоры, чертыхания.
Самые беспокойные садились по машинам и ехали искать утренний клев. Нетерпеливые ходили с места на место. А неустойчивые — те сматывали удочки. Не клевало ни у кого. Только Аркадий Наумыч таскал то добрых окуньков, то — реже — подъязков и ругал сорожат, обманывавших неверными поклевками.
С левой стороны от Аркадия Наумыча раскинулся веер моих удочек, с правой — такой же веер удочек Николая, самого молодого из нас, но самого сильного в теории рыбацкого искусства. Порою ветром и тягой воды наши поплавки сбивало в одну кучу. Но, странное дело, Аркадий Наумыч опустил в свою новенькую корзинку добрых полсотни хвостов, а у нас с Николаем ни одной поклевки не было. Между тем в этот раз мы даже червями пользовались из одной банки.
— В чем дело, теоретик? — спрашиваю я Николая.
— А лески у тебя какие? — отвечает он вопросом на вопрос.
— Как какие?.. Обыкновенные… Жилка…
— В том-то и дело, что обыкновенные. А у него, — Николай кивает в сторону Аркадия Наумыча, — крашеные. Обрати внимание, чем крашены. Чаем, луковыми корками да зеленкой…
— Завтра же перекрашу свои лески в оранжевый цвет, и тогда, Аркадий Наумович, держись, — прерываю я Николая.
Он продолжает:
— Опять же — крючки не годятся. У нас местные, а надо бы выписать из Владивостока, или еще лучше из Астрахани, тогда белуга пойдет.
— А может, вся сила в поплавке? Цвета все-таки, почти радуга…
Время от времени мы прерывали свои досужие разглагольствования короткими сигналами:
— Белый тонет… Голубой повело… Зеленый ложится…
Аркадий Наумыч таскал и таскал.
В чем все-таки дело?
— Наверное, ямка в этом месте, — словно оправдываясь, говорил счастливчик…
В том, что никакой ямки здесь не было, каждый из нас мог поклясться. Не раз мы проводили утренние и вечерние зори именно здесь и рельеф дна представляли довольно точно. Но другого объяснения не было.
Часов в восемь, в девятом к нашим позициям, прихрамывая, подошел местный товарищ, по виду ровесник Аркадия Наумыча. На плече он нес связку березовых удилищ, длинных, но казавшихся необыкновенно кривыми и тяжелыми по сравнению с нашими бамбуковыми. Поздоровавшись, он справился о клеве, рассказал несколько обычных рыбацких историй и наконец проговорил:
— Где-то я тут прикорм ставил…
Он потянулся к колышку, стоявшему у ног Аркадия Наумыча, снял с него шнурок и вытянул из воды марлевый мешок с распаренным овсом.
По берегу прокатился гул. Цепочкой — от одного рыбака к другому — передавался рассказ о чужом прикорме. И я не уверен, что подъязки и сорожка Аркадия Наумыча не выросли по этим рассказам в мясистых язей, широких лещей и килограммовых подустов. В улове же крупной рыбы не было. Больше всего попадался окунь.
Окунь? Вот это-то и странно. Из всей литературы, из всей нашей рыбацкой практики следует, что окуня не прикармливают. Окуневую стаю надо искать.
— А теперь что скажешь, Николай? Как это увязать с теорией? — спрашиваю я.
Он немного помолчал и ответил: «К прикорму шел малек, а окунь охотился за мальком».
Впрочем, это только его догадки.
Мы попросили у местного рыболова несколько горстей овса, разбросали поровну к своим удочкам и продолжали сидеть. Начало клевать и у нас, обиженных, причем, примерно одинаково. Каждый испытал несколько приятных моментов. Догнать Аркадия Наумыча по улову мы, конечно, не догнали, но заметно поправили свои дела. С тех пор мы берем с собой то овес, то кашу, то вареный картофель, иногда даже творог. По совету Николая, мы прибавляем к прикорму пахучие вещества или обходимся без них; разбрасываем рыбьи лакомства горстями или опускаем их на дно в мешках и сетках. Но чаще всего наши эксперименты не приносят никакой пользы. Случается, что прикорм стоит в одном месте, а рыба клюет в другом.
А Николай молчит.


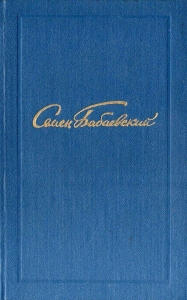


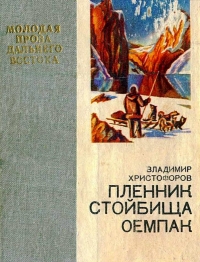


Комментарии к книге «Охотничьи были. Рассказы об охотниках и рыбаках», Александр Максимович Толстиков
Всего 0 комментариев